Петр Алешкин. Сочинения. Том 3
Трясина
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Екклезиаст. Гл. I, ст. 9Часть первая
1
Медведь сидел в быстрой мелкой речушке в двух шагах от берега. Он сгорбатился, застыл неподвижно, опустив узкую вытянутую морду с блестящими глазами. Он видел на дне редкие в этом месте шевелящиеся водоросли, песок, камни, ждал, когда появится темная спинка хариуса, подплывет ближе. С передних лап его падали прозрачные капли, тонко звенели, рождали еле приметные в быстрой воде круги. Медведь слышал, как журчит, переливаясь через камни, вода, слышал, как бьется рыба на песке позади него, как ветер шелестит осокой на противоположном берегу, слышал, как возник посторонний металлический звук и стал нарастать, приближаться. Медведь поднял нос вверх, прислушался и с неудовольствием, досадой попятился назад, вылез из реки, встряхнулся и сел под кустом, поднял морду. Над ним, оглушая тайгу трескотней, пролетела огромная стрекоза. Медведь много раз видел ее. Она не опасна была, но все же он всегда покидал открытое пространство, заслышав железный стрекот. Тень вертолета мелькнула по кустам, по медведю, по рыбе, вяло шевелящей хвостом на песке, и помчалась дальше по деревьям, рекам, озерам.
Вертолет летел над осенней тайгой. Изредка он вздрагивал и мелко трясся, словно лошадь, которая подергивает кожей, отгоняя занудливых мух. Андрей Павлушин сжимал пальцами край сиденья так, будто опасался, что оно может выскользнуть из–под него. Он прислушивался к неровному гулу мотора и дребезжанью какой–то железки в углу за наваленными в кучу мешками, рюкзаками, лопатами, топорами и другим инструментом, и ему казалось, что вертолет не выдержит тряски и развалится. Резко пахло бензином. Это еще более увеличивало тревогу. Андрей Павлушин, чтобы отвлечься, посматривал в иллюминатор на плывущие внизу темно–зеленые верхушки сосен с ярко–желтыми вкраплениями осенних берез. То тут, то там по тайге синели окна озер и большими ржавыми пятнами тянулись болота. Тень вертолета перепрыгивала через реки, скользила по деревьям и озерам. Где–то там вдали на берегу озера должен вскоре появиться поселок, существующий пока только на бумаге. И первыми жителями и строителями поселка будут они, десантники!
Андрей окинул взглядом семерых своих спутников: на противоположном сиденье спокойно играли в дорожные шахматы бригадир Борис Иванович Ломакин и Звягин, Олег Колунков сидел слева от игроков и равнодушно смотрел на шахматные фигурки, справа дремал Федор Гончаров, а в уголке возле кабины притихла Анюта, единственная среди десантников девушка. Сашка Ломакин, сын бригадира, был рядом с Андреем. Он неотрывно смотрел в иллюминатор, словно хотел запомнить дорогу назад. Владик Матцев прислонился плечом к стене, с закрытыми глазами, вспоминал недавнее прощание с Наташей, видел перед собой нежно–розовую шапочку, неестественно надвинутую на лоб, на заплаканные глаза.
Вертолет тряхнуло. Владик Матцев не удержался, качнулся, случайно толкнул локтем Андрея Павлушина, открыл глаза и улыбнулся, извиняясь. Владик встретился взглядом с Анютой. Девушка показалась ему удивительно похожей на птицу, нечаянно залетевшую в форточку, испуганную, не сумевшую найти выход на волю и забившуюся в угол комнаты. «Ишь, синичка!» — подумал он, поднялся и шагнул к Анюте, вспоминая: «На кого она так похожа? Где я ее мог видеть раньше?» Эта мысль приходила ему не раз, когда он видел девушку в поселке.
— Первый раз в вертолете? — спросил Владик Матцев участливо, опускаясь рядом с Анютой на свободное сиденье.
— А разве заметно?
— Глаза выдают! — засмеялся Владик — Вон, посмотри на Андрея. Видишь, как к сиденью прилип?..
— В самолете лучше, — сказала Анюта. — Не так трясет… А тут того и гляди рассыплется на части…
— Это смотря на каком самолете лететь! Ты на «кукурузнике» летала?
— Нет.
Из–за шума мотора приходилось говорить громко, и Владик придвинулся к девушке. Анюта заметила, как Олег Колунков взглянул в их сторону насмешливо, и хотела отодвинуться, но сидела она вплотную к кабине.
— Я один раз на «кукурузнике» полчаса летел, потом три дня есть не мог. В рот ничего не лезло! Здесь еще терпимо… В общем–то, кому как… Кореш мой, Венька, ты его, должно, видела в поселке, в столовую к вам вместе бегали… Длинный такой, носатый.
— Помню, помню…
— Так вот он совсем вертолеты не выносит… Если тебе плохо, ты делай так: мы вверх, ты вдыхай, вниз — выдыхай. Попробуй, легче станет!
— Сейчас попробую…
Они замолчали.
— Анюта, тебе не кажется… Мы встречались где–то…
— В столовой! Да в общежитии каждый день, когда к Наташе приходил, — засмеялась девушка.
— Нет, до Сибири…
— В Тамбове в одной очереди за колбасой стояли, вспомни!
— Я серьезно говорю…
Андрей Павлушин наблюдал за Владиком и Анютой и чувствовал некоторое беспокойство. Почему же он не сообразил сесть рядом с Анютой? Ведь заметил же, что и она в первый раз летит в вертолете. Но вспомнил, что в последние дни избегал встреч с девушкой, вспомнил, как неделю назад, танцуя с Анютой, предложил проводить ее домой.
— Я рядом живу, — ответила Анюта быстро.
Неприятное воспоминание добавило беспокойства.
Андрей стал думать о Матцеве. Вспомнил, как полчаса назад завидовал ему, когда Наташа, не стесняясь провожавших, целовала Владика. Анюта тоже видела. Да и раньше она лучше других знала об отношениях Матцева и Наташи. Девушки жили в одной комнате.
2
Из всех летевших с ним десантников Андрей был дружен только с Владиком Матцевым. Вернее, общался с ним больше, чем с другими. В таежном поселке Андрей Павлушин появился месяц назад. Приехал он по комсомольской путевке. В обкоме комсомола ему предложили сразу девять адресов. Он подумал, поразмышлял и решил ехать на строительство железной дороги. В отделе кадров управления попросил, чтобы его направили в то место, где только начинается работа.
Подъезжая к станции назначения дождливым и ветреным августовским днем, он ожидал увидеть развороченные тяжелыми машинами дороги среди болот, временные бараки, но поезд притулился к небольшому и веселому на вид зданию вокзала, вздохнул и выпустил Андрея из вагона на мокрый асфальт перрона. Ветер брызнул в лицо дождем и рванул кепку с головы. Павлушин подхватил ее, потуже натянул на голову и торопливо пошел к дверям вокзала, куда спешили его попутчики. Он чувствовал себя обманутым. За вокзалом виднелись жилые четырехэтажные дома. Между ними блестел асфальт. Была заасфальтирована и площадь перед, вокзалом. На ней притихли, прижались друг к другу от непогоды три грузовика, возле которых ярко зеленел вымытый дождем новенький «жигуленок». На вокзале, прежде чем выйти на площадь, Андрей спросил у высокого парня в штормовке, как пройти к конторе строительно–монтажного поезда.
— Работать? — приветливо взглянул парень на Андрея, на его рюкзак. — По путевке?.. Ну и правильно! — добавил он несколько покровительственно, словно Андрей принял решение ехать по путевке по его совету.
— А родом ты откуда? — спросил он, пропуская впереди себя в двери Андрея.
— Из Тамбова.
— Врешь! — воскликнул парень.
— Зачем же мне врать? — удивился Павлушин.
— Так и я тамбовский.
Теперь Андрей чуть не воскликнул: «Врешь». Засмеялся:
— Ну и хорошо!
И сразу ушли беспокойство и напряжение, с которыми он выходил из вагона три минуты назад.
— Из какого района? — улыбаясь, спросил парень, тотчас же определив, что Андрей из деревни, хотя держался он не робко, уверенно и были на нем джинсы, кроссовки, японская куртка и кожаная кепка. И все–таки есть в лицах обычно неизбалованных, неискушенных деревенских парней какое–то неуловимое выражение, отличающее их от городских сверстников.
— Уваровский я, а ты? — ответил и спросил Андрей.
— Из Тамбова. Улица Сакко и Ванцетти… Не слышал?
— Нет…
— А по специальности ты кто?
— Никто… Я из армии…
Ответил Андрей несколько смущенно и виновато, как бы оправдываясь, словно ждали здесь специалиста, а приехал он, неопытный юнец.
— Ну! — снова воскликнул радостно парень. — Тогда ты наш! Тогда у тебя путь один. К Ломакину! Все тамбовские у него работают!
— Почему?
— Тоже земляк! Только он еще до войны мальчишкой в Сибирь мотнулся. Но все равно земляков любит. Земляки, говорит, не подведут!.. Идем, я тебя в контору провожу. Она во–он за тем общежитием! — указал парень на зеленый барак с крылечком. Шли они мимо четырехэтажных кирпичных домов.
Так Андрей познакомился с Матцевым. На другой день Владик привел Павлушина в плотницкую бригаду Ломакина. И жить они стали в одной комнате, сдружились быстро. Матцев был общительный человек, в любой компании свой, и Андрею хотелось быть таким, поэтому он приглядывался к Владику, прислушивался к его шуткам. На работе Павлушин старался не сидеть без дела даже тогда, когда вся бригада собиралась в вагончике. Он то ладил себе ящик для инструмента, то менял топорище, вытесывая позаковыристей, как у Звягина. Ломакин, приглядевшись к новичку, включил его в число десантников. А узнав, что Андрей ни разу не работал бензопилой, пригласил к себе в воскресенье за день до отлета в тайгу.
3
Пообедав в столовой, Павлушин забежал на почту узнать, нет ли ему письма, письма не было, и направился к Ломакину, который жил на краю временного поселка на берегу небольшой речушки.
Последние две недели стояла сухая погода, необычно теплая для этих мест. Машины растолкли песок на улицах в пыль. Дороги были покрыты асфальтом только в постоянном поселке железнодорожников. Сильный ветер раздраженно срывал с деревьев ослабевшие листья и с сердитым шуршанием волочил их по дороге навстречу Павлушину, бодро шагавшему в куртке нараспашку.
Вагончиков в этой части временного поселка не было. Все дома были рублеными. Они непривычно для Андрея желтели голыми бревнами. В деревне, где он вырос, стены изб обмазывали глиной, штукатурили песком, перемешанным с коровьим пометом, и белили мелом. Глина держалась недолго. Дожди и морозы делали свое дело, и глина начинала отставать от бревен, отваливаться кусками. Почти каждый год приходилось мазать стены заново. В последние годы избы стали шелевать — обивать деревянными планками или полосами жести.
Деревянные дома на этой улице были похожи друг на друга, видимо, строились они потоком, по одному проекту. Но вдруг впереди выступил дом с необычной островерхой крышей, с мезонином, небольшой особнячок. Окна с резными наличниками с удивленной радостью смотрели через невысокий штакетник. У дома приветливо махала ветвями высокая сосна, а две ее подруги, стройные и высокие, отбежали к калитке и задержались возле забора. Дальше шли такие же веселые дома, но внешне не похожие друг на друга. У каждого была своя лукавинка, живинка. Идти по такой улице стало радостней. Андрей представлял, как хорошо шагать по ней после работы, возвращаясь домой усталым. Каким бы озабоченным и хмурым ни был, невольно повеселеешь и подобреешь! А как приятно погулять здесь вечером! Любуясь домами, Андрей перестал обращать внимание на их номера, а когда вспомнил, увидел, что прошел дом Ломакина. Он вернулся и обнаружил на особнячке с островерхой крышей нужный ему номер.
В небольших сенях Андрей замешкался у двери, не зная, стучать или открывать дверь без стука. В их деревне стучать было не принято, но он постучал и, услышав бас Бориса Ивановича: «Входи! Входи!» — открыл дверь.
— Я смотрю в окно — помчался Андрей мимо, — говорил Ломакин, пожимая руку Павлушину. — Садись! — указал он на стул возле окна. — Я стучу ему, а он смотрит и не видит…
— Дома меня здесь поразили, — ответил Андрей, растерянно глянув на молодую женщину, гладившую белье на столе. Когда Павлушин вошел, она взглянула на него, отвечая на приветствие. Из другой комнаты, прошуршав занавеской из бамбуковых палочек, висевшей в проеме двери, выехал на трехколесном велосипеде мальчик лет трех. Он остановился и с любопытством уставился на Андрея. Сашки не было видно.
— Ирина — дочь моя… А это внучек! — сказал Ломакин. — Ты садись, садись. Я сейчас соберусь…
Ирина кивнула Павлушину и улыбнулась.
Андрей еще больше смутился, подумав, что ему нечем угостить мальчика: надо было узнать у Матцева о семье Ломакина, — и назвал себя:
— Андрей!
— Это я Андрей! — громко крикнул вдруг мальчик.
— Нет, я, — возразил Павлушин серьезным тоном.
— Мама, скажи! — удивленно, что не верят очевидной истине, повернулся мальчик к Ирине.
Андрей сел на стул.
— И ты — Андрей, и он — Андрей, — пояснила мальчику мать.
— Два Андрея, — недоуменно и тихо произнес мальчик, глядя на Павлушина.
— Понравились, говоришь, дома, — заговорил Ломакин, и Павлушин повернулся к нему, кивнул утвердительно: — Хорошие дома! — продолжал Борис Иванович. — Наша бригада строила… Всю улицу! Только те, — указал он в сторону однотипных домов, — до Звягина, а эти — после его прихода в бригаду. Его проекты! Смекалистый мужик!… А так вот, не зная, послушаешь его, подумаешь — пустозвон… Хороший плотник! Мастер! — говоря это, Ломакин неторопливо обувался. Потом выпрямился, снял ватник с гвоздя у двери и протянул Андрею: — На–ка телогрейку… Курточку испачкаешь… Бери, бери!
Андрей неуверенно сбросил куртку, косясь в сторону Ирины. Она стояла боком и гладила мужскую сорочку, расправляя складки, а мальчик по–прежнему следил за ним.
Борис Иванович вынес из сарая бензопилу и направился с ней к суковатым еловым и сосновым бревнам, сложенным в кучу за домом возле стены.
— Давай–ка откатим, — Ломакин поставил бензопилу на землю и ухватился за торчащий вверх толстый, коротко обрубленный сук елового бревна.
Андрей забежал с другого конца и помог оттащить в сторону бревно. Борис Иванович завел бензопилу, которая сыто и бодро зафыркала.
— Включается вот так! — указал Ломакин. — Теперь смотри сюда внимательно.
Он опустил на бревно вращающуюся цепь. Она быстро сорвала кору и, выбрасывая опилки желтоватой пахучей струей, стала легко погружаться в дерево. Мотор сразу же запел тоньше. Когда чурбачок отвалился, Ломакин уступил Андрею ручки.
— Давай–ка ты теперь!
Павлушин прицелился, стараясь отделить чурбак такой же длины, что и у Ломакина.
— Не бойся, не бойся! Давай!..
Цепь неуверенно царапнула дерево, вгрызлась в ствол, и пила вдруг попятилась на Андрея, словно ей стало жалко бревна. Павлушин надавил вперед. Мотор недовольно и натужно закашлял синим дымом.
— Не дави, не дави! Свободней держи, — подсказал Ломакин. Он стоял рядом и следил за каждым движением пилы в руках Андрея, следил и подсказывал, изредка помогая рукой.
4
Пилили они долго. Гору чурок набросали возле сарая. За домом ветру развернуться было негде, и Андрей вскоре скинул телогрейку. Жарко! Пила рычала все уверенней, но руки с непривычки устали быстро. Почувствовав это, Борис Иванович выключил мотор и сказал:
— Шабаш! Представление имеешь, а тонкостям на месте научишься!
Он сел на бревно и, заметив, что Андрей намеревается сесть рядом раздетый, произнес:
— Телогрейку накинь! Вспотел, простудишься…
Андрей послушно надел телогрейку, устроился на бревне и привалился спиной к стене, разглядывая резные наличники на соседнем доме. Узор их был проще, грубее, чем на окнах Ломакина. «Разные люди делали! — подумал он. — Долго возиться надо!»
— И наличники тоже в бригаде делали? — спросил Павлушин.
— Нет… Домов много нужно было строить. Не до жиру… Каждый сам себе вырезал. Кто как мог!.. У нас в деревне большие мастера по этому делу были. Узоры на каждой избе — загляденье!
— А у нас наличники почти не делали. Так, кое у кого, — с сожалением сказал Андрей, вспоминая деревенские избы. — Вообще у нас деревня бедновата. Колхоз–миллионер наизнанку, по убыткам…
— Пьют, наверное, мужики больше, чем работают.
— Пьют, сильно пьют! — подтвердил Павлушин. — Но пьют–то, думаю, из–за неуверенности, неустойчивости жизни. Тот не запьет, у кого и сейчас хорошо и на горизонте туч не видать…
— Это верно… Верно сказано! Далеко ходить не надо, хотя бы наших взять: вот Колунков, алкаш непробудный! А ведь человек–то какой был! Стихи писал. Поэт!
— Стихи? Олег стихи писал? — удивился Андрей.
— Он книжку издал… Небольшую, правда! Жил–то он раньше–не нам чета! По дворцам перед людьми выступал, по радио артисты его стихи читали… Это Звягин рассказывал. Они раньше вместе работали и сюда вместе приехали… Сам–то Колунков не особенно любит распространяться о себе…
— А потом что же?
— Кто его знает! Я говорю, он не любит рассказывать… С женами что ли, запутался!.. Не пил, не пил, и вдруг понесло. Сразу себя потерял… Или Гончаров! Такой же пьяница, а тракторист золотой! Трелевщик у него всегда, как игрушка! Безотказный малый. Он и в колхозе такой же, думаю, был… Говорит, раньше тоже не пил. Жена у него будто загуляла, люди подсмеиваться стали, а он мужик тихий, постоять за себя не мог, затосковал — и пошло! Из–за жен сейчас больше всего и запивают… Я не говорю, что женщины по природе своей плохие. Они, может, лучше нас, но вот внушили им, что они такие же, как и мужики. Все им так же доступно, все, что и мужики, могут. Они и стали по–мужичьему жить: курить, пить, командовать, когда ни к чему этому они не предрасположены, омужичились, охамели, и пошла жизнь наперекосяк! И бабы несчастны, и мужики! А валят друг на друга… — Ломакин замолчал, поплевал на ладонь с пятном смолы от сосны и начал счищать его ногтем. Потом спросил, взглянув на Андрея: — А у тебя отец как? Не пьет?
— У нас семья хорошая. Мать командовать не лезет!
— Братья–сестры есть?
— Две сестры. Одна еще в школе учится…
— А ты мир поглядеть решил, пока молодой?
— Ну-у, не совсем так… Я ведь в строительном учусь. Стройку сам выбрал…
— Понятно… У тебя запивать причин нет, — засмеялся Ломакин.
— И в настоящем светло, и будущее ясно, — отозвался Андрей, потом спросил серьезным тоном: — Борис Иванович, а почему вы всех тамбовских к себе собираете?
— Почему?.. У нас, у рабочих строительно–монтажного поезда, нет постоянного дома. Сегодня мы здесь строим станцию, завтра там. И так всю жизнь! Сколько я за свою жизнь мест переменил! И теперь в этом чудесном доме последние дни доживаю. Хороший дом, а вот грусти в сердце нет. Привык покидать! Понимаю, неизбежность… А человеку без корней нельзя. Никак нельзя! У всего живущего корни должны быть. Когда корни погибают, дупло в душе образуется, душа сохнет, пустеет. Человек тогда, как трухлявое дерево, оболочка одна. Дунет ветерок посильней, и пропал человек… Когда вокруг тебя земляки, помнишь о корнях, помнишь, что ты не одиночка, что ты часть целого, что без тебя это целое уже не целое! Ценность свою лучше понимаешь, вера в себя приходит. Это для меня важно, для Колункова, для тебя, для всех… А корни наши на тамбовской земле! А русский человек без родной земли не может!
5
И поваром в тайгу Ломакин взял землячку — Анюту. С ней, как и с Матцевым, Андрей познакомился в первый же день своего пребывания в поселке. Когда Андрей с Владиком пришли в столовую, Анюта разливала по тарелкам первое. Рабочих не хватало, поэтому повара, приготовив блюдо, сами же вставали на раздачу. У Анюты на голове был до голубизны белый колпак, из–под которого выглядывал краешек пряди русых волос. Халат на девушке был такой же чистый, не застиранный, видимо, она впервые надела его.
Владик стоял в очереди впереди Андрея. Павлушин чувствовал себя неуверенно среди незнакомых людей, настороженно, понимал, что в поселке все знают друг друга и к новеньким приглядываются внимательно, стараясь понять, что за человек появится среди них.
— Анюточка, мне со дна пожиже! — подмигнул Владик девушке.
Она улыбнулась и зачерпнула половник супа со дна, потом взглянула на Андрея.
— Мне тоже, — сказал он.
— Со дна пожиже? — усмехнулась Анюта, произнося слова неожиданно медлительно.
— Можно и сверху…
Анюта налила тарелку до краев.
— Ишь, как молодому наливает! — пошутил Матцев. — С верхом!
Андрей осторожно взял из рук девушки полную тарелку, но, опуская на поднос, невольно наклонил на одну, сторону, обжег пальцы и быстро поставил, расплескав суп. Павлушин всегда, когда был озабочен тем, какое впечатление он производит на окружающих, терялся, становился неуклюжим.
— Осторожней, суп горячий! — посочувствовала Анюта.
— Ты уж прости его, — сказал Матцев. — Загляделся на тебя! Помнишь, как я тарелку на пол уронил, когда тебя в первый раз увидел?
— Трепло! — засмеялась Анюта. — Проходите, не задерживайте других, болтуны!
Девушка почему–то и смущенно молчавшего Андрея записала в болтуны.
Вечером Матцев потащил Андрея в клуб, в кино, а после сеанса Наташа, девушка Владика, пригласила обоих к себе.
В мужском общежитии вахтера не было, а в женском в каморке у входа дремала седая старушка с пуховым платком на плечах.
— Привет, бабуля! — сказал ей Владик весело. — Пропуск показать?
— Иди, иди! — нарочито сердито ответила старушка.
Андрей понял, что Матцев здесь частый гость.
В комнате, куда без стука они вошли, на кровати лежала девушка с книгой. Едва дверь открылась, она поднялась, поправляя цветастый халат. Взглянув на нее, Андрей растерялся и почувствовал себя неловко, вспомнив расплесканную тарелку с супом. Это была Анюта. В длинном халате она показалась Павлушину еще милей, чем в столовой.
— Анюта, ты будешь извиняться перед человеком? Иль нет? — сразу же заговорил Владик своим ироническим тоном.
— Перед кем это? — снова, как–то медлительно, растягивая слова, спросила девушка.
— Как перед кем? Из–за нее человек обварил пальцы, а она и в ус не дует! Может, теперь ему ложку держать нечем!
— Хорошо! — засмеялась Анюта, взглянув на Андрея. — Завтра я его сама с ложечки кормить буду!
— Везет же людям! — вздохнул Матцев.
С этих пор, встречая на улице или в столовой Анюту, Андрей всегда здоровался с ней и всегда почему–то смущался. Приходя в клуб, он невольно искал ее глазами и, если не находил, пытался представить где она может быть. Впрочем, Анюта не часто появлялась в клубе. Андрей заметил, что, несмотря на внешнее дружелюбие ко всем, Анюта не так общительна, как кажется на первый взгляд, что она не так проста, как хочет казаться.
После того грустного для Андрея вечера, когда он решился предложить Анюте проводить ее домой, Павлушин невольно наблюдал со стороны, как она ведет себя с другими. В компании Анюта была дружелюбна, охотно откликалась на шутки, но как только оставалась наедине с кем–нибудь из парней, так сразу словно отгораживалась ширмой.
Но сейчас, в вертолете, между ней и Владиком Матцевым ширмы не было. Это Андрей сразу почувствовал.
6
— Матцев к Анюте присоседился! — услышал Павлушин насмешливые слова Олега Колункова. Говорил он, обращаясь к шахматистам. — И ее охмурять начал… Гад буду — уломает!
Бригадир Ломакин посмотрел в сторону Владика и Анюты и ответил негромко и вяло:
— Она вроде строгая…
Звягин не пожелал отвлекаться от игры, вытянул одну фигурку из гнезда, подержал над доской и воткнул в другую клеточку. Маленькая доска дорожных шахмат свободно умещалась на широкой ладони бригадира.
Борис Иванович Ломакин был ростом невысок, но широкоплеч, крепок, длиннорук. Прозвище у него было Медведь. А сына его, Сашку, такого же крепыша, похожего на молодого бычка, Звягин в шутку называл Маленький Медведь или Большая Ондатра. Сашка по–прежнему сидел спиной к Андрею и смотрел в иллюминатор.
Слова Олега Колункова о Владике и Анюте неприятно кольнули Андрея, но он снова подумал о Наташе, усмехнулся над своей тревогой и стал исподтишка наблюдать за Олегом. Обычно вялый, замкнутый и печальный, Колунков сегодня еще до отлета был возбужден, диковинно говорлив, даже попытался засмеяться однажды. Павлушин впервые видел, как Олег смеется, и поразился, услышав странно хриплые, рыдающие звуки. Вероятно, Колунков сам почувствовал необычность своего смеха, резко умолк и сконфузился. Андрей всегда чувствовал себя наедине с молчаливым и угрюмым Олегом неловко, неспокойно, виновато как–то и всегда искал предлог уйти от него. Слишком Колунков был загадочен и непонятен в своем всегдашнем одиночестве.
Олег Колунков, худой, костлявый, сутулый и длиннолицый, иногда напоминал Павлушину старую, с ввалившимися боками лошадь. Была такая в деревне. Ее уже не брали на работу. Она часами стояла одиноко на лугу, понуро упустив голову, задумчиво высматривала что–то в траве, не слыша, как мальчишки подкрадываются к ней сзади, чтобы выдернуть из хвоста волос для кнута. Кнут со свистом рассекал воздух и резко хлопал, если за конец ремня была привязана сплетенная туго и тонко волосянка. Лошадь вздрагивала, когда ее дергали за хвост, и оглядывалась, вздыхая. «Ну–ка, Чувырла, улыбнись!» — кричал, шепелявя, Васька, суетливый и озорной мальчишка. Лошадь смотрела на него добрыми глазами, потом показывала зубы, опуская мягкую нижнюю губу, улыбаясь и усмехаясь, словно говоря: «Тешься, дурачок, тешься! Не догадываешься ты пока, что и тебе не миновать старости!» Однажды Андрей заинтересовался, что так пристально высматривает лошадь в траве, но, как ни вглядывался, ничего не смог разглядеть. Колунков, когда на работе не было материалов и плотники играли в домино, тоже мог часами сидеть в вагончике, облокотившись на колени, согнувшись и морща лоб, не обращать внимания на стук и выкрики приятелей. Иногда губы его шевелились, словно он беззвучно разговаривал с кем–то. Владик Матцев тихонько толкал Павлушина и, усмехаясь, молча указывал на Олега, Владик однажды сказал Андрею, что Колунков, вероятно, скоро умрет: его то ли рак ест, то ли начинается белая горячка. Изредка Олег оживлялся, шутил, но даже тогда не улыбался. Светлело немного лицо, серые складки на лбу разглаживались, и все! В первый день Андрей принял Колункова за пожилого человека, а после узнал, что ему тридцати еще нет и что со Звягиным они одногодки, хотя усатый плотненький и благополучный гриб–боровичок Звягин выглядел рядом с ним совсем молодым человеком. Павлушин сразу же заметил, что над Звягиным плотники подтрунивают довольно часто, а Колункова не трогают, относятся к нему снисходительно. Пусть, мол, сидит тихонько, никому не мешает.
В прошлое воскресенье вечером в коридоре общежития подрались ребята. Павлушин выскочил на шум из своей комнаты и замер возле двери, растерявшись. В конце коридора, возле окна, возились, цепляясь друг за друга и махая кулаками, несколько человек. В шумном клубке тел, то распадающемся, то вновь сжимающемся, выделялся местный драчун Мишка Калган. Гибкий, злой, он бил приятелей особенно расчетливо, ловко уворачивался от ответных ударов. Ребята, наверное, не помнили уже, кто с кем дерется и кто кого защищает: кто ближе оказывался, тот и получал. Вдруг хлопнула входная дверь барака и в коридор влетел Колунков. Он ринулся к дерущимся и легко выкинул из свалки одного парня, потом другого, третьего. Делал он это молча, быстро и как–то легко и беззлобно, словно выбрасывал из кузова машины мешки с мякиной. В одно мгновение он расшвырял дерущихся. И они, странное дело, не сопротивлялись, не кидались обратно, будто и ожидали такого завершения, молча приводили себя в порядок, застегивали пуговицы сорочек, отряхивали пыль с брюк. Потом все вместе направились к выходу, а Колунков, не глядя на них, ушел в свою комнату.
Закрывая за собой дверь, Андрей услышал, как один из парней упрекнул другого:
— А мне ты за что скулу свернул?
— Я нечаянно… Ты как–то под руку подвернулся!
Андрей тогда был взволнован, оглушен дракой. Особенно тягостно было думать о своей растерянности. Это он должен был кинуться к дерущимся! Он! Струсил! Потом пришло в голову: так ли бы повели себя ребята, если бы бросился их разнимать не Колунков, а он? Вряд ли бы они утихомирились! Почему же парни даже попытки не сделали воспротивиться Олегу? Почему? Что же он за человек?
Сейчас Олег безучастно смотрел на шахматную доску. Павлушин искоса наблюдал за ним и одновременно старался понять, о чем разговаривают Матцев и Анюта. «Самолет… рассыплется… кореш… вместе…» — долетали до него слова. Потом Владик придвинулся ближе к девушке и стал говорить ей почти на ухо. «Болтают просто так. Лишь бы время шло!» — решил Павлушин.
7
Андрей смотрел вниз. Прямо по курсу вертолета тайгу прорезала желтая лента железнодорожного полотна с тонкими, как паутина, рельсами. Проплыл строящийся поселок. Хорошо видны двухэтажные блочные дома. Три из них уже построены, а два, рядом, монтировались. Здание вокзала клали из красного кирпича. Возле вокзала сплелась густая паутина рельсов с коробками игрушечных вагонов, выстроившихся друг за другом в несколько рядов. За поселком рельсы вновь вытянулись в две нити, которые упирались вдали во что–то громоздкое и темное. «Кран–путеукладчик!» — догадался Андрей, хотя еще ни разу не видел его. Вертолет подлетел ближе, и Павлушин разглядел приткнувшийся к крану сцеп со звеньями рельсов. Дальше желтая насыпь пошла без нитей. Потом остался позади карьер с экскаваторами и жуками–самосвалами, ползущими с песком туда, где кончалась насыпь. Отсыпка полотна шла полным ходом! По тайге потянулась просека. Вскоре показались лесорубы. Видно было, как одно из деревьев отделилось от стены леса и медленно свалилось на землю. Впереди поплыла тайга, тайга без конца и без края.
Вертолет то неожиданно падал, то резко взмывал вверх. С напряжением ожидая следующего падения, Андрей вспомнил летний вечер из детства. Он живо увидел остывающее солнце над полем за деревьями, отца в клетчатой рубахе с закатанными по локоть рукавами, шагающего по пыльной улице деревни с вожжами в руке рядом с телегой, на которой установлена железная бочка с водой. На ухабах телега резко кренилась набок, вода, щелкнув, фонтаном вылетала из дыры, прорубленной сверху в железном боку, и рассыпалась в воздухе на мутные шевелящиеся шарики, которые шлепались на дорогу, зарывались в пыль. Лошадь останавливалась возле куста сирени, разросшегося так, что забор скрылся среди веток с большими мясистыми листьями. Из калитки, позвякивая пустыми ведрами, выходили мать и старшая сестра. Отец опускал в бочку ведро, черпал и подавал матери, расплескивая воду. Скоро теплая пыль под колесами превращалась в прохладную жижицу. В нее приятно было ступать босыми ногами. Жидкая грязь щекотала пальцы, проскальзывая вверх между ними, и холодила ступни. У Андрея было свое ведерко, поменьше. Отец зачерпывал и ему. Андрей, наклонившись от тяжести на один бок, цеплял дном ведра за траву, торопился к ближней яблоне, выливал на взрыхленную вокруг ствола землю и бежал назад.
Бочка пустела. Отец вешал одно ведро на гвоздь на задке телеги, расправлял в руках вожжи и чмокал губами. Лошадь нехотя поднимала голову, сорвав в последний раз пучок травы. Андрей тем временем быстро забирался в бочку через дыру и приседал на корточки, придерживаясь руками за скользкие, мокрые, ржавые бока. Когда колеса попадали в ямку, бочка резко проваливалась вниз, а на кочках гудела и шевелилась, подпрыгивала. Слышно было, как, поскрипывая, билось о задок телеги, жалобно дребезжало ведро. В дрожащую дыру был виден кусок бледно–голубоватого неба. Казалось, что бочка летит куда–то в пустоту, под гору, и вот–вот врежется в землю. Сердце замирало, Андрей не выдерживал и высовывал голову наружу. Спокойно покачивалась спина отца, сидевшего впереди… Андрея вдруг резко качнуло и ударило обо что–то боком. Нет, это не бочка подпрыгнула на ухабе, это вертолет тряхнуло!
8
Андрей отвлекся от воспоминаний и вновь окинул взглядом салон вертолета: Федор Гончаров, по прозвищу Цыпленочек, мужичонка лет сорока, безучастный ко всему, дремал, согнувшись, опираясь локтями о колени. Щуплый, худой, всегда с каким–то встревоженным лицом, он действительно напоминал не успевшего вырасти к первым морозам петушка. Сейчас он похрапывал, помогал, подтягивал рокоту мотора. Сашка Ломакин все глядел в иллюминатор, и лица его Павлушин не видел. Владик с Анютой заняты разговором. Шахматисты по–прежнему увлечены игрой. Король Звягина судорожно метался среди неприятельских солдат. Нечасто попадал он в такое грустное положение. Звягин кусал губы, искал путь, по которому можно было королю драпануть из вражеского стана, а Ломакин зорко охранял каждую тропинку. Олегу Колункову надоело смотреть на доску, он взглянул на тайгу и вздохнул:
— Да-а! Попотеть нам придется!
— Ничего, пробьемся! — ответил, не не поднимая глаз, Звягин. Непонятно было, то ли он сказал это Колункову, то ли своему королю, к которому он подвел коня, увидев, наконец, спасительный ход.
— Начальник обещал месяца через два–три бригаду лесорубов в управлении выпросить, — вступил в разговор Ломакин.
— Это шабашников? С Украины? — спросил Звягин.
— Их!
— Вот они–то работают — только стон стоит, — сказал Звягин. — Да и зарабатывают здорово!
Над большим озером вертолет сделал круг и начал снижаться.
— Приехали, — сказал бригадир, с сожалением отрываясь от шахмат.
Несмотря на то, что король Звягина с помощью коня вырвался из окружения, у Ломакина была еще надежда выиграть.
Десантники зашевелились.
— Разбуди! — кивнул Звягин Павлушину, указывая на Гончарова.
Но Андрей не успел повернуться к нему, как он поднял голову и сказал хрипло:
— Я не сплю…
— Видали, он не спит! Я думал, вертолет от его храпа развалится, — засмеялся Звягин.
— Разве это Гончаров храпел? — спросила Анюта. — А я думала, так мотор ревет!
Слова ее прозвучали так невинно и правдиво, что десантники, не ожидавшие шутки от Анюты, захохотали. Засмеялся и Гончаров. Потом он взглянул вниз на озеро и спросил:
— Это и есть Вачлор?
— Озеро погибшего оленя! — произнес с какой–то гордостью Андрей.
Он слышал в поселке, что так переводится Вачлор с языка хантов.
— Утопший олень, — поправил его Сашка.
— Озеро погибшего оленя — красивее звучит! — поддержал Андрея Звягин.
— Станция и поселок будут называться Вачлор, — сказал Ломакин, хотя об этом все знали.
Вертолет приземлился, повертел винтами, успокоился и затих. Из кабины в салон вышел вертолетчик Михась, смуглый и усатый толстяк невысокого роста. Он оглядел черными хитроватыми глазами десантников и, открывая дверь, проговорил, обращаясь к Ломакину:
— Ну, Медведь, забирай своих разбойников и очищай помещение! Я на свидание тороплюсь!
— Успеешь… Никуда теперь твоя Дашка не денется. Видишь, я всех соперников в тайгу сманил!
Вертолетчик выбросил наружу железную лесенку, закрепил ее за порог и первым спустился на землю. За ним выпрыгнул Матцев, мягко и упруго ткнувшись носками сапог в песок. Выпрыгнул и протянул руки Анюте. Девушка доверчиво склонилась к нему, присев на корточки на пороге. Владик подхватил ее под мышки и, опуская на землю, бережно прижал к себе. Павлушин ревниво отметил это. Матцев быстро отпустил девушку и начал деловито принимать и складывать в кучу вещи.
9
Вертолет опустил нос, тяжело, устало оторвался от земли и поднялся в воздух, прощаясь, сделал круг над поляной, накренившись на бок, и бодро и весело заторопился назад, домой. Вскоре звук его мотора угас. Десантники остались на берегу озера.
— Ишь, сестрички встречать нас выбежали, а мы им здравствуйте не скажем! Разубрались как, а? — сказал как–то необычно для него нежно Колунков, распечатывая пачку сигарет и глядя на две нарядные березки, росшие в одиночестве на самом берегу. Они действительно, казалось, выскочили из лесу навстречу десантникам и остановились на полпути, с любопытством приглядываясь к прилетевшим людям, будто старались понять, что ждать им от пришельцев — добра или зла. Неподвижно застыли и воды хмурого, несмотря на ясный и солнечный день, озера.
— Вовремя мы Колункова из поселка вывезли, — добродушно усмехнулся Матцев. — Молчал–молчал и вдруг заговариваться стал!
Десантники неторопливо закуривали, рассаживались на рюкзаках и несколько озабоченно оглядывали поляну, место своей будущей работы и житья. Павлушин не курил. Он сбежал по пологому песчаному склону сухого пригорка на берег озера, подошел к березкам и похлопал ладонью по прохладному, туго налитому стволу одной из них. Березка в ответ легонько шелохнулась, прошелестела ветвями. Несколько желтых листочков, кружась, неслышно опустились в жухлую траву.
Андрей, держась рукой за ствол, огляделся вокруг, окинул взглядом землю, древнюю землю. Точно так было здесь и сто, и тысячу лет назад. Веки вечные земля эта безлюдна, беспомощна. Топтали русскую землю татарские кони, менялись цари на Руси, а здесь было тихо и покойно, ничто не тревожило этот край: ни войны, ни революции. Бродили лишь одинокие охотники. Сонная земля! И вот всколыхнулся, зашумел дикий край, потянулись сюда люди со всех уголков России.
Ветерок обдувал Павлушина прохладой, шелестел осокой, тихо, еле заметно рябил воду. Озеро было большое. Лес на другом берегу темнел далекой полосой. Андрей смотрел на тихую воду и думал: грустил ли кто на этом берегу? Любовался ли кто тихими водами? Ожидал ли в томлении любимую под деревом? Или тысячелетия тихо спало оно в своих берегах, даже во сне не предчувствуя каких–либо изменений в судьбе?.. Пройдет два–три года, и начнут глядеться в воды его многоэтажные дома, и будет томиться первой любовью мальчишка, который пока беззаботно бегает по асфальту далекого города. Будут, скоро будут свидания на его берегах, и будет слушать оно незнакомый пока перестук железных колес. Привыкнет к нему, как привыкло сейчас к ежедневному стрекоту вертолетов. Восторг от этих мыслей, от тишины, от того, что именно ему предстоит всколыхнуть дикий край, охватил Павлушина.
— Тишина какая! — крикнул он, поворачиваясь к десантникам, — Мы пионеры! Мы первые ступили… — Андрей запнулся, увидел, как из тайги, совсем близко от него, бесшумно вышел невысокий человек в коротком халате, отороченном мехом. Халат был из какого–то грубого сукна, подпоясан тонким ремешком. Волосы на непокрытой голове человека довольно длинные и седоватые. Лицо широкое, морщинистое, с щелочками–глазами. «Хант!» — догадался Павлушин.
Десантники дружно обернулись в ту сторону, куда смотрел Андрей. Хант опирался на суковатую палку. Из–за плеча торчал ствол ружья.
— Пионер! — усмехнулся Звягин, взглянув на Андрея.
— Здорово, — дружелюбно сказал хант, подойдя к ним.
— Здравствуйте! — разноголосо и настороженно ответили ему десантники, поднимаясь.
— Спедиция? — неторопливо и спокойно спросил хант и достал из–за пазухи кисет.
— Экспедиция, экспедиция! — кивнул Ломакин.
— Знаю, — сказал хант, набивая трубку табаком. — Землю дырявить, нефть промышлять… Внук мой, Кирилл, на буровой самому большому начальнику первый помощник. Хороший охотник был… Пропал охотник…
— Мы не бурильщики, — ответил Ломакин. — Мы железную дорогу ведем. Тут поезда ходить будут!
Хант поджег табак в трубке и покачал головой.
— Зверь уйдет, однако! Птица уйдет… Рыбы мало станет!
— Это так, так! — подтвердил Ломакин. — Тут уж ничего не поделаешь.
— Да, однако, — пробормотал хант и так же неторопливо отправился дальше.
— Он там неподалеку от речки живет. Один, — тихо сказал Ломакин, когда старик отошел. — Зверь уйдет, он тоже здесь не задержится… Ну что ж! Приступим!..
— Погодите! — перебил его Колунков и начал рыться в своем рюкзаке.
Он достал оттуда фотоаппарат и указал рукой на кучу привезенных с собой вещей:
— Располагайтесь, господа!
— Молодец! Не забыл просьбу начальника, — сказал Ломакин, застегивая пуговицы ватника.
— Исторический момент! — воскликнул Сашка, брякнувшись на рюкзак. — Потомки должны знать в лицо тех, кто нарушил покой тайги! Должны знать, кому выносить приговор!
— Поплотней! Поплотней! — командовал Олег.
Десантники расселись, а он ухватил за лямки рюкзак, стоявший в стороне.
— Не трожь! — крикнул Звягин.
Олег недоуменно отпустил лямки.
— Там лампа… Разобьешь стекло! — пояснил Звягин.
Тогда Колунков вытащил из кучи свой рюкзак, поставил его в трех шагах от группы, положил на него фотоаппарат, присел перед ним на корточки, навел объектив на десантников, опустил автоматический спуск, нажал кнопку и, услышав жужжание, кинулся к товарищам, подбежал, шлепнулся на землю перед ними и замер, глядя на фотоаппарат.
10
Десантники разбирали тюки, инструменты. Бригадир взял лопату и направился к реденькому сосняку, стоявшему на самом высоком и сухом месте, где должно было быть первое жилище нового поселка. Место для землянок Ломакин приглядел месяц назад, когда в первый раз прилетел сюда. Десантники разобрали лопаты и топоры, двинулись вслед за ним. Возле вещей остались Владик с Анютой. Матцев заправлял из канистры бензином пилу, а девушка готовила кастрюли, продукты.
Ломакин остановился на сухой просторной площадке меж двух сосен, огляделся. Трава под соснами не росла. Земля покрыта толстым многовековым слоем хвои, мягко пружинила под ногами. Борис Иванович легонько ковырнул землю лопатой, отсчитал несколько шагов от метки, снова ковырнул лопатой. Подошел Матцев с бензопилой на плече. Он опустил ее на землю и так же, как и все, стал наблюдать за Ломакиным, который отчеркивал лопатой контур землянки. Бригадир с силой вогнал в землю лопату и проговорил:
— Давайте! — Потом кивнул Матцеву: — Пошли! Андрей, идем с нами, будешь сучья обрубать… попутно и дров для костра заготовишь!
Колунков, Звягин, Гончаров и Сашка расположились с лопатами внутри отмеченного четырехугольника, а Матцев снова вскинул на плечо бензопилу, и они с Андреем пошли вслед за бригадиром по сосняку туда, где по плану должен расположиться временный поселок строителей. Деревья нужно было валить строго в тех местах, где встанут сборно–щитовые дома и пройдут дороги. Шли они молча и почти бесшумно. Было тихо и мрачновато среди деревьев, хотя густым лес назвать было нельзя.
— «Кра-а! Кра-а!» — неожиданно раздалось над головой хрипло и отрывисто.
— Фу, тварь! — выругался Владик.
Павлушин испуганно вскинул голову. Хлопая крыльями, с ветки сорвалась и замелькала меж ветвей птица, величиной с голубя. Грудь у нее была в коричневую крапинку.
— Смотри, какая ворона! — воскликнул Андрей.
— Это кедровка.
Ломакин остановился и указал:
— Здесь!
Андрей огляделся вокруг. В этом месте сосны росли вперемежку с кедром, елью, кое–где виднелись белые платья берез. Стволы деревьев были довольно толстые, свободно могли бы пойти на телеграфные столбы. Тайгу Павлушин представлял не такой, какой увидел ее месяц назад. Он ожидал увидеть непроходимые чащи с мощными стволами деревьев, что–то очень близкое к джунглям. А деревья в тайге оказались невысокими, тонкими, годными разве на оглобли для саней. Только на возвышенных местах деревья были крепче, солидней.
Бензопила резко и сердито фыркнула, словно недовольная тем, что ее потревожил Матцев, прокашлялась, разохотилась, быстро затараторила на весь лес. Владик поднес лезвие к стволу, и Андрею показалось, что сосна от испуга вскрикнула, когда Матцев сделал надрез. К ним подбежал Колунков с фотоаппаратом и прицелился в Матцева. Сосна тяжко вздохнула и, постанывая, стала крениться набок все быстрее и быстрее, шумела ветвями, ломала сучья свои и соседних деревьев, с хрустом ухнула, ударилась о землю. Комель резко подбросило вверх. Сосна дернулась в последний раз и начала успокаиваться, помахивая поникшими ветвями. Колунков щелкнул еще раз затвором, сфотографировал и убежал назад.
— Осторожней, — предупредил Матцева и Павлушина Борис Иванович и направился в глубь тайги в сторону от озера. На карте неподалеку от будущего поселка значился заболоченный лес. И действительно, скоро запах болота стал резче, деревья поредели, а почва под ногами повлажнела, все чаще попадалась пихта в виде стелющегося кустарника, густые куртины багульника и голубики, сквозь которые проглядывали плешины, заросшие мхом: по–осеннему с желтым отливом зеленел кукушкин лен и стелился мрачно–седоватый, словно покрытый плесенью сфагнум.
— А клюквы, клюквы–то! — не удержался, произнес вслух Ломакин и прошелся по болоту, стараясь не давить сапогами ягоды, проверил хорошо ли держит мох. Шел он словно по толстому слою ваты. «Нужно Анюту сюда прислать», — подумал бригадир, возвращаясь. Он неторопливо прошел мимо десантников, копавших землянку. Работа у них шла споро. Песок легко поддавался лопатам. Только выбрасывай… Из тайги доносились звук работающей бензопилы и стук топора. Телогрейки десантников лежали в куче под сосной. Проходя мимо, Ломакин слышал, как Колунков пожаловался:
— Фу, гадость! Все тело дрожит!
— Надолго проспиртовался, — ответил Звягин. — Теперь месяц выходить будет…
— Два дня перед отлетом пробки не нюхал… — сказал Колунков. — Думал, отойду!
Звягин произнес что–то такое в ответ, что землекопы захохотали. Ломакин не расслышал слов Звягина, но улыбнулся.
Анюта ломала и подбрасывала в разгорающийся костер ветки, которые нехотя трогал бледным языком слабенький огонь.
— Анюта, тут клюквы кругом–страсть! — сказал Ломакин, подойдя к ней. — Набери немножко… Павлушина захвати с собой. Компот нам сваришь!
— Сейчас… Воду поставлю греть… А вы за костром присмотрите.
— Где ты воду собираешься брать?
— В озере.
— Ну нет! Тут неподалеку речка есть. Там вода чище. Я сам схожу и поставлю греть, а ты ступай по ягоды…
11
Девушка взяла две небольшие кастрюли и пошла на звук бензопилы. Оттуда донесся шум падающего дерева, резко хрустнули ветви, и на мгновение все стихло. Анюта прошла немного по мягкому слою хвои и увидела среди деревьев Матцева и Павлушина. Владик стоял, прислонив бензопилу к свежему пню, и смахивал со лба пот. Андрей обрубал сучья поваленного дерева.
— Пионер! — весело крикнула Анюта. — Пошли клюкву собирать!
— Может, меня с собой возьмешь? — игриво улыбнулся Матцев.
— Ты работай давай, трудись! — таким же тоном ответила девушка. — Начальство меня пионервожатой выбрало. Держи кастрюлю! — обратилась она к Андрею.
Павлушин взял, и они двинулись в глубь тайги.
— Не заблудитесь смотрите! — все так же шутливо крикнул им вслед Матцев.
— Заблудимся — вдвоем не пропадем! — обернулась Анюта.
Андрей шел следом за девушкой. Мягкий звук ее шагов, шуршание старенькой болоньевой куртки теплотой отзывались в груди Павлушина. На оранжевой куртке Анюты сзади темнело бурое пятно. Рядом с ним ткань порвалась и была зашита. И почему–то именно это пятно и короткая строчка больше всего умиляли Андрея. Он смотрел, как девушка неспешно и ловко пробирается среди кустов багульника, упруго перескакивает с кочки на кочку. Полянки среди кустов с полуосыпавшимися листьями были густо покрыты ярко–алыми ягодами клюквы, словно кто рассыпал по мху недозрелые вишни. Андрей с восхищением оглядывал поляну.
— Здесь и будем собирать, — остановилась Анюта.
Они присели на корточки рядом. Андрей рвал ягоды, бросал их в кастрюлю. Временами он взглядывал в сторону девушки и видел, как проворно суетятся во мхе ее пальцы, словно воробушки, собирающие зерно. Павлушину захотелось поймать их, подержать в руке, и руки его сами тянулись к тому месту, где срывала ягоды Анюта.
— Э-э, не воруй! — сказала она. — Смотри позади тебя какая крупная!
— Я не ворую, я учусь у тебя собирать. Я в первый раз вижу, как клюква растет…
— Да-а?
— Я ведь в степи вырос. У нас лесов не было… И служил в Казахстане!
— Ты уже успел отслужить? — ^удивилась Анюта.
— Отбарабанил.
— А я думала, что ты после школы.
— Нет. Я уж не такой молоденький!
— Да–да! Старичок! — засмеялась девушка. — Наверно, прямо из армии сюда?
— Почти… Только по пути в институт поступил да комсомольскую путевку прихватил.
— В какой институт?
— В строительный.
Андрею было приятно, что девушка заинтересовалась им. Он собрал вокруг себя ягоды и поднялся, чтобы перейти в другое место. Мох мягко просел под ногами. В кустах рядом с ним что–то быстро шевельнулось, зашуршало. Павлушин крикнул:
— Змея!
И отскочил в сторону. Но запутался во мху и упал, рассыпал ягоды. И тут же, не спуская глаз с куста, вскочил, намереваясь бежать дальше.
Анюта резко выпрямилась, подхватила хворостину, потом засмеялась, глядя на испуганного Андрея.
— Чудак! Они уже уснули! — Девушка захохотала еще пуще, наблюдая, как Павлушин с растерянной виноватой улыбкой отряхивает брюки.
— На сучок наступил, а он шевельнулся, — проговорил он смущенно. — Ужас как боюсь змей и лягушек!
— А лягушек почему?
— Скользкие они… Не переношу ничего скользкого…
Андрей стал собирать рассыпавшиеся ягоды.
Анюта набрала свою кастрюлю доверху, поставила ее под куст голубики и стала помогать Павлушину.
Таежная тишина нарушалась глухими ударами топора да суетливым визгом бензопилы. Анюта собирала ягоды в руку, набрав горсть, ссыпала в Андрееву кастрюлю. Вспомнилось ей вдруг, что точно так года три назад собирали они с Колей, мужем, землянику. Разве это было три года назад? Да, всего три года… А как давно это было! Как давно… В лес они приезжали на мотороллере. Коля купил его, когда учился в десятом классе. Лето проработал штурвальным на комбайне и купил. Купил, как говорил он, чтобы катать ее. Тогда они только начинали встречаться, а свадьбу сыграли сразу после окончания школы. Это было время восторженной нежности, ничем не омраченного счастья. Все принадлежало им: небо, река, лес… Лес был им знаком с детства, стоял он рядом с деревней. Забирались они по тропинке едва приметной на мотороллере в самую чащу. Коля сидел за рулем, а Анюта, обхватив его сзади руками, прижималась щекой к спине… Как давно это было!
Возвращались Андрей с Анютой молча. Павлушин заметил, что девушка замкнулась, погрустнела, и мучился, старался понять, вспомнить, чем он мог обидеть ее. Сделал, видно, что–то не так? Или сказал?
12
Вернулись они, когда Матцев начал резать сваленные деревья на бревна для наката на землянку. Яма была уже почти готова. Заканчивали ее Ломакин, Гончаров и Сашка. Звягин с Колунковым носили бревна. Павлушин отдал кастрюлю с ягодами Анюте и побежал к Матцеву, чувствуя себя виноватым: они работали, а он ягоду собирал да разговорами развлекался. Андрей подскочил к толстому бревну, которое пытались взвалить на плечи Звягин с Колунковым, и ухватился за середину. Втроем они легко вскинули бревно и уложили на свои плечи. От свежеспиленной сосны терпко и приятно пахло смолой. Пальцы сразу стали липкими. Андрей пожалел, что поторопился, не надел рукавицы.. Смолу трудно смывать водой. Павлушин клонил голову набок, чтобы не касаться щекой коры дерева. Возле ямы они сбросили в песок бревно и пошли за следующим.
Сашка с Гончаровым выбрались наверх, положили два самых толстых бревна на край землянки по длине и стали накатывать на них другие бревна. Бригадир выравнивал лопатой стены землянки.
— Мужики! — крикнула от костра Анюта. — Обед готов!
— Погоди полчасика, — отозвался Ломакин. — Сейчас землянку накроем и отдохнем малость… А то солнце не ждет! Ишь, как торопится!
Солнце уже коснулось верхушек деревьев, длинные тени которых вытянулись по поляне.
Десантники накидали веток на накатанные бревна, накрыли сверху рубероидом в два слоя и засыпали песком. Сашка и Андрей натаскали в землянку ведрами сухую хвою и покрыли пол. Когда закончили, Ломакин коротко и устало бросил:
— Перекур!
И первым направился к костру.
Ели молча. Гречневая каша сильно отдавала дымом и, может, поэтому казалась Андрею необычно вкусной.
К сумеркам в землянке соорудили из толстых сучьев двухъярусные нары, застлали их еловыми ветками. Вход закрыли брезентом. Дверь сегодня делать некогда, темнеет. Противоположную от входа стену с нарами Анюты отгородили брезентом. Перенесли с поляны вещи.
Десантники собирались здесь жить недолго, пока не поставят первую утепленную на зиму палатку. Но землянка долго еще будет служить подсобным помещением для хранения продуктов, инструментов.
Звягин вбил гвоздь в бревно посреди потолка, заправил соляркой керосиновую лампу, осторожно протер носовым платком стекло, зажег фитиль, вставил стекло в лампу и повесил ее на гвоздь.
— Вот и ладненько! — проговорил он. — Теперь и самому устраиваться можно!
Ужинали у костра. К заходу солнца подул ветер, появились облака, а когда стемнело, небо совсем затянулось серой пеленой. Звезд не было видно. Озеро вначале неясно серело сквозь деревья, потом скрылось в темноте. Слышались только ритмичный и частый плеск волн да глухой шум ветра. Свет большого костра всего шага на три пробивал тьму, и Андрею казалось, что кто–то все время бродит вокруг костра, скрываясь в темноте, похрустывает ветвями, шуршит песком. Вспомнился хант. Он вроде не враждебно встретил их. Но как–то странно появился и странно, не попрощавшись, ушел, так, словно в который раз за день встретил знакомых и уверен, что до вечера увидит их еще не один раз.
— А медведи здесь есть? — спросил Андрей, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Конечно, есть, — устало ответил бригадир.
— Теперь сидит на берегу озера и гадает, что это за хмыри сюда пожаловали? — заговорил Олег Колунков. — Надо проверить, крепкие ли у них косточки!
— Я серьезно говорю… Медведь может ночью забраться к нам! — сказал обиженно Андрей…
— Ты тогда не теряйся, хватай ложку и стреляй! — серьезным тоном посоветовал Павлушину Звягин. — Свежатинкой нас угостишь!
— Шашлычок сварганим! — хохотнул Сашка.
Ветер дул со стороны озера, бойко гулял по поляне.
В глубь тайги его не пускали деревья. Сыро пахло болотом. От костра уходить не хотелось, но еще нужно, видимо, идти к озеру за водой. Мыть посуду. Вдруг неподалеку в кустах хрустнуло, зашелестели ветки и послышалось какое–то глухое ворчанье.
— Медведь! — Колунков выхватил из костра головешку.
— Ружье! Где ружье!? — заорал Звягин, вскакивая.
Павлушин тоже испуганно вскочил, озираясь растерянно, не зная, что предпринять.
— Ложку! Ложку хватай! — крикнул ему Сашка.
Кусты затрещали сильнее, и послышался сердитый рев:
— Жрать хочу-у! Подайте Пионера!
Десантники хохотали.
— Хватит вам… Разбузыкались! — смеясь, прикрикнул Ломакин.
Колунков кинул головешку в костер. Андрей, улыбаясь, простодушно проговорил:
— А я всерьез подумал — медведь!
Из темноты вышел Матцев и спокойно сказал:
— Медведь тут возле земляники шлялся, Пионера какого–то искал. Я ему говорю — у нас пионеров нет. Он дальше отправился…
Десантники посмеялись еще, пошутили и стали подниматься. День был нелегким. Устали все. Нужно отдохнуть за ночь. Работа в поселке в последнее время была не такая напряженная. Требовалось время, чтобы втянуться.
В землянке Звягин вынул из рюкзака коробку с шахматами, встряхнул ее и предложил Ломакину:
— Как насчет партейки?
— Наиграемся еще, — отказался бригадир.
13
Десантники неспешно располагались на нарах в спальных мешках. Звягин прикрутил фитиль, погасил огонь в лампе. Сразу стало темно.
— Эй! — вскрикнул Гончаров. — Не крутись! Глаза запорошил!
— Сучок под бок попал, — виновато ответил сверху Сашка.
— Цыпленочек! — окликнул Гончарова Колунков. — Если ты храпеть будешь, я тебе нос сапогом разворочу!
— Ишь, какой культурный, — отозвался Гончаров, — Нет сказать: спокойной ночи, Федечка! А он какую речь завел…
— Федечка! — Засмеялся Сашка. — Хорош Федечка!
— Звягин, как бы это нам анекдотик соорудить на сон грядущий, а? — спросил Матцев. Нары его были под Павлушиным.
— Это можно, — сразу откликнулся Звягин. — Начинай!
— Не спится им, — проворчал Ломакин не сердито. — Не наломались, видно, за день!
— Идут два приятеля по улице, — начал рассказывать Матцев анекдот, — и один спрашивает у другого: «Что ты будешь делать, если на твою жену нападет тигр?» — «Сам напал, пусть сам и защищается!» — ответил приятель…
Колунков вдруг хохотнул коротко и неожиданно звонко.
— Смотрите, Олег ожил! — смеясь, воскликнул Павлушин. — Я думал, он и улыбаться не умеет…
— Идут приятели дальше, — продолжал Матцев. — И вдруг один хвать другого за рукав и за угол с ним. «Что случилось?» — удивился приятель. — «Там, возле подъезда, моя жена разговаривает с моей любовницей!» — ответил первый. Тогда его приятель выглянул из–за угла и назад: «Ты что, — говорит он. — это моя жена разговаривает с моей любовницей!»
И снова хохот в землянке. Даже песок зашуршал, посыпался со стен. Павлушин расслышал и тонкий смешок Анюты. Услышал и начал вспоминать анекдоты, отыскивать среди солдатских такие же невинные, какие рассказывал Матцев.
— Хватит трепаться! Завтра день потяжелее будет! Спать! Спать! — сказал громко Ломакин, теперь уж требовательно.
Десантники на мгновенье затихли. И в тишине Звягин произнес ласково, обращаясь к Гончарову:
— Спокойной ночи, Федечка!
— Вот видишь, совсем другой коленкор! — бодро отозвался Гончаров и добавил сладенько: — Так же и вам, Мишутка! На новом месте приснись жених невесте!
Десантники опять засмеялись.
— Это мы завтра у Анюты спросим, кто ей приснился. Расскажешь, а, Анют? — спросил Матцев.
— Расскажу, расскажу! — ответила из темноты девушка, видимо, улыбаясь.
У Павлушина дрогнуло в груди от ее медлительного голоса. Было приятно сознавать, что всего в двух шагах от него лежит она. Она! Андрей прислушивался. Но слышны были только вздохи мужчин да тихое шуршание веток. Кто–то внизу все никак не мог устроиться удобно. Вспомнились собирающие ягоды ловкие розовые пальцы Анюты с остатками краски на ноготках, смех ее, когда он испугался змеи, Андрей улыбнулся и стал засыпать.
Утром его разбудило какое–то шуршание и тихое потрескивание. Андрей открыл глаза. Матцев стоял возле нар в полутьме и раздевался, снимал через голову шерстяной черный свитер, в котором спал. Заметив, что Андрей проснулся, Владик молча подмигнул ему. Павлушин улыбнулся в ответ, но подниматься не торопился. Все еще спали. Тьма в землянке стала жиже, чем ночью. Сквозь неплотно прикрывавший вход брезент было заметно, что на улице рассветает. Андрей догадался, что Владик собирается идти к озеру. Он каждое утро делал зарядку и мылся холодной водой до пояса. Андрей в поселке тоже попробовал махать руками по утрам и приседать, но стало почему–то неудобно: копирует, мол, Матцева, и он забросил утренние зарядки. Но двухпудовую гирю Владика изредка поднимал. Получалось у него не так легко, как у Матцева.
Владик разделся до пояса, прошуршал брезентом и выбрался. Было тихо. Ветер угомонился за ночь. С одной стороны за озером край неба светлел.
Вслед за Матцевым поднялся бригадир. Он, наоборот, стал одеваться, зазвенел пряжкой пояса. За ним зашевелились и другие десантники. Анюта чихнула громко в своей половине.
— Будь здорова, — сказал Звягин. — Ну, рассказывай, кого видела во сне?
— Пионера! — засмеялась девушка. — Правда! Вот прямо как проснуться, видела…
— Кого, кого? — не понял Звягин.
— Пионера, Андрея…
— А-а! — протянул Звягин. — Недаром, видно, он вчера за тобой полдня с кастрюлей бегал! Андрей, а ты Анюту не видел во сне?
— Не помню! — откликнулся Павлушин, вылезая из мешка.
Он никогда не помнил свои сны. Спал всегда крепко, не просыпался ночами, не ворочался. Слова Анюты, что она его видела во сне, отозвались в груди приятным предчувствием. Только правда это или она насмехается? Но тон у девушки серьезный. Почему же она именно его увидела?
Когда Андрей вылез из землянки, Владик боксировал с елью. Напряженные мышцы буграми перекатывались у него под кожей на руках и спине. И снова некоторая зависть мелькнула в голове Андрея: нужно наконец–то заняться собой. Он затрусил в кусты вслед за Колунковым, оглядываясь на вход в землянку, не появилась ли там Анюта. Оттуда выскочил Звягин, увидел Матцева под деревом и заорал:
— Бей ее! Бей!.. Может, помочь? Вдвоем мы ее враз уложим!
Матцев не обратил внимания на слова Звягина и продолжал свое занятие с сосредоточенным видом, а Звягин помчался к Павлушину. Забежал за кусты, остановился неподалеку от Андрея и выдохнул, глядя на озеро.
— Хорошо как, а? Красотища!
Легкий ленивый парок поднимался над спокойной водой озера и таял в воздухе. Казалось, что вода вот–вот закипит. Светлая полоса за озером расширилась, четко выделила на горизонте темный лес, разделяющий жирной чертой светлеющее небо с отражением его в воде.
14
Утром Владик проснулся испуганно, резко открыл глаза и тут же понял с облегчением — сон! Потом вспомнил: было это с ним! И во сне тоже видел. Да, видел! Кажется, ночи две подряд после того, как ушел от жены, после того удара! Удара до того неожиданного, что до сих пор он не может понять — почему, почему? Владик лежал на спине, прислушивался, как постепенно стук испуганного сердца становится реже, слабее, и видел перед собой деревенскую девочку Нюшу в сереньком сарафане с двумя большими оттопыренными карманами по бокам. В кармане у нее были яблоки, маленькие, сплющенные, похожие на дутые колесики, и необыкновенно вкусные. Деревенские мальчишки воровали их в Танюхином саду, подстерегая, когда Танюха, остролицая, худая, быстрая, шумливая женщина, войдет в избу. Тогда они стаей, словно воробьи, выныривали из кустов, налетали на яблоню: одни трясли ветки, другие лихорадочно подбирали сыпавшиеся с частым и глухим стуком на землю недозрелые яблоки. В налетах иногда участвовала и Нюша. Чем она поразила так воображение четырнадцатилетнего городского мальчика, впервые попавшего в деревню?
Родители Владика в тот год решили провести лето на природе и поехали с семьей приятеля к его родственникам в деревню. Ясно вспомнилась, казалось, давно и прочно забытая первая встреча с Нюшей. День, когда они приехали в деревню, был душный, сильно припекало. Воздух вдали струился, и дома, деревья в конце улицы, казалось, висели в воздухе. Отец с приятелем, разговаривая, шли впереди вдоль забора мимо деревенских изб. Женщины молча шли следом. У всех руки были заняты вещами. Владик тоже нес небольшую авоську, прислушивался к неясным крикам мальчишек, доносившимся откуда–то из–за домов. Улица вышла на луг, посреди которого расползся пруд, перегороженный невысокой плотиной и поросший по берегу осокой и ивняком. На берегу пруда вокруг мяча суетились мальчишки. Поодаль от них нетерпеливо подпрыгивала на месте худая девочка и что–то кричала ребятам тонко и сердито. Мяч вылетел из кучи мальчишек и отлетел далеко в сторону. За ним кинулась девочка, угловато размахивая длинными тонкими руками, согнутыми в локтях. Она быстро догнала мяч, пнула его босой ногой и покатила к воротам. Их изображали две палки, воткнутые в землю. Владик отстал от родителей, наблюдал за девочкой — сумеет ли она забить гол. Вратарь выскочил ей навстречу. Девочка торопливо шлепнула по мячу ногой. Мяч пролетел мимо ворот и, подпрыгивая, покатился навстречу Владику. Девочка бросилась за ним, но увидела Матцева, остановилась и повелительно крикнула:
— Подай! Чего смотришь!
Владик, словно ждал этой команды, не выпуская из рук авоськи, подбежал к мячу, поддел его носком левой ноги, подбросил вверх и тут же на лету ударил другой ногой. Получилось у него это ловко и быстро. Вратарь подхватил мяч, а девочка повернулась и заспешила назад, на поле, не обращая больше на Владика внимания. Его задело, что девочка не оценила такой ловкий удар.
Вечером Владик, не зная, что делать — на улицу выходить он еще не решался, взял книгу и сел под яблоней в не остывшую еще от дневного солнца траву. Жара спала, но земля, деревья, стены домов, особенно железная крыша, дышали духотой. Раскаленное днем солнце потускнело немного и искоса заглядывало через забор в палисадник к Владику.
— Кто же это летом читает? — услышал он вдруг насмешливый голос.
Владик поднял голову и увидел за кустами сирени ту самую девочку в сереньком сарафане, которая гоняла мяч с мальчишками.
— А когда же нужно читать? — спросил Владик.
— Когда? — удивилась девочка. — Когда в школу ходят, тогда и читают…
— А летом почему же нельзя?
— Летом играть надо… Ты бабки Петровны внук? — Женщину, в доме которой они остановились, звали Ольгой Петровной, — Нет… Мы чужие.
— А-а! — разочарованно протянула девочка. — Ну, ладно! Все равно… Пошли!
— Куда? — Владик оглянулся на избу, не видно ли родителей.
— Играть.
— В футбол? — поднялся Владик.
— Нет, мы уже в футбол наигрались... Ребята в офицеров играют!
— Я не умею...
— Все равно… Пошли!
Владик снова взглянул на окна избы, решая, нести книгу в комнату или оставить здесь. Он положил ее возле яблони и побежал к калитке.
— Тебя зовут как? — спросил Владик.
— Нюша, а тебя?
— Владик.
— Как?
— Владик!
Нюша хмыкнула:
— У нас так никого не зовут… Я думала – ты Коля!
— Почему?
— Так… Ты на Колю похож.
— На какого?
— На Колю, и все!
Владик был разочарован тем, что в деревне никого не зовут так, как его. Странно было и то, что он на Владика вовсе не похож, а похож, оказывается, на Колю.
— Во–он наша школа! — показала Нюша на темно–коричневую крышу большого дома, выглядывавшую из–за верхушек деревьев за прудом.
— Ты в седьмой перешла? — спросил Владик, взглянув на школу.
— Нет, я только в пятый!
— Да-а! — удивился Владик, девочка была с него ростом, и добавил: — А я уже в седьмой!
— Я в классе самая большая! — ответила Нюша, почувствовав разочарование в голосе Владика..
Они свернули за угол дома и пошли между заборов по узенькой ухабистой улочке. Издали слышались ребячьи голоса. Нюша прибавила шагу. Улочка кончилась быстро, и Владик с девочкой оказались на берегу речки. Неподалеку от них на пригорке толпились ребята с палками в руках. Один из них целился палкой в небольшую чурку, поставленную в отдалении на попа.
С этого вечера Владик подружился с деревенскими сверстниками. Утром, проснувшись, он выскакивал на крыльцо и заглядывал через забор в соседний палисадник, не видно ли во дворе Нюши. Если девочка была там, он одним махом слетал с крыльца и бежал за угол избы к забору, разделявшему палисадники, где с обеих сторон густо росла малина. Раздвигал колючие ветви Владик, пробирался к забору. В этом месте доски внизу прогнили от сырости и держались только на верхних гвоздях. Их можно было легко раздвигать и забираться в соседний сад. Нюша на другой же день после знакомства показала ему тайный лаз. Владик осторожно пролезал в дыру, прятался в малиннике и тихонько свистел. Нюша, услышав, бежала к нему. Владик с восхищением смотрел сквозь листья, как развевается от бега подол серенького сарафана, хлопает ей по ногам.
— Идем? — шепотом с бьющимся сердцем спрашивал у девочки Владик, сидя на корточках в малиннике.
Чаще всего Нюша, блестя глазами, кивала и шептала:
— Жди меня у пруда!
Но иногда она уныло приседала рядом с ним, и он чувствовал, как немеет его сердце.
— Валька не пускает… — не глядя на него, грустно отвечала Нюша.
У Нюши было два пятилетних брата–близнеца, за которыми со старшей сестрой Валей, они присматривали по очереди.
В день отъезда из деревни Владик, как обычно, убежал с девочкой на речку. Безымянная речушка, огибавшая полукругом деревню, кое–где расширялась, образуя озерки с илистым дном. В одном из таких озерков купались ребята. Возле берега, там, где они входили в воду, дно было твердое, прибитое ногами, но под кустами возле камышей по–прежнему был ил. Ребята в воде часто играли в «нырки», играли и в тот день. Владика в воде поймать было не просто. Ловкий, гибкий, плавал и нырял он здорово! Мальчишки завидовали. В последний день в деревне он особенно резвился, старался для Нюши. В нем с утра жило волнение: сегодня нужно было сказать девочке, что он напишет ей письмо и будет ждать ответ, а следующим летом приедет обязательно, но как сказать об этом, он не знал, стеснялся. Всякий раз, выныривая из воды, смеясь и вскрикивая, чтобы обратить на себя внимание «водившего» мальчика, он искал глазами Нюшу. Она стояла возле камышей в воде по пояс и следила за игрой. Под конец игры, когда у Владика зашумело в голове от воды, почти все мальчишки выбрались на берег и грелись в траве на солнце, подбадривая «водившего» мальчика Колю, мальчика щупленького и неприметного. От такого без труда можно было уйти, даже если он подплывет к тебе на расстояние вытянутой руки. Владик, ныряя стал раз за разом приближаться к берегу, где все еще по пояс в воде стояла Нюша. Коля гнался за ним. Едва Владик в очередной раз вынырнул из воды, как вдруг резко ударило в глаза черным. Рот и ноздри забило вонючей жижей. Владик задохнулся, захрипел, от испуга не понимая, что случилось. Но, услышав хохот, понял, что в него кинули грязью. Он нырнул, стал, лихорадочно дрожа, смывать под водой грязь с лица, выплевывать изо рта, прочищать пальцами глаза. Вынырнув, он увидел смеющуюся Нюшу, хохочущего Колю возле берега. Владик бросился к нему. Дрожь и ощущение позора не проходили. Коля — на берег! Владик догнал его и яростно толкнул в спину. Коля легко, как пустое ведро, полетел в кусты. Владик кинулся за ним, но его поймал за руку самый крепкий из ребят. Имя его забылось. Он задержал и крикнул, смеясь:
— Не трожь! Это не он!
— А кто! Кто! — злобно орал Владик.
Он рванулся, вырвался и снова кинулся к Коле, который в это время вылез из куста. Парень сильно толкнул Владика, и теперь он полетел в кусты в то же самое место, откуда только что выбрался Коля. Владик вскочил и бросился на парня. Тот ловко ухватил его за руку и вывернул ее за спину.
— Это не он, говорят тебе! Не он! — крикнул парень сердито.
— А кто же! Кто?! — крутился в его руках Матцев.
— Нюшка!
— Не ври! Пусти, гад!… Врешь ты!
— Нюшка, скажи! — крикнул парень.
Владик перестал биться в его руках и взглянул на девочку. Она по–прежнему стояла в воде.
— Я… — ответила Нюша.
— Ты! — вскрикнул Владик.
— Я…
Владик рванулся, вырвался, схватил свою одежду и, не оглядываясь, бросился по тропинке к деревне. Вслед ему кто–то засвистел. Владик бежал, пока не стал задыхаться. Всхлипывая и икая, он спустился к реке, влез в кусты ивняка, раздвигая гибкие прутья, сел на землю и заплакал. Плакал он долго, чувствуя жалость к себе…
Лежа в спальном мешке на нарах, Матцев ощущал такую же горечь и жалость к себе, как и тогда, в детстве.
В землянке было тихо. Только изредка слышались сонные вздохи десантников. Владик видел, что щели в брезенте, закрывавшем дверной проем, стали заметнее, яснее. Начинало светать. Владик пытался вспомнить сон, но ничего конкретного не вспоминалось, помнилось только какое–то неясно–счастливое состояние и вдруг — удар в лицо, мгновенный испуг, вонючая жижа во рту, боль и резь в глазах. И в этот миг он проснулся.
Так и не вспомнив подробностей происшедшего с ним во сне, Матцев, все еще хмурясь, потихоньку выбрался из мешка и начал снимать свитер, намереваясь заняться гимнастикой на берегу озера. Заметив, что Андрей Павлушин тоже проснулся, открыл глаза, он подмигнул ему. Андрей улыбнулся.
15
Матцев втоптал в песок возле самой воды небольшое бревнышко, встал на него, присел на корточки и начал умываться. Вода, тяжелая, коричневая на вид, приятно холодила щеки, шею, грудь. Владик уже привык к темно–рыжему цвету воды таежных рек и озер. Неподалеку от него умывался, урчал Звягин.
— Холодная, зараза! Ух! — выкрикивал он. Умылся наскоро и побежал к землянке, на ходу поспешно вытираясь полотенцем.
Владик выпрямился и, стоя на прежнем месте, начал до красноты растирать грудь полотенцем. «Хорошо, комаров и гнуса уже нет, — думал он. — Не дали бы понаслаждаться!»
Он увидел возле кострища Анюту и направился к ней, накинув полотенце на плечо.
— Давай–ка, я разожгу.
Девушка протянула ему спички.
— А я умоюсь как раз… Надо бы воды принести… из ручья!
— Я сгоняю! — крикнул Андрей, слышавший разговор, и подбежал к ним.
— Дуй! — указал Владик на ведра.
Павлушин подхватил их и помчался в глубь тайги.
— Анюта, погоди! — остановил девушку Владик, когда она повернулась, чтобы идти к землянке. — Отнеси полотенце…
Девушка остановилась.
— Анюта, слушай… как это… как тебя в детстве звали? — спросил Матцев, волнуясь.
— В детстве! — удивилась девушка, потом усмехнулась. — По–всякому! А что?
— Ну все–таки как? Анюткой, Нюткой… — подсказал он быстро.
— Нюшей, Нюшкой! — засмеялась девушка.
— И деревня твоя неподалеку от Кирсанова, рядом с железнодорожной линией? Так?
— Откуда ты знаешь?
— Знаю, я все знаю! — не удержался от возникшей вдруг радости, засмеялся Матцев. — Я все про тебя знаю!.. Ну ладно, иди, иди, умывайся. А то с голоду нас уморишь!
Он смотрел вслед удаляющейся девушке и думал: «Она! Невероятно… Встретить здесь!.. И ни за что не узнать в ней ту девочку! Нюша, казалось, вырастет бой–бабой, а эта скромна, тихоня! В детстве только с мальчишками и играла, а теперь парней сторонится…»
За завтраком Владик не мог без улыбки смотреть на Анюту. Он искал черточки на ее лице, прихваченные из детства, и находил много знакомого, только сильно преображенного временем: все в ней стало нежнее, женственней, как–то закругленней. «Столько времени видел в поселке и не мог узнать, — думал он с сожалением. — Сказать ли ей об этом?»
— Ты чего смеешься? — спросила Анюта, перехватив его взгляд.
— Долго рассказывать, — улыбаясь, ответил он. — После расскажу!
Андрей насторожился. Разговор этот ему не понравился.
16
Десантники с утра снова взялись за лопаты, начали рыть землянку для временного котлопункта. Выбрасывая песок из ямы, Гончаров прислушивался — не стрекочет ли вертолет? Сегодня должны были привезти трелевщик. Гончаров видел, как вертолеты переносили трубы, опоры для буровых, вагончики, но чтобы по воздуху трактор, этого ему видеть не приходилось. Прислушиваясь к звукам моторов вертолетов, Гончаров впервые обратил внимание на то, как часто они летают над тайгой. Чуть ли не каждый час доносилось стрекотание. Гончаров поднимал голову, надеялся увидеть приближающийся вертолет, но все они пролетали стороной. И только перед обедом стрекот начал нарастать, приближаться, потом появился вертолет. Под ним на тросах висел трелевочный трактор. «Идет! — заволновался Гончаров. — Стекла вроде целы!»
Десантники выбрались из ямы, столпились на поляне. Ломакин вытянутой рукой руководил спуском. «Хрястнет сейчас оземь, стекла посыпятся!» — тревожно думал Гончаров. Ему казалось, что вертолетчики слишком быстро опускают трелевщик. Но те были опытные люди: в метре от земли спуск замедлился. Гусеницы плавно коснулись песка. Вертолет по инерции спустился ниже, едва не коснулся колесами крыши трактора.
— Раздавишь кабину! — рявкнул Гончаров, прикрываясь рукой от ветра, поднятого винтами.
Голос его утонул в шуме мотора.
Вертолет сел рядом с трактором. Десантники направились к нему. Только Гончаров остался возле трелевщика. Он вскочил на гусеницу и заглянул в кабину, осмотрел приборы. Все было в порядке, все на месте. Потом быстро окинул взглядом мотор, успокоился и тоже подошел к вертолету.
Вертолетчики с достоинством важных гостей, которые уверены, что их с нетерпением ждали, сошли на землю.
— Как дела, робинзоны? — спросил Михась, чернобровый и черноусый толстяк. — Обосновались?
— Обосновались! — жали им руки десантники.
— Вы нам вертолетную площадку готовьте… Больше в песок садиться не будем!
— Завтра начнем, — ответил Ломакин. — Привезли чего–нибудь?
— Так! По мелочи… Много из–за того дурака не возьмешь! — кивнул Михась на трактор.
Ломакин встал на ступеньку железной лестницы вертолета и заглянул в салон. В хвосте лежали брезентовые тюки. «Слава Богу, палатки есть!» — отметил про себя бригадир.
Десантники должны были установить две палатки для плотников и лесорубов. Плотники начнут строить первые дома поселка, а лесорубами станет бригада Ломакина.
— А когда контейнер с утеплителем будет? — слез со ступеньки Борис Иванович.
— Завтра… потом мы в город полетим… Книжки посмотреть?
— От тебя дождешься, — проворчал Ломакин.
— Ну и ворчливый ты к старости становишься! — засмеялся Михась.
Он знал, что Ломакин собирается летом уходить на пенсию, мечтает в земле копаться, сад разводить и собирает книги по садоводству. Борис Иванович уже купил в небольшом тамбовском поселке, Мучкапе, который покинул сорок с лишним лет назад, дом с приусадебным участком. Там его сейчас обживала жена.
17
Вечером Звягин зажег лампу в землянке и, потирая руки от удовольствия, расположился на нарах за шахматами напротив Ломакина. Сашка включил транзистор, который сразу заскрипел, запищал на разные лады. Сашка покрутил ручку, поймал музыку и уселся рядом с шахматистами. Гончаров и Колунков молча расправляли спальные мешки, собирались ложиться отдыхать. Андрей вытащил из–под нар рюкзак и начал его развязывать, а Матцев подошел к брезенту, за которым были нары Анюты, и постучал по нему, говоря:
— Тук–тук!
— Кто там? — шутливо откликнулась девушка.
— Я — мальчиш–плохиш! — подхватил их тон Звягин, не скрывая ехидства.
— Почтальон Печкин, — ответил Анюте Матцев, не обращая внимания на слова Звягина. — Телеграмма из Кирсанова!
— Почтальону можно, — отозвалась девушка.
Она лежала на нарах поверх спального мешка, укрывшись своей оранжевой курткой. Владик присел с краю возле нее.
— Устала? — тихо спросил он.
— Намаялась…
— Ну–ка, посмотри на меня, — серьезно сказал Матцев.
— Смотрю, — засмеялась она.
— Ты внимательней смотри, внимательней! Помнится, тебе в вертолете говорил, что где–то видел тебя… Узнаешь?
Девушка покачала головой, поднимаясь. Перед ней быстро промелькнули те места, где она могла встречаться с Владиком: город Кирсанов; та злополучная поездка в Тамбов к тетке, но тогда она и на улицу не выходила; тамбовская больница, где она не один раз бывали с мужем…
— Нет… не узнаю…
— Владик ведь такое редкое имя, у вас в деревне никого так не зовут, — подсказал он.
— Да, не зовут… А разве ты у нас был?
— Если бы не был, то не знал, что в деревне есть Танюха, у которой большой сад, а в саду растет пышечка! Ведь это верно, верно! — испугался Матцев, что Анюта сейчас скажет, что нет у них в деревне такой женщины.
— Верно! — протянула Анюта, вглядываясь в Матцева, и вспомнила робкий свист из кустов малины, белоголового мальчика — Владик! Ты к бабке Петровне приезжал! Ты! Владик! — вскричала она и засмеялась, вскочила от возбуждения с постели. — Я помню, помню! Но я тебя сроду бы не узнала!
Матцев, смеясь, взял за руки Анюту и посадил рядом с собой. Она послушно села. Он обнял ее за плечи.
— А помнишь, какая ты была худая, костлявая, длинная! А сейчас, сейчас какая! — Он, все обнимая одной рукой за плечи, отстранился и начал разглядывать ее, будто бы они только что встретились. Все это он делал естественно, совершенно не думая, то ли говорит.
— А ты–то, ты–то! — возбужденно и радостно смеялась Анюта. — Вспомни!..
— Ну да, представляю… — хохотал Владик. — Ох, и любил же я тебя, худую! — воскликнул он неожиданно для себя.
— А я! Я каждое утро ждала твоего свиста из малинника! Так и выглядывала — нет ли тебя там? — подхватила Анюта.
— И ты любила?! — воскликнул он.
— А то нет!
Они встретились сияющими глазами и увидели друг друга теперешними. И замолчали! Он вспыхнул, смутился и тихонько снял руку с ее плеча.
— А я бы тебя сроду не узнала, — повторила Анюта, поправляя кофточку на груди и не глядя на Владика. В голосе ее чувствовалась жалость, что они уже другие, что прежнее невозвратимо ушло.
— И я бы не узнал, если бы не сон…
— Ты меня во сне видел? — улыбнулась она уже по–другому, как–то робко.
— Нет… Помнишь, как ты меня тогда… в воде… грязью? Я ЭТО видел!..
— Я же нечаянно!.. — испугалась Анюта, что все то светлое, возникшее между ними, уплывет, рассеется, и начала оправдываться. — Мы же играли… А ты обиделся! Убежал… Ты все сердишься?
— Ну что ты! — снова воскликнул Владик. — Я же мальчишка тогда. Глуп был!.. Сколько же лет прошло? Десять? Да, десять! Ровно десять… Как ты жила эти годы? Что тебя сюда привело?
— А что ты видел во сне? — спросила она, в свою очередь.
Владик рассказал.
— Я это не в первый раз вижу, — закончил он, почему–то чувствуя волнение. — Видел, когда от жены ушел… Я ведь уже женатым побывал. Нехорошо у нас с ней кончилось… Нехорошо! — проговорил он мрачно и как–то встрепенулся, взглянув на девушку.
— Ты мне расскажешь? — тихо спросила Анюта.
— Расскажу… — кивнул он, забыв свои недавние рассуждения о том, что только дураки бывают с женщинами откровенными, открывать им душу ни в коем случае нельзя. — Да–да, расскажу, но не сейчас… Потом…
— Конечно, конечно, — быстро сказала Анюта и осторожно дотронулась зачем–то пальцем до его руки, но тут же отдернула свою руку, как от раскаленной плиты, улыбнулась тихонько и вздохнула: — Я тоже замужем была…
— Ты!
— Да! Сразу после школы вышла… За того Колю… Помнишь, на которого ты подумал, что это он тебя грязью…
— A-а, маленький такой!
— Он вытянулся. Не меньше тебя сейчас!
— И что же вы?
— Не надо, Владик… Ладно?
— Ну да, ну да! — Он снова обнял ее за плечи и бережно прижал к себе, говоря: — Не сладко, видно, пришлось?
— Не сладко… Верно… — Она опустила голову.
18
Разговор с Владиком взбудоражил Анюту, вернул в прежние деревенские дни. Мужики в землянке затихли, а она не спала, вспоминала детство, городского мальчишку с чудным именем, Колю, пожилого учителя истории, который всегда подшучивал над ними с Колей, подшучивал он добродушно, а она обижалась, вспоминала деревенский клуб, куда так тянуло в весенние вечера, особенно в последнее лето перед свадьбой. Тогда она только что сдала выпускные экзамены в школе, чувствовала себя взрослым, самостоятельным человеком, работала в колхозной столовой, помогала повару: картошка в ее руках под ножом крутилась ловко и быстро, только пальцы мелькали да картофельная кожура все удлиняющейся лентой свисала в ведро; убирала со столов посуду, легко и гибко скользила по столовой, толкая впереди тележку. Приятно было ловить взгляды парней, приятно сознавать что ты молода, хороша собой, что тобой любуются, а особенное счастье было чувствовать, что ты любима тем, кого любишь сама, ожидать его, ежеминутно взглядывать на дверь, не он ли входит в столовую. А когда появлялся Коля, неторопливо и старательно мыл руки над раковиной, стоя спиной к залу, хотелось подлететь к нему, подать полотенце.
А как хорошо было вечером, после духоты столовой, пробежать по меже огорода на речку с полотенцем в руке, кинуть сарафан на ветку ивы, бултыхнуться разгоряченным телом в нагретую за день воду и плыть, с шумом поднимая ногами брызги. А потом клуб, Коля, притихшая ночная улица деревни, скамейка в шелестящем саду или на крыльце избы. И так каждый день, каждый вечер, каждую ночь до самой свадьбы! Свадьбу играли в сентябре, бабьим летом. Столы стояли в саду, под яблонями с поредевшими листьями. Пахло антоновскими яблоками и счастьем, нескончаемым счастьем!
Свекровь, сорокалетняя бойкая женщина, шутливо жаловалась соседкам, гордясь собой, сыном, снохой:
— Сын–то что отчупил, а? Того и гляди бабушкой сделает! А я ить сама еще троих родить могу!
Осень и зима промелькнули быстро: счастливые дни летят незаметно. Анюта в первые дни после свадьбы с волнением и испугом прислушивалась к себе, пытаясь обнаружить признаки зарождающейся жизни. Шли дни, месяцы, ничего не происходило. Испуг сменился надеждой, но надежда все обманывала и обманывала.
_ Что–то молодые твои ленивые такие, не торопятся! — говорили соседки свекрови.
— А куда им спешить! Сами еще дети. Пусть поживут, — отвечала свекровь, но каждый месяц, заметив, что Анюта прихворнула, недовольно спрашивала: — Опять пришли?
Анюта виновато опускала голову.
Осенью из Тамбова к матери приехала в отпуск сестра Раиса Павловна, Анютина тетка. Работала она врачом в городской больнице. Анюта, смущаясь, поделилась с ней, что они с мужем хотят маленького, а он почему–то не получается.
— Родишь еще, — успокоила Раиса Павловна. — Живете–то всего год… Да и тебе восемнадцать только. Это не двадцать восемь, беспокоиться нечего. Успеешь! Я–то в тридцать лет родила!
Анюта знала историю своей тетки. Раиса Павловна никогда не была замужем. Молодость ее совпала с годами войны, ровесники не вернулись с фронта. Когда Раиса Павловна поняла, что ей не суждено обзавестись семьей, она решила родить ребенка и стала искать подходящего для своей цели мужчину. Увидела однажды в кинотеатре рослого красивого офицера и поняла, что сын ее должен быть таким. После сеанса она долго шла за офицером по улице, не решаясь подойти. Наконец решилась, остановила его. Они присели на лавочку, и Раиса Павловна рассказала офицеру, зачем он ей нужен… Родила она дочь, и до сих пор не знает даже имени ее отца. В этом году перед отпуском Раиса Павловна проводила в первый класс своего внучка.
Прошла и вторая зима, а весной свекровь направила сына со снохой в Тамбов в городскую больницу. Там через две недели стало ясно, что Коля не может иметь детей.
— Теоретически–то возможно, — пояснил доктор. — Но слишком маленький шанс! Все равно, что в лотерею «Волгу» выиграть. Выиграть–то можно, а попробуй–ка!..
— И сделать ничего нельзя? — спросил ошеломленный Коля.
— Практика показывает, что бесполезно что–либо предпринимать… Придется вам смириться. И без детей живут люди…
— Как же без детей! — воскликнул Коля, не веря услышанному. — Я — без детей! Нет, это невозможно! Не может быть!
Все лето Коля пил таблетки. В августе снова поехал в Тамбов. На этот раз один. Вернулся через неделю, пьяный. Ночью в постели прижимался к Анюте, плакал. Плечо у нее было мокрое от его слез. Плакала и она.
— Как же без детей жить, а! Зачем жить–то! — повторял он, всхлипывая.
Анюте страшно было слышать эти слова, страшно сознавать их правду.
— Может, еще будут? — шептала она дрожащим голосом. — Может, будут! Врач говорил…
Утром она слышала, как свекровь раздраженно ворчала на сына.
— Распустил сопли… Разнылся! Врачу поверил… Им, врачам–то, только бы отвязаться… Где это ты видел, чтоб мужик детей иметь не мог? Все у тебя на месте, все при тебе! Баб бесплодных сколько угодно встречала, у нас в деревне их несколько, а чтоб мужик… Это уж ты брось!
Анюте обидно стало слышать это, больно! Она шумно встала с кровати, чтобы свекровь поняла, что она не спит. Свекровь замолчала.
Коля с тех пор стал все чаще возвращаться с работы пьяным. Ходил хмурый, злой, Анюта ластилась к нему, успокаивала, убеждала, как и свекровь, чтобы не верил врачу, все будет у них в порядке. Он еще больше злился, кричал:
— Что вы меня, как маленького, уговариваете!
Счастливые дни остались в прошлом. Анюта мечтала, что они вернутся и все пойдет, как прежде. Но Коля становился все раздраженней, а в редкие теперь минуты нежности говорил, что она уйдет от него, не станет жить с бесплодным. Ей странно было представить это: так живы были в памяти недавние счастливые переживания. Все чаще она вспоминала встречи с Колей до замужества, первые дни жизни в его доме. Потом стала мечтать, как родится у них мальчик, как Коля бросит пить, станет прежним. Все больше она становилась мечтательной, начала жить в вымышленном мире. В столовой она, забывшись, спохватывалась вдруг, глянув на часы: обед прошел, а маленький дома не кормлен, плачет теперь, надрывается. Анюта бросалась к двери, ругала себя, мол, какая же она мать! Но в дверях останавливалась, вспомнив, что ребенка у нее нет, да и никогда не будет.
— Куда это ты? — удивленно спрашивали у нее.
— Да так, — вяло возвращалась она назад.
И по ночам, проснувшись, она прислушивалась тревожно, не плачет ли маленький. Потом вспоминала и начинала тихо плакать сама. Однажды ночью ей спросонья послышался детский плач. Анюта вскочила с постели, зашлепала босыми ногами по полу, бросилась к тому месту, где хотела поставить детскую кроватку, испугалась, не найдя ее там. Куда же кроватка делась? — озиралась она в полутьме, пока не вспомнила. В эту ночь впервые подумалось ей — не пойти ли по пути Раисы Павловны. Анюта представила себя с другим мужчиной и брезгливо передернулась. Какая гадость! Как только в голову такое приходит? Она нежно обняла мужа, прижалась к нему. Коля проснулся, повернулся к ней, тоже обнял. Она почувствовала прежнюю нежность. Рядом он, родной, единственный, и всегда будет рядом, всегда, что бы там ни было! Но неприятный запах перегара вернул к действительности, и она заплакала.
— Анюточка! — горячо зашептал Коля. — Я вижу… мучаешься ты! Уходи от меня, брось! Я конченый человек, а ты–то… Тебе и двадцати еще нет. Тебе–то зачем страдать!
— Молчи! — закрыла ему рот ладонью. — Не уйду я никуда!
Он притих, потом обреченно прошептал:
— Уйдешь ты, и я жить не стану! Пропаду! Зачем жить тогда?
«Пропадет? — с тоской думала Анюта. — Надо что–то делать! Но что? Что?!» Ей было жалко и его, и себя…
19
Приближался отпуск, и Анюта решила съездить в Тамбов к Раисе Павловне дней на десять. Походить там по магазинам, сделать кое–какие покупки. Коля посадил ее на проходящий поезд в пять часов вечера, до Тамбова езды всего несколько часов. Засветло должна быть у тетки. В вагоне было мало людей. Коля устроил ее на свободное сиденье у окна, поднял сумку на верхнюю полку, и они вместе вышли в тамбур. Поезд стоял недолго.
Анюта вернулась в вагон, села и стала смотреть, как проплывают мимо знакомые с детства деревья, река, поле. Кто–то подошел и сел напротив. Она даже не посмотрела в его сторону. Взглянула лишь тогда, когда услышала:
— Муж?
Посмотрела недоуменно. Вспомнила, что парень этот был в тамбуре, когда она прощалась с Колей, и молча кивнула.
— Только поженились? — продолжал расспрашивать парень.
Анюта хотела отвернуться: какое ему дело до нее? Но лицо парня чем–то притягивало, что–то напоминало. Видела ли она парня где? Анюта ответила правду:
— Давно женаты… три года!
— Да-а! — удивился парень. — А молодые какие… Мне под тридцать, а я еще не знаю, что такое семейная жизнь!
— Напрасно… — ответила Анюта и поняла, чем притягивало ее лицо парня. Он был удивительно похож на Колю: такие же русые волосы, только у парня длинней и аккуратней, такой же сплющенный нос, карие глаза, но взгляд какой–то нагловатый и вместе с тем беспокойный. Вспомнилось мгновенно ночная мысль о том, чтобы пойти по пути Раисы Павловны. Анюта представила себя с парнем и вяло отмахнулась от видения.
— В Тамбов или дальше? — расспрашивал парень.
Анюта ответила.
— К тетке?
— А как ты догадался?
— Так ты же с мужем в тамбуре разговаривала…
Они познакомились. Парня звали Романом. Жил он в Тамбове, возвращался домой из командировки.
В Тамбове, помогая Анюте сойти по ступеням вагона, Роман приобнял ее за талию и сказал, неприятно поблескивая глазами:
— Мне так жалко расставаться с тобой! Завтра суббота, давай встретимся? Я покажу тебе город… Не пожалеешь!
Анюта высвободилась из его руки. И снова мелькнула ночная мысль. Она хотела отказаться от встречи, но вспомнила слова Коли: «Я жить не стану! Пропаду!» И Анюта неожиданно бросила коротко, мучительно краснея:
— Где?
— Где хочешь? В парке давай…
— У входа! В три часа дня… Ждать не буду! — быстро проговорила Анюта, не глядя на парня, подхватила сумку и с бьющимся сердцем направилась в здание вокзала, вышла в противоположную дверь, спустилась по ступеням и через площадь двинулась к троллейбусной остановке, думая: «Что я сделала! Что я сделала!»
«Я могу и не прийти, — подумала она в троллейбусе. — Завтра решу!»
Но пришла…
20
С каждым днем поляна на берегу озера преображалась, теряла свой вековой вид. Следы трелевщика исполосовали ее вдоль и поперек. Начала расти первая палатка. Она неожиданно для Павлушина оказалась вместительной, громадной, чуть ли не с барак величиной. Андрей представлял ее большой, но не такой громоздкой, поэтому думал, что установят быстро, не понимал, когда бригадир говорил, что с палатками им придется повозиться.
Ломакин, зная, что Матцев с Павлушиным дружны, поставил их на валку леса для взлетной площадки вертолета. Бревен для нее нужно было много, в три наката. Пилили деревья, таскали бревна трелевщиком и сооружали площадку несколько дней. В эти дни рядом с Матцевым Павлушин стал чувствовать себя неспокойно, стал нервничать. Раздражало то, что Владик открыто ухаживает за Анютой, раздражали шутки Матцева, но девушке они нравились, она отвечала на них смехом. Когда Анюте требовалась помощь: дров наколоть или воды принести из речки, она звала Матцева.
— Давай я принесу, — отзывался иногда Андрей.
— Неси, — подавала она ведро.
«Владику дает ведро по–иному, душевней, как близкому человеку! — хмуро думал Павлушин, шагая к реке по тропинке. — Неужели она такая наивная? Разве трудно вычислить, чем это кончится? Разве не видит, как он с Наташей обошелся? Красавец!»
Вечера Владик проводил с Анютой за брезентом. Андрей, чтоб не подслушивать, крутил ручки Сашкиного транзистора или подсаживался к шахматистам, забивал на высадку, но обычно в первой же партии его самого высаживали. Чаще всего это делал Звягин. Андрей у него ни разу не выиграл… И по ночам Павлушин стал просыпаться. Проснется от какого–либо шороха и начинает прислушиваться, не Матцев ли это крадется к Анюте или, может быть, он уже у нее. Андрей сам понимал, как нелепы и смешны его страхи, но ничего поделать с собою не мог. По утрам он неприязненно окидывал взглядом ладную фигуру Матцева, занимающегося гимнастикой…
Валили они лес по очереди. Один пилит, а другой «вилкой», длинным шестом с насаженным на конец стальным двузубцем, толкает дерево, направляет, чтобы ложились они рядышком. Так проще цеплять тросом к трелевщику. В первые дни чаще пилил Матцев. Получалось у него ловко, легко. Даже звук мотора пилы не менялся. Мотор работал ровно, спокойно, попыхивал дымком, словно крутил цепь вхолостую. А у Андрея то сердито фыркал, то недовольно выл, то захлебывался, переставая крутить цепь. Андрей, толкая дерево, внимательно следил за пилой в руках Матцева, старался понять, почему она не капризничает. Потом и он научился по звуку мотора определять, когда нужно прижать к стволу, когда шевельнуть ею, освобождая от излишней нагрузки.
В полдень, свалив очередное дерево, Владик шумно выдохнул, прислонил к вкусно пахнувшему пню сосны пилу, снял каску, положил ее на пень, сел на комель только что сваленной сосны, сплюнул, устало оперся локтями о колени и стал смотреть, как Гончаров цепляет тросом деревья к трелевщику неподалеку от них. Андрей воткнул в землю «вилку» и увидел среди деревьев оранжевую куртку Анюты. Она с ведром в руке направлялась к речушке. Захотелось побежать к ней. Павлушин взглянул на Владика. Матцев тоже увидел Анюту и поднялся, поправил мокрые от пота волосы.
— Попились–ка сам… Я сейчас… — бросил он Павлушину и, хрустя сучьями, бодро зашагал наперерез девушке.
Андрей проводил его хмурым взглядом и взялся за пилу. Она показалась ему необыкновенно тяжелой. Павлушин примерился к ровному темному стволу кедра, взглянул вверх, выбирая, с какой стороны делать надрез, и осторожно, тихо опустил пилу на землю. Он увидел, как с ветки на ветку перелетела белка и сразу потерялась среди густых пучков игл. Андрей стал искать ее глазами и заметил, как белка перелетела на соседнюю сосну, где ветки были не столь густы. «Ух ты какая! — пошел Павлушин следом, стараясь не упустить ее из виду. — И шума не боится!» Белка проворно и бесшумно карабкалась по веткам, перелетала с сучка на сучок, пряталась за стволы и тут же с любопытством выглядывала. Потом снова ловко прыгала на другое дерево. Андрей осторожно ступал по мягкой хвое следом за ней. Он еще ни разу не видел белку, и его поразил коричневый пушистый и упругий комочек. Вдруг до него долетел смех Анюты. Андрей вздрогнул, взглянул в ту сторону и увидел девушку. Она, позвякивая ведром, убегала от Матцева, громко и тонко смеясь. Павлушин следил из–за дерева, как она легко и проворно прячется от Владика за стволы деревьев, приседая на бегу под сучьями. Андрей заметил, что Матцев мог бы ее поймать, но он только делал вид что старается схватить. И Анюте это нравилось.
Павлушин повернулся и тяжело побрел назад, думая об Анюте. Она же знает, что Владик жил с Наташей. Что она думает? Почему хотя бы из–за женской солидарности не отвратительны ей ухаживания Матцева?.. А Владик? Тому–то что надо? Играет современного донжуана? Жену оставил в Тамбове. В поселке сошелся с Наташей. И здесь сразу же к другой! Думая об этом, Павлушин морщился, пилил сосну. Он, видимо, слишком волновался, нервничал, и мотор бензопилы начал сердиться, недовольно ворчать. Сосна наконец дрогнула и стала, похрустывая, крениться. Андрей выхватил пилу из ствола и отошел в сторону. Дерево гулко ударилось о ствол спиленного ранее кедра, охнуло и, постанывая, улеглось рядом.
— Дела идут? — с веселым видом вернулся Матцев.
— Не стоят, — не глядя на него и не скрывая раздражения, ответил Павлушин.
— Мы чем–то недовольны?
— Слушай, Владик! — решительно поднял голову Андрей. — Ты, кажется, женат?
— Ну! — одновременно и подтверждая и спрашивая, — что с того, — протянул Матцев.
— Не лезь к девчатам! Оставь в покое Ан… Анюту!
— Что это ты забеспокоился? — засмеялся Матцев, берясь за ручку пилы.
— Нет, ты меня не понял! Я говорю, оставь девушку в покое!
— Это уж мое дело… Бери «вилку»! — сердито ответил Матцев.
— Нет, мое! — Павлушин цепко схватил его за плечо и повернул к себе. — Ты меня понял?
Матцев опешил, удивленно уставился на Андрея. Они молча глядели друг на друга некоторое время, словно каждый ожидал от другого действия или проявления слабости. Владик понял это, усмехнулся над собой–чудак! — и сбросил со своего плеча руку Павлушина.
21
Вечером Колунков лежал на спине на нарах, подстелив под себя, как обычно, спальный мешок. Он закинул ногу на ногу, постукивал носком в шершавое бревно низкого потолка, дергал струны гитары и тихонько напевал что–то себе под нос. Олег не любил выходные дни и те вечера, когда не валился в постель от усталости. Нужна была работа, работа или сон, лишь бы не думать, лишь бы не вспоминать. Спалось хорошо тогда, когда ныли мышцы. Сегодня он весь день укладывал утеплитель между стенок палатки. Работа кропотливая, но физически легкая… И снова вставала перед ним прошлая жизнь. Вспоминалась Леночка, стояло в голове почему–то одно утро после очередной ссоры. Ссорились они исключительно по вечерам, вернее не ссорились, а скандалили, пошло скандалили, мерзко! В то утро он не позавтракал, после ссор еда в рот не лезла, выскочил на улицу и нырнул в полупустой автобус. Квартира Леночки была на окраине города. Олег сел у окна и провел ладонью по холодному запотевшему стеклу. Стали видны проплывавшие мимо деревья.
Стоял октябрь. Дни были пасмурные. Из серых низких туч иногда начинал сеять липкий ленивый дождь. И в тот день с утра сеяло и сеяло сверху бесконечно и нудно. В автобусе тихо. Люди входят молча. Когда автобус притормаживает на остановках, на Колункова падают крупные капли, просочившиеся где–то сквозь крышу, но Олег не замечает этого. Он ежится на сиденье и грустно смотрит на мокрый асфальт с ярко–белой линией посередине, на почерневшие деревья с редкими желтыми листьями на ветвях, на хмурые стены домов с тусклыми стеклами окон. На душе у Колункова тоже пасмурно и тоскливо…
Поссорился он с Леночкой из–за денег. Работала жена продавцом в универмаге, в обувном отделе. Днем она продавала женские сапоги на «манке», австрийские. Продавцам разрешалось брать по паре себе. Леночка в сапогах не нуждалась, но, как обычно, взяла, надеясь выручить при перепродаже полсотни сверх цены. Но, как на грех, явилась бывшая одноклассница, явилась, конечно, к шапочному разбору, и начала канючить у Леночки. И пришлось ей потерять двадцатку из запланированных. Пришла она домой огорченная и пожаловалась Колункову. Нет бы посочувствовать ей, посопереживать, а он брякнул:
— Нашла из–за чего расстраиваться!
— Да, тебе–то все равно! Тебе наплевать, откуда у нас денежки берутся…
— Я тоже работаю, — огрызнулся Олег.
— Ты работаешь, работаешь на одни алименты! Много наработал…
— Я свои деньги честно зарабатываю! — перебил Колунков и сразу пожалел, что произнес эти слова.
Глаза у Леночки сузились, тонкие брови взметнулись, на щеках проступили злые ямочки — и началось. Что только не было брошено в его лицо? Начала она с того, что с ехидством припомнила, что приняла его нищим… Каких только слов о себе не услышал он! Обидеть, уязвить словом Леночка умела. Она находила такие слова, от которых темнело в глазах у Колункова, и он еле сдерживался, чтобы не ударить ее, заставить замолчать. Он отвечал ей, тоже старался побольней уколоть. И было обидней из–за этого… Вспомнилась первая жена Василиса. Нечастые размолвки с ней никогда не были так грязны, так обидны. Там все было проще и легче. А поступил с ней Колунков жестоко: бросил с трехлетним сыном Дениской, сбежал… Тогда ему казалось, что Василиса не понимает его, что у них разные интересы, его успехи и неудачи не волнуют ее и что рядом с ней он обречен на вечное одиночество. А сейчас перед ним проходят дни, проведенные с Василисой, и кажется, не было лучше дней в его жизни. «Нет гибели тому, что было, чем жил когда–то! Нет разлук и потерь, пока жива душа, пока жива память!» Как хорошо! Как верно! Вспоминается сын Дениска, вспоминается, с какой тревожной радостью ожидали они его рождения. Как бережен, как нежен был он тогда с Василисой!.. Как там теперь сынишка? Забыл ли о нем? Зовет ли папой нового отца? Когда Колунков узнал, что Василиса вышла замуж, ему вдруг стало легче, будто бы часть вины перед ней отпала. Жизнь у нее теперь устроена. Вскоре у Василисы родилась дочь, и он решил, что, слава Богу, теперь все, отгоревала она, теперь он забыт. Да и помнила ли она о нем? — думалось порой. А не все ли равно? Теперь и ему забыть можно! Но почему же не дают покоя слова: «Здравствуй, чужая милая! Та, что была моей…»
Задумался Колунков и чуть не проехал свою остановку. Он, извиняясь, бочком выскользнул из автобуса навстречу входившим пассажирам. На него сердито ворчали. Он в ответ бормотал: «Извините! Извините!» — и плечом вперед пробивался сквозь толпу.
В комнату, где Олег переодевался в рабочую одежду, заглянул прораб и попросил его поработать сегодня на шлифовочной машине. Из раздевалки Колунков отправился на склад, получил противогаз, респиратора не нашлось, марлю и шкурку. Марлю он сложил вдвое и повязал на голову, словно платок, чтобы пыль при шлифовке не попадала на волосы. Потом натянул противогаз и включил машину.
Паркет был дубовый. Положен он еще в двадцатых годах, когда строился этот дом. Много лет пол натирали мастикой темно–вишневого цвета. Она въелась в паркет так глубоко, что, сколько раз ни проходил Колунков машиной по полу, все равно он оставался красноватого цвета. Дышать в противогазе тяжело, да еще запах лака. Недавно в противогазе покрывали полы лаком, и едкий запах остался в нем надолго… То ли от грустных воспоминаний, которые беспорядочно проходили перед ним, наплывая одно на другое, то ли от того, что противогаз был мал и давил на голову, то ли от запаха лака, то ли от резкого и монотонного гуда машины в голове Колункова скоро стало тяжелеть и начала возникать глухая боль. Но он все водил и водил машину по паркету, держась за ее мягкие резиновые ручки, а перед глазами вставало то первое знакомство с Леночкой, когда он приехал в Тамбов в командировку и зашел в универмаг посмотреть, нет ли подходящих для жены туфель, то неожиданная встреча с ней на городском пляже, с которой и началось. В то время он был беспечен, весел, говорлив, любил и умел нравиться девушкам. К концу пляжного дня Олегу и Леночке стало казаться, что они знают друг друга вечность, а то, что они познакомились только сейчас, лишь досадное недоразумение в их жизни. Потом они были у каких–то знакомых Леночки на какой–то вечеринке. Леночка любила вечера с застольями, любила потанцевать. Ах, как она танцевала! Гибкая, тоненькая, хрупкая: во время танца от нее нельзя было глаз отвести! Что там перед ней Василиса? Даже сравнивать неудобно! Жизнь с такой женщиной, как Лена, сплошной праздник, казалось ему тогда.
Дни командировки после знакомства с ней превратились в один день: яркий, красочный, расписной! Это был то ли сон, то ли бред! И казалось тогда, что так будет всю жизнь, всегда, что это и есть настоящая жизнь. Потом был скорый развод с Василисой, смущение и стыд при встречах с соседями и знакомыми, тоска при виде Дениски и слезы, слезы Василисы…
Машина стала плохо снимать слой мастики с паркета, видимо, сработалась шкурка. Олег выключил ее и откинул крышку барабана. Так и есть! Нужно менять шкурку. Колунков стянул с головы противогаз, вытер вспотевший лоб, решил отдохнуть и вышел на лестничную клетку, чтобы не дышать в комнате поднятой пылью. Платок из марли был еще на его голове. Маша Резникова, красившая дверь соседней квартиры коричневой краской, увидела его, засмеялась и сказала:
— Ты сейчас как басмач!
— Нет, я Марья Ванна, — засмеялся и Олег. Он взялся за уголки платка–марли и затянул их под подбородком, кокетливо повел глазами, поджав губы.
Маша снова засмеялась и поглядела на него внимательно.
— Странный ты какой–то! Шутишь, смеешься, а глаза все время грустные. Я давно заметила…
— Какой уж есть, — развел руками Колунков, снял марлю, облокотился на перила и стал смотреть вниз, туда, где два электрика возились со щитком.
Дом был старой планировки. Лестница винтом поднималась вверх. Квартиры коммунальные, с частичными удобствами. Жильцов теперь выселили и отделывали дом под контору.
После работы Колунков увидел на кухне на столе записку. Леночка писала, что поедет сегодня к подруге Насте и, возможно, заночует у нее. Олег покрутил в руках бумажку, кинул ее в мусорное ведро и сел ужинать. Ел он без всякого удовольствия, тупо уставившись в кафельные плитки на стене кухни. На белых глянцевых плитках через одну были наклеены переводные картинки, изображавшие кисти вишен, смородины, клубники, малины, и казалось, что ягоды нарисованы. «Позвонить, что ли, Насте?» — подумал Олег и потянулся к телефону, но вспомнил, как две недели назад в таком же случае позвонил, трубку взяла Лиза, дочь подруги, и ответила, что Леночка сегодня к ним не приходила, у Лизы тут же, вероятно, выхватила трубку мать и заговорила сладким голосом, что Леночка только что ушла от них, ушла она по делам и скоро снова вернется, а Лиза об этом не знала, она сама только что пришла: вспомнил об этом, положил трубку и стал ходить по кухне. Он ходил из угла в угол, сжимал виски пальцами, тихо постанывал и бессознательно повторял и повторял про себя слова песни, которые весь день вертелись в его голове; и тогда, когда он ехал на работу, и когда ходил за шлифовочной машиной, и когда возвращался домой; «Прошлое не воротится, и не поможет слеза… Как целовать мне хочется дочки твоей глаза…»
22
После таких воспоминаний Колунков в посёлке напивался. Утром болел, был угрюм, молчалив, а к вечеру, несмотря на «сухой» закон в поселке, снова находил вино. А как найти здесь? — размышлял он. Может, кто из ребят захватил с собой и утаил на черный день или на праздник? Вряд ли! Если только у бригадира спирт есть? В поселке он пытался лечить свою язву спиртом. Олег заметил, что сегодня Ломакин, работая, изредка морщился и мял руками живот. Значит, язва у него снова проснулась. Надо поглядеть не будет ли он ее спиртом жечь.
Ломакин сегодня в шахматы не играл. Он в очках читал книгу, сидел, ссутулился внизу на нарах, напротив Звягина с Сашкой, расположившихся за шахматной доской. На коленях у Сашки лениво журчал транзистор, потрескивал изредка разрядами, наполнял землянку домашним уютом, напоминал Колункову детство, то время, когда он, лежа на полатях, слушал только что впервые подключенное в деревне радио. Ломакин перед отъездом в тайгу взял в библиотеке медицинскую книгу о язвенной болезни желудка и захватил ее с собой посмотреть, когда образуется свободное время. Днем желудок начал посасывать, щемить. Борис Иванович вспомнил о книге и вечером вытащил ее из рюкзака, решил полистать, поглядеть, может, в ней сказано, чем можно успокоить язву. За спиной бригадира на нарах на боку, подтянув колени чуть ли не к подбородку, по–детски спал под телогрейкой Федор Гончаров. Читая книгу, Ломакин немного приспустил очки на нос и выглядел в них непривычно, смешно, сразу чувствовалось, что пользуется он очками редко. «Медведь в очках!» — усмехнулся Колунков, вспомнив картинку в какой–то детской книжке. Там старая медведица вязала носки, сидя на скамеечке, так же как Ломакин, ссутулившись и приспустив очки на нос.
Павлушин укрепил зеркальце на сучке столба, поддерживающем нары, и брился безопасной бритвой. Утром он не побрился. Щетина выступила на щеках густая, неприятная. Андрей крутил головой, косил глаза, стараясь разглядеть при тусклом свете керосиновой лампы в маленьком четырехугольнике намыленную щеку. Снимая бритвой пену, он неприязненно прислушивался к звукам, доносившимся из–за брезента, пытался понять, что там происходит. Оттуда изредка долетали мягкий смешок Матцева и короткое переливчатое хихиканье девушки. И всякий раз, когда раздавался смех, грудь Павлушина будто бы кто сдавливал, а потом медленно отпускал.
— Пионер, — оторвался Ломакин от книги и снял очки. Он чувствовал себя в них неловко. — Что означает слово гидрокарбонат натрия?
—- Не знаю, — ответил Андрей.
— Как же ты не знаешь? — по–прежнему ссутулясь, недоверчиво глядел на него Ломакин, держа книгу и очки на коленях—Ты же студент!
— Я не химик и не медик… Ты к Матцеву обращайся. Его из химического института выперли! — Андрей последние слова произнес громко, надеясь, что в женской половине услышат их, но сразу пожалел, что сказал. Зло получилось и ехидно. Но никто не заметил этого.
Матцев три года учился в химико–технологическом институте, который, по его словам, он сам бросил и уехал в Сибирь.
— Владик в желудке не разбирается, — отозвался Звягин. — Он больше по половым вопросам!
— Какое слово, Медведь? — свесился сверху Олег.
— Ты лежи там! Тебя не спрашивают, — ответил бригадир Колункову.
— Нет, ты скажи, — не отставал Олег.
— Гидрокарбонат натрия, — сказал Андрей.
— Спирт! — быстро и как–то радостно воскликнул Олег, откинулся на подушку и положил себе на живот гитару.
— Что-о? — посмотрел на него Ломакин.
— Спирт, настоянный на клюкве! Язву желудка лечат только спиртом, ты разве не знал? Можно и водку пить, только запивать нужно клюквенным компотом, — наставительно разъяснил Колунков.
— Чтобы лучше наклюкаться! — вставил Звягин.
— Слушай, Медведь, не финти! — совсем другим тоном заговорил Олег. — У тебя же бутылка есть. Поройся в рюкзаке… Душа горит!
— Она у тебя каждый день горит… Ты же просился сюда, чтобы от водки отстать, а сам… Ну, народ! — Бригадир снова уткнулся в книгу.
— Твою мать, — ругнулся Колунков. — Прав Маяковский: живем как на том свете — ни тебе бутылки, ни пивной! — И, дурачась, энергично затенькал на гитаре и громко запел:
— Любимая, ты яблоня, пушок щеки склоня, как возле черного плетня, стоишь возле меня!Гончаров вдруг забормотал, заворковал что–то во сне, и Колунков умолк.
— Василек! Василечек! Цыпленочек ты мой! — ясно услышали все.
— Цыпленочек опять заговорил, — ласково засмеялся Звягин, поворачиваясь к Гончарову. — Долго он что–то не разговаривал. Бывало, каждую ночь вспоминал…
— Уставал сильно, — также ласково отозвался бригадир.
— О ком он так? — спросил Андрей.
— По сыну тоскует… Должно, опять во сне увидал… — Колунков замер, уловив запах одеколона, раздул ноздри и начал нюхать воздух, застыл, как охотничья собака, неожиданно почувствовавшая впереди запах птицы. Он глянул вниз и пошарил глазами по землянке, задержался на брезенте. Он подумал, что запах одеколона идет оттуда, потом увидел, как Павлушин растирает щеки ладонью, а в другой руке держит пузырек с одеколоном. Из–за брезента послышался Анютин смех. Андрей поморщился, закрутил пробку, сунул пузырек и бритвенный прибор в рюкзак и затолкал его под нары. Колунков с нежной улыбкой наблюдал за ним, словно молодой отец за игрой своего малыша, затем задумчиво почесал небритую щеку, усмехнулся, громыхнул пальцами по струнам и запел:
Мне пала карта — дальняя дорога, мне пала карта — казенный дом… Завел котомку я и проклял Бога: мне участь горькую готовил он, И вот отправился я добровольно…— Что ты заныл? — перебил его Борис Иванович, снова отрываясь от книги, читать которую было скучновато. В ней было много непонятных слов. Это раздражало. — Казенный дом да казенный дом! Воешь, как кобель на луну. Спел бы что–нибудь стоящее!
— Он по казенному дому тоскует, — пояснил Звягин, намекая на то, что Колункова, как алиментщика, разыскивает милиция.
— Это коту ясно… Найдут — упекут! — поддержал Звягина Ломакин.
— Всё! Агушки! Мат созрел! Пятнадцатый ход и ку–ку! — воскликнул Звягин, радостно потирая колени и покачиваясь.
— Давай еще! — требовательно попросил Сашка, разгоряченный проигрышем.
Они начали расставлять шахматные фигуры.
Андрей, чувствуя, что настроение у Колункова благодушное, спросил:
— Ты что, действительно три раза был женат?
— Сколько раз — одному Богу да ему известно… Только у трех жен его дети растут, — ответил за Олега Звягин.
— Да! — воскликнул Андрей. — И все подали на розыск?
— Первой нет среди них! — отозвался Колунков.
— Почему?
— Первая жена у меня Василиса Прекрасная! — Колунков повесил гитару на сучок стойки нар.
— А почему же ты тогда удрал от нее, от Василисы Прекрасной? — удивился Андрей.
— Потому, что я не Иван Царевич!
23
Транзистор мурлыкал что–то себе под нос на коленях у Сашки, потом на мгновенье затих, и в землянку широко вплыли звуки гармошки. Сашка, не глядя, нащупал ручку настройки транзистора и перевел на другую волну.
— Вернись назад! — вскрикнул Андрей, — Вернись!.. Я страх как люблю гармошку, — пояснил он.
Сашка послушно и безразлично нашел прежнюю волну.
— Я и сам когда–то неплохо играл, — сказал Павлушин, слушая вальс.
— В далекой молодости, когда еще в девках был, — продолжил за него Звягин.
— Да, еще до армии… В деревне! — Андрей откинул край спального мешка, взял книгу и общую тетрадь и полез на нары. Нужно было браться за контрольные работы. Две он написал еще в поселке. Осталось три.
Брезент в углу колыхнулся, прошуршал, и появился Матцев. Он, позевывая, лениво подошел к шахматистам:
— Какой счет?
— Большой! — даже не взглянул на него, неприветливо ответил Звягин. В последнее время он не скрывал неприязни к Матцеву. Ему не нравились ухаживания Владика за Анютой. Звягин не любил бабников. Второй год он жил вдали от семьи. Иногда, чаще по ночам, после того, как услышит какую–нибудь грязную историю, связанную с женщиной, он начинал думать нехорошее и о своей Вале. Как она там ведет себя? Не загуляла ли? Он–то здесь и не подумал ни разу ни oб одной, хотя мог гульнуть. Вспоминалось в такие ночи, как Валя шутила при нем с кем–нибудь из его друзей, как отзывалась с одобрением о ком–то из мужиков.
Утром Звягин писал жене, чтобы она была осмотрительней, не дай Бог, если кто скажет о ней плохое, не дай Бог! Валя на такие письма обижалась. Звягин извинялся, объяснял, что писались те слова под настроение, что он скучает по ней, по детям, и, бывает, приходят всякие мысли.
Матцева задел тон Звягина, но он не показал вида, постоял возле игроков, снова зевнул, скучно, мол, с вами, и отвернулся, чувствуя в душе раздражение. Недовольство собой возникло у него сразу после ужина, когда он, затоптав костер, спустился в землянку и не увидел в ней ни Павлушина, ни Анюты, вспомнил дневной конфликт с Андреем и с беспокойным сердцем выскочил наружу. У входа остановился, спрашивая себя, что с ним. Неужели очередная глупость? Ведь убедился, убедился же сам, что с женщинами ничего серьезного не может быть, что только легкие отношения не приносят боли! И опять! Пусть хоть с медведем гуляет! Все равно это неизбежно. Вряд ли есть на земле хоть одна искренняя и правдивая женщина. Притворство дано женщине от рождения. А раз дано, то не надо осуждать, что она им пользуется.
Владик вернулся в землянку и начал стряхивать со спального мешка песок, насыпавшийся со стены, чувствуя себя так, словно ему только что сообщили неприятную новость. Кто–то легонько хлопнул его по спине. Владик раздраженно выпрямился и увидел позади себя Анюту.
— Пропусти! — сказала она весело. — Встал, как медведь. Всю землянку загородил.
Матцев глупо улыбнулся, прижался к нарам, пропустил девушку и спросил:
— В гости можно на чаек?
— Заходи… Сейчас торт приготовлю, — пошутила Анюта.
— А на бутылку? — спросил сверху Колунков. Он уже лежал на своей постели,
— Только со своей.
— Ну-у! Тогда я к вам не ходок! — притворно разочаровался Олег.
А Владик нырнул за брезент вслед за Анютой. Разговаривал он с девушкой, как всегда, шутливо, но все время почему–то чувствовал, что делает что–то не так, как надо бы. Настроение портилось. Посидел с полчаса Матцев, снисходительно чмокнул Анюту в лоб и сказал:
— Спи… Завтра рано вставать.
И вышел. А тут Звягин! Владик уже заметил, что он не скрывает неприязнь. Матцев отошел от шахматистов к своим нарам и взглянул на Павлушина, который сидел наверху рядом с лампой, засунув ноги в спальный мешок, опирался спиной о стойку нар и читал. На коленях у него лежала раскрытая общая тетрадь и ручка.
— Пионер уроки учит, — произнес Матцев насмешливо, стараясь задеть Андрея. Он слышал, как Андрей говорил, что его из института выперли. — Не училось на «большой земле»… И «бабки», и диплом подавай. Так, что ли, Пионер?
Павлушин промолчал, будто не слышал.
— На очное поступать труднее, — сказал Ломакин.
— Он поступил бы. У него медаль после школы!
— А что же ты сам не захотел учиться? До третьего ведь курса дошел, — не выдержал Андрей.
— Не интересно мне это, Пионер! Скукота!.. Это ты каждой шишке еловой радуешься, а мне уж и тайга приелась до смерти. Ехал с вами, думал, новенького что увижу. Но и тут скукота! — Матцева вдруг понесло, начало выплескиваться раздражение. — Звягин меня заинтриговал поначалу, а пригляделся — типичный куркуль! Я думал, он идею в себе носит, а у него внутри кубышка с деньгой!
— Кубышка как таковая меня не интересует, — спокойно ответил Звягин и заговорил медленно, словно сам с собой. Глядел он на шахматную доску. — Я за деньгами сюда приехал и не скрываю этого! Поработаю еще малость и домой! Домишко у меня есть. Хозяйство тоже. Машину заведу и буду жить по–человечески! Я хочу прожить жизнь в достатке… Чтобы ни в чем ни себе, ни детям не отказывать… Хватит с меня того, что я в детстве вместо ботинок в галошах на босу ногу в школу ходил, босиком туда не пускали! Молока вдоволь не пил…
— Во, видали! Я говорю, куркуль, типичный куркуль! Подамся я, видно, к бичам. Ну вас к чертовой матери! Там хоть люди интересные есть!
— А обо мне ты что думаешь? — усмехнулся Андрей.
— Ты — Пионер, и этим все сказано! Немало и таких повидал. Газет начитался, наслушался шелухи разной, и подавай тебе романтику на тарелочке. Прижмет мороз — первым рюкзак под мышку подхватишь и домой, к маменьке. Там легче книжечки почитывать…
— Я все время предполагал, что ты человек поверхностный, — сказал Андрей. — Видать, не ошибался! Глубже надо смотреть! Глубже! А ты по поверхности скользишь, пену одну видишь, от того тебе и скучно. Никакой я не романтик! Хотя ничего плохого в романтике не вижу. Я скорее всего рационалист! Но это не мешает мне красоте таежной удивляться… Только тупой не видит красоты здешней!.. А ехал я сюда не за романтикой и четко представляю, что мне нужно… Здесь каждый человек на виду: были бы способности, а проявить их не трудно! Я рожден организатором..! Пока я получу диплом, а у меня уже и опыт, и авторитет будет!
— Тебе надо было на БАМ ехать, — сказал Ломакин. — Там бы на тебя скорей внимание обратили!
— И над этим я думал, — повернулся к бригадиру Андрей. — Лет пять назад я бы туда махнул. А теперь нет! Здесь не менее грандиозная стройка, но она как бы в тени БАМа, и проявить себя здесь можно быстрей… А ты — романтика, мороз! — вновь обратился Павлушин к Матцеву, — Не испугаюсь я морозов! Не испугаюсь!
— Но и высоко не взлетишь! — по–прежнему насмешливо произнес Матцев. — Слишком ты нетерпеливый, трепыхаешься все. Окрутит тебя какая–нибудь бабенка, вроде Анюты, и крылья свесишь!
— Не будет этого! Не будет! Холостяком я, конечно, не собираюсь оставаться. Может, даже женюсь пораньше, чтобы время на девчат не тратить!
Павлушин заканчивал говорить, жалея, что не выдержал и раскрылся, ляпнул о тайных мыслях, с которыми ехал в Сибирь. Зря! Глупо!
24
«Куркуль! И здесь куркуль! Почему?» — с горечью и обидой думал Звягин. Он лежал в спальнике на боку лицом к стене. Посапывание слышалось, вздохи усталых мужиков. Гончаров то постанывал, то как–то грустно и жалко всхрапывал, казалось, что он кому–то жалуется во сне. Но не слышал этого Звягин, думал о своем. «Почему… Кому я мешаю? Кого ущемляю тем, что хочу деньги заработать и жить по–человечески. Ведь не ворую же… Честно хочу, честно, своими руками… Ну ладно, в Тамбове Плюшкиным прозвали… Понять можно, хоть и обидно… Человеку надо, наверное, для самоуважения чувствовать себя выше кого–то из своих близких. Ведь и я, если честно, тоже себя выше Колункова ставлю, хоть он и институт кончил, и книжку написал, но спился, загубил себя, значит, он хуже меня… Или Гончаров: алкаш, замухрышка, бесцельный, пропащий человек. И я не раз подшучивал над ним, должно, он обижался на меня… Не надо никого ниже себя ставить, все мы хорошие и плохие одновременно, все одинаковые, все люди. И зачем мы поддеть друг друга стремимся, зачем?.. В Тамбове даже пэтэушники Плюшкиным звали, сопляки, жизни не видели, не понимают ни хрена… И этот — куркуль! А ты–то кто, ты–то за каким хреном в тайгу приполз? Что же ты свою зарплату не переводишь в фонд Мира, если не куркуль если деньги тебе не нужны? — разговаривал про себя Звягин с Матцевым. — Плюшкин! Жмот! Были бы все такими Плюшкиными! Попробовал бы своими руками дом поднять, посмотрел бы я, где бы вы брали какую–нибудь поганую доску. Как будто ее в магазине купить можно, а я со стройки пер…» — Звягин повернулся на другой бок, задел за стену ногой. Песок зашуршал, посыпался вниз… Кажется, только Колунков понимал его, не выпендривался, не подшучивал, когда он во время обеда или перекура начинал высматривать, нет ли где обрезка доски, куска рейки или еще чего–нибудь, что могло пригодиться при постройке дома. Если ничего подходящего на глаза не попадалось, то после работы, прежде чем идти в бытовку переодеваться, Звягин обходил вокруг строящегося дома, осматривал мусор, сброшенный с балконов, траншеи, не хотелось возвращаться домой с пустыми руками. Он слышал, как смеялись плотники: мол, смотрите, Плюшкин мышкует! Особенно любил посмеяться над ним Зотов, невзрачный мужичишка на вид, корявый, колючий, ехидный, с узким, словно сплющенным серым лицом, с большим носом, чем–то напоминающим нос ерша. Он почти ежедневно снабжал бригаду плотников трехлитровой банкой самогона, который тут же за обедом выпивался. Звягин редко участвовал в выпивках. Деньги нужны. Сегодня выкинь рубль, завтра… Да и какая работа после стакана мерзкого самогона? А ведь ему работать и дома, пока не стемнеет. Одно лето он со своим отцом ладил дом для себя, шелевал, обхетывал, а теперь сам ставил сараи для угля и дров, для кур, для поросенка. Дел невпроворот, не до веселья. И то, что Звягин не пил вместе с бригадой, отчуждало его, отъединяло ото всех. Потому и охотней всего подсмеивались над ним. Вспомнилось, как Зотов позвал его однажды в комнату, где пэтэушники чистили железными скребками пол, чтобы настелить линолеум.
— Звягин, поди сюда скорей! — крикнул Зотов.
Звягин подошел, заглянул к ним в комнату.
— Забирай, — указал Зотов в угол на дерьмо. — Сгодится на удобрение!
И захохотал.
И пэтэушники, мерзавцы, вслед за Зотовым: Плюшкин! Жмот! Сквалыга! Увидят щепку, поднимут, кричат: Плюшкин, на! В хозяйстве сгодится!
Звягин один раз зажал двух подростков в комнате, отметелил: присмирели дня на три, а потом опять — Плюшкин! Куркуль! Неужели и здесь начнется? Еще раз услышу от Матцева — и молча в зубы!.. Он здоровый бугай… Пусть лучше отметелит, чем — куркуль… Грустно было Звягину, а ведь с первого дня понравилось в Сибири. Повезло, попал к Ломакину. Бригада его тогда строила жилые дома, штамповала по шаблону. Дома–близнецы рядышком выстраивались, как солдаты, ровно, в рядочек, и скучно. Звягин припомнил тогда, как они с Валей выбирали проект для своего будущего дома: сотни изучили, но все не по душе. Тогда они разные элементы четырех проектов соединили вместе, и получилось то, что хотелось. Вспомнил об этом, поговорил с Ломакиным. Борис Иванович сначала недоверчиво отнесся к его проекту деревянного дома, мол, долго строить его, а у них главная задача — быстрей. Но следующий дом он делал для своей семьи, а проект понравился, и для пробы решил поставить. Ставили не дольше, чем те, стандартные. И пошло. Каждый раз, для каждого дома Звягин что–нибудь новое выдумывал. И как–то сам себя зауважал после этого, уверенней стал и почему–то добродушней. И вот опять — куркуль! Неужели прежнее возвращается? Не засыпал он долго. Стало казаться, что мешает храп. Храпели двое: Гончаров и Ломакин. Бригадир храпел уверенно, вольно, по–хозяйски, безостановочно, как мотор, а Гончаров как–то суетливо, быстро, словно боялся, что его прервут, не дадут нахрапеться. А Колунков не храпел, каким бы пьяным не был, замирал — дыхания не слышно. Жил с ним Звягин в поселке в одной комнате. Звягин, когда просыпался там среди ночи, прислушивался, дышит ли Колунков, не окочурился ли по пьянке? Были такие случаи…
25
Утром Матцев, как всегда, первым выбрался из землянки, с горечью вспоминая вечерний разговор. Что с ним происходит? Почему он сорвался? О скукоте какой–то трепаться начал! Нервы сдают? Почему? Неужели устал, выдохся! Было грустно… Занятый своими мыслями, Владик не сразу обратил внимание на то что тайга за ночь изменилась, на необыкновенную тишину вокруг. Лишь тогда, когда снял свитер и кинул его на ветку, увидел, что дерево густо обросло инеем. Матцев огляделся: деревья, трава, обе землянки, почти готовая палатка на поляне — все вокруг замерло, побелело, посеребрилось инеем.
— Ух ты! — раздался сзади возглас Звягина. — Ребята! — заорал он. — Выходи! Такое раз в жизни видишь!
Из землянки выскочил Сашка, за ним — Андрей, раздетый до пояса.
— Э–ге–ге! — закричал Сашка и тряхнул тонкую сосенку.
Иней облаком пополз вниз, посыпался на голову и на спину Андрея. Он взвизгнул и помчался за Сашкой. Анюта выбралась наверх, улыбалась, радостно вертела головой. За ней, позевывая, вылез Гончаров.
Морозец прихватил озеро возле берега тонким хрупким стеклом. Матцев ладонью легко продавил лед и начал умываться, слушая, как сзади, шурша сапогами по заиндевевшей траве, бежал к озеру Звягин, громко напевая:
— Зима идет, зима торопится!
Звягин остановился неподалеку, разбил сапогом лед и фыркнул:
— Холодная, зараза!
Владик, сидя на корточках, повернулся к нему и сказал, чувствуя волнение:
— Миша, ты за вчерашнее извини… Не обижайся, ладно?
—- А за что? — поднял голову Звягин, делая вид, что он не понимает о чем речь, хотя приятно было слышать такое от Матцева.
— Вечером–то наговорил я…
— A-а! Да брось ты! Я и обижаться не думал! Чепуха! — бодро и небрежно ответил Звягин. Все–таки неплохой мужик Матцев.
— Я и сам не понимаю, как это из меня дерьмо полезло, — улыбнулся виновато Владик.
— Чепуха! — повторил Звягин и побежал к землянке, громко крича: — Зима идет! Зимы приветы!
«Как хорошо, что я извинился! — радостно думал Владик. — Славный он малый. Врет, что за деньгами приехал… Те, кто приполз за рублями, жмоты… А он полтысячи Калгану отвалил взаймы, не спрашивая, зачем тому нужно… Я бы и то подумал, прежде чем связываться с таким, как Калган!»
Весь день у Владика было благодушно грустное настроение. Хотелось всем говорить и делать хорошее. После ужина он помог Анюте вымыть посуду, потом попросил:
— Пошли, посидим у костерка!
Анюта сняла с гвоздя у входа телогрейку, и они вышли, набрали сучьев и расположились на поляне. Было тихо, прохладно. Крупные звезды отражались в воде. Небо так низко опустилось к тайге, что, казалось, верхушки сосен, того и гляди, коснутся звезд.
Огонь трещал смолистой хвоей, разгорался быстро. Владик рубил сучья на чурбачке и подбрасывал в костер, а Анюта сидела на пеньке возле и глядела, как языки пламени, радостно и жадно шипя, набрасываются на свежие сосновые ветки. Тепло огня приятно гладило щеки, нагревало рукав телогрейки.
Матцев воткнул топор в чурбачок и молча сел рядом с девушкой.
— Хорошо как на пламя смотреть, — проговорила Анюта. — Оторваться нельзя!
Владик вспомнил, что жена его, Марина, говорила, что это чувство осталось у человека от его предков, и промолвил тихо:
— Марина тоже любила на огонь смотреть…
— Кто это? — взглянула на него Анюта.
— Жена… Мы с ней часто выезжали с палаткой в лес… Сидим вот так у костра вдвоем на берегу Цны… Она стихи любила читать.., Лирическая была…
— Ты любил ее?
Владик усмехнулся грустно, обнял за плечи девушку и, помолчав, ответил:
— Казалось, никто так никого не любил до меня и после любить не будет…
— Вы вместе учились?
— Да! В одном институте… Она на курс старше… Я ведь в армии служил. С ней моя одноклассница в группе была. Она и познакомила… Марина росточка небольшого, лицо маленькое, вытянутое немного вперед, как у лисы. Я ее Лисой звал. Ей это нравилось…
Владик замолчал, вспоминая, как летом после экзаменов на первом курсе он встретил Марину на Советской улице. Она шла в Дом пионеров, где была организована выставка детского технического творчества. Марина узнала его, остановилась, склонила голову чуточку набок, такая у нее была милая привычка, и, глядя на него сквозь большие стекла солнцезащитных очков, предложила прогуляться. Марина была в широком сарафане, тонкие бретельки которого завязаны бантиком на плечах. И вся она как–то светилась под солнцем. Они свернули в переулок и стали спускаться вниз, к каналу. Мягкий от жары асфальт тротуара был весь истыкан тонкими каблучками.
Дом пионеров стоял на высоком берегу среди густых деревьев. Марина и Владик неспешно поднялись по широкой лестнице на верхний этаж. В здании было тихо, безлюдно, только в зале бродили несколько человек, удивленно рассматривавшие экспонаты. Не верилось, что эти сложные машины сделаны руками детей.
— Посмотри, как здорово! Посмотри сюда! — Марина то и дело дергала за руку Владика, перебегала от большой модели атомохода к роботу, двигающему ритмично железными трехпалыми руками и беспрерывно мигающему глазами–лампочками. И каждый раз, слыша восхищенный вскрик девушки — посмотри сюда! — Владик умилялся и с удовольствием следовал за ней. Владик впервые узнал, что восхищение — основное свойство характера Марины. Ее все восхищало: пышные цветы на городской клумбе, жалкая одинокая головка ромашки в траве на берегу реки, какая–либо безделушка в квартире знакомого, плеск речной волны от пробежавшей моторки. Восхищалась она постоянно, восхищалась, как ребенок, попавший в солнечный день на весенний цветущий луг. Радуясь, она ослепительно расцветала, распускалась, как бутон тюльпана на солнце, и все вокруг невольно восхищались ею. «Не играла ли Марина роль восхищенной девочки?» — думал теперь Матцев. Все может быть! Но если и играла, то играла талантливо.
Тогда в Доме пионеров, спускаясь по лестнице, она воскликнула, указывая в окно:
— Гляди–ка! Вид какой!
Они остановились возле окна на лестничной площадке. Он невольно касался горячей ее руки. Владик не помнил сейчас, какой вид поразил тогда Марину. Из окна высоко стоявшего на горе здания, вероятно, далеко был виден другой берег канала с широким полем, со вспененными кустами на берегу, с дальним лесом. В то время он был поглощен ощущением горячей руки девушки, запахом ее волос. На лестнице никого не было кроме них, никто не поднимался и не спускался. Шаги в тишине раздавались бы резко. Владик быстро наклонился и с гулким сердцем клюнул губами плечо Марины возле милого бантика. Девушка не отстранилась, не смутилась: она повернула к нему голову и взглянула сквозь очки так, словно он сделал что–то удивительно милое. Тогда он быстро прижал ее к себе, неловко поцеловал в губы и зарылся лицом в волосы. Он чувствовал на груди сквозь сорочку теплое дыхание Марины.
— Хватит, — шепнула она ему в грудь и легонько провела ладонью по спине Владика.
В тот день они катались на лодке по каналу, расплескивали веслами солнце. Потом почти каждый день купались и загорали вместе. Как приятно было плыть рядом с Мариной, смотреть, как она смешно раздувает щеки, плотно сжимая губы, чтобы вода не попадала в рот! Марина любила, когда Владик брал ее на руки в реке и бежал с ней по мелководью. Вода бурлила, пенилась вокруг, ласкала. Ночами он томился, подолгу думал о Марине, вспоминал ее голос, руки, милый наклон головы и восхищенные глаза, с нетерпением ожидал утра, чтобы снова бежать на берег реки, где будет ждать его, непременно будет, она, она! А Марина в эти самые ночи спокойно, а может, и не спокойно, а с обычным своим восхищением, спала с деканом Владикова факультета, который когда–то был учеником ее отца и, будучи аспирантом, часто приходил к ним. Чем мог поразить воображение девочки этот женатый человек, сутулый, насмешливый, с пышными кучерявыми бакенбардами и такими же пышными усами, нависшими над тонкой губой? В те дни Матцев ничего не знал, не догадывался, был убежден, что и она его любит, и она с нетерпением ждет свидания…
— А вот любила ли она меня, — сказал Владик вслух, — трудно понять!
— А вы долго жили? — спросила Анюта.
— Месяц и два дня! — усмехнулся Владик.
— Да-а! Почему так?
— С любовником захватил…
— В медовый месяц?! — воскликнула Анюта.
— Да, в медовый…
Вспомнилось, как тогда влетел в комнату за забытым конспектом и онемел от ужаса, как кинулся назад, как с визгом метнулась к нему Марина, пытаясь удержать, как дрожал, суетливо одевался жалкий любовник и как нестерпимо хотелось оттаскать его за ноздревские бакенбарды!
— А любовником у нее был декан моего факультета, — заговорил Владик, глядя в огонь. — И знали об этом все, весь институт… кроме меня!..
— Из–за этого ты и институт бросил?
— Понимаешь, я резвился, как младенец, а все вокруг знали, что с моей женой спит декан. Как ты думаешь, кем я им представлялся? Что они обо мне думали?.. Я и сейчас без содрогания не могу думать об этом! Разве я мог узнать и потом прийти в институт, встретить приятелей… Это не по мне…
— Ты ее больше не видел?
— Нет… И документы из института не брал… Я вроде бы там до сих пор студентом числюсь, — усмехнулся Владик. — Отец в каждом письме требует, чтобы я вернулся…
Матцев нагнулся, поднял палку и поворошил дрова в костре. Искры засверкали вверх. Он снова заговорил о жене:
— Вряд ли Марина сама понимала, что и зачем делает?.. Вообще–то некоторые мудрецы говорят, что единственное оружие женщины, данное ей природой, — хитрость… От этого идет их коварство и непреодолимое стремление к обману…
— А она тебе не написала ни разу?
— Пишет…
— А ты?
— А я ее письма не читаю.
Да, он не читал ее писем, не распечатывал, но и не выбрасывал, складывал в стопочку и перетягивал резинкой. А писала Марина часто.
26
Небо хмуро нависло над тайгой и задумалось, замерло на два дня, решая, ждать ли, когда мороз пройдется по рекам и озерам, или одеть землю белым одеялом до его прихода. Тайга тоже притихла в ожидании. Мороз запаздывал, и на деревья, нерешительно планируя, упало несколько крупных прозрачных хлопьев снега. За ними еще и еще. И вот уже смело и густо посыпались невесомые большие хрупкие комья. Они бесшумно падали на телогрейки рабочих, рассыпались на мелкие снежинки и сползали вниз, на землю. Верх собранной палатки быстро побелел. Палатка улыбалась распахнутой дверью, повеселела и как бы присела от удовольствия, стала ниже.
Десантники собирали вторую, укладывали утеплительные плиты между брезентом. Андрей и Сашка носили плиты из контейнера, от вертолетной площадки. Когда Андрей возвращался со стопкой плит, он видел сквозь негустую пелену снега Матцева возле землянки. Он, установив полено на пенек, взмахивал топором, доносился глухой удар, и половинки полена разлетались с пенька. Владик ставил на пенек новое полено и снова взмахивал топором.
Анюта простудилась. Борис Иванович после утреннего чая заставил ее лечь в постель, полежать. Матцев наколол дров, сложил их стопкой возле входа в землянку–столовую, часть спустил вниз, сушиться, набрал новую охапку и пошел в жилую землянку, в которой тоже появилась печь, сваренная из обрезка трубы. Владик потихоньку опустил дрова на пол возле печки, стоявшей между нарами посреди землянки, снял рукавицы и приоткрыл край брезента. Анюта не спала, глядела на него блестящими глазами.
— Ну как ты? — спросил Владик так, как спрашивают у заболевшего близкого человека.
— Холодно — пожаловалась Анюта.
— Сейчас растоплю!
Матцев начал возиться возле печки, размышляя вслух:
— Может, тебя все–таки отправить вертолетом в поселок? Сейчас прилетит…
— Зачем? — ответила девушка. — Полежу с часик и пойду обед готовить!
— Лежи… Сами приготовим…
— Вот еще, — перебила Анюта. — А я на что?
Огонь загудел в печке.
— Сейчас тепло будет, — говорил Матцев, снимая спальный мешок со своих нар. — А пока я тебя укрою!
Он накрыл спальником девушку и сел на край нар.
Анюта коснулась ладони Матцева, говоря;
— Спасибо.
Владик взял ее руку в свою, наклонился и перецеловал пальцы, потом прижал горячую ладонь девушки к своей щеке, думая о своей и ее жизни. В тот вечер у костра она тоже рассказала ему все, ничего не скрывая.
— Согрелась? — спросил Матцев, не отнимая ладони от щеки.
— Ты со мной, как с больной! — тихонько засмеялась Анюта. — Чуточку температура появилась, а они…
— Чуточку! — передразнил Владик. — А озноб? Это что?
— Не озноб, просто холодновато!
— Я тебя сейчас мигом согрею! — проговорил Матцев скидывая с себя телогрейку, приоткрыл край брезента и швырнул ее на свои нары, где лежала его серая заячья шапка, потом снял валенки, повторяя: — Сейчас я тебя мигом согрею!
Он прилег рядом с Анютой и обнял ее, прижал к себе.
— Пока через мешок тепло твое дойдет, сам замерзнешь, — засмеялась Анюта.
— Выбирайся тогда из мешка. — Матцев нашарил на груди девушки язычок замка–молнии и потянул его вниз.
— Не надо! Не надо! — испуганно вскрикнула девушка и поймала его руку, не давая открывать молнию. — Ты что?
27
Павлушин, проходя с плитами мимо открытой двери палатки, услышал стон, приостановился, потом быстро отнес плиты Звягину и бегом вернулся назад. В просторной палатке был полумрак, и Андрей не сразу увидел бригадира, сидевшего в темном углу на ящике.
— Борис Иванович, что с вами? — бросился к нему Павлушин.
— Ничего, ничего… — ответил Ломакин хрипло, попытался улыбнуться. — Желудок проклятый… Язва… Пройдет! Не в первый раз…
— Идемте в землянку, полежите немного, — нерешительно взял его за рукав Андрей, не зная чем помочь.
— Не надо. Пройдет… Соды бы сейчас…
— Я принесу! — кинулся Андрей из палатки.
— Сашке… Сашке не говори…
Павлушин выскочил на улицу и побежал к землянкам.
— Анюта! — влетел он в ту, что служила столовой. Посреди нее стоял стол, Наскоро сколоченный десантниками. В одном углу — железная плита. Вдоль стен — полки с продуктами в ящиках и пакетами. Анюты в землянке не было. Павлушин быстро осмотрел полки и, не найдя соды, выскочил на улицу и бросился ко входу в жилую землянку.
— Анюта! — снова крикнул Андрей, распахнув дверь.
— Погоди! — испуганно вскрикнула девушка за брезентовой перегородкой.
— Там… Ломакину плохо… Сода нужна. Где у тебя сода? — тяжело дышал Андрей, не понимая, почему так испуганно остановила его девушка.
— Сода? — спокойнее, но все–таки взволнованным голосом переспросила девушка. — В картонном ящике… на второй полке с краю от входа. Вода кипяченая в чайнике! — проговорила она быстро и добавила: — Уходи!
Она боялась, что Андрей увидит рядом с ней в постели Матцева и черт знает что подумает.
Если бы не последнее слово, Павлушин выскочил бы на улицу, ничего не заметив. Он был возбужден. Видно, здорово скрутила язва Ломакина, раз такой здоровенный мужик согнулся. То, как отреагировала Анюта на его появление в землянке, не удивило Андрея. Может, она переодевалась? Мало ж что? Но последний вскрик девушки насторожил его. Андрей почувствовал, что Анюта не одна. Он увидел телогрейку Матцева, небрежно брошенную на нары. Рядом лежала серая шапка с завязанными назад ушами. Из–под брезента выглядывал большой валенок… Андрей услышал стук своего сердца. Захотелось рвануться к Анюте. Но он удержался, испугался того, что может увидеть, откинув брезент. Павлушин сглотнул холодный и горький комок, сгорбатился и медленно вышел из землянки. Остановился у входа, огляделся, не видя ничего вокруг. Снег шел хотя и крупными, но редкими хлопьями, сквозь которые хорошо были видны палатки и копошащиеся рядом люди. Но для Андрея все вокруг было сумрачно и бело. Он сжал грудь ладонью и бросился бежать в сторону второй землянки. Он не помнил о Ломакине. Ему хотелось убежать подальше от этого места. Пробегая мимо входа в столовую Андрей споткнулся о кучу песка, припорошенную снегом, вспомнил, что нужна сода. Ломакин! Павлушин спустился в землянку. «Где сода? Где, она сказала, сода лежит? Где–то на второй полке?» — вертелось в голове, а в груди ныло и горело. Андрей торопливо дрожащими руками стал перебирать картонные коробки на второй полке, заглядывая в них. Но сода все никак не попадалась ему. Наконец, пройдя вдоль стен по всей землянке, возле самого входа с другой стороны он нашел пачку соды, распечатал, и, не зная, сколько нужно, сыпанул дрожащей рукой в кружку на глаз, налил из чайника воду и попробовал смесь на вкус. Вода в чайнике была холодная. Андрей почувствовал, что глоток воды с содой приглушил жжение в груди. Он, давясь, большими глотками выпил всю кружку. Насыпал снова соды, налил воды и выскочил на улицу. Ломакин теперь заждался. Ему казалось, что Борис Иванович послал его за содой давным–давно. Выбежав наверх, Андрей увидел Матцева. Владик только что вышел из землянки и уверенным шагом направлялся к палаткам. Андрею нестерпимо захотелось догнать Владика, сделать ему что–то такое, чтобы и ему стало больно. Как он ненавидел Матцева сейчас! Как ненавидел!
С востока, с той стороны, откуда падал снег медленными влажными хлопьями, слышен был приглушенный снегопадом стрекот вертолета. Рокот мотора ширился, стремительно нарастал, и, когда Андрей подошел к палатке, где ожидал его Ломакин, показался вертолет с контейнером на тросах. Павлушин нырнул в дверь палатки. Бригадир все в той же позе сидел в углу. Он быстро схватил кружку из руки Андрея и стал жадно глотать воду. Потом спросил:
— Привез он что–нибудь?
— Контейнер.
— Слава Богу, — выдохнул Ломакин, — завтра, может, палатку закончим… Примите груз! Я посижу малость…
Андрей вышел, думая, что сейчас волей–неволей придется встречаться с Матцевым. Десантники шли к площадке, над которой завис вертолет. Все ждали почту, вестей от родных людей. Звягин волновался: в прошлый рейс почту не привозили. Неужели и на этот раз ничего не будет? Даже Колунков, которому, в общем–то, ждать хороших вестей неоткуда, с надеждой посматривал на вертолет. Павлушин побежал догонять десантников, напуская на себя веселость. Он слепил на бегу снежок и врезал им издали в широкую спину Сашки. Тот оглянулся, быстро зачерпнул ладонями снег и кинулся за Андреем. Павлушин, смеясь, побежал от него к озеру.
— Ишь, бычки! Разыгрались! — сказал Звягин.
«Не понял он ничего!» — подумал Матцев, взглянув на смеющегося Андрея.
28
Вертолет медленно опускался на бревенчатую площадку, вихрем развевая снег. Спокойный, важный снегопад превратился вокруг него в бушующую вьюгу. Хлопья попадали в струю воздуха, разлетались в разные стороны, липли к щекам, набивались за шиворот и таяли там. Вертолет сел на бревна, проминая шины колес, поурчал и умолк, хотя винты продолжали со свистом рассекать воздух в наступившей тишине. Свист перешел в шипение, шипение — в шуршание, стали видны лопасти, которые вращались все медленнее и медленнее, концами натруженно провисая вниз.
Вертолетчик Михась открыл дверь и спрыгнул вниз. Десантники подошли к нему, стали по очереди жать руку.
— Письма привез? — спросил Звягин.
— Там твоя жена всю почту письмами да посылками завалила! Хотели спецрейс заказывать, чтобы почту разгрузить! — ответил Михась и повернулся к открытой двери салона, — Вася! Давай–ка сюда посылки! А одну оставь, за труды! — пошутил он.
Второй вертолетчик, молодой парень, вынес посылку и подал вниз Звягину, говоря:
— Яблочки, антоновка!
— Откуда ты знаешь? — спросил Звягин.
— Чую… Пахучая, зараза!
— Верь ты ему! Чует! — засмеялся Михась. — Мы их всю дорогу жрали!
Звягин хотел отойти с посылкой от двери, но молодой вертолетчик остановил его:
— Погоди! Еще есть.
— А Ломакин где? — спросил Михась, отвернувшись от Звягина.
— Приболел… — ответил Андрей.
— Я ему книги привез, — сунул Михась руку за пазуху и вытащил две брошюры.
Сашка взял книги и взглянул на обложки. Обе они были по садоводству.
— Ты письма давай! — сказал нетерпеливо Матцев.
Десантники стояли вокруг довольного общим вниманием вертолетчика. Смуглое лицо Михася поблескивало от удовольствия и жизнерадостности, от возможности пошутить после напряженного полета в снегопаде, хорошо не таком сильном. Видимость все–таки приличная.
— Письма вам еще пишут, — делая улыбку снисходительной, ответил Михась. — Ну что, Вася, готово? Полетим! — повернулся он снова к двери вертолета, намереваясь выйти из окружения десантников.
Матцев схватил его за куртку.
— Письма давай! А то сейчас разденем, в одних трусах полетишь!
— Отстань! Письма ему, Письма! — весело передразнил Михась. — Влезу в кабину, напишу сразу всем… Ну ладно уж, на те письмо, только отстань!
Он вытащил из–за пазухи конверт Матцеву.
Владик хотел было, взять, но Михась отдернул руку, взглянул на адрес и сказал:
— Ну вот, видишь! Не тебе, Звягину! Миша! — отыскал он глазами Звягина, который, присев на корточки возле тугого колеса вертолета, пытался гвоздем открыть крышку одного посылочного ящика. — Держи–ка письмо!
Звягин быстро поднялся и взял конверт, радостно узнавая почерк жены.
— Доставай, доставай, — снова затеребил Михася Матцев.
— Ну, прилип!
Тогда Владик сунул руку вертолетчику за пазуху. Михась стал, смеясь, отбиваться. Сашка бросился помогать Матцеву. Шапка, вертолетчика свалилась на землю. Гончаров поднял ее. Андрей, Олег и Гончаров не вмешивались, следили за возней ребят. Наконец, Сашка с Владиком скрутили Михася. Матцев вытащил из бокового кармана куртки вертолетчика несколько конвертов и отбежал в сторону.
— Ломакин Александр! — начал выкрикивать он, взглядывая на адреса, и раздавать товарищам письма. — Павлушин! Ломакин Александр! Это мне… Анюте. — Оба конверта он сунул в карман. — Звягин! Еще Звягин!.. Действительно, жена Звягина письмами засыпала, — засмеялся Владик. Письмо, которое получил он, было опять от жены, Марины. И это ему было приятно.
Звягин отодрал крышку ящика и увидел крупные яблоки, уложенные ровными, рядами среди деревянных стружек. Он взял одно, понюхал его с удовольствием и воскликнул, поднимая ящик на руки:
— Ребята, налетай! Из собственного сада!.
Крепкие антоновские яблоки казались особенно пахучи и вкусны здесь, в тайге, среди молчаливых хлопьев снега.
Когда вертолет улетел и десантники направились к палаткам, Колунков толкнул в бок Гончарова и тихо сказал:.
— Погоди!
Только они вдвоем не получили писем. Разочарование и грусть испытывал Колунков. Он все время будто ждал какого–то чуда, которое повернет его жизнь по–иному, сделает так, как было раньше, в молодости. И сейчас у него было такое ощущение, будто кто–то поманил его, поманил и скрылся. Олег показал Гончарову пузырек одеколона, почти полный.
— Дернем?
— Где ты взял?
— Там больше нету…
Они отстали.
Ломакин сидел в палатке с несколько повеселевшим, умиротворенно задумчивым лицом. Он прислушивался к боли внутри себя, которая нехотя, медленно рассасывалась, уходила. Когда Сашка ворвался в палатку, Борис Иванович оживился.
— Опять схватило? — спросил Сашка участливо, усаживаясь рядом с отцом.
— Прошло, прошло! — ласково похлопал Ломакин по спине сына.
— Вот, Михась привез! — протянул ему книги Сашка.
— Ай да Михась! — воскликнул Борис Иванович радостно. — Я думал, он не достанет! Думал, треплется…
Звягин поставил на землю возле ног Ломакина открытый ящик и указал на яблоки:
— Бери! Сам сажал. — Потом кивнул на книги. — Зачем они тебе?
— Летом уйду на пенсию и сад буду разводить, — ответил Ломакин, наклоняясь за яблоком. Звягин почувствовал, что говорить на эту тему Борису Ивановичу приятно. — Домик я уже купил. Участочек есть… Сейчас там жена живет, и Ира с Андрюшкой туда отправились. Раньше я всю семью с собой таскал… Пора на прикол. Язва, проклятая, замучила…
В двери палатки шумно появился Олег Колунков, за ним, наоборот, стараясь быть незаметным, бочком проскользнул Гончаров.
— Вот они где спрятались! — весело и громко говорил Олег. Увидел кружку на ящике возле Ломакина, взял ее, заглянул внутрь. — Ни глоточка не оставили… Вот жлобы!
— Там на плите ведро стоит, — усмехнулся Борис Иванович. — Хоть по уши залейся!
— Что это от тебя одеколоном несет? — подозрительно взглянул Андрей на Олега. Почувствовав запах, он вспомнил, что утром после бритья не смог найти в рюкзаке одеколон. — Ты куда пузырек дел? Я весь рюкзак перерыл… Взял, положи на место!
— Какой пузырек? Не видал я никакого пузырька, — сделал Олег удивленное лицо и, улыбаясь, отвернулся от Андрея.
— Ты не там искал. — Гончаров вытянул из кармана телогрейки Колункова пузырек, в котором теперь еле плескалось на дне.
— А-а! Этот? — протянул Олег так, словно он только что понял о чем идет речь. — Этим я одеколонился! Можешь забирать. Мне не жалко!
Ребята засмеялись.
— Вылакал? Тьфу! — сплюнул Ломакин.
29
Тайга побелела, похорошела, как невеста в фате, притихла, наслаждаясь и не веря, что она может быть такой красивой. Эта красота поразила Анюту, когда она вышла из землянки. Девушка замерла, улыбаясь зачарованно, постояла немного, вдыхая прохладный тугой воздух, и неторопливо пошла по засыпанной снегом тропинке к речке. Снег большими рыхлыми хлопьями падал на ее вязаную шапочку, невесомо скользил по болоньевой куртке. Она осторожно ступала по тонкому слою снега, который мягко проминался и негромко хрумкал. В необыкновенной тишине, такой, что слышны были тихий шелест, звук падающих хлопьев, рассасывалась нехорошая тяжесть, возникшая в землянке после внезапного появления Павлушина. Что он теперь думает? Не мог он не видеть, как выходил из землянки Матцев! Переживает, наверное, дурачок, мается! — снисходительно и добродушно усмехнулась Анюта, думая об Андрее, словно о мальчике, который пытается подражать мужчине. С одной стороны, было приятно, что из–за нее страдает человек, но с другой — эта мысль вызывала неловкость. Почему Андрей потянулся именно к ней? Что общего между наивным восторженным мальчиком и ею? То, что они одногодки, тут ничего не значит. А Владик… Владик — другое дело! Вспомнилось, как Матцев в первый раз зашел с ребятами в их комнату. Анюта к тому времени почти год жила в Сибири и ни с кем из парней не дружила, никого не выделяла. А они, наоборот, несмотря на ее равнодушие, упорно ухаживали за ней. Притягивали ее женственная простота, ровное отношение со всеми, какая–то виноватая задумчивость, иногда приходившая к ней, а особенно то, что она ни с кем не встречалась. Женщин в поселке было меньше, чем мужчин. И девчата поскромней быстро выходили замуж, а те, что курили и пили наравне с парнями, «хабалки», как называл их Звягин, ходили по рукам, не надолго пристраиваясь то к одному, то к другому мужчине. Редкие из них могли стать женами.
Анюта привыкла к вниманию парней и, когда появился Матцев, почему–то забеспокоилась, не зная, как вести себя на этот раз, если он станет ухаживать за ней. Забеспокоилась, затаилась и стала ждать. Наташа, в отличии от Анюты, не ждала, когда Матцев обратит на нее внимание. Анюта считала, что Владику недели хватит, чтобы понять Наташу, разобраться, что она за человек. Но шли дни, отношения между ними заходили все дальше. Когда Матцев бывал в их комнате, Анюта исподтишка наблюдала, прислушивалась к интонациям голоса Владика, с которыми он разговаривал с Наташей, приглядывалась. «Не любит он ее! Глаза не врут!» — с облегчением решила она и успокоилась. И теперь, когда Владик захаживал в ее половину землянки, она, несмотря на то, что уверяла себя, что с Матцевым они друзья детства и ничего другого между ними быть не может, ревниво прислушивалась к голосу парня и чувствовала удовлетворенно, что разговаривает он с ней по–иному: мягче, нежней, предупредительней. Владик и с ней шутил, старался быть остроумным, но не иронизировал, как с Наташей. Это вызывало ответное чувство нежности. Но иногда приходила мысль, что Владик относится к ней тоже как к другу детства, и однажды, когда он поцеловал ее в губы, поцеловал не в шутку, как часто делал он, целуя в лоб, она спросила, опустив глаза:
— А Наташа?
— Наташа, — усмехнулся он. — Как сошлись, так и разошлись! Она с первого дня знала, что у нас с ней временно…
— Она тебе не пишет?
— Я говорил ей при прощании, чтобы не портила бумагу, отвечать не буду.
Сказать–то так Матцев сказал, но помрачнел, стал задумчивым, неразговорчивым.
Анюта продолжала вспоминать Наташу с чувством вины, но чем чаще видела, Владика, тем реже думала о ней. У нее стало возникать ощущение, что теперь у нее начинается другая жизнь, жизнь, связанная с таким внимательным и милым человеком, жизнь, не похожая на ту, которой она жила раньше.
Собираясь идти за водой, она больше всего не хотела встречаться с Андреем.
Но Павлушин увидел девушку и заколебался, не зная, бежать ли к ней или оставить все как есть. Ему стало жарко, и он расстегнул пуговицы телогрейки, искоса поглядывая Анюте вслед. Оранжевая куртка мелькала между деревьями, то пропадая, за ними, то появляясь. И Андрей не выдержал, спрятался за палатку, чтобы его не видно было десантникам, и побежал наперерез Анюте.
Павлушина заметил Звягин и сказал с усмешкой Матцеву, кивая в сторону бегущего Андрея:
— Отобьет!
— Куда ему, — в тон Звягину ответил Матцев.
— Зачем ты к ней приклеился? Она девка серьезная!
— А почему ты решил, что я не серьезный?
— Видел в поселке…
— Я в поселке всего шесть месяцев из своей жизни прожил!
30
— Давай помогу! — возбужденно подлетел, подхватил Андрей ведро из руки Анюты.
Они пошли рядом.
— Как здорово, а? Никогда такой красоты не видал! — улыбался Андрей, стараясь скрыть возбуждение. — Первый раз вижу снегопад в лесу!
— Да, хорошо, — подтвердила Анюта. Она была смущена и не глядела на Павлушина. Она понимала, что Андрей прибежал неспроста, не только затем, чтобы помочь ей, и опасалась, что он заговорит о Матцеве. Это ей было бы неприятно.
Некоторое время они шли молча, низко нагибались под засыпанными снегом ветвями. Неловкость росла. Оба не знали, как повести разговор дальше. Анюта заговорила первой.
— Домой еще не потянуло? Не затосковал еще?
— Чего тосковать? — охотно ответил Андрей, думая о своем. — Я же не на месяц ехал и не на год. Знал, куда и зачем еду.
— Ты, я слышала, о кресле начальника мечтаешь? — подковырнула Анюта.
— Это я так, в шутку трепанулся, — смутился Андрей.
— А чем плохо помечтать? Плохо, когда ни к чему не стремишься! — все дальше уводила его Анюта.
— О кресле начальника мечтать глупо… Я тогда не смог выразить то, что думал. Вот и получилось, что я лишь о карьере мечтаю. Не так это!.. Большое дело хочется делать! Я чувствую, что для этого у меня и силы и энергия есть… Ну, ладно об этом! Словами всего не выразишь. Самому стыдно слушать!.. — Они спустились к речке. Андрей, придерживаясь за тонкий ствол березки, наклонился с ведром к воде. Течение было довольно быстрое, и дна не видно. Павлушин зачерпнул воду, и они полезли назад, на невысокий берег оврага, по дну которого бежала речка Ульт–Ягунка.
— А ты давно в СМП? — спросил Андрей.
— Второй год пошел…
Видя, что разговор ушел в сторону, а землянка близко, Андрей спросил напрямик:
— А Матцева ты давно знаешь?
— Зачем… тебе?
— Так… — пожал плечами Павлушин и переспросил: — Давно?
— Он недавно у нас, — уклончиво ответила Анюта.
— А ты знаешь, что он женат? — глядя вниз на следы, оставленные ими, когда они шли к реке, тихо спросил Павлушин, чувствуя, что этого не надо говорить.
— Да, знаю, — ответила она.
— Ты прости… Я знаю, нехорошо так… — сбивчиво заговорил Андрей смущенно и виновато, сознавая, что снова говорит глупость, но хотелось объяснить, почему он сказал о Матцеве. — Но ты… ты такая! — запинался он. — Ты не для него… Ты хорошая…
Они подошли к землянке. Анюта остановилась и внимательно посмотрела на него каким–то подозрительным, злым и вместе с тем растерянным взглядом:
— Зря ты об этом начал! Зря! Это дело мое… — Анюта выхватила ведро из руки сконфуженного Павлушина и быстро сбежала по ступеням к двери землянки. Дверь захлопнулась за ней. Андрей постоял, постоял и побрел к палаткам. Лицо у него горело. Он подхватил горсть снега, жадно хватанул губами и растер снегом лицо. Да, не надо было о Матцеве разговор заводить! Не надо!
31
В поселке Вачлор ожидалось пополнение. Две большие палатки растопырились среди темных стволов елей, белели новыми дверями, важно, уверенно, готовые в любой момент принять обитателей. Внутри двумя ровными рядами прильнули к стенам солдатские двухъярусные железные кровати с заправленными постелями. Десантники перебрались из землянки в одну из палаток. Свободных кроватей в ней было еще много. Посреди жался к железной печке стол, среди поставленных вместо стульев на попа чурбаков.
С сегодняшнего дня десантники переставали быть десантниками. После прибытия пополнения они становились лесорубами. В первый раз утром не нужно было спешить на работу, сидели в котлопункте долго. Потом часть десантников разбрелась с ружьями по тайге, надеясь на кого–то наткнуться. Даже Ломакин ушел. Анюта тоже убежала с Матцевым. В палатке остались только Андрей с Гончаровым. Павлушин сел за стол спиной к потрескивавшей и тихо гудевшей печке, разложил перед собой книги и тетрадь. Теперь можно писать контрольные в нормальной обстановке. Но в душе было какое–то томительное ожидание, не работалось. Он посидел, посидел над тетрадью, чувствуя спиной тепло от печки, спрятал книги под матрас и отправился на озеро.
Гончаров остался лежать на кровати один. Он грустил, думал о чем–то своем.
Андрей подошел на берегу озера к сестрам–березкам, похлопал, погладил ладонью холодную белую кору деревьев, потом поднял припорошенную снегом толстую палку, подошел к берегу, ударил ею по заснеженному льду, проверяя его крепость. В последние дни по тайге прошелся небольшой морозец, покрыл льдом озера и болота, только быструю воду рек оставил без покрова до будущей прогулки. Андрей с опаской попробовал ногой лед, сошел с берега, прислушиваясь, не треснет ли, не колыхнется ли озеро под ним. Под снегом ледок был скользкий. Андрей прошелся вдоль берега, убедился в безопасности, разбежался и прокатился, оставляя ногами в снегу две полосы. Потом двинулся вдоль берега, постукивая впереди себя палкой. До него донеслось издалека бормотанье вертолета. Звук усиливался, приближался. Андрей выбросил палку, вылез на берег. Гончаров стоял возле палатки и тоже прислушивался к стрекоту. Среди деревьев показалась оранжевая куртка Анюты.
Вертолет привычно опустился на расчищенную от неглубокого снега площадку, поднимая винтами вьюгу.
Дверь открылась, появился Михась, как всегда, сияющий, усатый, и крикнул:
— Ну что, робинзоны! Кончилась тихая жизнь!
Он выбросил наружу лестницу и спустился на скользкие бревна площадки.
За его спиной появился Мишка Калган. Бородатый, жилистый, поджарый парень в куртке нараспашку. Бороденка у него была небольшая, жиденькая, растрепанная. Андрей Павлушин всегда старался держаться подальше от этого драчуна, рядом с ним чувствовал себя неловко, скованно. Калган остановился в двери вертолета, вскинул руки вверх, приветствуя десантников, словно победитель, вернувшийся на родную землю. Мишка радостно сверкнул глазами, поднял бороденку вверх и открыл рот, собираясь что–то заорать, но в этот момент кто–то подтолкнул его сзади–выходи, мол, скорей! Калган закрыл рот и оглянулся в салон, шутливо замахнулся локтем, потом спрыгнул на землю к радостно шумевшим десантникам и кинулся обнимать оказавшегося рядом Колункова. Они поскользнулись на обледенелых бревнах и упали. Шапка Калгана отлетела под колесо вертолета. Вслед за Мишкой выглянула из дверей высокая девушка в пуховом платке и легком полушубке.
— О, Шура! — заорал Матцев и вытянул ей навстречу руки, предлагая свою помощь.
— И ты здесь!!! — грубовато сказала девушка и сморщила вздернутый нос улыбкой, наклонилась к нему, оперлась об его плечо и сошла вниз, в окружение парней, которые тянули ее каждый к себе, кричали:
— Теперь заживем!
— Молодец, что приехала!
— Ну, теперь веселынь будет!
Колунков, отряхнув брюки от снега, тоже пытался дотянуться через головы ребят до нее и тоже кричал:
— Шурочка, тут только тебя не хватало!
Занятые Шурой десантники не сразу заметили замешкавшуюся в дверях вторую девушку. Маленькая, в сером пальтишке и в такой же серой шапочке, она растерянно улыбалась, задержавшись на пороге, не знала, то ли поворачиваться спиной к ребятам и спускаться по ступеням, то ли спрыгнуть, но боялась поскользнуться.
— А это что за птичка? — увидел ее Матцев.
— Разинул рот — крикнула Шура и ткнула его в спину кулаком. — Не про тебя эта птичка… Я тебе за нее сама шею сверну!
Девушка присела на корточки, намереваясь спрыгнуть. Андрей, не принимавший участия в шумной встрече Шуры, он не был с ней знаком, подскочил к лестнице, подхватил девушку под мышки и осторожно опустил на бревна площадки.
— Спасибо, — тихо вымолвила девушка и смущенно опустила глаза.
— Новенькая? — спросил Андрей, слышавший вопрос Владика.
— Да...
— Я тоже… Андрей… меня зовут.
— Меня Надей, — ответила девушка и почему–то быстро отошла от Павлушина к Шуре, которая высвободилась из объятий ребят и разговаривала со смеющейся Анютой.
Тем временем из вертолета один за другим сыпались ребята. Шум усиливался. Парни обнимались, хлопали друг друга по плечам, кричали.
Из двери выглянула возбужденная шумом серая, похожая на волка, собака. Она быстро повертела добродушной и хитроватой мордой, оглядела шумную толпу, опустила нос вниз, выбрала место, куда можно спрыгнуть, примерилась, выставив лопатки, и прыгнула.
— Жулька! — крикнул Колунков, подхватил на лету собаку и снова поскользнулся, не удержался на ногах и упал навзничь.
Жулька, перебирая лапами по телогрейке у него на груди, радостно лизнула Олега в щеку.
Андрей увидел в салоне вертолета оставшуюся одну Таню, библиотекаря. Она подтаскивала к порогу пачки потрепанных книг, перевязанных шпагатом.
В поселке Павлушин часто помогал ей разбирать книги, которые со всех концов страны присылали на стройку пионеры и комсомольцы, откликнувшись на призыв помочь ударным стройкам пополнить библиотеки. Таня была энергичная, быстрая и юркая девушка. Черноволосая, тонкая, гибкая, она была похожа на ласточку, которая в Андреевом детстве жила в катухе, слепив гнездо на стропиле под крышей. В поселке Таня успевала всюду: днем работала маляром, по выходным дням в библиотеке, а по вечерам в комитете комсомола. Приятно было находиться рядом с ней. Почему–то одно ее присутствие впрыскивало в Андрея бодрость, энергию. И сейчас, увидев Таню, он обрадовался, вскочил на ступеньку, подхватил две пачки книг и отнес их в сторону на бревна, чистые от снега. Быстро вернулся к двери, где Таня деловито подавала Сашке еще две пачки книг.
Вечером комсомольский секретарь строительно–монтажного поезда Витя Чекрыжов собрал комсомольцев на собрание. Он прилетел вместе со всеми и завтра должен был улететь назад в посёлок. Походка у невысокого, плотного и румяного Вити Чекрыжова была какая–то воробьиная. За это его прозвали кузнечиком. Он знал это и всегда вместо: «Я пошел!» говорил: «Я попрыгал!» Работал он мастером, и любимая поговорка у него была — «ребята, давайте действовать!» Нравился Витя всем за то, что не любил длинных речей. Он считал, что говорят длинно лишь тогда, когда нечего дельного сказать, а не хочется, чтобы об этом узнали те, кто слушает. Толковую мысль не надо выражать длинно.
На собрании должны были избрать комсомольское бюро из трех человек. Витя Чекрыжов никогда никого не предлагал кандидатом на голосование. Комсомольцы лучше знают друг друга, думал он, кого попало не выберут, но все–таки Витя почти всегда знал, кого будут предлагать. И радовался, если не ошибался. И сейчас он был уверен, что выберут групкомсоргом Таню Голованову, библиотекаря, а в бюро Шуру Новикову и кого–нибудь из парней. Так и случилось. Предложили сначала Таню, потом Шуру, а затем он услышал новое для себя имя:
— Пионера! Пионера надо в бюро! — крикнул Сашка Ломакин.
— А кто это? — удивился Витя.
Узнав, что это Павлушин, он вспомнил, что разговаривал с Андреем всего один раз, когда он вставал на учет, да и то как–то на бегу, торопливо. Потом работали на разных участках. «Не успеваю за новичками следить!» — недовольно подумал Витя.
32
Когда под высокой сосной отзвучали речи перед тем, как Павлушин свалил первое дерево просеки на глазах у всех жителей палаточного поселка, когда отстрекотал «Конвас» в руках оператора студии кинохроники, отщелкали фотоаппараты корреспондентов и начальник поезда Федор Алексеевич Романычев, молодой, но уже лысоватый мужчина, улетел вместе с корреспондентами, бригада лесорубов, пока еще неспешно, принялась валить лес. Гончаров трелевщиком собирал деревья и таскал их на место будущего поселка, где плотники расчищали площадку под фундамент первого сборно–щитового дома.
Костры полыхали возле лесорубов и там, где работали плотники. Пищи для огня было достаточно, но греться к нему никто не подходил. Морозец небольшой, здоровый. Снег лежал меткий, пушистый, неглубокий. Павлушин с утра работал бензопилой, работал не отдыхая. Свалив одно дерево, переходил к другому. Андрею все вспоминался митинг, когда право свалить первое дерево Ломакин уступил ему, как человеку, у которого это первая просека, первый поселок. Павлушин вспоминал нацеленные на него объективы, но ни щелканья затворов фотоаппаратов, ни стрекота «Конваса» он не слышал из–за визга бензопилы, вспоминал, как ловко погрузил в ствол сосны пилу, как дрогнуло дерево, стало клонить пушистую голову, дымом осыпая снег с ветвей. Направляли ее под веселые крики сразу несколько парней. Андрей представлял, как в деревне отец с матерью откроют газету и увидят его фотографию. Приятно было и от того, что Анюта видела, как он оказался в центре внимания корреспондентов. Прежде чем подхватить пофыркивающую синим дымком бензопилу с земли, Андрей краем глаза взглянул на Анюту. Она стояла в толпе среди девчат, и ему показалось, что смотрит она на него с симпатией и одобрением. Вспоминая об этом, Павлушин бессознательно и уже привычно наблюдал за пилой, за тем, как зубья вгрызаются в ствол, посматривал в то место, куда, по его мнению, ляжет верхушка. Изредка он покрикивал на обрубщиков сучьев, когда считал, что они слишком приблизились к нему. Он не только не замечал, но даже не подозревал, что кто–то может и любоваться его работой, его ладными движениями, его крепким и ловким телом. Если бы среди обрубщиков была Анюта, Андрей, возможно, старался бы, чтобы она заметила его задор, оценила. Но Анюта вместе с Таней которая теперь помогала ей, были в котлопункте… А две другие девушки, Шура и Надя, обрубали сучья неподалеку, но они не интересовали Андрея, и он считал, что и он не интересует их. Однако Павлушин ошибался!
Два дня назад, когда Надя выходила из вертолета и Андрей подхватил ее под мышки, ссадил на землю, девушка растерялась, не отрывалась взглядом от его грустноватых глаз и тогда, когда, сидя на корточках, подставила ему руки, чтобы он снял ее с порога и тогда, когда он поставил ее на скользкие бревна, легонько прижимая к себе. Глаза их оказались так близко, что Надя испугалась, что он услышит стук внезапно всколыхнувшегося сердца, неизвестно почему. Он бережно, она обратила на это внимание, опустил ее на качающиеся под ногами бревна, и ей показалось, что она растрепана, неопрятна, волосы выбились из–под шапочки, а парень заговорил с ней, назвал себя, она быстро ответила и поспешно отошла к Шуре, поправляя на ходу волосы. Не хотелось, чтобы он заметил ее смущение.
Надя у всех знакомых оставляла впечатление чего–то округлого, пушистого, мягкого, вероятно, от того, что ходила она быстро, будто перекатывалась, и всегда улыбалась. Лицо у нее было скуластое, пухленькое, спокойное, даже несколько безмятежное и мечтательное. На первый взгляд она казалась домашней, нерешительной, и многим из ее школьных подруг непонятно было, как она не побоялась ехать одна в такой далекий край. Сама Надя ничего необычного в своем поступке не видела. Она еще в пятом классе решила уехать по комсомольской путевке после окончания школы туда, где жизнь кипит, словно вода в водопаде, а не так, как дома, стоит тихо и уныло, будто в озерке, покрытом ряской, за плотной стеной осоки и камыша. Экзамены сдавала в институт без энтузиазма, лишь бы родителей успокоить. И как только узнала, что не прошла по конкурсу, направилась в райком комсомола.
В поселке она попала в бригаду маляров, но через неделю, Надя еще толком на новом месте освоиться не успела, ее вместе с новыми подругами по бригаде Шурой и Таней увезли в тайгу.
Прошло два дня, а Андрей не проявлял к ней интереса. На комсомольском собрании он даже ни разу не посмотрел в ее сторону. Не пришел он и вечером в женскую половину палатки, отгороженную простынями, хотя ребята явились с гитарой; сидели до полночи, пели.
То, что Андрей не заинтересовался ею, заставляло Надю все чаще думать о нем, вспоминать, как бережно поддержал он ее, когда она возвращалась из котлопункта в первый вечер и поскользнулась возле палатки. И лицо у него при свете луны было такое же удивительно милое и знакомое, как и тогда, когда он помог ей спуститься из вертолета. Надя краснела при неожиданных встречах с Андреем, ей казалось, что он остановит ее и скажет что–то важное, но он проходил мимо. Девушка невольно прислушивалась к его голосу, когда он за простынями в мужской половине разговаривал с кем–нибудь.
Вчера вечером Надя спросила у Шуры, что та знает об Андрее? Разговаривали они о ребятах, и Надя думала, что вопрос ее не вызовет никаких подозрений у подруги. Но Шура утром в котлопункте заметила, что Надя почему–то словно одеревенела, голову от тарелки поднять не может и не слышит, что у нее спрашивают. Оживилась она, когда Андрей вылез из–за стола и вышел из землянки. Шура удивилась, но вывод делать не спешила, лишь после вопроса Нади о Павлушине, оброненного как бы вскользь во время обычного разговора, она поняла, что не ошиблась.
— Павлушин–то? — переспросила она равнодушно. — Парень вроде хороший, но я его не знаю совсем. Он в поселке недавно… За Анюткой вначале пытался ухаживать, но теперь, видишь, она к Матцеву льнет…
Надя, думая об Андрее, тюкала топором по сучьям, срубив, выпрямлялась, изредка посматривала на подругу. Шура махала топором по–мужски. Одним ударом снимала даже такие сучки, по которым Наде приходилось клевать пять раз. Размахивать сильно Надя боялась, топор скользнет по дереву и в ногу. Взглядывала Надя во время коротких передышек и на Андрея. Тому ни до кого не было дела, валил себе деревья и валил.
Перед обедом, когда все лесорубы собрались у костра, Андрей подошел к Наде и попросил:
— Дай–ка топор!
Девушка подала.
Павлушин осмотрел лезвие, попробовал его ногтем, взвесил рукой топор, держа за топорище, размахнулся, перерубил толстый сучок, кинул его в огонь и молча вернул топор Наде, думая про себя: «Тяжеловат для нее… Намашется за день, утром рук не поднимет. Надо другой подыскать!»
А Наде непонятно было, зачем Андрей брал у нее топор, то ли затем, чтобы перерубить сучок, то ли проверить хотел — не затупился ли.
33
Обедать Андрей не торопился. Мест за столом в котлопункте всем не хватало, и неудобно было рваться в столовую, как делал Мишка Калган, чтобы поесть среди первых. Успеет, поест! Все равно кому–то ждать. Неподалеку от землянки Андрей увидел возле двери дизельной, небольшого сарая, собранного еще десантниками, двух мужчин, моториста и механика. Они сидели на бревне около распахнутых настеж дверей и курили. Оба были в промасленных до черного блеска телогрейках. Руковицы моториста лежали рядом с ним на бревне.
— Скоро свет будет? — от нечего делать обратился к ним Павлушин, останавливаясь напротив.
— Будет вам свет сегодня, — равнодушно и нехотя ответил моторист.
— Да будет свет, сказал монтер, а сам за спичками попер! — устало и лениво пошутил механик.
Они несколько дней устанавливали дизель, готовили его к работе для освещения поселка.
Возле входа в землянку–котлопункт под сосной стоял Звягин с исписанным листком в руке. Читал он с каким–то озабоченным видом и необычно торопливо, не читал, а бегло просматривал письмо. Листок беспокойно вздрагивал в его руке.
— Почта была? — спросил Андрей, вспомнив, что час назад прилетал вертолет.
— Угу! — не поднимая головы, буркнул Звягин.
— А письма у кого? — снова спросил Павлушин.
Звягин досадливо махнул рукой, указывая на дверь землянки. Павлушин сбежал вниз. Все места за столом были заняты. Два парня стояли у входа, ждали, когда освободятся. Таня с Анютой в белых халатах раскладывали второе по тарелкам и ставили на край длинного стола, за которым плотно друг к другу сидели, обедали рабочие. ,
— Письма у кого? — спросил Андрей у парней, ожидавших у входа.
— У Тани.
— Таня! — протиснулся Андрей между полками и скамейкой ближе к девушке. — Мне ничего нет?
— Пишут, пишут тебе, — ответила Таня и добавила: — Андрей, отнеси, пожалуйста, книги в палатку. Все равно ждать будешь… Во–он на полке лежат.
Павлушин увидел на полке три объемистых посылки,
— А посмотреть можно?
— Не надо, не распечатывай пока… Вечером приходи, вместе разберем!
Андрей взял сразу все три посылки. Один из ожидавших парней открыл ему дверь, и он полез наверх. Звягин все стоял у входа и читал, но читал уже спокойнее, с посветлевшим, но все еще озабоченным лицом. Он сегодня снова получил два письма. Одно от жены, а второе подписано незнакомым почерком. Крупные буквы на конверте стояли неровно, враскорячку, чувствовалось, что писавший их человек редко берется за перо. Звягин недоуменно глянул на обратный адрес, на подпись: «Кулдошин Василий Михайлович», — прочитал он и пальцы у него задрожали. «Васька Кулдошин! Сосед! Чего это он вздумал? Ай беда какая?» Звягин выскочил из землянки на улицу, чтобы скрыть от приятелей волнение, разорвал суетливой рукой конверт, подписанный женой, и стал глотать слова, прыгая через строчки. Ничего необычного Валя не сообщала. Когда Звягин понял это, сдвинул шапку на затылок, вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони и уже спокойней начал перечитывать письмо жены. Прочитал еще раз и долго вертел в руках конверт с письмом Васьки Кулдошина, не решался распечатывать, пытался угадать, что в нем. Не тяжкую ли беду принесло оно? Что заставило написать Ваську? Не от скуки же он взялся за перо? Не о Валюшке ли сообщает нехорошее? Не загуляла ли она? Второй год без мужика! Такой, как Матцев, подвернется, напоет, она и растает… Баба ведь! А тогда что? Все тогда! Все! Кому будут нужны его тысячи?.. Не посмел распечатать конверт Звягин, сунул в боковой карман телогрейки. Пусть пока полежит. Привыкнуть надо! Он спустился в столовую, откуда выходили пообедавшие ребята.
В конце работы, когда воздух в тайге начал густеть, Андрей вспомнил о топоре Нади, отыскал среди сваленных им деревьев березу, отрезал от нее чурбак, расколол его пополам, вытесал толстую доску, решил вырезать из нее топорище полегче, и чтоб ловчее держать его было. Топор решил взять в котлопункте, которым рубили дрова. Он полегче. Если его наточить как следует, то для Нади он будет как раз по руке.
Трелевщик Гончарова с включенными фарами все еще ползал по просеке, собирал бревна. За тарахтеньем мотора Андрей не слышал, как застучал дизель в сарае. Вспыхнувшая неожиданно лампочка на дереве над палаткой удивила его, он услышал крик Сашки: «Ребята! Смотрите — свет!»
Палатка была непривычно ярко освещена двумя лампочками, одна горела в мужской половине, другая в женской. Лесорубы, входя, жмурились, шутили, что цивилизация и до них дошла, баньку бы скорей плотники заканчивали — жить тогда вообще можно будет припеваючи! Андрей поставил березовую заготовку возле гудевшей огнем печки, пусть подсохнет малость, и стал раздеваться возле своей кровати. За простынями переговаривались девчата, часто произносили имена писателей и названия книг. Павлушин догадался, что они разбирают посылки с книгами, и громко спросил:
— Девочки, вы книги разбираете? Можно к вам?
— Иди! — откликнулась Таня.
Она сидела на кровати возле стопки книг и диктовала Наде имена авторов и названия, а Надя записывала их в книгу учета.
— Распечатывай, — указала Таня на оставшуюся посылку, лежавшую возле ножки кровати среди скомканной оберточной бумаги. Павлушин поставил перед собой посылку на чурбак, разорвал руками веревку и зашуршал толстой бумагой. В посылке были две стопки книг, тонких и небольшого формата. Андрей понял, что это стихи, и начал без интереса разглядывать обложки, читая незнакомые ему имена.
— Тут только стихи…
— Чьи? — спросила Таня.
— Разные… Вот Мартынов какой–то. Рубцов…
— Мартынов? Леонид?
— Да.
— Хорошие стихи… Хочешь, Рубцова возьми, он тебе непременно понравится!
Андрей повертел книгу Рубцова, положил назад в стопку и взял следующую, тоненькую, как паспорт, только в отличии от рубцовской желтоватого цвета.
С обложки глядело на него знакомое лицо молодого парня. Андрей перевернул книгу лицевой стороной и изумленно охнул! «Олег Колунков. Отклик. Первая книга поэта», стояло на обложке. Ошеломленный Андрей вспомнил, что Ломакин говорил ему, когда они пилили дрова, что Олег книгу выпустил. Павлушин хотел показать сборник девчатам, но передумал, взглянул на Таню воровато, она по–прежнему диктовала Наде имена авторов, предварительно поставив на титульном листе порядковый номер, и сунул сборник в карман, перенес все книги стихов на кровать к Тане, нетерпеливо окинул глазами зарегистрированные книги и не спеша, чтобы не вызвать у девчат подозрения, покинул их.
Ребята в палатке отдыхали перед ужином. Колунков лежал на кровати, выставив вверх заросший подбородок, он давно перестал бриться, и то ли дремал, то ли думал о чем–то. Андрей остановился возле. Олег услышал, что кто–то подошел, приоткрыл один глаз и посмотрел на Павлушина.
— Почитать тебе стихи? — спросил Андрей, присаживаясь к нему на постель.
Олег открыл и другой глаз, помолчал, не двигаясь, снова закрыл глаза и произнес:
— Читай!
Андрей вытянул книгу из кармана, открыл посредине наугад и начал читать:
— Ты прости мне слова, что еще не сказал, поцелуй торопливый, полночный вокзал… Все обиды отбрось, все грехи отпусти, за все сразу, что было и будет, — прости!..
Колунков неожиданно для Андрея быстро приподнялся на кровати, мгновенно выхватил у него книгу и вцепился в рукав.
— Где взял? — спросил он быстро и хрипло.
— Там, — указал Павлушин на простыни. — Прислали!
— A-а! — отпустил его Колунков и снова прилег на подушку: — Ступай!
Андрей не понял, что от него хочет Олег, и смотрел на него, оставаясь сидеть на кровати.
— Ступай, говорю! — уже сердито произнес Колунков и добавил строго и требовательно: — И молчи!
— Почему ты скрываешь? — спросил Павлушин, продолжая сидеть.
Олег, казалось, не слышал вопроса. Он посмотрел на открытую Андреем страницу и тихо дочитал стихотворение:
Все, что хочешь, прости, только лучше всего не прощай никогда, не прощай ничего… Не прощай меня, слышишь! И помни одно — Я приду непрощенным, приду все равно…Колунков замолчал, потом повторил, усмехаясь над собой:
— Приду все равно!.. Скрываю, говоришь? — словно вспомнил он об Андрее. — Я уже пять лет не пишу… За пять лет — ни строчки… С самых тех пор, как предал Василису… Пять лет! Вспомню, представлю, и кажется — не со мной это было… Книжку я тебе не отдам! Ступай!
34
После ужина Андрей устроился возле входа в палатку на чурбаке, нарисовал карандашом на березовой доске контуры топорища с замысловатыми изгибами, чтобы топор не выскальзывал из рук, и стал осторожно вырезать ножовкой. В палатке было жарко от натопленной печки, а Колунков все подбрасывал дрова. Мишка Калган подошел к нему и попросил гитару. Олег молча кивнул в сторону своей кровати. Матцев взял гитару и вместе с Мишкой исчез за простынями. Сашка Ломакин с двумя парнями тоже направился туда.
Вырезав топорище, Андрей взял свой топор и стал подравнивать, срезать углы. Колунков ходил рядом по палатке в расстегнутой на груди сорочке, часто останавливался возле Андрея и молча наблюдал за его работой, сдавливал рукой голову. Длинная щетина на щеках и подбородке делала его лицо неухоженным, запущенным.
— Заняться нечем? Маешься от безделья? — спросил у него насмешливо Андрей.
Колунков мрачно усмехнулся, но промолчал.
— Возьми вот топор, — кивнул Павлушин на пол, где лежали приготовленные им топор и брусок. — Поточи! Если делать нечего.
Олег послушно уселся на чурбаке возле Андрея и начал точить. Но точил недолго, бросил брусок и принялся тереть ладонью грудь.
— Пионер, — сказал он серьезным тоном, раздвигал сорочку, — разруби–ка мне грудь, вытащи кол оттуда! Жить не дает!
— Погоди! Ручку сделаю, тогда… — усмехнулся Андрей.
Колунков посидел еще немного на чурбаке, поднялся и ушел на свою кровать.
Павлушин отшлифовал топорище обломком стекла, затем наждачной бумагой. Закончил, полюбовался своей работой, поиграл топорищем в руке: ничего, удобное получилось, как раз для женской руки. Хотя не женская это работа, топором махать. Но скоро и здесь маляры потребуются. Андрей положил топорище неподалеку от печки — пусть сохнет, а сам принялся точить топор.
— Борис Иванович, — окликнул Андрей игравшего со Звягиным в шахматы бригадира. — Надо нам электрическое точило заказать привезти. Топоры теперь часто точить придется… Одним бруском не справимся…
— Я уже думал об этом! — не оборачиваясь, ответил Борис Иванович.
— И бензопилу запасную привезти надо, а то откажет какая — и будем сидеть! И цепей к ним запасных… Топоры тоже бы пригодились. Помните, Калган сунул перед обедом топор в кусты и забыл куда. Хорошо хоть нашли, а то бы без дела сидел человек!
— Закажем. — буркнул Ломакин. Он выигрывал у Звягина, а Павлушин мешал ему сосредоточиться.
— Закажем! — передразнил Андрей. — Мы вечно вспоминаем, когда приспичит! Нужно заранее все предусматривать… Молоко порошковое до сих пор не завезли. Почему? Никому не надо… За столом только вспоминаем! Рисовый гарнир всем давно надоел! Каждый день рис и рис. Нужно гречку, макароны, картошку заказывать…
— Заказывали, все заказывали! — рассердился Борис Иванович, но от доски не оторвался. — Привезут! Отстань… Прораб нашелся!
— Плохо заказывали, значит! — не отставал Андрей.
— Так его, так, Пионер. А то он совсем мух не давит, — как–то вяло пошутил Звягин и смешал фигуры на доске: — Сдаюсь…
— Давай еще одну? — предложил Ломакин.
Он выиграл у Звягина вторую партию подряд, что ни разу до сих пор не удавалось, и жаждал довести счет до разгромного.
Звягин помедлил, задумавшись, и молча стал расставлять фигуры. «Переживает!» — подумал Ломакин, усмехаясь про себя. Он не догадывался, что мысли Звягина далеко. Звягин машинально переставлял фигуры, думал не об игре, а о письме Кулдошина, изредка взглядывал на телогрейку, висевшую на самодельной вешалке у входа в палатку, решал, не прочитать ли письмо.
Из женской половины палатки доносились смех, говор, однообразное бренчание гитары да негромкое пение Матцева.
У беды глаза зеленые, не простят, не пощадят… С головой иду склоненною, виноват и прячу взгляд.Звягин расставил фигуры, но вдруг поднялся, махнул рукой вяло: хватит, и лег на спину на свою постель, свесив ноги на пол. Кровать его стояла рядом с простыней, и голос Матцева хорошо был слышен.
В поле ласковое выйду я и заплачу над собой… Кто же боль такую выдумал? И зачем мне эта боль?Звягин увидел свой дом с освещенными окнами на зимней улице, на окраине Тамбова. Улица быстро расстроилась до самого оврага. В овраге этом катаются на лыжах и санках ребятишки, катается с ними и десятилетний Юрка, сын. Звягин лежал, с каким–то грустным наслаждением ощущая тепло, доходившее до кровати от печки, смотрел, как на стене палатки играют блики от пламени, грусть его постепенно переходила в необыкновенное нежное чувство, и смутными, прекрасными видениями стали представляться ему картины из далекого детства, картины, которые много раз вспоминали они с Валей, вспоминали с нежностью к друг другу, с радостью, с благодарностью к судьбе…
Родители Звягина переехали в Тамбов в начале шестидесятых, когда ему было десять лет, переехали потому, что в деревне стало жить невмоготу. В то время Хрущев запретил держать домашний скот, власти отрезали у крестьян огороды, за работу платили гроши, на которые прожить было трудно, а кроме десятилетнего Миши в семье росли три девочки, и только одна из них старше мальчика. Брат отца жил в Тамбове. Он присмотрел полдомика на Комсомольской улице, крохотных полдомика: одна комната с печью да маленький коридорчик, зато был небольшой участок земли. Купили эти полдомика и переехали в Тамбов жарким летом. Улицы, Комсомольская и прилегающие к ней, были похожи на деревенские: деревянные домишки, частью дряхлые, покосившиеся, вросшие в землю, ухабистые улицы с пробитыми колесами машин колеями, неасфальтированные, поросшие бурьяном. Машины появлялись здесь редко. Тишина.
А по утрам кричали петухи.
Отец с матерью сразу устроились на работу на завод Ревтруд, он был неподалеку. Ребята оставались дома одни, четырнадцатилетняя сестра за хозяйку, присматривала за братом и сестрами, запрещала удаляться от дома. Юрка дня через три заскучал, потянуло осмотреть, исследовать городские улицы, переулки, манили свист, гудки паровозов, стук сцепляющихся вагонов с железнодорожной станции. Он познакомился с Вовкой, своим ровесником, жившим напротив, на другой стороне улицы в коричневом доме с белыми наличниками. Познакомились они возле колонки, куда Мишу сестра послала за водой. Вовка увидел его, свистнул и направился к нему через дорогу. Миша слушал, как струя воды бьет в дно ведра, бурлит, пенясь и шипя, и с напряжением и страхом косился в сторону приближающегося мальчика. Вовка шел неспешно, посвистывал, подняв верхнюю губу, виднелись его редкие острые зубы. Был он загорелый, с выгоревшими белыми волосами и бровями. Отец каждый день пугал Мишу местной шпаной, сразу поколотят, только отойди от дома. Хоть этот мальчик и не был похож на шпану, но все равно хотелось схватить незаполненное ведро и бегом домой.
Мальчик подошел, перестал свистеть и спросил, как у давнего знакомого.
— Ты чо, так и сидишь дома?
— Ага, — кивнул растерянно Миша.
— И охота тебе? Пошли на речку…
— Это куда?
— А, туда, — махнул рукой мальчик в ту сторону куда убегала Комсомольская улица, теряясь вдали казалось, у нее нет конца.
— Не-а, — качнул головой Миша, снимая наполнившееся ведро с крючка колонки.
— Мамки боишься? — спросил Вовка. Мише показалось, что спросил он ехидно.
— Не… Папа придет скоро, и мы пойдем вместе, — соврал он.
— Ага, скоро. Обед только. Солнце во–он где… Он с моим папаней работает. И вместе ходят.
— Да? — остановился Миша. Он направился было домой, согнувшись на один бок под тяжестью ведра. — Откуда ты знаешь?
— Чего?
— Что вместе работают?
— Тю, а ты что, не знал?.. Давай помогу, — ухватился мальчик за ручку ведра с другой стороны.
И они вдвоем понесли. Вода в ведре играла, выплескивалась на землю, обдавала ноги холодными брызгами. Заманчиво было Мише сходить на речку, но далеко, боязно, сестра отцу расскажет.
А вскоре случилось то, что так часто вспоминали они с Валей. Вовка пришел к нему с двумя приятелями, и сестра отпустила Мишу поиграть с ними, но не надолго, пригрозив сказать отцу, если он обманет.
Они ходили в депо, где пыхтели, сипели паровозы, где жарко пахло особенными незнакомыми и таинственными запахами, играли в ножички под забором в мягкой и сухой земле. Проигравший должен был вытягивать зубами маленький колышек из земли, вбитый донельзя. Миша страшно боялся проиграть. Думалось, если он проиграет, то всю жизнь ребята будут насмехаться над ним.
Шли назад незнакомым ему переулком, шли вдоль забора. Миша шагал радостный: он подружился с тамбовскими ребятами, они приняли его, как равного, он не проиграл в ножички.
— Ух ты, вот это яблоки! — остановился он восхищенный.
Яблоки за забором сгибали ветки своей тяжестью, крупные, бело–розовые. Он таких больших еще не видел.
— Одного хватит, чтоб наесться! Вот бы залезть…
— Ага, там. — начал Вовка, но его толкнул в бок один из ребят, и он замолчал. Миша не видел этого, он прильнул к щели в заборе.
— Никого нет… Пусто, — прошептал тот, что толкнул Вовку. Он тоже стал смотреть в щель. — Вот бы по яблочку!
Миша глянул на забор: высокий, поверху колючая проволока. Если подпрыгнуть, ухватиться можно, подтянуться, перелезть. Только проволока мешает, оцарапаться можно.
— Я полезу, — загорелся, расхрабрился он перед ребятами. Хотелось окончательно утвердиться в их глазах, показаться смелым, отчаянным. — Подсади! — шепнул он Вовке.
— А оттуда?
— Я по сучку и сюда, видишь? — указал Миша на нависшую над забором ветку другой яблони.
— Давай, давай, только шустрей, — подзадорил тот, что толкнул Вовку.
Они подсадили Мишу. Он ухватился за верх забора так, чтобы не уколоть о шипы проволоки руку, и заглянул в сад: увидел кусты крыжовника, смородины возле забора, яблоки в траве, дорожку, ведущую к зеленой небольшой веранде с открытой дверью. За дверью темнота. Тихо. На верхней ступени — кошка, белая, с черным ухом и черным пятном на боку. Сидела спокойно. Миша ухватился за ветку. Она зашумела листьями. Но на веранде было по–прежнему тихо и темно. Кошка тоже даже ухом не повела. Радовало то, что не нужно было лезть на дерево за яблоками. Они лежали на земле. Хватай, за пазуху и назад. Миша, держась за ветку, взобрался на забор и спрыгнул в траву, в мягкую землю под куст крыжовника. Спрыгнул и присел, прислушиваясь и осматриваясь. Кошка теперь следила за ним, выставив уши. Пусть следит. Миша выскочил из–за куста, схватил одно яблоко, другое, сунул за пазуху. Яблоки тугие, прохладные, крупные, пальцами еле ухватываешь, такие большие. И вдруг какой–то негромкий дробный стук от веранды донесся. Миша оглянулся, оцепенел от ужаса. К нему, простучав когтями по деревянным ступеням веранды, неслась черная лохматая собака, вначале показалось — не собака, медведь, такая она была огромная и невиданно лохматая. И мчалась она молча, спокойно, словно уверенная — никуда он не денется, не уйти ему от нее: зачем лаять, суетиться зря. Он закричал, нет закричал, а как–то взвизгнул дико и не помня себя от ужаса кинулся к забору, взлетел, ухватился за верх ожег, распорол ладони о шипы проволоки, но не почувствовал этого вначале, навалился грудью на проволоку, разодрал кожу, и от боли не смог перекинуть ноги через забор, повис на рубашке на шипах, отчаянно дергая босыми ногами, стараясь найти опору, чтобы перелезть. Но пальцы ног скользили по доскам. Мельком он увидел через забор удирающих по переулку ребят. И тут он почувствовал, что кто–то ухватил его за штанину и потянул вниз. Миша завизжал сильнее, чувствуя, как штаны сползают с него. Он слышал какие–то непонятные крики сзади.
— Азор! Азор!
И дергался, извивался, орал. Ноги были спутаны сползшими штанами.
— Ну слазь же! Чего орешь! — сквозь свой рев услышал он сердитый крик.
Оглянулся, увидел девочку, державшую за ошейник страшную собаку, которая и не пыталась рваться к нему, стояла спокойно и глядела на него насмешливо. Он разжал пальцы, повис на рубашке, дернулся: с треском лопнула ткань, и он свалился на землю, не удержался, сел голым задом в куст крыжовника. Взвыл снова, подскочил, ударился об забор, упал и стал, завывая, всхлипывая, возиться на земле, натягивать штаны, бросая взгляды на сердитую девочку. Лохматая собака спокойно, с каким–то насмешливым любопытством смотрела на него. Ладони у Миши в крови, грудь в глубоких кровавых царапинах.
— Не ори! — снова прикрикнула девочка и приказала собаке, толкнув за ошейник: — Азор, иди домой!
Собака посмотрела на нее и затрусила неспешно к веранде, временами оглядываясь.
— Иди, иди! — потом Мише. — И ты пошли! И не хнычь!
Он послушно поднялся, сжал руки в кулаки, чтоб не текла кровь, чувствуя саднящую боль, стыд перед девочкой, страх перед собакой.
— Покажи руки. Ну, покажи, говорю…
Он показал разодранные проволокой ладони: кровь вперемешку с грязью. Они подошли к веранде. Кошка на верхней ступени поднялась и глядела на них, словно гадая, то ли уйти от греха подальше, чтоб не влетело под горячую руку, то ли остаться. Видимо, решила, что им не до нее, и снова села.
— Жди здесь, — командовала девочка. — Я сейчас… — Она нырнула в темноту веранды, стекла которой были полностью увиты вьюнком с потемневшими к концу лета листьями.
Вернулась девочка с кружкой, с пузырьком зеленки и комочком ваты. Вода из кружки плескалась на пол.
Девочка поливала ему на руки, он мыл, пересиливая себя, чтобы не охать от боли.
— Я пойду, — буркнул он, осторожно вытирая руки, когда она взялась за пузырек и вату.
— Давай, — не слушала его девочка. — И терпи! — Она взяла его руку своими теплыми пальцами и быстро провела ваткой по ссадине. Он сжался, стиснул зубы, вырвал руку и замотал ладонью.
— Терпи! Давай другую!
Сердце зашлось от боли.
— Расстегивай рубашку!
— Не, не! — мотал он головой, отступая. — Я пойду! — Двинулся он к забору, с ужасом увидел себя повисшим на проволоке без штанов и забыл о боли, показалось, что голова его запылала, словно он сунул ее в печку, в самый огонь.
— Ты куда? Сюда иди! — не стала настаивать девочка и провела его через веранду на улицу.
Он простучал пятками по ступеням и, не оглядываясь, помчался по переулку домой.
А через две недели, первого сентября, Миша увидел эту девочку в классе, где ему предстояло учиться, увидел и снова показалось, что голову его сунули в печку. Валя не обратила на него внимания, и он с облегчением решил, что не узнала. И все же долго гадал: узнала или нет. И невольно думал о ней, следил за ней. Одноклассники дразнили ее «красной козявочкой» из–за ярко–красного осеннего пальто. Когда кто–нибудь баловался с ней, толкал, дразнил, ему становилось грустно, он хмурился, замыкался.
Ранней весной, на масленицу, когда снег стал оседать под солнцем, темнеть, плавиться, а к вечеру под морозцем покрываться коркой, старшеклассники сделали круговую гору: врыли неподалеку от школы на лугу в землю торчком ось от телеги, надели на ось колесо, привязали длинную жердь одним концом к колесу, а другим к самодельным деревянным санкам. Они крутили колесо, упираясь в жердь, в палки, воткнутые в колесо. Санки летали по кругу с бешеной скоростью. Вечером, когда синели сумерки и морозец прихватывал снег, санки летали особенно легко и быстро. Парни по очереди ложились в них, ухватывались руками покрепче, чтоб не вывалиться подольше. Колесо с натугой начинало крутиться, жердь поскрипывала. Санки, шурша полозьями по прикатанному снегу, скользили все быстрей и быстрей. Снег мелькал перед глазами, несся под лежащего на санках. Чем выше скорость, тем мощнее страшная сила старалась вышвырнуть тебя из саней, отбросить в сторону. Никто не мог удержаться, все вылетали, кувыркались по снегу. Спорили, кто больше кругов выдержит. По вечерам собиралось много народу, приходили и взрослые. Смеялись, разговаривали. Но вот однажды санки раскатились особенно быстро, парень оказался цепким, никак не могли его сбросить, и когда стало казаться, что сани носятся по кругу, не касаясь снега, он вылетел, врезался в толпу, сбил с ног Валю. Она ударилась головой об лед, и ее увезли в больницу. С ужасом смотрел он, как несли ее к машине, дрожал от жалости и страха. Ночью не спал, плакал, бредил, представляя себя рыцарем в железных латах, в доспехах, на коне, видел, как он подскакивает к больнице и уносит ее с собой куда–то от какой–то неведомой ему силы, злой, угрожающей ей. Он зачитывался романами о рыцарях.
В школе она не появилась. Кто–то сказал, что она в больнице осталась. Ему представилось, что больше он ее никогда не увидит, что Валя умирает, и только он может ей помочь, что Валя ждет его. На перемене он сбежал с урока и помчался в больницу. Не помнится теперь, что он врал медсестре, умоляя, чтобы она пустила его на минуточку… Валя спала, лежала на подушке с таким бледным, осунувшимся, таким трогательно–жалким лицом, что он не выдержал, заплакал.
Он заплакал, а она открыла глаза, глядела на него долго, потом вздохнула огорченно:
— Какой ты хныкуша… Хнычешь, хнычешь…
И засмеялась. Засмеялся и он.
Нет, не после этого стали дразнить их женихом и невестой. О том, что он был в больнице, никто не узнал. Начали дразнить четыре года спустя, когда они, заканчивая восьмой класс, стали проводить вечера вместе. Жизнь текла: на глазах у него она становилась женственной, на глазах у нее он мужал, наливался силой.
Я не думал, просто вышло так, по судьбе, не по злобе… Не тобой рубашка вышита, чтоб я нравился тебе.Нет, у них все было не так, как в песне, которую пел Матцев: день за днем накапливались счастливые мгновения. Их неожиданно оказалось столько, что, когда пришла пора воспоминаний, хватало на долгие вечера. Посторонний удивился бы, услышав их радостные возгласы, счастливый смех, когда они вспоминали какой–нибудь пустячный случай из юности: чему, мол, радуются, что здесь смешного? Удивился бы потому, что не знал, сколько красок, сколько душевных переживаний было связано с этим непримечательным случаем… А помнишь, как у нас лодка перевернулась возле соловьиного острова, и ты… А помнишь, как Николай Степаныч (учитель истории) говорил… А помнишь… И снова счастьем сжималось сердце, заново переживалось то, что было с ними.
И не ты со мною под руку из гостей идешь домой. И нельзя мне даже облаком плыть по небу за тобой. В наше время мы не встретились, свадьбы сыграны давно…Встретились, они встретились! Было у них все, что бывает в юную пору, были весны полуночные, росы, изумрудные от сияющей луны, соловьи в парке «Дружба» на берегу застывшей теплой Цны; прохлада, тишина, покой. Были, конечно, и недолгие размолвки, была и долгая, на два года, разлука после свадьбы, когда он служил в армии, был у них уже Юрка, сын, богатырь, родился почти пятикилограммовым. Многое было, от многого сладко щемило сердце. И все, что было с ним, было связано с Валей, с ней одной. И как страшно было думать, что все это может в один момент рухнуть, как страшно потерять! Вспоминались и дни счастья медового месяца, и нелегкие дни скитаний от одних родителей к другим. У Звягиных была только одна комната на большую семью: молодые спали за печкой на сундуке. И у Валиных родителей дом небольшой, а семья большая. Когда он вернулся из армии, решили купить дом, но цены даже на крошечные в Тамбове стали баснословными, а жили бедновато. Взялись строить. Выбили в горисполкоме участочек на окраине Тамбова, год готовились, другой строили, еще год достраивались: в долгах ходили, как в шелках.
И не видно было просвета. Покрутились пять лет, и решил он в Сибирь податься, на заработки. Лучше два года потерять, чем всю жизнь перебиваться, детей ущербными растить… Звягин лежал, смотрел, как играют блики огня на стене палатки, и представлял, как светятся в темноте зимнего вечера окна его дома, свет ложится на сугробы в саду, ветер прерывистыми струйками гонит снег через дорогу, посвистывает в голых ветках яблонь, а в доме жарко, горит свет, Валя после ужина моет посуду, в фартуке, со стянутыми резинкой на затылке волосами, они толстым хвостом ложатся на спину… А дети, что делают дети? Света, должно, ждет, когда покажут «Спокойной ночи, малыши!», и Юрка с ней у телевизора, если уроки сделал, и Валя не усадила его за книги. Как они тебя чувствуют? Не больны ли? Что их заботит? Что радует? Света за этот год подросла, забывать теперь его стала, исчезни он навсегда, должно, и не вспомнит: три годика ей было, когда он уезжал, теперь четыре. Правильно ли он сделал, что уехал? Может быть, все–таки взять отпуск, слетать, посмотреть, как живут, побыть с ними месяц? Отпуска здесь большие… Эх–хе–хе!… Нет, потерпеть надо, меньше года осталось… Звягин лежал, думал о своей семье, слушал песни ребят под ровное постукивание дизеля, которое хорошо было слышно в палатке.
Ночи, ночи раскаленные сон–травою шелестят. И беды глаза зеленые, Неотступные, следят…Павлушин тоже прислушивался к веселью в женском уголке, но не решался идти туда. Он старался не попадаться на глаза Анюте после того разговора, когда он брякнул о жене Владика. С Матцевым тоже с тех пор даже словом не перекинулся. Оба они валили деревья, только в разных концах просеки. Андрей представлял, как сидят теперь рядышком Владик с Анютой. Матцев поет, а Анюта думает, что поет он для нее, только для нее одной.
Топор Андрей насадил на ручку утром, перед работой, и отдал Наде, говоря:
— Попробуй–ка этим! Может, полегче будет! Если не понравится, возьмешь прежний…
35
Язва не отпускала Ломакина, а, наоборот, с каждым днем грызла, точила все злей. Уходила боль только после еды на час, на два, потом снова напоминала о себе. Борис Иванович чаще стал хмуриться, невесело глядели его глаза из–под длинных, седоватых, похожих на усы бровей. Ходил он ссутулясь, втянув живот, и все сильнее напоминал обиженного медведя. Основное время бригадир проводил среди обрубщиков сучьев, помогал Гончарову пикировать бревна к трелевщику, которые тот отвозил плотникам.
Бригада вела рубку просеки споро, неумолчно урчали пилы в руках Матцева и Павлушина, оба они лишь изредка уступали пилы другим, перекликались топоры, но продвигалась вперед бригада пока медленно. Деревья густо росли в этом месте и были довольно толстыми. По карте в километре от озера начиналось редколесье. Ломакин ходил проверял — так ли это? Карта не врала. Но насколько далеко тянется редколесье, он не знал. Лесорубы должны были дойти до болота к маю, пока мороз не отпустил, а то грянет весенняя распутица и отсыпку земляного полотна трудно будет вести. Ломакин прикидывал, что, если зима будет мягкая, без частых вьюг, бригада спокойно дойдет до болота к весне. Борис Иванович не подозревал, что все его расчеты полетят к чертям, не догадывался, что ему не придется довести просеку до конца, не знал, что через неделю начальник управления Николай Николаевич Никонов вызовет к себе начальника поезда Романычева вместе с начальником механизированной колонны, который будет делать отсыпку земполотна на этом участке, и все пойдет по–иному.
Федор Алексеевич Романычев вошел в приемную начальника управления строительства железной дороги, кивнул секретарше, как старой знакомой, и вопросительно указал большим пальцем на дверь кабинета.
— Занят пока. Погодите… — дружелюбно ответила секретарша, спокойная и обычно неразговорчивая девушка. — Раздевайтесь!
Федор Алексеевич стал не спеша снимать полушубок, шарф. Распахнулась дверь кабинета, выскочила, улыбаясь, молодая женщина в вельветовых джинсах с какой–то бумагой в руке и прошумела листом мимо Романычева, часто стуча каблуками по паркету.
— Ух ты, быстрая какая! — засмеялся ей вслед Федор Алексеевич.
Секретарша клацнула клавишей переговорного устройства и сказала:
— Николай Николаевич, Романычев…
— Минутку! — услышал Федор Алексеевич из аппарата.
Ответив секретарше, Николай Николаевич взглянул на телефон, смотрел некоторое время на него, тихонько поднял трубку, услышал протяжный гудок и бросил назад на рычаги. Никонов усмехнулся над собой, снял снова трубку и начал быстро набирать хорошо знакомый служебный номер Ирины, сестры жены. Жена умерла четыре года назад.
Ирина, можно сказать, воспитывала сына Николая Николаевича, в два года оставшегося без матери. Сейчас ему было шесть лет, и он звал мамой Ирину.
Николай Николаевич женился поздно, было ему тогда под сорок. Жену взял на тринадцать лет моложе, а через пять лет она умерла. Сестра ее, Ирина, как раз в то время разводилась с мужем и, чтоб забыться, все свободное время возилась с двухлетним Ромкой, своих детей у нее не было. Когда Никонов задерживался на работе, Ирина забирала мальчика из детского сада, кормила, укладывала спать, ставила кофе и дожидалась Никонова. Они неторопливо пили кофе, разговаривали. Ирина обычно рассказывала, как у нее прошел день, работала она инженером в техотделе завода и, в общем–то, мало происшествий было в ее жизни, но то ли Ирина умела хорошо рассказывать о будничных делах, то ли после дневной суеты приятно было просто сидеть, слушать голос молодой женщины. Николай Николаевич всегда с удовольствием поддерживал разговор, изредка спрашивал о ком–нибудь из сотрудников Ирины. Их он давно уже знал заочно. Посидев часов до одиннадцати, Ирина поднималась, говоря:
— Пора, пора! Засиделась опять!
— Ты и здесь ночевать можешь. Места много! Хоть в той комнате, хоть в этой! — как бы равнодушно говорил Николай Николаевич.
— Нет, нет! Тут недалеко… Десять минут… — отказывалась Ирина.
Николай Николаевич провожал ее до автобусной остановки. По дороге они молчали. И молчание это было неловким.
В последний месяц Никонов особенно часто стал задерживаться на работе, но задерживался не надолго.
Не успевала Ирина покормить Ромку, как появлялся он, извиняясь, что опять побеспокоил ее. Ирина почти всегда сразу намеревалась уйти, но Ромка не пускал ее, и она шутила, мол, придется кормить вас, мужики, а то с голоду пропадете.
А молчание по дороге к автобусной остановке становилось все тягостней.
Услышав в трубке голос Ирины, Николай Николаевич все же спросил, чувствуя нервный холодок в груди:
— Ирина?
— Да…
Никонов молчал, не зная, как заговорить. Ирина тоже молчала, потом спросила:
— Ромку взять нужно? Да, Николай Николаевич?
— Да–да! — быстро выдохнул он. — Опять, черт, придется задержаться…
— Вы не беспокойтесь! — заверила его Ирина. — Я заберу…
И опять наступило молчание.
— Ну… до вечера… — сказала Ирина.
— Погоди! — вскрикнул Никонов. — Ирина! — быстро заговорил он. — Я с тобой поговорить хотел, вечером… Ну да, ладно… Я сейчас… Я давно… Понимаешь, Ромка давно тебя мамой зовет… Ну понимаешь… будь мамой… не уходи от нас вечером! Оставайся навсегда! Понимаешь, навсегда!
Из трубки бил в ухо шорох, потрескивание. Николаю Николаевичу показалось, что сейчас он услышит частые гудки, он испугался и почти закричал:
— Ты возьмешь Ромку? Ты возьмешь, Ирина?
— Я возьму, возьму! — быстро ответила она. — До вечера!
И положила трубку.
Никонов посидел мгновение, поднялся и подошел к окну, сжимая ладонью левую сторону груди под пиджаком, старался унять колотящееся сердце. «Как глупо! — с горечью и стыдом вспоминал он разговор с Ириной. — Будь мамой! Не мог по–человечески сказать, старый черт! Седина в голову, а бес в бороду… А почему бес в бороду? Может, еще куда? А черт с ним, с бесом!..»
Николай Николаевич пригладил рукой зачесанные назад седые волосы и открыл дверь в приемную.
— Входите! — пригласил он Федора Алексеевича и только что вошедшего начальника мехколонны.
Никонов, когда к нему вошли Романычев и начальник мехколонны, имел озабоченный вид. Он усадил начальников к столу, сделал попытку улыбнуться, отводя глаза в сторону, как всегда перед началом разговора, и провел рукой по волосам. Федор Алексеевич догадался по этому жесту, что их ожидает какое–то новое нелегкое задание, и заранее нахмурился, прикидывая, какие в таком случае можно выбить привилегии для своего строительно–монтажного поезда.
Романычев, прежде чем стать начальником СМП, работал в министерстве транспортного строительства. Туда он получил направление из института. Несколько лет, несмотря на репутацию делового и энергичного человека, он почти не двигался по служебной лестнице. Был мальчиком на побегушках, как говорил он своим друзьям. Ему посоветовали года два поработать в Сибири, сделать весомее биографию, а потом возвращаться в Москву. Федор Алексеевич так и сделал. Как только открылась вакансия начальника СМП, он попросился в Сибирь. Это было полтора года назад. Приехал Федор Алексеевич один, без семьи. Все понимали, что в управлении он человек временный, но, несмотря на это, Федор Алексеевич пришелся по душе Никонову, стал чуть ли не его любимцем. Недоброжелатели поговаривали, что Николай Николаевич лебезит перед Романычевым, опасаясь его связей в министерстве, да и знает, что Федор Алексеевич все равно вернется в Москву на более высокий пост, а там кто предугадает, не окажется ли он, Никонов, в зависимости от Романычева. Но они были неправы. Никонову нравился новый начальник поезда. Федор Алексеевич был человек немногословный, с энергичным лицом, одевался всегда опрятно и по моде, про него говорили, что он на прием рабочих по личным вопросам обязательно надевает бархатный пиджак, белую сорочку и галстук. Таким должен быть современный руководитель, считал Николай Николаевич.
Федор Алексеевич знал, что Никонов всегда говорит без предисловий, самую суть, и приготовился слушать.
— Вызвал я вас, товарищи, — заговорил начальник управления, — для важного разговора! Вы знаете, что по графику мы должны пройти болото только будущей осенью… Сейчас мы опережаем график работ на четыре месяца! Так что мы теперь в таком положении: или все достигнутое полетит собаке под хвост, или выиграем еще месяца три… Вам хорошо известно, что значит для страны наша дорога… — Никонов умолк, задумался, прежде чем произнести главное. Федор Алексеевич и начальник мехколонны молча смотрели на него. «Понятно, — думал Романычев, — выиграем еще три месяца, шанс у него будет звезду на грудь получить. Леонид Ильич на ордена не жадный. Провалимся, и орденка паршивого не дадут… Пусть получает, и нас не обойдут. Чем выше награду получит Никонов, тем выше и мы… Поработаем, постараемся: языком трепать — не топором махать!» — усмехнулся он про себя.
— Мы должны пройти болото с отсыпкой полотна, — продолжил Никонов, — до весенней распутицы! А это значит, ваши лесорубы, Федор Алексеевич, должны выйти к болоту не к маю, как мы рассчитывали вначале, а к марту…
Что угодно ожидал услышать Романычев от начальника, но только не это. Программа работ в поселке Вачлор и без того была до предела напряженной, людей не хватало, и вдруг такое!
— Да! — крякнул он и качнул головой, думая, что нужно выбивать людей. — Своими силами мы не справимся!
— Я понял ваш намек… — Никонов снова пригладил ладонью седые волосы со лба к затылку. — Но увы, бригаду украинских лесорубов перебросить к вам я не могу. Даже на две недели! Они тоже на важном участке. Надо справиться самим! Надо! Если засядем на болоте на все лето, что будете рабочим платить…
— А как жилье для наших рабочих? — спросил начальник мехколонны. — Не получится ли в спешке, как в прошлый раз. Все силы на просеку, а жилье строить некому!
— На этот счет не беспокойтесь! Дважды одну ошибку повторять не будем…
36
Лесорубы не знали об этом разговоре, спокойно тянули широкую просеку по тайге. Визг бензопил резко раздавался в морозном воздухе. Деревья валились, взметывали верхушками фонтаны снега. Стучали топоры обрубщиков сучьев. Трелевщик Гончарова мотался по просеке, собирал деревья в кучи по краям. Отсюда их потом заберут в поселок. Возле костра грелись два парня, отдыхали.
Колунков выдернул пилу из ствола начавшего валиться дерева. Его помощник «вилкой» направил ствол на просеку. Верхушка полетела в сторону Нади, обрубавшей неподалеку сучья.
— Надюша, берегись! — вскрикнул Павлушин. Ему показалось, что верхушка непременно достанет до нее.
Девушка подняла голову. Верхушка кедра ухнула в снег довольно далеко.
— Наденька! — все–таки сказал Андрей. — Не подходи близко! — Потом спросил: — Что–то я у костра тебя совсем не вижу?
— Работать теплей, — улыбнулась девушка, стряхивая с плеча снег.
— Ну как топор? Лучше этим работать? — спросил Андрей, взял его из рук девушки и снова попробовал лезвие пальцем — не затупился ли.
— Конечно, лучше! — ответила Надя, сияя глазами. — От того руки к концу дня отваливались… Только подточить его надо, затупился…
— Вечером напомни, поточу, — пообещал Павлушин и направился было к костру, но увидел за деревьями в стороне от просеки бригадира, который стоял под сосной согнувшись, прижимая обе руки к животу. Андрей торопливо двинулся к нему.
— Ну как, Надюха? — сразу же подошла к Наде Шура, показывая глазами на удаляющегося Павлушина.
— Хватит тебе… — ответила Надя недовольно.
— Ты улыбайся ему поласковей! — шутливо похлопала по спине подруги Шура.
. — Ну тебя! — уже сердито сказала Надя, не принимая тона Шуры, и добавила с укором: — Я тебе, как подруге… а ты…
— Не сердись! И нос не вешай! Не долго он будет Анюткой бредить. Мужики, они такие…
— Ладно, ступай! — отвернулась от нее Надя и начала обрубать сучья.
Андрей торопливо подошел к Ломакину.
— Опять язва?!
— Скрутила, сволочь! — сквозь зубы ответил бригадир. — Продыху не дает!
— В больницу вам надо, Борис Иванович! Зачем себя мучить? Она ведь и прорваться может… Я сейчас Гончарову скажу! Он вас в поселок отвезет. А там вертолетом…
Павлушин побежал на просеку.
— Не надо, Андрюша! — слабым голосом крикнул ему вслед Ломакин. — Отойду!
Но Андрей не оглянулся, выскочил на просеку, свистнул и махнул рукой, подзывая к себе выглянувшего в окошко двери трелевщика Гончарова. Трактор всхрапнул и двинулся к Андрею. Сюда же на край просеки, придерживаясь за стволы деревьев, вышел бригадир, решая, кого оставить в бригаде вместо себя. Кто не подведет? Лесорубы должны не расслабляться ни на один день! Ни на час! Кого они будут слушаться? Может, Матцев? Вряд ли он согласится… Павлушин? Жаль, слишком молод! Звягин, Колунков? Тоже не то… Звягин плотник, там бы лучше него не было, а здесь… Может, все–таки Павлушин? Энергичный, дело знает! Ломакин вспомнил, как на прошлой неделе посылали его в основной поселок со списком нужных здесь вещей. И Андрей все достал, все привез! Ломакин считал, что половину выбьет — и то хорошо. А он все привез! Даже запасные цепи для бензопил достал. Павлушин сможет! Ничего, что молодой. Ничего!
Подбежал Сашка. Подошли, бывшие неподалеку девчата, Колунков, Звягин, другие лесорубы.
—- Ничего, сынок, ничего! — хрипло говорил Ломакин. — Оклемаюсь… Она у меня двадцать лет с лишком… Не хотел покидать вас! Нелегко тут… Каждый человек нужен… Но, видно, надо… надо…
Павлушин и Сашка помогли ему взобраться в кабину. Борис Иванович сел и, держа дверь трактора открытой, обратился ко всем:
— Павлушин остается за меня! Он хоть и молодой… Но дело знает… Не зарвется…
37
В поселок Вачлор неожиданно прилетел начальник управления вместе с начальником поезда Романычевым. Федор Алексеевич обратил внимание, что Никонов чем–то возбужден. В вертолете он все время улыбался, поглядывал в иллюминатор на блестевший на солнце снег на озерах и болотах и молчал. Бодро спустившись по ступеням на вертолетную площадку, Никонов огляделся вокруг, щурясь от слепящего снега, и хлопнул рукой в перчатке по спине Федора Алексеевича, который отвернулся от ветра и застегивал под подбородком верхнюю пуговицу своего полушубка.
— Мерзнешь? — сказал радостно Никонов.
—- Вы запахнитесь, запахнитесь, не гордитесь, что сибиряк! — весело щуря глаза, ответил Романычев и поглубже натянул на голову пыжиковую шапку.
Николай Николаевич засмеялся и двинулся к поселку навстречу ветру. Мерзлые бревна вертолетной площадки прорычали под его унтами, и запел, засвистел морозно плотный снег. Федор Алексеевич догнал его. Шли они не спеша, по–хозяйски посматривали на заснеженное озеро, на две березки–сестрички, замерзшие на берегу, на палатки под деревьями, на плотников, копошащихся возле сруба бани с частыми бревнами стропил, на темневшую бревнами стен лесопильню, откуда беспрерывно несся визгливый голос циркулярной пилы.
— Чудесное место для поселка! — восхищенно сказал Никонов.
— Хорошее, — поддержал Романычев. — На рыбалку можно будет и зимой и летом ходить. Не далеко…
— Рыбалка, ягоды, грибы! Все под боком. Не ленись только… — говорил Николай Николаевич.
С озера тянул морозный ветер. Змейками тащил снег по поляне. Солнце, несмотря на полдень, жалось к земле, не поднималось высоко над тайгой.
Николай Николаевич снова вспомнил Ирину, вспомнил, что сегодня вечером, когда он позвонит в дверь своей квартиры, она откроет ему как мужу, откроет и не заторопится домой. Вспомнил и снова засмеялся, звонко хлопнул перчаткой по полушубку Федора Алексеевича и сказал громко:
— Такие–то дела!
Бригадиру плотников, неприметному на вид мужичку в телогрейке защитного цвета, в валенках с длинными голенищами и в шапке с поднятыми на затылок ушами, он бодро тряхнул руку и показал на красные кончики его ушей:
— Отморозишь.
— Ничего… Жарко!
Федор Алексеевич заговорил с бригадиром о делах, а Никонов радостно слушал их разговор, словно бригадир рассказывал необыкновенно интересную историю.
Бригадир увидел Никонова рядом с начальником поезда и заволновался, думая, что, несмотря на то, что работа кипит, лесорубы завалили бревнами — только строй, начальство найдет к чему придраться, но, почувствовав, что Николай Николаевич настроен благодушно, успокоился, рассказал, как идут дела, и стал просить подкинуть побольше гвоздей и скоб.
— Зимник тянем! Недалеко уже, — ответил Романычев. — Скоро машины пойдут — все доставим… Кстати, щиты пойдут, все на бараки перейдете. Поторапливайтесь!
Никонов и Романычев заглянули в палатки, в котлопункт, потом устроились в кузове тягача «Атээлки» и направились на просеку. «Атээлка» ходко бежала по неглубокому снегу широкого коридора просеки. В морозном воздухе звонко лязгали, перекликались траки гусениц, поднимали сзади тягача снежную пыль.
— Федор Алексеевич, вы когда жену из Москвы вызовете? — спросил, улыбаясь, Никонов.
— Сюда переберемся, тогда… — ответил Романычев.
— Давайте, давайте, скорее вызывайте!.. А то смотрите, я видел, какие тут девки! — погрозил пальцем Никонов.
— Николай Николаевич, — засмеялся Федор Алексеевич, — значит, девчата наши понравились! Давайте из них вам жену подберем. Хотите?
— Опоздал! — захохотал радостно Никонов. — Опоздал, брат! Женился я уже!
— Да-а! — воскликнул Романычев. — А как сын ее принял?
— Он давно ее мамой зовет.
— Понятно!
— Ничего вам не понятно, — смеялся Никонов.
«Атээлка» неожиданно заурчала, сбавила ход и остановилась, качнув кузовом. Стал слышен голос другого работавшего мотора. Федор Алексеевич выглянул наружу, увидел костер, торопливо горевший в двух шагах от тягача, обрубщиков сучьев, разбросанных по всей просеке, трелевщик Гончарова и сказал Никонову:
— Приехали!
Он выпрыгнул в снег, упруго присел, чиркнув полами полушубка по сучку в снегу, выпрямился и стал поправлять на груди шарф, галстук. Никонов тоже нацелился было спрыгнуть с борта, но передумал, навалился животом на низкий борт, нащупал носком унта скобу, оперся и спустился на землю.
Гончаров подъехал к тягачу, приглушил мотор трелевщика и выбрался из кабины.
Николай Николаевич, улыбаясь ему, как близкому другу, с которым неожиданно встретился на улице города, скинул перчатку и протянул руку. Гончаров быстро и растерянно взглянул на свою смуглую от мазута ладонь, потом на белую руку начальника.
— Давай! — засмеялся Никонов. — Отмоемся… Работается–то как?
— Замотали, собаки! — кивнул Гончаров в сторону обрубщиков, которые, оставив топоры в бревнах, стягивались к костру. Андрей подошел одним из первых. Он еще издали увидел тягач и догадался, что едет кто–то из начальников, но Никонова он увидеть не ожидал.
— Это хорошо! — бодро ответил Николай Николаевич на слова Гончарова и обратился к лесорубам: — Не холодно?
— Некогда мерзнуть–то. Вы гоните и гоните вперед! — шутливо ответил Андрей, почувствовав настроение начальства.
— Павлушин Андрей, бригадир, — представил его Никонову Федор Алексеевич и добавил полушутливым тоном. — Только на стройку приехал и сразу же взял в руки ее судьбу.
— Это верно! — посерьезнел Никонов, оглядывая лесорубов. — Судьба стройки сейчас в ваших руках. Без преувеличения! — Он умолк на мгновение. Все вокруг тоже молчали, понимая, что начальник управления еще не кончил. — От вас сейчас зависит решение важной государственной задачи! — Никонов снова помедлил и сказал самое главное. — Да, ребята, важной задачи. Выйти вам к болоту надо к первому марта!
— Ого! — присвистнул кто–то за спиной Павлушина.
— Как же так, — сказал Павлушин. — Мы к маю стараемся…
— Да! Так планировалось… Но сегодня ситуация изменилась…
Николай Николаевич стал объяснять. В этот момент он походил на школьного учителя, проводившего урок на природе. Изредка он поднимал шапку над головой, приглаживал ладонью седые волосы и опускал на них шапку.
— Если вы не выйдете к болоту к марту, мехколонны не успеют проскочить его до весенней распутицы и засядут в нем до осени. Труд многих подразделений пойдет прахом… А дорога нужна стране, ой как нужна! — закончил он.
Наступила тишина. Только слышалось бормотанье моторов трелевщика и тягача да потрескивание дров в костре. Колунков кинул сучок в огонь. Олег безучастно относился к происходящему. Ему все равно было: как решат, так и будет.
— Все от вас зависит… Только от вас… — негромко сказал Павлушин, глядя на начальника управления.
— То есть? — спросил Никонов.
— Все только от вас зависит — повторил Андрей уже уверенней. — Можно в два раза быстрей закончить просеку. Можно! Надо только добавить людей, бензопил, да бригаду на две части разделить. Половину оставить здесь, а половину забросить дальше, в тайгу, с вагончиками, чтобы они и жили там… Так, думаю, справиться можно… да, думаю, можно!
— Сдуру и дерево головой сбить можно… — буркнул сзади Мишка Калган.
— Что говорить зря: надо, значит, надо! Будем делать! — перебил его Звягин.
— Мысль Павлушина дельная. Мы тоже об этом думали, — сказал Федор Алексеевич. — Будем организовывать… Будут вам и вагончики для другой бригады, и люди. А пока нужно темп увеличивать!
— Видать, теперь наши выходные тю–тю! — сказал Звягин, радуясь в душе такому обстоятельству, при аврале всегда платят хорошо. — А как насчет оплаты?
— С этим тоже порядок должен быть! — поддержал его Павлушин.
— Насчет оплаты не сомневайтесь. В успехе дела заинтересованы все! — ответил Никонов.
— И грамм по двести в день на брата! — проговорил Колунков.
— Во! Это мысль! Тогда мы горы свернем! — воскликнул Гончаров, хлопнув рукавицами.
Лесорубы засмеялись. Улыбнулись и начальники.
— Были бы здесь горы, непременно бы организовали, — пошутил Федор Алексеевич, — а то одни болота, утонете еще… А вот на Новый год и по триста будет!
38
Дни становились короче. Солнце несмело поднималось над тайгой и, повисев немного расплывчатым пятном, скатывалось за деревья. Лесорубы просыпались задолго до рассвета. Матцев первым выскакивал из палатки раздетый до пояса, несмотря на усиливающиеся морозы, и бегал по дороге, энергично двигая лопатками. Снег визжал под его валенками. Вернувшись к палатке, он осыпал себя сухим снегом, растирал плечи. Далеко по тайге разносились его радостные крики, уханье и кряканье.
На просеку приезжали затемно, разводили костер, грелись. Ночь нехотя, недовольно отступала, уползала на запад, темнота разжижалась. Из сплошной темной массы проступали очертания деревьев. Лесорубы расходились по просеке. Резко раздавалось ленивое покашливание бензопилы. Ей откликалась другая, подхватывала третья. Бензопилы радостно, в унисон, затягивали длинную протяжную мелодию, перекрываемую изредка треском сучьев падающих деревьев. К ним подключались топоры. Они выстукивали, вызванивали по всей просеке. Среди обрубщиков мотался трелевщик. Он то басом всхрапывал, пуская дым в небо, то однообразно и натужно рокотал, втягивая на щит связку бревен, то стихал, вел свою партию тихо, бормоча, пока цепляли тросом бревна.
Когда сумерки сгущались на столько, что деревья сливались в однообразную массу, лесорубы неторопливо, устало собирались у костра, поджидая «Атээлку», набивались в кузов и покачивались в темноте до поселка.
В Вачлор провели зимник — зимнюю дорогу. Теперь сюда можно было добираться не только по воздуху. Каждый день шли машины, везли деревянные щиты для сборных домов, вагончики, инструменты. По ночам поселок освещал мощный прожектор, и все время был слышен привычный рокот дизеля.
В один из таких вечеров «Атээлка» бойко подбежала к столбу с прожектором, остановилась, клюнув носом вперед и подбросив вверх кузов. В ослепительный от света прожектора снег выпрыгнул Колунков, за ним посыпались лесорубы. Сверху падал небольшой снежок, похожий на манную крупу. Ветер погуливал меж палаток, лениво играл дымом над трубой топящейся бани, заглядывал в единственное окно временного бревенчатого котлопункта, который недавно построили плотники. В окошко видны были Анюта и Таня в белых колпаках, готовящиеся принять ораву мужиков на ужин.
Колунков в шапке и телогрейке бухнулся спиной на свою кровать и, глядя, как лесорубы раздеваются, греют руки над печкой, с блаженным видом выдохнул:
— Фу, с таким бригадиром скоро ноги протянешь!
Борода Колункова растрепана, поблескивают в ней капли воды от растаявшего инея.
Павлушин сидел за столом, устало положив руки на колени.
— Как бригадир, Пионер сойдет! — отозвался Гончаров. Он присел на корточки около печки и подбрасывал в нее дрова. — Только о людях заботится плохо… Обеспечивал хотя бы грамм по сто на брата, вот тогда бы всем хорош был!
— Не трави душу, Цыпленочек!
— По сто грамм вам не будет, — оглянулся, усмехаясь, Андрей. — А вот выходной завтра будет! Завтра воскресенье. Отдохнем! В баньку сходим… А то выдохлись все. Так тоже не хорошо…
— Ты серьезно, Пионер? — быстро спросил Колунков.
— Серьезно.
— Значит, поохотимся! — вскочил с кровати Олег, кинул на нее шапку и начал раздеваться. — А то ружья зря ржавеют…
Звягин, снимая телогрейку, увидел в боковом кармане уголок потертого конверта и снова вспомнил о письме Васьки Кулдошина. Уже больше месяца жгло оно грудь Звягина. Днем он думал, что распечатает вечером в палатке, в спокойной обстановке. Но вечером снова откладывал. Теперь, увидев в кармане конверт, он решительно вытащил его, подошел к печке и кинул в огонь: нечего себе душу терзать, не было никакого письма.
На другой день ветер усилился. Небо с утра было затянуто белесой пеленой. Но Павлушин, Колунков и Звягин все–таки решили погулять по тайге вдоль берега озера. У Андрея ружья пока не было, и он попросил у Сашки. Они разбрелись в разные стороны, но шли так, чтобы не выпускать друг друга из виду. Андрей держал ружье под мышкой, брел меж деревьев по мягкому снегу, который был еще неглубокий. Ветер раскачивал верхушки деревьев, шумел, сердито посвистывал, осыпал снегом охотников. Павлушин не обращал внимания на ветер, снег, брел, задумавшись, вперед, забыв, что он на охоте. Вдруг метрах в десяти от Андрея с фырканьем, громким и неожиданным, как взрыв, взметнулись глухари. Павлушин вздрогнул, испуганно замер, потом схватился за ружье и выпалил вслед птицам из обоих стволов. Но Колунков успел выстрелить раньше, хотя птицы были далеко от него.
— Ты что?! Охотишься или спишь? — кричал сердито, подбегая, Олег. — Ты же чуть на них не наступил!
— Задумался…
— В палатке надо было сидеть, думать!
— В кого стреляли? — подошел Звягин.
— Да вот, спит на ходу! — сказал Колунков. — Из под валенок у него глухари вылетели, а он…
Охотники побрели дальше, вновь удалившись друг от друга, Андрей теперь держал ружье наготове, внимательно вглядывался в кусты, снег впереди себя, но было тихо, только ветер шипел, свистел наверху да поскрипывали деревья, и Павлушин снова расслабился, снова ушел в свои фантазии. Представлялось ему, как летом в солнечный день, непременно в солнечный день, в такой, который бывает только в детстве, идет он под руку с Анютой мимо высоких ветел, росших вдоль штакетника, к калитке. Входят они в палисадник. В окно выглядывает мать Андрея. Лицо ее в радостном удивлении застывает за стеклом на мгновенье, потом исчезает. Мать появляется на крыльце, куда уже по ступенькам поднялись Андрей и Анюта.
— Андрюшенька! — обнимает и целует мать сына, затем вопросительно смотрит на девушку.
— Это, мам, Анюта! — говорит он с радостной гордостью.
Мать обнимает Анюту и… Андрей вздрогнул от резкого хлопка выстрела.
Он вскинул ружье и огляделся по сторонам.
— Ребята! Ребята! Сюда! — раздался возбужденный крик Звягина.
Павлушин побежал на голос. За ним продирался сквозь кусты Колунков.
— Ребята, смотрите кого я подстрелил?!
Звягин держал за хвост куницу. С ее мордочки капали в снег красные капли.
— Это вещь! — мял зверька Олег.
— Я иду! — возбужденно рассказывал Звягин, — Смотрю — под кедром пушистое что–то. Я прицелился и — раз! Он даже в воздух взлетел. Я думал, удерет! А он–вот он!
— Да-а! Это штука! — поглаживал Колунков пушистый мех.
39
Возвращались охотники по своим следам, которые уже начал затягивать снежок. Олег со Звягиным шли довольные. Колунков все–таки подстрелил глухаря. Павлушин и Звягин стреляли несколько раз по куропаткам, но без толку. Андрей грустил, но грустно ему было не от того, что возвращался он без добычи.
Показался поселок. Ветер стал старательнее осыпать охотников снегом. Он то ли усилился, то ли на озере ему не мешало ничто развернуться. Левее недостроенного дома Андрей увидел Матцева, увидел и почувствовал горечь, обиду.
— Пойду еще поброжу. Неохота без добычи возвращаться, — стараясь говорить как можно спокойнее, сказал Павлушин и повернул к Матцеву.
Некоторое время он не догонял Владика, шел следом. Матцев не спеша брел в глубь тайги. Ружье у него висело на ремне на плече. Андрей с каким–то мстительным наслаждением вглядывался в ладно сидевший на Владике полушубок, в заячью серую шапку, припорошенную снегом.
— Владик, погоди!
Матцев остановился, подождал Андрея.
— Мне с тобой поговорить надо, — сказал подходя Павлушин, неприятно чувствуя дребезжание в своем голосе.
— Говори.
— Оставь Анюту! — твердо проговорил Андрей. Глядел он в глаза Матцеву.
— Я думал, что ты о веселом о чем, а ты за старое. Бывай!
Владик повернулся и так же неторопливо пошел дальше. Павлушин обогнал его и встал на пути.
— Погоди! Я серьезно! — угрожающе сказал он. — Ты, гад, разве не видишь, что это для нее не игрушки?
— Слушай, Пионер! На черта тебе баба? Ты малый энергичный, деловой. Сам говорил, что у тебя впереди большая дорога… Сгубит тебя баба. Плюнь ты на нее. После, благодарить меня станешь. А сейчас ступай домой, отдохни… Я погуляю один… Не мешай!
Матцев говорил лениво. Лицо его выражало скуку, казалось, что ему вообще не хочется произносить слова. Он повернулся и пошел в другую сторону.
— Стой, гад! — заорал Андрей, срывая с плеча ружье.
Матцев не спеша вернулся.
— Знаешь, Пионер, — все тем же тоном сказал oн. — Я бы тебе отдал ее, но ты плохо себя ведешь. Про жену мою натрепался. Ружьем пугаешь… Иди домой! — Владик сильно толкнул в грудь Павлушина.
Андрей отлетел к сосне, запутался в ветвях. Снег посыпался ему на голову.
Матцев засмеялся, наблюдая, как Андрей трепыхается в кустах, пытаясь выбраться.
Павлушин, наконец, выбрался и, не выпуская из рук ружья, кинулся на Владика. Матцев левой рукой перехватил его ружье за ствол, дернул к себе и ударил Андрея в подбородок. Павлушин выпустил ружье и полетел назад в кусты.
— Жаль, что пушка бригадира, а то бы одни щепки остались, — произнес Матцев.
Он отбросил ружье далеко в снег и пошел дальше прежним неспешным шагом.
Андрей выкарабкался из кустов и взбешенный от бессилия и унижения бросился к ружью. На бегу он скинул перчатку и начал рвать патрон из патронташа.
Он не поддавался. Матцев удалялся. Андрей схватил утонувшее в снег ружье и вскинул приклад к плечу. Грохнул выстрел!
Матцев оглянулся. Андрей стоял с ружьем, опустив ствол вниз, сам ошеломленный выстрелом.
— Стрелять учись, охотник! — насмешливо крикнул Владик и пошел дальше.
Павлушин от ужаса совершенного им словно одеревенел вначале, шевельнуться не мог. Потом в груди его будто порох вспыхнул, обжигая. Андрей резко повернулся и бросился бежать в противоположную сторону. Бежал он, не чувствуя, как жесткие, словно проволока, ветки царапают лицо, бежал долго, пока не стал задыхаться. На мгновенье остановился, привалился плечом к дереву, отдышался немного и быстро пошел дальше. Андрей не соображал, куда идет, не думал, что будет теперь делать. Только бы подальше уйти от места стычки! Словно чем дальше он уйдет, тем легче ему будет! В голове в тысячный раз взрывался выстрел и неожиданно стал возникать какой–то отчаянный крик. Андрей постанывал, машинально обходил деревья и продирался сквозь кусты. Он не заметил спуск в овраг и упал, скатился вниз, насыпал снег в перчатки, зачерпнул валенками, но ни высыпать снег, ни отряхаться не стал. Закинул за спину слетевшее с плеча ружье и двинулся по дну неглубокого оврага на другой берег. На дне ни кустов, ни деревьев не было. Снег лежал ровным мягким слоем. Идти по нему было легко. Андрей отметил это бессознательно про себя и вдруг услышал какой–то треск, грохот. Он рухнул куда–то вниз, успел машинально выбросить вперед руки. Поток воды подхватил его и потащил под лед. По дну оврага бежала та быстрая речушка, из которой брали воду десантники. Андрей ухватился за край льда, но поток упорно тащил под лед. Ноги Павлушина в больших отяжелевших валенках безвольно вытянулись вперед по течению. Андрей от испуга не чувствовал холода. Опомнившись, он сбросил ружье с плеча. Оно сразу же исчезло в воде. Андрей оперся руками о край льда и рванулся наверх, но тонкий панцирь, затянувший сверху быструю речку, не выдержал тяжести и обломился. Андрей снова оказался в воде. Он почувствовал, что один валенок, набухший в воде, слетел с ноги. Без него стало свободней. Тогда Павлушин, осторожно придерживаясь за лед, мотнул ногой, сбросил и другой валенок, опустил ноги вниз и встал на дно. Встал и выпрямился. Вода доходила ему всего до пояса. Сознание обожгло радостью: не все! Не все еще! И тут же он почувствовал сковывающий холод. Течение теперь не казалось таким сильным. Вероятно, первоначальный испуг исказил, преувеличил опасность. Андрей двинулся к берегу, ломая руками впереди себя лед. Не прошел он и два метра, как речка кончилась. Павлушин выбрался на берег и упал в снег. Ноги не держали. Все тело охватил озноб. В голове стучало: «Замерзну! Замерзну!» Павлушин сел, стянул шерстяные носки и выжал. Голые мокрые ступни показались ему на белом снегу необыкновенно розовыми. Он хотел снять и выжать брюки, но не решился, холодно! Его продолжало трясти. Покрутил окаменелыми пальцами штанины, поднялся, натянул на непослушные руки перчатки. Спичек с собой не было. Да и замерзнешь, пока костер разведешь. Надо бежать, бежать, согреться бегом! Но куда бежать? Андрей оглянулся назад. На дне оврага чернела в снегу полоса воды. Была она всего метра два в длину. На том берегу сквозь падающий снег видны его следы. Их постепенно заносило, затягивало поземкой. Долго ж он шел? — соображал Павлушин. И как туда перебраться? Снова в воду лезть? Он вспомнил, что это та самая речушка, к которой он ходил с Анютой за водой. Она же впадает в озеро неподалеку от поселка! По течению можно выбраться к озеру, а там по льду к поселку. Андрей побежал вниз, продолжая дрожать всем телом. Он бежал, цеплялся за ветки деревьев, скользил по склону, падал, поднимался и бежал дальше. Дрожь начала отпускать тело, но ноги одеревенели. Он их перестал чувствовать. Мокрая, тяжелая от воды одежда мешала бежать. Она схватывалась морозом, коленела. Андрей задыхался, с хрипом в горле хватал воздух ртом. «Бежать, бежать! Только не останавливаться!» Но ноги не слушались. И тут он понял, что не доберется до поселка, замерзнет! «Нет, доберусь… мама!.. доберусь… мама!.. мамочка… — бормотал он посиневшими губами. — Доберусь!» Где же озеро? Где оно! Берег оврага стал ниже и положе. Андрей выбрался на него и поглядел вперед, надеясь увидеть озеро. Но впереди были одни деревья, деревья и сыплющийся сверху снег. Павлушин не знал, что озеро находится всего в ста метрах от него и что сейчас он стоит как раз против того места, где десантники брали воду. Андрей опустился бессильно под толстым кедром в снег. Ему все стало безразлично! Он подтянул колени к подбородку, сжался в комок, надеясь согреться. Вскоре он почувствовал себя легче, хотя дрожь с новой силой возвратилась. Он начал забываться. «Я же замерзаю!» — вяло подумал Андрей, но шевелиться не хотелось, и он остался под деревом. Но вдруг эта мысль пронзила его, и Павлушин поднялся. «Надо идти! Надо идти!» — повторил он про себя и бессознательно двинулся по тайге, не выбирая направления. Он уже не бежал, а брел, повторяя и повторяя: «Надо идти! Надо идти!» Андрей удалялся от спасительного берега речушки в глубь тайги. Он шел и шел, шел и шел, уже не думая ни о чем, то и дело натыкаясь на деревья, обходя их.
40
Лесорубы к вечеру помылись в бане, собрались в палатке, растянулись на кроватях и блаженствовали после парной. Сашка держал на груди транзистор и слушал последние известия. В мире было неспокойно, напряженно. Шли демонстрации, с лицемерными речами выступали политики. В палатке было тепло, уютно, но за стеной шумели на ветру сосны.
Колунков следил за Звягиным, который осторожно натягивал на самодельные пяльцы вывернутую шкурку куницы.
— Отменный воротничок будет! — говорил Звягин, с удовольствием щуря глаза. — А я к ханту хотел за шкуркой податься…
— А главное, задаром, — в тон ему произнес Колунков.
— Как я его не проглядел?.. Надо нам было еще полазить. Матцев с Пионером все ходят… Интересно, принесут ли они что?
— Они долазаются, — проворчал Гончаров. Он сидел на корточках у открытой дверцы печки и совал в нее щепки. — Вон как запуржило… И все усиливается! Заблудятся еще… Там уже темнеет!
— Не заблудятся. Не маленькие, — сказал Звягин. — Прожектор далеко видать.
Сашка перевел транзистор на другую волну и поймал песню.
Прощай! Ничего не обещай! Ничего не говори! И чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри… —бодро понеслось по палатке.
— Во какие песни пошли! — усмехнулся Гончаров. Он закрыл дверцу печки и взял с кровати телогрейку, — Прощается с девкой и словно радуется. Ишь каким голосом поет! «Прощай, ничего не обещай»… — передразнил он. — А еще печаль вспоминает. Тьфу! В пустое небо посмотри!
— А раньше что, лучше песни были? — повернулся к нему Сашка.
— Конечно, лучше! — воскликнул Гончаров. — Раньше все песни из сердца шли! В каждой песне чувство было! Разве так прощались?.. «На позицию девушка, — негромко запел он, — провожала бойца. Темной ночкой простилися на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек»… Вот как разлучались! А то — «в пустое небо посмотри!» Тьфу! — Гончаров натянул ватник, надел шапку и направился к двери. — Пойду к поварам. Может, помощь им нужна…
Дверь перед самым его носом открылась, и в палатку ввалился Матцев. Он был весь в снегу, на боку болтался глухарь.
— Фу, наконец–то добрался!
— Вы бы еще до полночи шлялись! — сердито бросил Гончаров. — А мы переживай тут. Где Андрей?
— Пионер?.. Я один был.
— Как же один?.. Андрей с тобой ушел, — с подозрительностью глянул на него Звягин.
— Я его не взял.
— Нету его!
— Ну нету и нету! Я ему не нянька… Придет. — Владик начал выбивать снег из шапки.
— Вот сукины дети! — выругался Гончаров и вышел из палатки.
После ужина все лесорубы остались за столом в котлопункте. Не было только Павлушина. Анюта с Таней мыли посуду. Надя с Шурой собирали со стола пустые стаканы и ставили их на скамью возле девушек. Стаканы приглушенно позвякивали друг о друга, словно тоже чувствовали пришедшую в дом беду.
— Ну что будем делать? — хмуро спросил Звягин.
— Где его искать в такой буран? Это не в поле! — также хмуро ответил Гончаров, понимая, что хочет предложить Звягин.
Звягину тоже было неприятно идти в ночную вьюжную тайгу, но как только представлял он, каково теперь Андрею одному, жутко становилось.
— А если бы ты… если бы там был ты! — резко в тишине крикнула Надя, поворачиваясь к Гончарову, и зарыдала, приговаривая: — Какие же вы гады, гады!
— Искать надо! — крякнул Звягин. — Идемте… Больше нечего ждать, — поднялся он и взглянул на Матцева. Владик хмуро рассматривал свои руки.
«Не то что–то здесь, не то! — с беспокойством думал Звягин. — Последнее время Владик с Андреем друг друга терпеть не могли… Зачем же тогда Павлушин пошел к нему?.. А выстрел?» Когда Звягин с Колунковым подходили к палаткам, они услышали в тайге выстрел.
— Во, рядом с поселком кого–то встретили! — сказал тогда с завистью Олег.
Искали Павлушина до полуночи. Кричали, стреляли из ружей, надеясь, что он услышит. Снега за день насыпало, намело довольно много. В темноте по нему трудно пробраться. Держались все неподалеку друг от друга. Как бы самим не заблудиться! Тайга волновалась, шумела, сыпала сверху снежной пылью. Все понимали бесплодность поисков в темноте. Если что случилось с Андреем, то его наверняка засыпало снегом. Можно рядом пройти и не заметить. Но никому не хотелось первым заводить разговор об этом.
Наконец, закоченевший Гончаров, проклинавший все время про себя Павлушина, не выдержал.
— Черт его знает где искать! — прикрываясь от ветра, крикнул он. — Может, он в другой стороне… Тут самим не долго заплутать. Надо до утра подождать! Стихнет малость, тогда искать!
Каждый, когда возвращались назад, надеялся в глубине души, что войдут они сейчас в палатку, а Андрей преспокойно греется у печки. Но его там не было!
41
Андрей лежал на большой сковороде, под которой синим пламенем бился огонь. Весь он на сковороде не умещался, ноги неудобно свешивались через раскаленный острый край вниз, прямо в костер. Андрей раз за разом пытался выдернуть ноги из огня, но они даже не шевелились, будто привязаны были крепко. Павлушин оперся руками о дно раскаленной сковороды, чтобы попытаться рывком выдернуть ноги, но пальцы погрузились во что–то мягкое, податливо–нежное. Он испуганно отдернул руки, решив, что оперся на кошку и может раздавить ее. Отдернул руки и открыл глаза, жадно хватнул сухим ртом сухой воздух. Отблески огня метались вокруг него по стенам какого–то помещения. Андрей повернул голову и с ужасом увидел в свете огня человечка в длинной рубахе навыпуск, подпоясанной веревкой, маленького, с взлохмаченными волосами. Он склонился над какой–то посудиной возле печки с горевшими в ней дровами и колдовал. Четко были видны черные провалы глаз человека на освещенном снизу лице, и в этих страшных провалах вместо глаз, то затухая, то разгораясь ярче, кипел огонь. Андрею ясно представилось, что взлохмаченный сутулый колдун сделает с ним сейчас что–то ужасное. Он прижался к стене, лихорадочно оглядывая помещение. Небольшая дверь была справа от колдуна, почти рядом с ним. Вскочить, удрать не было возможности.
Возле двери Андрей увидел собаку. Она лежала с поднятой головой и смотрела на Павлушина. В глазах у нее тоже был огонь. Между собакой и Андреем в стене небольшое оконце.
Услышав, что Андрей зашевелился, человек поднял голову и посмотрел на него. Лицо человека попало в тень, и огонь в провалах глаз исчез.
Андрей ясно вспомнил, как набрел он на избушку, как хант втаскивал его в комнату через высокий порог и как тер чем–то жестким и раскаленным щеки, руки, ноги. Вспомнилось это, и сразу отлегло, но тут же в ушах громыхнул выстрел, и снова Андрея стянули веревками и бросили на сковородку. Он не слышал, как к нему подошел хант, почувствовал только, как кто–то поднимает его голову, услышал тихое журчание, складывающееся в слова:
— Маленько, маленько терпи…
Андрей открыл глаза и увидел прямо возле лица темный предмет, по очертаниям похожий на кружку.
— Пей, пей! — журчало над ухом.
Кружка коснулась темным краем губ, и теплая жидкость пролилась на подбородок, струйкой стекла на шею, за шиворот. Андрей глотнул отвратительно теплую, терпкую и горьковатую жидкость, пахнущую какой–то травой, и стал пить, захлебываясь.
Хант опустил голову Андрея на постель, и Павлушин испугался, что хант уйдет, а его снова бросят на сковородку. Он схватил маленькую и жесткую ладонь ханта, притянул к себе, прижал к груди обеими руками, как ребенок игрушку, которую хотели у него отнять, и зарыдал, прижимаясь к плечу ханта и крича:
— Прости, дед! Дед!.. Прости! Я стрелял… Я убил человека! Я в друга стрелял… Прости, дед!
И вдруг ему стало стыдно, нестерпимо стыдно. Он отпустил руку ханта и отвернулся к стене. Хант постоял возле постели и отошел к печке. «Как же жить теперь? — подумал с тоской Андрей. — Почему я не замерз? Так было бы лучше!» Ноги его горели и ныли так, словно кошка вогнала когти глубоко в тело и то сжимала их там, то запускала глубже, то отпускала. Но Андрей притерпелся к боли, смирился. Он снова повернулся к ханту. Старик подкладывал дрова в печку, ставя их почему–то стоймя. Круглое лицо его с густыми морщинами ярко освещалось пламенем. Собака лежала у порога, удобно примостив голову на вытянутых вперед лапах. Глаза ее были открыты.
— Дед, дед, — тихо позвал Андрей.
Хант поднялся и подошел.
— Микуль я, — сказал он спокойно.
Собака у порога подняла голову.
— Скажите, Микуль, — запнулся Андрей. Ему неудобно было называть старого человека без отчества, но он подумал, может быть, у хантов нет отчества, и снова заговорил, запуская пальцы в длинную мягкую шерсть оленьей шкуры, на которой лежал. Укрыт он тоже был шкурой. — Скажи, вот любили бы вы вдвоем одну… А тот, второй, дрянной человек, а она все равно… к нему… Что бы вы сделали?
— Давно… молодой был я, — заговорил негромко хант, садясь на земляное возвышение у стены, на котором на шкуре, расстеленной на камышовой циновке лежал Андрей. — Жена молодая была. Хорошая жена! Еремей, сын… Пришел с охоты я, а дома с женой Данила Сигильдеев…
— Ты убил его? — быстро спросил Андрей, поднимая голову.
— Я спросил у нее — с кем жить будешь? — неспешно и бесстрастно рассказывал хант.
— А она? — все еще нетерпеливо, с напряжением держал голову над постелью Андрей.
— Однако, говорит — с Данилой…
— А ты?..
— Я ружье взял, малицу, колек, пимы, няры и ушел…
— И ушел сюда? — опустил голову Андрей и снова начал гладить мех оленьей шкуры.
— Нет… Рядом жил, в селении…
— А сын? Еремей?
— Еремей — охотник! Сын его, внук мой Кирила, на буровой самому большому начальнику первый помощник…
— И ты счастлив? Вот здесь… один… — спросил Андрей.
— Зачем один? Собака есть, зверь есть, огонь есть, дом есть — все есть!
— Но этого же мало! — воскликнул Андрей.
— Почему мало? Все есть! — удивился хант и вздохнул: — Только зверь теперь мало… уходит зверь… шумно. Людей много. Совсем уйдет…
Собака шумно и быстро вскочила и с поднятыми ушами уставилась на дверь. Хант тоже замер, прислушался. Андрей тревожно насторожился. Но слышал только шум метели за окном, шелест снежинок по стеклу да посвистывание ветра.
Хант поднялся подошел к двери и чуточку приоткрыл ее.
— Стреляют, — озабоченно сказал он.
— Это меня ищут! Меня! — вскрикнул Андрей. — Сказать надо! Меня ищут!
— Я скажу, — проговорил хант и снял с гвоздя шубу, но остановился с нею в руках. — Ты убил? — спросил он, глядя на Павлушина.
— Нет, нет!
Хант вышел вместе с собакой.
42
Андрей лежал, прислушиваясь к боли в ступнях, и со страхом думал о встрече с Матцевым, вспоминал стычку с ним, выстрел… А ведь и убить мог! Промазал случайно… Что же происходит? Что происходит? Я же никогда зла никому не хотел. И чуть человека не убил! Как же так? Кто же я такой? Что я хотел? Чего добивался? Почему я так рвался к Анюте? Разве я жениться на ней хотел? А почему решил, что Матцев подлец? Лишь потому только, что у него есть жена, а потом Наташа была… И обеим он изменил! А изменил ли он? Что я о нем знаю?.. А что знаю о себе? Этот вопрос обжег больнее. Я–то чего хотел? Как я–то хотел жизнь прожить? Ниточку выстроил. А ниточка ли жизнь? И что хотел я на эту ниточку нанизать? Какой я жизнь свою представлял? Институт, работа, инженер, мастер, прораб, начальник, потом побольше начальник. Путь наверх, путь к благу, к счастью! А в чем оно, счастье? В том, чтоб все выше и выше лезть… А люди? А отношения с ними? Был бы я счастлив в такой жизни?.. Давай, давай! И себя не жалей, и других! А ради чего, ради чьего блага? И блага ли? В том ли счастье, чтобы рваться наверх? Ладно, стану я хоть министром, а буду ли счастлив? Нет, нет же, не буду! Андрею стало страшно. Гляну я стариком на жизнь свою и увижу внизу на служебной лестнице потерянных дорогих людей или обиженных, через которых переступил, тех, у кого я вырвал что–то им дорогое, как пытался вырвать у Владика Анюту. Стану ли я радоваться такой жизни? Страшная жизнь! Счастье не в том, не в том… А в чем же? Кто имеет право радоваться жизни? Кто? И Андрей ясно понял, что только тот может радоваться жизни, кто имеет на это основание. Как же я не понимал, что самая великая радость — делать добро другим! Только от хороших поступков можно чувствовать истинную радость. Я жил среди стольких людей, нуждающихся в помощи, а что я им сделал?.. Перед Андреем вставали Колунков, Гончаров, Звягин, Надя, Анюта, мать… В душе он чувствовал беспокойство, волнение, вину перед ними. И боль отступала, забывалась. Жить надо по–иному! Не так, как жил до этого, совсем не так! Только тот счастлив по–настоящему, кто сделал счастливым другого человека… На душе у Андрея стало спокойно. Он начал забываться и заснул. Проснулся от шума, поднял голову. В комнату входили люди. В полутьме Андрей узнал Колункова, Звягина, Матцева, ханта, а люди все входили. И все они шли ночью в метель, в мороз, чтобы помочь ему — подумал Андрей.
— Что с тобой? Как ты? — окружили Павлушина лесорубы.
— В речку угодил. — радостно бормотал Андрей.
— Мы вертолет вызвали… Утром в больницу отвезет, — говорили лесорубы.
Матцев держался сзади.
— Владик, — позвал Андрей.
Матцев протиснулся к постели. Андрей взял его за руку.
— Прости! — сказал он, — За все прости!..
Он хотел еще что–то добавить, по почувствовал, что Владик понял, что просит он прощения не из–за страха перед ним и даже не за выстрел, а за то неизмеримо большее, в чем был виноват перед ним и в чем мы все виноваты друг перед другом.
Часть вторая
1
Заиндевевший оранжевый «Магирус» ходко шел по накатанному зимнику вдоль железнодорожного полотна. В кабине уютно и не очень холодно. Павлушин в валенках, в меховых рукавицах, но пальтишко на нем не для сибирских морозов: короткая тонкая москвичка с шалевым воротником, купленная им еще в доармейские времена. В Сургуте на сорокаградусном морозе пальтишко сразу заколенело, словно мокрое было. Колени застыли, хоть и одет был в двое брюк. Но в кабине угрелся на мягком сиденье, потом выпил с водителем, смуглым парнем с подпаленной бородой, и совсем стало хорошо. Шофер одет добротнее: полушубок, ватные брюки, унты. Андрею сначала неудобно было за свое убогое пальтишко, думал, что оно непременно вызовет усмешку у шофера.. Но водитель совершенно не обращал на него внимания, часто курил, щелкал зажигалкой. На тряской дороге рука с зажигалкой дергалась, огонек беспомощно метался, и слышно было, как потрескивают толстые рыжеватые волосы бороды и усов шофера, пахло паленой шерстью. А когда водитель не курил, то мурлыкал что–то, посвистывал и глядел вперед на белую неровную дорогу, на машину своего приятеля, поднимавшую снежную пыль впереди, крутил баранку, бросал машину то влево, то вправо, объезжая ямы и ухабы, и совершенно не интересовался Павлушиным. В Сургуте Андрей с беспокойством думал о своих обмороженных ногах: выдержат ли такую длительную поездку в сильный мороз. Но пока все шло хорошо; Разогретый вином Андрей смотрел на бегущую впереди машину, почти не видимую из–за белой снежной пелены, на заиндевевшие деревья с согнувшимися под тяжестью снега ветками, на насыпь железнодорожного полотна с уложенными, но еще невыровненными и незабалластированными рельсами: где–то неподалеку впереди шла укладка. Солнце, едва оторвавшись от горизонта, снова робко жалось к деревьям, словно хотело спрятаться за ними от холода. «Магирус» вздрагивал на кочках, подпрыгивал на ухабах, позвякивали бутылки в сумке Павлушина. Мотор на ухабах начинал работать как–то рывками, беспокойно. Андрей замирал, с опаской прислушивался. Не дай Бог, остановится машина, замерзнешь. Часто ходили машины по зимнику, часто встречались, но это не успокаивало. В белесом тумане впереди на насыпи появилась какая–то смутная решетчатая громада. Громада эта быстро выросла, проявилась в платформы со стопками звеньев рельс. Кран–путеукладчик впереди.
— Быстро шагают. Почти километр в день… Насыпь готовят намного медленней. Не дают развернуться, — сказал шофер, тоже посматривая на насыпь, где монтеры пути только что уложили очередное звено и возились у стыка, вставляли болты, затягивали гайки.
Позади остался кран–путеукладчик. По–прежнему потянулась справа насыпь, но уже без рельсов, ровная, утрамбованная, а слева снежные горы, поднятые бульдозерами, а за ними тайга. Мягкое покачивание на сиденье убаюкивало, глаза слипались, и Андрей уткнулся подбородком в воротник, стал думать о встрече с Анютой, с ребятами. Анюту он не видел два месяца. Бывали у него в больнице не один раз Колунков, Звягин, Шура с Надей. Борис Иванович заходил часто. Он лечился здесь же, лежал на четвертом этаже, а Андрей на втором. Кто–нибудь из ребят бывал почти каждое воскресенье, говорили, что поселок он не узнает, когда вернется, вагончики каждый день идут. Бараки, коттеджи растут — глазом моргнуть не успеешь. Звягин придумал трехкомнатный коттеджик из двух вагончиков. Четыре дня — коттедж готов, заселяйся и живи. Звягин теперь бригадир плотников. Улицу целую выстроил. Но все равно жилья не хватает, народу понаехало… Матцева с бригадой забросили далеко в тайгу, просеку гонят к болоту. Гончаров с ним. А Колунков здесь остался, плотничает у Звягина. Чуть ли не каждый выходной в Сургуте бывал. Водки закупит и назад. Явился однажды — левая рука в бинтах. Пальцы по пьянке отморозил. Смеялся, ерунда, мол, так, кожа слезла… С улыбкой вспомнил Андрей, как были у него Колунков и Шура с Надей. Шура, как всегда, болтала, тысячу раз повторяя свое неизменное «представляешь», а Олег подтрунивал над ней, называл ее Шурой со справкой. Шура сама рассказала, как Мишка Калган во время ссоры обозвал ее шлюхой, и она привезла из Сургута справку, что она девственница. С тех пор ее стали звать в поселке Шурой со справкой. Колунков, как снова дорвался до водки, веселее стал, улыбался, похохатывал даже изредка. Они рассказали, как Сашку Ломакина провожали в армию… Приятно было думать о ребятах, приятно представлять встречу. Думал он о них, как о близких людях, с нежным чувством.
Машина сбавила ход, поползла, колыхаясь, на ухабах. Донеслось натужное урчание моторов.
— Вот и приехали, — вздохнул шофер.
Андрей открыл глаза, увидел на насыпи и рядом с ней множество огней фар самосвалов, бульдозеров. Они двигались, ослепляли друг друга, создавали непонятное на первый взгляд хаотичное движение. Снег под светом фар сверкал, ослеплял. Шла отсыпка полотна. Самосвалы один за другим подползали к краю насыпи, задирали кузова вверх, разгружались, отъезжали, покачивая поднятыми кузовами, опускали их на ходу. «Магирус» осторожно прополз среди работающих машин, снова выбрался на дорогу. Неподалеку на высоком столбе ярким белым светом горел прожектор, освещал поселок. «Магирус» подкатил к бараку, ко входу и остановился.
— Прибыли.
Павлушин вылез со своей сумкой из кабины, осторожно спрыгнул с подножки в звонко скрипнувший снег и огляделся. Он словно попал в новое незнакомое ему место. Барака, возле которого остановились обе машины, не было здесь раньше, не было и того, что вытянулся рядом с ним. Дальше, левее, среди высоких сосен стояли в ряд несколько одинаковых домов с островерхими шиферными крышами. Андрей догадался, что это те самые коттеджи, которые придумал и строит Звягин.
2
Безлюдно было в поселке. Сквозь тихое урчание «Магирусов» слышны были отдаленный рокот дизеля, взвизгивание циркулярной пилы и стук молотков откуда–то из–за барака. У входа на стенах с обеих сторон двери таблички. На той, что слева, надпись: «Строительно–монтажный поезд», справа — «Исполнительный комитет поселкового совета народных депутатов». Андрей поднялся по звонким доскам ступеней ко входу, хлопнул дверью с неожиданно тугой пружиной. Коридорчик оказался совсем маленьким. Слева — три двери с табличками: отдел кадров, бухгалтерия, приемная, справа — две двери напротив друг друга: поселковый совет и кастелянша. Андрей сунулся в приемную. В узенькой крошечной комнатенке без единого окна сидела незнакомая девчонка. Волосы у нее были стянуты на затылке резинкой, реденькая челка спадала на лоб до выщипанных в полоску бровей. Письменный стол ее вплотную придвинут к одной стене, а в противоположную упирался спинкой стул, на котором она сидела. Андрей взглянул влево–вправо, ориентируясь, где дверь в кабинет главного инженера, а где к начальнику СМП, и спросил:
— Федор Алексеевич здесь?
— Он в котельную ушел, а может, сейчас на лесопильне… А вы на работу? Он придет… А лучше сразу в отдел кадров…
— Спасибо, — не стал объяснять ей — кто он — Павлушин, и вышел. Нужно прежде всего устроиться на ночлег.
Из отдела кадров его направили к кастелянше. Она была хмурая, вероятно, кто–то только что ее расстроил, бормотала недовольно, листая тетради:
— Куда же тебя поселить… Некуда… Все забито…
— А к Звягину, Колункову нельзя? Я раньше с ними жил.
Кастелянша посмотрела на Андрея, раздумывая, прикидывая что–то про себя, и пробормотала:
— Четверо там… А ничего, поместитесь. На раскладушке поспишь… Иди к Звягину. Выйдешь и в лесочке за прожектором коттеджи увидишь, острокрышие такие, в третьем отсюда они живут. Но там их сейчас нет, иди дальше, увидишь, бригада работает. Возьмешь ключ и сразу ко мне. Я тебе раскладушку дам, постель… Только не мешкай, у меня рабочий день кончается…
Андрей, уткнув нос в воротник, шагал по звонкой дороге мимо коттеджей. Не сразу догадаешься, что они сделаны из стандартных вагончиков. В некоторых окна светятся, дым из трубы валит. Те, что ближе к баракам, занесены снегом чуть ли не до окон, а те, что подальше, видимо, ставили недавно, после метели. Снег возле них разворочен, затоптан, щепки видны в снегу, опилки. А от самого дальнего стук доносится, разговоры, лампочки светятся. Одна висит на ветке ели возле дома, другая на крыше привязана к балке, третья в коридоре. Ребра стропил торчат над двумя поставленными метрах в полтора друг от друга вагончиками. В образовавшем коридоре ярко горит лампочка, освещает в дальнем углу кирпичную печь–голландку. Рядом с печью сидит на полу на коленях плотник, заканчивает мостить пол, стучит, забивает гвозди. Другой плотник прибивает рейки к краям стен вагончиков, готовится ставить дверную коробку, которая прислонена в коридоре к стене, а внизу у входа третий плотник возится с порогом. Несколько человек копошатся наверху, прибивают доски к стропилам, обшивают боковину крыши со стороны входа. Подходя, Андрей узнал в том плотнике, что собирался ставить дверную коробку, Звягина, обрадовался, вынырнул из темноты на свет лампочек, закричал:
— Звягин, привет!
Звягин оглянулся, повернул к нему бородатое лицо: усы и борода белые, заиндевели, уши шапки опущены и завязаны под подбородком. Он узнал Павлушина, тоже воскликнул радостно, бросая молоток на пол:
— Пионер, здорово!.. Олег! — поднял он голову, крикнул на крышу: — Пионер явился!
Стук прекратился. Плотники смотрели, кто пришел. Звягин спрыгнул вниз, сграбастал Павлушина, шутливо спрашивая:
— Не отсобачили ноги? На своих притопал…
— Как видишь, — смеялся Андрей. Он видел через плечо Звягина, как Колунков скатывается по длинной лестнице вниз. Ватные брюки его и телогрейка в прилипших крошках опилок. И его борода и усы в сосульках.
Он тоже обнял Андрея, хохотнул:
— Увидел, радостью обожгло! Сам удивляюсь, словно родного брата встретил… Без тебя, Пионер, чего–то тут все время не хватало, живинки, что ли, какой… Ей–Богу, радостно, как будто ты надежду какую привез!
— Конечно, привез, — пошутил Павлушин, кивнув на сумку.
Колунков вновь хохотнул, хлопнул его по спине: молодец.
Звягин дал ключ от дома, сказал, в какой комнате они живут, попросил затопить печь и позвал Колункова работать. Андрей захотел посмотреть, как они строят коттедж, поднялся в коридор, куда выходили двери вагончиков. Один — однокомнатный, другой перегорожен стеной, двухкомнатный.
— Пока две семьи вселяем, — сказал Звягин. — Потом, когда поставим много, одна семья будет владеть: трехкомнатная квартира, прелесть!
Павлушин слазил и наверх, посмотрел. Чердак засыпан толстым слоем опилок. Они пружинили под ногами, как мох на болоте.
Андрей притащил со склада кастелянши раскладушку, матрас, пуховое одеяло, постель, затопил печь, дождался ребят и вместе с ними пошел в столовую, которая была теперь в том же бараке, что и контора СМП. Вход в нее с торца, а с другой стороны — клуб. Звягина зачем–то вызвали к начальнику поезда. Есть в столовой не стали, взяли еду с собой: Колунков предложил. Андрей входил в столовую, волнуясь, думал, что увидит Анюту, но ее не было на раздаче, подавали ему две незнакомые девушки. Не было видно и Шуры с Надей. Не пришли еще.
Звягин долго не возвращался от начальника поезда, а когда появился в комнате, под столом уже валялись две пустые бутылки, на столе тарелки с остатками еды, но одна нетронутая, гуляш с лапшой. Звягину оставили. Один из плотников лежал на кровати поверх одеяла, спал. Разутая нога на постели, другая в валенке свисала вниз. Колунков сидел рядом с ним на кровати за столом, кусочком хлеба вытирал жир со сковороды и ел. В неряшливой бороде его застряли крошки. Андрей, раскрасневшийся, осовевший, облокотился о стол, обхватил ладонями лицо, слушал Колункова. Увидев Звягина, Олег заулыбался пьяной улыбкой.
— A-а, бугор! — протянул он радушно. — Куда ж ты пропал, брат? Мы уже откушали!
— Где водку раздобыли? — недовольно спросил Звягин.
— Кто ищет — тот разыщет, — пьяно развел руками Олег.
— Ты привез? — глянул Звягин строго на Андрея. Он кивнул.
— Слушай, Олег, — снова повернулся Звягин к Колункову. — Ты не ребенок! Завтра вставать рано, а вы…
— Встанем, встанем мы! Встанем! Ты садись, садись ко мне. Поговорим за жизнь… — Колунков поднял ногу спящего плотника и прямо в валенке закинул ее на кровать, освободил место рядом с собой.
— Завтра в пять разбужу.
— Буди, — согласился Олег. — Буди! Не хочешь за жизнь… Я те спою…
Колунков взял гитару и тихо, но стройно, заиграл и запел, смешно прикрывая глаза и качая бородой из стороны в сторону:
— Мне что–то говорят цветка родные губы, мечта, как бабочка, садится на рукав…Звягин вышел в коридор, стал раздеваться, спросил оттуда у Андрея:
— Ты теперь куда? К нам или снова в лесорубы?
— Я пока на больничном… Хотел к Матцеву, в тайгу.
— К Матцеву? — удивился, взглянул на Андрея из коридора Звягин, помолчал и добавил: — Ну смотри…
3
Павлушин неделю провел на больничном. Скучно было дома сидеть. Когда становилось особенно тошно, выходил погулять, шел к озеру. Оно занесено снегом. Белая пустыня. Далеко на другом берегу сквозь морозную дымку темнел лес. Землянка, в которой жили десантники, заперта на большой замок, заиндевевший. В палатке — склад.
С Анютой он встретился в столовой. Она увидела его в очереди, сдержанно улыбнулась: вернулся? Спросила, где он работать собирается. Ответил, что к Матцеву поедет. Говорила она, наливая в тарелки щи, очередь двигалась, торопили, и он со своим подносом вынужден был продвигаться дальше. Грустно стало, хоть вой. Ел, совершенно не чувствуя вкуса, думал: неужели опять возвращается прежняя глупость? В больнице поверил, что непонятная тяга к Анюте позади. Вспоминал там с грустью, с легкой иронией, как наивную необъяснимую мечту, как мираж. А увидел, и снова засосало в груди. Что это? Почему к Наде, например, его не тянет? Милый мышонок, робочка! Краснеет от Шуриных намеков. Буробит Шура, что попало, лишь бы не молчать или… может?.. Да нет, треплется Шура…
Вечером Колунков сосульки с усов отодрать не успел, а уже подмигивает, предлагает сразиться с зеленым змием.
— В клуб иду, — отказался Андрей.
— Ты что? Как же в клуб без этого? Для веселья…
— Хватит, — прервал его Звягин. — Хоть до воскресенья потерпи.
— Как у тещи живу, — притворно огорчился Олег. — А что в клубе? Кино?
— Танцы.
— Ну-у, раз танцевать собрался, пора больничный закрывать. Там медсестра будет…
Андрей танцевать не собирался: глянуть хотелось, что за клуб появился здесь. Он выяснил днем, что клуб в том же бараке, где контора, только с противоположной от столовой стороны.
В клубе шумно, магнитофон играет, но танцуют пары четыре всего, хотя парней и девчат довольно много. Ребята в большинстве своем вокруг стола толпились, где играли в домино, а девчата в две группы сбились, сидели на скамейках вдоль стен. Скамейки, радиола, доминошники, голая лампочка под потолком — все напоминало деревенский клуб,
Шура увидела Андрея, подкатила к нему, потащила к скамейке, к Наде, говоря:
— Андрюха, я рада, что ты потанцевать решил…
— Ну–да, из меня сейчас танцор, — ответил Андрей, глядя на Надю. Днем он видел девчат, от них узнал, что в поселке появился клуб, кино два раза в неделю бывает, а в остальные дни танцы. — Как только после такой работы у вас ноги ворочаются?
— Представляешь, танцевать мы всегда готовы. Правда, Надюха? — Шура подвела, усадила Андрея рядом с Надей, а сама села с другой стороны.
Надя в ответ на ее слова хмыкнула неопределенно и застенчиво.
— Подруга у тебя молчаливая. Ни на работе, ни в клубе слова лишнего не скажет.
— Она такая… Зато работает как, представляешь? Это я видел.
— Эх, будь я мужчиной, я б такую девку ни за что не упустила!
— Шур, прекрати! Не издевайся, — вспыхнула, бросила недовольно Надя.
— Ну что, прекрати, что? Не правда, что ль?.. А такую вот жену, как я, не дай Бог! От одной болтовни муж сбежит. У меня язык на месте лежать не может. Представляешь, зубам и то надоел, разбегаться начали! Теперь золотые вставляю. Они, говорят, более терпеливые… Мы и подружились с Надюхой потому, что она молчит, а я болтаю. И обе довольны! Представляешь, что было бы, если обе болтали, — засмеялась Шура. — Зато как она поет, как поет! Мы здесь самодеятельность организовали. Скоро послушаешь! Мы сейчас готовимся. На двадцать третье февраля вечер будет в столовой. Мы там в первый раз выступим…
— Когда вы только успеваете? — покачал головой Андрей.
— Ты не хочешь к нам? А то у нас ребят мало.
— Если я запою, вы завоете… Я один раз запел, собака от тоски сдохла…
Магнитофон умолк на мгновенье и забарабанил, заревел снова.
— Ну, идите, танцуйте, — подтолкнула Шура Павлушина. — А то кадры, — кивнула она в сторону ребят, — решат, что ты ко мне клеишься… А я внимание люблю!
— Мне пока не до танцев… Танцуйте. Мешать не буду, — поднялся Андрей, чувствуя какое–то радостное удовлетворение, и отошел к доминошникам.
И почти сразу вышел из клуба. «Неужели я не ошибся?» — усмехался недоуменно Павлушин, вспоминая Надю, ее смущение, когда он сел рядом, как она старательно отводила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. «И не затем ли я приходил в клуб, чтоб убедиться в этом?» Стало неловко. Шура поняла давно, должно быть, активно сватает. И все же приятно было думать об этом.
4
Не спалось. Матцев лежал с открытыми глазами. На белой занавеске тихонько колебался, переливался свет от тлеющих, угасающих углей в печке. Слышно, как на улице мечется, завывает вьюга, хлещет снегом о стекла. В вагончике тоже как–то неспокойно: тонко постанывает, охает во сне Гончаров, бормочет что–то быстро, невнятно, вздыхает, кряхтит; часто ворочается Васька Шиндарев, он беспокойный во сне; Андрей Павлушин лежит тихо, не слышно его никогда, положит голову на подушку, сунет руку под щеку, закроет глаза и замрет, затаится. Дыхания не чувствуется. Как мертвый. Спит он на нижней полке напротив Матцева, головой к печке. Владик видит сверху его бледное в полутьме лицо. Угли в печке вспыхивают, освещают на мгновение вагончик и гаснут. Гончаров снова забормотал торопливо, захлебываясь. Матцев разобрал только два слова: Василек и цыпленочек. Гончаров поперхнулся, закашлялся, вздохнул тяжко, заворочался и сел на постели, вздыхая. Зашуршал, загремел спичками. Подошел к печке, присел на низкий чурбак, щепочкой открыл дверцу. Она тихонько пискнула, и в вагончике веселее, ярче забегал по стенам свет. Матцев видел, как Гончаров сунул в жар щепочку, подержал и, когда она затлела, прикурил от нее сигарету. Щепочку кинул в печку на угли, сунул туда же несколько чурочек и скукожился, застыл, задумался, пуская дым в открытую дверцу. Дрова стали потрескивать, задымились, вспыхнул огонь, осветил сгорбатившегося на чурбачке Гончарова.
— Не спится? — услышал Матцев шепот Павлушина.
— Разбудил я тебя? — шевельнулся Федор.
— Я не спал.
— Наверно, я опять во сне разговаривал? Видел что–то, а вспомнить не могу… Вертится вот тут, — покрутил Гончаров рукой с растопыренными пальцами около виска, — рядышком, а не вспоминается.
— Опять цыпленочка поминал, — прошептал Андрей.
— Ну–да, да, — вздохнул Гончаров. — А вспомнить не могу…
— Гляжу я на тебя, удивляюсь, до чего ты жестокий!
— Я?! — Чурбачок стукнул глухо под Гончаровым. — Ты охренел! Ну, выдал… — Шепот Гончарова возмущенный, обиженный.
— Выдал то, что ослу видно… Чем сын перед — тобой виноват? За что его–то мучаешь? Да и жена, если разобраться…
— Я мучаю сына? Это, значит, я виноват! — ахнул, перебил Гончаров. Он от возмущения даже руки вскинул, хлопнул ими по коленям.
— Ну не я же…
— Это я их мучаю… Видал, повернул как… Может, я тут царствую, веселюсь? — гуляй, рванина? — Гончаров возмущался, но говорил шепотом.
— А ты считаешь, что ты мучаешься здесь, а они там радуются? Так? Да ты подумай, каково им там!..
— Это ты у сына детство отнимаешь, ты его сделал безотцовщиной, а теперь бредишь — цыпленочек! Василек!
— Не я, не я! Это она, сука.. — Гончаров захлебнулся, жадно затянулся сигаретой.
— Она не сука… И сам ты это знаешь… Гульнула раз — и все, сука! А ты не гулял? Мало у тебя баб было, вспомни, вспомни, как рассказывал, как ты бабу знакомого обработал, пока он в магазин за хлебом бегал, а вас вдвоем оставил. Или это не ты был? А здесь, в Сибири, кто у паспортистки. ночевал? Я? А она там, дура, сына твоего хетает. Думы только о нем да о тебе…
— Откуда ты знаешь? — фыркнул Гончаров, но уже не столь возмущенно. Он, ощетинившийся вначале, теперь как–то осел, сильнее скукожился, выставил спину.
— Знаю, знаю… Дура она, дура у тебя, а не сука. Давно надо было загулять на всю ивановскую. Вспомни, каким ты мужем был? Много ты ей радости приносил? Пьяным с работы, небось, приползешь и покрикиваешь: корми, обмывай его… Князек чертов! А много ласки она от тебя видела? Или ты человек, а она так, лошадь домашняя. Не так я говорю? А? Подумай, не так?
И странно, Гончаров перестал возражать, затих, а когда Андрей выдохся, буркнул:
— Чего ты разорался? Я тебя не трогаю…
— Трогаешь, да, трогаешь! Горько и жалко смотреть на тебя. Хрен бы с тобой, твоя жизнь, мучайся, дурак, если охота! Но ты ведь еще двум людям жизнь портишь. Цыпленочек твой вырастет, думаешь, счастливым будет? Из–за тебя, дурака, тоже вся жизнь наперекосяк пойдет. И всех, кто рядом с ним окажется, страдать заставит…
— Ты уж меня совсем задурачил. Может, во всех бедах мира я виноват? — усмехнулся глухо Гончаров. Тоска в его голосе чувствовалась, безысходность — Что ж мне теперь делать?..
— Ну и задачка сложная… Как будто тебя тут на цепи держат! Подпоясался да домой, где тебя ждут, любят.
— Любят, — хмыкнул Гончаров, но немножко распрямился, расправил плечи, перестал ежиться. — Как сказала бы моя бабка, пророк выискался, все знает…
— Тут и пророком быть не надо, просто человеком… Прощать надо, а то себе любую пакость прощаем, а другому…
— Думаешь, получится, а? — в голосе Гончарова слышались и сомнение, и надежда, и скрытая просьба убедить его, уверить, что получится.
— От тебя зависит, пить будешь каждый день, не получится.
— Да, не получится, — вздохнул Гончаров. — И не ждут меня. Рада, небось…
— А ты напиши, попробуй. Не будь гордецом. Спроси, как сын, расскажи, как ты тут. Пошли подарочек…
— Ну–да, — усмехнулся Гончаров. — Подарочек!
— А как же ты хотел? Ты с лаской, и к тебе с лаской…
Гончаров кинул окурок в печку, прикрыл дверцу, но не лег, посидел еще в задумчивости. Андрей тоже молчал, не сказал больше ни слова. Матцев согласен был с Павлушиным, думал, как нетерпим бывает человек к проступкам других: гордость! Правильно в библии отнесли этот человеческий порок к самым злейшим. Сколько гордость жизней отравила, сгубила. «А сам я? — мелькнуло, вспомнилось, и озноб пробежал по спине. — А разве не гордость меня сюда привела? А я разобрался? Я узнал, что там было?.. Ну да, было, было! Это ясно… А почему? Любила его, а не меня? Нет, любила меня, это же видно было! И счастлива была… А если не любила, зачем тогда все пишет письма? Чего добивается? Оправдаться хочет? А зачем? Год скоро будет, как удрал… Зачем ей нужно оправдываться? Она не из закомплексованных. Удрал и удрал, казалось бы… Надо прочитать хотя бы ее последнее письмо… А ведь мне не все равно, что она шлет письма. Было бы все равно, выбрасывал бы. И приятно, когда получаю. Что это? Тоже гордость? Приятно думать, что она кается, страдает. А ведь прав Павлушин: выходит, нам можно баб иметь, это нормально, а когда они — преступление… Нет, не прав, не надо гадить ни им, ни нам… Почему все–таки она была с ним? Чем он ее привлек? — защемило опять в груди, снова явно представилась сцена, когда он вернулся за конспектом. — Тварь! Стерва распутная!»
5
Утром, когда стали выходить из вагончика, Матцев заменжевался на пороге и решился, бросил ребятам:
— Идите, догоню…
Вернулся, присел па чурбак, вытянул за лямку свой рюкзак из–под нижней полки, отыскал в нем пачку писем, перетянутую резинкой. Пачка толстенькая собралась, писем двадцать с лишним. Читать — не читать? — вертел письма в руке Матцев. Осторожненько вытянул последнее письмо, покрутил и распечатал. Сердце волновалось, билось, словно делал он какое–то важное и запретное дело. «А ведь я все люблю ее!» — мелькнуло в голове. Вытянул он двойной листок в клеточку, вырванный из общей тетради, глянул: «Владик, здравствуй! Я уже так привыкла разговаривать с тобой на бумаге, что мне страшно теперь, когда думаю, что ты запретишь мне писать тебе. Раньше, когда я открывала почтовый ящик, у меня дрожала рука от нетерпения, от желания увидеть твое письмо, а теперь дрожит тому что я боюсь увидеть конверт, подписанный твоей рукой, боюсь прочитать строки, запрещающие мне говорить с тобой. Может быть, ты не читаешь мои письма, выбрасываешь, не распечатывая. Пусть. Когда я поговорю с тобой, мне легче дышится… Знаешь, сегодня днем я была в лесу за Новой Лядой. Помнишь, как год назад бегали мы там с тобой на лыжах? С утра солнечно, морозно, как и тогда, и я не выдержала грусти, села в автобус. Поехала без лыж. Гуляла по тропинке меж высоких сосен. Помнишь, какие там высокие сосны? Мимо проносились лыжники, голоса отовсюду звонкие на морозе, радостные, а мне хотелось плакать. Мы ведь тоже могли быть среди них, могли смеяться, радоваться…»
За окном зататакал, взревел мотор трелевщика. Матцев оторвался от письма, поглядел на заиндевевшие стекла окон, свернул листок, сунул в конверт.
В этот день особенно остервенело валил он деревья, покрикивал, если не успевали откидывать снег от стволов.
Медленно, шаг за шагом продвигалась просека вперед. Работать труднее, чем осенью, когда снежок неглубокий был и морозец слабенький, здоровый. Снегу навалило, не просто от дерева к дереву пробраться. Задыхаешься, воздуха не хватает. Быстро устаешь. Все лесорубы в сильный мороз натягивали на головы, как чулок, до самых плеч шерстяные подшлемники, чтобы не отморозить нос и щеки. Одни глаза в прорези видны. Но шли и шли вперед, тянули за собой три жилых вагончика на полозьях. Лес редеть стал, деревья потоньше. Все чаще, очистив ствол от снега, смахивали топором ель или березку, не дожидаясь бензопилы. Носить ее по пояс в снегу нелегко. Но за редколесьем снова виднелась полоса густого леса.
Приближался март, «Атээлка» привозила из поселка еженедельно не только продукты и почту, но и новости. Мехколонны прошли мимо поселка, отсыпали земляное полотно, в тайгу углубляются. Лесорубы Ломакина закончили свою часть просеки, их перебросили на строительство временного здания вокзала. Приезжал Федор Алексеевич, поторапливал. Он взял с собой лыжи, ходил к болоту, проверял — много ли еще идти. Очень хотелось поскорей отрапортовать, что просека на его участке готова. Соседние СМП ушли на двести километров вперед, а он все чешется, как говорил Никонов. Вернулся, сказал лесорубам: если не поднажмут еще малость, к Дню Советской Армии не дойдут до болота. Но по тому, как говорил Федор Алексеевич, Матцев понял, дойдут.
Редколесье кончилось, снова натужно завизжали пилы, вгрызаясь в толстые стволы. Был такой мороз, что в воздухе стоял сизый туман. Солнце тусклым пятном висело низко над горизонтом. Все деревья в толстом слое инея. Устало горел костер. Натруженно всхрапывал трелевщик, еле пробираясь по глубокому снегу, пускал дым в небо, оттаскивал на обочины деревья. В редколесье работы ему было мало, отдыхал. Глухо в разреженном воздухе стучали топоры обрубщиков сучьев, взвизгивали пилы, мягко падали в снег деревья. Человеческих голосов не слышно. Матцев свалил очередное дерево, опустил на мгновенье уставшие руки, снял меховую рукавицу, отодрал сосульку с подшлемника, намерзшую от дыхания, взвалил на плечо бензопилу и, проваливаясь в снег, начал пробираться к другому дереву. Около него остановился, вглядываясь вдаль, в туман, сквозь деревья. Показалось, что деревья редеют, а дальше их совсем не видно. Или туман скрывает? Матцев опустил в снег бензопилу и торопливо побрел дальше. Деревья действительно быстро редела, а кустарник становился гуще и неожиданно резко оборвался. Матцев выбрался на простор. Перед ним была снежная равнина. Она уходила вдаль и скрывалась в тумане. По ней то тут, то там были разбросаны низкорослые деревца, кустарники. Матцев обернулся к просеке, сорвал шапку с каской, стянул с лица подшлемник и заорал во всю глотку, махая каской:
— Ребята-а!
Лесорубы, от инея и снега похожие в снежном тумане на призраки, повернулись, уставились на него сквозь щели подшлемников.
— Ребята! Болото!
Те, что отгребали снег от стволов и были неподалеку от Матцева, услышали, крикнули обрубщикам. Полетели в снег топоры, лопаты. Где ползком, где бегом, потянулись к нему меж оставшихся деревьев лесорубы.
— Дошли, твою мать! Дошли! — заорал один из парней, подняв подшлемник на нос, и все подхватили его крик.
Павлушин тоже кричал, махал подшлемником. Щеки и подбородок его в последние дни покрылись мягким пушком.
6
Двадцать третьего февраля Федор Алексеевич разрешил провести в столовой праздничный «Огонек».
Вечером все столы были заняты. В воздухе, как обычно в таких случаях, стоял тихий, сдержанный пока гул голосов. На небольшом возвышении у стены музыкальные инструменты, микрофон на ножках. Запахи кухни сливались со свежим сладковатым запахом смолы и свежеоструганных досок.
Павлушин сидел в мужской компании, за одним столом с Ломакиным, Колунковым и Гончаровым. На столе — бутылки коньяка, шампанского, конфеты, бутерброды. Гончаров хозяйничал, разливал шампанское. Колунков с улыбкой следил, как в бокале с шипением поднимаются и лопаются пузырьки. Гончаров поднес бутылку к бокалу Ломакина, но Борис Иванович прикрыл его ладонью:
— Мне коньячка… Чуть–чуть! — и указал на желудок.
— Товарищи! — раздался голос Федора Алексеевича.
— Тихо, тихо! — зашикали друг на друга люди, поворачиваясь в сторону начальника.
Он с бокалом в руке стоял возле своего стола. Рядом с ним сидела жена. Она недавно приехала в поселок из Москвы и устроилась бухгалтером в контору.
— Товарищи! Прежде всего мне хочется поздравить с Днем Советской Армии Ломакина Бориса Ивановича, представляющего в нашем коллективе тех, кто в годы войны в рядах Советской Армии отстоял нашу Родину…
Колунков поднял свой бокал и чокнулся с Ломакиным.
— …Я хочу поздравить бригадира лесорубов старшину запаса Матцева Владислава Николаевича и в его лице всех солдат запаса нашего СМП, хочу поздравить лесорубов! Они в тяжелейших условиях прорубили просеку на два с лишним месяца раньше срока! Поздравляю всех с Днем Советской Армии! Доброго вам здоровья!
Федор Алексеевич выпил шампанское стоя.
— Поддержим начальника! — весело предложил Колунков.
— Поддержим! — энергично подхватил Гончаров.
Ведущей «Огонька» была Шура. Она находилась в своей стихии, болтала без умолку. Песни чередовались стихами. Был даже один акробатический этюд. Пели, танцевали, смеялись.
Андрею грустно было немножко. Он, поглядывая на эстраду, видел Анюту с Матцевым за одним столом. Владик, как всегда, был сдержан, невозмутим и вместе с тем, как отметил Павлушин, необычно задумчив, словно волновало его что–то, а он пытался скрыть. Еще на просеке в последние дни Матцев совсем молчаливым стал, похудел, осунулся, под глазами заметно потемнело… На Анюте было новое желтое платье, длинное с серебристым поясом. Недавно, видимо, купила. В магазинчик местный частенько привозили дефицитные вещи. Анюту тоже оживленной назвать нельзя. Казалось на первый взгляд, что они в ссоре. Но танцевали Владик с Анютой только друг с другом. Павлушин жалел временами, что не сел за один стол с Надей. Шура приглашала, но он отказался из–за ее болтливости. Этим она стала раздражать Андрея: чешет языком без удержу. Что на уме, то и на языке. Иногда казалось, что Шуре доставляет удовольствие смущать Надю. Андрей чуть вслух не матюкнулся, когда Шура объявила:
— Сейчас перед вами выступит восходящая звезда советской эстрады, а пока маляр Надежда Чекмарева! Свою песню она посвящает одному из лесорубов знаменитой бригады старшины запаса! Поприветствуем ее!
В зале засмеялись, захлопали. А Надю обожгло. Она вспыхнула, прилипла к стулу, съежилась. «Кто ее просил?! Кто?» Хотелось выскочить из зала от стыда. Но делать было нечего, нужно идти петь. Встретилась с подругой по пути на сцену, исподтишка показала кулак. Шура в ответ быстро высунула и спрятала кончик языка.
— Это тебе, — толкнул Павлушина захмелевший Колунков.
— Сиди! — буркнул Андрей.
— Везет человеку! — не понял его Колунков. — Песни ему посвящают…
— Он же говорил, что за славой сюда приехал. — пошутил Ломакин. — Вот она к нему и бежит… Тут удача всем улыбается. Ты удачно скрываешься от алиментов, Звягин удачно зарабатывает деньги, Павлушин удачно гоняется за славой… Только вот Гончаров неудачно от тоски скрывается…
— От тоски, видать, не убежишь, не скроешься! — вздохнул Гончаров.
— А ты что здесь ищешь? — спросил Колунков у Ломакина.
— Я? Ничего! Здесь моя жизнь…
Ударил барабан, загудела гитара.
— Хороша! — с восхищением произнес Колунков, наблюдая, как Надя берет микрофон, расправляет шнур. — Жаль, что не мне она будет петь! Я б ей тоже спел… Ты взгляни на нее, — снова толкнул он Павлушина. — Взгляни!
Надя действительно была хороша: юная, свежая, в, светло–зеленом платье, волосы чуть вьющиеся, пышные, до плеч.
— Явился ты, как наказанье, но и как награда, —тихо запела Надя.
Что мне поделать с собою, не знаю сама. О, если не хочешь смотреть на меня, и не надо… —голос Нади становился все сильней, страстней.
Но выслушай, выслушай, выслушай эти слова. Вставали из–за столов, выходили танцевать. Я их никому никогда не говорила И, сколько бы лет ни прошло, никому их не уступлю. Как я ненавижу себя за то, что тебя полюбила. Как я ненавижу тебя за то, что люблю.— Хорошо поет! — вздохнул мужчина, сидевший за соседним столом.
— Только не тебе, — усмехнулась ревниво женщина, бывшая с ним.
Так падают с криком в бездонную пропасть колодца, так тянут ладони в удушливом жадном дыму. Несу я любовь свою — что мне еще остается! — по черной земле прямо к дому несу твоему. Позволь, ты позволь мне хотя бы мгновенье у этих дверей постоять и рукою погладить косяк, и, словно цветок, подарить тебе песню где строчки, где строчки так о тебе голосят.— Ты извини, Пионер, — заговорил Колунков, когда Надя закончила петь. — Баран ты большой!.. Поверь мне, я в бабах разбираюсь… Лучше Надьки не бывает! Иди к ней, пошли вместе…
— Не… не могу сейчас… потом… Налей–ка, — потянулся Андрей к коньяку.
Тем временем Шура объявила новую песню. На сцену вышли две девушки.
— Ну, идем, идем к ним! Я все устрою, — поднялся Колунков.
Андрей встал и, плохо соображая куда и зачем он идет, пошел следом. Ему казалось, что все сейчас смотрят на него. Олег прихватил с собой начатую бутылку шампанского.
— Девочки! — ерничая, заговорил он. — Не найдется ли нам местечка за вашим певучим столом?
— Шампанскому всегда рады, — весело ответила Шура.
— А нам?
— Это смотря с чем вы пришли!
Девчата потеснились, сдвинули стулья, освободили место для парней.
— Вот этому молодому человеку, — указал Колунков на Андрея, примостившегося на подставленном Шурой стуле рядом с Надей, — этому молодому человеку захотелось поблагодарить одну певицу. Уж больно ему песня понравилась! Но к такому букету роз он один приблизиться не решился и прихватил меня с собой. А я такой барбос, люблю бывать среди роз!
Девчата засмеялись.
— Я его прихватил с собой, чтобы он молчаливо поддерживал меня, — как–то чересчур серьезно подхватил Павлушин шутку Колункова, — а он сразу все карты на стол. Всю малину испортил! — Под конец фразы голос Андрея смягчился, и он ласково глянул на Надю.
— Я такой! — хохотнул Олег.
В глазах у Андрея плыло, в ушах стоял гул от музыки и голосов.
— Пошли танцевать, разболтался! — шутливо прикрикнула на Олега Шура, и он с готовностью вскочил.
— С тобой хоть в воду!
— А вы чего расселись, — глянула она на Надю и Андрея. — Особого приглашения ждете?
Андрей засмеялся и пригласил Надю, прижал ее ладошку к своему плечу, чувствуя тонкий, нестерпимо нежный запах духов от ее волос. Пальцы Нади замерли под его рукой, вздрагивали изредка, ноготки, покрытые красным лаком, как ягоды клюквы, выглядывали из–под его ладони. Вспомнилась ему клюквенная поляна на болоте в день прилета сюда, вспомнилось, как пальцы Анюты с остатками лака на розовых ноготках быстро мелькали, собирая ягоды.
7
В полночь люди стали расходиться. На улице было светло от прожектора. Ослепительно белый снег искрился. Пахло дымом. Говор слышался, смех. Кто–то затянул: «Ой, мороз, мороз! Не морозь меня…» Песню подхватили.
Андрей выходил из столовой вроде бы с большой группой, но неожиданно оказался наедине с Надей. Шура куда–то исчезла. Надя жила в бараке рядом со столовой. Всего каких–то два шага до крыльца. Но она не торопилась домой, стояла, держалась обеими руками за уголки поднятого песцового воротника пальто, прижимала их к щекам. Носик ее, выглядывающий из воротника, показался Андрею таким милым, что захотелось потрогать его. Он легонько коснулся локтя девушки и спросил:
— Тебе не холодно?.. Может, погуляем?
— Конечно, погуляем, — с готовностью согласилась Надя, опуская руки. Концы воротника упали на плечи, открыли все ее сияющее лицо. — Я немножко опьянела. У меня голова вот так, — покрутила она пальцем в воздухе. — А тебе, правда, понравилась моя песня? — спросила она и взяла его под руку. Они направились по скрипучей тропинке в сторону озера.
— Ну, Анюточка, кому такая песня не понравится, — заворковал нежно Андрей. — Ты, Анюточка…
Надя остановилась. Андрей запнулся и виновато потер лицо перчаткой.
— Прости, Надюша… Ты видишь… — глупо развел он руками. — Каша в башке, каша… Прости!
В коридор общежития своего Павлушин входил с совершенно гадким настроением. Он ненавидел себя за то, что изгадил вечер Наде. Возле двери комнаты, где жил Колунков, он задержался, поморщился, размышляя, и вошел.
— Во, гляди, Пионер–кавалер! — повернулся к Павлушину Олег. Они были вдвоем с Гончаровым. — Присаживайся! А почему так рано?
— Зря… Зря все… — с горечью кинул Андрей.
— Эх, вроде бы умный, а дурак большой! — начал наливать коньяк в стакан Колунков. Налил и протянул Павлушину. — Пей! Да, слушай меня… Эх, воротиться бы мне сейчас в молодые годы. — покачал он головой. — Как ты жалеть потом о Надьке будешь! Как жалеть! Такие лишь однажды встречаются!.. Была и у меня… Василиса… Первая… Чистые глаза!.. Дениску родила… У меня ведь Дениска в школу ходит. Во второй класс… Васка, Василиса… Ты пей, пей! Чего смотришь? Мы с Цыпленочком уже налакались. Правда, Цыпленочек? — Колунков похлопал по плечу и прижал к себе Гончарова. Потом снова обратился к Андрею, который отпил немного из стакана и ел, цепляя вилкой шпроты из банки. — Цыпленочек покидать нас надумал. Домой человека потянуло, в гнездо! Хорошо, когда человеку есть куда вернуться! Есть свое гнездо. — Олег взял гитару и тронул струны. — У птицы есть гнездо. У зверя есть нора. Как больно было сердце молодому, когда я уходил с отцовского двора, сказать — прости — родному дому!
— А что же ты их бросил? Чистые глаза? — спросил Гончаров.
— Ты вот спроси у него, — кивнул Колунков на Павлушина. — Почему он Надьку не хочет? Спроси?.. Вот и я! Другая встретилась. Развеселая! Интересней показалась… Как я ее до свадьбы не разглядел?.. С какими претензиями человек? А сама ничто! Нуль! Барахло! Только и мечтала, как бы получше одеться, да получше пожрать… И главное — всем недовольная! Всем!.. Все вокруг нее сволочи, лишь она одна красно солнышко. Вот вырастит дочку… И она хотела, чтоб я ей алименты платил? Да я лучше деньги в костре пожгу!
8
Временную бригаду лесорубов Матцева расформировали: большинство и среди них Павлушин стали плотничать у Звягина, а Матцев подался в монтеры пути. Укладка железнодорожного полотна шла мимо поселка. Монтеров пути возили на обед в столовую. По приказу начальника СМП еду им отпускали без очереди. Черные, грязные, в промасленных до блеска ватниках, энергичные, хмельные от своего особого положения, от всеобщего внимания, дружно сыпались монтеры пути из вахточки с брезентовым верхом, врывались в столовую, заполняли ее гвалтом, смехом, едким запахом креозота, теснили очередь, покрикивали язвительно на тех, кто пытался возражать им, не пускал впереди себя. Очередь сразу удлинялась, напряжение росло, бессмысленная суета возникала.
Андрей Павлушин после праздничного «Огонька» почему–то потерял ко всему интерес, все вокруг потеряло смысл. Работал автоматически, не понимал шуток. Когда видел в столовой или на улице Шуру, отворачивался, с досадой думал, не дай Бог, увидит, подойдет: тоскливо стало слушать ее болтовню, улыбаться. По вечерам лежал в комнате, читал, иногда играл с Васькой Шиндаревым в шахматы. За этой игрой не нужно разговаривать, можно все время молчать. В соседней комнате часто играли в карты под деньги, в «храп». Оттуда часов до трех ночи шум доносился, смех. Колунков, когда не был пьян, играл в «храп». Он наоборот оживился, разогнулся немного.
Гончаров и Матцев уехали в Тамбов. Владик в отпуск, а Федор Гончаров совсем. Матцев, уезжая, не знал, что больше никогда не вернется сюда, останется в Тамбове, сойдется с женой, восстановится в институте. Они уехали в Сургут с попутной машиной, попрощавшись с бывшими десантниками возле строящегося коттеджа. Гончаров признался Андрею:
— Это ты меня надоумил… А так жить… это… — И он махнул рукой, не найдя нужного слова.
Да, действительно, так жить нельзя! Все чаще задумывался Андрей: зачем он здесь работает? Что ему надо? Разве об этом он мечтал? Ведь он сейчас в самой лучшей своей поре, а как живет? И что будет дальше? Раньше все было просто… Что делать? В деревню возвращаться? А там что? В город, поближе к институту? Но и там будет также плотничать на стройке, та же тоска, бессмысленность… Особенно одиноко было в пургу, когда ветер сбивал с ног, вырывал из рук доски, не давал дышать, завывал, бесился, заносил, засыпал снегом дома. В такие дни плотники не работали, сидели в будке, в «храп» резались. А Павлушин, как прежде, Колунков горбатился на краешке скамейки, равнодушно смотрел, как ребята азартно шлепают потрепанными картами по столу. Звягин тоже играл но страсти не поддавался, играл расчетливо, следил за картами, за игроками, угадывал по поведению, когда карта у них сильнее, и всегда выигрывал. Правда, понемножку, потому что не рисковал, не ввязывался в игру, когда на кону было много денег, а уверенности, что выиграет, не было.
Наступил апрель, а весны не чувствовалось. Только солнце стало поярче да повыше стало подниматься над тайгой, и морозы послабее. Помнится, в деревне в это время бугорки на лужайке, от снега очищались, подсыхали. Мальчишки «чижика» начинали гонять. Первая весенняя игра. Потом луг полностью освободится от снега, и морозец вечером слабенький, здоровый прижмет влажную землю: каких только игр не было! И все это недавно было, три года назад. Аж три года!
В воскресенье Андрей ушел на лыжах в тайгу. Снег сверху затвердел, не проваливался. Идти легко, приятно слушать шуршание снега. Повсюду меж деревьев видны лыжные следы. Из поселка ходят охотиться, на рыбалку. Говорят, что всю речку Ульт–Ягунку сетками заставили. Чаще всего попадались щуки, а охотились на глухарей, куропаток. Вспомнилось, как один плотник, то ли шутя, то ли всерьез рассказывал, как он охотится на куропаток: наливает горячей воды в бутылку из–под шампанского, ставит ее на снег. Снег тает, опускается, получается ямка с обледенелыми боками. Сделает так несколько ямок, бросит в них рябинки и уходит. Куропатки видят ягоды, спускаются в ямки вниз головами, а назад выбраться не могут. Он возвращается и собирает их живыми. Врал, конечно. Но с охоты никогда без куропаток не возвращался. Задумался Андрей и вздрогнул от неожиданности, когда рядом с ним из–под снега с резким фырканьем вырвалась стая глухарей и зашумела крыльями.
Снег на льду Ульт–Ягунки в том месте, где она впадает в озеро, притоптан, видны лунки с тонким ледком. Они протянулись ровным рядом от берега к берегу. Следы возле лунок свежие, видно, хозяин сетки проверял ее рано утром. Андрея потянуло глянуть, не попалось ли что в сетку, но он не знал, как ставить ее потом, да и вытаскивать как не знал. Он перешел речку, поднялся на пологий берег и неторопливо двинулся к избушке ханта. Ребята рассказывали, что хант раза три приходил в поселок. Один раз принес Колункову десять пузырьков «дэты». Олег спирт из нее вымораживал. Взял лом, раскаленный на морозе, поставил его на улице в миску и стал сверху поливать «дэтой». Вся гадость примерзала к лому, а спирт стекал в миску. Додумаются же алкаши!
Еще издали понял Андрей, что избушка не жилая, засыпана снегом под крышу, окна не видно. Одинокий лыжный след тянется к ней. Столбы прясла торчат из сугробов. Ушел хант. Зверей, птицу распугали, и ушел. Постоял Андрей возле избушки, вспоминая, как колдовал старик–хант у печи, поил его отваром каких–то трав, как, лежа на оленьей шкуре, понял он впервые бессмысленность той схемы, по которой собирался строить свою жизнь. И снова подумалось: а зачем жить, если все бессмысленно? А почему бессмысленно? Какой смысл нужен? И нужен ли он вообще–то? Дал тебе Бог жизнь, и радуйся! Ведь мог бы и не родиться или умереть младенцем. Мало ли умирают… Жить надо, жить! Радоваться солнцу, снегу, деревьям вот этим заснеженным, замерзшим в тишине. Разве не радуют они глаз? А разве не приятна тебе грусть при виде этой засыпанной снегом покинутой избушки? Андрей повернулся назад. Он шел, все убыстряя шаг, вдыхал–выдыхал в такт, и ноги сами понесли его по крепкому насту. Острые концы палок с хрустом впивались в снег: быстрее, быстрее, ах, здорово! Уф, хорошо пробежался! Он остановился, дышал глубоко и часто, стоял, глядел на освещенные солнцем деревья, на белые, как снег, березы, на кедры с сугробами на ветках, на светло–коричневые шершавые стволы сосен.
9
Незаметно и быстро пришла и прошла весна, отблестела на солнце ручьями. Озеро набухло тяжелой водой, растопило лед и, казалось, изумленно плескалось, лизало изменившийся за зиму берег. Шумно стало: урчали бульдозеры, важно и неторопливо проходили по ухабистой песчаной дороге самосвалы, слышался мелодичный, похожий на удары колокола, стук сваебоя. Озеро взволнованно и суетливо накатывало на берег, шуршало, будто выговаривало недоуменно: «Как же так! Как же так! Когда ж успели?» «Успели, успели! — шелестел ветер прошлогодней осокой. — Еще не то увидишь!» — предсказывал он и бежал дальше, поднимал пыль возле общежитий. Появились комары. Наступили белые ночи. Жители поселка натянули на форточки марлю, а по ночам завешивали окна одеялами, чтобы белая ночь не мешала спать.
Павлушин порыбачил однажды с ребятами, надергал окуньков. Занятие это ему понравилось, и потихоньку он увлекся, завел не только удочки, но и спиннинг, болотные сапоги. В субботу садились в лодку, пересекали озеро и по тихой речушке поднимались к рыбному озерку. Под соснами ставили палатку, разводили костер. Сухо было здесь, хорошо. Только комары портили удовольствие, но Андрей быстро привык к их постоянному зуду, и «дэта» помогала.
Однажды хозяин лодки в выходной уехал в Сургут по своим делам, и с ночевкой порыбачить не удалось. Утром пошли с Петькой Колычевым вдвоем, со спиннингами, на Ульт–Ягунку. Щуки в ней хорошие попадались раньше, но повыдергали быстро, и теперь заядлые рыбаки старались поглубже в тайгу забираться, на озерки, подальше от поселка, туда, где потише. Но от нечего делать Андрей позвал Петьку, монтера пути, посидеть на Ульт–Ягунке у омутка.
День ветреный выдался. Деревья шумели, шелестели, поскрипывали, но за кустами на берегу тихо, на воде только рябь небольшая временами, при сильном порыве ветра. Петька уже на третьем забросе прихватил щуренка. Недолго возился с ним, быстро вытянул. А Андрей напрасно мочил блесну. Раз пять менял место, не берет. Надоело, заскучал, стал подумывать — бесполезное занятие, надо уходить. Забрасывал и равнодушно крутил барабан, потому и неожиданно ударила леска, рычажок вырвался из руки, зажужжал, раскручиваясь. Поймал рычажок задрожавшей рукой, стал отпускать медленней, отпускать, потом натянул, накручивать начал. Петька увидел, спросил:
— Попалась?
— Хорошая, видать…
— Помочь?
— Бери сачок!
То натягивал, то отпускал леску Павлушин, выбирал потихоньку. Метрах в двух от берега заметались круги по воде. Морщась от усилия и от волнения, осторожно подтягивал щуку к берегу. Петька с белой кепочкой на затылке вытянулся с сачком в руке, выставил длинную шею с острым большим и подвижным кадыком. Ловил момент. Поймал, зачерпнул щуку, воскликнул: — Опа! — и потащил на берег сачок.
Щука билась, извивалась, хлопала своим широким зеленовато–серым хвостом с темно–извилистой каемкой, мелькала белым брюхом.
— Ого какая! — услышали ребята сзади девичий возглас, обернулись.
На берегу у куста стояли девчата, Анюта с Галей, подругой по столовой. Они и жили в одной комнате. Ведра у них в руках. Галя поставила свое ведро, глухо звякнув ручкой, и спустилась к ним. Петька вытряхнул щуку из сачка. На земле она забилась еще неистовей, пачкая о песок белое брюхо и пятнистый зеленоватый бок.
— У, тварь шустрая! — весело ругнулся Петька, прижал щуку руками к земле, поднял и ударом о колено переломил ей хребет.
— Заче–ем? — протянула жалостливо Галя.
— Ага, так она никогда не успокоится… А вы что здесь делаете? — глянул он весело на девушку. Галя присела, наклонилась над щукой.
— Грибы собираем.
— А не рано?
— По полведра набрали…
— Значит, вечером на жаренку приходить можно? — игриво спросил он и предложил: — Забирайте и щуку, пожарьте, попотчуйте нас с Пионером…
Галя ткнула пальцем щуку в тугой пятнистый бок. Рыба дернулась.
— Ой, живая еще! — и обернулась к Анюте. — Возьмем?
— А как мы ее донесем?
— Много у вас грибов–то? — Петька поднялся к Анюте, глянул в ведра. — Ох и много набрали, — сыронизировал он и пересыпал грибы в одно ведро, а в другое зачерпнул воду, сунул щуку. Она свернулась кольцом, захлопала хвостом, брызгаясь. Кинул Петька в ведро и своего щуренка. — Вот и порядок!
Андрей, когда видел Анюту, ничего, кроме глухого беспокойства, не испытывал, не думал о ней больше. И сейчас стоял молча, чувствуя неудобство от ее присутствия. А при неожиданных встречах с Надей обжигало стыдом: было такое чувство, что он обидел ее сильно ни за что. Шура отстала от него, не заговаривала больше. В женское общежитие Андрей не ходил, в кино бывал редко, и всегда с ребятами.
— Вина надо бы достать, — сказал Андрей, когда девчата ушли.
— У них есть, — уверенно ответил Петька и двинул вверх–вниз кадыком, словно от предчувствия предстоящего удовольствия. — Они же в столовой работают. На складе сухое всегда есть. Мне Галька не один раз доставала…
— Неудобно…
— Брось. Неудобно штаны через голову надевать… Чего это мне у своей девахи пить неудобно? Как же она меня без вина на крючок зацепит? Без блесны не клюну, — хохотнул он и снова смешно двинул кадыком.
10
Вечером у девчат сидели за столом недолго. Анюта с Андреем кинут слово и молчат. Петька один говорил, говорил, надоело ему, и он потащил Галю в кино, отказавшись от чая. Андрей робко предложил Анюте: может, сходим и мы, но она не захотела. Они остались одни. Захмелевший Павлушин не знал, о чем говорить, чувствовал себя скованно, но уходить не хотелось. Они молча пили чай, и оба делали вид, что слушают магнитофон. Анюта отставила чашку, поднялась, говоря:
— Я уберу со стола…
— Я помогу.
Девушка взяла с кровати свой розовый фартук, отделанный по краям алой ленточкой, надела на шею, завела руки за спину и начала завязывать концы тесемок.
— Давай я! — подскочил к ней Андрей.
Она молча уступила ему концы. Он, суетясь, стал завязывать. От запаха волос Анюты у него сладко закружилась голова. Андрей взял ее за плечи, задержал на мгновенье возле себя и тихонько прижался губами к ее затылку. Анюта сжалась, втянула голову в плечи. Андрей отпустил и быстро проговорил, запинаясь:
— Какой у тебя… красивый передничек!
— Правда? — Она не взглянула на него, подошла к столу. — Я его только вчера сшила…
— Ты сама шьешь? — не удержался от радостного возбуждения, воскликнул Андрей. Радость вскипела в нем от того, что он неожиданно для самого себя поцеловал ее, и она не рассердилась. Возбуждение и нежность почувствовал необыкновенные.
— Шью, — удивленно подтвердила, взглянула на него Анюта, собирая чашки. Она не поняла, почему он так радостно вскрикнул.
— А вот и машинка стоит! — увидел Павлушин ручную швейную машинку в чехле возле кровати, снова воскликнул так, словно увидел по крайней мере «Мерседес», принадлежавший Анюте. — Какой я невнимательный!.. Во, сказал, помогать буду, а сам, как столб, посреди комнаты… — рванулся он к столу и начал собирать тарелки, блюдца.
Анюта ушла с чашками в угол, за занавеску, где был умывальник с краном. Андрей вилкой счистил остатки еды в одну тарелку и отнес их все к девушке, поставил стопкой на табуретку возле умывальника. Тщательно вытер стол, с нежностью прислушиваясь, как за занавеской плещется вода. Вернулся к Анюте и стал ждать за ее спиной, когда она вымоет очередную тарелку, чтобы сполоснуть под краном руки. Волосы Анюты небольшой волной закрывали плечи, распадаясь надвое. Когда она наклонялась над умывальником, открывалась полоска смуглой шеи. Андрею нестерпимо захотелось коснуться этой полоски губами, и он потянулся, но как раз в магнитофоне кончилась лента, и катушка начала быстро вращаться, щелкая концом ленты.
— Поставь другую, — подняла голову Анюта, и смуглая полоса исчезла под волосами.
Андрей торопливо сунул руки под струю воды, наскоро вытер полотенцем, выключил магнитофон и начал заряжать другую катушку. Руки у него почему–то дрожали.
За занавеской шум воды прекратился. Анюта закрыла кран и вышла. Павлушин включил магнитофон, остался сидеть на корточках перед табуреткой, на которой стоял магнитофон, и с глупой улыбкой смотрел на девушку. Она пыталась развязать за спиной концы фартука.
— Помоги… Затянул как!
Андрей вскочил, развязал, прижал к себе девушку зарывшись лицом в ее волосы. Она замерла, не пыталась освободиться. Ноги у него отчего–то слабели с каждым мгновением, хотелось присесть.
|— Погоди, — шепнула Анюта, чувствуя спиной, как колотится его сердце.
Но он не отпустил, повернул Анюту лицом к себе, прижал к груди и стал быстро гладить дрожащей рукой ее волосы, чувствуя горячее дыхание на своем плече. Прижимал он Анюту к себе бережно, словно треснувшую вазу, которая при неосторожном движении может рассыпаться.
— Пошли погуляем, — шепнула Анюта ему в плечо.
— Пошли, — также шепотом с облегчением выдохнул он, отпуская.
Она быстро скинула фартук, встряхнула головой, поправляя волосы.
11
Утром Андрей проснулся с радостным чувством, так он уж давно не просыпался. Лежал долго, боялся расплескать это чувство, смотрел, как одеваются ребята, улыбался беспричинно. Потом вскочил и стал быстро собираться, умываться, желая поскорее увидеть Анюту в столовой.
Она, как всегда, разливала по тарелкам щи, супы, раскрасневшаяся от жары печей. Как показалось ему, глянула на него с особым блеском в глазах. Едва приметно улыбнулась, подняла на секунду кончики милых губ, еле–еле тронутых губной помадой. С пронзительным чувством нежности вспомнилось, как вчера, прощаясь, он коснулся этих милых губ своими губами.
В бытовке, где собирались плотники перед работой, лица ребят казались ему красивыми, мужественными. Даже Колунков со своей вечно растрепанной спутанной бородой, которую не раз намеревались плотники отсобачить топором, показался каким–то загадочным и милым. Олег был с похмелья. Он сидел на своем ящике в углу, когда в бытовку вскочила собака Жулька, завертела хвостом, оглядывая плотников.
— Ах ты, Жулька, Жуленок, иди ко мне, — позвал Колунков.
Но Жулька только глянула на него и села у двери.
— Не хочешь? Брезгуешь, когда я с похмелья. Презираешь? Да? Ишь ты, гордая какая! — Олег поднялся с ящика, подошел к собаке и дунул, дыхнул на нее.
Жулька подняла голову и смотрела на него действительно презрительно. Олег снова дыхнул ей в морду. Собака поморщилась, смухордилась и отвернулась.
— Жулька, за нос его, чтоб не издевался, — сказал Звягин.
Колунков опять дыхнул, обдал собаку перегаром. Жулька рявкнула, подпрыгнула, клацнула зубами у самого носа Олега. Он едва успел отскочить. Плотники захохотали. Особенно звонко и радостно залился Павлушин. Ему показалось, что Олег и Жулька разыграли эту комедию для него. И работалось легко. Гвозди шли в мягкие доски споро и не гнулись. Ножовка в руке пела. Острый топор сек дерево ловко, играючи — все вызывало любовь, радость!
А в обеденный перерыв он был ошеломлен, оглушен и почему–то захохотал, глупо, дико, когда нужно было заплакать.
Павлушин и Звягин сидели за столом, ели гуляш, когда Анюта вошла в столовую с каким–то парнем. При виде ее Андрея обожгло новой вспышкой радости. На парня он внимания не обратил, мало ли людей бывает в столовой. Андрей ел, забыв о еде, смотрел, как она взяла два подноса, подошла к раздаточной. Парень неотступно следовал за ней, но Андрей упорно не замечал его. Увидев, куда смотрит Павлушин, Звягин сказал равнодушно, отставляя в сторону тарелку:
— К Анюте муж приехал.
Андрей решил, что он ослышался. Так невероятен был смысл сказанного. И он переспросил:
— Что ты сказал?
— Вон, видишь, — кивнул Звягин в сторону раздаточной. — Муж к Анюте приехал.
И тут, наконец, Андрей увидел парня и захохотал дико, глупо.
— Ты чего? — удивленно уставил на него Звягин свои светло–карие, как зреющая смородина, глаза, держа стакан с компотом над столом.
— Да… смешно, — так же неожиданно прекратил смеяться Павлушин. — Ты знал, что она замужем? — задрожавшими пальцами он крепко сжал в руке стакан.
— Догадывался… — Звягин отвернулся от него, позвал громко. — Анюта, иди сюда. Мы уходим. — А когда она и муж ее подошли с подносами к столу, сказал: — Знакомь мужа с земляками.
Она, снимая тарелки с подноса, спокойно, но не глядя на Андрея, познакомила их.
— Проведать или насовсем? — спросил у Николая Звягин.
— Остаться хочу…
— Ломакин его в свою бригаду берет, — сказала Анюта, взяла освободившийся поднос у мужа и понесла к моечной.
Андрей немо, не отрываясь, с какой–то жадностью глядел на Николая, словно старался отыскать в его обычном курносом лице с широкими бровями над глубоко посаженными серыми, как заячий мех, глазами то, что выделила, отметила и полюбила Анюта.
С силой вгоняя в доски гвозди, он мучительно думал: почему? Почему она, зная, что утром приедет муж, гуляла с ним вчера? Почему позволила целовать?.. До тошноты сдавливало горло, не хватало воздуха. И молоток, и топор вихлялись в его ставшей неловкой руке. И наконец, он то ли промазал, то ли сознательно саданул топором по пальцу, рассек. Кровь брызнула на чистые желтые доски пола. Топор с оглушительным грохотом выпал из руки. Он зажал рассеченный палец рукой, привалился плечом к стене, слезы потекли из глаз. Кровь сочилась сквозь пальцы и капала на пол.
Все дни Павлушин был занят собой, переживал, думал о насмешливом счастье, поманившем его и жестоко обманувшем. Он не слышал, о чем говорят плотники, не замечал, что Олега Колункова третий день нет в бригаде. Столкнулся с ним на улице, когда шел из медпункта, с перевязки, удивился, увидев Колункова с тугим рюкзаком на спине, с ружьем, с гитарой в брезентовом чехле.
— Ну, Пионер, — сказал Олег бодро, но Павлушин почувствовал, что бодрость его наигранная, — пришла пора прощаться!
— Как прощаться? — не понял Андрей.
— Ухожу… Слишком шумно стало здесь. Милиция заинтересовалась моей особой. А мне это, сам знаешь, ни к чему!
— Куда же ты?
— Бичевать!.. Старый хант избенку мне оставил. Пойду, поживу до холодов, а там видно будет…
— Ты с ума сошел? Чудак!.. Губишь ведь себя! Отошли ты им деньги и живи, как человек. — Андрей понимал, что говорит напрасно. Обдумано все у Колункова. А может, и не обдумано, запутался человек, но его слова звучали неубедительно.
— Пионер, ты же мои наставления не слушал, — засмеялся с усмешкой Колунков. — А почему я тебя должен слушать?
— Ладно, живи, как хочешь: твоя жизнь… В гости приходить?
— Рад буду… Ты только не распространяйся шибко здесь, что я у ханта… Я сказал, что уезжаю дальше, поближе к Уренгою.
— Узнают все равно… Ты же не утерпишь, не усидишь, рано или поздно все равно к нам заглянешь.
— Это да…
— Может, там от водки отстанешь.
— Ну нет, — засмеялся Колунков и встряхнул рюкзаком на спине. Глухо звякнули бутылки. — Без этого нельзя…
12
Домик ханта был обнесен пряслом. Кто–то уже успел повалить некоторые столбы, спихнуть жерди. Недавно хозяйничали, идиоты! Теперь и внутри раскурочили все, не дай Бог, печь сломали. Стекла в единственном оконце на месте. Только большой верхний глазок треснул посреди. По трещине наклеена полоска прозрачной изоленты. Колунков снял рюкзак, хозяйским глазом осмотрел комнату, присел, заглянул в печь. «Жить можно, — вздохнул он. — Мусор уберем. Топчан соорудим». Он вынул из рюкзака бутылку, стоя снял пробку и произнес: «С новосельем тебя, Олег Батькович!» Глотнул из горлышка, отщипнул от буханки черного хлеба, пожевал задумчиво с минуту и вышел, прихватив с собой топор.
Потянулись долгие ночи одиночества. Дни проходили быстро, незаметно. Колунков бродил с ружьем по тайге. Бывал в рыбацком поселке хантов, расположенном в пятнадцати километрах отсюда на берегу большой реки. Ходил туда за водкой.
— Нету водки, — сказал ему пожилой продавец–хант, когда Олег в первый раз появился в магазине, — Ягоду давай: брусника, клюква… будет водка. План, — пояснил он, указав на объявление на двери. Населению предлагалось собирать ягоды и сдавать в сельпо в обмен на дефицитные вещи.
— Много брусники надо?
— Много ягоды, много водки…
Колунков купил ведро и стал собирать ягоды. Это ему понравилось больше, чем охота. Неспешное, спокойное занятие, и голова отдыхала от смутных мыслей. Но по вечерам, когда, затопив печь, усаживался напротив огня и медленно закусывал, глядел, как неторопливо тают дрова, как колеблются языки пламени, играя отблесками на стене, приходили разные мысли. Только одну он всегда гнал: как жить дальше? Что делать? Тридцати лет еще нет, а жизнь кончена, прожита… «Жизнь давно сожжена и рассказана, только первая снится любовь…» О будущем Колунков думать не любил. Не было его! Любил он вспоминать прошлое, Василису, флигелек в саду, где они квартировали два года, пока им не дали комнату в семейном общежитии. В том флигельке и родился Дениска. Трудно, ох как трудно было вначале. Воду из колонки надо носить, греть. Флигелек крошечный, повернуться негде. Мальчик беспокойный, бессонные ночи. Раздражение от вечного недосыпания. Знал бы он тогда, какими счастливыми покажутся скоро ему те дни! Вспоминал и друзей поэтов, занятия в литературной студии, вечера со стихами и гитарой, выход первой книги, так и оставшейся единственной. Будущее тогда представлялось необыкновенным. Милые, невозвратные дни! А ведь были они совсем недавно, каких–то пять лет назад, но кажется так давно, словно в другой жизни! Приятные, но печальные воспоминания! В такие вечера Олег пил особенно много. Вспоминал он и вторую жену, Леночку. Но вспоминалась она раздраженная, как змея перед броском, будто и не было с ней счастливых, восторженных дней, а ведь были, были, до помрачения рассудка, до полного забвения себя, всего вокруг. Если бы не было этого, разве он оставил бы Василису, Дениску. Ни за что! Но почему–то все вспоминаются ссоры, мелкие, ничтожные, возникавшие, особенно в последний год, по любому глупейшему случаю. Из–за пятнышка какого–нибудь. Да, да, помнится мерзкая ссора из–за пятнышка на стуле. Купили они чешский кухонный гарнитур. Долго искали, примерялись: то великоват для их кухни, то цвет не нравился Леночке. Ох и привередлива была. Наконец, остановилась на алом цвете. Купили, привезли. Обивка стульев не дермантиновая, как обычно у кухонной мебели, а матерчатая, какая–то искусственная мешковина желтоватого цвета, но не сплошного, местами чуть потемней, а кое–где как бы пятнышки. У него сразу мелькнула мысль, что на их тесной кухоньке немудрено капнуть на стул: не кожа, не вытрешь. Концерт будет. И точно. Месяца не прошло, как он увидел Леночку вечером внимательно разглядывающей сиденье стула.
— Поди сюда… Это ты капнул? — голос у нее сварливый, расстроенный, раздраженный.
Он глянул. Пятнышко было еле заметное. То ли действительно кто из них капнул, то ли было так. По его мнению, так и было. Он и ответил, указывая на точно такие пятнышки в другом месте на этом же стуле и на других.
— Нет, это не такое. Это ты капнул… Тыщу раз твержу — поосторожней, поосторожней!.. Нет, готов все испоганить, изгадить…
— Не капал я, говорю, — перебил он. — Может, сама капнула!
— Я не капала! Это ты, раззява, ходишь, галок ртом ловишь…
И поехала: гыр–гыр–гыр! Знакомое все, но удержаться невозможно, подмывало рявкнуть, заткнуть рот. Терпение лопнуло, рявкнул:
— Да заткнись ты, наконец!
Леночка словно и ждала этого.
— А-а! — взорвалась она. — Я в своем доме молчать должна!..
Она — матом, он — матом! Дико, гадко, мерзко вспоминать. Тогда он не пил, не умел топить тоску в вине. Научился быстро. Ясно было обоим, что жизнь совместная не получается, но Лена решила завести ребенка и родила дочку. Стихи почему–то перестали приходить к нему. Как отрезало! Олег запил, возвращался домой поздно. Лена не пускала его в квартиру. Скандалы, скандалы! Однажды она вызвала милицию, написала заявление. Вышел он через пятнадцать суток, и домой не вернулся, сошелся с подвернувшейся под руку в пивнушке беспутной бабенкой, которая была старше его лет на десять. Пили вместе, пока она не объявила, что беременна, и не потребовала оформить брак. В то время как раз Звягин в Сибирь собрался, и Олег бежал с ним из Тамбова. Алименты перестал платить и Василисе. Муж есть! И теперь, вспоминая о Дениске, переживал — его–то за что наказывает?.. Нужно расплачиваться…
13
Давно уже кран–путеукладчик прошагал двадцатипятиметровыми звеньями по насыпи мимо поселка Вачлор, оставляя позади себя бесконечную решетчатую ленту. Монтеры пути балластировали, выпрямляли путь, готовили к эксплуатации.
И пришел день первого поезда.
С утра у поселка приподнятое настроение. Много машин скучилось у конторы. Две черные «Волги» сверкают лаком на осеннем солнце под березами, которые шелестят на ветру пожелтевшими листьями, изредка роняют их на капоты, крыши необычных здесь машин. Над конторой, над клубом, над магазином колышатся, хлопают на ветру красные флаги. Особенно звонки сегодня голоса детей, светятся наглаженные галстуки из–под распахнутых курточек. И собаки возбуждены, бегают по улицам от одной группы людей к другой, понимают, что что–то необычное случиться должно, раз столько людей на улицах, столько шума и смеха. Чем ближе к двенадцати часам, тем больше людей подтягивается к временному вокзалу, небольшому зеленому домику. Толпа возле него растет, появился духовой оркестр.
Только Звягину грустновато сегодня. Он давно решил, что вернется домой, когда в поселок придет первый поезд. Звягин думал, что это будет самый радостный день в его жизни, но почему–то чем шумнее, многолюднее становились улицы, тем грустнее ему, как будто он в чужом поселке наблюдает чужой праздник. С горечью сознавал он, что уже не хозяин здесь, гость. Он оформил отпуск за два года с последующим увольнением. Трудовая книжка лежала в кармане, ничто больше не удерживало в поселке. Он неспешно обошел улицы, оглядывая дома, построенные его руками, вышел на берег озера, сел на перевернутую вверх дном голубую лодку под березкой. Он не сразу узнал, что это одна из тех двух березок–сестричек, которые, по словам Колункова, выбежали встречать десантников: белая когда–то кора березки ободрана, грязная, а от другой березки остался высокий острый пенек. Год назад белые, доверчивые выскочили навстречу, а мы их встретили, — усмехнулся горько Звягин. Да, всего год назад прилетели. Всего год, а изменилось как здесь все, не узнать. Но и работы впереди, дай Бог. Лет пять — семь постоянный поселок строить, вокзал. Звягин поднял с днища лодки отшумевший свое лист и стал вертеть его в руке, слушать, как печально плещутся возле ног рыжеватые волны. Задумался и не расслышал, как подошел Павлушин.
— Прощаешься?
Звягин поднял голову, оглянулся.
— Прощаюсь! — И снова отвернулся к озеру, заговорил: — Ты знаешь, Андрей, тридцать лет почти копчу я землю, а взгляну назад–вижу, жил–то я по–человечески два года только… Все было! И в болоте тонул с трелевщиком, и пальцы обмораживал… Трудно было, а покидать грустно!.. Была бы здесь Валя… — Звягин замолчал, недоговорив, и вздохнул. — Знаешь, Андрей, чего я сейчас больше всего боюсь? Приеду домой, а жена там с другим. Кому тогда будут нужны мои тысячи? А ведь может такое быть, а? Ведь может…
— Письма–то она тебе писала, — сказал Павлушин.
— Писала… Написать, сам знаешь, что угодно можно!.. Я зимой письмо от соседа Васьки Кулдошина получил. Знаешь, сколько я его на груди носил, распечатать не мог. Думал, открою, а там о Валюшке…
— Ну и что там было?
— Я не читал… Не решился, сжег! Лучше ничего не знать…
Из поселка донеслись трубные звуки духового оркестра и гулкие удары барабана.
— Пошли, — сказал Павлушин. — А то еще поезд проспим!
— Рано, — взглянул на часы Звягин. — Это они голос пробуют…
Они, утопая в песке, двинулись к станции, туда, где толпились рабочие, бегали дети, негромко и лениво играл духовой оркестр. Много было корреспондентов с фотоаппаратами, с кинокамерами. Никонов и Романычев оба в черных кожаных пальто, в окружении руководителей неторопливо, важно шли к вокзалу куда продолжал стекаться народ. Какой–то парень, свесив ноги вниз, сидел на крыше вагончика, который стоял возле насыпи, бренчал на гитаре, пел, но голоса его из–за шума не было слышно. Тут же на крыше топтались мальчишки, вытягивали шеи, вглядывались вдаль, на ровный, уходящий в тайгу железнодорожный путь в сторону Сургута.
— А ну слезьте оттуда! — прикрикнул было прораб на мальчишек но, видя, что оба начальника не обращают внимания на ребят, не стал настаивать.
Пришли к станции и артисты областной филармонии. Вечером будет концерт.
Андрей видел в толпе Ломакина, на насыпи сияли возбужденными лицами Шура с Надей, Анюта и Коля тоже были там, поглядывали в ту сторону, откуда должен появиться поезд.
— Олег! — вскрикнул Андрей радостно, подбежал к Колункову, хлопнул по спине. — И ты здесь?
— А как же…
— Ты знаешь? Звягин уезжает…
— Знаю, — глянул на подошедшего к ним Звягина Колунков.
— Идет! Идет! — закричали на крыше ребята и радостно запрыгали.
— Крышу проломите! — снова сердито прикрикнул на них прораб.
Те, кто был внизу, хлынули на насыпь, вытягивали шеи, стараясь через головы увидеть приближающийся поезд. Кое–кто из мальчишек кинулся по шпалам навстречу поезду. Шел он медленно, неторопливо и осторожно, словно ощупывая новый для себя путь. Чем он ближе подходил, тем больше людей срывалось с места, бежало навстречу. Поезд сипло, возбужденно засвистел. Андрею показалось, что он вскрикнул:
— Иду–у–у! Иду-у! Встреча–айте!
Видно было, как мальчишки на ходу висли, карабкались на платформу, на два вагона, которые тянул за собой тепловоз. И тепловоз, и вагоны увешаны флагами, плакатами, лозунгами. Поезд важно вплыл в толпу, остановился и по–мальчишески радостно свистнул, перекрывая духовой оркестр. Встречающие кричали, драли глотки. Кричал вместе со всеми и Павлушин.
Начались речи, поздравления, обещания, аплодисменты. Играл духовой оркестр.
Звягина проводили утром с попутной машиной. Колунков, уже пьяный, бил по струнам гудевшей гитары и пел, стоя на дороге и глядя вслед удаляющейся машине. Когда она, подпрыгивая на ухабах, скрылась за деревьями, Олег резко ударил по струнам, мрачно выдохнул:
— Все! Еще одного десантника потеряли… Осталось вас трое: Ломакин, Анюта и ты…
14
По пути в Тамбов Звягин задержался в Москве, нужно пройтись по магазинам. Вале он добра импортного всякого накупил, в поселке дефицит выбрасывали.
Но детской одежды мало. Валя писала, что Светлане зимой будет нечего надеть, из пальто выросла, и колготок тоже нет. Юрке зимние сапоги нужны…
Но в Москве, в магазинах, пусто. Ходил, удивлялся многолюдью в «Детском мире». Людей, как на демонстрации, и все в разные стороны прут, натыкаются друг на друга, толкаются. Как муравейник, только лишь друг по другу не бегают. Минут через двадцать это броуновское движение стало раздражать Звягина.
И главное, что ни спросишь у продавцов, один ответ: нет! Отвечают, не глядя на тебя. Ты для них не существуешь. Не было ни шубок, ни колготок для Светы, и зимних сапог сыну не было. Остановился Звягин у стены, в сторонке, чтоб не толкали, огляделся, думая, как быть. Если в Москве шубок нет, то в Тамбове и подавно не купить. Серые невзрачные пальтишки, которые висели в отделе, покупать не хотелось. Вчера только шубки кроличьи были, неужели ни одной не осталось? Попробую, в лоб не ударят… Звягин поправил ремень своего потрепанного рюкзачка на плече и решительно двинулся в отдел пальто для девочек. Покупателей в нем было мало, входили, задерживались не надолго, и шли назад с пустыми руками. Двинулся он решительно, но про себя заробел, заволновался, что ни говори, поступок стыдный: шугануть могут! Одну руку он держал в кармане, теребил пальцами приготовленный четвертной. Выбрал из продавцов он ту, что заворачивала купленные вещи. Она скучала за прилавком, изредка в ответ на вопрос покупателя коротко бросала: нет. На вид бойкая: эта и отбрить может, и помочь. Улучив момент, когда возле нее никого не было, подошел, наклонился, оперся локтями о прилавок. В одной руке он держал, зажимал пальцами сложенную двадцатипятирублевку получалось так, что он как бы протягивал продавцу, предлагал четвертак, а с другой стороны, может, он просто так держал бумажку в руке.
— Девушка, милая, дочке совершенно не в чем ходить, — промямлил он; просительно, чувствуя себя совершенно мерзко. — Посмотрите, может, хоть одна шубка осталась от вчерашнего?
Продавец быстро глянула на четвертак, на Звягина, кинула взгляд в сторону, потом на кассира с правой стороны, протянула руку к стопке оберточной бумаги, словно хотела поправить ее, быстро выхватила из его руки бумажку и спросила деловито: — Размер?
Звягин назвал.
— Сейчас посмотрю. Погодите, — и спокойно и неспешно двинулась в подсобку.
Не было ее минуты три. Вышли со свертком.
— Платите в кассу… — протянула чек.
Получая сверток, Звягин думал с сомнением и опаской, не подсунула ли она ему какую тряпку. Успокаивало то, что чек, надорвав, она вернула ему. И все же, отойдя от отдела, Звягин, прежде чем сунуть сверток в рюкзак, развязал его и с радостью увидел свернутую шубку, погладил коричневый мягкий мех.
— Где вы купили? Где?! — услышал он за спиной возбужденный женский вскрик и оглянулся.
Возле него сразу толпа выросла. Он засуетился, стал неуклюже заматывать сверток, забормотал::
— Это вчера… не подошло… Я купил…
А со всех сторон спрашивали, галдели.
— За сколько продаешь?
— Какой размер?
А что у него?
— Шубка детская!
— Давай мне! Я беру! — совал кто–то ему деньги, а другой рукой ухватился за сверток.
Руку с деньгами отпихивала женщина, первой увидевшая шубку у него, и кричала:
— Не лезь! Я уже договорилась!
Она тоже вцепилась в сверток. Звягин обеими руками прижал к себе шубку, рявкнул:
— Не продаю я! Что вы, как оглоеды!.. Отцепись!
Толпа росла. Звягин рванулся вдоль стены, расталкивая людей, и с ужасом увидел милиционера.
— А ну, расходись, расходись! — покрикивал он, пробираясь навстречу Звягину. — В чем дело?
— Да вот… купил дочке., смотрел… А они чуть не разорвали, оглоеды…
— Купил он! — ехидно и насмешливо прервала его женщина, та, что первая обратилась к нему. — Спекулировал!.. Гляньте на его рожу. Их тут спекулянтов… — вякнула ехидно и двинулась сквозь толпу. Ей уступали дорогу.
— Женщина! Гражданка, погодите! Надо составить протокол, — попытался остановить ее милиционер, но она даже не оглянулась.
— Она что, охренела! — холодея от слова протокол, воскликнул Звягин.
— Гражданин, потише! Не выражайтесь! — гневно глянул на него милиционер. Был он курносый, конопатый. Недавно, видимо, из армии пришел.
— Да вот же чек! — заорал Звягин, тыча милиционеру бумажку. — Отойти от отдела Не успел. Окружили, оглоеды!
Милиционер взял чек, посмотрел. Толпа вокруг них рассосалась быстро при слове «протокол», остались только самые любопытные. Больше всего боялся Звягин, что милиционер поведет его в отдел проверить, покупал ли он шубку или нет. И все откроется. Стыдно было перед продавцом, которая помогла ему. А он, как распоследний лопух, вляпался. Пока милиционер разглядывал чек, он засунул сверток в рюкзак. Засовывая, бормотал возмущенно:
— Называется, взглянуть хотел, что купил… У вас что, тут сбрендили все? Как оглоеды, разорвать готовы!
— Паспорт покажите, — вернул ему чек милиционер. Голос у него был уж не такой грозный, и конопушки на щеках чуточку посветлели.
Звягин кинул рюкзак на пол и суетливо полез в боковой карман куртки, радуясь, что не оставил паспорт в сумке в камере хранения. Милиционер глянул в паспорт, полистал.
— Во, видите! — ткнул пальцем Звягин в страницу. — Дети! Дочка, семьдесят седьмого года рождения. Четыре года!
— Из Сургута? — спросил милиционер. — Ну–да, железную дорогу строил… Только прилетел. Вот билет, — зашарил по карманам Звягин.
— Ладно, иди, — сунул ему паспорт милиционер, усмехаясь, довольный тем, что Звягин не спекулянт, не нужно вести его в милицейскую комнату, составлять протокол, можно кончить дело миром. — И ушами не хлопай! Денег, наверно, полрюкзака, а рот разеваешь.
Звягин коротко хохотнул, деньги в рюкзаке были, поблагодарил, качнул головой сокрушенно, напоследок буркнул:
— Ну и народ тут у вас!
— Какой есть. Другого нету, — вздохнул милиционер.
Звягин направился к выходу, думая о милиционере — противная у него служба тут: шум, гам, бестолочь, люди — как ошалелые гуси. До чего довели народ! Он сбежал вниз, но у выхода вспомнил о колготках. Остановился. Есть тут и колготки. Этой дряни, что ли, не наготовят. Все в Москве есть, только не для всех… А, ладно, попробую еще разок! Он вернулся, разыскал нужный отдел. Но здесь, не как в одежде, многолюдно. К прилавку не пробьешься, не поговоришь один на один.
— Девушка, девушка, можно на минутку! — позвал он громко одну из продавцов, как только она чуточку приблизилась к нему. Он стоял там, где было меньше всего народу. — Девушка, я вас прошу!
Он, как и прежде, навалился на прилавок, выставил руку с червонцем перед продавцом. Была она молодая, должно быть, недавно из школы, с комсомольским значком.
— Девушка, мне две пары всего колготок нужно.
— Нету, — кинула ему продавец и повернулась уходить.
— Девушка, милая, я вас прошу!.. Неужели ни пары в таком магазине нету? Я же не задаром, — протягивал ей десятку Звягин.
— Может, милиционера позвать? — ехидно спросила она. — Нету колготок! Нет!
С милиционером Звягину не хотелось больше встречаться. Ладно, черт с ними, с колготками. Шубка есть. Без колготок побегает… надо ей игрушку купить.
Понравился большой олимпийский мишка. Олимпиада больше года назад прошла, а мишка все напоминал о ней. А Юрке купил коньки с ботинками. Покупке этой он обрадовался больше, чем шубке. Как он сам мечтал в детстве о таких коньках! Но не пришлось покататься, не купил отец, лишних денег не нашлось. Были коньки, которые прикручивал к валенкам, но разве сравнить с такими, разве пойдешь в валенках на настоящий каток? Засмеют.
15
Телеграмму Вале о своем приезде Звягин хотел дать из Сургута, но в Сургуте решил дать из Москвы, а в Москве заколебался, подумал: нечего ее беспокоить, начнет колготиться, лучше неожиданно, без суеты.
Поезд подходил к Тамбову в десятом часу утра. Звягин не отрывался от окна купе, смотрел жадными глазами на первые дома Тамбова, на телевышку на высоком бугре, удивлялся зелени деревьев. В тайге деревья уже пожелтели, березы почти оголились, а здесь только клены кое–где посветлели. И день обещал быть жарким по–летнему. Небо с утра высокое, голубое. Бабье лето.
Звягин собрал свои вещи давно. Едва отъехали от Мичуринска, как его охватили нетерпение, зуд, поскорей, поскорей домой, а поезд, как назло, еле колыхался. На скорый в Москве билетов не было, а этот отдыхал у каждого столба, как старая заезженная кобыла. Нудное покачивание вагона раздражало. Звягин маялся, выходил в коридор, стоял у окна, смотрел на бесконечную лесопосадку, на мелькавшие в прогалах меж деревьев серые горбы скирд на полях среди зеленей, на дальние деревни с мертвыми полуразрушенными храмами; возвращался в купе, сидел и видел в окно то же самое. Попутчики попались молчаливые — две настороженные девчонки, незнакомые друг с другом, и лысый угрюмый мужик.
Когда колеса коротко пророкотали по мосту, Звягин подхватил раздувшийся в Москве рюкзак, сумку и потащился к выходу. На улице вдохнул до слез знакомый запах железнодорожной станции, услышал полузабытый вокзальный шум, увидел сквер, двухэтажное здание вокзала, площадь, и сердце защемило, заныло еще сильней с каким–то неестественно грустным наслаждением. Такси несло его домой по тамбовским улицам, мягко постукивало колесами на выбоинах. На перекрестке, прежде чем свернуть на Овражную улицу, где стоял его дом, такси приостановилось перед светофором напротив кирпичного детского сада с его четырьмя березами у забора. В садике тишина, воскресенье. Как хорошо, что он в воскресенье приехал! Все должны быть дома. Сердце разорвалось бы в ожидании. Въехали на улицу, стал виден дом, крыша железная, коричневая, краска, должно, облезла местами за эти годы, и забор зеленый облупился кое–где. Весной все перекрашу! У соседа Васьки Кулдошина калитка распахнута. Вспомнилось его письмо: тревогой пахнуло.
— Все, приехали! — выдохнул он таксисту.
Звягин хлопнул дверцей и увидел, как появился в проеме открытой калитки Васька Кулдошин. Он смотрел, как Звягин вытаскивает из багажника машины рюкзак и сумку. Наконец, узнал, крикнул радостным голосом:
— Мишка? Ты?! Приехал? — и заторопился навстречу.
Звягин жиманул ему руку, внимательно вглядываясь в лицо.
— Как тут мои?
— Ладно все, ладно…
— Ну давай, заходи! Обмоем приезд, — и спустился с грейдера к своему дому, толкнул дверь в сплошном заборе, повернув кольцо щеколды.
Заперто. Он постучал щеколдой, оглянулся на Кулдошина, подмигнул.
— Не ждали!
Такси, тихонько урча, развернулось и покатило назад.
— Дома они, — откликнулся Кулдошин. Он не торопился уходить.
— Кто там? — раздался тоненький сердитый детский голосок, и у Звягина екнуло, задрожало сердце. — Это я, Светик! Я! — закричал Звягин с колотящимся сердцем.
— Кто — я?
— Это я, папка! Открывай скорей!
— Наш папка в Сибили.
— Я приехал, дочка! Я приехал!
— Это же папка! — раздался мальчишеский голос. Щелкнула задвижка, и на шее Звягина повис Юрка.
Звягин выронил сумку, прижал к себе сына, шагнул с ним в палисадник, другой рукой подхватил растерянную девочку.
— Миша! Мишенька! — закричала Валя, увидев их, и бросилась с порога веранды к ним но бетонной дорожке палисадника.
Она обхватила руками и детей и мужа и тыкалась лицом в нос Звягина. К щекам его прижимались головки детей.
— Вы меня с ног свалите! — кричал он радостно. Он не замечал, что рюкзак сполз с его плеча и висел на руке.
— Что же ты телеграмму… — всхлипывала, не отпускала его жена. — Мы б встрели… подготовились…
Он не отвечал, сдерживал слезы.
— Пошли, пошли в дом… Юра, сумку возьми, — но сын не слышал, не отлипал от отца, и она сама, вытерев ладонью слезы подхватила сумку. А Юрка стянул с руки отца рюкзак.
Девочку Звягин нес на руках. Она, присмиревшая, глядела на него как–то недоверчиво и смущенно.
— Не узнаешь? Забыла совсем? Иль другим представляла? — спрашивал он.
Девочка замотала головой отрицательно.
— Не ожидала?
Света обхватила его шею рукой и уткнулась в плечо.
— Ох, Господи! — вздохнул он, входя в комнату. — Как я ждал этого момента! — Звягин снова притянул к себе свободной рукой Валю. — Как ждал!.. Милые вы мои…
Постояли так минуточку. Он опустил на пол девочку, вытер мокрые глаза и сел на табуретку, оглядывая комнату: печь, рыжий коврик над диваном, чистые занавески, часы в простенке, мерно и важно стучащие, в другом простенке увидел в киотке свою увеличенную фотографию. Он — в шапке, с белым инеем на бороде и усах. Колункова работа. Звягин засмеялся, глянул на Светлану. Она стояла рядом с ним, прижималась к бедру матери, которая не отходила от мужа, положив теплую руку ему на плечо, словно опасалась, что он исчезнет, если она отпустит его.
— Ты меня, Светлячок, с бородой ждала, да? — Девочка кивнула.
— А чего же ты не разговариваешь? Разучилась? — спросил он серьезным тоном.
— Нет, — фыркнула, сморщила нос Света.
— Она уже и читать умеет, — похвасталась Валя. — Ой, что это? — она сняла руку с плеча и провела по его волосам, стала перебирать их. — Седеешь?
— Это иней… Правда, сынок? — подмигнул он Юрке.
— Ой, я стою, а ты голодный, с дороги! Мы–то позавтракали… Сейчас я, — засуетилась, побежала к суднику Валя.
Звягин потянулся к рюкзаку, взял его, говоря дочери:
— Ты знаешь, Светик, пошел я недавно в тайгу, слышу по кустам, по болотам лезет кто–то, трещит, ломает деревья, ревет. Я остановился, жду. Гляжу, выскакивает из кустов… И ты думаешь кто?
— Медведь! — ахнула Света.
— Он… Выскакивает и как рявкнет: здорово, тезка! Его, ведь, тоже, как и меня, Мишей зовут. Я не растерялся: здорово, говорю. Куда это ты торопишься? Да вот, отвечает, сорока сказала мне, что ты домой собрался. Я и подарок Светлане приготовил. Держи! И протягивает мне… Что ты думаешь?
— Гриб!
— Не-е… Он говорит, грибов там, в тамбовских лесах, сами наберете… Протягивает он мне вот что, — вытянул из рюкзака Звягин олимпийского медвежонка. — Вишь, какой большой, прямо с тебя ростом… Ишь, как улыбается! Рад, что с тобой играть будет. И с поясом, спортсмен!
— Ух, какой! — отвлеклась от плиты на секунду радостная Валя. Она надела фартук и ставила на газ разогревать остывшую еду. — Ай да медведь! Ну молодец!
Девочка прижала к себе мягкого медвежонка, а отец снова сунул руку в рюкзак, говоря Вале:
— А еще, гляди, что ей из тайги прислали!
Вынул, развернул, встряхнул шубку.
— Ой–ой–ой! — подошла Валя, вытирая руки о фартук. — Вот так да!
— В «Детском мире» вчера чуть не разорвали из–за нее, оглоеды!
Он вытащил коньки, протянул сыну, который с нетерпением ждал, когда отец достанет и ему подарок. Глаза у Юрки сразу вспыхнули. Он начал расшнуровывать ботинки, намереваясь примерить.
— А вот ручка тебе, с часами, японская…
— Ух ты, с часами! — удивилась Валя и стала ее разглядывать. — А не рано ему с часами. Не заслужил пока… Баловной он стал!
— Ну этого быть не может. В это я не поверю!.. Правда, сын?
Звягин опорожнил рюкзак, небрежно выкинул из него напоследок нераспечатанные пачки денег: одну — десяток и три — пятерок.
— И в рюкзаке вез! С ума сошел! — охнула Валя.
— Кто на такой задрипанный позарится, — засмеялся Звягин. — Ну–ка, глянем, что там, — потянулся он к туго набитой сумке.
Валя ойкала, прикладывала к плечам платья.
— Ой, дорогие, должно?
— А ты разве дешевая?.. А вот на воротничок сам добыл… — достал шкурку куницы.
На сковороде на плите зашкворчало что–то. Валя сгребла в охапку подарки, отнесла в горницу, сказав:
— Примерять потом будем… Поедим сначала.
— Валют, а ты солила желтые помидоры?
— А как же.
— Мне они там даже снились. Так хотелось попробовать… Принеси, а? Два года не ел.
— Конечно, принесу… Там плохо вас кормили, наверно?
— Не-е, с голоду не сидели… Столовая. И магазин работает…
16
Слышно было, как стукнула дверь в сенях. Валя обернулась к столу, чтоб деньги спрятать, но поняла, что не успеет. Вошел сосед Васька Кулдошин. Он в том же старом свитере, в котором встретил Звягина, с такими же нечесаными взлохмаченными волосами, низенький, худощавый.
— А я слышу, машина подъехала, — сказал он, усаживаясь на скамейку у двери. — Гляжу, то ли сосед, то ли ошибаюсь. Долго тебя не было… А ты ничего, не похудал… — увидел деньги на столе, взял пачку десяток, взвесил на ладони. — Сколько же тут?
— Сто бумажек.
— М-да, — как–то неопределенно, будто с сожалением буркнул Кулдошин. — Это чего, и все, за два года? — кинул он красную пачку к трем синеньким.
— Ну–да, — засмеялся Звягин. — Это отпускные.
— Как это? — не поверил Кулдошин.
— Там же отпуска не как здесь. За два года семьдесят два дня набежало, вот и получил, — кивнул Звягин на стол.
— Значит, недаром съездил?
— Стал бы я даром два года сидеть..
— Ну, а как жил? Как там Сибирь? Холодно, должно быть?
— Э, Васька! Рассказывать буду — не поверишь… Морозяк зимой страсть! Плюнешь — лед на землю падает, — приврал Звягин, чтобы удивить соседа. — А весной комарья!.. Помучился я там… Еле до отъезда дожил. Теперь меня туда семью кобелями не затащишь. И так сниться всю жизнь будет!
Валя взяла деньги со стола и отнесла в горницу.
— А заработки, видать, хорошие?
— Хорошие, — подтвердил Звягин, — Кто ж в такую страсть даром поедет… Когда просеку вели, хорошо выходило… Да и работали, дай Бог…
—-И по скольку же в месяц?
— Было и по тысяче.
— Ну да! — не поверил Кулдошин.
— А отпускные откуда же? — указал Звягин на стол, где только что лежали деньги.
— Ну да! — согласился теперь Васька. — Это, значит, ты тыщ двадцать припер?
— Высоко берешь! Не каждый месяц по тысяче было, да и жрал–одевался не на казенный счет. И сюда присылал. Сам знаешь, уезжал–то в долгах весь. Холодильника в доме не было.
— Это да… Я тебе писал в Сибирь. Брат мой интересовался тамошним заработком. Тоже собирался туда… Ты чего не ответил–то?
— Писал? — Звягин сделал удивленное лицо. — Когда? Я ничего не получал…
— Прошлой зимой, кажись… Вроде так…
— Не получал, — повторил Звягин.
— Туда почта ходит–та, — сказала Валя, расставляя тарелки на столе. — В один конец месяц… Не мудрено и затеряться!
— Да, потерялось, должно, — согласился Кулдошин.
17
После завтрака сидели на ступенях веранды, на чистых теплых досках. Захмелевший Звягин с наслаждением вдыхал сухой запах осенних трав, поглядывал на светловолосую голову сына, сидевшего на нижней ступеньке и привалившегося к его ноге, как к спинке стула, жмурился на солнце, распушив усы, как сытый кот, довольный, умиротворенный, ленивый. Все двери дома были распахнуты, и слышно было позвякивание ложек, посуды. Валя убирала со стола. Кулдошин, размягченный вином, сидел молча, курил.
— Малина была в этом году? — спросил Звягин, взглянув на разросшийся малинник.
— А чай сейчас с чем пили, — напомнил Юрка.
— Хорошо уродилась?
— Светка из нее не вылазила.
— Ты тоже, наверно, не проходил мимо, — потрепал Звягин сына по голове, по мягким волосам.
— А как же…
— А крыжовник?
— Он его еще зеленым оборвал. — Оказывается, Света стояла сзади и слушала разговор.
— Не ври! Сама ты… Тебя мама ругала. Забыла, у кого понос был?
— Хорошо, едрит твою копалку! — воскликнул, засмеялся Звягин. — Эх, Васька, знал бы ты, как я мечтал там вот так дома посидеть! Аж не верится, что я дома! Эх–ха–ха! И хорошо, что солнце, тепло. Ах, как здорово!
— А то как же, домой всякую тварь тянет. Я вон, надыся, кошку на другой конец Тамбова отпер, бросил. Убивать жалко. А она на другой день уже дома была. Нашла…
— Я тебе о душе человеческой, а ты такой пример… Я говорю, рвался сюда–страсть! Невмоготу порой было… Сижу сейчас разомлевший, счастливый, а в душе грустинка какая–то, заноза…
— Это от радости. Радость всегда с грустью перемешана.
— Ну, ребята, — поднялся Звягин, не желая продолжать ненужный разговор: не поймет Кулдошин. — А ну показывайте, как вы хозяйство без меня содержали.
Юрка с готовностью вскочил, и Света с радостью защелкала башмачками по ступеням. Сосед поплевал на окурок сигареты, кинул его к железной чистилке о которой сапоги в грязь чистили, и тоже поднялся побрел к выходу по узкой бетонной дорожке.
— Эге, парнички что–то у вас скособочились… Поправим, — подошел Звягин с детьми к парнику. Пленка с него была убрана, торчали одни деревянные ребра, посеревшие от солнца и дождей. Земля внутри вскопана и вспушена.
— Огурцы у нас раньше всех выросли, — похвастался Юрка. — Мы с мамой на базаре продали их сразу! К нам очередь была, во–он, как до забора!
Света подошла к отцу и сунула в его шершавую широкую ладонь свою теплую ручонку. Он нежно сжал ее, погладил по головке.
— Молодцы! — похвалил Звягин, оглядывая сад: яблони, кусты крыжовника, смородины, малинник возле забора. — Теперь ты на базар больше не пойдешь. Для себя будем выращивать.
— Ладно, — сразу согласился Юрка и пожаловался. — А то меня Нинка торгашом обзывает!
— Какая Нинка?
— Из нашего класса. Она меня на базаре видела…
— Теперь не будет. Ты прости ее… Она девчонка!
Из сарая донеслось похрюкивание поросенка. Услышав голоса людей поблизости, он начал взвизгивать.
— Опять жрать просит. Прожорливый — ужас! — то ли пожаловался, то ли одобрил Юрка.
— Давай–ка глянем, какого прасука вы завели?
Они подошли к сараю. Звягин открыл дверь. Она жалобно скрипнула и накренилась, осела. Рассохлась. Звягин покачал ее на петлях.
— Ремонтировать надо!
Вошел в сарай. В нос ударил запах поросячьего навоза. За дощатой перегородкой стоял, подняв навстречу вошедшим мокрый розовый пятак, довольно большой поросенок.
— Хорош! Хорош! — потрепал его за жесткое волосатое ухо Звягин.
Поросенок в ответ завизжал требовательно: мол, нечего меня ласкать, лаской сыт не будешь, жрать давайте.
— Я сейчас месива принесу, — сказал Юрка и выбежал из сарая.
Ночью Звягин прижимался щекой к волосам жены, жадно вдыхал запах, от которого отвык за два года. А Валя с некоторым беспокойством чувствовала от него запах перегара. И вечером он не отказался выпить стаканчик водки. Она отметила, что выпил он, не поморщившись, как лимонад. Не насобачился ли он там лакать эту гадость? А то и деньгам не рада будешь. Да и уплывут в момент: на эту вонючую заразу сколько надо! Наслышалась она о Сибири разных страстей от своих подружек по работе. Работала она на заводе «Тамбоваппарат» намотчицей радиоаппаратуры. Коллектив женский, работа ручная. Мотали, как автоматы, не глядя. Руки мотали, а языки болтали. Чего только за день не услышишь… Завтра весь день расспросы будут.
— И сильно там пьют? — спросила Валя.
— О-о, там есть такие мастаки, что ой–ой–ой! Из «дэты» спирт делают!
— Да–ну?.. И ты пил?
— Я за все время и бутылки не выпил… Я ж не за тем туда ехал, за делом…
Валя снова с радостью подумала о деньгах. Четырнадцать тысяч! Она и не думала, что он столько привезет. Присылал–то сколько! Две тысячи одних долгов было, и холодильник купили, цветной телевизор. Она хотела дешевенький купить, но Звягин в письмах требовал только цветной покупать.
— А все–таки там хорошо было! — вздохнул Звягин.
— Что? Бабу там оставил? — пошутила она.
— Лежи, дуреха! — обидчиво, но мягко произнес Звягин. — Я ей про арбуз, а она про картошку…
— Ну–ну! Я же шучу… Чего ты?
— Я же там самый первый колышек вбивал. Прилетели — лес, тайга непролазная, а теперь все — и жилье, и магазины, и школа, и клуб…
— И школа есть? — удивилась Валя.
— А как же.
— Кто же там учится?
— Там ребятишек полно… Семьями едут.
— Да-а… А я думала там все такие, временные.
— Что ты… Станцию лет семь строить надо. Дома ставить капитальные для служащих, домов десять двухэтажных, вокзал. Сейчас все временное. И бичевоз из Сургута теперь пустят…
— А что это?
— Бичевоз–то? Ребята поезд рабочий так зовут. Там хорошо. Тебя только с ребятишками не хватало. Тосковал… Я ведь бригадиром последний год работал! И ребята, и начальство уважали…
18
Все чаще Колунков вспоминал Дениску, все чаще думал, что нужно расплачиваться. В субботу вечером вытащил из тайника деньги, завернутые в газету, пересчитал при свете огня из печки. Оказалось четыре тысячи двести рублей наличными, да аккредитив на пять. Жить можно! Двести рублей с аккредитивом и паспортом спрятал обратно в тайник, а четыре тысячи перевязал ниткой в две пачки, завернул в обрывок газеты и сунул за пазуху.
Утром он был в поселке у Павлушина. По дороге сомневался: не ошибся ли, считая, что сегодня воскресенье, дома ли Андрей? Сомневался и в том, правильно ли делает, отсылая деньги, не лучше пропить их к черту.
Павлушин сидел в комнате за столом, писал контрольную работу. Увидел Олега, обрадовался, поднялся навстречу:
— A-а, отшельник! И опять под мухой… Когда же я тебя трезвым увижу? Или не дождаться мне такого дня?
— В гробу, Пионер, только в гробу! Или тогда, когда ты читать перестанешь!
— Этого ты не скоро дождешься…
— Ну вот, — развел руками Олег.
— Ты долго еще будешь сидеть в своей берлоге? Не надумал к людям выходить?
— Ну что ты, я там обжился… Никто не мешает, и я никому зла не приношу… Сейчас бруснику собираю, центнер сдал! — Колунков плюхнулся на стул возле стола.
— Молодец, не бездельничаешь…
— Притащить тебе ведерко?
— Я в прошлое воскресенье сам по кустам лазил. Набрал…
— Я смотрю, ты гитару приобрел, — увидел Олег гитару возле тумбочки.
— Ребята забыли. — Андрей закрыл тетрадь и положил ее на край стола на стопку книг.
— Я помешал? — посерьезнел Колунков. — Я не надолго… Я к тебе, Андрюха, по делу… — Олег достал из бокового кармана штормовки газетный сверток и развернул. Андрей увидел две толстые пачки денег, перевязанные ниткой. — Перешли «бабки» по этому адресу, — передал Олег листок Павлушину. — Мне на почту показываться, сам знаешь…
Андрей глянул на адрес.
— Это первой жене?
— Да!
— Она же к тебе претензий не имеет… Сколько тут?
— Четыре…
— Ты лучше бы им всем тысячи по полторы выслал. Они бы, может, и отстали от тебя. Жил бы спокойно… А Василиса твоя, сам говорил, замужем давно…
— Это мое дело, Пионер! Мое… — перебил Колунков и заговорил о другом. — Я слышал, Ломакина на пенсию проводили?
— Проводили. На прошлой неделе… Дом культуры сдал, в нем же и провожали его, после открытия. Уехал в Мучкап, садик растить. Сашка все обещается заменить его здесь!
— Он пишет?
— На днях прислал… Спрашивает, как поселок?.. Он учебку весной закончил. Сержант!
— Разбрелись десантники кто куда… А ты как туг? Бригадирствуешь?
— Мастерю. Мастером на звеносборку поставили… Временно. Пока мастер в отпуске. На три месяца уехал.
— Ну-у, ты растешь! За тобой не уследишь.
— Но зарплата значительно уменьшилась.
— Не прибедняйся, Пионер! Тебе хватит. Ты же не Звягин, не за деньгами приехал сюда… Он еще весточки не подал? — как бы между прочим, скрывая заинтересованность, спросил Колунков.
— Рановато.
— А Гончаров как?
— Как прислал тогда письмо со словами: Пионер, ты прав! С тех пор ни строчки… А что ему писать? Все у него ладно. Сын учится, жена теперь смирная, да и он не пьет особенно теперь.
— Ты уверен?
— Абсолютно.
— А мне… мне ты ничего не скажешь нового? — тихо спросил Колунков.
— Нет, — виновато и смущенно ответил Андрей чувствуя себя так, словно Олег просил у него денег взаймы, а он отказывал, хотя деньги были. — Черно все, как глухой осенней ночью…
— Скажи лучше, как в могиле… — потянулся Олег к гитаре и затенькал, запел, дурачась:
Видишь, и мне наступила на горло, Душит красавица ночь… Краски последние смыла и стерла… Что ж? Если можешь, пророчь!19
Неделю Звягин отдыхал дома, никуда не ходил. Точнее не отдыхал, а работал, ковырялся потихоньку по–хозяйству. Подремонтировал забор, дверь у свинарника выпрямил, укрепил по–новому стойки парника, вскопал сад. Первые три дня он не водил в сад Свету, оставлял с собой: радостно было слушать ее щебетанье, отвечать на бесконечные вопросы. Но работать с ней было трудно. Она отвлекала все время, то это нужно было ей сделать, то то. Сначала отвлекался с готовностью, потом стал просить: погоди, Светик, прибью доску, тогда… Но прибивал, доску принимался за другую, и девочка снова теребила его. На третий день стал просить ее, чтоб не мешала. Она обиделась, заскучала, и утром он отвел ее в детский сад.
Работать дома было приятно, если бы не поросенок. Он, стервец, взаправду оказался ненасытным. Только покормишь, а через час опять заныл: хрю, хрю!
А если услышит, что Звягин где–то неподалеку стучит, давай орать. Звягин быстро пожалел, что взял на себя обязанность варить ему кормежку, готовить месиво.
К концу недели нытье и визг поросячий стали раздражать. Один раз Звягин поторопился с ведром, споткнулся о выступавший на тропинке камень, выплеснул из ведра жидкость себе на брюки.
— Ах ты, твою мать, сволочина этакая! — выругался он, сорвал пучок травы и начал брезгливо вытирать брюки.
А поросенок, слыша его голос, раздирался от крика.
— Да замолчи ты, ненасытная тварь! — заорал Звягин в сторону сарая.
Но поросенок, словно дразня его, завизжал еще требовательнее.
Звягин схватил ведро, влетел в сарай, вылил месиво в корыто. Поросенок сунул в нее нос, чмокнул раз и поднял голову, посмотрел на Звягина. Показалось, что глянул он насмешливо и подмигнул. Звягин стукнул его с ненавистью кулаком по жирному лбу:
— Чтоб у тебя язык отсох, тварь ненасытная!
— Как у тебя прасук не орал тут, когда ты на работе? — спросил он вечером у Вали раздраженно.
— А он, если людей не слышит, молчит. Я ему полное корыто навалю и ухожу. Юра придет со школы, добавляет.
— Он меня тут совсем извел, все нервы вымотал…
— Значит, пора на работу, — засмеялась Валя. — Купи только уголь с дровами, — добавила она.
И в понедельник Звягин отправился в контору строительного управления, того самого, где раньше работал. С утра похолодало резко, дождичек брызнул, нудный, осенний. Контора была в низком двухэтажном здании с плоской крышей. Звягин помнил, что возле нее всегда грязно было или пыльно, в зависимости от погоды. Но сегодня пыль дождичек смочил, но в грязь еще не превратил, не успел. Ничего не изменилось в конторе: все тот же на полу коричневый линолеум волнами, разве стерся чуть–чуть, те же обшарпанные стены с картонными плакатами по технике безопасности, те же фотографии на стенде «Лучшие люди управления». Фотокарточка бригадира плотников Черенкова, у которого раньше работал Звягин, пожелтела от времени, лет десять висит. Дверь отдела кадров открылась, когда мимо шел Звягин, появился начальник отдела Егор Сергеевич, такой же, как и прежде, пузатый, коротконогий, только щеки у него, кажется, стали розовее и пышнее, носик совсем затерялся среди них.
— А, Звягин, — сказал он без всякого удивления, словно только утром видел его. — Заходи, — вернулся Егор Сергеевич назад в свою комнату, к столу, и Звягину невольно пришлось идти за ним. — Садись… Вернулся, говоришь? Ну, давай трудовую.
— Да я… я хотел в бригаду съездить, — забормотал растерянно Звягин. Он еще не решил окончательно возвращаться ли ему в свою бригаду или искать другое место. В конторе он хотел узнать, где работает бригада Черенкова, съездить, поговорить, приглядеться.
— Ты что, забыл, как у нас работают — ухмыльнулся Егор Сергеевич. — Давай трудовую, — потребовал он, и Звягин послушно протянул ему книжку.
Начальник отдела открыл ее на странице, где была последняя запись.
— Во, видал, у нас ты по третьему разряду шел, а там до пятого добрался!
— Я бригадиром был.
— Бригадиров у нас достаточно, плотников не хватает… Я тебя оформлю по четвертому разряду. У нас сложность работ повыше, в Сибири, наверное, любая халтура за высший сорт идет. Тяп–ляп, лишь бы деньги в кармане… Бери листок, пиши заявление. — Егор Сергеевич придвинул к нему чистый лист и бросил на него ручку.
— Нет, — отодвинул назад листок Звягин. Он обиделся на пренебрежительный тон начальника. Взыграла гордость. — Дайте трудовую! По четвертому я писать не буду, у меня пятый разряд. Я его горбом заработал!
— Ну пиши по пятому, — сразу согласился Егор Сергеевич и снова двинул лист с ручкой к Звягину. — Все равно работа сдельная. Заработал — получи! Бригадный подряд. Как говорится: пьют бригадой и всё подряд, — пошутил он. — Пиши, пиши!
— Только на работу со следующего понедельника, — предупредил Звягин. — Мне уголь привезти надо и дрова.
Бригада Черенкова работала в самом центре Тамбова, на Интернациональной улице отделывала длинный девятиэтажный дом, растянувшийся на целый квартал. Дождичек прекратился, но чувствовалось, что вот–вот пойдет снова. Тучи хмурые, осенние висели над городом. Звягин купил в магазине литр водки, как раз время обеда подходило, и быстро нашел бытовку плотников Черенкова. Она тоже ничуть не изменилась, словно Звягин всего на неделю отлучался из Тамбова. По–прежнему имела зеленоватый выгоревший на солнце цвет, прежняя табличка висела у двери, извещавшая, что здесь бытовка бригады плотников–паркетчиков тов. Черенкова. Дверь открыта, голоса из будки доносятся неторопливые, стука костяшек домино не слышно. Значит, только начали обедать, не накушались самогонки, если говор неторопливый и негромкий. Помнится, к концу обеда орать начинали, но все равно не слышали друг друга. Все это Звягин подумал с радостным волнением: радостно возвращаться. Он вспрыгнул на нижнюю ступеньку, сваренную из арматуры. Будка мягко качнулась на рессорах, и внутри затихло на мгновенье, быстрое шуршание газеты послышалось. Звягин с улыбкой догадался, что это закрыли газетой банку с самогоном. Вдруг мастер идет или прораб. Начальство, конечно, знало, что плотники пьют, обязано было пресекать, но на конфликт никогда не шло: рабочих мало, делало вид, что ничего не видит, ничего не знает, как говорится, не пойман — не вор. Если бы увидело, как пьют, хотело бы — не хотело, а обязано было бы принять меры, хотя бы для того, чтобы окончательно не потерять авторитета. Поэтому приличия обязывали плотников, хоть газеткой, да закрывать банку с самогоном.
Едва Звягин появился на пороге, как плотники заревели на разные голоса:
— О-о! Кто пожаловал! Звягин, сукин сын! Явление Звягина народу!
Бригадир Черенков поднялся, высокий, худой, сутулый с редкими седыми волосами. Он уж малость под мухой был. Неожиданно для Звягина обнял его длинными руками, говоря громко:
— Я рад! Рад видеть!
Черенков всегда относился к Звягину хорошо, уважал в нем мастера.
— Снова к нам?
— Давай, давай, шкафчик свободный есть, переодевайся. Садись! Что ты, как не родной!
— Хлопнешь за встречу? — сняли газету с трехлитровой банки. На треть она уже была пустая.
Длинный стол, вокруг которого сидели плотники, завален мятыми газетами с котлетами, кусками колбасы, сыра, хлеба, яйцами, заставлен термосами.
— Он сам должен за встречу притащить! — Это Зотов. Он малость изменился за это время. Дряблые щеки обвисли сильнее, стали какими–то малиновыми, а нос посинел. Только глаза по–прежнему наглые и насмешливые.
— А как же без этого, — ответил Звягин и одну за другой выставил из полотняной сумки две бутылки.
— Нормалек!
— Это другой коленкор!
Банку закрыли пластмассовой крышкой, сунули в один из шкафчиков, дверцы которых занимали две стены, а бутылки взялись распечатывать.
— Деньжищ, наверно, припер чемодана два! — сказал Зотов своим обычным ехидно–насмешливым тоном.
— Два? — усмехнулся Звягин. — Поехал бы я туда за двумя. Бери выше…
— Как, вообще–то удачно съездил ось? — спросил бригадир.
— С долгами расплатился, — уклонился от прямого ответа Звягин.
— Олег Колунков как там? Не спился окончательно?
— К тому идет… Бичует.
20
Упоминание о Колункове снова вызвало у Звягина чувство вины: больше недели в Тамбове, а до сих пор не выгадал времени, чтобы выполнить его просьбу. Попрощавшись с плотниками, он отправился на Коммунальную улицу, где жила Грузнова Ольга, та самая алкоголичка, от которой Олег сбежал в Сибирь. Шел, придумывая, что ей сказать, кем представиться. Решил, если она по–прежнему на вид пропитая, сказать, что вместе пили на прошлой неделе, зашел похмелиться. Глупо, но ничего стоящего в голову не приходило. Поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь чуточку приоткрылась. Была она на цепочке. В щель виден был острый настороженный глаз маленькой старушонки, седая прядь закрывало ухо.
— Фузнова Ольга здесь живет?
— Нет ее, — быстро ответила старушка, похожая на испуганного мышонка, и хотела закрыть дверь, но Звягин удержал, сунул в щель ногу.
— А когда вернется?
— Не скоро. Она в роддоме…
— Как в роддоме? — поразился Звягин. — Зачем?
— Рожает.
— Она замужем?
— Ага, много вас дураков жениться на ней, очередь стоит. — Старушка говорила быстро и смотрела по–прежнему подозрительным настороженным взглядом. Она снова толкнула дверь, попыталась закрыть, но Звягин не дал.
— А как же тогда? — растерянно спрашивал он. — Ребенок ее у вас?
— Какой ребенок?
— У нее разве нет детей?
— Она сама не помнит, сколько нарожала…
— А где же они?
— Где? — Старуха усмехнулась ехидно. — Тама. На шее у государства… Родит — сдаст, родит — сдаст. Домой не приносит…
— Года полтора назад она тоже рожала, тоже сдала?
— Каждый год рожает… Родит — сдаст!
Старушка воспользовалась тем, что Звягин ослабил давление на дверь, быстро толкнула, захлопнула ее.
Он вышел на улицу удивленный, ошеломленный услышанным, постоял у подъезда и двинулся к автобусной остановке, чтобы ехать к Леночке, второй жене Колункова. О том, как она живет, вышла ли замуж, как относится к беглому мужу, ищет ли его или, может, разочаровалась в поисках, поймала какого–нибудь дурака, улестила удочерить, — по словам Олега, от нее этого вполне ожидать можно, — обо всем этом Звягин хотел узнать у соседей Леночки. Но подождал минут пять автобус и решил сначала сходить в универмаг, посмотреть, работает ли сегодня Леночка, а то заявишься к соседям, а они скажут, что Лена дома. А с ней Звягин встречаться не хотел. Они знакомы были.
В универмаге в обувной отдел очередь, у входа давка, толпа: выбросили мужские сапоги. Леночки среди продавцов не видно. Звягин протиснулся к продавцу, которая сдерживала, регулировала очередь у входа, спросил:
— Девушка, а где Колункова Елена?
— Колункова? Здесь такой нет…
— Как же?.. Два года назад работала, — Звягина толкали со всех сторон, тянулись через его плечи посмотреть, какие сапоги продают.
— Два го–ода, — протянула девушка. — Тогда меня тут не было. — Но все же крикнула одной из подруг. — Маша, Колункова Елена у нас в отделе работала?
— Это же Леночка Соснина, — откликнулась Маша.
— А где она, Леночка?
— В отпуске… На югах с мужем. В море купается… — Девушка, девушка! — оттеснил Звягина возбужденный парень. — Сорок второго размера много, можно стоять?
— Много…
Парень быстро исчез, а Звягин снова начал расспрашивать.
— Она, значит, замужем… А девочку они с собой взяли?
— Девочку? Какую?
— Ну, у нее же дочь… маленькая…
— A-а! Да–да… Она умерла…
Звягина опять оттеснили, но он двинул плечом, оттолкнул давивших на него, рявкнул со злостью:
— В очередь вставайте!
И снова к продавцу, ухватившись за решетку ограждения, спиной сдерживая людей.
— Умерла? Почему?
— С балкона упала. С четвертого этажа. В больнице умерла.
— Давно?
— Весной.
Звягина придавили к решетке, оттеснили в сторону.
Он начал выбираться из толпы.
21
Раньше Звягин покупал уголь и дрова без проблем, тут же находились грузчики, самосвал или трактор с тележкой, только успевай расплачиваться. Поэтому Звягин рассчитывал к вечеру привезти, а завтра перетаскать уголь в сарай, начать пилить дрова.
Бодро вошел в ворота склада, увидел под эстакадой, на которой стоял вагон, кучу масляно и влажно поблескивающего угля. Возле кучи стояли два самосвала, кряхтел трактор с черпаком впереди, стояли люди. «Антрацитик! Повезло!» — обрадовался Звягин и кинул взгляд в ту сторону, где обычно были дрова.
Там пусто. В другое место перенесли, решил он, и взбежал по ступеням в контору склада, прошел к окошку кассы, у которой никого не было. Сидели возле зарешеченного пыльного окна две женщины, скучали, ждали чего–то.
— Мне два кубометра дров и три тонны антрацита, — сунул Звягин деньги в окошечко.
— Чего? — спросила у него кассирша таким тоном, словно он попросил выбить чек за два килограмма колбасы и три пачки сахара.
Звягин повторил, недоумевая: глухая, что ли, она? Он глядел в окошко на толстую кассиршу. Голова у нее сидела прямо на мощных плечах, шеи не было. Осовела от скуки, усмехнулся Звягин про себя,
— Ты что, издеваешься? — ехидно спросила кассирша.
— Как это? — растерялся Звягин от неожиданности.
— А вот так!
— Я у вас колбасу спрашиваю, что ли? — рассердился он. — Мне уголь нужен! Тот, что люди грузят, — махнул он рукой в сторону окна. — И дрова!
— Ты инвалид? Иль ветеран? Давай бумаги!.. А нет, так записывайся и жди, как все люди! Не морочь голову…
— Куда записываться? — недоумевал Звягин.
— Молодой человек, — обратилась к нему одна из женщин, сидевших у окна, та, что в зеленом солдатском бушлате, — за углем и за дровами очередь. Хочешь, записывайся. Мы списки сторожим…
Звягин оглянулся в совершенной растерянности, отошел от окошка кассы.
— А тот антрацит, — кивнул он в окно. — инвалидам?
— Нет, этот организациям. Инвалидам ей прошлой неделе был вагон. И четверо из списка нашего купили, — охотно отвечала женщина в бушлате. — На антрацит и кокс очередь большая, на бурый поменьше, а на брикет совсем маленькая. Если на этой неделе брикет привезут, то всем хватит.
— На черта он нужен, брикет, от него только дым да вонь, а тепла ни грамма!
— Покупают…
— Антрацит долго ждать?
— Я третью неделю жду, и ждать не меньше. — хмуро и резко бросила другая женщина.
— Три недели здесь сидите и ждете? — недоверчиво хмыкнул Звягин.
— Зачем? Мы меняемся… По очереди, — объяснила словоохотливая женщина, та, что в бушлате. — И в три дня перекличка. Не пришел — вычеркиваем…
— А если я не смогу прийти?
— Нужен уголь — придешь! — снова буркнула резко хмурая женщина и отвернулась к окну.
Звягин глянул на нее и спросил у словоохотливой:
— И за дровами очередь?
— За ними еще больше.
— Раньше я всегда спокойно покупал… Что же в этом году случилось?
— И в прошлом плохо было, — вздохнула словоохотливая.
— Как коммунизм построили, так и уголь пропал, — зло брякнула хмурая.
И Звягин не удержался — хохотнул, вспомнив, что Хрущев обещал к восьмидесятому году коммунизм построить.
— Да, дела, чем дальше, тем веселей, — пробормотал он и направился к двери.
— Записываться не будешь? — спросила словоохотливая.
— На другой склад съезжу, — бросил от порога Звягин.
— Зря время потеряешь… Везде так, по всему Тамбову.
— По всей стране так, довели… — это опять хмурая.
Звягин не слышал, что еще говорили женщины. Он вышел и направился к людям, которые грузили уголь под эстакадой, думал, что безвыходных положений не бывает, были бы деньги, и уголек будет. Он остановился, глядя, как трактор, урча натужно, зацепил черпаком уголь из кучи и стал отъезжать, поднимая вверх черпак, подполз к самосвалу, перевернул над кузовом черпак. Уголь загрохотал по железному кузову, поднялась пыль. Звягин оглядел людей, стоявших в сторонке, определил, что парень в кожаной куртке с торчащим из кармана блокнотом хозяин здесь, подошел к нему и попросил:
— Можно вас на секундочку?
Парень осмотрел его как–то подозрительно, поколебался, но все–таки отошел в сторонку.
— Слушай, друг, нельзя ли антрацитику сделать машину, тонны три, я заплачу сколь…
Ты чего, лучше всех?! — перебил, заорал зло парень. Глаза его налились какой–то ненавистью. — Вали отсюда! Вас шакалов… Друг выискался! Вставай в очередь и жди!..
Звягин, недослушав, отвернулся и зашагал прочь, сгорбатился, как теленок, который сунулся в огород и получил по спине колом. Стыдно было заходить в контору, записываться. Может, женщины видели в окно, слышали, как его отбрил парень.
22
Поехал Звягин на другой склад, подальше. Там тоже очередь. Дров нет. Возле кучи бурого угля многолюдно, суетня. Несколько машин, тракторов с тележками. Звягин туда, стал расспрашивать. Уголь продавали населению, но по очереди. Всем, кто в списке, не хватит. Еще б один вагон, тогда б хватило. Когда будет следующий вагон? Кто знает, может, завтра, а может, через неделю или вообще в сентябре больше не будет. Где списки очередников? В конторе, спроси у людей. Звягин торопливо двинулся туда.
— Погоди! — догнал его мужичок. Был он в расстегнутой засаленной куртке, серая фуражка на голове с переломанным посреди козырьком. По виду грузчик. — Уголек нужен? Хочешь без очереди?
— Нужен, — ответил, недоверчиво глядя на мужичка, Звягин. Он осторожничал, помнил, как шуганули его на том складе. — А сможешь?
— А на хрена бы я подходил?
— Ну, ладно, сколько сверху?
— Четвертак.
— Давай. Только сегодня, сейчас!
— Об этом и речь.
— А дрова не сможешь?
— Не, дровишек сегодня нет…
Разговаривая, они дошли до конторы.
— Тони четвертак, гони бабки за уголь, за погрузку, я оплачу, — говорил мужичок.
Звягин дал ему деньги и вместе с ним вошел в контору, чувствуя смутное недоверие, уж слишком просто получалось. Мужичок прошел мимо кассы, уверенно открыл первую от окошечка дверь. Был он в комнате недолго, вышел довольный, кинул Звягину небрежно: — Пошли! — на улице сказал: — Все в ажуре. Гони червонец за доставку… Шофер начнет вымогать, не давай, ему оплачено… Со мной не ходи, народ видел тебя, знает, что ты в очереди не стоял. Хай подымут… Понял? Жди здесь, за воротами. Машина твоя вон та, видишь, самосвал в сторонке дожидается? Нагрузим — будет выезжать, посадит здесь, — проговорив все это быстро и уверенно, мужичок хозяйским шагом двинулся к копошащимся возле кучи людям.
Звягин наблюдал за ним от ворот: беспокойство не покидало. Мужичок уверенно подошел к самосвалу, вскочил на подножку, сунул голову в кабину в окно. Шофер, видимо, находился там. Отсюда его не видно. Мужичок, стоя на подножке, закурил, спрыгнул и подошел к людям. Самосвал, как стоял, так и остался стоять. Звягин видел, что подъехать нагружаться некуда, все места возле угля заняты. Минут через десять колесный трактор с нагруженной доверху тележкой отвалил от кучи в сторону, и самосвал качнулся, развернулся и стал пятиться на освободившееся место. Звягин вздохнул с облегчением. Удовлетворенно смотрел, как трактор черпал уголь и сыпал в кузов. Жаль, конечно, что не антрацит, от него жару больше, но при таком дефиците и бурый сойдет. Не торчать в очереди, не бегать отмечаться, сторожить, ждать каждый день: то ли привезут, то ли нет… Мужичка среди людей что–то не видать, но он теперь и не нужен, он сделал свое дело. Самосвал тяжело, сыто откачнулся от кучи, отполз немного, приостановился на мгновенье, какой–то мужик влез в кабину, и самосвал, переваливаясь с боку на бок на ухабах, стал приближаться к воротам, к Звягину. Но шофер почему–то не смотрел на него, выехал потихоньку из ворот, не остановился, покатил дальше. Звягин догнал, вскочил на подножку, ухватился за стойку зеркала.
— Ты куда? Чего не останавливаешься? — крикнул он сердито шоферу.
— Не понял? — удивился голубоглазый молодой шофер, притормаживая.
— Ты куда направился? Уголь–то мой!
— Как… твой? — засмеялся, глянул шофер на мужика, сидевшего рядом.
— Ты что, охренел? — сердито смотрел мужик на Звягина.
— Я не охренел, я за него деньги платил!
— Ты чего несешь? Залил бельмы… Слазь с подножки, пока я не вылез! — крикнул мужик и бросил шоферу: — Поехали!
— Слазь, слазь, не ломай дурочку, а то еще под машину попадешь! — Шофер включил скорость,
Ошарашенный Звягин спрыгнул на землю, еле удержался на ногах и бегом помчался к куче угля, к тому мужичку. Но среди людей его не оказалось, не видно нигде.
— Где ваш грузчик? — подскочил Звягин к женщине, распоряжавшейся погрузкой.
— Какой грузчик? Мы трактором грузим.
— Ну такой… мужичонка… в куртке… — заикался Звягин.
— Нет, говорю, здесь грузчиков… вот тракторист и все.
— Ну мужичонка… он тут был!
— Мало тут вас крутится. Не мешай!
— Это какой? В серой кепке со сломанным козырьком? — обратился к Звягину парень, стоявший рядом и слышавший разговор.
— Да… Где он? — вскинулся с надеждой Звягин.
-— Он, вроде, туда направился, — указал парень под эстакаду, на другую сторону кучи.
Звягин помчался мимо бетонных столбов, на которых держались рельсы. По другую сторону эстакады пустынно, густо стоял полузасохший бурьян до самого забора, и в бурьяне к забору тянулась еле приметная тропка. Кинулся по ней. Привела она к дырке в заборе. Пролез в нее Звягин, осмотрелся. Никого не видно вокруг до самых пятиэтажек, стоявших за железнодорожной линией. Пробежал Звягин немного вдоль забора по густой траве, намочил штанины в росе и вернулся назад, злой, разъяренный. Влопался, как последний охламон. Попадись ему сейчас тот мужичонка, измордовал бы безжалостно.
В конторе он рванул на себя дверь возле окошечка кассы, куда входил мужичонка, думал в кассу попадет, но то была маленькая комнатка для служащих: сидели за столами с бумагами две девчонки молоденькие. Может, бухгалтерия, может, еще что подобное.
— Здесь квитанции на уголь выписывают? — рявкнул Звягин.
Обе девчонки скукожились, переглянулись испуганно.
— Какие квитанции?.. Мы ничего не выписываем мы учет ведем. Квитанции в кассе…
— А грузчик минут двадцать назад вам деньги платил! Я сам видел, как он входил!
— Не было грузчиков… Никто не входил…
— Я сам видел! — орал Звягин.
— Входил мужчина, — залепетала другая девчонка, молчавшая до сих пор. — Он про дрова спрашивал… Скоро будут или нет…
— В кепке, в куртке, маленький?
— Да, да, — закивали девчата дружно.
Вышел Звягин в коридор, остановился у двери, соображая, как быть? В милицию не подашь. Сам смухлевать хотел… Тот, гад, видно, каждый день промышляет. Не уйдет, сука! Я ему сам башку сверну. Звягин огляделся, увидел в коридоре мужчину, скучающего на скамейке, спросил:
— Список очереди у вас?
Записался на бурый уголь и на дрова, решил, завтра приехать сюда снова. Может, тот мерзавец опять привалит, тут он и прищемит ему хвост… Сто рублей выкинул, сто рублей!
Вечером дома злой был. Не так жалко денег, как обидно. Посмеивается теперь над ним, подонок! Юрка спросил его о чем–то, он не расслышал, но оборвал: отстань! И еще сильней расстроился. Зачем сына обидел? Чтобы успокоиться, взял газету. Валя «Труд» выписывала. Уселся в кресле, стал просматривать, скользить по заголовкам глазами, и поймал себя на том, что ищет сообщения о Сибири, о железной дороге на Уренгой. Отбросил газету, подошел к своему портрету. Стал разглядывать себя, бородатого, вспоминать, как жили в землянке. Год назад в это самое время жили! Теперь в поселке Вачлор веселынь, шумно. От землянки и следа не осталось. Предлагал он не трогать ее, на память оставить. Не послушались, сломали. А зря!
Ехал Звягин утром на склад, представлял, как расправится с мужичонкой. Вале не сказал, что надули его на сотню, надеялся, что вернет. День сегодня снова был облачный, прохладный, но облака посветлей, пореже, кое–где небо синее проглядывает. Солнце то там, то здесь осветит землю на минутку и снова скроется. Подходя к складу, услышал грохот, шум сыплющихся камней, увидел, как над кустами за забором склада пыль поднялась, заклубилась. На эстакаде стояли, разгружались два вагона. Бурый уголь пришел, и аж два вагона. Люди уже толпились в сторонке, ожидали. Звягин обрадовался, быстро нашел свою очередь. Люди говорили, что всем хватит, кто записан. Впереди Звягина было человек пятнадцать, не скоро очередь дойдет. Дожидаясь. Звягин поглядывал по сторонам: не появился ли тот, прощелыга? Так и не появился. Зато уголь Звягин привез домой до обеда. Самосвалов на халтуру много набежало, трактор ни минутки не стоял. Трояки только сыпались в карман тракториста.
Звягин ведрами носил уголь в сарай. Неожиданно он поймал себя на том, что все время прислушивается, ждет поросячьего визга. «Неврастеником скоро стану, — раздраженно подумал он. — Заколоть, что ль, его?» Но хотелось, чтоб еще подрос поросенок, потяжелел.
А дров так и не купил Звягин на этой неделе. В понедельник не до дров стало, вышел на работу.
23
До беспамятства, до рвоты напивался в одиночку Колунков, чтоб обмануть тоску. Дичиться стал людей. Раньше придет в рыбацкий поселок, набьет рюкзак бутылками, продавец привык к нему и стал отпускать водку без ягод, а из магазина непременно заглянет к пожилому ханту Васе, который в отличие от большинства своих соплеменников был говорливым, разопьет с ним бутылку. Поговорят, помолчат, помягче станет на душе, веселее. А теперь Колунков, сутулясь, шагает мимо дома Васи даже тогда, когда приятель ожидает на пороге, кивнет и сутулится дальше. Тоска, тоска… И странная жуть стала нападать на него, особенно ночами, под утро. Проснется резко на ложе своем из сена и лохмотьев, угли в печи погасли, темь; бывает, что тлеет еще уголек, отсвечивает на стене светлой точкой, и кажется, что затаился кто–то в комнате, в темноте, стоит, не шелохнется, смотрит, ждет, когда Олег ворохнется, чтоб наброситься на него. Цепенеет Колунков от ужаса, дышать перестает, таращит глаза в темноту. Долго лежит так, потом пересилит себя, выпростает руку из–под одеяла, потянется к бутылке, которую он теперь всегда ставит возле топчана.
Торопливо пьет. В бутылке и в горле булькает оглушительно. Сжимается сердце. Но страх уходит быстро и Колунков засыпает. А иногда сна нет. Лежит, думает, вспоминает. И что–то часто стала вспоминаться Лиза, четырнадцатилетняя дочь Насти, подруги Леночки. Леночка с Настей работали в одном отделе универмага, дружили много лет, несмотря на то, что Настя лет на семь старше Леночки. Папы у Лизы не было. Где он, что с ним и был ли когда, Олег не знал. Была у Насти дача, добротная, просторная, со светлой комнатой на чердаке, где обычно ночевали Олег с Леночкой. И стояла дача в ста метрах от реки Цны. Оставил ее Насте отец, какой–то большой начальник по строительной части. Он теперь жил где–то далеко, с ним была связана какая–то неприятная для семьи история, темная, таинственная. Колунков догадывался, что он отбывает большой срок в колонии, но никогда не заводил разговор об этом из деликатности.
Лиза в то лето, которое чаще всего вспоминалось Олегу, окончила восемь классов, была крупная не по возрасту, полноватая, в отличие от матери, сухой, подбористой, желчной женщины. И по характеру они резко различались. Мать–сдержанная, всегда настороженная, словно постоянно ожидающая подвоха или внезапного нападения и опасающаяся, что это застанет ее врасплох и она не сможет немедленно дать отпор; судит обо всем скептически, даже в добрых делах ей всегда чудится дальний эгоистичный расчет, а Лиза импульсивная, быстрая, цепкая, хотя, когда сидит спокойно, производит впечатление нерасторопной, распустехи. Это, вероятно, из–за ранней полноты. Лиза сидит, сидит и вдруг взовьется, отчупит такое, что мать только руками разведет, прокудливая страсть, никогда ей спокойно на берегу не лежится, когда все загорают. Волейбол, футбол с ребятами, наиграется, разгасится, подлетит к ним, лежащим рядком на одеяле, пышит от нее жаром, затормошит Олега: в воду, в воду!
— Охолони, мокрая вся! — буркнет мать. Но не слушает ее Лиза, тянет в реку.
Любила плескаться с ним, любила, раскинув руки, лечь на воду на мелководье и чтобы он толкал ее по воде. Озоровала часто. Подплывет сзади, прыгнет на плечи, утопит в воду, брыкается, визжит. Или поднырнет, ухватит за ногу и потащит на дно. Хохот, шум, визг! Насте шум надоест, прикрикнет:
— Хватит, вылазь! Разбузыкалась!
А Лизе хоть бы что, не слушает. Вода кипит вокруг нее.
— Русалка шутоломная! — ругнется мать и снова запрокинет к солнцу лицо с листом подорожника на носу.
А когда Лиза, мокрая, с сизыми мурашками на животе, бухнется рядом, поморщится Настя от холодных брызг, буркнет недовольно:
— Глянь в зеркало, баба–бабой, а разум детский! Скоро дети пойдут, а ты все, как пятилетняя!
— Ох, бабы, бабы! — вздохнет притворно горестным тоном Лиза. — Как вы быстро стареете! Неужели и я через десять лет такой же наседкой стану?
— Станешь… Куда ты денешься…
— Ни за что! — вскочит и помчится на луг, откуда ребячьи вскрики доносятся и удары по мячу.
По вечерам, когда солнце садилось и заря долго тлела на востоке, когда воздух застывал, становился томным и особенно явственно чувствовался запах хвои, собирались дачники на поляне за зеленым забором, огораживающим дачи, где под березами были лавочки, разжигали костер, разговаривали, слушали песни Колункова, если он приходил с гитарой. Затеялись один раз играть в горелки. Леночка организовала, игривость на нее напала в тот вечер. Разбились на пары, выстроились. Олег остался сидеть на скамейке с Настей. Пары ему не хватило, а Настя наотрез отказалась бегать. Олег смотрел, как носятся по поляне ребята за девчонками, как мелькают, взлетают длинные волосы Леночки над ее спиной, как развевается от ветра широкий сарафан Лизы, кричал, подсказывал «горевшему», кто в какую сторону побежит, создавал шум, отчего еще веселей и азартней бегали ребята. На шум и крик пришла еще девчонка, и Олег встал с ней в пару. «Горела» Лиза. Он видел, что, когда бежали бывшие впереди него пары, Лиза только делала вид, что пытается их разбить, халтурила. Очередь пришла бежать Колункову и его напарнице.
«Горю, горю, пылаю!» — крикнула Лиза особенно озорно и звонко, повернувшись к парам спиной.
Олег быстро поменялся местами со своей напарницей и побежал с той стороны, где стояла девчонка, а она — наоборот, с его стороны. Лиза видела с какой он стороны стоял и кинулась туда, но увидела бегущую девчонку, все–таки пробежала немного за ней, отсекла ее подальше от Колункова, не давая им соединиться, потом круто развернулась и кинулась за ним так резво, что он едва успел увернуться, чтобы она его не посалила. Он, убегая, влетел в лесок, запетлял меж деревьев, стараясь вырваться назад, на поляну, где ждала его девчонка, но Лиза не отставала, мчалась вплотную. И вдруг он кувыркнулся в траву, то ли о корень споткнулся, то ли она, догоняя, нарочно подсекла его, упал, покатился. Лиза тоже полетела на него, навалилась на грудь мягким разгоряченным телом. Волосы ее защекотали ему щеки, черные блестящие глаза застыли над ним. Она не дышала, только сердце гулко било ему в грудь. Долго это было или одно мгновение? Ему тогда вечностью показалось, словно он окаменел. Она вскочила на корточки, озорно глядя на него, показала язык и мягко побежала назад.
— Поймала?
— А куда он денется, — ответила уверенно и встала впереди пар, поджидая его.
Потом, когда стемнело совсем и развели костер, он, видя, как в ее черных зрачках пляшет огонь, пел под гитару:
Милая девушка, что ты колдуешь черным зрачком и плечом? Так и меня ты, пожалуй, взволнуешь, только я здесь ни при чем. Знаю, что этой игрою опасной будешь ты многих пленять…Ошибся Колунков. Не суждено было Лизе многих пленять. Недели через две после этого вечера она утонула в реке. Что случилось с ней? Почему она белым днем, когда народу было полно на пляже, нырнула и не вынырнула? Не сразу хватились, что ее не видно, не слышно. Кинулись искать в том месте, где она плавала, не учли, что течение в Цне сильное. Через час нашли метров за двести ниже. Гадали: что случилось? Решили — судорога. Но он–то понимал, понимал…
24
Вспомнилось, как застал он однажды Лизу одну на даче. Дело к вечеру шло, но было жарко. Лиза сидела на крыльце в плетеном кресле, сушила волосы. Она только что прибежала с реки и сидела, запрокинув голову. Длинные ее волосы свисали позади кресла, сушились на солнце, а лицо было закрыто носовым платком. Услышала шаги, сняла платок, глянула, смутилась, дернулась в кресле, напружинившись, но осталась сидеть, только побледнела почему–то сильно.
— Леночка здесь?
— Они с мамой загорают. Сейчас придут… — и добавила: — Посиди со мной… Спой мне… Грустно…
— А у меня такая тоска… просто душно, — признался он и полез на второй этаж за гитарой.
Да, тогда еще стала нападать на него изредка такая тоска, что в глазах темнело. Вернулся с гитарой, сел напротив. Лиза снова закрыла лицо платком и запрокинула голову.
Порою внезапно темнеет душа — Тоска! — А Бог знает — откуда? Осмотришь кругом свою жизнь: хороша, А к сердцу воротишься: худо! Все хочется плакать. Слезами средь бед Мы сердце недужное лечим. Горючие, где вы? — Горючих уж нет! И рад бы поплакать, да нечем.Он пел, а она сидела неподвижно с запрокинутым, накрытым платком лицом. Солнце опускалось все ниже, стало прятаться за покачивающиеся от теплого ветерка ветви деревьев. Воробьи облюбовали куст сирени неподалеку от крыльца, горласто и задиристо переругивались. А он пел. И когда замолчал на мгновенье, ему почудилось, а может, это просто ветерок прошелестел, нет, нет, он явно услышал шепот:
— Поцелуй меня!
Он замер, смотрел на платок на ее лице, на губы, маленькими бугорками поднимавшие белую ткань. Она застыла, не шевелилась, только пальцы немного подрагивали на подлокотнике. Он видел, как она медленно сдавила деревянный подлокотник так, что пальцы побелели, зато перестали дрожать. Он закрыл глаза, чтобы не видеть эти пальцы, губы, загорелую шею и сильно ударил по струнам:
Солнца луч промеж туч был и жгуч, и высок, Мы сидели с тобой на крыльце. Я грустил, песни пел, я глядел на белевший платок, Что лежал на твоем загорелом лице…И неожиданно отбросил гитару, поднялся и сбежал по ступеням в сад. Воробьи с шумом сорвались с куста сирени. Он быстро пошел к калитке. Открывая, оглянулся. Она смотрела ему вслед и улыбалась, как показалось ему, хитро и понимающе.
А в следующее воскресенье, когда он в саду жарил шашлыки, брызгал на шипящее мясо, к нему быстро подошла Лиза и протянула открытую школьную тетрадь в клеточку, указала на последний абзац:
— Прочти вот здесь… Только здесь!
— Что это?
— Читай, читай…
Лиза сегодня с утра почти не разговаривала с ним, была резкая, грубая, напряженная. Она стояла рядом, ждала, когда он прочитает.
«Опять прикатила Леночка со своим кудрявым идиотом, — читал он, — экспедитором Васькой. После обеда они поднялись наверх, и я подсмотрела. Никто не знает, что из коридора можно подсмотреть в щелочку. Особенно поразило меня ее лицо во время этого. Она металась на подушке с открытым противным ртом, ахала, стонала, вскрикивала, бормотала что–то. И кажется, даже слюни текли из ее рта. Мерзкая, мерзкая тварь! Почему ее Олежек не убьет? За что он ее любит?… Мама говорит, что ночью я кричала что–то во сне, дрожала, а мне кажется, я не спала всю ночь. Днем мама на работе была, а ко мне зашел Сергей Клюшкин, длинноволосый балбес. Он шел мимо, а я его позвала, сказала, что у нас вино осталось от вчерашнего. Мы с ним выпили по бокалу сухого вина, потом пошли наверх, и это произошло на той самой кровати. Мне было больно, гадко, хотелось сбросить на пол противно сопящего Сергея. Потом без отвращения и стыда я не могла на него смотреть. Как все отвратительно и мерзко! И я, я — мерзкая тварь!»
Он прочитал, сидя на пеньке перед тлеющими углями, шипящими от падающих на них капель жира с подгорающего мяса, поднял на нее глаза, ошеломленный. Она резко вырвала тетрадь, выдрала страницу, скомкала и кинула на угли. Показала ему язык и побежала с тетрадью мимо крыльца к калитке. Скомканный лист на углях задымился, зашевелился, разворачиваясь, и разом вспыхнул, словно на него плеснули бензином. Мясо подгорало. Он не обращал внимания, сидел остолбеневший, раздавленный. И догадался, понял: выдумка все это Лизы. Не было ни того, ни другого. Дурочка, ну дурочка!
Обедать она не пришла. Ели шашлыки без нее. Настя ворчала, мол, в последние дни Лиза, как сбесилась, будто бешеная собака ее укусила. Никакого сладу! Пообедали они и снова на речку. Издали еще увидели, как Лиза носится по лугу с мальчишками за мячом. Заметила их, остановилась. Мальчишки кричали что–то ей, а она стояла, смотрела. Потом снова помчалась за мячом. Набегалась, подошла к ним, лежавшим мирно на песочке, оглядела каким–то странным взглядом, ничего не ответила на вопрос матери: почему исчезла, не пообедав, — только усмехнулась, разбежалась, мягко утопая в песке, нырнула головой с берега и поплыла. Живой они ее больше не видели.
Вот эти дни, особенно последний, и вспоминались почему–то часто Колункову, живо видел он снова и снова, как стояла над ними, лежащими на песке, Лиза, стояла строгая, печальная; когда глянула на него, в глазах были упрек, сожаление, словно он обещал сделать для нее что–то важное и не сделал, хотя уверял, клялся, упрек и грусть, грусть…
25
Однажды на рассвете Колунков проснулся внезапно, поднял голову, вслушался в тишину: почудилось, кто–то его позвал, произнес его имя. Тихо. Шороха не слышно, и снова показалось, что кто–то притаился в углу за печью. Выжидает. На улице рассветало, светлело оконце. Он сбросил оцепенение, потянулся, зевнул и сел на топчане, надел сапоги, вышел на порог. Большая прозрачная луна зацепилась за верхушку кедра и застыла. Предрассветный туман легкой дымкой полз со стороны озера. Тихо. Ни ветерка. Деревья окаменели. Колунков постоял, послушал тишину, думая, как провести день: с ружьем побродить или по грибы податься, решил, что с ружьем бесполезно бродить, а грибы зимой пригодятся. Чувствовал он себя, как всегда, по утрам–подрагивали руки, ноги слабые, негнущиеся. Муть в голове и во рту. Водка еще была, рано в поселок идти. Пересилил себя: умыться надо, а потом уж за завтраком принять дозу.
Воды в ведре не оказалось, и ноги сами понесли его к топчану, где были бутылки, но снова на полпути удержался, взял ведро и, сгорбившись, побрел к речке. Ведро тихонько поскрипывало. Неподалеку от берега тревога почему–то охватила его, почудился голос тихий женский вроде — песня, что ли? Он приостановился, замер, вглядываясь в туман. Воды, берега не было видно в мутноватой пелене. Но певучее бормотание слышалось явственно. Олег осторожно, от дерева к дереву, стал пробираться, спускаться к речке. Наконец, он различил под ивой, там, где он черпал воду, где ветки дерева касались реки, на самом краешке берега темную фигуру. Какая–то женщина сидела у воды и что–то делала, то поднимая к голове руку, то опуская, кажется, расчесывала волосы, расчесывала и пела, расчесывала и пела. Олег слова песни ясно расслышал. Голос женщины или девушки грустный и, кажется, знакомый. Из поселка, что ли, кто? Но зачем в такую рань? И одна… А что это? Ноги у нее в воде? Холодно! A-а, она в сапогах, вон как блестят при луне! Олег подкрался ближе и различил, что это молоденькая девушка. Сидела она спиной к нему и неторопливо расчесывала волосы и пела:
Ты придешь на мой голос печали, Я сегодня светла и нежна, Потому что тебя обещали Мне когда–то сирень и луна.На этих словах она оборвала песню и оглянулась. Колунков обмер, застыл за кустом. Он узнал Лизу. Да, это была она! Ужас охватил его, оторвать глаз не мог от девушки. А она улыбнулась ему приветливо, словно именно его и ждала на берегу, и махнула рукой, приглашая подойти. Он вышел из–за куста и деревянными ногами шагнул несколько раз к ней, позвякивая пустым ведром.
— Что же ты так долго спишь? — с упреком, но нежно спросила она, глядя блестящими черными глазами, как он медленно приближается.
— Я за водой… вот. — проговорил он сконфуженно, оправдываясь. Озноб колотил его. Боялся, что зубы застучат.
— А-а, — словно обрадовалась она. — Ну иди, черпай…
Но он оцепенел, увидев, что не ноги в сапогах опустила она в воду, а рыбий хвост, большой зеленоватый, поблескивающий чешуей при луне. Страшное было желание рвануться назад, удрать. Со своим рыбьим хвостом она не догонит. Но ноги не двигались. «Не во сне ли это?» — металось в голове. Ущипнул себя за ногу свободной рукой, аж поморщился от боли. Но русалка не исчезла. Смотрела на него по–прежнему приветливо, улыбалась ласково, приглашая зачерпнуть воды. «Подойдешь, защекочет!» — вспомнилось народное поверье, что русалки заманивают своим пением, а потом защекочут, утащат в воду и каюк.
— Верно, куда торопиться, посидим, поговорим, — зажурчала Лиза–русалка. — Мне так хотелось тебя увидеть! Садись, садись… Посидим вдвоем. Я так по тебе соскучилась!
Голос у нее был такой печальный и нежный, такой доверчивый и открытый, что страх, ужас, сковавший Олега, стал отступать, и он сел, опустился все еще нерешительно во влажную от росы траву. Ведро он осторожно поставил рядом, и съежился, сжал ладонями плечи, скрестив на груди руки.
— Зябко, — посочувствовала она, хотя сама была в легком сарафане, с голыми плечами и руками, в том самом, в котором играла в «горелки». — А мне уже все равно: зябко ли, жарко… Что ты смотришь так? Разве я сильно изменилась?
— Волосы зеленые, — пролепетал он.
— Да, да, — согласилась Лиза и объяснила: — Это от воды. Я же теперь все время в воде… А ты изменился… высох, совсем высох… И борода, смотри, седая почти… И глаза поблекли, мертвые… Неужели ты такой старый?
— Тридцать скоро… Я устал, седеют от усталости, — вздохнул Колунков. Он расслабился. Жалко стало себя, рано постаревшего, захотелось, чтоб и Лиза пожалела его.
— Помнишь, ты был веселый?.. Помнишь, как играли в Цне? Вода кипела…
— Помню, помню… И ты огонь была…
— Я знаю, ты хочешь, чтоб вернулось то время, — горячо зашептала она, — но мы можем и сейчас в воде поиграть. Мы вообще можем всегда быть вместе, всегда в воде! Иди ко мне, не робей! — Она протянула навстречу ему руки, шевельнула хвостом. Тихие круги пошли по воде, скрываясь в тумане.
— Холодно, — передернул он плечами, которые продолжал сжимать пальцами.
— Это вначале… Потерпи две минуты, и тебе будет все равно.
— Здесь мелко.
— Да–да, мелковато, — с сожалением согласилась она. — Иди к озеру. Тут рядом, я приплыву. Буду ждать. — Лиза стала сползать в воду, пошевеливая хвостом.
— Погоди, — остановил ее Колунков. — Я спросить хотел…
— Потом наговоримся, у нас столько времени будет, — нежно смотрела на него Лиза.
— Нет, погоди еще чуть–чуть! — торопливо вскрикнул Олег.
Она глянула на него тем же самым взглядом, что смотрела перед тем, как навсегда прыгнуть в воду, в Цну.
— Скажи, ты написала правду? Или все это фантазия? Там, в дневнике…
— А разве это важно? Правда в другом, и ты ее всегда знал.
— Да, я понимал, что ты любишь меня. Но что я мог сделать? Чем помочь?
— Да, ты всегда был трусом, — с горечью подтвердила она.
— Нет, не был я трусом в любви, — не согласился он. — Когда я полюбил Леночку, я бросил все!
— А была ли любовь?
— Была, была! — воскликнул он. — Пылкая, слепая…
— Нет, любви не было… Любовь слепой не бывает, это страсть слепая! Томление по новизне было, и от того страсть к первой же податливой, слепая страсть… И поступил ты, уходя от Василисы, не смело, а слепо. Я знаю, что ты трус, и все же я люблю тебя!
— Я не трус! — вскричал он.
— Не трус, а что же ты боишься шагнуть ко мне? Иди, я обниму тебя так, как никто не обнимал! Я буду ласкать тебя, нежить, я покажу, какая любовь бывает. Страсть — чепуха, страсть — ничто в сравнении с любовью. Ты забудешь обо всем… Никаких желаний у тебя больше не будет!
Олег улыбался, слушая ее нежный обволакивающий голос.
— Скажи, а ТАМ хорошо… Как я там буду?.. Как же мы будем вместе? Не буду же я русалом? Русалки только женского пола.
— Смешной какой ты, — захихикала она совсем не обидно. — Ты забыл про водяного!
— Ах, да, да, совершенно забыл про водяного! Водяной это хорошо… Я согласен. — Он поднялся.
Лиза радостно шлепнула хвостом по воде, соскользнула в реку, и Олег шагнул вслед за ней, утонул сапогами в тине у берега, зачерпнул холодной воды, поднял со дна муть. .
— Сюда, сюда, — манила его Лиза на середину реки. Голова ее с мокрыми волосами торчала над водой.
Но на середине реки вода едва достигла ему до пояса.
— Не, Лиза, тут мелко и топко. Тут мы не поиграем. Ты плыви к озеру, я сейчас приду…
Олег быстро вылез на берег и зашагал к озеру, оставив ведро под ивой. Холодная вода в сапогах булькала, хлюпала, выплескивалась и разбрызгивалась по траве. Он не замечал, не думал о том, что надо вылить ее из сапог.
Солнце высунулось из–за лесочка за озером, пронизало туманную тайгу длинными золотистыми лучами. Колунков любил такое утро, но сейчас не замечал красоты, быстро шагал меж деревьев, мимо своей избушки. Увидев ее, он приостановился и завернул к ней, решил прежде выпить малость, согреться. Уж больно зябко.
В комнате приложился к начатой бутылке, пил, пил, булькал, пока не опорожнил, кинул в угол и торопливо двинулся к озеру. Заждалась теперь Лиза. Теплее становилось, озноб прошел, легкость в теле появилась. Голова замутилась приятно. Вышел к озеру, огляделся. Над водой стлался туман. Солнце, выползшее полностью из–за деревьев, золотило тонкий верхний слой тумана. Ах ты, Господи, как хорошо! Вода неподвижная, тяжелая, бордовая. Стоит, не колышится. Лизы нигде не видно. Олег осматривался, вслушивался: не слышно ли где поблизости плеска.
— Лиза, Лиза, — вполголоса позвал он. Крикнул громче: — Лиза!
Тишина. «Что она, заблудилась? Или там ждет?» — недовольно подумал Колунков. Спустился к самой воде, вытянул шею, вглядывался. Нет! Решил, что осталась там, у ивы. Выбрался наверх и побежал.
26
Ведро одиноко стояло в траве. Под ивой никого не было. Олег спустился к тому месту, где сидела Лиза и где он входил в воду. Следы его были видны в очистившейся от мути воде. Придерживаясь за толстую ветку ивы, он вглядывался в воду. Спокойно все, тихо.
— Лиза! — позвал он негромко. — Куда же ты делась?
— C кем это ты? Что за Лизу зовешь? — раздался, как взрыв, голос позади него.
Он резко обернулся. Чуть не упал в воду. Андрей Павлушин стоял на берегу с тощим рюкзаком за спиной.
— Какую Лизу? — смешался Олег, выбираясь на берег. — Склизко, говорю, рюхнул в воду, полные сапоги… — Он сел на берег, разулся, вылил из сапог.
Пока он выжимал, обувался. Андрей зачерпнул ведром воды.
— Пошли скорей, а то простудишься. Загнешься тут один…
Они быстро направились к избушке.
— А ты чего? Ко мне?
— Ты же обещал мне грибные места показать. Меня ребята ждут с белыми грибами.
— Пьянка намечается?
— Повод есть. Первый коренной житель поселка Вачлор появился! Васька Шиндарев отцом стал. Девочка…
— У Васьки девочка?.. Это надо отметить, надо поздравить… Слушай, а Звягин все молчит?
— Ах да! Я принес. Два дня назад получил, — сунул Павлушин руку в карман и подал письмо.
Колунков остановился, разорвал конверт дрожащими руками и начал читать. Прочитал про себя и прошептал побелевшими губами:
— Это я виноват… И та, сука…
— Что случилось? — тревожным голосом спросил Павлушин.
— Дочка погибла… Вывалилась с четвертого этажа… Ах, тварь, куда она смотрела…
— А ты причем? Она не уберегла..,
— Нет, я, я… — и быстро пошел впереди к избушке.
Андрей за ним едва поспевал.
В избушке Павлушин вытащил из рюкзака две буханки хлеба, батон колбасы, пакет картошки, пачку газет. Вытаскивал, бросал на топчан и ворчал:
— Читай, жри — не хочу!
А Олег налил и протянул ему стопку, бросил коротко, хмуро:
— Помянем…
Выпил, выдохнул, пробормотал:
— Я ж дочку совсем не знал… Уехал, когда она агукать добром не научилась… Вот так–то. — И надолго замолчал, задумался, и вдруг оживился, заговорил другим тоном, заплетающимся языком, захмелел быстро: — Это же… меняет дело… совершенно меняет… Ну, просто совершенно…
Андрей забеспокоился, что Олег свалится сейчас, а без него придется не белые грибы, а моховики собирать. Не зная мест, белые грибы весь день проискать можно.
— Ты давай быстро меняй сапоги, портянки, брюки. Простудишься. Давай, давай, — Павлушин подставил ближе к топчану друга резиновые сапоги, встряхнул Колункова. — Где у тебя штаны? Шевелись…
Олег послушно стал переодеваться, бормоча:
— Пионер, милый… ты знаешь, как я тебя люблю…
— Не любишь, а уважаешь.
— Нет, не скажи, люблю… Ближе тебя у меня никого нет… ты меня любишь, да, да, я знаю…
— Не люблю, а уважаю.
— Нет, не скажи… Кто меня посещает здесь? Кто меня кормит? Ты налей, налей еще стопочку… Захорошеет…
— Себе налью, а ты не жди… Ты и так хорош… Слушай, может, хватит тебе здесь куковать? Неужели ты так слаб, что не сможешь пить бросить? Протерпел же три месяца зимой без водки. Не умер. Неужели снова сил не хватит?
— Хватит, Пионер, хватит, — пробормотал Колунков, то ли подтверждая, что хватит сил бросить пить, то ли предлагая прекратить этот разговор.
27
Плотники в тот день, когда Звягин вышел на работу, подгоняли двери. Работалось Звягину в охотку, радостно. Маляры, стекольщики, увидев его, останавливались, расспрашивали, интересовались Колунковым. Язык устал за день. Казалось, все были рады, что Звягин вернулся.
В конце дня стоял с бригадиром на балконе шестого этажа, рассказывал о Сибири, о том, какие дома строил там, о рыбалке. Черенков рыболов. Слушал с завистью. Эх, половился бы он там! Звягин, рассказывая, поглядывал вниз, туда, где бульдозер разравнивал землю возле дома, сгребал строительный мусор в кучу, чтобы потом вывезли его на свалку. Среди мусора виднелись обломки досок, оболонки, в которых были упакованы лифты, обрезки плинтусов, реек, наличников.
— Я дров достать никак не могу, а тут сколько добра пропадает, — не выдержал Звягин, прервал рассказ, проговорил с огорчением.
— Если нужно, собери да вези домой, — ответил бригадир.
— Да, за эти щепки прораб голову оторвет.
— На черта они ему нужны… Хочешь, я поговорю с ним?.. Пошли, а то сейчас бульдозер сгорнет в кучу, засыпет землей, затопчет — не выдерешь. А там этих дров — на машину не погрузить!
Прораб разрешил: бери, кому это дерьмо нужно. И Звягин стал складывать к стене дома, где уже было заасфальтировано, деревянные обломки. Куча росла быстро. Правильно сказал бригадир, полную машину набрать можно.
— Во, глядите, Плюшкин опять мышкует! — услышал Звягин над головой насмешливый голос Зотова. — Киндец управлению, все разворует!
Зотов стоял на балконе второго этажа с двумя молодыми парнями, которые появились в бригаде во время отсутствия Звягина. Он с ними еще не был знаком. Один — хилый, корявый, другой хоть и не высок ростом, но сбитый, крепкий, чем–то напоминающий Зотова. Сын, должно быть, его. Звягин слышал, что сын Зотова работает в бригаде, но, кто из ребят его сын, пока не знал. Зотов, видя, что Звягин не откликнулся на его слова, крикнул:
— Э-э, Плюшкин, держи! В хозяйстве сгодится! — Он кинул вниз желтую стружку, завитую в колечко.
Ребята, стоявшие с ним, засмеялись.
— Он тут раньше даже дерьмо домой тащил, — сказал ребятам Зотов. — Говорит, на удобрение пойдет…
Звягин едва сдержался, чтобы не запустить обрезок рейки в Зотова. Собирать дрова расхотелось, но он пересилил себя, смолчал, кидал по–прежнему в кучу обрезки. Только отошел подальше, к следующему подъезду, чтобы не слышать шуточки Зотова. Стал собирать другую кучу. Но настроение осталось препаршивым. Неужели опять посмешищем станет? И зачем связался с этими дровами, дурак? Надо было ждать, когда появятся на складе.
Собрал дрова, привез после работы. Но не радовали они, даже носить не стал к сараю, оставил у забора. Снова дома хмурый был, снова искал в газете строки о Сибири, снова вспоминал недавние дни, грустил, думал, другие обживают тайгу, другие, не он. Его удел в поросячем навозе возиться, прасука откармливать, парнички в порядке содержать. Неужели, правда, такой его удел?
Боялся, что на другой день Зотов снова насмехаться начнет, Плюшкиным звать будет, но ничего, поработалось мирно. Вечером стаскал дрова к сараю, собираясь переколоть их в воскресенье. Утром бригадир поставил его замки врезать во входные двери. Сидел на ящике, долбил долотом, когда услышал за спиной тонкий голосок:
— Привет, Плюшкин!
По длинному коридору шел мимо корявый паренек, один из тех, что стояли с Зотовым на балконе.
Звягин подскочил на ящике, цапнул паренька за рукав, дернул в комнату и ухватил за ухо, стал выворачивать и приговаривать:
—- Еще раз, щенок, услышу, совсем ухо оторву!
— А–а–а, пусти! — оскалился, заблажил паренек.
Звягин дал ему пинка напоследок, вышвырнул в коридор.
— Беги и помни!
До конца недели никто больше не довязывался к Звягину. Один раз Черенков дал задание Звягину вместе с тем корявым пареньком Витей поставить чердачные двери. Витя послушно и быстро выполнял все, что говорил ему Звягин, и намека не было на бывший инцидент. Потому Звягин и поймался в пятницу на новую подколку. Шел с ящиком в руке по коридору мимо открытых дверей квартир и спокойно повернулся, вошел в однокомнатную квартиру, когда его позвал Витя.
— Звягин, посмотри, — указал Витя в санузел, совмещенный в однокомнатной квартире, где уже поставили оборудование, — не сгодится на удобрение? А то забирай!
Кто–то наложил в унитаз, а воду еще не подключили, чтобы смыть. Сказав это, Витя метнулся в кухню, где громко захохотал своим хриплым голосом Зотов. — Я сейчас уши надеру не ему, а тебе, старый ишак! — затрясся Звягин и шагнул к замолчавшему Зотову. Витя в угол забился.
— Может, мне надерешь, услышал Звягин за спиной насмешливый голос и обернулся, увидел сына Зотова, Сергея. — Ну, надери попробуй! — шел на него Сергей, крепкий, лобастый.
Звягин выхватил топор из своего ящика и шагнул навстречу. Сергей отскочил.
— Ну–ну! — заорал сзади Зотов. — Топором и я махать могу!
Слышно было, как загремел инструментом Зотов, наверное, тоже вытащил из ящика топор. Звягин, не оглядываясь, шел на Сергея. Тот шарахнулся в комнату и захлопнул дверь, а Звягин вышел из квартиры и пошел по коридору, продолжая держать в дрожавшей руке топор.
28
Дома он опять был раздражительным, опять покрикивал на детей. Они, заметил, сторониться его стали, и Валя с опаской с ним разговаривала. Взгляд ее, искристый, счастливый, всю первую неделю, стай тускнеть. Ночью она осмелилась, спросила:
— Миша, что с тобой? Что тебя мучает? Почему ты такой мрачный?
— Ну какой же я мрачный? — оправдывался Звягин, чувствуя мучительную вину перед Валей и детьми. «Всё, с завтрашнего дня держу себя в руках. Вале и ребятишкам — ласку, только ласку!» — Неужели я такой мрачный? — целовал он жену — Это, кажется, устаю, наверно… Я больше не буду. Увидишь! Я стану самым ласковым!
— Ребятишки дичиться тебя стали. Сразу–то прилипли к тебе. Особенно Света. Только одно у нее: папа, папа, папа! Я уж и ревновать стала, а ты вдруг…
— Ну, хватит, хватит, Валюша, — ласково зажал он ей рот ладонью. — Я больше не буду!
Утром лежал в постели, слушал, как ходит в прихожей по комнате жена, позвякивает посудой, разговаривает приглушенным голосом с детьми. В горницу к нему они не заходили. «Боятся!» — С горечью подумал Звягин и позвал громко:
— Светик!
Девочка заглянула в комнату, посмотрела на него настороженно и выжидательно.
— Иди ко мне, — позвал он ласково. — Ну иди!
Света подошла потихоньку, глядя на него. Он подхватил ее резко, бросил на кровать и стал щекотать, громко восклицая:
— Щекотушки–щекота! Щекотушки–щекота!
Так они играли в первые дни после его приезда. Девочка завизжала, захохотала, извиваясь на кровати, забила ногами, уворачиваясь от него. Краем глаза он видел, что из прихожей смотрят на них с улыбками Валя и Юрка. Валя подтолкнула сына в горницу:
— Ну–ка, защекотайте его вдвоем!
Юрка бросился к ним на кровать и начал щекотать отца. Света вывернулась, когда он отвлекся к сыну, и тоже щекотать его. Они визжали, кричали, хохотали, пока не свалились все трое на пол.
Звягин, довольный, бодрый, умылся и вытирался полотенцем посреди прихожей, взгляд его остановился на его сибирском портрете, и незаметно для себя он шагнул к нему. Тер плечи полотенцем, глядел на портрет задумчиво, грустнел. За завтраком уже не было прежней бодрости, хоть и улыбался детям, старался похвалить, приласкать Валю.
Юрка в школу убежал, а он взял топор и пошел к сараю, рубить дрова. Плинтус и наличник, какой подлинней, и доски поровней он выбрал из кучи, пригодятся, может быть, когда, а остальные обрезки стал колоть и складывать в сарай. Как только он начал стучать топором, захрюкал поросенок, сначала потихоньку, как бы сам с собой разговаривая, потом сердитей, громче.
— Валя! — крикнул Звягин. — Ты прасуку давала?
— Кормила… Не обращай внимания, — отозвалась жена.
Боров урчал все сильней, повизгивал. А Звягин тюкал топором, стучал, но не удавалось не обращать внимания, нервничать стал. Рука топор неуверенней держала. Удары рассчитывать перестал. По тонкой щепке слишком сильно врезал. Она раскололась, подскочила вверх с силой и по скуле ему, да больно как! Бросил топор, ухватился за щеку, потирая. «А если б в глаз?» — подумал и закричал в сторону свинарника:
— Да заткнись ты, гад!
Получился у него нервный, визгливый крик. И боров взревел таким же визгом, словно передразнивая. Звягин матюкнулся и зашагал в дом за месивом.
Поросенок визжал резким, невыносимо отвратительным визгом. Звягин, матерясь, ворвался в свинарник, выплеснул месиво в корыто и ударил кулаком борова:
— Жри, гад!
Поросенок ринулся было к корыту, но после удара остановился, отступил в угол и закричал громко, противно, кричал и глядел насмешливо на Звягина.
— Жри, сволочь!
Но боров не собирался выходить из угла. Тогда взбешенный Звягин схватил кол, стоявший у стены, влетел в закуток и огрел поросенка от души. Боров взвизгнул, бросился вдоль стены мимо Звягина, толкнул его жирным боком и выскочил в открытую дверь из закутка в сарай, потом в сад. Звягин поскользнулся на мокрых досках от толчка поросенка и грохнулся спиной в липкую вонючую грязь. Пытаясь вскочить, опять поскользнулся и шлепнулся на бок. Поднялся, грязный, вонючий, он, не помня себя от ярости, кинулся вслед за поросенком, схватил топор, воткнутый в пенек возле кучи дров. Боров, выставив вперед пятак, мчался вдоль забора. Звягин припустился за ним, кричал во все горло:
— Зарублю, стерва!
— Миша, Миша! — испуганно выскочила на крыльцо Валя.
Ослепленный яростью Звягин запустил топором в поросенка, но промазал, попал в стойку парника. Она треснула резко, переломилась.
— Миша, ты что! — подлетела к нему Валя.
Звягин оттолкнул ее от себя. Она упала навзничь.
Он схватил топор и начал крушить парник: легко хряпали стойки.
— Все порублю! Все!! — орал он. Хватил топором по яблоне, швырнул его в стену дома. — Порублю! Пожгу! Где керосин!?
— Мишенька-а! Мишенька! — рыдала, цеплялась за него жена, не давала бежать к веранде.
Звягин отталкивал ее, хрипел, как загнанный.
— Мишенька! — кричала, плакала Валя. — Что с тобой? Что с тобой?
Он сопротивлялся все слабее. Так дошли до веранды. Звягин, дрожа, опустился на ступеньку. Валя села рядом и, продолжая плакать, обняла его за шею. Он постепенно отходил, успокаивался, но на душе становилось тоскливо, так тоскливо, что зарыдать хотелось, завыть. Звягин потерся щекой о волосы плачущей жены и заговорил, забормотал:
— Прости, Валюша… Прости… Не могу я больше так жить! Не могу… Все осточертело! Давай уедем отсюда. Туда, в Сибирь! А? Дом продавать не будем. В случае чего вернемся… А здесь у нас жизни не будет! Не будет!
— Ты что? Что ты говоришь? Одумайся…
29
Андрей Павлушин вышел из конторы на крыльцо, надвинул потуже кепку, чтоб ветром не сорвало. Намеревался он идти на свой участок, сказать бригаде, что к обеду придут два вагона шпал. Вышли из Сургута. Дверь с шумом ударила, захлопнулась за ним. «Опять забыл придержать!» — с досадой подумал он о двери, которая всегда хлопала оглушительно.
— Павлушин, — окликнул его парень, стоявший возле плакатов наглядной агитации рядом с какой–то женщиной, — Андрей, женщина, вот, Олега Колункова разыскивает. Он ведь с вами плотничал…
Женщине на вид лет тридцать. Полновата несколько. Зеленое осеннее пальто на ней, такого же цвета вязаная шапочка, стоптанные сапоги на невысоком каблуке. Простая, ничем не примечательная. В глазах усталость, надежда и какая–то настороженность, робость.
— А зачем он вам нужен?
— Видите ли, я его жена… Бывшая жена… — запинаясь, ответила она.
— А зовут вас как? — нахмурился Андрей, не от нее ли Колунков скрывается.
— Василиса… Василиса Егоровна.
Да, это была Василиса, Василиса Прекрасная! Никто не знал, сколько ночей бессонных провела она после того, как получила деньги от Колункова, сколько дум передумала, сколько страданий душевных перенесла, прежде чем решиться поехать черт–те куда, за Уральские горы, и никому не сказала, ни с кем не посоветовалась, ни на что не надеялась. Уверена была, что Олег один, уверена, что пьет безбожно. Но помнила она годы, прожитые вместе, и не представляла Олега опустившимся, хотя понимала разумом, что это так. Думала она, думала и решила: надо съездить, посмотреть, поговорить, может быть, он в ней нуждается? Видно, не забыл ее, раз столько денег прислал. Василиса второй год жила одна, с детьми, не удалась жизнь и со вторым мужем. Дениска взрослый уж совсем парень, во второй класс ходит, а девочке четвертый годок. Поручила присмотреть за ними Василиса соседке, подруге своей, сказав, что к тетке едет в Москву, взяла на работе три дня за свой счет и полетела.
Павлушин показался ей человеком неразговорчивым. А он просто не знал, что рассказывать про Колункова, понимал, что она не знает, что нет давно прежнего Олега, того, которого она помнит. На вопросы он отвечал односложно: встретятся, сами разберутся. Да и неизвестно, как Колунков встретит ее, будет ли рад. Она, должно быть, тоже давно не та, что вспоминается Олегу Василисой Прекрасной. Младая, изработавшаяся.
— Идемте ко мне, там подождете… Я схожу за ним.
— Ну что вы! — встрепенулась радостно Василиса Егоровна. — И я с вами.
— Это не близко. По тайге… Я один быстрее сгоняю… Да и не уверен, застану ли. Он не всегда днем дома сидит. Если нет его, я записку оставлю…
30
Простудился Колунков. Не прошло даром купанье в речке. Отлеживался в своей берлоге. Проснется в привычном своем похмельном состоянии: тоскливо, тошно. Выпьет, пожует колбасы с хлебом, не вставая с топчана, и спать. Проснется, лежит, думает, как жить дальше, что делать, но думает недолго, засыпает. Так у него шло чередом дня три: просыпался, пил, засыпал. Очнулся на третью ночь и явственно увидел при свете луны какого–то старика у порога, смирно и безмолвно стоявшего.
— Уйди, не мешай! — крикнул сердито Колунков.
Старик сгорбатился, молча вышел на улицу, сильно хлопнул дверью.
— Шляются по ночам, собаки! — разозлился Олег. Такая злость взяла на старика, что готов был вскочить, догнать, накостылять. Мелькнула мысль, что это старый хант, хозяин этой избушки. — - Ну, и хрен с ним! — вслух буркнул и повернулся к стене. «Нет, не хант, подумалось. — У этого бородища огромная, зеленая!» Быстро уснул Олег. Утром не мог понять: приснился ему старик или вправду приходил. Решил, что приснился: не мог же он во тьме так явственно разглядеть его. Помнился облик четко. Бородат, сутул, морщинист, но крепок, еще сто лет проживет, с суковатой палкой. Сучки торчат, обломаны небрежно. Наверное, поднял палку только что, обломал сучки и пошел, опираясь. На голове шапка старая, изношенная, засаленная. Такое в темноте разглядеть нельзя. И цвет бороды разве увидел бы? Помнил, что борода длинная, редкая от старости, чуточку раздвоенная, как у Льва Толстого в конце жизни, и не седая, а с прозеленью, от старости, вероятно. Старику лет девяносто, не меньше.
Колунков, кряхтя, сел на топчане, поскреб волосатые щеки, бороду. «Сам теперь, наверное, как тот старик… Встретит кто в тайге, испугается! Ох–хо–хо! Сыровато в комнате… Сколько же я дней пролежал? Не топил. Ох, и неохота ни черта вставать… Ай–яй–яй, загнусь, загнусь от пьянки… Да-а, а скрываться–то теперь мне не от кого…». — Он пнул ногой пустую бутылку, потянулся за сапогами, выполз на улицу. — «Хорошо дождей нету, зарядят — пропаду… Ох ты, Господи, и водка кончается, надо к хантам топать.
А далеко…»
Он растопил печь, посидел, погрелся. Выпил немного, побоялся, что свалится опять. Нужно сегодня размяться, клюквы набрать немного, а завтра двинуть в магазин.
Направился Колунков на ближнее болото. Ягод там поменьше, и поопаснее оно, есть места бездонные, но далеко идти не хотелось. Ноги какие–то резиновые, то ли от простуды, то ли от долгого лежания и бесконечного запоя. Километра два всего до болота, а устал отдохнуть захотелось. Срубил высокую ровную березку, сделал шест. Без него по болоту ходить опасно. Кинул топор в траву и присел рядом, посматривая на болото, освещенное солнцем. Голые кусты островками торчали среди темно–желтого ковра мха. Кое–где видны следы. Прошлись уже ягодники по болоту и сюда добрались. Рядом с поселком все подобрали. Скоро и на дальнем болоте побывают, лениво размышлял Колунков. Он разморился, на солнце сидючи, дремотно стало ему. Голова тяжелела, клонилась к коленям. Вдруг ему почудилось, что он не один, кто–то подошел, смотрит на него. Олег вскинул голову и увидел ночного старика. Он стоял метрах в пяти от него у куста, опирался на ту самую суковатую палку, смотрел доброжелательно, но улыбался хитренько, хотя губ не видно было среди длинных усов и бороды. Борода большая, широкая, раздвоенная, грудь закрывает, и волосы ее не такие уж редкие, как показалось ночью, но точно, с прозеленью. Опирался на палку дед так, как делают это пастухи: поставил впереди себя и обеими руками оперся о нее.
— Чего тебе? — сердито спросил Колунков. Опять непонятное раздражение стало возникать в нем.
— Поговорить хочется… Ночью–то прогнал, — очень уж задушевным голосом добродушно ответил старик, и Колунков смутился, неловко стало из–за своей грубости.
— Спать хотелось, — буркнул он, оправдываясь.
Ничего, я не в обиде. — Старик шагнул поближе, но не сел, остался стоять, смотрел на Колункова доброжелательно своими зелеными ничуть не поблекшими глазами. — Я интересуюсь, почему ты тут живешь? Разве тут твое место? Разве ты об этом мечтал?
— Что тебе надо? Что ты в чужую жизнь лезешь? Кто ты такой? — снова почувствовал раздражение и рассердился Олег на глупые вопросы незнакомого старика.
— А ты разве меня не узнал? — засмеялся дед добродушно, и пожелтевшие листья на кусте молодых березок зашелестели от ветерка. — Узнал ведь, признайся, — щурил хитренько старик свои зеленые глаза.
И Колунков догадался, кто перед ним: Леший! Догадка эта не произвела на него ни малейшего впечатления, даже раздражения не убавила.
— Ну и что? — по–прежнему злился он. — Раз Леший, значит, в чужую жизнь лезть можно?.. Я в твою не лезу, бродишь и броди себе!
— Чего ты сердишься? Я ж к тебе с добром… Давно наблюдаю за тобой, вижу, маешься, тошно тебе, а все от лени, от трусости…
— И ты туда же, — буркнул Олег. — Кого мне бояться?
— Себя, себя ты боишься! От себя спрятаться Хочешь, а зачем? Ты одарен, ты талантлив…
— Скажи еще — гений! — фыркнул Колунков.
— Нет, не гений! Гений — это труд и бесстрашие, а в тебе нет бесстрашия перед жизнью… Зачем ты работал плотником? Ты окончил институт, ты поэт… Тебе нужно было совершенствоваться в своем деле…
— Это где же — учителем? В деревне? Где ни книг, ни общения с себе подобными, ни времени. Ты знаешь, что такое учитель? А у меня ни призвания, ни умения… Я топором меньше людям зла приносил! — Колунков схватил лежавший рядом топор и со злостью вогнал лезвие в землю. — Со своей бы тоской я таких детей воспитал!
— Ну, ну, опять разошелся — порох! — попытался успокоить его Леший.
— А в городе я работал там, где мне давали койку в общежитии и прописку, понял? — несколько умерил свой пыл Олег. — Потому я и был плотником!
— А зря, лучше бы в библиотеке сидел.
— Кто же меня кормить бы стал, — усмехнулся Колунков, отворачиваясь, и вздохнул.
— Много тебе разве надо? Помнишь? Мне много ль надо? Краюшка хлеба да капля…
— Помню, помню, — перебил Олег и вздохнул еще глубже и грустнее. — Ну, конечно, я мог бы…
— Не только мог бы, но и можешь! — Эти слова Леший произнес раздельно, значительно и так уверенно, что Олег Колунков повернулся резко и уставился на него с необыкновенной надеждой и ожиданием в глазах, как будто услышал откровение о себе, которое переворачивало всю его жизнь.
— Могу? — выдохнул, спросил он.
— Можешь! — убежденно подтвердил Леший. Хитреца, горевшая в его зеленых глазах, исчезла, смотрел он на Колункова деловито, так, как смотрят, когда ведут серьезный и важный разговор. — Сможешь, если примешь мои условия!
— Но какие?! — воскликнул Олег с нетерпением. Чувствовалось, что он готов на все.
— Ты, как всегда, спешишь! Ты всегда пытался решить все проблемы разом, потому что ленив. Ты был упрям, но не обладал достаточным упорством в достижении цели… Погоди, погоди, не возражай, я знаю, что ты считал себя целеустремленным. Знаю! Ты жертвовал малым ради большой решающей победы. И она пришла к тебе: книга — в двадцать с небольшим лет, признание, кажется, шагай дальше, а ты оказался у разбитого корыта… Ты забыл, что малая победа, тоже победа… Ты не старался глубоко мыслить, анализировать, воспринимал все слишком поверхностно, слишком конкретно, не видел факты в их последовательности… Ты слушай, слушай, я только перехожу к главному… К тебе придет все, если ты примешь наши принципы, и отбросишь человеческие! Люди говорят: «Лучше меньше, да лучше», а мы говорим: «Лучше больше и лучше». Они говорят: «Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным». Мы убеждены: «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Они говорят: «Всё или ничего». Мы уверены: «Лучше что–нибудь, чем ничего». Они говорят: «Отдать так же приятно, как и получить». Мы считаем: «Отдавать, может быть, и приятно, но получать еще и полезно». Они говорят: «Сделай по закону, это твой долг». Мы говорим: «Сделай вопреки закону, и я тебя отблагодарю». Они говорят: «Победа или смерть». Наш девиз: «Победа ради жизни, а не жизнь ради победы». К чему победа, если умрешь? Горечь поражения можно переждать — все придет к тому, кто умеет ждать. — Леший говорил спокойно, твердо, убежденно, неторопливо.
— А кто это мы? — спросил вкрадчиво Колунков, когда старик умолк.
— Мы это мы, — усмехнулся в зеленую бороду старик, — те, кого я представляю…
— Да–да, ясно! — задумался Олег, потом глянул на Лешего. — И это все? Такая малость…
— Но эта малость в корне меняет все… Я знал, что ты примешь наши принципы. Знал… Тебе нужно уезжать отсюда. В Москву! Там тебя ждут слава, успех. За пропиской и работой не гонись. Тебе нужна роль бедного, неустроенного, гонимого. Всегда найдется женская душа, которая приютит, пригреет бедного поэта…
— Я так давно не писал стихов, — с тоской вымолвил Олег.
— А что ты бормотал, когда по тайге бродил? — лукаво фыркнул Леший, давая понять, что ему все известно.
— Это так, бред… — смутился Олег.
— Не бред, не скромничай! Ты искал путь к новой поэзии… Считай, что ты его нашел. Это не бред — новая форма самовыражения, новая образность, новый взгляд на мир, на все, что тебя окружает… Возьмем море! Сколько великих поэтов писало о нем! Сколько создано великолепных строк! С чем только море не сопрягали! С чем не сравнивали. Можешь ты написать о море что–нибудь оригинальное?
— Нет, не могу, — честно признался Колунков.
— А я говорю, можешь! Вернее, сможешь, когда тебе станет все доступно.
— А когда мне станет все доступно? — осторожно спросил Колунков, чувствуя, как заволновался, как кровь застучала в виски.
— Ты же знаешь, что мне нужно, — хитренько улыбнулся Леший и захихикал по–детски, затряс зеленой бородищей.
— Моя душа? — выдохнул Колунков и уставился на Лешего, затаив дыхание.
— Ну-у, — сморщил нос Леший, смухордился, отвернулся разочарованно, словно огорчил его сильно Колунков своей недогадливостью. — Зачем мне твоя душонка? Держи ее при себе…
— А что же? Что же? — нетерпеливо придвинулся к зеленому старику Олег, радуясь, что душа останется при нем, но одновременно царапнуло немного, что душа его, оказывается, такая дешевка, что даже нечистому не нужна. Колунков дрожал, руки его тряслись так, что он вынужден был сунуть их между колен, которые, впрочем, тоже ходили ходуном, и сильно зажать их.
— Ша! Неужели ты такой недогадливый? Не верю, ох, не верю, — вздохнул Леший, и ветви затрепетали, закачались от его выдоха, зашелестели, посыпались желтые листья с березок.
— Понял, понял! — откачнулся Олег, вытирая ладонью взмокший лоб.
— Да, да, — подтвердил ласково Леший. — Совесть!
— Ну–да, верно, — забормотал, не глядя на него Колунков, забормотал как бы сам с собой, — совесть мешает творить… Ученые давно поняли: непременная черта гения — отсутствие угрызении совести… Зачем мне совесть… — и, словно вспомнив о чем–то, быстренько обратился к Лешему, который по–прежнему ласково и хитренько щурил зеленые глазки, удивительно маленькие на его большом волосатом лице. — А как ты докажешь? Совесть получишь, а мне! — Колунков сунул кукиш Лешему в нос и захохотал: — Ха–ха–ха! Не на того напал! Докажи…
— А как тебе доказать? — с готовностью и, кажется, с удовольствием подхватил старик.
— Доказать?.. А вот так… Море, море, найди мне новый поэтический образ моря, сравни с тем, с чем никто никогда не сравнивал, а! Каково? Ха–ха–ха! — Колунков обрадовался, словно он уел Лешего так, что тот навсегда стушуется.
Но Леший подхватил его смех, говоря:
— Это же пустяк! Давай вместе… Вспоминай, с чем обычно сравнивали море, ну?
Колунков задумался, стал вспоминать строки Пушкина, забормотал тихонько:
— Когда, бушуя в бурной мгле, играло море с берегами…
— Да–да! — подхватил Леший. — Прекрасно море в бурной мгле!
— Как я люблю твои отзывы, — морщил лоб, с трудом вспоминал Колунков, — глухие звуки, бездны глас, и тишину в вечерний час, и своенравные порывы!
— Точно! — обрадовался Леший. — И сколько бы ты ни читал, всегда: и блеск, и тень, и говор волн… Море синее, море шумное, море сильное, неразумное.
— Это кто?.. Не помню… Море синее, море шумное…
— Это я! — хохотнул Леший, и куст рядом с ним зашумел, согнулся от порыва ветра. — Не тебе же одному море воспевать! Помнишь, как ты писал в семнадцать лет: я моря не видел, мне море не снилось… Я вырос в тамбовской деревне степной. Но слушал я песни о вечности синей, и сердце мое наполнялось тоской…
— Хватит! — перебил Олег. — Было, было, грешил, повторял за другими, а что ты нового предложишь? С чем сравнишь?
— А ты сравни море… — зашептал таинственно старик.
— С чем? — дрожа вытянулся навстречу Олег с таким видом, словно от того, с чем сравнит море Леший, зависит его жизнь.
— Со свалкой! — ахнул старик. — А? Каково?
— Со свалкой? — съежился Колунков, передергиваясь от озноба. — Ново… Но свалка и море… как–то… не вяжется. Две вещи несовместные…
— Ха–ха–ха! Несовместные! — Ветер пронесся по лесу. Забились, зашумели деревья.
— Ты потише, — попросил Олег. — Зябко… и уши болят.
— Ладно, ладно, — сбавил тон Леший. — Говоришь, несовместные? А ты был хоть раз на берегу моря? Не видел разве, что в волнах качаются бутылки, банки, пакеты, презервативы… Разве это не свалка?
— Но это проза, проза…
— Шучу, — серьезно сказал старик, поглаживая бороду морщинистой рукой. — Я же не прошу тебя сравнивать море со свалкой промышленных отходов, ты сравни ее со свалкой стружек из нержавейки.
— Стружек, — задумался Колунков и повел пальцем, делая плавные зигзаги, словно рисуя волны. — Хорошо! Синие–пережженные, и блестящие, как пена на солнце. Верно, верно! Ново и здорово! — восхитился он, но что–то беспокоило, не удовлетворяло, и он понял что: — Хорошо, но мысль какая, мысль где?
— То дай тебе образ, то дай мысль! — рассердился Леший. — Ты хочешь, чтоб я тебя за твою гнилую паршивенькую совесть сделал Пушкиным? Может, тебе псевдоним взять Олег Пушкин. А?.. Образ дам, а мысль нет! Мыслей каждый добивается в одиночку. И через страдания, через муки! Мысль из пальца не высосешь, из пальца вычмокивать можно свалки рулей, пирамиды — люди–гниды. И чем непонятней, тем лучше! Прочтут, скажут: непонятно, а здорово… Ты же знаешь, что в наше время развитого алкоголизма каждый десятый ребенок родится дебилом, каждый десятый! А сколько в промежуточном состоянии, кого ни дебилом, ни нормальным не назовешь. Им тоже нужны свои стихи, своя музыка — брейк, рок–перескок… Нет, нет, ты молчи, не заносись! Скажешь, не знаешь, что всего два–три поэта нужны времени, и всё, дорогой мой, и всё! Задача остальных стихослагателей — обслуживать население. Да–да, и это почетная миссия! И за это им слава и деньги! А поэты, хе–хе, поэты прозябают в бесчестии и нищете, спиваются… Ну кто такой был Рубцов? Алкаш, ничтожество грязное и оборванное. Кто его знал? А слава кому? Деньги кому? Кто в английских костюмах? Кто по заграницам? Ты сам все это знаешь… И я освобожу тебя от совестишки, дам только второе. Я научу, как ухватить славу за хвост, деньги дам, у тебя есть все для этого. Вспомни себя семнадцатилетнего, вспомни свои строки: «…я люблю те стихи, что еще не написаны мною, те стихи, что вообще написать никогда не смогу, и случайный мотив, что опять обошел стороною, только пальцы обжег, да еще поманил на бегу. И опять по весне нас мучительно тянет из дома… И о боли вчерашней застывшую память гоня, я люблю всех друзей, что со мною еще не знакомы, и любимых моих, что еще не встречали меня…» Ну разве можно этими стихами обратить на себя внимание? Все просто, ясно, понятно. Ничего нового, шокирующего, экстравагантного! Есть, конечно, ритм музыкальный, завораживающий, но не новый, БУ — бывший в употреблении, есть настроение, чистота юношеская чувствуется, душевность. Вот ту душу твою я бы с наслаждением купил, хо–хо–хо, — хохотнул сдержанно Леший, помня о просьбе Колункова говорить потише. — Все у тебя есть, бери ритм этот мягкий, бери настроение, а слова соединяй самые неожиданные, чтоб шокировали, чтоб ахнул тот, кто прочтет! Объявляй всем, что это поэзия будущего, новая волна, которая смоет косную бескрылую поэзию. Напора больше, наглости! Говори и поступай так, как этого не допускает мораль. Делай то, что кажется людям невозможным, невероятным. Никто не поверит, что ты способен на слова и поступки, на которые они не способны. Говори и поступай уверенно, агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного. Не важно, что ты говоришь, важно, как говоришь. Наглость, напор, самоуверенность назовут убежденностью, амбицию воспримут как возвышенность ума, манеру поучать и поправлять — как превосходство. Пусть ломают голову в поисках мыслей в твоих стихах, пусть ищут и находят в них то, чего там нет… Нет, не бойся, никто не поймет, что за словами в стихах ничего не стоит. А если кто поймет, критикнет, это камень в твой пьедестал, всегда можно крикнуть, что зажимают, душат истинную поэзию… И печататься не рвись! Эстрада, эстрада — мать славы! При чтении вслух ритм важен, а не смысл… Но в журналы носи, предлагай, делай вид, что бьешься, а тебя не пускают.
— А если возьмут?
— Хе–хе, возьмут, конечно, будут брать. Но ты забыл о редакторском зуде, обязательно найдут, что поправить. И Достоевского правили, Гоголя правили… Решают–то несколько человек: один не тронет стих, другой, а третий, чтоб показать, что он, начальник, в поэзии тоже разбирается, что–нибудь да подчеркнет, а ты ни слова, ни запятой не отдавай! Гордость выказывай, превосходство свое! И выкинут стихи из номера… Выбросят, выбросят, ведь начальник подчеркнул. Нет дураков из–за какого–то одного твоего слова паршивого ссориться с начальством. Ты видел объявление на заборах: требуются редакторы? И я не видел… Выкинут стихотворение — новый камень в пьедестал: зажимают, мол, хода не дают, завистники!.. А с эстрады шпарь и исподволь рассказывай слушателям, как зажимают, как выхолостить хотят твою поэзию чиновники, но ты ни строчки бюрократам не уступишь! И книжечку показывай, вот, мол, писал в детстве, как все, печатали, а стал по–своему говорить, нашел свой язык, завистники чиновники–графоманы заели… Год–другой, и легенды пойдут…
Колунков слушал жадно, веря и не веря Лешему, и, когда лохматый старик запнулся на мгновение, спросил шепотом:
— А нельзя, как Рубцов…
— Хэ, — хмыкнул Леший, то ли огорченно, то ли удовлетворенно. — Не могу! Не дано… Как говорится, не моя епархия! Не туда обратился…
— Это я так, — быстро бросил Олег, опасаясь, что Леший обидится. — Я согласен… Но я, наверно, что–то должен сделать… Ну, чтоб совесть… убить…
— Да–да–да, сделать! И сделать такое, чтоб навсегда убедиться, что совести у тебя нет! Сделать самое страшное, на что способен человек без совести. Иначе ты в себя не поверишь! Иначе будут возвращаться к тебе клочки совести и душить тебя, душить. Совесть ты должен отдать мне раз и навсегда…
— А как, как? — снова начал дрожать Колунков.
— Ты сам должен назначить цену, и самую высокую… выше не должно…
— Пролить кровь? — выдохнул Олег в горячке и закачал головой, понимая, что угадал.
— И близкого человека, — подсказал Леший.
Олег сидел, раскачиваясь всем телом, словно пытался унять боль. На Лешего он не смотрел, Раскачивался так долго, потом остановился, хитренько посмотрел на старика, на его бороду и волосы с прозеленью от старости, на руки, морщинистые, словно были они в темно–зеленых замшевых перчатках.
— А ты знаешь? — прошептал Олег, еле шевеля губами. — Ближе тебя у меня никого нет… нету теперь…
Он схватил топор, торчавший в земле рядом, вскочил, как пружиной подброшенный, и острием топора врезал Лешему в косматую голову. Топор смачно, со стуком впился в череп Лешего, но крови не было, а Леший хохотнул коротко, будто Колунков щекотнул его. Олег вырвал топор и бил, бил, бил Лешего по голове, только щепки летели. Бил до тех пор, пока не услышал чей–то голос сзади. Услышал, опустил топор, оглянулся.
— Зачем ты дерево губишь? — спросил Андрей Павлушин, подходя. — Привет!
31
Олег перебросил топор в левую руку, поздоровался энергично, вытер лоб кепкой и взглянул на изуродованный ствол кедра. Топор в его руке дрожал. Но рад был Колунков появлению Павлушина несказанно, просто распирало от внезапно охватившей радости.
— Я с новостями, — говорил Павлушин, вглядываясь в потное бледное лицо Олега. — Не знаю, как ты отнесешься, но я рад, рад за тебя… Василиса приехала. За тобой… Пошли собираться…
— Ха–ха–ха! Василиса, ха–ха! — закатился, залился Колунков. Он аж присел на корточки от хохота, потом вообще сел на землю, бросил топор и стал стукать кулаком по мягкой земле. Так же неожиданно, как захохотал, он умолк и глянул снизу вверх на Павлушина. — Врешь!? — Глаза его сузились, как от испуга. Он заговорил быстро, просительно: — Она одна приехала, одна? Без Дениски, скажи?! Ну!
— Одна, — удивился Андрей.
— Одна, — повторил радостно Колунков и задумался. — Одна — это хорошо, — удовлетворенно прошептал он. — Это хорошо… — смотрел он, прищурившись на болото, в одну точку, смотрел, все более оживляясь, словно увидел там что–то очень его заинтересовавшее.
Олег вытянул шею, вглядываясь, поднялся, прихватил с собой топор и на цыпочках пошел к краю болота, к тому месту, где, он знал, была бездонная топь. Андрей затих, тоже смотрел туда, но ничего не видел. Колунков у самого края остановился. Мох колебался под его ногами, шевелился. Остановился Олег, оглянулся и с таинственным видом махнул рукой Павлушину, подзывая. Андрей подошел к нему осторожно, стараясь не шуметь.
— Гляди, — прошептал еле слышно Олег, указывая на озерцо, покрытое плотным слоем желтоватой ряски.
Андрей ничего не видел: болото, как болото, спокойное, тихое.
— Не видишь? — прошептал Колунков, не оборачиваясь.
Павлушин помотал головой недоуменно.
— Ты присядь, присядь… гляди…
Андрей послушно присел, вытянул шею, и Олег коротко тюкнул его по голове острием топора, точно в центр кепки. Павлушин ткнулся в ряску, мягко, с таким звуком, словно мокрую тряпку бросили на пол. Голова Андрея погрузилась в мутную жижу, окрашивая ее в коричневый цвет. Колунков ногой подтолкнул тело Павлушина к озерцу и с улыбкой смотрел, как оно погружается, исчезает в болоте. Ряска тихонько колыхнулась, сомкнулась и успокоилась, словно и не было Андрея, только алеют две капли крови, капнувшие с топора, на желтоватом мху, как клюквинки после первого мороза, да окровавленный кончик топора напоминает о случившемся. Топор Олег кинул в озерцо. Он глухо блюкнул и исчез. Колунков наступил на капли крови на мху. Нога утонула, выступила вода. А когда он убрал ногу, мох, как поролон, поднялся. От крови и следа не осталось. Вода смыла. С удовлетворением огляделся Олег и бодро зашагал к избушке ханта. Покойно было на душе.
Собирался недолго. Кинул в тощенький рюкзачок последнюю бутылку водки, подержав ее в руках, соображая, сейчас раскупорить или по дороге, решил потом. Документы, деньги сунул в боковой карман, огляделся: скомкал лохмотья на топчане, скинул их на пол. Палкой притоптал, перемешал золу в печке. Чтоб не казалась свежей, кинул сверху на золу горсть мусора и присел на топчан перед дальней дорогой. Душа трепетала, рвалась начать новую жизнь! Надежда, нет скорее уверенность, что у него начинается иная пора, лучшая, та, о которой он мечтал в юности, засела в нем крепко. Он поднялся, бодрый, решительный, закинул за спину рюкзачок, гитару в чехле, взял в руки ружье, вышел из избушки и зашагал напрямик по тайге туда, где километрах в пяти отсюда проходила линия железной дороги.
Дошел, расположился в кустах под небольшим мостом, привалился спиной к бетонной стене и стал прислушиваться, ждать поезда. Ружье он все держал в руке, потом сообразил, что с собой его брать нельзя, и с сожалением кинул в речку. Сидел, ждал, ни мыслей никаких не было, ни чувств: одно тупое и чуть ли не равнодушное ожидание. Поезд рано или поздно должен пойти, мимо не пройдет. Тихо, дремотно, веки тяжелели, опускались. Сколько он так сидел, непонятно: задремывал, просыпался, снова задремывал, пока не услышал натужное тарахтенье тепловоза. Оживился, выглянул. Товарняк появился из–за поворота и медленно приближался. Шел из поселка Вачлор в Сургут. Олег снова присел к бетонной стене: машинист не должен его видеть.
Тепловоз, спокойно урча, прокатился над ним, стукая колесами на стыке рельс. Колунков вылез на насыпь, приладил удобнее рюкзак и гитару за спиной, глядел, как медленно катятся мимо вагоны, поднялся к самым рельсам. Выбрал издали катящийся к нему новый вагон с хорошими скобами с краю, примерился, ухватился за скобу, пробежался немного рядом, подпрыгнул на ступеньку и полез по железным скобам наверх, заглянул внутрь. Вагон, как и предполагал Олег, был пустой, видны на дне черные щепки, мусор от шпал, пахло креозотом. В вагоне привозили в поселок на звеносборку шпалы. Колунков перелез через борт и по скобам спустился внутрь.
Покачивался, поскрипывал вагон, выстукивал радостно: «В Москву! В Мос–кву!» Услышав это, Олег захохотал возбужденно: надул! Ох–хо–хо! Всех надул!
Он сел, грохнулся в угол вагона, довольный собой: и–ха–ха! Всех провел! И вдруг увидел, как в том месте, где он перелазил через борт вагона показалась то ли старая шляпа с помятыми обвисшими полями, то ли какой–то колпак, потом лохматая голова хиппи с зелеными глазами, с длинными спутанными, вероятно, лет пять немытыми и нечесаными волосами. Они сосульками торчали из–под дурацкого колпака. Этот хиппи проворно и ловко взобрался на борт и уселся на нем, свесив ноги и озорно поглядывая на смеющегося Колункова. Лукавая мордашка его сияла от удовольствия, словно он торопился повеселиться вместе с Олегом и доволен, что успел. Колунков сразу догадался, что этот озорник внук Лешего, Лешачок. Олег схватил большую щепку со дна вагона и махнул рукой, сделал вид, что запустил щепку в озорника. Лешачок дернулся в сторону, тоже сделал вид, что уклонился от летящей щепки. Они дружно заржали, довольные, что поняли друг друга, что они такие жизнерадостные весельчаки.
А колеса вагона неторопливо, уверенно стучали: «В Мос–кву! В Мос–кву!»
Эпилог
Вертолет летел над тайгой. Он изредка вздрагивал, мелко трясся, и Юрка Звягин в такие мгновения сильнее сжимал пальцами край сиденья. Он с опаской прислушивался к неровному гулу мотора и дребезжанью в углу салона за наваленными в кучу мешками, рюкзаками, топорами, бензопилой и другим инструментом, и ему казалось, что вертолет не выдержит тряски и развалится. Юрка Звягин смотрел в иллюминатор на плывущие внизу верхушки сосен, берез. То тут, то там по тайге синели озера и большими пятнами тянулись болота. Тень вертолета перепрыгивала через реки, скользила по деревьям и озерам. Где–то там вдали должен вскоре появиться поселок, существующий пока только на бумаге. И первыми жителями и строителями поселка будут они, десантники! Эти семь мужчин и одна девушка!
Напротив Юрки спокойно играли в дорожные шахматы его отец, бригадир Михаил Иванович Звягин и Сашка Ломакин. Рядом со Звягиным сидел высокий лобастый парень и внимательно следил за игрой, временами морщил лоб. Возле лобастого дремал бородатый мужик. Когда вертолет вздрагивал, голова его вяло покачивалась. Девушка сидела в уголке, старалась не смотреть в иллюминатор. К ней пересел парень, носатый, тонкогубый, с реденькими коротенькими усиками, улыбнулся доброжелательно, спросил:
— Никогда еще не летала в вертолете?
— А как ты догадался?
— За версту видно.
Сашка Ломакин, услышав разговор, поднял голову, взглянул на них и сказал Звягину:
— Помнишь, как восемь лет назад так же летели?
— Помню… Как отец–то?
— Пасеку завел. О язве забывать стал… Так-с, мы конем сюда скаканем. Шах вам, сэр!.. Летом я у него месяц провел. Накупался в Вороне…
— Н-да… Шажок мне… Так, а если мы сюда? Да, вот так!.. Разбрелись десантнички… А Павлушин с Колунковым так и сгинули… ни слуху, ни духу…
Гул мотора изменился, утих малость. Вертолет накренился немного, разворачиваясь.
— Прилетели, что ли? — оторвался от маленькой доски Звягин и глянул в иллюминатор.
Внизу расстилалась тайга, тайга, тайга без конца и края…
1978–1988 гг.
пoc. Ульт–Ягун Сургутского р-на, г. Москва
Зыбкая тень
1
— Красавец какой! — вполголоса сказала женщина своей спутнице, когда автобус, покачиваясь и поскрипывая, поворачивал на перекрестке. Стояли они на задней площадке возле прораба Виталия Трофимовича Маркелова.
— Тут, говорят, таких целый микрорайон будет, — ответила спутница.
Маркелов понял, что разговаривают они о новом доме, который на повороте стал виден в окно автобуса. Отделочными работами в нем руководил Виталий Трофимович. Дом под утренним солнцем был действительно хорош: белый, светлый. Издали не были видны забрызганные шпаклевкой стекла. «На балконах стены выкрасим в зеленоватый цвет, совсем расцветет!» — подумал Виталий Трофимович и хотел сказать это женщинам, но автобус затормозил, заскрипел, двери, шипя, распахнулись. Маркелов вышел на тротуар и еще раз взглянул на освещенный солнцем Дом. «Хорош! Хорош! И планировка хороша, не то что прежде строили!» — подумал он об устаревшем проекте, по которому до недавнего времени монтировал дома домостроительный комбинат.
Маркелов двинулся по тротуару мимо щитов с объявлениями и газетами. Возле одного из них, широко открыв застекленные рамы, парень прикалывал кнопками листок — объявление о розыске преступника. Несколько любопытных, ожидавших автобуса, стояли рядом. Парень закрыл рамы и отошел. Виталий Трофимович приостановился возле щита. У него были причины интересоваться уголовными историями. Между желтых, выцветших на солнце и известных Маркелову плакатов только что приколотый листок выделялся своей белизной. С размытой фотографии смотрел на Маркелова худощавый парень с коротко остриженными волосами. Облик его был знаком. Пораженный Виталий Трофимович не сразу оторвался от лица преступника, чтобы прочитать имя, а когда увидел черные слова: «Разыскивается особо опасный преступник Деркачев Дмитрий Иванович», у него перехватило дыхание. Шея одеревенела. Виталию Трофимовичу показалось вдруг, что разыскивается он, Маркелов и об этом уже догадались все: вывернут ему сейчас руки за спину и поведут в милицию. Неодолимо захотелось отойти потихоньку, на цыпочках, от щита и бежать, пока не скроешься. Маркелов сглотнул несколько раз, освобождаясь от внезапно подступившей тошноты, и стал читать дальше, надеясь узнать, что Деркачев совершил на этот раз. Но об этом не говорилось. Маркелов с Деркачевым смотрели друг на друга.
И был Деркачев точно таким, каким его запомнил Виталий Трофимович.
«Придет! Точно придет! — с тоской подумал Виталий Трофимович, отходя от щита. — За деньгами ладно бы, отдам хоть все… Как бы отсиживаться не пришел!» Вдруг вспомнилась ему Лида, жена, вспомнилось, как утром за завтраком отчего–то грустно стало, когда он увидел дочурку Леночку, заспанную, в длинной ночной сорочке — она босиком шлепала по паркету, направляясь в туалет, и остановилась перед дверью, глядя на него прищуренными спросонья глазами. Грустно стало, словно в командировку собирался. Никогда с ним такого не было. Нехорошо это! «Не предчувствие ли встречи с Деркачевым? — думал Маркелов. — Придет! Нужно приготовить деньги!..»
Познакомились Деркачев с Маркеловым пять лет назад в милиции. Оба попали в изолятор первый раз. Обстановка там была им одинаково непривычна. Оба сторонились шумных, старающихся казаться бывалыми, временных соседей. Чтобы не быть в одиночестве, потянулись друг к другу… Прораб Маркелов попался на краже линолеума, а Деркачева обвинили в ограблении колхозной кассы. Когда стало ясно, что Деркачеву не выпутаться, а Маркелова управление возьмет на поруки, Деркачев рассказал новому приятелю, где спрятал довольно большую часть денег из колхозной кассы. Рассказал потому, что опасался, что до его выхода из колонии денег в тайнике не окажется. Ненадежное было место. Прятал впопыхах. Маркелов мог пользоваться теми деньгами, но вернуть должен был половину по первому требованию Деркачева. Виталию Трофимовичу деньги тогда были нужны.
Маркелов весь день на работе нервничал, не покидало ощущение, что за ним наблюдают, постоянно хотелось оглянуться. И он не выдерживал, оглядывался. На другой день, в четверг, тревога притупилась стала отпускать, а в пятницу утром начальник потребовал, чтобы он обеспечил работу в выходной день, в субботу, иначе отделку дома в срок не закончить. Виталий Трофимович, бегая по этажам, забыл о Деркачеве, забыл о своей тревоге.
2
Начальник уголовного розыска Батурин вызвал к себе оперуполномоченного Морозова. Когда тот вошел в кабинет начальника, там сидел парень: аккуратный пиджак, галстук.
— Познакомься, Валерий Григорьевич! — сказал Батурин Морозову, и парень быстро поднялся. — Николай Егорович Чистяков, оперуполномоченный, пока по документам, а настоящего оперуполномоченного из него должен сделать ты!
— Сделаем! — усмехнулся Морозов, пожимая руку Чистякова.
Лицо парня ему понравилось: энергичное, волевое, взгляд доброжелательный.
— Это одно! — продолжал Батурин и указал рукой на стул: — Садись… Не успели мы объявление о розыске Деркачева вывесить, как вот, первый сигнал! — Батурин поднял над столом листок из школьной тетради и заглянул в конец письма. — Гражданка Стыркина пишет, что видела Деркачева возле кинотеатра «Зенит» с женщиной в розовом сарафане. Мужчина высокого роста, кареглазый, нос прямой, лоб высокий, коротко остриженный, худощавый… с усами… Приметы совпадают, а усы отрастить недолго… Как видите, Валерий Григорьевич, Деркачев объявился у нас… к сожалению, конечно… Раньше занимался им ты, займись снова…
Николай Чистяков слушал Батурина с деловым видом, чуть нахмурив брови, старался не пропустить ни слова. Начальник уголовного розыска был похож на учителя истории, перед которым Чистяков сильно робел в школьные годы и всегда смущался, когда учитель обращался к нему, хотя говорил он ровным, даже ласковым голосом. Батурин говорил точно так же, неторопливо и обстоятельно, словно объяснял новую тему урока.
— Сомневаюсь я, чтобы такой неглупый человек, как Деркачев, полез в город, где можно знакомых встретить и погореть, — сказал Морозов, подставляя руку под прохладную струю воздуха от вентилятора, который, тихонько урча, поворачивал, свою белую голову то к Батурину, то к нему. — По таким приметам и меня за Деркачева принять можно: нос прямой, глаза карие, лоб высокий, рост выше среднего…
— Верно!.. Но давай размышлять! Давай поставим себя на место Деркачева… Допустим, мы с тобой взяли кассу. Я ушел с деньгами, а ты попался и рассказал все обо мне. Объявлен розыск. Что мне делать? Что бы ты стал делать на месте Деркачева, Николай Егорович? — обратился Батурин к Чистякову.
Николай не ожидал вопроса, смутился, но быстро нашелся:
— Пришел бы с повинной!
Батурин и Морозов засмеялись.
— Приходят, приходят после объявления всесоюзного розыска, но на это надеяться не надо…
— У меня было бы два варианта, — серьезно сказал Чистяков. — Первый — перейти на нелегальное положение и второй — купить документы на другое имя!
— Верно! И что бы ты выбрал из двух версий, Валерий Григорьевич? — взглянул Батурин на Морозова. — Характер Деркачева тебе известен!
— Второй, конечно!.. У него были документы на другое имя, почему же и снова там не достать?
— Там уж нельзя! Доставал Деркачеву его сообщник…
— Но я могу купить в другом городе, зачем мне соваться в Москву, где я учился?
— Где? Ты когда–нибудь читал объявление: продаются, мол, документы, — пошутил Батурин. — Деркачев с преступным миром связан не был. Это тобой установлено! Конечно, он мог узнать адреса, когда отбывал срок. Познакомился он с сообщником там… Мог. — Батурин вспомнил о Штрохине, заводском художнике, который был судим несколько лет назад за изготовление фальшивых документов, и спросил: — В каком Деркачев институте учился?
— В художественно–промышленном…
— А Штрохин?
— Там же!
— Проверьте, не однокурсниками ли они были?
— Нет–нет! Деркачева перед судом с третьего курса отчислили, а Штрохин в то время уже срок отсидел. Диплом у него был.
— Но исключать возможность, что они были знакомы, мы не можем! А если были знакомы, почему бы Деркачеву не рискнуть, не приехать к нему?
— Он ведь мог еще и до объявления розыска купить у Штрохина документы и умотать отсюда.
— Мог, мог, конечно. Но мог и подождать: объявят или не объявят розыск. Он ведь не знал, остался жив сообщник или умер. Выдал он его или нет? Версий много! А вот перед нами сигнал, — указал Батурин на письмо в руках Морозова. — А как Штрохин поживает?
— Ничего подозрительного… Говорит, что с прошлым распрощался…
— А где деньги взял на машину? Проверили?
— Мать у него в деревне умерла… На сберкнижке у нее мелочь была, но он утверждает, что мать сберкассе не доверяла. Дома держала деньги. Проверить нельзя. Да и заказ он солидный для завода перед праздником делал…
— Хорошо! Установите наблюдение за квартирой и дачей Штрохина. Там мы можем Деркачева встретить… Действуйте!
— Вы с Деркачевым знакомы? — спросил Николай, когда Морозов привел его в свой кабинет.
— Знаком! Дружок мой закадычный! — усмехнулся Валерий Григорьевич, располагаясь за столом и доставая папку из ящика. — Лет пять назад он в колхозе сейф вскрыл. Меня к тому делу подключили… Повозиться пришлось… А теперь опыта набрался, легко не дастся!.. Если он вообще в нашем городе. К кому он сюда мог приехать? Действовал раньше в одиночку. Бывшие знакомые его — порядочные люди. Вряд ли кто осмелится скрывать его у себя. А вообще–то, черт его знает, человек он темный! В хорошем институте учился, мог бы художником стать. Все данные были! Я интересовался. Преподаватели в один голос утверждали — талантливый парень! А он стал таскаться по колхозам, халтуру искать и доискался до сейфа. И все, что взял, за две недели спустил!
Морозов, рассказывая, пробил две дырки в письме Стыркиной и вложил его в папку–скоросшиватель вместе с объявлением о розыске Деркачева.
— А теперь что он сделал?
— В Сибири зарплату большого завода взял. Хорошо, что на этот раз был не один. А то б нам его не искать… — Валерий Григорьевич достал из ящика стола фотокарточку и обратился к Чистякову: — Слушай, Николай… — он запнулся. Называть по отчеству парня почему–то не стал. — Слушай, Николай, отнеси–ка фотографию Деркачева в лабораторию. Пусть срочно размножат… Вечером мы ее по ресторанам и танцплощадкам развезем. В таксопарк тоже нужно занести… Человек он общительный, любит погулять, повеселиться. Если он в городе, то долго в норе не просидит. Официанты и таксисты не раз помогали нам в таком деле.
3
На втором этаже Маркелов встретился с маляром. Девушка несла в ведре зеленую краску для панелей.
— Люба, ты точно выходишь завтра? — по инерции спросил Виталий Трофимович.
— Я — Люда, — поправила его девушка. — Я же обещала, значит, выйду!
— Да–да, Люда, извини, я уж совсем закружился сегодня!
Девушка повернулась и пошла к открытой двери двухкомнатной квартиры, но возле порога остановилась и сказала:
— На улице вас парень какой–то ищет… Вот он, смотрите! — указала она в окно лестничной клетки.
Виталий Трофимович нахмурился, нагнулся, чтобы посмотреть в низко, над самым полом расположенное окно, кто его ищет. О Деркачеве он забыл и решил, что снова пришел Витька Заварзин, бывший приятель по строительному техникуму. Витька жил в зятьях. С женой не ладил. Сегодня она в очередной раз выставила его за дверь. Заварзин приходил утром к Маркелову, просился пожить недельку. Он знал, что у Виталия Трофимовича трехкомнатная квартира. Место есть. Но Маркелов не пустил, сказал, что у него живет теща. Теща у него не жила, а отказал он потому, что Заварзин был бабником. Поэтому и с женой не ладил. Маркелов боялся, как бы Витька не стал приударять за его женой. Виталий Трофимович с раздражением думал, как ему отвязаться от Витьки. Но от прорабской к подъезду уверенным шагом шел парень в розовой сорочке и джинсах, совсем не похожий на Заварзина. В руках «дипломат». Что–то знакомое было в облике парня. И чем ближе он подходил к подъезду, тем тревожнее становилось Маркелову. Когда парень быстро метнул взгляд влево–вправо, Маркелов вспомнил: «Деркачев!» — и отпрянул от окна. На мгновение перехватило дух. Виталий Трофимович, осторожно ступая по лестнице, поднялся на один пролет, потом кинулся вверх, стараясь как можно бесшумней опускать ноги на ступени. Так бежал он этажей пять, пока не задохнулся. Остановился и, переведя дыхание, стал прислушиваться. Сердце разрывалось у самого горла.
— Девочка, ты Маркелова не встречала? — услышал он через минуту.
— Сейчас только наверх побежал!
Виталий Трофимович сразу сник, оперся на забрызганные шпаклевкой перила, потом встряхнулся и неожиданно спокойно и деловито отправился вниз. Встретив звеньевого плотников, остановил его и громко сказал:
— Саша, у вас клеймера не прибиты на чердачной двери. Срочно надо сделать! Не забудь!
Показался парень. Он неспешно поднимался по ступеням. Увидев Маркелова, улыбнулся и пошел навстречу. А Виталий Трофимович разговаривал с плотником, не обращая внимания на Деркачева, хотя каждый его приближающийся шаг давил и давил на него. Но ничем не выдал этого Маркелов.
— За клеймерами надо вниз бежать, в будку. Может, завтра, с утра? Зачем сейчас время тратить? — возражал плотник.
— Нет!.. Выход на чердак и на крышу сегодня ночью должен быть на замке!
Парень остановился в двух шагах от них и, когда плотник недовольно взял ящик и двинулся вниз, обратился к прорабу:
— Извините, вы Маркелов?
— Он самый! — повернулся Виталий Трофимович к нему и стал разглядывать Деркачева. — Где–то встречались, а где не припомню, — улыбнулся он. — Вы не из газеты?
— Почти угадал! — усмехнулся Деркачев.
— Дима! — воскликнул Маркелов и радостно шагнул к нему, протягивая сразу обе руки.
— Дима, Дима! — ворчливо заговорил Деркачев и кинул взгляд на плотника, который, спускаясь, оглядывался на них.
Они вошли в комнату.
— Значит, не забыл? А я боялся, что напоминать придется, — сказал Деркачев.
— Долги свои я хорошо помню… Вернуть готов хоть завтра!
— Давай лучше не вспоминать о нем. Я не за этим… Нора мне нужна недельки на две. Отсидеться! И будем квиты!
Виталий Трофимович отвел глаза в сторону и стал дрожащими руками шарить по карманам в поисках носового платка. Потом он торопливо и нервно вытирал вспотевшую шею и лоб и говорил:
— Понимаешь, я бы с удовольствием… Тем более, помня… Ну сам понимаешь… Я сейчас ничего не имею с тем, прошлым… Дурость то была… Понимаешь, семья у меня… Жена, дочка… Кабы я один, то с удовольствием… Прости, друг, не могу… А деньги я верну! Все!.. И теща у меня сейчас… Не надо лучше, а?
Деркачев насмешливо следил за Маркеловым.
— Читал уже?
Виталий Трофимович ничего не ответил, только вздохнул.
— Взгляни–ка, похож я на того, кого ищут?
Маркелов глянул на Деркачева и тут же отвел глаза, ничего не ответив. Общего было мало, можно сказать, ничего не было.
На фотокарточке был коротко остриженный парень с пустыми глазами и с неестественно откинутой назад головой, а перед Виталием Трофимовичем стоял молодой человек с модной аккуратной прической, с живыми глазами, в глубине которых теплился слабенький оттенок грусти, особенно ощущавшийся, когда Деркачев улыбался.
— Ну, похож или нет?
— Нет, — качнул головой Маркелов.
— А на преступника похож?
Маркелов снова отрицательно мотнул головой.
— Теща у тебя не живет! В трехкомнатной квартире найдется для меня уголок на две недели. Жене скажешь, что я приехал из другого города. Ясно? Выходить из квартиры буду не часто. За один день плачу «стольник». Где бы ты еще такого квартиранта нашел, а?
— Понимаешь, я не этого боюсь.
— Ну, что еще? — недовольно спросил Деркачев.
— Семья у меня… жена, дочка…
— Знаю! Ну и что? — перебил Деркачев. — Боишься что ли, как бы я к жене не подвалил? Спи спокойно!..
4
Домой с работы ехали в автобусе. На душе у Маркелова было тягостно. Вся налаженная жизнь, все счастье семьи его висит на волоске. Любой неосторожный шаг квартиранта мгновенно разрушит все. А как неосмотрительно ведет себя Деркачев! Вместо того чтобы не привлекать внимания людей, влез в разговор с девчатами–малярами, которые были в автобусе, и рассыпается перед ними. На черта они ему сдались! А тем только дай похохотать. Виталий Трофимович стал прислушиваться к разговору. Деркачев зубоскалил так складно, смешно, что даже Маркелов заулыбался и посмотрел на него впервые со стороны. «Он парень приятный, — подумал Виталий Трофимович с каким–то облегчением. — Перебьемся как–нибудь две недели… Дома только не усидит он, наверно. Человек общительный! Сколько он за день обещал — «стольник»? Сотню в день — это полторы тысячи почти за две недели. Видно, опять кассу грабанул?»
Выйдя из автобуса, Деркачев весело помахал девчатам рукой, потом увидел гастроном рядом с остановкой и потащил туда Маркелова. Купил коробку конфет, шоколадку и бутылку шампанского. Деркачев был в хорошем расположении духа. Теперь, думал он, есть где переждать, пока не найдет новые документы. А потом можно будет вычеркнуть Деркачева Дмитрия Ивановича из списков и начинать новую жизнь.
Не успела открыться дверь в квартиру Маркелова, как раздался звонкий, чуть картавый по–детски голосок:
— Папа пришел!
Виталий Трофимович ежедневно слышал этот радостный возглас дочери. Но сегодня он воспринял его с грустью, словно перед разлукой, и подумал, что Лида поймет по его виду, что у него что–то неладно, и подтянулся, приободрился. Он пропустил вперед Деркачева. Девочка разбежалась навстречу, но, увидев незнакомого человека, остановилась и оробела.
— Что же ты застеснялась, а? — ласково заговорил Деркачев. Он поставил «дипломат» на пол и присел на корточки: — Ну, иди ко мне. Иди! Не бойся!
Девочка взглянула на отца. Он улыбался. Тогда она нерешительно подошла к Деркачеву. Он взял ее на руки, ласково приговаривая:
— Ну вот и молодец!.. Как тебя зовут, а?
— Лена, — тихо ответила девочка.
— Аленка, значит! А меня — дядя Дима! Ну вот и познакомились! Дядя Дима тебе конфеты принес и еще что–то, — Деркачев присел с девочкой на руках возле «дипломата», свободной рукой откинул крышку, вытащил коробку конфет и отдал девочке, потом спрятал шоколадку за спину. — Что у меня в руке? А?
Коробку конфет Лена взяла с удовольствием и потянулась через плечо посмотреть, что он прячет в руке за спиной.
— Э-э, не подглядывать! — засмеялся Деркачев.
— «Аленка»! «Аленка»! — вдруг звонко завизжала Лена.
— Смотри–ка, сразу угадала! — удивился радостно Деркачев и протянул девочке шоколадку.
— «Аленку» она любит больше всего, — ответил Виталий Трофимович, снимая туфли.
Он достал тапки из шкафа, стоявшего в коридоре, и бросил на пол возле Деркачева. Наблюдая за дочерью и Деркачевым, он думал: «А говорят, что дети прекрасно чувствуют людей и никогда не пойдут на руки к плохому… Может, просто Лена у нас такая ручная? Вроде бы не к каждому она раньше шла. А с ним ишь сразу освоилась!»
Лида все не выходила из комнаты, хотя, вероятно, слышала, что он пришел не один.
— Лида, у нас гости! — позвал Маркелов.
Слышно было, как в спальне торопливо захлопнулась дверь шкафа, и Лида ответила:
— Я сейчас!
А Деркачев продолжал разговаривать с Леной, которая с довольным видом крутила в руке шоколадку, а другой прижимала к груди коробку конфет «Ассорти».
— Похожа на тебя Аленка? — спрашивал Деркачев. — Ну–ка, давай посмотрим… Смотри–ка! Прямо как с тебя написана!
Дверь спальни открылась, и вышла жена Маркелова, поправляя на ходу прическу. Она была небольшого росточка, полненькая, но нельзя сказать, чтобы чересчур, вся какая–то чистенькая, беленькая. Выйдя из комнаты, она заговорила виновато:
— Ой, извините меня! Я как раз переодевалась!
— Ничего, ничего… — почему–то смутившись, пробормотал Деркачев. От звука голоса Лиды у него на душе стало как–то тепло и покойно. «Понятно теперь, почему Маркелов не хотел, чтобы я у него жил!» — подумал он.
— Лида, это мой товарищ по техникуму. Он из Белгорода… Недели две у нас поживет...
— Конечно!.. Места хватит! — проговорила Лида, подходя знакомиться.
Деркачев назвал себя, все еще чувствуя неловкость, словно он в грязных сапожищах ввалился в комнату на ковер. Девочка отдала матери конфеты, а потом и сама потянулась к ней.
— Проходите в комнату… Я сейчас поесть приготовлю, — сказала Лида и взяла девочку, потом обратилась к мужу: — А у тебя на работе как? Все наладилось?
— Куда там! — хмуро махнул рукой Маркелов. — Завтра, в субботу, работать…
5
Деркачев вошел в комнату и остановился на пороге, удивленный. Такой комнаты он еще никогда не видел наяву: только в мечтах да в кино. Она, казалось, сама излучала приятный голубоватый свет. На стенах был нанесен колер какого–то необычного голубого небесного цвета, окно закрывали нежные капроновые шторы, портьеры были того же голубоватого цвета. На полу лежал большой ковер, в углу на тумбочке цветной телевизор. Высокая, под потолок, импортная стенка с резной инкрустацией на дверцах. Софа с накинутым на нее ковром у противоположной стены. Над софой третий ковер, поменьше. В одном из отделений стенки серебрился панелью японский магнитофон. Два глубоких кресла возле журнального столика со статуэткой, изображающей купальщицу, которая с берега пробует ногой воду: не холодна ли?
— Проходи, что ты остановился? — пригласил Маркелов.
Он заметил, какое впечатление произвела комната на Деркачева, и это приятно отозвалось в груди. Они сели на софу. Но Деркачев тут же поднялся, прошелся по ковру туда–сюда, словно пробуя, хорошо ли ходить по нему, потом остановился напротив книжного шкафа и окинул взглядом корешки книг. Здесь были в основном собрания сочинений зарубежных классиков. В комнату вбежала Лена, и Деркачев повернулся к ней.
Маркелов молча наблюдал за ними. Он заметил, что Деркачев возится с Аленкой не от скуки, а потому, что это нравится ему. И еще заметил Маркелов, что глаза Деркачева, когда он разговаривал с девочкой, становились печальными и влажными. «Э-эх, дружок, видать, надоело шататься. Тянет к семье, к деткам!» — подумал Виталий Трофимович. Он встал, включил магнитофон и обратился к дочери:
— Леночка, спляши! Спляши дяде Диме…
Девочка посмотрела на Деркачева. Он отпустил ее.
Она выбежала на середину ковра, остановилась и хлопнула ладошками в такт музыке, потом стала притопывать ногами, вдруг ловко повернулась на месте и стала плясать.
— Молодец ты какая! — воскликнул Деркачев.
А девочка все плясала. Споткнулась и села с размаху на ковер. Довольный отец подхватил ее на руки и стал целовать.
Скажи дяде, кем ты будешь, когда вырастешь?
— Артисткой, — картавя, ответила девочка, повернувшись к Деркачеву.
— Ах ты, артисточка моя! — вновь стал целовать дочь Маркелов.
Лида позвала на кухню. За столом разговорились. Лида расспрашивала Деркачева о его жизни, о семье. Маркелов нервничал. А Деркачев врал, что развелся с женой, что у него тоже дочка есть, только чуть–чуть постарше Леночки.
— Жили мы с женой вроде хорошо, — теребил Деркачев бумажную салфетку и говорил медленно, словно заново переживая прошлое. — Лучше, наверно, некуда! Дочка родилась… Я, когда уезжать из города собрался, три дня дежурил в телефонной будке возле тещиного дома, ждал — не выведут ли ее гулять! Посмотреть хотелось, хоть издали… Все было хорошо, пока жена на другую работу не перешла. Полегче, говорит! Я уж не заметил, как подружки у нее новые появились. Грубая она какая–то стала, недовольная всем… Я хватился, а изменить уж ничего нельзя… И разошлись… А развелись — все из рук валиться стало… В комнате тоска заедает, а выйдешь погулять, куда ни повернешься, вспоминаешь — там сидели, здесь гуляли, там целовались! Глупость всякая в голову лезла — витрину разбить или с милиционером подраться, чтоб в тюрьму попасть… Потом решил уехать… Может, здесь где устроюсь…
Деркачев замолчал.
— Да-а! — вздохнула Лида. — Никогда не знаешь, откуда ее ждать, беду–то…
Деркачев грустно и неотрывно смотрел в одну точку, на тарелку с сыром, нарезанным тонкими ломтиками. Лида со страданием глядела на него, не зная, как деликатнее оторвать Деркачева от грустных воспоминаний.
— Давайте допьем! — предложил Маркелов.
Деркачев пил шампанское неспешно, глотками, отхлебнет немного — и оторвется от бокала, отхлебнет — оторвется.
Зазвонил телефон. Маркелов вышел. Деркачев отвел взгляд от тарелки и посмотрел ему вслед. Слышно было, как Виталий Трофимович снял трубку и быстро ответил:
— Да! Здравствуй!
Затем наступила тишина, беспокойная долгая тишина. Нарушил ее приглушенный и взволнованный голос Маркелова:
— Ты же говорил тогда… Последний раз! А теперь опять?.. Я не могу… Пойми, не могу больше… И у меня гость сейчас… Может…
Маркелов замолчал. Через минуту покорно и устало ответил:
— Не забуду! Иду!
Он положил трубку, но долго не появлялся, потом вошел с сердитым и раздраженным лицом и развел руками:
— Опять двадцать пять! Этот дом из меня все жилы вытянет! И все из–за этой бездарности… На комбинат какая–то шишка приехала… Требует немедленно быть.,. Скоро из постели в полночь вынимать будут… Человека сколько не видел, поговорить не дадут. Ты уж извини, Дима, я постараюсь побыстрее. Может, через часик буду! Вы посидите еще… Я побегу собираться!
Виталий Трофимович выскочил в коридор и минуты через две заглянул: уже в пиджаке. Был он, по глазам видно, сильно взволнован чем–то.
«Неужели он так перед начальством дрожит?» — подумал Деркачев и спросил у Лиды, когда за Маркеловым захлопнулась дверь.
— Что он так разволновался?
— Видать, не получается у него что–то… Нагоняя ждет! Раньше ему работалось лучше. Премии большие давали! Правда, и мотался он тогда — не дай бог! Худющий был, страх! Даже спал беспокойно… Потом вроде успокоился немного, поправляться стал. А тут начальство сменилось, все по–своему поворачивает…
Леночка потянулась за кусочком сыра. Она не достала и попыталась встать на коленях у матери.
— Лена, ты уже наелась, хватит с тебя, а то опять плохо будет, — усадила ее мать и продолжила: — В этом месяце ему нужно сдавать школу и дом. Витя за дом в основном отвечает, там дела шли хорошо, как обычно, а на школе отставали. Начальник новый взял людей с дома да на школу перевел на целую неделю. Школу–то сдали, а дом стоит… Витя изнервничался весь!.. Завтра работать придется. А мы за ягодами в лес собирались! Я уж и с Галкой, подружкой своей, договорилась, а теперь отказываться придется…
— А вы бы вдвоем сходили? — улыбнулся Деркачев.
— Она–то с мужем, а я одна не могу. Непривыкшая… Уже четыре года всюду вместе с Витей бываю…
Леночка пыталась слезть с колен матери, а она удерживала:
— Лена, сиди смирно! Дай с дядей поговорить!
Но девочка настойчиво вырывалась из рук.
— К дяде Диме! — капризно сказала она.
— Ну иди, иди к дяде Диме, — —отпустила ее мать.
Деркачев посадил девочку к себе на колени и вновь стал слушать Лиду.
6
В дверях ресторана «Вечерние зори» Маркелов столкнулся с Николаем Чистяковым. Запнулся, растерялся и, увидев, что Чистяков узнал его, брякнул:
— Здравствуй!
— A-а, крестный, привет! — обрадовался Николай, протягивая руку.
У Маркелова чуточку отлегло от сердца, окаменевшего при виде Чистякова. Слышал Виталий Трофимович, что Николай окончил школу милиции, куда пригласили его после того, как он поймал на краже линолеума Маркелова и паркетчика Афонина. Потому Чистяков и назвал Виталия Трофимовича крестным.
— Как дела на стройке? Как Гольцов? — спросил Николай о своем бывшем бригадире. Просто так разойтись было неудобно.
— Работаем… Строим… А ты как? Слышал я, что окончил школу? Где теперь?
— Окончил вроде, — засмеялся Николай. — Ну ладно… Я побежал, дела… Привет Гольцову, Гале Журавлевой…
Чистяков повернулся и вышел. Нужно было сегодня побывать еще в пяти ресторанах, познакомить официантов с фотографией Деркачева, оставить ее в ресторане вместе с телефоном милиции. Потом Чистяков хотел покрутиться возле кинотеатра «Зенит», где Стыркина видела Деркачева с женщиной, посидеть во дворе, откуда, по словам Стыркиной, они вышли. Вдруг повезет, удастся встретить Деркачева.
В фойе ресторана Маркелов подошел к зеркалу, поправил галстук, попытался улыбнуться, придать лицу бодрый вид. «Похоже, Артамонов не врет! — подумал Виталий Трофимович и приободрился. — Ничего, в последний раз сделаем дело, и хватит… А что здесь Чистяков крутился? Не из–за нас ли?» — снова кольнуло беспокойство. Маркелов отошел от зеркала и поднялся по лестнице на второй этаж, где был зал ресторана. Там за столом под пальмой ждал его клиент, заместитель директора универсама, которому Маркелов должен был продать государственную квартиру. Три года Маркелов и начальник жилотдела райисполкома Артамонов Василий Степанович занимались этим.
Познакомила их Лида. Она работала под началом Артамонова. Сошлись они сами. Лида не подозревала о тайной деятельности мужа и начальника. Действовали они необыкновенно просто. С клиентом, которому срочно нужна была квартира, встречался Маркелов, договаривался о цене, о нужных документах, затем заводской художник Штрохин, сосед Виталия Трофимовича по даче, по заказу Маркелова готовил необходимые документы клиенту, по которым его можно поставить на льготную очередь в райисполкоме. Клиента делали или многодетным отцом, или инвалидом, или больным. Вариантов было много. Любую печать Штрохин мог изготовить мастерски. Разве лишь эксперт отличит от настоящей. Но документы в райисполкомах принимают обычно не эксперты, а девчушки, так называемые «общественницы», которые бесплатно работают в райисполкоме полный рабочий день, чтобы через два года получить квартиру. «Общественницы» из–за бесправного своего положения в рот начальника жилотдела смотрят. Что ни скажет — сделают! Клиентов ставили на льготную очередь: документы в порядке, а потом недели через три–четыре Артамонов выносил на заседание жилищной комиссии предложение о выделении квартир льготникам. Среди них обязательно были два–три клиента.
Маркелов охотно занимался этим, но в последнее время, когда контроль стал строже, Виталий Трофимович вспомнил пословицу: сколько веревочке ни виться — конец будет, и решил остановиться. Хватит! Миллионером он стать не мечтал. Жизнь налажена! Дальше рисковать не стоит, в один миг можно все потерять. Месяц назад Маркелов сказал Артамонову, что пора закрывать лавочку. Начальник жилотдела согласился.
Он как раз хлопотал о переводе в облисполком. Там вскоре открывалась вакансия. Но сегодня вдруг снова вызвал.
Артамонов ждал Маркелова на улице в такси. Возле городского парка они вышли, прошли по аллее, поговорили. Маркелов запомнил приметы клиента, потом Артамонов вернулся, а Виталий Трофимович отправился в ресторан. Маркелов понял, что Артамонов не захотел упускать выгодного клиента, каким был заместитель директора универсама Сергей Сергеевич Лаврушкин.
Виталий Трофимович сразу узнал Сергея Сергеевича, полного мужчину с курчавыми седыми волосами и большими навыкате глазами на обрюзгшем лице. На Лаврушкине был дорогой серый костюм. Стол перед ним накрыт на две персоны. В то время, когда в зал входил Маркелов, официантка Лерочка ставила на стол графин с коньяком. Раньше он часто бывал в этом ресторане с подобными поручениями и знал всех официантов по имени. Подходя к столу, Маркелов обратил внимание, что Лерочка слишком пристально вглядывается в клиента. Сердце дрогнуло, но Виталий Трофимович успокоил себя: мол, сегодня он слишком подозрителен. Это естественно — помнил, что часто попадаются именно на последнем деле.
Официантка действительно внимательно осматривала посетителей ресторана после встречи в кабинете директора с молоденьким оперуполномоченным. Вглядываясь в посетителей, Лерочка мысленно сбривала с мужчин волосы и сличала с фотографией. И что удивительно, почти все молодые люди были похожи на преступника. Человек под пальмой тоже вызвал у нее подозрение. Он был немолод, и худощавым его назвать было нельзя, но вел он себя странно, беспокойно как–то и все время поглядывал на дверь. К нему подсел знакомый мужчина, который часто забегал сюда. Лерочка к нему хорошо относилась: пил он немного, но щедро оставлял чаевые и был всегда ласков. Лерочка успокоилась и перестала обращать внимание на человека под пальмой, начала вглядываться в других. Вдруг сердце у нее екнуло. Он! С подносом в руке она заторопилась на кухню. В коридоре столкнулась с подругой и громко зашептала:
— Люба, он здесь!
— Что с тобой? Кто? — остановилась подруга.
— Ну он, тот самый… с фотокарточки!
— Где?
— За моим столом! За вторым от окна… Ой, не ходи, не ходи туда! Он догадается! — зашептала Лера, видя, что подруга направилась к двери.
Люба вышла в зал и через несколько секунд вернулась.
— За каким столом?
Лера подошла к двери и показала:
— Во–он, видишь?
— Ну ты даешь! Это же учитель физики! Он моего брата учит!
— Ой, а я перепугалась! — засмеялась Лерочка.
Маркелов по–хозяйски взялся за графин, наполнил рюмки, поднял свою, кивнул Лаврушкину на другую и когда Сергей Сергеевич тоже взял, произнес:
— За нее! За удачу! — Он поковырялся в тарелке и отложил вилку, пояснив: — Я только что из–за стола… И, по правде сказать, я спешу, давайте побыстрее…
— Я тоже тянуть не люблю! — быстро откликнулся Сергей Сергеевич.
— Тогда объясните обстановку!
— Сын у меня женился… Ну понимаете, жить отдельно хотят! А расширяться площадь не позволяет! Вот и посоветовали добрые люди…
— Ясно. Сколько комнат?
— Где? У нас?
— Нужно сыну…
— Желательно бы три…
— Дети есть?
— Еще девочка, школьница…
— У сына?
— Нет… Они только поженились.
— Это хуже… И дороже… В каком районе желательно и на каком этаже?
— О, у вас даже так! — обрадовался Лаврушкин. — Тогда в центре и на третьем этаже…
— Это дорого, дорого! — задумчиво протянул Маркелов. — Имеется в районе колхозного; рынка трехкомнатная… Девятиэтажный дом, пятый этаж… Потолки высокие. Но это дорого! Квартира роскошная. На двоих сделать трудно. Нужны документы, что у сына близнецы появились… Достанете?
— Где?.. Может, вы поможете?
— Может, и поможем… Ладно, достанем мы вам документы!
Маркелов замолчал, откинулся на спинку стула и стал разглядывать зал. Музыканты только появились на эстраде и, разминаясь, заиграли медленный танец. Две пары вышли танцевать. Было еще рано и не так шумно. Сергей Сергеевич наполнил рюмки. Маркелов отказался. Тогда и Лаврушкин поставил свою на стол. Виталий Трофимович наклонился к нему и назвал цену.
— Ого! Дороговато! — вскинул брови Сергей Сергеевич.
— Я уже говорил: центр, три комнаты на двоих, хороший этаж, документы… В хорошую сумму выливается… Недельки через три ордерок будет у вас в кармане, тогда и деньги внесете…
Лаврушкин поразмышлял, потом вздохнул:
— Ладно… Ограбили вы меня!
— Сегодня я вас, вы меня завтра, — усмехнулся Маркелов. — Давайте адресок ваш, метраж квартиры да состав семьи… Недельки через три сын ваш может переезжать, — придвинул Маркелов к Лаврушкину записную книжку. — Телефончик не забудьте вписать! Мы вам позвоним, когда документы будут готовы…
7
Лида вышла, чтобы приготовить комнату Деркачеву, а он остался с Леночкой на кухне. Девочка сидела на стуле и играла надкушенным яблоком, не обращая на Деркачева внимания. А он глядел на нее, склонив набок голову.
Щелкнул, включившись, холодильник. Деркачев нервно вздрогнул и оглянулся. Девочка посмотрела на него и пояснила:
— Это холодильник!
— Ах ты маленькая моя! Все–то она знает, — нежно заговорил Деркачев и поманил к себе.
Лена доверчиво протянула руки навстречу. Он прижал ее к груди, но, видимо, слишком сильно. Девочка попыталась вырваться и уронила яблоко. Деркачев поцеловал ее в щеку.
— Дядя Дима, ты колючий! — Лена погладила рукой по щеке Деркачева и спросила: — Тебя твоя мама не ругает за колючки?
— Ругает, знаешь как ругает, у-у!
— И папу мама ругает, а он бреется!
— А у меня бритвы нет…
— А у папы есть! И у нас еще телевизор есть! Пойдем, покажу!
Девочка соскользнула с колен Деркачева на пол и потянула его из кухни, звонко крича:
— Идем, идем! Там мульти–пульти!
Деркачев поднялся, взял с пола яблоко, положил на стол и пошел за девочкой.
— Мама, мы мультики смотреть будем!
Лида выглянула из детской, которую готовила для гостя.
— Дочка, их сейчас не показывают. «Время» идет» И тебе спать пора!
— Есть! Есть! — крикнула Лена, подбегая к телевизору. — Дядя Дима, ты включать умеешь? Вот эту кнопочку нажми, а это вставь сюда — и все!
— Сейчас включим! Вот так, говоришь?
— Я умею, а мне папа не разрешает, — сказала Лена, забираясь на софу.
Деркачев сел рядом с ней.
— Ты папу всегда слушаешь?
— Ага.
— Молодец! А он строгий?
— He-а… Мама его всегда слушается, и я тоже!
— Секреты наши выбалтываешь? — пошутила Лида, входя.
Телевизор нагрелся, и появилось изображение.
— Вот видишь — «Время»! — сказал Деркачев. — Значит, мама правду сказала, пора спать!
— А ты переключи!
— А если и там «Время», ляжешь спать?
Девочка, соглашаясь, кивнула.
Деркачев переключил:
— Видишь, и здесь «Время»!
— Леночка, идем! Ты сегодня с нами спать будешь. В твоей комнате дядя Дима. Идем, идем!..
Чувствовалось, что девочке не хочется идти спать. От огорчения она сунула палец в рот и прикусила его, но все–таки покорно и безмолвно пошла за матерью.
— И ты можешь устраиваться в комнате. Устал, наверное, за день…
Деркачев выключил телевизор и прошел в приготовленную для него комнату. Мебели в ней почти не было. Только возле боковых стен стояли две кровати: маленькая — для Леночки и большая — двуспальная. Она, вероятно, осталась от тех времен, когда Маркеловы начинали совместную жизнь. Все стены комнаты были разрисованы героями мультфильмов. Были здесь, конечно, и Волк с Зайцем, и Винни–Пух, и Чебурашка. На полу лежал толстый ковер, более яркий, чем в общей комнате.
Было душновато. Деркачев раздвинул шторы и открыл окно. На него дохнуло вечерней свежестью. Послышались возгласы играющих возле дома детей, звонки и постукивания трамвая, слитный гул машин — за углом была оживленная улица. А напротив, за неширокой и тихой улочкой, начинался парк. Неподалеку над зеленой массой деревьев возвышалось желто-красное колесо обозрения, виднелись карусели, качели и другие аттракционы. И все они сейчас крутились, раскачивались, вращались, манили к себе. Из глубины доносились звуки эстрадного оркестра, игравшего, видимо, на танцплощадке. И Деркачеву захотелось туда, к людям, на танцплощадку, но он только вздохнул и отошел от окна, стал ходить по комнате взад–вперед, опустив голову.
Остановился возле стола, на котором лежали детские книги и коробки с цветными карандашами, постоял. Из полуоткрытой двери спальни было слышно, как Лида ворковала с дочерью. Деркачев вытащил из коробки синий карандаш, открыл книгу и стал на внутренней стороне обложки набрасывать быстрыми уверенными движениями портрет Леночки. Набросал, полюбовался, кинул на стол и вновь стал ходить по комнате. Потом остановился у окна и начал смотреть вдаль, слушая музыку и думая о своем. Парк кончался у яра. На другой стороне стояли железные решетчатые столбы высоковольтной электролинии, а дальше поднимались в сумеречной дымке трубы какого–то завода.
Постучалась и вошла Лида.
— Слушаешь музыку?
Деркачев грустно улыбнулся в ответ.
— Расстроила я тебя, наверно, своими расспросами?
— Ничего… Это я так! Пройдет…
Некоторое время стояли молча, потом Лида заговорила:
— Парк у нас хороший! И погулять, побродить в тишине есть где, и повеселиться… Я раньше на танцы часто бегала. Да и сейчас не против попрыгать, думаю, не отстала бы от малолеток, — засмеялась она. — Только танцор у меня плохой… Вот он, смотри, как торопится!
По улице, широко размахивая руками, спешил Маркелов.
— Обошлось все, видать! — ласково сказала Лида, наблюдая за мужем. Деркачев вопросительно взглянул на нее. — По походке вижу, — пояснила Лида и вышла из комнаты.
Деркачев проводил ее взглядом и подавил в себе вздох.
Слышно было, как открылась и захлопнулась дверь, впуская хозяина, как сердитым (на начальство!) голосом отвечал он жене:
— Ничего там особенного не было! Просто не могут без того, чтобы вечер человеку не испортить..
— А Дима отдыхает уже? — Маркелов вошел в комнату к Деркачеву. — Ну вот, здесь ты и будешь жить! Устраивайся… Дверь, правда, не закрывается, я приделаю крючочек. Хотя, впрочем, к нам редко кто заходит, но все–таки спокойнее будет. У окна тоже, пожалуйста, не торчи, хоть и четвертый этаж, а вдруг кто из старушек заметит, начнутся расспросы: кто да кто? — последние слова Маркелов проговорил тихо и неожиданно замолчал, как споткнулся, и вдруг закричал: — Лида! Иди сюда! — Деркачев быстро обернулся, но Маркелов смотрел не на него. Он смотрел на стол, где лежала открытая книга, на обложке которой был нарисован портрет Леночки. Деркачев усмехнулся и снова отвернулся к окну. А на душе потеплело, небезразлично было то, что происходит у него за спиной. Маркелов осторожно взял книгу обеими руками, словно она была из тонкого стекла, и повернул обложку к жене, вбежавшей в комнату: — Смотри!
На Лиду с обложки глядела Леночка, глядела лукавым взглядом, словно намеревалась погрозить пальчиком, как она делала иногда, и сказать шутливо: «Смотри, мамка, папке скажу!»
8
Маркелов утром, уходя на работу, сказал жене, чтобы она не тревожила гостя, пока сам не встанет, пусть спит сколько ему хочется. И Лида копалась на кухне, старалась не греметь посудой. Деркачев Лиде понравился, и она думала, почему так получается, что хорошим людям в жизни редко везет. Было обидно за Деркачева и жалко его. Может, воли у него не хватает, не умеет поставить по–своему. А вообще–то лицо у него волевое, энергичное. Да и по всему видать, что он не тряпка. И все равно не получается что–то у него.
А Деркачев лежал в постели, обдумывая, как отыскать ему в Москве Штрохина Сергея, чтобы купить у него документы на другое имя. Без них оставалось одно: идти в милицию с повинной. Можно было узнать адрес Штрохина в справочном бюро, но Деркачев опасался, что Сергей на учете в милиции. Спросишь адресок, а дождешься оперуполномоченного. Деркачев знал, что Штрохин живет где–то возле Водного стадиона. Но где? На какой улице? Встречался с ним Деркачев раза три, и всегда в компании. Может быть, Сергей сейчас и не узнает его. Не узнает и разговаривать не станет… Ничего, убедить можно! Лишь бы найти… А что, если Маркелова подключить? Может, он на все пойдет, лишь бы поскорей избавиться!
Деркачев слышал, как Лида разговаривала с девочкой на кухне, тихонько позвякивала посудой. Он представил, что Лида его жена, а Лена — дочь. «Устроился как, гад! — подумал Деркачев о Маркелове. — Все имеет, о чем я только мечтать могу… Может, счастье приходит только к тем, кто честно хлеб свой зарабатывает?.. Ерунда! На зарплату прораба нельзя так жить! Недаром же Маркелов привлекался, недаром!» Деркачев поднялся, раздвинул шторы.
День был солнечный, тихий. Деревья в парке стояли неподвижно, замерли под солнцем и разноцветные аттракционы. «Народ уж, вероятно, на пляж потянулся! — подумал Деркачев, вспоминая речку, на которой он загорал с приятелями, будучи студентом. — Ничего, скоро и я заживу!» — успокоил он себя и начал разминаться, махать руками, с удовольствием чувствуя, как туго напрягаются мышцы на плечах и груди.
— Доброе утро! — сказал он Лиде, проходя в ванную.
— Дядя Дима! — закричала Лена и побежала к нему, но мать удержала ее.
— Погоди, дядя Дима умоется!
За завтраком Лида попросила его посидеть с девочкой: она хотела сбегать в магазин.
— Иди, иди! Мы с Леной книжки читать будем! — повернулся он к девочке.
— И дома строить! — важно добавила Лена.
— И дома строить, — подтвердил Деркачев. — Как папа!
Когда Лида ушла, Деркачев с Леночкой устроились на полу на ковре в детской комнате, высыпали из коробки разноцветные кубики в кучу и начали строить дом. Деркачеву все время хотелось прикасаться к Лене, гладить по мягким, как пушок, волосам, чувствовать ее тепло. И он, разговаривая с девочкой, ласкал ее, будто поощряя за умелое строительство дома. «Будет и у меня такая дочка! Будет и своя Лида… непременно такая же, как Лида!»
— Уф, устала! — вздохнула Лена.
— Устала? — засмеялся Деркачев. — Устала, каменщица! Тогда давай перекурим!
— Перекурим, — картавя, согласилась девочка и легла на ковер.
Деркачев вытянулся рядом с ней так, что ее голова оказалась у него под мышкой. Он с отцовской нежностью ощущал ее мягкие волосы. Внезапно вспомнилось объявление на стене дома около входа в подъезд, которое видел он вчера, когда приехали с Маркеловым: «В дэзе № 6 состоится диспут на тему: «Что нужно человеку для полного счастья?» Тогда Деркачев усмехнулся, представив, как старики и старушки будут рассуждать о счастье…
Деркачев твердо знал, что ему нужно для полного счастья. И теперь семья Маркеловых еще прочнее утвердила его в этой мысли. Во–первых, нужны деньги, хорошие деньги; во–вторых, крыша над головой, приличная крыша, такая же, как у Маркелова; в-третьих, жена вроде Лиды, такой свою жену он давно представлял, но досталась она почему–то Маркелову, ну дети, конечно, двое–трое; и самое главное, в-четвертых, возможность проводить время у холста, чувствовать запах красок, писать картины. Деньги есть! Купить бы поскорее документы и подальше отсюда, куда–нибудь в центр России, в городишко на берегу реки. Там купить квартиру и начинать новую жизнь. Все у него будет: и жена, и дети, и счастье будет!
Щелкнул замок входной двери. Девочка вскочила:
— Мама пришла!
Но в комнату заглянул отец.
Сегодня на строительство дома вышла большая группа отрабатывающих, тех, кто получал в этом доме квартиры. Маркелов расставил их по рабочим местам, приказал мастеру и бригадирам не отпускать людей раньше трех часов и заспешил домой, сожалея, что не может остаться на работе до конца. Без него отрабатывающие не выложатся полностью, проболтаются до часу, отметятся и разбредутся по домам. Мастер, молодой еще парень, не сможет их удержать. А с отрабатывающими можно было бы здорово подтянуть дом. Но, несмотря на это, Маркелов не смог остаться на работе, заторопился к опасному гостю. Скорее бы он уезжал, скорее бы заканчивалось дело с последней квартирой, и можно было бы жить спокойно, можно было бы забыть прошлое! Забудется ли оно? Настанет ли когда спокойствие? Пришли вчерашние ночные вопросы.
Ночь он спал плохо. Думал, думал… Хорошо, уедет Деркачев, закончит он дела с Артамоновым, но не забудутся они никогда. Не забудутся не потому, что совесть будет мучить, совесть заглушить можно, но не заглушить сознания того, что вдруг Артамонов или Штрохин засыплются, а ведь это в любой момент может произойти. Тогда всплывет и он!
Эта мысль давила, мучила, и Маркелов знал, что это на всю жизнь. Бросить все, бежать из города, а как объяснить Лиде причину? Да и куда сбежишь, везде найдут, везде! Раньше, когда он только начинал, ему все казалось проще. Он считал, что сумеет остановиться. Знал, чего хотел. И все его желания сбылись! Все! Больше ему ничего не надо!
Но, вступая на такой путь, он не знал одного, что счастья на этом пути встретить еще никому не удавалось. Можно найти материальное благополучие, можно получить звания и чины, но душевного равновесия, счастья никогда не будет, хотя бы только из–за страха перед разоблачением. Как бы хитро, как бы тонко ни были обстряпаны дела, но всегда будет мучить мысль, что что–то упустил, где–то недостраховался. С такими мыслями подходил Маркелов к своему дому.
День был замечательный. Машины по этой улице ходили редко. Из парка доносились детские голоса и шум фонтана. Сквозь деревья было видно, как на площадке под старым дубом полукругом расставляли стулья для музыкантов духового оркестра. Все это отметил Маркелов равнодушно, как факты, его не касающиеся. И мысль о духовом оркестре не вызвала в нем никаких чувств, хотя и он и Лида любили слушать оркестр, особенно вальсы.
— А Лиды нет? — спросил Маркелов, заглядывая в комнату, где были Деркачев с Леной.
— Она в магазин ушла, — Деркачев поднялся с ковра.
— А я с работы сбежал… Наладил дело — и ушел. Сами справятся.
— Мне как раз с тобой поговорить надо наедине, — сказал Деркачев. — Мне адресок одного парня нужен. Самому мне, понятное дело, торчать на улице не peзон… Сходи–ка в справочное бюро, узнай! Я тебе сейчас черкну его данные. Год и место рождения приблизительные, но ничего, найдут, фамилия у него редкая…
— Говори так… Я запомню! — недовольно ответил Маркелов. — Но это первое и последнее поручение. Мы не договаривались…
— Ладно, ладно! — перебил Деркачев. — Запоминай! Штрохин Сергей Владимирович…
— Штрохин! — воскликнул Маркелов. Он сразу понял, что Деркачеву нужны документы на другое имя, и едва сдержался, чтобы не сказать, что поможет ему сделать документы, но вовремя опомнился.
— Ты что, знаешь его? — Деркачев внимательно посмотрел на Маркелова.
— Сосед у меня на даче Штрохин. И зовут Сергеем!
— Врешь! — теперь воскликнул Деркачев. — Ну, пруха! Это же надо, а?.. А кем он работает? — вдруг совсем иным тоном спросил он, подумав, что, может, сосед просто однофамилец.
— Художником вроде, на заводе…
— Он!.. А далеко дачи–то?
— Час езды… Полчаса до вокзала да электричкой полчаса…
— Сгоняем сегодня? Чего тянуть? От него зависит, сколько я у тебя проживу! Думаю, тебе выгодно поскорей от такого постояльца освободиться, а? — Деркачев радостно хлопнул Маркелова по спине.
— Мы собирались сегодня за ягодами, а потом туда, но работать пришлось, да и ты…
9
Приближался полдень. Николай Чистяков торопливо шагал по улице к кинотеатру «Зенит». Вчера прогуливался он рядом с кинотеатром после работы, сидел во дворе на скамейке в скверике. Старушки, выходившие на улицу, когда спадала жара, сразу обратили на него внимание и стали гадать, кого он поджидает. Одна из них уверяла, что видела парня со студенткой Наташей Бегуновой из третьего подъезда. Наташа уехала в деревню к бабке и, наверно, заявится скоро, раз он здесь торчит.
Сегодня Чистяков должен был встретиться со своей подругой Ирой возле кинотеатра «Зенит» в час дня. Было только половина двенадцатого, но Николай торопился, хотелось посидеть в скверике во дворе, понаблюдать. Вечером Деркачев не появился — вдруг днем выйдет. Хотелось также спрятаться от жары. Мягкий асфальт тротуара был весь истыкан каблучками женских туфель. Вдоль дороги росли деревья. Тени от них были небольшие, но редкие прохожие все равно жались к деревьям. Николай тоже старался шагать в тени. Возле кинотеатра было малолюдно. В выходные дни все, кто был не занят, стремились на озеро, на пляж. Николай не стал задерживаться возле кинотеатра, направился во двор. Около угла дома он едва не столкнулся с мужчиной, извинился, уступая дорогу, и похолодел при виде знакомого лица: прямой нос, карие глаза, усы, волосы коротко острижены… Деркачев!
Мужчина прошел мимо Чистякова, даже не взглянув на него. Николай остановился и с волнением стал смотреть ему вслед, не зная, что предпринять. А вдруг ошибка? Мужчина удалялся. Николай вытащил из кармана пачку сигарет и побежал за ним:
— Извините, пожалуйста! У вас спички есть?
Мужчина остановился, молча достал из кармана зажигалку и щелкнул. Зажигалка была в виде пистолета. Николай, прикуривая, взглянул на лицо мужчины. «Деркачев!» — определил он, волнуясь все сильнее и сильнее. В первый раз он был вот так лицом к лицу с преступником, опасным преступником!
— Хорошо, видно, стоит? — кивнул на зажигалку.
— Немало! — ответил мужчина и отправился дальше.
Николай глубоко затянулся сигаретой, глядя ему вслед. Неподалеку была стоянка такси. Там две машины ожидали пассажиров. Людей на улице было мало. «Нужно задержать!» — решил Чистяков. Он швырнул сигарету в урну и снова догнал мужчину:
— Извините… Вам придется пройти со мной!
Мужчина обернулся и взглянул на Николая удивленно и насмешливо. Чистяков вытащил из кармана удостоверение. Лицо мужчины стало беспокойным. Он кинул взгляд по улице и хмуро спросил:
— В чем дело?
— Спокойнее! Идите к машине! — указал Чистяков напряженными глазами на такси и твердо повторил: — И спокойнее!
В такси они сели рядом. Во рту Николая было сухо от волнения. Он ловил взглядом каждое движение мужчины, который, впрочем, сидел тихо, а Чистякову казалось, что тот ищет удобный момент, чтобы попытаться удрать. Успокаиваться Николай стал, когда они, выйдя из машины, подошли к зданию милиции. Дверь стукнула, закрылась за ними. Николай ликовал: «Задержал! Без помощи! Сам задержал опасного преступника!»
— Вот, Деркачева привел, — сказал он небрежно дежурному.
Тот стал медленно подниматься со стула, глядя на мужчину.
— Я не Деркачев, я — Николаев! — бросил нервно мужчина. — Я буду жаловаться… Хватать человека на улице…
— Документы с собой есть? — перебил его растерянно Чистяков.
— Нет…
— Вызовите Морозова, — попросил Чистяков дежурного.
Морозов приехал через полчаса.
Мужчина, задержанный Чистяковым, инженер машиностроительного завода Николаев Василий Сидорович, жил в том доме, во дворе которого Чистяков надеялся встретить Деркачева.
— Вы простите нас за беспокойство, Василий Сидорович, ответьте нам, пожалуйста, на один вопрос… Вы не помните, где вы были во вторник от пяти до восьми вечера? — спросил Морозов.
Николаев потеребил пальцами усы, задумчиво повторяя:
— Во вторник… во вторник… — Потом ответил уверенно: — Около шести я пришел с работы домой. Поел. Потом с женой пошли в кино, взяли билет на семь двадцать, погуляли немного рядом с кинотеатром… А потом смотрели фильм!
—-В каком кинотеатре вы были?
— В «Зените»… Он рядом с нашим домом…
— Все понятно! — произнес Морозов. — Вы не разрешите нам взять вашу фотографию? Мы вас подбросим домой…
Еще через полчаса Морозов и Чистяков были в квартире Стыркиной, пожилой неторопливой женщины. Морозов разложил перед ней на столе несколько фотокарточек мужчин, среди которых был Николаев, и спросил:
— Вы можете узнать его здесь?
— Узнаю!.. Я ведь по фотокарточке вашей и узнала. Только там он без усов… Вот он! — едва взглянув на стол, взяла женщина фотокарточку Николаева.
— Вот и нашли мы Деркачева, — усмехнулся Морозов, когда они вышли на улицу и остановились возле автомата с газированной водой. — Ничего, и без него скучать не придется, работы хватает, — он вымыл стакан и опустил монетку в автомат. — Слушай, Николай, что ты делаешь завтра?
— Да так… — ответил Чистяков. — А что?
— Да вот хотел тебя в лес затащить. Жена у меня большая любительница отдыха на природе и меня приучила… Сейчас малины в лесу — страсть! А воздух, воздух, м–м–м! — Морозов покрутил головой, взял наполнившийся стакан из автомата и выпил воду. — Может, рванем вместе? Я киноаппарат прихвачу… — Морозов поставил пустой стакан, и они пошли по улице. — Там озеро есть в одном местечке! Прелесть! Вода прозрачная, у одного берега камыш, у другого плакучие ивы косы в воде полощут, кувшинки, лилии! И тихо–тихо. Ну, как ты? Не соблазнился?
— Понимаете, с девушкой я обычно бываю…
— A-а? Это дело важное… Слушай, Николай, ты заходи к нам в гости как–нибудь, вместе с девушкой, а? Ну хоть в воскресенье вечером. Мы уж из лесу вернемся…
— Спасибо! Я рад бы, да боюсь, что Ира постесняется…
— Вы только познакомились?
— Нет. Мы вместе на стройке работали пять лет назад… Она застенчивая…
— Но ты все–таки пригласи ее, пригласи!.. Идем. Сейчас мы проинформируем Батурина, что поймали Деркачева, — усмехнулся Морозов, — и снимем наблюдение с дома и дачи Штрохина… Нету Деркачева в Москве. Ошиблась Стыркина… Бывает…
10
Дача Маркеловых находилась неподалеку от железной дороги. Дачи и дорогу разделяла густая лесопосадка. По другую сторону железнодорожного полотна был лес, выходивший на крутой берег реки. От платформы Маркеловы и Деркачев шли минут пять вдоль заросшего густой и высокой травой забора. Лена сидела верхом на шее Деркачева.
— Вот мы и прибыли! — Маркелов поставил сумку возле калитки, просунул руку в щель забора, откинул крючок. Калитка заскрипела, распахнулась. — Обветшал забор… Руки не доходят поменять, — продолжал Маркелов. — Домик мы уже заменили! Два года назад, когда покупали дачу, тут сарайчик стоял, — указал он на зеленый финский дом с широкими стеклами окон.
Маркелов хотел сказать, что дачу эту ему сосватал Штрохин, но решил, что Деркачев может понять, что с тем связывает его не только соседство по дачам.
В палисаднике в два ряда стояли молодые яблони. Между ними густо зеленели грядки клубники, растопырились пышно кусты крыжовника и смородины. Возле низенького забора, разделявшего участки двух дач, сплелись высокие стебли малины, темно–красные ягоды которой многоглазо выглядывали из–за листьев.
— Малины–то сколько созрело! — радостно проговорила Лида. — Убирать надо поскорей, а то зачервивеет!
Деркачев снял Лену и опустил на дорожку. Она побежала впереди всех к дому.
Посреди соседнего участка стоял почти точно такой же дом, что и у Маркелова. «Дачка Штрохина!» — догадался Деркачев. Двери застекленной веранды были распахнуты настежь. Значит, хозяин был дома. Услышав голоса, он появился на пороге, и Деркачев узнал Штрохина. За пять лет он пополнел, обрюзг. Волосы заметно поредели, появились залысины.
— Что–то поздновато вы сегодня? — громко поприветствовал Штрохин соседа.
— Работа! Работа! — откликнулся Маркелов. — Ты дома будешь сейчас? Мы вот с гостем забежать к тебе хотели на минутку!
В двери веранды рядом со Штрохиным появилась сильно загорелая женщина в сарафане.
— Здравствуйте! Мы на речку собираемся… Вы не идете? — спросила она.
— Пойдем… Чуть попозже только!
— Я один к нему схожу, — сказал Деркачев Маркелову вполголоса, когда они вошли в дом.
— Ступай! — ответил Виталий Трофимович и обратился к жене: — Лида, выложи продукты в холодильник.
Деркачев быстрым, уверенным шагом прошел по дорожке к веранде дома Штрохиных и протянул руку хозяину, с улыбкой кивая хозяйке.
— Не узнаешь? — спросил он у Штрохина.
— Вижу, знакомый, а не припомню… — глядел Штрохин на Деркачева.
Жена собирала сумку на веранде и прислушивалась к разговору.
— Мы лет пять назад встречались раза три. Я студентом тогда был, худпрома… Дима меня зовут!
— А, коллега, значит, — улыбнулся Штрохин и, заметив, что Деркачев несколько раз подозрительно взглянул в сторону его жены, добавил: — Пошли, присядем в холодке!
— Вы надолго отправились–то? — недовольно спросила жена.
— Вы извините, мы на минуточку всего! — обернулся Деркачев.
Они обошли вокруг дома и сели под березой на скамейку возле врытого в землю стола.
— Давай, не тяни, видишь, жена ждет! — сказал Штрохин, облокачиваясь одной рукой о стол. Он догадывался, зачем понадобился гостю Маркелова, только не понимал, почему Виталий Трофимович направил гостя, а не пришел сам.
— Документы мне нужны! — сказал Деркачев, глядя на Штрохина.
— Какие?
Деркачев облегченно улыбнулся. Больше всего он боялся, что Штрохин начнет юлить: мол, помочь он ничем не может, давно завязал.
— Все! Паспорт, трудовая, военный и диплом худпрома…
Штрохин помолчал, разглядывая крышку стола, обитую светло–зеленым пластиком, потом спросил:
— А почему Маркелов сам не пришел?
— Зачем его впутывать? — сказал Деркачев и сообразил, что надо быть поосторожней.
— Значит, не он тебя направил?
— Он, он! — быстро ответил Деркачев. — Только я не хотел, чтобы лишний человек знал мое новое имя!
— Ну да! — согласился Штрохин. — А знаешь сколько это будет стоить?
— Не важно… Главное — побыстрей!
— Быстро не получится. Кое–что доставать придется… Ладно. Сделаю. Ты ночевать–то здесь будешь?
— Здесь…
— Черкни на бумажке и продвижения свои, в трудовую… Но раньше, чем через две недели, не жди!
11
Маркеловы ушли на речку, а Деркачев остался на даче. Лида и Леночка звали его с собой, но Виталий Трофимович возразил: пусть человек один в тишине отдохнет.
Деркачев разделся, расстелил одеяло на траве за домом и растянулся под солнцем. Было тихо. Изредка доносился торопливый перестук колес поездов. Ветер слегка шелестел листьями на верхушках яблонь. Деркачев часто переворачивался, подставлял солнцу то спину, то грудь, то ложился на бок. Он опасался перегреться. Несмотря на жаркое лето, он не загорал еще ни разу. Покрутившись на одеяле с полчаса, он решил, что хватит на первый раз, и перетащил одеяло в тень, под яблоню. Там улегся и закрыл глаза. Лежал долго, изредка лениво сгонял с себя муху, с жужжанием летавшую вокруг, и представлял, как у него будет такая же дача, как выстроит он беседку в саду с белыми столбами и обязательно напишет картину — жена с ребенком в беседке. Неплохо было бы поставить дачу на берегу реки, чтобы из сада слышно было, как журчит вода. Думая об этом, он услышал скрип калитки. «Что–то быстро вернулись», — подумал Деркачев, но подниматься не стал. Через минуту он услышал неспешные шаги и приоткрыл глаза, ожидая увидеть Маркелова, но увидел девушку. Она не заметила его, подошла к малиннику, присела и начала рвать ягоды и есть. Девушка сидела на корточках спиной к Деркачеву метрах в десяти от него. Длинный ситцевый сарафан ее касался травы. Светло–русые волосы были ровно обрезаны до плеч. Деркачев приподнялся на одеяле, наблюдая за девушкой, потом громко крикнул:
— Ты что делаешь?
Девушка встрепенулась, вскочила и повернулась к нему, испуганно замерла, сжавшись, как птичка, почувствовавшая опасность и готовая в мгновение упорхнуть. Замер и Деркачев изумленно.
«Лида!» — прошептал он. Девушка была удивительно похожа на Лиду.
— Ты кто? Ты как здесь оказался? — опросила она, по–прежнему с опаской глядя на него.
— Ты сестра Лиды? — спросил Деркачев в свою очередь, снимая с сучка яблони джинсы, и начал быстро натягивать их на себя, сидя на одеяле.
— Нет… Я племянница. А ты кто?
— А я племянник, — пошутил Деркачев, застегивая пуговицы сорочки, потом быстро заправил ее в брюки и поднялся: — Я шучу! Я товарищ Виталика!
— А-а! — протянула девушка. — Ты так меня испугал!.. А где они? На речке?
— Загорают… — Деркачев подошел к девушке, глядя на ее смуглое от загара лицо.
— Я так и знала… Меня Верой зовут…
Деркачев назвал себя и сказал смеясь:
— А я гляжу, бог ты мой, Лида юная явилась… Онемел даже!
— Ты не первый… На работе тоже удивляются нашему сходству… Почему они малину не собрали? — спросила она, оглядываясь на кусты.
— Мы недавно приехали… Хочешь, давай вдвоем собирать. Пока они придут, мы управимся!
— Давай! — засмеялась Вера. — Я сейчас что–нибудь принесу! — побежала она в дом.
Деркачев с восхищением смотрел, как развевается широкий сарафан. Через минуту она выскочила из дому с большой кастрюлей и двумя кружками.
— Вот, — протянула Вера одну. — В кружки собирать будем, а в кастрюлю ссыпать!.. Я здесь буду, а ты туда иди, — указала она в середину куста. — А то я исцарапаюсь.
— Правильно! — согласился Деркачев и, раздвигая куст, полез в середину, а Вера присела на корточки возле куста.
— А почему ты с ними не пошел на речку? — спросила она.
— Обгореть побоялся! Я еще ни разу не загорал…
— Почему?
— Работа такая… А ты вместе с Лидой в райисполкоме работаешь?
— Да…
— Председателем? — пошутил Деркачев.
— Почти! — засмеялась Вера. — Еще чуть–чуть осталось до председателя… Общественница я, в жилотделе!
— А что это за должность?
— Это и не должность вовсе… Сижу в жилотделе, документы разные оформляю, и никто мне за это ни копейки не платит. Все на общественных началах. Поэтому и общественницей зовут, — пояснила Вера.
— Целый день бесплатно работаешь? — удивился Деркачев. — Почему? А жить–то на что?
— А я за квартиру! Два года — и квартира без очереди… А я уже полтора года просидела. Еще полгода — и все! А квартиру сама выбирать буду, в любом районе, на любом этаже…
— Да-а! А я не знал о такой системе… Но два года жить–то на что–то надо?
— А я уборщицей в универсаме по вечерам работаю…
— Вот, а тут уж работа кипит! — услышали они веселый возглас Лиды.
Леночка первой влетела, в калитку и, радостно повизгивая, побежала по дорожке к Вере, которая, улыбаясь, поднялась ей навстречу.
— Упадешь! — крикнула Лене мать. Вера подхватила девочку на руки. — Как ты догадалась, что мы здесь? — спросила у племянницы Лида.
— По телефону… Раз не откликаетесь — значит, здесь!
До сумерек сидели за столом в комнате с открытыми окнами, разговаривали, а когда Лида предложила включить свет, Вера поднялась — пора уезжать.
— Ночуй здесь! Не все ли тебе равно! — сказала Лида.
Вера отказалась. Рано утром нужно бежать в универсам, чтобы успеть до открытия вымыть полы, сегодня–то вечером не была. А отсюда слишком далеко добираться. В городе — рядом… Было заметно, что она захмелела.
Деркачев пошел ее провожать до платформы. Он был возбужден, говорлив. Вера держала его под руку, а он рассказывал о жизни художника Гогена, о котором она раньше никогда не слышала. Когда Деркачев наклонялся к ней, он чувствовал горячий запах волос.
— Волосы твои солнцем пахнут, — сказал он вдруг, прерывая рассказ, и замолчал. Она ничего не ответила, и они молчали, пока не подошла электричка. Деркачев забыл о своем положении и вскочил в вагон вслед за Верой. В городе проводил до подъезда и, прощаясь, спросил: — Завтра ты снова приедешь?
— Нет… Завтра универсам до трех работает. После закрытия мне нужно там быть!
— А долго ты убираешь?
— Часа два.
— В пять, значит, освободишься, а часов в семь давай встретимся где–нибудь?
— Где?
— Где скажешь.
— Можно в парке, у фонтана…
— Я жду! — клюнул он ее носом в душистые волосы возле уха и долго слушал с бьющимся сердцем, как мягко стучат по ступеням ее туфельки.
12
В воскресенье утром Деркачев спал долго. Просыпался несколько раз, но какая–то необычно сладкая лень, томительная дремота не отпускала его. Он, не шевелясь, смотрел на стену, разрисованную альфрейщиками под ковер. В душе было ощущение чего–то хорошего, светлого, внезапно вошедшего в его жизнь. Причудливые рисунки на стене расплывались, и он снова засыпал. Проснувшись в десятом часу, он еще долго лежал, смотрел, как тихонько шевелятся легкие занавески. Окно было открыто всю ночь. Деркачев вспоминал с нежной сладостью вчерашний вечер, вспоминал голос девушки, смех, вспомнил, как при прощании ткнулся носом в волосы Веры, с насмешкой подумал о себе: «Семинарист!» — и вскочил с постели. Крашеные доски пола приятно холодили подошвы ног. Деркачев бодро и энергично покрутил руками, высоко поднимая плечи, и выскочил на улицу умываться.
— Проснулся наконец! — окликнула его Лида. — А мы уже искупаться сбегали!
Маркеловы всей семьей обирали малину. Вчера не успели. Деркачев умылся и стал помогать им. За работой снова вспомнилась Вера, вспомнилось, как вчера он увидел ее у малинника, как собирали с ней ягоды, но от воспоминаний уже не было радостного волнующего чувства, а была грусть, тихая грусть, какая обычно бывает при воспоминаниях о чем–то милом, добром, но уже недоступном тебе, о том, что никогда не вернется. Вчера он забыл, что знакомство их не может иметь продолжения, ни к чему не приведет… А жаль, жаль, хорошая девчонка! Такую не часто можно встретить!.. И свидание напрасно назначил. Зачем волновать девчонку? Теперь она будет собираться, торопиться к нему, ждать в парке, вглядываться в каждого прохожего, не он ли это? И уйдет с обидой! А ведь он не хотел ее обижать!.. «А может, она и не думает о свидании?» — пришла вдруг мысль. Согласилась просто так, чтоб отвязался!
Деркачев весь день был задумчив и неразговорчив. Лена тормошила его, пыталась втянуть в игру, но потом заскучала и отошла к матери. К вечеру Деркачев с Маркеловым расположились на траве под яблоней. Время двигалось к шести. В парк можно было еще успеть. Деркачев решительно поднялся, но тут же передумал, снова сел на одеяло. Маркелов подозрительно покосился на него. Он чувствовал, что Деркачев чем–то взволнован, чего–то ждет, но спрашивать не решался.
«Все, поздно!» — решил Деркачев, в очередной раз взглянув на часы. Они показывали половину седьмого. Подумав это, он спросил:
— Где здесь можно быстро такси поймать?
— На площади, — махнул рукой Маркелов в противоположную сторону от железной дороги.
Деркачев вскочил и направился в комнату переодеваться.
— Ты куда? — крикнул ему вслед тревожно Маркелов.
Деркачев не обернулся. Через две минуты он выскочил на улицу и спросил:
— Как быстрее на площадь пройти?
Маркелов указал и заговорил просительно:
— Дима, ты же обещал не выходить…
— Не шипи! — перебил Деркачев. — Что ты все пузыри пускаешь? Отдыхай!
Деркачев нырнул в калитку за сарайчиком и по тропинке в кустах желтой акации выбежал на площадь.
Там, озираясь, стал искать глазами машину. Такси ему удалось поймать довольно быстро.
Возле парка он остановил машину и помчался меж деревьев к асфальтированной дорожке, которая вела к фонтану с другой стороны, откуда его не могла ждать Вера. По дорожке бежал, стараясь держаться ближе к кустам. В парке было многолюдно. Все скамейки были заняты. Деркачев опаздывал на двадцать минут. Он страстно желал, чтобы Веры не было у фонтана, чтобы она не пришла, и в то же время боялся, что не успеет, не увидит ее.
Вера стояла неподалеку от фонтана на видном месте. На ней было белое платье с короткими рукавами. Держала она в руках небольшую светлую сумочку. Стояла боком к Деркачеву и смотрела в сторону главного входа. Лицо у нее было унылое. Видимо, Вера уже разуверилась в том, что он придет. Деркачев замедлил шаги и остановился. Вера медленно и разочарованно побрела к выходу. Деркачев бросился за ней:
— Верочка!
Она оглянулась. Глаза ее радостно вспыхнули, а губы не могли сдержать улыбки:
— А я отсюда ждала!
— Прости меня, Верочка! Я так виноват… Но я спешил, поверь! Не от меня зависело…
— Ничего. Куда пойдем?
Глаза ее смотрели на него доверчиво. И ему вновь стало вдруг легко, так же, как вчера вечером, когда он ее провожал, словно все проблемы враз разрешились. Он забыл, что ему не следует появляться в людных местах.
— А куда хочешь! — сказал он весело. — Веди туда, где тебе нравится!
— Тогда в кино!
— Ну, в кино так в кино. А в какое?
— В любое. Лишь бы посидеть!
— Посидеть мы можем и в ресторане.
— А ну его!
— Почему?
— Я там почти не бывала…
— Тем более! Пошли!.. Не беспокойся, денег у меня достаточно!
Деркачев помнил, что рядом с парком есть небольшой ресторан, где он был однажды со Штрохиным и приятелем по институту.
В зале ресторана было душновато, несмотря на распахнутые настежь окна, и малолюдно. Деркачев и Вера сели за стол. Он расположился спиной к залу и взял лист меню.
— Я сухое, — предупредила Вера.
— Тогда шампанское!
Когда официантка ушла, получив заказ, Деркачев сказал:
— Я здесь уже был однажды с двумя художниками. Один, правда, студентом тогда был, а другой успел поработать, за тридцать тогда ему было… Он все на судьбу жаловался, — Деркачев хотел назвать Штрохина, но передумал. — Говорит, денег нет, приходится всякую халтуру делать, а на творчество времени не остается. А годы не ждут, уходят… Сейчас он разбогател, я недавно с ним встречался, но художником так и не стал, то ли в молодости талант растратил на погоню за деньгами, то ли и не было таланта…
— Знаешь, не верю я таким жалобам, — сказала Вера. — Денег нет! Условий нет! Это все отговорки для лодырей… Работали бы побольше, были бы и деньги и условия!
— Это так, конечно, но ведь люди же все, не хочется в молодости силы на быт растрачивать, хочется иметь нормальную семью, квартиру, мастерскую, и посмотреть мир хочется, и отдохнуть по–человечески тянет… А для всего этого деньги нужны!.. Бывают, конечно, люди, кому на быт наплевать. Знал я такого, была у него комнатушка. В ней он спал и работал… Помнится, у него на стене было написано: «Мне много ль надо? Краюшка хлеба да капля молока, да это небо, да эти облака!»
Когда они вышли из ресторана, на улице стемнело. Торопливо переливались, полыхали огнями разноцветные неоновые спирали, неправильные квадраты и треугольники. Позванивали на перекрестке ленивые трамваи и равнодушно катились вверх по улице. Их обгоняли легковые машины, шурша по асфальту шинами. Вера с Деркачевым свернули в переулок. Здесь было тише. Меньше людей, меньше машин. Переулок привел их в парк. Они снова вышли на площадь, к фонтану. Площадь освещали матовым светом фонари, выглядывавшие из густых ветвей деревьев. Деркачев с Верой прошли по одной из аллей, лучами расходившихся от площади, в глубь парка. Деркачев обнимал девушку за плечи и чувствовал себя снова студентом, удачливым человеком. Радостно ему было шагать рядом с милой девушкой по почти безлюдной аллее. Но когда они сели на свободную скамейку под деревом, листья которого тихо шелестели, от тишины, от шелеста листьев стало неспокойно и тревожно Деркачеву.
— Пошли отсюда! — поднялась Вера.
«Какая чуткая!» — удивился с нежностью Деркачев и сказал:
— Второй день знаю тебя, а кажется, всю жизнь ты была рядом!
Они повернули обратно и долго бродили по улицам, пока не оказались возле дома, где жила Вера.
13
Все дни Деркачев проводил в квартире, лежал на диване, смотрел телевизор или читал книги до прихода Маркеловых. Первой приходила Лида. Райисполком был неподалеку. По дороге она забирала девочку из детского сада. Лена, войдя в квартиру, сразу же бежала к Деркачеву.
— Дядя Дима теперь набегался по конторам, устал! Пусть отдыхает, — удерживала ее мать.
Но Деркачев радостно подхватывал девочку на руки, говоря:
— Ничего, ничего! Я с ней быстрей отдохну!..
— Не приискал еще ничего? — интересовалась Лида.
— Что–то наклевываться стало! В одной ПМК прораб нужен. Но начальник в командировке… Придется ждать! Через неделю должен приехать… Без него решать не берутся…
— Это хорошо! Может, мытарства твои скоро кончатся. А с жильем там как?
— Я еще не узнавал.
—- Что же ты так? Об этом в первую очередь узнавать надо…
Деркачев вошел в свою роль и почти сам верил, разговаривая с Лидой, в то, что он ищет работу. После ужина он уходил в город. Маркелов провожал его мрачным взглядом, но удерживать больше не пытался. Он считал, что Деркачев ходит к своим дружкам, и только в субботу, когда они снова были на даче куда приезжала и Вера, Маркелов узнал, что тот проводит вечера с девушкой. Больше всего поразило Виталия Трофимовича, что Лида с одобрением относится к этому.
— И ты давно знаешь? — спросил он у жены сердито, когда они возвращались с реки по лесной тропинке.
Деркачев с Верой и Леночкой отстали.
— Вера мне еще в понедельник сказала, — взглянула Лида на мужа, не понимая, почему он сердится.
— Ты ей хоть сказала, что он разведенный? Что ребенок у него растет?
— Сказала…
— А она?
— Он ей нравится..
— Нравится? — передразнил Маркелов. — А ты–то! Ты–то почему не отговорила ее! Племянница все–таки!
— А почему я должна отговаривать? — удивилась Лида, не понимая настроения мужа. — Человек он хороший, я это сама вижу! Ну не получилось у него там… Мало ли какие жены бывают!
— Во! Во бабы! Она уже и сосватать готова! «Хороший человек»! — передразнил Виталий Трофимович. — Давно ты его знаешь? Мало ли что он напоет, нарасскажет!
— Что ты взвился–то! — рассердилась и Лида. — Однокурсник–то он чей? Мой, что ли? Сам привел, сам расхваливал…
— Ладно! — вполголоса отмахнулся Маркелов, оглядываясь, не догоняют ли их Вера с Деркачевым. — Ух! — выдохнул он. — С ума с вами сойдешь!
«Скорее бы проходили эти дни! — думал он с тоской. — Деркачев уехал бы! Артамонов ушел бы из райисполкома. Можно жить спокойно». Документы Лаврушкину Виталий Трофимович уже передал. На следующей неделе тот должен был нести их в райисполком.
— Я слышал, начальник твой, Артамонов, в облисполком уходит, инструктором? — спросил он у Лиды, переводя разговор на другую интересующую его тему.
— Утверждения ждет…
— А новым кого назначат?
— Неизвестно пока… Хорошо бы заместителя теперешнего поставили. С ним легко работать, — сказала Лида.
14
Сергей Сергеевич Лаврушкин со всеми документами явился, как и говорил ему Маркелов, к начальнику отдела учета и распределения жилой площади райисполкома Артамонову. Тот показался Лаврушкину человеком неразговорчивым, придирчивым: взял документы, указал на стул и начал внимательно разглядывать бумажку за бумажкой, складывая их в стопку на столе. «Ну все! Влип! — думал тревожно Лаврушкин. — Обнаружит фальшивку, и все!» Артамонов осмотрел последнюю бумажку, положил ее сверху в стопку и улыбнулся Лаврушкину, поднимаясь:
— Поздравляю вас, Сергей Сергеевич, с двумя внуками! Не часто такое бывает, не часто! Сами, наверно, не ожидали такого! — улыбался Артамонов, пожимая руку.
— Откуда же! — пробормотал довольный Лаврушкин. — И думать не могли!
Артамонов взял документы со стола и сказал:
— Идемте!
Они вышли в коридор. Артамонов открыл дверь, на которой висела табличка «Группа учета очередников».
— Верочка, примите документы у Сергея Сергеевича, — обратился Артамонов к девушке, сидевшей за столом, и Лаврушкин с удивлением узнал в ней уборщицу из универсама. — Я проверил их, все в порядке!.. Поставьте его в льготную очередь и готовьте документы на первую же жилищную комиссию… Близнецы в нашем районе не часто рождаются, — снова улыбнулся Лаврушкину Артамонов и вышел.
— Здравствуйте, Сергей Сергеевич! — сказала смущенно Вера Лаврушкину, когда они остались одни.
— Вера, а как ты здесь оказалась? Ты что, работаешь здесь?
— У меня тетя тут… — ответила Вера. — Я помогаю…
— Понятно… А я так удивился!
— Это у вас близнецы родились? — взяла Вера документы.
— Ну нет, что ты! — засмеялся Лаврушкин. — У сына… Только женился — и подарочек!..
Вечером в универсаме Вера сказала продавцу из колбасного отдела, которая всегда оставляла ей хорошую колбасу, что у сына заместителя директора близнецы родились.
— Кто это тебе сказал? — засмеялась продавец. — Он только женился!
— Ну да! Только женился, и уже появились! Сергей Сергеевич сам говорил…
— Кому говорил–то?
В универсаме не знали, что Вера днем работает в райисполкоме.
— Мне…
— Тебе? Он шутил… Я–то его семью хорошо знаю! И молодых неделю назад видела! Да если б у них близнецы появились, тут бы разговору–то сколько было! Сергей Сергеевич шутил!
Вера не стала доказывать продавцу, что своими глазами видела документы, но потом засомневалась, стала думать: почему же действительно на работе никому о близнецах неизвестно? Один ребенок родится у сотрудника, и то сразу все знают, а близнецы не часто появляются.
На другой день она позвонила в паспортный стол ДЭЗа и спросила о составе семьи Лаврушкиных. Внуков у Сергея Сергеевича не было, и справок последнее время Лаврушкины никаких не брали. Вера побежала к Артамонову, но он уехал в облисполком и обещал приехать только к концу дня. Девушка вернулась в комнату и задумалась тревожно. А если и другие льготники их обманывали, думала она. Если они получали квартиры по фальшивым документам? Проверить надо! Вера нашла в папке список льготников, получивших квартиры за последние полтора года, когда она работала, и начала обзванивать паспортисток. До конца рабочего дня она не выпускала трубку из руки. От того, что она узнавала, ей становилось страшно. Почти каждый второй льготник получал квартиру по фальшивым документам. Ей захотелось посоветоваться с Лидой. Она побежала к ней, но у Лиды были посетители. Она попросила зайти попозже. Вера чувствовала себя виноватой, ведь документы принимала она. И оформляла их на комиссию она. Правда, у льготников документы сначала смотрел начальник жилотдела, но у него работы и без этого достаточно, может быть, он надеялся на нее, надеялся, что основательно проверит, а она что–то не так делала, если ее постоянно обманывали.
— Василий Степанович! — ворвалась она в кабинет к Артамонову, когда он в конце работы приехал в райисполком. — Нас обманывали! — всхлипнула Вера. — Мы квартиры давали по фальшивым документам!
Артамонов приехал из облисполкома окрыленный. На следующей неделе его должны были утвердить инструктором — и прощай, райисполком. В понедельник он собирался протащить через жилищную комиссию квартиру для Лаврушкина и прикрыть лавочку. Хватит! И вдруг к нему врывается Вера с такими словами. Василий Степанович выскочил из–за стола и начал усаживать девушку на стул, успокаивая:
— Что с тобой? Что ты выдумала? Успокойся, пожалуйста! Говори толком…
Он сел рядом с Верой. Она начала рассказывать:
— Я по вечерам уборщицей работаю… в магазине…
— Так–так–так! — подбадривал ее Артамонов.
— Заместитель директора у нас Лаврушкин…
— Понятно, понятно! — поежился начальник жилотдела.
— Когда он принес документы, я думала, правда, у него близнецы… А на работе говорят, никого у них нет… Тогда я в дэз позвонила… Нет у его сына детей, и справок им дэз никаких не давал. Вот так–то!
— Ай–яй–яй! И ты кому–нибудь говорила об этом?
— Нет… Хотела Лиде сказать, но она занята была…
— Правильно, правильно, — быстро подхватил Артамонов. — Надо сначала разобраться.
— Это не все, Василий Степанович! — перебила Вера, — Я испугалась и всех льготников проверять начала, какие квартиры за полтора года… Вы знаете, сколько раз нас обманывали! Вот список, — положила она лист на стол. — Я во все дэзы звонила…
— Как же так! — придвинул к себе список Артамонов и начал тереть лоб похолодевшими пальцами, соображая, что делать. — Куда же ты смотрела раньше? Ты знаешь, что тебе за это будет?
Вера наклонилась к столу. Слезы текли по ее щекам. Она вытащила платок.
— Ну, ладно, ладно! Не хлюпти! — ласково приобнял ее за плечи Василий Степанович. — Успокойся, успокойся! Я тоже хорош… Вместе облапошились, вместе и выкручиваться будем… Ты и об этом никому не говорила? — поднял он список со стола.
— Нет…
— И то хорошо!
В кабинет открылась дверь, и заглянула Лида.
— Верочка, тебя подождать?
Девушка вопросительно взглянула на Артамонова. Василий Степанович поднялся, улыбаясь Лиде, и сказал:
— У нас с ней длинный разговор…
— Тогда я пойду. Завтра на даче встретимся. Приедешь?
Вера кивнула. Лида ушла. Василий Степанович прошелся по кабинету, вспоминая, сколько у него с собой денег. Рублей триста наберется, да пообещать еще столько же…
— Да, Верочка, сделали мы с тобой промашку… Сделали, — заговорил Артамонов. — Но теперь ничем не поправишь. Поздно!
— Почему? В милицию заявить, и все!
— И все? — усмехнулся Василий Степанович, глядя на девушку. — Ты соображаешь, что говоришь–то! Ты думаешь, тебя по головке погладят за это? Посадят лет на пять! Тебе сколько сейчас? Двадцать один? Всю молодость и проведешь там… Придешь оттуда, кому ты нужна будешь? Вся жизнь из–за каких–то дураков пропадет… Забудь о них, наплюй! Мало у нас чего творится… Давай порвем этот списочек к чертям собачьим! И не было его! Дорабатывай спокойно полгода, получай квартиру и живи…
— Нет–нет! — воскликнула Вера. — И думать об этом нечего. Нет! Я своими руками жуликам ордера выписывала, и я буду жить спокойно?! Нет! Надо в милицию… Там разберутся, поймут… На документах ведь печати были, подписи… Как я могу узнать… И вы смотрели!.. Там разберутся!
— Разберутся, жди! — зло сказал Артамонов, но тут же улыбнулся. — Я понимаю тебя… Работница ты хорошая! Мы уже думали поощрить тебя досрочно квартирой… В понедельник жилищная комиссия будет квартиры в доме на Пудинской распределять. Ступай, выбери себе однокомнатную на любом этаже и подготовь свои документы! Получишь — и до свидания, живи спокойно с чистой совестью…
— Нет, Василий Степанович, я по закону, я подожду еще полгода… А об этом нужно в милицию сообщать!
— По закону! По какому закону? Где ты читала такой закон, чтобы человек два года бесплатно работал, — лишь бы квартиру без очереди получить! Нет такого закона! Все это делается в обход закона!
— Я не знала… — пролепетала Вера.
— Там ты не знала, тут ты не знала… — начал резко Василий Степанович и вдруг оборвал себя, замолчал, задумался, потом вздохнул и заговорил совсем другим, каким–то доверительным тоном: — Как мы еще невнимательны друг к другу! В суете, в заботе не думаем о сотрудниках, чем живут? Как живут? Молодая девчонка, ей бы жить да жить, веселиться, гулять, одеваться! А ей приходится бесплатно работать, и ни разу мне в голову не пришло, на какие шиши человек живет. Да! — потер он лоб. — А ей вон уборщицей приходится работать! В грязи возиться! Сколько тебе там платят?
— Восемьдесят… — тихо ответила девушка.
— Восемьдесят рублей в городе только на еду, — вздохнул Артамонов. — А девушке тряпок сколько надо! Да и дорогие они сейчас — ужас! Раньше надо было мне об этом подумать! Извини уж! — улыбнулся он виновато. — Закрутился! — Артамонов достал толстый кошелек, вытащил пачку десяток и положил перед девушкой: — Это авансик! В понедельник раза в три больше получишь. Только забудь ты об этом списке! — обнял он Веру за плечи. — К черту его!
Вера отодвинула деньги и повела плечом, освобождаясь от руки Артамонова.
— Вы что? Зачем это? — указала она на деньги и встала. — Нет! О жуликах я молчать не буду! — Вера поняла, что что–то здесь не то, раз начальник предлагает деньги. А может быть, он просто боится что теперь его не возьмут в облисполком?
— Ну, ладно, ладно! — Артамонов быстро взял деньги со стола и сунул в карман. — Будь по–твоему! Не хотелось сор из избы выносить! Ладно. Оставляй список! Сейчас уже поздно, — глянул он на часы. — Милиция тоже до шести работает… В понедельник прямо с утра вместе отправимся туда… Только молчи пока, не распространяйся, а то черт Их знает, что это за мошенники и на что пойти могут, если узнают! Их надо разом и быстро прихлопнуть! Поняла? До свиданья! Будь осторожна, — улыбнулся он девушке на прощанье, думая: «Дура! Дура!.. Что делать–то?» А сердце у него ныло, ныло, ныло.
Вера вышла, не зная, что и думать, может, все–таки Василий Степанович ничего не знал, просто не хочет скандала. Ведь его могут и не взять в инструкторы… Завтра надо непременно все Лиде рассказать, посоветоваться.
Артамонов постоял у окна, проводил Веру глазами до угла дома и подошел к телефону. Маркелов был дома.
— Срочно нужно встретиться! — жестко сказал Василий Степанович. — Срочно! Я жду!
Встретились они в парке. Сели на лавочку. Артамонов рассказал о разговоре с Верой.
— Влипли мы с тобой! Крепко влипли! — закончил он. — Слышал, наверно: только что директора гастронома шлепнули… И конфискация имущества…
— А как же быть?! — прошептал Маркелов.
— Как быть? Думай! Ты же глава фирмы, — усмехнулся зло Артамонов, — Ты договаривался с клиентами, ты доставал фальшивые документы, ты брал деньги… Сколько ты брал, я не знаю, я лишь принимал от тебя подачку!
— Ты знаешь! Все ты знаешь! — яростно зашептал Маркелов, стуча кулаком по скамейке.
— Ну ладно, ладно! Успокойся! — прикрикнул Артамонов. — Оба хороши! Думать надо, как выкрутиться… Я к ней уж по–всякому подходил… Выход тут один! И ты его знаешь, — взглянул он на Маркелова.
— Нет, только не я… Она же племянница… Я не могу! — зашептал Маркелов.
— Деньги брать ты мог… И племянница она не твоя…
— Не могу! Не могу! — качнул головой Маркелов.
— Ладно! Рядиться не будем!.. Она вроде завтра на дачу к вам собиралась? Вы как туда ездите — вместе?
— Нет… Она попозже приезжает…
— А если вы на дачу не поедете, она все равно туда приедет?
— Она звонит… если нас нет, значит, мы там!
— Это уже по легче… Сейчас мне ключи принесешь от дачи… Туда завтра вы не поедете, поеду я. Ты приедешь к вечеру, поможешь мне… Там у вас лес рядом?
— Да… — начиная нервно вздрагивать, ответил Маркелов.
— Лопаты на даче есть?
— Да…
— Не дрожи ты! Я, может, еще уговорю ее. Не совсем же она дура! Значит, договорились! Приедешь к вечеру… И телефон утром не забудь отключить…
15
Маркелов обещал Лиде прийти пораньше, чтобы ехать на дачу. Деркачев смотрел с девочкой по телевизору «Утреннюю почту». Потом пришла из магазина Лида, и Лена убежала к ней на кухню. Деркачеву было грустно, хотелось поскорее увидеть Веру. Завтра он получал документы у Штрохина и мучился теперь, не зная, как быть. Уехать, сбежать втихомолку он уже не мог. Открыться, сказать, чтобы она уезжала с ним? Но как она поведет себя, когда все узнает? Деркачев прилег на кровать и начал растирать грудь ладонью. Ему вспомнились недавние слова Веры, ее шепот: «Я столько тебя ждала, столько ждала!» Деркачев стал вспоминать последние встречи с девушкой. Потом представилось ему, как они идут по солнечному парку. Кругом празднично одетые люди, яркие цветы вдоль дорожки. Впереди широко взлетает вверх шумящая струя фонтана. Сзади слышен духовой оркестр. Вера держит его под руку и что–то рассказывает. Он слушает, улыбается, тоже что–то говорит. Она смеется, возможно, не от его остроумных слов, а просто так оттого, что так хорошо жить на земле, бродить среди цветов под звуки оркестра. Он обнимает девушку за плечи и прижимает к себе. Она вдруг вырывается и бежит к мороженщице. Берет эскимо и протягивает Леночке, которую он ведет за руку. Девочка начинает разворачивать обертку.
— Леночка, а что нужно сказать маме? — спрашивает Деркачев.
Лена поднимает голову и говорит Вере:
— Спасибо!
Он поправляет платье дочери, берет девочку за свободную руку, и они направляются мимо фонтана.
— Мама, давай сфотографируемся! — просит Леночка Веру, увидев фотографа возле фонтана.
— Давай! — поддерживает дочь Деркачев.
Он осторожно берет Леночку под мышки и сажает в самолет, а сам встает рядом с Верой у нее за спиной.
И вот эта фотография в рамке висит на стене в комнате. На полу на ковре сидит Деркачев с пятилетним сыном. Они что–то мастерят. Вокруг них разбросаны разные детали и лежит коробка с надписью «Конструктор». В комнату входит Вера. Она чем–то озабочена.
— Дима! — говорит она. — У Леночки температура!
Деркачев быстро поднимается с пола и торопливо идет в детскую, где на кроватке разметалась девочка.
— Может, врача вызвать? — тревожно шепчет Вера.
Деркачев отогнал видение, решительно вскочил с кровати, быстро заправил выбившуюся сорочку в брюки и направился к двери. Но вдруг остановился, медленно вернулся назад и сел на кровать. За окном, в парке, духовой оркестр играл вальс «Синий платочек». Музыка звучала томительно–грустно, то замирала, то вновь возвышалась. Деркачев нагнулся, вытянул из–под кровати свою спортивную сумку за длинный ремень. Расстегнул. В сумке аккуратными стопками лежали пачки денег. Он взял одну, покрутил в руке, резко сжал, швырнул в сумку и ногой загнал ее назад, под кровать. «Если бы не эти деньги, как было бы просто!» Деркачев сидел неподвижно довольно долго. Потом встал, поправил сорочку перед зеркалом и вышел в коридор.
— Лида! — сказал он громко. — Я пойду прогуляюсь. Поезжайте на дачу без меня… Я один туда приеду… Потом… А может быть, вместе с Верой!
— Хорошо! — ответила из кухни Лида. — Ступай! Мы вас ждем! Долго не задерживайтесь!
Минут через пять после ухода Деркачева пришел с работы Маркелов, пришел, сильно прихрамывая.
— Что с тобой? — тревожно встретила его жена.
— Черт, ногу подвихнул! Ступить нельзя, ой! — стонал он, снимая туфли.
Лида помогла ему разуться, отвела в комнату на софу, сняла носок и начала растирать ступню. На ней не было видно ни синяка, ни опухоли. Маркелов охал, кряхтел. Лида хотела вызвать врача, но Виталий Трофимович отказался:
— Часа два полежу — пройдет, опухоли–то нет! Лучше водочный компресс сделай… А Дима где?
— Прогуляться вышел… — суетилась возле него жена.
О поездке на дачу теперь и думать было нечего. Лида полила чистую тряпку водкой и перевязала ушиб. Маркелов улегся на софу, вытянул «больную» ногу и попросил включить телевизор. Леночка осталась с отцом. В комнате сильно пахло спиртным.
Расстроенная Лида разобрала на кухне сумки с продуктами, приготовленными к поездке на дачу, и решила убрать квартиру. Уборку начала с комнаты Деркачева. Вытерла всюду пыль, принесла швабру и ведро с водой. Взяла «дипломат» Деркачева и положила на стул, потом потянула за ручку сумку из–под кровати. Тяжелая сумка была расстегнута, и в ней видны были пачки денег. Сверху лежала одна с порванной упаковкой. Лида, увидев деньги, испуганно выпрямилась и закричала, сжимая ладонями щеки:
— Витя! Витя!
Маркелов вбежал в комнату, не забывая прихрамывать.
— Смотри! — указала ему Лида на сумку.
Виталий Трофимович растерянно уставился на деньги, затем наклонился, вытянул одну красную пачку повертел в руке и осторожно, будто опасаясь, что она взорвется, опустил назад.
— Откуда они? — прошептала Лида.
— А я знаю! — так же шепотом ответил Маркелов.
— Что же делать?
— Придет — пусть выметается отсюда! — заявил Виталий Трофимович.
— Может, в милицию сообщить… — нерешительно предложила Лида. — А вдруг он их украл?
— Украл? Где он мог украсть?
— А где же он взял столько?
— А если украл, заявишь, а ночью дружки придут и придушат… Иль сам… когда вернется оттуда! На черта он нам нужен, пусть убирается!
— Ну да! Ну да! — охала Лида. — Забирай ты его вещи! Отнеси от греха подальше… Ой, а нога–то у тебя!
— Ничего, она уже прошла почти! — потопал ногой по полу Маркелов. — Куда он направился?
— Сказал, что погуляет, потом с Верой на дачу поедет…
— С Верой? На дачу? — сел на кровать Виталий Трофимович.
— Ну да!
— Я… Я иду… — засуетился Маркелов, перестав хромать. — Собери–ка быстренько его вещички!
Через пять минут он уже спускался по лестнице, лихорадочно соображая, что делать, если Деркачев с Верой приедут на дачу и встретят там Артамонова. Что делать? И вдруг обожгла мысль: «А что, если… их там… вместе, деньги–то мне останутся!» Надо бы только успеть на дачу раньше их. Маркелов поймал такси.
16
Деркачев, выйдя из дому, перешел улицу и направился мимо высоких колонн у входа в парк, мимо памятника летчику, неподалеку от которого под старым дубом сидели полукругом музыканты духового оркестра. Они отдыхали, опустив инструменты, и о чем–то тихо переговаривались между собой. Возле них в тени под деревьями на скамейках сидели слушатели. Вокруг одной из скамеек толпились мужчины. Там играли в шахматы. Было жарко. Деркачев медленно брел по широкой аллее к фонтану. Откуда–то издалека из глубины парка, по–видимому, от Зеленого театра доносилась песня: «Где же ты, счастье? Где светлый твой лик? Где же ты, счастье?»
Пел, а вернее, спрашивал, вопрошал судьбу свою мужчина. От этих слов, от мучительно тоскливого голоса Деркачеву стало невыносимо грустно, и казалось, что не певец спрашивает, a он: «Где же ты, счастье? Я тысячу рек переплыл! Где же ты, счастье?»
Около фонтана Деркачева обдало прохладной водяной пылью. Он сел на скамейку напротив. При сильном порыве ветра водяная пыль достигала его и на мгновение освежала. Рядом с фонтаном играли две маленькие девочки. Они были в одинаковых платьицах и босоножках. Девочки забегали в то место, где оседала водяная пыль, и замирали, сжавшись и широко раскрыв глаза. Когда их осыпало брызгами, они с радостным визгом выскакивали на сухое место.
«Где ты, я песню тебе посвятил? Где же ты, счастье?»
Мальчик лет семи стоял, прислонившись боком к парапету фонтана, ел мороженое, доставая его палочкой из бумажного стакана, и смотрел на девочек. Покончив с мороженым, он наклонился через парапет, попытался достать стаканом воду. Мать мальчика недовольно позвала его к себе и что–то долго и сердито говорила ему. Мальчик тихо стоял перед ней, опустив голову, и теребил бумажный стакан. Потом послушно побрел к урне, опустив в нее стакан, вернулся на свое место к парапету и продолжал тихо наблюдать за девочками печальными глазами.
К скамейке Деркачева приближался малыш, вероятно, месяца два назад научившийся ходить. Он катил перед собой свою коляску, крепко держась за борт пухлыми пальцами и усердно упираясь в асфальт слабыми еще ногами. Временами малыш останавливался и рассматривал человека, сидевшего напротив, умными и любопытными глазами. Сделав какой–то вывод о человеке, он поворачивался и катил коляску дальше. Малыш, видимо, заметил, что Деркачев наблюдает за ним, остановился возле и, держась, одной рукой за борт, стал смотреть на Деркачева. И непонятно отчего противным до омерзения показался себе Деркачев, словно сделал он что–то гадкое этому мальчику и тот знает и смотрит на него без всякого укора, будто от Деркачева иного и ждать нельзя. «Уйди, мальчик!» — захотелось крикнуть Деркачеву, но он поднялся сам и быстрым шагом пошел по аллее. Он не смотрел вокруг, глядел в землю, он чувствовал себя виноватым перед всеми, и в то же время озлобление на всех вскипало в нем.
Так ходил он по парку, переходя с одной аллеи на другую, пока не оказался возле летнего кафе. Оно все было оплетено каким–то вьющимся растением. Несмотря на жаркий день, внутри было прохладно и полутемно. Два стола были заняты парами, да два парня и пожилой мужчина стояли возле стойки. Продавец наливала вино в стакан.
Деркачев встал в очередь за парнями и окинул взглядом обе парочки. Взглянув на одну, он усмехнулся. Здесь все ясно! Девушка с сожженными перекисью водорода волосами держала в отставленной назад руке сигарету и сидела вроде бы обычно, но вместе с тем в ее позе чувствовалось какое–то бесстыдство. Парень ее был чересчур вежлив, чересчур внимателен к ней, и это ей нравилось, а он все подливал и подливал вина в ее стакан.
Деркачев перевел взгляд на другую пару. Парень с девушкой тоже сидели напротив друг друга, боком к Деркачеву. Между ними стояли две бутылки «Фанты» да два стакана и тарелка с несколькими конфетами. Все это стояло даже не между ними, а сбоку от них, а они облокотились локтями о стол, наклонились друг к другу так близко, что едва не касались головами. Парень что–то тихо говорил, а девушка теребила в руках конфетную обертку и изредка вскидывала глаза на парня. И такая нежность, такая любовь чувствовались во взгляде, да и во всей фигуре девушки, что казалось, будто каждый волосок ее обыкновенных русых волос, лежавших на плечах, куда она отбрасывала их, когда они сползали на щеки, каждая прядь излучала любовь!
И такой показалась эта пара трогательной, что Деркачев сам почувствовал нежность и ревность. Ревность не к парню, нет, а вообще к любви. Почему этот парень и эта девушка могут переживать такое чувство, что даже среди людей они в уединении! А почему он обделен? Почему? И вдруг в голове Деркачева мелькнула мысль, что никто не виноват в этом. Никто! Он сам себе отрезал путь к любви. Понял, что напрасно думал, что приближает жизнь, настоящую жизнь, а сам отдалял ее, уходил дальше и дальше.
— Молодой человек, вы что, заснули? Что брать–то будешь?
Деркачев не сразу понял, что это относится к нему.
— Молодой человек, не задерживай людей! — сердито повторила продавец.
— Три бокала шампанского, — неожиданно для самого себя торопливо заказал Деркачев. Он расплатился, подошел к парню с девушкой и поставил перед ними два бокала. — За ваше счастье! — улыбнулся он грустно. — Я прошу вас! За ваше!
Парень с девушкой удивленно подняли головы, переглянулись и смущенно заулыбались.
— Ну что вы! Зачем?
— Я прошу вас! — повторил Деркачев.
— И за ваше счастье! — поднял парень бокал. Девушка тоже робко коснулась своего.
— Спасибо, мальчик! Но счастье, видно, мне не по карману!
Деркачев выпил, поставил бокал на соседний стол и направился к выходу. На улице он поймал такси.
— Фестивальная, сорок три, — буркнул Деркачев, опускаясь на заднее сиденье.
Таксист подождал, пока он захлопнет дверь, и молча включил сцепление. Он сразу определил, что пассажир чем–то расстроен, и сам почувствовал какое–то беспокойство, непонятную тревогу. Машина прошла вдоль парка и вышла на Сумскую улицу. Тревога не уходила. Таксист взглянул в зеркало на пассажира. Деркачев хмуро смотрел в окно, закинув руку на спинку сиденья. «На кого он так похож?» — подумал таксист и вспомнил одноклассника жены, которого они вчера случайно встретили в кинотеатре. Ночью жена рассказала, как одноклассник ухаживал за ней в школе, как целовались они на диване в ее комнате, когда родителей не было дома.
— Мужу такие вещи не рассказывают, — сказал таксист и повернулся в постели на другой бок, изображая обиженного.
— Почему? — подняла голос жена. — Детская любовь! У нас все было чисто..,
— Чисто… как у трубочиста, — буркнул он.
Жена обиделась всерьез и утром хмурилась, а он чувствовал себя виноватым, пытался развеселить ее, загладить вину.
Вспомнив это, таксист усмехнулся над своей тревогой и снова взглянул в зеркальце. Пассажир по–прежнему смотрел в окно, думая грустную думу. И вдруг таксист увидел перед собой милицейскую ориентировку, которая появилась в таксопарке недавно, увидел фотокарточку преступника. Он? Память на лица у таксиста была цепкая. Он опять кинул взгляд в зеркальце, проверяя себя. «Он!.. Только не показать вида…» Машина пересекла трамвайные рельсы, глухо гремя колесами и покачиваясь, свернула на Фестивальную улицу и мягко покатила по черному, недавно уложенному асфальту. А Деркачев все думал и думал, что он скажет Вере, представил, как она отнесется к его словам… Как–то нужно, нужно выходить из положения. Возле дома Веры он указал водителю, где нужно остановиться, вытащил из кармана три рубля и добавил:
— Погоди немного…
Он хотел взять Веру и вместе с ней отправиться на дачу. Деркачев выбрался из машины и быстро пошел к подъезду… А Вера в это время сидела в электричке, приближаясь к поселку Южный, где была дача Маркелова.
Таксист с бьющимся сердцем увидел возле соседнего подъезда две телефонные будки. Когда дверь захлопнулась за Деркачевым, он вылез из машины, постучал носком туфли по колесу и, сдерживая шаги, направился к будке. Милиция отозвалась мгновенно.
— У меня в машине преступник, которого вы разыскиваете! — прикрываясь рукой и искоса поглядывая на дверь подъезда, где скрылся Деркачев, быстро сказал таксист.
— Кто вы? Кто преступник? Где находитесь? — быстро спросил дежурный.
— Петров я! Таксист! — дрожащим голосом говорил водитель. — Номер двадцать восемь–тридцать пять… На Фестивальной улице мы… дом сорок три. Он сейчас вернется! Фамилию точно не помню… чков — последние буквы. Дерчков! Так, кажется…
— Деркачев?
— Да–да! Деркачев!.. Он!
— Один?
— Был один… Сейчас вернется!
— Куда едет?
— Не знаю.
— Поезжайте, куда скажет! Только спокойно! Спокойно! Не суетитесь! Никакой самодеятельности. Ясно?
Через две минуты оперативная машина с дежурными оперуполномоченными Морозовым, Чистяковым и Трофимовым, который сидел за рулем, отъехала от милиции. Всем постам ГАИ был передан номер такси, в котором ехал Деркачев.
Таксист вернулся к машине. Снова постучал ногой по колесу: увидел пыль на штанине брюк, нагнулся и стал отряхивать ее рукой. За спиной он услышал стук двери и невольно оглянулся. Деркачев вышел из подъезда один и торопливо направился к нему. Таксист сжался. «Неужели видел, как я звонил?»
— В Южный! — бросил Деркачев и полез в машину.
Таксист не торопясь уселся за руль и медленно отъехал от бордюра, поджидая, когда обгонит его «Москвич», чтобы развернуться. За городом по ровному шоссе можно было гнать быстро, но пассажир не торопил, и таксист ехал спокойно, не обращая внимания на то, что их беспрерывно обгоняют машины. В боковое зеркало он высматривал сзади милицейскую машину, но не видел и нервничал: «Неужели до сих пор не засекли? Может, возле поста ГАИ остановят?» Деркачев сидел в прежней позе, только глядел теперь вперед, на дорогу. Пост ГАИ проехали спокойно, словно никому до них не было дела. Таксист не знал, что его машину не выпускает из виду невзрачный сероватого цвета «Жигуленок», который пристроился к ним на выезде из города.
Неподалеку от поселка Южный их обогнало такси, в котором сидел Маркелов. Он оставил вещи Деркачева на вокзале в камере хранения и летел на дачу, стараясь предупредить Артамонова, что Вера приедет не одна.
Девушка тем временем подходила к даче, вспоминая вчерашний разговор с начальником жилотдела. Лида знает Артамонова лучше, она подскажет, что делать. Диме Вера тоже хотела рассказать. Она была уверена, что он поймет, одобрит, даже если придется уйти из райисполкома без квартиры.
Дверь на веранду дачи была распахнута, но окна плотно закрыты шторами. В саду никого не было видно. Вера поднялась на веранду, вошла в комнату и вдруг увидела Артамонова на диване с книгой в руках.
— Вы? — растерянно остановилась на пороге девушка.
— Я! — улыбнулся Василий Степанович.
— А где Лида? Виталий?..
— Они сейчас придут, — поднялся Василий Степанович и положил книгу на диван.
Маркелов выскочил из такси на площади и побежал по тропинке среди кустов желтой акации. Вышел к даче он с другой стороны. Мягко обежал вдоль стены вокруг, остановился возле открытой двери веранды и прислушался. В комнате разговаривали. Слышались голоса Веры и Артамонова. Маркелов скинул туфли и в носках на цыпочках вошел на веранду, потом прокрался в коридор и встал за дверью.
Деркачев расплатился с таксистом неподалеку от дачи, вылез из машины и направился к калитке, издали увидев открытую дверь веранды. Он шел не оглядываясь, уверенно. Оперуполномоченные наблюдали за ним из машины. Когда Деркачев открыл калитку и вошел в палисадник одной из дач, машина медленно подъехала ближе, остановилась за деревьями. Оперуполномоченные вышли из нее и двинулись к калитке. Сквозь ветви деревьев видно было, как Деркачев стоял спиной к входу в палисадник рядом с открытой дверью веранды и прислушивался к чему–то.
Он, подходя к даче, увидел возле ступенек туфли Маркелова. «Что это они здесь валяются?» — удивился он и услышал в комнате незнакомый мужской голос.
— Верочка! — говорил мужчина со злостью. — Ну что тебе это даст? Что ты от этого выиграешь? Я лишусь всего, но и ты окажешься у разбитого корыта!..
Вера что–то тихо отвечала.
— Ну смотри! Дело твое! — громко и зло сказал мужчина.
И сразу же в комнате раздался какой–то стук, будто упал стул, сдавленный крик женщины, короткое ругательство мужчины, снова что–то с шумом упало, и послышались звуки борьбы, хрип. Деркачев влетел в комнату и увидел на полу два извивающихся тела. Мужчина обеими руками сжимал горло Веры. Она хрипела, билась, извивалась по полу с перекошенным лицом. Деркачев кинулся к ним, схватил мужчину за волосы и рванул в сторону. Артамонов отлетел к стене, но тут же, как кошка, вскочил и бросился на Деркачева. Они покатились по полу. Маркелов слышал разговор Василия Степановича с Верой, слышал, как она захрипела. Он понял, что Артамонов начал ее душить, и сжался за дверью, зная, что никогда уже не забыть ему этого. И тут кто–то мелькнул мимо него в комнату. Раздался вскрик Артамонова, стук. Маркелов, чувствуя, как доски прогибаются под его ногами, вышел из–за двери и заглянул в комнату. Вера неподвижно лежала возле стола, а Артамонов и Деркачев катались по полу. Было видно, что Деркачев сильнее. Наконец он оказался сверху, обеми руками ухватил Артамонова за волосы и начал бить головой об пол. Маркелов, дрожа, огляделся, ища что–нибудь, чем можно было ударить Деркачева. В коридоре на стуле он увидел молоток, сжал его мокрыми вздрагивающими пальцами и шагнул в комнату. Из–за непонятного звона и шума в ушах он не слышал быстрый стук шагов в коридоре.
— Ни с места! — громыхнуло сзади.
Маркелов выронил молоток и пригнулся, закрыв рукой затылок, словно защищаясь от удара.
Крикнул Морозов. Он влетел в комнату впереди Трофимова. Вслед за ними появился Николай. Морозов увидел на полу неподвижную девушку, Деркачева, сидевшего верхом на Артамонове, выхватил пистолет и рявкнул:
— Встать! К стене! Все к стене!
И подтолкнул в спину Маркелова. Виталий Трофимович, по–прежнему не оглядываясь, подковылял к стене и уперся в нее обеими руками. Деркачев поднялся медленно и шагнул к Вере, но Морозов снова крикнул резко:
— К стене! — и сказал Трофимову: — Посмотри девушку.
Артамонов сидел на полу и, морщась, держался рукой за затылок.
Трофимов нащупал у Веры пульс:
— Жива!
Он бережно поднял девушку и понес к дивану.
Предательство документальная повесть
Жизнь сюжетна. И в этой истории есть своя завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Все персонажи живут и здравствуют, имена почти всех знакомы читателям, которые интересуются литературой. Ни одного вымышленного имени в повести нет.
1. Завязка
В начале ноября 1989 года были у меня вечером московские прозаики Валера Козлов, Роман Федичев и Анатолий Кончиц. Я в то время возглавлял созданное мной литературно–редакционное агентство «Глагол», а Козлов с Федичевым были его членами. Мы только что выпустили книгу Сергея Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила», сдали в типографии книги Николая Бердяева «Судьба России», сборник документов и воспоминаний «Отречение Николая II» и альманах «Глагол». Дела шли успешно, и, должно быть, вечер мы провели в обсуждении издательских дел. Жена Кончица оформляла альманах. Гости собрались уходить, как затрещал телефон. Звонил секретарь парткома Московской писательской организации Иван Уханов. Я был его заместителем.
— Петр, сказал он, — сегодня секретариат был. Решили тебя предложить директором издательства «Столица». Как ты к этому относишься?
— Меня?! — удивился и засмеялся я. — Да вы что? Очумели?
— Ты подумай…
— И думать нечего! Вы тоже выбросьте из головы. Лучше Кравченко кандидатуры нет.
— Он отказался.
— Все равно, обо мне и речи быть не может…
Я положил трубку, ни на секунду не сомневаясь, что поступил правильно.
— Директором в «Столицу» предлагают. — смеясь, сказал я ребятам.
Признаться, приятно было, что мне предложили и приятно, что я отказался.
— Зачем отказываться? Иди! — сказал Кончиц.
— На черта мне такой хомут, у нас свое издательство.
— «Глагол» — одно, а «Столица» — другое!
«А может, зря отказался? — мелькнула шальная мыслишка. — Нет, все правильно!»
Московские писатели двадцать лет добивались своего издательства, и наконец Совет Министров СССР постановил — открыть! Теперь шли споры — кому быть директором? Говорилось о кандидатах и на заседаниях парткома, но никогда не называлось мое имя. Обычно разговор шел о Ханбекове, главном редакторе художественной литературы Госкомиздата СССР, и о Кравченко, опытном издателе. Раньше он, кажется, был директором издательства «Книга». Через два дня должен был состояться Секретариат Московской писательской организации, на котором будут выбирать директора. Себя в «Столице» я не видел ни в какой роли. Все мысли мои были заняты «Глаголом».
В нем я готовил к изданию два своих новых романа. Первый вот–вот должен был появиться в «Советском писателе». В «Глаголе» же я пытался реализовать себя как издатель.
Посмеялись мы, пошутили над моей кандидатурой в директора и распрощались.
— Ты смотри это… не согласись! — сказал, уходя, Валера Козлов серьезным тоном.
— Что я, дурак! — уверенно ответил я.
А утром позвонил Виктор Павлович Кобенко, секретарь Правления Московской писательской организации, и попросил зайти к нему. Срочных дел в «Глаголе» не было, и я пообещал, зная наперед, о чем будет речь, и зная, что откажусь.
Кобенко человек грубоватый, энергичный, опытный советский администратор. Тогда еще чувствовал себя во всех хитросплетениях советской системы, как щука в озере. Это теперь он растерялся, будто в аквариум попал. Вроде бы та же вода, те же водоросли, та же тина, а куда ни ткнется — стенка. Посмотришь со стороны — та же энергия, тот же напор, та же бодрость, а приглядишься всё невпопад, растерянность, неуверенность в правильности поступков, подозрительность — как бы не обманули. Меня он, думаю, совсем не знал до той встречи. Встречались изредка на заседаниях парткома, а разговаривать не приходилось.
В кабинете он без обиняков сказал, что у секретарей мыслишка появилась: толкнуть меня в директора. Я ответил, что уже осведомлен и отказался, и отказ свой подтверждаю.
— Ты не торопись, подумай. Сейчас мне ни согласие твое, ни отказ не нужны. Завтра Секретариат, и утром Михайлов (председатель Правления МО СП РСФСР) с тобой поговорить хочет. Иди, думай!
Я ушел, стал думать. И начало свербить: почему не согласиться? Все–таки директор государственного издательства! И работа по мне — смогу! Сил хватит!
Жена моя встала на дыбы: «Нет!!! Поработал в «Молодой гвардии», хватит! Никаких издательств! В «Глаголе» дела хорошо идут, работай! В нем ты сам себе хозяин, а в «Столице» восемьдесят начальников будет!»
Но свербило всё сильнее. Утром я был готов.
С Михайловым разговор был короткий — я согласился. И вот Секретариат, обсуждение кандидатур на должность директора. Начали с Ханбекова, главного редактора художественной литературы Госкомиздата СССР. Секретари выступали, хвалили его так, что я краснел, вжимался в кресло, чтоб стать незаметней, клял себя за то, что притащился сюда. Стыдно будет перед всеми, когда изберут Ханбекова: мол, разгубастился я, прилетел на Секретариат, директором захотелось стать. По тому, что говорили о Ханбекове, лучше кандидатуры и быть не могло. Я и сам бы с удовольствием проголосовал за него. Следующим шел Мезинов, бывший секретарь парткома МО, хорошо знакомый всем секретарям человек. История повторилась. Его хвалили, а я вжимался в кресло. И третьего — Ляпина, бывшего главного редактора издательства «Детская литература», и четвертого — Цыбина, известного поэта, приняли на ура. Я успокоился, смирился, что директором не стану, приготовился перенести неудобство поражения. Радовало то, что почти никто из секретарей меня не знал, да и лица большинства присутствующих мне были незнакомы. Очередь дошла до меня.
Михайлов представил меня, рассказал, как уговаривали. Я видел, что разглядывают меня с доброжелательным интересом. Началось обсуждение. И тут я услышал о себе столько хорошего, что ни до этого, ни после никогда не слышал. Оказалось, что кое–кто знал о моей кооперативно–издательской деятельности. Не знаю, искренне ли говорили обо мне хорошие слова или, узнав, что начальство склонно видеть директором меня, потрафляли ему. Скорее всего второе.
Дали слово кандидатам. И тут оказалось, что из пятерых присутствую только я один. Я поднялся, сказал, что не сразу согласился, что размышлял долго, пока не решил для себя, что смогу.
Голосование. И новая неожиданность. Все секретари единогласно проголосовали за меня.
Итак, я директор нового издательства. Начинать работу с 1 января 1990 года. Впереди полтора месяца. Ночами я думал о будущей работе, планировал, что сделать, чтобы быстрее пошли книги. На заседаниях парткома, когда обсуждались будущие дела издательства, говорилось, что, если будет издано в первом году работы книг десять, и то хорошо. Я же для себя поставил задачу издать сорок книг, но требовал потом, чтоб издали шестьдесят.
Московские писатели, создавая новое издательство, хотели построить его работу по–иному. Во главе должен был стоять не директор, а главный редактор. Это первое отличие издательства от существующих. И второе. Хотели сделать правление работающим постоянно, чтобы писатели были хозяевами в издательстве, чтобы каждая рукопись была под их контролем. Правление было избрано раньше, чем директор. Выборы проходили шумно, бурно, со спорами, обидами. Оставалось избрать главного редактора.
Я знал, что на пост главного редактора три кандидата: Ляпин, Цыбин (о них я уже упоминал) и Леонид Бежин. Бежин — один из главных героев моего повествования, потому и скажу о нем побольше. Мы с ним одногодки. Десять лет считались приятелями. Познакомились в литературном объединении «Зеленая лампа» при журнале «Юность». Оба посещали семинар Андрея Битова — Владимира Гусева. Мы были тогда молодыми литераторами, выпустили по одной книге. Я только что переехал в Москву и работал плотником в РСУ, а он — филолог, кандидат наук — научным сотрудником в институте. Я провинциал, крестьянский сын а он коренной москвич, внук Арбата. Я внимательно следил за новинками литературы, особенно молодой, слышал о нем, читал его книгу. Встретились впервые на занятиях семинара. Меня поразило, что выступал он как–то академично, монотонно, правильно и суховато. Кстати, в «Зеленой лампе» я приобрел близкого друга, с которым теперь провожу много времени, утешаюсь при неудачах. Это Валера Козлов. Сейчас он член Союза писателей, чудесный прозаик, художник слова. Но, к сожалению, мало пишет. Познакомился я в «Зеленой лампе» и с Петром Паламарчуком. Как и Бежин, он внук Арбата и кандидат наук. И Валера, и Паламарчук будут многократно появляться в моей повести, потому я и знакомлю вас с ними. Но продолжу о Бежине. Как видите, жизненный опыт у нас разный, писали о разном, характеры тоже разные: я эмоциональный, вспыльчивый, несдержанный, а он спокойный и, как мне казалось, интеллигентный. Я не знал, что интеллигентность — это состояние души, а проницательностью, умением заглянуть в душу человека я никогда не отличался. И так был нелепо воспитан, что считал всех, с кем знакомился, добрейшими людьми, что никто мне никогда зла не сделает. И знаете, почти до сорока лет мне никто никогда не делал зла. Видимо, мне везло на друзей и знакомых.
Общего у нас с Бежиным было мало, но нас сближал общий друг. В этой истории он никакого участия не принимал, и называть я его не хочу, хотя человек в литературных кругах он известный. Судьба у него тяжелейшая, но, несмотря на это, он жизнерадостный, веселый, открытый человек. Без комплексов. Когда я вспоминаю о нем, на душе становится светлей, веселей. Он рассказал мне, посмеиваясь, что жена его родила второго ребенка и заявила, что не выйдет из больницы с ребенком, если он не порвет с Бежиным. И ему пришлось дать слово жене, что с Бежиным он больше никогда не встретится. Я воспринял это как курьезный случай, как бабский каприз, посмеялся вместе с нашим общим другом и забыл. Вскоре второй случай произошел. В то время я, будучи заведующим редакцией в издательстве «Молодая гвардия», затеял альманах, где в одной из рубрик знакомил читателей с творчеством молодых писателей. В первом же номере я хотел рассказать о Бежине: напечатать интервью с ним и большую критическую статью обо всех его публикациях. С этой целью я послал к нему молодую журналистку, толкового критика. Она поговорила с Бежиным и, вернувшись от него, сказала с каким–то отвращением: «Какой мерзкий человек! Фу! Зачем ты о нем печатать хочешь?..» Я не придал никакого значения и ее словам, подумал, вдруг он, холостяк, попробовал как–то неуклюже поухаживать за молодой обаятельной журналисткой, и это вызвало в ней отвращение. И был третий звонок… Это я сейчас их вспоминаю и анализирую, а тогда я их напрочь отбрасывал, забывал. Сидели мы на пленуме Московской писательской организации, где избирали главного редактора. Я рядом с Валерой Козловым, а Бежин впереди нас с нашим общим другом, жена, которого так не хотела, чтобы он виделся с Бежиным. Я был поглощен спорами о кандидатах, страстно желал, чтоб главным стал Бежин. Болел за него, перебрасывался с ним шутками.
И вдруг Валера, зная, что я болею за Бежина, сказал мне тихо:
— Ты обрати внимание, как от него воняет! Какой он весь засаленный, непромытый… Смотри, человек внешне нечистоплотный, нечистоплотен и внутренне…
Я на такие мелочи внимания не обращал в отличие от Валеры, который наблюдателен, тонко подмечает детали в человеческом характере, слова, мелкие поступки и соединяет их, потому и судит о людях более точно, чем я. И я снова отмахнулся и забыл об этом замечании.
В первый день никто из претендентов на главного не набрал нужного количества голосов, а во втором заходе выиграл Бежин. Я радовался.
К этому времени, не дожидаясь, когда официально вступлю в должность, я начал действовать как директор, хотя никто не заставлял меня делать это, мог бы и подождать начало нового года. Но нужно было открывать счет в банке, заказывать печать, а для этого необходимо пройти массу бюрократических процедур, нужны Устав и другие документы с подписями главного бухгалтера, которого не было, и было неизвестно, когда он появится. Устав нужно было утверждать на Правлении и Секретариатах, которые не каждый день собираются. Я действовал так: взял Устав издательства «Современник», вместо слова «Современник» поставил «Столица», перепечатал, уговорил подписать секретарей и сдал Устав в милицию и в банк, открыл счет и получил разрешение на изготовление печати. Тогда это было не так просто, как сейчас. Все документы за главного бухгалтера подписывал Бежин. Образец подписи Бежина как главного бухгалтера сдали в банк. Он подписывал все платежные документы в течение месяца, пока в феврале не появился настоящий главный бухгалтер, правда подписывал он своей настоящей фамилией — Бадылкин. Бежин — псевдоним. Но в дальнейшем он, по–видимому, совсем откажется от отцовского имени. Сужу об этом по тому факту, что жена его станет не Бадылкиной, а Бежиной.
Оформляя издательство, я одновременно добивался фондов на бумагу. Заказ нужно подавать в Госплан еще в марте, все сроки вышли, но я узнал, что утверждает заявки Госплан в ноябре, побежал в издательство «Советский писатель», взял там бланки заявок на бумагу, заполнил их аж на три тысячи тонн и в Госплан. Там сказали, что через два дня утверждение. Успел, повезло, выделили. Но дали всего семьсот сорок тонн. Рад был и этому.
В эти же дни я самостоятельно готовил к изданию первую книгу. Я нацеливался издать в «Глаголе» книги историка Ивана Забелина. Одна — «История города Москвы» — как раз подходила для «Столицы». Михайлов одобрил, правление утвердило, и я снова в «Совпис», заказал оформление, техническую редактуру и стал искать типографию. «Детская книга» согласилась печатать за восемь процентов от номинала. Баснословно!
А издательство официально еще не приступало к работе.
Спешно набирались кадры. У меня для этого не было времени, и занимался кадрами Бежин. Я не хотел брать в штат редакторов, они могли работать внештатно. Набирали заведующих и младших редакторов. Неожиданно для меня заведовать исторической редакцией пожелал Петр Паламарчук. Я не думал, что он пойдет ко мне заведующим.
Пора познакомить вас с еще одним действующим лицом, возможно, главнейшим в этой истории. Сергей Панасян, член Союза писателей, старший редактор издательства «Советский писатель». Внешне он типичнейший армянин, спокойный, молчаливый и, как считает он себя, очень хитрый человек. Познакомился я с ним в издательстве «Молодая гвардия». Туда я пришел работать, а он собирался уходить из той же редакции в «Советский писатель». Познакомились, подружились. Прежде я был плотником, в редакторской работе ничего не понимал, всех редакторов слушал, разинув рот, а его тем более. Но он больше говорил со мной не о тонкостях редакторской работы этому я учился у других, говорил он о психологии взаимоотношений редакторов с авторами, с другими редакторами, с начальством. И потом, когда он заглядывал к нам из «Совписа», мы подолгу разговаривали с ним. Позже он станет редактором моего романа «Заросли», который вышел в те дни, когда я стал директором и «Столице» потребовался заместитель главного редактора. На этой должности хотелось иметь единомышленника, и я через нашего общего друга закинул Бежину имя претендента на зама — Панасян. Бежин пришел ко мне советоваться: не взять ли ему себе заместителем Панасяна. Я одобрил.
На первое заседание правления издательства я шел, волнуясь: как встретят, как отнесутся ко мне писатели? Сумею ли я с ними сработаться? Не отторгнут ли они меня? Сказать мне уже было что. Бумагу я добыл, переплетные материалы, кроме картона, тоже. Делал я так: подсчитывал, сколько мне нужно было бумвинила, фольги, форзаца, потом умножал на три и делал заявку в Госкомиздат. Там заявку рассматривали, делили мой запрос на три и выделяли. И все довольны: они, что урезали, а я, что получил сколько хотел.
Я выступил на заседании, рассказал о сделанном, о планах: вижу — одобряют. Я хотел, чтобы работа в издательстве шла гласно, чтобы каждый шаг наш был виден Правлению. Решили каждый месяц собираться и обсуждать дела издательства, решать, утверждать. Неожиданно подняли вопрос о власти: Анатолий Афанасьев спросил, кто будет первым лицом в издательстве: директор или главный редактор? Михайлов, он на первых собраниях Правления присутствовал, ответил, что директор отвечает за все дела издательства. Вопрос этот замялся и больше не поднимался. Позже Валентин Устинов скажет мне, что писатели хотели, чтобы издательство возглавлял главный редактор, а директор отвечал только за хозяйственные дела, но я взял всё в свои руки. В конце первого собрания Правления я понял, что писатели ни капли не разбираются в издательских делах, у многих нет желания глубоко влезать в них, и мешать они мне не будут, утвердят все, что я предложу, лишь бы обоснование мое было ясным, четким и понятным каждому. Я успокоился, почувствовал себя уверенно и не ошибся.
2. Развитие действия
Началась веселая жизнь! Помещение на Писемской, где мы должны были сидеть, весь январь ремонтировалось. Собирались сотрудники издательства один раз в неделю в Московской писательской организации. Нас было уже немало. Я не хотел брать редакторов, но как–то получилось, что то одного, то другого предлагал Бежин, я соглашался, некогда было вникать. Основные вопросы — снабжение, производство — были на мне, никто в эти отделы работать к нам не стремился. Зарплату нам установили на уровне семьдесят четвертого года. Технические работники получали сто десять рублей. Кто пойдет на такую зарплату? Мне приходилось самому мотаться по городам. Сыктывкар, Балахна, Электросталь, Киев, Ленинград, Чехов — из города в город, из типографии на бумкомбинат. И удивительно: мне почти все удавалось. Заключил договора на поставку бумаги и картона по госцене. Нашел типографии. Уже в марте, через два месяца после начала работы, вышла первая книга: «История города Москвы» Ивана Забелина. Еще через месяц — вторая: «Библия для детей». О «Столице» заговорили. Я начал активно переводить издательство на аренду, чтобы повысить сотрудникам зарплату.
В мае мы подписали договор об аренде.
Жизнь в «Столице» кипела. Кабинет мой всегда был забит людьми буквально со всех концов страны.
В городе Уварово Тамбовской области я покупал ангар, чтобы поставить в Москве склад для хранения бумаги, которая шла к нам вагонами из Балахны, Пензы и Сыктывкара; химзавод того же города поставлял нам два вагона гидросульфита натрия для обмена в Соликамске на бумагу; заключал договоры с Мичуринским кирпичным заводом на поставку кирпича тоже для обмена; пробивал землю под Москвой под дачные участки для сотрудников; в Кисловодске покупал дом для отдыха сотрудников; с ВАЗом заключал договор на поставку «Жигулей» сотрудникам; выбивал помещение для издательства (о, как это было трудно!), искал сотрудников в технические отделы издательства!
А сколько авторов бывало у меня ежедневно! В эти же дни я организовывал журналы «Русский архив», «Нива», «Фантастика» и газету «Воскресение»; учреждал малые предприятия по всей стране…
О журналах малых предприятиях расскажу чуть подробнее. В то время в стране начали появляться первые независимые газеты и журналы. Закона о них пока не было, но они уже не запрещались. Журнал — это моя давняя мечта. Теперь можно было ее осуществить. Я решил возродить Бартеневский «Русский архив». Пригласил к работе над ним Ирину Смирнову, историка, архивиста. И вдвоем потихоньку начали собирать первый номер. Однажды Смирнова прибежала ко мне в панике: случайно узнала, что еще два издательства работают над журналом «Русский архив», и якобы в одном из них книга сдана в производство. «Надо опередить!» — взвился я. Застолбить журнал за «Столицей», дать первыми рекламу! Номер был быстро сверстан, радио дало почти часовую беседу со мной о журнале, а по телевидению мы выступили вместе со Смирновой. Первый номер журнала вышел за три месяца. Когда появился Закон о печати, мы сразу зарегистрировали и «Русский архив», и «Ниву», опередив издательства, которые пришли с заявкой после нас. Первый номер «Нивы» вышел попозже. Цену мы установили три рубля за экземпляр, а с лотков он продавался за тринадцать. Очень хотелось мне иметь свою газету, но если журнал я мог делать сам, работа знакомая, то опыта газетчика у меня не было. Нужны главный редактор и журналисты. Знакомых газетчиков у меня не было. Мне порекомендовали человека, имя которого я слышал впервые. Но другого не было, и я согласился попробовать. Газета начала выходить, но не такой я видел ее. Мне представлялась она веселой и боевой, ироничной и тонкой, зубастой и умной, независимой и культурной, главной темой ее должна стать жизнь русского народа, Я надеялся, что газета окрепнет, развернется. Руки у меня совершенно не доходили до нее. До третьего номера, на мой взгляд, она потихоньку шагала вверх, появились читатели. Звонки, письма. Потом застыла на месте, стала однобокой, односторонней, и я отпустил ее на свободу, смирившись с неудачей.
Малые предприятия. О них заговорили в стране, стали поддерживать. И однажды мне пришла мысль, что под видом малых предприятий в городах России можно возродить закрытые Хрущевым областные издательства. Сколько обращений к правительству слышали трибуны писательских съездов и пленумов, но правительство безмолвствовало. А я спокойно и тихо начал открывать малые предприятия–издательства: Липецк, Тамбов, Мурманск, Калининград, Тула, Курск, Харьков и т. д., было создано тринадцать издательств и два акционерных общества. Все они получили от «Столицы» деньги для развития. Одни из них за год окрепли, прочно встали на ноги, издают книгу за книгой, другие туго, медленно развиваются. Это зависит от характера, предприимчивости руководителей и местных условий. Мне мечталось о мощном издательском концерне, где в центре стоит «Столица» с ее журналами и газетой и филиалы ее по всей стране. Каким–то образом о деятельности «Столицы» узнавали зашевелившиеся предприниматели, и вряд ли найдется хоты одна область России, представители которой не побывали в моем кабинете. Со многими завязывались деловые отношения.
А скольких новых организаций «Столица» стала соучредителем! Ассоциация книгоиздателей (АСКИ), Союз арендаторов и предпринимателей, «Россия» — по связям с зарубежными соотечественниками, «Русская соборность» и т. д. и т. п. Написал я это, и пришла мне в голову ироническая мысль: вспомнить и перечислить все свои титулы–должности, или как там их еще можно назвать, даже не знаю — в общем, то, что обычно пишут на визитках, по состоянию на первое января 1991 года. Начал вспоминать и офигел! Записываю не по важности, а по тому, как вспоминалось: директор издательства «Столица», член Союза писателей СССР, член Правления Союза писателей РСФСР, секретарь Правления Союза писателей РСФСР, главный редактор журнала «Русский архив», член редколлегии журналов «Московский вестник» и «Нива», президент акционерного общества «Голос», член правления акционерного общества «Толика», член Правления ассоциации «Россия», член Правления Международного фонда «Русская соборность». Член, член, член…
Пишу эти строки спустя год, а кажется, давно это было! И каким интересным, насыщенным было то время. Ни дня покоя, ни часа отдыха! Удивительный год! А сколько сделано! Вспоминаю сейчас и удивляюсь: неужто все это уложилось в один год? Да, за один год удалось организовать, поставить на ноги новое издательство. Создать на пустом месте и так, что о нем заговорили. Что же было сделано? Мы получили ордер на большое помещение на улице Горького неподалеку от Кремля, рядом с Центральным телеграфом, начали строить свою типографию, купили дом в Кисловодске, почти получили землю в Нарофоминском районе (облисполком подписал все бумаги), три склада ломились от бумаги, купили и привезли ангар под склад, о журналах, малых предприятиях и газете я написал. Да, начало было энергичным, мощным, красивым, а кончилось все крахом! Крахом еще более стремительным, чем рождение издательства. Я не почувствовал, не увидел начало разложения, исток будущего краха. Не заметил лишь потому, как понимаю теперь, что по отношению к людям я романтик. Да, я знаю из книг, из газет, что есть негодяи, есть преступники, есть злодеи, есть доносчики, но я никогда не верил, что мои знакомые, друзья, окружающие меня люди могут быть завистниками, подлецами, доносчиками, я не верил, что мои знакомые могут сделать мне подлость, ведь я всем желаю добра, стараюсь делать все, что в моих силах, чтоб всем вокруг меня было хорошо. Разве найдется хоть один человек на земле, который может сказать, что я сознательно сделал ему какую–нибудь пакость? Я мог кого–то нечаянно обидеть словом, шуткой, но из–за этого врагами не становятся. Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что я лишен чувства зависти. Нет, вру, я завидую Бунину: ну как ему удается так найти и соединить слова, что я не только вижу зримо все то, что он описывает, живу среди тех, о ком он говорит, но и наслаждаюсь этими самыми обычными словами. Господи, научи меня так же соединять слова, ведь я рассказываю в своих книгах совсем об ином времени, чем Бунин. Его уже нет, он не сможет рассказать! Ведь Ты, Господи, знаешь, сколько сил и времени я потратил над белым листом бумаги, чтобы найти свои слова, чтобы они вызывали такие же чувства у читателей, какие вызывают во мне строки Бунина и Достоевского… А современникам своим, особенно тем, с кем знаком, я никогда и ни в чем не завидовал. У меня свой путь, и я почти всего достиг, о чем мечтал в юности, достиг и разочаровался. Единственно, что приносит радость и наслаждение — это литература. Мне хочется повторить еще раз слова, которые я повторил в семнадцать лет: «Жизнь — это литература, а все остальное лишь материал для нее». Мне уже немножко за сорок, и осталась у меня единственная мечта — читать и писать, писать и читать. Все остальное не приносит радости.
Во мне нет зависти, и я думал, что нет ее и в окружающих меня людях. Но я ошибался…
Многие писатели, руководители Московской писательской организации гадали, думали, чем вызвано это письмо, этот донос, с которого начался стремительный крах издательства. Кто стоит за этим доносом? Кому захотелось, кто спланировал уничтожение издательства? Каких только сил не называли, не выискивали! Но никто не произнес это короткое слово — зависть!
Прошел год, ровно год, пишу я эти строки 20 февраля 1992 года, а письмо появилось 18 февраля 1991 года, и теперь, издали, я вижу, что только зависть двигала Бежиным и некоторыми его соратниками. Остальные были просто одурачены.
Но все по порядку. Вы помните, что по идее московских писателей главным лицом в издательстве должен стать Бежин. Он это знал. Я не замечал в ежедневном бурлении его состояния. Однажды давняя моя знакомая Ирина Аксенова, главный редактор журнала «Нива», сказала мне, шутя:
— Ты, директором став, ничуть не изменился. А каким важным стал Бежин! Прямо очень большой человек. Не подступись!
Я посмеялся и забыл, приняв за обычную иронию, шутку. Но я был неправ. Позже Бежин напечатает большую статью в «Литературной газете» под названием «Как я был большим человеком». Из статьи той видно, что Аксенова права. Он действительно почувствовал себя большим человеком — ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ. Я же никогда не ощущал себя директором. Некоторые друзья говорят, что это и было моей ошибкой. Не знаю! Я вел себя со всеми так же, как и когда был плотником. А Бежин, как все главные редакторы, решил посещать издательство только во второй половине дня и брать творческий день каждую неделю. Когда в журнале «Знамя» готовили к печати мою повесть, я впервые узнал, что главный редактор появляется в редакции один раз в неделю и всего на два часа. Я был страшно поражен. Думается, мою повесть он напечатал, даже не листая. Вот таким редакторам стал подражать Бежин. Естественно, за те десять–двенадцать часов, которые он проводил в издательстве каждую неделю, нельзя было даже понять, что в нем делается. У меня же рабочий день продолжался чуть ли не круглые сутки. Ложился в постель с мыслями о делах издательства, обдумывал, как быть дальше, засыпал только со снотворным. Все видели, кто из нас как работает, и, естественно, успехи издательства связывали с моим именем. Приезжает телевидение — интервью дает Алешкин, радио — Алешкин, пресса — Алешкин. Я предположить не мог, как мучается он, бедняжка, что нет у него служебной машины, что не подкатывает к его дому мотор. У нас было две машины: на одной я мотался по организациям, на другой — коммерческий директор. Дел у него тоже невпроворот…
Только теперь понимаю я, представляю, сколько бессонных ночей прокрутился Бежин в постели, сколько промучился, бедняга, когда на съезде писателей России меня избрали одним из секретарей, а его просто членом Правления. Бедный Бежин! Прости, не знал я, не представлял, что это имеет для тебя такое значение! Но ты же помнишь, как я хвалил тебя всюду, на радио, с трибуны ЦДЛ, когда у нас была презентация; в первом номере за 1991 год журнала «Полиграфия». Правда, в те дни, когда я всюду хвалил тебя, говорил, что издательству повезло с главным редактором, называл настоящим интеллигентом, ты бессонными ночами сочинял на меня донос, придумывал, как ловчее преподнести начальству, чтобы одним махом и навсегда уничтожить меня!
Да, я всюду называл Бежина настоящим интеллигентом, не только называл, но и искренне считал таковым. А себя я считал и считаю крестьянским сыном: как родился им, так и умру, хотя прошел все три слоя общества. До восемнадцати лет я жил в деревне безвыездно. Двухэтажный дом и электрическую лампочку увидел впервые в семнадцать лет, когда в первый раз приехал в город. Школу окончил при керосиновой лампе. С восемнадцати до тридцати трех, то есть пятнадцать лет был рабочим: три года на заводе, а остальные годы на разных стройках. И теперь почти десять лет нахожусь в среде, которая зовется интеллигенцией, более того, творческой интеллигенцией, так сказать, плаваю в сливках общества. И вот что меня больше всего поразило, когда я перекочевывал из слоя в слой: самый нравственный, самый чистый, искренний, добродушный и доброжелательный народ — крестьяне. Рабочие уже поразвращенней, понахальнее, но безнравственней, развращенней, пакостней, чем творческая интеллигенция, представить себе трудно. Жалкие людишки, жалкие душонки! Если ты крестьянину не нравишься, так он к тебе и не подойдет, отвернется. А интеллигент, сделав тебе пакость, будет улыбаться, кланяться, жать тебе руку, как ни в чем не бывало. Ты отвернулся, он тут же начнет о тебе гадости говорить, и главное, знает сам твердо, что клевещет, сам в свои слова не верит. Что поделаешь, такой гнилой народишко!
В издательстве на творческих должностях были в основном те, кто знаком со мной давно, с кем я бегал по литстудиям, кто знал меня плотником. А они были в то время уже научными Сотрудниками, обласканными писателями, смотрели свысока, как мельтешит рядом с ними какой–то Петька–плотник. Первая книга Бежина была сильнее моей, ее заметили, отметили. Он действительно начинал неплохо. Это потом у него стали выходить книги, содержание которых он высасывал из пальца. Да и написаны они до того скучно, что читать их можно, вероятно, только в одиночной тюремной камере, сгорая от скуки. Думается, зависть здорово пощекотала его и в те дни, когда главы из моего последнего романа напечатали в Германии и Париже журналы «Грани» и «Континент». Паламарчук тоже начинал сильнее. «Континент» напечатал его значительно раньше. Но жизнь повернулась так, что эти бывшие научные сотрудники оказались в подчинении у бывшего плотника. Как говорят, не шибко радовало этих мелких людишек то, что с обывательской точки зрения у меня неплохо складывалась карьера. В тридцать три года я начал работать простым редактором издательства, а через семь лет стал директором.
Бежин ждал случая, а Паламарчук мелко гадил всегда. Петр Паламарчук в ЦДЛ человек известный. Внешне он всегда неряшлив: волосат, бородат, черен, с круглым выпирающим брюшком, ермолку бы ему надеть, и был бы вылитый раввин. Но от раввина его отличает еще и то, что. он вечно пьян. И очень любит деньги. Нет, не наши деревянные рубли, а доллары. Умрет за доллар. Кинь доллар в вонючую лужу и скажи — можешь взять себе, но только ползком по луже, — и поползет, еще как поползет. В последнее время часто бывает за рубежом, живет у писателей–эмигрантов. Он начитан, поговорить умеет. Работая в «Столице», наверное, больше времени проводил за границей, чем в Москве. Сейчас начинают раскрывать архивы КГБ, и я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что он сексот.
3. Развитие действия (продолжение)
Годовщину издательства мы отмечали в ресторане «Прага». Было сто пятьдесят человек. Много писателей. Вспоминаю я этот вечер с некоторым стыдом и рад, что быстро уехал: у меня была больна жена. А стыдно вот из–за чего: после моего поздравления всех с годовщиной и тоста за процветание издательства, слово взял Бежин. Он говорил обо мне, восхвалял ужасно, что, мол, благодаря мне… что, если бы не я… И такой я хороший, и такой я замечательный! Свидетелей его тоста, повторяю, было сто пятьдесят человек. Произнес — выпили. Следующий тост: заместитель главного редактора журнала «Московский вестник». И опять за меня. Мне уже неудобно. Новый тост — за меня! Думаю — как остановить? А когда один из заведующих отделов издательства поднял бокал за мою жену, не выдержал, выскочил к микрофону и предложил выпить за женщин издательства. После этого я уехал домой с чувством досады и стыда…
Прошел месяц, и появился донос.
Я со своим заместителем Александром Зайцевым был в Польше. Мы хотели создать совместное предприятие с одной из фирм и по ее приглашению выехали в Варшаву. Перед отъездом я по–дружески попрощался с Бежиным. У нас с ним никогда не было конфликтов, споров. Я забыл рассказать, что однажды Бежин предложил мне в секретари–машинистки одну девушку, а потом женился на ней. Женился долго. Сначала взял отпуск на месяц, потом еще на месяц творческий отпуск, затем по путевке на юг — медовый месяц. Мы подолгу не виделись, помогать он мне в работе не помогал, не мог, не умел, но не мешал работать, и то хорошо. Руководители Московской писательской организации тоже не мешали мне, я не докучал их просьбами, и они были рады. Наш коммерческий директор Игорь Романович Фомин добился, что ВАЗ выделил для сотрудников издательства две машины, две «девятки». Одну Фомин брал себе, я не возражал. Фомин работал за три отдела. Незаменимый работник! Находка для издательства. Не будь его, вряд ли бы мы добились таких успехов. Вторую машину предложили мне. Но было неудобно брать. Я боялся, что пойдут сплетни: мол, директор гребет под себя. Как это обычно бывает. Фомин уговаривал: бери, все видят, как ты пашешь! Плюнь, бери!.. Я четвертый год стоял в очереди за машиной в Московской писательской организации, надеялся скоро получить и решил вторую «девятку» предложить Бежину. У него в кабинете была жена, моя секретарша. Я сказал, что пришла машина «Жигули», и я предлагаю ее им:
— Берете?
Они переглянулись.
— Берем! — воскликнула жена.
Теперь, когда «девятка» на бирже стоит миллион, Фомин, да и другие мои друзья смеются надо мной: подарил, мол, Бежину миллион, а он тебя за это отблагодарил. Я тоже заметил это: интеллигенция всегда за добро платит пакостью. Крестьяне этого даже понять не могут. Кстати, машину в писательской организации я так и не получил и теперь вряд ли когда получу.
Итак, я в Польше. Ночь, гостиница, я укладываюсь спать. Врывается растерянный Зайцев. Номера у нас разные, одноместные. И кричит:
— В издательстве бунт!
Я не понял.
— Только что позвонил Дейнека (заместитель директора). Говорит, тебя отстранили от должности!
— Не может быть! Кто?
— Правление арендаторов.
— А кто организовал?
— Бежин и Панасян.
— Врет!! — воскликнул я. — Они мои давние друзья! Ни за что не поверю…
— Верь, не верь, — успокаивался Зайцев. — Но Дейнека говорит, Бежин с Панасяном вызвали его, сказали, что КГБ занимается издательством. Ты уличен в каких–то махинациях. У них есть компромат против тебя. Час уговаривали, Дейнека подписал письмо… Говорит, пол–издательства подписалось… Подписал он и давай разыскивать нас в Польше. Весь вечер искал…
— Не может быть! — твердил я, — Он что–то не понял, не может Панасян быть с Бежиным.
Я не верил. В Польше нам оставалось быть еще два дня, и все эти дни я тысячу раз переспрашивал Зайцева о звонке Дейнеки, о мельчайших нюансах. Ночью не спал, размышлял, что произошло, вспоминал: не подписал ли я какой–нибудь компрометирующий меня договор или письмо? Не было этого, я был чист.
«А вдруг коммерческий директор Фомин подписал что и это всплыло?» — бросало меня в жар.
В Шереметьево нас встретили Фомин и заведующий отделом рекламы и распространения Лидия Романовна Фомина. Ее в издательство привел Бежин, но она первой из всех сотрудников высказала Бежину о безнравственности его письма, первой назвала его бездельником. Еще в Шереметьево я спросил у Фомина:
— Вы подписывали какие–нибудь незаконные договора или письма? Отпустили хоть грамм бумаги без моего ведома? Только правду!
— Нет! Никогда… — уверенно ответил Фомин.
— Слава Богу! — выдохнул я.
Право третьей подписи было у Бежина. Но это уж его проблемы. Боялся я, что мою подпись подделали, но думал, криминалисты разберутся.
Фомин рассказал мне, что, как только я уехал в Польшу, Бежин принес письмо против меня в издательство и вместе с Панасяном стал обрабатывать сотрудников издательства. К каждому был индивидуальный подход в зависимости от характера и положения. Анатолию Кончицу, да, да, тому самому писателю, который у меня на квартире первым посоветовал идти директором в «Столицу», я его потом взял старшим редактором в редакцию прозы, и он был хорошим редактором, одним из лучших, так вот ему заявили: если он не подпишет письмо, то его выгонят с работы! Об этом он сам рассказывал Валере Козлову и Роману Федичеву. И Кончиц подписал письмо. Он был также членом Правления арендаторов. По характеру Кончиц боязливый человек. Это все знают. Петр Паламарчук, тоже член Правления, с удовольствием расписался аж три раза. Я потом указал ему на его две подписи на одном листе: он промолчал. Часть подписей под письмом неразборчива, возможно, не только Паламарчук расписался пару раз. Думается, Паламарчук был не один, кого не пришлось пугать, чтобы он подписался. А пугали КГБ, тогда он был в силе. Говорили, что я проворовался, что издательством занимается КГБ, что будто бы КГБ дважды забирал Бежина на допросы, что Секретариат меня уже снял: Кобенко просит принести такое письмо от сотрудников издательства, чтобы меня просто отстранить, иначе меня отдадут под суд; что у Бежина есть документы, уличающие меня, но эти документы не хотят отдавать в КГБ, и как только я вернусь из Польши, я сам напишу заявление об уходе в обмен на эти документы. Так говорили Валере Козлову, Лидии Романовне Фоминой, главному художнику Александру Черенкову, вероятно, Дейнеке. Я ни у кого не выспрашивал, почему он подписался. Кто говорил мне сам, того и называю. Но подписывались не все. Сергею Маркову, заведующему международным отделом, сказали:
— Сережа (он наш общий давний приятель), вот письмо — выбирай: если ты с нами, подписывай, а если с Алешкиным — пеняй на себя!
Марков не подписал. Не подписали даже некоторые младшие редакторы, хотя их судьба полностью зависела от Бежина с Панасяном. А заведующий коммерческим отделом Виталий Иванов вместе с одним из инженеров хотели ворваться в кабинет к Бежину–Панасяну, взять их за горло и отобрать письмо, но Фомин, слава Богу, удержал их от этого. Представляю, сколько было бы визга, если бы это произошло.
Валера Козлов не работал в издательстве, но Бежин с Панасяном отводили ему особую роль. Они обработали его сплетней о КГБ, о том, что Секретариат уже снял меня, что у них документы есть против меня и т. п., и предложили встретить меня, уговорить написать заявление об уходе из «Столицы», потом привезти на квартиру к Бежину, где я обменяю свое заявление на документы, компрометирующие меня. Валера им поддакивал, охал, подыгрывал, чтобы выяснить, какими документами они меня шантажируют и что намереваются делать дальше.
Прилетел я из Польши в пятницу вечером, а в субботу или в воскресенье Козлов должен был привезти меня к Бежину. В субботу я встретился с Валерой у Романа Федичева, и они ввели меня полностью в курс всех сплетен, родившихся после письма. Кстати некоторым колеблющимся подписать письмо Бежин с Панасяном говорили, что письмо не понесут в Секретариат до моего приезда. Но как только подписались те, кто хотел подписаться, письмо понесли к Владимиру Гусеву. Он сменил Александра Михайлова на посту Председателя Правления Московской писательской организации. Гусев ничего не стал предпринимать до моего приезда.
После разговора с Козловым и Федичевым у меня полностью сложился план действий. И до самого конца я от него не отступал. Ничего страшного из всех сплетен для себя я не видел. Это был очевиднейший бред, которому легко верят обыватели, но который легко разбивается фактами.
А Бежин с Панасяном ждали звонка от меня или от Валеры Козлова. Звонка нет. Валера не собирался им звонить. В воскресенье они не выдержали, позвонили мне сами. Взяла трубку Таня, моя жена. Бежин попросил меня. И Таня вдруг, даже неожиданно для себя самой, сказала:
— Петя узнал о вашем доносе и остался в Польше, попросил политического убежища! — И положила трубку.
Я заржал, именно заржал. Такого интереснейшего хода я не ожидал от своей жены. Позже я узнал: у Бежина с Панасяном был шок. Они стали обзванивать всех своих содоносчиков, искать телефон Зайцева, чтобы узнать, правда ли это. Зайцева они нашли только вечером. Он мне позвонил и рассказал, как его искали. Представляю, веселенький был денек у Бежина–Панасяна.
Утром в понедельник я написал письмо в Секретариат с просьбой прислать в издательство Ревизионную комиссию для проверки, отвез Гусеву, не заезжая в «Столицу», а в издательстве сразу собрал совместное заседание Правления арендного коллектива, Дирекции и Главной редакции, то есть всех руководителей. Это заседание я полностью записал на пленку. Она хранится у меня. Перед заседанием Бежин с Панасяном, растерянные и наглые, затащили меня в кабинет, где столы их были напротив, и предложили отставить заседание, поговорить. Я отказался разговаривать с ними. На заседании Бежин попытался перехватить инициативу, перебил меня, зачитал письмо, знакомое всем. Пора и вам познакомиться с ним:
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № заседания правления арендаторов издательства «Столица» от 18 февраля 1991 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В связи с развалом работы издательства, срывом выпуска плановых книг, разбазариванием бумаги, порочной кадровой политикой, авантюристическим стилем работы и созданием неблагоприятной атмосферы в коллективе, а также ввиду отсутствия личных качеств, необходимых для управления большим коллективом:
1. Освободить Алешкина П. Ф. от занимаемой им должности директора;
2. Назначить и. о. директора Мансурова С. Г.
3. Создать временный комитет по выводу издательства из кризисной ситуации на три месяца в составе пяти человек: Бежин Л. Е., Мансуров С. Г., Зайцев А. Б., Палехова Н. С., Игнатьева В. И.
Члены правления арендаторов: Бежин Л. Е., Иванов М. М., Игнатьева В. И., Кончиц А. А., Паламарчук П. Г., Палехова Н. С., Панасян С. А., Романов Б. Н.И коллективное письмо, слово в слово повторяющее Постановление.
В дни так называемого августовского «путча» я веселился, хохотал не только потому, что весь «путч» с первой минуты казался мне глупейшей имитацией, но и потому, что этот «путч» как две капли воды походил на события в «Столице». Я смеялся, говорил многим: зря Янаев не посоветовался с Бежиным, он бы узнал, чем такие «путчи» заканчиваются! Происходило то же самое, только в масштабах страны. Произошел «путч» также, когда президента не было в Москве; Горбачева также пытались шантажировать, чтобы он написал заявление об отставке; также был создан комитет по выводу страны из кризиса; такие же сплетни–указы лились, только в масштабах страны. И, вот уж чертово число, минипутчистов в «Столице» тоже было восемь человек. И главное, так же, как и СССР, «Столица» развалилась после минипутча.
После того как Бежин зачитал письмо, я сказал, что до сих пор считал, что такие истории случаются только в романах, представить себе не мог, что такое может случиться со мной, тем интереснее мне будет следить и участвовать в этой истории для того, чтобы использовать этот материал в будущем произведении. Это у меня записано на пленку, можно проверить.
Я легко отмел все сплетни, которые распускались содоносчиками. Были сплетни до смешного глупые: например, меня обвиняли в том, что я устроил в издательство своего племянника. У меня много племянников, все они в деревнях и поселках далеко от Москвы, и ни один из них не достиг трудоспособного возраста. Это же все легко проверить. Обвиняли в том, что мы отняли у журнала «Московский вестник» четыреста тысяч рублей. Журнал выпускала «Столица», своего счета у него не было. Журнал убыточный. Сплетня — бред, но как отголосок до сих пор возникают за столами ЦДЛ эти злополучные четыреста тысяч рублей. Сплетня трансформировалась, и теперь говорят, что не «Столица» украла четыреста тысяч рублей у «Московского вестника», а лично я украл эти деньги у «Столицы». Целый ряд таких бредовых сплетен, любезных обывателю и потому неистребимых за пьяными столами, я легко отмел. Труднее было отмести главное обвинение, что я разбазарил бумагу. Это обвинение могла снять только Ревизионная комиссия, которую я вызвал.
Второе обвинение: зачем мы выпустили книгу Агаты Кристи «Десять негритят» совместно с кооперативом? Стыдно «Столице» опускаться до Агаты Кристи! Вот так… Мой заместитель по производству Иванов М. М., один из содоносчиков, привел однажды ко мне своего знакомого кооператора с проектом договора на издание книги Агаты Кристи. Мы предоставляем им свой товарный знак, а они самостоятельно издают книгу и выплачивают за нашу подпись десять процентов от стоимости книги. Я без колебаний согласился. Будучи председателем «Глагола», я тоже за подпись платил издательствам деньги. Книга вышла, и бежинцы посчитали, что «Столица» унижена именем Агаты Кристи. Бред, но что поделаешь, когда нет других аргументов — все средства хороши.
И третье обвинение, которое будет тянуться через все будущие Секретариаты и пленумы: зачем я пригрел малые предприятия, которые выращивают картошку и торгуют мороженым. Так я и не смог никого убедить, что нет у нас ни одного малого предприятия, выращивающего картофель и торгующего мороженым. Ну нету, нету! Я рад был бы, если бы оно было, но картошку выращивать трудно и малоприбыльно. Никто у нас этого не делает. Так и не поверили… Особенно пытался казаться оскорбленным Владимир Малягин, заведующий редакцией критики и драматургии. Работник он хороший, ответственный, не равнодушный, говорит, что верит в Бога, посещает церкви. Лицо у него выразительное. Художнику, ищущему натуру для образа Иуды, лучшего типажа представить нельзя. Серое круглое лицо, маленькие блуждающие глазки и реденькая бороденка. Клеветал он больше других, активно. Меня так и подмывало спросить у него: послушай, ты веришь в Бога, а Бог–то знает, что я чист, что я ничего дурного в «Столице» не сделал! Как же ты не боишься, что Бог накажет тебя за твою гнусность? Долго тебе отмаливаться придется… Малягин на том заседании заявил, что, если комиссия скажет, что я ничего не украл, он уйдет из издательства. Кстати, ушел… Он очень боялся, что я буду мстить. А зачем мстить? Я заметил, что жизнь устроена так, что любая подлость бывает наказана еще при жизни. Любая! Какой–то есть закон, какая–то сила существует. Вы когда–нибудь видели счастливым подлеца? И я нет!
На заседании главный художник Черенков отказался от своей подписи, и часть заведующих из подписавших заявила, что у них нет ко мне никаких претензий и что они считают, что, если я уйду, издательство от этого ничуть не выиграет. А те, что не подписали, четко и ясно высказали свое мнение Бежину. Покраснеть ему, бедняжке, пришлось, особенно во время выступления Лидии Романовны Фоминой. Она сказала ему все, что я не мог сказать из этических соображений, потому что это касалось меня.
Первый бой я не выиграл, но и не проиграл. Это было первое столкновение, первая проба сил. Но после него я понял, что работать в издательстве не буду. Докажу, что прав, и уйду. Уйду победителем. Даже наметил дату ухода — 12 апреля. Уйду сначала в отпуск, а потом напишу заявление.
После заседания в три часа дня я назначил общее собрание коллектива издательства. Прошло оно бурно, эмоционально. Я его тоже записал на диктофон. И здесь я пока не выиграл, но многим стало ясно в какую вонючую тину их затащил Бежин. Панасян молчал. На заседании, когда я дал ему слово, только произнес; я согласен с Бежиным. И все. Он будет присутствовать на всех Секретариатах, пленумах, но не проронит ни одного слова. Петр Паламарчук уверял же меня в кулуарах, что он ничего против меня не имеет, хочет одного, чтоб выходили книги. Раскроется он, выступит открыто позже, а пока клевещет за столами ЦДЛ и очень часто вспоминает молодогвардейскую историю. Очень часто. Она снова возникает и начинает раздуваться. История эта неприятна для меня, и часто мои недруги, даже зная, что она липовая, раздувают ее, чтобы нагадить мне. Пытались пакостить мне и тогда, когда возникла моя кандидатура на должность директора. Думается, будут пакостить и впредь. Поэтому мне хочется рассказать о ней подробно.
4. Отступление. Тихий конфликт в «Молодой гвардии»
В 1982 году я стал работать в издательстве «Молодая гвардия» редактором, а в 1985 году меня назначили заведующим редакцией художественной литературы для подростков. Спокойно работать я не мог, выдумывал серии, новые книги и решил там воплотить свою мечту: создать ежеквартальный журнал, где бы я был хозяином. В те годы об открытии новых журналов и речи не было, но я хотел схитрить. Придумал три альманаха–ежегодника. Их регистрировать не надо. Четвертый — «Парус» — уже существовал. Дал им разные названия: «Звено», «Родник». Еще одно придумать не успел. Работа над ним только начиналась. Я организовал и провел недельное совещание молодящихся писателей в Доме отдыха «Березки», по сути это было организационное совещание альманахов. Я пробил их в планы выпуска издательства, и три номера «Родник», «Звено» и «Парус» были подготовлены к сдаче в производство. Через восемь дней после того, как «Родник» и «Звено» легли на стол заместителя главного редактора издательства на последнюю подпись для сдачи в производство, главный редактор издательства лично принес мне в кабинет мою трудовую книжку с записью об увольнении. Почему это произошло, видно из моего письма директору издательства Юркину Валентину Федоровичу. Обратите внимание: письмо датировано 28 ноября 1987 года, а запись в моей трудовой книжке об увольнении сделана третьего декабря. Шесть дней, включая два выходных дня. Подлинник письма — в «Молодой гвардии», а копия у Кобенко Виктора Павловича. Как она у него оказалась, скажу позже. Итак, письмо!
Уважаемый Валентин Федорович!
С большим сожалением отрываю Вас от более важных дел. Я всегда старался самостоятельно гасить разногласия и конфликты, неизбежные в нашей работе, когда приходится ежедневно возвращать многочисленным авторам их незрелые работы или сталкиваться с различными мнениями, старался не отвлекать руководство издательства на решение проблем в нашей редакции. И в течение двух с половиной лет мне это удавалось. Но сейчас сложилась такая ситуация, которую без Вашего вмешательства решить невозможно. Я считаю — произошло ЧП. Зам. главного редактора В. Ю. Володченко в день сдачи в производство рукописей сборников «Родник» и «Звено», одобренных контрольным редактором 3. Н. Яхонтовой, не подписал их, сказав, что сам прочитать хочет, и тем самым редакция нарушила план–приказ по сдаче рукописей в производство. Полтора месяца назад, когда он подписывал предложения редакции в план–приказ, сдали мы его 15 октября, желания прочитать сборники он не выказывал. Мы бы ему предоставили сборники значительно раньше. Обе рукописи неординарные, яркие, которые, без всякого сомнения, будут замечены и читателем и критикой. Случай, когда т. Володченко искусственно создает трудности при сдаче интересных рукописей в редакции, этот не первый. В конце прошлого года точно так же была задержана рукопись сборника «Недаром помнит вся Россия». Тогда т. Володченко действовал совместно с Т. Авраменко. И только благодаря огромным усилиям редактора книги С. Ионина и составителей В. Левченко и В. Володина книга была сдана в производство без всяких изменений и, когда увидела свет, была высоко оценена критикой: газеты «Правда», 1 сентября; «Литературная газета», 9 сентября; «Литературная Россия», 4 сентября; «Советская Россия», 4 сентября; «Московский комсомолец», 8 сентября.
Что собой представляют рукописи сборников «Poдник» и «Звено»? Как велась работа над ними?
Рукопись «Родника» представляет собой сборник художественных и публицистических произведений известных и молодых авторов, посвященных экологическим проблемам.
В последнее время над миром нависла угроза не только атомной войны, но и экологической катастрофы. Эта угроза широко известна, обсуждается в печати. «Молодая гвардия» выпускает и художественные, и публицистические книги, посвященные этой проблеме, и мне пришла мысль подготовить ежегодник по типу «Паруса», в котором мы активно и постоянно вели бы экологическое воспитание подростков и художественными и публицистическими произведениями, прививали любовь к родному краю, к родной земле, а также печатали конкретные советы специалистов по уходу за садом, огородом. Идея, по–моему, важная, благородная,. Ее одобрил главный редактор. Это было еще в начале моей работы зав. редакцией в 1985 году. По согласованию с главной редакцией к составлению первого сборника в конце 1985 года был приглашен Действительный член Географического общества СССР, автор нескольких книг о природе А. Н. Стрижев. Сборник был поставлен в план редподготовки под названием «Край родной». Составителем он должен был быть представлен в редакцию в январе 1987 года. Спустя некоторое время А. Н. Стрижев, чувствуя, что из–за загруженности другой работой не сможет вовремя подготовить сборник, попросил разрешения подключить к составлению сборника Т. Жарикову, хорошо знакомую с темой. Мы согласились. Рукопись была представлена в срок, но составлена она была полностью Т. Жариковой.
А. Н. Стрижев предложил только свой интересный материал. Редактор сборника С. Елисеев в это время собирался переходить в другую редакцию и предложил А. Ярошенко. Рецензент в целом одобрил сборник, но сделал ряд конкретных замечаний. Переход С. Елисеева в другую редакцию в апреле 1987 года был решен, рукопись осталась без редактора. Тогда я сам прочитал ее, написал редзаключение, в котором к замечаниям рецензента добавил несколько своих и вернул составителю на доработку. Доработка была проведена быстро и качественно, слабые материалы заменены. Рукописи требовалась обычная редакторская работа. С 1 июля 1987 года вместо С. Елисеева приступила к работе Т. Мальцева. Она уже имела опыт работы с книгами на экологическую тему, и рукопись я передал ей. К работе над сборником Т. Мальцева отнеслась ответственно, ею был высказан ряд ценных предложений по композиции сборника, в который вошли произведения В. Астафьева, A. Битова, В. Распутина, И. Аксакова, Н. Рубцова, Н. Клюева, а также повести и рассказы молодых писателей, чьи первые книги вышли в «Молодой гвардии», стихи лауреатов премии Ленинского комсомола B. Степанова и Т. Смертиной и молодых поэтов. Интересна публицистическая подборка, где широко представлена география от Камчатки, Средней Азии до Русского Севера. Т. Мальцева провела большую работу с авторами.
Рукопись сборника была представлена контрольному редактору 3. Н. Яхонтовой 10 ноября, как и указано в план–приказе. 20 ноября 3. Н. Яхонтова написала заключение о сборнике, в котором отметила, что он интересен, и высказала ряд соображений по улучшению и конкретные замечания. Все конкретные замечания были выполнены, мы с ними согласились. (Заключение 3. Н. Яхонтовой прилагается к письму.) Тем не менее зам. главного редактора подписывать сборник не стал. Мотивы его мне совершенно не ясны.
Теперь о работе над «Звеном».
Однажды, когда мы с главным редактором Н. П. Машовцом обсуждали различные идеи новых книг, он высказал мысль, что неплохо бы издать сборник новых произведений молодых авторов, которые стали известны читателю по молодогвардейским публикациям. Я загорелся этой идеей, предложил сделать такой сборник в нашей редакции. Н. П. Машовец возразил: мол, такой сборник больше подходит для редакции по работе с молодыми авторами. Но в той редакции в это время готовился сборник «Рассказы тридцатилетних», который составлялся из публиковавшихся произведений молодых авторов, и я убедил, что лучше сделать у нас.
Составителем был приглашен молодой литератор Павел Горелов. Он предложил гонорар за составление сборника перечислить в организовывавшийся в то время Советский детский фонд и для составления привлечь группу молодых литераторов: прозаиков, поэтов, критиков, составить как бы общественную редколлегию. Редактором сборника стал С. Ионин. Так как в сборник должны входить не только проза, поэзия, публицистика, но и критические статьи. А в критике я не силен, и я решил консультироваться у известного критика, зав. редакцией «ЖЗЛ» С. Лыкошина. Чтобы он был в курсе работы над сборником, общественная редколлегия совместно со мной и редактором сборника С. Иониным собиралась несколько раз в кабинете С. Лыкошина, обсуждали материалы. О текущей работе постоянно информировали главного редактора Н. П. Машовца. Наконец сборник был составлен, одобрен всеми, но редактор С. Ионин перешел в другую редакцию и встал вопрос — кто будет редактировать? У опытных редакторов Катаевой, Калмыковой, Быковой много работы со своими рукописями. Только в этом году наша редакция готовит в набор семь сборников серии «Библиотека молодой семьи». Я хотел сам редактировать «Звено», но, повторяю, я не чувствовал себя большим знатоком в критике, да и в поэзии не так силен, как хотелось бы. В редакцию пришли новые сотрудники: редактор Т. Каштанова и мл. редактор Л. Калюжная. Л. Калюжная критик, часто печатается, но сможет ли она отредактировать поэзию, публицистику, я не был уверен, да и обязанности мл. редактора ей нужно выполнять. В практике издательства довольно часто встречаются факты, когда одну книгу редактируют два и больше редактора, примеров можно привести много. И тогда я решил для пользы дела весь критический раздел отдать на редактирование Л. Калюжной. И не ошибся. У меня бы не хватило опыта так глубоко провести работу с авторами, как провела она. Все авторы были благодарны ей.
Упоминавшийся сборник «Рассказы тридцатилетних» в редакции по работе с молодыми редактировала Т. Каштанова. В том сборнике встречались те же авторы, что и в нашем. У нас были их произведения только что написанные, а там — уже публиковавшиеся.
Т. Каштанова знакома была с лучшими произведениями этих авторов, с их манерой письма, и потому я решил, что прозу сборника она отредактирует лучше, чем кто–либо, и раздел прозы передал ей.
Т. Мальцева к тому времени закончила работу над сборником «Родник». Авторы благодарили меня за хорошего вдумчивого редактора, и я подумал, что публицистику сможет отредактировать она.
Оставалась поэзия. Активным членом общественной редколлегии был молодой талантливый поэт Александр Поздняков. То, что он ответственный человек и тонко чувствует поэзию, я понял, участвуя в многочисленных заседаниях редколлегии. Он вызвался на общественных началах отредактировать стихи. Я согласился. И рецензент, и все, кто читал потом стихи, считают раздел поэзии очень сильным.
Таким образом, у сборника «Звено» было четыре редактора. Ответственный за сборник я. Все материалы мне знакомы. Был на всех заседаниях редколлегии, неоднократно читал все материалы. И полную ответственность за него несу я, поэтому редакционное заключение писал сам. Я сознательно шел на эксперимент с четырьмя редакторами. Считаю, что в данном случае он удался.
Рецензент, известный критик Олег Михайлов, сборник одобрил, отметил, что не очень–то он зубастый в сравнении с сегодняшними публикациями. Кое–какие произведения по совету рецензента мы сняли и отдали «Звено» читать контрольному редактору 3. Н. Яхонтовой 16 ноября, а по плану–приказу должны были сдать 17?го. Рукопись она нам вернула с одобрительным заключением 25?го ноября. Вместе с тем высказала ряд замечаний. С большинством мы согласились, лишь два замечания показались субъективными. Замечания — естественное явление. Совершенных книг в мире нет. Работают над книгами живые люди со своим опытом, со своими взглядами. Когда читает другой человек, у которого иной жизненный опыт, иные взгляды, ощущения, естественно с чем–то он не согласится, что–то увидит по–иному. Главное, прислушиваться к советам и замечаниям нужно доброжелательно, взглянуть на сборник глазами другого человека. Что мы и сделали. И большинство замечаний посчитали дельными. Убрали из сборника статьи Татаринова, Пчелкина, Яковенко, сняли первую главу повести Ключниковой, сократили странички из дневников. 3. Н. Яхонтовой показалось, что статья С. Небольсина излишне литературоведческая, а рассказ В. Болтышева — сатира на наше общество, а мы с этим не согласны. Ведь имею я право, как заведующий, не со всеми замечаниями контрольного редактора соглашаться?
Таким образом, работа над сборником была проделана большая, все делалось в срок. И вновь непонятно, почему т. Володченко не подписал рукопись. На мой взгляд, обе рукописи неординарные, нужные читателям. Имена авторов сборников говорят сами за себя.
Если т. Володченко хотел посмотреть эти рукописи сам, почему не предупредил нас заранее, что после контрольных редакторов будет читать, мы бы и контрольным редакторам и ему дали бы рукописи значительно раньше. Непонятно, зачем ему нужно было создавать нервозную обстановку в редакции, искусственно создавать инцидент? И повторяю, это не единственный случай. Работа с ним ведется в постоянном напряжении. Поступки всегда непредсказуемы. Кроме инцидента со сборником «Недаром помнит вся Россия», был такой же случай со сборником «День скажет». Он не сдан до сих пор. Проблемы эти я всегда старался решать сам, не перекладывать на плечи руководства издательства, но когда сорвана сдача в набор двух рукописей, молчать не могу.
В нашей редакции создавались хороший творческий климат, доброжелательные отношения друг к другу? К нам пришли два новых молодых редактора, два новых младших редактора. Редакция наполовину обновилась, но не ослабла. Новые сотрудники легко и прочно влились в коллектив. Получился сплав опыта и молодости. Я думаю, что не переоцениваю возможности редакции, говоря, что нам сейчас решение любых задач по выпуску книг для подростков по плечу. Конечно, какие–то просчеты, ошибки будут, ведь не ошибается лишь тот, кто не работает. Мы обдумываем сейчас положение о редакции, размышляем над тремя новыми сериями книг для подростков. Скоро выйдем с этим на главную редакцию. Одна серия (название условное) «Библиотека «Паруса», в которую мы хотели включить классические художественные произведения с ярко выраженной романтикой, такие, как «Алые паруса» А. Грина. Слишком у подростков преобладает сейчас дух меркантилизма, цинизма. Надеемся, что такие книги будут повышать духовность подростков.
Вторая серия книг «Библиотека «Родника». Это книги и классиков и современников о природе, о животном мире, об экологических проблемах. О важности таких книг говорить не приходится.
Думаем мы и над серией «Классика и ты», к работе над которой мечтаем привлечь всех известных филологов, таких, как Дм. Лихачев, Ю. Аверинцев и т. п.
В эту серию мы хотели включить классические произведения о нравственности начиная с античных авторов и до наших дней. Все книги будут с обширным и подробным комментарием. Нам, естественно, нужны советы главной редакции. Новая серия всегда событие для издательства, и нужно продумать все до мелочей. Но о каких советах можно вести речь в такой обстановке? Все идеи будут зарублены на корню. Где же выход?
По–моему, он существует. Очень простой, естественный, безболезненный. Наше издательство совершенно справедливо разделено на три куста по видам литературы: политическая, публицистическая и художественная. Каждый заместитель главного редактора курирует свой куст, определяет стратегию и тактику всех своих редакций. В политическом кусте т. Чекрыжова прекрасно знает, где, в какой редакции, какие идут книги, не дублируются ли темы, не упущена ли какая тема.
А нашу редакцию художественной литературы почему–то курирует зам, главного редактора по публицистическому кусту. С. Ю. Рыбасу трудно определять политику, стратегию и тактику художественной литературы издательства. Он не знает глубоко, что по темам идет у нас, не повторяемся ли мы с прозой, не упускаем ли что. Когда я прочитал впервые сводный план выпуска на 1989 год, то обнаружил несколько одних и тех же авторов у нас и в прозе. Если бы курировал нас один зам. главного, такого бы не было. Поэтому, мне кажется, что дело только выиграет во всех отношениях, если нашу редакцию будет курировать С. Рыбас. Тогда можно будет особо талантливых авторов растить от первой публикации в редакции по работе с молодыми до зрелых произведений. Тех, кто склонен к подростковой теме, направлять к нам, других в прозу. Будет преемственность в работе с молодыми авторами. И положение о редакции под руководством заместителя главного редактора, отвечающего за всю художественную литературу в издательстве, будет отработано глубже и в соответствии с концепцией всего издательства.
А что касается рукописей сборников «Родник» и «Звено», то и здесь можно выйти из положения спокойно и естественно. Мы ведь говорили не раз, что нужно некоторые сложные рукописи выносить на обсуждение главной редакции, редсовета. Мне думается что обе рукописи можно обсудить на главной редакции. Обе они сложные, а в том, что они интересные и важные, я не сомневаюсь. Не сомневаюсь и в том, что от этого обсуждения качество их только улучшится. Думаю, что свежие глаза заметят в них просчеты, которые остались не замеченными и редакцией и контрольным редактором. Не сомневаюсь я и в том, что те, кто будет читать сборники, найдут в них много нужного и полезного для себя лично.
28 ноября 1987 года П. Алешкин
Вот такое письмо. Появилось оно так. Когда Володченко остановил обе рукописи, я побежал советоваться к Сергею Лыкошину — как быть? Он посоветовал пойти к директору и рассказать. Я ответил, что боюсь, что директор из–за загруженности не вникнет глубоко и неточно поймет атмосферу.
— Изложи письменно, — сказал Лыкошин.
Я написал это длиннющее послание, показал Лыкошину и Рыбасу и отнес директору, а он передал письмо Володченко.
Позже я узнал, почему возникла эта история, тайную ее подоплеку. Когда редактор принесла рукопись «Звена» на подпись, Володченко открыл титульный лист и увидел имена членов редколлегии. Первой стояла Баранова–Гонченко. Володченко закрыл папку и сказал редактору, что полистает. А через час другой редактор положил ему на стол рукопись «Родника», где также редколлегия начиналась с имени Барановой–Гонченко, ведь «Звено» и «Родник» — звенья одной цепи. Баранова–Гонченко только что стала заведовать редакцией по работе с молодыми авторами в издательстве «Современник». И первое, что сделала на этом посту, выбросила из плана слабую рукопись стихов нашего Володченко. Он стал добиваться издания своей книги, звонил и писал директору «Современника», но ничего не добился. Баранова–Гонченко проявила волю. Потому–то и были остановлены обе рукописи. А я сдуру погорячился, накатал письмо и попал в еще большую лужу. Оказывается, в этот момент директор и главный редактор издательства усиленно пытались убрать Володченко. Этот бывший аппаратчик ЦК ВЛКСМ не справлялся с работой. Его, как я после узнал, хотели даже в Академию общественных наук на учебу отправить, лишь бы спровадить из издательства. Я ничего этого не знал, был занят своими альманахами, сериями, замыслами. Мое письмо, видимо, для руководства было на руку, но они не учли мою неопытность и высокий опыт аппаратчика ЦК. Володченко начал искать против меня компромат. И нашел. Вы помните из письма, что вместо Стрижева составительницей «Родника» стала Т. Жарикова. Я говорил главному редактору, что Стрижев из–за загруженности отказывается составлять, и сказал, что составителем будет Жарикова. Он не возражал. Я мог бы не советоваться с ним, потому что подбор составителей — дело заведующих редакциями. Очень часто составителями книг становились сами редакторы. Это не запрещалось. Я сам, будучи редактором, составил три книги, правда, две бесплатно, и одна из них, чем я горжусь, последняя прижизненная книга Михаила Шолохова. Я сказал главному редактору, что составителем «Родника» будет Татьяна Жарикова, но я не сказал ему, что это моя жена. Таня окончила Литинститут, имела книгу прозы и многочисленные публикации в периодической печати. Володченко каким–то образом узнал об этом, зацепился и превратил в конфликт. Я тогда бороться не стал, написал заявление об уходе. Машовец сам принес мне в кабинет трудовую книжку. Если бы я не написал заявления, никто бы мне ничего не сделал. Даже выговор дать не за что. Но я чувствовал себя виноватым: во–первых, я сам напал на Володченко и в тяжелый для него момент. Я бы мог не горячиться, не писать, сделать более хитрый, тонкий ход, чтобы рукописи ушли в производство. Они были хорошие, никто бы не придрался, никто бы меня даже не попрекнул, что одну из них составляла моя жена. И во–вторых, я все–таки чувствовал себя виноватым за то, что поставил составителем жену. Маленькое пятнышко да есть. Потому–то я и ушел из «Молодой гвардии». Альманахи прикрыли. Ни один из них не увидел свет. Петр Паламарчук знал об этой истории, он тоже работал над теми сборниками, был членом редколлегии. Знал, что вины нет за мной, и все же продолжал клеветать. Александр Поздняков, тот самый поэт, о котором я упоминал в письме, через год после моего ухода из издательства, улыбаясь, спросил меня:
— А ты разве не понял, почему тебя убрали?
— Я жену сделал составителем…
— Чудак, — засмеялся он. — Это предлог. Никого твоя жена не интересовала… Ты стал опасным конкурентом Рыбасу, Лыкошину, Машовцу. Они тебя и убрали. Вспомни, все мы, кто раньше отирался в кабинетах Лыкошина и Рыбаса, перешли в твой кабинет.
У тебя жизнь кипела. Авторитет твой рос ежедневно. Они тебя подставили и убрали…
Однажды в издательство «Столица» Рыбас принес рукопись своего романа, и Панасян (помните, он был редактором моего романа «Заросли» в «Советском писателе») сказал мне:
— Ты знаешь, когда я ставил роман «Заросли» в план выпуска, Рыбас очень просил меня, чтобы я его зарубил!
— Почему? — воскликнул я.
— Это спроси у него… — засмеялся Панасян. Он, вероятно, думал, что я после этого известия тут же заверну Рыбасу его роман. Но мы его поставили в план.
Молодогвардейская история всплыла, когда возникла моя кандидатура на должность директора. Машовец встретил Александра Михайлова и сказал ему, чтобы меня не делали директором, и наговорил гадостей. А Володченко позвонил Кобенко и тоже попытался нагадить. Тогда–то я и привез Кобенко копию письма и рассказал все то, что описал выше.
И последний штрих. Володченко опустили из заместителей главного редактора в заведующие сразу после моего ухода и как раз на мое место. Мы с ним в одном садоводческом товариществе «Московский, литератор». Два года назад он сделал революцию в правлении, чтобы стать председателем. Я хохотал, когда его избирали, говорил, что через два года будет новая революция, Володченко погонят. И точно. Недавно его с треском изгнали из товарищества, якобы проворовался, построил себе дом на наши средства.
К счастью, я на том собрании не был. Неприятно! Машовца тоже вскоре убрали из главных редакторов издательства. И что–то о нем не слышно. Затерялся где–то в бурном море перестройки. Жизнь сама расставит все на свои места.
«Столичные» содоносчики знали эту историю, знали, что я ушел из «Молодой гвардии» без борьбы, и рассчитывали, что я сразу сдамся, напишу заявление, как только они припугнут. Но там на мне хоть пятнышко, да было, а в «Столице» я был чист. Урок не прошел даром.
5. Кульминация
Через день после собрания в «Столице», в среду 25 февраля состоялся Секретариат, где обсуждались наши дела. Отчет директора на Секретариате был запланирован давно, но никто не ожидал, что развернутся такие события. На заседание явились все заведующие отделов и служб издательства, члены Правления арендного коллектива.
Я отчитался. Слово дали работникам издательства. И пошло. Заседание Секретариата стенографировалось. Теперь знаю, что я, как участник заседания, имел право потребовать копию стенограммы, сейчас бы мог спокойно цитировать все, что там говорилось. Стенограмма хранится в архиве. Слава Богу, он не секретный. Любой может познакомиться с ней.
После собрания в издательстве Бежин собирал своих содоносчиков. Они поняли, что прямая клевета их разбита полностью, и перестроились, решили обвинять меня в том, что прямо на Секретариате я доказать не могу. Главное: постараться убедить секретарей, что у нас мало издано книг, что, мол, они написали письмо из–за того, что книги не выходят. Это самое больное место писателей. Секретари не знают издательского цикла, не поймут, что минимальный производственный цикл советского книгоиздания девять месяцев. Рукопись оформляется художником, редактируется творческим, художественным и техническим редакторами, как минимум, три месяца, а потом набирается, вычитывается корректорами и тиражируется полгода. Содоносчики еще не знали, что издательство «Дружба народов», созданное Советом Министров СССР почти одновременно со «Столицей» и которое возглавил высокий специалист книгоиздательского дела главный редактор Госкомиздата СССР Тоц, к тому времени выпустило всего одну книгу, а «Столица» шестнадцать: среди них и новинки, и переиздания, и проза, и поэзия, и критика. Поэтому Бежин решил убеждать секретарей: во–первых, что книги не выходят; во–вторых, что я разбазарил бумагу или, как потом стали говорить, перекачал ее в малые предприятия; в-третьих, зачем–то наоткрывал тринадцать малых предприятий; и в-четвертых, (самое гнусное и неожиданное для меня) поднять все дела с Владимиром Максимовым и постараться очернить меня.
Вопрос с Владимиром Максимовым взял на себя Петр Паламарчук. Но на Секретариат он пришел пьяным вдрызг, лыка не вязал. Мешал работать и до того вывел из себя Гусева, что он чуть не выгнал его из зала. Дела Максимовские будут подняты им позже, на пленуме, поэтому надо о них рассказать.
Я, как говорит сам Владимир Максимов, первым из наших издателей, чем горжусь, обратился к нему с просьбой издать его книгу. Максимов прислал нам свой роман «Семь дней творенья». Мы его быстро оформили и сдали в производство. В августе он был подписан в печать и должен был печататься в типографии «Детская книга» в сентябре–октябре. Все материалы для книги были. Но начались какие–то странные игры, непонятные для меня. Выход книги в типографии почему–то откладывался, откладывался. Так она и не вышла. Как только я ушел из издательства, набор книги был сразу рассыпан. Владимир Максимов в первый же свой приезд в Москву посетил «Столицу». Мы заключили с ним договоры на издание еще трех его книг. Ни одна не вышла, хотя некоторые были оформлены и набраны. Он подарил нам непроданные экземпляры журнала «Континент» на общую сумму шестьдесят тысяч рублей. Журнал привезли из–за границы Паламарчук и Кузнецов, заведующий редакцией прозы. Так вот, Петр Паламарчук должен был обвинить меня, что я в ущерб московским писателям собираюсь издавать книги Максимова плюс его шеститомное собрание сочинений (чистая клевета), что вся история с подарком «Континента» темная, кто–то нагрел на этом руки. Но этот вопрос не возник на Секретариате из–за непредвиденной пьянки Паламарчука.
О малых предприятиях говорили много. Это сейчас ясно всем, что меня нужно было хвалить за них, а тогда дело было новое, а секретари люди пожилые, не понимали, что это за штука такая, и Бежин рассчитывал легко убедить их в моей вине.
О, бумага — больное место всех издательств и писателей! Нет литератора, который бы ни разу не поскорбел об отсутствии бумаги. Потому обвинить издателя, что он разбазаривает бумагу, значит, обвинить в самом тяжком преступлении. Нет такому издателю пощады! Стереть его с лица земли! Но каждый имеющий разум человек понимает, что каждый килограмм бумаги, полученной издательством, отмечается не только в приходной накладной, платежных документах, но и в книгах движения бумаги. Из них легко можно узнать, сколько бумаги получено, где она находится или куда ее дели. Все эти документы и книги хранятся не у директора, а в бухгалтерии, отделе снабжения и производственном отделе. Сотрудники этих отделов подписались под письмом, и если бы хоть один документик, компрометирующий меня, был у них, он бы сразу лег на стол Секретариата. Вы помните, что Бежин, выбивая подписи, говорил всем, что у него есть документы, которые он передаст в Секретариат, если я не напишу заявление об уходе. Я знал, что он не может представить настоящие документы, их не было. Шантаж не удался. Но я боялся, что содоносчики изготовят фальшивые документы с поддельной подписью: надеялся я только на экспертизу. НА СЕКРЕТАРИАТ БЕЖИН НЕ ПРЕДСТАВИЛ НИ ОДНОГО ДОКУМЕНТА! Одни слова, одна клевета! И эту клевету с наслаждением каким–то подхватил известный поэт Владимир Соколов. Он был председателем Правления издательства. Соколов выступил и сказал, что я распродал кооперативам и малым предприятиям бумагу. Это было неожиданно. Я подумал, когда комиссия разберется, Соколов извинится.
Бой был долгий. Содоносчики требовали немедленно, сейчас же освободить от должности директора. Фомин Игорь Романович яростно выступил в мою защиту. Мы с ним сидели в одной комнате, столы напротив. Он видел, как я работал; я видел, как он. Секретари были в растерянности. Они не понимали, что происходит, но знали, что издательство создано мной, видели, что Бежин обыкновенный бездельник, понимали, что убери меня, и все в издательстве нужно начинать сначала. Выступления их были обтекаемые. Они хотели разобраться: не поддержали ни Бежина, ни меня, решили создать комиссию для проверки деятельности издательства, ту самую, которую я просил прислать. На том и разошлись.
Содоносчики выходили из зала злые, недовольные побитые. Дело их не выгорело, но и не прогорело. Отсрочено. В победе они, как и я, были уверены. Я тоже понимал, что не выиграл.
Комиссия начала работать через неделю. Результаты проверки она должна была представить не на Секретариат, а на пленум. Он должен был решить мою судьбу. Я приказал руководителям отделов представлять по первому требованию комиссии любые документы. Лично у меня ничего не хранилось. Проверены были все склады, поступление и расходование бумаги, распространение книг, бухгалтерия. Естественно, как в любой новой бурно развивающейся организации у нас были упущения. О какой налаженной системе можно говорить, когда первое время в «Столице» не было ни одного бухгалтера, когда больше чем полгода был только один снабженец. И так в каждом отделе. Самой большой моей ошибкой было доверие к людям. Теперь–то я знаю: людям верить нельзя! Я переманил в «Столицу» из издательства «Современник» главного бухгалтера Палехову Нину Сергеевну. Переманил и обрадовался: с бухгалтерией порядок. Ею занимается профессионал. И не контролировал особенно. Слишком много было других забот. Думал: осталось чуть–чуть, поставлю крепко на ноги издательство и остановлюсь, оглянусь. А Палехова так запустила работу, что если бы комиссия поглубже вникла в дела бухгалтерии, то ой–ой–ой что бы было. Но Палехова, как вы помните, была среди восьмерки, потому, вероятно, комиссия и не копала глубоко в бухгалтерии. Все финансовые документы были в руках главного бухгалтера, а она была с Бежиным и могла представить в комиссию любой документ, компрометирующий меня. Но таких документов не было. То же самое и в отделе снабжения. Все документы по поступлению, хранению и расходованию бумаги были в руках инженера по бумаге, которая подписала письмо и активно выступала на стороне Бежина. Она тоже ничего не представила комиссии против меня. Нечего было представлять.
Производственный отдел. Возглавлял его уникальный, удивительнейший человек Иванов Михаил Михайлович. До «Столицы» он работал в производственном отделе Госкомиздата СССР. Когда он впервые появился в издательстве, Палехова и Игнатьева, заведующая планово–экономическим отделом, прибежали ко мне возбужденные и стали просить ни в коем случае не брать его на работу. Они когда–то работали вместе и говорили, что он бездельник: обаяшка внешне, но делать ничего не будет. В те дни производственными делами занимался я сам. Если бы только производственными делами! Напряжение было высокое, а тут появился профессионал, который может взять на себя и типографии и подготовку рукописей к печати. Я еще раз вызвал Иванова на переговоры, и стали мы с Фоминым его экзаменовать. Я ему вопрос, скажем, о Петрозаводской типографии, он тут же ответ — кто там директор, главный инженер, заведующий производственным отделом, какие там машины и какие книги может печатать типография.
Я вопрос о другой типографии, в другом городе. Тут же ответ. Мы с Фоминым решили: брать Иванова! Обаятельный человек! Профессионал. Не поверили женщинам. Я обрадовался, скинул на профессионала все производственные дела. Спрашивал на заседаниях Дирекции, как продвигаются книги в типографиях. Он убеждал: все хорошо! Трудности, конечно, есть, но все преодолеем… Книги выходили, пока работали с теми типографиями, с которыми я сам наладил отношения. А к концу года, когда подписаны в печать были десятки книг и они должны бы были выходить чуть ли не через день, дело застопорилось. Я снова стал глубоко вникать в производственные дела, вник и ужаснулся: производственный отдел был забит рукописями, а типографий нет. Иванов на всех планерках убедительно доказывает, почему нет типографий сейчас и что вот–вот они будут. Уникален он тем, что умеет любому убедительно доказать все что угодно, разрешить любой абсурдный вопрос. Так убедительно, с фактами, что разумом понимаешь, что это не так, и все равно веришь. Любой верит. Я не раз это наблюдал. На собрании он тоже выступал, и выступал так, что Кобенко после сказал мне: «Иванов у тебя толковый мужик!» Я рассказал ему, чем замечателен этот человек, но Кобенко мне не поверил, пока не убедился сам. Я еще был в отпуске, а Иванова выгнали из издательства его же соратники. Иванову бы еще силу воли да характер лидера, он сейчас бы в правительстве Гайдара заправлял бы одним из министерств.
Комиссия с первых же дней работы поняла, что письмо бежинцев — элементарный клеветнический донос, главная цель которого убрать меня с работы. Почвы под собой этот донос не имеет. Ничего накопать не удастся, кроме упущений в отчетности, особенно в первые дни работы, когда некому было вести документацию. Вот тут–то и всплыл подарок Владимира Максимова — журнал «Континент», за который, как за соломинку, ухватился Бежин. Кстати, он до того оказался невежественным в делах издательства, что даже не знал, что любой документ, связанный с финансами, — письмо ли это с просьбой что–то купить или разрешением продать, платежное ли поручение — обязательно подписывает главный бухгалтер. Он был ошарашен, когда комиссия разъяснила ему эту истину.
Да, дело с «Континентом» любому недоброжелателю могло показаться темным. Паламарчук с Кузнецовым забирали книги за границей, не считая их, накладных с Максимова не требовали. Абсурд был бы. Книги дарились. Привезли в издательство, свалили в коробках в комнате и кладовке. Решили пересчитать и рассортировать по номерам к презентации издательства в ЦДЛ, чтобы там продавать журналы по десятке за экземпляр. Акт приемки у Паламарчука не составили, ведь неизданные, дареные книги. Когда пересчитали, оказалось шесть тысяч экземпляров с хвостиком. Владимир Максимов попросил оплатить ему небольшой процент от реализации книг, чтобы возместить расходы по доставке книг к поезду. Мы выдали деньги его родственнице по доверенности. Заведующая отделом распространения, выдавая деньги, не взяла с родственницы расписку об их получении. Неудобно, дареные книги! Сотрудникам издательства Правление решило продать книги по пять рублей. Около двухсот экземпляров оказались бракованными, и их раздали бесплатно. Комиссия попросила документы на журнал в отделе распространения, а их нет… Я был далек от этого дела, не вникал в него, но Паламарчуку очень хотелось видеть меня замешанным. Он считал, что деньги родственнице не выдавались, а были присвоены, позвонил Максимову в Париж и был сильно разочарован: брала деньги родственница. Я приказал срочно восстановить все документы и выяснить: куда и по какой цене ушли экземпляры. Расписку в получении денег родственница Максимова сразу представила, составлен был список сотрудников — кто сколько журналов купил — под роспись, даже выяснили, кто брал бесплатно экземпляры. Ох, какое разочарование было у содоносчиков, когда они увидели, что нет моего имени ни в том, ни в другом списке. Не брал я ни бесплатно, ни за пятерку ни одного экземпляра журнала. Я хотел купить, но в суете не успел, некогда было. Все растащили сами содоносчики.
Почему я так подробно рассказываю об этом частном эпизоде? Сколько их было! Просто хочется показать на примере, как клеветнически пытались очернить меня Бежин со товарищи. Они не гнушались ничем, чтобы раздавить, и терпели поражение за поражением. Факты были против них. Поэтому не мог меня выгнать Секретариат — зацепиться не за что. А мне нужно было одно: доказать, что донос клеветнический, и уйти чистым. Работать с такими жалкими людишками я не собирался. Конечно, в свои планы я никого не посвящал, говорил, что не уйду из издательства, буду работать. Но практически после 23 февраля, когда вернулся из Польши, я не работал. Мне не давали содоносчики, каждое решение мое оспаривалось, блокировалось. И я перестал действовать, видел, как бездарные содоносчики делают глупость за глупостью, разрушают дело рук моих. Сердце ныло, но остановить начинающееся падение издательства я уже не мог. Для этого нужно было очищать его от бездельников, вливать свежую кровь. Никто мне этого не позволил бы, каждый посчитал бы, что я мщу содоносчикам. Мне оставалось сжимать сердце в кулак, терпеть.
Совещания восьмерки проходили за закрытыми дверьми часто. Решение выносилось одно: любыми средствами убрать Алешкина!
Они видели, что комиссия ничего не нашла, и решили надавить на нее. Бежин стал вызывать к себе в кабинет сотрудников и просить встретиться с комиссией и потребовать от нее убрать Алешкина. Всех ли он вызывал? Не знаю. Но некоторые признались сами. И никто не явился в назначенный комиссией день, чтобы поклеветать на меня. Никто! Наоборот, приходили писатели, чтобы защитить меня. Бедный Бежин! Сколько усилий ему, бедняжке, пришлось приложить, чтобы оклеветать меня. И все впустую! Сколько времени он потратил на одни звонки членам Правления Московской писательской организации, чтобы они поддержали его на пленуме, проголосовали за снятие Алешкина. Звонил и Сергею Ионину, моему приятелю который рассказал мне об этом. Но нет ни одного человека, которому бы я позвонил или при встрече сказал: помоги, поддержи! Мое дело было правое!
Я говорю об этом публично и не боюсь, что кто–то скажет, что это неправда, что я просил его помочь.
Я благодарен секретарю Московской писательской организации драматургу Коростылеву, — он, видимо, очень хороший, добрый человек, я с ним почти не знаком, — как только заварилась каша, он подошел ко мне, спросил сочувственно: не помочь ли мне? Я поблагодарил, отказался, ответил, что сам справлюсь. Ещё два–три человека подходили с предложением помочь. Я отказывался, уверен был в своих силах, в своей победе. Да, дело мое было правое! Я был спокоен. Дома больше не занимался делами «Столицы». Впервые за последний год появилось время для работы над первой своей сатирической повестью «Судороги, или Театр времен Горбачева». Я стал думать о ней. Хотелось дописать ее во время отпуска. Для этой цели я заказал себе путевку в Дом творчества.
На пленуме комиссия доложила о результатах своей работы, я ответил на вопросы. И снова Бежин выскочил с требованием уволить меня, но простора у него уже не было. Остался один аргумент: мы не хотим с Алешкиным работать! Кто–то из секретарей ехидно поинтересовался: а хочет ли Алешкин с вами работать? Я не требовал кого–либо наказать, изгнать. На этот раз трезвый Паламарчук выступил открыто, вспомнил о молодогвардейской истории, попытался убедить писателей, что я в ущерб им хочу печатать шеститомник Максимова. Все выступления так же, как и на Секретариате, стенографировались. Никто из членов Правления МО не выступил за то, чтобы уволить меня. Удивил опять Владимир Соколов. Я думал, он будет извиняться, а он снова стал говорить, что я перекачал в малые предприятия бумагу. Как он слушал доклад комиссии, не знаю? Видимо, Бежин так поработал с ним, что у него заложило уши и исчез здравый смысл. Теперь меня все время подмывает подойти к нему при встрече и спросить, не стыдно ли ему, фронтовику, авторитетному поэту, уважаемому человеку, было клеветать, и главное, знать самому, что он говорит заведомую неправду? Не стыдно ли ему, готовящемуся предстать пред Богом, плодить неправду на земле? Любопытно, что он мне ответит, посмотрит ли мне в глаза?
На пленуме впервые заговорили об акционерном обществе «Голос». Молчали о нем раньше потому, что почти все содоносчики были акционерами общества и почти все совмещали работу в «Столице» и в «Голосе». Панасян был главным редактором, Палехова — главным бухгалтером и т. п. Общество создавалось для того, чтобы помогать «Столице», и уже хорошо помогало. К тому времени «Голос» перечислил «Столице» свыше миллиона рублей, пока как беспроцентную ссуду, а в дальнейшем планировалось этот миллион не возвращать. «Столица» и «Голос» были одно целое. «Столица» не могла по Уставу издавать зарубежную литературу и подписные издания, а «Голос» должен был специализироваться на них. Все было продумано. «Голос» провел подписку на четыре издания, получил свыше двадцати миллионов рублей, купил себе здание и начал издавать свои книги. В финансовом отношении «Столица» была моськой рядом с сильным «Голосом». Мне смешны слухи, о том, что я перекачал бумагу в «Голос». Только для одной книги В. Пикуля или «Зарубежного детектива» нужно свыше пятисот тонн бумаги, а Пикуль и «Детектив» у нас в шестнадцати томах. Посчитайте, сколько нужно перекачать бумаги, а фондов на бумагу на 1991 год было выделено «Столице» всего триста шестьдесят тонн. Сколько «Столиц» нужно, чтобы обеспечить бумагой, хотя бы по одной книге из подписок? Маразм! Только за цэдээловским столом в сильном Паламарчуковском угаре могло такое родиться. Кстати, единственный, кто нагрел руки, работая в «Столице», — это Петр Паламарчук. Я имею в виду не только его постоянные поездки за рубеж за счет «Столицы». Я сам ему разрешил ездить и ничего зазорного в этом не вижу. Но Паламарчук не только работал в «Столице», но и был избран членом Правления издательства, а членам Правления пленум своим Постановлением запретил печататься в «Столице» два года, то есть тот срок, когда действовал этот состав Правления. Паламарчук наплевал на этические соображения — неудобно печататься там, где работаешь; наплевал на Постановление пленума–издал свою книгу в «Столице», сунул ее в производство втихаря, за моей спиной. Я узнал, когда без скандала остановить ее было уже нельзя. Вышла она мгновенно, когда книги Максимова почему–то упорно не печатались.
Пленум единогласно отверг предложение о моем увольнении, но потребовал, чтобы я исправил все замечания комиссии и до 15 мая подробно отчитался перед Секретариатом. Это не входило в мои планы. По моему сценарию 12 апреля я должен уйти из издательства. А я люблю воплощать в жизнь свои планы. 29 апреля я должен быть в Доме творчества, работать над повестью. Я вскочил, выкрикнул: «Зачем тянуть! Я готов отчитаться 12 апреля!» Пленум обрадовался, зашумел, загудел одобрительно, и Секретариат с моим отчетом был назначен на 15 апреля.
Бежинцы дрогнули. Но я еще не выиграл. Они надеялись разгромить меня на последнем Секретариате, где я буду отчитываться.
Долго можно было бы рассказывать о событиях, происшедших до 15 апреля. Было так, что Бежин, желая ублажить сотрудников, за моей спиной подписал приказ о премировании за март аж на 150%, хотя работы не было, прибыли не было. Рабочий Секретариат МО посоветовал мне дать Бежину выговор, что я и сделал. Я мог бы рассказать, как Бежин суетился, обжалуя выговор. Я мог бы рассказать, как разваливалось акционерное общество «Голос», когда «Столица» вышла из учредителей и акционеры, в том числе и я, вернули в общество свои акции. Я вышел из президентов. Но не хочется затягивать повествование. Те эпизоды когда–нибудь использую в романе.
К своему отчету на Секретариате я заставил все отделы подготовить мне справки о состоянии дел. Бухгалтерию — подробнейшую справку о доходах и расходах издательства, производственный отдел — списки изданных книг и рукописей, подписанных в печать, с указанием тиражей, необходимого количества бумаги для издания и т. п. Отделу снабжения приказал провести инвентаризацию всех складов и составить акт с точной расшифровкой — сколько, какой бумаги и где хранится, отделу распространения — провести инвентаризацию книг, хранящихся на складах. Все это было сделано. Пикантность ситуации заключалась в том, что подписи под письмом–доносом и под справками, отчетами, актами были одни и те же. Содоносчики на словах утверждали, что в издательстве нет бумаги, и сами же подписывали акт, что склады ломятся от бумаги, загружены сверх нормы. 15 апреля во время моего ухода издательство имело свыше одной тысячи тонн бумаги, а так как на книгу в среднем нужно от двух до пяти тонн бумаги (большинство книг в «Столице» малотиражные и небольшие по объему), то весь план 1991 года был обеспечен бумагой. Акты в издательстве имеются. Куда бумагу перекачали после 15 апреля — не моя забота!
Отчитаться, опираясь на справки, акты, отчеты, на Секретариате мне было легко. Видели бы вы агонию содоносчиков: брызганье слюной Паламарчука, жалкие всхлипы Бежина, черное молчание Панасяна! Но всем уже ясно были видны их ничтожные душонки. Сомнения в исходе Секретариата у меня не было. Все мои предложения были приняты, Гусев строго заявил: если мы будем продолжать склоку, то будем с позором изгнаны оба. Руководство по–прежнему придерживалось тактики: ни нашим, ни вашим! Я не требовал выгнать Бежина, облегчал Секретариату задачу не делать резких движений. Все прошло по моему сценарию. Осталось поставить точку.
6. Развязка
На другой же день я ушел в отпуск. В кабинете Гусева все три рабочих секретаря долго отговаривали меня, убеждали повременить: мол, содоносчики вновь воспользуются моим отсутствием и начнут бучу. Они оказались правы. Как только я улетел из Москвы, Бежин накатал новое письмо, собрал собрание в издательстве и попытался открыто его подписать, но никто его не поддержал. Меня это уже не волновало. Я в Доме творчества дописывал сатирическую повесть. Кстати, дописал.
Без меня прошло собрание московских писателей, где много говорилось о «Столице». В своем докладе Гусев довольно объективно рассказал о конфликте, впервые оценил действия Бежина с нравственной точки зрения. Меня удивляло, что никого из секретарей и членов Правления, никого из писателей не возмутила нравственная сторона поступка Бежина. Он в глаза директору говорил только хорошие слова, поднимал великолепные тосты за директора, а втайне сочинял на него донос, и все почему–то считают это нормальным, интеллигентным. Просто поражаюсь нравственной глухоте творческой интеллигенции. И чудо, о чудо! Такое возможно только в стране Советов, в Совдепии, где совковая психология, — этот самый Бежин, этот абсолютно нравственно глухой человек, — вещает о духовности с экрана телевидения! Вершина лицемерия! Доколе же мы будем слепы, глухи и немы? В чем мы пред Богом провинились, что заткнул он нам уши, закрыл глаза, замкнул душу! Я понимаю, Господь испытывает нас, а потом воздаст каждому по заслугам, каждому свое! Двадцатого мая я вернулся в Москву и написал заявление об уходе. Гусев не ожидал, прочитал, воскликнул:
— Каждый день новый поворот сюжета!
Заявление он не подписал. Начались уговоры, выкручивание рук. Я отвечал, что твердо решил уйти, что
Отпуск у меня кончился, и я взял творческий отпуск на месяц.
Наконец, 26 июня Секретариат рассмотрел мое заявление. Ох, как досталось Бежину на этот раз! Под его руководством за два месяца издательство резко скатилось вниз. Книги не выходили. Жалко было смотреть на Бежина, загнанного, побитого. Тут–то и сказал в ярости Кобенко свою знаменитую фразу о Бежине: «У тебя лоб от кадыка до восьмого шейного позвонка, а в голове навоз!» Дело в том, что Бежин сильно, до безобразия лыс.
Секретариат решил уволить Бежина, а меня начал уламывать не уходить. Трижды пришлось брать мне слово, убеждать отпустить, пришлось поволноваться больше, чем на прежних Секретариатах. Рушились планы. Выручил Зайцев, мой заместитель, с которым мы были в Польше. Он исполнял обязанности директора и выразил готовность принять у меня дела, которые фактически он вел с 15 апреля. Только после этого Секретариат отпустил меня. Я вздохнул с облегчением.
7. Эпилог
Как вы понимаете, на этом история была исчерпана, но возник новый сюжет. Меня он не касался.
Бежин вцепился зубами в кресло главного редактора — не оторвать. Уходить не хотел. Начался новый конфликт с новым директором. Я хохотал, слушая рассказ, как Бежин с Зайцевым увольняли друг друга. Зайцев пишет приказ об увольнении Бежина и прикалывает на Доску приказов. Бежин срывает листок, собирает собрание коллектива и голосованием увольняет Зайцева. Теперь Бежин пишет приказ и вешает на Доску. Зайцев срывает, пишет новый. И так далее. Анекдот. Наконец, Бежину всучили трудовую книжку с записью об увольнении, и он побежал в суд, чтобы восстановиться на работу. Так сладко ему было быть главным редактором, чувствовать себя большим человеком. Бедняжка!
А содоносчики еще до моего ухода перегрызлись между собой. Первым выгнали Иванова, этого уникального бездельника. Малягин ушел сам. Потом с треском выгнали главного бухгалтера Палехову. Затем Зайцев уволил половину коллектива, оказалось незаконно, восстановил.
Когда я уходил, Кобенко спросил меня, кто бы мог меня заменить. Я назвал Сергея Ионина, помните, он упоминался в моем письме директору «Молодой гвардии». Он был старшим редактором редакции, которую я возглавлял, потом по моей рекомендации его сделали в «Молодой гвардии» заведующим военно–спортивной редакцией. Теперь Ионина взяли в «Столицу» на место Бежина.
А издательство опускалось, разваливалось неуклонно. Погибали более мощные издательства. «Столица» — неокрепший отравленный ребенок. Ей было хуже других. Однажды Гусев, Кобенко и Шереметьев — три рабочих секретаря — позвали меня посоветоваться, как вывести издательство из кризиса. Мне жалко было мною созданного дела, спасти его еще было можно. Я четко и ясно рассказал, что нужно делать. Чтобы спасти, нужно было действовать решительно. А этим качеством Секретариат не обладал. Они поступили прямо противоположно моим советам и еще больше усугубили дело.
Пришло время суда по заявлению Бежина, никто из Московской писательской организации на него не явился, и Бежина восстановили, а Ионина уволили. Вскоре Бежина снова уволили, а Ионина взяли генеральным директором.
Вот такая веселенькая история! Слухи о ней улеглись. Но еще изредка кто–нибудь с трибуны, стараясь нагадить, пытается помуссировать ее. Но она мало кого волнует. Я тоже все реже вспоминаю о «Столице», страсти в душе затихли, и я решил, что пора рассказать об этом скандале. Тешу себя надеждой, что, возможно, кто–нибудь найдет в моей повести нечто поучительное для себя, может быть, она удержит хотя бы одну неокрепшую душу от безнравственного поступка. И то хорошо!
Москва. Февраль 1992 г.
Случайная встреча
За окном дул ветер. Сыпал снег. Под фонарем, нависшим над дорогой, белыми полосами проносились хлопья и исчезали в полумраке. Ветер сдувал снег с железной крыши дома напротив и дымом развевал над окнами. А возле нашего дома было тихо. Снежинки, кружась, медленно опускались вниз и ложились на квадратное пятно света от окна под деревом. Иногда из–за угла дома налетал порыв ветра, и снежинки начинали метаться, путаясь в голых ветках. Сверху, из темноты, вырывались хлопья и, ударяясь в стекло, рассыпались, сползая вниз.
С улицы донесся перестук колес электрички. Слышно было, как она остановилась возле платформы, а потом тронулась и стала набирать скорость.
…В ранней молодости ей почему–то нравились свечи. В ее комнате на столе стоял медный подсвечник, похожий на трезубец Нептуна. Когда мы оставались одни, она тушила две крайние свечи, легкими движениями сжимая огонек двумя пальцами…
А началось все с зимнего снежного вечера. Тогда я работал на строительстве компрессорной станции под Воскресенском и жил на квартире в деревне Губаново. Однажды в субботу возвращался из Москвы поздно вечером. На улице было ветрено, шел снег. Я сидел у окна в полупустом вагоне электрички (приближалась конечная станция) и размышлял, где мне лучше выйти — в «Гиганте» или ехать в Пески. От «Гиганта» идти дальше, идти лесом. Я представлял себе, как буду блуждать в темноте по чужому мне лесу, вырос я в степи, блуждать среди темных мрачных деревьев в поисках засыпанной снегом тропинки… Нет, лучше в Пески! Но и туда не хотелось. Наши ребята не ладили с местными. Вспомнилось, как Володя Соломатин, с которым я жил в одной комнате, неделю ходил с фонарем. Встречали местные. Ничего, проскочу как–нибудь, решил я.
На платформе ветер насыпал мне за шиворот снега. Я зябко поежился и поднял воротник. Меня вдруг охватила дрожь, хотя вообще–то было нехолодно. Я скатился вниз по ступенькам и торопливо зашагал по улице, внимательно всматриваясь в темные подворотни. Всюду было тихо, и я повеселел, но не терял бдительности, понимая, что могу чувствовать себя в безопасности только за поселком, за мостом. Ветер дул мне навстречу, и я прятал лицо от снега в воротник. Улица вывела меня на заснеженный луг. Мне осталось пересечь его, потом мимо крайнего дома спуститься к мосту, а там уж до Губаново рукой подать.
И тут, выйдя на луг, я увидел на дороге под фонарем парней. А чуть ближе ко мне, в стороне от дороги, чернели две фигуры. Влип! Я внутренне напрягся. Назад поворачивать поздно. Они, по–видимому, уже заметили меня. Сейчас в темноте им пока неизвестно, кто идет — может быть, свой… Главное, не показывать волнения. Той большой группы ребят под фонарем мне никак не миновать. Они стояли прямо на дороге. И, конечно, когда я подойду к ним, они узнают, что я газовский. Никто из местных не был со мной знаком и не имел на меня зуб, сразу бить не должны, должны придираться. Значит, выбрать момент можно. На ноги я никогда не жаловался.
Ветер на лугу дул сильнее, осыпая лицо колючим снегом. Но я не замечал этого, упрямо и торопливо шел к тем, что были под фонарем.
— Володя! — окликнул вдруг меня девичий голос.
Те двое, что стояли в стороне от дороги, оказались девушками. Я сразу понял, что они приняли меня за моего товарища Володю Соломатина. У него была такая же, как и у меня, серая осенняя кепка.
Я свернул с дороги и, утопая в снегу, направился к ним. Напряжение сразу спало. Экзамен откладывался. Подойдя ближе к девушкам, я узнал одну из них. Это была Оля, подруга Володи, симпатичная девчонка и немножко кокетливая. Ее я часто видел в деревенском клубе. Там она всегда вела себя шумно и весело. Наверно, понимала, что не нравиться она не может.
Я не был с ней знаком, держался я в клубе тихо, да и она вряд ли когда обращала на меня внимание. Хотя, впрочем, Володя говорил, что он рассказывал ей обо мне и называл меня братом. Вторую девушку я не знал и никогда не встречал до этого. Она была в черной шубке, в вязаной шапочке, ростом чуть выше Оли, но неприметнее.
— Здравствуйте, — сказал я, подходя к ним.
— Ой, мы ошиблись, — засмеялась Оля.
— Так я сразу понял, что вы приняли меня за шалуна–братишку, — произнес я шутливым тоном.
В другое время я растерялся бы, смутился и постарался уйти от них поскорей. Но я был возбужден. Недалеко от нас маячили парни. И я старался быть бодрым, показать, что для меня это не имеет никакого значения.
— Так это ты его брат? Он рассказывал о тебе.
— Ну вот! Значит, пора познакомиться. Виктор!
— Оля.
— Что ты Оля — я давно знаю. А подругу как зовут?
— Таня, — сняв перчатку, девушка протянула руку.
Я пожал… Рука оказалась маленькая, мягкая и какая–то беззащитная.
— Вы что, к нам в клуб собрались?
— Нет. Поздно уже, — ответила Оля.
— А тебя я там никогда не видел, — обратился я к Тане.
— Я там редко бываю.
— Почему?
— Ее братья не пускают. Маленькая еще, — пошутила Оля.
— Просто некогда мне. Да и скучно там… А кино иногда смотрю.
— Завтра как раз хороший фильм. Приходи!
— Завтра видно будет.
— Придет она, придет! Я обязательно притащу! — пообещала Оля.
Таня опустила глаза.
— Я буду ждать! — сказал я и стал прощаться.
— А как же ты пойдешь? Там ребята, — озабоченно сказала Оля. — Слушай, давай мы тебя по огородам проведем.
До такого я опуститься не мог.
— Ну что вы, девочки!
— Изобьют. Вовку–то избили.
— Ничего, проскочу! — отвечал я бодро, а внутри похолодело, представил, как меня будут бить сейчас на глазах у девушек. И самое страшное, на глазах у той, которую я только что пригласил на свидание. — До завтра, девочки! — помахал я рукой.
Скрип снега резал мне уши. Ребята что–то обсуждали. Когда я приблизился, они замолчали и повернулись ко мне. Было их человек восемь, крепкие, лобастые. Каждый в одиночку мог бы справиться со мной. В голове метались обрывки мыслей. Что предпринять? Как поступить? Как выкрутиться? Подойдя к ребятам, я неожиданно для себя брякнул:
— Здравствуйте! — и пошел на них.
Они расступились, пропуская меня, а кое–кто ответил на приветствие. Я с замирающим сердцем, косясь то направо, то налево, прошел сквозь строй и отправился дальше по дороге, кажется, всем телом вслушиваясь, не бегут ли за мной. Мне страстно хотелось броситься бежать, проскочить освещенное пространство, но я намеренно сдерживал шаг, зная, что за мной наблюдают девушки. Оглядываться я тоже не смел, поймут, что боюсь. «Зачем я поздоровался? — спрашивал я себя. — Зачем?» Сзади вдруг что–то закричали и засвистели. Ноги сами рванулись вперед, но я опять сдержался.
Дома я долго не мог заснуть, все думал о том, что завтра впервые девушка придет на свидание ко мне, вспоминал, как я свободно разговаривал с девчатами и как спокойным голосом приглашал Таню в клуб, словно этим занимался каждый день… А вдруг не придет?! Я пытался отогнать от себя эту мысль, — придет, не может не прийти! — пытался вызвать перед собой образ Тани, но представлялось что–то смутное, четко виделась только черная шубка, осыпанная снегом, и вязаная шапочка. Я представлял, как Таня снимает перчатку и протягивает мне руку, чувствовал в своей руке ее тонкие пальцы. Но лица вспомнить никак не мог. Не мог! А как же я завтра узнаю ее? А вдруг она придет без Оли?!
— Вовк! Ты спишь?
— Чего тебе?
— Ты с Олей договорился на завтра?
— О чем?
— Ну… о свидании.
— Нет. Я с ней никогда не договариваюсь. Сама приходит.
— А если не придет?
— Придет, куда она денется!
Разговор с Володей не успокоил меня, и я продолжал мучиться. А тут еще вспомнилось, как совсем недавно провожал я из клуба девушку. Я знал, что она хорошо относится ко мне, и решил предложить ей встречаться. Но всю дорогу у меня дрожали колени, я чувствовал себя деревянным и молчал, а если она что спрашивала, я вместо ответа что–то мямлил. Больше я не пытался ее провожать, а при случайных встречах на работе краснел и смущался. А вдруг и завтра так получится, думал я.
Весь следующий день я жил ожиданием вечера. В клуб входил с трепетом. Таня и Оля были уже здесь. Они сидели спиной ко мне. Место рядом с Таней было свободно. Я сел. Таня, взглянув на меня, покраснела и опустила глаза. Я вдруг понял, что она волнуется больше меня, и почему–то мне сразу стало легче. А когда к нам подошел Володя и заговорил своим обычным шутливым тоном, я совсем успокоился.
Разговаривая, я украдкой посматривал на Таню. Она мне казалась еще милей, чем представлялось ночью.
После фильма мы гуляли по деревне. Было тихо. Ветер прекратился еще утром, потеплело, и снег не скрипел под ногами, а мягко шуршал. Мы брели по тропинке, протоптанной за день в свежем снегу, мимо невысоких изгородей из штакетника, окружавших большие крепкие избы деревни. Я чувствовал себя свободно, легко, той скованности, которой я опасался, представляя вчерашней ночью это свидание, не было. Отчего так — я не ведал.
В этот вечер я узнал, что Таня занимается в Москве в педучилище. Из разговора с ней я понял, что больше. всего она любит возиться с детьми. И что мне тогда показалось странным — видела она себя в будущем хозяйкой дома, многодетной матерью и учительницей сельской школы.
— А почему сельской, а не городской? — спросил я тогда.
— Нет, только не в городе, — ответила она. — Там я чувствую себя роботом. Вздохнуть некогда. Я знаю, у меня сестра там живет. Нет.
В то время ей было семнадцать лет.
С этого вечера я вначале неотчетливо, а потом все ощутимее стал чувствовать себя уверенней и серьезней, стало казаться, что смысл моей жизни стал понятен и цель обретена, появилось ощущение, что в жизнь мою вошел человек, о котором я должен заботиться и оберегать его.
Каждый день в три часа я со сладким волнением в груди начинал прислушиваться — не идет ли электричка из Москвы. Наша бригада изолировала трубу недалеко от железнодорожной линии. И вот от платформы «Гигант» доносился характерный звук, похожий на начало завывания сирены. Это набирала скорость электричка. Через минуту показывались вагоны, которые на фоне снега казались ослепительно зелеными. Они проплывали между тонких стволов осин и берез и исчезали за поворотом. Мне хотелось помахать рукой. Я знал, что в одном из вагонов сидит Таня, знал, что сейчас она смотрит в окно и, возможно, видит меня.
Встречались мы почти каждый вечер. И вскоре я начал читать учебники, готовиться к экзаменам. Теперь все мои мечты о будущем были связаны с пединститутом.
Но весной все повернулось по–иному. Я получил повестку. Таня, узнав это, заплакала.
— Ты меня не забудешь?
— Не говори так… Там забывается труднее.
— Я буду писать тебе каждый день, — шептала Таня.
В эту ночь она впервые привела меня к себе домой и впервые я остался с ней в комнате при свечах…
От этого вечера остались в памяти только неясные осколки: зыбкий, вздрагивающий огонек свечи; близкое, такое родное лицо на моей руке и губы, сладчайшие в мире губы… Помню, потом мы проводили все вечера при неверном свете свечи и без конца говорили о будущем.
А через две недели со стареньким чемоданом в руке я, ссутулившись, входил в ворота сборного пункта военкомата, оставив Таню на тротуаре. И еще долго ощущал я на губах солоноватый вкус ее слез…
Я слышал, как жена, окончив проверять тетради, сложила их в стопку, потом встала и вышла в соседнюю комнату посмотреть — спят ли дети. Я представил, как она поправляет одеяло вначале у сына, он поменьше, потом у дочери. Все матери делают это одинаково. Через минуту она вернулась, подойдя к окну, оперлась на мое плечо и сказала:
— Метет…
Я молчал. Жена ласково поводила щекой по моему плечу и спросила:
Грустишь?
— Вспоминал, как тебя встретил. Помнишь, снежный вечер, ты с Олей, ребята под фонарем… Как хорошо, что я тогда не вышел в «Гиганте».
Как странно, думал я, судьба человека порой зависит от такой мелочи — на какой остановке он выйдет. Не испугайся я тогда ночного леса — и жизнь моя пошла бы по иному пути. Что было бы в ней, трудно сказать! Но жутко представить, что текла бы она без Тани, без наших детей, без школы, ведь до Тани я никогда не думал о работе учителя. Как странно!
Киселев
Женщину звали Эммой. Авдееву она казалась такой же манерной, как и ее имя. Он часто видел Эмму с подругами на лестничной клетке у окна. Прислоняясь бедром к высокому подоконнику, она, как казалось Авдееву, жеманно тянула сигарету и поигрывала отставленной ножкой в узких брючках, когда мимо проходили мужчины. Авдеев смотрел на Эмму и ее подруг насмешливо. Он надеялся этим исправить их. Авдееву не нравилось, когда женщины курили. Вырос он в деревне и только второй месяц был горожанином.
И вот эта женщина пришла к нему в комнату и спросила:
— Вас можно на минутку?
Авдеев оставил недобитым гвоздь в паркетной клепке, повернулся к Эмме и ответил, стоя на одном колене:
— Можно!
Потом поднялся, решив, что неудобно стоять перед женщиной на коленях без причины, тем более перед этой женщиной. Про себя он недоумевал, зачем вдруг он понадобился Эмме. Авдеев ей не был нужен, ей нужен был плотник, но как раз Авдеев–то и был плотником–паркетчиком.
Выслушав Эмму, он сказал:
— Не могу! Нет времени!
— Жаль, — качнула головой Эмма.
Авдееву тоже было жаль. Он не отказался бы узнать, какова Эмма дома. Но, кроме паркета, она хотела отремонтировать оконную створку и сделать полочки для банок, а он этого никогда не делал.
Она хотела уйти, но Авдеев вспомнил ее у окна с жеманной сигаретой и подрыгивающей ножкой вспомнил про Киселева и сказал:
— Погодите, я сейчас приведу специалиста!
И убежал.
В соседней комнате Киселева не было. Молоток его и добойник лежали в коробочке с гвоздями на начатой пачке паркета. Ножовка на подоконнике.
Киселев был в кабинете начальника мастерской, где Помидор с Бородой делали панели и встроенные шкафы. Помидор — это Жилин. Лицо у него всегда красное от вина. А Борода… Тут и объяснять нечего. Все трое курили. Киселев сидел на подоконнике и, как всегда, скалил зубы, болтал что–то.
— Киселев, там тебя Эмма ищет! — перебил его Авдеев.
— Что за Эмма?
— Это я у тебя должен спрашивать… — сказал Авдеев. — Может быть, одна из тех, твоих?
— Разве он их всех упомнит? — засмеялся Помидор.
Помидор веселый мужик, а Борода молчун. Иногда и он пробует шутить, но у него всегда получается невпопад.
— Молодая? — спросил Киселев.
— Ты иди скорей! Она в моей комнате ждет!
— Интересно! — пробормотал с улыбкой Киселев и походкой бывалого человека двинулся к двери.
— Половой разбойник! — странно подхихикивая, произнес Борода.
Авдеев остался в кабинете, сел на место Киселева на подоконник. Тот вернулся скоро и еще в дверях замотал головой.
— Баба–прелесть!.. Идем? — обратился он к Авдееву.
— Боишься, один не справишься? — засмеялся Помидор.
— Сколько ты спросил? — Авдееву деньги нужны. Только из армии человек.
— Пять червонцев! — ответил Киселев. — Там и за три работать можно, — добавил он потом.
— Ну ты рванул!
— У нее «бабки» есть! Видел, как одета?
— А ты не боишься с ним идти? — спросил Помидор у Авдеева. — Он тебя без гроша оставит!
Помидор напомнил одну из историй Киселева. Авдеев знал ее. Киселев сам рассказывал, как однажды его наколола молодая вдовушка. Он работал у нее два вечера, потом, когда закончил работу, уломал ее переспать с ним. После всего хорошего вдовушка заявила, что они в расчете, и выпроводила его, не заплатив…
Множество таких историй о Киселеве ходило по РСУ. В них охотно верили, но не потому, что рассказывал о похождениях сам Киселев, а скорее потому, что во всех историях он оказывался в дураках. А людям почему–то радостней слушать не то, как ты обвел всех вокруг пальца, а как сам попал впросак.
Киселев ростом был невысок, суховат, в движениях быстр, но несуетлив, выдержан. Глаза его веселы, лицо всегда насмешливо, но насмешливость эта, чувствуется, не от ехидства, не от желания уколоть, а, наоборот, от стремления вызвать улыбку. Ходит он, держа руки в широких карманах спецовки. Где бы он ни работал, всюду у него знакомые, всюду у него друзья. Через неделю после того, как РСУ переехало ремонтировать это здание НИИ, Киселев начал перебрасываться шутками почти с каждым встречным. И все ему улыбались, все отвечали. Авдеев никогда не видел его молчащим. Разговаривал он и тогда, когда один настилал паркет в комнате.
— Зря ты не пошел, дурачок! — говорил он согнувшемуся гвоздю. — Ты бы клепку держал, польза бы от тебя была, а так вытащу я тебя сейчас и выброшу, будешь ржаветь на помойке. Думаешь, для тебя это лучше?.. Ну, как знаешь! — Он вытаскивал и выбрасывал гвоздь.
Авдеев сразу отнесся к Киселеву настороженно. Решил, что Киселев насмешник, болтун: от такого подальше, но потом привык.
Отправились Киселев с Авдеевым к Эмме часов в пять. Квартира ее была на третьем этаже. Открыла им старушка.
— Вы плотники, — обрадовалась она, увидев торчащую из портфеля ручку топора, и засуетилась, пропуская их в коридор.
— А где Эмма? — спросил Киселев.
— Эммочка на работе… Она звонила, предупреждала! Спасибо ей, деточке, а я и не чаяла… Только уж больно дорого! Пятьдесят рублей! Больно дорого!
— Сейчас все дорого! — с достоинством ответил Киселев.
— Это да, да! — сокрушалась старушка. — Куда ни кинь, все дорого…
— Показывай, бабуля, работу!
Старушка провела их в комнату. «Неужели тут Эмма живет?» — осматривал Авдеев комнату.
Старый самодельный, но крепкий еще стол под клеенкой, на нем телевизор «Рекорд» с небольшим экраном, светло–желтый шифоньер с потемневшим зеркалом в дверце, железная кровать, аккуратно застеленная, на стене ковер с оленями у лесного ручья, на полу в два ряда дешевые половички. И никаких признаков проживания молодой женщины. И спать ей негде, раскладушку, что ли, ставить?
— Окно вот не закрывается, — говорила между тем старушка. — Дождь прямо на пол льет. Паркет от воды повыскакивал! Того и гляди ногу сломаешь! — Старушка сдвинула в сторону половик у окна, обнажила выскочившие клепки.
— Это мы сделаем, бабуль! Это мы враз, — осматривал окно Киселев. — Бабуль, а зачем тебе нужно, чтобы большая створка открывалась? Хочешь, я тебе закрою ее навечно, ни один черт не откроет! Тебе фрамуги хватит!
— Нет, не надо! Пусть открывается… Сделай уж как было…
— Смотри, бабуль, тебе жить… Ну–ка, подними–ка топориком, — сказал он Авдееву. Тот поддел створку топором и поднял сколько мог вверх. Киселев вбил в образовавшийся зазор между петлями гвоздь наполовину и обогнул оставшуюся часть гвоздя вокруг штыря петли. Створка поднялась выше и стала закрываться.
— Во, бабуль! Принимай работу… Двумя пальцами можешь закрывать!
— Спасибо, сынок! Спасибо!
Плотники присели над выскочившими из пола клепками паркета. Старушка все время была около них, и Авдеев никак не мог поделиться своей догадкой с Киселевым. Догадкой насчет того, что Эмма никакого отношения к старушке не имеет. А тот болтает себе и болтает.
— Без деда живешь, бабуль? Одна?
— Одна, сынок! Одна!
— Скучно, видать, одной?
— Скучно, скучно, — охотно соглашалась старушка. То ли она была вообще покладистая, то ли старалась угодить плотникам, надеясь, что они скостят плату за работу.
— Был бы дед какой–никакой, хоть алкаш, и то веселей… Я вот люблю поддать, жена ругается, но терпит, не гонит…
— А ты поменьше бы пил–та! Молодой какой, а пьешь…
— Подносят, бабуль! Откажешься–человек обидится. Ты ведь тоже бутылочку приготовила, наверное, а?
— Приготовила, приготовила! Как Эммочка позвонила, так я сразу в магазин побежала..,
Авдееву было стыдно и за Киселева и за себя. «Пятьдесят рублей со старухи дерет, да еще бутылку выжал, гад!» Авдеев клял себя за то, что пошел с Киселевым.
— Ну вот, опять пьяный приду, — сказал Киселев.
Старушка на это промолчала.
— А Эмма тебе кто, соседка? — спросил Киселев.
— Соседка, соседка!
— Хорошая баба, ладная!
— Добрая она, заботливая, — поддакнула старушка. — Когда я хвораю, она всегда в магазин ходит…
— А у тебя, бабуль, дочки нет?
— Была у меня дочка, да еще маленькой померла… В голод… Муж–то с войны не пришел. Тяжело было!
— А что же ты замуж не вышла?
— Не брали меня. Невидная я была… Да и брать–то некому. Мужиков–то поубивало.
Плотники отремонтировали паркет и перешли на кухню делать полочки для банок. На кухне у старушки тоже была скудная обстановка. Поцарапанный холодильник «Морозко», стол с протертой по углам клеенкой, тумбочка. В углу за тумбочкой небольшой горкой лежали штук восемь маленьких арбузов.
— Чей–то ты такие крохотулечки купила, — указал на них Киселев. — Они еще не созрели добром!
— Это мне племянники привезли, из деревни. Сорт такой…
Когда Киселев с Авдеевым стали крепить полочки к стене, старушка засуетилась, выставила бутылку на стол и начала собирать ужин. Водку Киселев закусывал арбузом и удивленно похваливал:
— Смотри ты, крошечный арбузик, а сладкий какой, аж сам тает!
— Сорт такой… Племяннички выращивают…
— Я возьму парочку детишкам. Уж больно они хороши. Ты, бабуль, не против, а?
— Бери, бери! — снова засуетилась старушка, выбрала два арбуза покрупней и подала Киселеву.
Тот положил их рядом с собой на стол и потянулся к бутылке. «Вот нахал!» — думал Авдеев, все больше удивляясь низости Киселева.
— Бабуль, может, трахнешь с нами грамм сто?
— Вы пейте, пейте… куда мне. — Старушка встала и вышла.
«За деньгами, наверно — догадался Авдеев. — Ограбили бабку… Она сама, видать, перебивается, а мы… Тут всей работе–то красная цена двадцать рублей!» Но Киселеву он не успел сказать об этом. Старушка вернулась быстро и протянула им пять красных бумажек, развернутых веером.
— А это что? — переспросил Киселев, как будто ничего не понимая.
— Вам… за труды. — растерялась старушка.
— Мы в расчете. Бутылка–то пять рублей стоит?
— Пять…
— Ну вот! Мы за пять и подряжались!
— А Эммочка пятьдесят называла…
— Она ошиблась. Я ей сказал за пять, а она, видно, решила, что за пять червонцев. Все в порядке, бабуля! Спасибо за арбузы… Нам пора!
Утром Авдеев на работе переодевался один. Из открытой двери соседней комнаты, где была раздевалка столяров и плиточников, доносился голос Киселева. Потом послышался хохот. «Снова что–то заливает!» — начал прислушиваться Авдеев.
— Я Авдееву шепчу, — рассказывал Киселев, — «бабки» в карман — и гони! Я с ней добалабонился… Авдеев замялся перед Эммочкой, так и так, мол, говорит, спасибо за ужин, я тороплюсь, меня девка ждет — и к двери! А я ей, мол, мне торопиться некуда, посидим давай, побалдеем… Она расцвела, коньячишко на стол: Только расселись, слышу, кто–то в двери ключом шебаршит. Эммочка как вскинется! Муж! — Киселева прервал хохот. Когда отсмеялись, тот продолжил: — Какой муж? — шепчу, а самого трясучка за колени взяла. Ну, думаю, влип! И с софы! А тут муж входит — лоб огромный! Глянул на софу, глянул на стол — и ко мне…
И снова хохот на весь дом.
Помидор сквозь смех спросил:
— Эммочка здесь работает? Покажешь?
— Нет, — ответил Киселев. — Она к подруге приходила. Ну и увидела нас! И пригласила!
Авдеев переодевался, улыбаясь, и подумал: «Ну, трепло! И они верят его сказкам!» Но когда он вошел в комнату столяров и взглянул на Киселева, опешил от неожиданности. Щека его была исцарапана.
— Кто это тебя так, а?
— Что же ты друга одного бросил, — хохотнул Помидор. — Видишь, как его отделали!
Авдеев не знал, чему верить. Уходили–то они вместе и в автобус садились вместе. Откуда же царапина? Потом догадался и, когда они остались одни, спросил:
— Это тебя так жена угостила, да?
— Она… Поздно, говорит, пришел. Не поверила, что мы у старушки халтуру делали. Съездила по щеке, а ногти длиннющие…
В приемной
Он ее сразу узнал. Сразу! Вошел, увидел за секретарским столом и растерялся. Потом быстро направился к двери кабинета начальника треста.
— Минуточку! Минуточку! — остановила она Лыкова и оперлась руками о стол, намереваясь вскочить и преградить ему путь в кабинет, если он сделает хоть один шаг.
«Не узнала!» — подумал Лыков. И если поначалу он хотел пройти мимо секретарши неузнанным, то теперь вдруг захотелось, чтобы она его узнала, и Лыков остановился.
— Николай Максимович занят! — почувствовав что тот не собирается рваться в кабинет, более спокойным голосом объяснила секретарша, все еще настороженно глядя на Лыкова. Ей казалось, что видит его она не в первый раз. Но это ее не смущало: мало ли людей бывает у начальника строительного треста. Приходил по делам, вот и запомнился.
На вид вошедший несколько простоват, лицо широкое, русское, крестьянское, с расплющенным носом, но не грубое. Лицо интеллигента в первом поколении. Штанины брюк внизу забрызганы невысохшей грязью, туфли в мутных разводах. Когда Лыков входил в приемную, секретарша приняла его за московского архитектора, которого ждал начальник треста Николай Максимович, но, заметив замешательство на лице Лыкова при взгляде на нее, решила, что ошиблась. Секретарем она работала много лет и, казалось ей, научилась по первому взгляду на посетителя определять его положение в обществе.
— Жаль, — приняв огорченный вид, сказал Лыков, вспоминая имя отца секретарши. Просто Настей или хотя бы Анастасией неудобно называть сорокапяти… нет, сорокашестилетнюю женщину, ведь она всего на год моложе его. — Я подожду! — указал он на одно из кресел возле стены и направился к нему.
— Извините, мы с минуты на минуту ждем важного человека, — официальным тоном сказала секретарша. — Вряд ли Николай Максимович будет сегодня свободен!
— Ничего, я минуточку. Устал! — по–домашнему улыбнулся Лыков, садясь в кресло. «Алешка! Алешкой звали ее отца!» Вспомнил и добавил с улыбкой: — У вас уютненько, Анастасия Алексеевна!
«Фу, как фальшиво и глупо! Уютненько! — передразнил себя Лыков. — Не надо было останавливаться!»
Секретарша, готовая выдворить мужчину, услышав свое имя, замешкалась, вспоминая, где они познакомились. Она теперь не сомневалась, что они знакомы, и знакомы не по работе.
— Трудно теперь узнать, — продолжал улыбаться Лыков. — Лет тридцать прошло… Нет, до тридцати года не хватает!
— Паша?
— Паша, Паша! — подтвердил Лыков.
— Ой, а я совсем не узнала! — радостно воскликнула Анастасия Алексеевна.
Она сама почувствовала, что радость ее не совсем искренна. Что–то мешало радоваться встрече с человеком, любившим ее в ранней юности. Да и она его любила. Да, да, любила! Не настоящей, конечно, любовью! Детской, глупой, но любила! В приемной запахло Масловкой, ее шумными деревенскими вечерами, небольшой избенкой родителей… Но что–то мешало радоваться встрече! Сначала Анастасия Алексеевна думала, что мешает то, что встреча произошла в приемной в такой момент, когда не до праздных разговоров. Николай Максимович сейчас сердит, даже зол. Московский архитектор остановил большую стройку из–за каких–то отступлений от проекта. Николай Максимович звонил в министерство. Но и это не помогло. Сейчас в кабинете начальника треста шло совещание, на которое должен приехать архитектор. Анастасия Алексеевна боялась, что Николай Максимович захватит ее за болтовней и недоволен будет. Но все–таки не это мешало, не это, чувствовала она и вспомнила, из–за чего она постаралась поскорее забыть свою первую любовь, вспомнила морячка и поняла… Анастасия Алексеевна по–прежнему радостными глазами смотрела на Лыкова, а про себя старалась понять, что осталось в нем: обида или то хорошее, что было между ними за два года дружбы.
— Двадцать девять лет прошло! Двадцать девять лет, — повторяла она.
— Я те… вас видел в Масловке лет через шесть после того… после той весны… Да, через шесть лет! Я уже в Сибири работал…
«Не забыл, не забыл обиды!» — решила Анастасия Алексеевна. Ей стало неловко, как обычно бывает при встрече бывших друзей, расставшихся из–за неприятной ссоры. Она почувствовала неприязнь к Лыкову, думая, как бы тактичней, поскорей избавиться от него, но продолжала улыбаться, говоря:
— Да, это был мой последний приезд в Масловку. В тот же год умерла мать, отец к сестре переехал, и я больше в деревне ни разу не была.
— Я знаю…
Анастасия Алексеевна хотела спросить, зачем он пришел к начальнику, но удержалась, опасаясь, что Лыков начнет расписывать перед ней свои нужды, да еще, не дай Бог, попросит походатайствовать. Но прекратить на этом разговор казалось неудобным, и она спросила:
— Вы, видно, часто бываете в деревне? Родители живы?
— Живы. Прошлым летом был!
— Старенькие, должно быть, они. Их надо весной навещать, когда работы в огороде много!
— Весной я туда не езжу… Не могу!
— Почему так?
— Весной мне там нехорошо… Думаю — из–за вас…
— Ну уж, — усмехнулась секретарша.
— Я знаю, что это смешно! Знаю! — заторопился Лыков, стараясь, чтобы она поняла его правильно. — Но это так!.. И запаха черемухи я с тех пор не переношу. Мне от него как–то тоскливо и одиноко становится… Я ведь любил вас тогда. Ох, как любил! Помнится, покончить с собой намеревался после того вечера, после такого позора!
— Ну уж, позора! — засмеялась Анастасия Алексеевна.
— Да, да, позора! Сейчас и я с улыбкой оглядываюсь на ту ночь. А тогда… На другой день я не мог на люди показаться. Казалось, что каждый посмеивается надо мной. Если бы каникулы не кончились, не знаю, выдержал бы? В юности я сентиментальным был, а впрочем, и сейчас такой же…
— Вот это мне и не нравилось в вас! Мне хотелось видеть близкого человека таким, что в небо рвется и меня за собой тянет, а не таким, что вечно под ногами у себя ковыряется. Но, видно, такие перевелись! Бывает, посмотришь — орел, а приглядишься — курица! Мужик сейчас кабинетный пошел, тихий, по конторам сидит, бумагу с места на место перекладывает. — «Что–то я словно оправдываюсь», — подумала Анастасия Алексеевна и закончила с заметным раздражением, с ехидцей. — Вы–то, я вижу, тоже жизнь в конторе провели. Где вы сейчас?
— В РСУ — бухгалтером!
— Ну во–от… Таким я тебя и представляла. — Анастасия Алексеевна незаметно для себя перешла на «ты». — Вежливенький, смирненький, сидишь за конторским столом в нарукавничках… Скука! Только одного и видела мужика! За всю жизнь!
— Это кто же? Не морячок ли?
— Морячок!.. Морячок тоже оказался соплячок! Вот! — указала она на дверь кабинета Николая Максимовича. — Этот ни перед кем не согнется, ни перед кем лебезить не станет!
Анастасия Алексеевна замолчала. Лыков сделал движение, намереваясь встать, но остался в кресле и спросил:
— Вы, я вижу, сейчас не замужем?
— А ты что, по старой памяти мне предложение сделать хочешь? — усмехнулась Анастасия Алексеевна.
— Ну что вы, — добродушно засмеялся Лыков, делая вид, что не замечает раздражения секретарши. — У меня дети взрослые!
«Видимо, не легко живется женщине, — пожалел он о том, что спросил о замужестве — Настя, Настенька! — думал Лыков, следя за секретаршей. — Куда же ты спряталась? А может быть, она такой и была? Просто я, мальчишка, ни черта не понимал?»
Анастасия Алексеевна выглядела неплохо, даже несколько моложе своих лет. И изменилась внешне не так уж сильно. Но все же Настя была иной, совсем иной, или, может, это казалось Лыкову. Нервная стала, раздражительная, а раньше озорная была, плясунья. В Масловке никто ее переплясать не мог. Особенно елецкого. Здорово плясала! Плясала она и в тот вечер. Тогда в клуб приехали ребята из соседней деревни, из Кростелей. Приезжали они часто. Некоторые дружили с масловскими девчатами. С ребятами прикатил морячок, отпускник. Ухарь малый! В клуб он вошел вьюном, как к себе в дом, и сразу в пляс с присвистом и шутками. Витька Кирюшин, гармонист, почувствовав настоящего плясуна, рванул гармонь. Девки заулыбались, прихорашиваться стали украдкой. Когда Кирюшин прекратил плясовую, Настя подскочила к нему:
— Витюша, елецкого! елецкого давай!
И на середину клуба с платочком на плечах.
Ты зачем сюда приехал, Незнакомый паренек, Иссушил мое сердечко, Как на печке сухарек, —пела Настя, выплясывая.
Едва кончала свою частушку подруга, с которой она дроби выбивала, как Настя тут же подхватывала другую и пела игриво, с намеком:
Не о том сердце болит, Который рядышком сидит, А об том сердце болит, Который издали глядит.Масловские девки сразу запереглядывалиеь. Паша стал ловить их любопытные взгляды на себе. Потом Настя танцевала с морячком. Танцевал он ловко, уверенно и все время что–то говорил Насте, а юна смеялась.
Смотри, уведет, — кивнул на них Васька Зуб, товарищ Паши. Он за столом играл в карты с мужиками, а Паша сидел рядом с ним.
Лыков и Васька Зуб были в деревне третий вечер. Приехали они из школы на Майские праздники. Они заканчивали десятилетку в райцентре, в Мучкапе, за двадцать километров от Масловки. Ближе средней школы тогда не было.
— Да ну-у, — ответил Паша приятелю, а сам заволновался, думая, что надо увести Настю из клуба. Он сидел мрачный, мучился, делая вид, что следит за игрой в карты, а сам искоса наблюдал за девушкой и морячком.
После танца морячок, взглянув в окно и что–то сказав Насте, быстро направился к выходу. Паша обернулся к окну и увидел мальчишек с букетами черемухи. Кирюшин заиграл «Дунайские волны», Паша поднялся и, зная, что за ним следят, с некоторой ленцой, показывая этим, что ему безразлично, как ведет себя его залетка, направился к Насте. Только вот не мог он, как ни старался, заставить щеки чуточку побледнеть. Настя поднялась ему навстречу. Паша внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять, чувствует ли она себя виноватой. В глазах ее было что–то новое для Паши.
— Пошли погуляем, — предложил он, пытаясь сказать это обычным тоном, но голос оказался хриплым, и он смущенно прокашлялся. — Вечерок сейчас что надо!
— Погоди, — быстро ответила Настя, — я еще не наплясалась!
— Сегодня ты расплясалась, как никогда! — с едва скрываемым ехидством сказал Паша.
— Да, сегодня мой день! — Настя взглянула на него насмешливо, как показалось Паше, и улыбнулась, но улыбнулась не ему, а глядя через его плечо.
Он поспешил прокружить ее и увидел в дверях морячка с букетом черемухи. Тот стоял и с улыбкой смотрел на них. Вальс кончился, и морячок тут же направился к ним. В Масловке тогда при всех дарить цветы ухажерке было не принято. Паша, как дурак, стоял рядом, ждал. Настя зарделась. Морячок, не обращая внимания на Пашу, протянул цветы Насте. Она взяла и направилась к двери. Букет она держала около лица, делая вид, что нюхает цветы. Морячок выскочил вслед за ней. Все это происходило на глазах ошеломленного клуба. Паша, глядя прямо перед собой, осторожно ступал по полу, потому что доски почему–то стали мягкими и прогибались под ногами, вернулся на свое место к столу.
— Пошли, — шепнул Васька Зуб, кивая на дверь.
— Я сам, — еле слышно ответил Паша.
— Ну, давай, давай!
Паша сидел на скамейке, думал про себя: «Нужно идти! Нужно идти!» Но не шел, зная, что вслед за ним выскочат из клуба ребята, а может, и девки, чтобы посмотреть на драку. Два года встречался он с Настей! Два года! Только вчера она обнимала его на крыльце, шептала разные слова, и вдруг такое! Как же теперь жить дальше. Надо идти! Не драться нельзя, засмеют! Паша оторвался от скамейки и быстро вышел из клуба, завернул за угол и побежал по направлению к Настиной избе.
Сквозь кудлатые облака проглядывали звезды, и видно было довольно далеко. Вот и Настя с морячком! Паша приостановился, оглянулся назад. Окна клуба багрово светились, внутри шевелились тени. От реки доносились робкие еще голоса лягушек. За Пашей никто не бежал, и он пошел шагом. Он долго шел следом, не смел приблизиться к парочке. Паша никогда не дрался, не знал, как начинать, что говорить, было стыдно, страшно. Он заранее знал, что морячок побьет его, но вернуться, оставить их было еще мучительнее и стыднее.
— Ну, погодите–ка! — окликнул он наконец Настю с морячком.
Те остановились.
— Чего тебе надо? — сказала Настя. — Разве не ясно? Между нами все…
— Я не к тебе! Мне с ним поговорить надо!
Морячок отделился от Насти. Когда он приблизился, Паша, дрожа, кинул кулак в бледное пятно его лица. Но рука провалилась в пустоту. И тут же что–то бросило Пашу на землю, на спину. Вскакивая, он почувствовал, что нос его смят. Ему казалось, что дышать им нельзя, и Паша с открытым ртом, держа впереди себя руку с растопыренными пальцами, кинулся на морячка, ахнул тихонько, больно наткнувшись в темноте бровью на что–то жесткое, как угол бревна. Но на этот раз удержался на ногах и начал молотить впереди себя руками. Временами он задевал морячка в темноте и молотил, молотил воздух, думая лишь о том, чтобы морячок не попал в него снова. Вдруг он неожиданно обнаружил, что морячка, метавшегося вокруг него, нет. Насти тоже не было. Только в стороне слышался топот и голос Васьки Зуба.
… — Павел Тихонович, дорогой! Вы уже здесь! — В дверях кабинета стоял Николай Максимович. — Что же вы, Настасья Алексеевна? — строго взглянул начальник треста на растерянную секретаршу. — Заходите, дорогой! Заходите! Мы вас ждем!
— Извините, я задумался! — улыбнулся Лыков, поднимаясь.
— Все думаете, как бы нас покрепче скрутить, — как–то заискивающе пошутил Николай Максимович.
— Наоборот, наоборот! Стараюсь найти для вас выход!
— Ну вот, сейчас мы вместе и поищем! Тут к нам как раз заказчики явились…
Славик Захаров
Славик грохнул дверью так, что щеколда отскочила и дверь распахнулась снова, слетел с крыльца на землю через три ступени и понесся к калитке. У окна в избе стояла жена Славика, Ляля. Она постучала в стекло, что–то крича, и покрутила пальцем у виска. Славик не оглянулся ни на стук, ни на голос жены.
Машина взвыла, рванулась с места, подпрыгнула, загремев железным кузовом, и понеслась по селу, поднимая пыль, которая окутывала избы, стоявшие рядом с дорогой. От соседней избы за самосвалом с громким лаем бросилась собака. Она тут же исчезла в пыли, отстала и, высунув от жары язык, с чувством исполненного долга, неторопливо побрела назад под крыльцо в тень.
— Славик опять с женой поругался, — сказала женщина своей соседке, бросив вязать пуховый платок, и посмотрела вслед машине.
— Да он всегда скачет, как сумасшедший, — ответила полная соседка с распущенными волосами и, потянувшись, сладко зевнула.
Женщины сидели на расстеленном одеяле в тени под кленами на лужайке недалеко от избы Захаровых.
А Славик давил на педаль газа, словно хотел раздавить ее. Он подпрыгивал на ухабах вместе с машиной и, казалось, управлял ею всем своим крепким телом. Глазами он впился в летящую под него дорогу. Тяжелая тоска давила на него, и хотелось сделать что–нибудь такое, чтобы Лялька ахнула, задумалась над своей жизнью, подумала о нем. Представилось, как она, рыдая, упадет на его искалеченное тело. Он направил машину на бетонный столб электролинии. Столб надвигался, летел на него, заслоняя все позади себя. «Ну, и дурак! Машину побью!» — мелькнуло в голове, и он перед самым столбом рванул руль вправо, выскочил на грейдер. Его подбросило так, что он ударился головой о потолок кабины. Нога соскочила с педали. Он снова вдавил ее в пол и, пролетев мимо останавливавшей его женщины, помчался по дороге в Уварово. Мерное гудение мотора и однообразная дорога постепенно успокаивали его. Он не заметил, как оказался в Подгорном. Сбавив скорость и потихоньку притормаживая, спустился с бугра и остановился у магазина.
— Чтой–то ты невеселый такой? — спросила знакомая продавщица, наливая в стакан водку.
Славик не ответил. Он, играя желваками, смотрел, как медленно наполняется мензурка.
— Не надо! — вдруг резко сказал он. — Не стоит! — и, круто повернувшись, вышел из магазина, оставив на весах смятый рубль.
— Вот псих, — недоумевая, пожала плечами продавщица, — как будто его заставляют…
А Славик, вскочив в кабину и развернувшись, помчался по дороге назад. Поднимаясь на бугор, он вспомнил, что именно на этом месте впервые встретил Лялю. Тогда он, возвращаясь из Уварова, увидел на бугре около дороги девушку с небольшим чемоданом у ног и сумочкой в руке. Славик притормозил перед ней, хотя девушка не останавливала его.
— Садись, черноглазая. Подвезу, — распахнул он дверцу.
Девушка мгновение поколебалась, потом решительно подала чемоданчик. Славик помог ей устроиться в кабине и спросил:
— Тебе далеко?
— До Масловки.
— До Масловки? — удивленно переспросил Славик.
— Да… Что же здесь удивительного?
— Я же масловский.
— Вот и хорошо. До места довезете.
— И к кому это ты, если не секрет? — спросил Славик, включая скорость, и тут же добавил: — А впрочем, я знаю, к кому. Ты, наверно, внучка бабки Палажки. Угадал?
— Нет. Не угадал, — улыбнулась девушка.
— Тогда к кому же еще?.. Может, ты тетки Дуньки племянница, к ней она давно из Москвы собиралась.
— Нет. Опять мимо, — засмеялась девушка. — Я медсестра. В ваш медпункт на работу направлена.
— A-а! Вот оно что! — удивился Славик и стал с любопытством разглядывать девушку, потом рассмеялся: — А я разугадывался… Раньше у нас старушка работала, поэтому мне и в голову не пришло, что у нас такая медичка будет. Теперь все наши ребята с ума посходят.
— Так уж и посходят, — улыбнулась девушка.
— Посходят, посходят, — заверил ее Славик. — Я вот, видишь, уже сошел, дороги не вижу.
Сказал и повел машину по краю грейдера.
— А зовут–то тебя как?
— Ляля.
— Ляля? — удивился Славик. — Чудно! Прямо, как куклу.
— Вообще–то Валей зовут, но с детства все Лялей называли, и я привыкла.
Славик больше ничего не спрашивал. Молчал. В кабине было жарко. Он опустил локоть левой руки в окошко дверцы и высунул голову из кабины. Ветер трепал его волосы. Украдкой Славик посматривал на попутчицу. Она сидела спокойно, свободно. Держала сумочку на коленях и глядела вперед.
«Сейчас я тебя прокачу, курносая», — подумал Славик и сильнее нажал на акселератор. Девушка вжалась в сиденье и вцепилась одной рукой в ручку, а другой в сумочку. «Сейчас попросит, чтоб тише ехал», — усмехнулся про себя Славик. Но девушка молчала всю дорогу. В Масловке около магазина Славик сбросил газ и резко затормозил. Ляля ткнулась вперед и задержалась руками за стекло. Сумочка упала на пыльный пол кабины возле чемодана. Потом, когда машина остановилась совсем, девушка шлепнулась назад на сиденье и как–то облегченно–восторженно выдохнула:
— Ух, чумовой!
Пыль, обогнав, окутала машину, пробиваясь в щели, в кабину. Славик поднял сумочку, вытер ее и положил на колени девушки. Какое–то мгновение сидели молча. Ляля дышала быстро, легко и по–прежнему глядела вперед.
— Приехали, — сказал Славик.
Девушка щелкнула сумочкой, достала кошелек и спросила:
— Сколько?
— Два.
— Ого! — возмутилась Ляля. — Тут, наверно, на автобусе не больше полтинничка… А вы дерете!..
— При чем здесь деньги? Я говорю – два поцелуя.
— Ишь какой…
Она высыпала из кошелька мелочь себе в руку и протянула Славику. Но тот сжал ее ладонь с мелочью в кулак и, открывая дверцу с ее стороны, проговорил:
— Как нехорошо! Как нехорошо! Такая хорошенькая ручка, и что делает… Ай–яй–яй!
Потом, когда девушка спрыгнула со ступеньки, добавил, погрозив пальцем.
— Смотри! Не делай больше так.
И лихо рванул с места. Вечером, подъезжая к своей избе, Славик увидел Лялю, разговаривающую с соседкой.
— Тетя Шура! — крикнул он, вылезая из кабины. — Это что, новая квартирантка ваша?
— Да. Познакомиться хошь? Иди, познакомлю.
— Я уже успел, познакомился, — весело ответил Славик.
— Ишь ты, шустрый какой! — засмеялась соседка. — Ну, тогда заходи за ней, клуб ей покажешь наш, в кино сходите.
— Некогда мне, тетя Шура. В командировку надо, — крикнул Славик и направился к крыльцу.
— С кем это ты разговаривал? — спросила мать, выходя из сеней.
— С тетей Шурой. У ней квартирантка теперь жить будет. Медичка.
— Видела уж я. Хорошая девка, обходительная. Больно молода только для такой работы. Вдруг кто рожать надумает, она, что ли, роды принимать будет?
— В район отвезут. Сейчас недолго. Раз — и там.
— А ты куда это собрался? — вдруг совсем другим тоном спросила мать. — Что это у тебя за командировка такая? Небось опять в Красную Ниву, к этой пигалице своей?
— Чем она тебе не нравится? Девчонка как девчонка, худая только, — ответил Славик и пошел в избу.
— Ты смотри, доездишься. Милиция встренет, машину заберет, тогда узнаешь, — проговорила мать.
Славик долгое время не видел Лялю, потому что с вечера уезжал в соседнее село к своей подруге, возвращался оттуда под утро, а днем работал. Но от матери он слышал, что новая медичка всем ребятам головы вскружила, гуртом за ней ходят, а она ни с кем — всех отшила.
Однажды утром Славик, еще не совсем проснувшийся, сидел за столом, лениво пережевывая яичницу. Мать возле судника наливала ему молоко в кружку и сердито ворчала:
— Повадился до свету по деревням шастать. Спать уж совсем перестал… Уснешь за рулем, задавишь кого, аль под мост попадешь. Тада узнаешь… И было бы хоть из–за кого, а то так.
Славик не отвечал. Мать поставила на стол кружку, положила рядом батон и продолжала ворчать:
— Тут прямо под боком девка какая, и собой как принцесса, а хозяйственная какая… Шурка–то не нарадуется на нее: корову встречает ей, воду таскает, пологорода картошки сама окучила, даже корову, однажды подоила, когда Шурка на работе задержалась. А ить городская!.. А комнату как содержит–любо глянуть. Иная на ее месте и к венику не прикоснулась бы, хозяйка есть — подметет… А эта…
— Вот бы тебе сноху такую, — перебил Славик.
— А что ж, кто бы от такой снохи отказался. Шурка–та тужит, что сынов у нее нету… А ты нашел какую–то свиристелку, глянуть не на что.
— Да я уж ее неделю назад бросил.
— Так что ж ты, — сорвалось у матери с языка то, о чем она думала последние дни.
— Ты сама говорила, что ребята за ней гуртом ходят, а она всех отшила. А чем я лучше других?
— Эх, горе ты мое. Шурка говорила, что она о тебе все расспрашивает.
— Ой, так она обо мне и расспрашивала. Принц какой выискался, — сказал Славик, допил молоко и вышел на улицу.
Вечером, когда стемнело, Славик лихо подкатил к клубу на машине и стал возле двери. Девчата, толпившиеся у входа, с визгом шарахнулись в коридор.
— Эге, зайцы! Кого прокатить? — весело крикнул из кабины Славик.
— Лялечку прокати, она давно желает на машине покататься, — насмешливо крикнул Сашка, Славиков друг, подходя к машине.
Славик отыскал глазами Лялю среди девчат и сказал:
— Я Лялечку уже один раз так прокатил, что она, наверное, до сих пор не отдышалась.
— Ой! Полз, как черепаха! — сказала Ляля.
— Что?! Может, еще прокатить? Садись!
Славик открыл дверцу. Ляля без колебания села.
Она уже освоилась в деревне и вела себя свободно, так же, как и местные девчата.
— Лялька, вылазь! Он как черт носится. Разобьет! — крикнула одна из подруг.
Но Славик уже отпустил муфту. Машина резко дернулась с места. Ляля откинулась назад. Когда они выехали из деревни, Славик спросил у девушки, как у старой знакомой, взглянув на нее с улыбкой:
— Ну как, привыкла у нас?
— Привыкла. И, помолчав, добавила: — У вас тут хорошо. Речка тихая, светлая… Мне вообще нравится в деревне больше, чем в городе.
— Да, у нас хорошо. Только вот ребят маловато.
— Почему, у вас еще хватает.
— А что ж ты ни с кем не закрутила? Я слышал, желающих было много.
— Много, — засмеялась Ляля, — но все они какие–то неинтересные.
— Каких же это тебе интересных надо? — вдруг насмешливо спросил Славик. — Интересные в Москве в институтах учатся. А у нас только трактористы, скотники да шоферы.
— Я не об этом, — ответила Ляля.
Она то ли обиделась, то ли задумалась. Притихла, больше разговор не клеился. И Славик повернул назад. Возле клуба он вновь резко затормозил, но Ляля не ткнулась в стекло, как тогда у магазина. Она крепко держалась за ручку. Славик вдруг снова включил скорость и, проскочив мимо клуба, выехал на дорогу.
— Ты извини меня. Может, я грубо. Я не понял тебя… сразу… — проговорил Славик.
— Ничего, я совсем не обиделась.
Лицо Ляли при смутном свете лампочки казалось призрачным.
Вернулись они, когда клуб был уже закрыт. Возле своего дома Славик, не сбавляя скорости, крутанул руль вправо к Ляле и вдавил педаль тормоза в пол. Машину занесло по влажной от росы траве. Ляля не удержалась и упала к Славику на плечо. Он бросил руль, крепко прижал Лялю к себе и поцеловал в губы. Она вырвалась, тяжело выдохнула: «Чумовой!» — и выскочила из кабины.
…Вспоминая, Славик успокаивался, и нога слабее давила на акселератор. Да и ровный гул мотора, и однообразная лента дороги успокаивали его. Машина шла тише…
С этого вечера они стали встречаться. Машина теперь, на радость матери, сиротливо стояла ночами возле дома под деревом. Правда, иногда Славик катал Лялю, но это случалось не часто. Чаще всего они гуляли по берегу реки среди таинственно молчавших ветел, заглядевшихся в сонную воду. Изредка из воды за комаром выпрыгивали пескари. Круги, расходившиеся по воде от этого места, постепенно затухали и исчезали, не доходя до берега. Ничто не омрачало их встреч до самой свадьбы…
Впрочем, нет. Был один случай, неприятно поразивший Славика.
Однажды ему дали наряд привезти из Уварова запчасти к трактору. Ляля попросила взять ее с собой, проведать родителей. Славик с удовольствием согласился. Разве не приятно прокатиться рядом с любушкой? Там он подвез ее прямо к дому. Ляля предложила ему зайти к родителям, познакомиться. Пора. Дело шло к свадьбе. Славик не решился. Сказал, что на обратном пути заедет за Лялей и познакомится, а сейчас он просто психологически не готов. Сделав свои дела в городе, Славик подкатил к дому Лялиных родителей. Дом у них нельзя сказать, чтобы был большой, но по всему, начиная от забора и кончая крышей, чувствовалось, что здесь постоянный и прочный достаток. Славик знал, что отец Ляли работает инженером на сахарном заводе.
Встретили его приветливо, дружелюбно, усадили за стол. Выпить Славик отказался. За рулем. Мать Ляли, тихая, неприметная женщина, понравилась Славику, а вот к отцу у него возникло чувство посложнее. Вроде приятный приветливый человек, вежливый, все делает с улыбочкой, но только вот почему–то с первого взгляда поселилось в душе Славика недоверие к нему. Может, потому, что в улыбочке отца что–то льстивое чувствовалось, хитренькое. Слишком уж он внимательно присматривался к Славику, будто поворачивал то одной стороной, то другой, ощупывал, как казалось Славику, заглядывал внутрь, что там. Но ведь внимание отца понятно: человек уяснить себе старается, кому он вверяет жизнь единственной дочери. Или же чувство это появилось после того, как во время разговора со Славиком отец Ляли, легонько почесывая щеку, такая у него привычка, обнаружил возле уха маленький прыщик, испуганно встрепенулся и потом долго прикладывал к щеке ватку, смоченную одеколоном, стоя перед зеркалом. Вид у него был озабоченный.
Перекусив, Славик с Лялей отправились обратно в Масловку. Перед отъездом Славик помог отцу Ляли погрузить в кузов два тяжелых картонных ящика. В Масловке он выгрузил их, отнес в сени к тете Шуре, пообещал вечером забежать, чтобы вместе идти в клуб, и покатил на тракторную базу выгружать запчасти.
Вернувшись домой, переодевшись и наскоро поужинав, Славик пошел к тете Шуре. Ляля была в горнице.
— Я сейчас! — крикнула она, услышав его голос.
Славик сел на лавку и стал смотреть, как тетя Шура перебирает вишни на суднике, готовясь закрывать банки с компотом. На подоконнике лежало несколько новеньких пачек сахара. Хлопнула уличная дверь, прошаркали шаги по доскам сеней, тихонько приоткрылась дверь, и показалась бабка Дунька.
— Медичка твоя дома? — обратилась она к тете Шуре.
— Что, бабушка, прихворнула? — участливо спросила у нее Ляля, выходя из горницы.
— Нет, дочка, Бог пока милует… Ты, говорят, сахарку привезла. Мне бы килограммчика четыре. Дочка скоро приехать должна…
— А ты донесешь столько? — перебила ее Ляля.
— Донесу, донесу… Дочка, говорю, из Москвы скоро приехать должна. Варенья наварить надо, на гостинцы внучатам, — говорила бабка, выходя в сени вслед за Лялей.
Славик видел, как Ляля вынула из картонного ящика одну за другой четыре пачки сахара и помогла сложить их в сетку бабке Дуньке. Потом она прошумела платьем мимо Славика, свертывая рубли, на ходу улыбнулась ему, бросив:
— Сейчас пойдем.
Славик был потрясен увиденным. Не дождавшись Лялю, он хлопнул дверью и ушел в клуб один. По дороге немного остыл, начал искать оправдание Лялиному поступку. Думал, может, у родителей сейчас туго с деньгами, вот они и решили сахаром торгануть, и Лялю к этому подключили. А она не посмела отказать.
Когда Ляля появилась в клубе, такая милая, приветливая, Славик потянулся к ней, испытывая чувство нашкодившего щенка.
— Ты чо психанул–то? — спросила Ляля. В голосе ее звучало искреннее непонимание.
— Ты всегда копаешься, копаешься… А мне нужно было быстрее попасть в клуб, — проворчал Славик, радуясь, что все так хорошо кончилось.
И больше до свадьбы никаких размолвок между ними не было. Ляля с первых дней жизни в Славиковом доме нашла общий язык с его матерью. Та души не чаяла в своей невестке, которая действительно оказалась хозяйственной, аккуратной, приветливой, умелой помощницей свекрови во всех делах. Больше всего нравилось матери, что Лялечка на работе не книжечки почитывала, как делала бы на ее месте другая (в медпункт обращались не часто), а вязала пуховые платки. Вязать она научилась еще у тети Шуры.
Славик тоже был без ума от жены. Ему нравилось по утрам подвозить ее к медпункту, нравилось, как она выбегала вечером ему навстречу, когда он подъезжал к избе, нравилось идти с ней под руку в кино. Но уже тогда не одни радости были в их супружеской жизни. Мелкая ссора произошла опять–таки из–за сахара в первый же месяц. Отец Ляли привез к ним мешок сахара, чтобы они по дешевке сбыли его в деревне. Славик нагрубил ему и отправил вместе с сахаром назад. Вот тогда–то они и поссорились.
— Ты что? Хочешь, чтобы нас в деревне спекулянтами звали?! — кричал Славик.
Но эта ссора быстро забылась.
После женитьбы Славику пришлось отказаться от некоторых своих привычек. В один из зимних вечеров Ляля, как обычно, радостно встретила мужа.
— Получку принес? — спросила она, обнимая мужа.
— Принес.
Славик вынул деньги из внутреннего кармана пиджака и протянул их Ляле.
— А что так мало? — спросила Ляля, быстро пересчитав деньги.
— Зимой у нас всегда заработка нет.
— Опять спрятал пятерочку? Спрятал, а? Ну признайся по–честному.
— Ничего я не прятал, — ответил Славик и стал как–то боком пятиться от жены, снимая пиджак.
— А ну стой, стой! Покажи карманы!
— Ничего у меня нет, — Славик кинул пиджак на кровать и расставил руки. — Проверяй, проверяй.
Ляля сунула руку в один карман, потом в другой. Затем вдруг бросилась к кровати, смеясь и крича:
— Ага, обмануть захотел! Знаю я, куда ты прячешь!
Славик кинулся за ней, повалил ее на кровать, и они стали барахтаться, вырывая пиджак друг у друга В это время в комнату с улицы вошла мать и засмеялась:
— Вы что разбузыкались, а?
— Мама, он деньги с получки не все отдал! — закричала Ляля.
— Слава, отдай, на кой они тебе? Вы же в Москву собираетесь ехать, пригодятся там, а тут попусту только растрынькаешь.
Ляля воспользовалась тем, что Славик, слушая мать, не крепко держал пиджак, выхватила его и быстро выцарапала пятерку из нагрудного кармана.
— Вот она! — весело закричала она.
— Ляля, отдай, — стал просить Славик. — Я ее на лото оставил. У Сашки всегда мужики собираются.
— И не думай. Книжку лучше почитай.
— Книжек–то у меня нет, сама знаешь. Был бы телевизор хороший…
— Ну вот, сам же говоришь, телевизор нужен хороший. Если покупать, так уж цветной. А на него деньги нужны. А ты лото… Ну скажи, ты хоть раз выигрывал? Нет, Так нечего тебе там делать.
Вечером Славик валялся на диване и смотрел, как Ляля вяжет платок.
— Ты бы мне хоть Сережку родила, — сказал он. — Все бы веселее было.
— А ты пеленки стирать будешь? — усмехнулась Ляля.
— Буду.
— Это ты сейчас такой добрый… — начала Ляля, но в комнату вошла мать, и она замолчала.
— Ляля, будет тебе вязать. Ложились бы спать. Время–то уж позднее.
— Я хочу платок довязать к поездке в Москву. Три платка моих будет, — сказала Ляля и свернула вязание.
…И только теперь, вспоминая, Славик понял, что именно в это время Ляля начала отдаляться от него…
Окончательно отношения друг к другу изменились у них после поездки в Москву, о которой оба они так мечтали. Правда, мечтали они о разном, как после понял Славик. Лялины мечты осуществились, а он так и не увидел Москвы. Все дни прошли в беготне по магазинам, в поисках модных тряпок, даже Красную площадь видели мельком, пробегая по ней к ГУМу. Вспоминалась потом эта поездка со жгучим стыдом, особенно те часы, которые провел он возле женских туалетов, ожидая Лялю, которая продавала платки, связанные ею и матерью. Вернулись они из Москвы чужими людьми.
В прошлом году, летом, разругались до того, что Ляля уходила к отцу. В тот летний день он ездил в Уварово и захватил с собой жену, которой хотелось повидать родителей. Выезжая из Масловки, Славик увидел на остановке нескольких женщин с ведрами. Они собрались ехать на базар продавать вишни и не смогли сесть в переполненный автобус. Славик остановил машину возле них и крикнул;
— А ну, бабоньки, забирайтесь в такси. У меня всем места хватит.
Тогда он еще работал на бортовой.
— Дай те Бог здоровья, — благодарили его женщины. — А мы уж загорюнились. Думали, пропадут вишни, завтра–то некогда везти.
В райцентре Славик подвез их прямо к базару и стал помогать выгружать ведра. Женщины, тяжело переваливаясь через борт, спускались вниз и протягивали по рублю.
— Что вы, бабоньки — отбивался Славик, — так вы больше проездите, чем наторгуете.
Он, довольный собой, весело вскочил в кабину и включил скорость. Отъехав немного, Славик повернулся к Ляле и увидел, что она расправляет смятые рубли.
— Ты что, у женщин взяла? — вскипел Славик.
— Да, взяла! Миллионер нашелся. Меня дядя Степа подвез недавно, так он сам рубль потребовал. А этому дураку дают — не берет…
— Ты что, на себе их везла? — Славик остановил машину. Он весь кипел. — А ну вон отсюда! — вдруг заорал он.
Ляля злобно смотрела на него, но за злобой чувствовалась растерянность.
— Вылазь, кому говорю! Или выброшу!
— Хорошо! Я выйду, но ты еще попросишь, чтобы я вошла, — проговорила Ляля и выскочила из кабины.
Славик нажал на газ и полетел по улице.
Через день мать уже пилила его.
— Ты чего не собираешься за женой ехать, а? Что молчишь? Я ить у тебя спрашиваю.
— Приедет, если нужен, — хмуро отвечал Славик.
— Она ведь, кажется, не сама ушла… — Мать говорила сначала спокойно, но вдруг разозлилась. — Жена ему не хороша! Такую жену поискать еще надо. Ты что, разве ослеп совсем — не видишь, как дом с ней расцвел? Чего только в нем нет, живи да радуйся!
— Счастья нет! Счастья! — заорал Славик.
— Какого же тебе счастья надо? Чтоб сегодня за Лялей съездил! Понятно тебе? А ну вставай, сейчас же вдвоем за ней поедем! Вставай, кому говорю!
Ляля вернулась. Но радость с этих пор редко заглядывала в их дом. Славик раздражался из–за каждого пустяка, вспыхивала и Ляля. Мать всегда принимала сторону снохи. Славик стал частенько попивать. Приносил домой полполучки, а когда и меньше. Иногда пытался взять себя в руки, сдерживался, когда наплывала волна раздражения, но хватало его ненадолго. Перед сегодняшней стычкой было несколько дней перемирия. Они даже, как прежде, под руку прошлись вечером в клуб.
Сегодня в обед Славик подкатил к своему дому на новеньком самосвале, который он получил перед уборочной. Ляля была дома. Она в саду полола грядки лука.
— Обед готов? — спросил Славик, подходя к крыльцу.
— Готов. Иди в избу, там мать на стол собирает. А ячменьку ты привез?
— Привез, — усмехнулся Славик и вошел в сени.
В окно он видел, как Ляля, вцепившись руками в выступ борта, стала на заднее колесо машины и заглянула в кузов.
За столом сидели молча. Славик смотрел в тарелку и, казалось, был увлечен вылавливанием яичного белка из окрошки. Ляля искоса посматривала на него.
— Яички–то мы все кушать любим, только вот чем кур кормить — неизвестно, — не выдержала она наконец.
— Ты на что намекаешь? — поднял голову Славик.
— Целыми днями зерно возит и не может ведра привезти. Дядя Степа вчера два мешка припер. А этот так, недотепа. Жрать только здоров!
— Ты что?! Едой меня попрекаешь?!
— Никто тебя не попрекает. Ешь, наедай шею!..
— Будя! Будя вам! Опять завелись, — стала успокаивать мать.
Но Славика уже было трудно остановить.
— Свое ем! Свое! — заорал он.
— Где уж там свое, — не уступала и Ляля. Но в противоположность мужу, который кричал во все горло, она произносила слова спокойным насмешливым тоном. Этот тон больше всего выводил из себя Славика. — Свое ты пропиваешь! Алкоголик несчастный!
— Ах ты дрянь! — задохнулся Славик и, вскочив, замахнулся на жену.
В руке была новая деревянная ложка.
Мать пыталась его удержать.
— Ну, вдарь! Вдарь! Попробуй только! — поднялась и Ляля.
Славик трахнул ложкой о стол так, что она разлетелась, и выскочил на крыльцо, хлопнув дверью.
…Подъезжал Славик к Масловке уже не с такой бешеной скоростью. Он больше не испытывал ни отчаяния, ни ярости, но тоска не покидала его. Он понимал, что жить так больше нельзя, надо что–то предпринимать, но как быть, как повернуть все к лучшему—-он не знал и мучился.
Возле Масловки машина осторожно нырнула в кювет и повернула в деревню. Около своего дома Славик заглушил мотор, вылез из кабины и решительным шагом направился к крыльцу.
Возле соседней избы под деревом мирно вязали пуховые платки две молодые женщины.
Шутов палец
Я спрыгнул с крыльца и бодро пробежал по саду. Потом помахал руками, разгоняя остатки сна, и подошел к штанге, которую смастерил сам еще до армии. Она заржавела и лежала в траве у сарая. Я очистил диски от земли, примерился и вскинул на грудь. Тяжеловата стала. Поднял над головой ее три раза и резко бросил на землю. Диски глухо охнули и выбили в земле две ямки.
— Ослабел на городских харчах–та, — засмеялась мать, наблюдавшая с крыльца.
— Нет, не ослабел, — улыбнулся я, — просто жиреть начал!
— Это хорошо, хорошо! — одобрила мать. — От плохой жизни не жиреют!
После завтрака я снова вышел в сад. Больно и грустно было смотреть на полузасохшие яблони, на их слабые бледно–зеленые листья и корявые ветви. Кусты крыжовника растопырились чахлыми колючими ветками возле плетня, от которого осталось несколько кольев, торчащих среди сухих прошлогодних стеблей крапивы и полыни. Только сирень у калитки разрослась, разукрасилась пышными цветами… Мне вспомнился сад в такую вот весеннюю пору густым и тенистым, в цветах, как в тумане. Помню, любил я слушать, встав под яблоней, переливчатый пчелиный гул. Пчелы не обращали на меня внимания, деловито ползали по цветам, с наслаждением замирали, окунувшись в нежную пахучую середину цветка. Помню, с каким нетерпением ждал я, когда подрастет крыжовник. Каждое утро, когда солнце поднималось над избой бабки Грушки, выбегал я на крыльцо, шлепал босыми ногами по приятно прохладным доскам ступеней и бежал по мокрой от росы траве к кустам крыжовника с нежно-зелеными листьями. Прохладную тишину утра нарушали только далекое блеяние овец, голоса переговаривающихся женщин и сонное бормотание мотора трактора, доносившееся от тракторной базы. Присев на корточки перед кустом и осторожно поднимая колючие ветки, я разочарованно вздыхал, видя маленькие, с горошину, плоды… Вспомнились мне и совсем недалекие тихие вечера, которые я проводил с соседкой Лидой на скамейке под яблоней возле плетня. От скамейки уж не осталось следа, а Лиду я видел в последний раз два года назад. Мы столкнулись в дверях автобуса: я уезжал из деревни, а она приехала и выходила с чемоданом в руке. Лида была одна, без мужа. Я прильнул к окну тронувшегося автобуса и смотрел, как она, отставив в сторону свободную руку, несет тяжелый чемодан. Сойдя с дороги, она остановилась, поставила чемодан и стала смотреть вслед автобусу.
Побродив по саду, я начал носить вилами навоз из овечьего катуха и тонким слоем разбрасывать его на солнцепеке за избой. Мать будет им топить печку зимой. Раньше, когда я жил в деревне, я всеми правдами и неправдами старался увильнуть от этой работы, а сейчас я даже с каким–то удовольствием вдыхал тугой и резкий запах навоза.
Мать в саду полола грядки лука. Она уже несколько раз просила меня отдохнуть. Но я хотел выбросить навоз из овечьего катуха, а завтра вынести со двора.
— Здравствуй, кума! — услышал я голос соседки, тети Насти, и оглянулся. Они с матерью стояли за углом.
Я знал, что тетя Настя обязательно зайдет к нам, когда узнает, что я приехал. Зайдет и начнет выспрашивать у меня, как я живу, как учусь и понимает ли меня моя жена. И при этом она будет вздыхать, скрестив на груди руки и чуть–чуть покачивая головой. Потом начнет рассказывать про свою дочь Лиду, рассказывать с грустью, печальным голосом, словно жизнь дочери сложилась неудачно. Но я–то знал, что Лида живет хорошо, работает учительницей в одной из деревень района. У нее двое детей и спокойный молчаливый муж. Но тетя Настя твердо уверена, что Лида могла быть счастлива только со мной, а раз ничего не получилось, значит, и жизнь у нас должна быть несчастливой. Я чувствовал, что и мне она не верит, когда я рассказываю о своей семейной жизни.
— Никак Витек приехал? — спрашивает тетя Настя.
— Прилетел голубок, — отвечает веселый голос матери. — Да не надолго! На два денька только!
— И то хорошо… Как он там? Кончает, что ж, нонча?
— Кончает!
— А потом куда же?
— Говорит, что там останется, в институте. В спирантуру какую–то поступать будет. Я уж ему говорила–говорила, чтоб работать шел. Голова заболит учиться столько! А он свое — учиться буду, и все! Я ему и пример приводила, Васька Климинской, говорю, заучился, с ума сшел. А теперь мать мучайся с ним… И он чей–та не такой стал… Бывало, как приедет, ребятишек соберет и футбол по лугу гонять! А на этот раз они по лугу носятся, а он сел на крыльцо и сидит, думает. И все грустный какой–та!
— Мож, устал с дороги–то? Аль с семьей что не ладится?
— Ну, Танюшка–то девка хорошая! До сих пор ладилось и вдруг!
— А что ж! Иё, беду, долго ждать, что ли?
Я прислонил вилы к забору и пошел, улыбаясь, к ним.
— Здравствуй, здравствуй, сынок! — радостно закивала головой тетя Настя, окидывая меня быстрым взглядом. — Похудел ты, Витек, за этот год!
— А как жа! Последний–то годок самый трудный, — подхватила мать. — Похудеешь небось!
— Это вам кажется, — засмеялся я, — наоборот — во! — я оттянул кожу под подбородком. — Второй подбородок расти начал… А Лида как поживает?
— Все помнишь? Не забыл еще?
Забывал ли я ее когда? Нет, теперь я не могу сказать, что помню ее всегда. В суете, в спешке, в вечном беспокойстве не пропустить чего–то важного для себя, чего после не наверстаешь, уже не тревожит та боль, которая когда–то была ежедневной. И только в тихие минуты, когда, отдыхая, бродишь по пустынному осеннему парку или когда остановишься на набережной поглядеть на спокойную воду, вдруг сладко защемит, заноет сердце — и вновь увидишь маленький домик, под соломенной крышей, покосившееся крыльцо со скамейкой, вспомнишь тихий сад и вновь почувствуешь вкус прохладных, еще не созревших анисовых яблок, которые так любила Лида.
Поговорив с тетей Настей, я вернулся в катух и продолжал носить навоз, стараясь представить себе теперешнюю Лиду, мать двоих детей. Но у меня не получалось это. Передо мной стояла сентиментальная девчонка с большими печальными глазами. Такой она была, когда я уходил в армию.
— Теть Дунь, Витька дома? — услышал я мальчишеский голосок.
— Какой же он тебе Витька–та, а? Сашок? — сказала тетя Настя. — Ты что, рази ему ровесник? Он тебе теперь Виктор Иваныч, а не Витька!
— Виктор Иваныч, — недоверчиво протянул Сашок.
— Саша! Иди сюда! — позвал я.
В дверях катуха появился мальчишка. Он был бос, в засученных до колен брюках и чистой рубашке. Подойдя ко мне, Сашок протянул руку.
— Здорово! Фотоаппарат привез?
— Нет, Сашок! Пленку не нашел.
Он помолчал.
— На речку пойдем? — спросил он после паузы.
— Пойдем, — согласился я. — Сейчас закончу.
— Плохо без фотоаппарата, — вздохнул Сашок.
Он сел на бревнышко и стал ждать, когда я закончу работу. .
Сначала мы пошли на озеро. Оно все поросло камышом и кустарником. Ветерок иногда, шелестя, пробегал по камышам. Они покачивались и что–то торопливо шептали нам, пытались рассказать что–то, поведать важное для нас и для них, но, чувствуя, что мы не понимаем их языка, замолкали и некоторое время с сожалением; молча кивали головами.
— Сделай мне дудочку, — попросил Сашок.
Я выбрал толстый стебель сухого прошлогоднего камыша, выломал одно колено и стал осторожно вырезать отверстия. Сделав дудочку, я приложил ее к губам и дунул, зажимая пальцами то одно, то другое отверстие. Раздался тихий, дребезжащий звук. Я попробовал сделать другую. Но ничего не получилось.
— Забыл, да?
— Забыл. — вздохнул я.
Мы пошли вниз по течению, к мосту. Он был высокий, с толстыми пыльными перилами. Сашок спустился под мост и притих там. Я облокотился на перила и стал смотреть, как шевелятся длинные и зеленые водоросли в быстрой реке. Вода тихо–тихо, еле слышно булькала, перекатываясь через камешки.
Мне опять вспомнилась Лида. Вспомнилось, как в детстве, после половодья, когда вода спадала, мы с ней здесь у моста искали в свеженамытых камешках шутов палец, который как у нас говорили, обладает целебными свойствами. Любая рана вмиг заживет, если ее посыпать порошком из шутова пальца. Вспомнились апрельские вечера, которые мы с ней проводили здесь. Река в то время вспухала. Ручьи, прорезая снег в оврагах, стремились к реке. Вода поднималась и заливала мост. К вечеру возле него собиралось много народу. Все с восхищением любовались большой водой и тревожно гадали, выдержит ли мост натиск льдин, которые, неся на себе сугробы снега, величественно плыли к нему, сталкиваясь с берегом и друг с другом. Перед мостом они набирали скорость, с размаху таранили его, крошились сами, вставали торчком, отчего вода выходила из берегов. Мост охал, кряхтел, но держался. Он был сделан хозяйской рукой.
Когда сумерки густели, люди расходились по домам. Оставались только мы с Лидой. Мы обычно стояли возле высокой ветлы у самого берега. Стояли молча, слушали, как шумит река, как, шурша, серыми призраками проплывают льдины, Подминая под себя полузатопленные кусты. В шуме реки мне слышался шум большого города, мечталось о залитых неоновым светом ночных улицах, виделись веселые парки с аттракционами, грезилась шумная студенческая жизнь. В то время мы заканчивали школу и мечтали об институте. Лида поступила сразу, а я только после армии. А потом в городе, гуляя по ночным улицам, я с грустью вспоминал эти деревенские вечера, вспоминал Лиду, дядю Саньку Тумана, колхозного объездчика, вспоминал его с чувством неизгладимой вины перед ним. Одинокий человек, молчаливый со взрослыми, дядя Санька больше всего любил детей и, наверно, еще широкие наши поля. Теперь–то я понимаю, почему он любил нас, ребятишек. С нами он чувствовал себя спокойно, забывая о том, что он калека, одноглазый И одноногий, забывал о своей печальной судьбе, не ловил жалостливые взгляды, и не тянуло его к стакану. Думаю, что не только у меня останется о нем светлая память на всю жизнь… И такого–то человека в ранней неразумной юности я заставил страдать!
Я спустился с моста, чтобы посмотреть, что делает Сашок. Он сидел на корточках на берегу и наблюдал за серыми спинками рыбок, мелькавших между камнями. Сашок бросил им дождевого червяка. Но рыбки спокойно плавали, не обращая на червяка внимания.
— Идем дальше, — сказал я.
Мы продирались сквозь кусты по едва заметной тропинке. Здесь в детстве мы часто играли.
— Сашок, а вы играете здесь, у моста?
— Играем.
— А во что вы играете?
— В «войну» играем. В «шпионы». И на саблях… Васька Мартасов у нас самый сильный! Его никто не берет, а я на саблях его два раза победил. Прямо вот так ему — раз! — в живот!
Сашок показал, как он победил Ваську Мартасова.
— А ты меня на саблях еще лучше сражаться научишь, а? — спросил Сашок. — Ты ведь хорошо сражался!
— Конечно, научу, — согласился я. — Сейчас найдем хорошее дерево, срежем сабли. И я тебя научу!
Мы вышли из кустов на пыльную тропинку. Сашок зашлепал по ней впереди меня босыми ногами. Я позавидовал ему и хотел скинуть туфли, но решил, что в руках они будут только мешать, да и отвык я ходить босиком. Сашок вдруг ойкнул и подпрыгнул на одной ноге.
— Укололся? — спросил я.
— Не–ет! Божья коровка! Чуть не наступил.
Он поймал на тропинке желтую букашку с черными крапинками на спине, похожую на половину горошины, посадил на ладонь и певуче забормотал:
— Машка, Машка, лети в небо…
Божья коровка заскользила по ладони, забралась на самый кончик среднего пальца, расставила крылышки и полетела. Мы следили за ней, пока она не растворилась в воздухе. Потом пошли дальше. На другом берегу реки за кустами я увидел рессорную телегу колхозного объездчика. До нас донеслись голоса. Сашок, услышав их, насторожился и, не сказав мне ничего, побежал напрямик через кусты. Я, раздвигая ветви, долез за ним. Разговаривали дети и мужчина.
— Дядь Сань, правда, у меня кнут будет, как у дяди Васьки–пастуха? — спрашивал тонкий детский голосок.
— Не-е! У тебя лучше! У дяди Васьки круглый, а у тебя, вишь, трехгранный, как штык. Привяжешь волосянку от мерина, как хлопнешь, стекла в окне полопаются!
Вдруг от них донесся взволнованный крик мальчика:
— Дядь Сань, смотри! Смотри! Потянуло!
— Карп! — крикнул другой мальчик.
— He-а. Это пескарик, — спокойно сказал мужчина. — Дерни–ка, Васек!
Я вышел из–за кустов и увидел на берегу озерка дядю Саньку Тумана и трех ребятишек. Дядя Санька сидел, опустив вниз к воде свою деревянную ногу, похожую на перевернутую бутылку. Рядом с ним в траве лежал костыль. Мальчишки стояли около самой воды и с напряжением смотрели на поплавок. Один из них двумя руками держал удилище. Вдруг он резко дернул его вверх, и над головами ребятишек мелькнул крошечный пескарик величиной с мизинец. Он запрыгал, затрепыхался в траве у меня под ногами. Сашок подбежал и быстро поймал его.
— A-а! Виктор Иваныч приехал!
Туман блеснул в мою сторону единственным глазом и заулыбался. Шрам на левой щеке у него обозначился резче. Шрам тянулся по всей щеке и глубокой бороздой скрывался под повязкой, закрывающей выбитый глаз. Туман протянул мне серую, всю в черных морщинах руку. Она была шершавая, твердая. Мне отчего–то стало стыдно за свою холеную руку.
— Какой же я Виктор Иваныч, — смущенно сказал я.
— Не-е. Ты уже Виктор Иваныч! Это я как был дядей Санькой Туманом, так и остался…
Я сел рядом на траву.
— Ты в отпуск? Иль просто так, мать проведать?
— Просто так. На два денька.
— Мало чей–та?
— Я бы и месяц пожил, да нельзя!
— Скучаешь, значит, по родным местам… — задумчиво произнес дядя Санька, потом, помолчав, добавил: — А с Таней как живете, вместе аль врозь, по общежитиям?
— На квартире. Во флигеле живем!
— Правильно! Вместе оно лучше, а то сейчас многие так живут, она в одном месте, он в другом… С деньжатами только, видать, трудновато.
— Крутимся. Вагоны разгружаю… Ничего, немного осталось!
На коленях у дяди Саньки лежали три сыромятных ремня, из них он плел кнут кому–то из ребятишек.
Заметив мой взгляд, он улыбнулся:
— А я все детей тешу!
К нам подошел Сашок, который во время нашего разговора рассматривал улов товарищей.
— Дядь Сань, я принес жестянки. Сделаешь свисток? — спросил он.
— Давай, сделаю!
Сашок вытащил из кармана две крышки от консервных банок и отдал Туману. Дядя Санька начал ногтем соскабливать с них грязь.
Я смотрел в спокойную воду. В ней отражалось глубокое небо с ватным одиноким облаком и поблескивали в волнах искорки солнца. Около берега над водой кружились, любовались своим отражением тонкие разноцветные стрекозы. Они садились на широкие круглые листья кувшинок отдохнуть и погреться на солнце. Я вспомнил японское трехстишье и прочитал вслух:
— Над ручьем весь день ловит, ловит стрекоза собственную тень.
— Нет, — сказал Сашок. — Они на танцы собираются. Видишь, во–он на листке синенькая в воду смотрится и глаза подкрашивает. А вон сидит одеколонится. А эти, — показывал мальчик, — крылья прочищают. Разве не помнишь: «Ты все пела — это дело, так пойди же попляши!» Забыл, да?
— Да, Сашок, забыл, — ответил я.
Я вдруг почувствовал себя лишним. До моего прихода мальчишки беседовали с дядей Санькой и, наверно, сидели рядом. А теперь встали у воды, отвернулись и старательно смотрят на поплавки. Я попрощался и пошел по тропинке дальше. Сашок остался. Солнце поднялось еще выше. Становилось жарко. Я расстегнул рубашку. Тропинка увела меня вниз и запетляла между кустами. Я шел, раздвигая грудью тонкие ветки со свежими ярко–зелеными листьями. Иногда они приятно гладили меня по щекам. Тропинка раздвоилась. Одна сворачивала в сторону и поднималась к вишневому саду, а другая вела через речку к кладбищу.
Я свернул к вишневому саду. Он стоял в молочном тумане. Здесь, вон под тем деревом, я провел с Лидой последний день перед уходом в армию. Я лег на спину на траве в тени под вишней. Было тихо–тихо. Слышался только однообразный гул пчел. Тогда тоже было тихо. И наверно, были пчелы. Однако нам тогда было не до них. Помню, стояли мы под деревом. Стояли молча. Лида прижималась щекой к моей груди, а я без конца осторожно водил и водил по ее маленькому острому плечу. Помню, волосы у нее были усыпаны лепестками цветов. Перед этим я, играя, тряс над ее головой ветку вишни. Лепестки осыпались и пушинками ложились на голову, на плечи Лиды. Она смеялась и ловила их ртом… Лида не дождалась меня из армии. Видно, не так сильно я ее любил.
На другой день после обеда я освободил малину от засохших стеблей и решил погулять по полям. По зеленям пересек я неширокое поле и спустился в Волчью балку. Здесь в детстве мы катались на лыжах. Балка привела меня к водопаду. Уступ, с которого падала вода, был невысокий, всего с метр, но все–таки место было красивым. Я лег на живот, оперся о берег руками, свесил голову и стал пить мелкими глотками чистую холодную воду. Потом я отполз от берега, повернулся на спину, положил под голову руки и закрыл глаза. Незаметно вернулся назад, в прежние годы, в солнечные дни! И долго лежал — вспоминал под шум воды. Наконец солнце разморило меня. Я вновь подполз к ручью. В прозрачной воде внизу, там, где лопались пузыри от водопада, были видны темные спинки рыбок. Они зачем–то уткнулись носами в глиняный берег и стояли так, чуть пошевеливая хвостами. Хорошо здесь! Поставить бы вот тут под кустом палатку и слушать сутками шум водопада.
Солнце все быстрее и быстрее спускалось к горизонту. Пора. Надо возвращаться. По дороге домой меня догнал дядя Санька Туман на своем тарантасе. Деревянная нога его была вытянута вперед и лежала на передке телеги, а здоровая свисала вниз. Лошадь остановилась возле меня.
— Садись, — пригласил Туман.
Телега, скрипнув, мягко присела подо мной. Дорога свернула в сторону и напрямик меж зеленых полей побежала к деревне. Мы ехали молча. Впереди показался высокий пень. Он стоял чуть в стороне от дороги. Трактористы, вспахивая поле, объезжали его. От этого образовалась небольшая полянка, поросшая высокой густой травой. Лошадь дотрусила до нее, сама без принуждения остановилась и потянулась к траве. Туман вздохнул, вытянул из кармана кисет и стал медленно сворачивать «козью ножку».
Здесь когда–то стояли избы. Но место тут неудобное. Каждую весну здешних жителей отрезало половодьем от основной части деревни, где находились магазин, клуб и все колхозные постройки, и люди один за другим переселились на другой берег, а некоторые перебрались в другие места. Сады, оставшиеся здесь, постепенно засохли. Их вырубили. Осталась лишь старая осина. Она росла около дороги и не мешала пахоте. Каждое утро возле нее появлялся дядя Санька Туман на своем тарантасе. Он, видимо, так же, как и сейчас, останавливался, сворачивал из газеты «козью ножку» и долго курил, вглядываясь в густую траву у подножья осины. К этому времени роса уже спадала, но внизу, у самой земли трава была влажной и издавала душистый и пряный запах свежести и чистоты. Лошадь, быстро перебирая губами, рвала траву и иногда лениво сгоняла хвостом со спины назойливых мух. А Туман сидел на телеге и думал, слушая ласковый убаюкивающий шепот листочков осины и важный неторопливый шорох наливающейся пшеницы. О чем он думал? Что ему вспоминалось? Может быть, он тогда сравнивал себя, свою судьбу, с судьбой одинокой осины? Докурив, он хлопал вожжами по спине лошади. Она лениво трогалась с места, но все еще тянулась за сочной и прохладной травой. А Туман, наверно, все вспоминал то время, когда он не стал еще одноглазым Туманом, а был обыкновенным парнем. Еще до войны. Может, он вспоминал свою первую и последнюю атаку, когда земля вдруг с грохотом поднялась перед ним и повернула его жизнь в другую сторону. Это случилось в начале войны. Жена Настенька, которая три месяца назад, убиваясь, провожала его, едва узнала в нем своего Саню, сразу стала чужой и далекой. Вскоре они разошлись. Тогда он не выдержал, запил, ходил угрюмый, злой. Шрам около выбитого глаза делал его лицо еще мрачнее.
Года через три весной, вечером перед пасхой, его мать ходила вместе с другими женщинами в церковь в соседнее село. Мост был снесен водой. Переходили по льдинам. И когда возвращались назад, мать в темноте оступилась и упала в воду. Женщины не сумели ее спасти. К тому времени председатель поставил Тумана объездчиком, и он целыми днями стал пропадать в поле. Обо всем этом я узнал позже из рассказов матери и односельчан. Хорошо зная дядю Саньку со своего раннего детства, я прекрасно представляю, какие чувства в нем вызывала осина…
Часто у осины стала появляться девочка. По утрам она купалась в реке, потом переходила на другой берег и напрямик по пшенице бежала к осине. Ситцевый сарафан прилипал к ее мокрому телу. От этого она казалась тоньше, чем была. Туман проезжал раньше, и они почти никогда не встречались.
Девочка улыбалась, радуясь солнечному дню и своей подруге осине, которая легким дрожанием листьев приветствовала ее. Девочка падала в прохладную траву и, отдышавшись, открывала книгу. Хорошо читалось под шорох пшеницы и лепет осины. Было приятно и просто так лежать в траве, отдаваясь мечтам, и смотреть на трепещущие листочки или на спокойное небо. У осины со стороны дороги рос маленький отросток. Он был одинакового роста с девочкой и начал ветвиться. Девочка, начитавшись, собирала в пшенице ромашки и васильки, плела из них венки и украшала маленькую осину. Налюбовавшись, она тут же снимала их, опасаясь, что поломаются тоненькие веточки.
Однажды осенью пьяный тракторист наехал на осину гусеницей трактора и выдрал большой клок коры. Утром Туман увидел рану и долго, ругаясь, замазывал ее землей. Он думал, что это поможет дереву. Но на следующий год осина засохла. Она все лето суровым памятником возвышалась над деревней, а осенью Туман спилил ее. Он оставил высокий пень, чтобы не сгубили молодую осину. За лето она поднялась еще выше. Шло время. Все так же по утрам Туман останавливался возле осины и задумчиво курил свою «козью ножку». После него появлялась девочка. Она открывала тетрадь, исписанную наполовину, ставила число и писала. Потом принималась за книгу.
Однажды с ней прибежал парнишка. Он что–то рассказывал, шутил, а девочка смеялась. Он уговорил ее пойти к водопаду, и они ушли. Осина что–то грустно шептала им вслед и качала ветвями. Парнишкой тем был я, а девочка была моя соседка Лида.
Вечером мы пришли сюда вновь. Теперь рассказывала Лида.
— Я один раз братика Мишутку в корыто с холодной водой посадила, — говорила она. — Он тогда был совсем маленьким. Жара стояла страшная. Мишутка плачет и плачет. Я из колодца воды натаскала в корыто и его с игрушками туда! Он радуется, сидит, шлепает ладошками по воде. Мать увидела, попробовала воду рукой — и давай лупцевать меня хворостиной. Я обиделась… И прибежала сюда… в первый раз. С тех пор я почти каждый день здесь бываю.
Лида умолкла.
Ночь темная, звездная. Было немного жутковато. Со всех сторон слышались шорохи. Казалось, будто кто–то крадется к нам. Тревожно и тонко трещали кузнечики. От реки неслись сварливые голоса лягушек. Деревня поднималась к горизонту, светилась огнями.
А там, вдали за горизонтом, широко разливалось желтое зарево.
— Тут дядя Санька Туман часто бывает, — сказала Лида. — Я видела. Один раз он при мне был. Я тогда в пшенице спряталась… Он долго стоял здесь! И лицо у него какое–то грустное было и светлое,. светлое!
— Это он лошадь кормил — сказал я. — Трава тут хорошая!
Лида снова замолчала, видно, обиделась на мое замечание.
— Смотри, как здорово! — восхищенно крикнул я. — Видишь, огни по деревне вверх поднимаются, а потом зарево! Словно от огней!
— Это от химзавода, — грустно сказала Лида.
— Я знаю! Там твой старший брат работает… А знаешь, если взобраться на пенек, то можно увидеть трубы завода!
Я вскарабкался на пенек, придерживаясь рукой за ствол молодой осины, который был уже толще моей руки.
— Смотри! — закричал я в восторге. — Лампочки на трубе завода видно! И клуб наш тоже видно!
Я спрыгнул с пенька и полез на осину. При каждом моем рывке вверх осина тревожно вздрагивала. Я взобрался на самую верхушку осины и увидел химзавод, рассыпанный огнями по горизонту.
— Ого! Сколько огней! — кричал я.
— Витя, слазь! Поломаешь! Она еще совсем тонкая! — молила снизу Лида.
— Не бойся! Ее ломать будешь — не сломаешь, — отозвался я. — Я сейчас как на парашюте спущусь!
Я начал раскачиваться на осине.
Мы любили взбираться на ветлы, которые росли на берегу речки, и, ухватившись за верхушку, плавно опускаться в воду. Гибкие ветлы тут же выпрямлялись.
Сейчас я расхрабрился и хотел точно так спуститься с осины на землю к ногам Лиды. Я раскачался, ухватился за верхушку и полетел вниз. Осина согнулась дугой и не выдержала, треснула посередине и разодралась чуть ли не до земли. Девочка вскрикнула.
Я выбрался из–под ветвей осины и виновато уставился на сломанное дерево.
— Что ты наделал!.. Что ты наделал! кричала Лида,
Мне было жалко погубленную осину, было горько и стыдно. Стараясь успокоить плачущую Лиду и как–то оправдаться перед ней, я произнес грубым, но неуверенным голосом:
— И чего ты ревешь!.. Кому она здесь нужна! Все равно бы осенью распахали…
Теперь я живо представляю себе то, как утром дядя Санька увидел сломанную осину, представляю себе так, словно все это происходило у меня на глазах. Я вижу, как дядя Санька пытался поднять осину. Потом понял, что все напрасно. Он постоял, постоял над ней с кепкой в руке и заковылял к телеге, путаясь в траве деревянной ногой. Он тяжело сел. Надел кепку. И вдруг, схватив кнут, резко хлестнул лошадь. Она испуганно рванулась с места и понеслась по дороге. У Волчьей балки дядя Санька повернул и полетел к деревне. К полудню он уже пьяный стоял у школьной изгороди недалеко от магазина. Костыль лежал у его ног.
А Лида в тот вечер после моих грубых слов убежала от меня, заплакав еще горше. Несколько дней она не могла меня видеть. А в школе пересела на другую парту. Вскоре мы помирились. Помирились, конечно, не без помощи ее матери. Но за одну парту со мной она больше не садилась. Тогда я не понимал значения моего поступка для нашей любви и думал, что у нас с Лидой все идет по–прежнему. Но она не могла забыть, и осина все время стояла между нами… До сих пор, сколько не думаю, я не могу понять, почему Лида так глубоко пережила это. Может быть, она жила в вымышленном, как у любимого ею Александра Грина, мире. И ей был нужен молчаливый друг, который был бы с ней рядом, но не мешал мечтать. Этим другом, по–видимому, была для нее осина. И может быть, в тот вечер она хотела открыть мне свой мир…
Лошадь, выбирая хорошую траву, шагнула вперед и потянула за собой телегу. Я откачнулся и взглянул на Тумана. Он медленно докуривал «козью ножку». Докурил, тщательно раздавил окурок о передок телеги, распутал вожжи в руках и потянул их на себя, чмокнув губами. Лошадь последний раз дернула траву и тронулась.
— Ну–ну! Шевелись!
Туман хлопнул вожжами по спине лошади. Она неторопливо затрусила по дороге. Зазвенела, задребезжала телега. Я оглянулся. Серый пенек безжизненно торчал у дороги.
Напротив моей избы Туман натянул вожжи.
— Подожди–ка немножко, пассажир слезет, — сказал он лошади. Потом мне: — Говоришь, отгостил? Завтра в город?
— Да. Завтра с утренним!
— Ну что ж, отдохнул малость…
Телега загромыхала на конюшню.
— Дядя Сань, прокати!
От соседнего дома бежал мальчишка.
— Тпр-р!
Туман отдал вожжи мальчишке.
-— Но! — звонко крикнул тот, и тарантас покатил дальше.
Вечером я пошел в клуб. Там было всего несколько человек. Парни сидели за столом и резались в домино. А рядом на этом же столе два мальчика двигали шашки. В уголке небольшой группой сидели девчата и что–то обсуждали. Изредка доносился их смех. Я подключился к доминошникам.
Возвращался домой один. С нашего конца деревни некому ходить в клуб. Большая луна взобралась на деревья и присела на верхушку, сонно разглядывая землю. Испуганные слабые звездочки попрятались за спины более ярких. А те немного потускнели и не так уверенно подмигивали земле. Деревня спала. Раньше весной из клуба шли широкой ватагой. Смех слышался, песни, шутки. А теперь тишина! Один! От этого было грустно. Шел я мимо Туманова дома. Заднее стекло избы тускло светилось желтоватым светом. Вспомнился высокий потрескавшийся пень и я почти побежал, заспешил домой. Там осторожно вывел из сеней велосипед, взял лопату и полетел за речку к осиннику. Прислонив велосипед к дереву, я начал искать среди молодняка подходящую осину. Таких было много. Я выбрал прямую, невысокую. Провел черту вокруг ствола и стал копать. Я окапывал ствол так, чтобы можно было вытащить корень вместе с землей. Боялся, что осина не примется. В кустах у реки рассыпался соловей. Откуда–то издалека ему отвечал другой. В воде сердито переругивались лягушки. А в деревне сонно и лениво, по–видимому, от скуки, Тонким голоском тявкала собачонка. Я выкопал траншейки вокруг ствола на два штыка лопаты и потихоньку подрубил корни со всех сторон. Вытащил осину вместе с землей из ямки, как комнатный цветок из горшка, и понес, ковыляя к велосипеду. Земля осыпалась и попадала мне в туфли. Я поставил осину на багажник и, осторожно придерживая за ствол, повел велосипед по берегу.
На пригорке выкопал ямку между пнем и дорогой, опустил в нее корни осины вместе с землей и расправил траву, чтобы не было заметно пересадки. Затем отошел в сторону полюбоваться своей работой. Теперь дорогу пересекали две тени. Пахнул предутренний ветерок. Зашелестели, зашептали листья осины. Счастливый, я вскочил в седло велосипеда и покатил в деревню.
Дома я тихо поставил велосипед на место, хотя знал, что мать слышит. Она молчала, когда я снимал с себя одежду в полутемной комнате, но беспокойно вздыхала и ворочалась в постели. Наконец, не выдержала, заворчала:
— Гдей–та ты так долго был? Скоро светать начнет! Танюшке напишут, тогда узнаешь!
— Спи, спи, мама! Она у меня не ревнивая.
Я перешагнул через теплый лунный луч на полу и лег в прохладную постель. Долго лежал я без сна и думал, что где бы я ни был, кем бы я ни стал, солнечные дни моего детства будут всегда со мной…
Милочка и гвоздодер
Костя, ухнув, вогнал топор в бревно и устало опустил руки. Сумерки сгустились, и мужики кончили работу, но расходиться не торопились, расселись на бревнах, закурили и стали обсуждать качество досок, которые привезли сегодня из района на двух машинах. Доски были действительно хороши, приятно выгружать. Все устали и говорили неторопливо. Костя собрал инструмент в ящик и подошел к ним.
— Ты едешь домой? — спросил у него Женька Булыгин.
Костя жил с ним в одной деревне, в Масловке, которая находилась за двенадцать километров от центральной усадьбы, где в эти дни работала плотницкая бригада. Женька был женат, но, когда бригада работала допоздна, ночевал в колхозной гостинице. А Костя старался ездить в Масловку каждый вечер. Там у него была девушка.
— Поздно уже, — ответил Костя Женьке, взглянув на часы. — Автобус ушел. Сегодня здесь придется ночевать, — добавил он с сожалением.
Гостиница была рядом с колхозным Домом культуры. В открытое окно комнаты залетали треск мотоциклов, смех и возгласы девчат. Костя, решивший было сразу лечь спать, не выдержал и пошел в ДК.
— Светке накапаю! — пошутил вслед ему Женька.
— А я твоей! — оглянулся Костя.
— Моей тебе не о чем капать. Зацепиться не за что!
— Думаешь у меня фантазия плохая? Выдумать не смогу?
— Ну, иди, иди!
Костя вышел, но идти в Дом культуры вдруг расхотелось, грустно стало оттого, что сегодня он не увидит Светлану. Перед входом в ДК местные ребята вертелись вокруг мотоциклистов, тут же стояли девчата: Костя подошел. В одном из мотоциклистов он узнал своего односельчанина Ваську Лемешева.
— Ты у нас в клубе был? — спросил у него Костя.
— Был. Твоя там… — заулыбался Васька, понимая, что больше всего интересует Костю.
— Скучает теперь! — засмеялась одна из девочек–подростков.
— А чего ей скучать? Там ребята из Костомаровки приехали, — усмехнулся Лемешев.
Костя растерялся встревоженно и не знал, что ответить. Свет лампочки над входом в ДК был тусклый, и ни Васька, ни девчата не заметили, какое впечатление произвели на Костю слова Лемешева. Да и Ваське было не до того.
— Сбегай позови! Скажи, срочно нужна! — просительным тоном обратился Лемешев к девчонке, той, которая заметила, что Света скучает теперь одна.
— Да говорила я! Не выйдет она!
— А ты скажи: срочно! Срочно! На минуточку! Я тебя за это еще раз прокачу…
— Ну ладно, сбегаю еще раз, — согласилась девчонка. — Только она все равно не придет!
Она побежала в ДК, а Костя отошел к другой группе, соображая, как ему быть. Один из костомаровских парней раньше ухаживал за Светланой. Она даже встречалась с ним немного. Парень тот был шустрый. Девки таких любят. Костя представил, как парень вьется сейчас вокруг Светы, и ему захотелось броситься бегом в деревню, набить тому морду, чтобы он и дорогу в Масловку забыл. Васька мог отвезти в деревню, но Костя понял, что у Лемешева свои заботы и он не согласится. Костя покружил вокруг мотоциклистов, больше из Масловки никого не было, и вернулся к Ваське. Девчонки, убежавшей в ДК, все не было, и Лемешев сам собрался идти в клуб.
— Послушай, Васек, ты меня до Масловки не подкинешь? — остановил его Костя.
— Да погоди ты! — отмахнулся Лемешев, поднимаясь по ступеням к двери.
— Что тебе стоит! Десять минут каких–то!.. А мне срочно нужно! — шел за ним Костя.
Васька, не отвечая, скрылся за дверью. Костя с отчаянием прикидывал, как ему быть. Теперь уж он представлял, что Света с тем шустряком гуляет в обнимку по деревне, и, может, они посмеиваются над ним. Как добраться до них, как? Велосипед, что ли, где тяпнуть? Иль у Васьки мотоцикл угнать, пока он в ДК? Костя решительно спустился вниз. Возле мотоцикла его догнал Лемешев.
— Поехали! — мрачно бросил он Косте.
По дороге Костя с дрожью в теле представлял, как он сейчас встретится с шустряком и Светой.
— Ссади здесь! — крикнул он Ваське напротив масловского магазина, неподалеку от клуба.
Васька тормознул, Костя спрыгнул на ходу, и мотоцикл, взревев, полетел назад. Костя, сдерживая дыхание, помчался к клубу, но не ко входу, а к окнам. Еще издали он услышал девичий смех, и сердце у него заныло. Шустряк драться умел. Стараясь не попадать в освещенное пространство, Костя подкрался вдоль стены к окну и заглянул внутрь. Светлана мирно сидела в уголке клуба среди подруг. Ребят возле них не было. Они толпились вокруг стола, за которым играли в домино. Шустряк азартно выкрикнул что–то и врезал костяшкой по столу. Ребята засмеялись. Костя постоял возле, успокаиваясь и посмеиваясь над собой, и пошел в клуб.
Через час он сидел на траве на берегу реки рядом со Светланой. Они уже наговорились. Костя успел рассказать подруге, как он рвался к ней. Она посмеялась над его страхами и теперь молча прижималась к теплому плечу Кости. От реки тянуло холодом. Вдруг возле берега за толстыми ветлами еле слышно плеснуло.
— Тихо! — шепнула Светлана.
Костя замер. Из–под корней ветлы лениво выползли волны и раздробили сначала темные тени от ветел, потом светящееся облачко и большую пятнистую луну. Костя взглянул на Светлану. Она напряженно всматривалась в воду. Он, чувствуя нежность, потянулся к ее лицу губами. Девушка подставила ему щеку, но одновременно подняла вверх палец и помахала им перед его носом, предупреждая, чтобы он не шумел:
— Бобр!
Из–под корней ветлы выплыл бобр и неторопливо направился вдоль берега, неслышно рассекая воду ночной реки. Вскоре он скрылся за кустами.
— Теперь я знаю, где он живет, — прошептал Костя.
— Он тебя не трогает… Пусть живет!
— Я и не собираюсь его трогать!
— И никому не говори. А то этот охламон убьет… Пусть живет. С ним интересней…
Костя догадался, что охламоном Света назвала Петьку Чеботарева. Он все хвастался, что выследит и застрелит бобра, шапку себе сошьет. Бобер второй год жил в масловской реке Криуше. Приплыл он сюда вероятно, из заповедника, с Хопра.
Из деревни донеслись голоса, чей–то крик, девичий смех.
— Валька раздирается! — усмехнулась Света. — Пошли? — шевельнулась она.
— Может, еще посидим? — робко спросил Костя.
— Поздно… Мать заругает!
Костя послушно поднялся с травы и помог встать девушке. Он снова обнял ее за плечи, она обхватила его за пояс рукой, и они пошли по берегу к дороге.
— Завтра сестра приезжает, — сказала Светлана.
— Лариса? За тобой? — спросил Костя, чувствуя, как в душе его начала появляться тревога.
— Да!
— А почему ты до сих пор мне не говорила? — Обиделся Костя.
— Не сердись, — погладила девушка ладонью его по спине. — Я сама только сегодня узнала!
Сестра у Светланы была знаменитостью. Единственной знаменитостью, родившейся в Масловке. Она была певицей. Она даже по телевидению два раза выступала. Все деревенские девчонки мечтали повторить ее успех, поэтому местная школа всегда хорошо выглядела на районных смотрах художественной самодеятельности. Но лучшей певицей среди масловских девчат была Света. Учителя говорили, что она поет лучше, чем пела Лариса в ее годы. Та в школе не особенно–то отличалась, а у Светланы уже первый приз за лучшее исполнение песни на областном смотре. Это не шутка! Всем было ясно, что у нее только один путь — на сцену. Света в этом году окончила школу и пробовала поступать в ГИТИС, но провалилась на первом же экзамене.
— Видать, рука у Лариски не такая уж длинная, — говорили в деревне.
— Эк, сравнили! ГИТИС–то в Москве, а Лариска в Тамбове, небось до Москвы не достанешь!
Так уж она б, Светка–то, не рвалась так высоко. А то ишь, сразу в Москву, с Тамбова начинала б!
— Ничего, они, Хлопонины, упрямые! И в Москву пролезут…
Когда Светлана проснулась, часы на стене показывали половину десятого. С улицы доносился глухой стук. Отец что–то мастерил за избой. В прихожей, за дверью, было тихо. Лежать на перине мягко, приятно. Светлана осталась в постели и стала думать. Думала она о Ларисе, о Косте, о своём будущем. Его она не представляла без Кости и без эстрады. Светлана мечтала о жизни в городе, об успехе, о том, что станет известной певицей, Ведь недаром же все говорят, что она талантливей сестры. Света понимала, что пробиться будет не просто, что таких, как она, тысячи. Когда она отправляла документы в ГИТИС, то знала, что не поступит, завалится на первом же экзамене. Так и случилось.
Возвращаясь в деревню, Светлана заезжала к сестре в Тамбов. Лариса говорила, что как только подыщет для нее подходящее местечко, то приедет за ней в деревню. После, этого Светлана каждый день ждала телеграммы от сестры и каждую ночь думала об одном и том же. «Уеду и пропаду!» — думала она с каким–то жутким восторгом. Чего она опасалась? Откуда и какой гибели ждала? Этого она и сама не знала, не представляла, но все равно думала: «Пропаду! Обязательно пропаду!» Ей становилось жалко себя, но ни разу она не задумалась над тем, а надо ли ехать в Тамбов? Так ли уж нужна ей сцена? Может быть, счастье ее ждет в другом месте? На эти вопросы она знала один ответ: надо!
Дверь прихожей тихо скрипнула, вошла мать и начала рыться в шифоньере.
— Что там отец расстучался? — спросила Света.
— Двери чинит… Лариска еще бы три года не приезжала, и три года он бы не взялся чинить… Хоть сама молоток в руки бери, — проворчала мать.
Светлане стало стыдно, что отец с матерью готовятся к встрече с Ларисой, а она до девяти часов валяется в постели.
Ларису ждали со вторым автобусом. Светлана волновалась: вдруг автобус сломается и не придет! Будет тогда Лариса куковать на вокзале. Света то и дело выскакивала на луг за Тимошкину избу и смотрела на Киселевский бугор, на дорогу, — не видно ли автобуса? Вспугнутые куры, купавшиеся в ямках в горячей пыли за избой, недовольно и сердито вскрикивали и разбегались из–под ног. Девушка нетерпеливо и радостно вздрагивала, если на горизонте появлялся движущийся бугорок, но через секунду сникала, узнавая грузовую машину. Когда время приблизилось к часу дня, она осталась на лугу ожидать. И наконец, счастливая, донеслась домой.
— Мама! Идет! — закричала она, влетая в палисадник, тут же повернулась и, взвизгивая от возбуждения, помчалась мимо колодца, мимо Тимошкиной избы на луг, потом по берегу к тому месту, где речушка сужалась и превращалась в ручеек. Света с лету, не останавливаясь, перемахнула через речку и, задыхаясь, начала взбираться на высокий берег. Мать в это время была еще на лугу. Девушка взлетела на бугор и увидела окутанный пылью автобус. Он только что остановился. Света, волнуясь, сбавила шаг — вдруг Лариса не приехала. Она вытирала пот и не отрывала глаз от автобуса. Дышала она тяжело, не замечая сильного дурманящего запаха кориандра, росшего на узкой полосе поля, отделяющей автобус от Светланы. Тех, кто выходил, не было видно, потому что двери были с другой стороны. Наконец автобус тронулся, открыв позади себя вначале Петьку Чеботарева, тетю Шуру Дискареву и… Ларису. Светлана снова взвизгнула и прямо по полю помчалась к ним, не обращая внимания на то, что сухие стебли кориандра больно царапали колени. Подлетев к сестре, она повисла у нее на шее.
— Наконец–то! — счастливо выдохнула она.
— Ждала? — смеялась Лариса.
— Еще как!
Петька и тетя Шура ушли вперед, а они все обнимались. Потом Лариса подняла свою сумку с длинным ремнем, но Света перехватила у нее:
— Нет, я понесу!
Сумка была тяжелая. Света накинула ремень на плечо, локтем отодвинула сумку за спину, и они пошли по дороге к деревне. Матери еще не было видно.
— Фу, воняет как! — сморщила нос Лариса, взглянув на потемневшее уже поле кориандра.
— Не говори, в этом году нас протушили. Посеяли прямо под носом! Как ветер отсюда, так хоть противогаз надевай!
Лариса с удовольствием разглядывала сестру.
— Ну, не разочаровалась еще в эстраде, а? — улыбалась она.
— Ты что! — воскликнула Света.
— И по–прежнему готова на все, лишь бы стать певицей?
— Еще пуще!
— Ну, смотри, смотри!
Они видели, как мать тяжело поднималась на бугор, наверху остановилась, отдыхая и глядя на них.
— Не повезло нам с родителями, — сказала вдруг Света. — Родись мы в Москве в семье какого–нибудь деятеля… И никаких проблем…
— Не болтай! — резко перебила Лариса, сердито взглянула на сестру и побежала навстречу матери.
Когда Света доплелась до них, они обе вытирали слезы.
— Отец дома?
— На коровнике. Счас прибежит, — еще заплаканным голосом ответила мать и спросила: — Надолго ты?
— Дня на три!
— Мало чей–та! Ить сколько не была–та… Годика три, почитай? Ай не соскучилась?
— Скучаю, мам, скучаю! Но когда тут вырвешься?.. Кручусь все, кручусь!
— И этой тоже загорелось, — взглянула мать на Светлану, — Послушала бы старшую сестру да и занялась бы чем–нибудь попроще. — Потом мать снова повернулась к Ларисе. — Подружка–то ее по ГИТИСам не металась, поступила в сельскохозяйственный и учится спокойно.
Разговаривая, они спускались к реке. Мать с нежностью, но придирчиво разглядывала старшую дочь. «Поправилась малость, — с удовлетворением отметила она про себя. — А волосы жиже стали. От химии, видать! Сколько ни красить…»
— Что ж ты в таких штанах приехала? — с укором спросила мать. — Получше, что ли, нет?
— Мам, это джинсы, — сказала Света.
— Поношенные они какие–то, потертые!
— Самый шик!
— У тебя все шик, а выходит пшик, — сердито взглянула мать на Свету и снова обратилась к Ларисе: — Надела бы то платье, в каком в телевизоре была, да по Масловке прошлась, вот тогда бы был шик!
— То же концертное платье! — снова вмешалась Света.
— Слова не дает сказать, ох! — обиделась мать.
— Не обращай ты на нее внимания, мам, — обняла ее Лариса. — Она глупа еще, нетерпелива, не разбирается ни в чем…
Они перешли реку и вышли на луг.
— Лариск, помнишь, как каждой весной вы здесь играли в салки. Я совсем маленькая была, а помню…
— Помню, помню, — заулыбалась сестра, оглядывая скошенный луг. — Днем в салки играли, а по вечерам в горелки, в ручейки, в столбы. Ой, как давно это было! Вспомнишь, все как во сне. Десять лет прошло. Целых десять лет! Эпоха…
Вечером за столом Лариса сказала родителям, что приехала за сестрой. Солистка вокально–инструментального ансамбля «Васильки» готовится стать матерью, а замены ей пока нет. Кандидаты на ее место, конечно, имеются. Но все–таки есть возможность устроить Свету в ансамбль.
На другой день, когда мать ушла куда–то по делам, а отец отправился на коровник, Лариса взяла со стены гитару, которую она подарила сестре год назад, и сказала:
— Давай–ка посмотрим, как чувствует себя твой голосок. Ты все делала, что я тебе говорила? Не ленилась?
— Конечно, все! С чего начнем?
— Давай сначала что–нибудь подвижное!
Светлана вышла на середину комнаты и, прислушавшись к гитаре, подхватила мелодию.
— Раскованней, раскованней двигайся! Не жмись… Играй! Играй! — подсказывала Лариса поющей сестре. — Вот так! Вот так!..
Света кончила петь и, раскрасневшись, взглянула на сестру, ожидая оценки.
— Ничего, — одобрительно сказала та, — только свободнее надо чувствовать себя… Но это со временем придет. Теперь романс!
— «Это было давно». Старинный романс, — театрально объявила Светлана.
— Давно так давно, — согласилась сестра и тронула струны.
Это было давно. Я не помню, когда это было… Пронеслись, как виденья, и канули в вечность года. Утомленное сердце о прошлом давно позабыло… Это было давно. Я не помню, когда это было. Может быть, никогда!—- Больше грусти, грусти! Ты же вспоминаешь о самом светлом, что было в твоей жизни, и знаешь, что это больше не повторится… А в общем, этот романс не твой!
Лариса хотела прервать песню, но потом решила: пусть допоет.
— Голосок у тебя есть, но работы, работы над ним… Не знаю, выдержишь ли?
— Выдержу! Выдержу! — убежденно закричала Света и увидела в окно Костю. — Костя идет! — радостно воскликнула она. — Я тебя сейчас с ним познакомлю. Хочешь?
Светлана представила себе, как оценит сестра Костю. Высокий — это ей должно понравиться, лицо только простоватое, слишком добродушное, а одежда совсем не фонтан: сорочка не приталена, брюки расклешенные…
— Это ты о нем рассказывала? — спросила Лариса.
— Да–да! Это мой друг на всю жизнь! — слишком поспешно проговорила Светлана, словно предупреждая, чтобы сестра была к нему снисходительна.
— Ой, прямо на всю жизнь, — усмехнулась Лариса, взглянув в окно на Костю, который неторопливо поднимался на крыльцо.
— Не смейся, не смейся! На всю жизнь!
— Он шофером работает?
— Нет, плотником. Но это врем…
— Хорошо хоть не шофер, — перебила Лариса. — У тебя, милочка, таких гвоздодеров будет ой–ой–ой!
— Он в институт поступать будет, — обиделась за Костю Светлана. — Я ведь тоже пока колхозница.
Лариса жила в двухкомнатной квартире, которую ей оставил второй муж, директор небольшого заводика. Разошлась с ним Лариса мирно. При случайных встречах на улице они разговаривали дружески, интересовались жизнью друг друга. Светлану вначале это возмущало:
— Раз он тебе не по душе, что ты тогда с ним болтаешь?
— Глупеныш ты, милочка, — смеялась Лариса. — Может, мне весь мир не по душе, так что ж, я всегда должна коброй смотреть? Ты даешь!
Лариса в первый же день повела сестру к знакомому парикмахеру, лучшему парикмахеру города, как сказала она, потом к своей портнихе. Позвонила знакомым в универмаг, и через неделю Света едва узнавала себя, стоя перед зеркалом.
— Ой, это же уйма денег! Уйма денег! — восхищалась она.
— Гвоздодер твой на зарплатку никогда тебя так не оденет, — говорила Лариса, осматривая сестру. — Станешь знаменитой — расплатишься! — шутила она.
Светлана все дни в городе жила предвкушением счастья, предвкушением настоящей жизни. По утрам она бегала по магазинам, готовила обед, читала, обошла все кинотеатры Тамбова. Все она делала с удовольствием, думая, что теперешняя ее жизнь — пролог к настоящей, которая вот–вот должна начаться. И все же иногда, просыпаясь, она думала с тревогой: «Пропаду! Непременно пропаду!»
Каждый день Света пела и танцевала перед зеркалом, готовясь к встрече с ансамблем.
— Ну, когда же будет решаться со мной? Когда? — нетерпеливо спрашивала она у сестры.
— Ты работай больше, работай! Чем дальше оттягивается, тем лучше для тебя. Терпи!
— Ларис, скажи, только честно, у меня есть талант?
— Ишь чего захотела! — засмеялась сестра.
— Я серьезно! Ты давно уже выступаешь, должна разбираться…
— Ну, если серьезно, то, знаешь, талант, милочка, штука редкая! Ответить тебе сейчас вряд ли кто сможет. У тебя голос есть, чувство тоже, значит, данные есть! А как ты ими распорядишься, этого никто не подскажет. Я знала людей с более яркими данными, а они так ничего и не добились…
— Я добьюсь! Я на все пойду, — убежденно сказала Света, а Лариса подумала с грустью: «Еще один несчастный человек! И какой бес тянет нас на публику? Почему нам мало обыкновенного человеческого счастья? Откуда это взялось в нашей крови?»
— А ты уверена, что только в этом твое счастье? — спросила она.
— Ты считаешь, что мать наша счастливую жизнь прожила? Всю жизнь то на коровнике, то на свекле. Ты ее, свеклу, не полола в жару, не чистила ее в мороз, не таскала из–под снега…
Лариса засмеялась и перебила Светлану:
— Ну–ну, разошлась!
Светлана не презирала крестьянский труд. Нет! Этого у нее и в мыслях не было. Бывало, летом она помогала матери полоть свеклу. Тот, кто не делал эту работу, конечно, не представляет, каково целый день на жаре махать тяпкой, целый день на ногах. Света старалась не отставать от женщин, хотя и руки болели, и ноги не шли, и голова кружилась, даже поташнивало. Зато как приятно было слушать, когда во время короткого отдыха бабы говорили матери:
— Ну и девка у тебя! За что ни возьмется — все в руках горит!
— Она с детства такая, — улыбалась мать. — Только из люльки выползла, как за тряпку взялась, полы мыть помогать. Я не препятствовала. Пусть возится, раз охота!
— Это правильно! Их, детей–то, с таких лет и надо приучать к работе, а то мы все жалеем, когда они маленькие, а как вырастут — плакать начинаем.
От таких слов усталость проходила быстро. Светлана любила похвалу, любила быть в центре внимания.
— Руки–то у тебя, Света, золотые, а ты зачем–то на сцену лезешь, — обращались к ней бабы. — Оставалась бы тут. С такими руками к тебе быстро бы почет пришел. Верка Манюшкина осталась, теперь ей вот орден дали. Ни одно совещание в области без нее не обходится. И ты бы так…
— Что вы, — отвечала мать. — Я уж ей говорила–говорила! Ничего не берет! Втямилось ей певицей быть, и все!..
— А ты разве не счастливая? — спросила Света у Ларисы. Она была убеждена, что сестра живет так, как ей хочется, не испытывая ни в чем нужды.
— На свете счастья нет, а есть покой и воля, — тихо проговорила Лариса. — А у меня нет ни покоя, ни воли… Вот ты про мать говорила, счастлива ли она? Да, таскала она свеклу из мерзлой земли, жарилась в поле, не имела вот такой квартиры, но она счастливей меня, счастливей! Я вот над Костей твоим подсмеиваюсь, ты думаешь, потому, что он плотник, работяга! На сцену не выпархивает, как я… А я, может, ему завидую! Ты вот оправдывать его начала, мол, в институт поступит. Да разве счастье в институте? Он и без института счастлив будет. Мучений нравственных ему не испытывать. Может быть, я от зависти насмешками своими хочу опустить его до себя…
Один раз сестры были в ресторане с каким–то деятелем по музыкальной части — Владимиром Альбертовичем. Полный, краснощекий, Владимир Альбертович вначале чего–то хмурился и напускал на себя важный вид. Но после первого же бокала развеселился, стал толстеньким Володей, неожиданно оказался балагуром, шутником. Даже чересчур. От некоторых его шуток становилось неудобно. Лариса в таких случаях, смеясь, хлопала его по руке, говоря:
— Ты что? Такое при ней… Она же у меня нецелованная!
— Ну уж нецелованная, — смущенно фыркала Света.
— А что, Гвоздодер целовал?.. Ты знаешь, котеночек, — обратилась Лариса к Володе возбужденным от вина голосом, — она Гвоздодера, ха–ха, плотника, в деревне оставила. Говорит, любовь у них на всю жизнь. Во дают, а? На всю жизнь! А то мы!
— Ты это не трожь! Не трожь! — обиделась Света.
— Девочки, не ссорьтесь! Давайте выпьем… выпьем за удалого Гвоздодера! Нет! Нет! Лучше за будущего твоего… рыцаря, который уже маячит за спиной Гвоздодера!
— А я за Гвоздодера… Ой! — Света смутилась, впервые назвав Костю Гвоздодером. — В общем, за него!
Лариса и Володя засмеялись.
Танцевал толстенький Володя смешно. Видя, что Светлана хохочет, глядя на него, он старался отколоть что–нибудь еще. Свету веселило и то, что Лариса называла его котеночком. Танцующий Володя напоминал Светлане Тимошкиного кота. Тот точно так же подпрыгивал за концом ленточки, которой его дразнили.
Володя из ресторана поехал с ними. Лариса шепнула сестре, что он останется у них ночевать. Спать он будет в большой комнате, на софе. Светлане стало не по себе от этого сообщения, а Володя чувствовал себя в чужой квартире свободно, по–прежнему заигрывал с Ларисой. Света оставила их одних, ушла в спальню.
Она слышала, как они, видимо, мешая друг другу, смеясь, раздвигали софу, которая стояла по ту сторону тонкой стены. Потом там стихло, и Лариса пришла в спальню за бельем. Она осторожно вытащила простыни из шкафа и, прежде чем выйти, остановилась подле Светы. Та прикинулась спящей.
Утром Светлана слышала, как Володя торопливо собирался уходить. Он даже отказался от кофе, убежал, проговорив напоследок испуганно:
— Что сейчас будет! Что будет!
— Не дрожи! Перетерпишь!
— Чего это он испугался? — Вышла из спальни Света, застегивая халатик.
— Жены… Дома–то не ночевал!
— А он разве женат? — недоуменно посмотрела на сестру Света.
— Женат. Что ты удивляешься?
— И давно ты с ним… так?
— Первый раз!
— Он еще придет?
— Вот этого бы я не хотела…
— А как же ты?.. Зачем ты его привела?
— От него, милочка, будет зависеть — поеду ли я в Ленинград!
После этого разговора ощущение предчувствия счастья сменилось в душе Светланы постоянной тревогой. Занималась она пением с прежним усердием. Однажды сестра взяла ее с собой на репетицию, и Света пробовала петь с ансамблем Ларисы. Она думала, что это просто репетиция, и вела себя вольно, шаловливо. Это ее Лариса так настроила. Она–то знала, что в зале сидит руководитель ансамбля «Васильки». Когда Светлана кончила петь, Лариса познакомила с ним сестру. Света ахнула, смутилась. Руководитель ансамбля восторга особенного не выказывал, но Лариса почувствовала, что он доволен сестрой.
После отъезда Светланы в город Костя по–прежнему по вечерам ходил в клуб. Раньше, что бы он ни делал: танцевал ли под радиолу, баловался ли с девчатами или парнями, играл ли в домино, — он всегда чувствовал присутствие девушки, чувствовал ее взгляд, иногда восхищенный, иногда сердитый или обиженный, это когда он, по ее мнению, переступал черту, заигрывая с девчатами. Когда она по какой–либо причине не приходила в клуб, Костя все равно ощущал ее близость, ожидая, что вот откроется дверь и войдет Светлана. А теперь знал, что, сколько ни открывайся дверь, она не войдет. От этого ему не танцевалось, не игралось, и он весь вечер стучал в домино. Потом грустно брел домой. На четвертый день он получил от подруги первое письмо. Костя все время носил письмо с собой, и его все время подмывало дать почитать своему приятелю, поделиться с ним счастьем. Через день он получил следующее письмо, потом еще и еще. Светлана подробно рассказывала о своих делах, о своих волнениях, вспоминала встречи с ним. Костя тоже писал ей длинные письма, удивляясь, откуда только слова у него берутся. Вскоре пришло письмо, в котором Света с восторгом сообщала, что ее приняли в ансамбль. Это письмо было самым длинным. После этого Света стала писать короче, потом письма стали реже приходить. Напрасно Костя торопился домой после работы: писем не было. Те, что изредка он все же получал, были сухими, торопливыми. Подошли и прошли Октябрьские праздники, на которые Света обещала приехать в деревню, но не только не приехала, но даже открытки от нее не пришло. На Костин упрек Света ответила, что это мещанский обычай — слать открытки. В ноябре Костя получил повестку в военкомат. Нет, не мог он уйти на два года, не узнав, что случилось, почему так внезапно изменилась к нему Светлана?
В Тамбов он приехал утром и сразу отправился на ту улицу, где жила Света. Костя знал из ее писем, как добираться с вокзала. Возле двери он долго топтался, не решаясь поднять руку к кнопке звонка. Может быть, рано явился, думал он, они еще спят. И вообще зря он приехал, раз не пишет, значит, не нужен, чего выяснять? Не лучше ли повернуться и уехать назад… Выше этажом хлопнула дверь и послышались шаги по ступеням. Костя торопливо нажал на кнопку и услышал за дверью легкое покашливание. Значит, не спят. Какая она теперь стала? Как встретит его? Не верится, чтобы в письмах она лицемерила. Зачем? С какой стати?.. Мимо Кости, взглянув на него как–то неодобрительно, прошла пожилая женщина с хозяйственной сумкой. Щелкнул замок. Дверь открыла Лариса.
— A-а, это ты? — сказала она равнодушно и вышла на площадку, прикрыв за собой дверь.
Она была в длинном махровом халате. Концы голубого пояса с большими помпончиками свисали до колен.
— Светлана дома?
— Нет! Ее нет… И вообще встреча с тобой ей радости не принесет! Она давно уже живет другими заботами.
— Я хотел ей два слова сказать. Пусть хоть выйдет!
— Не нужно ей ничего говорить. Оставь это!
— Нет, нужно! Мы любим друг друга!
— Ах, глупости–то какие. Не умрешь же ты от любви к ней? Нет! Иди, иди и забудь этот адрес!
Лариса считала, что так будет лучше и для Светы, и для Кости. Что им зря морочить головы друг другу? Толку–то от любви все равно не будет.
Но Костя думал иначе, и ему хотелось во что бы то ни стало увидеться со Светой.
— Я все–таки на секундочку зайду, — не зная, что ему делать — отодвинуть ли Ларису и войти в квартиру или пытаться уговорить пустить, — сказал Костя.
— Это не за мной? — раздался вдруг из квартиры сиплый мужской голос.
— Нет! — ответила Лариса и проверила за ручку плотно ли прикрыта дверь, потом мягко ответила Косте. — Я же тебе сказала…
Но Костя уже не слышал ее, он повернулся и торопливо пошел вниз, стараясь не горбиться, держаться независимо, зная, что Лариса смотрит ему вслед. «Наверно, я сейчас похож на гусака!» — подумал он, вспомнив, что точно так же, стараясь держать форс, торопливо, с гордо поднятой головой, убегает с места схватки побитый гусак. Голос мужчины ошеломил Костю. Значит, у них ночуют мужики? И если тот из квартиры слышал разговор, то, значит, и Света слышала, слышала и не вышла. Не захотела выходить. Зачем он ехал сюда? Разве и так было не ясно?
Но Света разговор не слышала. Она еще спала в своей комнате. И звонок, торопливый, но короткий, ее не разбудил. Проснулась она от голоса Володи. Он снова ночевал у сестры. Когда Лариса вошла, Света спросила:
— Кто это приходил?
— Соседка.
— Сусед, — засмеялся Володя.
— Уж не ревнуешь ли ты, а? Котеночек? — шутливо скокетничала Лариса и поводила по носу Володи помпончиком от пояса халата.
— Ам! — Володя попытался поймать помпончик ртом, но Лариса быстро убрала руку и засмеялась.
Лариса правильно поняла состояние Кости, и ей было приятно, что она избавила от него сестру. По своему опыту Лариса знала, что ничего хорошего от их любви не будет. Только трата времени и нервов. Слишком у Кости со Светой разные интересы.
В первые же месяцы службы в армии тоска по Светлане начала слабеть, превратилась в легкую грусть, а потом и вовсе отдалилась. Однажды, в воскресенье, это было на первом году службы, в «учебке», несколько солдат, среди них и Костя, смотрели в красном уголке телевизор. Передавали эстрадный концерт. И вдруг объявили «Васильки». Костя вздрогнул. На экране, на дальнем плане, появилась группа парней. С ними была одна девушка. Она была не похожа на ту Светлану, которую любил Костя, но он понял, что это она, и сердце заныло.
— Это она, она! Света! Помнишь, я тебе рассказывал, — шепнул Костя своему другу, сидевшему рядом: — Я с ней три года встречался!
Несколько товарищей повернулись к Косте и посмотрели на него с интересом. А Рудик Диндадзе, взводный насмешник, спросил у него серьезно:
— И ты целовался с ней?
— А как же!
С тех пор Рудик, когда заходила речь о Косте, говорил:
— A-а, это тот Костя Кирюшин, который целовался с певицей!
Товарищи подхватили шутку, и Костя до конца службы остался «тем, который…».
А тогда, во время телепередачи, пел парень, а Света лишь пританцовывала в такт музыке и подхватывала припев, но оператор часто показывал ее лицо крупным планом, видимо, потому, что она была единственной девушкой в ансамбле и была красива. «Васильки» спели только одну песню и уступили экран другим.
Этой ночью Костя не спал, вспоминал Масловку, клуб, Свету, вспоминал с нежностью и тоской. Обидно было, что она так с ним поступила, и в то же время он чувствовал некоторую радость, удовольствие оттого, что Света быстро пошла в гору. Год прошел с небольшим, как ее в ансамбль приняли, а она уже по телевидению выступает. Приятно было и перед товарищами, что вот его, обыкновенного человека, плотника Костю Кирюшина, обнимала певица. Правда, она тогда певицей не была, но все равно, теперь–то она певица и, может быть, скоро прославится на всю страну, в Москву переедет жить, по всему миру будет с концертами выступать. А кто он–то такой? Кто он–то? Плотник. Ну да, говорил всем после школы, что в институт будет поступать. Но ведь говорил–то он так, для собственного утешения, что, мол, и он не лыком шит. В действительности ему никуда поступать не хотелось. Зачем? Разве ему плохо в деревне? Разве не нравится плотничать? Что же еще искать? И зачем? Светлана–то, видно, давно это поняла. Бабы чуткие. Поняла и не вышла к нему тогда. Зачем канитель разводить? Мучиться зря? Когда Костя обдумал все это, ему стало легче, и он стал думать о встречах со Светой как о далеком прошлом.
Возвращался Костя в Масловку осенью, в конце ноября. До Тамбова долетел самолетом, а дальше нужно было ехать поездом. Отправлялся он в час ночи. Времени у Кости было много. Он бродил по городу, рассматривал афиши, выбирая, какой фильм посмотреть вечером. Читая афишу с объявлением концерта молодых артистов эстрады, Костя вдруг наткнулся на знакомую фамилию. Среди длинного списка артистов стояло имя Светланы. Концерт должен был состояться вечером в Доме культуры. Костя сам удивился, что при виде имени Светланы внутри его ничего не колыхнулось, так, на секунду, волнение возникло и тут же улеглось. Пойду послушаю, решит он. В кассе Дома культуры билеты были. Концерт начинался через сорок минут, и зрители уже шли в зал.
Рядом со входом, возле колонны, старушка продавала хризантемы. Костя замешкался подле, думая, не купить ли букетик. Старушка заметила его колебания и заговорила:
— Бери, сынок! Бери! Посмотри, какие свежие… Девушка рада будет!
И Костя купил, сомневаясь, что правильно делает.
Место ему досталось в амфитеатре, но во время концерта он высмотрел свободное место в первых рядах партера и перешел туда. Странно, кроме любопытства и интереса, а также легкой зависти к землячке, добившейся успеха, он ничего не чувствовал. Имя Светланы прозвучало для него неожиданно. Прежде чем назвать ее, ведущий объявил романс, а Костя ожидал ее с ансамблем. Светлана вышла из–за кулис в длинном розовом платье и, может быть, из–за него она показалась ему выше ростом, чем была раньше. Она пополнела. Лицо ее несколько обрюзгло или освещение делало его таким. На вид Света казалась старше. По крайней мере двадцатилетней девчонкой назвать ее было нельзя. На сцене стояла женщина, незнакомая Косте женщина. С противоположной стороны из–за кулис вышел мужчина в черном фраке и сел за рояль.
— Я не знаю тебя… После долгой печальной разлуки Как мне вспомнить твой голос, твой взгляд, очертанья лица, И ласкавшие некогда милые нежные руки… Как мне вспомнить тебя после долгой разлуки, после слез без конца.Косте казалось, что Светлана поет о нем, и снова начали вспоминаться масловские вечера, проведенные с ней.
Иногда, иногда мне сдается, тебя я встречаю В вихре жизни безумной, в потоках людской суеты, Жду тебя и зову, все движенья твои замечаю… Иногда мне сдается, тебя я встречаю, но вгляжусь — нет, не ты!Костя забыл о цветах. Вспомнил он о них, когда Света, откланявшись, повернулась уходить. Он вскочил и побежал к сцене. Певица подходила к занавесу.
— Света!
Она остановилась, повернулась, сделала шаг навстречу, улыбаясь ему, но вдруг улыбка исчезла с ее лица, почувствовалось смятение, которое так же быстро сменилось радостью, новой, уже не официальной улыбкой, и Светлана воскликнула:
— Костя! А я гляжу — солдатик спешит! — говорила она, принимая цветы. — Иди в коридор, я сейчас!
Костя соскочил со сцены и быстрым шагом, не глядя в зал, вышел. Он чувствовал себя неловко перед зрителями, черт знает, что они думают о нем, и старался поскорее выйти.
— Отслужил? Домой теперь? — расспрашивала его Светлана по дороге. Они ехали на квартиру Ларисы, которая, по словам девушки, должна вернуться не скоро.
Света привычно скинула шубку на руки Косте и, увидев, что тот пытается повесить ее за петлю, сказала:
— На плечики повесь, на плечики!.. Тапочки бери… Я сейчас стол накрою, — побежала она на кухню.
Костя видел, что она рада встрече с ним, а он не знал, как вести себя с ней. Хорошо, хоть она не молчала.
— Ты, Костенька, все как мальчик выглядишь, хоть и в солдатской форме, — говорила она за столом, когда они выпили водки. То, как легко выпила Света свою рюмку, удивило Костю. — А я постарела, да? — Постарела? — улыбалась она ему привычно–ласкательной улыбкой.
— Ну не постарела, — дипломатично ответил Костя. Ему не нравилась ее новая манера говорить, неестественная какая–то. — Повзрослела… Уже не та, что раньше!
— Да, Костенька, не та! Ты прав, не та!.. Помнишь наши вечера?.. Речку, луну, бобра… — печально сказала Светлана.
— Помню, я не забывал… Наоборот, я считал, что ты об этом забыла, — сказал Костя и подумал: не груб ли он с ней?
— Нет, Костенька, это самое светлое, что было у меня… Разве забудешь! И захочешь забыть, все равно всплывет… Почему ты ничего не говоришь мне, как я пела? Понравилось тебе?
— Я думал, тебе об этом надоело слушать! Наверно, каждый день говорят, — продолжал он все так же грубовато.
— Бывает, бывает, — засмеялась Света.
— Почему ты без «Васильков» выступала?
— Ну их к чертовой бабушке! Давай лучше о них не вспоминать… Хочешь, я тебе спою, только тебе, как тогда, помнишь?
Костя кивнул, и Света принесла гитару. Едва она тронула струны, как щелкнул замок и со скрипом открылась входная дверь.
Лариса помедлила в коридоре, прежде чем заглянуть на кухню.
— Шинель твою разглядывает, — с улыбкой шепнула Света.
«Надо было раньше уйти!» — подумал Костя. Встречаться с Ларисой не хотелось.
Лариса вошла с сердитым лицом, но тут же узнала Костю и подняла брови.
— A-а! Это землячок! А я гляжу: шинель!
— Мне пора, — поднялся Костя.
— Ну что ты! Посиди еще! — В голосе Ларисы не было фальши.
— Поезд скоро, — сказал Костя, но все–таки остался еще на полчаса.
Лариса расспрашивала о службе, о дальнейших планах. Одобрительно отозвалась о том, что Костя пока не собирается уезжать из Масловки. Расстался он с сестрами как с хорошими друзьями, и, хотя на приглашение заезжать к ним запросто, когда будет в Тамбове, отвечал, что обязательно забежит, понимал, что вряд ли он выполнит обещание. Зачем?
Через три года он узнал, что Светлана вышла замуж за летчика и уехала с ним на Север. Больше она никогда не выступала перед зрителями.
Моя тропинка Вместо послесловия
В детстве я считал, что живых писателей нет — они либо на дуэлях погибли, либо покончили с собой, — и я буду единственным живым русским писателем. Бывает, когда в веселом застолье я говорю об этом новым знакомым и добавляю, что окончил школу при керосиновой лампе, что впервые в город попал, увидел двухэтажный дом и телевизор в семнадцать лет, все считают, что родился я в глухомани, в тайге. Нет, родился я в центре России, в Тамбовской области, через четыре года после окончания войны.
Не помню, с каких лет я стал видеть себя писателем, не понимаю, почему, как и откуда ко мне, сыну неграмотных крестьян, — мать совершенно не может читать и писать, а отец окончил два класса, — откуда ко мне пришла мечта о литературной славе. Совершенно не помню и не понимаю. Помню только: был уверен, что лет в двадцать буду знаменит на весь мир. Начал я писать не рассказ, не повесть и даже не роман, а трехтомную эпопею. Чего мелочиться! А было мне в ту пору лет девять–десять. Никто — ни в семье, ни друзья не знали о моей мечте, не догадывались, что я пишу. Просто прилежный мальчик усердно выполняет школьные уроки. Первой мечтой моей были самолеты: хотелось стать военным летчиком, и я, естественно, разболтал об этом. Брат мой, — он старше на три года, — вышучивал меня, издевался, говорил: «Да, ты будешь летчиком, будешь не летать, а со стола куски хватать!» Это меня сильно обижало. В детстве я был маленького роста, слаб, отставал от сверстников физически и больше всего не переносил, когда надо мной смеялись. Поэтому никто в деревне не знал о моей мечте до тех пор, пока не вышла первая тощенькая книжка.
Помнится, в девятом классе я решил послать один из своих рассказов на конкурс в «Комсомольскую правду». После творческой неудачи с трехтомной эпопеей я перешел на рассказы. Запечатывал и подписывал конверт в интернате, где тогда жил, в большой комнате, и кто–то из одноклассников заметил, что на конверте я пишу адрес редакции, сказал ребятам, и они навалились на меня, пытаясь отнять письмо. Я вырвался, выскочил на улицу. Ребята за мной. Я влетел в женский туалет и бросил письмо в яму. Я страшно боялся, что моя мечта станет известна, и я буду посмешищем. Я понимал, что писатель не только для меня, но и для моих односельчан существо сверхъестественное, небожитель. Естественно, как только узнают о моей мечте, мнение друзей и односельчан будет единым: у человека, который постоянно мельтешил среди них, как все косил траву, пас гусей, копался в огороде, а по вечерам гонял в клубе девок, и который оказывается хочет быть писателем, у такого человека не всё в порядке с головой.
В школе мне ни разу не пришла в голову мысль поступать в Литинститут или во ВГИК. Куда мне. Мой самый счастливый удел — Тамбовский пединститут, литфак. С первого захода туда я не прошел по конкурсу. Год проболтался в деревне. Писал, читал, мечтал. Из книг о писателях узнал, что для успешной литературной работы нужен богатый жизненный опыт, и по комсомольской путевке отправился строить газопровод «Средняя Азия — Центр», поехал за тем, чтобы набраться впечатлений, жизненного опыта.
В Тамбовский пединститут поступил только после службы в армии, поступил и уехал в Харьков, где, помытарствовав немного, оказался на тракторном заводе. Здесь, в Харькове, я встретил первого живого писателя, здесь началась моя литературная жизнь, здесь я увидел первые свои опубликованные вещи, первую книгу.
Помнится, в первые дни в Харькове я прочитал объявление на одном из ДК, что набираются слушатели в Народный университет культуры на литературный факультет, который ведет член Союза писателей Г. М. Гельфандбейн, прочитал и немедленно записался. Помнится, с каким трепетом ожидал я в небольшом зале ДК появления первого живого писателя, небожителя. Гельфандбейн оказался пожилым человеком, крупным, высоким, неторопливым, но очень энергичным и эмоциональным. Помню, как неторопливо входит он в зал, подходит к столу, выдвигает стул, но не садится, оглядывает приветливо нас, слушателей — старушек, девиц и меня. Смотрел я на него с обожанием, слушал с восторгом, не знаю, предчувствовал ли я тогда, какую роль сыграет в моей жизни Герш Менделеевич Гельфандбейн, Григорий Михайлович. После одного из занятий я шел к автобусной остановке вслед за Григорием Михайловичем, волнуясь, как подойти к нему? Как начать разговор? Не знаю, догадался ли он о моих мучениях, но приостановился и заговорил со мной. Вероятно, он давно приметил своего усердного слушателя, не пропустившего ни одного занятия. Я проводил его к остановке, признался, что пробую писать. Он сам попросил показать ему мои вещи. Я пообещал, но не принес, постеснялся. Перечитал дома, и показалось таким жалким все то, что я написал. Стыдно.
В те дни я уже работал сборщиком на тракторном заводе, жил в общежитии, и все свое свободное время проводил в читальном зале заводской библиотеки. Какая замечательная читалка была у завода! Богатейшая, многолюдная, с приветливыми, влюбленными в свое дело библиотекарями, и работала тогда аж до десяти часов вечера. Прямо из цеха я шел в нее, читал, писал контрольные работы и рассказы. Первая моя книга написана там. Библиотекари, думается, быстро поняли, чем я дышу, и однажды одна из них сказала мне, что при читалке работает заводская литературная студия, и спросила — не желаю ли я пойти туда. Как вы понимаете, я желал да еще как желал! Она повела меня в комнату, где я увидел, кого вы думаете?.. Я увидел Гельфандбейна.
С этого дня для меня началась новая жизнь, та жизнь, о которой я мечтал в деревне Масловке. Не знаю, почему Григорий Михайлович сказал, когда началось занятие, что, оказывается, напрасно он не хотел идти на ХТЗ руководить студией. Он только что сменил другого руководителя. Потом Гельфандбейн повторит эти слова, когда я принесу на обсуждение свои стихи. Да–да, в студию я пришел со стихами. Не знаю, почему он так сказал, но мне, грешному и тщеславному, так хочется связать его слова с моим появлением в студии, где были тогда почти одни пенсионеры. Ирина Полякова появилась одновременно со мной и сразу влюбила в себя всех своими романтическими стихами. Было ей тогда, как и мне, девятнадцать лет. Григорий Михайлович был строг и безжалостен к нашим литературным текстам, не жалел и пенсионеров. Он часто повторял: литература — дело жестокое! Старики были обидчивы и, как все пишущие, легко ранимы. После разгромного разбора их стихов и романов больше не появлялись в студии. Не знаю, как бы я повел себя, если бы на первом же занятии мои стихи разгромили бы безжалостно, а они этого достойны, но встретили их доброжелательно, заинтересованно. Отметили и достоинства и, конечно, кучу недостатков. Больше стихов я не приносил, но рассказы мои обсуждались два раза в месяц. Задумав рассказ, я делал заявку заранее, а потом, чтобы не обмануть руководителя и новых друзей, заставлял себя его написать. Вскоре меня избрали старостой студии. Один за другим появлялись молодые ребята. Мы быстро становились друзьями. Одного раза в неделю на обсуждение наших стихов и рассказов нам, молодым и голодным, было мало, и мы образовали свой кружок, стали собираться на квартире Андрея Коновко, читать и разбирать свои произведения. Мы часто выезжали в лес, позагорать на Донце или просто побродить, поговорить о литературе. О ней можно говорить бесконечно. Вместе отмечали праздники и дни рождения. Мы влюблялись и флиртовали в студии, находили здесь свое личное счастье. Поэты Ирина Полякова и Володя Глебов поженились, и Андрей Коновко встретил свою жену здесь. Теперь у них взрослые дети, счастливые семьи. Мы были друзьями, но как мы были безжалостны к неудачным рассказам друг друга, и как радовались удачам! Помнится, Славик Еремкин так разделал один из моих рассказов, критиковали его и другие, но он был особенно насмешлив и жесток, говорил такие слова, что я потом всю ночь не спал, лежал в лихорадке, всю ночь спорил про себя со Славиком, доказывал ему, что он не понял меня, что рассказ не так плох. Вероятно, и после моих разборов некоторым моим друзьям тоже не спалось. Но тем не менее такая критика нас не разъединила: у меня после разгрома всегда было страстное желание написать сильную вещь, доказать, что рассказ, который разбили, моя временная неудача. Я писал, приносил, читал, слушал похвалу, с удовольствием писал другой, считал его удачным, думал — опять похвалят, но его разбивали так, что стыдно было находиться в студии. Многое из того, что я тогда написал, я никогда не включал в свои сборники, и лишь небольшую часть вставил в этот трехтомник.
И все мы были влюблены в Григория Михайловича, с трепетом ждали появления его в нашей комнате читального зала, каждый раз провожали после занятий до автобусной остановки, жадно впитывали его слова о литературе, о литературном труде, о своих вещах. А разбирать он умел наши рассказы и стихи мастерски, просто мастерски.
Уехав из Харькова, я посещал литстудии в Тамбове, в Зеленограде, в Москве. В частности, был старостой в одном из семинаров «Зеленой лампы» при журнале «Юность», который вели профессора Литинститута известные писатели Андрей Битов и Владимир Гусев, был несколько лет членом литобъединения при Московской писательской организации у Валерия Осипова и Леонида Жуховицкого, участвовал в V Московском и УГГГ Всесоюзном совещаниях молодых литераторов, где руководили семинарами самые славные писатели, но никто из них, никто не мог так умело, так точно, так доброжелательно и глубоко разбирать наши произведения, как Григорий Михайлович Гельфандбейн.
Учеба во ВГИКе на сценарном факультете, где мастерская та же литстудня, оставила в моей судьбе слабый след. А как я стремился во ВГИК! Думал, раз в Харькове так интересно, то что же в Москве! И был разочарован. В Москве важную роль в моей литературной судьбе сыграл писатель Эрнст Сафонов, этот большой, удивительно добрый, чуткий и не равнодушный к судьбе молодых литераторов человек. И главное, я не просил его о помощи! Он сам почувствовал, сам увидел, что нужно подставить свое большое плечо, поддержать, поделиться частичкой своей энергии, чтобы молодой неокрепший литератор уверенней зашагал дальше. Думается, что сам Эрнст Сафонов сейчас и не догадывается, какую роль он сыграл в моей жизни, как он помог мне, так это для него органично, просто и естественно помогать другим. Пока есть такие люди, русская литература будет жива. А как литератор я сын литстудии ХТЗ. Впервые от Гельфандбейна я услышал имена Василия Шукшина, Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева и Виктора Лихоносова, благодаря Григорию Михайловичу я был очарован их повестями и рассказами, с нетерпением ожидал появления в читалке свежих журналов, искал в оглавлениях эти имена, если находил, тут же с наслаждением проглатывал.
Как я тогда много читал! Удивляюсь сейчас, как я мог всюду успевать, дни, что ли, были резиновые. Я работал в те года сначала слесарем–сборщиком на ХТЗ, а затем паркетчиком на стройке; учился заочно в пединституте, окончил и сразу поступил снова на заочное во ВГИК; следил за журналами, не пропускал ни одну заметную вещь, читал книги мастеров прозы, много читал; писал свои вещи, как видите, не так уж и мало написано; был активнейшим комсомольцем в цехе, членом бюро, даже до такой глупости доходил — выпускал цеховую стенгазету раз в две недели и аж с литературным приложением, мне это было интересно; и я не был аскетом — любил кутнуть с ребятами, погулять с девчатами, и времени у сна никогда не отнимал. Где же я находил время? Почему же сейчас, когда я столько же часов бываю на работе, так мало времени остается для жены, для друзей, для книг своих и чужих? Да, золотое то было времечко! Я счастлив, что у меня была литстудия ХТЗ, счастлив, что встретил Григория Михайловича, писателя Андрея Коновко, рядом с которым я иду двадцать с лишним лет. Григорий Михайлович сейчас по–прежнему живет в Харькове, а литстудией ХТЗ руководит Ирина Полякова.
А в те дни слава о делах литстудии ХТЗ покатилась по Харькову, потом за ее пределы. Нас стали приглашать выступать на предприятия, в ДК, по радио, на телевидении. Подборки наших стихов и рассказов охотно печатали газеты, писали о работе студии. Лит–объединения других городов желали встретиться с нами. Наконец, услышали о нас и заинтересовались в отделе культуры ЦК компартии Украины. Однажды заведующий отделом культуры ЦК приехал по своим делам в Харьков и пожелал поприсутствовать на занятии нашей литстудии. Помнится, тогда я читал рассказ «Шутов палец». Завотделом то ли сделал вид, то ли, действительно, был в восторге от того, как прошло обсуждение, говорил, что он не ожидал встретить такое в заводской литстудии. Я обнаглел, выступил, как староста, сказал, в ответ на его слова, что для своих книг мы еще не созрели, а вот коллективный сборник прозы мы бы осилили. Завотделом пообещал посодействовать и не обманул. В планах харьковского издательства «Прапор» появился наш сборник «Солнечные зажинки» и года через три, в 1976 году, увидел свет. В нем была моя первая публикация — повесть «Рачонок, Кондрашин и др.».С одной стороны — я был рад, я начал печататься, я есть, я существую, как литератор; с другой — мне было стыдно за слабенькую повесть. Не с такой вещью хотелось появиться на свет. Но другие не печатали. К тому времени я уже написал рассказ «В тамбовской степи», назывался он тогда «Первая правда». Задумал я большой роман о Викторе Антошкине. Он у меня живет в рассказе «Шутов палец». А рассказ «В тамбовской степи» писался как начало романа. Эпиграфом к роману служили слова Шукшина: «О человеке нужно знать три правды: как он родился, как женился и как умер». «В тамбовской степи» я рассказал, как родился Виктор Антошкин, потому он и назывался вначале «Первая правда». Писал, писал я роман, чувствую, что не вытягиваю, и бросил, отложил. Потом решил из первых глав сделать рассказ, переписал и принес на обсуждение. Встретили его хорошо, кое за что покритиковали. Я доработал и понес в областную студию, которая работала при Харьковской писательской организации. Литстудия ХТЗ — это как бы школа, а областная литстудия — институт. Ее посещали кандидаты в члены Союза писателей, все самые одаренные и признанные молодые литераторы. Они теперь составляют костяк Харьковской писательской организации.
Помнится, после того, как я малость пообтерся в студии ХТЗ, наслушался об областной от новых друзей, и меня потянуло туда. Руководители наших студий были приятелями, и Гельфандбейн рассказывал Зельману Кацу о новом перспективном мальчике, обо мне, поэтому, когда я робко заглянул туда и попросил прочитать свой рассказ, Кац согласился. Я читал рассказ «Осина», который позже включил в состав «Шутова пальца». Сладостно вспоминать, что было после того, как я сошел с трибуны. Владимир Муровайко, украинский поэт, студент университета, ему было тогда, как и мне, двадцать лет, эмоциональный парень, вскочил, закричал с места: «К нам пришел талант!» Он еще что–то говорил восторженное на украинском языке, но я тогда плохо понимал украинский, понимал только, что рассказ ему понравился. Мне передали, что в перерыве одна молодая поэтесса сказала Кацу о рассказе, мол, это литературщина, а Кац ответил, что у него сердцевина живая. Я тогда, мальчишка, не понял, что ворвался в студию с триумфом, принял хвалебные слова как должное, мол, так и должно быть. Читал я там и другие вещи, но их разбивали безжалостно, особенно весело растоптали повестушку «Рачонок, Кондрашин и др.», справедливо растоптали. И я во второй раз ночь не спал, возражал ребятам. Это была вторая и последняя такая ночь. Я стал привыкать к критике, а теперь к ней почти равнодушен, спокойно размышляю над критическими замечаниями. Если дельная критика, я ее непременно учитываю, перерабатываю. Рассказ «В тамбовской степи» я принес в областную студию, когда уже прочно закрепился там, был комсоргом. Зельмана Каца сменил Микола Шаповал, и его вот–вот должен был сменить Виктор Тимченко, слепой поэт из Дергачей, удивительно энергичный и доброжелательный человек. Он у себя в Дергачах создал крепкую литстудию. За неделю до обсуждения я дал ему прочитать «Тамбовскую степь».
Иду я по улице один на занятие, и за два квартала до писательской организации встречают меня Виктор Тимченко и Виктор Бойко, украинский поэт. Тимченко взволнован. Он хорошо относился ко мне. Когда он станет руководителем студии, меня изберут председателем бюро.
— Возвращайся немедленно назад, пока тебя не видели! — возбужденно сказал мне Тимченко.
— Почему? — остановился я ошарашенный.
— Ты молодой, ты не понимаешь, что ты написал! На тебе поставят крест! Тебе закроют путь в литературу! Уходи! Скажешь потом, что заболел. Уходи!
— Нет, я буду читать! — ответил я.
— Дурачок, ты многого не понимаешь. Вернись! Тебя растопчут.
— Ну и что… Я буду читать! — твердил я.
— Тебе жить. Смотри…. Но я буду тебя критиковать, — сказал Тимченко.
— Хорошо, — согласился я. — Только вы выступите в конце обсуждения.
— Договорились.
Прочитал я рассказ, и началось. С тех пор прошло около двадцати лет, мне тогда было двадцать пять, и больше никогда, ни об одном из моих рассказов и романов не говорилось столько хороших слов. Я понимал, что на этот раз заслуженно, чувствовал, что от настоящей литературы рассказ отделяет всего один шаг. Но все говорили, что напечатать мне его удастся не скоро. Они оказались правы. Я послал его в «Новый мир» и получил хорошую рецензию Кондратовича с рекомендацией журналу — печатать (позже я узнал, что Кондратович был замом Твардовского). Главным в «Новом мире» тогда был Наровчатов, но он вскоре умер. Пришел Карпов, и через два года рассказ мне вернули. Я перебрался в Москву и снова решил предложить его в журнал. Послал в «Наш современник». Ходить по редакциям журналов и издательств я стеснялся. До сих пор чувствую неловкость, входя в комнаты отделов прозы. Мне кажется, что хозяева спросят, зачем я сюда приперся, и погонят. «Наш современник» откликнулся быстро, меня вызвали в редакцию. Фатима Бучнева встретила приветливо, удивилась, что я плотник и молод, сказала, что «Тамбовскую степь» они напечатать не могут, чтобы я показал другие рассказы. Пока я готовил другие рассказы, Бучнева ушла из журнала, а новых редакторов я не смог заинтересовать, хотя показывал всё, что писал. Рассказ «В тамбовской степи» я напечатал только через четырнадцать лет. Три книги вышло у меня в разных издательствах, из всех выбрасывали. Тогда я схитрил, включил его в роман «Заросли», как, якобы, написанный одним из персонажей Петром Антошкиным. Я не могу сказать, что он влился в роман органично, но, во–первых, очень хотелось увидеть его опубликованным; во–вторых, в романе мне хотелось показать жизнь нашего общества как можно шире. И этой цели он служил.
А в те дни юности мне очень хотелось напечататься. Хоть и признан я был в областной студии, но не чувствовал себя там комфортно. Почти все ребята печатались, а у меня ни строчки. Тогда я стал искать, чтобы такое написать, чтобы и мне было интересно и напечатать можно. Все редакции охотно печатали о рабочем классе. А я сам был рабочим, с ХТЗ я ушел, был паркетчиком на стройке. И решил я описать один день из жизни бригады паркетчиков. Придумал сюжет и написал повестушку «Хочешь, я расскажу тебе сказку…» В Харькове готовился сборник «Солнечные зажинки». «Тамбовскую степь» не хотели печатать, просили принести о рабочих. Закончил повесть я летом. Студии на каникулах. Сразу перепечатал и отдал в издательство. Там мне ответили: годится! Только сократим. Велика для сборника. Название изменим, назовем «Рачонок, Кондрашин и др.» Я обрадовался, тут же собрал свои рассказы, повесть, оформил в единую рукопись, в папку и по почте в Киев в издательство «Молодь». Осень, занятия в студии. Несу повесть на обсуждение. На ХТЗ раскритиковали. Я решил — не поняли! Подправил явные ляпы, и в областную студию. Ох, и потоптались там на ней! Стыдно было, что послал в Киев. Как там теперь надо мной потешаются!.. Ответ с рецензией и с рукописью пришел быстро. Редактор Иван Кирий писал, что рукопись им подошла, что рассказы они печатать не будут, берут одну повесть. Нужно заменить название. Если я за один месяц смогу дописать ее, увеличить страниц на тридцать–сорок, то книга может выйти в следующем году. Я был ошарашен. Повесть я уже выбросил, поставил на ней крест. И вдруг такое! И как ее можно увеличить? Всё, что хотел, я уже написал. Как быть? Неделю мучился, еще неделю обдумывал разные варианты, две недели писал–перепечатывал. И точно в срок отправил повесть, назвав ее «Всё впереди». Через полгода получил верстку, а через три месяца сигнальный экземпляр книги. В издательстве я ни разу не был, не знал, как оно выглядит. С редактором встречался только один раз, в Доме творчества в Ирпене, где проходила встреча двух студий — ХТЗ и киевского завода «Арсенал». Таких встреч студий было много. Книга «Всё впереди» вышла в рекордно короткий срок для молодого автора, ровно через год, как я отправил рукопись в издательство. Но повесть слаба, и в трехтомнике ее нет. Были на нее дежурные отклики, говорили и читали по радио, но говорили не о ее художественных достоинствах, а о том, что ее написал молодой паркетчик. Умалчивали о том, что этот паркетчик учится во втором институте. Но как бы эта повесть, на мой взгляд, ни была слаба, я до сих пор думаю, что правильно сделал, что опубликовал ее. С выходом книги родился новый литератор. Какой бы он ни был слабенький, а он есть, он существует, он подал голосок. Конечно, если бы с такой книгой вышел в свет сын интеллигентов, всосавший культуру с молоком матери, я не понял бы его. Но так сложилось, что имя любимого моего писателя Бунина, имя Лескова услышал я и прочитал в восемнадцать лет. Помнится, когда мне было уже за двадцать, я был оглушен тремя книгами, неделю после каждой под впечатлением прочитанного жил, не видел ничего вокруг. Это — «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита» и «Один день Ивана Денисовича». Очень поздно я открывал для себя мир настоящей литературы. У каждого своя тропинка! Главное, чтобы привела она к настоящим произведениям, к настоящей литературе. Кто помнит сейчас о моей книге «Всё впереди», кроме меня и двух–трех друзей, и кто ответит — был бы этот трехтомник, если бы не было этой повести, этой книги?
Вторая книга рассказов «Там, где солнечные дни» выходила в Харькове, как и положено, долго, переносилась из плана в план. Вышла, когда меня уже не было в Харькове, когда я поработал в Тюмени на строительстве железной дороги «Сургут–Уренгой» и перебрался в Москву.
В судьбе третьей, вышедшей в Москве в издательстве «Современник», интересен один факт: когда в реакции по работе с молодыми мне вернули рукопись с отрицательной рецензией, я, выйдя из редакции, вынул рецензию из папки и тут же отдал рукопись в редакцию прозы, в соседнюю комнату. Там вначале брать не хотели: молод, не член Союза писателей, но, узнав, что у меня две книги, взяли. Рецензировали дважды. И оба рецензента хорошо отозвались о ней. Книга вышла без приключений. Думается, помогло то, что журналы начали меня печатать.
Произошло это неожиданно. Я, конечно, стучался в двери журналов, но мне их не открывали. Никто за мной не стоял, я не стремился искать покровителей, чтобы замолвили за меня словечко, могли протолкнуть рассказ — стыдно было. Я не принадлежал ни к каким литературным кланам: критики ни с той, ни с другой стороны не включали мое имя в обоймы — я считал, что пока не достоин, что те, кого включают, талантливее меня. Вспомнил сейчас о том времени и подумал: нам уже всем за сорок, а где же произведения тех, кого включали в обоймы лет пятнадцать назад, где они? Нет, сами–то бывшие молодые писатели все живы и здоровы, я человек общительный, лично знаком почти с каждым, а книг нет. Желаю одного: дай Бог им хороших книг! От этого русская литература только станет богаче.
Однажды получил я телеграмму из журнала «Знамя» с приглашением зайти в редакцию. Я тогда работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», поступил я туда с улицы, по конкурсу, помогли уроки литстудии ХТЗ, где я научился неплохо разбирать произведения. Получил телеграмму и удивился. Я ничего не давал в журнал. Решил, что хотят пригласить меня на работу. Дело в том, что в издательстве я как–то сразу приобрел славу хорошего редактора, опять помогли уроки Гельфандбейна. Через полтора года профсоюз издательства решил, что по итогам года я — лучший редактор в своей редакции. Меня стали зазывать на работу в журналы и издательства с повышением. Потому–то я и подумал, что «Знамя» предложит мне работу. Но я ошибся. Недавно я отнес рукопись очередной книги в издательство «Московский рабочий», и ее отдали на рецензию заведующей отделом прозы журнала «Знамя» Наталье Ивановой. Рукопись она одобрила, а одну повесть решила предложить в журнал. Для этого она и вызвала меня. Повесть «В новом доме» была напечатана. Ни мне, ни журналу славы она не принесла. Но никто не знает, какое значение для моей литературной работы имеет публикация этой повести в «Знамени». Я научился писать. И научили меня редакторы журнала. Нет, они не задавались такой целью. Они просто были добросовестными редакторами, черкали мою повесть вдоль и поперек, вначале редактор, потом Наталья Иванова.
Они черкали, а я внимательно следил, что вычеркивают, не возражал. Видел, они правы, текст становится лучше. Никто еще не редактировал так мои вещи. Мне было стыдно перед ними, что я так плохо пишу, что они думают: какой я слабак! Вряд ли читала Наталья Иванова после этого хотя бы одну мою строчку, и вряд ли знает, что я больше не пишу так, как писал.
Повесть «В новом доме» стала первой частью романа «Заросли», вошедшего в первый том сочинений, и вы, вероятно, обратили внимание, что из пяти частей романа первая — самая неинтересная. Я хотел ее вообще исключить, но решил, что главный герой Иван Егоркин потеряет кое–что, если лишить его доармейской жизни.
Я понимаю, что «Заросли» — не лучшее, что я написал, лучшее, на мой взгляд, — это роман «Время великой скорби. Эпизоды из жизни тамбовской деревни». Написал я этот роман тогда, когда, порвав с «Молодой гвардией», оказался на вольных хлебах. Эти полтора года оказались самыми плодотворными. Я дописал романы «Заросли» и «Трясина» и написал первую часть романа «Время великой скорби», написал и направил с оказией в «Континент» и в «Грани». Владимир Максимов ответил, что будет печатать главы из романа, спросил, какие книги у меня вышли: он хочет познакомиться со мной поближе, посмотреть книги в парижской библиотеке. Я засмеялся: откуда мои книги в Париже, сказал, что вот–вот выйдет мой роман «Заросли», и я непременно пришлю ему. Мне было приятно, когда шло по телевидению первое интервью с Владимиром Максимовым и всё время, в кадре, на столе перед ним была моя книга «Заросли». Вскоре я стал директором издательства «Столица» и хотел печатать в издательстве книги Владимира Максимова и журнал «Континент».
Как горько, что не получилось ни того, ни другого! Об этом я уже рассказал в документальной повести «Предательство». А разные главы из романа были опубликованы одновременно в «Континенте» и «Гранях».
Я все время жаждал одного: научиться, научиться писать по–настоящему, чтобы тексты мои были художественными, чтобы читатели за моими книгами испытывали такие же чувства наслаждения, печали, счастья, какие вызывают у меня книги Бунина и Виктора Лихоносова. Мне хотелось знать, чего мне не хватает для этого, где искать, что делать? Я жаждал найти учителя, который откроет мне глаза. Я знал, что молодые ребята посылают свои вещи мастерам, но мне было стыдно за свои неуклюжие вещи. Но когда я уехал в Сибирь, в тайгу, остался без литературной среды, я рискнул, отправил рассказы Валентину Распутину и получил короткий вежливый отказ: завален рукописями, некогда читать. Я представил, как ему со всех сторон шлют рукописи такие же, как я, и если все читать и отвечать, то вряд ли у него останется время для своих книг, и не огорчился. И всё же хотелось знать мнение мастера слова — на правильном ли я пути? Как мне работать дальше? Тогда мне было двадцать семь лет, и была у меня одна книга. Я снова рискнул, послал рассказы Виктору Астафьеву и удивительно быстро получил ответ. Буквально через две недели. Астафьев писал, что у меня есть нюх и слух, что литературная судьба моя только в моих руках, нужно работать, работать так, «чтоб зад трещал и шатало», когда поднимаешься из–за стола. Я был счастлив, окрылен поддержкой Астафьева. Я на правильном пути, а работать я любил, писать мог в любых условиях, научился отключаться, не слышать и не видеть, что происходит вокруг. Первую книгу написал в читальном зале, вторую — в Сибири в холодной комнате общежития, сидя на кровати в валенках, в телогрейке и в ватных брюках, зажав между ног тумбочку: стола не было.
Однажды я писал на тумбочке, а рядом со мной ребята, с которыми я жил в комнате, попьянствовав, затеяли избивать своего приятеля. Они не мешали мне писать, а я не мешал им учить приятеля быть справедливым. Они меня уважали. Кстати, я был рабочим во многих местах, все знали, что я пишу, скрыть трудно, и относились к этому моему занятию просто, никогда не пытались вышучивать меня, иронизировать. Третью книгу я написал, лежа в кровати на животе, подложив для удобства под грудь подушку. Жили мы с женой в крошечной комнатушке. Стол поставить негде. Помнится, однажды я писал лежа, а маленькая моя жена забралась мне на спину, свернулась клубком: слышу — уснула. Я писал, а она спала, согревая меня своим теплом, как котенок.
А кинодраматурга из меня не получилось, хотя во ВГИКовском моем дипломе написано, что по специальности я кинодраматург. Я писал киносценарии и заявки, носил их в киностудии, но всюду отказ, отказ, отказ. И вдруг — взяли. Я написал по повести Владимира Кучмия «Я — гонщик» заявку на сценарий спортивного фильма. Ею заинтересовался «Мосфильм». Нашелся режиссер. Пригласили меня на встречу с ним. Шел с трепетом. О том, как ведут себя режиссеры со сценаристами, ходили по ВГИКу разные истории. Рассказывали, как одна выпускница ВГИКа во время работы с режиссером, после каждой встречи с ним, одиннадцать раз!, ложилась в больницу с нервным истощением. Мой режиссер тоже оказался жестким, уверенным в себе. Один фильм его высоко отмечен был на Международном кинофестивале в Венеции. Мы договорились писать сценарий вместе. Я пишу, он исправляет. Работаем пока по одному. Сделали первый вариант, представили на «Мосфильм». Обсудили его там, сделали Замечания и вернули нам на доработку. Все шло по плану. Дорабатывать решили вместе в Доме ветеранов кино в Матвеевском. «Как мы будем работать? — волновался я, вспоминая ту сценаристку, которая многократно ложилась в больницу. — Не придется ли и мне вызывать скорую!» Я не ошибся. В конце первого дня работы над сценарием, вечером, мне пришлось вызвать скорую помощь: у режиссера случился сердечный приступ. Дорабатывал сценарий я один. Доработал, представил на «Мосфильм» в срок. Там его приняли, выплатили деньги и запустили в производство. К тому времени режиссер оклемался. Нужно было писать режиссерский сценарий. Мы договорились писать его вместе. На этот раз у режиссера случился инфаркт, а режиссерский сценарий писать я не умел. Там своя специфика: метры, кадры, секунды. Пока режиссер выздоравливал, фильм выбился из графика и вылетел из плана. Так он и не появился на экране. После этого я еще раза два толкнулся в дверь киностудии и уступил дорогу другим. Не моё.
Мне сорок три года. Самый плодотворный возраст для прозаика. Кое–что я уже написал. Три тома перед вами. Я не подвожу сейчас даже предварительных итогов — ведь заложен всего лишь фундамент. Дом пока только в моем воображении: никто не видит, никто не знает, каким он будет. Не знаю этого и я. До воплощения его путь не близкий. Сколько изменений, сколько уточнений произойдет за годы строительства! А сколько работы! И радостной, и мучительной…
Или так: корабль построен, спущен на воду, корабль у причала. Пора в путь! Какая будет дорога, какие приключения ожидают меня в пути, покажет жизнь. Я надеюсь, что со мной всегда будет Бог! В путь! В путь!
Москва. Сентябрь 1992 г.
Комментарии
ТРЯСИНА. Эпизоды из жизни строителей. Роман. Задуман в 1978 году как киносценарий под названием «Озеро погибшего оленя». Написан киносценарий в 1979 году и представлен во ВГИК для защиты диплома. В том же году началась переработка киносценария в роман. Первая часть романа под названием «Тихие дни осени» была опубликована в издательстве «Современник» в одноименной книге в 1985 г. Полностью печатается впервые.
Роман входит в цикл «Красная паутина».
ЗЫБКАЯ ТЕНЬ. Повесть. Первый вариант повести написан в 1976 году, переработана в 1982 году. Впервые опубликована в журнале «Литературная учеба» № 3, 1986 г., затем в издательстве «Московский рабочий» в ежегоднике «Поединок—14». В 1988 году включена в книгу «День и вечер» того же издательства.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО, или Скандал в «Столице». Документальная повесть. Написана в феврале 1992 года. Впервые опубликована в газете «Московский литератор» № 12–14, 1992 г. В книгах не печаталась.
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. Рассказ. Написан в 1976 году. Впервые опубликован в книге «Там, где солнечные дни», «Прапор», 1980 г., перепечатан в книге «Тихие дни осени», «Современник», 1985 г.
КИСЕЛЕВ. Рассказ. Написан в 1981 году. Впервые опубликован в книге «Тихие дни осени», «Современник», 1985 г., перепечатан в книге «День и вечер», «Московский рабочий», 1988 г. под названием «Деловой визит».
В ПРИЕМНОЙ. Рассказ. Написан в 1982 году. Впервые опубликован в книге «Тихие дни осени», «Современник», 1985 г.
СЛАВИК ЗАХАРОВ. Рассказ. Написан в 1972 году. Впервые опубликован в книге «Там, где солнечные дни», «Прапор», 1980 г., перепечатан в книге «Тихие дни осени», «Современник», 1985 г.
ШУТОВ ПАЛЕЦ. Рассказ. Написан в 1971 году, переработан в 1973. Впервые опубликован в книге «Там, где солнечные дни», «Прапор», 1980 г., перепечатан в книге «Тихие дни осени», «Современник», 1985 г.
МИЛОЧКА И ГВОЗДОДЕР. Рассказ. Написан в 1982 году. Впервые опубликован в журнале «Подъем» № 9, 1983 г., затем в книге «Тихие дни осени», «Современник», 1985 г.







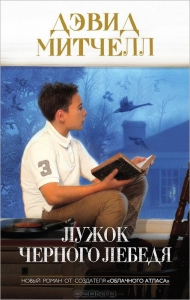
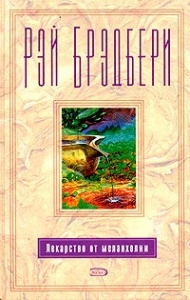

Комментарии к книге «Петр Алешкин. Собрание сочинений. Том 3», Пётр Фёдорович Алёшкин
Всего 0 комментариев