Игорь Вишневецкий НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО (сборник)
© Вишневецкий И., 2018
© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2018
I. Неизбирательное сродство (Роман из 1835-го года)
Автор благодарит за консультации
Стефано Гардзонио (Флоренция),
Сергея Завьялова (Винтертур),
Габриэлу Импости (Болонья),
Сергея Каринского (Москва),
Игоря Курникова (Питтсбург),
Константина Лаппо-Данилевского (Санкт-Петербург),
Артёма Ляховича (Киев),
Илью Семененко-Басина (Москва).
Глава первая. Пароход «Николай I»
В 4 часа утра 25 мая 1835 года (старого стиля; в землях, куда все плыли, уже был июнь), когда раннее солнце, пробиваясь сквозь просветы серых и волнистых облаков, уже освещало прохладную рябь Балтийского моря, пироскаф Общества Санкт-Петербургского и Любекского Пароходства «Николай I» покинул кронштадтский рейд.
Всю ночь не снимались с якоря, ждали столичной почты. Наконец подошла шлюпка с тяжёлыми чемоданами, якорь был поднят, лопасти колёс ударили о воду, и, выдыхая длинный шлейф дыма из своей высокой трубы, «Николай» начал путь к Травемюнде.
Нам он показался бы маломощным, почти что игрушечным — первым классом плыло всего несколько десятков пассажиров; в общей мужской каюте военные, на службе или в отставке, а ещё купцы, художники и учёные; в общую женскую никому, кроме самих пассажирок, доступа не было, и о составе мы достоверно не скажем; семьи вынуждены были на время путешествия разлучаться; а ведь имелись ещё классы второй и третий — для низших сословий и прислуги; но всем, кто на том пироскафе плыл, он мнился волшебной махиной, даже махинищей, громкой победой над волей стихий.
Путешествовал ли ты, любезный читатель, в шкапу?
Аристокрация прошлых веков предпочитала в них спать. Нам же, любителям воли и свежего ветра, этот обычай кажется странным. Быть запертым в ящик, в этакий полугроб, как съязвил один из плывших на пароходе, на целую ночь?
Теперь представь, мой читатель, что множество оных шкапов, по два длинных и узких спальных ящика в каждом, один над другим, стоит по периметру каждой общей каюты; и новой, денежной аристокрации, платящей по 250 рублей за место первого класса, предстоит провести в сих временных склепах четыре ночи, чтобы к началу пятой выйти из них, точно Лазарям, на свет маяка Травемюнде, означающий окончание не Бог весть какого удобного плавания.
Все спальные ящики жёсткие, и бока твои чувствуют волны и каждый толчок пироскафа. Впрочем, качка в начале пути оказалась несильной, а ход колёс скоро установился, и любой из пассажиров мог спать до самого завтрака.
За завтраком, объявленным в девять утра и устроенным в общей мужской каюте, плывшие на «Николае» впервые взглянули в лицо друг другу.
Переезжали вчера на корабль от Коммерческого клуба, что на Английской набережной, — несколькими компаниями на меньшем пароходе «Ольга»: с родными, с друзьями, с поклажей, под громкие восклицания, лобызания и хлопки откупориваемых бутылок игристого — и всем было не до того.
И вот, когда после завтрака вышли на палубу «освежиться» — прохладным дыханием ветра, а многие из мужчин и сигарами, — первой заговорила пассажирка лет двадцати четырёх. Судя по свободе обращения, она долго жила за границей, а возможно, и выросла там и теперь возвращалась в края, где жила, из не очень понятного ей Отечества:
— Вот, господа, результат улучшений: всего через несколько дней мы будем в Германии. Но скорость пути не делает нас понятней и ближе друг другу. Мы плывём из России заклеенными и запечатанными, как письма в почтовых чемоданах. Мир спешащих посланий, государство вопросов без внятных ответов — таким, вероятно, и будет будущее, так радующее глупцов.
— Всё-таки мы молчим не оттого, что нам нечего уже сказать друг другу, а просто ещё не обвыклись, — заметил на это один из военных, стоявших на палубе, и, словно в приступе словоохотливости, нередко овладевающей нами в малознакомом обществе, продолжал: — Да и не первая это дальняя прогулка для нашего брата. Доводилось ли вам, господа, бывать за Балканом?
Таковых не нашлось.
— Что ж, мне плыть с вами меньше чем половину пути, потому позабавлю историей, — продолжил военный. — Рассказ мой может быть сбивчив; я не литератор, хотя и люблю почитать на досуге. Да и годы, проведённые в Благородном пансионе при Московском университете, особенно с древними авторами, думаю, оставили след. Итак, вот что со мной приключилось за Балканом. Шесть без малого лет назад, когда наши войска вошли в Адрианополь, именуемый среди турок Эдырне — в город, рисовавшийся мне, зелёному уланскому офицеру, этаким памятником императору, написавшему перед смертью стихи о душе нашей страннице (как видите, чтение древних мне памятно), — уже который день стояла изнуряющая жара. Если вы никогда не бывали в Европейской Турции в августе-сентябре, то этого вам не представить. Военная кампания складывалась блестяще: разбитая армия неприятеля укрылась на севере, в Шумле, надёжно запертая там корпусом генерал-лейтенанта Красовского; мы же стремительно маршировали на юг. Поход и непривычный климат изнуряли войска сильней, чем прежние боевые стычки. Восьмого августа при нашем приближении гарнизон Эдырне бежал, население вышло навстречу. До Константинополя оставалось не более двух дневных переходов. Главнокомандующий Иван Иванович Дибич распорядился, чтобы самые боеспособные части, конные и артиллерийские, занимали просторные двухэтажные казармы, выстроенные османами на европейский манер, и готовились к отдыху. Я, как и все, был страшно этому рад. От климата, от смертельной усталости, да и просто от того, что мы не были готовы к столь необычной стране, в армии, особенно среди пехоты, начинались эпидемии. Некоторые из частей попали в карантин, и мы ежедневно теряли от заразы больше, чем в недели победных боёв. Тех же, кто, как я с моими донцами, оставался здоров, уже через день отправили в разъезды, впрочем, вполне безопасные. На всём пути от Эдырне до Константинополя угроза исходила разве что от лихих людей, да и тех было немного. Управление занятыми нами территориями приводилось к единому знаменателю, и даже разбойники вели себя осторожно. Мы ожидали скорого мира.
В Адрианополе я был особенно впечатлён обычаями и предрассудками болгар, греков и турок. Прежде мы в общение с местным населением не входили: граф Дибич запрещал отягощать подданных Турецкой империи постоем и просьбами. Но сейчас, когда было ясно, что они не против нас, мы, военные, без опаски стали с ними общаться. И тотчас же выяснилось, что обыватель живёт во власти фантомов. Вы, вероятно, слышали, господа, что именно за Балканом рассказывают о существах, питающихся кровью и свежей падалью. Иногда в том уличают целые семьи и даже селения. Турки именуют их «гулями». Мы, оставлявшие за собой убитых в бою и умерших от эпидемий, слышали немало таких рассказов от местных, объезжавших всегда стороной недавние наши захоронения, особенно в сумерки, говоря, что те баснословные гули воют и бесчинствуют там, разрывая землю когтями, как псы или вороны. Греки, как и болгары, верят, что падальщики питаются свежей, не успевшей свернуться кровью, в которой сохраняется жизненная сила. Врач Байрона Джон Полидори описал эту веру как медицинский факт. Казалось бы, вздор, господа. Думалось так и мне.
Вообще на посмертие, как и на жизнь свою, местный житель смотрит с обречённостью раз и навсегда решённого дела.
И потому окрестности Адрианополя навевали на меня глубокую меланхолию: бесконечные холмы, покрытые белыми могильными плитами, равнодушное царство смерти и сна, повсюду колючий кустарник и невозделанная земля, за исключением садов вдоль русла реки Марицы, вплоть до слияния с Сунджей, где повелением Адриана и был заложен город. От того древнего остались развалины стен да несколько греческих и латинских надписей. Эдырне стёр римское прошлое в пыль. Вот мы подъехали к перекинутому через реку мосту, сложенному из римских ещё — вероятно — плит и камней. Оттуда хорошо видна мечеть султана Селима, что радует гармонией форм: полусферических, эллипсоидных, с четырьмя устремлёнными вверх минаретами. Между тем прообраз её, господа, — Святая София. Христианские церкви низки и словно насильственно вдавлены в землю. Во многих домах выдаются вперёд этажи второй и третий, совсем как в древнем строительстве — в той же Помпее. Переборчатые ставни распахнуты в сладкую тень или плотно замкнуты, если в окно светит солнце. Бог весть что за такими ставнями творится. Вот площадь фонтана — а фонтан для адрианопольца и развлечение, и источник прохладной чистой воды. Мужчина с коромыслом через левое плечо несёт два узких, пустых ведёрка; женщины с лицами полу- или и вовсе прикрытыми о чём-то беседуют у навеса фонтана либо шествуют поодиночке, спокойной и важной походкой через площадь с кувшинами на головах. А некоторые турки, постелив короткие рогожи прямо на плитах — ими вымощена вся эта площадь, — с курительными трубками в руках молча рассматривают мимо плывущую жизнь: торопиться-то некуда. Улицы, расходящиеся от площади, узки; вдоль улиц — лавки, где тут же тебе что угодно смастерят и починят; рядом кофейные дома. Зайдешь в любой — молчаливые турки снова курят там вечные трубки свои и в молчанье пьют кофе: степенно и важно, час, другой, третий, трубку за трубкой и чашку за чашкой; изредка завяжется негромкая беседа. Зачем торопиться, обсуждать что-то со страстью, если ты заплатил хозяину за право ничего тут не делать и имеешь свой кейф? А между тем и мне уже несут зажжённую трубку или кальян, а за ним и кофе, и ласково спрашивают, чем ещё услужить. И это не потому, что заходит спешившийся русский кавалерийский офицер со свитой молодцов, а потому, что тут заведено так для любого входящего.
И вместе с тем от всего этого ощущение медленно затягивающего водоворота, хуже — ведущего в ничто, в пустоту лабиринта. «Эдырне-то завоевали, но нам он, пожалуй что, и не нужен», — думалось мне.
Как-то на выезде из города у моста старик, как многие куривший на разостланной прямо на земле рогоже, изъяснявшийся неплохо по-русски, видимо, потому, что бывал не раз в нашем плену, говорит, что сегодня лучше нам далеко не ездить; что возвращающиеся с окрестных холмов видели тех самых бесчинствующих, которых увидишь — потом не забудешь; но Всевышний, конечно, велик и правильно определит нам дорогу. Не веря таким предрассудкам, мы в сумерки на обратном пути проехали мимо этих бесконечных кладбищенских холмов и застали и вправду прежде не виданное. Кони странно зафыркали и, косясь на сторону, стали. На некотором отдалении, саженях в пятидесяти, две фигуры, сгорбленная и молодая, что-то выкапывали из-под земли. Кажется, по наряду это были женщины. Хотя кто местных разберёт, особенно в сумерки — и мужчины, и женщины здесь обряжаются очень похоже: штаны, сорочки, короткие безрукавки. Рядом с заступом, которым он двигал плиты, стоял распрямясь некто третий — по осанке скорее мужчина. Лиц гробокопателей было и вовсе не разглядеть. На нас они не обращали никакого внимания, и что-то ненастоящее, призрачное, театральное, оперное почти было в самой этой сцене. Не хватало оркестра и трёх слившихся в концерте голосов: баритона, сопрано, контральто.
«Как знаешь, ваше высокоблагородие, а я б ехал к нашим. Бережёного Бог бережёт», — негромко сказал мне один из казаков, дюжий Платон.
Указаний вмешиваться в местные дела у нас не было, и мы двинулись прочь, опасливо оглядываясь. Когда достигли казарм, луна стояла уже высоко. Я отправился к приятелю своему артиллеристу и проиграл у него в штос до утренней зари; однако увиденное не шло из головы.
Наконец 2 сентября был подписан мир, и некоторым офицерам, до эвакуации войск, было дозволено в виде послабления поселиться у местных. Тот самый игрок в штос, отчаянно храбрый капитан от артиллерии, который сдавал или понтировал всякий раз, когда выдавался час-другой между вылазками, а иногда просиживал за азартной игрой ночь накануне боя — а в любом из боёв его могло разорвать на куски или покалечить ядром, или изрешетить пулями, — тот самый боевой мой товарищ, к которому я пошёл развеяться после виденного в дозоре, чуть не сразу отправился на постой в семью болгар, откуда являлся в урочное время к подопечным своим батарейным. Для него это было ещё одно приключение, даже вызов обстоятельствам, которого искала его азартная натура. Я же остался в казармах с казаками.
Болгарская семья, в которой он поселился, имела одно преимущество перед казармами: у старого Атанаса росла дочь, строго воспитанная, но необычайно хорошая собой — не цветущей, а бледной, ещё не распустившейся красотой. На какое-то время я потерял картёжного приятеля из виду, продолжая изредка выезжать с казаками за пределы Эдырне, но ничего примечательного более не случалось. Войска обвыклись с балканским климатом, убитых и умерших от неизлечимых болезней похоронили, легкораненые стали выздоравливать, а эпидемии утратили свирепость. Времени перед отправкой домой теперь у всех было много — и я, чтобы убить его и тщательно избегая ненужных приключений, осматривал то, что уцелело в городе от римской и греческой древности. Списывал в небольшую тетрадь начертанное на вмурованных в стены плитах, срисовывал обломки немногих скульптур, мне показанных, случайно откопанные при улучшении и перестройке домов и после вмурованные в их стены, — дабы при возвращении позабавить учёных друзей моих, избравших мирные поприща. А когда всё, что попалось мне на глаза, было описано, срисовано, занесено в каталог, — я перешёл на беседы с лавочниками, на сидение в кофейнях пополудни, на фонтанную площадь ближе к вечеру. Так как во время конных прогулок моих я довольно высоко сидел в седле, то заглядывал, когда мог, и через заборы во дворы жилищ. Там и происходила жизнь, содержание которой было лучше укрыто от посторонних глаз, чем у любого из запечатанных писем, что вместе с нами плывут на пароходе. Оказалось, почти в каждом дворе росло по невысокому ореху или иному плодовому дереву, вода текла по аккуратно выложенному желобку, или, во всяком случае, желобок такой для проточной воды имелся, а женщины, непривычные покидать дома свои, поглядывали на меня, уланского ротмистра, из-за каменных заборов с не меньшим интересом, чем я на их вполне для меня загадочный быт. В одно из утр капитан не явился к батарейным, и меня с казаками отправили к старому Атанасу с категорическим выговором нарушителю и с требованием доставить его к месту несения службы хоть под конвоем. Вот узкая улица в христианском квартале, вот однообразная каменная стена, словно это не забор нескольких жилищ, а стена крепости, вот несколько похожих одна на другую калиток в стене. «Здесь», — говорят памятливые донцы, помогавшие офицеру перевозить его нехитрый скарб. Я стучу в калитку несколько раз. Она заперта изнутри. Приходится Платону и остальным высаживать её. Каково же наше изумление, когда посреди двора мы видим, как в дурной романтической повести, артиллерийского нашего капитана в разорванной на груди рубахе, с глубокими следами не то от когтей, не то от зубов, похожих на волчьи, залитого кровью, без сознания. Окна и двери дома настежь распахнуты, слабый ветер, случающийся пополудни, шевелит ткани, негромко шумит в кипарисе. Помню, меня поразило, что во дворе росло не плодовое дерево, а кладбищенский кипарис. Дом по осмотре в полном порядке, но хозяев и след простыл. Промыв из найденного тут же — будто нарочно оставленного — кувшина раны и наскоро перевязав, кое-как пристраиваем раненого на моей лошади, везём в лазарет. И лишь к вечеру, когда он приходит в себя, я узнаю историю, столь же дикую, сколь и поучительную.
Дом его хозяев показался рассказчику много древнее большинства домов в городе: он был сложен из обтёсанных камней и обломков, собранных от прежних строений. Вероятно, средств заказать новые у строивших не было. Например, при кладке стены, глядящей во двор, в неё вмурованы были две полустёртые мраморные плиты, коих вокруг Адрианополя тьма. «Видел ли ты, что на них?» — спрашивал меня товарищ. Нет, я не успел осмотреться. На одной плите, по его рассказу, изображена была босоногая девушка со спины: вытянутая рука её держит сорванный цветок гиацинта; на другой некто на запряжённой четвёркой коней колеснице («Совсем как наши батарейные», — добавил рассказчик), мрачный и бородатый, умыкает ту же девушку, выкинувшую в прощальном жесте руку, из которой выпадает цветок, а впереди упряжи — смешной бегун в плоской шляпе, в крылатых сандалиях. В руках у бегуна — палка. «Тебе бы понравилось; жаль, что не видел».
Семья, принявшая его, была очень странной. Старик Атанас, чересчур нелюдимый для болгарина и христианина, обычно, когда сидел дома, дремал на крыльце либо молча смотрел себе под ноги, отвечал на расспросы немногословно. Это поначалу рассказчику даже нравилось. Язык болгарский был не очень ему ясен, но при медленном произнесении оказался ничуть не сложней языка Малороссии. Через какое-то время товарищ мой сам стал рассказывать своим молчаливым хозяевам, не ездившим далее Константинополя, о жизни северных наших столиц, которая была так мила ему. Двигал им в этих рассказах азарт добиться своего, и он почти его добился. Дочь Атанаса Кора (имя такое, я думаю, было б приличней гречанке) поначалу слушала из сеней, потом стала выходить на крыльцо, а потом уже оказалась с рассказчиком за одним столом. Впрочем, трапеза в доме была тоже странной. К еде прикасались лишь трое — отец Атанас, дочь Кора да их постоялец. Мяса не было, и мать старуха Смилена появлялась только затем, чтобы состряпать какое-нибудь блюдо из овощей со специями. Мой товарищ решил, что это какой-то неведомый пост. Впрочем, икон он в их доме не видел и предположил, что те просто спрятаны от посторонних глаз. Соседи, как только рассказчик к ним обращался, запирали калитки. Изнурённый молчанием, климатом, близостью миловидной девушки, ради которой он тут поселился, капитан решил, что в нём пробуждается чувство. Такое часто бывает от праздности. Ведь писал же о подобных страданиях римский поэт:
Праздность, мой Катулл, всё свербит в тебе — лишь от неё восторг твой, твоя услада. Праздность сокрушала царей и грады, полные блага[1].Девушка тоже к нему проявляла внимание, особенно когда за столом их руки невольно касались одна другой, задерживаясь дольше обычного. В доме этом, как я говорил, господа, ели только фрукты и овощи. Однажды подали к столу тарелку гранатов, и товарищ мой разрезал их ножом, а Кора выбирала понравившиеся ей зёрна. Почему-то в этом он увидел особенный знак. И вот, оставшись с ней одной во дворе, осмелился быть решительней. Кора не сопротивлялась, наоборот, была как-то странно покорна. Сказала лишь, что сейчас ей вот надо идти к подругам, но чтобы непременно ждал её вечером. Когда вернётся, они обо всём поговорят. Бледное лицо, чёрные влажные глаза, черные волосы, странно бледные губы, прикрываемые рукой, на которой по варварскому здешнему обычаю были ярко выкрашены ногти, казалось, выдавали смятение, и товарищ мой решил проследовать за Корой: он почти нагнал её в оживлённой части города. Девушка шла с прикрытыми по местному обычаю головой и лицом, так что узнать её было возможно лишь по походке да одежде: не оборачиваясь, прочь из христианских кварталов — вероятно, за город, в сторону кладбищ. «На дорогую могилу, — подумал артиллерист, — мы и сами в России их навещаем». И повернул обратно. Солнце садилось. Вернувшись, он задремал, а проснувшись ближе к полуночи вышел во двор, где в духоте многозвёздной и тёмно-синей ночи, какие всегда бывают на полуденных широтах, его ждал кувшин прохладной воды (хозяева уже выучили, что русские, особенно военные, любят окатывать себя холодной водой). Тут он почувствовал, что, несмотря на темень, он не один. Обернулся. Полуодетая, с распущенными волосами сзади него стояла Кора и, как ему показалось, собиралась что-то сказать, о чём-то предупредить. Через мгновение он почувствовал удар по затылку, будто обухом, и что-то острое, как крючья, впилось с разных сторон в его тело. Бледное, не изменившееся лицо простоволосой Коры с влажными чёрными глазами, бескровными губами, глядело куда-то в сторону, и она повторяла: «Я всё исполнила; всё исполнила».
Теряя сознание, он подумал, что это ошибка и такого вот просто не может происходить. Особенно с ним.
«Как же всё просто. И как я рад, что сумел рассказать тебе это. Дай мне слово, что ты не будешь глупцом и не станешь играть с неизвестным. Только бы тело поправилось, только б поправилось…» Товарища моего уже жестоко лихорадило. Он умер через несколько часов. Похоронили мы его отдельно от городских кладбищ — в общей русской могиле.
Конечно, было назначено расследование — убийство русского офицера случай не рядовой, но хозяев, как я уже говорил, след простыл и в успех такого расследования, особенно накануне ухода армии нашей из Турции, я особенно не верил.
На этом историю можно было бы и завершить, присовокупив, что наваждения в избранных точках пространства принимают всегда сообразную местным обычаям форму, и всё, что произошло тогда в Адрианополе с моим артиллерийским капитаном, да и со мной, было следствием переутомления, результатом столкновения с незнакомой действительностью, что даже ложная болгарская семья были просто местными душегубцами, коих тут промышляло немало, о которых предупреждал нас старик у моста через Марицу.
Однако то, что я увидал на следующий день, уже после похорон незадачливого капитана, заставило меня переменить мнение относительно того, было ли случившееся чистым наваждением.
Вновь, в последний уже раз, послали меня вместе с донцами в разъезд. Возвращаясь, я решил проехать место, где похоронили несчастного, проигравшего в штос собственной судьбе. Солнце уже садилось, до города было рукой подать. Кони наши снова заволновались и зафыркали, как они волновались в тот прошлый раз, и этого уже было не объяснить игрою смятенного разума. Там, где мы закопали в сухую землю моего сослуживца, возились с лопатой и заступом две женские фигуры — матери и дочери. Их было легко узнать. Движенья их были не как у людей, а скорее как у вставших на задние лапы собак. Не хватало только рычания. Рядом с ними, сгорбленный и оскалившийся, озираясь по сторонам и оберегая их общее тёмное дело, стоял, покачиваясь, точно на задних лапах, — отец. Я глянул на бывших со мною казаков. Они онемели. Думаю, мы смогли бы справиться с шайкой утративших человеческий облик, а может быть, никогда не бывших людьми существ, довольно легко. Но, господа, не знаешь опасности, пока не ввяжешься в дело. Когда мы к ним стали приближаться, шайка как в воздухе растворилась, а когда обернулись — она оказалась уже позади нас; несколько раз мы меняли направление движения, несколько раз они исчезали и оказывались на том же расстоянии, но в противоположной стороне. По здравом размышлении я понял, что хватит с нас и одной жертвы.
«В город, ребята», — скомандовал я. Через четверть часа мы были уже у казарм.
На следующий день вышел приказ покидать Адрианополь.
Император, от которого в этом месте не удержалось ничего, кроме имени, горевал перед смертью:
Бродяжка, душенька милая, прислуга и гостья телу… —и, казалось мне, речь тут шла и о бесприютной душе моего боевого товарища, уцелевшего под турецкими ядрами и пулями, но ставшего жертвою собственной бесшабашности:
…в какое уходишь ты место, вся сжавшись, нагая и бледная, уже без привычных шуток?То есть, господа, император Адриан спрашивал у набедокурившей души: «Дальше-то куда нам податься?» Как видите, и служакам есть про что рассказать.
— Хорош же ты врать, Тарасов, — громко и весело произнёс один из гражданских, бывших на палубе, — зря ли Антон Антонович отбирал у тебя во время ночных обходов романы. Как прав был старик: читай только то, что даёт пищу логике, а не воображению!
— Ба, да это ты, Сергей, вот так встреча!
Слова эти разрядили напряжение, и даже смешок пробежал среди слушавших. А потом, как всегда бывает по окончании чьего-то рассказа, все заговорили друг с другом. Между тем у старых знакомцев шёл уже свой разговор.
— Признавайся, Тарасов, это ты проиграл всю кампанию в штос. А историю про семейку вычитал, как водится, у каких-нибудь немцев.
— Дай-ка я лучше тебя обниму! — И Тарасов действительно крепко обнял говорившего. — Эх, друг мой Корсаков, лишь погружением в себя самих, лишь слиянием внутреннего и внешнего познаём мы подлинное «я». Так учит мюнхенский твой мудрец? А что скажешь про разграничение воображения и логики? Не преодолевается ли и оно интроспекцией тоже, а?
Так бы они дружески пикировались ещё некоторое время, если бы стоявший чуть поодаль молодой человек лет двадцати двух, со светлыми вьющимися волосами, не покрытыми шляпой, которую он мял в руках, слегка щурившийся на рябь Балтийского моря и притом прислушивавшийся к их разговору на уважительной дистанции, не обратился к ним напрямую:
— Я поступил в Благородный пансион много позже вас, господа, и вы, вероятно, совсем обо мне не слыхали, но я о вас много наслышан. Счастлив буду представиться.
Юноша оказался князем Эспером Лысогорским. Пять лет он провёл на службе в Архиве Министерства иностранных дел, что расположился в толстостенном доме Украинцева в Хохловском переулке. Теперь, неожиданно выйдя в отставку, он ехал за границу по срочному вызову дяди. Фамилия Лысогорских — древняя и славная, и молодой Эспер был самым младшим в роду, наследником того, что собиралось и делалось многими. Тут два старые товарища переглянулись, будто хотели что-то сказать, но потом, поблагодарив князя за откровенность и выразив удовлетворение приятным и неожиданным знакомством, продолжили прерванный разговор.
Обед и объявленный в четыре часа полдник прошли, как и завтрак, в общей мужской каюте первого класса в молчании и в утомлении от непрекращавшейся качки. После полдника на палубу «Николая» вышли только мужчины — каждый выкурить по сигаре. Слабые ветер и качка продолжались. Не курили лишь двое — князь Эспер и чем-то неуловимо на него, как брат, похожий и при этом совершенно иного склада, коренастый и темноволосый, с артистически длинными волосами, на два года младший его, малоросс Пылып Вакаринчук, ехавший, с его собственных слов, по художественным делам в Рим. В Риме он уже бывал, говорил, что знает и любит город: «О, замок Святого Ангела! А мутный Тибр? А коровы на древнем Форуме? А папские музеи? А сады и виллы? Никакие Москва и Петербург не сравнятся — да что там, даже Полтава», — и теперь возвращался стипендиатом Академии художеств. Вакаринчук глянул на Эспера: «Экой профиль у вас, князь! Я хотел бы вас нарисовать. Я вообще всё время что-то малюю — не обращайте внимания. Это как для девицы дневник».
Не утихавший, хотя и несильный, ветер и утомительная качка выгнали остающуюся публику с палубы. Ещё до захода солнца все разошлись по каютам и, каждый в своём полугробу, заснули здоровым сном надышавшихся чистым морским воздухом путешественников.
С утра 26 мая стояла чу́дная погода: сильно потеплело. Ветер ослабел. «Николай» подошёл к Истаду и бросил якорь в полуверсте от шведского берега. Город утопал по окраинам в зелени, а в центре его блестели на солнце чёрные и рыжие крыши. Весна тут, едва обозначившаяся в нашей северной столице, торжествовала в полную силу.
Остановились с целью обмена почтой; из пассажиров на берег сходил только уланский полковник Тарасов. Зачем — никто не спрашивал: у военных свои предписания. Петербургские почтовые чемоданы забрала подошедшая шведская лодка, из которой на борт «Николая» подняли новые — с корреспонденцией из Швеции в Пруссию, затем Тарасов сел в лодку, зазвенели якорные цепи, несколько выхлопов тёмного дыма из высокой трубы водяного монстра, и «Николай» двинулся к югу.
Качка к обеду почти сошла на нет, поэтому после сытной трапезы на палубу вышли все: и мужчины, и женщины, многие из которых были наслышаны о вчерашней истории полковника и ждали либо продолжения, либо опровержения. Курильщики привычно задымили послеобеденными сигарами. Вакаринчук принёс альбом и грифели и начал свои зарисовки, поглядывая на стоявшего несколько поодаль ото всех Лысогорского. Некоторое число дам соединились со своими мужьями и спутниками; те, что плыли одни, держали, как и Эспер, дистанцию, не смешивались с толпой и не выказывали никому особенного внимания. Исключение составляла лишь заграничная русская, затеявшая вчера весь этот разговор. Она, как ни в чём не бывало, беседовала с долгоносым подслеповатым немцем учёного вида, которого почему-то именовала «Nikolai Alexandrowitsch». Корсаков тоже выделялся из толпы. Он сменил вчерашнее дорожное платье на костюм настоящего франта: светлые брюки и тонконосая обувь, изящная трость, которой он всё время поигрывал в левой руке, увенчанная набалдашником в виде небольшой восьмёрки с крылышками, клетчатый по парижской моде жилет и узко приталенный сюртук, шейный платок с как бы небрежно держащей его, но какой-то чудесной булавкой и начинавший входить в моду цилиндр — всё это настраивало на речь человека куда менее серьёзного, чем тот, каким он оказался на самом деле.
— Дамы и господа, вы слышали вчера рассказ школьного товарища моего, которого я совсем не ожидал встретить на нашем чудо-пироскафе. Рассказ, думаю, слегка изумил вас, как и меня, невероятием. Но что есть вероятие? Знаем ли мы границы возможного? И есть ли вообще сродство и связь между происходящими событиями? Или все связи исключительно избирательны? Не выходит ли тогда, что любая связь — плод игры ума нашего, господа? Дабы не утомлять вас вопросами и отчасти развеять смущение, в которое вас мог повергнуть рассказ полковника, как он поверг и меня, готов поделиться одной историей из собственной жизни.
— Пожалуйста, просим!
— Начну с того, что, хотя мы с товарищем моим Тарасовым провели пять, может быть, лучших лет в Благородном пансионе в Москве, изучали одни и те же предметы, наши дороги давно разошлись: я пошёл по учёной части, занявшись тем, что со времён Платона афинского зовётся археологией. Археолог, господа, в чём-то схож с военным: оба они имеют дело со смертью. Но если для второго бесстрашная смерть — почти всегда увенчание подвига, и ни о каком ином «после» военный не думает, археологу важно именно то, что уцелело после. Некоторое время назад я получил поручение от Академии наук осмотреть ставшие, наконец, доступными памятники Греции, освободившейся от османов. Средства мне были выделены достаточные: с пониманием, что в путешествии я буду по мере сил исполнять, может быть, и неожиданные поручения наших представителей, точно так же как они окажут мне всяческое содействие и помощь за границей. Отплывал я из Одессы Чёрным морем в Константинополь. После Константинополя, где от латинской и греческой древности уцелело помимо крепостных стен лишь несколько обелисков, колонн и церквей и большое число подземелий для хранения чистой воды, впрочем, давно не используемых и пребывающих в небрежении, и Афин, нынешнее запустение которых соразмерно только их былому величию, я достиг баснословной Мореи, где видел гробницы мрачных Атридов, превращённые в загоны для скота неграмотными пастухами, равнодушными к языческой древности своего народа. В Морее не описанных никем ещё памятников и руин оказалось в великом множестве, и это смягчило моё разочарование от Константинополя и Афин. В ожидании ещё более сильных впечатлений от Великой Греции я уже нанял небольшое судно до Мессины, как во временной столице греков, которую мы зовём Навпали, итальянцы Napoli di Romania, а сами греки — Навплионом, русские представители попросили меня взять в путешествие ещё одного пассажира. Он взошёл на корабль до восхода солнца, прямо перед отплытием — почти секретно, почти инкогнито: в серой накидке с серым же башлыком, затенявшим лицо. Такие накидки и башлыки носили в недавней войне с турками греки, а вообще, господа, это одежда для пастухов и охотников. Из-под такого вот рубища выглядывал английский (как мне показалось тогда) костюм на манер тех, в каких недавно изображали нам лорда Байрона: тёмный шейный платок, тёмный сюртук, светлая щегольская жилетка, удобные сапоги — и так далее, с тою разницей, что мой непрошеный сопутешественник был росту очень высокого и ничуть не хромал. Вещей у него с собой был небольшой чемодан. Ещё он привёл пятнистого поджарого пса непонятной породы, которая мне показалась тоже английской. На пса, внимательного и молчаливого, был надет тяжёлый ошейник с шипами. Капитан запротестовал было, но, убедившись, что пёс не издаёт ни единого звука и равнодушно лёг себе, высунув язык, на палубе, согласился зачислить в пассажиры и его. На судне была одна незанятая каюта; туда и поместился безыменный покуда гость со своим безмолвным нечеловеческим спутником. Когда берег Мореи скрылся за горизонтом и солнце совершило достаточный путь к зениту, пассажир вышел на палубу без накидки и башлыка (воздух уже сильно прогрелся) и обратился ко мне на очень чистом русском, столь не вязавшимся с его совершенно нерусской внешностью. Именно тогда я получил возможность рассмотреть незнакомца поближе и был поражён увиденным даже больше, чем появлением его на корабле: лицо измождённое и землистого цвета, какое бывает у переживших серьёзную болезнь (впрочем, он упоминал, что в Морее его периодически мучила лихорадка), сочеталось с движеньями лёгкими и порывистыми, как у здорового и молодого человека; но в целом спутник мой казался сильно старше тех лет, каких он должен быть, если, конечно, верить его рассказам. Ещё через несколько часов плавания он изложил мне в кратких словах свои приключения.
В последнюю нашу войну с Оттоманской Портой он числился умершим от эпидемии; на самом деле «смерть» его была хорошо разыгранной пиесой. Я покуда не знал ни имени его, ни звания; но, как я понял, граф Дибич-Забалканский высоко оценил его отчаянную смелость и сразу по заключении мира оставил в Европейской Турции со специальными, исключительными поручениями, о которых остальным было лучше не знать. Я поверил рассказчику на слово; может быть, потому что у нас обнаружились общие знакомые, а некоторые особенности речи и замечания выдавали человека, жившего продолжительное время в Москве. «Москвич в Гарольдовом плаще? Уж не пародия ли он?» — удивитесь вы вслед за прославленным стихотворцем нашим. Вовсе нет; дальнейший рассказ мой как раз об этом.
Итак, через некоторое время таинственный пассажир перебрался в Грецию, как раз отделившуюся от Турецкой империи, где таланты и опыт инкогнито пригодились ещё больше; в подробности он снова не вдавался. Мои планы посвятить по достижении Сицилии время изучению и описанию античных памятников Великой Греции вызвали у него сдержанное сочувствие.
В это время задул сильный ветер в сторону Африки, и, как капитан ни старался держаться западного направления и ставить паруса правильным образом, ветер сбивал нас с пути. В конце концов, шторм, длившийся два дня, пригнал нас к плоскому ливийскому берегу. «Что ж, если внезапных обстоятельств невозможно перебороть, то почему бы не увидать развалин греческой Киренаики? О них известно больше по слухам, и мне выпадает случай быть их исследователем», — думал я. Уже представлял себе эти города: великую и славную Кирену, давшую название всей стране; Аполлонию, торговую гавань Кирены, павшую жертвой гнева Гефеста и Посейдона, отчасти поглощённую водами моря; ещё Арсиною, вызывающую в памяти беспутную жену киренского царя Магаса; Арсиноя пыталась сосватать дочь Беренику за некого Димитрия, который и самой Арсиное приглянулся, да был убит разгневанными жителями Киренаики по наущению Береники, мечтавшей, напротив, о замужестве с греческим царём Египта Птолемеем III Евергетом, — убит как недостойный любовник матери; а ещё, помимо Кирены, Аполлонии и Арсинои, — названную в честь египетских царей Птолемеев Птолемаиду, столицу Киренаики, разорённую вандалами и арабами и, по рассказам видевших её, погребённую под песками; и, конечно, саму Беренику — город не только добрых потомков Геспера, Евгеспериды, как его называли очень давно, но и мстительной дочери Арсинои и Магаса — да-да, Береники, вышедшей таки замуж за своего египтянина Птолемея III и потом убитой в правление их сына Птолемея IV по наущению министра Сосибия, — Береники, чьи прекрасные блестящие волосы развились на севере звёздного неба россыпью светил, воспетых Катуллом, а до него — Каллимахом. Надеюсь, я не утомил вас этим перечнем, господа. Капитан корабля, безразличный к моим восторгам перед греческой древностью и, исходя из того, что практически достижимо, счёл остановку у африканского берега пусть и не самой желанной, но единственной осуществимой. Переждать ветер в одной из местных гаваней было, по его убеждению, лучше, чем полагаться на волю стихии в открытом море. Лишь соотечественник мой был недоволен решением. Он сказал, что сходить на ливийский берег ни за что не будет. До заката мы увидели Бенгази, ту самую Беренику греков, о которой столько думал я в шторм, и вошли в гавань, где, не сходя на лишённый огней берег, стали на якорь. В пустой и сильно обмелевшей с античных времён гавани мы оказались единственным судном. Но штормовой, резкий ветер был нам больше не страшен.
При первом утреннем солнце Бенгази предстал даже не городом, а просто большим поселением на пути из греков нынешних, простых и совсем немудрящих, в греки прошлые. Никаких античных руин видно не было; их давно разобрали на новое строительство. Но и новых домов в Бенгази оказалось маловато, а имевшиеся не производили сильного впечатления. Однако, господа, и наша Старая Ладога, когда-то существенный город на пути из варяг в греки, пришла нынче в жалкое запустение, и только названия улиц, вроде Варяжской, да безымянные курганы окрест — в которых, как знать, не покоятся ли те, кто был вместе с Рюриком, или даже сам Вещий Олег — напоминают о давно уже мёртвой славе.
Было решено, что прежде, чем мы отправимся дальше, я расспрошу о том, что мне важно, местных жителей. От кочевника, пришедшего вместе с товарищем своим справиться, что мы за корабль и не везём ли на продажу какого европейского товара, а после служившего мне переводчиком в бенгазийском порту, я узнал, что вполне возможно устроить визит к варварийскому шейху, у которого могут быть, как убеждал меня переводчик, кое-какие древности; шейх этот мог бы также мне указать на местонахождение античных руин в глубине страны. «А далеко ли стоит ваш табор?» — поинтересовался я у африканца с библейским именем Джибрил. «Часах в трёх от Бенгази, если ехать на верблюдах», — отвечал мне Джибрил на беглом итальянском. Вообще способность варварийцев к языкам изумительна; те из них, кто проводит много времени на побережье, с детства помимо какого-нибудь из наречий Южной Европы и родного варварийского говорят ещё на арабском или турецком.
На следующий день, едва взошло солнце, я, переводчик и трое хорошо вооружённых моряков с нашего корабля отправились на нанятых верблюдах в указанном направлении с тем, чтобы к вечеру возвратиться в Бенгази, а товарищ моего толмача был оставлен на судне — в залог нашего безопасного возвращения. Кое-что слышав о местных обычаях, я взял с собой небольшой мешок крупы. В девять утра мы действительно увидели кочевой лагерь с палатками, скотом, ослами, лошадьми. По закону гостеприимства нам было показано хозяйство табора, которое мы похвалили, после чего кочевники отвели нас к шейху, который вышел из палатки и велел через толмача приветствовать нас, хотя весь наш дальнейший разговор меня не покидало ощущение, что шейх понимает то, что я и спутники мои говорили, без посторонней помощи и мог бы обращаться к нам напрямую, но достоинство или нежелание потерять уважение табора не позволяли ему признать, что язык чужестранцев знаком ему хорошо. Росту он был высокого, телосложения крепкого; с обветренным, загорелым, в глубоких складках лицом и с длинной, ещё не вполне седой бородой. О возрасте его можно было сказать, что шейху и сорок, и, может быть, все шестьдесят. Курчавую, но с проседью голову его венчала тёмная феска без кисти, на нём был светлый суконный плащ с откинутым на спину капюшоном, но вместо кривой сабли — на перевязи через плечо висел короткий нож, похожий на серп. Вы спросите, зачем я уделяю столько внимания его внешности: наберитесь терпения, господа. Когда шейх произносил приветствие на понятном табору наречии, у ног его зашелестела змея, каких немало встречается в ливийской пустыне; он оттолкнул её с презрением и пригласил нас жестом вовнутрь своего обиталища. Войдя, мы уселись, подвернув ноги, на широкую циновку. Старейшины табора подали раскуренную трубку. Дважды из неё затянувшись, шейх передал трубку мне, обнажив по-молодому белые зубы. Женщины — жена и дочь шейха — принесли воды, чтобы я, а затем и спутники мои омыли руки и запылённые в дороге ноги (обувь мы сняли при входе в палатку). Лиц своих варварийские женщины, в отличие от того, как это принято в других землях Османской империи, не скрывали, разве что головы с заплетёнными в косы и схваченными крупными заколками светлыми волосами были прикрыты воздушными покрывалами; недлинные юбки и совсем короткие безрукавки довершали костюм, но я больше всего обратил внимание на вшитые в пояса, на которых держались бумазейные их юбки, греческие и римские монеты; не скрылся мой интерес и от внимания шейха. В свою очередь, женщины, да и другие варварийцы, бывшие в шейховой палатке, с интересом разглядывали нас. Наше появление было целым событием. Наконец женщины принесли чаю с мятой; я отдал хозяевам пшено, шейх распорядился готовить пилав со свежей бараниной, как оказалось, заготовленной с утра к нашему приезду. Странным образом, я не удивился такой предусмотрительности и даже не подумал о том, кто и как мог предупредить шейха. В палатке остались одни мужчины, и я и спутники мои начали благодарить предводителя табора за гостеприимство. В ответ наперебой заговорили подручные шейха. Джибрил не переводил, молчал, ждал, когда своё слово скажет шейх. «Велика ли власть твоего северного владыки?» — поинтересовался шейх. «Да, она очень велика», — ответил я. «Чего же ты ищешь тогда в наших землях?» — «Учёные моей страны отправили меня исследовать то, что осталось от прошлого». — «Обтёсанные камни? Или вот эти монеты?» — улыбнулся шейх, в то время как указательные пальцы обеих рук его упёрлись в пояса жены и дочери, вернувшихся в палатку с готовым пилавом и водой для нового омовения рук. «Не только. Ещё меня интересуют мозаики и статуи». Мы отведали пилава. «Здесь ты почти ничего не найдёшь интересного. Но если ехать вдоль моря на юг, а потом на запад, то увидишь большой заброшенный город, где много колонн, высоких стен и статуй. Мои люди зовут его Лабдах; те, кто жил тут прежде, называли его Лептис Магна. Но ещё больше чудес во владеньях тунисского бея. Посреди пустыни стоит большое круглое здание в несколько этажей с ареной внутри, вы называете это цирком. Когда-то в нём показывали, как люди убивают друг друга и диких животных. А если идти от того места дальше на запад, то встретишь на пути заброшенные города, может быть, и не такие красивые как Лептис Магна, но там, среди мёртвых улиц, будут стоять полуразбитые статуи, а внутри домов ты увидишь мозаики. Человек не мог сотворить такого без помощи духов, как ты сам думаешь? Без духов воды, духов земли, духов ветра? Ты правда хочешь всё это увидеть?» — «А далеко добираться?» — «Очень далеко. Да, и передай второму русскому, что он зря отказался приехать — я радушный хозяин. Прими от меня вот этот подарок: я вижу, как тебе нравятся металлические кругляши». Казалось, шейх посмеивается над моими интересами. В палатку вошла ещё одна девушка, видимо, младшая дочь его, принесла небольшой кувшин, полный римских и греческих монет хорошей сохранности. Там было даже несколько сестерциев Гордиана, щёголя и поэта, провозглашённого императором в Африке, но так и не покинувшего её пределов, ибо правил он всего тридцать шесть дней, а погиб при подавлении мятежа у стен Карфагена. Монеты эти, вероятно, украсили бы собрание не только нашей славной Академии наук, но и любой из академий Европы. Между тем ощутимо и враз, будто по мановенью жезла, переменилась погода; это почувствовалось по тому, что вдруг стало тяжко дышать, у меня разболелась голова. «С юго-востока надвигается огненный ветер. Через несколько часов он будет здесь. Мы к самумам привыкли. Но тебе будет нелегко. Мы не хотим, чтобы подданный великого северного владыки пострадал — поезжай назад, и скорее. Как знать, может быть, мы ещё свидимся». Я снова не удивился странным словам шейха. Когда мы вышли из палатки, то вдалеке на юго-востоке под ослепительным солнцем клубилось нечто серо-коричневое, похожее на севшие на землю грозовые облака. Верблюды наши кричали совсем по-человечески. Стало невыносимо душно, и что я, что моряки мои взмокли, будто нас окатили водой. Лошади в таборе были тоже в страшном беспокойстве; ослы начали дико реветь. Следовало торопиться. Не знаю, поднялась ли температура воздуха, но у меня было ощущение, что самого воздуха становится меньше, что его выкачивают гигантским насосом, как если бы мы оказались жертвою опыта в великанской стеклянной банке. Выбора не было — надо было возвращаться раньше срока. По мере приближения к Бенгази ближе становилось и нагонявшее нас серо-коричневое закипание. «Их сметёт вместе с пылью. Где мне потом их искать?» — повторял с нескрываемым ужасом Джибрил. Головная боль не отпускала меня. Солнце светило нам прямо в лицо, но сзади надвигающееся облако песка занимало уже четверть неба. Когда достигли гавани, развьючили верблюдов и перенесли всё, что было с нами, на корабль, и когда с корабля, кажется, без особой радости, сошёл заложник-кочевник, то самум был уже на окраинах Бенгази. Сильный ветер, дувший в направлении моря, стал ещё сокрушительней. Без промедления корабль наш вышел из гавани. И тут я увидел спутника моего: глядящего восторженно и удовлетворённо на возникший над просторами Ливии ураган; впервые он улыбался, глаза расширились, морщины разгладились, кожа посветлела и потеплела, утратив прежний болезненный оттенок, одежду его раздирало ураганным ветром, особенно сюртук, тёмный шейный платок трепыхался, подобно какому-то флагу; увидел я и молнийные отблески в белках глядящего на уходящий берег пса, как мне показалось, радостно заулыбавшегося — так, как умеют улыбаться только собаки, одними углами рта. Странный русский крепко держал пса за ошейник. И в эту секунду жестокий и жалящий накат взметённого праха достиг палубы. Сначала затмился солнечный свет — накатывавшее облако охватило с обеих сторон и сверху, но ещё не упало на нас; потом всё от взметаемого под облаком и идущего по-над водой песка покраснело, и стало ещё труднее дышать. Да, господа, Геродот был прав, называя самум красным ветром. Потом потемнело и покраснело ещё больше; потом наступила полная тьма, не стало видимо даже на расстоянии вытянутой руки. Пассажир и пёс его разом исчезли, как и очертания всего, что было на палубе. Но так как мы на всех парусах выходили в море, то через краткое время взметённая от берега пыль развеялась, словно её и не было, а корабль продолжил движение с не утихавшим попутным ветром — прочь от варварийского берега. К этому времени я был в каюте.
Если бы я верил воображению моему, как верит своему полковник Тарасов, то я бы увидел связь между нежеланием таинственного путешественника сходить на берег и самумом: тем более что мы плыли в непосредственной близи Магриба. А Магриб, страна «запада солнца», полон, господа, по арабским верованиям, всяческими чародеями и нечеловеческими духами. «Да и русский ли он — мой сопутешественник? Разве наш брат таков?» — подумал бы простодушный и впечатлительный; мне же подобная фантазия ни к чему. Ведь наш брат русский, как и немец, как и грек, как и кочевник-варвариец, бывает всяким; достаточно и тех, и других, и третьих я повидал. Я — учёный, а значит, коллекционер и систематизатор и полагаюсь только на то, что можно осмыслить и описать. Воображение дико, заманчиво и прихотливо: отдаться ему — значит допустить неправдоподобное и связать неувязываемое. Самумы случаются часто, и то, что мы попали под действие одного из них, значило лишь то, что мой жизненный опыт, подлежащий осмыслению и систематизации, стал разнообразнее.
Ветер, дувший из Африки, стих так же, как начался, и мы вплыли в область сонного штиля. По всем признакам нас вновь отнесло сильно в сторону — к полупустынной Лампедузе. Остров этот, хотя и под христианским управлением, расположен ближе к Африке, чем к Сицилии, а Северная Африка, и особенно тунисские её берега, печально знамениты пиратством. Не смыкая глаз, мы встали на якорь вблизи острова. Был четвёртый час утра, когда бесшумные разбойники, подплыв к обоим бортам нашего судна, взяли нас ловким натиском, почти без сопротивления. Ещё через какое-то время нас сталкивали пинками и под прицелами ружей на песчаный африканский берег, который напоминал давно заброшенную бухту. Были видны остатки выложенного ещё финикийцами мола, кое-где торчали обтёсанные плиты, но от древнего порта почти ничего не осталось. Сталкивали нас с лодок так, что каждый из нас оказался залитым водой, а вода в южной части Средиземного моря, господа, в несколько раз солонее, чем на нашей Балтике и даже на море Чёрном, и белые несмываемые полосы и разводы остались на нашей одежде, после того как она высохла. Нас повели через руины — здесь никто не жил, это была давно забытая окраина; город же виднелся далеко на севере, затянутый маревом. Я заметил остатки заросшего оливковыми деревьями театра, какие-то полукруглые холмы, россыпи камней. Солнце между тем палило нещадно. Конвоиры наши присели в тени у дороги возле росших там в обилии кипарисов. Вероятно, здесь когда-то располагалось кладбище. Из разговоров между нашими новыми хозяевами я услышал вполне понятные мне слова: «Эль карита басилика»[2]. Мы сидели на руинах христианского храма. Дальше нас повели дорогою в глубь страны; путь был изнурительным и долгим; нам давали отдохнуть, пить и есть ровно столько, чтобы мы не умерли. Сначала оседлавшие верблюдов погонщики наши держали нас под ружейным прицелом; потом и в этом необходимость отпала. Всё равно бежать было некуда. В какой-то момент, как тёмно-коричневый мираж среди пустынной степи, возник гигантский цирк — тот самый, о котором мне говорил ливийский шейх. Помню, я поразился тому, что он, видимо, не меньше Колизея и сохранился прекрасно. Но никакого крупного поселения вокруг этой циклопической постройки с тремя этажами арок и колонн не было. Здесь и там ютились убогие низенькие лачуги, Бог знает из чего выстроенные, но дальше — снова высохшая, ровная степь да заросшие одичавшими оливами холмы. Ещё пару дней изнуряющего пути — и нам предстал рыжевато-жёлтый просторный заброшенный город, выглядевший так, словно его оставили не больше тысячи, а всего сотню-другую лет назад. Ясно были видны заросшие травой, с римской тщательностью распланированные улицы. Отдельные здания стояли почти целыми. А на руинах поблёскивали заметённые вековой пылью мозаики — вот бог моря в окружении дельфинов, а рядом — христианский баптистерий невиданной красоты. Мы остановились на площади, где безголовая статуя возвышалась над выбитой на плитах площади розой ветров. У них были непривычные латинские названия, написанные на плитах, — Фаон, Африканус.
Где мы оказались? В Тугге? В Суфетуле — месте последнего боя африканского императора Григория с войском пришедших из Аравии кочевников-прозелитов? Григорий погиб в сражении, а вместе с ним и латинская Африка. Кочевники потом похвалялись, что им довелось сокрушить «великого короля Гиргиса», хотя всё государство его едва ли превышало нынешние владения тунисского бея, по земле которого нас гнали всё дальше и дальше на запад с совершенно неведомой целью. Никто ни на какие наши вопросы не отвечал, хотя захватившие нас, я уверен, понимали итальянский, испанский и, возможно даже, народный греческий. И вот ещё через несколько дней пути в очередном полузаброшенном поселении, показавшемся мне новым миражем, один из моих конвоиров-варварийцев подвёл меня, шатающегося от изнурения, к странному четырёхугольному строению в три этажа с крохотным окошком в третьем, на глухих стенах которого были начертаны латинские гексаметры. Вероятно, на вершине строения должна была стоять какая-то статуя, но её давно уже скинули. Из надписи следовало, что под грубым и величественным монументом покоился некий Флавий Секунд. «Ну, о чём это? — по-итальянски спросил подведший меня к строению, держа ружьё под мышкой, посмеиваясь и глядя на меня со своего верблюда. — Прочитать можешь?» Сам он латинских букв не знал. Поэма была о загробных пчёлах. Ни один из известных поэтов империи не написал такого. О, если бы нечто подобное обнаружилось в Константинополе, в Афинах, даже в Морее! Мечты мои увидеть остатки нетронутой древности исполнялись, но как! «Где мы?» — только я и спросил, тоже по-итальянски, у моего стража. «Мы называем это Кассерин, место крепостей». Но я уже понимал это и без разъяснений, ибо арабское «каср» произошло от «кастеллума»[3]. Смеркалось, отовсюду стали выползать частые на этих руинах опасные змеи. В лесах на окрестных холмах, а чем дальше от побережья, тем чаще встречается здесь, пусть и редкий, лес, раздавались тревожные звуки. «Это кабаны», — сказал мой страж. Я вспомнил, что при Ганнибале здесь водились и львы, и даже низкорослые слоны, на которых великий стратег пересек Альпы. И вот всех нас, захваченных на корабле, ввели в какое-то подобие хлева, сложенного из грубых камней и лишённого крыши. Я давно не упоминал о загадочном русском: он был тоже с нами, но пёс его исчез в потасовке; кажется, выпрыгнул за борт и поплыл в сторону Лампедузы — ещё до того, как нас, пленных, столкнули на варварийские парусные лодки. Мы уже собирались спать, как вошли два стража с факелами и повели русского и меня к беспорядочным римским руинам; там уже стоял целый табор. Когда нас довели до палатки их предводителя, то вышел знакомый ливийский шейх и заговорил, обращаясь к нам обоим, но особенно к моему соотечественнику. Я не решусь сейчас вам сказать, на каком наречии он говорил — языки уже смешались в моём сознании, — но говорил он понятно, и это, после всего мной увиденного, совсем не изумляло.
— «А хорошую мы провернули сделку. За кувшин давно бесполезных монет подданный северного владыки приводит ко мне того, с кем давно я мечтал повидаться. Хоть чему-то я научился у греков — торговле. Что же, добро пожаловать в Африку; здесь все под моим покровительством!» Я глянул на спутника; тот, не проронивший за время плененья ни слова, смотрел на шейха холодно и с отвращением; отсветы факельного пламени только усиливали презрительное выражение его мрачного лица. Один из варварийцев вопросительно глянул на своего предводителя. Тот поправил висевший на левом бедре на перевязи серповидный нож: «А, делай с этим вторым что хочешь. Впрочем, пусть он прежде увидит то, чего не видел никто из тех, кому предстоит умереть. Или ты против?» — поинтересовался шейх у моего спутника скорее примирительно, но холодный ужас сковал всё моё существо от одной мысли о том, что со мною могло случиться. «Tu quid ego et populus mecum desideret audi[4], — продолжил шейх на очень хорошей латыни, обращаясь к моему по-прежнему молчаливому спутнику, которого я имел несчастие взять на корабль в Навплионе. — Или ты предпочтёшь наречие эллинов? Прости, язык нынешних пастухов мне отвратителен, но, если надо, я готов разговаривать с тобой словами Агамемнона, Ахилла и богов…» В этот момент я почувствовал толчки, тормошение и раскрыл глаза. Был уже вечер, один из моряков будил меня; мы подплывали к Мальте. Сколько времени я проспал? Трудно сказать, но, продирая глаза, я услышал радостный разговор, доносившийся из-за стен каюты, а на палубе увидел безыменного русского, по-прежнему державшего молчаливого пса за тяжёлый ошейник, — с улыбкою, вместе с другими, приветствовавшего меня.
Предыдущий рассказчик тут сказал бы, господа, что вздорный мой сон был неслучаен, что он соединил с реальностью нечто глубинное, о чём я не мыслю разумно. Это всё фантазии, господа. В Тунисе я никогда не бывал, но кое-что читал о нём, хотя, признаюсь, тех подробностей о руинах Тисдруса, Тугги, Суфетулы, Киллиума — так я определил из дальнейшего чтения места́, где довелось побывать лишь во сне, — я не встречал нигде. И что это за поэма о пчёлах, высеченная на мавзолее Флавия Секунда[5]? Никаких сведений о ней я не нашёл. Верно ли было открывшееся умственному оку хотя бы отчасти, или это была чистая иллюзия, этого я вам не скажу наверное. Но знаменитый наш современник-философ учит нас, господа, что, погружаясь в себя, мы узнаём об истинной связи «я» с окружающим миром, что на определённых глубинах внешнее и внутреннее, «я» и «не-я» сливаются. Значит ли это, что нет и различия между химерою, фантазией художественною и мыслящим последовательно, противоположно фантазии разумом? Я думаю, господа, что различие есть. Иначе вздорный мой сон был бы не менее реален, чем солнце, уже разогревшее воздух и залившее блеском Средиземное море, вид Мальты, радостные возгласы команды корабля и ещё одного русского пассажира. Так, господа, можно уйти весьма далеко и совсем потеряться в умственной Фата-Моргане. Так и наш пироскаф «Николай» можно объявить несуществующим, а нас лишь тенями от его дымов на стене плавучей Платоновой пещеры.
Вам, вероятно, интересно окончание рассказа — вот оно. Ещё до захода солнца мы вошли в порт Лавалетты, где владеющие островом англичане нас поместили в обязательный двадцатидневный карантин, впрочем, довольно комфортный. Я получил доступ к имевшимся в городе книгам по средиземноморским древностям у заочно знакомого мне коллеги господина Орацио Фальконе, жившего тогда в Лавалетте, и засел за записки о виденном и слышанном в последние дни путешествия. Комнату в карантине мне дали чистую и просторную, стол был самый лучший — только плати. Сопутник мой расположился по соседству — и тут мне предоставилась возможность убедиться в том, что ему действительно было что скрывать; власти приняли его так, как если бы он был в генеральском чине или довольно высокого происхождения. Впрочем, разгадывалось это довольно просто. Нам надлежало предъявить свои заграничные паспорта; и я по случаю заглянул в то, что написано было в документе его, выданном нашим посланником в Константинополе Аполлинарием Петровичем Бутенёвым, моим добрым знакомым, взамен прежнего, по коему он, видимо, числился выбывшим по смерти. Также выяснилось, что встречи с неразговорчивым пассажиром давно уже ждал на Мальте Lord R., и вот соотечественник наш, о котором я вам столько рассказывал, не называя его имени, решил задержаться там по новым, по-прежнему не вполне мне ясным — да я сам больше его ни о чём и не спрашивал, — но, очевидно, неотложным делам. Что касается меня, то, ожидая увидеть памятники греческой и римской древности на Сицилии, а не ограничиваться разговорами о них или снами, как в мёртвый штиль у берегов Лампедузы, я обошёлся, по окончании карантина, самым общим осмотром Мальты и безотлагательно отплыл в Мессину. Впечатления мои от Сицилии были не менее поразительны, но сегодняшний мой рассказ окончен, а то, что происходило на Сицилии, — совершенно другая история.
Первым прервал молчание слушавших Эспер; говорил он смущённо и уважительно:
— Какой удивительный и вместе с тем простой рассказ! Мне бесконечно жаль, что полковник Тарасов сошёл на берег раньше, чем я мог задать ему этот вопрос, и, может быть, вы мне, как путешествовавший в тех же самых краях, ответите. Дело в том, что и мой дядя тоже воевал в кампанию 1829 года в Европейской Турции и считался погибшим, ведь такие ошибки часты, но потом оказался цел и невредим.
Начав говорить, князь Эспер не заметил, что молодая пассажирка, затеявшая все эти рассказы, приблизилась к Корсакову и, нисколько не стесняясь тем, что между ней и вторым рассказчиком стоял некто третий, произнесла прямо и просто:
— Я ценю, Сергей Алексеевич, ваше желание впечатлить и переубедить меня. Вам почти это удалось. Я должна вам сказать кое-что, чего не могла, даже не хотела говорить в Петербурге. Впрочем, подождите до завтра, — и отошла, не попрощавшись.
— Как, вы знакомы? — изумился Эспер, в свои двадцать два года неожиданно малоопытный в подобных делах.
— Увы, — только и ответил Корсаков.
К вечеру погода установилась настолько прекрасная и тёплая, что бо́льшая часть пассажиров вышла полюбоваться закатом. И действительно, на полусеверных бледноватых широтах он впечатлял больше, чем однообразный восход. Солнце, садившееся справа от корабля в казавшееся бесконечным — куда ни глянь — море, залило ровным золотом и воздух, и воду. Ещё несколько минут, и оно скроется за видимым окоёмом, погрузив воздух и воду в стремительно густеющую черноту.
Вакаринчук продолжал усиленно рисовать в своём альбоме, на этот раз беглыми полосами акварели поверх вычерченного грифелем контура. Когда наконец темнота не позволила ему больше работать и стали видны первые звёзды, он сказал остававшемуся на палубе рядом с ним князю Эсперу:
— А знаете ли, фамилия моя литовского корня, от вечерней звезды, Вакарине. Видно, кто-то из предков моего приёмного отца жил в Виленском крае. Вот и вы, князь, тоже звезда вечерняя, Эспер. Случайно ли? Думаю, нет. Две вечерницы на чёрном балтийском небе. А вы сами-то что об этом думаете?
Лысогорский ему не ответил. Слишком многое из того, что он узнал сегодня на палубе, предстояло осмыслить.
Пополудни следующего дня море было покрыто едва заметной рябью. Ветер практически стих. Только ритмично черпали воду колёса оставлявшего за собой длинный дымный шлейф парохода.
Когда публика собралась после обеда на палубе в ожидании продолжения рассказов, то заговорила та самая русская, что их затеяла за два дня до того.
— Мне кажется, когда мы говорим о том, что случилось или могло случиться, мы всеми силами отделяем воображаемое от действительного. Но для многих воображаемое и есть действительное. Жаль, что полковник покинул наш пароход — мой рассказ, надеюсь, дополнит то, что мы услышали от него. Кажется, господин Тарасов всё-таки не до конца верил тому, что нам рассказал. Но это бы ещё полбеды.
Мы, женщины, знаем, что мужчинам трудно говорить о своих чувствах. Товарищ полковника был буквально сокрушён своим чувством, а признаться в этом не смог.
Я расскажу вам историю одной моей подруги, и история эта будет лишь о чувствах. Именно в чувствах видна зыбкость того, что кажется нам действительным.
Подруга моя, чьего имени я пока называть не буду, родилась в Германии, а вырастала в Италии. Немкой она не была. Итальянкой так себя и не почувствовала. Да и что такое Италия? Можно быть римлянкой, флорентийкой, неаполитанкой, жить в Королевстве обеих Сицилий или даже в Сардинском королевстве — но быть итальянкой? Это какая-то абстракция.
У отца её, старого, опытного дипломата, рано овдовевшего, дома была коллекция музыкальных инструментов, а ещё — большая библиотека и нечто вроде домашнего музея: картины, скульптуры, осколки всяческой древности. Словом, не дом, а пристанище муз. Особенно отец любил музыку: причуды его доходили до того, что за обедом подающие слуги выпевали названия блюд басами и баритонами, кто помоложе — дискантами; служанки, следившие за порядком в столовой и убиравшие, когда было много гостей, вторили им хором из контральто и сопрано (меццо-сопрано отец не жаловал), а шеф-повар исполнял дивертисменты на хрустальных бокалах, частично или полностью полных вина, которые потом заполнялись до конца и раздавались пришедшим. Сочинял всю эту развесёлую музыку сам отец. А ещё говорили, что он добавил несколько номеров в оперу об индийских приключениях Александра Великого на известное либретто Метастазио — ту самую, что шла в театре Сан-Карло и в других театрах Европы, но без указания его имени. Исключительно из-за скромности старого дипломата.
Неаполитанский монарх, при дворе которого он представлял свою страну, снисходительно смотрел на такие чудачества; посланником отец был дельным, а родителем, по всеобщему признанию, любящим.
Жили они на просторной вилле осьмнадцатого столетия возле старой королевской резиденции в Портичи, с видом на Везувий, а приобрели эту виллу у одного разорившегося аристократа. Острое увлечение Геркуланумом и Помпеей, ради которого здесь и строили виллы, стало к их появлению в Неаполе сходить на нет. Дом был полон гостей. Общество было разнообразным, и подруга моя с детства привыкла, что к ней относились как к равной. Если звучала музыка, она, по мере умения, играла в ансамбле. Если был разговор философский или политический, она вставляла фразу-другую. Её мало чему учили специально; она подхватывала всё сама с необычайной лёгкостью. Читала много и разнообразно. Атласы флоры и фауны Франции были ей не менее интересны, чем итальянские, а порой и латинские поэты, а труды о древностях — чем практическая медицина и физика. К музыке она имела природную склонность, и после нескольких лет занятий с опытными учителями, поставившими ей руку и звукоизвлечение в клавишной игре и правильное положение пальцев и умение держать смычок в игре смычковой, совершенствовалась дальше сама, и всегда что-то разучивала из неостановимо росшей горы подносимых отцу нотных изданий. Он их едва проглядывал. Для него музыка остановилась на Моцарте. Предоставленная самой себе (овдовевший отец больше не женился, а старшая сестра уже вышла замуж), подруга моя часто ездила верхом по берегу Неаполитанского залива. Побывала на всех раскопках и даже несколько раз поднималась к вершине Везувия; там земля заметно разогревается у полусонного, дымящего жерла. Росла она свободной, погружённой в свои впечатления. Добавьте к этому, что её окружали люди сильно старшие, сплошь знакомые или друзья отца, а сверстников и тем более сверстниц она в ту пору не знала, и портрет подруги моей будет практически завершён.
Когда наступила пора пробуждения чувств, то она обнаружила, что, будучи давно уже девушкой на выданье, в сердце своём она — неопытный ребёнок. Впрочем, это её беспокоило мало. Да, она любовалась молодыми рыбаками в их вечных красных колпаках, в коротких, обнажавших мускулистые ноги светлых штанах и в светлых рубашках с глубоким вырезом, чтобы дышало крепкое тело, а ещё — с иконками св. Девы Марии — Звезды Морей на груди чуть не у каждого второго, да и не только рыбаками — курчавыми строительными рабочими на виллах вдоль залива, их открытыми улыбками, когда они оборачивались на конный её проезд, и даже, привязав коня под каким-нибудь отдельно растущим на вулканической плодородной земле деревом, могла долго смотреть на них с некоторого расстояния. Но это было любование вообще, красотой физической, внешней, сродни любованию телами атлетов в древности, без ясных мыслей о том, почему это ей так приятно делать. Снова и снова она была почти всё время одна. Как это часто случается с такими натурами, воображение занимало в её думах большее место, чем это обычно бывает, и от неясных образов и дум внутри было тесно. Хотелось гнать лошадь вдоль моря без оглядки, радуясь переполняющей жизни, или беспричинно грустить.
Так прошло ещё некоторое время. Среди гостей в доме отца объявился некто лет сорока — т. е., господа, человек пожилой, в летах, заставляющих подумать о старости, — по одежде англичанин, но, как оказалось, уроженец той страны, откуда был родом её отец. Сама она звать эту страну родиной не решилась бы, и, хотя владела языком и даже побывала там дважды или трижды у родни, вместе с сестрой, ещё незамужней, понимала нравы этой страны плохо. В новом посетителе было что-то недоговариваемое, загадочное, хотя само дело, по которому он первоначально объявился у них, было вполне очевидное. Ему для дальнейшего путешествия по Италии требовалось подтвердить кое-какие документы у посланника. Подруга не раз описывала их первую встречу. Она разбирала за инструментом этюды Гуммеля из опуса сто двадцать пятого (мода на немецкое даже среди неаполитанцев была очень велика), начав с седьмого, а потом перейдя к пятому этюду — знаете, музыка эта почти мечтательная, а местами даже смятенная, — и тут отец предложил гостю пройти в сад. Она краем глаз заметила его поразительную внешность, серьёзное и умное лицо, словно сошедшее с помпеянского портрета, отложила ноты и подошла к распахнутым в сад дверям. Гость и отец её стояли друг против друга. Разговор шёл не по-французски или неаполитански, а на языке страны, откуда родом была вся её семья. Отец, чуть ниже ростом и одетый в сравнении с гостем куда как старомоднее, едва ли не по фасону Венского конгресса, положил ему правую руку на плечо и произнёс, внимательно глядя в лицо и, как показалось подруге моей, с сочувствием: «Хорошо, дорогой мой, подтверждение я вам выдам, хотя для этого и потребуются некоторые усилия. Но прошу — будьте впредь осторожны. И помните, я всячески готов вам помочь, в том числе и советом. Кстати, а почему бы вам не навестить нас сегодня вечером? Будем музицировать; младшая дочь моя играет очень хорошо». В тот вечер подруга играла не только разученные с утра этюды. Звучали отрывки из опер, переложенные для ансамбля, где первую скрипку вёл отец-посланник, вторую и партию альта кто-то из пришедших на вечер друзей, а за виолончелью и за клавикордами сидела она. Ну, в общем обычный домашний концерт, господа, сами знаете.
Гость, об имени которого я тоже пока умолчу, да оно по большому счёту и не важно, похвалил трепетное звучание и фразировку в игре девушки. Она же поразилась, что человек столь сурового, столь не похожего на других прекрасно воспитанных, но поверхностно любезных гостей облика интересуется музыкой. Такой человек, подумалось ей, может интересоваться последними, может быть страшными тайнами, но мир смятенных мечтаний ему ни к чему. Она не понимала, что суждения эти, особенно о «тайнах», — игра воображения, господа, о которой я вам говорила в самом начале. Да и почему тот, кто обращён к предельному, не может любить музыку? Разве музыка так уж мила, так безопасна? А древние празднества, картины которых, извлечённые из-под пепла в Геркулануме и Помпее, занимали столь многих? Рвущиеся из пут кентавры и оседлавшие их вакханки с тирсами? Вздыбленные кентаврицы, держащие — каждая — огромную лиру в левой руке, а в правой избранника своего? А плясуньи с бубнами? А плясуньи с литаврами? А просто плясуньи, ловящие в круженье ладони друг друга? А привязанный к дереву горделивый флейтист Марсий, приведённый на страшный суд к Аполлону? Подруга моя сама видела эти росписи на раскопках и в королевском музее, а награвированные с них копии рассматривала в библиотеке отца.
Гость стал часто бывать у них в доме; старый дипломат с удовольствием открыл соотечественнику свои книжные сокровища. Особенный интерес вызвали роскошные «Le Antichità di Ercolano Esposte»[6], изданные повелением неаполитанского короля ещё в прошлом веке и которые отец девушки имел не только по чудаческому пристрастию к редкостям, но и как посланник важной державы. Гость даже улыбался, погружаясь в эти томы, словно читал о чём-то давно знакомом, хотя оказался в этих краях, по его словам, впервые. Особенно его обрадовала мало чем примечательная в сравнении с другими гравюра из первого тома: изображала она змея, обвившегося вокруг жертвенника, на вершине которого лежали перекушенная змеем шишка и два готовых к пожиранию плода. Слева к жертвеннику приближался мальчик с оливковой ветвью, а справа было начертано: «genius huius loci montis», т. е. «гений места оной горы».
— «Вот оно! Вот как выглядят все вулканы и силы глубин земли, когда они умирены», — гость указал девушке на картинку, впрочем, давно ей знакомую.
Иногда, когда моя подруга музицировала, он подсаживался к ней и по нотам, которые легко читал с листа, или импровизируя играл в четыре руки. Вот уж чего она в нём не подозревала, так это подобного знания и понимания музыки! Играли не только Моцарта, Спонтини, Беллини, Россини, Доницетти, но и Калькбреннера и Гуммеля. Кого только не играли! Через музыку ей было легче выразить то, что она затруднялась сказать словом. Кто же он был по занятиям своим? Постепенно со слов гостя восстановилась в общих чертах жизнь его между тем, как он покинул родину и добрался до Неаполя. Служил ли он когда-либо? Да, прежде был на военной службе, и даже назвал род войск и чин, но — достаточно давно уже — вышел в отставку. Вольная жизнь больше соответствовала его натуре. В его прошлом была любовь, случившаяся внезапно, почти стоившая ему жизни, — история, о которой он говорил намёками. Это произошло во время его странствий где-то на востоке. С тех пор он жил уединённо, посвятив себя наукам, более других — медицине, и состоял в переписке с одним знаменитым профессором из Болоньи, кажется, Гамберини, занимавшимся пограничными состояниями, переходными от нежизни к жизни, вроде глубокого оцепенения у рептилий, но применительно к высшим организмам. Особенно его знакомого профессора занимала проблема «бодрствования». Что значит «уснуть»? И что значит «проснуться»? В какой мере состав наш «бодрствует», когда по всем признакам он в последнем и окончательном «сне»? Гость говорил подруге моей, что даже руины Геркуланума и Помпеи, книги о которых так радовали его в библиотеке старого дипломата, это тоже пример «бодрствования» в последнем «сне» под вулканическим пеплом. Умерло ли искусство этих городов, когда мы о нём не знали целые шестнадцать или семнадцать веков, думая, что оно окончательно погибло, в то время, как оно всего лишь спало и ждало пробуждающего толчка от нас, чтобы снова завладеть сознанием живущих? И не материальней ли оно было в своём сне, чем любая материя, данная в физическом ощущении? Умираем ли мы совсем, когда умираем? А если не умираем, то живы в каком именно смысле? Тут, говорил вдохновляясь гость, должен быть смысл не переносный, а самый что ни на есть физический, как не умирает, а лишь глубоко засыпает, затормозившись до твёрдого, ломкого состояния лягушка, чтобы, оттаяв, потом скакать и оглушительно квакать по весне. И где — в ней и в нас — хранилище этой никогда не засыпающей жизни?
О, чего-то именно такого она от этого гостя и ожидала! Его мысли и вопросы стали постепенно и её вопросами.
Гость собирался в ближайшее время в Болонью. Встреча с профессором медицины была неотложной: он должен был ехать срочно и — один — чтобы поучаствовать в некоторых, вероятно рискованных, опытах. Путь в Болонью лежал через столицу папских владений — Рим.
Какой путешественник, приехав в Италию, откажется от Рима!
Перед отъездом в Болонью гость предложил подруге моей съездить вместе на помпеянские раскопки. И хотя она там бывала до того не раз, желание провести целый день в компании столь удивительного человека, давно владевшего не только всеми её думами, но и уже — в чём она не решалась признаться себе, ибо признаться в таком всё-таки было страшно — сердцем, была столь неодолимой, что подруга моя, особо не думая, ответила согласием.
Поехали верхом ранним утром. По дороге посетили Королевский музей во дворце Портичи, где хранилось многое, что нашли в Геркулануме и Помпее, а потом уже отправились, в объезд Неаполя, к оставленному на самих руинах — смотреть мозаики и фрески, действие на которые свежего воздуха было сочтено безопасным. Ближе к руинам ехали вдоль моря. Самое сильное впечатление на подругу мою произвели тогда не предметы искусства, давно ей знакомые, а цвета и формы окружающего, словно преломлённые в искусстве: и то и другое она видела новыми глазами. Чистое синее небо, светло-коричневый дворец Портичи, золотое нежаркое солнце, а за Неаполем и зеленоватое море, с которого дул приятный ветер, тёмная зелень как на склонах гор, так и между горами и морем — там, где растут пинии или лиственные деревья, коричневая земля, сизый Везувий, над которым вился дым, — ни один из цветов не слепящий, все формы мягкие, а там, где, как в созданной человеком архитектуре, есть прямые углы, даже они не казались резкими, выбивающимися из общего ритма. И те же цвета, те же формы проступали на извлечённых из-под пепла мозаиках и фресках.
Казалось, видимое отражает то, что лежало в земле, а искусство, разбуженное ото сна, влияет на цвета и формы, которые они сейчас наблюдали. Но как это могло случиться? Неужели жизнь вокруг Везувия и вправду не переменилась за шестнадцать или семнадцать веков? А переменилась ли смерть? И какая сила смогла вернуть почти мёртвое к жизни — да так, что возвращённое по форме и цвету неотличимо от того, что вокруг?
Спутник её хотел осмотреть всё, что было найдено в Доме Фавна; в нём недавно откопали мозаику битвы Великого Александра с Дарием, и её, господа, если вы не слышали, вся Европа обсуждала. Говорят, мозаика — копия более древней картины, чуть не времён самого Александра Великого. Цвета той мозаики кажутся произошедшими от трёх очень близких цветов: это всё оттенки светло-коричневого, жёлто-коричневого и коричнево-красного, словно картину ту залило — из-за спины Александра — светом заходящего солнца. Была в Доме Фавна и другая мозаика: обнажённая белокожая женщина склонилась на грудь загорелому Фавну, и, всё что их разделяет, — кусок зелёной материи; веки женщины сомкнуты. И так они и сидят, господа, в истоме, в близости без близости, и тоже весь облик картины какой-то вечерний. Наконец, если не знаете, найдена была в том доме мозаика с Дионисом — крылатым младенцем, едущим с металлической чашей в руках на полосатом тигре; вокруг шеи тигра сплетено ожерелье из виноградной лозы; а едут они в сумерки, притом по обрыву; фон той картины чёрен. Словно нас предупреждают о тёмном, погибельном в страсти. Вообще этот дом, дом образов страсти — военной, любовной, — дом экстатического опьянения, был одновременно домом вечера, сумерек и даже, наверное, ночи. В которой плясала найденная под пеплом медная статуя Фавна, стоявшая в самом центре дома. Они осматривали этот дом, пробывший шестнадцать или семнадцать веков под остывшим пеплом, как оживший.
— «Пробудить от глубокого оцепенения может сильное чувство, влечение к совершенно на тебя непохожему, — говорил ей спутник, — сродни любви, — говорил ей спутник её на руинах. — Мы ведь по-настоящему любим эти извлечённые из-под земли остатки, и потому в наших руках они пробудились. Надгробие сломано; то, что казалось мёртвым, цветёт. Любовь движет не одним солнцем и другими светилами. Да-да, та самая „l’amor che move il sole e l’altre stelle“[7], как сказал о ней Дант, но и всякой победой над смертью, всяким началом цветения. Вот оно — дивное дело любви!»
Ей казалось, что он говорит о самом главном, и она понимала, что испытывает всё более сильное, странное с ним сродство, которое одновременно её и пугало. Это сродство и близость были не с внешним, физическим, хотя внешность его впечатляла, а с силой его сознания, с ясностью мысли. Зачем же он взял её с собой в эту поездку? Подруга моя потом долго искала ответа на этот вопрос. Конечно, он оценил свойственную ей остроту восприятия вещей, свежесть взгляда. Ему такая спутница была очень важна в подтвержденье того, что главные решения его и дальнейшие действия правильны. А кроме того, долгое их общение уже подразумевало, что он мог быть с ней откровенен, не опасаясь недоумения и непонимания. Он действительно делился сейчас самым важным и внимательно выслушивал её ответы. Но испытывал ли он что-нибудь к ней помимо доверия? Вероятно, испытывал. Что именно? Сказать точно она не смогла бы. Но то, что должно было стать началом необычайного, возможно, главного в жизни, стало его концом.
Больше она его не видела, и гость, уехав, ей не написал. Наконец, обстоятельства привели её на родину, где она через служившего в Главном штабе и пребывавшего уже в достаточных чинах кузена получила выписку из архивного дела. И представьте себе, что тот, к кому были обращены её чувства и мысли, числился давно выбывшим с военной службы — но не в отставку, а по смерти. Она решила, что это ошибка; нет, никакой ошибки тут не было. Имя, подробности службы, о которых она слыхала от самого этого человека, совпадали. Что же, она была увлечена всё это время тем, кого на самом деле не было? Призраком? Нет, возлюбленный её был вполне материален. Это вместе с ним она музицировала, его рассказы о прошлом слушала в саду на вилле отца-дипломата, с ним ездила на раскопки Помпеи. Но, как я уже говорила, помысленное бывает не менее материально, чем данное нам в физическом опыте. Какова мораль в истории моей подруги? У неё нет морали.
— Тогда зачем вы нам эту историю рассказали, Александра Дмитриевна? — изумился Корсаков, при этом сильно смущённый.
— Мы ещё не доплыли до Травемюнде, и у всех есть время подумать, почему такие истории всё-таки случаются, — ответила рассказчица.
Утром следующего дня 28 мая море стало как гладкое зеркало, тревожимое лишь механически черпающими воду колёсами «Николая». Безветренность даже пугала. Словно пароход плыл не по подверженному любым влияниям и веяниям морю, а внутри неподвижной декорации. Но нет, море было настоящим, как и воздух, как и изредка пролетавшие мимо птицы. Все всматривались вперёд в ожидании немецкого берега, а те, кто познакомился или встретил друг друга на корабле после долгих лет, делились обещаниями и планами непременно свидеться ещё на континенте, только бы ступить поскорее на твёрдую землю.
Человек ко всему привыкает: то, что казалось невообразимым удобством — скорость путешествия и разнообразная компания в пути, — стало на четвёртый день утомлять.
Наконец в сумерках заблестел впереди старинный, трёхсотлетней давности маяк Травемюнде. Пора было готовиться к прибытию. Пассажиры стали обсуждать дальнейшие планы друг с другом.
Князь Эспер и Вакаринчук решили ехать до Рима попутчиками, Корсаков обещал разыскать их после Мюнхена, где он надеялся застать одного штатного члена Баварской академии, чьи идеи о тождестве через самопознание и об отпадении чувственного мира конечных вещей — через свободу — от абсолютного, которое одновременно есть высшая, лишённая зла свобода, были ему не до конца ясны. Продолжавшая хранить некоторую таинственность вчерашняя рассказчица обратилась к Корсакову:
— Вы ведь едете к Шеллингу?
Тот молчаливо кивнул.
— Вот когда доберётесь до Рима, помните, что мы с сестрой будем очень рады вам. Вы тоже, князь, непременно должны навестить нас: а вам, Филипп Адрианыч, просто хочу напомнить, что все наши коллекции, как и прежде, к вашим услугам. — Оказывается, она и Вакаринчука знала.
— Но как же мне вас разыскать в этом городе? — с обезоруживающей наивностью взволновался Эспер; о коллекциях он тоже хотел спросить, но отчего-то смутился.
— В Риме вы о нас сразу услышите, — мягко и слегка снисходительно улыбнулась та, которую Корсаков именовал Александрой Дмитриевной. — С вас же, Сергей Алексеевич, беру слово, что, когда доберётесь до Рима, непременно приведёте к нам милого князя. У нас, князь, не бывает скучно. До встречи, господа!
«Николай» подошёл к пристани с двумя рядами аккуратно высаженных вдоль берега лип. Толпа и тусклые зажжённые огни в фонарях ждали утомлённых и радостных путешественников. Все спешили поскорее сойти с корабля, чтобы уже ночевать на твёрдой земле. Кто-то пересаживался на пароход до Любека. Начали выгружать из трюма чемоданы.
Перед самым расставанием, уже на набережной Травемюнде, Корсаков подошёл к Эсперу:
— Кстати, предъявленный на Мальте англичанам документ моего спутника был выписан на имя князя Адриана Лысогорского, вашего, как я понимаю, близкого родственника. Много об этом не думайте, дорога до Италии длинная, но я должен был вас предупредить. До встречи в Риме!
Глава вторая. По следам дядюшки
Мы до сих пор почти ничего не говорили о князе Эспере. Но даже если бы и начали, рассказ свёлся бы к общим для молодых людей его круга чертам: неплохому образованию, мало к чему обязывающей службе в московском архиве Министерства Иностранных Дел, родовитому происхождению. Следовало бы упомянуть и об отсутствии определённого направления в интересах: всё, за что Эспер брался, удавалось ему, но ни одно сильное увлечение, ни одна страсть не отметили его молодости. Характера он был открытого и сразу располагал к себе, но в этом было много от очарования неопытности и простодушия и уж совсем ничего от сокрушительных чар, которыми наделяет такие натуры опыт.
Можно было бы упомянуть о приметливости Эспера, но и в этом тоже не было ничего, что сильно бы выделяло его из среды, в которой он вырос. Разве что обобщения его были смелее, а полёт мысли безогляднее. Возможно, в жизни его просто не произошло события, которое пробудило бы заложенные в нём возможности. Поездка за рубеж была первым большим приключением его сознательной жизни.
Чем дальше Лысогорский с Вакринчуком углублялись в Германию — в спешивших на юг дилижансах, — тем больше князь Эспер испытывал нечто вроде освобождения от чего-то не до конца постижимого, что не отпускало его и на пароходе. Ехали сначала через ганноверские, потом через гессенские земли и, наконец, оказались в Баварии.
Эспер знал, что некоторым соотечественникам, привыкшим к огромным размерам родной страны, Германия, разделённая на королевства и княжества, казалась недостаточно привольной, слишком «гемютной». Однако именно в одомашненном, в упорядоченном, в обращённом лишь на себя самоё, а не в диком, разлетающемся по всем направленьям пространстве Эспер начинал чувствовать себя легко и свободно, если пришлось бы здесь задержаться, что ж — прожил бы какое-то время не без удовольствия.
Хозяева гостиниц и постоялых дворов в Ганновере и в Гессене, узнав, откуда Филипп и Эспер, относились к ним напряжённо-внимательно, почти настороженно. Всё, что обычный немец знал об их родине, это то, что она — край беспредельных сарматских степей и дремучих лесов далеко на востоке от прусской границы, много больше Германии, и Бог весть чего следовало ждать от его уроженцев. Но и к этому Эспер относился спокойно.
Прежняя жизнь вытеснялась впечатленьями нового, и всё, что могло показаться в Эспере необычным и странным, сходило с него, как с лица актёра белила и краска; потому что и он начинал ощущать себя попросту европейцем, без каких-либо «если бы» и «однако». Россия виделась ему продолженьем Большой Европы, только в земли, где солнце всходило, а не падало за горизонт.
Так аэронавт, высоко поднявшись на наполненном лёгким газом шарльере, видит не только родные места, но и окрестные страны.
Стремительный этот подъём имел и обратную сторону. С лёгкостью необыкновенной Эспер принялся обобщать.
Огневой ураган, бушевавший в Европе два десятилетья назад, из России виделся чем-то вроде изверженья Везувия, похоронившего всё прошлое под вулканическим пеплом и сделавшего возможным произрастание нового. Семья Лысогорских бежала от пламени, ядовитых паров и пепла того извержения — из предпожарной Москвы августа 1812-го — в глушь Тверской губернии, где прошли первые годы Эспера, пока взамен сожжённого деревянного их особняка в древней столице строился новый, пускай и меньших размеров, каменный дом. Французская революция, слизавшая огненным своим языком патриархальную Москву, возогнала её в миф вроде Геркуланума и Помпеи и потому представлялась всем, жившим после 1812-го года, почти что явленьем природы.
Не то в сердце Европы, говорил себе Эспер, которая в конце концов приняла Наполеона как своего сюзерена: как до того принимала власть императоров Рима и их наследников. «Революционером» Наполеон казался лишь высшим умам, и Гёте приглядывался к нему (впрочем, совсем без восторга) так, как он присматривался позднее к Байрону, как стал бы присматриваться к любой фаустианской личности, решившей взнуздать стихию. А для кого-то, скажем, для русского мужика, Наполеон был просто антихристом. Но обывателю из Центральной Европы он представал в ореоле владыки вселенной. И потому крушение Наполеона стало для европейца не умираньем огня восстания, а просто отказом — временным — от вселенского, великого и справедливого государства. И если бы кто-то из наших царей, думал Эспер, вслед за Наполеоном, вслед за римскими императорами, вслед за Александром Великим объявил себя вот таким самодержцем вселенной, то именно здесь, в Центральной Европе, это приняли бы с пониманием.
Но в том-то и дело, что каждый из русских царей, да что там — каждый из нас, хочет быть признанным среди европейцев за равного, а когда мечтанья совсем уж дерзки, — за первого среди равных.
С трудом управляя огромной державой, где нет никакого согласья во мнениях, как на пароходе, которым мы прибыли в Травемюнде, продолжал говорить сам с собою Эспер, но есть соблюдение внешних форм и приличий, где многие, заплатив условные 250 рублей, плывут в будущее в почётных полугробах, Государь понимает, сколь сложно было бы управление пароходом «Европа». Быть первым меж равных на таком пароходе нельзя: тут либо равны все собравшиеся в путешествие, и нет капитана, либо подчинены самодержавному управляющему. Недавно таким капитаном была Революция, до того — Абсолют, действовавший через Церковь, а прежде них всех — Pax Romana[8]. Может быть, когда-нибудь страна наша и даст этой самой Европе такого вот самодержца, нового Чингиз-Хана в рубище демократии. И Европа примет его. А пока — недоумение и настороженность.
— А вы-то, Филипп, что думаете? — обратился Эспер к спутнику, не замечая, что давно и уже с некоторым возбуждением рассуждает вслух.
— Посмотрите лучше вокруг. Каждый сам себе самодержец и капитан, а искусный художник особенно. — Вакаринчук был на два года младше князя, а разговаривал с ним как старший.
— И всё-таки?
— Знаете, эта умственность мне ни к чему. Я просто чувствую и — по чувству — живу. Да и места проезжаем такие, что хочется их рисовать без конца.
Ехали они уже по Баварии и приближались к Мюнхену. Шла третья неделя пути.
Филипп, конечно, был прав. Разговоров хватило на пароходе. Но мысль Эспера, раз получив направление, летела неостановимо.
Наполеон принёс европейцам, под знамёнами вселенского государства, свободу, равенство, братство или то, что он сам понимал под этим. Однако жизнь вокруг, хотя и была вдохновлена благоденствием личной свободы, никакого особого равенства и братства в себе не содержала. Большинству обывателей они были ни к чему. Что ж, пусть европеец, немец по крайней мере, не готов стать господином своего положения и пожертвовать собой во имя счастья других. Означает ли эта неготовность признанье превосходства, тех единственных, кто рисковал — Наполеона с соратниками? Означает ли это, что европейцы так и остались не освободившимися рабами, случайно воспользовавшимися добытой не ими свободой? И готов ли на жертву, на смертельный риск ради истины, ради добра, наконец, ради самой красоты Эспер, пустившийся вдруг то ли от долгой дороги, то ли ещё от каких причин в свои размышления?
В воскресенье 5 июля нового стиля Эспер и Филипп были в Мюнхене, где решились на краткую передышку после трёхнедельной тряски и ночёвок в первом же приглянувшемся городке, до которого доезжали к вечеру нового дня. Выстроенные на равнине у реки «германские Афины», как именовали Мюнхен немцы, имели внешне мало общего с древним городом. Но философия, поэзия, живопись и даже музыка в Мюнхене процветали. 7 июля они смотрели в Королевском театре «Вольного стрелка» Вебера, и самый дух оперы странным образом рифмовал с необычайными историями, слышанными Эспером на пароходе.
Рассказ мой поневоле становится очень подробным. Просвещённый читатель, если ты утомлён лавиной деталей — знай, перед тобой только краткий очерк того, что Эспер увидел, о чём записал в свой дневник, который он, как многие молодые люди, начал вести в путешествии, приобретя в Мюнхене красно-коричневую с золотым тиснением тетрадь из отличной английской бумаги с водяным знаком «Whatman 1835». Наберись, читатель, терпенья и взгляни на мир глазами героя: восторженными, увидавшими то, что тебе, вероятно, известно, впервые.
В среду 8 июля Эспер и Филипп покинули Мюнхен; впереди были Альпы и Северная Италия, и как ни приятны оказались три дня, проведённые в столице Баварского королевства, их ждал Рим. 9 июля они уже достигли австрийского Инсбрука, откуда начали путь по перевалу Бреннер — в Италию. Дорога через перевал была знаменита студёными ветрами, и, хотя лето 1835 года близилось к середине своей и ехали путешественники днём, пришлось надевать на себя самые тёплые вещи (а их у Эспера имелось немного), однако холод оказался не сырой, а довольно бодрящий, хотя и опасный для человека, Эспер даже подумал: «Величественный — наверное, таковы холода в наших сибирских лесах, возле просторных рек» (сам он в Сибири ещё не бывал, но слышал рассказы).
Когда стали спускаться, резко потеплело. Начал мельчать и ландшафт. Вместо торжественных гор — возделанные равнины; немецкий уклад сменился на итальянский: если за перевалом в первых тавернах ещё подавали вино с колбасой, а местные мужчины ходили в охотничьих шляпах с пером, то по мере спуска в долину уже подавали вино с макаронами да разными к ним приправами. 11 июля миновали вполне ещё высокогорный, малолюдный, студёный с утра Триент, где в разреженном воздухе итало-германского пограничья Тридентский собор Римской церкви произносил своё «нет!» реформам, начатым Лютером, подняв боевые знамёна противуреформ.
Вскоре Эспер и Филипп оказались в местах, не таких суровых, как горы и первый спуск с них, на настоящей равнине, в местах, где чувство сильнее ума, — в Вероне, прославленной Катуллом и Шекспиром. В сущности, это был не слишком большой город, где помимо условного «дома Джульетты», как если бы он существовал в действительности, а не был плодом поэтического воображения Шекспира, все проезжавшие осматривали римский мост да двухэтажный амфитеатр, на каменных скамьях которого наши путешественники застали лишь редкие пары местных жителей — мужчин в шляпах от яркого солнца, а женщин под зонтами, молча созерцавших пустую сцену. И это и есть прекрасная Италия? Хорошо, но как-то немногословно и совсем не величественно.
— Предлагаю после Болоньи не ехать перевалом в Тоскану, а повернуть на Равенну. Я в Равенне ещё не бывал, и, надеюсь, будет куда интересней Вероны.
Эсперу предложение Филиппа понравилось. Во вторник, 14 июля, они миновали опоясанную зелёными холмами рыжую Болонью, уже находившуюся на территории папских владений (Эспер ещё не знал, что через четыре недели он вернётся сюда), и повернули к востоку — к берегам Адриатики, а 15 июля начинали свой день в Равенне.
В лёгком тумане, в утренней сырости — тепловатой, а не студёной как в Альпах, — ощущался особенный запах черепокожих[9], который указывал на близость большой воды. После коричневой и рыжей Болоньи и множества тёмно-коричневых, красных и рыжих городков на пути Равенна казалась им сероватой и желтоватой, украшенной лишь соснами на окраинах да среди руин, каковых здесь, как и в Вероне, оказалось немного: город прежнего времени был перестроен и плотно заселен. Высокие, раскрывшие в синь зонты своих крон равеннские сосны были когда-то отличным строительным материалом для римского флота. В остатках их среди прежде обширного бора бродил, сочиняя свои терцины, Дант, и — в подражание ему, но уже по-английски — там разговаривал со своими тенями Байрон.
Увы, ничего, кроме того, что здесь жили Байрон и Дант, Эспер о Равенне не знал, но Филипп сразу повёл его в «новую» церковь Святого Аполлинария, возле руин дворца не то остготского короля Теодориха, не то кого-то из его приближённых. Когда вошли в храм, просторный и длинный, выстроенный, по объясненью Филиппа, на манер древних римских и греческих языческих капищ, Эспером покуда не виданных, и Лысогорский взглянул вверх, на мозаики — с ним случилось то, что потом случалось не раз: он позабыл о времени. Деятельный Филипп уже раскрыл альбом и достал грифели, но Эспер видел перед собой только рисунок мозаик, только их цвет.
Когда-то латинская надпись на абсиде гласила: «Theodoricus rex hanc ecclesiam a fundamentis in nomine Domini nostri Jesu Christi fecit»[10], но надпись убрали — Теодорих был еретик-арианин, и, как верил народ, адское жерло Этны пожрало беспокойного властелина; даже изображения короля выскоблили с мозаик храма, заменив их золотым сиянием (не худшее посмертие для того, кого следовало считать отсутствующим), но зато — сами мозаики!
Правый ряд над колоннами изображал процессию ревнителей церкви в снежных гиматиях; на каждой из одежд было начертано по латинской или греческой букве и таким образом шествие всё обращалось в книгу. Каждый был с золотым нимбом над головой и держал в руках по серебряной с золочением короне, украшенной лазоревыми драгоценными камнями и изумрудами. Шествие начиналось от дворца Теодориха, и, чтобы глядящие не сомневались, над ним была надпись «Palatium», а зияние под покрывалом, поднятым над главным входом дворца, оказалось заделано золотом — там, вероятно, прежде сидел на троне своём Теодорих, — и далее, по зелёной траве и цветам, олицетворявшим вечную весну, мимо пальм шествие направлялось к другому, уже вневременному трону, на котором сидел в окружении четырёх небесных воинов Спаситель и держал в руках раскрытую книгу, в которой читалось: «Ego sum Rex gloriae»[11]. И лишь предводительствовавший процессией от земного владыки к владыке небесному св. Мартын Турский был облачён в коричневый паллий церковного иерарха поверх привычного гиматия. Имя каждого было начертано прямо над ним: Мартын (обличитель арианства и порицатель Теодориха), Климент, Сикст, Лаврентий, Ипполит, Корнелий, Киприан, Кассиан, Иоанн, Павел, Виталий, Гервасий, Протасий, Урсицин, Набор, Феликс, Аполлинарий, Севастьян, Димитрий, Поликарп, Викентий, Панкратий, Хрисогон, Прот, Иовиний, Сабин — все льняно-, коричнево-, чёрно- или седовласые, бритые и с бородами; все замерли на траве и на цветах в ожидании, обутые в тонкие римские сандалии, протянув Царю Вселенной временные свои венцы. Выше этой мозаики был ещё один ряд изображений на обеих стенах между окон — пророки и другие святые церкви; а ещё выше — над иконами — третий ряд: увенчанные крестами купола, на которых сидели белые голуби Святого Духа, а между куполами — многочисленные сцены из Евангелий, разобрать которые Эсперу, стоявшему внизу, было уже трудно.
Слева была процессия женщин, начинавшаяся от порта Классиса, в доках которого когда-то собирали римский флот, но потом доки и бухта были преданы небрежению, и море ушло на восток. Женщины были уже в золочёных одеждах, словно сотканных из божественных энергий, с диадемами в волосах, державшими лёгкие светлые невестинские покрывала, ниспадавшие на спину и частично обёрнутые вокруг левой руки каждой, а в правой любая из них тоже держала по серебряному с золоченьем венцу. Все, обутые в красную кожаную обувь, мягко ступали по траве и цветам, мимо пальм, вслед за тремя волхвами, следующими за звездой, обряженными в красные персидские шапки, в разноцветные плащи и рубахи и в пёстрые штаны, вперёд, тоже к трону, на котором в окружении четырёх небесных воинов — тех же, что и вокруг воскресшего Христа, — сидела сама Богородица с Младенцем. Имена святых мучениц и ревнительниц Церкви были тоже начертаны прямо над ними: Евфимия, Пелагия, Агата, Агнесса, Евлалия, Цецилия, Луция, Криспина, Валерия, Викентия, Перепетуя, Фелицитата, Иустина, Анастасия, Дарья, Эмерентиана, Павлина, Виктория, Анатолия, Христина, Савина, Евгения. Несколько столетий, предшествовавших строительству храма, были временем не виданного ни до, ни после подвижничества и героизма.
Когда вышли на улицу, всю залитую светом, Эсперу подумалось, что внутри храма этого самого солнца осталось больше. Никогда ещё искусство живописных форм не производило на него столь сильного впечатления. А были ли в храме молившиеся? Он этого и не запомнил. Там сам взгляд на изображение был такой молитвой.
— Сколько веков мозаикам? — спросил он у Филиппа, чтобы совладать с увиденным.
— Тринадцать-четырнадцать, я думаю.
Казалось, картины были сложены только вчера, таким насыщенным и не угасающим был их цвет. Между тем солнце клонилось к вечеру, и, чтобы успеть куда-то ещё, следовало торопиться. Через четверть часа, пройдя два квартала по Римской дороге и свернув налево, Филипп и Эспер вошли вовнутрь другого храма — бывшей арианской крещальни, выстроенной во времена Теодориха для тех, кто, как остготский король, упорствовал в вере в тварность Христа. Прохлада внутри согревалась ровным золотым сиянием от мозаик в куполе, не менее поразительных, чем те, которые они только что видели в «новой» церкви Св. Аполлинария; и в баптистерии к расплавленному золоту тоже добавлялись оттенки зелёного и голубого. Казалось, что жизнь и разум торжествовали над полной мороков ночью и сном бытия. В вершине купола можно было увидеть, как обнажённый Христос, сойдя в Иордан (Эспер впервые видел изображение абсолютно нагого Христа), принимал крещение от облачённого в голубоватую накидку Иоанна Крестителя, в чьей левой руке был гнутый посох, а правая была возложена на темя Христа-человека; ошую над водой Иордана сидел похожий на Юпитера, Нептуна или даже на римского императора Бог-Отец с оливковой ветвью в правой руке; его чресла были завернуты в зелёную ткань вечной жизни; для современников Теодориха он и был таким Императором — Вселенной. Вокруг замерли двенадцать апостолов в белых одеждах, на которых, как на одеяньях святых в церкви Св. Аполлинария, начертаны были греческие буквы, — с венцами в руках стоя на траве, среди пальм; бороды, усы, а у одного и бакенбарды делали их похожими на прусских или баварских военных.
Ты ещё не утомился, читатель? Слушай дальше.
Крещальня православных, которую они осматривали на следующий день, вроде и не сильно отличалась от арианской, но самый дух мозаик в куполе был другим: всё тот же голубь нисходил в золотых энергиях на нагого Христа, вошедшего в Иордан, но благословлявший Христа Иоанн в зелёной (а не в голубой) накидке не возлагал на главу Спасителя рук, а лишь держал их над Богочеловеком, крещаемым в иорданской купели; очи Христа были закрыты в столь торжественный момент; а некто, стоявший, как и Он, в иорданской воде справа от Спасителя, подносил Ему накидку того же зелёного цвета, как у Иоанна, чтобы прикрыть Христову наготу. Вроде бы всё те же двенадцать апостолов расположились вокруг крещаемого с венцами в руках, но поверх белых на них были надеты ещё золотые одежды, а «воздух» мозаики был совершенно синим, будто происходило крещение не днём, а ночью. Вообще самый дух места показался Эсперу таинственнее, недоговорённее. Как и изображавшие императора Юстиниана и супругу его Феодору в окружении константинопольских царедворцев, а ещё запечатлевшие сцены из священной истории величественные мозаики в церкви Святого Виталия, увиденные ими тогда же. Мозаики оттенялись поздними фресками-обманками на других стенах и в куполах церкви, искусственно углублявшими перспективу: изображавшими ангелов и разнообразные ниши как бы отделёнными от плоской изнанки здания. Но больше всего поразил среди этого великолепия осторожно ступавший по прохладным напольным мозаикам и плитам пятнистый кот, которого Эспер и Филипп потом увидели на окружавших церковь Св. Виталия руинах, среди зелёной травы и очень высоких сосен. Он, как трава и сосны, казался продолжением изображённого на стенах храма, мягко спрыгнувшим в телесную полноту.
Уже только ради этого стоило ехать в Равенну.
Всё, что Эспер увидел, признаться, смущало его. Он не был особенно религиозен, но тут испытал чувство стыда за свойственное многим людям его круга невнимание к глубокой и твёрдой, но радостной вере, одушевлявшей такое искусство, такую в нём заключённую жизнь.
На третий день они побывали в усыпальницах Данта и Теодориха. Эспер мог только догадываться, как выглядели могилы Вергилия, ещё в Средние века почитавшегося за обладавшего тайным знанием волхва, и Гомера, чтимого в очень глубокой древности. Ни в Неаполе, где у Вергилиевой усыпальницы рос лавр, вновь посаженный, когда прежний исстарился, Петраркой, ни на острове Иосе, где вся местность выжжена эгейским солнцем, он не бывал. Dantis poetae sepulcrum[12] располагалось в небольшой, узкой, прохладной часовне, выстроенной в конце осьмнадцатого столетия у стен францисканского монастыря, братия которого бережно хранила память о песнопевце (и даже какое-то время прятала от раздражённого интереса посторонних мощи его под лестницей монастыря); в часовне горела неугасимая лампада, а на стене был мраморный профиль «поэта Данта», сличающего то, что написано в двух книгах — в Священном Писании и в его собственной «Божественной комедии».
«А какие памятники мы воздвигнем нашим русским певцам — тем, что были, и тем, что ещё будут? В камне, в меди и просто в памяти поколений?» — спрашивал себя Эспер.
Мавзолей Теодориха — крепкий, геометрически правильный — напоминал огромный тяжёлый шлем, снятый с головы великана и опущенный на землю. Мавзолей, как и мозаики в куполе арианской крещальни, казался сделанным только вчера, ибо правильная его геометрия была слишком правильной и безыскусной для императорского Рима, наследником которого мнил себя Теодорих. Прах Данта лежал в часовне, а где обрело покой тело властелина остготов и всей Италии? Оно, как казалось, растаяло в воздухе, сгорело в дыхании Этны, а здесь стояло лишь напоминание о бывшем хозяине смертной оболочки, великане в сравнении с остальными, скрывшемся на коне в никуда, и, словно в знак очищающего «омовения в пламени», в центре мавзолея стояла римская ванна из красного гранита. А прах Теодориха был невесть где.
Когда Эспер и Филипп возвращались от мавзолея пешком, мимо крепости, выстроенной на окраине венецианцами, Эспер, погружённый в думы о памяти, истории и славе, а Филипп совершенно счастливый с альбомом новых зарисовок под мышкой, Эсперу уже было ясно, что Равенна, вдохновлявшая и Данта, и Байрона своими мозаиками, своей архитектурой, своим сосновым бором, синим небом, запахом близкого моря, была для него лучшими воротами в Италию, и как здорово, что Филипп предложил ему уклониться от привычного пути!
Ещё они добрались до древнего Классиса, где среди запустения, недалеко от высохшей бухты возвышался «старый» храм Святого Аполлинария (ненамного старее «нового», что украшал Равенну) — кажется, единственное строение, уцелевшее со времён, когда здесь находился и римский военный порт. Этот храм был ещё поразительней первого, ещё величественней и просторней: с великолепной мозаикой Преображения на конхе абсиды, на которой окружённый золото-алым сиянием светло-синий небесный круг со звёздами и с огромным пылающим золотым крестом в самом центре его олицетворял преображённого Христа, а — вместе с ним — и Вселенную, к сердцу которой по радостно зелёным равнинам стекались сзываемые св. Аполлинарием стада верных. Нигде Эспер больше не видел такого поразительного зелёного цвета, как на мозаиках Равенны и Классиса.
Ещё побывали в Римини, где были вполне себе целы и арка Августа, путь к которой был отмечен невысокими стелами с шарами на их вершинах (вот откуда петербургские мосты заимствовали свои украшения), и конец Эмилиевой дороги, и возвышавшийся на этой дороге обшитый светлым камнем мост Тиберия через реку Мареккья. Эспер глядел сверху на зеленоватую воду быстрой реки, впадавшей в Венецианский залив, на стада мелких рыб под арками моста, на преломлённое в воде десятками тысяч бликов солнце. Вот так государства и правители уходят, а остаются выстроенные ими въездные арки, мосты и дороги, вьющиеся рыбы под пролётами всё ещё крепких мостов. Он уже был готов ехать дальше.
Дальнейший путь Филиппа и Эспера лежал более или менее по Фламиниевой дороге через Умбрию, где, заехав в Ассизи, они рассматривали фрески Чимабуэ и Джиотто, и в конце концов добрались до Рима.
О Рим!
Первые впечатления по прибытии поражали даже после увиденного в Равенне (всё-таки перед ним была древняя, хотя и опустевшая за века небрежения столица) — жизнь, почва города, самый свет, разлитый повсюду, как и обильная, от высоких домов, тень на непривычно узких после Петербурга и перестроенной послепожарной Москвы главных улицах казались сошедшими с гравюр Пиранези, которые Эспер так долго рассматривал перед отъездом в России и которые здесь продавались в любой книжной лавке, и было уже непонятно, кто кого создаёт — рисунки мастера Джамбатисто Город или Город прославившие его рисунки.
Чудовищное запустение, запечатленное у Пиранези, сменилось бурной застройкой, и там, где прежде виднелись кустарники да деревья и вольно бродили коровы, оставляя повсюду лепёшки тёплого навоза, были теперь правильные дома, тесно пригнанные друг к другу. Центральные площади и улицы были теперь вымощены и относительно чисты, а пастухи Лациума, привыкшие выпасать свой скот на стогнах града, ныне — вполне идиллически и скорее уже театрально — дневали на древнем форуме, и обнаружить их, скажем, у Пантеона было редкостью.
Пантеон! Этот бывший храм всебожия сразил Эспера своим внутренним совершенством. Геометрическая, замкнутая в себе простота древнеримского взгляда, чеканность, даже грубоватость его, ибо слишком уж очевидна логика циркульных линий, вычерчиваемых в воздухе и заполняемых камнем, и вместе с тем мягкость, уже утраченная остготскими архитекторами, строившими мавзолей Теодориха, ибо (от света и от совершенства конструкции) камни, колонны, купол Пантеона представлялись в самом величии своём немного домашними — тут был секрет золотого века Августа, доступный и Адриану, довершившему храм, — а вместе с тем, когда смотришь на это, говорил себе Эспер, накатывает невероятная радость, но она тебя не опрокидывает, а делает лучше и выше, ибо она соразмерна глядящему.
И совсем не хотелось, как когда-то из равеннских храмов, выходить из Пантеона на залитую слепящим солнцем площадь с увенчанным крестом египетским обелиском, поставленным на каменного слона, — туда, где всё необычайное и странное становилось реальностью.
Ему не нужно было ничего необычайного, странного.
Настолько прекрасной и совершенной была созерцаемая им геометрия этих окружностей, сфер, полусфер, прямоугольников, вытянутых вверх несколькими поющими рядами по внутренней стороне купола — к округлому отверстию в самом центре его, откуда лился строго отмеренный свет. Ничего подобного этому гармоническому восхождению взгляда, слиянию величественного и внешнего с внутренним и домашним Эспер пока не знал.
Что ещё он увидел в первый свой день? Конечно, Эмилиев или Адрианов мост — это смотря какое из двух имён воздвигшего его императора использовать, — перекинутый через Тибр к усыпальнице того самого императора Адриана, о котором Эспер уже столько слышал, и одновременно к месту последнего упокоения всех тех, кто правил империей следом за Адрианом, — к Замку Святого Ангела с предводителем небесного воинства, Архангелом Михаилом, достающим меч из ножён, на самой макушке, и замер, как замирал в Пантеоне, в крещальнях и храмах Равенны, не дойдя до середины моста.
Вот он стоял на мосту, по которому семнадцать столетий шли неисчислимые толпы через реку в северную часть города, к священным холмам, — украшенному теперь вдоль перил статуями святых Петра и Павла и десяти ангелов. Из ангелов кто-то держал в руках крест, кто-то гвозди, а кто-то плети, кто-то терновый венец, кто-то губку с уксусом, даже копьё, а кто-то и плащаницу, и языческий мост выглядел как Via Crucis.
Под мостом тёк мелкий и мутный Тибр. Отражаясь в нём, арки моста обретали законченность вычерченных мысленным циркулем полных окружностей, словно и вправду продолженных под поверхностью Тибра. Пиранези их и дочерчивал на гравюрах, полагая, что любой древний римский мост выстроен был именно так: окружности, выложенные камнем, на которые опирается переход, а внутри каждой окружности — разделённый на потоки Тибр, заполняющий по весне наносами выложенное камнем русло и оттого становящийся с каждой весной всё менее годным для судоходства.
Вот впереди рыжела гробница-замок.
А Эспер стоял, заворожённый увиденным, не в силах ступить ни шагу вперёд. Он теперь понимал, почему дядя звал его именно в Рим.
Так и не перейдя на ту сторону, зашагал обратно, на римскую квартиру (о ней рассказ впереди) — дорогой, что неизбежно шла через площадь Навона. Была среда, сильно заполдень, и всё пространство бывшего стадиона Домициана заполняли торговцы фруктами, овощами и разным прочим товаром, от кожаных и металлических изделий до старых бокалов, табакерок и книг; впрочем, торговля уже подходила к концу. Эспер был покамест нетвёрд в итальянском, а латынь позабыл изрядно, но всё же ему было б легче объясниться с торгующими, если бы здесь говорили на чистой латыни. Однако и наблюдать происходящее со стороны было весьма поучительно — спор агонистов здесь продолжался, как и при Домициане, но состязались сейчас не в метании дисков, не в кулачных боях и не в верховой езде, а в том, как бы поскорее избавиться от товара за сходную цену. Эспер прошёл мимо гор ранних яблок, дынь, апельсинов, всяческой зелени, круп, красных и жёлтых плодов, русских названий которых он просто не знал, — изобилие это, сказочное для северянина, впечатляло не меньше, чем Пантеон или мост к Замку Святого Ангела. Он и сам не заметил, как руки его и карманы оказались заполнены разнообразным товаром. Целил в небо знакомый ему по гравюрам египетский обелиск, венчавший фонтан четырёх рек. Что на нём было начертано? Какое-нибудь прославление ристалищу Домициана? Для прежнего римлянина, как и для русского Эспера, язык иероглифов был жреческим, тёмным наречием восточного царства, презиравшего человека, но ставившего на пьедестал земноводных, хищных птиц и даже животных-падальщиков, — языком, порывавшимся утверждать и властвовать, но не маршем стальных легионов, а смущающим жестом бога-ястреба и бога-шакала, шипением священной змеи, стрёкотом крыл скарабея. Вероятно, в глазах, умевших всё это прочесть, высеченное отделялось от мраморной стелы и жило, как колосья, из каких слагается поле, самостоятельной жизнью рисунков-букв, но Эсперу язык этих древних заклятий был безразличен, тем более что вокруг обелиска торговали книгами на итальянском. Беглого взгляда на них оказалось достаточно, чтобы понять: торговали, увы, обычной в подобных местах ерундой, отпечатанной на тряпичной бумаге сто- или двухсотлетней давности, на манер изданий благословенного А. А. Орлова, какими полны были рынки Москвы: какая-нибудь «Встреча чумы с холерою», мещанские повести, исторические поэмы, не плохие и не хорошие, сочиняя которые автор не то потешался над нами, не то был вполне вдохновенно безумен. Изредка попадались: разрозненный том Ариоста или Вергилия, несколько переплетённых песен Тасса про Иерусалим — нет, читать ничего из этого Эспер сейчас не стал бы. Он стоял посреди площади, где цвета, запахи, голоса были лучше любых самым наипрекраснейшим образом собранных букв, и те, кто сейчас торговал этими буквами, вызывали у него улыбку. По сравнению с жизнью hic et nunc[13] это был лежалый товар.
Эспер действовал дальше по плану: во-первых, осматривал знаменитые усыпальницы древних, многие из которых были раскопаны и восстановлены (разговоры на пароходе давали о себе знать), во-вторых, все уцелевшие колонны и обелиски, в-третьих, все памятные места Вечного Города, в-четвёртых… Но последнее уже не от него одного зависело, ведь ехал он в Рим по делам.
Первой он посетил пирамиду Кая Цестия, в южной части Древнего Рима, у Остийских ворот. Пирамида была единственной в своём роде — светлого камня, на котором гнездилась зелёная поросль, неведомо за что цеплявшаяся. С обеих сторон к пирамиде подходила стена городских укреплений. Вход в погребальную камеру, пробитый 170 лет назад вместо намертво замурованного древнего, был теперь тоже закрыт, и оставалось утешиться зарисовками фресок и священных предметов, сделанными Пиранези (впрочем, листы Пиранези были с ним повсеместно).
Но — Египет в Риме! Кажется, это был род помешательства у тех, кто когда-то империей правил и меньше всего был похож на нильских иерофантов, но так желал — от государственного служащего и члена полуплебейской коллегии Цестия до самого императора — выглядеть не по-латински, а как-нибудь на восточный манер.
Между тем прямо через дорогу от пирамиды располагалось некатолическое кладбище, где Эспер набрёл на могилу несчастного Перси Шелли (он всё никак не мог вспомнить, кто это; помнил лишь, что утонул) и на одно совсем свежее русское захороненье — княгини Прасковьи Вяземской, не достигшей и восемнадцати лет. Приехать в Рим, чтобы вот так умереть! А что совершил к двадцати двум годам своим Эспер? Едва ли ему было чем похвастаться.
От кладбища князь решил совершить прогулку шагом до раскопанной гробницы Люция Аррунтия-младшего, выразительные зарисовки которой, сделанные Пиранези, он запомнил ещё в Москве, и отпустил коляску, терпеливо ждавшую его всё это время у пирамиды. Шёл наугад на северо-восток мимо оставшихся по правую руку руин Бань Каракаллы, свернул на опустевший участок Аппиевой дороги, ничуть не похожий на фантастическое скопление надгробий, статуй, бюстов, обелисков и башен, нарисованное Пиранези, и дальше — по разорённой и не застроенной пустоши — дошёл до Больших ворот современного города. Дорога оказалась неблизкой, более часу. Жарило солнце.
Когда, запылённый и очень усталый, Эспер достиг цели, то обнаружил, что от былого великолепия нет и следа. Ещё три четверти века назад здесь на подземных арках были целы красочные, нежные росписи, изображавшие грифонов и беседующих друг с другом обитателей загробного мира, а у ниш многоярусного колумбария можно было прочесть вмурованные в стену надписи. Обряженные в камзолы энтузиасты в треуголках, с прогулочными тростями под мышкой и с тусклыми фонарями в руках изучали стоявшие внутри резные саркофаги из мрамора и содержимое простецких погребальных урн освобождённых рабов, и в посмертии пребывавших рядом с их бывшими хозяевами.
Печальная участь, постигшая мавзолей после обнаружения — настоящий разгром под предлогом спасенья наследия, — была похожа на участь римского государства после смерти неподкупного Аррунтия: сенатор вскрыл себе вены, чтобы не участвовать в безобразиях царствования Калигулы.
Раздосадованный как на неудержимых гробокопателей, так и на игру собственного воображения, в котором ему рисовался целый подземный город, просторный и величественный, Эспер пошёл к расположенным неподалёку руинам того, что считалось храмом Минервы-целительницы, и присел в их тени. Но и здесь поработало время и людское бездействие. Сохранись строение в куда лучшем виде, а не в качестве торчащего из пасти земли разрушенного огромного зуба, оно, вероятно, как Пантеон, радовало бы гармоническим пением циркульных форм; но увы, купол, венчавший здание во времена Пиранези, обрушился, и небо — яркое, светло-голубое, почти белое солнечное небо — было видно насквозь; стены тоже были целы лишь отчасти. О, как Эспер теперь понимал Корсакова, приходившего в отчаяние от увиденного в Константинополе и в Афинах! К гробнице семьи Августа, раскопанной одновременно с гробницей Аррунтия, Эспер решил не ходить. Что там его ожидало? Крепкие стены? Осколки растащенных захоронений?
А вот колонны и обелиски возвышались в Вечном Городе почти невредимыми. Человек не решался их трогать — ни вандалы, ни армия Наполеона, и даже климат и время щадили их.
Эспер начал с древнеегипетского обелиска перед собором Иоанна Крестителя Латеранского. Древний храм был давно перестроен, древний дворец семьи Латеранов снесён, а вот египетский обелиск возвышался по-прежнему, перевезённый сюда из Большого цирка. Когда Филипп услыхал о впечатлении Эспера от обелиска на Пьяцца Навона, он вручил ему изданную одним анонимным энтузиастом книгу «La clef de l’énigme de l’obélisque du Latran»[14] (Рим, 1834):
— Посмотрите; уверен, что, узнав, о чём эти тёмные иероглифы, отношение своё перемените.
Подозревали участие в книге покойного месье Шампольона, ещё в 1826-м скопировавшего все надписи с египетских обелисков Рима. Безыменный автор писал со ссылкой на «Естественную историю» Плиния-старшего, что все «обелиски были посвящены дающему жизнь солнцу, и даже сама форма каждого из них должна была напоминать об острых как иглы всепроникающих лучах». Эспер, кажется, немало изумлённый, выписал в свою тетрадь начало начертанного на латеранском обелиске гимна, переведя на русский с французского перевода:
Гармахис, живое солнце, мощный бык, солнцем возлюбленный, властелин венцов — слухом прегрозным по всем землям — золотой многосильный ястреб, сокрушитель ливийцев, царь Рамен-Хепер, сын Амона-Ра от чресел его, рождённый матерью Мут в Ашере, сын Солнца, плоть Солнца, от плоти его сотворившего, объединитель творения Тотмес, возлюбленный Амоном-Ра, повелитель престолов верхних и нижних земель, дарующий жизнь — как солнце — навеки; Хоремаху, солнце живое, мощный солнечный бык, увенчанный в Фивах, повелитель венцов, кто раздвинул свои владенья, подобно светилу на небе, золотой ястреб, умыслитель венцов царь Рамен-Хепер, солнцеприязненный сын Солнца Тотмес памятник отцу своему Амону-Ра воздвиг — повелителю места силы верхних и нижних земель, обелиск воздвиг тебе возле храма у Фив — первый из обелисков фиванских, Хоремаху, живое солнце, на кого надета корона высокая верхних земель, повелитель венцов, правду празднующий, золотой ястреб, возлюбленный и на земле, торжествующий силою царь земель верхних и нижних, воздвигающий памятники в Фивах Амену, придающий им новую силу, возвращая прежний облик, изначальный — никогда ничего подобного не было совершено во времена Амена, в доме отцов его — превратившего Тотмеса, сына Солнца, в правителя Ана, дающего жизнь. Хоремаху, живое солнце, могучий солнечный бык, увенчанный правдою, Рамен-Хепер, восхищённый великолепьем Амена в Фивах, его Амен и приветствует; сердце его становится больше при взгляде на памятники, кои воздвиг его сын, и сам он по прихоти делает бо́льшим царство своё, придавая надёжности новым явленьям Владыки в тьме бесчисленных празднеств за тридцать лет.«А разве римское солнце не таково? — продолжал свою запись вслед за переводом Эспер. — Разве оно не гонит сомнения, хандру и хвори? Разве ему не стоит воздвигнуть какого-нибудь обелиска? Древний римлянин был слишком суров к себе самому, чтобы безудержно хвалить Абсолютный Свет, — в его глазах это было прилично лишь греку да египтянину. Что ж, я оказался неправ, и всё, даже искусство Египта, имеет две стороны — даже на языке деспотии можно петь гимны источнику жизни и всяческой жизненной силы. Вероятно, найдутся и те, кто сочтёт расшифровку обычным миражем, галлюцинацией, но — уж очень правдоподобная галлюцинация».
Церковь внутри его не впечатлила. За исключением красочных византийских мозаик в апсиде храма, всё остальное в ней было создано в относительно недавнее время, лет сто, от силы двести назад.
На пути из Латерана к колонне Траяна Эспер задержался — у Колоссея. Именно тут был предел современного города, и дальше, до Латерана шла пустошь, руины. Отчасти порушенный, Колоссей производил, в отличие от Пантеона, впечатление подавляющее. Величественное строение, заслонявшее солнце и небо, внутри сохраняло безумный, в силу разрушений и неполноты частей, лабиринт скамей, переходов, арок. Но и в целом виде оно, вероятно, казалось безумным: ведь всё великолепие и строительное мастерство были потрачены на то, чтобы дать праздному плебсу наилучшее обозрение для человеко- и звероубийства. И как понятен ему был теперь амфитеатр в Вероне!
Вот и колонна Траяна. Окружённая новыми зданиями, она показалась Эсперу меньшей, чем была на самом деле. Да и картины войны Траяна с даками были плохо видны на позеленевшей, залитой ярким солнцем меди, обвивавшей колонну. Но статуя Траяна в плаще, с орлом, сложившим крылья у ног императора, по-прежнему венчала её, и к ней можно было подняться по каменной внутренней лестнице.
А на вершине другой колонны, воздвигнутой неподалёку, — Марка Аврелия, вдохновившей Траянову, Эспер увидел брадатого Апостола Павла с мечом: вероятно, в силу далёкого сходства святого с не брившимся императором, свергнутым с пьедестала много веков назад.
Где ещё побывал Эспер?
Конечно, всходил на Капитолийский холм, где позеленевший от времени конный памятник Марку Аврелию (теперь это был действительно он), переживший нашествия, века и пожары, приветствовал Эспера поднятою рукой. Восходя, дивился на стороживших подъём львиц из тёмного египетского мрамора и наверху — на великанские, в пять человеческих ростов древние статуи Кастора и Поллукса в высоких шапках, держащие за невидимые уздцы послушных коней своих, а ещё на трофеи Августа позади статуй Кастора и Поллукса, на весь этот ансамбль подлинных древних скульптур и новой архитектуры, придуманный Микеланджело.
Поднимался и на Квиринал, где новые великанские статуи всё тех же братьев Кастора и Поллукса останавливали коней уже на полном скаку — по обе стороны от ещё одного обелиска, на этот раз без иероглифов, у подножья которого был устроен фонтан в виде огромной чаши: вода из неё выливалась в бассейн, в котором плескались налетевшие с Тибра и с моря чайки. Видел он и другой квиринальский фонтан — водопады прохлады перед дворцом Поли.
Впечатлений уже было больше, чем он мог удержать в голове. Даже в таком сильно порушенном и перестроенном виде Вечный Город был всё-таки поразительнее всего, прежде виденного, даже Равенны. А воображаемая сценография этого Города в древности со взаимоперетеканием циркульных линий, бесчисленными обелисками, прямоугольниками садов, ребрящимися колоннадами вдоль протяжённых зданий и вовсе сокрушала сознание того, кто пытался её вообразить в деталях.
Но мы, дорогой мой читатель, не сказали о главном. Где же Эспер жил все эти дни? И где был дядя его Адриан Лысогорский, пригласивший его в этот самый Рим? Князь Адриан уехал за несколько дней до появленья племянника, которому оставил очень короткое письмо:
«Дорогой Эспер,
прости, что не встречаю. Необходимость быть там, где я сейчас нужнее, действительно безотлагательна. Знаю, что до Травемюнде ты доехал без приключений. Думаю, что и остальная дорога была для тебя приятной. В шкатулке с изображением змеи найдёшь денежные векселя. Живи пока у меня. Я дам тебе знать, когда мы свидимся.
Твой дядя Адриан».Ключ от шкатулки был вложен в письмо, которого всё равно никто, кроме небольшого числа русских в Риме, а они и так были все на виду, прочитать не смог бы — так что, оставляя письмо у хозяина дома, в котором Адриан Лысогорский снимал комнаты, дядя Эспера ничем не рисковал. К тому же письмо было в плотном конверте, перевязанном тесёмками и запечатанном сургучом, на котором он нашёл оттиск фамильной, дедовской печати: кириллическое заглавное «Л» с лежащим под ним коротким обнажённым мечом, окаймлённые лавровым венком.
И вот герой наш поселился в оставленных ему дядей недорогих комнатах, отделанных на, как он догадался, модный немецкий манер, который немецким был очень условно и сочетал увлеченье древностью с удобством и простотой. Единственное на всё жилище зеркало, простое и прямоугольное, висело в прихожей и имело в чёрной части буковой рамы вставку — прямоугольник, положенный, в отличие от вертикального зеркала горизонтально: внутри его был изображён пятнистый коричнево-золотой пёс. Но отражающее стекло было почему-то завешено куском красного бархата. Эспер недолго думая сдёрнул покрывало, и в стекле тотчас отразилась небольшая анфилада комнат: гостиная, кабинет, спальная. Гостиная была почти пуста. В кабинете стоял секретер, отделанный буком и увенчанный в верхнем отделении двумя крылозмеями, исчезавшими, когда секретер открывался и верхняя его дверца превращалась в стол. В самой дальней комнате — спальной — ложем служила загибающаяся в центральной части к земле, чтобы создать иллюзию колыбели, ладьи или раковины абсолютно прямая и жёсткая внутри загибающейся формы — в жёстких планках, на которые был положен матрас, кровать, оклеенная вишнёвым шпоном, который придавал скульптурной по виду выдумке мягкую коричневость. У изголовья и у ног кровати, совсем как на помпеянских фресках, рисунки с которых Эспер успел повидать к этому времени в великом количестве, стояли крепкие чёрные колонны, отделанные буком. У кровати Эспера располагался ночной столик, запиравшийся на ключ и напоминавший обрубок приплюснутой колонны. На дверце столика была изображена лира внутри лаврового венка. За дверцей ночного столика обнаружилась та самая шкатулка, о которой дядя Эспера упоминал в письме. На комоде, также поставленном в спальной комнате, стояли два чёрных грифона, отлитые в металле по слепкам с найденных на раскопках в Помпее и Геркулануме, и смотрели в лицо друг другу.
При всей простоте в игре форм и красок в убранстве квартиры было что-то завораживающее.
Книг в ней не оказалось совсем, кроме оставленного на прикроватном столике бамбергско-вюрцбургского издания «System der Wissenschaft. Erster Teil»[15], между страницами которой — там, где пространные рассуждения о «Herrschaft und Knechtschaft»[16], — Эспер обнаружил на сложенном вдвое листке бумаги запись: «Признания от Другого не ищут, его берут или им рискуют». Эспер не понял, была ли это мысль его дяди, но почерк был точно его. Вообще жильё выглядело как квартира холостяка, не слишком часто им навещаемая.
А как же новый и почти неразлучный теперь товарищ Эспера?
Вакаринчук снял на деньги от Академии Художеств светлую, но крайне скромную, почти лишённую обстановки мастерскую, в сравнении с которой квартира Лысогорского могла показаться почти роскошной. Впрочем, бытовые удобства Филиппа заботили мало: он готовился путешествовать дальше по Югу Италии и по Сицилии.
Эспер же продолжал заносить впечатленья в тетрадь:
«Понедельник, 27 июля 1835.
Сегодня с утра Филипп повёл меня в мастерскую первого из наших художников в Риме, Ивана Роберти. Итальянец по рождению, Иван Максимович с раннего детства жил в Петербурге, и так свыкся с нашим языком и обычаями, что, когда был послан от Академии Художеств в Рим, остался им верен, всячески помогая устройству новоприбывших пансионеров Академии, способствуя им в их первых шагах советом, делом и сердечным расположением. Немало дельных советов от Роберти получил, по его словам, и Филипп, когда впервые оказался в Италии.
Роберти лет семь назад женился и живёт в просторной квартире при мастерской с женой-итальянкой и уже целым выводком детей.
Работы его продаются, кажется, неплохо — итальянцев удивляет, как их бывший соотечественник смог настолько проникнуть в душу далёкого, не сродственного им народа, и потому те, кто их ценит, видят в них отчасти курьёз, отчасти доказательство того, что гений итальянский способен к самым неожиданным превращениям.
Когда мы вошли, то увидели четырёх мальцов, собравшихся у кистей и красок отца, осторожно и внимательно их трогающих, безупречно одетого приветливого хозяина, и я с удовольствием потрачу ещё несколько строк, чтобы удержать на память характерные черты его внешности. Роберти был одет и по-домашнему, и артистически, и вместе с тем официально, как умеют (я это успел заметить), сохраняя вкус и меру, одеваться многие природные итальянцы и итальянки. На нём были расстёгнутый светлый сюртук свободного покроя, белая льняная рубашка, светлые брюки со штрипками и плоская, без каблуков, почти домашняя длинноносая обувь. Аккуратная, но не слишком короткая стрижка каштановых волос и короткие бакенбарды придавали оживлённому, очень правильному лицу моложавость. Впрочем, ему было уже тридцать пять лет. Из соседней комнаты раздался голос жены, не знавшей о нашем приходе; она продолжала говорить и входя в комнату, где мы все собрались, на, видимо, привычной в этом доме смеси наречий:
— Giovanni, presta un poco di attenzione ai bambini[17]. Добрый день, господа.
Роберти стал показывать нам новую серию гравировальных работ, которой был занят. Это всё были сцены из русской истории, преимущественно стародавней. Особенно Роберти удавались сцены насилия, эпичного по размаху, словно позаимствованного из „Илиады“ или „Энеиды“. Расправа недовольных данью древлян с князем Игорем Рюриковичем, привязанным ими к верхушкам согнутых деревьев, которые разорвали могучего воина напополам, месть вдовы его Ольги, сжигающей древлянский Искоростень дотла, убийство Святополком Окаянным своих братьев Бориса и Глеба, ослепление князем-изгоем Давыдом Игоревичем своего двоюродного племянника князя Василька Теребовольского, тоже изгоя; да сколько ещё подобного! Исполнены гравюры были классически точно, с прорисовкой всех мускулов, всех деталей одежды, так что герои казались атлетами, только что покинувшими арену древнего стадиона или хуже того — цирка, русского Колоссея, но сам их предмет!
— Разве одно насилие замечательно в нашей истории? — засомневался я.
— Нет, не одно, но его много, — отвечал хозяин.
— Пусть так. Но разве его мало в истории римской?
— Немало. Но римлянин, учась эстетическому у грека, умел увидеть красоту и совершенство даже в насилии: вот когда полководец децимировал дрогнувшие легионы, то легионы, сокращённые математически, становились лишь твёрже, а когда уличённый в заговоре сенатор убивал себя сам, то ему по смерти воздвигали памятники как человеку чести, герою. Славянин же упивается ужасом совершаемого, чего никогда не стал бы делать человек латинской расы, и в этом есть что-то нетрезвое.
— Может быть, экстатическое, как в древних греческих дионисиях?
— Нет, именно нетрезвое.
Перешли к главной работе Ивана Максимовича, стоявшей не вполне законченной на больших подставках посреди его мастерской, к „Борющемуся Лаокоону“ — аллегорическому полотну, намекавшему, по словам самого художника, на современность: могучий жрец Аполлона с лицом и телом, искажёнными неравной схваткой с вынырнувшим из морской бездны кольчатым змеем, словно пытается его растянуть, разорвать на куски, — так атлет совершает последнее усилие, которое сторонний наблюдатель назовёт смертельным, которое приводит к его победе или к полному поражению. Особенно впечатляло лицо Лаокоона: с глазами, не видящими ничего перед собой и вместе с тем открывающими зрителю всё, что привело к последнему усилию и даже, если поменять угол взгляда, вперёнными в зрителя, прожигающими его насквозь. Таким уменьем изображать видящие и невидящие глаза обладали лишь средневековые иконописцы. Я сразу узнал это лицо.
— Да-да, это ваш дядя, — заговорил Роберти прежде всяких вопросов с моей стороны. — Мы с ним неплохо знакомы, и он согласился позировать. Я очень был рад: где ещё отыщешь такую выразительность! В фигуре — может быть, но в лице!
Взгляд мой упал на одного из сыновей Лаокоона — протянувшего руку к отцу, глядящего на него в изумлении — и… я узнал Филиппа. Второй сын — тот, что слева — был нарисован лишь в контуре. Написаны в красках были одни змеи, охватившие, словно жгуты, оба его плеча и бьющие хвостами о спину. Но и по контуру фигуры было видно, что он, хотя и смотрел на отца с изумлением, тоже боролся, выбросив в воздух обе руки, словно хотел и действительно мог напряжением всех мускулов разорвать давящую тело его змеиную хватку. И, может быть, именно второй сын и должен был выйти победителем из схватки. Лица у него ещё не было. Над тёмным Эгейским морем, на берегу которого происходила борьба, висело почти чёрное небо, и вообще воздух был без намёка на свет, отчего тела людей, сцепившихся с чудовищными морскими змеями, казались светящимися.
— Не отрицайте, любезный Иван Максимович, связи этого полотна с новейшими исчадиями французской школы, — заговорил не без иронии Филипп.
— С кем же? С Жерико? Но это всё было лет двадцать назад, молодой человек. — Роберти пришёл в раздражение. — Вы рассуждаете совсем как господин Корсаков. Это очень профессорские, правильные рассуждения. Скорее уж я научился чему-то у Гвидо Рени. Вы видели работы Рени? — поинтересовался Роберти, обратившись на этот раз ко мне.
А я не только не видел этих работ, но и само имя художника слышал впервые.
— Обязательно доберитесь до Болоньи и познакомьтесь с этим выразительным мастером в Пинакотеке, — завершил разговор Роберти несколько наставническим тоном, на что он, конечно, имел полное право.
Кажется, ему было пора возвращаться к семье, а мы отправились с Филиппом в мастерскую к Самсонову, который ждал нас к пяти часам. Увидеть двух столь разных художников в один день, к тому же находящихся друг с другом в не признаваемом, но упорном соперничестве, было и поучительно, и почти невероятно. Но и Филипп, и, как оказалось, мой дядя Адриан состояли с обоими в самых дружеских отношениях, и потому Самсонов встретил нас с предельным радушием, на какое он был способен. В отличие от Роберти, он жил небогато, аскетом, и мастерская его являла вид холостяцкого жилья с порядком в частях и углах, что бросаются в глаза гостю, и с беспорядком там, где идёт работа и где хозяин спит. Между тем нас уже ждал накрытый стол с нехитрыми яствами, доставленными из ближайшей траттории, и с большим количеством домашнего белого вина. Вино я пил в Риме впервые; оно оказалось очень лёгким, хотя и сильно хмелящим. Так как мы ничего не ели с утра, трапеза была желанной.
— Ешьте, господа, ешьте, — приговаривал бородатый и давно не стриженный Самсонов, с интересом наблюдая, как мы уплетаем макароны с разными приправами из оливкового масла, пахучих трав, перетёртой варёной рыбы и перетёртого же твёрдого сыра, а также того, что итальянцы зовут pomi d’oro, и подливая нам и себе вина из холодных ещё кувшинов, — римская еда это, господа, священнодействие.
Через широко распахнутую балконную дверь солнечный свет заполнял всю мастерскую, даже обильно росший вдоль стены второго этажа виноград, который Самсонов, разглядывая меня намётанным оком рисовальщика, иногда обрывал и ел, запивая белым вином (к остальной пище он почти не прикасался), даже тенистый виноград не мешал дыханию золотого, горячего воздуха, колебавшего пришпиленные здесь и там картоны. Во внешности Самсонова было много мужицкого, из земли идущего; казалось, перед нами стоит откопанный на руинах и оживший скульптурный Вакх, только причёсанный, вымытый и обряженный в бархатную куртку и штаны, с несколько старомодно-артистическим галстухом, проворно повязанным вокруг шеи. Но кисть, око, сама мысль его были возвышенны и чисты и как будто питались лишь одним нематериальным; это стало особенно ясно, когда он показал нам картину свою, практически завершённую, которую именовал „дитятей сердца“.
Но сначала мы увидели бесчисленные „корректуры“ будущего полотна на картонах — каждая завершённая и прекрасная сама по себе. Однако картина, если это вообще возможно было назвать картиной, превосходила масштабом и уверенной силой любой из набросков.
Вот что на ней было изображено.
Окружённый раскалёнными докрасна камнями и жарким, почти вулканическим бурлением расплавленной, алой материи восстаёт из чёрного миндалевидного гроба, как из мёртвой расщелины, весь обмотанный грязно-белыми бинтами, Лазарь; бинты разматываются; лицо Лазаря удивлено и покрыто четверодневной щетиной; глаза глядят почти что в упор на Того, Кто раздвигает его смертное заточение, но Лазарь молчит; Христос, только что произнесший слова, воскрешающие мертвых, как и пришедшие с ним ученики — в синих, небесного цвета одеждах; родные Лазаря, женщины и мужчины, все в зелёном; некоторые из свидетелей — молельщики в иудейских платках — развели в удивлении руки. Отодвигаемая другими молельщиками крышка гроба тоже раскалена докрасна. Но земля залита золотым сиянием солнца, а воздух прозрачно лазурен. Вдали — зелёная роща, и дома Вифании тоже, как и одежды родных Лазаря, зеленоватого цвета. При этом все лица совсем не иконописные, а такие, как в наше время, особенно у учеников Христа — как будто вдохновенные студенты пришли к осуществляющему сверхъестественный опыт педагогу; лишь лицо Спасителя воплощает решимость и волю сверхчеловеческую.
В том, как была сделана композиция, чувствовалось много гармонии, а в цвете было что-то стихийное, бурлящее, дикое, как стихиен был облик изобразившего „Воскресение Лазаря“ художника, но, повторюсь, и композиция, и линии его рисунка были нетяжелы. Я долгое время не знал, что сказать.
— Вот и дядя ваш придёт и, бывало, целый час смотрит, не отрываясь. Хороший он человек, только, похоже, пережил в жизни много горького, — начал Самсонов, видя моё изумление. — Да, господа, я ведь знал, что на пустое брюхо никакая мысль в голову не идёт, да и хмель размышлению не помеха. Что ж! Вы, князь, пришли говорить со мной об искусстве? Давайте об нём! Я, простите за прямоту, считаю, что сюжет всякой картины должен быть понятен каждому, кто на неё посмотрит, особенно русскому, ведь я пишу для России. Ну, вот, скажите мне, что уроженцу России какой-нибудь суд Париса или Нарцисс над тухлой водою? Наш брат со смекалкой подобный суд решит в два счёта, а Нарцисса сочтёт за помешанного дурака.
— И всё-таки искусство должно возвышать, Сила Воинович. Да ведь вы и сами это знаете, — мягко возразил ему Вакаринчук.
— Эх, сердечный ты мой, вот когда тебя мать впервые в церковь взяла, когда ты про Лазареву субботу услышал?
— Так то у нас в Полтаве. Там даже лекарь-немец в храм ходил. Ну, не по доброй воле, а чтобы те, кого он пользовал, за нехристя не считали.
— Я тоже, знаете ли, первые годы провёл не в столице, — поддержал я Филиппа. — В детстве моём церковь была в соседней деревне, а вокруг — леса да болота. Думаю, что про Лазареву субботу услышал раньше, чем разобрал первые буквы. Но именно потому и Парис, и Аполлон-змееборец, и Агамемнон…
— Друзья мои, я повторю: самый предмет и взгляд должны быть понятными всякому в Отечестве нашем. Я сколько лет здесь живу, а чему научился? Подбору цвета по помпеянским да по ватиканским, из древности, фрескам и усилению его у Дуччио да у Джиотто. Но и в Помпее, и у Дуччио, и у Джиотто — школа греческая. Так ведь и у нас у любого пьянчужки-подмалёвщика в самом нищем глухом приходе — византийская школа!
Странно, итальянец по крови, по вкусам, по жизни своей, наконец, Роберти изображал нечто, на что не всякий природно мрачный русский решится, и в самой древности своего латинского искусства находил сюжеты и приёмы, выдававшие в нём воспитанника жестокого и сумрачного севера, а защитник русского взгляда, русской кисти и понятной всякому русскому темы Самсонов, напротив, творил просветлённо — так, будто жизнь его вся прошла здесь, на юге Европы, как если бы он тут и родился, а не в Замоскворечье, где солнце сияет в безоблачном небе лишь каждый шестой день в году. Диалектика, как сказали бы немцы.
Вторник.
Город, ты подобен солнцу именно после восхода и ближе к закату, лучи твои оживляют контур рисунка, беглую кисть и взгляд живописца, ты воздвигаешь не только день, но и ночь, и, как солнце после восхода и перед закатом, удлиняешь тени всего, до чего прикоснёшься: деревьев, мостов, экипажей, колясок, домов, обелисков, колонн, арок, коров, забредших на Форум, разнообразных статуй, пролежавших века под землёй или недавно изваянных, поставленных вдоль карнизов зданий, чтобы всякий глядящий видел, что прошлое днесь вправлено в будущее, ибо ты больше, чем город, ты — цель и зеркало всех остальных городов. Раннее утро. Снова светило восходит, изгоняя ненужные тени из потаённых углов сна, разматывая пелену сомнения, мысленной смерти. Мир — оживает и удивлённо стоит как воскрешённый Лазарь; предательский гроб разомкнулся, стал просто трепетным воздухом, в котором я слышу тебя, расцветающий день, — то, как деревья и птицы вторят несмолкнувшей жизни собственной трепетной жизнью, зеркалом смыслов своих. Весь этот ровный шум не смолкающих листьев, шелест рессорных колясок о мостовые, стук тяжёлых подвод, конских копыт, каблуков, разные голоса — будто движение моря; и подступающий вечер обещает прерыв между бодрствованьями сознанья — пока светило в надире — и свежий, живительный сон.Среда.
Пришёл Филипп и отчего-то поначалу не по-приятельски, а чуть ли не официально: „А что, ваше сиятельство, не появляетесь у княгини W. и её сестры? Вы слышали, что у них через несколько дней будет множество народу?“ — „Да, слышал, — ответил я, — но, признаться, не получал от них никакого приглашения!“ — „О, Эспер, вы смеётесь, ни вам, ни мне приглашения к ним не нужно. Вас там ждут и на присутствие ваше очень рассчитывают. Итак, я заеду за вами в пятницу пополудни и едемте вместе на их виллу. Там будет весело, не пожалеете“. Не без удивления я согласился».
Глава третья. Празднество на вилле
Вакаринчук и князь Эспер приехали на Виллу Солнца и Луны (так несколько вычурно именовалось владение княгини W. и сестры её Александры), когда светило уже клонилось к закату. Сильно улучшенная в последние год-два, когда после скоропостижной смерти отца и продажи остававшихся после него в России владений сёстры смогли заняться устройством собственного римского дома, вилла соединяла фантазию предшествующих хозяев со вкусами и выдумкой новых.
Уже подъезжая в экипаже к воротам виллы, Эспер пожалел, что, проведя столько времени в Риме, оказывался здесь, вопреки приглашениям, впервые. Вся территория представляла собой правильную, словно очерченную огромным циркулем окружность (о, эта циркульная геометрия римских пространств!), по контуру которой была возведена стена. На самом юге располагались три грузные колонны, на которых держались две пары широко распахнутых ворот, что позволяло избежать встречного движения въезжающих и выезжающих. Правую, восточную, колонну венчала аллегорическая статуя Утра, левую, западную, — Вечера. Широкая дорога вела к центральной части владения, где вместо привычного фонтана располагалась на возвышении вычерченная тем же невидимым циркулем просторная сцена, вокруг которой окружностью шла широкая дорога-аллея, позволявшая и огибать её, и уместиться здесь достаточному числу зрителей, если на сцене происходило представление. В северо-восточной части сцены стояла обращённая одним из лиц на запад солнца статуя троеликой Гекаты со всеми признаками божества отражённого лунного света: с факелами в руках, с полумесяцем, венчающим чело; в юго-западной — глядящий на восток, откуда каждый день вспыхивает солнце, — Аполлон с лирой. Более узкая, чем въездная, дорога продолжалась к северу и вела прямо к парадному входу в трёхэтажный палаццо, увенчанный скульптурным изображением Гелиоса, в тяжёлом от влаги плаще выныривающего с четвёркой впряжённых в колесницу коней из морских волн. Палаццо задней стеной нарушал идеальную геометрию окружности, сильно выдаваясь за её пределы; зато слева и справа к нему примыкали закруглённые крытые галереи с колоннами, где, как скоро узнал Эспер, хранились коллекции, как унаследованные сёстрами от их отца, так и собранные из того, что было отрыто прежними хозяевами при строительстве виллы: статуи, плиты, просто осколки с фрагментами мозаик и фресок. От центра виллы на восток и на запад шли аллеи, перпендикулярные основной, берущей начало от ворот и ведущей от ворот прямо к палаццо; восточная именовалась Аллеей Гениев, и там стояли памятники великим поэтам разных народов, западная — Аллеей Героев, но памятников там было всего три: Александру Великому, фельдмаршалу Суворову и черномраморный бюст прусского генерала в отставке князя W., мужа старшей из сестёр Елизаветы Дмитриевны, храброго, хотя и вполне заурядного участника войн с Наполеоном. Бюст был сделан на манер изображений римских цезарей, да так величественно и ловко, что гость, ничего не знающий о военной истории, счёл бы, что исправный служака W. и был величайшим стратегом всех времён и народов — выше Ганнибала, Юстиниана и даже самого Чингиз-Хана. Были ещё четыре аллеи, проведённые под углом 45° между главной аллеей и расходящимися от неё на восток и на запад Аллеей гениев и Аллеей героев, но названий они пока не имели.
В начале, в середине и в конце каждой из восьми аллей, лучами расходящихся от центра, при этом по разные стороны, стояло по светильнику-факелу, по форме напоминавшему римские, общим числом 24, по числу часов в сутках, и зажигались они, кажется, от газа, так что когда все 24 светильника запылали в сумерках, то ощущение было грандиозное, превращавшее виллу в огненный диск или в жаркое звёздное небо, расходившееся кругами светил от самого центра.
Всё это показалось Эсперу подражанием декорациям-обманкам волшебника Шинкеля, о которых он много слышал в Москве. (Эспер вдруг поймал себя на том, что, проведя столько времени в компании Филиппа, начинает всюду отыскивать аналогии с изобразительным искусством.) Особенно завораживали такие декорации, по словам видевших их, в «Волшебной флейте» Моцарта: ступени, река, огонь превращались в египетский храм солнца; а священный город Зарастро с пальмами и сфинксами оборачивался вселенной царицы ночи с её глубокой, магической синевой, прошитой строками звёзд. Впечатляло и обратное превращение: индейский храм бога огня, сделанный Шинкелем для «Фернандо Кортеса, или Завоевания Мексики» Спонтини, в образах которого соединились сны конкистадоров об Индии в Америке с Индией настоящей, всё равно больше похожей у Шинкеля на страшную галлюцинацию — мрачные синие сны, вдруг переходившие в залитую солнцем долину, в которой стоял палаточный лагерь испанцев.
Так и тут внутри новой, огромной декорации Виллы Солнца и Луны, продуманной до деталей Елизаветой и Александрой, гости, небольшой оркестр, поющие и сами пришедшие, в их числе Филипп и Эспер, оказывались свидетелями и одновременно пленниками метаморфоз пространства.
Когда оба приятеля вышли из экипажа, то со сцены уже доносились звуки арии: нежное, длящееся соло гобоя на фоне струнных, фагота и валторн, к которому незаметно присоединялось сопрано чарующей нежности и красоты. При первых же тактах Эспер догадался, что это был Моцарт, и пока они с Филиппом шли к возвышавшейся сцене, хотелось, чтобы музыка и пение длились бесконечно. Эспер, достаточно освоившийся с итальянским, кажется, понимал теперь каждое спетое слово, плывшее по воздуху над садом — в пламени огромных светильников:
Как хотела б я, Боже, рассказать про беду! Но судьба обрекла на немые рыданья. Сердцу — нет, не сгореть за того, кого я полюбила бы. Я похожа на варварку жестокосердую.Приблизившись к сцене, Эспер увидел, что поёт Александра Дмитриевна, которую он запомнил совсем другой по плаванию из Кронштадта в Травемюнде. Сегодня она была вся в светлом, что становилось особенно заметно в сгущавшихся сумерках, когда оттенки тяготели к одному тону, и начинало казаться, что на ней — настоящее белоснежное платье. Это её голос был так нежен и чарующ в итальянском пении: полный контраст к её же решительным русским речам и поступкам на пароходе. Увидев Эспера и Филиппа, певшая ласково улыбнулась. Но тут сменились и темп — с раздумчивого адажио на скорое аллегро, — и даже звучание ансамбля; громче и решительней зазвучали струнные; и Александра, видимо, наслаждаясь производимым на Эспера впечатлением, выкинула руку в его сторону в театральном жесте:
Ах, граф, уходите, бегите, спешите прочь от меня! Эмилия, та, что вас любит, ждущая вас, пусть не томится. Она-то достойна любви! Вы же, звёзды, враги мои, как вы безжалостны! Останется он — и я потерялась. Уходите, бегите, о любви — замолчите, её сердце — для вас[18].Эсперу показалось на минуту, что все взгляды устремились на него, но на Эспера никто и не думал обращать внимания; ведь это был всего лишь концерт для гостей. Аплодисменты заставили его окончательно успокоиться. Вслед за арией зазвучала популярная тема из «Сомнамбулы» Беллини в аранжировке для фортепиано и струнных; Александра Дмитриевна, сойдя с возвышения, успела затеряться в толпе. Эспер услышал разговор, что нааранжировал из «Сомнамбулы» на целый дивертисмент какой-то русский, живший недавно в Риме, по фамилии, кажется, Глинка. Теперь всё внимание было на оставшихся на возвышении. У клавишного инструмента Эспер заметил двух молоденьких и очень хорошеньких итальянок, черноволосую и светлую, последнее в здешних краях — редкость: первая играла, вторая переворачивала ноты. Было в их манере держаться что-то подростковое, угловатое, но решительное, как у Александры. Эспер слышал, что брак Елизаветы Дмитриевны с князем W. оказался бездетен, и супруги взяли на воспитание приёмных дочерей — Кьяру и Иларию; кажется, это были именно они. Сидевшие за пюпитрами со струнными инструментами, похоже, были тоже не приглашёнными музыкантами, а друзьями этого дома, но играл ансамбль слаженно и с большим воодушевлением. Чисто инструментальная музыка сменилась пением в сопровождении фортепиано: пели дуэтом обе сестры — Кьяра и Илария; и пока те, кто играл на струнных, отдыхали, сёстрам аккомпанировала высокая и статная приёмная мать их, почему-то в костюме Кортеса, словно и вправду собиралась представить «Завоевание Мексики» Спонтини. И снова это был Глинка, дань русской половине семьи. Дуэт этот Эспер знал прекрасно и сам мог был подпеть, да голосу и умения не хватало. Его и радовало, и волновало то, как старательно обе девушки выпевали, видимо, не слишком понятные им русские слова:
Я сплю, мне сладко усыпленье; забудь бывалые мечты: в душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты.Эспер подумал было, что русской меланхолии не место здесь, в этом поразительном саду, но нет, подсвеченная красотой пения, бельканто, она становилась вполне преходящей: лёгкой тенью, отблеском в летний вечер. Как же здесь всё-таки было хорошо!
— Я сегодня вечером ставлю на Кьяру. А знаете, ведь она похожа на наших полтавских, — толкнул его в бок Вакаринчук. — Вам — Илария. По рукам? Главное, не тушуйтесь.
После романса Глинки на сцене снова собрался камерный ансамбль, но в необычном составе: из духовых — кларнет, гобой, фагот и валторна, из струнных — две виолончели и контрабас, а за клавишный инструмент села теперь Илария, которой Кьяра переворачивала ноты. Играли новинку — раздобытое хозяйками празднества Andante из только что завершенного Фридрихом Калькбреннером Большого септета, который он собирался представить на водах в Баден-Бадене в августе. Анданте всё было в переливах из тени в свет — из трезвенного и сосредоточенного минора в спокойный, без чрезмерной радости мажор; и возвышенное равновесие того и другого обреталось в сдержанности заключающей пьесу мечтательной их переклички, что так удаётся немцам, но совсем не по духу порывистым итальянцам и уж тем более русским. От Andante веяло красотой, а порой и торжественностью ежедневного счастья, каким Эспер уже несколько недель наслаждался в «немецкой» обстановке оставленной ему дядей квартиры.
Когда музыка стихла, то Елизавета Дмитриевна, по-прежнему облечённая в доспехи Кортеса (видимо, в знак готовности к завоеванию новой умственной Индии-Америки), начала обращённую ко всем собравшимся речь. Говорила она по-итальянски, изредка вставляя слово-другое по-русски:
— Друзья, не могу не поделиться с вами радостью, тем более важной, что проект мой воплотился и в том, что вы видите вокруг. Дело в том, что господин Корсаков, недавно вернувшийся из России, привёз номер «Московского обозрения», в котором напечатаны наши с ним предложения по поводу будущего эстетического музея в Москве, — тут раздались привычные для Италии возгласы: «Bravi! Bravissimi!» — и аплодисменты, словно речь княгини W. была ещё одним музыкальным номером, а стоявший рядом с Елизаветой Корсаков, на этот раз одетый с большой скромностью, сдержанно и с достоинством поклонился собравшимся. — Не всем предложения наши пришлись по душе, — продолжала княгиня W., — соперничающий с «Обозрением» журнал «Косморама» посмеялся над начинанием, но что они в этом смыслят? Вопреки полуучёным завистникам проекту нашему уготована счастливая будущность, я в этом нисколько не сомневаюсь.
Как вы, вероятно, знаете, немало русских художников уже побывало и ещё побывает в Риме, и, вернувшись в Отечество, поделится там созерцанием красот древней и новой Италии. Но нам не хотелось бы ограничить воспитание эстетического чувства в России одними мастерскими художников. Или хорошим, но неполным собранием Академии Художеств в Петербурге. Совершенно необходим доступный музей, который собрал бы максимальное число слепков с ваяния, копий с картин живописи, а также моделей и зарисовок архитектуры, начав с Древнего мира и продолжив энциклопедию изображений до современности.
Господа, Московский университет, озабоченный многие годы воспитанием вкуса и всяческим просвещением, мог бы взять задуманный нами музей под свою опеку. Однако это вопросы управления, вероятно, не слишком интересные, если глядеть из Рима. Да и не затем мы собрались сегодня. Есть вопросы другие: какими именно копиями и слепками следует подобный музей украсить? Об этом я и хотела бы вам рассказать.
Корсаков, заметив Эспера в толпе, удивлённо-радостно поднял брови и кивнул. Он ведь обещался привести его на виллу, но обещания не исполнил. Да по большому счёту и не мог, ибо сам объявился в Риме только что. Княгиня продолжала:
— Какие же изображения заполнят залы музея? Последуем здесь мудрым советам Винкельмана. Во-первых, это будут образы искусства египетского и этрусского как преддверие совершенства, какое находим у греков. Копии с символических сфинксов, божеств с кошачьими головами, Анубисов с систрами должны украсить первый зал. К ним прибавим скульптуры этрусков: химеру, что хранится во Флоренции, капитолийскую волчицу. Во втором и в последующих залах будет представлен переход к искусству, черпающему не только из тёмного символизма, но и из обобщения образов, к искусству, яснее всего воплотившему идеализм древних греков — то, чему мы все у них учимся. Одних копий Аполлонов в таком музее будет несколько: Аполлон Бельведерский, Аполлон Савроктонос, Аполлон с лирой, Аполлон-кифаред. А Венер — медицийская, веницейская, капитолийская, ещё четыре из Ватикана; не забудем также о тех, которые ближе к нам — Венере Кановы и Венере Торвальдсена. А помимо того: три грации древние и те же фигуры работы Кановы и работы Торвальдсена; копии фавнов — одного из Флоренции, другого Барберини, третьего, что играет на флейте, и четвёртого красного камня из Ватикана; не забудем Цереру из Ватикана, веницейского Ганимеда, Гермафродитов — из Флоренции и из Парижа, Амура с Психеей капитолийских и Адониса Торвальдсена. Но то небожители или просто стихии и духи, а личности исторические тоже не должны быть забыты: Александр Македонский, Август в одежде жреца, Марк Аврелий, Антиной, Еврипид, Демосфен, лучшие бюсты всех императоров Рима, знатнейших мужей древности, поэтов и художников. Если следовать дальше, то языческий мир должен преобразиться истинной кафолической верой, нам, русским, доступной, но практикуемой внешне, по обряду. Не то церковь римская, — княгиня недавно присоединилась к латинской вере, к большому неудовольствию властей в Петербурге. — Новым отделом, где движимо всё уже сверхчувственным чувством, доступным лишь высшим гениям Италии, будет отдел копий со скульптур и картин Микеланджело, который и выявил сверхчувственное чувство резцом и кистью: во-первых, Дева Мария с бездыханным Спасителем нашим на коленях (из собора Св. Петра), во-вторых, Моисей (из храма Св. Петра в Винколи), а ещё Ночь и День (из Флоренции), и, конечно, величественный Страшный суд (из Ватикана). Наконец, в совершенно особом отделе будут модели самых прекрасных строений: Колоссея, за ним Пантеона, Римского форума, храма пестумского, Парфенона, собора Св. Петра… Думаю, среди пансионеров Академии Художеств немало найдётся мастеров, способных это исполнить.
Эспер слушал её замерев, и лицо его, всегда открыто выражавшее чувства, было полно восхищением. Он и не заметил, как к нему подошла в светлом своём наряде сестра говорившей:
— Рада, милейший князь, наконец видеть вас. Где же вы пропадали всё время? Слышала, вы в Риме уже вторую неделю. Ах, дела вашего дяди? И что же? Вы застали его? Он жив, материален или общается с вами записками? Если так — считайте, что вам повезло; кое-кто позавидовал бы. Вероятно, вы его в конце концов встретите. А может, он — дух, тень, просто кажимость? Да нет, это шутки. Кстати, как вам озвученный Лизой проект? Знаете, сестра моя — я её всем сердцем люблю — довольно тщеславна. Проект сочинён, конечно, одним Сергеем Алексеевичем. Но это, боюсь, love’s labours lost[19]), ибо цель — не развитие просвещения, а сердце одной женщины. Не сестры, конечно. С сердцем же вот какая история: и в прошлом Сергея Алексеевича, и в прошлом женщины — я о ней рассказывала на пароходе, если помните, — много событий связано с одним человеком, о котором ей хотелось бы совершенно забыть. А вот с нашим вдохновенным археологом и прожектёром этого не получится точно. Вы же, князь, действительно очень милы — рада, что вы до нас добрались. Ни в коем случае не уходите рано — это только начало празднества. Что мы празднуем? Мысль о музее, торжество красоты, — и Александра направилась туда, где в толпе был заметен Lord Ruthwen, по возрасту лет за сорок, по словам присутствующих, из настоящих англо-шотландских Рутвенов, а не тех, которых ославил своими выдумками Полидори, и Эспер всё не мог вспомнить, где и от кого о нём слышал.
Этот гость был сухощав, спортивен и абсолютно безразличен к тому, что происходило вокруг, включая музыку, и отвечал на удивлённые вопросы окружающих пожиманием плеч: «Но, знаете, у нас же есть Онслоу!» Александра сказала ему несколько слов, тот прищурился в сторону Эспера, а потом приветственно, как бы приглашающе, кивнул ему. Когда Эспер подошёл к лорду Рутвену, то Александры рядом с ним не было, и первым заговорил Рутвен:
— Выясняется, что вас-то, князь, я и искал. Мне сказали, что вы можете посетить виллу сегодня.
— Кто же?
— Пароходный ваш спутник, с которым вы сюда прибыли. Вот вам письмо, которое, как сказал мне оставивший это письмо для вас, слишком специфично, чтобы доверять его почте, при посылке которой никогда нет гарантии, что оно не осядет у постороннего лица. Впрочем, наверняка ничего особенно важного. Прочитайте его, как будет время. А сейчас идёмте в Аллею Гениев.
Эспер упрятал письмо во внутренний карман, а лорд Рутвен продолжил:
— Вижу, вы впечатлены речью нашей хозяйки. Буду говорить против понятий нынешнего времени. Впрочем, оно не больно отличается от времён иных. Уж поверьте мне, я слишком хорошо знаю, о чём говорю, хотя вы, юные, думаете совершенно иначе. Княгиня Елизавета — женщина умственная, с возвышенными целями, которым она предана совершенно. И цели эти заслуживают самых щедрых аплодисментов, но… жизнь, знаете ли, отличается от театра. Сторонитесь умственных, возвышенных, имеющих высшие, чем остальное человечество, идеалы типов, как среди женщин, так и среди мужчин. Вот, например, в прошлом ваш дядя — впрочем, всё узнаете сами в нужный срок. Такие типы приносят несчастия всем, кто с ними близко соприкоснётся. Они всегда находят высшие оправдания, на весах которых ваши беды будут ничем по сравнению с удовлетворением, получаемым ими от сознания исполненного замысла, ибо в таком замысле облагодетельствованы будут все — не сейчас, когда-нибудь. План музея, отчасти воплощённый в так называемой Аллее Гениев, на которой мы с вами стоим, будучи полностью воплощённым в вашей Москве, вызовет лишь насмешки. Ну, скажите, зачем Бельведерский Аполлон замоскворецкому Митрофану или Аллея Гениев на вилле нашей хозяйки пастуху из Лациума, который и коров-то выгуливает на Форуме, потому что делать это за пределами города ему скучно. Дозволили — запустил бы их в эту аллею. Бегите от всего этого возвышенного подальше.
— Но, лорд Рутвен, вы говорите не против понятий толпы, а против развития, против улучшения нравов, которое приходит лишь с усилиями по изменению натуры человеческой и самой натуры. И музей — часть такой работы.
— Молодой человек! Объясните же, какие такие усилия по улучшению человеческой натуры предпринимали наш стратфордский певец разнообразных, большей частью губительных страстей, возле стелы которого мы стоим, или описавший незыблемую для его века, а для нас во многом сомнительную топографию мироздания Дант, чья статуя в полный рост хорошо видна отсюда, римлянин Вергилий, водивший в Дантовом воображении его по этому мирозданию и воспевший на золотой латыни бегство Энея из Трои, возможно, никогда не существовавшей, а потом и беспощадные подвиги своего баснословного героя в Африке и в Италии, Вергилий, чью память наша хозяйка почтила ещё одной стелой с медальоном, Сапфо, которой тут воздвигнута мраморная плита с профилем и стихами, и чьи страстные песни так чтил Катулл, которого хозяйка наша, напротив, совсем не чтит? Только вслушайтесь:
Тот мне представляется равным богу, тот, возможно, бога и превосходит, кто, сидящий прямо перед тобою, видит и слышит сладостно смеющуюся, все чувства вырвав у несчастнейшего меня; о Лесбия, взгляну на тебя — немею, речь бесполезна; пухнет мой язык, пробегает пламя по суставам, громко звенит в ушах и застилает зрение — оба глаза — мраком полночным[20].Эспер был рад, что собеседник цитировал переведённые Катуллом строфы Сапфо в собственном изложении: ни в латинских, ни в греческих авторов он лет пять не заглядывал и помнил слабовато.
— И чем это всё завершается? Вашим Пушкиным, чей бюст — в самом конце аллеи; да-да, тем самым, признавшимся, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Ад, чистилище и рай, кровавые подвиги героев Вергилия, страсти Шекспира и Сапфо завершаются полировкой ногтей. Вот предел развития вашего века, князь.
— Но мне кажется, что Пушкин ещё скажет своё слово о милости, добрых чувствах и о свободе, которая одна может быть предметом истинной поэзии.
— Вы, сдаётся мне, умнее и тоньше большинства людей вашего возраста и круга, но не приписывайте талантливому человеку того, на что он может быть неспособен, не смотрите на него слишком возвышенно, не идеализируйте поэта, да и вообще любое лицо, частное или общественное. Впрочем, если хотите моего доброго совета, обратите больше внимания на Иларию: вот девушка, у которой мысль не в конфликте с натурой. Рад был с вами поговорить. Прощайте! Если что, меня нетрудно разыскать. Просто поговорите с хозяйками этой чудесной виллы.
Не прошло и минуты, как кто-то легко тронул Эспера за левое плечо. Он обернулся и увидел Иларию и удивился простоте обращения, происходившей, очевидно, от сильного волнения.
— Где он? — только и спросила Илария по-итальянски безо всяких предисловий.
— Он ушёл совсем, — улыбнулся князь. — Вы действительно Илария?
— Конечно, — ответила она.
— Эспер Лысогорский, — представился князь, отбросив показавшийся ему ненужным титул.
— Боже. Вы родственник Адриана?
— Да, племянник.
В этот момент запустили фейерверки. Получалось, что все знали друг друга, но говорили и действовали невпопад. Действительно, скучно здесь не было, как и обещала ему ещё на пароходе Александра.
— Не уходите никуда. Оставайтесь здесь, — неожиданно для себя осмелев, сказал Эспер.
— Да я никуда и не ухожу пока. Ваш дядя и тот, с кем я хотела поговорить, ещё недавно появлялись здесь вместе. Но это было во время отъезда сестры моей приёмной матери — вы ведь знаете, что я ей не родная дочь? — по делам в Петербург. Приёмная мать стала католичкой, и надо было подтвердить, что имущества у неё в России не осталось.
Эспер припомнил запрет на такие переходы (их стали особенно опасаться после польского мятежа) и требование в случае добровольного присоединения к Римской церкви отказаться от всего, что принадлежало новообращённым на территории Российской империи.
— Что же из этого следует?
— Видите ли, моя приёмная тётка была сильно увлечена князем Адрианом. Это было настоящее бедствие. И хорошо, что он уехал — надеюсь, что надолго, может быть, навсегда. Но… вы, похоже, узнаёте об этой истории последним?
— Не совсем, — ответил князь Эспер, смутившись от того, каким он оказался простофилей. — Вы прекрасно пели, Илария. Можно было заслушаться. Я заслушался.
— У нас вся семья музыкальная. Четыре певчие птички. Тётка моя Александра ещё очень хорошо играет на клавишных и на струнных.
— Да, я об этом тоже слышал, — ответил Эспер, чувствуя себя ещё бо́льшим дураком.
— Уж не грустите. Всё случается. Мне даже нравится, как вы смущены.
Лицо Эспера, как всегда, выдавало все его мысли и чувства.
— Вас ведь тётка моя пригласила? — продолжила Илария. — Она наверняка вас разыскивает: ей охота знать, о чём вы говорили с англичанином. Пойдёмте — я вас от неё укрою и покажу части нашего удивительного владения, где нет посторонних.
И они пошли. Фейерверки цвели в небе вращающимися восьмёрками: синими, красными, жёлтыми. Тут и там начали стрелять ракетами. Пылавшие со всех концов сада огромные светильники придавали бы своим переменчивым светом ощущение не то странного священнодействия, не то поджога Рима при Нероне, когда б не хлопки ракет, вспышки и шипящий, искрящийся свет фейерверков.
Илария привела его к правому крылу расположенных вдоль стены неосвещённых, но ловивших отблески садового огня крытых галерей, где за частоколом тонких и высоких, словно сошедших с помпеянских фресок, колонн располагались коллекции: фавны всех возрастов и видов, возбужденные карлики с нелепыми ушами и удами, взнузданные животные, сочетавшие в себе одновременно кита, козла и змея, на них — нереиды, также гении обоего пола с крыльями и без, в одном месте — рука или нога, в другом — каменная голова какого-нибудь древнеримского администратора, и, конечно, лампады, изображения языческих жертвенников, божеств и просто духов всех возможных видов и форм — словом, то курьёзное и необычайное, что радует сердце настоящего собирателя и историка.
— Вот. И мы с Кьярой это унаследуем, — сказала Илария, как-то по-простецки подбоченившись. — Каково?
— Конечно, совершенно поразительно и грандиозно. Многие годы кропотливого труда, усилия десятков, если не сотен тех, кто это отливал, складывал в мозаике, высекал резцом, потом закапывал — прочь от глаз пришедших варваров, потом откапывал на заброшенных руинах, потом восстанавливал. Я счастлив за вас.
— Значит, просыпаясь и выходя в сад, вы бы с удовольствием смотрели на это? Прямо с раннего утра? Каждый день?
— А вам — вам нравится?
— Моя приёмная мать хочет, чтобы из копий всего этого составился музей. Музей, только подумайте!
Красочные отблески фейерверков и колеблющиеся отсветы садовых огней пробегали по выставке курьёзов.
— Да, действительно много нелепого, даже смешного. Простите, я что-то слишком серьёзен.
— Пойдём, — сказала Илария, без особых предисловий перейдя на менее формальное обращение и взяв его за руку.
На шедшей от палаццо окружной аллее у галереи Эспер увидел Филиппа, в полутьме похожего в своём артистическом одеянии на заправского смуглого итальянца, и очень близко к нему стоявшую черноволосую Кьяру. Эспер вдруг сообразил, что обратно в Рим Вакаринчука влекло не одно искусство, что, судя по тому, как он и Кьяра смотрели друг на друга, по их жестам и коротким, не требующим пояснений репликам, симпатия была давней и прочной. В нескольких шагах от них он заметил приставленную к галерее высокую, выше крыши лестницу, очевидно забытую здесь смотрителями сада.
— Предлагаю залезть на крышу, — сказала Илария, — оттуда видно, как запускают ракеты.
— А ведь больше ничего и не надо, — сказал Эспер Филиппу по-русски. — Знаете, вот так и следовало бы прожить всю жизнь.
— Возможно, — улыбнулся тот и посмотрел на Кьяру. Та в ответ с улыбкой посмотрела ему в лицо. Потом сёстры глянули друг на друга. Кажется, эта «ловушка» была ими подстроена.
Тут была какая-то последняя простота и очевидность действия, которой всё ещё робевшему Эсперу — чужой язык, чужая, хоть и прекрасная страна — не хватало. Он осторожно приобнял Иларию; та подалась к нему плечом.
— Вот так бы давно, — сказала она очень тихо.
Эсперу было хорошо, как никогда. В этот момент в темноте впереди проплыло, как долгая тень, что-то светлое, и со стороны галереи раздался твёрдый знакомый голос, говоривший по-русски:
— Князь, я вас искала весь вечер. Рада, что вам так весело у нас. — Светлая фигура, вышедшая из ночной тени, оказалась Александрой: она подошла к Эсперу. — Вы мне нужны на несколько слов. Прости, Илария.
— Ладно, дорогая тётя, — ответила Илария по-итальянски, отстраняясь от Эспера, — только веди себя с нашим гостем прилично.
— А где же Сергей Алексеевич? — поинтересовался Эспер, когда они отошли на несколько шагов. Он и сам удивлялся тому, как за несколько часов в этом весёлом и счастливом обществе он осмелел и многое, что было бы для него почти непреодолимым, стало естественным и лёгким.
— Он уехал недавно. Знаете, у меня страшно разболелась голова. А теперь вроде бы проходит. Вам было здесь хорошо?
— Очень. И, кроме того, ваша чудесная племянница…
— Это всё пустяки. Да и разница у нас в годах невелика. Так что я ей скорее вроде старшей сестры.
— Младшая сестра ваша поразительна. Как, впрочем, и старшая ваша сестра. Да и вы сами. Я был очень впечатлён, ещё на пароходе.
— Представляю, что Илария наговорила обо мне. У неё богатое воображение, и она страшно ревнива. Но это, конечно, ревность девочки, а не настоящей женщины, так что вы не увлекайтесь особенно.
Они теперь шли вдоль стены прочь от галерей, а потом свернули на одну из пустовавших аллей, которая должна была привести их обратно, к месту общего празднества; по обе стороны рос густой кустарник, спереди и справа доносились негромкие голоса, но здесь в неверном догорающем пламени светильников они были одни.
— Пообещайте, что, если решите покинуть Рим, прежде известите меня об этом, и не письмом, а лично.
— Конечно, Александра Дмитриевна.
— К чему эти церемонии. Просто Александра. — И она посмотрела на собеседника с неожиданно пристальным вниманием. — Знаете, Эспер, вы и поразительно похожи на него, и одновременно совершенно нет. Наверное, он был таким прежде, но я его таким не застала. Это невероятно. — Лицо говорившей было очень близко к лицу Эспера, которое она внимательно рассматривала. И тут она быстро и порывисто его поцеловала. А потом внимательно и испытующе посмотрела и ещё раз поцеловала.
Достреливали последние фейерверки. Ходившие по саду слуги гасили светильники. Над Виллой Солнца и Луны занималась заря. А Эспер и Александра так и стояли друг против друга; она — в казавшемся теперь совершенно белом платье, положив ему обе руки на плечи и продолжая внимательно вглядываться в его лицо. Никогда ещё Эспер не чувствовал себя игрушкой в руках схлестнувшихся друг с другом сил, и это происходило здесь, на отгородившейся от остального мира странной и прекрасной вилле.
Когда он наконец добрался до римской квартиры своей, то вспомнил о переданном письме. События вечера и ночи заслонили от него то, что, скорей всего, было важным сообщением, касающимся его дальнейшего пребывания в Риме и в Италии вообще. В Риме ему очень нравилось, и уезжать куда-то ещё, куда его могло звать новое письмо, он совершенно не желал. Эспер сломал сургуч со знакомой наследственной семейной печатью (кириллическое «Л» над коротким мечом внутри лаврового венка с лентами), развязал тесёмки, делавшие невозможным чтение многократно сложенного листа посторонними, и развернул лист. То, что было изображено там, — назвать письмом было можно лишь с натяжкой. Перед ним была загадочная таблица с пояснениями снизу и сверху:
«Адриан Лысогорский — Эсперу Лысогорскому
КЛЮЧ
Если что непонятно, спрашивай у Джузеппе Меццофанти в Риме, а также у Орацио Фальконе и Дионисио Гамберини в Болонье. Действуй!»
Глава четвёртая. Мгла развеивается
Проще всего оказалось добиться свидания с Джузеппе Меццофанти. Падре Джузеппе служил в Ватиканской библиотеке и, услышав, что у него хотел бы получить совета один молодой русский, знаменитый лингвист, испытывавший большое сердечное расположение к славянам, тотчас предложил князю встретиться. Именно тогда Эспер пересёк пешеходный Элиев мост, совершив те самые несколько сот шагов по символической Via Crucis, навстречу вождю небесного воинства над усыпальницей Адриана, которые почему-то не смог совершить в свой первый римский день.
Когда Эспер входил в ворота Св. Анны, охраняемые дюжими швейцарцами с алебардами, а те даже не заинтересовались пригласительным письмом от падре Джузеппе, он уже испытывал такое благоговение, что невольно снял шляпу, как мы делаем при входе в храм, и дальше так и шёл со шляпой в руках, прижатой к груди, до самого входа в Бельведерский двор перед зданием библиотеки! Шутка ли — сейчас он окажется там, где сохранены для будущих поколений тысячелетние запасы письменного слова, от скопированных писцами императорского Рима стихов Вергилия до новейших изданий, посвящённых непредставимой, баснословной Америке. Как служивший прежде в архиве, он-то понимал, что это за ценность. На Эспера за воротами никто особенно не обращал внимания, и на его смущённые поклоны спешившее туда и сюда духовенство отвечало рассеянными кивками. Когда наконец он оказался внутри здания библиотеки и добрёл в растерянности до Альдобрандинской залы, на полу которой была выложена грубоватая мозаика, изображавшая победителя-Ахилла в доспехах на двуконной колеснице, тянущего за собой обнажённый труп Гектора, то внимание его остановила знаменитая свадебная фреска, недавно приобретённая Ватиканом и украшавшая одну из стен — как раз над сценой торжества Ахилла над Гектором. На фреске была изображена череда свадебных сцен: вот некая женщина в укрывающем её с ног до головы светлом гиматии, с опахалом из крупного зелёного листа, омывает правую руку в металлической лохани, поставленной на жертвенник, слева от которого — две служанки; вот ещё одна женщина — в тонких сандалиях, с собранными на макушке и перевязанными широкой лентой тёмными прядями, в зеленоватом гиматии, сброшенном до поясницы (вокруг шеи её стрельчатое ожерелье, только подчёркивающее красоту загорелой кожи), что-то перебирает внутри огромной раковины, лежащей на жертвеннике; вот сидящая на ложе, завёрнутая с головы до ног в зеленоватый же гиматий невеста слушает речи обнажённой по пояс богини уговора — Эспер помнил со времён Благородного пансиона, что у греков и римлян были божества на все случаи жизни, и уговаривающая невесту точно должна была быть таким божеством, обутым в сандалии на тонких ремнях по лучшему фасону, в то время как на ногах у взволнованной невесты шитая обувь из красноватой кожи; вот сильно загорелый, крепко сложённый жених в венке из виноградной лозы сидит на ступени с той стороны брачного ложа, уже раздетый, его чресла едва прикрыты ненужной теперь изумрудной хламидой, он с нетерпением смотрит на продолжающую совещаться с собеседницей невесту; вот, наконец, справа от него женщина в желто-белом гиматии и зелено-красной косынке держит в правой руке нечто похожее на бубен, который она затем кладёт на стол, а ей навстречу справа идёт другая в светлом пеплосе, играющая на лире, между ними же стоит в тёмном гиматии и в царской короне — сама молодая жена. Эспер, как и все, кто видел эту фреску до него, был заворожён фоном изображения, становящимся серее, если взгляд переходит на стены свадебной комнаты, и немного краснеющим странной коричневатостью, когда взгляд наш падает на пол помещения, в котором находятся изображённые. Мягким переходам цвета соответствовала нежность линий и поз и предельная простота ниспадающих или, наоборот, укрывающих одеяний, точно всё стягивалось к чему-то, чем овладеть насильем и натиском было нельзя. Каков бы ни был подлинный смысл изображения, Эспер подумал сейчас, что аллегорически это о знании и последнем страхе пред этим. И вновь — теперь уже в самом сердце Западной Церкви — он целиком погрузился в созерцание римской древности: живой, необычайно светлой, но при этом дышащей смыслами, превышающими видимое. Он и не заметил, как в зал вошёл густобровый человек с лёгкой, почти юношеской походкой и быстрыми движениями и ласково тронул его за рукав. Эспер был страшно смущён. Слава о владении Меццофанти неисчислимыми языками распространилась широко, но то, что через минуту услышал Эспер, превзошло даже самые смелые ожидания и смутило его ещё больше, почти лишив дара речи. Говорил сам падре Джузеппе, бегло и чисто, открыто улыбаясь, немного окая и произнося «г» на малороссийский манер. Эспер некоторое время не мог отделаться от мысли, что перед ним стоит не священник-католик, а переодевшийся им из странной прихоти полтавский или житомирский помещик:
— Я сразу узнал, что вы — русский. Мудрено ли? Вот послушайте, молодой человек, что мне сочинилось о прошлом годе:
Ах! что свет! Всё в нём тленно, всё пременно; мира нет. Я в себе без-покоен. Где покоен буду, Боже? Где? В Тебе.Ну, как я владею языком ваших северных, снежных муз? Как вам, молодой человек, такие опыты? Был о прошлом годе у меня один стихотворец ваш, Вяземский, тоже князь, и он хвалил меня, почти старика. Но я думаю, князь Вяземский просто хорошо воспитан. И вот что я ему ответил:
Хоть русских славных муз я слышу с удивленьем, могу ли подражать я, иностранец, пеньем?[21]Нет, не могу, это всё шутки — вроде медведя в балагане. Итак, с чем вы ко мне пожаловали?
— Мне, собственно, посоветовал к вам, преподобный отец, обратиться дядя, князь Адриан Лысогорский.
— Ах, il principe russo Montecalvo[22]. — И падре задумался, утратив прежнее оживление, выказанное при встрече с представителем страны, каковую он, очевидно, заочно любил. — Так в чём же, собственно, ваш вопрос?
— В записке, которую мне оставил дядя, упомянуто некоторое растение или существо, перевода названия которого я не нашёл ни в одном из доступных изданий по флоре и фауне.
— Что же, покажите мне записку вашего дяди. — Меццофанти снова оживился. Не было для него дела приятнее, чем разгадывать загадки доступных ему, но сопротивляющихся другим языков. Либо брать осадой языки не подчинившиеся. Итак, падре Джузеппе развернул протянутый Эспером лист — и тут уж помрачнел не на шутку. — Как служитель Церкви, — начал он в волнении, — я очень советую вам проявлять крайнюю осторожность в деле, мне ясном с первого взгляда. Обратите внимание на верхний правый угол таблицы. Вы находитесь в большей опасности, чем сознаёте, и я, князь, готов помолиться о вас, что не мешает вам также просить духовной помощи у любого заслуживающего доверия представителя греческой Церкви. Разговаривать со всяким я вам не советовал бы, тут нужно понимание сложности дела. Но как человек, отдавший много лет науке, я скажу вам, что так называемое «загадочное растение» не представляет никакого труда. Это kaan-che’, дерево-змея, или дерево многих змей, слухи о котором наши доверенные лица не раз сообщали нам из Центральной Америки. Странный монстр, простое, но хищное существо, очевидно, образующее свой собственный класс, переходный от растений к животным. Индейцы говорили нашим представителям не раз, что, в отличие от других хищных растений, например, росянок, пожирающих насекомых, каан-че пожирает и более крупную пищу — мелких птиц, привлечённых сладким запахом его смолы, некрупных млекопитающих, решивших поточить зубы о его странную волокнистую, мягкую, как мясо, древесину. Папский престол, признаться, не верил сообщениям о каан-че, мы ведь покровительствуем наукам и воспринимаем непроверенные слухи критически. А кроме того, были уж и вовсе невероятные сообщения, что особенно крупные экземпляры этой породы могли пожрать и человека, особенно если он по усталости прилёг с вечера отдохнуть под кроной, спутав низкорослое каан-че, прячущееся под кроной других деревьев, с засыхающим, почти лишённым листьев, болеющим astronium graveolens, которое индейцы называют похожим словом «кулим-че», а по-испански оно ronrón, чьи ветви неравной длины, а древесина на срезах красно-коричневая, темнеющая на воздухе, как мясо животных. Но поскольку речь шла действительно о монстре, мы предприняли поиски. Наконец, экземпляр данной породы был выделен, вывезен с предосторожностями через Атлантику и передан в Болонский университет, где и я во время оно имел честь заведовать кафедрой. Вам необходимо поговорить с профессором Гамберини, он занимался подробным описанием и изучением привезённого экземпляра. Сошлитесь на меня. Гамберини большой домосед — если доберётесь до Болоньи, то скорей всего там его и застанете. Чем вам сможет помочь господин Фальконе, я не знаю, хотя с дядей вашим он был дружен. Слышал я, что у Фальконе обострение лихорадки, заработанной ещё в Египте. Дай Бог ему здоровья. Адрес его вам скажут в университете, как и адрес профессора Гамберини. Когда же я говорил вам об опасности, то имел в виду не дерево. В конце концов оно лишено разума, самостоятельной воли и выбора и обуреваемо порывом и хищнической жаждой. В большой опасности находится тот, кто этот документ составил. Если это ваш дядя, значит, в большой опасности находитесь и вы. Но помните: молитва, открытое сердце и искренняя вера могут совершить многое, а Церковь будет с вами, если и вы будете с Церковью, — и благословляюще перекрестил Эспера.
— Советуете ли вы мне ехать в Болонью? — опасливо поинтересовался Эспер.
— Конечно. Поезжайте: кто вам может это запретить? — Кажется, этот добрый человек не мог по-настоящему и на долгое время омрачаться. — Но, ещё раз, будьте крайне осторожны. Вы не совсем понимаете, какой опасности подвергаетесь. Приходите послезавтра: я приготовлю вам на дорогу выписку о каан-че, узнаете много прелюбопытного. Кстати, а что нового написал Пушкин? Вам понравился его «Бахчисарайский фонтан»? А «Полтава»? Как хорошо, что у вас есть Пушкин — у него такой простой и ясный язык!
Перед отъездом в Болонью Эспер, как и обещал, заехал на виллу к сёстрам Елизавете и Александре, но застал там только княгиню Елизавету. Муж-генерал отсутствовал. Александра, Кьяра и Илария тоже уехали — за покупками. Дело происходило в среду.
— Знаете, сестра находилась в последнее время в большом душевном смятении по, вероятно, известному вам поводу, — говорила ему Елизавета, — однако ваше появление у нас подействовало на неё благотворно. Вы уже осмотрели папские музеи, нет? Советую перед отъездом это сделать. Саша моя будет вам отличным гидом. Даже так: приезжайте, милый князь, к нам завтра с утра, мы встаём рано, и сестра вам покажет всё, что стоит увидеть в Ватикане. Не отказывайтесь, и очень прошу вас: будьте с ней ласковы.
Но Эспер и не думал отказываться.
Когда на следующее утро он снова заехал на виллу, сестра Елизаветы уже ждала его. В экипаже она заговорила первой:
— Простите, если в тот вечер смутила вас.
— Нисколько, — ответил Эспер, не зная, именовать ли ему говорившую «Александрой», «Сашей» или как-нибудь ещё.
— Но это был порыв, а нерассуждающее чувство всегда самое истинное.
— Конечно.
Всю остальную дорогу, около часу, они говорили о пустяках. Эспер при этом был больше взволнован, чем ожидал. И волнение его только росло.
Спутница его оказалась прекрасной провожатой по прихотливой и путаной, но превосходящей самые смелые ожидания коллекции Священного Престола. Когда Эспер увидел древнего Лаокоона с двумя сыновьями в поединке со змеями у алтаря Аполлона, то скульптура впечатлила его куда больше живописной вариации Роберти. В ней не было того почти предельного мрака, какой заполнял всё пространство картины; сам поединок, в котором уязвляемые и удушаемые неколебимо стояли в почти театральных позах, был больше похож на наказание богов за противление их воле, чем на последнюю и отчаянную схватку с бессмысленной и жестокой, внечеловеческой силой, как это было у Роберти. И совсем уж обрадовал Эспера Бельведерский Аполлон, увиденный в подлиннике, — это по Винкельманову слову «осуществление лучшего, что могут произвести натура, искусство и ум человеческий». Прекрасно сложённое обнажённое божество в плаще казалось только что высеченным из камня, и Эспер попытался сострить:
— Смотрите, совсем как петербургский кавалергард перед тем, как оседлать стройного жеребца.
— Ну, уж скажете.
Зашли и в Ватиканскую библиотеку, где Эспера ждала обещанная Меццофанти выписка. Сам падре вышел попрощаться и, бегло глянув на Александру, сказал на своём необычайно хорошем, хоть и книжном русском:
— О, я неплохо знаю вашу сестру. От княгини Елизаветы произошло много добра и ещё больше произойдёт в будущем. Передайте ей сердечный поклон и скажите, что мы всегда рады её помощи. А вас, милый князь, я ещё раз благословляю — в добрый путь!
На обратном пути Александра молча слушала Эспера, который был в ударе и рассказывал ей, не раскрывая до конца цели, о будущем путешествии в Болонью и о том, какие встречи ему там предстоят. Лишь подъезжая к вилле, она добавила:
— Когда будете проезжать через Флоренцию, обязательно посетите Uffizi; там вы тоже найдёте немало интересного, но особенно обратите внимание на одну картину Пьеро ди Козимо, которого Вазари считал ненавидевшим людей, даже своих подмастерьев, безумцем, жившим в доме как дикий зверь, поглощенным собственными видениями, но я-то думаю как раз наоборот — кажется, «Персей и Андромеда». А я вам напишу в Болонью, на адрес гостиницы «Le Due Corone», останавливайтесь там, — и быстро и решительно вышла из экипажа, после чего, не попрощавшись и не оборачиваясь, направилась к дому. Эспер какое-то время смотрел ей вслед, а потом приказал вознице трогать.
«Ваше Высокопреосвященство кардинал Педичини! — так начиналась выписка из архива Конгрегации пропаганды Веры, сделанная для него Джузеппе Меццофанти. — Спешу сообщить, что во исполнение данного нам Конгрегацией и Вами лично поручения мы предприняли розыски баснословного „змеиного дерева“, вызывающего столь ощутимое смущение в умах прихожан Юкатана, в частности, в вопросе о существовании противного высшему замыслу, магического, превышающего наше ему сопротивление, бессмысленно злого начала в сотворённой Природе, воплощаемого, по мнению туземных жителей, в дереве-людоеде. И если для нас проблема с каан-че — это, как Вы верно, Ваше Высокопреосвященство, заметили, вопрос установления научной истины, ибо ответ на вопрос о субъективном зле той или иной твари естественным образом разрешается в утверждении: „Всё, что ведёт к страданию во всех его проявлениях и особенно к страданию в смерти, — зло“, то для них этот вопрос есть проблема зла объективного, которое они вполне буквально и потому ошибочно считают сотворённым, как и сама Природа, от начала времён и потому античеловеческим попустительством нашего Творца. Стоит ли говорить, сколь возмутительны для всякого трезво и ясно верующего этот и некоторые другие из слышанных мною выводов, от повторения которых я предпочту удержаться в ответе Вам, не потому, что сколько-нибудь их опасаюсь, а потому, что они Вам, Ваше Высокопреосвященство, как и всему учёному духовенству нашей Церкви, ведомы давным-давно, а местная их расцветка роли не играет.
Итак, предприняв наши разыскания, мы достигли к 1 июля сего года мест, где хвойные леса Южного Юкатана сменились на лиственные. Именно здесь на их границе мы и рассчитывали увидеть баснословное растение, противоречивые сведения о котором столь смущали индейцев и вызывали законное беспокойство вверенной Вам Конгрегации Священного Престола. Предпринимаемое нами расследование должно было положить конец кривотолкам. Я и врач Мацей Моровецкий, старый товарищ мой по Виленскому университету, оказавшийся волею обстоятельств в Центральной Америке и присоединившийся к нашей экспедиции, были почти убеждены, что стоим близко к цели, потому как проводники наши впали в немалое беспокойство и отказывались ночевать в лиственном лесу, говоря, что если случайно заснуть под каан-че, то можно и не проснуться. Мы прошли несколько вёрст обратной дорогой и вернулись на опушку, после чего поставили палатки у ручья, решив завтра чуть свет совершить первую вылазку.
Спалось плохо, поднялись мы все рано; Моровецкий остался с тремя провожатыми сторожить палатки и имущество экспедиции, а я с ещё тремя местными уроженцами, вооружась лопатами и острыми ножами и прихватив с собой на всякий случай ружья, проследовал в лиственные заросли. Задачей проводников было указать мне каан-че, о котором я был столько наслышан последние несколько лет. Продвигались мы достаточно осторожно, потому как оно росло среди прочих пород, которые его не интересовали, а вот на приближение человека могло среагировать самым неожиданным образом. Я знал, что дерево каан-че относительно низкорослое, что прекрасно уживается в тени других деревьев, ибо солнца ему для роста почти не нужно. Вокруг нас пропархивали мелкие птицы, слышны были гукающие и свиристящие голоса, точной принадлежности которых разным живым существам я бы определить не смог. Неожиданно слева я сначала услышал, потом увидел отчаянное хлопанье крыльев одной из порхавших вокруг нас птиц, размером с горлицу, отчаянно пытающейся оторваться от ветки, на которую она присела, но словно прилипшей к ней. Присмотревшись, я увидел густую смолу, которой была эта ветка покрыта. Но самым удивительным было не это, а то, что чашечковидный отросток на ветке накренился к пойманной птице и начал втягивать её голову (крылья продолжали отчаянно хлопать), а потом заглотнул и всё тело. Зрелище было отвратительным. „Змеиное дерево!“ — заговорили проводники по-испански и тут же начали, побросав бесполезные ружья и подняв вверх острые лопаты и ножи, быстро оглядываться вокруг. При этом кто-то успел перекреститься и даже поцеловать висевшую на груди ладанку, и все они начали что-то шептать на своём языке, какого ни я, ни господин Моровецкий, к сожалению, не знаем.
Я пригляделся и увидел, что не все ветви „змеиного дерева“ имели чашечковидные отростки, но все сочились смолой, облепленной перьями и пухом птиц, а на некоторых были видны высохшие лапки или хвосты мелких млекопитающих, очевидно тоже пошедших на прокорм каан-че. Листьев на ветках было мало. Но некоторые из липких веток были ещё обвиты подобием коротких змей, отчего, вероятно, этот монстр и получил прозвище своё. И таких деревьев вокруг нас была целая семья, сначала нами не замеченная. Вероятно, они были соединены общими корнями, как грибница, и представляли собой огромную, пусть и неповоротливую и неуклюжую сеть, расставленную против обитателей девственного леса. Странным образом увиденное нами соединяло черты растительного и животного, и Бог весть каких ещё слепых действий можно было от него ожидать.
Страх и даже отвращение, испытанное при виде „охоты“ каан-че на горлиц, если такой способ пропитания вообще можно назвать охотой, сменились изумлённым любопытством, хотя осторожность следовало соблюдать: одной птицы на прокорм такой древесной „грибнице“ явно было бы мало. Старший по возрасту из моих проводников предложил действовать сразу и срубить лопатами или срезать ножами несколько крупных веток с такими чашечками и вернуться в лагерь, но я решил поступить иначе — воткнуть в землю одну из лопат и повязать на черенок мой красный шейный платок, и вернуться сюда со всеми инструментами и нашим учёным Мацеем Моровецким.
Через полтора часа мы были на прежнем месте с новыми лопатами, плотными рукавицами и ножами, а также со специальной металлической ёмкостью, в которую была насыпана земля, и удлинённый, высокий колпак над ней представлял собой прочную металлическую клетку в очень мелкую решётку. За нами последовали доктор Моровецкий и ещё один проводник (двое остались стеречь лагерь), и вот в дюжину рук, в полдюжины остро заточенных лопат и при помощи нескольких длинных ножей мы начали срубать ветви одного из деревьев, самого близкого к нам. Но лопаты завязали в чём-то волокнистом, и из порезов обильно текла смола, больше всего напоминавшая сукровицу. И тут я и спутники мои услышали звук такой, будто крупная рыба, выброшенная на берег, хватает воздух: чашечковидные отростки на других, удалённых от нас деревьях зашевелились и стали медленно, как во сне, схлопываться, словно в бессильном желании поймать добычу, а змеевидные щупальца, до того лежавшие на ветках, так же медленно поднялись в воздух. Вся семья каан-че, соединённая единым подземным корнем, пришла в движение. Это было омерзительно. Но ни мы с Моровецким, ни наши проводники-индейцы не теряли самообладания.
Когда, наконец, несколько веток было срублено и с предосторожностью воткнуто в землю под сетчатым колпаком, и мы отправились обратно в лагерь, а из лагеря, после короткой передышки, проследовали уже на север, но безопасной дорогой, то лишь тогда и я, и Моровецкий признались друг другу, что повидали в своей жизни многое, но такое — впервые. И под колпаком отростки на ветках продолжали открываться и закрываться, пока один из провожатых не предложил „покормить чудовище“. Мы были в индейской деревне и через узкую дверцу в решётчатом колпаке запустили к саженцам каан-че несколько пойманных нами домашних грызунов. Прошло совсем немного времени, как несчастные жертвы уже пытались выкарабкаться из липкой смолы, в которой они завязли, вскарабкавшись из неодолимого любопытства на саженцы; более того, ожившие чашечковидные отростки уже накренились к будущим жертвам, готовые сглотнуть и их. Но мы теперь знали точно, что каан-че не миф, не игра воспалённого воображения, а самый что ни на есть подлинный, неизвестный прежде науке вид, хищнический и даже вполне паразитический, но тем не менее подлежащий изучению, и благодарили Матерь-Церковь за возможность послужить установлению истины и лучшему уяснению Высшего Замысла Творца. Проводники наши тоже были довольны, ибо их ждало приличное денежное вознаграждение за смелость и пережитые страхи, в соответствии с пожеланиями вверенной Вам Священной Конгрегации Святейшего Престола.
Разумеется, вопрос об опасности каан-че для человека можно считать разрешённым; для человека оно неопасно и представляет собой малоприятный курьёз.
В подтверждение рассказанному выше препровождаем добытые образцы каан-че. Считаю должным указать, что рацион каан-че, в соответствии с нашими наблюдениями, состоит действительно из относительно мелких птиц и млекопитающих. Ничем более крупным каан-че питаться не может; слухи об опасности данной формы жизни для человека до полного изучения данного вопроса в подходящих условиях следует считать преувеличенными, что, вероятно, и следует донести до местного населения, сославшись на авторитет науки и Матери-Церкви.
Ваш смиренный брат во Христе Ян Хвалибог.
Прочитавший это врач Мацей Моровецкий подтверждает полную правильность и точность изложенного.
В лето 1833-е Господа нашего Иисуса Христа, июля 15-го дня. Полуостров Юкатан».
Дорога из Рима во Флоренцию была долгой — целые пять дней, вверх и вниз по холмам Тосканы, но всё это время, несмотря на окружавшие его красоты, Эспер продолжал думать о прочитанном, так мало вязавшемся с довольно формальной, как он почему-то думал, перепиской по вопросам местных суеверий, о двух безрассудных поляках из Вильно, извлекших каан-че из тропического леса Центральной Америки, о загадочном болонском профессоре Гамберини, детально описавшем доставленного ему монстра. Эсперу открывалась не только новая, может быть, не менее тревожная, чем прежние, черта, новый интерес его неуловимого, отказывавшегося материализовываться дяди, но и те стороны здешней итальянской жизни, о которых он мог только глухо догадываться. Воистину фантазия Пиранези была не столь уж безудержной, а произрастала из наблюдаемого ежедневно. Куда же Эспер сейчас ехал? Что его ждало в Болонье?
Наконец, копыта вёзших его экипаж лошадей зацокали по мощёным улицам Флоренции. Была первая половина дня, и, оставив вещи в гостинице, он, как был в дорожном костюме, отправился в Галереи Уффици, ещё открытые для посетителей. Стараясь не оглядываться на коллекцию древних скульптур, собранную Медичи, кажется, ничем не уступавшую ватиканской, на вид из залов дворца на застроенный лавками ювелиров городской мост и на текший под мостом быстрый зеленоватый Арно, он стремительно проходил зал за залом, пока не обнаружил то, что искал: перед этой картиной нельзя было не остановиться.
Из зеленоватых вод глубоко уходящего в сушу залива (именно такого цвета вода повсюду в Италии), обрамлённого горами, вылезает странный морской зверь, не то слон, не то морской лев, не то кит; на его мохнатую спину только что приземлился обутый в крылатые башмаки Персей в полном боевом облачении; рука его занесла меч, чтобы отсечь зеленовато-коричневую голову чудищу. Персею на помощь спешит по зеленоватому же воздуху не то позднего утра, не то раннего вечера в крылатых своих сапогах Гермес; бивни чудища нацелены на привязанную к прибрежному дереву простоволосую Андромеду в жертвенных белых одеждах; накидка распахнута, грудь Андромеды обнажена. Толпа собралась поглазеть на происходящее. Тут и просто досужие зрители, и женщины с музыкальными инструментами, пытающиеся увернуться от распространяемого чудищем смрада и наладить свою расстроенную музыку, и те, кто в ужасе бежит прочь с жуткого берега. Но никто, кроме Персея, не спешит на помощь Андромеде…
В ещё большей задумчивости Эспер отправился в гостиницу, где почти не спал и, не задерживаясь больше во Флоренции ни минуты, с первым светом решил ехать в Болонью.
Эта дорога была совсем не похожа на тосканскую — горные ручьи и мельницы, гостиницы и таверны (в одной из них Эспер и возница его жадно ели макароны с мясом и грибами), мир, где человек уже не обладал той властью, что на равнине. Минуя одну из гор, впрочем, находившуюся на отдаленье, кучер рассказал Эсперу о странном обычае горных жителей расстилать на большой церковный праздник на склонах этой горы белые ткани, на которые собираются стада муравьёв, и именно в этот день их запрещено трогать, ибо и букашке Божьей должно быть, где помолиться о печалях и малых грехах своих, а в народе гора так и называется — Муравьиной. Температура заметно упала. Нет, это была не альпийская стужа Бреннера, но достаточно холодно, хотя яркое солнце сияло в стылом воздухе.
Когда достигли самой высокой точки перевала и до Болоньи было ещё очень далеко, то Эспер услышал ровный шум, словно от множества водопадов. Но никаких горных рек вокруг дороги и даже на некотором отдалении не было. Правивший экипажем сказал Эсперу, что так звучит лес. Действительно, вокруг дороги по склонам и в низине был совсем не густой, как знакомые Эсперу тверские чащобы, а относительно редкий, весь пронизанный светом лес, росший здесь не одно столетие. Под дыханием вечно и ровно дующего через перевалы ветра он звучал как мощный инструмент, как прибой Океана: воздушного и водяного одновременно. «Так, вероятно, поёт Атлантика», — подумал Эспер, ни на каких морях, кроме Балтийского, не бывавший. Звук этот поднимался из низин и по склонам вверх, к дороге и толкал экипаж своим дыханием, как лёгкую лодку, — вперёд, к неизбежной цели путешествия. Ничего подобного Эспер никогда не встречал. «Ветер истории поёт, вероятно, так же», — подумал бы путешественник, склонный к более смелым обобщениям. Эспер не знал, что, проезжая той же дорогой и слыша на тех же самых вершинах этот же неумолкающий шум, удивлялись ему и приятель Байрона Шелли, ехавший по перевалу уже после заката, и князь Вяземский, приятель Пушкина, ехавший тут при свете солнца, — да-да, тот самый стихотворец и критик, о котором напомнил ему Меццофанти. Шум леса полнил сознание Эспера будто в предвестье чего-то немыслимо важного.
Окаймлённая горами, как короной, Болонья умещалась вся внутри средневековых стен. Выделялись только башни, некоторые накренённые, да кресты церквей. Центральные улицы были названы все по именам святых. Университет располагался на Свято-Донатовской. Сюда — прежде гостиницы — и отправился в нанятом им экипаже Эспер. Застроенная уже много столетий многоэтажными домами с арками на нижнем этаже, улица, по которой, вероятно, было удобно идти в ливень, из окна экипажа напоминала гигантский, бесконечный амбар. Вот и университет с обсерваторией Коперника и с музеями. Из-за летней поры сейчас здесь можно было застать лишь сторожей. Сонный полуграмотный привратник написал крупными буквами на листке улицу и дом, в котором проживал профессор Гамберини, подтвердив, что учёный муж ещё в городе, во всяком случае его видели третьего дня. Услышав же имя Фальконе, он всплеснул руками: «Беда, такая беда! Разве вы не знаете?» Нет, Эспер ничего не знал. «Господина Фальконе похоронили третьего дня, да, знаете ли, странно так похоронили, упокой Господи его душу, а распоряжался похоронами профессор Гамберини». Эспер понял, что следует действовать без промедления. Экипаж довёз его до гостиницы «Le Due Corone», которая по случаю августовской жары почти пустовала — в такую пору даже самые заядлые состоятельные домоседы выезжали из перегретой солнцем Болоньи в горы или на море: в Равенну и особенно в Римини — а уж в город никто не ехал, считая это безумием. Щедро расплатившись за услуги и сменив дорожный костюм на приличествующий случаю, Эспер отправился пешим ходом по указанному адресу. Сказать, что он шёл к Гамберини не без волнения, не зная, чего ожидать от их встречи, значило бы ничего не сказать. Солнце уже клонилось к вечеру, город, в отличие от Рима, был невелик, но улицы его даже в такой жаркий день не пустовали — под прохладными арками торопились куда-то оставшиеся в городе жители, мимо проезжали коляски, — и не прошло и получаса, как Эспер постучал набалдашником трости в дверь первого этажа, на которой была прибита металлическая дощечка с именем учёного постояльца. Дионисио Гамберини сам открыл ему дверь и встал на проходе, словно преграждая вход в жилище:
— Вы Эспер? Правильно?
— Разумеется.
— Не удивляйтесь, я ждал вашего появления.
— Простите, что без предупреждения и, видимо, — в неурочный час. Я, признаться, хотел сначала повидаться с господином Фальконе, но в Университете мне сказали, что он скоропостижно скончался от приступа египетской лихорадки.
— Это, к сожалению, не лихорадка, я осматривал труп. Третьего дня мы сожгли Орацио — так было принято у древних латинян: я сам настоял на подобном погребении. А вы — сначала покажите мне руки.
Изумлённый Эспер прислонил к стене прогулочную трость, снял перчатки и, неловко засунув их в карманы сюртука, протянул профессору Гамберини обе руки.
— Да не ладонями вверх, а оборотной стороной, я хочу осмотреть ногти. И развяжите ваш шейный платок. Не волнуйтесь, я всё-таки практикующий врач. Спасибо, вот теперь проходите. — И Гамберини плотно затворил за по-прежнему изумлённым Эспером дверь.
— Вы думаете, смерть господина Фальконе как-то связана с моим дядей? — спросил Эспер в плохо скрываемом волнении, чтобы как-то выйти из предельно неловкого положения, ибо Гамберини продолжал внимательно рассматривать его, прямо в упор, как это делал бы с вероятно уже заболевшим пациентом не пришедший ещё к окончательному заключению врач.
— Напрямую нет. Думаю, что они оба — жертвы. Да вы, князь, снимите же, наконец, шляпу и проходите — что медлить в прихожей!
— Спасибо, профессор.
— Вы в курсе опытов, в которых участвовал ваш дядя? Вам знакомо то, чем он тут занимался?
— Откровенно говоря, нет. Да и виделись мы последний раз лет семь назад в Москве. Но письма от него я получал время от времени. И сейчас к вам меня привело его письмо.
— Покажите. Простите, князь, если я кажусь вам бесцеремонным. Но в свете последних событий мне — не до шуток.
Эспер достал из внутреннего кармана переданный им лордом Рутвеном «Ключ», Гамберини внимательно и недоуменно посмотрел на развернутый лист, повертев его так и эдак.
— А перевести вы не смогли бы? Бедняга Орацио разумел по-русски, я-то — нет.
Эспер изложил содержание «ключа».
— Дело серьёзное, отпираться не буду, — заговорил Гамберини, несколько смягчившись. — Да вы не ждите приглашения и садитесь, голубчик. В ногах правды нет, как говаривал ваш родственник, — и придвинул к Эсперу стул с высокой резной спинкой, каковых в гостиной стояло несколько, правда, в основном посреди комнаты, вообще не казавшейся слишком прибранной. — Не хотите ли выпить?
— Наверное, не откажусь, — меньше всего сейчас Эсперу хотелось пить что-то крепкое, но, очевидно, Гамберини требовалось приободриться перед серьёзным разговором, и он противоречить хозяину не стал.
Профессор, как очевидно, жил одиноко, даже без прислуги, как и подобает погружённому в науку чудаку. Через некоторое время он вернулся с запылённой початой бутылкой белого вина и двумя бокалами и поставил и то и другое на стол:
— Или вы предпочитаете красное? Не отказывайтесь, это — из лучшего, что производят в наших краях. Некий прелат, из немцев, известный разборчивостью, по дороге из Германии в Рим пробовал на вкус разные сорта и многие казались ему недостаточно хорошими или попросту кислыми, пока один из виноделов у древней горы фалисков не подал ему вот этого и услышал в ответ радостное: «Est! Est! Est!»[23] — отсюда и сорт. Прелат стал его пить без удержу, пока не отдал Богу душу. С той поры это вино производят не только в Лациуме, но и у нас в Романье.
Оба подняли наполненные Гамберини бокалы — Эспер сидя, профессор стоя у стола и внимательно поглядывая на гостя — и осушили. В вине оказалась какая-то естественная игристость, мало вязавшаяся с очевидной серьёзностью предстоящего разговора. Гамберини даже немного улыбнулся:
— Я вам налью ещё, а вы сами решайте, пить или нет. Я же с позволения вашего снова выпью.
Эспер отодвинул от себя полный бокал, показав, что готов выслушать рассказ хозяина. Гамберини продолжил говорить, но уже с бокалом в руке, изредка делая несколько глотков, как если бы он пил воду, — алкоголь не оказывал на него видимого воздействия:
— Как я понимаю, всё началось с истории, приключившейся с князем Адрианом в Турции; её последствия и привели к нашей переписке, а затем и к встрече. Вашего дядю интересовало, сколько времени сложный организм может существовать в пограничном состоянии не вполне жизни, но и не вполне смерти. Уже в первых письмах он изложил мне довольно откровенно суть дела, я столь же откровенно предложил ему приехать в Болонью и для начала просто провести обследование. Как медика и учёного меня всегда волновала граница жизни и нежизни, поверьте мне, гораздо более подвижная, чем граница растительного и животного, а уж по этой части у меня были довольно серьёзные, если не сказать больше, наблюдения. Дело в том, что из Америки с большими предосторожностями мне был доставлен образец промежуточного существа, я бы даже сказал, формы жизни, впрочем, подпитываемой исключительно смертью других, и по просьбе Священного Престола нашей Церкви я начал изучение и описание доставленного образца. Да-да, это было то самое «змеиное дерево», упомянутое в составленной Адрианом, вашим дядей, таблице. Вы, наверно, заметили, что, хотя я живу на людной улице, но живу один. Так-то спокойнее. Да и с некоторых пор приходится опасаться нежеланных гостей. Кстати, а вам говорили, как вы на дядю вашего похожи?
— Да, говорили.
— Я даже сначала подумал, не помолодевший ли это, наконец, Адриан. Но нет, такое невозможно. Что ж, я не уверен, что вам понравится то, что вы сейчас услышите, но коли пришли — вот мой рассказ.
Итак, дядя ваш прибыл осенью прошлого года в Болонью для обследования и опытов. В это время мой старый друг Фальконе находился в Египте. Признаться, я был встревожен отсутствием известий от него, ибо последние письма получил с Мальты, на которой он задержался на некоторое время для разбора одного из книжных собраний, посвящённых нашим средиземноморским древностям. Нет-нет, он из Египта вернулся вполне благополучно и ничем не был болен, это я вам как врач говорю. Болезни, сопровождавшиеся лихорадками, начались позднее. Впрочем, об Орацио — речь впереди.
Первое, что удивило меня в князе Адриане, это была его внешность. Он ведь не был молод, ему по его рассказам было тридцать девять, но выглядел дядя ваш лет на пятьдесят, а то и больше. При внешней физической крепости он заметно, на глазах моих изменялся, а приезжал он ко мне не раз и не два, как если бы его собственный счёт времени отличался от астрономического. Последний раз он был у меня незадолго до смерти нашего общего друга, т. е. чуть больше недели назад.
— Как?! И где он сейчас? — Эспер даже привстал.
— Уж точно не в Италии. Рассказ будет долгим, так что ради Бога садитесь и наберитесь терпения. Итак, князь Адриан заметно и сильно старел. И его интересовала возможность затормозить время жизни, которое у всех общее, но часы каждого идут с разным заводом, да и стрелки могут двигаться как вперед, так и назад. А так как я занимался переходными состояниями, то и подумал: а почему бы и нет? Может, наука что-то подскажет? При общем осмотре я обратил внимание на очень нерегулярный пульс, иногда пропадавший вовсе. Состав крови его тоже был в высшей степени странен. Ещё дядя ваш жаловался на практическое отсутствие сна — не сновидений, грезить-то мы все умеем и наяву, а именно сна, длившееся неделями и, видимо, сильно старившее его организм. Как и на почти полное отсутствие аппетита. Между тем именно организм его, лишённый нормальных телесных нужд, и представлял для меня наибольшую загадку.
Как если бы этого было мало, вскоре я понял, что не встречал собеседника интереснее: знания его и умения были поразительны, а в некоторых смыслах и безграничны, ибо учился он легко, схватывая почти всё на лету. Я даже интересовался, были ли у него такие способности прежде. Он отвечал, что ещё несколько лет назад — нет. Тут было какое-то нечеловеческое изменение ума. Или сильно превышающий привычное опыт. Словно до того, как у меня появиться, человек прожил не одну, а несколько жизней. Впрочем, может, и прожил, как знать.
Меня, конечно, интересовало и душевное здоровье вашего дяди. В те редкие ночи, когда ему удавалось уснуть, князь Адриан видел, по его рассказам, несколько повторяющихся снов, и чаще всего младшего брата своего с разбитым виском и выгрызенным сердцем (нет, не волнуйтесь, в его смерти — это ведь батюшка ваш — князь Адриан не повинен), другой сон — его будто бы мёртвого и уже погребённого откапывают на кладбище в Турции, третий — что он останавливается в таверне высоко в горах и застаёт там компанию турецких знакомцев, тех самых с кладбища, приглашающих его присоединиться к ним. Кажется, он, осознанно или нет, опасался преследования.
Я уже говорил, что занимался научным описанием «змеиного дерева». Привезённые из Центральной Америки саженцы очень хорошо прижились у нас. Правда, пришлось создать для них специальную, отдельную ото всего университетского ботанического сада теплицу. После ряда опытов я понял, что «змеиное дерево», с человеческой точки зрения, почти бессмертно, во всяком случае, крайне неприхотливо и обладает высокой способностью к возрождению. К жару и к холоду, что губительны для нас, оно безразлично. Я помещал один из его черенков надолго в камеру со льдом, и оно впадало в состояние, аналогичное глубокому сну лягушек, когда действие веществ внутри организма замедляется, но полная смерть — не наступает. Я воздействовал на саженец кислотами — вскоре поражённые области зарастали сами собой. Оно могло долго, месяцами обходиться без пищи, снова впадая в глубокий сон, но оживая при первом же приближении добычи. Единственное, что имело эффективное воздействие на него, — это огонь. Кстати, прожаренные ткани его внешне похожи на мясо. Конечно, следовало бы попробовать, каковы они на вкус, но тут, признаюсь, учёное бесстрашие изменило мне. И всё-таки каан-че — это довольно простой организм, только огромных размеров. И совершенно непонятно, как бы себя повёл организм высший, я уж не говорю человек, подвергшийся определённому внешнему воздействию и вследствие того развивший бы в себе определённые черты сходства с каан-че. Вы действительно хотите, чтобы я продолжал?
— Прошу вас, профессор.
— Первым делом я подверг организм князя Адриана — с его полного согласия, конечно, — медленному замораживанию. Делали мы это не в университете, где достичь таких условий невозможно и где нам могли бы помешать, а в лаборатории в горах, где легче добиться очень низких температур. Вы, вероятно, ехали к нам через Флоренцию, а если так, то не могли не обратить внимание, что выше нагорных лесов там есть хуторок…
— Нет, я был поражён их шумом, я слушал этот шум.
— Всё равно вы не могли его миновать. Вот там, когда Адриан ко мне приезжал, уже повсюду лежал снег и опыты проводить было легче. Была устроена специальная комната с ванной. Впрочем, это всё лишние подробности. Важно другое: при температурах, при которых пресмыкающиеся впадают в глубокий сон, а млекопитающие гибнут, организм вашего дяди не выказывал никаких внешних признаков глубокого сна, а сознание и речь тоже не давали никаких изменений. Всё это можно было бы списать на помутнение моего сознания или даже на обман органов восприятия, но у меня есть журнал записей, там стоит и подпись участника опытов с другой, так сказать, стороны князя Адриана Лысогорского. Сейчас, минутку, — говорящий что-то искал в карманах; это был ключ, Гамберини победительно продемонстрировал ключ Эсперу: — Я сейчас вернусь, — и вышел из гостиной.
Эспер разом осушил бокал. Бутыль была пуста. Профессор вернулся с конторской книгой под мышкой, полной закладок, и с ещё одной запылённой бутылью того же самого вина, которое тут же откупорил и налил себе и гостю.
— Вот, смотрите!
Эспер без труда узнал в одной из записей дядину руку, заверявшую дату и содержание проведённого опыта.
— Воздействовать на его организм химическими составами я не стал. Хотя не поручусь, что Адриан не сделал этого сам, уже без меня. Хотите взглянуть на каан-че? Нет? Как знаете! Ваш дядя попросил у меня перед отъездом черенок, я не смог ему отказать. — Гамберини снова налил вина себе и Эсперу. — Идеальным было бы осмотреть организм вашего дяди изнутри, но на живом человеке этого сделать невозможно.
— Вы имеете в виду… анатомическое вскрытие?
— Ну, что-то вроде этого. Вы знаете, как проводить вскрытие?
— Нет.
— А приходите тогда завтра к полудню на Главную площадь, в Архигимназию, в анатомический театр: увидите, как это делается, собственными глазами. Ещё один бокал на прощанье, князь, а?
Эспер вернулся в гостиницу, едва понимая, как он идёт. Вино и рассказ Гамберини совершенно выбили у него почву из-под ног. Между тем в гостинице его ждало пришедшее из Рима письмо, заставившее почти протрезветь:
«Эспер,
знайте: если я что-то рассказывала на пароходе, то только потому, что увидела вас. Я не обращаюсь к вам „дорогой“ или „милый“, потому что эти слова значат слишком мало с точки зрения того невероятного, нерассуждающего, ошеломительного и да, неизбирательного сродства, которым теперь связаны наши жизни. Начну с главного. Внешность ваша и даже то, как вы говорили, показались мне страшно знакомыми, а когда я услышала ваш разговор с Тарасовым и Корсаковым, отпали последние сомнения. А случайный рассказ полковника и история Сергея Алексеевича, о которой он прежде умалчивал, только подтолкнули меня к тому, что рассказала я. Я действительно возвращалась из России почти в отчаянии, но вы показали мне, что и отчаянье это иллюзорно. Я не претендую ни на что большее, но, если вы сочтёте, что всё, что происходило в Риме, не было наваждением, минутным увлечением, я буду счастлива. Вероятно, я не должна была писать вам такого письма, но что значат условности, если мы вынуждены идти против себя самих? Вы-то, кажется, совсем не способны к притворству.
Александра».Эспер и не заметил, как заснул, а снившееся ему было сокрушительным. Казалось ему, что это не дядя его, а он сам лежит под многозвёздным южным небом среди разрытых могил, а над телом его, будто пребывающим в глубоком, бесчувственном сне, склонились какие-то собачьего вида существа в сорочках и жилетах и, отвратительно дыша на него, изучают, мёртв ли он вполне или всё ещё нет, обмениваясь дикими взглядами и согласно подвывая. Потом что-то острое, как лопата, вошло в его грудь, и зубы стали выгрызать там, где сердце. Но боли он совсем не почувствовал, потому что был уже скорее мёртв, чем жив.
Яркое солнце било сквозь незанавешенное окно. Колокол звал к заутрене. Наскоро умывшись и одевшись, Эспер отправился пешком на Главную площадь. Голод мучил его, и после всего услышанного и приснившегося это естественное человеческое чувство скорее радовало Эспера. Заказав в первой открытой кондитерской местного сладковатого хлеба и крепчайшего кофейного отвара, который здесь подают с узким стаканом питьевой воды, Эспер, может, и не насытился, но почувствовал себя вполне бодрым. Пришёл он на Главную площадь довольно рано и, побродив вокруг, решил заглянуть в собор Св. Петрония. Грузноватый, без особой вычурности собор вот уже несколько столетий стоял не вполне достроенным, с не отделанным до конца мраморным фасадом. Впрочем, строительство таких зданий, как правило, идёт бесконечно долго. Огромный и не полностью расписанный, он впечатлял внутри гораздо больше, чем снаружи. Прихожан в соборе было совсем немного, почти все они — женщины, и Эспер, стараясь не нарушать шагами их сосредоточенного молчания и звуков тихой музыки, почти крадучись прошёл в одну из капелл левого нефа, где были поразительные фрески — изображения волхвов, рай и ад. За те несколько недель, что он находился в Италии, знакомство с церковной и светской живописью превратилось почти в ритуал. Особенно впечатляла фреска ада. Среди мраморных скал обросший синеватой шерстью Люцифер со светящимися красными зрачками пожирал живьём грешников, и если уста его начинали с голов жертв, то хищный зубастый зад пожирал в первую очередь их ноги. Красные, серые, синеватые черти, похожие на крылатых собак, огромных мышей, кабанов или принявшие получеловеческое обличье, все с рогами и с крыльями за спиной, все, как их господин Люцифер, тоже покрытые шерстью, гнали на прокорм со всех сторон новые и новые стада согрешивших. А на самих скалах мучились, уязвлённые и обезображенные — те, кто будет пожран в последний момент.
Отступив от фресок, Эспер увидел под ногами прочерченный по плитам меридиан астронома Кассини, позволявший правильно исчислять по солнцу день календарного года. Сегодня было 13 августа.
Эспер снова вышел на площадь; до встречи оставалось ещё часа полтора, и он проследовал мимо дворца и дальше по Рыночной к двум башням, одна из которых накренилась, а на вторую можно было за небольшую плату влезть по внутренней деревянной лестнице. Когда-то по таким же деревянным ступеням на неё взбирались Дант, чьё видение ада воплотилось на стене собора, возвышенно-страстный Петрарка, прекрасный Боккаччио. Вид на залитую солнцем Болонью с высоты орлиного полёта полностью затмевал картину вечной погибели: дома и дворцы, сплошь покрытые красноватой черепицей, золотящийся от солнца воздух; дальше — тёмно-зелёные, заросшие лесом горы, ещё дальше, вплоть до моря, — синеющий мир, великий и разнообразный.
Когда Эспер дошёл до Архигимназии, где на втором этаже располагался анатомический театр, специально, как сказал привратник, открытый по просьбе профессора Гамберини, его внимание остановила фреска: дивная, даже соблазнительная Медицина в тонких сандалиях и в синей небесного цвета накидке указывала присевшей и смотрящей туда, куда ей указывают, не менее дивной Любознательности в синей епанче и шитой тёмно-золотыми цветами просторной сорочке и в роскошной, червонного золота юбке на портрет одного из медиков, распространявших в стенах Архигимназии научное знание. Руки Любознательности были распахнуты ладонями вверх, будто она и удивлялась, и готова была принять неисчислимые дары. У ног её играли друг с другом два амура.
Анатомический театр действительно был больше всего похож на театр. Два ряда светло-коричневых скамей по периметру зала, мраморный стол посередине; по стенам резные, тёмного дерева скульптуры великих врачей прошлого вместо привычных в театре обычном поэтов и муз — на фоне крытых светло-коричневым деревом стен; на таком же светло-коричневом потолке — вместо ангелов — изображения Аполлона, Геркулеса и знаков Зодиака, тоже вырезанные из тёмного дерева. В этот момент в анатомический театр вошёл профессор Гамберини с тремя помощниками, двое из которых на носилках внесли накрытый простынёй труп мужчины средних лет, а третий — инструменты. Гамберини был в фартуке и в перчатках; он пригласил Эспера жестом подойти прямо к столу, а помощников отпустил, велев возвращаться через час.
— Князь, времени у нас немного, — начал Гамберини без излишних любезностей, — потому смотрите и запоминайте. Сначала необходимо сделать надрез скальпелем от верхней части груди до лобка. Действовать следует смело, но аккуратно. Под кожей и жёлтым жиром обнажаются грудина и чрево. Под мечевидным отростком режете мышцы брюшины, вводите туда два-три пальца свободной руки и достигаете скальпелем до кишечника, стараясь не повредить его. Кожно-мышечные лоскуты на груди режете так, чтобы обнажались рёбра. Для отделения лёгких и сердца используются ножницы и ножи, кишки и прочее можно отделить и извлечь руками. Я рад, что вы молчите и смотрите — не всякий выдержит с первого разу. Я мог бы это повторить, но вам, пожалуй, хватит и одного наблюдения.
Эспер стоял перед столом, на котором лежало выпотрошенное то, что когда-то было человеком. Гамберини снял рукавицы и фартук и положил их на окружавшие стол невысокие перила. Жестом он пригласил Эспера вернуться на скамью и сам присел рядом с ним:
— Я обещал вам рассказать о смерти Орацио. Что ж, слушайте. Несколько раз к Орацио приезжал лорд Рутвен, у которого, как у дяди вашего Адриана, с нашим бедным Фальконе были какие-то общие интересы, связанные с египетскими и прочими древностями. Вы, конечно, читали то, что опубликовал доктор Полидори?
— Да, читал.
— В этом много фантазии и всяческих прикрас, но он врач, а мы, врачи, обычно не скрываем главного.
— Я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду, профессор.
— Князь, лорд Рутвен — не тот, за кого себя выдаёт. Т. е., конечно, настоящие Рутвены были Полидори оклеветаны, но он — не настоящий. Он, я почти уверен, из тех. Существует нечто вроде братства, нечто вроде тайного союза таких, как этот лже-Рутвен. Конечные цели их не ясны ни вам, ни мне. Заманивают они в свои сети по-разному; в случае с князем Адрианом это был любовный интерес, Орацио Фальконе соблазнили неожиданной находкой в Королевстве обеих Сицилий. Когда одной из их жертв, ещё в Турции, оказался ваш дядя, опыт прошёл неудачно, и всё, чего дядя ваш хотел впоследствии, — это избавиться от состояния, в каком он оказался, найти решение, вернуться в точку, с которой всё началось, или, на худой конец, выражаясь поэтически, сбросить чары. С Рутвеном или с тем, кто себя за него выдавал, он встретился, как и наш бедный Орацио, путешествуя по Средиземноморью, и затеял опасную игру. По многим признакам дядя ваш был «свой», из их, так сказать, братства, но им он не был.
— Но именно Рутвен передал мне письмо, которое привело меня к вам.
— Таблицу? Всё ещё хуже, чем я предполагал. Адриан решил, что если Рутвен письмо прочитает и не передаст его вам, то тем самым себя окончательно изобличит, но он его не прочитал или сделал вид, что не прочитал, и передал вам. Он, я думаю, решил, что это такая наживка для вас. А вы поступили правильно, что приехали ко мне. Ах да, я обещал рассказать про последние дни Орацио. Всё началось не с Египта, Египет был моей умышленной ложью, чтобы отвести подозрения от некоторых вовлечённых в события лиц, пока я сам во всём не разобрался. Полтора месяца назад Фальконе ездил с так называемым Рутвеном в Апулию смотреть якобы раскопанный там крестьянами небольшой египетский обелиск, что обещало стать неслыханным открытием, а вернулся несколько недель назад сам не свой. Князь Адриан тогда безвыездно находился в Риме в ожидании вас, и я его вызвал срочной депешей в Болонью. Возможно, обелиск и вправду откопали, но дело не в этом. То, что я обнаружил при осмотре бедного Орацио, подтвердило худшие опасения: пульс был исчезающим, химический состав крови не соответствовал привычному. А кроме того, на шее его и на груди были следы, напоминавшие укусы и вообще множество ран, наскоро зашитых. Приехав, Адриан подтвердил, что да, это всё очень напоминало его собственное состояние в похожих обстоятельствах. Именно тогда дядя ваш, видимо испугавшись, хотя он точно не робкого десятка, принял решение срочно возвращаться в Россию. Отговаривать его я не мог. На прощание он попросил у меня саженец «змеиного дерева», и я без колебаний дал его ему вместе со всем, что было необходимо для перевоза столь диковинного экземпляра через всю Европу. А вдруг то, что не получилось у меня, получится у него?
Когда ваш дядя уехал, Орацио стало ещё хуже, и вскоре бедняга умер, или, во всяком случае, продемонстрировал видимые признаки смерти. Анатомировал я его сам, без свидетелей. Предварительно всадив осиновый кол в сердце. Знаете, я не суеверен, но тут уже речь шла не о суеверии. Внутренние органы его были в том состоянии, в каком дальнейшая жизнь невозможна, а некоторые и отсутствовали вовсе. Были ли они извлечены хирургически — трудно сказать. Тело его было, как я уже сказал, всё в наскоро зашитых ранах. Под воздействием каких сил он смог вернуться в Болонью и прожить ещё некоторое время — было для меня самой большой загадкой.
— Но почему вы не сообщили обо всём в полицию? Почему не известили власти?
— Знаете, не все ходы в шахматной партии были сыграны. И один из этих ходов, простите меня за откровенность, — вы. Будут ещё и другие. Победа под силу настоящему мастеру. Вы готовы быть не фигурой, не наблюдателем, а тем, кто фигуры двигает?
Эспер молчал.
— Итак, всё, что осталось от Орацио, в тот вечер прилюдно сожгли, а прах запечатали в египетскую урну в форме статуи Гора; она стоит у меня дома. Даже если за прахом придут — он бесполезен. Пепел есть пепел. Но какой был пышный костёр! Вы помните историю Лазаря?
— Как не помнить!
— Мне не хватило сил и знаний воскресить Адриана до конца, полностью вернуть к жизни, развязать тяготившие его путы. Вам, по крайней мере, под силу вернуть его обратно. Но прежде крепко подумайте. Вот вам набор очень хороших инструментов: не отказывайтесь, вы не знаете, какой именно из них может вам пригодиться. Больше вам, пожалуй, ничего и не понадобится. Ах да, совсем запамятовал. Вот письмо, которое я должен был передать — после того как мы обо всём поговорим. О чём оно — я не знаю. Даю слово чести.
Письмо было запечатано сургучом с оттиском прежнего, хорошо знакомого по первым двум письмам дедовского знака — кириллическое «Л» с лежащим у его основания коротким мечом внутри лаврового венка с лентами. Эспер поблагодарил Гамберини, а тот крепко пожал ему на прощание руку и потом ещё долго смотрел вслед. Выйдя из анатомического театра на площадь, к собору, Эспер разломил сургуч, однако вместо ожидаемой новой головоломки или простой отписки внутри было хоть и краткое, но сердечное объяснение происходившему всё последнее время:
«Дорогой мой племянник, если это письмо попало в твои руки, то ты уже знаешь достаточно из того, что я хотел бы, чтобы ты знал. Выводы делай сам. Жду тебя в середине осени в нашем кесьминском захолустье. Раньше приезжать не стоит. Ничего особенного ты там не застанешь. Наслаждайся покуда Италией. Твой дядя Адриан».
Ударил колокол, начиналась вечерняя служба. Эспер пошёл по Via Clavature и очень скоро оказался у монастыря Св. Стефана. Он зашёл в те проходы и церкви, куда был доступ с улицы простым посетителям — тут и там были видны на ободранных стенах остатки дивных фресок, — и остановился у изображения св. Урсулы. В красно-золотом плаще с красной книгою в руках она удивлённо и внимательно всматривалась в лицо подошедшему, как бы помахивая ему со стены золотой ветвью. В мягких женственных линиях было что-то завораживающее. Но могла ли она поддержать его в осуществлении задуманного им и, может быть, страшного дела? Ведь тот, в чьём отношении оно должно было осуществиться, сам развязывал ему руки, давал право на действие.
Эспер вышел на Свято-Стефановскую и пошёл в сторону Свято-Донатовской, на которой располагались закрытая сейчас обсерватория и пустовавшие здания университета. Его гостиница стояла в нескольких кварталах от университета. Кое-где в уклоняющихся влево переулках светлели вечно шелушащиеся стволы платанов, в кожаном футляре позвякивали хирургические инструменты анатома, в том числе похожий на стилет скальпель. Вокруг Болоньи журчала вода вечно прохладных каналов, двигая колёса мельниц и фабрик, далеко на востоке — так далеко, что её из Болоньи было почти не разглядеть, — блестела Адриатика, над Болоньей, горами, морем, над землёй и всем тем, что по ним двигалось, плыл Океан воздуха.
Наслаждаться так наслаждаться — завтра он пойдёт в Пинакотеку. А потом поедет и в Рим, где ждала его Александра.
Ощущение небывалой силы, свободы и да, победы и неизбежного счастья завладело им и отлилось по обретённой в Риме привычке в стихах, сочиняемых, может, и неправильно и уж точно не так, как их написал бы Пушкин, которого Эспер так горячо защищал на вилле княгини W. и её сестры, — а так и только так, как мог сказать о поднимавшемся в нём сам Эспер; и он ни за что не отдал бы нового зрения, нового чувства, не смирил бы его ни перед чьим авторитетом.
Ударом? — нет, просто движеньем крыла душа, освежённая знаньем, себя от смущающей все зеркала, стекло затеняя дыханьем, уже отделяет, и то — тем скорей, чем ближе биение полных морей, что волнами дышат в платанов листве, в игольчатых пиниях или в изогнутых лирах древесных кровей под слоем серебряной пыли: звенят, пробуждаясь к сознанью, цветут и зрением блещут, и ввек не умрут. Где, смерть, твоё жало? Где адский пожар? Разливами лиственных, хвойных поверх этих крон, как рассеянный пар, дыханье созвучий нестройных стройнее становится, громче, плотней, сгущаясь во смысл оживающих дней. Довольно и этого. Значит, душа движением, просто намёком движенья, поверхность воды вороша стоит над блескучим потоком, и ей просветляется сил глубина, и светом одета нагая она.Теперь его остановить не мог никто.
Глава пятая. Домой!
В один из редких тёплых дней в середине осени 1835 года на почтовой станции городка Кесьминска, расположенной в стороне от Староандожского тракта, встретились двое. Эта станция была последним пунктом, куда можно было добраться на перекладных, по подорожной, дальше расстилались леса, болота и вообще глухомань, почти бездорожье, где всякий ехал на вольных. Только крайняя необходимость могла привести на эту станцию осенью двух столь непохожих людей, которые между тем давно знали друг друга. Один был одет не по-здешнему легко — плащ поверх дорожного костюма, широкополая средиземноморская шляпа, а ещё забавная трость, небольшой саквояж и плед, как если бы он не собирался провести в этом краю сколько-нибудь существенного времени, другой, напротив, при всех замашках столичного франта, щегольских бакенбардах и золотых очках, нарядом выдавал местного жителя, знающего край крепко и основательно: на нём были слишком тёплые для стоявших сейчас погод полузимний приталенный барский тулуп, высокие охотничьи сапоги и чёрная шапка; не хватало только рукавиц и ружья, и ехал он из глухомани обратно в губернский город. Первый был сосредоточен и неразговорчив, второй, наоборот, истосковался по «человеческому», как он говорил, общению. И так как встретить друг друга они не ожидали, то говорил больше второй.
— Поражаюсь твоему, Лысогорский, легкомыслию, но и восхищаюсь им. Твой дядя известный человек. Появился из Италии с целым поездом скарба и с какой-то свитой. Да ещё понавыписывал разных устройств и машин из Англии и Германии для улучшения хозяйства. Навьино перестроил в считаные недели. Отпустил своих деревенских бездельников на все четыре стороны. Правда, губернскому начальству теперь забота. Но — удивительная голова! А мужик — ты, брат, знаешь — подозрителен и ломать привычный порядок не любит. Слух пустили, что силой человеческой так, как он Навьино, не перестроишь, что занимается ведовством. Через то я с губернским полицмейстером к нему ездил, дело-то при всей вздорности из ряда вон выходящее. Вот на обратном пути заехал к Бергам, у них имение в здешнем уезде, но в немного другой стороне, и задержался. Счастлив, что встретил тебя! Пять лет с нашего выпуска миновало. Кстати, дядя твой привёз прелюбопытнейшую библиотеку, особенно по медицине, ботанике и биологии, и мне кое-что показывал. Демонстрировал работу разных изобретений. Дал в нашу честь обед. А какая у него там охота! Конечно, человек не без странностей. Но кто из наших усердных витязей просвещения не таков, а? Верно ли, что бедный Рожалин канул от скоротечной чахотки? Я всегда им восхищался. Где сам служишь? Я пока здесь — по особым поручениям при губернаторе, но особых поручений не так уж и много, сам знаешь. Вот дядю твоего навестил.
Однако Эспер торопился — надо было добраться до Навьина засветло и, поблагодарив встреченного однокашника за рассказ, подтверждавший, что дядя действительно ждал его в этой глуши и на этот раз встреча их была неизбежна, отправился в ямщицкий трактир при станции. Никто в такие дни никуда не ехал из Кесьминска, и возницы весело пили, не просыхая, уже вторые сутки. Однако на вопрос, не возьмётся ли кто за хорошую плату довезти до Навьина, все сразу посерьёзнели и поскучнели, словно с них сошёл хмель, и лишь один из них, икая, сказал, что поедет, но за плату тройную.
— А далеко ли по нынешним дорогам ехать?
— Ехать недалёко — вёрст двадцать пять.
Сказано — сделано. В полдень бричка с возницей, от которого всё ещё сильно разило, и с единственным пассажиром, вылетела с почтовой станции и довольно быстро отмахала первую дюжину вёрст. Эспер уже предвкушал, что скоро откроется вид на столь дорогие его сердцу дедовский дом, беседку, речушку Навку перед ними, как возница, словно подверженный внезапной перемене настроения, осадил коней, перевёл их на шаг, а потом и вовсе остановил бричку. Было видно, что обещание он дал во хмелю, а теперь хмель сошёл. Между тем местность, которую они проезжали, и та, что была видна впереди, не сильно отличались друг от друга, и найти сколько-нибудь разумный довод для внезапной остановки было нельзя.
— Прости, барин, дальше я не поеду. Как знаешь, а сил моих нет. Сам-то ты, барин, крещёный?
— Сам-то — да, — усмехнулся князь Эспер. — И что, далеко ещё до Навьина?
— Вёрст тринадцать. Если пойдёшь по дороге прямо, то будет поворот направо на Городище. А там и до Навьина рукой подать. Храни тебя Бог.
— Ладно, ладно, давай, — ответил ему ехавший, как показалось мужику, с некоторым раздражением, и, схватив свою лёгкую поклажу и дав ямщику только половину обещанных денег, спрыгнул на обочину.
— Ты уж прости, барин, если чем согрешил.
— Поезжай, братец. А у меня своя дорога.
На самом деле последний поворот на Навьино был ещё вёрст через семь. Там, за росшим чуть в стороне лесом и возвышавшейся над равниною Лысой горою, возле древних валов, от которых осталась лишь насыпь, и ютилось бедное сельцо Городище. Молодой князь шёл мимо горевшего багрецом и золотом, как писал в стихах своих Пушкин, леса, вдыхал запах осенней сырой земли и вдруг начал тоже испытывать род пиитического восторга, приходящего к нам вблизи дорогих, но довольно давно покинутых мест. В волнении он размахивал тростью сильнее привычного. Широкополая шляпа, просторный плащ, свёрнутый в трубу и застёгнутый ремнями плед, который был зажат под мышкой, маленький саквояж в левой руке придавали ему довольно диковинный вид. Городищенские мужики решили, что вот, наконец, сам чёрт в их края пожаловал, и, крестясь, потянулись из своих почти вросших в землю изб наружу с вилами и дубинами. Весёлое приветствие проходившего мимо — по интонации и выговору это был барин — сбило их с толку.
— Здравствуй, коли не шутишь, — мрачно ответили они и ещё долго смотрели вослед проходящему.
Полузаросшая, редко используемая дорога вела Эспера по осеннему лесу прочь от мрачного Городища. Наконец он вышел на расчищенное пространство. Река пересекала его, и по ту сторону располагались барский дом, беседка и какие-то новые, не знакомые ему строения. Он шёл уже два с половиной часа, но усталости не чувствовал, наоборот, близость цели придавала новых сил. И чем ближе он подходил, тем меньше узнавал Навьино.
У въезда в имение перед перегораживавшей речушку Навку кирпичной плотиной, которой тут прежде не было, выстроенной на манер римских мостов, только с наглухо заложенными арками, стояли две одинаковые стелы светло-серого камня с навершиями из металлических шаров — навроде тех стел с шарами, что видны по обе стороны Полицейского моста в Петербурге, — только шары эти казались приделанными позже, а сами стелы, судя по надписям внизу, на кубических фундаментах каждой, были изготовлены не к приезду Эспера, а свезены с какого-то недалёкого кладбища. Надпись на левой гласила:
Постой, прохожий, здесь, постой и воздохни; размысли сам с собой, как меркнут наши дни. Воспоминанием меня, друзья, почтите и тёплою слезой могилу оросите. Мы все подвержены сей роковой судьбе; вчера ему, днесь мне, а завтре и тебе!Ей вторила надпись на правой:
Что в надписи витиеватой? Она меня не оживит. Что пышный памятник, богатой? Он прах умерших тяготит.На самих стелах не слишком умелым резцом деревенского мастера было высечено по нескольку египетских иероглифов, смысла которых Эспер не понимал, но сам вид таких стел посреди лысогорской глуши вызывал недоумение, которое только усиливалось от того, что над таким знакомым Эсперу по прежним годам двухэтажным каменным домом с опирающимся на колонны навесом вокруг первого этажа и увенчанной флагштоком башенкой над вторым этажом — развевалось серое полотнище, на котором был нарисован голый младенец с оливковой ветвью, идущий навстречу кольчатому змею, справа от которого было начертано заглавными буквами по-латыни: «GENIUS LOCI MONTIS CALVI»[24]. Дом с развевающимся флагом и стоящая чуть поодаль, вправо от дома и ближе к лесу беседка отражались в образованной плотиной запруде. Эспера не покидало ощущение, что он попал в чей-то, не свой сон, или в рассказ, уже от кого-то слышанный. Кажется, ещё и потому, что, переходя плотину, Эспер услышал возрастающие струнные звуки низкого и среднего регистров, лёгкие и вместе с тем тревожащие, иномирные, не умолкавшие до конца ни на мгновение, ибо слабый вечерний ветер уже дул над Навьиным. Как будто инструменты невидимых эфирных существ приветствовали его; но нет, никого не было видно. Скорее всего в беседке установили теперь эолову арфу. На свежевыкошенном лугу между плотиной и домом с поющей беседкой не было ни одного человека, но зато сидели или спокойно бродили короткошёрстые пятнистые собаки, настолько похожие друг на друга своим окрасом, чёрным и коричневатым, в лучах клонящегося солнца казавшимся золотистым, что Эспер подумал, что это должен быть один помёт от очень породистой суки. Эспер насчитал их семь. Собаки не то чтобы не реагировали на него, но при приближении стали садиться на землю, а уже сидящие или лежащие отворачиваться, как они отворачиваются в знак подчинения при приближении строгого хозяина или высшего, чем они сами, существа. Но если бы этим одним то, из-за чего стоило недоумевать, ограничивалось!
У тёмного мужика всё увиденное и услышанное должно было вызывать нечеловеческий трепет.
Звук эоловой арфы, доносившийся из беседки, возрастал. Эспер вошёл в открытые двери дома. Внутри было полутемно, хотя дом казался обитаемым. Те, кто в нём жил, вероятно, отлучились ненадолго, не заперев даже дверей, хотя Эспер не сомневался после увиденного, что войти в такой дом кто-нибудь посторонний едва ли решился бы.
Эспер услышал шаги и покашливание, и в полутьме возникла высокая фигура, лица которой он пока разглядеть не мог.
— Я ждал тебя со дня на день, — сказала фигура прежним, знакомым голосом дяди Адриана. — Ну, дай я тебя обниму, звезда моего вечера, — и прижал растерявшегося Эспера к груди.
Дядя сильно постарел. Он казался семидесятилетним, хотя и не дряхлым, но уже сильно пожившим своё: глаза стали водянистыми, из зрачков ушёл прежний их синий цвет, зачёсанные назад волосы поредели на лбу и стали совершенно пепельными, когда-то тёмные заломленные брови застыли теперь в вечном изумлении, свойственном пожилым людям, лицо покрылось мешковатыми морщинами, губы стали скорее поджатыми — итог множества свойственных возрасту разочарований, наконец, даже высокая и прежде статная его фигура стала как-то суше и сгорбилась. Белая, давно не стиранная сорочка была застёгнута на все пуговицы, горло замотано бланжевым платком, поверх сорочки был надет похожий на удлинённый сюртук турмалиновый халат. Эспер всё никак не мог привыкнуть к различию между тем, каким он помнил дядю, какие изменения в нём представлял себе по рассказам других все эти месяцы долгих невстреч, и тем, как выглядел князь Адриан, когда он встал прямо перед ним.
— Как тебе моя музыка? — продолжил Лысогорский-старший, видя замешательство Эспера. — Помогает скрасить уединение. Да и крестьяне соседские обходят теперь за семь вёрст.
— Ты живешь здесь один? — ещё больше изумился Эспер.
— Мужичков-то навьинских я, знаешь ли, отпустил. Как закончили улучшения и строительство: плотину, музыку в беседке, дом внутри, стелы вот эти при въезде, перестроили теплицы (я теплицы тебе покажу) — как всё миром мне сделали в месяц, так я им дал вольную. Но без земли. Да и зачем им земля? Они и подались всей деревней прочь: кто в Кесьминск на заработки, кто ещё далее. Дома стоят заколоченные. Да и лучше без них-то, без мужичков. Места уединённые, конец всех дорог. Никто не придёт, кроме дикого зверя. Но на такую оказию держу собак.
Эспер, чьё изумление не уменьшалось, продолжал молчать.
— Нет, конечно, дорогой племянник, не совсем один. При мне тут целая свита: повар-француз, живописец (он же архитектор), учившийся в Италии, садовники, прислуга опять же итальянская, которая всяко лучше русской, немец-врач; сейчас они поехали охотиться к Лысой горе. Ждать не стоит — возвращаются поздно. Не хочешь ли посмотреть дом?
— Конечно.
И хотя в комнатах было ещё достаточно дневного света, убывавшего медленно, дядя Эспера зажёг фосфорными спичками свечи, и они проследовали из сеней в прихожую и вскоре оказались в просторной с большими окнами гостиной, стены которой были оклеены ярко-синими, почти фиолетовыми обоями, по верхнему краю которых празднично и игриво пробегала широкая бумажная лента с золочёными краями, изображавшая кентавров, осёдланных вакханками с тирсами, вздыбленных кентавриц с лирами, плясуний с бубнами и с литаврами, то танцующих сами по себе, то ловящих в круженье друга. Запечатлевший этот хоровод был недюжинным рисовальщиком. Парусиновые шторы оказались подняты вверх, и яркий ещё свет лился сквозь плотно затворённые окна, однако дядя Адриан держал в левой руке канделябр с зажжёнными свечами, словно естественного света ему не хватало. У стен по-прежнему стояли невысокие дедовские шкафы осьмнадцатого столетия с плетёной металлической решёткой на дверцах, позволявшей касаться пальцами корешков книг (как Эспер любил это в детстве!); зато у противоположной стены комнаты красовались новый стол модного немецко-итальянского стиля в виде плоской чаши на массивной ноге, напомнивший Эсперу фонтан на Квиринальском холме, и несколько стульев с грифонами и лирами на спинках, как и стол, привезённых из-за границы. Комната деда на первом этаже показалась ему почти не тронутой и даже не была оклеена обоями. Поднялись на второй этаж, и там то, что когда-то именовалось дедовским кабинетом, было теперь украшено обоями темно-красного цвета, на которых рука всё того же талантливого художника нарисовала золотые театральные маски и порхающих птиц на манер помпеянских. Но всё, что составляло дедовскую собственность — кушетка для полуденного отдыха, заключённый в раму рисунок на стене, казавшийся загадочным в детстве (теперь Эспер понял, что это копия с древней свадебной фрески, виденной им в Альдобрандинской зале Ватиканской библиотеки), стол, несколько чернильниц, — всё это было на месте. К ним прибавилась только повешенная на противоположную стену, раскрашенная красным и жёлтым гравюра Шинкеля «Пожар Москвы», шкап с химическими составами в длинных и узких колбах, а на столе, как на мрачных изображениях кабинетов алхимиков, лежал теперь человеческий череп. Шторы в комнате были опущены, отчего она казалась темнее и загадочнее, чем была. Соседняя с кабинетом комната, которую он занимал младенцем вместе с матерью, была вся оклеена теперь тёмно-зелёными обоями и даже драконьей зелени обивка стульев и кушетки была подобрана им в тон. И, наконец, если подняться на самый верх, то можно было оказаться в башенке, над которой развевался так поразивший Эспера флаг. Вся внутренность её была окрашена золотой и коричневой краской разных оттенков — от тёмно-золотых стен и светло-золотых, почти лимонных перил входившей на башню лестницы до ступеней цвета майского жука. Когда взошли наверх, солнце уже пересекало черту горизонта, и даже свет, проникавший сквозь окна башни, был тёмно-золотым, потом жёлто-красным. Смеркаясь, остывая, свет становился почти коричневым, как и внутренность башни. Эспер почувствовал себя внутри гигантского ожившего иероглифа.
Однако зеркал в доме Эспер нигде не увидел. Видимо, пережившему такую стремительную перемену дяде совсем не хотелось глядеть в глаза собственному отражению.
— Ты, верно, устал с дороги?
— Ужасно, — улыбнулся Эспер впервые за всё время их странного разговора.
Когда он уже засыпал, через стену полузабытья до него донеслась французская, итальянская, немецкая, русская речь, отрывистая и неясная, словно собачий лай, и сознание Эспера затопило тревожным тёмным потоком без сновидений, в который обычно погружается человек, засыпая в месте, которого он давно стремился достигнуть, но какое оказалось совсем не тем, каким он его оставил много лет назад.
Проснулся он на следующий день около полудня. Было тихо и, видимо, безветренно — даже эолова арфа не пела, — только назойливо звенела крыльями о стекло тревожная деревенская муха.
Спал он на первом этаже в комнате деда; во всяком случае, он помнил с детства, что это была дедовская комната. На стене висела ещё одна памятная гравюра, изображавшая алхимическую трансмутацию — от зачатия в колбе, благословляемого коронованными отцом-Солнцем и матерью-Луной до образования волшебного эликсира. Эспер встал с кушетки, на которой он спал на крахмальных белых простынях и под пуховым стёганым одеялом — впервые за многие дни путешествия, — и вдруг почувствовал, что разница между ним и дедом может быть сейчас и не так уже велика. Вот он идёт в длинной, до полу ночной рубахе (в такой наверняка хаживал по дому и дед, пусть сильно старше его нынешнего) по деревянному чистому полу, слышит жужжание мухи, которое дед слышал десятилетиями в своём добровольном навьинском заточении, пока дети по зову долга и тщеславия заняты были чем-то для них очень важным во внешнем мире — а внешний мир этот нёс стареющему князю Василию Степановичу новые разочарования; вот он берёт с дедовского стола до сих пор лежащий на нём нож для разрезания бумаги, попросту стилет, который ему трогать в младенчестве строго воспрещалось; вот, накинув халат летом или полушубок зимой, выходит в приусадебный огород, вот беседует с воображаемым управляющим; вот под вечер при свечах возвращается к своим французским книгам, из русских читает исключительно Татищева, а ещё временами заглядывает в греческую «Илиаду», а пуще того в «Одиссею» (Эспер с детства помнил эту украшенную усиками значков и ударений насекомообразную запись эллинской речи). А что же нож? Нож лежит себе на столе, как лежал там и двадцать, и тридцать лет назад. Все книги в дедовской библиотеке, до сих пор заполняющей шкафы в гостиной на первом этаже, были разрезаны и прочитаны, писем дед под конец жизни почти не получал. Да и в Навьино их доставляли из Кесьминска только по случаю: иное могло пролежать на тамошней почтовой станции неделю-другую.
Завтрак давно ждал Эспера в гостиной и уже успел остыть. Состоял он из одного блюда, состав которого было определить трудно. Мягкие, как бы мясистые светлые волокнистые кусочки были перемешаны с продолговатыми полосками тушёных овощей и густо политы сладковатой приправой. Тут же стояли графин с янтарной наливкой и продолговатая рюмка на тонкой ножке. И Эспер не удержался — отведал хмельной, но бодрящей наливки.
— Не хочешь ли осмотреть остальное хозяйство? — поинтересовался вошедший в гостиную князь Адриан. — Особенно я горжусь теплицами.
Конечно, Эспер был согласен.
— У большинства растений, как мы знаем, четыре поры жизни, — говорил дядя языком торжественным и книжным, всё более воодушевляясь на пути к теплицам возможностью поделиться чем-то для себя очень важным, — прозябание в сонном зерне, возрастание, цветение или пора возмужалости и, наконец, плодоношение, которое, дорогой Эспер, есть нисходящая пора старости, когда прежняя жизнь полностью перетекает в созревший плод. Цветение, пора любви к чему-то, что не ты, — пожалуй, лучшая пора, уж поверь моему опыту, когда растение, да что там растение, почти всё живое, в первый и последний раз готово пожертвовать бытием своим ради других ему подобных существ. Вот, дорогой племянник, что меня всегда занимало — жертвенность и то, что ей противостоит. А готовы ли люди умственные — те, кого и ты, и я знаем хорошо, — пожертвовать бытием своим? Не пережив в большинстве своём цветения, не зная возмужалости и любви, они хотят плодоносить. Плод их, уж поверь мне, — пустые формы, фантомы, существующие лишь кровью и энергией других. Да, человек, как и многие другие организмы, пожирает окружающий мир, но он и плодоносит. Эти же отклонения от одинакового всем жребия, эти выпавшие из мировой жизни монстры, эти живые, пока им есть чем питаться, не знающие никакого потомства, кроме того, что рождается в простом делении, в умножении себя самих, перескочили из возрастания прямо в старость и стремятся изо всех сил избегнуть её, продлевая рост без зрелости; и даже посмертное прозябание в зерне им тоже не обещано.
У входа в теплицы стоял металлический истукан довольно грубой работы: Лаокоон, борющийся с обвившими его змеями, почти пародия, видимо приобретённая где-то задёшево. Над дверью на деревянной доске была начертана цитата из Данта: «Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate»[25]. Эспер понемногу привыкал к своеобразному юмору дяди, перестроившего Навьино.
— Вот посмотри, — говорил князь Адриан, вводя Эспера в теплицу и подведя его к дереву-змею каан-че, — этот американский переселенец никогда не цветёт. Чем же он жив?
Князь Адриан достал из клетки молодую горлицу — из тех, которые, по видимости, ловили его незримые помощники; Эспер насчитал таких повешенных на крюки клеток пять; все они уже были пусты — и бросил её к каан-че; горлица впорхнула в листву, прилипла к смоле, которой была покрыта ветка, и тут же была схвачена ловким щупальцем и, сколь ни трепыхалась, удушена и всосана чашечковидным отростком на ветке. Дерево-змея содрогнулось, как будто это было пресмыкающееся, проглатывающее добычу, и вновь замерло в древесной неподвижности. Видя реакцию Эспера, князь Адриан продолжил:
— Дионисио Гамберини когда-то получил из Америки черенок, тот разросся в дерево, потом от того дерева было получено ещё несколько деревьев. Одно, как видишь, и у нас прижилось. Чем проще организм, тем ближе к бессмертию. В конце концов, что удивительного в восстановлении хищного целого из части? Грибы тоже размножаются почкованием; какая-нибудь крошечная гидра, обитательница тухлой воды, видимая лишь под микроскопом, если отрезать от неё часть, в двое суток восстанавливает всё отрезанное. А тут довольно ясная помесь растительного и животного, просто огромных размеров. Но чем сложнее организм, тем менее вероятно его восстановление. Впрочем, прости, что донимаю азами. Мы-то говорим сейчас о монстрах.
Но это, Эспер, не всё. Я пытался путём отбора преобразить жизнь в нежизнь и обратно, довести простейший организм до затухания. Гамберини был теоретиком, я воплощал всё это на практике. Иногда это были растения, иногда… Целью конечной были организмы высшие, и да, человек. Палингенез, словом. Да что много говорить об этом! Победа над смертью, её полная остановка казалась очень близка, но в последний момент что-то не сходилось. Возможно, для меня уже не сойдётся никогда, ты-то сам как думаешь? Что-то из этих опытов я начал повторять здесь, но, увы, неудачно. Их результаты — во второй теплице. Хочешь посмотреть?
— Нет, пожалуй, — это были единственные слова, которые Эспер сказал, предпочитая слушать.
Когда вышли из теплиц, было темно, но не от времени суток, а от набежавших с юга тяжёлых облаков. Тревожно звучала эолова арфа.
Обед, приготовленный невидимым поваром и поданный отсутствующей прислугой, уже дымился на столе в гостиной. Было отчего мужикам побаиваться сюда заглядывать и спрашивать Эспера, их ли он сам веры. Эспер налил себе наваристого, не мясного, не овощного, а Бог весть из чего приготовленного супу, потом ел удивительную смесь растительного и мясного со множеством приправ, Адриан же отведал две-три ложки супу, вытер губы салфеткой и продолжил, по-видимому, очень важный для него разговор:
— Княжество наше Лысогорское было, дорогой Эспер, чем-то вроде шутки. Ведь мы не Рюриковичи и даже не Гедиминовичи, а так — удельные князья безвестного корня. Но зато таких, как мы, осталось мало. Предок наш владел крепостцой там, где сейчас Городище у Лысой горы. Когда лет пятьсот назад была смута в Тверском княжестве, он объявил себя удельным князем, но кто тогда себя князем не объявил? С тех пор канули князья Дорогобужские, Кашинские, Микулинские, Телятевские, Чернятинские, пошли на ущерб славные Холмские, лишь мы, Лысогорские, уцелели. Когда поляки взяли Москву и послали свои войска в остающиеся русские города и поселения, то про наш захолустный удел просто забыли. Слышал я от своего деда, что жизнь здесь была довольно простая; мужики городищенские после польской войны оброку не платили, в церковь не ходили, а устраивали какие-то свои игрища на Лысой горе, а наш с тобой предок князь Борис, живший лет через восемьдесят после тех событий, впал по бедности и общему одичанию в ничтожество, сожительствовал с ватагой городищенских девок (те были повеселее навьинских), нарожавших ему несколько дюжин детей, и, кажется, едва разумел грамоте. Потому, когда дошёл до него слух, что царь Пётр набирает учеников в Навигацкую школу, он отправил старшего дитятю своего Алексея Борисовича, единственного, кого признавал за наследника, в Москву. С тех пор у нас принято было служить по морской, артиллерийской или военно-инженерной части. Князь Алексей Борисович, тогда ещё очень молодой, сделал блестящую карьеру во флоте и сына своего, рождённого в 1717-м году, назвал Петром в честь Государя, которого, по всему, уважал и ценил больше беспутного отца. Пётр Алексеевич Лысогорский пошёл уже по военно-инженерной части, жил в обеих столицах и в разных других городах, где подобало заниматься военным строительством, и, хотя именовался князем, удел свой увидал только в зрелые годы. Запустение глубоко его удручило: Городище впало в полное безвластие, и вернуть его к хозяйственному управлению не представлялось никакой возможности, тем более что чуть не половина его тогдашнего населения приходилась Петру Алексеевичу двоюродными братьями и сёстрами, и даже в самом Навьине никто не смог указать точно могилы его деда Бориса. С энергией князь Пётр взялся за строительство новых домов, расчистку поляны под парк, углубление русла Навки и восстановление хозяйства. А кроме того, он положил себе проводить часть года здесь. Его трудами и инженерным умением никакого следа от былой дикости не осталось. Был возведён новый дом с колоннами, в саду проложены дорожки к куртинам. Рождённый в 1742-м сын его Степан Петрович, хоть и увлечённый восхождением на престол Екатерины, которая отмечала ласками и служебным продвижением молодого артиллерийского офицера привлекательной внешности, уже подолгу живал в Навьине, а к тому же хорошо и рано женился на дочери генерал-майора, следившего за тем, чтобы служба зятя была лишена бессмысленных тягот, и сын Степана Петровича, мой отец и твой дед Василий Степанович был первым за несколько поколений князем Лысогорским, родившимся здесь, летом 1765 года. В имении появилась отличная библиотека, а на расстоянии нескольких десятков вёрст от Навьина — новые соседи, с понятными вкусами и привычками, жившие не как прежние поколения одичалыми хозяевами медвежьих углов, а приезжавшими сюда надолго столичными жителями, видевшими другую жизнь, а некоторые — и другие страны.
Я, собственно, рассказываю тебе это, чтобы ты лучше понял своего деда, а моего — отца. Единственный ребёнок, князь Василий Степанович был сызмальства склонен к чтению и наукам. Когда семья жила в Навьине, то к ней приезжали из Петербурга и Москвы учителя, которые занимались развитием мальчика. Особенно удавались ему древние языки и математика. Василий был воспитан в свободомыслии, нередком среди людей екатерининского века, но, конечно, это свободомыслие не мешало ему быть потом, когда пришлось брать на себя дела по имению, рачительным и строгим хозяином, а временами и тираном, ибо таков был тот век. Хозяйство в Навьине восстановилось окончательно. Кроме того, мой отец талантами своими явно выделялся, и все прочили ему раннюю блестящую карьеру: он пошёл, как и его отец, по артиллерийской части и участвовал в Рымникском сражении и во взятии Измаила, а когда женился, то назвал старшего сына, отца твоего, Александром; таким образом тот оказался Александром Васильевичем, тёзкой славного военачальника, как собственный дед Василия Степановича был тёзкой Государя, в энергичное и смелое правление которого мы, Лысогорские, поднялись из прозябания.
Но после восторгов пришло и разочарование. Началось всё со взятия варшавской Праги. Отец мой был с артиллерией и в погроме после взятия Праги не участвовал, но последствия его видел. Поляков никто особенно не жалел, как они особенно никого из наших не жалели лет за двести до того, и как не пожалели при восстании русского гарнизона Варшавы, однако добивание сдавшихся было уже слишком. Я бывал, Эспер, на войне и думаю, что любой победитель поступил бы так с отчаянно сопротивлявшимся противником. Однако от Британии уже отделились североамериканские колонии, а во Франции у власти стоял конвент, и самое кровавое время Французской революции совпало с польским восстанием. Идея свободы была повсеместной; ею увлекались, но от неё и отшатывались.
Когда я родился в начале 1795-го, через три года после моего старшего брата и твоего отца, меня нарекли уже вполне нейтральным именем, хотя отец и знал, что был-де такой римский император, который расширил и укрепил государство, и смут больших при нём вроде как не было… В швейцарской кампании отец участвовал уже без большой охоты, Наполеон ему был скорее симпатичен, но Суворов продолжал восхищать, и личная преданность Александру Васильевичу, простому, бесстрашному и заботливому, как и присяга, перевешивала всё остальное. После, как он говорил мне, славных, но ненужных побед и испытаний он вышел в отставку и дальше жил безвыездно в Навьине с матушкой моей Ефросиньей Ксенофонтовной. Всё моё знание народного греческого — от матушки, в благородных пансионах такому не учат. Она была из старой фанариотской семьи, поселившейся в Валахии, слаба здоровьем, и навьинский климат ей оказался неполезен, но Василий Степанович, прошедший с Суворовым всю Европу, становился всё более мизантропичен, не хотел видеть никаких других земель, говорил, что нам, русским, нечего делать ни в Неаполе, ни на Чортовом мосту, что родная землица сама питает силами и лечит, и тут проявлялась его сумасбродная, тираническая натура удельного князя дикого Лысогорья, заглушённая было на несколько поколений внешним столичным лоском. Натура, между прочим, не чужая ни мне, ни тебе, дорогой племянник. Саша, отец твой, покинул здешнюю глушь и начал службу военным инженером в западных губерниях, где и встретил твою матушку Анну Константиновну Зенович; я был отправлен на обученье в Москву, где у нас оставался выстроенный ещё при деде просторный особняк, весь деревянный (он и сгорел в наполеоновский пожар), однако особой свободы не имел, так как за мной присматривала строгая материнская родня, перевезённая Василием Лысогорским из Валахии в Москву, а в приезды мои домой слышал я вечные отцовские разговоры о творящемся в России и Европе непорядке — благословенного Александра отец, кажется, ставил ни во что: не только ниже Екатерины, но и несчастного Павла Петровича, которого он уважал за, как не раз говаривал, несвойственную нашим правителям рыцарственность; а ещё я видел, как молчаливо угасает моя мать. Она умерла весной 1812-го накануне наполеоновского вторжения. Дед твой на отпевание не пошёл, и похоронили её у леса за нынешними теплицами, обозначив мраморной плитой с разными таинственными для непосвящённых знаками навроде Афины с измерителем или жезла Гермеса, — да ты это место знаешь.
Когда с большим опозданием известия о переходе армий Наполеона через Неман докатились до Лысогорья, Василий Степанович, по рассказам мужиков, впал в возбуждение, и всё разочарование и горечь, что копились в нём уже второй десяток лет, вышли наружу. Перво-наперво он объявил, что теперь в Лысогорье — конвент, что в церковь ходить больше не надобно, а праздновать следует Божество Абсолютного Разума. Слово барина — закон. Мужики, побаивавшиеся рачительного и приметливого Василия Степановича, исполнили всё, как он повелел. В особой приверженности церкви они замечены не были, хотя на большие праздники ходили туда исправно, как и на неделе на сельские работы, и с лёгкостью собрали под почётным председательством князя вседеревенский конвент, но особенно им понравился культ Божества Абсолютного Разума, коим каждую неделю назначалась самая разбитная девка, обряженная в короткий хитон и так под смешливые приветствия односельчан и порицающие взгляды односельчанок расхаживавшая весь день по Навьину. Со спокойствием они занялись посадкой молодых дубков — деревьев свободы, но когда отец мой велел пошить специальные красные шапки и развешать их на дубках, то деревенский староста, не на шутку встревоженный, поехал «от конвента» к кесьминскому доктору Богдану Андреевичу Граббе.
Богдан Андреевич осмотрел совершенно здорового князя, выпил отличной наливки, а потом и отобедал у него, и счёл за лучшее объявить, что у Василия Степановича началась нервная горячка от чтения столичных газет, действительно доставлявшихся отцу моему, но с большим опозданием, и определил князю впредь, до особого его, доктора Граббе, решения, строгий врачебный присмотр, после чего стал являться еженедельно, обедать, вести разговоры, пить наливку, а мужикам было велено тихо обо всём позабыть. Мужики, не имевшие от причуды Василия Степановича никакой выгоды, быстро о ней позабыли.
Когда накануне сдачи Москвы Саша, уходивший из города вместе с армией Кутузова, отправил мать твою с обозом скарба в Навьино и мы с ним виделись в последний раз (я как раз поступил добровольцем в ополченье 1-го округа), то ни он, ни я не знали, что творится в Лысогорье. Отец наш встретил невестку насторожённо, но, когда зимой, уже после изгнания Наполеона, ты появился на свет, сердце его смягчилось, и всё, что происходило в Навьине предшествующим летом, представлялось уже странным сном, словно ничего того и не было. Доктор Граббе принимал твои роды и вскоре заключил, что Василий Лысогорский более не нуждается в присмотре. Но это только половина истории, дорогой племянник. Будь терпелив и дослушай её до конца.
Множество воспоминаний ожило в душе Эспера. Допожарная Москва, которую он знал лишь по рассказам, но представлял себе ярко, Москва послепожарная, первые годы в Навьине, смутный образ отца, которого он почти не знал, и живой и ясный — деда…
— Когда сгорела Москва и нам пришлось строиться заново, происходило это без прямого моего и Сашиного присмотра — отец твой ушёл с армией в Европу и воевал в Германии, в Голландии и во Франции. Поначалу был в Европе и я — под Данцигом и Дрезденом, и в конце концов перешёл в регулярные войска прапорщиком-артиллеристом. Нам с Сашей пересечься больше и не довелось, но уже в 1814-м я был отправлен в южные губернии, в опасение возможных враждебных действий со стороны Турции, и оставлен в Полтаве. В 1817-м я получил письмо от Саши, что после окончательного поражения Наполеона и всех европейских перипетий он вышел в отставку, добрался до Москвы, осмотрел заново выстроенный и отделанный без нас, под присмотром валашской родни дом, остался им очень доволен, и едет забирать семью из Навьина. От деда я знал, что он и вправду к тебе прикипел душой, я сам от него это слышал вскоре после твоего рождения, когда перед зимними квартирами в Малороссии заехал в Навьино повидаться, да и в письмах он рассказывал о тебе с той нежностью, которой ни мне, ни Саше в детстве нашем не досталось; компания невестки ему, враз сильно постаревшему, была тоже очень радостна, может быть, даже слишком; чему удивляться — Сашу он встретил в Навьине враждебно. Ему казалось, что обрушился не только понятный миропорядок, но и уединённое, частное счастье у него отнимают самым незаслуженным образом. Видимо, отец высказал сыну неодобрение очень резко, как ему бывало свойственно, и бедный мой брат после всего им совершенного и виденного за несколько лет войны оказался не на шутку задет.
Мать твою вместе с тобой Саша отправил в Москву, а сам остался с отцом «для разговора», собираясь через день-другой последовать за ними. Но это и было ошибкой. Я даже могу легко представить, что отец говорил Саше. Что с изгнанием Наполеона Европа лишилась и твёрдой руки, и свободы и что такие, как его сын, это позорное дело и довели до конца, оставив победу за теми, кто её не заслуживал. Что в Европе воцарился раб без господина и хуже такой безвластной власти раба нет ничего, что Лысогорье наше это уже видело лет за сто до того. Но это всё ерунда, разумеется. Мы с твоим отцом защищали родную землю; у нас, как у пленного Костюшки, отвергшего дружбу императора Павла, выбора не было. И счастье, что мы превзошли Наполеона; чувствуя силу, мы теперь могли показать великодушие и благородство и показали их в турецкой кампании 1829-го года. А то, что раб оказался не готов ни к Наполеону, ни к русской победе, нашей вины тут нет.
Я могу представить и то, что ответил бедному отцу нашему Саша — чувствовали-то мы одинаково.
Бог весть, что произошло дальше между ними, но отец был оскорблён смертельно и взялся за оружие. Была ли это сабля, его любимый нож для разрезания бумаги или просто первый острый предмет, попавшийся под руку, Бог весть. Не думаю, что Саша собирался сопротивляться всерьёз; не думаю, что и отец хотел его убивать, но случайный, нелепый удар в висок был нанесён; думаю, помочь было уже нельзя; и когда стало очевидно содеянное, отец объявил крестьянам, что его поступок — начало борьбы, и он уходит сейчас с ополчением в лес. Крестьяне, увидев барина Василия Степановича в невменяемом состоянии, а сына его Александра Васильевича в луже крови в прихожей господского дома, в ужасе от произошедшего и опасаясь, что их, обвинив во всём, упекут без разбору в каторгу, разделились поровну; часть «ополченьем» отправилась с барином в лес, с целью присмотра, дабы он чего ещё не набедокурил, другая же — за полицией в Кесьминск. Отец, по их рассказам, которым я не могу не верить, был ещё в худшем состоянии, чем в пору «конвента». Диагноз доктора Граббе сбывался, но так, словно ход времени был нарушен. На дворе стояла поздняя осень, очень холодная и сырая; на второй день бессонного хождения по лесу у отца начались воспаление, жар, и когда его на носилках доставили в усадьбу, то он уже был в кризисе и так на глазах прибывших на место полицейских чинов и дознавателей и скончался.
Меня вызвали срочным оповещением о смерти отца и брата из Полтавы, я взял длительный отпуск, и когда приехал, обоих уже похоронили рядом с моей и Сашиной бедной матушкой, твоей бабкой. Ужас произошедшего не сразу дошёл до меня. Но уездный предводитель, как и полицмейстер, посоветовали не предавать дела огласке, списав на несчастный случай и скоротечную болезнь, тем более что твой дед умер собственной смертью.
Когда же я, наконец, это всё осознал, произошедшее меня раздавило. В Полтаву я не вернулся. Поехал в Москву, где виделся с тобой и Аней, не знаю, помнишь ли ты это. Матери твоей сказал, что Саша погиб на охоте, а отец от горя наложил на себя руки. В общем, я не солгал в главном — виною Сашиной гибели был отец. Тебе, помнится, говорили, что папа умер от последствий старого ранения, хотя ранений тяжёлых он сумел избежать и был к этому времени вполне здоров. Жить не хотелось. Жить, чтобы унаследовать что? Весь этот навьинский ужас и само имение, которое я считал, начиная с какого-то момента, про́клятым, погибельным? Ведь только расставшись с ним, мы, Лысогорские, смешно и подумать, когда-то удельные князья никому не нужного куска леса и болот, ведовской горы да диких деревень, выбились в люди, думал я. А теперь оно обратно засасывало в свою чёрную трясину всю нашу семью. В имении я назначил управляющего. Жизнь же для меня потеряла всякую цену. Я некоторое время занимался наукой, потом вернулся на военную службу. Всё, что говорили о моём бесстрашии и презрении к опасности, происходило исключительно от разочарования в жизни. Я был гораздо моложе сердцем и умом, хотя это не было так уж давно. Но смерть не приходила, точнее, приходила в совсем неожиданной форме и обличии. Я умирал несколько раз, умирал по-настоящему, но всё время не мог умереть. Лучше тебе не знать подробностей. Всё, что ты слышал обо мне, дорогой племянник, — правда. Я так хотел, чтобы ты разобрался со всем сам, потому что и тебе, боюсь, грозит похожая участь. Для этого я и позвал тебя в Италию, но точно знал, что нам окончательно предстоит говорить — здесь. Ведь с тем, что ты узнал, тебе придётся разбираться после моей смерти, а она когда-нибудь наступит; она не может не наступить.
Ах, вот ещё что. До того, как это всё случилось, я в 1814 году в Полтаве взял себе в прислугу казачку Оксану, сироту, воспитывавшуюся у приходского священника Афанасия Тивериадского. Это мать Филиппа, а кто его отец — он тоже знает. Люби Филиппа как брата. Я рад, что вы подружились. Но пусть Филипп не узнает того, что ты узнал здесь. Ещё тогда, в Полтаве, я определил ему пансион; а ребёнок, на счастье, оказался необычайно способным к рисованию. После того, что здесь случилось в 1817-м, я в Малороссию уже не вернулся; вещи мне переслали в Москву; мать его писала мне мало, потому что была полуграмотная, да я и не знаю, много ли она читала из того, что я ей писал. Когда стало ясно, что мы больше не увидимся, её взял в жёны отставной вахмистр Вакаринчук, инвалид, и она родила ему ещё троих. Потом была кампания в Турции. Встретились мы с Филиппом уже в Италии; Академия обеспечила его стипендией. Завещание я составил — оно хранится в Москве у нашей валашской родни. Хочешь узнать ещё что-нибудь?
— А что написано по-древнеегипетски на двух обелисках при въезде? — Эспер спрашивал это исключительно, чтоб отвлечься от безнадежности только что услышанного.
— О, это шутка Орацио Фальконе. Он ведь состоял в переписке с Шампольоном. Книга о латеранском обелиске — тоже его. Два кратких восхваления владыке Адриану, пересоздателю Навьина. Когда-то и тебе придётся управлять этим местом, и тебе надо решить, хочешь ли ты, а не хочешь — как быть дальше? Время есть, подумай. У тебя могут быть другие резоны для приезда в Навьино, но я думаю, что именно за этим судьба тебя, наконец, привела сюда. Я вообще верю в судьбу, в предопределение. Но хотел, чтобы ты крепко подумал — сначала в Италии, а теперь даю тебе возможность подумать снова, после того как ты приехал сюда. На тебя я, да и не я один, возлагаю все надежды. Как решишь — так и будет! И возьми эту рукопись деда: она поможет тебе в решении.
Эспер сидел, положив руки на стол, и смотрел куда-то в сторону от закончившего свой рассказ дяди, а князь Адриан внимательно и терпеливо смотрел на Эспера. Что Эспер мог действительно помнить о своём раннем детстве? Деда в гостиной, где они сейчас сидели с дядей Адрианом, за чтением на разных языках — больше всего на французском и греческом (что это именно были французский и греческий, он понял только годы спустя), позволявшего часто залезать к нему в кресла и крепко его обнимающего, потом его же присматривающим за строительством теплиц и уже после их завершения надевшего огромный фартук садовника и что-то там в этих, как казалось ему в детстве, огромных, застеклённых сооружениях копающего, сажающего, а потом обрезающего великанскими ножницами. Траву у надгробной плиты бабушки Ефросиньи Ксенофонтовны, умершей накануне его рожденья, портретов которой — это он осознал только сейчас — в доме не было (вероятно, их уничтожил дед). Мать, проводящую с Эспером всё время, рассказывающую ему и читающую, учащую складывать буквы в слова. Долгое покашливанье деда, когда он ходил по дому, уже когда они легли спать, и посверкивающие белки неспящей матери, лежавшей вот так без движения, словно чего-то опасаясь, пока скрип деревянного пола и покашливанье не унимались до полуночи. Плаванье на лодке в неглубокой Навке, страх войти самому в её воду, ужение рыбы с деревенскими мальчишками, собирание ягод в ближайшем лесу, ночи, утра, дни, слившиеся в нечто бесконечное, будто всегда стояло нежаркое лето, а зимы, весны и осени и не было. Конечно, он помнил и сугробы снега, и замёрзшую Навку. Но выходил ли он тогда на улицу в тулупе и малахае? Становился ли на первые свои лыжи? Ездил ли в Городище и Кесьминск в санях? Получали ли они в Навьине письма от отца, и если да — то что было в этих письмах? Память оказалась крайне избирательной.
Чем, наконец, был для него пожар Москвы, приведший к его рождению в этом глухом краю? Наверное, чем-то в духе театральной гравюры Шинкеля, которую он увидел вчера на стене прежнего дедовского кабинета: люди с тюками на плечах и с ведомыми под уздцы лошадьми, а кто-то верхом, и обозы, обозы, идущие вдоль набережной прочь от Каменного моста и отбрасывающие огромные тени на зрителя, потому что там на востоке — за Кремлём и обмелевшей Москва-рекой поднимается сквозь помпеянские почти клубы извергаемого дыма кровавое, страшное солнце. Не важно, что город подожгли, когда почти никого из жителей в нём не осталось, — так, с толпами уходящих даже красивей.
Все эти воспоминания, реальные или фантомные, затенялись куда более нелепым, несправедливым и страшным — гибелью отца от руки его деда, о чём он узнал только что, и смертью матери в эпидемию холеры 1830-го года, когда общее число смертей уже пошло на убыль. И невозможностью из-за карантина подойти к умершей, которую отпевали в закрытом гробу.
Эспер, не говоря ни слова, встал из-за стола и поднялся к себе в комнату с рукописью — большой тетрадью из бумаги с водяным знаком в виде буквы «Л» в лавровом венке и лежащего под ней кинжала, которая была переплетена в светло-коричневую кожу. Он ожидал, что это будет рассказ деда о его страшных сомнениях, приведших его к не менее страшному концу. Но нет, это было написанное лет двадцать назад квадратным и, как это бывает у стареющих людей, чуть отрывистым, с дрожаниями проводимых уже нетвёрдым пером линий, почерком сочинение «О степенях смерти и о последствиях, от них происходящих». Укрывшись походным пледом на детской своей постели, он, как и был одетый, начал читать.
«Животное являет наибольшую сложность бытия телесного, — читал Эспер, — и первою, предварительною степенью смерти для него будет сон, в который животное погружается ежедневно, а иногда и на долгие промежутки, если при понижении температуры впадает в длительную спячку, например, зимой. Некоторые земноводные могут спать годами, если не дольше. Медик французского короля видел, как каменотёсы разбивали цельные камни, внутри которых обнаруживались живые лягушки, запертые там столетиями.
Сон лишает животное чувственного бытия, отдаёт во власть растительной силы, низводит до растения. И человек, это сверхживотное, при забвении „я“, при понижении телесности до сна в растительном состоянии видит не то, что ясно ему при бодрствовании, а нечто общее, растительному, нечувственному состоянию во всех человеках присущее. Безумие, идиотизм, даже сомнамбулизм — вот состояния сугубо сновидческие, растительные, и не будет большим преувеличением назвать человека в таких состояниях живым мертвецом. Животное во сне тоже мертвеет — хотя не до конца и не полностью.
Вторая степень отхода от жизни — полное оцепенение, когда животные пребывают только массами вещества, и в нём следует различать три стадии. Первая ещё предполагает возвращение через сон к бодрствованию, хотя и расположена на переходе от растительного к минеральному. Таковы земноводные, вмёрзшие в лёд или находимые в цельных породах, и потом оживающие. Но есть и стадия вторая, означающая не только пребывание, пусть и временное одной вещественной массой, но полную, необратимую утрату способности возвращения к животной жизни. Таковы мумии египетские или естественным образом высушиваемые мертвецы в каменных гробах на католических кладбищах; таковы наши гербарии и музейные собрания насекомых. Наконец, третья стадия — превращение органической массы в минерал. Минерал не только мёртв по отношению к растительному и животному, не говорю уже о сверхживотном царстве человека, но и в самом себе жив до того предела, пока целен и не распадается. Но и жизнь минерала — низшая форма жизни вообще — не вечна.
Третья степень погружения в смерть есть уже разрушение минерала, его распад, переход к бытию земностихийному, в иную форму пространственности и вещественности. Однако и земностихийные превращения минерального царства оставляют его достаточно плотным и тяжёлым.
Четвёртая степень погружения в смерть есть преодоление земностихийности, избывание её веса, истончение пространственной вещественности. Земностихийность переходит в огнестихийность, разрешающую от абсолютной власти тяготения, делая пространственность всё менее материальной, приближая её к чистому протеканию, т. е. времени. Это — пламенная смерть земного бытия, но не бытия вообще. Это состояние движущееся, значит, в чём-то живое, и движение и жизнь его вполне исчислимы.
И только когда всё живое, миновав несколько стадий смерти, достигает этой последней, наибольшей и светлой степени, почти уже перейдя грань чистого временения, чуждого жизни животного, сну растения, утлому бытию минерала и всем земным стихиям вместе взятым, то нам, наблюдающим это, становится очевидным, что полная и окончательная смерть прежнего есть тоже жизнь, притом более широкая и светлая, и хочется воскликнуть: в мире всё живёт и нет ничего окончательно мёртвого!»
Он слышал, как дядя молча поднялся следом за ним и зашёл в свой кабинет, от которого комнату Эспера отделяла стена.
Эолова арфа продолжала звучать, но Эспер не замечал её пения. Они с дядей были по-прежнему одни в имении. Шумная компания, голоса которой он слышал предыдущей ночью, засыпая, снова где-то отсутствовала весь день, и Эспер даже не спрашивал — где. Да и существовали ли хозяева этих голосов вообще? Не были ли они мороком, порождённым рассказами дяди, хотевшим оправдаться перед племянником, или просто не слишком пугать его, слуховой галлюцинацией самого Эспера от страшной усталости? Но кто вообще перестроил имение, украсил его стелами, скульптурами и флагом, расписал обои этого дома, невидимо готовил еду? Кто-то ведь должен был всё это делать.
Пора была действовать.
Он достал из лежавшего в саквояже футляра подаренный ему Гамберини скальпель анатома и вошёл в кабинет дяди.
Князь Адриан Лысогорский лежал с закрытыми глазами на кушетке. Руки его были вытянуты вдоль тела.
— Совершай то, за чем ты сюда пришёл. И — чем скорее, тем лучше. Это будет твоим главным милосердием. Ты правильно меня понял. Всё хорошо, — произнёс князь Адриан, не открывая глаз.
Давно отрепетированным движением Эспер нанёс удар там, где должно было располагаться сердце, но острое и тонкое лезвие прошло как сквозь бумажную труху, не встречая сопротивления. Лицо дяди дёрнулось и стало стремительно меняться, словно ему становилось лучше. Складки-мешки расправились, даже какой-то оттенок жизненного порозовения возник на щеках, бескровные губы потемнели, заломленные брови вернулись из прежнего вечно удивлённого положения в спокойное, седые волосы потемнели, даже какое-то подобие улыбки возникло на лице. Но это всё длилось очень короткое время. Эспер вынул скальпель: ни единой капли крови не осталось на поблёскивавшем лезвии. Человек — настоящее, живое, страдающее существо, жившее в оболочке Адриана Лысогорского, — умер давно. Эспер ещё раз посмотрел на зажатый в руке скальпель и увидел дедовский острый нож для разрезания бумаги. Как он у него в руке оказался?
«Что же делать теперь с теплицами?» — это было единственное, что сейчас занимало Эспера. Тут он неожиданно осознал, что давно, уже много часов звенит эолова арфа. В окнах мигали зарницы: с юга приближалась гроза. Раскаты грома, сначала далёкие, раздавались всё ближе, пока неожиданный и сокрушительный раскат не ослепил Эспера — ему показалось, что атмосферное электричество вошло прямо в него: такова была сила разряда. Но нет: и он, и дом были целы и невредимы, но когда Эспер вышел на крыльцо, то увидел, что загорелся деревянный остов теплиц. Молния, видимо, ударила в стоящего рядом медного Лаокоона, оплетённого змеями. Через какое-то время от занявшегося жара стали лопаться стёкла, и страшные, утробные стон и выдох в голос раздались там, где ещё полчаса назад под поблёскивавшими от зарниц и дождевой воды стёклами притаилось каан-че. И вместе с выдохом — Эспер увидал это с крыльца — в небо взметнулись похожие на чёрных голубей хлопья: словно души всех, заживо пожранных, вырвались на свободу. Сразу несколько голосов завыли там, где лопалась стеклянная крыша второй теплицы. Низкое дребезжание эоловой арфы не умолкало. Эспер вернулся в дом, скатал трубою походный плед, затянул на нём ремни, взял одно из охотничьих ружей, стоявших со вчерашней ночи в углу прихожей, взял запас пороха и патронов, положил в свой маленький саквояж стилет и рукопись деда о степенях смерти и пошёл поджигать дом. Обои и разная ветошь занялись легко — от имевшихся в доме и бывших у Эспера с собой фосфорных спичек; но мебель, картины, книги поначалу не хотели гореть; однако князь Адриан хранил в своём кабинете какие-то легко воспламеняющиеся составы, которые начали оглушительно хлопать и взрываться, распространяя удушающее зловоние; уже через час-полтора, несмотря на дождь снаружи, всё здание изнутри было охвачено пламенем. Какие-то пятнистые чёрно-золотые тени метались на верхнем этаже, и раздавались похожие на отрывистый лай голоса, но Эсперу было всё равно. Барский дом, дом его детства горел хорошо. Столб пламени виден был за несколько вёрст в Городище. Тамошние мужики и бабы, разбудив детей и выведя их к околице, все, глядя в сторону Навьина, крестились молча и истово, по доступной им простой и немудрящей вере.
Эпилог
Если бы эта история была записана сразу, то содержание её можно было бы отнести на поветрия времени. Но меньше всего здесь каких-либо поветрий.
Каждые 22 года князь Эспер Лысогорский появляется на повороте на Навьино. Он одет по моде, которую легко отыскать в приложениях к московским журналам середины 1830-х. В руках Эспера трость с набалдашником из переплетённых змей, увенчанных крылышками, на нём широкополая шляпа блином не по погоде и климату, под мышкой свёрнутый трубой плед. Он обращается к проезжающим мимо на несколько церемонном и искусственном, на нынешний вкус, наречии, на котором уже не говорят даже на сценах столичных театров, и спрашивает, много ли ещё вёрст до Навьина. Но поворот давно ведёт никуда. От деревни не уцелело ни дома. Эолова арфа давно не звучит в беседке, да и от самой беседки, как и от главного дома усадьбы, мало что осталось — фундаменты, полторы стены и несколько отдельно стоящих колонн. Расчищенные прежде пространства давно заросли кустарником и сорными травами. На том, что когда-то было руинами барского дома, да на крепкой ещё плотине у двух покосившихся стел живут мириады галок. Грай их становится громче по мере того, как солнце клонится к закату. И хотя беспроводная связь работает здесь исправно, с приближением сумерек хочется срочно покинуть руины.
Ты скажешь, дорогой мой читатель, что это всё шутки пространства, искривляющегося, загибающегося в отдельных местах, под воздействием на него сил бо́льших, чем понятные нам. Прежде чем говорить о пространстве и о географии, подумай, читатель, в каком бы ты хотел жить времени. В той ли дурной бесконечности повторяемого события, что не покидает нас, как невыученный урок?
В последний раз князя Эспера видели лет шесть назад. Проезжавшие на внедорожнике хозяева бакалейной лавки в соседнем Городище решили, что это отбившийся от съёмочной группы актёр из русского народного блокбастера «Маша Троекурова», который снимали как раз под Кесьминском.
Главное, не обращать на вечного князя никакого внимания. Он просто исполняет своё дело: проверяет, не поселился ли кто на руинах. Через ещё шестнадцать лет он появится снова и задаст тот же самый вопрос.
Ноябрь 2013 и апрель 2014. Болонья Октябрь 2016 — май 2017. ПиттсбургII. Острова в лагуне (Повесть)
И день придёт — не будет и следа от ваших Пестумов, быть может!
Часть первая. Огненный воздух
I
Рейс из Москвы приземлился в аэропорту имени Марко Поло в двенадцать с четвертью. В двенадцать сорок пять — русские повествования начинаются с точного указания времени и имени героя, что ж, мы не отступим от традиции — Тимофей Теплов, пройдя пограничный контроль и довольно формальный таможенный досмотр, уже стоял на юго-западном выходе из здания аэропорта, лицом к лагуне.
Солнце палило нещадно; обычно оно достигало такой интенсивности часам к трём-четырём, да и то не во всякий день.
Зеркало лагуны казалось нацеленным прямо в глаза: немного облаков и меньший накал светила не помешали бы.
Добираться водой до расположенного на острове города — при таком блеске, режущем зренье с любого ракурса, — не доставляло удовольствия. Теплов вернулся в здание аэропорта и пошёл к выходу в сторону автобусной остановки. Ближайший до железнодорожного вокзала отходил в 12.56.
Мягкий толчок — и мимо поплыли знакомые улицы городка Местре со стайками безработных сербов, украинцев, тунисцев: всех тех, кому не было места на аристократическом пиру старой истории и культуры; и, вынужденно бездельничая, они наслаждались полуденным жаром.
Он всегда считал Местре только за преддверие, поэтому даже однообразное сочетание коричневого с зелёным — оштукатуренных стен с буйной растительностью — показалось ему праздничным. Не более чем через полчаса он окажется в городе настоящем.
Минуты, когда поезд движется по вытянутой стрелой дамбе, почему-то именуемой Мостом Свободы, всегда наполняли Тимофея восторгом. Австрийцы здесь действительно провели железную дорогу по двумстам двадцати двум аркам, поставленным на десятки тысяч вбитых в лагуну лиственничных свай, но называлось это сооружение в их времена без какого бы то ни было пафоса, просто мостом через лагуну.
Он стал припоминать, описывал ли кто въезд в Серениссиму с материка — единственный в своём стремительном великолепии изо всех известных ему железнодорожных въездов в города, и на ум пришло только: «Я был разбужен спозаранку щелчком оконного стекла. Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла». Правильно было бы «вагонного окна», но тогда и рифма другая.
Если на какое хлебное изделие город похож с птичьего полёта, то на размокший калач.
Ему же самому город всегда виделся гитарой — хорошо, пусть не гитарой, виолончелью — с грифом моста и с бегущими вдоль натянутых струн наперегонки поездом и автомобилями. Их звук и есть гудение струн.
За истекший час солнце стало палить сильнее. Огромный шар висел над белой от марева Венецией, словно хотел выкалить всю лишнюю влагу из окружавшей лагуны.
Так осушают глоток за глотком плоскую и, как поначалу может казаться, неупиваемую чашу.
II
Гостиница была девятнадцатого столетия с видом из окон на канал Св. Марка. Многое в ней казалось избыточным: гигантские канделябры, парадные лестницы, обои в коридорах и номерах с рисунком чуть ли не времён австрийского управления.
Тимофей вспомнил обои с французскими королевскими лилиями в старых гостиницах Нового Орлеана.
Ничего из этого не добавляло ни грана комфорта.
Гостиницу подобрали организаторы симпозиума при Институте венецианской цивилизации (одно название чего стоило!). Доклад в московской суматохе был написан только вчерне. Тимофей знал, что его ценят за парадоксальность мышления и потому наверняка не заметят многих слабых составляющих конструкции. По высшему счёту некрепкими были не только отдельные части, неясен оставался смысл всего построения, что он без труда прикроет ловкой риторикой. В том, что она выйдет у него лучше, артистичней, чем у иных коллег, Тимофей не сомневался — просто так была устроена его голова.
Лет десять назад он обнаружил в главной библиотеке Северной Америки архив одного позабытого всеми на родине, но прославившегося в 1930-е за Океаном — впрочем, больше своими популярными сочинениями для Бродвея и Голливуда — композитора, острослова и бонвивана. Среди никому не известных его композиций был совершенно не блюзовый «Concerto veneziano» для фортепиано с оркестром.
Тимофей не считал себя музыкантом, ибо забросил музыку ещё в ранней юности. Автор же сочинения привлёк его как художник, осуществившийся полностью, всё про себя и про других понявший и с едкостью и занимательностью описавший собственную счастливую жизнь в удававшихся ему — как музыка, без труда — стихах и мемуарах. Однако и в залитой ровным нью-йоркским и калифорнийским солнцем, прямо-таки образцовой биографии сочинителя «Венецианского концерта» оставалась какая-то до конца ни самому композитору, ни Тимофею не ясная зона, порыв вспять: нет, не в Россию, а лишь в её сторону — в Европу; что-то, что заставляло без видимых причин создавать смятённые и загадочные партитуры навроде упомянутого «Концерта». В Северной Америке, где композитор счастливо поселился, такое вызывало удивление, а в Европе было давно не в моде.
Тимофей намеревался поделиться соображениями о музыкальном мифе в «Концерте». Он знал, что чистых музыковедов, этих дистиллированных пифагорейцев звуковысотности и тембра, такое бы покоробило.
Свободные стихии в «Концерте» буквально осаждали спокойнейшую Венецию со всех сторон, словно вымывая из-под неё основание.
Партитура состояла из трёх частей-посвящений: первые две — «Воздуху» и «Земле», причём воздух в «Concerto veneziano» представал словно бы излучающим бестенный зной, как воздух той Венеции, в которой Тимофей оказывался сейчас сам, а земля, если продолжать внемузыкальные сопоставления, смахивала на первобытное месиво.
Он глянул на лежавшие слева от ноутбука наручные часы: Тимофей всегда их снимал, когда работал. В этом, как и в самом ношении часов, была избыточность, но он её ценил, ибо избыточность означала порядок и минимальный комфорт. Время на них всегда на четыре минуты обгоняло то, что на ноутбуке, и показывали часы сейчас четыре тридцать четыре. Ровно через полчаса он позвонит.
Тимофей был представлен той, чей номер предстояло набрать, ещё четыре года назад после одного концерта новейшей музыки в Рахманиновском зале Консерватории. Тимофей не был особенно охоч до малоприятных звукоизвлечений, но — на сцене и в зале — собрались друзья, и он пришёл, чтобы поддержать их усилия. «Марина, — очень просто сказала только что игравшая в ансамбле с духовиками и струнниками. — Я знаю, такое имя бывает у русских, но я итальянка». Тимофей пожал её цепкую и натренированную руку пианистки: «А фамилия у вас тоже связана с морем?» — «Почти. С водой. Посмотрите афишу». — «Вы прекрасно говорите по-русски». — «У меня были отличные учителя».
После концерта пили коньяк в большой бестолковой компании в увешанной афишами комнате напротив консерваторской библиотеки. «Хорошо, что не водку», — сказала ему Марина. Без труда соскользнули в «ты».
«Я бы пригласил на прогулку по бульварам. Ещё тепло, самое любимое время осени…» — «Не надо, ты ведь сейчас не один. Будет возможность ещё погулять».
Так они потом и виделись — в короткие приезды Марины — после её концертов и в общих компаниях. Надо сказать, что барочный репертуар и модернистская классика удавались ей в разы больше, чем псевдоноваторское занудство, слышанное тогда в Рахманиновском.
Пару раз пересекались в самой Европе: гуляли осенью в звенящем трамваями, свёрнутом в улитку каналов Амстердаме («Ну, признай: никакого сходства с моей Венецией!»), а летом — в лондонских Кенсингтонских садах («Наполеоновские-то меркнут перед этими!»). Всякий раз, когда он оказывался в Венеции, у Марины был либо гастрольный концерт, либо какие-то дела в другом городе.
У них сложились странные отношения: не дружба, не что-то большее, но Тимофей чувствовал всё возраставшую потребность делиться внутренне важным. В какой-то момент рассказал об архивной находке. «Скорей присылай, что ж ты молчал: сыграю…»
Узнав, что в очередной раз он окажется в Венеции, Марина написала: «Позвони, буду очень рада, покажу тебе тайные уголки города». — «Хорошо, — отвечал Тимофей кратко в предотъездной спешке, — в день прилёта в пять».
Прежде чем успел что-либо произнести после того, как набрал номер, заговорила Марина: «Ты удивительно точен, здравствуй. Есть на сегодня планы?» — «Никаких, я свободен». — «Я так и думала. Приглашаю в кино. Вот кино ты у нас не видал. Через два часа: Каннареджо, 4612. Дорогу найдёшь?»
III
Встретились они перед кинотеатром — там лицом на небольшую площадь располагался супермаркет в виде параллелепипеда — вторжение голой функциональности в мягкий и разнообразный архитектурный ландшафт.
Сеанс начинался в семь тридцать. Это была какая-то ерунда под названием «Луна в последней четверти», выдававшая себя за мистико-исторический триллер.
Марина была хороша той графической чёткостью облика, что всегда настраивала зрение на резкость.
«Ты тоже изменился мало, — сказала она, словно читая мысли, прикоснувшись губами к его щеке, на том самом безошибочном русском, к которому Тимофей всё никак не мог привыкнуть и эффектом от которого говорившая, по видимости, наслаждалась. — Шедевра не обещаю, но время скоротаем. Если что, сбежим».
Марина была в приподнятом настроении, и Тимофею сразу передалась счастливая радостность той, с которой были связаны многие мысли, впрочем, скорее возвышенно нематериальные. Но теперь она вот осязаемо сидела рядом, искоса посматривая за его реакцией. Потолок кинотеатра был заделан пенопластовыми щитами, напоминая офис или декорацию дешёвого фантастического фильма. Впрочем, это могло быть и китчевым шиком, кто знает.
Во вступительных титрах то, что они смотрели — как ему показалось потом, редкостная муть, — было обозначено как официальный участник Оттендорфского кинофестиваля.
Начиналось действие со сцены, в которой две суховатые и седовласые англичанки (внешность в таких сюжетах обманчива) разговаривали на мосту, на фоне бедного и невыразительного сельского пейзажа. Час был вечерний, движение по гравиевой дороге отсутствовало.
Миссис Робартс жаловалась своей товарке миссис Эйхерн: «Автор утверждает, что я давно покинула этот мир, что меня нет. Что ж, я готова принять эту участь».
Следующая сцена переносила нас в барханы, где миссис Робартс, сильно помолодевшая, в очень идущем ей колониальном одеянии свободного покроя, в пробковом шлеме с прикреплённым к нему газовым шарфом, который должен бы защищать от летучих песков, но на самом деле только дразнил глаз зрителя (оператор и режиссёр явно гордились дешёвым эффектом), в окруженье сверкающих очами бедуинов, рисовавших на барханном песке какие-то конусы, круги и диаграммы, внимала объяснению тайного учения некого Косты ибн-Луки (если по-русски, Константина Лукича, ехидно отметил про себя Тимофей), багдадского врача — большого знатока греческой и сирийской мудрости, жившего за двенадцать веков до нас с вами и сводившего ритм человеческой жизни к фазам луны.
«Ибо она, — говорил помолодевшей миссис Робартс один из бедуинов, — в отличие от явленного телесным очам дневного светила, — водительница тайных желаний. Всё о них зная, мы победим смерть».
Собравшиеся вокруг бедуинские дети с жадностью слушали объяснения старшего.
С каждым следующим эпизодом гротеск нарастал.
Действие теперь перенеслось в Вену 1930-х. Совсем юная миссис Робартс была влюблена как кошка в некого русского танцовщика, по совместительству художника-абстракциониста (сюрреализм отцветал, и теперь уже абстракция была для подлинно продвинутых), добывавшего себе хлеб исполнением цыганских романсов в ресторанах. Звали рокового героя Константин Лукич фон Разумнофф. Тут Тимофей чуть не поперхнулся. Марина с улыбкой в глазах, но делано строго взглянула на него, прибавив: «По-моему, класс. Не находишь?»
Тимофей начал сползать под кресло, его спутница в шутейном испуге вцепилась ему в руку.
Между тем фон Разумнофф вещал с экрана тем небрежно-утрированным баритоном эмигранта, который можно было бы встретить в старых звуковых французских и американских фильмах, в которые ещё приглашали актёров дореволюционной выучки: «И ещё, душа моя, вот что: луна интересней всего в последней четверти своих превращений. Возникает, как говорят, равновесие между амбицией и созерцанием, человек мудр и всевидящ, тщета его покидает, он опирается лишь на себя, полностью растворяясь в свершённом. Всякий в это время либо святой, либо дурак. И тут мы подходим к началу нового цикла». Миссис Робартс сидела у ног говорившего и, не понимая ни слова на тарабарском для неё языке, млела от тембра голоса и от выговора.
В заключительной сцене она уже была на кушетке в заставленном книгами приёмном кабинете Великого Доктора, похожего не то на переодетого Деда Мороза, не то на актёра Бена Кингсли. Доктор объяснял ей обсессивно-эротический характер её интереса к луне, связанный с непреодолёнными детскими травмами (луна прикровенно олицетворяла материнскую грудь и, возможно, нечто фаллическое), что, в свою очередь, было густо замешано на власти танатоса, свойственной сознанию русских, у которых, как говорило Доктору знание, эрос и танатос — тут Великий Терапевт глянул поверх очков — нерасторжимы.
«Но ведь вы, миссис, англичанка. Вы англичанка?» — «О да!» — восклицала пациентка… Про финал можно и не рассказывать.
Вышли на душную, потемневшую улицу. Тимофей не знал, злиться ему на нагло и аляповато слепленный «артхауз» или всё-таки от души посмеяться. «Явно передрано из первой версии Йейтсова „Видения“», — начал он мрачновато, чуть более серьёзно, чем допускала ситуация. «Вы, русские, любите мистику». — «Но Йейтс — ирландец. Точнее, англичанин, осознавший свои кельтские корни». — «Послушай, всё равно. Ты ведь хотел сказать мне что-то другое?» — «Давай, что ли, выпьем за нашу так долго откладывавшуюся встречу в твоём городе!» — «Почти всё закрыто. Впрочем, я знаю одно местечко».
Пошли по узким улочкам, пересекая каналы и канальчики. Марина рядом и впереди, Тимофей рядом и следом, любуясь её движениями, что Марина, конечно же, чувствовала спиной. На Марине были белая блузка и юбка до щиколоток, а босые ноги в туристических каких-то шлёпанцах, которые она называла «босоножками», двигались без пляжной расслабленности — сплошная стремительность.
В «местечке», куда Марина его привела, была в основном публика средних лет, а некоторые пары и сильно в летах — местечко потому было тихое, но не чинное. Там можно было действительно выпить, а кроме того, съесть тонко нарезанного мяса. Все здесь были своими, местными, но уже навеселе, и приветствовали их, вошедших, радостными возгласами. Уже через две минуты на Тимофея с Мариной никто не обращал внимания. Тимофей заказал им обоим тарелку снеди, а себе граппу. Марина выбрала что-то довольно крепкое, горько-сладкое на вкус. «Видишь, это всё-таки — провинциальный город, даже городок. Одно такое заведение на всю Венецию! Кстати, какое сегодня число?» — «Тридцатое июня, воскресенье». — «Да, завтра многим на работу. Не мне…»
Он трогал её за воротник расстёгнутой чуть не до середины блузки, дышал близко в лицо. «Больше здесь делать нечего, — сказала через некоторое время Марина. — Пойдём ко мне, что ли».
IV
Она снимала квартиру в Кастелло, с окнами на небольшую площадь. На второй этаж дома вела лестница во внутренней части строения, но столетий, прошедших с момента возведения дома, как и всюду в буржуазной части города, не чувствовалось. Изнутри жильё было уютным и разумно спланированным, только соседская стена со всегдашними растениями из-за каменного забора казалась не по-современному близкой, а кроме того, листва деревьев и лепестки декоративных цветов почти проникали в открытое узкое окошко кухни.
Налила из початой бутылки «Grand Marnier»: «Надеюсь, ты мне составишь компанию». Преимуществом ликёра была крепость. Остатки стены между ними, если она когда-нибудь существовала, теперь окончательно рухнули.
«Можешь пока посмотреть квартиру».
Стены гостиной, выходившей огромным балконным окном на площадь, украшали странные золотые, коричневые и пурпурные картины в духе Малевича или Ротко, но более нежные по оттенкам цветов и по каким-то женственным (как ему показалось) геометрическим формам, однако живопись эта не вязалась с той хозяйкой, какую он знал прежде. В гостиной стоял приоткрытый рояль, но много места он не занимал. Что было в съёмной квартире определённо девичьего — невероятная пустота, освобождённость от груды утлых предметов и ненужной памяти.
Так, окунаясь в морские волны, ты выходишь из них обновлённым и чистым, обращаясь в поверхность, на которой ещё предстоит что-то записать.
«Всё посмотрел?» — Марина вошла посвежевшей, или он, погрузившись в разглядыванье обстановки, успел за эти несколько минут отвыкнуть от её присутствия. Сама погасила свет, отодвинула штору, распахнула дверь на балкон: в дом подуло жарой, площадь оказалась безлюдной. Лишь слабый вечерний ветер, трепавший растения в окне, когда пили на кухне, теперь шевелил огромные рекламные полотнища, выпростанные из окон и с балкона на расположенном слева (если глядеть на площадь) палаццо — на манер средневековых хоругвей.
Он коснулся губами её верхней губы, Марина ответила. Потом стал освобождать её и себя от ненужной одежды. «Подожди», — сказала она, отвечая губами, руками, всем телом, но лишь затем, чтобы продлить момент. В гостиной слева от двери в спальную стоял обитый темнеющей кожей диван.
Чёрный зев рояля не так отвлекал, как картины. «Удобнее на простынях», — тихо сказала она, опередив его мысли. В спальне («Ты её не смотрел?» — «Успел лишь гостиную») было свежее.
Поскольку все окна квартиры были распахнуты на соседей, она иногда просила его, словно выныривая из пахнущего адриатической солью пространства обратно в тело и время, — так, как просят о фразировке при исполнении: «Piano, piano…»
V
Оба не понимали, как лучше, и пробовали так и этак. Сон пришёл лишь к утру и длился недолго. Тимофей проснулся от жара и от шума, вползавших в окна. Вид её не прикрытого, меньшего, чем показалось вчера, но удивительно ладного тела вызывал новое желание. «Погоди», — улыбаясь, но не открывая глаз, по-русски сказала Марина. Значит, не спала, во всяком случае, сознание её бодрствовало.
Тимофей отправился в ванную, где подумал, пока стоял под струёй душа, как же всё-таки быстро горячая вода напитывает губку человеческого тела. Солнце заиграло на кафельных стенах наполненной паром комнаты. Когда он стирал с тела влагу мягким розовым полотенцем Марины (другого не нашёл), будто вминая аромат хозяйки в своё только что от всех запахов отмытое тело, то думал, что стоит один. «Тщательно выбрейся, — сказала Марина, сзади просунув руки ему под мышками, положив обе ладони на грудь, а голову на плечо, вдавив в плечо подбородок: это всё он увидел в зеркале. — Вот смотри: мои щёки ободраны, все пылают». — «Ничего». — «Что скажут соседи!» — добавила она с ложной обеспокоенностью. «Соседи смолчат», — резюмировал Тимофей.
Вид на площадь свидетельствовал о перемене времени суток: один за другим её пересекали пешеходы, стуча каблуками или шаркая подошвами по плитам; несмотря на продолжавшуюся жару, кое-кто сидел под навесом кофейни.
Завтракали: вином, прошутто, дыней.
«Поехали на кладбище», — сказала, доедая дынную дольку, Марина. — ″?!″ — «Вы, русские, любите кладбища». — «А вы?» — «Я знаю, что если меня запрут в мраморный ящик на оплаченные вперёд двадцать лет, то потом высохшие кости всё равно куда-нибудь выбросят. Что думать об этом! Считай, что я приглашаю. Всё-таки ваши любят великих покойников: Дягилев там, потом, как его, Паунд». — «Паунд был фашист». — «Ну, да — писал о Муссолини: растерзали, мол, великого Диониса с его менадами. Я, ты знаешь, легче читаю ноты. Потом этот, который воспевал яичную скорлупу куполов. Будто наш город — сковорода». — «Так припекает, что может быть. Ну, кто из нас двоих о серьёзном?» — «Вот я и говорю: одевайся скорее — поехали».
VI
Вапоретто отчаливал от остановки «У Св. Захарии» в 11.21 и отправлялся дальше к заброшенным мукомольным фабрикам Джудекки, превращённым одна за другой в многоэтажное фешенебельное жильё, — мимо острова Сан-Джорджо Маджоре, на котором светлела Палладиева церковь Св. Георгия, и возвышалась эхом большой колокольни — той, что на площади Св. Марка, — колокольня из красного кирпича, а за церковью и колокольней зеленели густые сады. Этот вид завораживал всегда, особенно при ослепительном солнце. Через несколько дней Тимофей будет читать доклад в тени этих самых садов.
Двигаясь дальше на запад, вапоретто проплыл депо железнодорожной станции и, свернув с Большого канала на канал Каннареджо, идущий в сторону материка, поплыл ещё дальше, мимо северных набережных города, а потом, описывая почти полную петлю, причалил к Новой набережной. Дальше катер развернулся на северо-восток: для последнего и короткого броска к острову Св. Михаила.
Если бы не густые ряды погребальных кипарисов из-за его светло-коричневых стен, то остров мог бы сойти за крепость. Полдневное солнце, удвояясь блеском в лагуне, казалось, плавило и без того светлый камень, выбеливало зелень деревьев.
От всепроникающей плавкости не спасали ни чёрные очки, ни американская соломенная шляпа, надетая Тимофеем, ни косынка, которую повязала, отправляясь на кладбище, его спутница. Тимофей помнил, что если глядеть с птичьего полёта, то остров суровых аллей и смиренных кладбищ имеет внутри форму креста, обращённого верхним концом к городу, а «лицом» и «стопами» — в ожиданье трубы Страшного суда — на восток.
Не все, кто здесь погребён, одобрили бы такую геометрию. Но ведь и Наполеон, властной рукой революционера и победителя установивший здесь единственное городское кладбище, — он ведь тоже был безбожником.
Вот и надгробие бывшего заключенного спецпсихбольницы им. Св. Елизаветы, чью тень даже за дверью аида ревниво сторожили погребённые по правую и по левую руку жена и любовница, представляло собой мраморный прямоугольник с гордо-лаконичной надписью на слегка латинизированном английском «EZRA POVND», — прямоугольник, окаймляемый, как посмертным венком, широкими листьями вьющегося по красноватой земле плюща.
Тимофей когда-то читал Паунда и хорошо запомнил начало «Пизанских песнопений», сочинённых в ожидании расстрельного приговора в металлической клетке под выжигающим разум италийским солнцем, — слова, произносимые стихотворцем не столько в память о Муссолини, сколько в качестве автоэпитафии:
Эти черви (пусть) жрут тушу тельца: дважды рождённого, но дважды распятого — где в истории видано это? И ещё передайте опоссуму: хлопком, а не всхлипом, хлопком, а не всхлипом!Элиот-опоссум, давний его приятель, был уверен, что наш мир окончится всего лишь «всхлипом». Но карающее и милосердное — обращённое к концу времён — христианство его было чуждо тому, чьи кости впеклись в иссушенный средиземноморским солнцем грунт.
Чуть поодаль — белые и простые надгробия автора «Весны священной» и его вдовы. Рядом — светлая часовенка на могиле выведшего его в люди импресарио. Могила беспутной жены славного Багратиона. Захоронения русских аристократов и венецианских греков.
А где же сравнивший купола Сан-Марко с будущей яичницей? Тот лежал на протестантском — в сущности, на ничейном — участке, возле Паунда, которого по справедливости недолюбливал.
Марина всё время была рядом, пусть в чёрных очках и платке, но одетая в лёгкое и очень короткое, обнажавшее загорелые руки и ноги, платье. Мысль о ней была неотрывно связана с желанием, но располагавшимся как бы за границей ума, тела и уж тем более места, куда она привела его.
На обратном пути он обнял Марину сзади, словно повторив её жест перед зеркалом в ванной, только зеркалом теперь было всё блескучее, жаркое море — просунув под платьем правую руку, касаясь левой груди, где сердце, и услышал в ответ: «Ты приходишь ко мне ужинать?»
«Да, конечно».
VII
Лишь теперь он заметил, до какой степени гостиничный номер был переполнен всяческим антиквариатом. Кровать, стол, массивные чернильница и пепельница (Тимофей не курил, а любимую перьевую ручку давно заправлял картриджами), лампы в стеклянных абажурах чуть не столетней давности, резные дубовые стулья — всё создавало атмосферу ложной основательности, вероятно, щекотавшую самолюбие какого-нибудь туриста из медвежьего угла, но Тимофей ехал сюда не за декором девятнадцатого столетия.
Насколько чиста от ненужного прошлого в сравнении с этим была квартира Марины! Всего-то памятного, что стопка из нот переусложнённых и неблагозвучных современников да второй том «Хорошо темперированного клавира», да ещё раскрытый на середине, изучаемый к его приезду «Венецианский концерт». Ну, и поставленные на столике у рояля фотографии с концертов — вот она одна, вот в ансамбле с другими исполнителями. У русских её партнёров были какие-то древесные фамилии: флейтист Дубовской, виолончелист Кленовский, альтист Буковский. Внимание задержал Кленовский: рослый, статный, со светлыми кудрями до плеч. «Ты часто играешь с Кленовским?» — «Да всякий раз в Москве, а ещё в этом году во Флоренции и в Милане». — «Ну, и как?» — «Музыкант хороший. Прекрасный партнёр. Ты ревнуешь?» — «Да». — «Но у нас ничего не было. Быть не могло. Ему нравятся длинноногие девятнадцатилетние — как вы говорите по-русски, сыкухи? Да, сыкухи». — «Жалеешь?» — «Прекрати». — «Ревновать можно к тому, чего не было. То, что было, — прошло». — «Ужинать будем?»
На ужин были опять не плоды моря, которыми просто кишела Адриатика, а приготовленная Мариной нежная телятина — снова с дыней — и выдержанное в холодильнике прозекко. Игристое вино ударило в голову.
VIII
Будто прорвало шлюзовые заслонки. «И откуда, — спрашивал он сам себя, — в этой крепкой, невысокой, ладной женщине столько энергии, столько свободы? И кто оказывается чьим эхом? Если она, то я себя мало знаю; если же — я, то какие стихии вокруг!»
Иссушающее — прерыв и удар — обдавая солёным накатом — снова прерыв — поставив на мягкую землю — точнее сбив с ног, с утопаньем во взвеси волны и возвращеньем к тому, что и, отделяясь, неотделяемо.
«Если мы, наводясь, как зеркала, друг на друга, расщепляем такие энергии…»
IX
На второе утро Марина сказала немного торжественно: «Теперь путь лежит к армянам, прямиком на Сан-Лаццаро». — «Там-то что?» — «Вот видишь, ты не бывал. Бывший лепрозорий». — «Неужели пора?» — «Говорю тебе: бывший. Давно уже монастырь. Армянский. Поехали — не пожалеешь».
Добрались только к трём, хотя поездка водой занимала не более четверти часа.
Жаркий ветер и обжигал, и, проходя сквозь спутавшиеся волосы, казался желанным.
На острове действительно был монастырь со встроенной в общий ансамбль церковью девятого века, а в ней отличной работы растительные мозаики — кажется, более раннего времени; Тимофей вспомнил виденные им когда-то роскошные мозаики Северной Африки.
В монастыре жили всего восемь монахов, один из которых, переходя с итальянского то на немецкий, то на английский, а то на армянский, показал им церковь, потом трапезную, потом библиотеку (полную удивительных книг), потом картины адмирала Ивана Айвазовского — уменьшенного формата и лучше прежде виденных Тимофеем, в основном виды Мраморного моря (на Сан-Лаццаро был монахом брат Айвазовского; автора картин монах-экскурсовод именовал «наш знаменитый художник Ованес Айвазян»), потом портрет Байрона, выучившего классический армянский «за шесть месяцев», потом мумию, привезённую армянским священником из Египта в 1820-е годы, и, наконец, армянскую старопечатную книгу, изданную в Венеции, повторяя при этом со своеобразным юмором: «Настоящие армяне-арии, чьи предки пришли с севера Европы за десять веков до Рождества Христова, были высокими, светловолосыми и голубоглазыми. Ну, совсем как ваш покорный слуга». Сам монах был низкоросл, лыс, с иссиня-чёрными остатками когда-то пышных кудрей над ушами и на затылке, с бесцветными от прожитых лет глазами.
Тимофей почему-то вспомнил Байроновы «Стансы к Августе», которые заставляли учить ещё в школе: «In the Desert a fountain is springing, in the wide waste there still is a tree, and a bird in the solitude singing, which speaks to my spirit of Thee», что в собственном его школьном переложении, по-юношески пижонском и чуть корявом, звучало: «И в пустыне бьёт ключ, ну, а древо восстаёт среди пустоши, и в одиночестве посвист — напевы птицы — повесть о нашей любви». Сейчас-то он понимал, насколько маниакальным был этот текст, и сказал, обращаясь к Марине: «Байрона изгнали за связь с сестрой. Иногда я думаю, что ты мне сестра».
Палящее солнце опускалось над лагуной, отбрасывая золотую дорожку на воду и становясь — в момент погружения в сизо-серую полосу паров, слева от острова Санта-Мария — отчётливо рыжим.
Ощущение было, что воды убыло. Или это только ему показалось?
Марина смолчала на пирсе в Сан-Лаццаро, но в третью ночь их близости ответила какими-то странными, «сестринскими» ласками, неуверенно проводя ладонью по его груди и спине, положив — щекой к щеке — голову ему на плечо, долго глядя мимо, в пространство, прижав свои колени к груди, и лишь потом и очень не сразу открылась, внимательно смотря на него, стараясь губами не попадать в губы, в конце концов, произнесла: «Ну, чего же ты медлишь?» Потом быстро заснула под ним, будто выпав совсем из круговращения ночи и дня, ускользнула в невидимое между-мирие.
X
На следующий день они отправились в Наполеоновские сады, очень похожие на многое, прежде виденное Тимофеем: на классицистские парки Санкт-Петербурга, на Люксембургский сад в Париже, на мадридский Парке дель Ретиро…
Тут и там стояли, будто оплавленные, скульптуры из песчаника: натягивающий выщербленной правой рукой набедренную ткань на мужеское достоинство курчавый безносый юноша (Эрот?), лишённый правой руки бородатый Геракл-Сократ, словно намеревавшийся этой рукой с зажатой в ней дубиной жахнуть по невидимым противникам. Шелестели выгоравшие листья лип, лавра и бересклета. По-прежнему ярко блестели устойчивые к иссушавшему жару кроны каркасов — простого и южного, того самого, цветы которого именовались Лотосом у Гомера:
…Лишь только сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно всё позабыл и, утратив желанье назад возвратиться, вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись отчизны, —жаловался на своих переменчивых спутников Одиссей. Кое-где цвёл шиповник.
Тимофей, в юности, когда с музыкой не заладилось, раздумывавший над тем, не стать ли ему биологом, и сохранивший кое-какие познания по части флоры и фауны, с интересом отмечал про себя чешуекрылых, порхавших между густыми кустарниками, деревьями и скульптурами:
сонных листовидных носаток, серых, с розовыми и голубыми пятнышками, действительно похожих, когда, сложив створки, они прикреплялись к высоким веткам каркаса, — на иссохшие его листья; потом среди травяных стеблей — пятнистых червонцев, пламенно-красных и тёмно-коричневых с тёмными пятнами и тёмным же ободом крохотных крыльев; и ещё отливавших уже неземною голубизной, яркой и в ослепляющем солнце, крошечных голубянок-икаров; наконец, — вровень скульптурам — целый веер летуний: шафрановых с чёрной каймой на верхних крыльях желтушек, жёлто-чёрных, прекрасных размахом крыл и полётом, только что вылупившихся из куколок молодых махаонов, пылающе-красных — с коричневатым и бурым отливом — бабочек павлиний глаз; коричневых в центре те́льца и крыльев, с расходящимся красным кругом и чёрно-синими навершьями крыл бабочек-адмиралов; и, наконец, кирпично-красных и чёрных одновременно, с крохотными белыми пятнышками в навершиях крыльев — вездесущих репейниц, куда уж без них!У многих народов их считают за души покинувших нас. Сколько душ было в этих садах, у дверей иномирья, обращающих мысли к Марине, вожатой в его бестолковых блужданиях по улицам, островам и паркам! К сестре сердца и средоточью желаний. В одной лингвистической книге он вычитал, что название племени древних венетов, давших имя городу, может происходить от корня *u̯en-, u̯enə-, означающего «любить» и «желать». Что ж, пускай и венеты, и Марина, живущая ныне на их острове, будут тем «желанным», что одушевляет затопленный жаром окрестный мир.
Внезапно, когда, как ему показалось, наступила счастливейшая, самая осмысленная минута, настроение Марины переменилось: «Никто не должен видеть, какие у нас отношения. Ты сегодня ночуешь в гостинице». — «Посмотрим», — сказал Тимофей, не понимая от неожиданности, что ему сейчас ответить. «У меня кости ломит. Я так не привыкла. Извини. Я тебе позвоню». И — после паузы: «Пора уделить внимание sselboi sselboi[26], как говорили древние венеты, во власть которых над моим сознанием ты так упорно веришь». — «Ты всегда читаешь чужие мысли?» — Марина смолчала. «Что ж, тогда и мне предстоит засесть за доклад: как бы не ударить лицом в грязь». — «Да, пора», — подвела итог Марина.
Так вот они и разошлись: в разные стороны.
Часть вторая. Первоземля
I
Невероятная вонь, и так свойственная некоторым мелким протокам Венеции, с утра наполнила город: высохло большинство каналов.
Обнажилась — ступень за ступенью — подводная, морская жизнь.
Вот ползающие по верхней обшивке каналов среди ещё влажных водорослей в ожидании прилива, который придёт невесть когда, бледные крохотные многоножки и мокрицы. Чуть пониже — стайки морских улиток, которых, как слыхал Тимофей, венецианцы едят, отварив прямо в раковинах, как русские раков.
Ещё ниже — прикреплённые намертво к лежащим в каналах камням и к основанию свай усоногие раки-балянусы, укрывшиеся в свои известковые домики, а по соседству — скопления мидий.
Наконец, мелкая рыба, дохнущая в образовавшихся лужах.
Низко летавшие чайки склёвывали добычу, долбили клювами раковины, рвали на клочья рыбу.
По радио и по телевидению передавали призывы сохранять спокойствие и по возможности насладиться необычайным природным явлением.
Интернет сообщал об экстренном заседании городского совета, намеченном на вечер. Должны были принимать решения по столь неожиданной ситуации.
Солнце между тем жгло и жгло. Если его рассматривать сквозь мощный космический телескоп, то можно было бы увидеть гигантские протуберанцы, отходящие, как длинные локоны, от его тёмного ядра.
Тимофей пошёл вдоль высохших каналов. Остатки влажной жизни убывали с фантастической скоростью, оставляя за собой неподвижные раковины, шершавые мёртвые камни и испаряющееся разложение. Казалось, что взгляду предстали не судоходные прежде каналы, а грубо протоптанные великанские дороги, по которым недавно прошелестел ливень. Нечто первобытное рассекло Венецию горячим ножом на десятки дымящих кусков.
Тимофей уже звонил Марине несколько раз: телефон не отвечал до четырёх дня, пока, наконец, сонный голос с того конца провода не сказал отчуждённо: «Извини, я всю ночь не спала…» — «Стоило ради этого отправлять меня в гостиницу?» — «И всё утро. Послушай, я ведь почти не знаю тебя». — «После четырёх лет знакомства?» — «Всё происходит для меня слишком быстро. Никто не мог предположить…» — «…Что высохнут каналы». — «И даже Большой?» — «И он». — «Ты смеёшься». — «Встречаемся через час у Рыбного рынка». — «Почему там? Сразу видно, что ты не венецианец».
II
Больше всего всё-таки его изумляла непроходящая вонь, которую распространяли пересохшие артерии города. Так, вероятно, воняла бы стухшая на берегу в большом количестве рыба. Город и был такой разлагающейся рыбой.
Вот не счищенные до конца чешуи парков, вот голова Сан-Марко, вот жабры Риальто, вот упирающийся в континент хвост моста через лагуну.
Они стояли у пустых рядов, где столетиями шла торговля, и вместе с сотней-другой зевак наблюдали, как над остатками обнажившегося до дна Большого канала кружили оравы чаек. Марина была тиха и странно ласкова. Но мысли его сейчас были заняты увиденным. Чайки словно выклёвывали ещё недавно живую плоть из глазниц и жабр выброшенного на мель города-рыбы.
«Чем ты занят завтра?» — «В полдесятого утра встречаю на станции американского коллегу, прибывающего скоростным поездом из Парижа». Молчание. «Ты понимаешь, это редкая возможность пообщаться вне конференции». — «У вас никогда ничего не отменяют?» — «А ты не являешься на концерты?» — «Послушай, я вчера скучала по тебе. Я этого не хотела. Не сердись. Пойми: ты скоро уедешь». — «Почему я должен уехать, да к тому же ещё скоро?!» — «Это произойдёт». — «Совсем так не думаю», — спокойно ответил он, глядя на предзакатный пир чаек. «Ну, пойдём тогда ко мне». — «А ключ от гостиницы мне выбросить?» — «Повремени: пригодится». — «Можно хотя бы взять там бритву и зубную щётку?» — «Пойдём». — Она потянула его за собой.
Близость в этот раз была высвобождающей какие-то другие уровни его существа, действовало теперь только тело. Это был основанный на жажде, с отключением всякой психики, поединок двух соревнующихся, не желающих уступать друг другу.
Было так жарко остаток ночи, что держали распахнутыми все окна, слушая ни на минуту не смолкавшие человеческие голоса, хлопки, громкие и неприятные крики чаек.
III
В девять утра он, весьма помятый и небритый, — в гостиницу зайти времени не оставалось, — встречал на железнодорожном вокзале Билла ван Бецелера с женой и великовозрастной дочерью. Сияющий и розовощёкий, с коротко подстриженной бородкой гигант (на самом деле барон по рождению, чей герб изображал двух держащих красно-жёлтый щит львов), Билл был увенчан гнутой соломенной шляпой с маленькой кокардой, изображавшей джентльмена в пробковом шлеме, при галстуке и с моноклем. В каждой руке его было по огромному чемодану. Такой вид подходил больше для приехавшего на Багамы американского профессора (каковым он и был), чем для голландского аристократа. Вслед за Биллом не менее крупно сложённая, но какая-то стушевавшаяся спускалась из вагона на перрон его светловолосая жена. Замыкала маленькую процессию загорелая и тоже высокая дочь в тёмной майке с перевязанными чем-то только ей одной ведомым запястьями. Её взгляд изображал растерянность и скуку.
— В прошлый раз, коллега, когда мы виделись, ураган ударил по Новому Орлеану. Интересно, что будет с Венецией, — громогласно и радостно произнёс ван Бецелер.
Ресторан располагался недалеко от гостиницы. Здесь подавали рыбу — фирменное блюдо, хотя едва ли рыба эта была выловлена в лагуне; доставляли её из чистой от городских сбросов части Адриатического моря. Тимофей осторожно поглядывал на дочь Билла: из-под майки на плечах и на груди выползали какие-то нелепые татуировки.
Сам Билл был увлечён рассказом о своём будущем сообщении про венецианские месяцы князя Вяземского, дополнявшем как известные дневники, так и стихи про «город чудный, чресполосный, — суша, море по клочкам, — безлошадный, бесколёсный, город — рознь всем городам». Ван Бецелеру удалось разыскать занимательные новые детали: в личных бумагах друзей и родственников. Оказывается, Вяземский, большой любитель дамского общества, подарил прабабке Билла тетрадку с венецианским циклом, к тому же переведённым им самим на французский; там были разные дополнения к неопубликованному. Так, в стихотворении 1853 года «К Венеции» перед последними двумя стояли прежде неведомые строки про жар венецианского дня:
Там небо звездное, здесь зе́ркальное море, достойные тебя подножие и кров, — златой царицей дня, царицей светлых снов и пламенем дневного мирозданья, преображающим и память, и сознанье ты всё волшебница, «всегда ты чудо света, и только ты одна прекрасней Каналета!»Т. е. Венеция, утверждал умница Вяземский, полнокровней любых живописующих её, жаркую и влекущую, картин.
Специальностью Вильяма считалась не русская литература — это было бы слишком просто, — а, как легко предположить, европейская и только потому русская аристократия. В иной день Тимофей и сам бы увлёкся разговором, ни с кем другим, кроме ван Бецелера, не возможным, но, увы, день сегодня выдался экстраординарный.
Тимофей даже внутренне пожалел Билла за его увлечённость. Стоило ли жалеть? На фоне декораций иссушенного города и лагуны ван Бецелер с семейством смотрелся воплощением возвращающейся жизни, странной и не вполне своей, но всё равно желанной.
Птицы продолжали низко кружить над полумёртвыми каналами, однако запах гниения потерял прежнюю остроту.
IV
«Жаль, что мы с тобой в первые дни не доехали до пляжа», — сказал Тимофей, когда вернулся на квартиру Марины после ресторана и гостиницы, где он всё-таки разжился бритвой и всем, минимально необходимым. «Я каждое лето абонирую кабинку на Лидо. Но теперь добираться туда не лучшее время. Хотя можно попробовать, но не на „пароходике“. Сегодня — ты слышал? — отменено любое движение по лагуне».
Солнце по-прежнему жгло запредельно.
«Вообще я в море как рыба, — продолжала Марина, не дождавшись ответа. — Если б не музыка, я бы стала профессиональной пловчихой. Сейчас же хочу, чтобы мы пошли на Славянскую набережную».
Вот высокая стена «набережной», а вот и пешеходная дорожка у стены, где они уселись, свесив ноги, и стали смотреть на марево тяжёлых испарений над лагуной.
Странно, он так хотел воды, того, чтобы стихия плескалась и обволакивала, но именно вода уходила из видимого пространства. Всё, чем ему оставалось довольствоваться, было солёное, копошащееся зеленоватое поле с торчащими тут и там шестами, ещё недавно обозначавшими фарватер, и усевшимися на эти шесты птицами. Кое-где в отдельных зеркальных заводях отражалось яркое небо. Толпы людей бродили в высоких сапогах по обмелелой лагуне: в поисках не успевшей уйти в море мелкой рыбы и всего, что море скрывало столетиями от глаз.
«Вероятно, — сказал себе Тимофей, — сейчас обнажится то, что было внутри: страстное и глубокое, охватывающее всю область видимого и понимаемого…»
«Знаешь, — произнесла вслух Марина, — я не понимаю, что со мной происходит и вообще, но мне хотелось бы, чтобы мы ещё долго, очень долго сидели вот так».
V
Утром следующего дня муниципалитет издал распоряжение об ограничении пользования водой из артезианских скважин под городом и о закрытии островной Венеции для въезда. Все въехавшие до запрещения могли оставаться под собственную ответственность. Было ясно, что симпозиум отменяется. Тимофей первым делом позвонил Биллу.
— Я же говорил вам, коллега, в прошлый раз случилось нечто не менее эпическое. Мы остаёмся: когда ещё такой случай представится! — с каким-то странным возбуждением произнёс ван Бецелер.
Ситуация действительно менялась с каждым часом. В новостях прошло сообщение, что во всей области Венето объявлено чрезвычайное положение.
Марина, сидевшая рядом во время телефонного разговора, была обеспокоена. «Так ты не уезжаешь?» — «Я же сказал: не затем я приехал». — «Хорошо, тогда я покажу тебе внутренний город».
VI
В Венеции уже сутки, и так совпавшие с выходными, никто не работал. Марина повела его по Кастелло. «Откуда такое название?» — «Здесь, говорят, была римская крепость».
Народ, одетый очень просто, сидел на ступенях возле открытых нараспашку, по случаю уже совершенно сверхъестественной жары, дверей. Была видна вся внутренность их жилищ — с деревянными шкафами, с огромными глиняными мисками, с яркой раскраской стен. Всё это архаическое, полукрестьянское (настоящие крестьяне жили на окраинных островах, где выпасали коров по густым лугам, звеневшим сейчас мёртвым сухостоем) перемежались с современным комфортом: с ослепительно-белыми раковинами, колонками, кухонными механизмами. Мужчины были молодыми и средних лет: кое у кого — по американской моде, дошедшей, наконец, и до Италии, моде, которая всегда напоминала Тимофею об уголовном шике пляжей его детства, — плечи украшали наколки; женщины, почти все хорошо сложённые и разбитные, смотрели на Марину свысока (и чего ей здесь нужно?), а на Тимофея с нескрываемым неодобрением (ишь, кого привела). Повсюду на верёвках было развешано стремительно сохнущее бельё: по случаю введения ограничений на воду венецианцы выстирали всё, что ещё можно было выстирать.
«Мне кажется, нам здесь не рады». — «Они так смотрят на всех». — «Куда ты меня ведёшь? Здесь одни сплошные стены и никаких указателей». — «Не волнуйся, со мной не потеряешься». — «Ну, хотя бы мы ехали на велосипедах». — «У нас даже лошади запрещены: уже не одно столетие».
VII
Был полдень, солнце вошло в зенит. Наступила единственная минута, когда люди и предметы не отбрасывают теней. Марина, покружив с ним по Кастелло, вышла на абсолютно безлюдную площадь и задержалась у обшитой светло-коричневыми плитами стены. Медальоны с изображениями евангелистов были окружены горельефами из цветочных гирлянд, рогов изобилия и держащих их, совершенно не шедших к внешнему убранству христианского храма нагих младенцев («Неужели Эротов?» — подумал Тимофей). Но ни Маринино тело, облачённое, как и прежде, в короткое, значительно выше колен светлое платье, ни условная обувь — как бы сандалии, состоявшие каждая из тонкой подошвы и почти нитяной тонкости кожаных перемычек — не отбрасывали никакой тени на стены строения и на плиты площади. Волосы, прежде тёмные, а в сумерки почти смоляные, внезапно посветлели. На мгновение ему показалось, что это уже не Марина, что его водит по городу другая, совсем незнакомая спутница. Оливковый загар — без видимого следа от надеваемой в общественных местах из приличий одежды — покрывал всё тело под платьем; она, видимо, загорала нагишом. Но даже загар показался теперь не таким интенсивным.
«Почему ты меня так пристально разглядываешь?» — «Возможно, я останусь с тобой навсегда». Марина смолчала и посмотрела ему в глаза немигающим взглядом. Тимофей обнял её затылок обеими ладонями и стал целовать; она в ответ дёрнула головой и, широко расставив обе руки и при этом совершив вращательный жест, словно желая стряхнуть с себя его пыл: «Погоди! Я ещё не всё тебе показала…»
Он провёл тыльной стороной своей ладони по её подбородку: «Просто пытаюсь удостовериться в твоей реальности». — «Ну, ты тоже какой-то ненормальный случай, не обольщайся».
VIII
Солнце чуть сместилось на закат. Короткие тени затрепетали между ногами идущих. Строения тоже оплотнели и стали отбрасывать минимальную прохладу, в которой легко было передохнуть от изнурявшего жара. Для этого нужно было почти вжиматься в стены улочек, похожих на коридоры Кносского дворца. Марина вела его обратно, в самое сердце сворачивавшегося улиткой Кастелло. «Наши блуждания не имеют никакого смысла». — «Ты ведь хотел увидеть другую Венецию? Погоди немного».
Они прошли через маленькую площадь Двух Колодцев, миновали Большой дворец, пересекли мост и, ещё поплутав по переулкам и улочкам, вышли к дому на краю пересохшего канала Рио делла Челестиа. Там, на отполированной временем и прикосновением миллионов рук стене висела медная табличка: «Timoteo Caldi». Марина вынула из кармана ключ — он только изумился, что у такого короткого, совсем невесомого платья могут быть карманы, — и вставила его в щёлкнувший замок.
Помещение было просторным, и вдоль стен размещались аккуратно расставленные деревянные детали лёгких лодок, тщательно выпиленные и согнутые, словно детали гигантского конструктора. По стенам была протянута проводка, в глубине виден станок, за станком темнело что-то узкое на подпорках. На противоположном конце рассекала воздух квадратами чугунная решётка: это был выход из дома прямо к высохшему каналу, в обычное время оживлённому, но теперь по нему никто не плавал, и ставни окон противоположного дома были закрыты наглухо. Яркий свет со стороны канала не давал разглядеть, что же ещё было расставлено вдоль стен. Марина щёлкнула выключателем: тёмная узкая лодка на подпорках в глубине покрылась, словно лаком, электрическим блеском.
«Вот мастерская человека, который ремонтирует гондолы. Заходи, не стесняйся». — «Кто он тебе?» — «Ты же сам говорил, что к прошлому ревновать невозможно». — «Специально выбираешь — по именам?» — «А ты думал, у тебя одного это имя? Проходи-проходи, его сейчас нет в городе». — «Ты же сказала, что это — прошлое». — «Всё зависит от тебя: да проходи же!» Тимофей подошёл к гондоле и провёл обеими ладонями по её крашеной поверхности. Она была гладкой и упругой, союз ускользающей лёгкости и силы.
IX
«А сейчас мы поднимемся на чердак. Условный подвал я тебе показала. Впрочем, настоящих подвалов у нас не бывает: вся наша земля под водой, это смесь земного состава, древесины и солёной лагунной влаги. Греческое ὕλη, ты ведь любишь такие слова. Пойдём же!» Она решительно взяла его руку, ладонь в ладонь, с переплетением пальцев. Лестница оказалась с винтовым кручением, выбивающим из-под ног основание: так быстрее добраться до самого верха, где прямо под черепичной крышей располагалось нехарактерное для Венеции круглое слуховое окно. «Вот смотри!» В окне — поверх ближайших к лагуне крыш — неисчислимые полчища чаек всё ещё кружили над умирающей лагуной. «Это ты мне хотела показать?» — «Не только». — «Знаешь, я ценю твоё желание быть психопомпшей». — «Кем?» — «Психопомпшей, вожатой души по этому пространству». — «Я неплохо понимаю русский и английский, гораздо лучше, чем твой любимый древнегреческий, которого ты ведь толком и не знаешь. Так вот: слово это представляется мне ужасным. Оно звучит, как если бы я вытягивала из тебя страхи… И вообще: ещё неизвестно, кто кого тут водит. Ну же, смотри в окно». — «Почему там одни только чайки? Где голуби?» — «Муниципалитет запретил их кормить на Сан-Марко: и голуби ушли». — «Я много времени провёл в Новом Свете. Я расскажу тебе историю про странствующего голубя». — «Разве не все голуби странствуют?» — «Эти перелетали мириадами, поедая жёлуди в дубовых и буковых рощах вокруг Великих Озёр. Их лёт затмевал небо. Человеку казалось, что они неистребимы, что это такое бедствие наподобие саранчи, а заодно даровая мишень для стрельбы и ещё — прекрасная пища. В Африке саранчу едят. Слушай дальше. Сто тридцать пять лет назад огромная стая — а они, как и люди, жили гигантскими скоплениями — расположилась на гнездование в буковых рощах на севере штата Мичигана возле Петоски. Я там бывал: чудесный ландшафт: пруды и озёра, леса, даже летом — прохлада и близость огромного пресного моря. В мелких озёрах и в бурных речушках — форель. В небе — орлы. Такой, вероятно, была наша Европа при немецких романтиках. Так вот охотники и прочая шелупонь собрались, оповещённые по телеграфу, чтобы посоревноваться в меткости изничтоженья, и день за днём отстреливали голубей десятками тысяч. Никто не остановил истребления; это был чистый спорт. Съесть такую добычу всё равно невозможно. Те из голубей, кто упорхнул, странствовали ещё несколько десятков лет по рощам Мичигана, Висконсина, Миннесоты, пока все не вымерли. Голубь этой породы, если его не стрелять, жил четверть века. А мог размножаться только в гигантской стае: одному ему не хватало возбуждения, вот как. Последнего прихлопнул из озорства мальчишка возле Собачьей Прерии. Там бук не растёт, зато сплошные дубовые леса в пойме Миссисипи. Величественная река! Тоже полная вольной природной жизни. Теперь в этом месте памятный знак — в честь того самого выстрела. Сложенная из камней стена, а в ней — металлический барельеф с голубем на дубовой ветке. Я видел его и сидел два часа возле: под дубом, слушая пенье цикад. Птица была красивая, нечто вроде плачущей горлицы — когда-нибудь видела? — только с длинным хвостом, сизыми крыльями и с розовой грудкой. Волшебная птица!» — «И почему я должна была это услышать?» — «Мне кажется, что то, что в окне, — это уже Новый Свет, Дикий Запад, зона отстрела».
X
«Хватит речей, я хочу тебя». — «Не сейчас». Марина задрала его короткую рубашку и стала расстёгивать брюки. — «Нет, не сейчас». — «Тебе мало моего желания? То, чего хочет женщина, — закон. Так?» — «Но я не хочу сейчас, не хочу здесь». — «Тебя пугает близость разобранной гондолы? Милее открытый рояль?» — «Марина, — он почти никогда не называл её по имени, — зачем ты хочешь меня разозлить? Чтобы я оттолкнул тебя?» Марина провела тёплой рукой, проникшей в расстёгнутые брюки: «Не лги ни мне, ни себе». — «Марина! Я только что рассказал тебе что-то предельно важное…» — «Неужели ты думаешь, что я не могу возбуждаться от такого рассказа? Плохо ты меня понимаешь». Говоря это, она опустилась на колени: так становятся, словно играя в вассала и сюзерена, в позу подчинения, и продолжила, стянув ненужное вниз, освобождать его от одежды. Он решительно отвёл её руки, а потом заправился и застегнулся. «Я возвращаюсь в гостиницу». — «Ты просто дурак, гад, козёл вонючий…» — сказала Марина, явно исчерпав первый запас известных русских ругательств и желая присовокупить к этому что-нибудь покрепче, но не уверенная, правильно ли это будет в столь деликатной ситуации. Тимофей улыбнулся.
Часть третья. Вода
I
С утра небо заволокло дымкой. Горела, как Тимофей узнал из новостей, нижняя часть букового леса Кансильо, и дым нагнало с приальпийского склона северным ветром. Лес, из которого венецианцы с незапамятного времени делали галеры и лодки, стоял высоко над морем, и поэтому дымка плыла на значительной высоте, прерывая пылание солнца, палившего теперь словно сквозь фильтр.
В воздухе над лагуной появились вертолёты, и на северо-запад, в сторону леса один за другим пролетали огромные транспортные самолёты с подвешенными снизу цистернами воды. Было также объявлено об эвакуации населения из зоны бедствия, ибо армия и специально экипированные пожарные не справлялись с пламенем. Было нетрудно представить себе, что трещит и лопается не листва и стволы деревьев, а вековая письменность, всё иссохшее до моментального воспламенения множество букв, тьмы и тьмы которых складываются в books, Bücher и Buchen (в книги и буки одновременно). Тимофей зачем-то пошёл к железнодорожной станции, чтобы посмотреть, как он объяснял себе сам, через лагуну на происходящее на континенте.
Карабиньеры охраняли проход через Мост Свободы, допуская лишь фуры с продовольствием — Венеция вот уже несколько дней считалась закрытым городом, — но зеваки с обеих сторон изучали друг друга через бинокли и трубы и с фотоаппаратами в руках. Тимофей заметил с той, континентальной стороны стаи ветвисторогих животных, шедших десятками, не обращая внимания на людей, к солёной воде. Они наклонялись, но не пили её и, войдя в самую кромку лагуны, задирали на дымное солнце головы и гортанно трубили.
Загудел в кармане мобильный телефон. «Ты не звонил больше суток. Нельзя быть таким. Где ты сейчас?» — «У Моста Свободы». — «Всё-таки собрал вещи, чтобы покинуть нашу ужасную Венецию?» — «Я же сказал: я никуда не уеду». — «Встречаемся через час. За мной заходить не надо, я приду в твою гостиницу сама».
II
Персонал был не на шутку встревожен; кажется, они понимали что-то, недоступное иностранцу. «Конечно, если вы пожелаете остаться и дальше, вам никто не сможет воспрепятствовать, но учтите, что сегодня отпустили половину сотрудников по домам», — сказал портье. «Что-то серьёзное?» — «Нет-нет. Пока нет».
В новостях обсуждали последствия необычайно жаркого лета; какой-то профессор гляциологии просил обратить внимание на то, что подтаяло и пришло в движение 97 % покрова ледников Гренландии, и ему вторил второй гляциолог, говоря о катастрофическом таянье снега и льда в Альпах.
На фоне высохших каналов и полумёртвой лагуны, жёстко нормированного потребления артезианской воды, заволокшего небо дыма и вышедших из горящих горных лесов оленей это звучало странно. Уровень адриатических вод только падал. Не было и живительного дождя.
III
Первым делом Марина открыла кран в ванной: вода текла тоненькой струйкой. «Ты был вчера очень не прав». — «Может быть. Честно: не знаю». — «Будем вздорить? Я пришла к тебе — разве этого мало?» Тимофей крепко взял её за плечи и решительно посмотрел в глаза. «Отпусти, дурак». Оба они отражались в зеркале ванной на фоне кафеля стен и белых махровых банных халатов и полотенец. Тимофей увидел впервые, насколько они похожи. Тёмные волосы, тот же разрез глаз, похожие нос и очерк лица. «Может быть, я схожу с ума». — «Может быть. Я ведь пришла, чтобы напомнить тебе, что сегодня ночью — новолуние». — «И великий кельтский поэт сравнил бы это с надиром эпохи. Где полная тьма — там человеку нет места. Вы же, венецианки, не любите мистики». — «Опять эти речи! В новолунье приходит прилив. Высокая вода. Боюсь, что в этот раз очень высокая. Хорошо, что у тебя третий этаж. Надо запастись питьём». — «Ты думаешь, город затопит?» — «У тебя есть пустые бутылки? Любые продукты, какие не портятся, тоже не помешают». — «А водка — питьё?» — «Ну, как русский ты можешь приобрести себе граппы, а мне, дорогой, хватит и вина».
В магазине выбор был невелик: купили питьевой воды, бутылку граппы, ещё бутылку сухого вина, галет, консервов, яблок и фиников. — «У тебя ведь нет сапог. В мастерской стоит пара. Это твой размер». — «Откуда ты знаешь, что мой?» — «Пойдём: тогда успеем до сумерек. Не думай, я не хотела тебя задеть».
Небо над городом было всё в рваных коричневато-багровых облаках гари.
Открыв всё тем же ключом дверь, Марина показала ему на стоявшую в дальнем углу мастерской резиновую пару. Размер действительно приходился ему впору. «Теперь мы расстанемся. Не надо меня провожать. Я ещё должна успеть позвонить брату и матери». — «Ты мне никогда не говорила о них». — «Это не значит, что у меня их нет и я им не звоню. Повторяю: не провожай меня. Телефон и адрес тебе известны. Свёрток с едой и вином я донесу сама». Марина дружески поцеловала его в щёку. Он развернул её лицом прямо к себе: «Не так». — «Так не так — до свидания». — «Ладно, увидимся».
IV
«Я действительно дурак: оттолкнул от себя женщину, о которой столько думал, без которой мне сейчас трудно — всё это я должен был сказать ей давно. Прошлое ничему не учит, кроме того, что думать о нём — это как прыгать в бурный поток с камнем на шее. В один Гераклитов поток нельзя войти дважды ещё и потому, что, пока ты раздумывал, весь состав его изменился. Солнце, сказал Гераклит, не только новое каждый день, но всегда и вечно новое; оно день — да что там, минуту назад! — уже не равно самому себе: мы и солнце, я и ты относятся друг к другу как голоса в контрапункте…»
Этот вдохновенный внутренний монолог был прерван звонком:
— Привет, Тим, это Билл. Значит, вы в своём номере? Прекрасно. Приходите ко мне — выпьем виски, поглядим с балкона на театр вечерней природы.
Номер ван Бецелеров состоял из нескольких комнат. Фрукты, лёгкие закуски и открытая бутылка стояли на столе у балконной двери. Билл плеснул терпкой жидкости на кубики льда и протянул Тимофею его стакан, а потом указал жестом на балкон.
Они сидели теперь на балконе с видом на непривычно сумрачный канал Св. Марка. За истекшие часы направление ветра резко переменилось на противоположное. Теперь он дул с моря, сгоняя весь день висевший над городом дым обратно к континенту. Канал был странным образом почти не освещён. Но самое удивительное, что вода значительно прибыла, и мелей больше было не видно. Редкие огни со стороны острова Джудекка и странно потемневшего храма на Сан-Джорджо Маджоре свидетельствовали о том, что людей там почти не осталось или они затаились в ожидании чего-то величественного. С каждым новым глотком Тимофей всё больше располагался сердцем к Вильяму, к его странноватой семье, к обстоятельствам этого фантастического дня, начавшегося с предальпийских пожаров, а завершавшегося, как если бы ничего особенного не произошло, милой беседой на балконе гостиницы.
— Мне кажется, что сегодня, любезный коллега, мы увидим настоящее представление. Наслаждайтесь.
Ван Бецелер говорил так, как будто он был богом воды, охватывающей Океаном всю землю и намеревавшейся вернуть себе власть над лагуной; да он и внешне был похож на него.
— Отчего вы грустите? В дело вмешалась женщина? Я могу узнать её имя?
— Марина.
— А фамилия не Делль’Аква ли?
— Почему именно она?
— Слышал о такой пианистке из местных. Театр, истинный театр! Подобное имя и фамилия не могут быть настоящими. Но, Тим, если всё так серьёзно, — они уже много выпили, — идите ищите свой дивный берег, пока его не затопило водами моря. О стихия, заклинаю тебя — повремени! — И ван Бецелер по-актёрски выкинул руки в сторону лагуны. Жена Билла, входя на балкон, повторила этот жест. Как его — без тени насмешки — повторила и дочь ван Бецелера, глядя на лагуну из комнаты.
Тимофею оставалось только откланяться.
Дочь Билла, странно закусив губу, окинула гостя всего с макушки до ног внимательно-испытующим взглядом, потом довела до двери и, улыбаясь, притворила её. В памяти стоп-кадром замерли: тёмное небо с рассеянными дымными облаками, ван Бецелер со стаканом, полным виски и льда, в компании супруги на балконе и блуждающая улыбка их дочери.
V
Надев на всякий случай полученные от заботливой Марины сапоги, Тимофей отправился на Calle della Pietà, где она жила. Что за имя для улицы!
Вода вернулась в каналы, большие и маленькие. Улицы были пусты, и редкий свет в окнах домов вызывал чувство, что город этот покинут.
Тимофей вошёл в незапертую дверь дома и поднялся по лестнице на второй этаж. Дверь Марининой квартиры тоже оказалась незапертой. В гостиной, по левую руку от зиявшего струнной пастью рояля, лицом к занавешенному алой шторой окну стояло покрытое сшитым из разноцветных кусков «американским» одеялом кресло-качалка (Тимофей его прежде не видел), а возле него круглый стеклянный чайный столик. На столике — откупоренная и пустая на три четверти бутылка красного сухого вина.
Женщина, сидевшая в кресле лицом к занавешенному окну — тому самому, распахивавшемуся на площадь, — гладила большим, указательным и средним пальцами стеклянную ножку яйцевидного бокала (со срезанным верхом). В бокале ещё оставалось немного вина. Стоявший рядом другой такой же бокал гордо поблёскивал в приглушённом электрическом свете: было видно, что из него не пили. Тимофей подошёл к креслу и положил руки на плечи сидевшей, которая даже не обернулась, не вздрогнула, а продолжила пальцами обнажённой по самое плечо руки гладить ножку бокала.
«Марина, я пришёл сказать, что люблю тебя: давно, наверное, с того дня, как разговаривал с тобой после того концерта в Москве. Я даже уже не помню, с кем я пришёл на тот концерт». — «Какая разница, с кем. Не останавливайся». — «Жизнь моя без тебя невозможна. Чтобы я был уверен, что она продлится, я должен твёрдо знать вечером, что увижу тебя наутро». — «Прекрасно сказано, хотя и цитата». — «Ты сама, здесь и сейчас, моя к тебе обращённость — всё, что я вижу и знаю, наполняют меня счастьем». Обе ладони Тимофея опустились на её ключицы. «Извини, я напилась, мне надо в туалет», — сказала Марина и мягко отвела его ладони. Когда она вставала и, покачиваясь, выходила из комнаты, а через два шага расстегнула платье на спине и выскользнула из него, а потом скатала с бедёр узкую полоску материи, то он подумал: «Всё-таки фигура пловчихи: крепкие икры и бёдра, мускулы на спине», — и ещё то, что она действительно пьяна.
На рояле лежали раскрытые ноты «Concerto veneziano». Это была последняя часть: «К водной стихии». Тимофей, чтобы отогнать тяжёлый хмель, углубился в чтение музыки. Волнообразное, нарастающее движение струнных прорезали то басовые, то высокие выклики медных духовых, на фоне которых вело свою решительную и неуступчивую партию фортепиано. Шум ветра за окнами нарастал. Он отодвинул штору, усиленное течение воздуха нещадно трепало рекламные полотнища, которые так любили вывешивать на этой площади. Дерево на другой её стороне клонилось треща, словно юный нестойкий куст. Что-то блестело внизу, на плитах площади. Вода? Марина долго не возвращалась. Её не было ни в ванной, ни в одной другой из комнат. Наружную дверь он сам позабыл прикрыть. Улизнула из дома в шквальный ветер абсолютно голая? Не прыгнула же она в лагуну?
Тимофей налил полный бокал красного. Но виски мешать с вином всё-таки не стоило. Пространство поплыло.
VI
В конце концов он обнаружил себя стоящим на «Улице Сострадания» с пустой бутылкой в руке среди кромешной тьмы. Похоже, затопило электростанцию. Вокруг плескалась вода. Только ветер продолжал терзать невидимые сквозь мрак растения (их Тимофей узнавал по напряжённому шелесту), и тут и там хлопал отвязавшимися ставнями. Тимофей выронил бутылку: её понесло потоком. В голове всплыла только что перечитанная музыка заключительной части концерта. Будто струнно-клавишный лебедь — рояль или гондола — рвался взлететь над потоком.
Вязко двигаясь, перешёл ушедшую под воду вместе с нижней частью обстоявших её домов «Реку Сострадания» — на самом деле ещё один рукотворный канал — по возвышавшемуся выгнутой спиной не то кита, не то гигантского тюленя мосту и двинулся в сторону гостиницы.
В этот момент запоздало завыли сирены, оповещая о катастрофическом подъёме воды в лагуне. Ветер был очень сильным, и Тимофей всё никак не мог понять, воздушные ли это потоки нещадно хлопают ставнями или оставшиеся в городе люди реагировали задраиванием не спасающих от стихии иллюминаторов — на последнее предупреждение о начавшемся бедствии.
Двери гостиницы, распахнутые настежь, на треть ушли под воду. На лестнице горел зеленоватый и красный аварийный свет. Портье за столом не было да и быть уже не могло. Приёмная стойка, стулья, вся территория фойе были частично затоплены, и вода всё прибывала.
Тимофей поднялся к себе на третий этаж. Всюду аварийные огоньки: так, вероятно, выглядит коридор получившего пробоину океанского лайнера. Все двери номеров были заперты, но из-за некоторых доносились сдавленные возгласы и возня. Палуба лайнера раскачивалась под ногами. Он отпер ключом собственный номер — внутри всё оставалось в том же порядке, что и несколько часов назад, только отсутствовал свет. Тимофей упал, как был, ничком — мокрый и грязный, в резиновых сапогах — на белоснежную постель.
VII
Когда над лагуной взошло солнце, стало ясно, что за истекшие часы подъём воды остановился. Бо́льшая часть пространства вокруг гостиницы оставалась затопленной. Всюду плавали перевёрнутые чёрные гондолы и просто лёгкие лодки, раскрашенные в синий и в красный, сломанные шквальным ветром ветви с яркой намокшей листвой, вспухшие от влаги книги и доски, на которых когда-то стояли книги, полупустые бутылки с алкоголем и бутылочки — с парфюмерией, обувь из магазинов, даже какие-то картины и гравюры, и во множестве дохлая рыба кверху пузом. Тимофей и не думал, что её столько водится в мелкой и грязноватой лагуне. Иногда пространство рассекал полицейский катер с мигалкой. Их кружило в пределах видимости пять или шесть. Было странно безветренно. В небе висели коричневатые клоки так и не прогнанного до конца вчерашним шквалом дыма.
Может быть, от этого, а может, и по какой иной причине в небе стояли не только ослепительное солнце, но и заметно более тусклые, однако ясно различимые созвездия: извивающийся под Полярной звездой Дракон, замахнувшийся разящей дубиной Геркулес (где-то он видел его несколько дней назад), накренившийся Змееносец — тринадцатый знак зодиака, не ведомый астрономам древности, и почти над самым горизонтом зависший Скорпион с жемчужиной Антареса — на изломе к разящему жалу небесного насекомого. «Остаётся только услышать музыку сфер», — сказал сам себе Тимофей. Он затворил окно и повернулся лицом к полусумрачной комнате.
На когда-то белоснежной, а теперь в разводах постели, поблескивая голубыми зрачками из-под прядок коротко остриженных рыжих волос, которые постоянно приходилось сдувать с губ, лежала Марина. Она была голой. Высохшие водоросли налипли на икры. «Ты добралась сюда вплавь?» — «Ieri hai bevuto molto. Con la luna piena non è opportuno bere molto, specialmente quando c’è la l’acqua alta (Вчера ты много выпил. В новолуние не рекомендуется много пить, особенно когда высокая вода)». Тимофей не мог поверить, что действительно это слышит, и закрыл левой ладонью оба глаза. Когда он убрал ладонь, постель была пуста, но вмятина от только что лежавшего здесь тела сохранялась. Знакомый подбородок и мягкая щека легли ему на правое плечо, волосы защекотали ухо, две руки обвили сзади. «Душ, разумеется, не работает, кофе мне никто не обещал. Будем мечтать?» Тимофей освободился от обвивающих рук, обернулся к Марине лицом. Начал сдирать с себя рубашку и прочие бессмысленные части присохшей к телу за ночь одежды. Светловолосая, покрытая ровным загаром женщина внимательно смотрела ему в глаза: «Думала, что избавлюсь от тебя. Ты тоже на это надеялся. Ничего, дорогой мой, не вышло».
Внезапно раздался стук — будто клювом о стекло. На подоконнике сидела довольно большая птица, нечто среднее между вороной-альбиносом и чайкой, и внимательно смотрела на них. «А это?» — спросил он, снова глядя в глаза своей второй половине.
Волосы её были распущены прядями на посветлевшие от солнечных бликов плечи; губы, по которым она проводила кончиком языка, приоткрыты.
«С этим мы разберёмся после».
Он крепко сжал сомкнутые веки, потом снова открыл глаза. Шторы теперь были отдёрнуты. Солнце заливало светом страшный беспорядок внутри комнаты старой венецианской гостиницы, посреди которой — абсолютно нагой, как первочеловек, да притом совершенно один — стоял он, с которым всё этой сейчас приключилось. Никакой Марины здесь не было.
Лето 2012, МилуокиIII. Ленинград (Повесть)
Светлой памяти отца моего
Необходимое предуведомление
«Ленинград» переполнен цитатами — прямыми и видоизменёнными, — повествующими о реально или в воображении произошедших событиях. Я лишь расположил их в определённом порядке.
Игорь Вишневецкий Осень 2009 г.Часть первая. Осень
Глава первая. Дифирамб
I
Дневник Глеба Альфы:
Ходил смотреть на обложенного мешками с песком и зашитого в доски истукана. Теперь он, охранитель и преобразователь наших злосчастных болот, увенчанный триумфаторским лавром, выкативший глаза на тяжёлый поток, на мост и на зданье коллегий — да-да, его имени! — на ночные сияния скандинавского заполярья, на чуть подсвеченные, поздним негаснущим вечером, а сейчас ярко вычерченные облака, напоминает сфинкса, всё более увязающего в материальном времени. Змея не видно: тот, наверное, шипит, придавлен копытом, внутри. Тело коня под мешками, скреплёнными досками. И даже уже головы лавроносного всадника не разглядеть. Наверху этой высящейся на валуне афро-азиатской конструкции — полагаю, Никандр улыбнулся бы — копошатся несколько, в чёрных тужурках, рабочих и виден подъёмник — рычаг со скрипучим тросом. Говорят, что теперь незаметнее с воздуха, что отбрасывает не резкую, конскую с долгим хвостом и со всадником, тень, а нечто совсем неясное. Можно сказать, без тени. Словом, покровитель нашего города, давший ему имя, перемещается вслед за именем в область фантомов, в которой скоро окажемся все мы, подымаясь в разреженный, золотой, военный воздух. Оттуда всё незаметнее тени того, что внизу. Мне кажется, во мне погибает слагатель каких-нибудь новых — уже «Ленинградских» — песен.9 сентября 1941.
Второй день смерть летит с того самого золотого и чистого воздуха. Вчера подожгли товарную станцию и склады им. А. Е. Бадаева (это точно предательство: били с ясным прицелом, по наводке пускавших в воздух сигналами у самых складо́в ракетчиков). Когда солнце зашло, стали сбрасывать зажигалки. Леденящая красота: огнецветное зарево, сахар, плывущий по улицам, запах сгоревшей муки. Говорят ещё: в Зоосаду укокошило разом слона и мартышек. Слон, если верить рассказам, столетний (что сомнительно): значит, видел и Пушкина. Если так — вот последняя связь с тем блистательным миром, тень которого нынче таится под маскировкой. Ибо ярости Индры «уступают две половины вселенной, и сама земля сотрясается от буйства твоего, о хозяин давильных камней».15 сентября.
Духота эти дни вперемежку с налётами. Невозможность уснуть — хоть ложись себе в парке. Мало проку от бомбо- и газоубежищ: неглубоко их рыли. А по паркам покуда не бьют — у немцев хороший наводчик. Нынче облачно. В небе на западе — пересверки огня (это наши зенитки в Кронштадте). Там решительный бой и страшнейший налёт. Отдаётся зарницами в окнах домов и трамваев и экранным мерцанием воздуха. В голове — наслоенья звучаний. Странно, столько молчало и на́ тебе — прорывается в контрапункте беды прежде изумленья и ужаса.* * *
Вера звонила. Это безумие: она ещё в городе. Говорит, что Георгия, хоть и не подлежит призыву, по его же желанью обрядили в балтфлотскую форму (слава Богу, не ополченскую — там-то верная смерть в мясорубке), что уже не сегодня-завтра на казарменном положении как переводчик по радиоперехвату. Ну, а я-то тоже хорош: стыдно, если причиной всему.19 сентября.
Вспоротыми кишками всплыли аэростаты. Иногда кажется, что город, в конвульсиях от ранений, защищается, говоря врагу: «Ну, приди же и сам захлебнись тем, что ты создал, — кровавым месивом». Холод, ветрено, пробегают серые облака. Сколько раз нас бомбили — сосчитать невозможно. Точно каждые два часа: в восемь, в десять, в двенадцать. Самый страшный налёт был в четыре. Прекратилось лишь за полночь. Вдоль по Двадцать пятого октября в лужах трупы и сверху — давящее серое небо. Марк, вернувшийся с передовой, рассказывал, что когда перед ними жахнуло по полуторке (в ней ехала киногруппа), и увидел разломанные тела с белой костью рёбер и ног, торчащей из мяса, то испытал возбуждение. — Смерть, жратва, вожделение слиты в нас, я сказал бы, в оргийный восторг, для которого прежние, стройные, милые звуки, что связались в мозгу с многолетней работой в милом Зубовском институте искусств, ни к чему. Вот теперь наступает Искусство! Шёл, глядя на трупы в лужах, и, как Марк, уже не стыдясь, испытал огромное возбуждение. Звуки шли двумя мощными линиями, прерываясь на выклики-утверждения. Певца и хора? Может быть, что певца и хора. Посадил на трамвай Веру — перед самым вечерним налётом. Она добралась, всё в порядке. Вера! Что же случится с Верой!II
Из дневника Веры Беклемишевой (урождённой Орлик):
«Решение бесповоротное: оставаться.
И дело не в том, что Глеб признался, что будет здесь до последнего, не бросит бумаг и библиотеки — всё это поводы. Кому они будут нужны, эти бумаги через месяц-другой, разве что на растопку. Если ужас не кончится раньше зимы. Пусть там и автографы Кавоса с Верстовским и ещё Савроматова (ого!) — несколько пачек писем последнего к Глебу, он мне их показывал: заносчивых, восхищённых, дерзких. И уж точно дело не в том, что Глеб признался, что, будучи не подлежащим (покуда) призыву, хочет увидеть „вблизи сцепку с псевдоарийским волком, с мороком, легшим на сердце Европы, которой“ — тут ты несколько раз повторил — „всё равно конец“, и ещё что-то там из Риг-Вед в переводе какого-то Мюллера (не читала, Бог миловал). Красиво, конечно. Говорил, что в нём пробуждается музыка, что как никогда остро, почти по-животному хочется сочинять, спишь — и слышишь созвучья. Шли по Невскому — трупы, выбоины от бомб, испуганные милиционеры, один совсем растерянный на углу Лиговки и смотрит по-детски в сторону — а в голове, говорит мне Глеб, контрапункт вариаций. Я остаюсь здесь не из-за каких-то твоих вариаций.
У Толстого Пьер тоже хотел в брошенной Наполеону под ноги Москве (неужели сдадут Петербург?) прекратить несчастие всей Европы. В конце концов, это личное дело профессора Г. В. Альфы — что за претенциозная бурсацкая фамилия; а ещё говорил: мол, от Альфани! — сотрудника какого-то там института. Что хотите, Глеб Владимирович, то и прекращайте силой вашего понимания. Или звучащей вам музыки, которую вы стеснялись писать всю жизнь. Что ж, теперь война, теперь стыдно стесняться.
Глеб, знай, я остаюсь совсем не потому, что хочется разделить твоё и всеобщее безумье — да, война, радостная и твоему мужскому сердцу, для меня только ужас, — не потому даже, что мне бесконечно тяжело перед Георгием, плакавшим, когда он увидал на моей спине содранный треугольник, шрам от нашей неловкой любви на полу твоей старой и драной квартиры, между роялем и шкафом, а я-то ему лепетала про прожжённую блузку — мол, свечой у подруги (какие тут свечи при всеобщем давно электричестве!) — и даже специально к приходу домой блузку свечой выжигала. Сзади, ближе к os sacrum. Помнишь эту прожжённую мною любимую чёрную блузку? Глеб, милый, я остаюсь не от стыда, не от любви, а вот почему.
Ещё до того, как всё рухнуло, и мы в начале лета целовались в светлейшую ночь на засаженном бессонными липами Конногвардейском, под фейерверки поздних троллейбусов, а ты сказал, что впервые с такой рослой девушкой — Глеб, в нашем хохляцком роду все широкие, рослые, громкие, только я вот ещё и худая, — и попросил меня снять выходные туфли на высоких каблуках, чтобы быть вровень (ещё не привык, да и не привыкнешь, ибо я — почти что с тебя), а потом положил на плечо мне голову — всё помню, как будто сегодня, — и спокойно сказал: „А ещё ты родишь мне ребёнка“. — „Лучше двух“. — „Хорошо: мальчика и девочку“, — это было до нашей близости. Ну, так вот: теперь я беременна. Ты имеешь право думать всё, что захочешь, но я знаю — ребёнок твой. Или двойня. Если со мной что случится и всё то, что пишу, прочитает Георгий, он выдержит. Да, звучит жестоко, но выдержит — знаю. Если ты — никому не покажешь и виду. Похоронишь в себе. Лучше бы взвыл.
Глеб, я остаюсь, потому, что если ты сгинешь, мне ребёнка не выносить. Да и для чего? А так — есть надежда.
Я не буду пока тебе говорить ничего».
III
Оккупационная газета «Правда» от сентября 1941 г. (адрес редакции: г. Рига, проспект Свободы, д. 9):
ГЕРМАНСКАЯ АРМИЯ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ
…Город переполнен беженцами из различных областей России, оказавшихся в районе военных действий…
Петербург перегружен до такой степени, что масса приезжего народа ночует под открытым небом — в парках, садах и скверах.
Продовольственное положение города очень тяжёлое… Петербург имеет вид вооружённого лагеря. Мобилизованы даже женщины и дети. Оружие роздано людям, даже никогда его в жизни не носившим. Город находится под обстрелом дальнобойных орудий тяжёлой германской артиллерии, подвезённых на платформах по железной дороге Ревель — Петербург. Единственная железная дорога, связывавшая ещё до недавнего времени Петербург с остальной Россией — Вологодская, разбита германской авиацией и загромождена разрушенными составами. Гул артиллерийских выстрелов, германских орудий, направленных исключительно на военные объекты, отчётливо слышен в городе. Многие жители стараются выбраться из Петербурга, но безуспешно. В окрестностях города к германским войскам попала группа детей и взрослых, пробивавшихся из Петербурга. Германцы, накормив беженцев, отпустили и детей и взрослых, и они, вернувшись в Петербург, рассказали о том тёплом и сердечном приёме, какой оказали им немцы, и своими рассказами содействовали укреплению в населении Петербурга антисоветских настроений… Скованный серо-стальным кольцом германских войск, советский Ленинград падёт и, сбросив с себя послед — ние оковы 24-летнего коммунистического тиранства, возродится вновь для светлой, счастливой и мирной жизни под своим славным историческим именем — Санкт-Петербург! Трудящиеся всех стран, объединяйтесь для борьбы с большевизмом!IV
Тетрадь Глеба (продолжение):
«9–14 октября 1941 г. Дни непрестанных налётов и начало Покрова.
Необходимо, пока в ясном уме и сознании, записать это — хотя бы так, скелетом слышимого, словесным наброском, отмечая всё то, что потом, если позволят обстоятельства, обрастёт звуковым мясом, не задерживаясь на зияньях.
Форма — вариации, причём двойные: pro и contra, ослепительный свет и неверные сумерки, Альфа и Омега, если хотите (никаких намёков).
Две темы.
Соло литавр — введением в славословие. Тема первая: у рояля, даже у двух роялей, зияющих широко распахнутыми крышками, демонстрируя струнно-рёберную внутренность телесной души (а душа музыки именно телесна, хотя и рвётся в стихийно-числовое), её кровоточащее. Тема идёт неуклонно-возрастающе, в контрапункте с линией колоколов. Как строфа — когда записать словесно, то получится:
И вторая тема — анти, ритмом у густой виолончели в диалоге с альтом, на бледном контрабасовом подмалёвке — снова превращаю в слова:
покуда воздушным — скользя — изливается змеем в удар как дерево пламени ищет корнями испить дыхание жизни надежд дуновение где в момент проясняется взгляд сквозь накат атмосфер (стало быть:А теперь вариация первая на первую тему, если продолжать заполнение ритма словами, звучащая примерно так:
Солнцем залитый ярким рваными дырами расцветаешь в дымах крышами, шпилями в оба лёгких реки льдом не стесняемой дышишь ровно свистишь под литавры разрывов — (обойдёмся на этот раз без схемы, всё ясно и так, и быстро и начерно вариация на вторую тему): дрожаньем листвы и очерком лоз дымовых обвивших дыхание что крепчает в последней борьбе под шквал огнеградин ты дерево или пожар Вариация II (темы первая и вторая) — в этом солнце дневном блещущем ярко растопляющем снег смертную изморось или пот на челе выпарив жаром ты готовишься встать в тень того, кто словно ожившее кровеносное дерево несокрушим чья медная длань простирается выше холодной реки дыхание жизни дыхание смерти в огромных его глазах поглотивших громовый просве́рк атмосфер Вариация III (на первую тему) — в солнце жизни влитой нет, скорей виноград загнутый лозами смертной бури побег виски обвиваешь всаднику высящемуся горою —Дифирамб! Получается самый настоящий дифирамб!»
Глава вторая. Вера
V
«…Amo, et cupio, et te solum diligo, et, sine te jam vivere nequeo; et caetera quis mulieres et alios inducunt, et suas testantur affectiones»[27] — почему-то эта ироничная фраза из Апулеевых «Метаморфоз» крепко засела в мозгу Глеба. Не то чтобы он в некоторые моменты жизни чувствовал себя Луцием, превратившимся в осла (хотя и это было), просто сила Вериной любви, выражаемой действенно и словесно, перехлёстывала через край понимания, заставляла его сомневаться в реальности переживаемого, где их счастье нерасторжимо сплелось с общим несчастьем.
«Так не бывает», — сказал бы на его месте много кто. «Это незаслуженно», — говорил себе Глеб. Он словно забывал, что происходившее было выстрадано годами ошибок и срывов, множеством неверных шагов.
Глеб, как и всякий по-настоящему счастливый человек, не понимал, внутри какого предельного, редко переживаемого с такой полнотой, состояния он находился. Вокруг были возрастающее разрушение, война, всё большая неопределённость будущего. Внутри — напряжение жизни и её смыслов. Прежнее казалось тенью, вдруг отпавшей, и теперь Глеб, словно бы выздоровевший, шёл в свиристящем и залитом светом, не по-осеннему и не по-городски бестенном солнечном пространстве, охваченном качаемыми — нет, не бомбовыми ударами и артобстрелом, а резким балтийским ветром — деревьями, и октябрьский ветер пел полногрудым дыханием вздымавшей в нём лучшее весны.
«Но, в конце концов, если цитировать римлян, то прав и Марциал, утверждавший что „дикие звери лгать не умеют“, ибо сейчас, при всеобщем снятии перегородок, мы стали именно предоставленными самим себе дикими зверьми, выпущенными на городское приволье из разбомбленного зоопарка.
Если бы я мог выразить музыкой или, на худой конец, словом то, что переживал. Но музыка, певшая внутри, откликалась лишь на экстатический восторг неизбежного сокрушения этого внезапно распахнувшегося — во всю ширину горизонта и во всю вертикаль видимого пространства — чувства, а слова мои слишком точны, слишком сухи, просеиваясь шорохом, а не солнечным ветром между ловящими их пальцами». К тому, что ощущалось, Глеб мог подобрать только чужое, и созвучность его внутреннего настрою всех тех, чьим словесным волшебством он восхищался давно, особенно в пору юности, только убеждала его в тщете любых попыток выразить себя индивидуальным речением.
Вот Арсений Татищев — где он теперь, по оставлении нашего Петрограда, в каких Палестинах? жив ли ещё? — в изданном в 1922 году на дурной бумаге, со стираемой от первого неловкого прикосновения типографской печатью, почти квадратном томике «Светозвучие» были такие бередившие солнечным — вопреки обстоятельствам, в каких Татищев слагал их, — смятением строки:
«Лучше видеть мне тебя так: в ангелической сущности, в солнцу открытом лученье, опускающей в воду стопу, разжимающей в воздух ладонь, на которой прочертится знак, раскрывающий зренье сквозь отземные стебли дыханий, сквозь струнное вне. Оставайся со мной где-то рядом, где может сложиться с локтем локоть и если уж тень, то теней светоножницы, мягких колосьев глаза, звуков лица…» —Глеб знал, что сам такого никогда не написал бы.
Он ясно запомнил, как на чтении в полуголодном, как и ныне, Петрополе перед укутанной в грязные обноски толпой восхищенных слушателей некие Иосиф Крик и Родион Народов, издатели пустозвонного журнальчика «Удар», больше всего напомнившие дерзящих уездному инспектору гимназистов-заднескамеечников, с садистическим упорством обвиняли Татищева в слишком формальном обращении со стихом, в якобы буржуазном штукарстве, в антиреволюционном насилии рифмы и метра над свободой строки. Их убогий «Удар» был заполнен тянучими и риторически выспренними «вольными размышлениями», среди которых Глебу запомнилось нечто о дохлой вороне, которую пинает развесёлый матрос. Что кутавшийся в не согревавшую от внутреннего холода шинель, отмеченный прекрасной военной выправкой Татищев, чей лоб рассекал молниевидный шрам, мог возразить этой публике?
Но Крик и Народов показались бы образцом честности по сравнению с теми, кто шёл вслед за ними.
Комсомольцы литературного, музыкального и прочего призывов — куда их потом разметало ими же вызванной мрачнейшей бурей тридцатых?
Теперь, когда грянул новый ураган, когда сметало и тех, кто сметал прежде столь рьяных блюстителей радикальной риторики, возвращалось время не словесного, а настоящего обновления, убеждал себя Глеб. А Вера — олицетворение стихии того подлинного, чего Глебу так долго недоставало в удушающе гофманианской атмосфере полу-Петрополя, полу-Ленинграда предвоенного десятилетия.
Да, они виделись не так часто, как хотелось бы. Давала о себе знать жизнь осаждённого города с механически регулярными обстрелами, авианалётами и подступающим голодом, когда простое отоваривание продовольственных карточек требовало напряжённых ежедневных усилий. Но транспорт всё-таки ходил, ещё подавали электричество, работал телефон. Было далеко и до настоящей стужи.
Глеб также знал, что время от времени Георгия Беклемишева отпускают на побывку домой, но, странно, ревности он не испытывал.
Как-то раз Вера упомянула о долгой задержке месячных, однако от друзей Глеб слышал, что у их жён и подруг уже случалось такое — из-за нервного напряжения первых недель осады. Всякая попытка объясниться завершалась тем, что обоих ещё сильней бросало друг к другу. И вот после сметавшей все перегородки близости Глеб снова ставил перед Верой мучивший его вопрос.
Он не понимал, что Вера уже выбор сделала. Что отказать в сочувствии и тепле мужу она не имела права, но это ровным счётом ничего не значило. Георгий Беклемишев с каждым приходом домой ощущал всё большее внутреннее отчуждение. У него умирание отношений глушилось впечатлениями чисто казарменной жизни, а у Веры вытеснялось тем бесконтрольным, что переполняло её существо.
Неподлинная жизнь уступала место подлинной, искренней, новой. Но Георгий и Вера Беклемишевы входили в эту новую жизнь разными дорогами.
Разве Глеб сам не хотел ещё двадцать лет тому начать с чистого листа? Разве он не отрекался от фамилии славного рода поэтов и священников Альфани, одна из ветвей которой расцвела и у балтийских берегов, во имя по-футуристически резкого и на иной строгий вкус слишком уж бьющего не в бровь, а в глаз Альфы? Разве он сам не был создан великим разломом между тем, что уже миновало, и наступающим новым? — Так или примерно так, возвышенно и риторично, объяснял себе свои собственные чувства Глеб, словно пытался найти им оправдание, как будто чему-то ещё требовалось объяснение и оправдание. На самом деле его просто влекло потоком, мощь и направление которого он не до конца понимал.
VI
Из тетради Глеба:
‹‹Приходил Марк.
Показывал, зная мою слабость к античности, фотографии, сделанные ещё в сентябре в одно из редких безоблачных утр на крыше Эрмитажа — во время дежурства там женской пожарной команды из добровольцев.
Абсолютно непредумышленное, как и всё в нашем городе, но оттого не менее сходное с древней камеей сочетание битых и расцарапанных — последствия бомбардировок, разбора обвалов — но всё ещё звонких, блистающих солнцем пожарных шлемов, локонов, вьющихся из-под шлемов, одежды пожарниц — брезентовых узких комбинезонов с широкими поясами — со взглядами в дымчатый воздух, поверх Дворцовой площади и гордой колонны, поверх ваз и скульптур по периметру крыши, мимо трамвая, ползущего к Исаакию, поверх коней Генерального штаба; со взглядами — на вечно грозящий воздушным ударом запад.
Словно бы для сиракузской монеты: пожарница в шлеме в кольце из дельфинов, колонн и скульптур, самолётов и солнца, в плывущей короне зенитных разрывов.Верины профили просто прекрасны: я и не знал, что она была в той смене. «Можешь оставить себе, ты ведь, кажется, неравнодушен к этой Беклемишевой». Отказался — из благоразумия. И так уже больше, чем можно услышать при внешне сдержанном нашем приятельстве.
Говорит, что едва ли возьмут в газеты — скорей фотографии для историка, который будет «глядеть и завидовать».
Я же думаю так: момент замирания перед самым последним и страшным ударом — солнце, ещё не готовое смеркнуться перед шелестом крыл дневной саранчи››.VII
Согласно данным отделов регистрации граждан в гор. Ленинграде и административно подчинённых ему районах (включая Кронштадт) проживало:
на сентябрь месяц 1941 г. — 2 450 639 человек,
на октябрь ″ ″ — 2 915 169 человек,
на ноябрь ″ ″ — 2 485 947 человек.
Продуктовых карточек согласно централизованным данным населению было выдано:
в сентябре месяце 1941 г. — 2 377 600 штук, в том числе рабочим и инженерно-техническим работникам 35,1 % от общего числа, служащим 18,4 %, иждивенцам 28,3 %, детям 18,2 %;
в октябре ″ ″ — 2 371 300 штук, в том числе рабочим и ИТР 34,5 %, служащим 16,7 %, иждивенцам 30,2 %, детям 18,6 %;
в ноябре ″ ″ — 2 384 400 штук, в том числе рабочим и ИТР 34,5 %, служащим 15,6 %, иждивенцам 31,1 %, детям 18,9 %.
Дневная норма отпуска хлеба:
со 2-го по 12-е сентября 1941 г. составляла для рабочих и ИТР — 600 грамм, служащих — 400 грамм, иждивенцев — 300 грамм, детей до 12 лет — 300 грамм;
с 13-го сентября по 13 октября для рабочих и ИТР — 400 грамм, служащих — 200 грамм, иждивенцев — 200 грамм, детей до 12 лет — 200 грамм;
с 13-го октября по 20 ноября для рабочих и ИТР — 300 грамм, служащих — 150 грамм, иждивенцев — 150 грамм, детей до 12 лет — 150 грамм;
с 20-го ноября по 25 декабря для рабочих и ИТР — 250 грамм, служащих — 125 грамм, иждивенцев — 125 грамм, детей до 12 лет — 125 грамм.
VIII
Фёдор Четвертинский — Юлиусу Покорному:
‹‹Досточтимый коллега!
Странное дело, когда почта даже на Васильевский и на Петроградскую идёт бесконечно долго, мне вздумалось написать Вам. Война и Огонь (тот самый властительный Агни, что господствует в нижнем пространстве земли) не разделяют, а соединяют нас, находящихся по разным краям полыхающей бури. А поскольку мы с Вами, коллега, не кшатрии, но мудрецы, наше дело, наше заклятье обладает, можно сказать, наивысшей, всепонимаюшей силой. Исключительные обстоятельства убирают всё лишнее. Поэтому позвольте мне обращаться к Вам из запертого на железный замок города в украшенную лилиями и кружевами Бельгию не привычным почтительным «герр доктор профессор», но Юлиус. Я надеюсь, Вы не рассердитесь на фамильярность.
Согласитесь, что изобретение колеса — о чём победительно возвещает пракорень *kʷékʷlo-/*kʷol-o— по Вашей классификации, — не пошло индоевропейцам на пользу.
На этом колесе некоторые из уклонившихся от общего смысла племён, всем скрежетом своих моторизованных дивизий про — ехавшись по Бельгии, докатились и к пригородам самого чудного из со — зданных русскими городов, чьё названье Романовы в пору предшествующей схватки с нашими нынешними противниками поспешили, по своему германофильскому разумению, перевести как Петроград. Категорически возражаю: Вы родились в Праге, Вам не надо объяснять, что burg(h) восходят не к го — роду, а к укреплённому, возвышенному, сияющему — *bhereg̑h-, bherg̑hos — месту. Мы и будем тем Каменным берегом, о который они разобьются. К западу — океан, а мы — дамба, земля. Ведь мы не какие-то там лохи краплёные, то бишь плещущая лосось — рыба общей индоевро — пейской прародины, и их буки (уж не оттуда ли?), шумящие у прусского Кёнигсберга, ещё умалятся перед нашими крепкими дубами. Но если Вы и я правы, то третье, что после лосося и бука сохраняется языком от материнского ландшафта, — праиндоевропейский *sneigu̯h—, который иным — память, а нам щит и товарищ, именно он станет нашим главным доспехом. И, одевшись снегом и холодом, вооружась силой громовых ударов, сев, как наши степные предки, на лёгких коней (*ek̑u̯o-s), мы будем ебошить (*i̯ebh— вот древнейший корень, и снова яснее у нас!) наших врагов, покуда не вгоним обратно в материнскую вульву, в чрево их страха (*pīzdā-, как у Вас написано). Да-да, в пизду по самые уши. Вот так-то! Такой будет судьба всякого вырожденца. И противник наш смеет ещё говорить о вашей и нашей «неполноценности». Также хочу заметить, что, оказавшись в финно-угорских болотах, в топях соседнего мира, среди разливов его рек, мы не только устояли и даже «манием руки» нашего обессмерченного в медном истукане вождя, чей конный памятник, как и положено насельникам евразийской равнины, мы ритуально укрыли грунтом (сухим, песчаным), а сверху ещё и досками — и вокруг воздвигли несокрушимый каменный кром Питербурха, с царским курганом (теперь!) внутри, но и гордо глядим, вопреки осаде, окрест — на безбрежный, равнинный, дружественный нам восток, на привольный север и на юг, откуда пришли мы и, конечно, на покуда враждебные запад и северо — запад. Сейчас — именно потому, что нам, нашему языку, нашей силе, нашей памяти предстоит устоять — решаются судьбы континента и общих индоевропей — цам начал на его просторах. Мы непременно выстоим, потому что мы ближе к корням, мы свободнее и здоровее. Мы просто не можем погибнуть. Наши соседи финны уже осторожничают — брать приступом город им не с руки. Но и германцы, когда будут придавлены тысячью тысяч копыт ими же на свою голову накликанных русских лавин, после всей пронёсшейся над ними бури будут нужны — да-да, именно нужны нам! — не как втоптанные в прах враги, а, не удивляйтесь, Юлиус, как союзники. Только пусть прежде вздёрнут на деревьях чтимых ими пород — буках? хорошо, пусть это будут буки! но тогда и Пруссия, родственная, балтийская Пруссия наша — всех своих шутов. Пусть соскребут с себя всё ядовитое, всё растленно-культурное и встанут бок о бок к общей работе по устроению единого жизненного пространства. Но это будет позже, Юлиус, много позже. Сперва — позор поражения. Ведь язык предсказателен, всё в языке. В том числе и неотвратимая наша победа. Остаюсь и проч. Фёдор Святополк-Четвертинский››. —Не склонный прежде к стихотворчеству, думающий тяжело и упорно, Фёдор Станиславович остался доволен: письмо получалось меньше всего похожим на лингвистическую статью и звучало как самая настоящая поэма.
IX
Георгий Беклемишев — Юлии Антоновне Беклемишевой в Саратов (проверено военной цензурой):
«Дорогая мамочка!
Хорошо, что ты уже устроилась на новом месте; там тебе будет спокойнее.
У нас всё надёжно. Сражаемся и твёрдо верим в скорое торжество над гитлеровскими авантюристами. Благодаря мудрой заботе командования и руководства городом установлены твёрдые нормы отпуска продуктов. Когда дозволяются увольнения, езжу домой на трамвае. Стужа выдалась ранняя: снежит аж с 12 октября. Подают электричество, работает наш славный ленинградский водопровод. Предложено в порядке личной инициативы запасаться фанерой взамен разбитых стёкол (в наших комнатах пока ни одного повреждённого осколками или взрывной волной), ну, и топливом для обогрева на грядущую, по-видимому, очень холодную, зиму.
Купил на рынке, удачно продав серию дяди-Колиных гравюр цирка в Эль-Джеме и римских руин в Дугге, специально для зимних холодов сваренную металлическую печь. Гравюр жалко, но североафриканское солнце теперь будет согревать Веру и всё наше беклемишевское логово вполне материально. Настроение самое боевое.
Нелады только с Верой: наши пути расходятся. Она уже больше не так вспыльчива, как это было перед твоим отъездом в августе, и внешне всё обстоит прекрасно: мы мирно общаемся, Вера возвышенно ласкова и даже как-то отсутствующе покорна новым обстоятельствам. Но только внешне. Ты была права, когда говорила мне, что не всякое красивое устройство может действительно украсить жизнь, а Вера, кажется мне теперь, была именно таким „устройством“, прибавлением к жизненному укладу Беклемишевых, так с нашей семьёй и не сросшимся. Что у неё в душе — для меня загадка. Я, конечно, очень люблю её, но думаю, что для Веры безопаснее, а для меня душевно легче, если она присоединится к тебе, а там — после нашей скорой победы — видно будет.
Моя малоудачная — теперь я понял — живопись, все эти подражания то кубистам, то фовистам, полосатые оранжевые бегемоты на залитом синим светом, осаждённом огнекрылыми собаками Банковском мосту, кажутся теперь абсолютно нелепыми в сравнении с огромным и объединяющим, что движет нас всех вперёд, так что после — верю, близкого — окончания этой войны я едва ли снова возьмусь за кисть.
Мамочка, надеюсь всегда слышать о твоём добром здоровье. Не беспокойся обо мне сильно, а мне будет легче от сознания твоего сердечного мира.
Целую тебя.
Твой любящий сын мл. лейтенант Георгий Беклемишев».Глава третья. Финнополь
X
Глеб немного знал Юлию Беклемишеву по второй половине девятьсот десятых. Вспоминая это, Глеб понимал, что и сам теперь не юн.
Жена известного финансиста, происходившая из одной из поволжских губерний (её отец был помещиком средней руки), Беклемишева с некоторым презрением относилась к делам и знакомствам мужа Василия Михайловича, словно не замечая, что они обеспечивали ей весьма роскошную жизнь, и даже важнейшего делового компаньона Беклемишева — маститого Афанасия Святогорского (его странноватый внук, тоже Афанасий, был известен Глебу как автор заумно неблагозвучной, или как Афанасий-младший называл её «ультрахроматической», музыки к созданному им в подражание Скрябину «Заключительному действу»), — даже Святогорского-деда она именовала за глаза не иначе как «проходимец» и «тёмный делец» (вероятно, это было вполне заслуженно). Однако с удовольствием и подолгу обсуждала подробности беклемишевской генеалогии, родство предков её мужа со знаменитыми княжескими фамилиями.
Титул и происхождение наклеивали в её глазах ярлык культурности и европейскости чуть не на всякого, кто ими обладал. Одним захолустным воспитанием этого было объяснить нельзя. Такова была природная особенность её взгляда на вещи.
Часто и с гордостью она упоминала о подрастающем сыне Жорже, «новом Беклемишеве», подчёркивая, что у наследника немалый талант к языкам и к рисованию, а в характере больше сходства с ней самой. О том, что он унаследовал и беклемишевские черты — брат финансиста Николай Михайлович был изрядным гравёром, много и часто ездил по Средиземноморью, — Юлия Антоновна, как водится, умалчивала.
Когда к власти пришло Временное правительство, то Василий Михайлович, понимая, что конец его роскошной жизни не за горами, решил кутнуть напоследок. Он, ни о чём не оповещая жену, купил летом 1917 года в Москве великолепно спроектированный Шехтелем и художественно обставленный (при участии брата Николая) особняк, в котором поселился со своей давней кралей — певицей из «Яра», которую прежде навещал только изредка. Юлия Антоновна отреагировала на бегство супруга предсказуемым образом: как можно было променять Петербург на торгашескую Москву, а жену благородных кровей (генеалогия самой Юлии Антоновны оставалась для Глеба загадкой) на безродную цыганку?
Странно, но мелодраматическая эта история, как и рассказы о семье Беклемишевых, крепко засели в памяти Глеба — скорее всего потому, что именно к этому времени относилось сближение со Святополк-Четвертинскими.
Глеб впервые увидел Юлию в просторном и гостеприимном их доме. Святополк-Четвертинские жили, несмотря на революционное время, по-прежнему на широкую ногу: держали автомобиль и прислугу, не жалели немалых денег на чревоугодие и на разного рода причуды, навроде поддержки целого издательства, распорядителем, редактором, а часто и корректором которого был Сергей Станиславович Четвертинский, на пять лет старший Глеба и ещё со студенческой скамьи переставший употреблять аристократического «Святополка» и княжеский титул. Брат Сергея — Фёдор был лингвистом и немного философом. Мыслили оба примерно одинаково: происходящее виделось им очистительным прояснением основ русского бытия, возвращением его к прямому течению.
Малороссийское чревоугодие сочеталось у Четвертинских с какой-то неаристократической и уж точно непетербургской задушевностью. Глеб, бывавший в их доме сначала по издательским делам — Сергей пригласил его заведовать научным отделом своего предприятия, — вскоре стал испытывать особую потребность в умном, живом, свободном, выделяющемся широтой политического и культурного кругозора, комфортабельном, но совсем не барственном общении, которого ни один другой дом ему дать не мог. У соломенной же вдовы Беклемишева, тоже зачастившей туда, имелись вполне определённые виды на Сергея.
Тот, в конце концов, признался Глебу, что при всей внешней привлекательности и скульптурной сложённости Юлии (черты эти передались потом её сыну) — ей явно «недоставало огня», и даже генеалогическое безумие не могло уравновесить некоторой внутренней «рыхлости» истомлённой вынужденным одиночеством двадцатисемилетней женщины.
Серьёзных отношений так и не сложилось, и Юлия Беклемишева, в конце концов, куда-то исчезла (чтобы выплыть потом в роли Вериной свекрови). Судьба её беглого мужа осталась неясна. Бывшего финансиста, кажется, арестовали большевики, а потом выпустили налаживать банковское дело, да он запросился за границу, и тут следы Василия Михайловича теряются. Вероятно, скандальный его уход из семьи спас Беклемишевых от преследований. Возможно, вмешались и ещё какие-то неведомые Глебу обстоятельства, о которых не принято говорить вслух.
Но Глеб совсем не удивился, когда услышал от Веры, что после объявления войны Юлия Антоновна завела разговоры, что «наконец-то придут европейцы, наведут порядок в Ингерманландии, и теперь будет всё по-прежнему». Ещё менее удивился он, когда до начала бомбардировок и перед долгожданным «приходом европейцев» Беклемишева-мать поспешила эвакуироваться, или попросту сбежать на время «наведения порядка» к родственникам в Поволжье. «Приход европейцев» своим чередом, а личной безопасности Юлии Беклемишевой ничто угрожать не должно было.
XI
Город действительно дичал, возвращался к исконно-болотному состоянию. Хорошо ли это было, плохо ли — трудно сказать. Фёдор Четвертинский, прекрасно запомнивший первое одичание, случившееся между девятьсот девятнадцатым и двадцать вторым годами, находил в этом что-то циклическое, напоминавшее жителям «Петрограда (vulgo Финнополя)», как называл город один острослов девятнадцатого столетия, на какой почве он воздвигнут — на манер сейсмических колебаний в тектонически неустойчивых местах.
Фёдора Четвертинского в силу склада ума интересовала почва языковая (всё, всё в языке!) — проникновение индоевропейских смыслов в финно-угорский субстрат, происходившее ещё до того, как воодушевляемые замыслом Петра русские решили возвести здесь свой главный город. Четвертинский рассчитывал постичь закон смысловых возвращений к природному, потрясавших основания прекрасно построенного ансамбля, ритм напоминаний, как он мысленно говорил себе, «о том, что здесь было прежде».
А что было прежде?
Точка пересечения финно-угорского с балтийским, славянским, германским, место обмена словами и смыслами, а потом уже обрядами и товаром, обычаями и верой.
Здесь Ганзейский торговый союз, куда входил наш Новгород, становился «толпою» и «людом» — kansa, торговое злато именовалось kulta, сладостный мёд (дар пчёл и хмелящий напиток) звался ласково mesi, а владычный князь — он же кунинг и конунг — звучал как kuningas. Семья — сейм, общий совет у прибалтов — становилась heimo; наше «яблоко», перемещаясь на север, звучало как «apila» и означало «клевер». Но, созревая, колосилась рожь — ruis, шелестели под ветром древесные и книжные листы — lehti, и любой финно-угорский огорище-угорь, или по-здешнему ankerias, скользил в водах яр-озера järvi или — если морские угри — по балтийскому мелководью, в Юру, чуть солёное (suola!) meri-море. Это были слова, понятные той и другой стороне, общий пласт в основании города, твёрдый слой в топкой дельте.
Но тогда, говорил сам себе Фёдор Станиславович, мы должны бы вкушать и финские яства. А какие? Брусничный кисель? О, блаженное лакомство для изголодавшихся! Лоха-лосося в собственном соусе — graavi lohi? а на более понятном финну наречии lohi omassa liemessään? — Рецепт прост: добавляешь к нарезанной рыбе по ложке морской соли, сахара, перца, укропа и бренди (если нет, то армянского коньяку) и настаиваешь в этой смеси полсуток.
«А ещё неплохой салат из тех, что прежде готовила у нас кухарка, — „рассол“», — услышал Четвертинский в ответ и обнаружил себя стоящим на выходе из Публичной библиотеки в Катенькином саду, рядом с кем-то низкорослым, плохо выбритым, в потрёпанном грязном пальто, со связкой книжек под мышкой. — «Отвариваешь картофель, морковь, свёклу, добавляешь маринованный огурчик и луковицу, мелко всё нарезаешь, заправляешь сливками, уксусом, сахарным отварцем свекольным…»
«Что же здесь финского? Получается наш винегрет».
«Финского — сельдь».
«Да, интересно. Прощайте!» — и Четвертинский двинулся через проспект Двадцать пятого октября к заколоченному Елисеевскому. Стараясь подавить мысли о еде, в которых даже простецкий салат представал сказочным кушаньем — картофель! морковь! свёкла! лук! вожделенная рыба! — он стал сводить воедино недодуманное о частном и общем, о тектонических сшибках мыслительных плит, так наезжающих друг на друга, что голова ходит кругом, а почва выскальзывает из-под ног.
Родовым гербом Четвертинских — православной, исконной их ветви, никогда не роднившейся ни с кровожадными викингами-Рюриковичами, ни с онемечившимися Романовыми — был конный Св. Георгий, пронзающий вьющегося у копыт змия. Как лингвист, как человек, склонный к обобщениям, Фёдор Станиславович понимал, что́ стояло за сохранённым веками глубинным образом:
молнийные разряды атмосферических, дарящих дыхание, вдувающих душу и дух сил, бьющие по силам иным — тем, что путаются под копытами бесстрашных ко — чевников, царей плодородного континента, всадников-кшатриев, по силам вечно смущающим, вторгающимся, отравляющим сознание ядом «культурной», будь она неладна, резиньяции, изгоняющим нас из рая прямой и действенной жизни (она-то и есть бессмертие — ибо не ведает о конце, не боится его). Сомненье, бездействие и отрицание против чести, веры, поступков, верности.И пусть дорога Фёдора Станиславовича была несколько иной — понимание и в понимании сохранение мудрости, её тысячелетних смыслов — воина-кшатрия, стерегущего покой земли, и оратая-ария, засевающего эту землю семенами и смыслами, он уважал бесконечно. Происходившее, и особенно война, было для него обнажением вечной триады мудрости-бесстрашия-труда, — снятьем, как накипи, всего остального. Мы не нуждаемся в беспредельных сомнениях, вопрошаниях о природе вещей, если эта природа дана нам в прямом проживанье и действии. Пусть же она обнажится дальше, до самого основания через то, что происходит с нами. Разве не в вопрошании о ясном и так заключается змиев соблазн? Разве не в этом грех Адама и Евы? Мы приняли его за начало нашей истории, мы с этим согласны — но когда-то и наша история должна завершиться.
Пусть происходящее, мысленно продолжал Четвертинский, приведёт к высвобождению — ударом метафорического копья — солнца света, солнца правды. А моё, ваше, общее наше тело даже в гибели, в сокрушении — оттого и не страшных — ляжет в основание нового мира.
Догадка пришла ему в голову: а не является ли тогда жертва всех, кто сейчас заключён в осаждённом городе, наша гибель — именно ритуальной и потому неотвратимой при закладке нового основания? И чего здесь бояться — погибнем ведь все? «А я сам, додумывающий и договаривающий мысли брата Сергея и как бы доживающий его жизнь в нашем городе — не являюсь ли я, пусть и метафорическим, его убийцей? Ромулом, жертвующим Ремом во имя Четвёртого и навсегда вековечного Рима?» — Ответа на самый последний вопрос у Четвертинского пока не было.
XII
Тьмутаракань на Васильевском, где жила Вера, и прежде никому, кроме местных жителей, не интересная, с первых же дней вражеских налётов не представлялась особенно привлекательной целью и немцам, а на более или менее регулярные обстрелы этого сектора им пока было жаль усилий. И так как туда исправно ходил общественный транспорт — рядом располагался огромный трамвайный парк им. Леонова, — то Верино уединение можно было считать благословенным.
В этом, во всяком случае, убеждал себя Глеб. Привыкнув за многие годы к одиночеству, он даже теперешние частые разлуки с возлюбленной, невозможные, живи Вера в центральной части города, почитал за неизбежность. Вере же не оставалось ничего, как утешать себя, что стоит только взойти на подножку трамвая № 4, и она, при удачном стечении обстоятельств (т. е. при отсутствии воздушной или артиллерийской тревоги), через какие-то двадцать минут уже возле площади Урицкого, в самом начале проспекта 25-го Октября, а там легко пересесть на 24-й или 34-й, и вот уже перед ней дверь заветной квартиры на площади Труда, не внешний, а настоящий её дом, где счастливо бьётся сердце, заполняя всё существо.
Представить, что она отправляется туда не в звенящем аквариуме — мимо погашенных факелов-маяков у Биржи, через мост Республики, с которого открывался, как всегда, ослепительный вид на Петровские коллегии и на Адмиралтейство, сильно похорошевшие за эту осень, минуя затем Эрмитаж, куда Вера продолжала ходить на работу, — что вместо поездки в трамвае стучит каблучками полтора часа по раннему тонкому снегу, по улицам-линиям с запада на восток, сворачивает, срезая дорогу, по Веры Слуцкой на проспект Пролетарской Победы и оттуда уже поворот направо к мосту Лейтенанта Шмидта — нет, представить себе этого, несмотря на все перемены, она пока не могла.
XIII
Из тетради Глеба:
‹‹12 ноября 1941 г.
Музыка Блокады: по радио Чайковский, при обстрелах или налётах — метроном (сердцебиение), а потом фанфары (отбой). Сегодня с утра за роялем — как-никак воскресенье, не очень присутственный день в Зубовском институте — под десятиминутный стук метронома (и разрывы снарядов) — проигрывал партитуру «Гимна Перуну» Аскольда Радзивилла. Когда-то «Гимн» произвёл на меня сильное впечатление. Да и сам Аскольд — щуплый, нервный — поражал титанической мощью, существующей как бы помимо его физического существа и нелепого имени, данного отцом-меломаном, в честь любимой им оперы — сына назвать в честь «Могилы»! — Нет, меньше всего было в авторе «Гимна» от буйного воеводы, убитого в распре варяжским князем, но ощущалось дыханье фаустовских гармоний, что-то лишь отчасти славянское. Недаром другой Радзивилл, чью партитуру к «Фаусту» одобрил сам Гёте, приходился ему роднёй. Помню, и как Савроматов, задорный и белозубый, с дикарским нахрапом развинчивал вместе со мною этот «Гимн» на детали, а потом свинтил его заново в форме пёстрого «Солнцегрома». Теперь, когда бездна реальная разверзлась внутри и вне, ближе не «Солнцегром», не тектонический сдвиг «Гимна Перуну», а сила, что заклинает обвал, что вбирает в себя стихии и преображает их алхимически в золото острого чувства — скажем, «Манфред» Чайковского, звучащий безостановочно из радиоточки. Да и где сейчас Савроматов Н. Н.? Под блистающим солнечным небом Тбилиси? Алма-Аты? Сочиняет военную музыку вдали от войны? Давно никаких известий нет от Никандра. А Радзивилл — в Париже? В Нью-Йорке? В Рио-де-Жанейро? Уезжая, он на прощанье играл мне только что сочинённые — на японский манер лаконичные — «Высказыванья» для ансамбля солистов (голос, три инструмента — состав инструментов можно менять). Это был тот же «Гимн Перуну», ужатый до сгустков, загнанный в клеточки звука. Ответим же на прощальное то исполнение не в нотах — в словах — о громовых наших делах, тоже на японский манер: «Снежит, проползают троллейбусы. Сняли коней Клодта с Аничкова моста. Разворотило снарядом решётку с морскими конями и нереидами. Враг у ворот!» Странно, раньше я думал, что сам я — историк искусства, а теперь вот пишу что-то вроде стихов, как бы музыку. Марк считал, что он — писатель, сдал в печать неплохую книгу о Савроматове (я ему помогал материалами), а теперь оказалось: какой колоссальный талант в фотографии — хватка, способность останавливать миг, становящийся мифом! Просто Хлебников образа. Поразительно даже не это, а сильнейшее возбуждение напряжённого до предела сознанья в тисках катастрофы.15 ноября.
Повстречался также Мордовцев (родня романисту). Он шёл с бесцельно горящим взглядом, всклокоченной бородой и изрядно опавшим брюшком по Садовой. Куда? — Известно куда. Был тихий день: почти не стреляли. Мордовцев нёс собачонку — испуганную, трясущуюся. «Как дела, Алексей Петрович?» — Шедший встрепенулся, а потом, узнав, чуть стыдясь, улыбнулся: очевидно, в предчувствии сытного ужина. Собачонку на всякий случай он запихнул за пазуху и всё время разговора засовывал её голову обратно. «Выживаем тут помаленьку, Глеб Владимирович». — «А как ваши исследования родной финно-угорской архаики?» — Мордовцев ещё в пору финской кампании открыл в себе немало мокшанского и острый интерес к анимизму, чем надеялся воспользоваться после успешного марша Красной Армии на Гельсингфорс, где его ждало, Мордовцев верил, место главы по фольклору главного вуза грядущей союзной республики. Тогда же, зимой 1939/40 в Институте искусств он прочитал сообщение
о двух финно-угорских богатырях русского эпоса — неторопливо бездействующем Илье Муромце, укрепляемом в том православной религией (тут была подковырка), и удачливом его сопернике Цёфксе-язычнике, угнездившемся на семи дубах, чтимых славянами за священные, володеющем ими и тем преградившем Илье-созерцателю путь из лесного, мокшанского, приокско-донского рая через степь в беспокойный Киев, выбивающем одним своим свистом увальня — богатыря из седла и известном русским своим соседям под именем Соловья-разбойника. Из того же доклада узнал о солдате Апшеронского полка Платоне Каратаеве — спокойном, без горя страдающем, ласковом, неторопливом — как о воплощенье мокшанского мирочувствия (отатаренные каратаи — родня мокшанам), о том, что мокшан было немало и в войске Аттилы при сокрушении Рима, о дальнейшем союзе мокшан и поволжских сарматов и о самоназванье близких мокшанам эрзян, восходящем к сарматскому «арсан», означавшему мужество. Получалось: соперники русских в борьбе за наследство сходящих со сцены владык евразийской равнины — сарматов — финно-угры насвистывали соловьями в лихих рязанских (эрзянских), муромских, мещёрских, верхневолжских лесах, куда опасались входить даже войска Чингисхана, и лихой беззаконный их посвист, как-то мало вязавшийся со сдержанным в обхождении, но дававшим волю фантазии, краснощёким, жизнелюбивым и законопослушным Алексеем Петровичем — уж скорей Каратаевым, чем Соловьёвым наслед — ником, — этот посвист был слышен даже в дальних углах континента.Следовало признать, что во всём этом было немало от характерно интеллигентского остроумия, но какую-то глубинную струну оно задело и во мне. — «Шутить изволите!» — поморщился встреченный. — «Почему же? Смотрите, сколько бесценного материала в повседневности: мало-помалу возвращаемся к допетровскому раю, в „приют убогого чухонца“». — «Знаете, у меня нет времени. Надеюсь, нам удастся сокрушить финно-немецкую гадину. Доведшую нас, — жест в сторону снова высунувшейся из-за пазухи трясущейся собачьей головы, — до вот такого неслыханного, можно сказать, безобразия. Прощайте!» — Я явно отвлекал от давно предвкушавшегося. От вопроса о том, достойно ли наследникам лихого Соловья Одихмантьевича опускаться до ловли домашних животных, я воздержался. — «Как знаете, Алексей Петрович, надеюсь, ещё свидимся». — «На всё воля Божья» (недавний язычник перекрестился).
Очень хочется есть. Всегда, при любых обстоятельствах. Даже записи в этой тетради не отвлекают от явно навязчивых мыслей.
Голодно!››
Часть вторая. Зима
Глава четвёртая. «Питинбрюхские ночи»
XIV
Развесёлая столица славный город Питинбрюх: всем, чем хочешь, поживиться в ресторанах, погребах можно. Помню, в декабре я там до чёртиков кутил — всё стоял у Елисея, сам с собою говорил.XV
Запись для памяти Ф. С. Четвертинского:
«5 декабря 1941 г.
Вот какое нынче меню:
1. Если сварить дециметр шкуры какого-нибудь животного (хорошо, если коровы, но случаются кошки, собаки и даже крысы; между прочим, у кошек — кроличье мясо), а к нему размочить дециметр столярного клея, то при известном мастерстве выходит отличный питательный студень. Ели — наслаждались.
2. Было лакомство: нарезанная земля с бадаевских складов. Мы с Евдокией Алексеевной накупили её изрядно. Хватило до декабря. По вкусу — подобие жирного творога, вся пропитана маслом и плавленым сахаром. Запивали её кипятком. Теперь одно воспоминание. Но и им не грех насладиться (мысленно).
Главное: следить за собой, мыться, а мне — бриться, не ложиться надолго в постель, стирать одежду и простыни, двигаться, беречь еду (крохи).
Умирают, как бы утомившись, не жалуясь ни на что, от снижения кровяного давленья, от износа сердца и внутренних органов: человек, голодая, жжёт сам себя, как коптилка. Так что если идёшь по улице, то мудрость ослабших — иди против ветра, наклонившись, стараясь не падать на спину. Упал на спину — почти что верный конец.
Но голод — табу. Как алкоголь для запойного пьяницы.
Хотя он — причина внутреннего возбуждения».
XVI
Из тетради Глеба:
«Марк снова порадовал фотографиями. Показывал „уши города“, установленные на Петропавловской. По четыре трубы-звукоуловителя в связке, известные всем по плакатам, — нацелены в небо, с металлическим креслом, приделанным к каждой; и расчёт из четырёх бойцов день и ночь дежурит в наушниках, высчитывая расстояние до незримо поющих объектов, так что любой самолёт, даже над облаками, а сейчас солнце редко, рискует нарваться на плотный зенитный огонь. Связки выгнутых труб мне напомнили три трубы на гербе Радзивиллов, закольцованные: „Bóg nam radzi“. Их показывал гордый Аскольд Радзивилл до отъезда, когда я собирал матерьял о его дальнем родствен — нике, Антонии, графе Познанском, — том самом, что сочинял музыку к „Фаусту“ Гёте. Где теперь эта европейскость семьи Радзивиллов? Прочитавшие „Фауста“ (правильно, надо признать), — как им мнится, господствуя в воздухе, — тщатся всех нас вбомбить в стынь закованной льдами дельты. Ну, и что „нам советует Бог“? Что Он нам „говорит“? Что с таким обострённым музыкальнейшим слухом не страшны любые кувырканья смятенных бесов? Что зиме давящего голода не размазать нас в снежном Ничто? Сердце слушает пенье пространства, но в ответ безотзывно молчит».XVII
Из дневника Веры Орлик:
‹‹14 декабря 1941.
Третий день как не ходят трамваи. Мороз не менее –20 °C. С трудом добралась до Эрмитажа. А днём — в четыре — обстрел. Не пошла обратно: осталась — впервые — греться у Глеба (он и рад). Даже если домой нагрянет Георгий — всё равно. Пишу на узком листке, потом надо вклеить (буквы еле влезают в строчку), чтобы высветить красную дату — окончательного отвержения довоенных «приличий». Здесь ещё подают воду, только нет электричества. Над роялем — коптилка. Я сумела вымыться — чудо! Грели воду на печке подшивками музыкальных журналов. Глеб смеялся: «Дымят щелкопёры. Если что — пустим дальше в растопку Goethes saemtliche Werke». Для любви не осталось сил — только грели друг друга.15 декабря (на обороте листка).
Глеб сварил горсточку кофе (он купил его в августе в Елисеевском), припасённого для такого вот «чрезвычайного происшествия». Это был сущий праздник! А потом провожал на работу; ну, а вечером — на Васильевский. Говорит, что ему на пользу свежесть вьюжной морозной прогулки под пальбу, что доносится с фронта (это при его истощении!). С приближеньем к Смоленскому кладбищу через Мусоргского, у трампарка бесконечные вереницы похоронных процессий: кто на саночках, редко — подводами в самодельных картонных гробах или просто в тряпичных обмотках, в грязных простынях — трупы-личинки. Люди везут своих близких: как в египетском ритуале. Глеб сказал: «Как перед погруженьем на ладьи, плывущие к западу солнца». Солнца, кстати, не было видно. Только грохот орудий, вьюга, сверкания по всему горизонту››.XVIII
На обратном пути с Васильевского, под жестоким обстрелом Глеб всё вспоминал строки Арсения Татищева — из середины «Светозвучия» — и всё дивился способности татищевского зрения вперёд: ведь всплывшее было написано, вероятно, в октябре 1919-го, и тогда зимы настоящей не было, да и ухали орудия где-то возле Гатчины, хотя их звук доносился до центральных кварталов города. Но зима рифмовала со смертельным огнём в слухе и в воображении, и только так и можно было написать ту жестокую осень, с нависшими над городом призраками неизбежного зимнего голода и реставрации.
«…весь перекипая огнём, огнём расцветающих арок, и даже копытом, конём — вот рифма! — придавленный, жарок снежащийся сажей на нас зимой орудийного гула тот воздух; а нам-то ни глаз отвесть, ни Уэльсово „Улла!“ услышать сквозь грохот и вой — то люди, а не марсиане глаза засыпают землёй зимой орудийных сверканий…»Теперь это были уже не марсиане и точно не люди, а нечто третье. Глеб всё не мог сформулировать что, подобрать к этому нечеловеческому, машинному верного слова. Ум его упорно работал над этой задачей, в разрешении которой, пожалуй, не было никакого смысла.
XIX
Из тетради Глеба:
‹‹16 декабря 1941 г. и после.
Голод такой, что и лихорадка возбуждённого мозга отступает — вот в продолженье ноябрьского in modo giapponese — последние спазмы: Встали троллейбусы на покрытом инеем Конногвардейском. Выбиты окна.* * *
Все всё везут на саночках. Вмерзают в залитые из лопнувших труб улицы грузовики тут и там.* * *
Остановившиеся трамваи. Разбитые уличные фонари. Разорванные линии электропередачи.* * *
Но ещё кто-то бодро идёт в метель с портфелем и в шубе. Ещё улыбается. Ещё мимо несут тюки. Ещё мужчинам жарко (расстёгнуты). Ожидают эвакуации: поездом — к озеру (под звуки обстрела).* * *
Лопнувший водопровод: безостановочно хлещет из гидранта перед Исаакием. Черпают неостывшую воду прямо из лунок в середине улицы кто кружкою, кто уполовником.* * *
К середине зимы — в зенит кошмара. На барахолке торгуют: спичками, мылом, махоркой, дурандой, ненужной одеждой в обмен на нарубленный хлеб.* * *
Потеплело: свозят на санках зашитые трупы в морг, где их прямо на грузовики — и на дно братских могил.* * *
Орудия вмёрзших в Неву кораблей КБФ — бьют в воздух. Люди, не обращая внимания на пальбу, бредут по Неве — кто куда. Вот он, декабрьский Петрополь››.XX
Из дневника Веры (на узких листках):
‹‹22 декабря 1941.
Самый короткий день. Снег почернел от оттепели. Сегодня, под предлогом комиссии, Марк Непщеванский, старый Глебов приятель — Глеб уже никого не стесняется — водил нас смотреть запасники Музея религии и атеизма. Так вот что от нас скрывали: оригинал — или список? — чудотворной Казанской иконы (а говорили: утрачена), мощи св. Серафима, завёрнутые в целлофан, и сотни других чудотворных мощей и икон — советские катакомбы на первобытный манер, внутри современного города, возле — недавно шумных трамвайных, троллейбусных линий, под ракой Казанского храма, обстреливаемого врагом, за семью печатями тайны с естественной температурой глубокого, вечного сна. Церковь бы так не придумала. Марк на редкость удачливый малый при центральном ТАСС фотокором: всюду вхож, со всеми знаком. Он стоял в стороне, не мешаясь, со своим новёхоньким «Кодаком», улыбался. Улыбки — редкость. Город теней — люминофоры с собою, куда ни идём. Особенно здесь, в полумраке лабиринтов надежды и веры. Боже, как исхудал Глеб. Каким лихорадочным блеском он смотрит — одни глаза, огромные, вечно в движении — из-под свалявшихся под нелепейшей шапкой волос (зато говорит, что греет). И все речи его о еде и о музыке! Я ж, при виде всех этих сокровищ, расставленных по полкам, и, уже не боясь, что заметят — если что, скажу: «Так виднее» — молча, встав на колени, молилась. Марк — атеист, как положено успешному бонвивану — стоял в стороне. Глеб же что-то шептал с закрытыми глазами: ах, как жаль, что теперь он стыдится нахлынувших чувств››.XXI
Св. Митрофан Воронежский — Петру Романову, 1682 г. по Р. Х.:
«Ты воздвигнешь великий город в честь святого апостола Петра. Это будет новая столица. Бог благословляет тебя на это. Казанская икона станет покровом города и всего народа твоего. До тех пор, пока икона будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражья нога».XXII
«Видѣвъ царь Петръ, яко отъ святыя иконы Богоматерни благодатiю Божiею содѣваются многiя чудеса, прiемлетъ ю въ путеводительницу воинству своему и въ день брани на свеевъ въ щитъ и покровъ, и побѣдивъ до конца врага съ помощiю Богоматерѣ, тѣмъ камень совершенный во основанiе новаго царствующаго града положи, икону же Твою чудную, яко освященiе, яко щитъ и огражденiе, въ сердце града постави. Сего ради вопiемъ Пречистѣй: Радуйся, жилище и доме Христа Бога нашаго; Радуйся, вмѣстилище неизрѣчѣнныя Его славы. Радуйся, граде одушевленный, присно царствующiй; Радуйся, палато преукрашѣнная. Радуйся, Радосте градовъ и весей; Радуйся, непобѣдимое христiанъ въ бѣдахъ хранилище и предградiе. Радуйся, Церквѣ Православныя похвало; Радуйся, Русской земли утвержденiе. Радуйся, христолюбиваго воинства Помощнице; Радуйся, враговъ одолѣнiе. Радуйся, отъ бѣдъ избавленiе; Радуйся, Матерними Твоими щедротами всѣхъ посѣщающая. Радуйся, Заступнице усердная рода христiанскаго».XXIII
Совинформбоюро, конец декабря 1941 г.:
«Вечернее сообщение 22 декабря
В течение 22 декабря наши войска вели бои с противником на всех фронтах. На ряде участков ЗАПАДНОГО, КАЛИНИНСКОГО, ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО фронтов наши войска, ведя ожесточённые бои с противником, продолжали продвигаться вперед и заняли ряд населенных пунктов.
26 декабря (в последний час)
Части 54-й армии генерал-майора тов. Федюнинского (Ленинградский фронт) за период с 18 по 25 декабря разгромили волховскую группу противника. В результате разгрома этой группы нами захвачены следующие трофеи: орудий — 87, станковых пулемётов — 47, ручных пулемётов — 166, автоматов — 57, винтовок — 600, танков — 26, миномётов — 142, грузовых автомашин — 200, патронов — свыше 300 000, снарядов — 18 000, мин — 13 000, гранат — 10 000, велосипедов — 400 и много другого военного имущества. Уничтожено до 6000 немецких солдат и офицеров.
Освобождено от противника 32 населённых пункта.
27 декабря (в последний час)
В боях с немецкими оккупантами войсками Калининского фронта с 17 по 27 декабря ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: танков и танкеток — 103, бронемашин — 6, орудий разного калибра — 180, пулеметов — 267, автоматов — 135, минометов — 86, огнемётов — 6, винтовок — 659, автомашин — 1323, мотоциклов — 348, велосипедов — 213, самолётов — 8, радиостанций — 6, повозок — 115, лошадей — 130, снарядов — 12 200, мин разного калибра — свыше 8300, винтовочных патронов — 778 480, гранат — 1270 и другое военное имущество.
За этот же период УНИЧТОЖЕНО 38 танков, до 20 орудий, 75 пулемётов, 400 автомашин, 23 мотоцикла, 295 повозок с грузом и другое военное снаряжение.
Освобождено от немецких оккупантов 332 населённых пункта.
30 декабря (в последний час)
29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта, во взаимодействии с военно-морскими силами Черноморского флота, высадила десант на Крымском полуострове и после упорных боёв заняла город и крепость КЕРЧЬ и город ФЕОДОСИЯ.
Противник на обоих участках отходит, преследуемый нашими частями. Захвачены трофеи, которые подсчитываются».
Глава пятая. Под знаком Альфы и Омеги
XXIV
В начале января город погрузился в полную тьму и голод, стали затихать бомбардировки и артобстрелы, замерла всякая работа.
Только сейчас, по прошествии четырёх месяцев осады, Глеб до конца осознал, что был не просто свидетелем боя со стаей голодных волков, чей разум давно замутнён сознанием их исключительности, «чистоты» породы их стаи (чистоты вполне иллюзорной). Происходящее оказалось сшибкой двух начал — оторвавшегося от основы и потому ищущего смысла, тайного шифра в делах непонятного, как бы враждебного мира других, мыслящих и живущих в близости к первоистоку, в спокойном владении знанием. Это было попыткой взломать ларец русской жизни, фаустианским стремленьем дойти в ненасытной пытливости до конца, жаждой, питаемой странным — уже превышающим всё, присущее человеку, — желаньем вновь и вновь вопрошать о том, что лежит за пределом предела, жаждой — завоевательной, хитроумной, змеиной, отравляющей всех, кто ей подвластен, заставляющей уничтожать тех инаких, чтобы узнать, почему же они так ведут себя, отчего «не как все», вновь и вновь повторять страшный опыт, это было жаждой, рождающей монстров и каннибалов. Петербург же предстал Глебу тем, чем он всегда был скрыто, потайно — напряжением сил всей России, воплощением несокрушимости и спокойного знанья о прошлом и будущем, о человеке в противостоянье природе и о собственной природе человека. Петербург и Россия не искали «ключей» — они были даны изначально. Глеб вдруг вспомнил, что слышал похожие мысли ещё за двадцать лет до того от Четвертинских. Фёдор, старший брат Сергея, любил повторять: «Всё в языке», — и этот язык дан нам с рождения, надо только правильно им воспользоваться. Так теперь думал и Глеб. Финны, случайные попутчики взбесившейся стаи, не проявляли особой активности. В душе они, пусть мы и разного корня, ближе к нам. Но у стаи есть и союзники — испытатели русской природы под флагом всесветного эксперимента, «всемирного Советского Союза» (как поётся в их гимне). Если рухнет Петербург и восторжествует Ленинград, это будет их общей победой — этих мутных волков, этих Фаустов и их «молоткастых-серпастых» Вагнеров. Глеб понял, что впервые сказал — пусть и про себя — не «мы», а «они» и «их». Но опыт давал ему право.
XXV
Из тетради Глеба:
‹‹6 января 1942. Рождество (старого стиля).
Впечатленья дневной «прогулки»: у Летнего сада брошенный труп, завёрнутый в мешковину, торчат валенки, расплелась верёвка, видно — фигурой — что женщина. Ещё один брошенный труп, ещё и ещё, а тот — босиком, а этот — в носатых ботинках прямо упал на мосту, как шёл, руки в карманы, только на спину — именно так падают умирающие (да-да, остановка сердца). Подошёл страж порядка (в тулупе), видит — закрыты глаза и не дышит — и двинулся дальше. Мимо толпы людей — кто в пальто, кто в телогрейке, кто в шубе, тащат — чаще порожние — саночки и бидоны или с пустыми руками, с пустым желудком, с пустым бесчувственным сердцем, со взглядом, запавшим вовнутрь. А вот и слепой шагает, проверяя палочкой путь. Ощупал лежащего — дальше. Будь я Сологубом-и-Гиппиус с доморощенным их ницшеанством, писал бы примерно вот так. Горите, проклятые книги!››XXVI
Из дневника Веры:
«Голод старит.
Выгорает весь жир. Остаются лишь кожа, кости да мускулы — у мужчин. Нам-то, женщинам, легче, у нас больше жировых отложений и складок, и потому старение не такое катастрофическое. Стараюсь всё-таки не смотреть на своё отражение.
Все диеты, мысли о стройной фигуре — абсурд! Сейчас бы мне те пироги и пирожные, взбитые сливки, вообще любое! Но самое жуткое — Глеб. Он, и прежде худой — одна кожа да мускулы, — теперь весь покрылся морщинами, складками, впадинами. Тело ещё можно скрыть под одеждою, но лицо! Но руки! Кажется, что прибавил лет двадцать пять. Только глаза, как прежде, живые, воспалённо горящие и моложавые. Пока они так блестят — всё хорошо.
Говорит, что не видит, как я постарела, но я-то вижу его, и, глядясь в это „зеркало“, понимаю, что́ с нами случилось».
XXVII
Из тетради Глеба:
‹‹13 января. Старый Новый 1942-й год (канун). — 35 °C, не снежит, но зато слабый ветер. Летопись битвы с холодом: сначала ходил на Крестовский разбирать вместе со всеми дощатые трибуны стадиона, покрытого снегом, напоминавшего кратер в выбоинах от плясок слонов или носорогов. Отвозил на саночках к Вере (она тоже помогала), потом — через мост Лейтенанта Шмидта — тащил под обстрелом к себе. Доски, в конце концов, стоплены. Стадион весь растащили стаи обледенелых человеческих муравьёв. Ещё в начале зимы, до обретения досок, — их хватило, увы, ненадолго, — начал топить книгами. Сжёг: «Советскую музыку», потом немецкого Гёте, потом переводы Шекспира, потом — оригиналы, потом — дешёвого Пушкина (марксовское издание, всё равно помню наизусть), потом мемориальный многотомник графа Толстого — вот этих книг было жаль, но сейчас сама жизнь диктует другую «Войну и мир», потом в ход пошёл Достоевский — «Подросток» и «Бедные люди». Отложил покуда сожжение «Карамазовых», «Бесов», «У Тихона» (гроссмановское издание). Когда бросил в топку «Подростка», подумал: «Вот догорает последний русский пэан „священным камням“ Европы. Не останется даже камней». Уцелело: немного поэзии (Блок, Арсений Татищев), латинские инкунабулы, партитуры, письма, стопка нотной бумаги, чертёжного ватмана и нелинованных чистых тетрадей — эти горят хуже всего. Пока писал — согрелся. Назовём это «Vers la flamme».››XXVIII
Всё чаще, выстояв не один час в ожидании подвоза продуктов, Глеб становился свидетелем повторявшейся с завидной регулярностью сцены — женщины, больше пожилые, упиваясь безнаказанностью, в открытую поносили военную и гражданскую власть, при угрюмом одобрении отводящей глаза вконец измождённой очереди (впоследствии и глаза перестали отводить) и явном безразличии некогда столь грозных сил правопорядка. Милиция, обычно дежурившая у пустых продуктовых магазинов, делала вид, что не слышит озлобленных речей, или демонстративно отходила в сторону. Слова, за которые в первые месяцы войны полагались арест и, возможно, расстрел, больше не впечатляли. Потому что их готовы были произнести каждый второй, если не двое из трёх стоявших за с трудом ужёвываемым хлебом и почти несъедобными жмыхами, из толпившихся у магазинов в несбыточной надежде, что сегодня, может быть, объявят выдачу хоть каких-нибудь круп или — как под Новый год — сладкого. Но, странно, Глеб, сознавая субъективную правду говоримого о предательски безобразном снабжении осаждённого города, об отсутствии у горожан и у властей уважения к собственной судьбе, о ненужной безропотности и рабстве тех, кто одним своим присутствием в городе укреплял дух нашей армии и её желание выстоять и победить, о растоптанном достоинстве, впервые не сочувствовал таким речам. Ненависть к вольной или невольной подлости, к тупому угнетению, ставшая общим местом, выплёскивалась ораторшами именно на тех, кто сейчас отвечал за спасение почти катастрофической ситуации. И разве не эти самые ораторши с ненавистью требовали недавно расправы с подлинными или мнимыми оппонентами их угнетателей — при таком же молчаливо давящем одобрении отводившей глаза толпы? Глеб произносил про себя именно: «угнетателей», ибо давно уже ничего, кроме отчуждения, от власти не испытывал. Сейчас была важна другая ненависть и другая любовь — не та, что движет толпою. Мысли его прервала знакомая ругань:
— Свинские порядки, жалкая, убогая жизнь. Обрекают нас на голодную смерть, на конец в нечистотах. Уборные заколочены, все гадят в подъездах, в разбитых трамваях, прямо на улице. Вот вы, гражданин, где нынче оправлялись?
— У меня допуск в Эрмитаж. Там, знаете ли, в зале, где прежде голландцы, насыпан хороший песочек, так что было всё даже культурно, — невозмутимо и с некоторой бравадой отвечал тот, к кому обратилась говорящая.
— Жалкие, убогие мы, погрязшие в голоде, в дерьме, дышащие невыветряемым трупным воздухом и верящие, что все нам завидуют!
Измождённый милиционер, стараясь сохранить видимость плохо дававшейся ему строгости, приблизился к ораторше:
— В чём дело, дамочка?
— А вы что, думаете, что я сумасшедшая, травмированная? Что таких надо расстреливать? — не унималась гомонившая, с остервенением глядя в лицо представителю власти, один вид которого вызывал сочувствие: глубоко запавшие глаза, изрезанное голодными морщинами лицо, которое теперь могло принадлежать человеку любого возраста, обвислая шинель на огромной фигуре, стекленеющий от недоедания взгляд.
— Докторам решать, кто травмированный. И вообще: идите… Хлеба сегодня не будет, граждане. И крупы тоже не будет. Вообще никакой выдачи не будет сегодня. Идите домой с миром…
Уже стемнело — и надо было успеть до комендантского часа. Опять мутящая сознание, сосуще-голодная ночь.
XXIX
Из тетради Глеба:
‹‹15 января.
Главное не есть грязного клея с обоев — как ни вари их, ничего не вываривается, ремней — их обрабатывают какими-то химикатами — это не сыромятная кожа, какую варили полярники, не есть странного студня, продающегося из-под полы. Бог весть, не трупные ль выварки с ближайшего кладбища? Впрочем, кладбище ныне повсюду. Вера рассказывала, что в замерзающих залах Эрмитажа лежат невывезенными пять десятков покойников. Лучше понос и блевотина, чем помутнение разума. Лучше сосущий голод… Впрочем, это не лучше››.XXX
Именно в минуты последнего телесного унижения — ибо голод был в первую очередь унизителен — и толкающего к небытию отчаяния Глеб вдруг почувствовал, что и в нём есть некая сила, не совпадающая с теми, что действовали вокруг, и что сила эта, подобно пружине, выламывается из прежнего Глеба Альфы. Возможно, во мне заговорил голос крови, голос расы, как любят повторять в своей пропаганде те, кто обрекает меня и сотни тысяч моих соотечественников, пойманных в ловушку осады, на смерть, — зов солнца и юга.
Всё, что я писал, что говорил и делал до того, было неправильно, ибо взгляд мой на вещи был искажён. Теперь я вижу ясно сквозь переставшее быть замутнённым стекло. Теперь мой взгляд просветлён. Он знает концы и начала — всё, что вмещается в промежутке от «а» до «я». Прежний «я» был именно точкой отправки, «альфой» смысла, в полноте своей данного мне только в эти страшные месяцы. Теперь я, Глеб Альфани, знаю, как ответить на брошенный мне вызов.
Мыслям было тесно — Глеб думал сразу обо всём, внутренне стягиваясь в точку, где вре́менное становилось бесконечным. Ровно двести лет назад Бах хорошо отстроил лад собственного клавира. Но мятежно-привольная русская и колеблемо-певучая итальянская душа Глеба Альфани противилась этой всесветной германской темперации. Так темперировать мир нельзя. Конституция умопостигаемого пространства, билль о правах, заносимых на пятилинеечный стан звуков, — сколь либеральны они ни были, оставляли за скобками всё трепетное, нестрогое, невыразимое словами. Вера, «истинная» — Глебов детский, используемый лишь в чтении партитурных ремарок итальянский, стал обратно вплывать в сознание, — полюбила в нём именно это неназываемое, пульсирующее внутри.
То, что слагаю в уме, будет пением преодоления. Не триумфальным, нет, но трепещущим: как голос вечерней молитвы, как общение любящих, как предвестье побед. Но ещё не сами победы.
Пусть пунктиром послужит ритм ми-бемоль минорной прелюдии из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Согласимся с очевидным: никто так хорошо не ритмизовал звуковысотности, как этот лейпцигский мудрец. Но телесное облачение звуков должно ускользать в подлинном пульсе своём от его темперации. Поэтому мы возьмём три инструмента, три виолы, три струнных фиалки с вырезами пламеннозвучных мечей на их деревянных корпусах. (Где их достать в осаждённом городе? Ничего, спросим музейщиков.) Виолу да гамба — «фиалку коленную», корпусом между колен зажимаемую. «Целую твоё колено от боли», — говорила ему в безумной записке, вложенной в карман при недолгом расставании осенью после первых страшных бомбёжек Вера. Виолу да браччо — «фиалку предплечья», в предплечии расцветающую звуками: «Губами к плечу прильну на счастье». Виолу д’аморе — «фиалку любви», самую трепетную и нежную из трёх, чей гриф увенчан вырезанной из дерева головой с завязанными глазами, на ладонь ложащейся. В знак любви безоглядной. «Целую твою руку в ладонь». Пусть их трио поёт и пульсирует, как Глебово тело, разложенное на три голоса.
Назовём это «Сим победиши — ἐν τούτῳ νίκα — (in) hoc (signo) vince(s)».
Потом к ним присоединится контртенор. Уже не мужчина и не женщина — но голос, преодолевший смущаемые, человеческие рамки, где-то за гранью телесного, в пространстве вполне зателесной уже чистоты и чёткости. Раньше такое — у нас, итальянцев, — поручали специальной породе увечных, неплодных в простейшем мужеском смысле соловьёв, в увечности достигающих полноты выразительности. Теперь с отказом от операции на органе, пробуждающем — и во мне — тьму и муку желания, ревнивого и эгоистичного, не просветляемого в такой, как у нас с Верой, от других таимой и нам лишь вполне безграничной любви — теперь такую партию обычно поёт контртенор — самый не мужской и не женский, самый трудный из всех голосов. Но лишь он, контртенор, может в звучании преобразить подоснову того, что сейчас сочиняю, — жар желания — и высветить его в прозрачнейший ток лёгких струй.
XXXI
— Верочка, я начал писать арию. Она вся одухотворена мыслями о тебе и о нашей судьбе. Она будет звучать на четыре голоса — три виолы и один контртенор. Пока я её пишу, я чувствую, что ничего плохого ни с тобой, ни с нами обоими не случится. Что мы пребываем под невидимой защитой. Но ты больше не должна оставаться на Васильевском. Хотя там и не бомбят и не обстреливают. Кому нужны эти условности.
— Я не могу к тебе переехать. Мне нужно думать не только о себе.
— Понимаю, мне давно следовало бы поговорить с Георгием.
— Дело не в Георгии. Я беременна.
— Я же говорю, мне следовало поговорить с твоим мужем. И давно.
— Зачем? Я беременна, Глеб. И какой он мне муж?
— Чей же это ребёнок?
— Твой. Чей ещё.
— Но почему, почему, почему ты не уехала из города, когда была возможность?
— Я была беременна. Теперь уже четыре месяца. Четыре долгих месяца, Глеб.
— Я не могу тебя оставить на Васильевском.
— Придётся и это вытерпеть.
— Я тебя забираю.
— Куда? У тебя постоянные обстрелы. Когда б не зенитки у Исаакия, то бомбили бы тоже. Лучше достань молока.
— На Лиговке у Расстанной держат в сараях коров. Инкунабулы и коллекционные рукописи молочникам не нужны. Но остались небольшой персидский ковёр и пара китайских ваз, сделанных по императорскому заказу, — помнишь те смешные и пузатые с копьеносным всадником, пронзающим тигра? Я их приобрёл как брак. Китайцы слишком почитают драконов.
— Глеб, молоко нужно не для меня одной.
— Думаю, ковёр возьмут, хотя путь к сараям вроде бы ими устлан. Или вазы. Завтра погрузим с Марком на санки и попытаем счастья.
— Достань молока, пожалуйста.
XXXII
Когда Глеб возвращался долгой дорогой по Невскому с огромным, герметично закрытым бидоном замерзающего молока с Лиговки (бидон раздобыл ему Марк), красноватое, затуманенное нарастающим холодом солнце, не садясь, висело в обморочном воздухе, словно отказываясь принимать то, что в дополнение к сковывающему остатки сознания, добела вычищающему город и лица прохожих обморожению, снова задул резкий северо-восточный ветер, усиливая стужу до предела выносимого. «Даже на солнце, в безветрии термометр показывает минус 34 градуса. Сегодня 24 января увеличили нормы выдачи продуктов», — начал было выдавливать карандашом в тетради Глеб (чернила давно застыли), но потом воля к писанию стала покидать его. Тусклая красноватость полдневного солнца приобрела в сознании Глеба мистический оттенок. Таким, вероятно, и должно быть светило при окончательно замерзающем, останавливающемся времени. В точке, где Альфа сливается с Омегой. Он мысленно представил себя, находящегося в данный момент в безопасности минимального тепла, даваемого печуркой, всё ещё стоящим с ёмкостью молока на уличном сквозняке и в упор глядящим на негаснущий космический светильник над Финским заливом.
«Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ», — начал Глеб припоминать когда-то выученное чуть не в шутку, и, перейдя на другой священный язык, на котором прежде молились его предки, мысленно продолжил: «Fulgor diei lucidus solisque lumen occidit, et nos ad horam vesperam te confitemur cantico». Крылатое светило, ровно льющее свет пространству его сознания, было точкой отрыва от всего тягостного и клонящего долу, точкой преображения в последнее и ясное знание. Именно так, «…пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний», встав над Бедой и Горем, встав над Доблестью, ибо то, новое, было даже больше Доблести, Победы и Веры, мы и воспоём «Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит». Именно так на трёх известных сердцу Глеба Альфани священных языках должен возглашать хвалы голос, олицетворяющий всех живущих, в рождаемом под знаком начала и конца, Альфы и Омеги последнем и самом главном его сочинении. Теперь всё становилось на места.
Глава шестая. Стол королей
XXXIII
Сов. секретно
10 февраля 1942 г.
Положение с продовольствием в Ленинграде в январе и в начале февраля продолжало оставаться напряжённым.
Населению в счёт январских норм не отоварены продовольственные карточки по мясу, жирам, кондитерским изделиям.
При потребности в жирах на месяц, для выдачи по карточкам в январе 1362 тонны, населению не выдано 889 тонн.
Из положенных к выдаче 1932 тонны мяса не выдано 1095 тонн.
По кондитерским изделиям требовалось выдать по карточкам в январе 2639 тонны, населению не выдано 1379 тонны.
В связи с продовольственными трудностями, отсутствием в жилищном хозяйстве города воды, света, топлива отрицательные настроения среди населения не уменьшаются…
За последние дни смертность в городе резко возросла. За 10 дней февраля умерло 36 606 человек.
За то же время скоропостижно скончалось на улицах 1060 человек. За 10 дней в городе было 26 случаев убийств и грабежей с целью завладения продуктами и продуктовыми карточками…
За последнее время резко увеличились случаи людоедства и особенно употребление в пищу трупов. Только за 10 дней февраля в городе Ленинграде и пригородных районах арестовано за людоедство 311 чел.
Всего за эти преступления арестовано 724 человека.
Из числа арестованных умерло в тюрьме 45 человек, главным образом лица, употреблявшие в пищу трупы. Дела на 178 человек следствием закончены и направлены на рассмотрение Военного Трибунала, 89 чел. уже расстреляны.
Начальник управления НКВД ЛО
Комиссар гос. безопасности 3 ранга
Кубаткин.XXXIV
Молока, раздобытого Глебом, хватило ненадолго. Его не могло хватить надолго. Вере было ясно, что Глеб может и дальше обменивать имеющееся у него имущество на еду для неё и их будущего ребёнка — трогать вещи, стоявшие на квартире, где она прожила несколько лет с Беклемишевым, Вере всё-таки не позволяла совесть (стыдно было не за сам факт обмана, а за то, что́ потом вскрылось бы) — но и этому Глебову вещеобмену должен прийти когда-то конец. Инстинкт матери, второй, обновлённой Веры внутри прежней Беклемишевой — Боже, неужели я когда-то гордилась этой фамилией? — говорил, что безопаснее покинуть осаждённый город по исправно действовавшей ледовой дороге через замёрзшее Ладожское озеро и поездами добраться потом до Поволжья. А там будь, что будет. В любом случае, то, что она беременна от другого, вскроется, но ради спасения ребёнка и такое решенье приемлемо. Другим вариантом было бы оставаться с бесконечно любимым, но влекомым общим потоком Глебом, так и не разрубившим смелым ударом узла их — да-да, именно их, а не её одной! — ситуации и обречь себя, ребёнка и Глеба на медленный, но неизбежный конец среди одичалых развалин.
И Вера начала собираться в путь. Предстояло покинуть город в ближайшее время, не оповещая Глеба (ради его блага; нет, ради общего их блага и спасенья их ребёнка), взяв с собой только самое необходимое, но ключ от василеостровской квартиры она решила передать через Марка Глебу — пусть потом они с Георгием сами переговорят обо всём, а Глеб заберёт остающиеся Верины вещи, которые ему ещё пригодятся для обмена на продукты. Глебу она собиралась отправить объясняющее всё письмо. Перед отъездом нужно было запастись одеждой, достаточно тёплой для многочасовой поездки по озеру, и, на первое время, провизией. И Вера решила выменять не слишком ей нужное из носильных вещей на продукты на барахолке.
XXXV
Из дневника Веры:
«15 февраля 1942.
Теперь, Глеб, я хочу записать что-то, что касается только нас двоих. Если мы выживем в этом ужасе, или даже: если выживет кто-то из нас, например только ты, просто потому, что смерть твоя для меня непредставима, ты прочитаешь эту запись.
Знай, что я любила, люблю и буду любить тебя всем сердцем.
Всем небом, пусть и затянутым тучами.
Солнцем, появляющимся только изредка.
Воздухом, снова полным отупляющих снарядных разрывов.
Я люблю тебя слепящим, саванным снегом, разделяющим нас.
Я люблю тебя смертью.
Всей надеждой на жизнь — и не мою только.
Amo te plurimum ergo sum. Видишь, моё образование на что-то годится.
Amo te plurimum ergo sum.
Amo te plurimum ergo sum».
XXXVI
Между тем разговоры о людоедстве, сначала глухие, потом всё более обыденные, подтверждались новыми фактами. Пока Фёдор Станиславович был занят подобием научной работы — настоящей работой это назвать было нельзя, — а также выбиванием пайков и дров для совсем пожилых и немощных коллег, спасением редчайших книг и материалов из пробитых снарядами квартир и помещений Академии наук, и тем самым, добыванием себе и жене хлеба насущного в виде академической прибавки к чудовищно тощему карточному обеспечению, Евдокия Алексеевна помогала ему, выменивая всё более или менее излишние вещи в их доме на продукты на барахолке, выстаивая часами в утомительнейших очередях, откуда приносила всё более тягостные известия и впечатления. Четвертинский старался, перемещаясь по центру города, не глядеть по сторонам, но некоторые рассказы жены заставляли и его терять самообладание. Теперь уже никто не выпускал детей на самостоятельные прогулки, даже до школы (если в школе ещё шли занятия). В соседнем подъезде, массивные резные двери которого были сорваны взрывной волной, банда обезумевших от голода людей среди бела дня попыталась раскрошить топорами дверь квартиры, где до прихода родителей за семью замками укрылись трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик, но то ли дверь оказалась хорошей работы — это был доходный дом стройки 1910–1912 годов, во владении которым Четвертинские когда-то имели долю и при «уплотнении» в начале 1920-х власти проявили понимание, выразившееся в том, что Фёдор Станиславович был оставлен тут жить в квартире средней руки — то ли вызванные соседями (дети растерялись от ужаса) стражи порядка подоспели вовремя. Порой Евдокия Алексеевна рассказывала и вовсе невероятное: сегодня утром, в 24-ю годовщину Красной Армии и Военно-Морского флота — на кого нам ещё надеяться сейчас, как не на них! — на ослепительном, сверкающем снегу, недалеко от Таврического сада ей привиделась свежеотрезанная, необычайно хорошенькая голова молодой женщины, почему-то напомнившей чертами Веру Беклемишеву, с такой же, как у Веры, короткой стрижкой. Рядом — окровавленное бельё и тёплые чулки. Тело, очевидно, «пустили в дело».
— Бог с тобой, Дуся, одумайся, что ты говоришь. Да и что Беклемишевой делать в наших краях? Она ведь живёт в центре Васильевского. Ты, должно быть, обозналась.
— Страшно подумать, Феденька, а вдруг она шла на барахолку обменять чего и её заманили и… Страшно и подумать. Бедный Георгий!
— Ну, во-первых, у них там своя барахолка. А во-вторых, я вот слышал, что она не в ладах с Беклемишевым и вроде как сблизилась с Глебом Альфани, а тот и вовсе живёт на площади Труда. Так что совсем ей сюда не по делу.
— Страшно подумать, страшно подумать.
Четвертинский всё-таки сходил после разговора к Таврическому — путь был не дальний, но утомительный. Ощущение праздника — по радио объявили о выдаче служащим и иждивенцам какао сверх карточных норм — улетучилось. Разумеется, никаких следов чьего-то утреннего — или вечернего? — пира он нигде не заметил; ну, разве что в нескольких местах у решётки сада пятна замёрзшей крови, привычное дело при постоянных обстрелах. Но отрезанную голову, а уж тем более вещи могли и убрать, вещи забрать на перепродажу, а голову — действительно, лучше не думать — на студень. «Жена моя сильно сдала, в том числе и психически», — сказал сам себе Четвертинский. Психическое здоровье Евдокии Алексеевны — залог её выживания — сейчас его беспокоило больше всего.
— Тебе это привиделось, Дуся, — твёрдо сказал он жене по возвращении домой и, протянув полученный в магазине пакетик порошка, добавил: — Давай сварим какао.
Часть третья. Весна
Глава седьмая. Три времени смерти
XXXVII
С самого начала осады возле устья Невы курсировали две главные плавучие крепости Краснознамённого Балтийского флота, словно символизируя две фазы Революции, — линкор «Марат» и крейсер «Киров». «Марат», расположившийся у Кронштадта и бивший оттуда всей мощью 305-миллиметровых орудий по наступавшим вдоль южного берега Финского залива германским войскам, напоминал о времени, когда Революция рядилась в одежды кровавой, но философски просвещённой диктатуры меньшинства, пустившей из логической необходимости четверть страны под нож — те, кто уцелеет, будут властвовать на новой земле, в новом небе; «Киров», в момент эвакуации Таллина — флагман и штаб КБФ, теперь вошедший в устье реки и стоявший у 19-й линии Васильевского, стрелявший оттуда поверх городских кварталов, — о фазе временного торможения якобинства, радикализма слов, а не дел и советского «наведения порядка», прерванного выстрелом в коридоре Смольного 1 декабря 1934 года. Это была, так сказать, официальная версия событий, сильно разнившаяся от того, какой Революцию увидели Глеб, Четвертинские и многие, принявшие и не принявшие её. Но пока обе плавучие крепости вместе с линкором «Октябрьская революция» курсировали между Кронштадтом и осаждённым городом, эта версия довлела городу.
В двадцатых числах сентября немцы нанесли сокрушительные авиаудары по «Марату», разрушив носовую башню, корабельные пороховые погреба и рубку управления. Тяжело изувеченный и потерявший треть боевого состава, он теперь не мог сдвинуться с прикронштадтских отмелей, но продолжал отстреливаться стволами остающихся орудий, а «Киров» с «Октябрьской революцией» укрылись в рукава Невы, слившись с разрушаемыми жилыми кварталами, с умирающими дворцовыми ансамблями и парками. Место героического повествования о советском перевороте заступило другое, куда менее возвышенное и неизмеримо более страшное — о превращении всего, что ещё сохраняло осмысленность, в груду строительных обломков, в бессмыслицу и морок.
«Смрадный, зловонный, узкий как залитый помоями чёрный ход город и есть единственное, что у нас осталось, и это — не Петербург», — начал было очередную запись в своей тетради Глеб, но жар всё возраставшего внутреннего возбуждения и, как ему казалось, прояснявшегося взгляда на вещи оказался, увы, тривиальным гриппом, чрезвычайно опасным при голодании. Собрав в кулак остатки воли, Глеб заставил себя проглотить припасённые кальцекс и аспирин, и ещё какое-то количество гомеопатических таблеток. С сильнейшей головной болью, проваливаясь в беспамятство и вновь выплывая из него, Глеб запомнил — или это ему пригрезилось? — что приходил Марк, говорил, что принёс новости чрезвычайной важности, но так и не решился их поведать, долго сидел, оставил какие-то ключи. Глеб допускал, что никакого визита Непщеванского не было, что это была защитная реакция сознания против засасывавшей его воронки, но ключи — вот они — лежали в комнате на крышке рояля. Рядом Глеб обнаружил распечатанное письмо, отправленное внутренней городской почтой, со штемпелем 20 февраля 1942. В письме Вера объясняла причины неожиданной эвакуации, а также сообщала, что Георгию она тоже написала, и «когда через месяц-полтора ты получишь весточку от меня, что благополучно добралась до Поволжья, то попрошу зайти на квартиру, предварительно снесшись с Георгием, и забрать те вещи, на которые я тебе укажу в письме. Раньше не беспокойся, не надо. Да хранят тебя высшие силы. Целую тебя, мой любимый. До гроба твоя Вера». Таким образом, разрешалась и загадка с ключами. Но что же хотел сказать ему Марк? Оглушённый письмом и болезнью, Глеб не сомневался, что чрезвычайные новости должны были касаться отъезда Веры, однако связаться с Марком не представлялось никакой возможности. Квартирный телефон Непщеванского молчал, а в ленинградском отделении ТАССа ответили, что Марка вот уже несколько дней не было в городе.
XXXVIII
«ИЕРЕЙ: Да воскреснет Бог и расточатся врази Его — ХОР: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав, — ИЕРЕЙ: яко исчезают дым да исчезнут — (ХОР повторяет тропарь праздника Пасхи.) тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. (ХОР повторяет тропарь.) Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь! (ХОР снова поёт тропарь.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу — (ХОР повторяет тропарь Пасхи.) и ныне, и присно, и во веки веков аминь. (ХОР повторяет тропарь.) ИЕРЕЙ: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ ХОР: и сущим во гробех живот даровав!» —Мелодию и голосоведение этого торжествующего гимна Глеб знал наизусть с младенчества, когда его впервые привели на полунощницу, переходящую в долгую четырёхчасовую утреню, и лишь в юные годы ему стало известно, что гимн был написан автором «Аскольдовой могилы» — в некотором смысле крёстным отцом последнего из Радзивиллов, и что его автора Алексея Верстовского, как и Аскольда, как и Савроматова, как и самого Глеба, мучительно раздваивало между стихийным, корневым магизмом всосанного с молоком матери языка и его оформлением в преодолевающее стихийность славословие «еже прежде солнца Солнцу, зашедшему иногда во гроб», как сказано в пасхальном икосе.
Решительное выздоровление, мысли о спасении и о Вере теснились в возбуждённом сознании. Но теперь, когда Вера была далеко, Глеб мог со спокойной совестью поставить последнюю точку в нотах арии.
XXXIX
Бомбардировки и артобстрел были особенно интенсивны в пасхальную ночь. Несмотря на огромное желание пойти в церковь, настоятельно усилившееся после того, как Евдокия Алексеевна покинула его, Четвертинский, понимая сколь длинна и опасна дорога, решил не рисковать. С раннего утра методично и редко, но сводя с ума регулярностью гулких ударов, в такт замедлившемуся сердцебиению, стреляли орудия. За пять минут до семи вечера, когда православные мысленно готовятся к полунощнице и читают молитвы, а в церквах начинается литургия Василия Великого, была объявлена воздушная тревога, и здания в той части города, где жил Фёдор Станиславович, задрожали от сбрасываемых фугасов, брызнув щебёнкой, строительным мусором и стеклом недовыбитых окон. Артиллерия противника во время налёта продолжала в том же замедленном темпе бить по кварталам, то зловеще совпадая с разрывами фугасов, то образуя людоедский контрапункт. Шквальный ответный огонь из наших зениток — вверх по невидимым глазу целям — и поднявшаяся авиация через час очистили небо. После наступления комендантского часа, исключавшего саму мысль о крестном ходе, хотя в залитом кровью и нечистотами, разбомбленном городе это было бы сильным зрелищем (если что-то ещё могло впечатлять после всего пережитого), Четвертинский, как и многие, не спал до полуночи, после чего разговелся специально к Пасхе припасённой, выданной по академическому пайку водкой, и, крепко закутавшись в слабо гревшие одеяла, лёг не раздеваясь на грязную постель. Ему было тепло и хорошо и не так одиноко. Но едва Фёдор Станиславович сомкнул глаза, как в срок начала пасхальной заутрени (будильник фосфоресцирующими стрелками показывал час ночи) начался новый, ещё более жестокий налёт. Отбой по городу объявили лишь в четверть четвёртого.
Утром стылые, морозные улицы были залиты новыми лужами крови от убитых и раненых. Значит, кто-то всё-таки, вопреки запрещениям, пошёл с наступлением сумерек в церкви. Дул холодный ветер с залива. По-прежнему ухали тяжёлые немецкие орудия. Была видна только наша авиация — врага, бесовских его легионов в небе 5 апреля 1942 года, в день Светлого Воскресения Христова не было. Вид новых разрушений и большого числа трупов на улицах в холодный, пусть и праздничный для многих — а по советскому календарю рабочий — день подавлял. Зная о немецком уважении к расписаниям, Четвертинский не сомневался, что бомбёжка не была импровизацией. Он представил себе соответствующего чина ВВС, пригласившего — где-нибудь в Царском Селе или в Гатчине — священника для деловой беседы и делающего пометки в записной книжице. «Вечерняя служба в семь, говорите, по всем приходам? Крестный ход в полночь? А заутреня в час? Дрова на отопление церковных помещений? Хорошо, мы учтём ваши пожелания. Вот кофе, печенье. Угощайтесь. Сегодня строгий пост? Мы уважаем местные обычаи». С кем-то другим тот же чин разговаривал бы о поздних квартетах Моцарта. С Четвертинским — вероятно, о лингвистике, об общем наследстве индоарийских — с непременным упором на арийскость — языков. Пресловутая культурность была оболочкой откровенного людоедства, насаждаемого триумфаторами и среди порабощаемых племён. Четвертинский снова с содроганием подумал о подозрительном студне и котлетах, продававшихся из-под полы на чёрном рынке. Легко представить, какое разнузданное дикарство восторжествовало бы в случае абсолютно невероятного — Фёдор Станиславович теперь был убеждён, как никогда прежде — торжества национал-социалистов, этих певцов племенной нирваны. Единственное, что ещё занимало пытливый ум учёного, — это циркулировавшие несколько месяцев упорные слухи о некоторых бывших знакомых и учениках, оказавшихся в немецкой зоне и вставших на сторону рьяных борцов с безбожным большевизмом, что, учитывая быстрый захват врагом пригородов в августе-сентябре, было не исключено. «Немецкая власть не менее безбожна, чем наша, — говорил сам себе Четвертинский, — но с нашей мы разберёмся после войны. Эти же только садистически бьют день и ночь по городу, равного которому им самим не выстроить, только медленно душат удавкою голода да заливают кровью улицы — и когда? В день Светлого Воскресения».
XL
«Когда шли мимо Литовского замка, начал вспыхивать магний, как если бы ясного августовского солнца было недостаточно для позора, каким был окрашен весь ритуал со времён погребенья разрубленного и быкоголового бога невской (нильской?) воды: тело, завёрнутое в иероглифы песен, — в землю, чтобы потом, когда сроки пройдут, проплескать сквозь бьющие воздух созвучья, сквозь ряды метранпажевых линий ветром нерукотворных страниц». —Строки эти со второй страницы татищевского «Светозвучия» могли описывать только похороны Блока.
Где он, сожжённый в революцию Литовский замок, мимо пустынных стен которого, Глеб помнил ясно, шла процессия 10 августа 1921-го? Где те, кто шел мимо его стен? Теперь, когда весь город стал этим Литовским замком — тяжеловесным, давящим застенком, сначала возведённым на плечах и костях его, Глебова, поколения, потом сожжённым и разбомбленным в урагане войны, — теперь, когда обряд египетского погребения, провидчески предсказанный из 1921 года, стал повседневной обыденностью и по широкому проспекту 25-го Октября который месяц тянулись тележки, саночки, просто куски фанеры с привязанными к ним верёвками, на которых лежали замотанные в простыни бездыханные тела, теперь, когда слухи о ритуальном почти рассечении трупов перестали давно волновать (Глеб сам видел штабеля этих изуродованных, замороженных тел с отрезанными ляжками и прочими съедобными частями — человеческой говядины для каннибалов), именно теперь в преддверии весны и цветения, накануне неизбежного возрождения мира Глеб начал по-настоящему осознавать масштабы произошедшего обрушения, в сравнении с которым любая, даже самая невыносимая реальность прошлого выглядела райской. Этой зимой случилось внутреннее крушение человека — полное и безвозвратное — и на его месте встал кто-то новый, обладающий с прежним насельником прекрасного города только паспортными данными. Сам Глеб, надо признаться, страшился этой новообретённой, теперь и ему присущей зачеловеческой силы. Сила эта была не физической, а какой-то иной. На физическом уровне сказывалось глубокое изнеможение от перенесённого на исходе голодной зимы гриппа.
Наступила Радоница, когда, как учила Глеба мать, следовало посетить могилы родителей. И Глеб отправился на разорённое Выборгское кладбище, где в 1915 г. был погребён отец Владимир Георгиевич, а за восемь лет до того и дед Джорджо Альфани. Деда Глеб помнил плохо.
Место кладбища теперь занимал чугунолитейный завод. Всё ещё колола небо иглой готическая колокольня. И хотя охрана нет-нет, да и косилась на Глеба, бредущего вдоль когда-то кладбищенской — теперь заводской — стены, а самих надгробий за стеной уцелело мало, Глеб всё-таки смог поверх стены разглядеть то место, где когда-то лежали дед и отец, и мысленно попросил Бога если не о покое их растревоженного праха, то хотя бы о том, чтобы неизбежная встреча там была счастливой. «А ведь придётся с дедом напрягать познания в итальянском. Какая ерунда! Разве там различают, на каком языке говоришь?»
15 апреля, наконец, пошёл трамвай. Пора была исполнить давнюю Верину просьбу. Странным образом отсутствие известий только успокаивало Глеба. Значит, у Веры всё хорошо, непременно всё хорошо.
Глеб ранним утром сел на шедший через площадь Труда, переполненный до предела транспорт (это был маршрут номер семь) и через мост Лейтенанта Шмидта, чуть поодаль от которого тускло поблёскивала стальная громада «Кирова», затем по набережной Лейтенанта Шмидта, а дальше по 8-й и 9-й линиям Васильевского острова и по проспекту Мусоргского — сколько раз он ходил зимой этой дорогой! — доехал до трамвайной петли возле 24-й и 25-й линий, рядом с трампарком. Вера жила совсем неподалёку.
Через десять минут он уже поворачивал ключи в двери беклемишевского жилища (электрический звонок ещё не работал, а на стук никто не отозвался), а ещё через минуту стоял в прихожей. Всё здесь было как прежде, и казалось, что Вера только что вышла, хотя её не было в этой квартире уже около двух месяцев. Возле вешалки лежали полустоптанная пара осенней женской обуви и тщательно, по-мужски увязанные тюки с тёплым зимним бельём и более лёгким носильным (Глеб со впервые шевельнувшейся ревностью отметил про себя, что так увязать их могли только Марк или Георгий), а также маленький узелок с бумагами и двумя книгами. Нехитрая косметика — пудреница, карандаши — была оставлена возле зеркала. Глеб втянул ноздрями воздух, и запах давно, внезапно и второпях покинутого помещения не предвещал ничего хорошего. Он шагнул в жилую комнату, где в утренних лучах также красовался средних размеров холст с оранжевыми бегемотами-зебрами и крылатыми керберами-симарглами у Банковского моста. На прикрывавшей крепкий стол сетчатой в красных тканых цветах скатерти — из поволжского имения отца Юлии Антоновны, как рассказала в один из его зимних визитов сюда Вера — стояла недопитая эмалированная кружка давно замёрзшего кипятку. Ладная металлическая печка, приобретённая Георгием Беклемишевым ещё в начале осени, была полна прогоревшей золы. Объяснений никаких не требовалось. Глеб больше не сомневался, что Непщеванский приходил с известием чрезвычайным. Но почему, почему, почему это случилось именно со мной? Почему с нами? И почему я узнаю об этом последним?
Откуда Глебу было знать, что Беклемишев вот уже несколько недель лежал с тяжёлой контузией в одном из госпиталей осаждённого города (их запертый льдами в устье Невы корабль, с которого Георгий считывал и переводил радиопереговоры противника, накрыло бомбовыми и снарядными разрывами), а Непщеванский был убит снайпером при фотосъёмке на Ораниенбаумском плацдарме, и подробности услыхать теперь было не от кого.
Глеб тяжело опустился на почему-то не стопленный за зиму хороший резной лакированный стул в гостиной и так просидел до сумерек.
Глава восьмая. Князь Туманов
XLI
Он соткался из балтийских мороков, из шёпотов, из шелестов ветра в листах развороченного железа и мусора, из красного от холода солнца, из миражной приподнятости — поверх расчерченных улиц — тех изначальных образов, что бередили сознание и Четвертинского: всадника, потока, грозы — соткался, ударив огнём из нацеленных на город с юга и с юго-запада орудийных жёрл, обрушился щебнем и едким дымом и оплотнел фигурою, которую Фёдор Станиславович вот уже который день чувствовал за собою, когда возвращался из Публичной библиотеки к раненному авиабомбой, но ещё пригодному для житья дому на Староневском. Оглядываясь, он видел, как фигура эта, легко и изящно сложённая, в шедшей ей военной форме, терялась в толпе, переходила во вьюжном снегу на другую сторону улицы. «Вот он сопутник страхов моих, князь моих бредов», — говорил сам себе Фёдор Станиславович. Иногда воздушная тревога или начало обстрела заставали у Аничкова моста, но глубокая нечеловеческая усталость понуждала Четвертинского либо игнорировать опасность совсем и продолжать бесчувственное движение по менее опасной при обстреле, но так же губительной при налёте стороне проспекта, либо вставать в первую попавшуюся арку на той стороне Фонтанки и пережидать разрывы бомб и снарядов. Присутствия ставшего за последние дни постоянным спутника за собой Четвертинский тогда не чувствовал.
После того как он свёз зашитое в старую простыню на саночках тело жены в Таврический сад, превращённый в огромный морг (до кладбища добраться не хватило сил), вдруг стали навещать те, с кем не успел договорить и доспорить. Вчера, например, он явственно услыхал сзади голос известного индолога. Тот возражал на критику Четвертинским параллелей между буддийским «потоком» и интуитивизмом в восприятии времени у Бергсона. «Но послушайте, князь, Бергсон-то индивидуалист полнейший, картезианец в квадрате, — начал в ответ Четвертинский, не оборачиваясь. — Не вам и не мне, князь, петь хвалы индивидууму после всего произошедшего. Напротив, мы как люди наступающего послечеловеческого будущего, как люди после крушения человека…» Он твёрдо знал, что его собеседника нет в живых. Он сам только что был на его квартире и разбирал его библиотеку перед тем, как организовать её перевоз в хранилище Академии наук.
День 16 апреля выдался солнечным. Грязь и слякоть подсыхали очень быстро, хотя повсюду ещё лежали горки неубранного мусора и нечистот. Накануне пустили трамвай, и забытый за мёртвую зиму лязг вагонного движения мешался с пением жаворонка. «Птица весны и жизни на нашем кладбище, — подумал Четвертинский. — Какой любви она ищет здесь, среди горя, гниения, смрада?» Давно привыкшие к орудийной пальбе, люди шли по улицам, и ничего, кроме изнеможения, не отображалось на их лицах. Появились первые докучливые мухи. Они непонятно радовали сердце Фёдора Станиславовича, и Четвертинский даже не стряхивал их с рукавов и лица. Жизнь в простейших, неистребимейших формах пробуждалась мощными толчками, и надорванное сердце, иссушенная горем душа, опустошённые голодом мозг и желудок начинали вибрировать в лад трепетанию чего-то уже позабытого, но по-прежнему молодого. К немалому изумлению, Четвертинский отметил стайку порхающих бабочек над тротуаром, но никак не мог вспомнить латинского имени их породы. Всё солнечное и мирное давно отодвинулось в дальний угол его сознания, и только с началом запоздалой оттепели его стало понемногу выдувать оттуда. «Вспомню, сегодня же вспомню», — уверял себя Фёдор Станиславович, но думать ему больше не хотелось. «Наша бедная советская Персефона пришла навестить нас из царства теней», — только и сложилось в его голове.
Больше обычного обессиленный, Четвертинский прислонился к массивной квартирной двери, полез за ключом в глубокий карман пальто, но дверь, поддавшись его давлению, медленно отворилась сама. Привыкнув за зиму ничему не удивляться, Фёдор Станиславович шагнул в огромный пустой коридор — почти всё, что можно было обменять на продукты, было обменяно, — и тусклое зеркало отразило потёртое пальто, драный шарф и грязную шапку, нахлобученные на нечисто выбритого, очень худого человека с воспалённым взглядом. Скользнув с неприязнью по собственному отражению, Четвертинский, не снимая шапки и не разуваясь, направился на кухню, где, охваченный заполнившим окно предвечерним светом, попивая кипяток из его любимого стакана, сидел не по-блокадному, а как-то щегольски, спортивно худощавый и не по-зимнему загорелый военный с петлицами лейтенанта НКВД. Лица непрошеного гостя от заоконного света, резанувшего по глазам, разглядеть сразу было нельзя.
— Извините, что побеспокоил вас в вашем уединении, — начал незнакомец.
— Чем обязан? — весь напрягшись, спросил Четвертинский.
— Видите ли, Фёдор Станиславович, я несказанно рад вас видеть. После стольких лет вы даже представить себе не можете…
— Это допрос, арест? — перебил хозяин.
— Помилуйте.
— Тогда к делу, пожалуйста.
Четвертинский сел у стола спиной к свету. Только сейчас уличный холод стал отпускать его, и он расстегнул пальто. Гость, казалось, был нечувствителен к температуре и сидел в стылом помещении без шинели. Даже пара изо рта его не выходило, и это только усиливало ощущение сна. Лейтенант широко улыбался ртом и глазами, и подстриженные его усики в сочетании с гладко зачёсанными назад тёмными волосами и свежим ещё обмундированием придавали ему театральный вид. Четвертинский сразу понял, что знает этого человека — давно и очень хорошо, но между той жизнью, где они много и плодотворно общались, и нынешней пролегла ледниковая толща неистребимого холода, голода, нечистот, кровавых поносов, постыдных страданий, дышащей в спину смерти.
— Ираклий, чем я обязан…
— Именно. Дело к вечеру, нам предстоит обо многом переговорить, Фёдор Станиславович. До комендантского часа, пожалуй, что и не успеем. У меня, конечно, есть пропуск, но я сегодня свободен, и, если позволите, заночую у вас.
— Конечно, оставайся… Евдокия Алексеевна умерла, её кровать свободна.
— Вот хороший спирт. Вечная память!
Выпили не чокаясь. Спирт обжёг гортань и носоглотку, Четвертинский чуть не задохнулся.
— Так ты, Ираклий, вы, Ираклий Константинович…
— Без отчеств, Фёдор Станиславович. К вам третьего дня приходили из Академии наук, говорили ожидать важных гостей из Ташкента?
— Было дело.
— Ну, вот я и приехал. Прямо из Средней Азии в командировку сюда. Через озеро на грузовике. По ледовой дороге — лёд ещё крепкий.
— Я, признаться, думал, что речь шла об эвакуации.
— Разрешите, во избежание лишних вопросов, представиться, — гость вынул удостоверение. Оно было выписано на имя лейтенанта Ираклия Константиновича Небуловича, командированного с особым поручением в распоряжение начальника управления НКВД Ленинградской области комиссара государственной безопасности 3-го ранга тов. Кубаткина.
— Так ты теперь украинец?
— Ну, не от латинских же тумана, чада и облака!
— До меня доходили разные слухи, Ираклий.
— Дыма без огня не бывает, Фёдор Станиславович. Перейдёмте к делу. Мы прочитали ваше письмо к коллеге, и многое нам там понравилось. Особенно ваша аргументация в пользу большей близости русского к незамутнённым индоарийским корням.
— Да, но письмо даже не было отправлено. Я имею лишь приблизительное представление о местонахождении профессора Покорного. В Бельгии, если не ошибаюсь…
Гость подвинул кончиками пальцев незапечатанный конверт:
— Вы думаете, что мы изгнали Покорного из Берлина потому, что он наш враг. На самом деле он работает на общее дело, и нам абсолютно безразлично его неарийское происхождение.
— Кому нам?
— Немецкой революции нужны такие люди, как вы, Фёдор Станиславович. Мы завершаем дело, начатое большевиками. Всем — труд, смерть — городам, жизнь на свободной земле. Рабочий возвращается к первобытному раю, становится пахарем-арием. Мы — охраняющее его войско, вы — каста мудрых жрецов. Русской революции, я думаю, такие люди тоже нужны. Только наш «оборот» полный: мы идём до конца, за пределы… гм… экономизма. Что скажете?
— Если это провокация…
— Что вы, если это провокация, то только в высшем, нематериальном смысле. И потом, я вас слишком уважаю, ваши лекции открыли мне глаза слишком на многое, чтобы я занимался сейчас такой ерундой. Моя борьба, наша борьба — а всё, что происходило после моего исчезновения из вашего поля зрения и присоединения к движению, к партии стало такой беспощадной борьбой, — она была бы невозможна без убеждённости, зароненной в моё сознание вами. Вы — мой настоящий учитель.
— Чего же ты хочешь сейчас, Ираклий?
— Конечно, имён, Фёдор Станиславович, — гость достал записную книжицу в кожаном переплёте и карандаш. — Но и не только их. Мы с вами — русские люди, а русский непременно думает о будущем. Буду откровенен: общие принципы грядущего миропорядка уже ясны. После нашей победы, а я в неё верю твёрдо, — справедливость и, как я уже говорил, работа для всех, возмездие врагам арийского единства и главным виновникам бездарной российской власти, подъём жизненного уровня, восстановление частной собственности — как без неё обрабатывать землю, содержать войско и поддерживать вас, учёных жрецов? — и личная свобода. Конечно, кое-кого придётся расстрелять и даже повесить.
— Я не учил расстреливать или вешать.
— А шуты на деревьях в вашем письме? Спишем на неизбежные издержки войны. Германское командование послало меня к вам с особой, я бы сказал деликатнейшей, миссией, связанной с формированием нового свободного управления в будущем образцовом центре России — в Санкт-Петербурге.
— Всё, хватит, — Четвертинский стукнул по столу кулаком.
— Учтите, — спокойно, постукивая ногтем по удостоверению НКВД, но довольно жёстко осадил его гость, — что это будет приравнено к отказу от сотрудничества.
— Кем, Ираклий?
— Любой стороной. Любой из двух, Фёдор Станиславович. Вы, заговорив со мной, уже стали соучастником. Ведь вы же не пойдёте в НКВД жаловаться на сотрудника комиссариата. А уж тем более германским военным властям на их посланника. Линия фронта; за перебежчика сочтут обе стороны. Теперь от вас потребуется самая малость. Пройдёмтесь по списку будущего правительства. Это должны быть выстоявшие люди — белая кость, ясный ум. Итак: князь Щербатской.
— Он умер четыре недели тому в Казахстане, в эвакуации. Я имею об этом самые достоверные сведения.
Гость что-то пометил в книжице.
— Очень жаль. Светлейший ум. Бергсоном увлекался, правда. Мы знаем о ваших разногласиях. Но сопоставление Канта с буддизмом ему в плюс. Беклемишев? Вы его, кажется, очень ценили ещё в бытность Георгия Васильевича студентом. Большие надежды, говорили, подавал.
— У Георгия, как я слыхал, семейная драма.
— Тем меньше связывает его с прошлым. Нам нужны люди, способные к действию, а не пленённые чувством. — Гость продолжал свои пометки в книжице. — Глеб Альфани?
— Он всегда был красным.
— Но и мы ведь за справедливость. Не находите ли, что солярный символ лучше подходит для камня, на который взобрался Фальконетов всадник, или вершины Александровской колонны, чем серп и молот?
Четвертинский упорно молчал.
— Вы сами, Федор Станиславович Четвертинский. Князь Святополк-Четвертинский.
— Покорнейше благодарю.
— Отступаться поздно: вы обо всём уже знаете. Соучастие. Вероятно, в списках должны быть и я, и ещё ряд лиц, намеченных германцами и служащих им, но русских сердцем, — администрация как-никак союзная: молодые барон фон Унгерн-Штернберг, зондерфюрер барон фон Медем.
— Не очень русское правительство получается. Мы, Святополк-Четвертинские, сильно смешались с поляками, ты, Ираклий, сколько помнится, грузин.
— Что же, Сталин может властвовать над всей Россией, а родня Багратионов Тумановы, подлинно царской крови — чем мы не вышли?
— Это какой-то балаган, — не выдержал Четвертинский.
— Не волнуйтесь так, Фёдор Станиславович. Вы в любом случае нам сильно помогли. Кем бы мы ни были. Вот ваше алиби, — гость повертел книжицу, зажатую между средним и указательным. — Ах да, запамятовал. Я не так давно был по делам в Париже, виделся там с вашим братом.
Четвертинский вздрогнул.
— И, конечно, ты представился ему как лейтенант Небулович?
— Почему же! Как унтерштурмфюрер СС Ираклий Туманов. Кстати, Сергей Станиславович согласился на нас работать.
— На кого — вас?
— Вам, вероятно, любопытно взглянуть, как брат теперь выглядит. Я согласился взять кое-какие фотографии. Поймите, это было связано с огромным риском, но из бесконечного уважения к вам, к тому, что вы для меня сделали…
— Не надо.
— Ваш брат только заканчивает исследование об искусстве — как он мне говорил, главный труд жизни. Называется «Столетие русской славы». Он ведь когда-то очень дружил с Глебом Владимировичем? Мы бы и рады помочь с изданием, но есть более неотложные задачи нашего общего дела. Издадим по окончании этой бессмысленно затянувшейся…
— Хорошо, Ираклий, давай сюда фотографии.
— Рассвело. Мне пора уходить. Всё никак не выучу новых маршрутов трамваев. Возвращаться в сторону Нарвской заставы. Там у нас безопасный проход в сторону Царского Села.
— Тогда тебе на девятый…
Стоя тягостным облачным утром 17 апреля на углу Володарского и проспекта 25-го Октября и провожая взглядом отражающийся в намёрзших за ночь лужах трамвай, только отошедший в сторону площади Стачек, Фёдор Станиславович всё никак не мог прийти в себя от проведённой ночи и столь же внезапно материализовавшегося, сколь внезапно, словно дым, растаявшего собеседника, а потому, в укрепление подвергшегося испытанию духа, мысленно повторял: «Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением…» Кем бы ни был его ночной гость, защитительная молитва не могла повредить Четвертинскому.
Глава девятая. Ленинград
XLII
Тетрадь Глеба:
«20 апреля 1942 г.
На улице тепло, даже жарко, но в комнате и на сердце — лёд. Даже печь не топится: дым не идёт из холода в теплынь, а внутреннее не прогревается никаким усилием. И ничего поделать с этим нельзя.
То, что я сейчас запишу, — очень важно, и не для меня одного.
Мы долгое время думали, что нам угрожает внешняя сила — сначала сила подавления и произвола, порождающая страх, потом сила военная, в открытую истребительная, не оставляющая возможности укрыться. Мы забыли, что враг находился не вовне, а внутри каждого из нас.
Я, когда-то поверивший Революции, приветствовавший её как рассвет национально-религиозного освобождения, столько говоривший об этом в те лихорадочные месяцы с Сергеем Четвертинским — о внутренне родном, соединявшем многих из нас, — а потом удивлявшийся тому, что порыв к расцвету сменился казёнщиной и, уже когда Сергей и Савроматов оказались в Париже, всё ещё упорно работавший над связываньем разных звеньев нашей музыкальной, религиозной и политической мысли (Никандр потом в ответ на отпечатанную под оком реввоенцензуры книгу набросков прислал из Франции язвительное письмо — мол, ну для чего, милый Глебушка, столько усилий, можно и писать обо всём этом, а можно и писать саму музыку; ему легко, ему дан композиторский гений, но не отмерено сопонимания) — я уже тогда осознал, что и моя душа ходит в серой шинели и солдатских обмотках, что она была с нищей, бесприютной, посланной на убой толпой красноармейцев, у которых в девятнадцатом оставался только один выбор — погибнуть или, выстояв, не допустить торжества пресловутых борцов с нашей смутой. Разве эти борцы сами не были частью смуты? Страшно и подумать, какой человек середины — а Революция была чем угодно, но не делом людей середины — воцарился бы при реставрации интеллигентского рая. И с какой силой рвануло бы во все стороны после недолгого торжества.
Мы были тем, что давало порыву вперёд баланс, опору на память, на знание.
Но потом пришли комсомольцы. Что они знали о дыхании реставрации? И когда их орава заткнула нам рот, сняв торможение с маховика Революции, то мясорубка смолола и их самих. Обновленье без памяти, остававшейся у нас, не у них, давало лишь бесконечно ускоряемое вращение вокруг собственной оси. Казалось, смене худшего ещё худшим не будет конца, и когда вдруг захотелось отрезвляющего удара извне, то пришли немцы.
Мы, наивные, думали, что комсомольцы — это другие. Но разве мы не корили себя самих за нерешительное отвержение прошлого? Что ж открещиваться от тех, кто шёл до конца? Мы думали, что немцы — абсолютно внешняя сила, тщащаяся разрушить то, как мы жили. Но разве то, как мы жили, нам нравилось? И разве, будь мы готовы встать сразу и прочно на их пути, они бы дошли сюда, взяли бы нас в кольцо? Мы думали, немцы — „другие“ в квадрате.
А это всё были мы.
Апрель месяц. Числа и года не было. Время остановилось.
Кончилась партитурная бумага. Нет желанья линовать огромные, больше никому не нужные ватманские листы. А чернил и грифеля, как в насмешку, хоть отбавляй. Как и чертёжной сверхпрочной бумаги (она просто плохо горела зимой). И вообще — нету сил. Но главное, последнее, то, что неотменимо прояснилось на исходе ужаса: в тишине, без налётов и обстрелов и без сосущего голода, — в мозгу. Серия вариаций, зазвучавшая под сирены первых налётов вечность назад — фантастической осенью — задумана правильно. Какая тут диалектика я и не-я, мы и не-мы, когда внешнее и внутреннее одно, когда враг и товарищ только личины нашего собственного страха, самообмана, доблести и позора.
Не может быть контрастирующих тем, розно окрашенных голосов.
И быть не должно инструментов.
Действуют только основные явления и состояния в многообразной своей сочетаемости:
Но знаю, как называется дело моей жизни, дело моей смерти, и я впервые не стыжусь произнести это название. Я, восемнадцать лет избегавший его и надеявшийся на воскрешение звонкой тени. Но тень стала вдруг пожирать солнце, выпивать иссосанное голодом, отравленное бесконечной печалью сердце.
Музыка уходит в подземное, а оно разрастается душным пожаром, заслоняя видимый свет.
Так вот — оно называется „Ленинград“. Именно так: Ленинград».
Лето — осень 2009, ПиттсбургIV. Незабытый поэт (Дополнение к «Ленинграду»)
I. Предисловие публикатора
В истории каждой культуры и её языка бывают моменты глубокого кризиса, когда ясны и прерыв по отношению к предшествовавшему, и выход за его пределы. Именно тогда возникает перевод того, что в прежние времена было понятно и без переводов, на лексически, синтаксически и образно новый язык.
Именно в момент осознания, что связь с прежним наследием разорвана окончательно, в осаждённом Ленинграде был написан текст, также представлявший попытку осмыслить перевод с классического на новый русский язык и даже осуществить такой перевод на практике. Речь идёт о небольшой рукописи, помеченной февралём 1942 года и посвящённой одному из подававших большие надежды, но впоследствии забытых поэтов начала 1920-х, каких в раннесоветское время было немало в дичавшей и умиравшей бывшей имперской столице.
Об авторе обнародуемой рукописи известно то, что он был 1900 года рождения, уроженец Санкт-Петербурга, происходил из смешанной русско-итальянской семьи. Его отец и дед похоронены на католическом Выборгском кладбище, чья территория после революции была «переоборудована» под чугунолитейный завод (промышленная зона находится там и по сию пору), а в первые месяцы войны использовалась как место для учебных стрельб. Автор жил до войны по адресу площадь Труда, д. 6, был научным сотрудником Института истории искусств, публиковал работы по истории музыки и литературы; ему принадлежат также несколько вокально-инструментальных композиций, одна из которых помечена первыми месяцами блокады.
О герое статьи неизвестно больше того, что сообщает сам написавший. Звали автора обнародуемого текста Глеб Владимирович Альфани.
II. Незабытый поэт (штрихи к литературной судьбе Арсения Татищева)
Кажется, только двадцать лет прошло со дня публикации этого небольшого сборничка, но слово «только» неприменимо к предельно насыщенному событиями промежутку, обозначившему наш разрыв с эпохой, когда стихи, подобные татищевскому «Светозвучию» (о нём и пойдёт речь), могли ещё быть не только записаны, но даже благосклонно приняты читателем. Даже само имя их автора вызовет недоумение у многих преданных любителей отечественного слова; оно может показаться выдумкой, миражем; но нет — я держу в руках маленькую квадратную книжечку на плохой бумаге с библиофильскими виньетками, чудом уцелевшую в испытаниях последних месяцев и не только не потерявшую, но и обретшую — во всяком случае, для меня лично — дополнительное очарование.
Илл. 1. Арсений Татищев на заседании памяти Александра Блока в петроградском Союзе писателей, 1921 г.
Я видел её автора несколько раз. Мне было известно о нём то, что в годы, как тогда говорили, Великой войны он был в действующей армии и получил ранение. Но кого из тех, кто по возрасту подлежал во второй половине 1910-х призыву, возможно было этим удивить? Арсений Степанович Татищев резко выделялся из толпы не столько чертами лица, хотя по лицу его были заметны достоинство и порода, сколько ростом и всегдашней отрешённостью взгляда. На одном из собраний литературной общественности — организованном Союзом писателей заседании памяти Блока — Татищев, голодный и внутренне сосредоточенный, попал в объектив фотоаппарата. Кажется, это его единственный уцелевший снимок[28].
Высокий, с военной выправкой, с зачёсанными слева направо гладкими волосами и аккуратно подстриженными короткими усами, Татищев всегда появлялся в неизменной и аккуратно вычищенной, хотя и заношенной, шинели с петлицами. В этом не было вызова — ему просто нечего было больше надеть. Говорил он тихо; я, признаться, даже не помню его читавшим стихи. Но многие, в том числе и я, знали, что это — недюжинный стихотворец, и именно в стихах послереволюционного времени, собранных в крохотную книжку, сказались особенности татищевского таланта. Поэтическую его интонацию тогда трудно было определить; мне по причине того, что я ясно запомнил его участие в литературном поминовении Блока, сначала почудилось в ней нечто блоковское; но сейчас, после опыта расчеловечивания, через который прошли все мы, Блок представляется мне и страшней, и блистательнее всех, кто тогда, как казалось нам, продолжал его дело. Просто Блок внутренним оком увидел то, через что мы страдательно прошли спустя пятнадцать-двадцать лет.
Илл. 2. Ника с венком в правой руке и пером в левой в начале Конногвардейского бульвара [съёмка Андрея Самойлова, 2011 г. — кадр из фильма «Ленинград» (2014–2015)].
Татищевский же голос в поэзии был, в отличие от пророческого блоковского, одновременно хрупким и сильным, изощрённым и предельно простым. В нём дышали XIX век с его изгибчивой формой (особенно Фет) и новые для нас тогда поветрия с европейского Запада (то, что воплотилось в сюрреализме). Это была поэзия отчасти сновидческая, полная большой, но совсем не навязывающей себя читателю культуры. И в этом заключалась её странная сила и одновременно уязвимость.
Я незаметно перешёл от воспоминаний об авторе «Светозвучия» к оценке стихов, так и не ответив на наивный, но неотменяемый вопрос: о чём эта крошечная книжка? Тогда, в 1919–1922 гг. было совершенно ясно, что это стихи о нас, перевёрнуто живущих в перевёрнутом нами самими мире. Но мир может быть перевёрнутым, если сохраняется некая точка отсчёта, «норма». Разница между временем, когда я впервые прочитал «Светозвучие», и тем, когда пишу эти строки, заключается в том, что «норма», «канон», «основание» видятся теперь навсегда разбитыми и опираться не на что. Всё интонационное новаторство и содержательная глубина «Светозвучия» повисают в воздухе произошедшей с нами и на наших глазах катастрофы, их просто нечем мерить. Они — даже для меня — только фрагмент частично уцелевшего в жадном огне и в ледяном ветре папируса, поддающийся только приблизительной классификации относительно места записанного на нём в утраченном целом, которое (целое) было вполне себе живо, когда под благоволящим оком революционной военной цензуры сборник был отпечатан в Петрограде.
«Светозвучие», о котором я пытаюсь написать нечто более или менее вразумительное, состоит из двенадцати небольших стихотворений. Странно, но приходится напоминать, в том числе и себе самому, о магических смыслах дюжины, необязательно календарных (сутки, разделяемые напополам, год).
1 См. илл. 2 — И. В.
2 См. илл. 3 — И. В.
«Светозвучие» было написано Татищевым как своего рода молитва, как заговор от подступавших бед, и, как таковой, этот цикл поразителен, ибо ни разу не превращается в нечто прямолинейное, не теряет своей суггестивной силы.
Илл. 3. Похороны Александра Блока. Процессия минует сожжённый Литовский замок.
Мы знаем, увы, что в бедствиях последнего времени не помогла и молитва. Произошло то, что должно было произойти.
Но как удивительно, видя вокруг лишь голод, болезнь, нечистоты, руины, повальную смерть, знать, что ещё двадцать лет назад была жива вера в возможность заклясть приближение этого словом.
Веры такой у нас больше не будет, как не будет такого слова (оно точно будет другим), но мне не хотелось бы, чтобы оно было с пренебрежением забыто. Ради этого и написаны эти заметки.
Глеб Альфани Ленинград, февраль 1942 г.III. Краткое заключение
К тексту Г. В. Альфани хотелось бы прибавить буквально несколько строк.
Я не буду много говорить об очевидном:
во-первых, о стихотворном комментарии к стихотворному же тексту;
во-вторых, о замене в новом (комментирующем и переводящем прежний) стихотворном тексте разнообразного метрического репертуара «Светозвучия» на сильно прозаизированный, элиотовский по звучанию, свободный, а по сути, как и в написанных свободным стихом частях «Светозвучия», полиметрический стих с сильным креном в сторону трёхстопных размеров;
в-третьих, о замене точных и ассонантных рифм «Светозвучия» на безрифменность в комментирующих стихах.
Главное другое: говоря о «Светозвучии», автор «Незабытого поэта» Г. В. Альфани даёт к нему комментарий, касающийся не только формы, не чисто аналитический, а аналитико-творческий и смысловой. Удивляться тут особенно нечему: филологом по образованию он не был — насколько мне известно из архивных изысканий, изучал историю в Петроградском университете, а также слушал курсы по теории музыки и композиции в консерватории — а кроме того, хотел донести до читателя, если таковой обещал быть в будущем, именно смысл сказанного в «Светозвучии», по-своему интерпретировав его. Это — воссоздание нового и работающего поэтического текста по смысловому каркасу старого, взамен его — и есть перевод, притом перевод, при котором интерпретатор оказывается соразмерен интерпретируемому и, по сути, присваивает его, делает фактом собственной биографии.
Ноябрь 2012. МоскваV. Библиографическое примечание
I. «Неизбирательное сродство. Роман из 1835-го года» впервые опубликован в «Новом мире» (№ 9, 2017) и сразу же, в октябре 2017-го включён в короткий список Премии Андрея Белого.
II. Повесть «Острова в лагуне» впервые увидела свет в «Новом мире» (№ 3, 2013), текст переработан для настоящего издания.
III. Повесть «Ленинград» впервые опубликована в «Новом мире» (№ 8, 2010), отдельной книгой — в издательстве «Время» (Москва, 2012); выходили также переводы повести Эндрю Бромфилда (при участии автора) на английский с англоязычными примечаниями автора (Champaign — London — Dublin: Dalkey Archive Press, 2013), и Мирьяны Наумовской на македонский (Скопье: Бата прес, 2014). «Ленинград» отмечен премиями журнала «Новый мир» — за лучшую прозу 2010 года и премией «Новая словесность» (НОС) за 2011 год. Фильм по повести (2014; новая версия 2015) награждён дипломом «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске (2014), Гран-при и призом за лучший сценарий — на кинофестивале «Провинциальная Россия» в Ейске (2015).
IV. Дополнение к «Ленинграду» «Незабытый поэт» появилось в «Новом мире» (№ 1, 2014). В настоящем издании публикуется новая, переработанная редакция дополнения.
Примечания
1
Catulli carmina, LI. ad Lesbiam, заключительная строфа.
(обратно)2
Семито-греко-латинская смесь, столь характерная для языка тунисцев. Означает в примерном переводе: «Базилика милосердия».
(обратно)3
Castellum — крепостца (лат.); слово «каср» также могло произойти и от латинского названия военного лагеря (или форта) castrum, вариантом которого является castellum.
(обратно)4
Именно так говорит в стихах своих «О поэтическом искусстве» Квинт Гораций Флакк: «Слушай теперь, чего я и народ со мною желаем» (пер. А. А. Фета).
(обратно)5
Автор настоящего повествования видел в 2001 году и стоящий при пыльной дороге мавзолей и высеченную на нём латинскую поэму; так что сомнения С. А. Корсакова беспочвенны.
(обратно)6
«Явленные древности Геркуланума» (ит.), восьмитомное издание гравюр, запечатлевших все обнаруженные к моменту издания археологические памятники Геркуланума (поначалу считавшегося местом главных раскопок), Помпеи (правильнее: Помпей) и Бай (где раскопки были законсервированы в XVIII и возобновлены лишь в XX веке), предпринятое в 1757–1792 гг. на средства и по настоянию короля Неаполя и Сицилии Карла VII (он же король Испании Карл III Бурбон).
(обратно)7
«Любовь, что движет солнце и прочие звёзды» (ит.) — завершающая строка «Божественной комедии»
(обратно)8
Римский мир (лат.)
(обратно)9
Современный читатель удивится этому слову, но и Эспер удивился бы, если бы услышал, что мы называем их моллюсками: такого слова в русском языке тогда попросту не было.
(обратно)10
«Король Теодорих эту церковь от основания её во имя Господа нашего Иисуса Христа выстроил» (лат.). Ещё в IX веке надпись была видна, и Андреа Аньелло скопировал её в свою «Книгу понтификов равеннской церкви».
(обратно)11
«Аз есмь Царь славы» (лат.).
(обратно)12
Захоронение поэта Данта (лат.).
(обратно)13
Здесь и сейчас (лат.).
(обратно)14
«Ключ к загадке латеранского обелиска» (фр.).
(обратно)15
«Система наук. Том первый [Феноменологии духа]» (нем.) или просто «Феноменология духа» (1807) — главное философское сочинение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
(обратно)16
Господство и рабство (нем.), термины философии Гегеля, диалектике которых посвящено начало четвёртой главы «Феноменологии духа». Именно от этой диалектики происходят политическая теория левого гегельянца Карла Маркса с его идеей о революционной смене общественных формаций при завоевании бывшими рабами господства и куда более пессимистическое учение русско-французского философа Александра Коже́ва (Кожевникова) о постепенном движении Европы (и западного мира в целом) к царству раба без господина.
(обратно)17
Джованни, хоть немного внимания удели детям (ит.).
(обратно)18
Так или примерно так переводил в своём уме Эспер строки из «Vorrei spiegarvi, oh Dio!» (1783) KV 418.
(обратно)19
«Бесплодные усилия любви» — название известной комедии Шекспира («Loves labors lost» в первом издании 1598 года).
(обратно)20
Catulli carmina, LI. ad Lesbiam, первые три строфы.
(обратно)21
Русские стихи, сочинённые Меццофанти в качестве экспромтов в феврале 1834 года (первое из них посвящено А. И. Тургеневу). См. подробнее: [А. И. Тургенев]. Русские стихи Иосифа Меззофанти // Московский наблюдатель: журнал энциклопедический. — М., 1835. Ч. 1, кн. 2 (март), с. 454–455.
(обратно)22
Русский князь Лысой горы (Лысогорский) (ит.).
(обратно)23
«Есть! Есть! Есть!» (другой вариант перевода: «Вот оно! Вот оно! Вот оно!») (лат.).
(обратно)24
Гений места Лысой горы (лат.).
(обратно)25
«Оставьте всякую надежду вы, кто входит сюда» (ит.). В «Божественной комедии» — надпись над вратами ада (Inferno, Canto III, 9).
(обратно)26
Себе самой (др.−венетск.).
(обратно)27
«Люблю, хочу, один ты мил мне, без тебя жить не могу», — и прочее, чем женщины выражают свои чувства и в других возбуждают страсть (пер. М. Кузмина).
(обратно)28
См. илл. 1 — И. В.
(обратно)
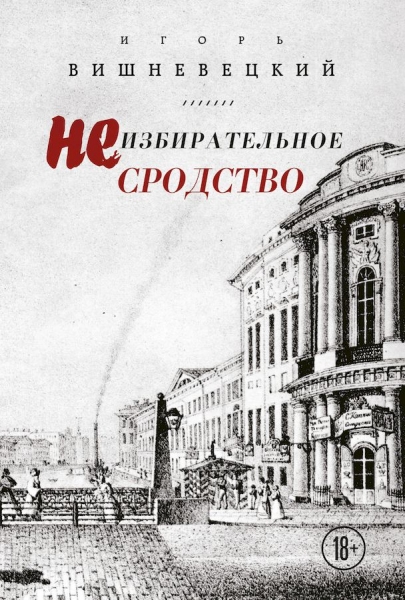



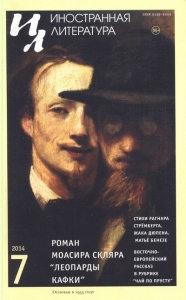






Комментарии к книге «Неизбирательное сродство», Игорь Георгиевич Вишневецкий
Всего 0 комментариев