Михаил Тарковский Енисей, отпусти!
© Тарковский М.А., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
* * *
Рассказы
Бабушкин внук
1
Створами называют судовые знаки: два щита на берегу – один над другим. По ним судно выдерживает курс. Створы сошлись – значит, идешь правильно…
Пожалуй, всем самым главным в своей судьбе я обязан бабушке, под надзором которой прошла главная часть моего детства. Бабушка сыграла определяющее значение в выборе первой профессии, да и весь мой дальнейший жизненный фарватер прошел в ее створе. Речь идет о бабушке по матери Марии Ивановне Вишняковой.
Я родился в 1958 году в Замоскворечье – старинном уголке Москвы, где среди каменных домов нежданно начиналась вдруг деревенская улица с избами, шепелявила пенной водой ржавая колонка и корни тополей мощно взламывали хилый пересохший асфальт.
Бабушка заложила во мне основы, открыв три двери: в русскую природу, в русскую литературу, в Православный храм.
Она избороздила со мной всю среднюю Россию, где почти каждое место было ей чем-то дорого. Бабушкин брат жил в Солнечногорске, в семье Ивана Николаевича Крупина, заведующего хирургическим отделением. Мы часто гостили у них, и бабушка очень дружила с женой Крупина – Фелицатой Евгеньевной. Я был в классе первом или втором, когда Фелицата Евгеньевна подарила мне книгу Промптова «Птицы в природе». «Чтобы ты смог лучше узнать наших птиц…» – написала она на титуле. Книга была мне подарена неспроста – бабушка часто говорила о том, что, когда вырасту, я выучусь на зоолога и буду жить в лесу. Осознанно или нет, она целила меня на таежную жизнь, много рассказывала про Енисей, куда она в свое время отправила в экспедицию своего сына, а моего дядьку, знаменитого режиссера, очень живого, обаятельного и оригинального человека – автора необыкновенно странных и пронзительных фильмов, один из которых я до сих пор смотрю, еле сдерживая слезы, поскольку там живьем снята бабушка.
Бабушка была далека от лесных наук и скорее принадлежала к науке словесной – работала корректором в типографии, а в юности писала стихи и училась на литературных курсах. Можно только гадать, почему она так стремилась сплавить внука в леса. Будто пыталась отдалить от московского мира искусства, хотя и не говоря напрямую, что он какой-то особо «гнилой» и его нужно бежать.
С книгой Промптова я не расставался долгие годы. Вооружившись подзорной трубой, я бродил по лесам или полям, пытаясь определить всех попавшихся на глаза птиц. Это была своя охота, свой азарт – пернатые средней полосы существовали с самого моего детства в виде голосов. Предстояло добавить к ним внешний вид, и самое главное – имена. Было в этом какое-то приведение мира в порядок. Позже бабушка устроила меня в кружок Московского Общества Испытателей Природы при Зоологическом музее. С этого момента началась моя мечта о Сибири.
Бабушка открыла мне Подмосковье, Оку, Волгу, Калужскую область, где были ее родовые места. Одно лето мы прожили в Оптиной пустыни, там бабушка подсунула мне (четверокласснику!) «Братьев Карамазовых». Любимым героем ее был Алеша. Мы ходили в скит, и бабушка рассказывала об Алеше и старце Зосиме, как о живых людях. Из «Карамазовых» я запомнил свой трепет в страшной истории со Смердяковым, «пестиком» и убийством старика, диалоги между Дмитрием и Грушенькой во время гулянки в Мокром и знаменитые «клейкие листочки».
Незадолго до этого мы жили на берегу Оки в деревне и бабушка каждый вечер читала мне перед сном «Войну и мир». Мое детское знакомство с русской литературой началось с двух великих книг. Не забуду мужество и прямоту, с какими бабушка не побоялась на меня их обрушить.
Она тонко чувствовала природу, вообще… места. Было у нее какое-то чувство русского пространства. Это географическое ощущение России она передала и мне. На стенах у нас висели карты, и помню, приболев гриппом, я разглядывал их часами. В ту пору государство печатало огромное количество прекрасных книг о природе. Это были и переводные книги, например, «Маленькие дикари» Сэтона Томпсона, а самое главное, книги Федосеева, Бианки, Пришвина, Астафьева. Я зачитывался ими и бредил тайгой, Сибирью и Дальним Востоком. Особенно хорошо запомнил Федосеева «Смерть меня подождет» и «В тисках Джугдыра» с фотографиями собак – Бойки и Кучума.
Наряду с Толстым и Достоевским бабушка дарила мне Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гумилева. Попадется ей под руку биография Пушкина – она читает ее вслух. Однажды целый кусок нашей с ней жизни прошел под такую книгу, помню, как бабушка переживала гибель Пушкина, как особенно ее трогало, что он попросил моченой морошки перед смертью. Что-то огромное всегда перевязывалось у нее с какой-то родной русской деталью.
Так же обстояло с Гоголем, Тургеневым, Чеховым. Гениальный рассказ «Каштанка» был ее любимым. За Чехова она усадила меня в Кинешме, где жила ее родственница. Из этой книги я запомнил рассказ «Злой мальчик» и «Драму на охоте». Последняя история вызвала то же смутное и тревожное чувство, что и детективная интрига в «Карамазовых». Скептическое отношение Чехова к «автору» «Драмы» я не заметил, все приняв за чистую монету.
Про Бунина бабушка мне ничего не говорила: то ли он ее не интересовал, то ли стерегла от любовной темы. И то, и другое сомнительно – если ей что-то нравилось, она не могла сдержаться и не поделиться. Так же как не могли ей не понравиться какие-нибудь «Антоновские яблоки». Скорее всего, Бунина тогда еще не особо печатали. Кстати, как и Набокова, очень известный портрет которого я хорошо помню – откуда он взялся, сказать не могу. Знаю только, что человек на портрете запомнился как раз своей необычной и старинной фамилией. Образ с портрета из детства никак не связался с писателем Набоковым, о котором я узнал гораздо позже.
Конечно, читал я и Короленко, и Горького, и Гиляровского… И еще огромное количество сочинений, включая книги про рыцарей, индейцев и пиратов и всевозможные путешествия. В обороте в ту пору было огромное количество русских и переводных книг. Читать было принято.
Бабушка заставляла меня изучать книги из школьной программы заранее, чтобы не испортить впечатления школьной трактовкой. Учился я, надо сказать, так себе, успевал только там, где было интересно, а по большей части зевал и мечтал о чем-нибудь своем. Например, как мы летом поедем в деревню и как я буду делать свистки из липы, ловить рыбу и лепить танковые армии из глины. Учительница литературы говорила: «Эх, Тарковский, умная у тебя голова, да дураку досталась». Что это значит, я не понимал. Как это так: если голова умная, то какой же я дурак? По литературе я тоже особо не отличался, сочинения писал плохо – на свободные темы еще куда ни шло, а там, где надо было формулировать мысли-позиции, анализировать характер и поступки героев, плоховал. Помню свое бессилие на экзаменах – идут минуты, бросает в жар, а я ни слова не могу выдавить из бессильных мозгов. Так же потел и на приемных экзаменах в университет. Тема была что-то там про «устои фамусовского общества». Вымучил трояк. Какое-то выражение даже придумал, что, дескать, в фамусовском обществе девиз: «Все для денег, все для карьеры». Казалось, очень оригинально.
Школьный выпускной экзамен еще помню. Билет достался: «Жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова». Или что-то около. В общем, «эволюция жизненных взглядов героев» ли, «диалектика души» ихняя… То же бессилье, отсутствие мыслей, мученье, попытка внутри парты подглядеть в шпаргалку, мелко написанную на бумажке. И наводящие вопросы учительницы о небе Аустерлица и старом дубе. Совершенно ничего не мог сказать, хотя к тому времени уже «Войну и мир» перечитал – просто не понимал, о чем даже речь…
Важным событием была поездка до Астрахани по Волге, и образ этой реки (пароходный, бурлацкий, человечий) навсегда перевязался с памятью о бабушке. Особенно запомнился Нижний (тогда Горький), наши хождения по нему, посещение «Дома Пешковых», бабушкины рассказы о детстве Алеши. Фраза про «мядаль не шее» запомнилась на всю жизнь. Горького бабушка почему-то тоже любила.
Казалось, она знакомит меня с чем-то, давно знакомым ей самой. Но, думаю, многие вещи она «проходила» вместе со мной, «за компанию», рука в руку… Низовские волжские города, такие как Саратов, Астрахань, она, скорее всего, видела впервые.
С нами ехал высокий и бородатый пожилой человек с внуком, тоже высоким мальчиком лет четырнадцати с чутким и немного беззащитным лицом. Что-то в нем было от послушника. Бабушка считала, что это семья священника, и наблюдала за ними с огромным интересом и теплом. Возмутилась, когда кто-то из пассажиров (пожилой военный) сказал, что «дед какой-то поповатый».
Помню поход с бабушкой в Новодевичий монастырь на Пасху… Ноту этих праздничных дней я годы спустя открыл у Шмелева. Главным в приобщении меня к православию было, пожалуй, почти полное бабушкино молчание. Она просто брала за руку и вела туда, куда считала нужным. Самое сильное воспоминание – служба в Александро-Невской лавре в Ленинграде. Год это был, по-видимому, 72-й или 73-й, я учился в седьмом или восьмом классе. Храм был полон народу, и я помню необыкновенное чувство, которое испытал, когда запели Символ Веры (тогда для меня это был просто «какой-то» церковный напев). Пронял и напев сам по себе, и соборное нарастание-слияние множества голосов, их живое нарождение со всех сторон… Рядом на протяжении всей службы то и дело расцветал ясным побегом голос молодой женщины с летящим выражением на узком лице, с сияющими серыми глазами…
Мы шли от Зимнего дворца и рядом с каналом (не вспомню каким) увидели колонну курсантов Морского училища. Они остановились и затеяли суматоху с залезанием на парапет, в результате которой один из ребят уронил в воду фуражку. Тут же проявив и ловкость, и упорство, он полез ее доставать, причем лез довольно напряженно, понимая, что за ним наблюдает целая толпа. Фуражку он достал, ко всеобщему удовольствию.
Однажды по чьему-то совету бабушка решила свозить меня на лето на Балтийское море в Палангу. Ехали с пересадкой в Вильнюсе. Образовалось окно перед поездом, и я пошел побродить. Бабушка осталась на вокзале – почему, тоже не помню. Я как-то с детства чувствовал города и особую нюховитость проявлял к их историческим центрам. Приехав в незнакомый город, первым делам искал этот самый центр, будто по нему пытался понять главное. Возможно, это было детским желаньем оказаться в приглядном ухоженном месте. Меня интересовал вид домов, храмов, я как-то ценил-выделял именно старинные постройки. (Еще обожали с бабушкой наличники.)
Поиски городского сердца начинались с вокзала, окрестности которого обычно приглядностью не блистали. В общем, до нужного мне Старого Вильнюса я не дошел, зато набрел на православный храм. Возле него сидел на земле, вытянув единственную ногу, русский нищий. Круглое лицо, лысая голова… Я подал ему, о чем-то взялся с ним говорить, чувствуя и сострадание, и родство. Пронял меня родной его вид посреди чужого города.
Лет через семь, когда бабушки уже не было, я познакомился с Василием Дегтяревым, фотографом и замечательным человеком из старообрядцев, живших испоконно в Вильне. С женой мы поехали к нему в гости. Там я покрестился в том самом храме, где сидел одноногий нищий с прядью на лысой голове.
Из затеи с Палангой ничего не вышло. Пристанища мы не нашли, зато познакомились на берегу с русским милиционером, который очень по-доброму к нам отнесся и, напоив чаем, обрисовал картину. Объяснил, что жилье в это время занято, и еще добавил что-то такое умудренно-горькое, что, мол, ничего хорошего вы здесь не найдете, и что литовцы своеобразные, и дословно: «У них тут чуть ли не восстание было». Несолоно хлебавши мы распрощались с Балтикой. Палангу я запомнил такой: сияет солнце и крепкий ветер дерет море, наваливает колючий вал на полосу пляжа, вздувая песчаную вьюгу. На обратном пути была пересадка с поезда на поезд на какой-то станции. Я по обыкновению пошел прогуляться. На перроне ко мне подошел аккуратно одетый парнишка (бархатная курточка) и спросил что-то по-литовски. Я сказал, что не понимаю. Он спросил:
– Почему не понимаешь?
Я объяснил, что русский, что не отсюда.
– Живи, где живешь! – отрезал парень. И завел, будто уже в извинение, долгую жалобу: что, пока не наехали русские, в Литве было вдоволь колбасы и молока, а как понаехали, так все и съели и ничего не стало, «совсем плохая жизнь пошла»… «Ну ладно, пока», – сказал он и попрощался за руку. Я поделился услышанным с бабушкой, и она сказала, что это «он за старшими повторяет», что они его накрутили.
Бабушкину мать звали бабушка Вера. Она была очень добрая и под конец жизни совсем слепая. От нее я часто слышал слова «Бох» и «церьковь». Однажды я пришел из школы, особенно напитавшийся «атемизму», и заявил, скинув ранец и торжествующе глядя на прабабушку Веру Николаевну:
– А Бога нет!
2
В кружке при Зоологическом музее мы собирались по четвергам, а на выходные ездили на выезды в окрестности того же Солнечногорска.
Это были отличные леса в верховья Клязьмы, где можно было запросто встретить глухаря и куницу. Рядом располагались военные полигоны, и шастать здесь запрещалось. С полигонов то и дело раздавались пулеметные очереди, а по полям, меся глину, с ревом носились танки. Зверье к этому привыкло и жило припеваючи.
В маленькой деревеньке руководительница кружка Анна Петровна Разоренова снимала дом, в который мы и приезжали оравкой в пятницу вечером. С утра шли в лес на целый день на экскурсию, которую проводил кто-то из старших, чаще уже студент. Орнитологические и следопытские походы, обстановка деревни и русской природы, которую мы наблюдали во все сезоны, дружба, чаи у костра, мечты о дальних экспедициях – все это захватило полностью. Город по возвращении казался скучным и чуждым.
Бабушка купила мне спальный мешок и кирзовые сапоги. Я жил от выезда до выезда.
Лесная нота моей жизни все крепла. Я уже обрастал снаряжением и мне крайне необходим был каркасный рюкзак, так называемый станок. Я то делал его из трубок от раскладушки, то загибал какую-то трубу, а она оказывалась мягкой и отыгрывала назад. Чтобы все получилось, требовалась аргоновая сварка.
Бабушку по отцовской линии звали Марией Макаровной Поповой, она происходила из тамбовских крестьян. Я виделся с ней не особо часто – она жила в подмосковном поселке Подлипки (Болшево). Ее второй муж Сергей Дмитриевич Ерошенко работал на одном из королевских заводов. Дедушка Сережа меня очень любил и сварил мне по моему чертежу станок. Завод был режимным, и деду пришлось вывозить его с территории завода в мусорной машине, где-то за воротами потом встречать. У него не работала одна рука. Никогда не забуду его подвига! Рюкзак этот до сих пор висит у меня на гвозде в тайге в базовой избушке.
В восьмом классе я победил на школьной олимпиаде по биологии: досталась как раз птичья задача. Меня отправили на районную олимпиаду, а потом и на городскую, на биологический факультет МГУ. Там я также неплохо себя показал. В это время в одной из школ открывался биологический класс, и отличившихся на олимпиаде пригласили на собеседование. Я его прошел и последние два класса проучился в новой школе. Руководительница и идейная вдохновительница биологического класса Галина Анатольевна Соколова знала мои стремления поехать в экспедицию в Сибирь. Она попросила своих знакомых, а именно Светлану Александровну Шилову, чтобы меня взяли в Туву. Эта поездка все и решила. После нее Сибирью я уже бредил. Западный Саян мы переезжали на автобусе, Усинский тракт произвел ярчайшее впечатление, особенно перевал Кулумыс с девятью петлями серпантина. На одной из площадок длинный «Икарус-66» не мог развернуться и сдавал назад, освещая фарами кедровые корни на скале.
Работали мы на западе Тувы около поселка Мугур-Аксы. Осенью из-за облачности перевалы закрыли, Ан-2 не летали, и в Кызыл мы выезжали через Монголию.
В Туве я научился стрелять из дробового ружья и ездить верхом. Енисей я впервые увидел в столице Тувы, Кызыле, в июне 1974 года.
После десятого класса я провалил экзамены на биологический факультет Московского Университета и год работал лаборантом: кормил мышей и убирал за ними клетки. Делал это так себе, норовя сорваться на выходные в какой-нибудь подмосковный лес вместе с теплой компанией.
Летом я по обыкновенью провалил экзамены в университет, получив тройку по химии и заплутавшись в проблемах «валетностей» хрома. Зато поднаторев в целом в сдаче экзаменов, поступил с единственной четверкой (по литературе!) в Московский пединститут имени Ленина на отделение географии и биологии. После первого курса, отпросившись с половины практики, уехал в экспедицию в Бодайбинский район Иркутской области. Это была экспедиция института ЦНИГРИ. Бодайбо – старейший золотоносный район. Моя задача была дробить молотком кварцевые жилы со вкраплениями золота и складывать образцы в мешочки. Рюкзак с мешочками я тащил к машине.
Рабочая обстановка горного Забайкалья, экспедиций, жизнь наемных геологических работяг произвела на меня сильнейшее впечатление – Сибирь открылось трудовой своей стороной.
В то время каждый второй юнец считал своим долгом сочинять кустарного род песенки, и я привез в Москву их целый пяток: одна называлась «Забайкальская осень». Пелась она от лица рабочего, оставшегося на долгую зиму в тайге и предпочетшего «злое лицо работы» отношениям с городской девушкой. При этом он настойчиво пишет ей письма, хотя в то время, как корячится на вездеходе среди чахлых лиственниц, она наслаждается городским комфортом и принимает ухаживания кавалеров. («Ты возвратилась в восемь, думая про другого».)
Зиму я ходил на лекции и готовился к летней поездке на Енисей, на базу Института имени Северцева, где работали в экспедиции мои старшие товарищи по кружку. С 1978 года начался мой Енисей. Три лета подряд, рискуя вылететь из института и опаздывая на картошки и зимние практики (умудрился поехать еще и зимой на учет птиц), я упивался Енисеем. Считался неплохим учетчиком птиц: требовалось хорошо знать голоса. Но главное – ценились рабочие качества, неутомимость, упорство – царил культ трудового геройства. Была и теплейшая студенческая компания. Там я познакомился с Натальей Моралевой, ставшей вскоре моей женой.
Однажды мы с начальником отряда уезжали с Енисея в начале октября. По берегам уже лежал сухой снежок. Ночью северное сиянье озарило звездное небо. Неудержимое желание остаться здесь жить особенно объяло меня. Приближалось окончание учебы, и руководство экспедиции предложило нам с женой постоянную работу на Енисее. Я ликовал. Мы уехали из Москвы в декабре – очень много времени заняли сборы.
Следующей осенью у Наташи возникли срочные научные дела в Москве, и я остался на ползимы один на полубезлюдной станции. Обстановка таежного одиночества, мощная природа, грохот встающего Енисея, слышного в морозную погоду с дальних таежных увалов… Можно представить, какие ощущения я испытывал, дорвавшись до мечты. У меня было свободное время, я много читал, размышлял и начал помаленьку писать стихи, изучая стихосложение по книге «Мысль, вооруженная рифмой».
На Биостанции «Мирное» я проработал с 1981 по 1986 год. Там я познакомился с Анатолием Блюме.
В двадцати километрах от Мирного располагалась деревня Бахта, где было отделение госпромхоза и буквально кипел промысловый дух. В 1984 году туда переехал Толя, став промысловиком.
Замкнутая и тепличная обстановка научной базы и ее сугубо столичные корни, неинтерес к науке и тяга к охотничьему образу жизни привела к тому, что в 1986 году при появлении свободного места охотника я уволился из Мирного и переехал в Бахту. Пошел к Толе в напарники. Главным в этом решении было то, что я перестал вымучивать из себя будущего ученого, и занятие литературой стало моим жизненным делом.
Таня
У Тани была чистая кожа, копешка пушистых волос и щедрая улыбка, от которой прищуривались глаза и получалось выражение, будто она совершенно все понимает. Если добавить сюда мое одинокое существование, подчас изнурительную красоту Енисея и будни покоса, становится ясным, почему я так стремился в Селиваниху. Таню я увидел, когда приехал к тете Наде пилить обещанные дрова. Пилил я под угором на песочке тети-Надиной пилой. Стартер был без резиновой ручки, с примотанной вместо нее железячкой. Я ссадил ею палец и, когда заматывал его кусочком изоленты, неизвестно откуда возникла вдруг стройная девушка в ярко-синей майке. Увидев мое занятие и не дав возразить, она убежала и тут же вернулась с бинтом и пузырьком перекиси водорода. Вид у меня был не самый подходящий для знакомства: мокрый от пота чуб, засаленная куртка, сизые руки и полные опилок отвороты сапог. Я наблюдал за бирюзовым жучком, ползущим по ее загорелому предплечью, а она старательно перевязывала мне палец, отфыркиваясь от комаров и болтая, как со старым знакомым. Пахло от нее какой-то ароматной комариной мазью. Она пошутила насчет моих рук, что-то вроде: «С такими руками только к женщине и подходить», и убежала по своим экспедиционным делам, а я допилил и поехал домой в Бахту.
Когда я отпихивался от берега, на угоре появилась фигурка в синей майке и помахала рукой. Я не удержался и, отъезжая, заложил крутой вираж, вывернув из-под борта валик упругой воды с белым гребешком. Пел за спиной мотор, несся мимо каменистый берег с островерхим ельником, светило солнце и всю дорогу в серебристых брызгах у кормы стояла, как приятное воспоминание, маленькая радуга. На покосе я думал о Тане и грешил перед товарищами, желая дождя, чтоб отменились работы и можно было мчаться в Селиваниху допиливать дрова. Догадливые друзья посмеивались. Дождя все не было. Мы поставили сено, взялись за силос. Запомнился последний день. Я стоял с вилами под зеленым душем в телеге, трясущейся за трактором, вдыхал пряный травяной ветер и меня всего распирало от нетерпения, потому что назавтра начиналась свободная жизнь – ничего уже не маячило впереди, кроме охоты, и я ехал в Селиваниху.
Таня еще спала, когда чисто-чисто пропел зуек над Енисеем, когда застрекотала пила, выпустив синее облачко, и было поначалу неловко за этот шум, будто я пилю не листвяный кряж, а первую осеннюю тишину, еще в виде пробы натянутую над полузаброшенной деревней. Жилым выглядел только тети-Надин дом с синими наличниками, крашенными охрой сенями и с выкошенной вокруг травой. Три брусовых дома, построенные экспедицией, стояли среди зарослей крапивы и иван-чая казенными кубами. Заведя небольшой красный трактор, стоявший на бугре с поленом под колесом, и проезжая кухню, я увидел Таню. Она стояла на крыльце и поливала из ковшика пучок укропа. Я щегольски тормознул, вылез из кабины, поздоровался и спросил воды. Она протянула мне ковш, локтем отерев комара со лба, и, улыбнувшись, предложила пообедать. У меня вовсю колотилось сердце, но я сдержанно ответил, что обедать мне шибко некогда, но что чаю попью, если угостят. В кухне никого не было, кроме нас с Таней. Мы разговорились, Таня что-то спрашивала, об охоте, о моих друзьях, о Енисее. Умиляла городская неточность ее речи. «Дрова, Таня, не рубят, а колят», – все хотелось мне ее исправить. И еще очень хотелось вытереть локоть, который она испачкала в саже, возясь с печкой. Потом, уже сидя в тракторе, я все продолжал улыбаться, чувствуя, что не ошибся в своих предчувствиях, что наконец возникло между мной и этой почти незнакомой девушкой нечто необъяснимое, зыбкое, как те осинки в сизой струе выхлопа, но одновременно реальное и очень созвучное происходящему в природе и во мне. Я думал о том, как повезу это нечто вместе с капканами и прочей прозой на длинной деревянной лодке по притихшей сентябрьской Бахте и как славно будет вспоминать Танину улыбку, ежась от ветра и правя в просвет расступающихся мысов. Я сел на чурку и достал папиросу. Впереди лежало серебряное, в насечках ветерка, блюдо Енисея. На той стороне за темным забором ельника синела невыразимо осенней, глубокой синевой волнистая даль тайги. Всегда почему-то кажется, что осень не возникает здесь, на месте, а именно приходит в виде какого-то голубоватого воздуха особого качества, в котором все начинает желтеть, жухнуть, табуниться, а у человека, наряду с растущей физической бодростью, открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости к природе. И хочется, покоряясь ее тихой воле, взобраться на самый высокий яр, встать на колени и, глядя в морскую даль Енисея, благодарить небо за эту посланную Богом тоску, за каждый лист кривой березки, скоро потребующей столько любви и прощения в своей нищете. И долго будет укладываться в душе поминальная, в желток с луком, пестрота берегов и огненная трещина в базальтово-серой туче, заложившей север, пока ранним утром глухой удар весла в тумане не поднимет на крыло первое стихотворение. Глядя в глаза, на вытянутой руке, с каким-то плясовым шиком старинного гостеприимства поднесла мне тетя Надя стопку мутного спирта, протараторив: «На-ка, на-ка, на-ка, сла-богу, все вывез, спасибо тебе, рыбку закусывай», и я еще раз порадовался бодрости этой маленькой старухи, не устающей окружать свою одинокую жизнь узором такой поэзии, которая никаким поэтам и не снилась. Вечно ей что-то чудилось, мерещилось… Как-то я строил ей новые сени и жил у нее. Был тоже август, но мы спали в пологах, все не решаясь снять их.
Перед сном тетя Надя долго устраивалась, зевала, а потом вдруг рассказывала про страшного приснившегося ей мужика, с лицом, заросшим речной травой, которого она не испугалась, а спросила только, когда он вошел: «Кто вы такие?», про эвенков, приехавших зимой на оленях с котом на веревочке, про тайменя, такого большого, что, когда его подтащили к лунке, она, будучи еще девчонкой («папа зывой был»), подумала, что там «лосадь», или уже совсем анекдот про знакомую из славящегося непролазной грязью Верхнеимбатска, якобы писавшую в письме: «Надя, я не могу в Имбатске зыть: у меня ноги короткие, я с мостков оборвусь и в грязь уйду». Говорилось все это журчащим, полудетским голосом, задумчивым, как куриная песенка на склоне лета. Перед встречей с Таней мне приснилось, будто я украл из больницы фарфоровую кружку, и тетя Надя сказала, что значит будет мне «кака-то прибавка». Когда после четвертой стопки я понял, что уже не смогу не попросить у Тани адреса, тетя Надя вдруг, что-то вспомнив, вытащила из-за пупырчатого стекла буфета коробку и извлекла из нее желтую, вчетверо сложенную газетку с моими стихами, и через минуту я уже выбегал на крыльцо в раздувающийся ветер, в шорох травы и плеск Енисея, в музыку, плывущую с проходящей самоходки, не в силах удержать теплую слякоть счастья в глазах и все повторяя про себя четыре слова: «Моводец, Миса, хоросо составил!»
Адреса Таня не дала. Она посмотрела куда-то в сторону и сказала трезво-манерным голосом: «Зачем тебе адрес?» и еще что-то добавила насчет флирта, который с ней «не пройдет». Убитый наповал таким поворотом дела, словечком «флирт», так не шедшим ко всему окружающему, я спустился под угор, мусоля в кармане так и не понадобившийся карандаш и поехал домой. По серой волне, сжимая опостылевший штурвал с отбитой эмалью и спрашивая: «Ну что ей стоило? Ведь я и не написал бы никогда»…
Приехав в Бахту, я почувствовал, как стосковался по своим друзьям, и направился к Толяну. Не доходя до его дома, я услышал негромкий свист, доносящийся из придорожных пихтушек. Там сидели вокруг ящика Толян, два Вовки и Степа Хохлов по кличке Картузный. На ящике стояла бутылка водки. Я бросился к ним: «Братцы!» Обида на Таню постепенно прошла. Я даже убедил себя, что сам испортил все своей жадностью – денек-то действительно был редкий. Так вот живешь-живешь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днем, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире, и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тети-Надины драгоценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, просквозив душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие, изредка сходящиеся, створы и ведут тебя по жизни.
Ледоход
1
Первый муж тети Нади погиб на войне. Дочка умерла. Деревню разорили во времена укрупнения: хотели целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился и все разъехались кто куда. Тетя Надя вопреки всему осталась. Второго мужа на ее глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса. В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, стала летом приезжать зоологическая экспедиция. Поселился постоянный сотрудник с семьей, тетя Надя уже зимовала не одна. Все большое и опасное у этой маленькой безбровой старушки с птичьим лицом называлось «оказией». Плотоматка (буксир с плотом) прошла близко – «самолов бы не зацепила. Сто ты – такая оказия!», «Щуки в сеть залезли – такие оказии! А сетка тонкая, как лебезиночка – всю изнахратили». Рыбачила она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «Самолов не ложила», а ставила только сеть под коргой, которую каждое утро проверяла на гребях… Туда пробиралась, не спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах. О рыбалке у нее были свои особые представления. Кто-то спросил ее, как правильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила: «Делай полегче, а потом в веревку песочек набьется и в аккурат будет». В рыбаках тетя Надя ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Ленька никудысный, не сиверный»). Зимой тетя Надя настораживала отцовский путик и ходила в тайгу проверять капканы, с рюкзаком и ружьем, с посохом в руках, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых, бродешках, в теплых штанах, фуфайке и огромных рукавицах. С приезжими у тети Нади установились свои отношения. Студентки посещали «колоритную» старушку, угощавшую их «вареньями и оладдями», дивились ее жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье в Ялуторовск, а зимой слали посылки и открытки. Тетю Надю это очень трогало, она отвечала: «Сизу пису одна как палец» и посылала кедровые орешки в мешочке, копченую стерлядку или баночку варенья. Девушки обращались к ней за советами в щекотливых делах. Тетя Надя учила: «Своим умом зыви. Музык он улична собака». Студенты мужского пола с удовольствием пили у нее бражку, закусывали жареной рыбкой, что было неплохо после дежурных макарон с редкой тушенкой, и за глаза посмеивались над «бабкой», которая не выговаривает букву «ш» и по праздникам подводит брови углем.
У тети Нади было много знакомых, но постоянно ее посещали «сродный брат» Митрофан Акимыч и Петя Петров. Митрофан – крепкий и статный старик с плаксивым голосом, всегда ездивший на новом моторе. Завидев подрулившего гостя, тетя Надя выбегала из дома и кричала ему с угора, а он кричал ей снизу, и так они перекликались, пока он не подымался, потом обнимались и шли в избу. Выпив, Митрофан становился невозможно суетливым, бегал, кричал, здоровался со всеми подряд двумя руками, спрашивал, как здоровье и ребятишки, кричал, указывая на бабку: «А это сестра моя, под обхватной кедрой родилась…», всплакивал, тут же, махнув рукой, смеялся, а когда уезжал, просил кого-нибудь завести ему мотор. Когда это делали, он влезал в лодку, хватал румпель, включал реверс и уносился на страшной скорости, размашисто крутанув указательным пальцем у лица и приложив его к губам: мол, погуляли – и молчок. Петя Петров был отличным, но насквозь запойным мужиком. С Севера он привез жену-селькупку. Они работали на почте на пару и пили тоже на пару, по поводу чего в Бахте острили: «Вот красота-то! Все пьют – все довольны. Чем не счастье?» Петя любил общение, говорил с жаром, рассказывая истории, которые, по-видимому, сам и сочинял. Любимое выражение у него было «морэ» – «Рыбы там, веришь ли, мор-р-рэ». Раз мы приехали к тете Наде с Петей, Петя вскоре набрался, мы стали его грузить в лодку, под его же руководством, но не удержали. Он соскользнул вниз головой в воду у берега, уткнулся лысиной в гальку, и хоть его тут же подняли, мне на всю жизнь запомнились глядящие сквозь прозрачную енисейскую водицу серые глаза и медленно шевелящиеся пряди редких волос. Изредка к тете Нади приезжала погостить баба Таня, древняя сумароковская националка. Из вещей у нее была только длинная удочка и банка с червями. Говорила она хриплым голосам и все время проводила под угором, таская ельчиков, которыми тетя Надя кормила кошек. Кроме кошек тетя Надя еще держала петуха с двумя курицами, собак и лошадь Белку. В Селиванихе от прежних построек остались только заросшие крапивой ямы да гнилые оклады, но тетя Надя упрямо называла все прежними именами: интернат, звероферма, будановский дом, магазин, пекарня… Тетя Надя любила угощать. Проходишь мимо ее дома, она выскочит на крыльцо с блюдцем и кричит: «Миса-а-а! Постой-ка, я тебя блинками угощу!» К праздникам она относилась серьезно, за несколько дней готовилась, стряпала, прибиралась в избе, приводила себя в порядок. Когда подходили гости, выскакивала на крыльцо в черной юбке, красной кофте, в крупных бусах и цветастом платке, и выкрикивала специальным высоким голосом: «Милости просим, дорогие гости, все готово!» Усаживала за стол, угощала, следила, чтоб у всех было налито, носилась с закусками, подавала кому полотенце, кому воду, и никогда не ставила себе стула, возмущаясь: «Удди! Я хозяйка». Потом, когда по ее плану было пора, вдруг запевала частушки вроде:
Поп с печки упал С всего размаху Зубы выбил, нос сломал, Разорвал рубаху!Потом доходила очередь до песен, их она знала «морэ». Тети-Надин дом приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тонущий корабль, и жить в нем становилось опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить новый дом за счет экспедиции с условием, что он перейдет в собственность станции, а тетя Надя просто будет жить в нем до конца своих дней. Тетя Надя долго думала, решала, сомневалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было некуда. Дом строил бич Боря. Тетя Надя заботилась об одном: чтобы все в новом доме было, как в старом. Чтоб перегородка на том же месте и чтоб русская печка такая же. Когда все было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки с листьями: «Гля-ка, как я окошки украсила». Потом она расставила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены все то, что висело на стенах прежнего дома: ковер с оленями, календари, плакаты, фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и когда я приехал проведать тетю Надю, было полное ощущение, что это ее старый дом – так сумела она перенести сюда всю прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Мартимьян Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же свисал с полки кошачий хвост. Хорошо было заезжать к тете Наде после охоты. Промчишься, развернешься, заглушишь «буран» у крыльца, а она уже кричит из избы: «Заходи, заходи, дома я». И даже если она совсем тебя и не ждала, она все равно защебечет: «А я как чувствовала! Как чувствовала! А Петенька-то, Петенька, с утра ревет лихоматом! А коски-то, коски с ума сосли! Снимай, снимай, снимай, сто т-ты – мороз такой! На печку ложь. А у меня как раз хлеб свезый. Ну, садись рассказывай, как там зизнь у вас, как промысляли? Ну и слава богу, слава богу. А я тозе поохотилась. Гля, каку крысу в капкан добыла – цельный ондатр. Красота! Сейчас осниму, а летом туристам – возьмут как милые. О-о-х, и смех и грех… А у меня день розденья скоро, Юра посулился быть. Приеззайте с Толиком. В тайгу? А-а-а… Ну сто делать, надо, надо»… Юра работал бакенщиком. В навигацию, проверяя бакена и створы, он часто заезжал к тете Наде и, косясь на стол, рассказывал, как в Бахте «рыбнадзоры припутали Ванюшку Деревянного» или как медведь опять разобрал створы у Соснового ручея, а она восклицала: «Ты сказы! От падина!» и наливала ему крепкой, закрашенной жженым сахаром браги. Настал день рожденья, тете Наде исполнялось семьдесят пять лет. Она встала ни свет ни заря, затопила печки, бросилась подметать, готовить стол, сбегала пригласить заведующего Колю с женой, вернулась, снова принялась хлопотать, гадая, приедет Юра один или с дочкой, и прислушиваясь ко всем звукам, доносящимся с улицы. Собаки залают, самолет пролетит, она выбежит на крыльцо с биноклем, глядит на Енисей: что там за точка, не Юра ли едет, нет – торосинка это или куст, кажется. Ладно, к обеду-то точно должен быть. Проходит день, настает вечер. Нет Юры. На столе тарелочки с закусками: брусника, грибки, соленая черемша, печеная налимья икра, копченая селедка, блины, свежий хлеб, компот в банке. Приходят Коля с женой, приносят подарок:
– Что, нет Юры?
– Зду, зду. Все глаза проглядела. Во сне видала – долзон приехать. Петенька-то с утра, сто ты! Токо гром делат! А коски-то, коски! Ну проходите, проходите!
Уже темно, и ясно, что Юры не будет, тетя Надя говорит:
– Ну, значит, дела, дела у него. Я давеча карты разлозыла – казенный дом выходит. Или «буран» сломался. Теперь уж с утра здать будем.
Так три дня тетя Надя и держала накрытый стол, выбегала на угор с биноклем, и так и не доехал до нее Юра, гулявший у соседа.
2
На угоре напротив тети-Надиного дома стоял кожаный диванчик с катера, у крыльца лежал коврик из распоротой бурановской гусеницы. Летом тетя Надя ставила рядом с диванчиком железную печку для готовки. Душными июльскими днями с синей мглой над ровным Енисеем бабка в штанах, чтобы не ел комар, все что-то варила на печке, а у дымокура подергивала шкурой и обмахивалась хвостом серая кобыла. («Ты сказы – Белку совсем заздрали».) Белку тетя Надя любила особой любовью. Это была старая, но еще здоровая лошадь, оставшаяся без работы, когда в Селиванихе появился «буран». Тетя Надя упрямо продолжала ставить сено, любые разговоры о том, чтобы продать Белку, воспринимала как оскорбление и очень оживилась, когда сломался «буран» и пришлось запрягать Белку, чтобы привести из Бахты продукты к Новому году. Как-то раз летом Белка потерялась, и тетя Надя плакала:
– Манила ее, манила. Нету-ка нигде. Наверно, медведь задрал.
Белка нашлась. Шли годы. Тетя Надя старела. Все трудней становилось ходить за Белкой, ставить сено. «Все-таки придется Белку в Бахту сдать, – привыкала бабка к этой мысли, – там она хоть работать будет, а то у меня-то совсем застоялась». В Бахте на конях возили сено с Сарчихи и Банного острова, хлеб из пекарни в магазин и воду по домам. Наконец тетя Надя решилась. За Белкой приехали с вечера на деревянной лодке с загородкой из жердей, а ранним утром ее погрузили и повезли в Бахту. Я встретил их по пути на рыбалку и несколько раз оглядывался. Подымался туман, расплывались и ломались очертания берегов, лодки видно не было и казалось, что над Енисеем висит в воздухе конь. Как-то раз сдавали мы рыбу на звероферму. Спускали в ледник тяжелые мокрые мешки. В леднике было темно и холодно, хлюпала под ногами вода. Вдруг моя нога наткнулось на что-то большое и скользкое. Это была белкина голова. Тете Наде я ничего не сказал, и она до сих пор думает, что ее Белка возит в Бахте воду.
3
Есть такой обычай: когда тронется Енисей, зачерпнуть из него воды. Ледохода все ждут, как праздника. Тетя Надя внимательно следит за каждым шагом весны. То «плисочка прилетела», то «гуси за островом гогочут, и сердце заходится»… «Анисей-то, гля-ка, подняло совсем, однако завтра к обеду уйдет». Но медленно дело делается. Прибывает вода, растут забереги, трещины пересекают лед, и все никак не сдвинется он с места. Но наконец в один прекрасный день раздается громкий, как выстрел, хлопок, проносится табунок уток, и вот пополз огромный Енисей с опостылевшим потемневшим льдом, с вытаявшими дорогами, с тычкой у проруби, появляется длинная трещина с блестящей водой, с грохотом и хрустом лезет лед на берега, и вот уже тетя Надя, что-то звонко выкрикивая и крестясь, бежит с ведерком под угор, кланяется Батюшке-Анисею в пояс. Дожила…
Васька
1
Первое, что услышал Васька, просыпаясь, был шелест дождя по крыше избушки. «Значит, за глухарями не поедем», – подумал он, чувствуя, как отпадает всякая охота подыматься. Было поздно. Николай, давно вставший и попивший чаю, сидел на нарах, сопя и куря папиросу, и прикручивал цепочки к капканам.
– …Сорок пять… Ну и как спали, Василий Матвеевич? – проговорил он, швырнув в кучу последний капкан.
«Мог бы разбудить, если так недоволен», – подумал Васька и, кивнув на покрытое каплями окно, спросил неизвестно зачем:
– Давно сыпет?
– Ешь давай, – ответил Николай, – да поедем сеть смотреть.
Снег, так радовавший Ваську, наполовину стаял и оставался только в складках мха. У безжизненного кострища мокро блестела банка. Вода стояла в собачьем тазу, висела мелкими шариками в кедровых иголках. На открывшуюся дверь вяло шевельнулся серый хвост под навесом. Чуть забелело в низких тучах, от ожившего ветра полилось с деревьев крупными каплями, закричала с елки кедровка. Но когда Николай с Васькой спускались к Бахте по скользким чугунным камням, снова потемнело и засипел по воде было притихший дождик. Николай отвязал от кустов веревку и лодка, грохоча, сползла в воду, оставив на камнях белые блестки.
– Заводи иди, – поеживаясь, буркнул Николай; чувствовалось, что ему неохота ни шевелиться, ни к чему-либо прикасаться.
В сеть попали три большие щуки и таймень. Николай застрелил его из тозовки. Когда ехали назад, дождь усилился и Ваську, сидевшего за мотором, больно било по глазам. Обсушившись, Васька решил пройтись по дороге, которую ему отвел Николай в этом месте. Но едва он поднялся в хребет, пробрел по редкому кедрачу с пяток капканов и вышел, шурша снегом, к болотцу с красным мхом, всыпал такой дождь, что ему ничего не оставалось, как вернуться обратно.
– Ну и охота мокнуть было? – усмехнулся Николай, все вопросы начинавший с «ну и».
Васька поел жареного тайменя с картошкой, попил чаю и, смастерив на чурке станочек из толстой проволоки, принялся вертеть цепочки для капканов. Николай, всегда делавший то же самое плоскогубцами, посмеивался: мол, давай-давай, мастер, посмотрим, что из твоего мастерства через месяц выйдет. Быстро стемнело. Николай заправил лампы, долго протирал стекла газетой, подрезал ржавыми ножницами фитили. Разгорелось пламя и сразу сжалось, почернев, синее окно. Николай прикурил от лампы, улегся и, не глядя, достал с полки журнал.
Васька в калошах на босу ногу вышел на улицу, помешал остывающий на лабазке собачий корм, вернулся, лег на нары – и затосковал. Дождь убил в нем всю прежнюю бодрость – бодрость от новых забот, от легкого морозца, стоявшего целую неделю, пока они развозили продукты по избушкам. Он чувствовал себя совершенно размокшим и бессильным. Все его удручало. От шуточек Николая становилось неловко, он не знал, как на них отвечать: обижаться не хотелось, а остроумно огрызаться он не решался, да и не умел. Все меньше нравился и сам Николай, который, казалось, без конца напоминал, что он здесь хозяин и что у него со всем вокруг, начиная от ведра в избушке и кончая порогами Бахты, свои старые отношения. Ваське казалось, что даже вещи напарника смотрят на него с превосходством, особенно полка, туго и аккуратно набитая пачками пулек, махорки, папирос. Казалось, что, если Николай сажает его за свой мотор, то непременно для того, чтобы Васька видел, как хорошо тот у него работает. Что Николай все время ищет повода придраться, что если нарезать хлеб толсто, он скажет «оковалков напахал», а тонко – «ково настриг – окошко видать», и поэтому старался резать как бы средне и вообще избегал что-либо делать первым. Васька уже не мог остановиться. Раздражало лицо Николая, сухое, с русой бородкой, с выпуклыми желтоватыми глазами, которые, когда тот жевал, прикрывались крупными веками в веснушках, и одно из них двигалось вверх-вниз в такт челюстям. Все больше не нравились его избушки, маленькие и низкие. Васька пощупал шишку на лбу, поглядел на балку и представил, что сказал бы отец по этому поводу, наверное, что-нибудь вроде «лесу пожалел, а головы нет». Не нравилось Ваське и их устройство: везде одинаково – стол у окна и по бокам нары. Особенно раздражала Ваську эта избушка, срубленная почему-то на крутом склоне и покосившаяся сразу в двух направлениях, так, что, когда входишь, сначала получаешь дверью по спине, а потом танцуешь на кривом полу, чтобы не завалиться на печку.
Закрыв глаза, Васька стал представлять себе Бахту, по которой они подымались с грузом несколько дней. Она казалась широкой и неприветливой с бесконечными камнями, косами, скалами в косой кирпичик и сеткой облетелых лиственниц по берегам. Васька содрогнулся, вспомнив неуместное веселье беляков в пороге, стук мотора о камни и тугое стекло слива, сквозь которое просвечивает зеленое ребро каменной плиты. Потом он стал думать о названиях, которые уже совсем никуда не годились: Бедная речка, Холодный ручей или еще того лучше – Хигами, Гикке и Ядокта, которую Николай, надо отдать ему должное, удачно переименовал в Ягодку. То ли дело – Верхняя речка, Андроновский лужок, Алешкин ручей! И Васька с невозможной тоской вспомнил деревню, Енисей, озера на левой стороне, где они весновали с отцом; вспомнил майское солнце, земляные берега Сарчихи, из которой по виске[1] можно попасть в длинное озеро, вспомнил большую избушку в остроконечном чернолесье и горьковатый запах тальников, дрожащих под напором течения и прозрачно-слоистых от того, что каждый уровень воды оставляет на них свою полоску ила. Раз поймали они в сеть огромного карася, поразившего Ваську своей сказочностью: темно-золотой, с копейку, чешуей и человечье-самодовольным выражением выпученных глаз и приоткрытого рта. А раз Васька, пробираясь ранним утром на ветке по затопленному ельнику, услыхал совсем рядом, впереди, нежный, колокольно-звонкий клик. Он выехал из чащи и увидел на абсолютно зеркальном озере двух лебедей, которые, когда он подплыл ближе, завертели желтоклювыми головками и поднялись, медленно отделившись от своих отражений и оставив на воде две рассыпающиеся дорожки. Сделав круг на фоне ельника, они набрали высоту и, перекликаясь, пролетели над Васькой, деревянно и тоже как-то сказочно двигая выгнутыми крыльями.
Однажды отец уехал в деревню сдавать рыбу и задержался на сутки. Васька, прождав ночь, отправился смотреть сети и так увлекся, что опомнился только вечером в отяжелевшей от рыбы ветке, когда, еле ворочая веслом, въезжал по виске в озеро – прямо в серебряное небо, где над перевернутым облаком висела в воздухе обоюдоострая стена пихтача с еле заметной линией берега посередине, с двумя половинками лодки и двумя изогнутыми струями синего дыма. У костра на тропинке, уходящей в воду, сидел отец и мешал в большой чашке сметану с мелко нарезанной черемшой. Ту ночь, светлую и короткую, Васька запомнил на всю жизнь. Отец полулежал на боку, глядя сквозь остывающий костер на дрожащую воду, одной рукой подперев голову, а другой обняв привалившегося к нему Ваську. Никогда он не видел отца таким задумчивым, никогда рука его не лежала на Васькином плече так хорошо и никогда он не испытывал такого счастья. И такой усталости, которая продолжала укачивать его, как ветка, и он, уже закрыв глаза, все выпутывал из бесконечной сети серебристых, пахнущих огурцом сигов. Отец отнес Ваську в избушку, сходил на берег прибрать хлеб и, когда сам укладывался, заметил, прикручивая фитиль, как дернулась рука спящего Васьки с распухшими красными пальцами.
Летом отец утонул. Как это произошло, никто не узнал, нашли только прибитую к острову и полную песку лодку. Васька остался вдвоем с бабушкой: мать умерла, когда он был еще совсем маленьким.
2
Прошло три месяца с того самого дождя. Ясным морозным днем Васька подходил по белому полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья в светлом и просторном лиственничнике. Утро было очень холодным. Пар выходил изо рта плотной струей и с шелестом рассеивался. Низко над рекой пролетел, скрипя крыльями и косясь на избушку, ворон. Были видны заиндевелые ворсинки у его ноздрей. На ворона некстати взлаял кобель-первоосенок и тут же замолк, пряча глаза. Ваську все это очень позабавило, одарив на весь день хорошим настроением. Мороз не давал мешкать и он часов за пять управился с дорогой. Попало три соболя. Искрился снег, густо синели тени, тянулся за лыжами сахарный ступенчатый след. До избушки не хватало нескольких капканов и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удовольствием подумал: «Все хорошо будет – в следующем году доставлю». В одном месте на припорошенный лед вылилась вода и застыла кристаллами. Слетелись толстые красные клесты и грызли эти зеленые звезды своими похожими на испорченные ножницы клювами. Они старательно наклоняли головы, прижимали их ко льду, и была в их движениях какая-то смешная ухватистость. Серебрились на еще светлом небе тонкие, изогнутые, как рога, ветви лиственниц. Полоска пара висела над промоиной. За мысом открывался длинный плес и над ним сопка с припудренной вершиной. Бочка у избушки, чурка с воткнутым две недели назад топором, – все было засыпано пухлым голубым снегом. Васька не спеша освободил ноги из юкс, снял тозовку, привадник, понягу, согнувшись, вошел в ледяной сумрак и прежде, чем затопить печку, стукнул по трубе поленом. В ответ с шорохом проехал кусок снега. Потом он, не расслабляясь, надел лыжи и притащил из поленницы несколько листвяжных чурок, которые кололись на рыжие волокнистые поленья, казалось, еще до того, как их коснется топор. Потом спустился с ведром к промоине у ручья. Края затягивались ледком, сквозь темную парящую воду виднелось дно в камнях. Шурша, развернулась отколотая льдинка, и Ваську еще раз умилила эта зимняя живучесть речек и ручьев, в любой мороз продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька с одобрением уставшего человека прислушивался к гулким щелчкам, к нарастающему реву в высокой трубе, из которой вслед за густым дымом начинал вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссеченный искрами. Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. С резким, каким-то особо отчетливым морозным шелестом, шумел по камням ручей. Избушка нагрелась, светилась печка рубиновой краснотой, плавилась в кастрюле льдышка глухариного супа. Васька развесил соболей, снял азям, заиндевевший изнутри по швам, растянул его на гвоздях за печкой, потом, несмотря на почти невыносимую пустоту в животе, еще некоторое время терпеливо разувался и принялся за еду, только когда аккуратно висели на своих местах бродни, перехваченные бабушкиными цветными вязочками, пакульки и портянки. После чая он поставил на печку собачий корм и, откинувшись на нары, замер, переживая блаженство этого долгожданного мига. Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой луковкой стекла золотая корона пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника. В эти минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто и красиво висят портянки на затертой до блеска перекладине под потолком. И росла в нем безотчетная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжкого и чудного, за ощущение правоты, которое дается лишь тем, кто погружен в самую сердцевину бытия.
3
С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь еще с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пестрого от кухты леса. Но обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдали у мыса три шевелящиеся точки. Потом возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приемник и вдруг вскакивал от громкого лая, без шапки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далекое и мерное шуршанье лыж. Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с березовой лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле раздвигающей застывшие губы. Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с соболем, застрявшем после выстрела в толстой и лохматой кедре, подходить по свежей лыжне к светящемуся окну и видеть, как бьется во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, рябчики скворчат на сковородке, а из рации, к большому удовольствию сытого и разомлевшего Николая, доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», обсуждающих способы ремонта «дыроватого» ведра. Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на крыше, скидывающего лопатой скрипучие кубы снега. Он было кинулся помогать, но Николай раздраженно осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды и он ушел в избушку пить чай, сразу показавшийся безвкусным, хоть он и мечтал о нем весь день. Впредь он стал еще более внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он стал оставлять еще больше и еще мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра. Николай, первым вспомнив случай со снегом на крышах, признался, что «после сам переживал» и что «наверно, язык не отсох бы все добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго вспоминал истории про непутевых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному. Был один, Борька, все приговаривавший во время сборов: «Тайга – это тебе не водку трескать». Залетали они в тот год на вертолете. Николай разделил груз на две части: с одной высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать его на лодке. Но шло время, а Борька все не появлялся. Николай забеспокоился, пошел к напарнику сам, шел два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в теплой избушке невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», – подумал Николай, а кончилось все просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню. Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка. Вылетел вертолет, Николай пошел его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознанья с тускло горящим фонариком в руке. В каждой избушке у Николая висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришел с Холодного, (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил Васька другую запись. Она кончалась словами: «пишу стоя на коленях жалко мало пожил». Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то вредность характера, а обычное недоверие битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, что этого недоверия остается между ними все меньше и меньше. Особенно потеплело на душе у Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек. В отношениях с людьми Ваську все больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто все выходило совсем не так, как он думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и грамотно басящий «Захребетный» – последним болтуном, лентяем и посмешищем целого поселка. Был еще некто «Пятнадцатый». Говорил он резким, недовольным голосом с причавкиванием, и, казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравились его авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья и он без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забивали» эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геной, и Васька поначалу их даже путал, потому что Гена-сын тоже причавкивал и харахорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый». Однажды Васька пришел настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь, пока оттает ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в животе и весь день провалялся на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причем сначала по привычке продолжал изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, которого и так не покидало ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию.
4
Бабушка жила в Васькиных мыслях постоянно. Маленькая, легкая как совенок, мягкая от надетых на нее платков и фуфаек, пахнущая прелым тряпьем, рыбьим жиром и картошкой, она и на расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его от водки или как перед отъездом донимала советами («Бахта станет – по льду не ходи»). Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как темным утром тащится с фонариком в контору узнать «нет ли от Васи чего».
Еще вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И, когда бабушка в десятый раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?», он проорал ей в ответ что-то настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда. И чтобы заглушить этот стыд, Васька изо всех сил думал о том, как отдохнет бабушка, когда он вернется, как хорошо они с ней заживут теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму.
Под конец охоты уже очень хотелось домой, но когда настало последнее утро, когда прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно грустно и обидно за это вот-вот опустеющее жилье, за открытую лыжню, по которой он вчера пришел и которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая будет теперь стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги. Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Ее хозяин, молодой парень, уже отохотился и ушел домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье – «стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь на нары, уснул мертвым сном.
Под утро посреди какого-то путаного сна его разбудил Николай. Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый, Николай внимательно посмотрел на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:
– Вот что, Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.
Будто лопнул лед под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся уже по-настоящему и, оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически-мерно сопит Николай и так равнодушно недвижен еле тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что он, лежа с открытыми глазами, чувствовал, как все продолжает тонуть, цепенея в пробирающем до костей холоде – будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, оголенный сном, страх одинокой потерянной души.
Васька затопил печку. Она загудела, и все сдвинулось с мертвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за дверью… Настал день, а страх все не отпускал. Он был с Васькой все время, пока они шли по уже хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у зверофермы, и когда они тряслись в нарте на едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в реве мотора и оставались от него лишь нелепо дергающиеся головы с открывающимися пастями.
А потом показался дом на угоре и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда гул стих, она все что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил ее по вздрагивающей стеганной спине и говорил несвоими губами: «Ну, будет, будет», а над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце.
Осень
1
Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается…
– Тук-тук.
– Да-да!
– Здравствуй, Галь.
– Здравствуй, Миш.
– Как дела?
– Помаленьку.
– Мужик где?
– В мастерской.
– Тук-тук.
– Да-да!
– Здоро́во, Петрух.
– Здоро́во!
– Как дела?
– Помаленьку.
– Так-так.
– А что хотел?
– Да вот в тайгу собираюсь – крышечку ищу.
– От бачка?
– От бачка.
– Была у меня крышечка, да Вовке отдал – он в тайгу собирается.
Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трехлитровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:
– Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции. Дернешь браженции, и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку, да зайду к Толяну».
– Молодец, что зашел, – обрадуется Толян, – а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди – рыбы принесу.
Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые, как ни старайся – все на последний день останутся, глядь – давно уж темно и домой пора.
– Не забудь, – скажет Толян, поднимаясь, – фуфайку. В прошлый раз оставил.
– Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи. – Возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту.
Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет – крышечку от бачка.
2
В ту пору весь год у меня проходил в заботах – то лес несет – грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь, и я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой, с железными уголками ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности, прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало еще кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульки для тозовки, батарейки, приемник. «Что ни говори – собрание своеобразное», – посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцевитый Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим снегом и неприятно теплым ветром, залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнет и свалится на меня соседняя книга, потом еще одна или две, и как я, не спеша, выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплете и открою первую страницу.
Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная погода с задумчивым и студеным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарахтя, невидимая самоходка, наконец гуднула и отдала якорь, громыхнув цепью. Прибежал Толян – сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным – в последние дни все не ладилось. То пошел дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора. Пришел трактор с санями, мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда-постой!» И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, черные, как головешки, деревянные лодки. Вот и все. А дальше – лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:
– Да заглуши ты его, – и достает из рюкзака бутылку спирта.
И появляется кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.
Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с березки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в черных точках камней. Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой. С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде – вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам она течет крученой дымчатой пленкой, под порогами бродит по кругу черным стеклом. Поверхность глубокого плеса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зеленой мгле плиту с трещиной и яркий обломок березы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены зрелищем: далеко внизу, чудно искаженные зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавками, висел десяток в гамачном оцепенении замерших щучар. Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей – Николаями Васильевичами.
Был хороший момент: Толян, пройдя или, как говорится, «подняв», шиверы (очень бурливое, хоть и глубокое, место с сильным течением), лихо сшиб налетевшего «Николая Васильевича», а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зеленой бородой.
Надо заметить, что катание по порогам перестает быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога. Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползешь по ней, пока наконец не оказываешься со всех сторон окруженным озверевшей водой, вот мотор громко взревает, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара – откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползет по камню, начинает заваливаться нос, но все обходится и ты, наддав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плеса. По плесу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пестрые осенние склоны и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка. Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рева выпал звук работающего мотора и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно дергая шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно, кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло середкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза и полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как, упершись ногами в камень, помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как все отчерпываю ее этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку а сам кричит:
– Все поймал, только сундук утонул!
Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело все – и оружие, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. «Лучше бы какой-нибудь рис утонул», – думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулемок заготовлены на несколько лет вперед, все надоело и хочется только одного – живого человеческого слова.
Кроме потери книг удручал еще и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте – и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный), совесть моя была нечиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чем не повинному Толяну и отравившую мне всю осень. Пережив такое начало охоты, я, в ожидании следующих бед, по семь раз все отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо.
Толян дал мне приемник, батареек и еще кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба – так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло несильным, но каким-то сплошным и нешуточным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Многое вкладывается в такое рукопожатие.
Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошел в гору. Шивера в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял ее без приключений.
Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил ее весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашел внутрь. Все было на месте: лампа, связка стекол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике.
Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пульками лежал Пушкин: стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина», все в одном старом, без обложки, томе – как я забыл о нем?!
Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косой вершиной. Я собирал в закопченный чайник темную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.
Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на березку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, все его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.
В далеком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тетки и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нес мужик на руках, словно спящего ребенка, огромного убитого глухаря… Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого еще давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне. Помню, еще в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьем, а заросшая льдом прорубь – веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья, до тех пор, пока не открывалось темное подрагивающее око, живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмерзшем ведре… Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избушки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду как могу служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.
Дождь стихал. «Разъяснивает, – говорил я сам с собой, таская веревочной петлей дрова из поленницы, – завтра утренник будет, поеду на Майгушашу, не забыть бы капканы – в ручье висят». Запалив костер и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:
– Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?
* * *
А может быть, природа – это самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: все стараемся чем-то от кого-то отличиться и все сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем ее: мол, как можно так повторяться из года в год, что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на нее зря – тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпенье и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому человеку:
– Хочешь получить от меня подарок – съешь сначала моего кислого яблочка…
Вот попробовал ты ее кислого яблочка – и словно чудо произошло: уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет: плывите, мои золотые, плывите да напоминайте нашим детям – кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.
Повести
Стройка бани
1
«Батя, сделай мне рыбы… – писал из Красноярска Серега, – путевой, осетрины, ведра четыре, флягу, короче, молочную, на “Матросове” у меня Славка, механик, он в курсе…» Серега кратко рассказывал о своих делах, желал отцу здоровья и обещал прислать электродов, проволоки-нержавейки и бутылку тормозухи – зимой в замки заливать – милое дело. Иваныч, только что слезший со сруба новой бани, долго засовывал толстыми в корке мозолей пальцами прочитанное письмо в конверт, потом некоторое время сидел на диване, глядя в пол, крепкий, как кряж, большегубый, курносый, с твердым нависающим чубом, с мясистым, как бы надвое рассеченным лицом (глубокая складка меж бровей, над губой и на подбородке), и рядом, почти отдельно, сама по себе лежала такая же крепкая и мясистая его рука, темная и тяжелая загорелая кисть, даже в расслабленном состоянии стянутая мышцами и мозолями и похожая на клешню, все будто продолжающую сжимать рукоятку молотка или топорище. На внешней горбатой стороне толстой кисти темнела продолговатая лиловая шишка: Иваныч ворочал мокрое после дождя верхнее бревно – сруб новой бани тогда как раз дорос до уровня лица – оно крутанулось, и кисть попала между скользким круглым боком и острым краем только что выбранной чаши. В ту же секунду автоматически пронеслась мысль: «как соболь в кулемке»[2], в ту же секунду, приподняв балан[3], он освободил руку. На ней белела яма и алели мелкие капельки крови, Иваныч сунул ее в бочку и держал, пока ледяная вода не перебила боль, потом, вынув, пошевелил пальцами, убедившись, что сухожилия целы, и ушел точить цепи. На кисти вспух бугор, она несколько дней болела, но это была приятная боль, боль жизни, что ли, и он согласился бы испытывать такую боль каждый день, если б можно было сменять на нее ту неизлечимую болезнь сердца, с которой он два года назад попал в краевую больницу и которая теперь так неотвратимо меняла его жизнь.
Выйдя из больницы с диагнозом ишемия, Иваныч, несмотря на всю незавидность своего положения, на необходимость расстаться с любимым делом – промысловой охотой, стал как-то еще кряжистей и духом, и телом и, сбавив внешний пыл, перешел на какую-то пониженную передачу жизни, от которой, как у трактора, медленней, но неумолимей стало его упрямое движение вперед.
Новый, шесть на десять, рубленый дом он успел закончить, еще когда был в силе, а старая банька уже никак не смотрелась рядом с высоченным восьмистропильным кубом, давно превратившись в заваленную барахлом подсобку, где варился корм собакам и где он обрабатывал «ондатров». Еще хотелось проверить, обкатать эту свою новую пониженную, и еще Иваныч по-настоящему страдал без хорошего пара.
Лес на баню уже был давно готов и лежал на лежках возле площадки. Чтобы никого не звать подымать баланы, Иваныч сделал журавль. Сходил на пилораму к Сварному Генику, голубоглазому молодому мужику с очень хорошо растущей бородой, всегда выручавшего с искренней охотой, с полуслова понимая необходимость нового самоловного якоря или ремонта щечки балансира[4]. «Какой разговор Иваныч – заварим», – сказал он и, ворочая сварочный агрегат, продолжал рассказывать, как ловил тайменей «под камнями», сопровождая рассказ словечком «ага», с помощью которого как бы сверялся с какой-то своей внутренней правдой, отчего его рассказ приобретал особую независимую достоверность. Толковый и редко пьющий, Геник, выпив, становился неожиданно задиристым и вязким и однажды, когда гуляли у Иваныча, безобразно докопался до Иванычева друга Николая и тот выкинул его с крыльца. Утром, встретив Иваныча, Геник приветливо поздоровался и спросил: «Я че, говорят, бузил вчера?» и, как механик о привычной и исправимой неполадке, добавил рабочим тоном, что, мол, надо было кое-чего подбросить, на что Иваныч, хохотнув, ответил, что примерно так и сделали.
Из-за плохого контакта не сразу прошел ток, и Геник несколько раз постучал электродом по железяке, на что каждый раз напряженным гулом отвечал аппарат, а потом с сухим шипящим треском заработала сварка, и Иваныч, отвернувшись, глядел, как озаряется неестественно ярким голубым отсветом трава, видел искры, синий дым, вдыхал едкий запах и, держа в верхонке горячий прут, наощупь прижимая ее к другому, почувствовал, как его наконец прихватило по некоей новой устойчивости, легкому общему зуду всей схватившейся конструкции. Между рукавом и верхонкой оставалась полоса голой кожи и одна искра, раскаленный кусочек электрода, попала туда, прилипла, прожигая кожу, и снова Иванычу стало хорошо от этой ласковой боли, снова повеяло продолжающейся жизнью, чем-то живым и поправимым. Отбивая шлак, он стучал молотком по шву, и тот еще некоторое время продолжал рубиново светиться, а потом потемнел и стал блестяще-синим. Потом они приварили к обрезку толстой трубы дно и получилось что-то вроде кастрюли, прожгли в дне дырку, в которую вставлялась уключина, и кастрюлю эту он надел, как шапку, на вкопанный рядом с будущей баней столб, в уключину легла длинная вага и получился журавль.
Потом Иваныч сделал новую пазовку (прямое тесло)[5] – уж очень хотелось пустить в дело один старый топор, который он выменял у своего друга – Коляна. В кузнице монотонно гудел компрессор, Степка, разворачивавший в тисках светящуюся обойму от подшипника, кивком поприветствовал Иваныча и глазами указал на горн. Иваныч положил топор в раскаленную кучку углей на решетке и, подгребая кочережкой, досыпая совком свежий уголь, глядел, как раскаляются до радостной рыжины угли от дующего из-под решетки ветра, как взвиваются оранжевые искорки, а когда засветилось ярким солнечным светом лезвие, взял его щипцами, быстро вложил в тисы и затянул, и, вставив в проушину ломик, повернул его коротким движением, и волшебно-мягко развернулась раскаленная проушина, остывая, темнея, лиловея, и он снова нагрел, и снова довернул, уже совсем поперек. Степка держал лезвие, а Иваныч, напряженно и свирепо сморщив лицо, долго оттягивал его кувалдочкой, обковывал, заворачивал углы лезвия вокруг тисочного конуса, а потом, снова накалив, сунул в квадратное ведро с черным маслом, и металл зашипел, выпустив дымную струйку, и, глухо захлебнувшись, замолк, а потом вытащил безжизненно холодный топор, вытер тряпкой и долго обрабатывал на наждаке, и летели сочные искры и на неряшливо-буром металле ширилась ровная снежно-синяя полоса свежего лезвия.
Обратно Иваныч шел мимо кирпичной дизельной, и оттуда мощно, с мерной отчетливостью тарахтела толстая труба с неровным торцом, и сотрясалась земля вокруг, и белело светлое северное небо над реденькими остроконечными елками, и шел ночной парок изо рта, и рядом черный, как черт, Лешка-дизелист, наклонив бочку, наливал в помятое ведро масло и, несмотря на неудобную позу, понимающе-приветливо кивнул Иванычу, и потом долго было слышно, как он заколачивает молотком пробку.
Из давно высушенной заготовки, Иваныч сделал топорище той единственно прекрасной формы, которая раз удавшись, уже навсегда остается с тобой. Потом насадил новую пазовку и пил чай, и боковым зрением видел свежую белизну топорища, и лежала отдельно правая рука Иваныча – темный горбатый кусок плоти, знающий и помнящий гораздо больше, чем способна вместить человеческая голова, и похожее на тяпку с полукруглым лезвием тесло стояло уже с тем отдельным, самостоятельным видом, с каким стоят, будто всю жизнь, вышедшие из-под мужицких рук топорища, лодки, дома… Перед сном Иваныч прошел через огород к окладу бани. Было очень тихо, внизу чуть шелестел потихшей волной Енисей, и в синих, казавшихся в белом ночном свете особенно литыми, чугунными, листьях капусты лежали, как слитки олова, продолговатые лужицы воды от дневного дождя. Листвяжный оклад белел с тем задумчивым и загадочным видом, с каким белеют ночью такие вот оклады и срубы, в своей неподвижности будто еще сильнее излучая мощную силу работы.
Прохладным солнечным деньком съездил Иваныч за мохом в свое место по Сухой, привез в когда-то красной, а теперь обшарпанной до матовой серебряности «обухе»[6] пятнадцать мешков длинного ярко-зеленого кукушкина льна. За сруб взялся не торопясь, это была первая настоящая работа после больницы, от ее успеха зависела вся его жизнь, с таким скрипом прилаживающаяся к болезни. Он не спеша размечал бревна, выбирал чаши и пазы, и острый ковш нового тесла, как в масло, входил в желтую сосновую мякоть. Внутреннюю, избяную, сторону бревна он опиливал вдоль «Дружбой», стоя одной ногой на бревне, а другой на положенной вдоль лафетине, а потом крутил кверху плоскостью и строгал электрорубанком – тесать «в стене», как он это делал в доме, было уже тяжеловато. Уже выработался определенный ритм работы, однажды нарушив который, он потерял потом два дня на отлеживание и жранье таблеток. Стараясь особо не утруждаться, он клал в день по венцу, и еще надо было съездить по самолов, посолить рыбу, сварить собакам, и, конечно, первый день было особенно тяжко, но на второй Иваныч почувствовал, что, если не будет горячиться, то, похоже, управится. Когда пришло письмо от Сереги, он уже обшивал фронтон дюймовкой.
Доски на обрешетку лежали рядом на прокладках, так же как и уже подогнанные друг к другу стропила с затяжками, сложенный стопой шифер и кирпич. Заготовки на косяки и на дверь тоже давно были готовы, он выпилил их еще прошлой весной, распустив «Дружбой» прямую толстую кедру. Он вообще любил пилить вдоль и, крепко всадив в бок балана острый зуб гребенки, с ровным усилием погружать в кедровую мякоть свежевыточенную цепь и глядеть, как сыплются из-под нее обильные длинные опилки. Толстый балан быстро превратился в стопу белых досок. Сохли они у него все лето, накрепко прибитые скобами к стене мастерской. Когда он прибивал их, зашел за дрелью младший Николаев парень, тоже Колька, и с любопытством наблюдал Иванычеву работу, а потом каждый раз приходя, все трогал шероховатую, с косыми следами цепи, поверхность и все представлял, как, просыхая, корчится, из кожи вон лезет, стремясь изогнуться пропеллером, распятая доска.
Серегино письмо, как обычно, растревожило, напомнило о том, о чем Иваныч старался не думать, о том, что сын уже несколько лет живет в городе, живет совсем по-другому и все то, на что Иваныч положил жизнь, ему попросту не нужно. А сделано было действительно много – кусок дикой тайги в ста верстах от Енисея он превратил в отлично оборудованный участок с избушками, лабазами и путиками[7], первым пробил долгосрочную аренду участка с правом передачи по наследству, причем обсуждение последнего условия попортило ему особенно много крови, отгрохал новый дом на угоре на самом лучшем месте над Енисеем, выдержав тяжбу с районным архитектором, навязывавшим свой план застройки, выгнал из тайги и отремонтировал брошенный экспедицией вездеход, расчистил и расширил запущенный покос, сделал еще тысячу малых и больших дел, которые имели бы смысл, если б Серега остался, завел семью, и они тогда бы вместе снова держали корову, и Иваныч бы переписал на него участок, но Серега далеко, и вся жизнь Иваныча рассыпается и требует теперь особенной внутренней собранности.
…А денек был хороший, и Иваныч любил работать на срубах, где уже дует свой верховой ветерок, и откуда как-то по-другому видится деревня, крыши, все, что творится: вот поехал под угор за рыбой тракторист Сашка-Самец, вот сосед примчался с самолова и озираясь тащит на угор колыхающийся мешок с осетром, вот приехал с покоса его друг Николай, вот покрикивает он на своих сыновей, недостаточно дружно, по его мнению, вытаскивающих лодку, вот они поднимаются, старший тащит пустую канистру, средний – топор, а младший, Колька, – котомку с пустой молочной банкой, сам Николай с нажаренной солнцем рожей бодро приветствует Иваныча – резко поднятая согнутая в локте рука и сжатый кулак – и Иваныч, отложив доску, отвечает тем же. А потом притарахтел и ткнулся в каменистый берег почтовый катер, потом Иваныч спустился пообедать, и тут маленький Колька принес письмо. «Ладно, нужна рыба – значит будет», – сказал Иваныч, стряхнув задумчивость, вышел на улицу и поглядел на небо.
Обычные для этих мест перепады давления он переносил все труднее, и особенно тяжело было, когда задувал север, его любимая погода – ясная, холодная, с водяной пылью над взрытым ветром, синим, налитым металлом Енисеем и рыжим ночным небом.
Раньше он завидовал дедкам-пенсионерам, у которых наколото березовых дров на три года вперед, всегда запасена береста на растопку и охапки лучины, завидовал снисходительной завистью молодого сильного мужика, у которого невпроворот забот поважней, чем заготовка черешков для лопат. Теперь он понимал, что это не от хорошей жизни и что этот же дед, если б так не болели ноги и спина, сам бы с удовольствием летал на «буране» на яму, подныривал самоловы[8], а не щипал бы впрок вороха лучины, не забивал огромные дровяники мелко наколотыми березовыми дровами и не ремонтировал чужие старые невода, стараясь как можно плотнее занять зыбкое стариковское время.
Первое время Иваныч все надеялся, что привычная обстановка, будь то выученное наизусть очертание берегов или любимые, давно знакомые предметы, вдвойне сильные какой-то своей драгоценной потертостью, поддержат его, вытянут из беды, и так верил в силу всей этой обстановки, что часто в пылу, в реве мотора и свисте ветра не замечал ни боли, ни тяжести в груди и, только вернувшись домой, с ясной досадой понимал, что ничего не изменилось и что зря он себе морочит голову.
Но главном было то, что между состоянием борьбы за существование, которое он испытывал в особенно тяжелые часы, когда нестерпимо давило за грудиной, ломило лопатку, отнималась рука и вся остальная жизнь с ее заботами отходила куда-то совсем далеко, и между этой самой жизнью не было никакого зазора, никакой передышки, будто можно было или только падать в пропасть, или карабкаться по жизни, по ее бесконечным и необходимым делам, потому что едва он приходил в чувство, сразу начинались дрова, вода, еще что-то, что вскоре понадобится и о чем надо уже сейчас подумать, вроде животки, которую если с осени не поймаешь и не посадишь в ящик в озере, то не на что будет зимой ловить налимов и прочее, и что если еще вчера ты почти навсегда распрощался со всем окружающим, то сегодня надо было возвращаться в него и как ни в чем не бывало двигаться дальше.
Иногда хуже всякой погоды отравляла мысль о Сереге. «Надо же такое ляпнуть, “скучно” здесь, что за натура такая, – думал Иваныч, для которого участвовать в смене сезонов было интересней всякого путешествия. – И вообще… Раи нет, Серега в городе… Зачем строю? Эх, Рая, Рая…» И он некоторое время думал о своей шесть лет назад умершей от рака жене – очень доброй, немного странной и насквозь больной женщине, с большими навыкате глазами и таким количеством прожилок на них, что казалось, и слезы ее тоже должны быть в прожилках.
Хотя Иваныч и говорил, что не знает, мол, зачем строит, все он прекрасно знал, и то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрет, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую времянку, халтуру, лень и презирает того давнишнего мужичка, у которого он однажды ночевал: в его избушке было полно щелей, но тот, вместо того чтоб их добром проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедал две таблетки аспирина и, натянув шапку, заваливался спать.
Иваныч зачем-то еще держал участок, платил аренду, но было ясно, что придется с ним расстаться. Он продолжал обсуждать с мужиками-товарищами погоду, высказывать наблюдения и соображения о предстоящем сезоне, входил в их проблемы, будто тоже собирается в тайгу, будто не знает, что этого не будет больше никогда… А все так ярко стояло перед глазами: осень, заезд, груженая деревяшка, волнистые берега с растрепанной тайгой, Сухая – широкая, мощная, плоская, в водоворотах зыбкой мыри река, пласт прозрачнейшей голубоватой воды, которую хотелось выпить, навсегда принять в душу, чтоб она уже больше никогда не мучила, не снилась, не изводила больничными ночами… Добраться под вечер до первой избушки, уже в темноте с фонариком сходить на берег, проверить лодку, груз, принести ведро воды, с которой обязательно зачерпнется несколько камешков… Кому, кому теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, выросшие на твоих мозолях, эти затертые нары, стол, отполированные портянками вешала над печкой?… А даль меж мысов, завешенная будто светящимся снежным зарядом, а ночное, полное звезд небо после долгой непогоды? Бывало, неделями не видишь этой красоты, смотришь на небо только по делу, переживая за сено или дорогу, а на берега – с веревкой от кошки в руке, ожидая, пока сойдется створ с высокой елкой[9], но вот небольшое окно в работе – и взглянешь на пелену дождя, растворившую берега, и так обдаст далью, будто ты все еще тот паренек, какой когда-то сюда приехал – только тогда красота была новая, яркая, а сейчас знакомая, притертая, как старый инструмент, который любишь за вложенную в него душу.
И опять эта осенняя Сухая, пятисоткилометровая река, стекающая с низких голых гор, широкая и очень мелкая по сравнению с этой шириной, и россыпи камней у берегов, по которым все льется, журчит вода, и красные осыпи высоких яров, под которым вода тоже красная, и избушка на высоком берегу, и ночевка, а с утра снова дальше, а небо уже почти зимнее, вроде бы затянутое, но облачность высокая и прозрачная, и все – и мотор, и камни, и вода – все особенно металлическое, серебристое, алюминиевое. А вечером вдруг выйдет перед закатом ясное, сдержанное солнце, будто смущенное собственным теплом, и нальет воду холодной синью, а наутро вроде бы светло, но опять как-то серо, серебряно. Крокнет, кувырнувшись на крыло, ворон, и тишина, лишь мощно и отстраненно грохочет вдали длинный и глубокий порог, сжатый двумя каменными грядами-коргами, и сереют пожухлые кусты перед облетевшим лесом, и дымно лиловеют голые березы, и лиственницы тоже осыпались и стоят обнаженные, вздев свои изогнутые пупырчатые ветви, и лишь темнеют кедры и ели. И все – и металл, и свет, и тишина, не то чтобы скорбные, а какое-то очень глубокие… Будто подбирает сама в себе что-то природа, и в тебе тоже все подбирается, подтягивается ожиданием и светлой тревогой. Утром падает за ночь вода, и лед сначала обтягивает камни стеклянными куполами, а потом, лопаясь, топырится угловатыми кусками матового стекла вокруг вылупившегося булыгана, и вода уходит от берега, и если разбить голубое кружево, там окажется сушайшая галечка, и уже схватило морозцем подстилку в тайге и ноги в юфтевых броднях с матерчатыми голяшками уже зудят и готовы бежать за дальний хребет. И все за тебя и зовет, и говорит: только работай и не ленись. Вот и хлеб замерз и уже не зачерствеет в прибитом к елке ящике, вот лодка будто сама вылезает на обледеневшие камни, вот и рыбу солить не надо, сложил на лабазок – и она так и схватится вместе с розовой слизью оползшим пластом. А поначалу вроде нет птицы, ни белки, ни соболя, а потом глядишь, засвистел рябчик, собаки глухаря подняли, а вот и первый соболь – внимательная ушастая голова в развилке лохматой кедры и уже пора настораживать[10]. Так всегда торжественно и веско произносится это слово – не потому ли, что осенью каждый действительно будто настораживает в себе чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника?
Где-нибудь у капкана с очепом[11] возле кедры с длинной рыжей затесью нахлынет старинное воспоминание, засветится, как заплывшая смолой затеска на душе, сделанная десять или двадцать лет назад, когда первый раз шел здесь, рубил путик, вспомнилось что-то далекое и оно теперь на всю жизнь привязалось к месту, и так и вспоминается уже столько лет подряд, не давая покоя душе.
Край яра, откуда видна продолговатая листвяничная сопка какого-то очень таежного вида и поворот реки, особенно волнующие, когда идет снег и очертания хребта едва угадываются в снежной дымке. Здесь вспоминал Иваныч далекий год, Слюдянку и похожего на кряж деда с упрямой седой головой. Он глядел на сизый Байкал, на длинные, набегающие со спокойным гулом валы, на синие зубчатые горы на той стороне и говорил кому-то, стоящему рядом: «Седо-о-ой, красавец, батюшка…», и такая великая и неподдельная гордость звучала в его слегка дрогнувшем голосе, что Иваныч до сих пор не мог спокойно вспоминать об этом дне, хотя сам был теперь почти таким же дедом.
Длинная, очень основательная кулемка в редком и необыкновенно аккуратном кедраче перед подъемом в гору. Здесь Иваныч вспоминал Гаврилу Теплякова, мужика, у которого стоял искусственный клапан на сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз и он не смог завести свой тоже еле живой «буран» и пришел пешком, а потом они с Иванычем, тогда еще молодым, ездили за «бураном». И был мороз, и тянул хиус, и на покосе стоял заиндевелый старенький красный «буран», и следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сгоревшая спичка, были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Иваныч раскочегарил паялку до реактивного рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел черную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил он медленные движения Гани, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди, синяки под его усталыми глазами и красные веки, и спокойную и твердую руку с выпуклыми жилами и татуировкой «Ганя», не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «буран», сначала на одном цилиндре, потом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор, и Иваныч заткнул «вертилятор» тряпкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом они накидали сено на сани, и когда увязывали воз, Иваныч, не рассчитав силы, слишком сильно потянул веревку и сломал промерзший, нетолстый, с экономией сил сделанный Ганей бастрик[12], и, измученный напряжением вечного нездоровья, Ганя вспылил, сказал в сердцах: «Да что за такое наказание!», и хотя это относилось скорее не к Иванычу, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Иваныч быстро вырубил новый бастрик, они увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсонихи у Иваныча вдруг перехватило топливо и он остался снимать насос, а Ганя, шедший передом, ничего не видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся и терпеливо ждал, пока Иваныч ставит насос и разбирает карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и Иваныч, чувствуя, каким напряжением дается Гане и это возвращение, и ожидание, старался делать все быстро и был до тошноты зол на себя и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. Потом они сидели у Гани за бутылочкой и тот рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц, готовый к операции сердца, и который все, как он выражался, «ждал мотоциклиста», и Иваныч представлял себе этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждет. Ганя вскоре переехал под Красноярск.
У ручья, текущего, как по дороге, по огромным камням, зарастающими ледяными шапками, он вспоминал, как умирала от рака Рая. Ее измученные виноватые глаза в прожилках, и то, как она говорила, что, мол, скорее бы уж, а сама, бедная, все просила лучше закрывать дверь, «а то продует», и то опустошающее облегчение, которое испытал он, войдя в комнату и увидев ее каменное лицо, восковой лоб и темную струйку мертвой крови из неподвижно приоткрытого рта.
А у большого капкана на краю тундры[13] вспоминалось детство, дед и покос. Дудка, хвощ, таволожник, волосянник, который мужики называли крепким словом с прибавкой «…волосник». Как шел ранним утром по покосу, спотыкаясь о срезанные дудки, в которых вогнуто стояла ночная вода и весело брызгала в глаза, а потом спросил у деда, откуда вода, если ночью дождя не было? Дед ответил с каким-то почти возмущением от его необразованности, что при чем тут дождь, «земля-то гонит!» и велел скидывать сено в копны. Еще он лазил по тальникам с казавшимся тяжеленным топором и рубил подпоры, и было нестерпимо жарко и вилась тучами мошка, залезая под рукава, в штаны и в глаза, и он брал у деда мазь из дегтя с рыбьим жиром и мазал изъеденное потом лицо. А когда он лежал в кровати с закрытыми глазами, все шевелилась в руках блестящая рукоятка вил, пересыпалось перед глазами сено, и все цеплялась, не слезала с зубца трехрожек, увядшая макаронина дудки, и все это отвлекало, не давало заснуть, и стало спокойно на душе, только когда он представил, как тихо сейчас на покосе, как стоят литовки и вилы у зарода[14], как молчит скошенная трава, и продолжая в тишине таинственную работу, гонит воду неутомимая земля, наполняя соком срезанные мертвые дудки.
2
Серега был похож на Иваныча, такой же курносый, с крепким подбородком, но черноглазый и темноволосый, в кого-то из материной родовы. Характером в мать, такой же непредсказуемый, заполошный, он все торопился начинать дело и так же быстро сгорал, остывал, отступал. Во время сборов в тайгу он все торопил отца: «Бать, да че тянуть, встанем пораньше и поедем, к двум уже у Медвежьего будем». Иваныч раздражался: «Сколь раз говорил: не плантуй», и действительно, все выходило по-Иванычеву, опаздывал тракторист увезти груз, а у Сереги убегала плохо привязанная сучка и в результате они выезжали только после обеда. При всем при этом Серега был и добрый, и смекалистый, и когда ему хотелось, мог свернуть горы. Крепкий, подкаченный, следящий за собой, в драке Серега сходу приходил в состояние истерического бешенства и сладу с ним не было никакого – в деревне его боялись, хотя и ценили за кураж и остроумие – однажды он пришел в клуб на танцы с квадратной коробкой хозяйственных спичек, которую доставал из кармана пиджака с особенным уморительным шиком. Любил спать и спросонья был по-детски вялым и почти беспомощным. Любил дурачить приезжих – однажды с серьезным видом объяснял туристам с теплохода, что каменная гряда, которую натолкало на берег весенним льдом – это специальная дамба для защиты от весеннего наводнения. Кто-то спросил, как же вы, мол, эти камни таскаете, а Серега с гордой обидой отрезал: «Так вот и таскаем. Всю зиму на собаках возим».
Был он человеком настроения и в работе при всех здравых на первый взгляд рассуждениях все делал бестолково потому, что не учитывал сложности обстоятельств и именно своих же собственных настроений. Любил тяжелые разовые работы, но не мог изо дня в день терпеливо тянуть одну и ту же лямку. В работе у него было два состояния – или восторженное, когда что-то получается, или кисло-истерическое, когда не клеится, и если для Иваныча главным было сделать так, чтоб не пришлось переделывать, то для Сережки главным было побыстрей освободиться. Как-то раз Иваныч слышал, как он говорил приятелю: «Скучно здесь. Хочу заработать и не могу – негде. Батя, конечно, молодец, но в хрен мне не грюкало так здоровье гробить…». Дальше следовал рассказ о дальневосточном городе, где Серега работал на судоремонтном заводе во время службы во флоте, и о его фантастически деловом и удачливом приятеле, с которым они катались на мощном и очень низком двухдверном автомобиле с турбонаддувом.
«А мне грюкало? Мне – грюкало? – все не мог успокоиться Иваныч. – Тебя же, дармоеда, кормить-подымать, в тайге хребет рвать! «С хребтом у Иваныча действительно была беда. Как-то он едва нагнулся к капкану, как буквально сперло дыхание от острейшей боли, охватившей позвоночник, причем не только со спины, а еще и изнутри, из живота. Он кое-как выпрямился и, подгоняемый сорокапятиградусным морозом, шаг за шагом аккуратно «донес» свой отказавший хребет до избушки и там еще несколько дней лежал на нарах, выходя на каждую колку дров, как на пытку.
Быть охотником Сереге нравилось во многом, конечно, из-за престижности этой профессии, но работал он в общем-то сносно, делом интересовался, пытал старших, в избушках с жаром обсуждал с отцом тонкости, но, придя с промысла, гоняя на «буране» по поселку с невозмутимо расправленными плечами, короткими стремительными движениями руля поддерживая «буран» на неровной дороге и общаясь с приятелями, за один день так отдалялся от отца и его интересов, что шли насмарку долгие месяцы общей таежной жизни. Обычно охотники, придя из тайги, шли делиться пережитым друг к другу, а Серега шел к продавчихиному сыну, у которого была «телка» в Дудинке и интересы которого вращались вокруг видеокамер, пива и сигарет и с которым они могли часами обсуждать сорта батареек. В разговоре с этим Вовкой он даже как-то снисходительно говорил об охоте, будто эта деревянная, сыромятная, снежная, потная жизнь была не всепоглощающим потомственным делом, а лишь чудаческим дополнением ко всему остальному.
Серегина Ленка, очень стройная, прямо ставящая ступни, деваха с пышными светлыми волосами и почти всегда опущенными глазами, стучала короткими и остроносыми резиновыми сапожками по дощатому тротуару и, поравнявшись с Иванычем, быстро вскидывала глаза и бросала: «Здрасьть», будто говоря: «Ну да! Такая вот я и есть, а ты, хоть старый пень и уважаемый человек, а туда же». Однажды она так же вот шла навстречу, и рядом вился малец, чем-то ей досадивший, и тогда она выстрелила примерно следующее: «Здрасть (пшел на хрен!) эт я не вам». Ленка работала радисткой на метеостанции, одновременно выполнявшей и функции аэропорта, а до этого радисткой на почте – у нее был ценнейший в таком деле резкий высокий голос. Ленка передавала телеграммы, и Иваныч, выписывая по каталогу запчасти, слышал за перегородкой ее резкий голос: «Чехова, пятнадцать! Че-хо-ва: Человек, Егор, Харитон… Че-хо-ва. Дуплякиной, Ду-пля-ки-ной, – дупло! Все? Понято», – щелчок тумблера и Ленкин смешок: «Х-хе, “прохожденье”… Уши мыть надо!»
Баба она была со стержнем, за свое умела стоять насмерть и чуть что – начинала орать своим удивительным голосом, пока не добивалась победы. Звали ее Большеротая. Была она сирота, жила с древней бабушкой носившей зеленые очки, и считала, что и начальник, и Иваныч, и все на свете Сережку обижают, зажимают и норовят обделить всем, чем можно. Особенно гордо и терпеливо ухаживала она за ним, когда он болел. А болеть он, по выражению Иваныча, «любил».
Сам Иваныч, да и все его товарищи переносили «любую заразу» на ногах, а Серега, едва хватив простуды и захлюпав носом, становился кислым, включал телевизор и заваливался на диван с книгой. Однажды у него долго болел большой палец на правой руке, после того как он богатырски, с перекидом на обушок, насаживал на топор витую еловую чурку, как шкантами стянутую сучьями, и большой палец неудачно попал между обушком топора и широкой, как наковальня, колочной колодой. Он все потирал палец и морщился, раздражая недоверчивого Иваныча, а потом, когда приехал пароход с врачами, Сереге сделали рентген и оказалось, что палец у него был сломан и уже сросся. Иваныч совершенно запутался в Серегиных недомоганиях, но после случая с пальцем стал осторожней. Но раздражение оставалось, и справедливое, потому что этот палец был неспроста, и все упиралось в эту сучкастую витую елку: у Сереги была манера, уже заехав на охоту, искать и валить на дрова эти самые сухие елки, вместо того чтоб заранее напилить листвяка или кедры, поколоть и сложить, чтоб сохли.
Еще у Сереги все время болели зубы. Ближайший зубной врач находился за триста километров, правда, иногда летом приезжал на недельку-другую какой-нибудь запойный зубной техник из дальнего города. Но летом Сереге обычно было не до зубов, а прихватывало его, «как обычно» – язвительно разводил руками Иваныч, зимой в тайге в самый разгар охоты, и тогда, переполошив по рации окрестных охотников, он то тащил рассыпающийся зуб пассатижами, то вспарывал флюс ножом, то пилил наполовину оторвавшийся мост надфилем.
Много лет они ездили на старых Иванычевых моторах и тот рассчитывал, что Серега на сданную пушнину «возьмет себе нового вихрюгу» и это снимет нагрузку со старой техники, а Серега ехал в город и покупал новый дорогой телевизор и галогеновый фонарь. Но поскольку покупал он на свою честно заработанную долю, упрекнуть его вроде было не в чем, хотя все это было отступлением от их общих интересов. И такие отступления встречались на каждом шагу, и все не происходило того, чего Иваныч с такой надеждой ждал – встречного участия сына в делах и постепенного переноса их тяжести на Серегины плечи – Серега все продолжал считать отца начальником и организатором хозяйственной жизни. Но когда тот начинал его попрекать за какую-нибудь недоделку, выпучивал свои навыкате глаза и кричал: «Я мужик! Ты че, батя, меня попрекашь!», и закатывал пьяные истерики, а потом спал до обеда, раскинув руки с большими бицепсами, вздымая ровным дыханьем красивый смуглый торс со съехавшим крестиком, и рядом на столике, где стояла пепельница с окурками и катышком жевательной резинки, все ночь молотил магнитофон с автореверсом.
В конце концов Иваныч разделил всю технику, но, как он и думал, кончилось тем, что Серега свою не чинил, хотя она у него была в вечно разобранном виде и это называлось «не видишь, я “бураном” занимаюсь», и когда надо было вывезти дрова шел к отцу, у которого все было на ходу. При этом время от времени Серега наводил у себя в комнате тошнотворный порядок, выглядевший как издевательство по сравнению с тем, что творилось в мастерской, и Иваныч еле сдерживая раздражение, шел к соседу Петровичу, в небольшой хибарке которого всегда было полно стружек и прочего хлама, но весь инструмент: топоры, рубанки, ножовки и цепи – были выточены до бритвенной остроты.
Отношения усложнялись, они решили разделиться уже полностью, и Иваныч сказал: вот тебе половина техники и вот тебе половина участка: делай что хочешь, ко мне не ходи, и у тебя есть такие-то вот обязанности, например, дрова, рыбалка и огороды. Тогда Серега решил уйти от отца и жить самостоятельно, для чего надо было строиться. Однажды ночью Серега притащил среди ночи какого-то ярцевского бича, которого ссадили с теплохода за пьянку. Через этого Степку Серега решил достать строевого сосняка, которым так славилось леспромхозное Ярцево. «Ну что, Степан, сделаешь мне леса?» – спрашивал он Степку грозным деловым тоном. У Степки была рассечена губа и в кровавом треугольнике расселины удобно лежала беломорина. «Накосить – отвечал он, приседая и проводя широкий круг рукой – накосить – они тебе накосят, а вот с транспортировкой – тут я пас». Эту фразу он повторил раз сто пятьдесят пять, вставая, идя на Серегу и обдавая его перегаром.
Иваныч еле терпел этого Степку, но Серега твердил: «Батя, ну человека ж не выгонишь на улицу, его и так, как собаку, выпнули». Прожил он у них два дня, надоел смертельно, и когда Серега, отдежурив целую ночь, посадил его на теплоход и оба они, облегченно вздохнув, сели за чай, вдруг раздался стук и ввалился Степка, который за пять минут успел напиться и подраться с какими-то бичами и прыгнуть в лодку к не знавшему предыстории почтарю. Степку в конце концов отправили, а затея со стройкой как-то умерла сама собой.
Серега все не мог забыть своей владивостокской жизни, по сравнению с которой жизнь, выбранная отцом, несмотря на все свои прекрасные стороны, была в несколько раз тяжелее своей непреходящей ломовой тяжестью, постоянной заботой по поддержанию существования, какой-то смертельной привязанностью человека к природе и быту, ежегодным повторением борьбы со снегом, ветром, дождем – за сено, которое съестся коровами, за дрова, которые сгорят, за лыжницы и дороги, на глазах заметаемые снегом, который весной растает вместе с лыжницами, дорогами и снежными печурками для капканов, за всех этих глухарей, тайменей, соболей, чья свежедобытая красота так восхищает душу, а в итоге как-то оскорбительно неравноценно меняется на запчасти, комбикорм и консервы, от которых тоже вскоре не остается ни следа. Все это так угнетало Серегу, что он тайком начал готовить себя к совсем другой жизни, которую язык не поворачивается назвать иначе чем нормальной. Через пароходских, которым он сдавал рыбу, у него появились завязки в Красноярске, он ездил туда и однажды зимой после охоты на подлете к городу он испытал вдруг такое облегчение, что больше никаких сомнений в дальнейших планах быть не могло – у него было чувство, будто он вырвался на свободу. Недельное ожидание вертолета, очень сильные морозы, пьянка в дизельной, во время которой он напился и, заснув, стал подмерзать на цементном полу и потом, не приходя в чувство, как зверь, переполз под теплый ветер радиатора, опохмелка в грязной остяцкой избе, где ничего нет, кроме стола и железной печки, а потом изжога от плохой водки и боль застуженного зуба, и мрачный Иваныч, особенно жестокий в своей немногословности. Потом вертолет снова не прилетел и было мрачное морозное небо, в котором холодно мерцал красный огонек какого-то другого несевшего вертолета, а на другой день в обед он все-таки вылетел и в поселке удачно пересел на диксонский рейс, и все это – и дизельная, и изжога, и мрачное ночное небо – вдруг остались далеко позади, и сразу прошел зуб, и были огни, и празднично освещенные витрины, и на сиденье автобуса хорошо одетая девушка с книжкой «Боевые собаки мира», и какое-то совершенное расслабление всего существа.
Однажды в конце лета он даже задержался на месяц, чем здорово подвел отца: они договорились вместе ехать завозить горючее на зиму. Прошли дожди, поднялась вода, и случай был – грех пропустить. Иваныч подождал-подождал, да и поехал один и, вываливая двухсотлитровые бочки из лодки, закатывая их на угор, все думал: «Что за натура! «Ей-богу, вольтанутый какой-то! Может, я в чем виноват? Да нет вроде… И все время со мной парень был. Вот у Кольки трое – и все молодцы, и хоть тот и называет их “лоботрясами” и при других разговаривает с ними свирепым голосом, живут-то они душа в душу…»
Особенно хорош был средний сын, Лешка, по кличке Дед. Звали его так за сходство со своим дедом, Колькиным тестем дядей Митей Черт Побери – старым очень кряжистым остяком[15], с такими короткими ногами, что, казалось, он по колено ушел в землю. Лешка, несмотря на свои пятнадцать лет, имел черные усики, тоже был очень кряжистый, ходил в бодрую перевалочку и все делал на редкость ухватисто, заправски, даже с некоей юношеской избыточностью движений, но с неимоверным жаром, прилаживал ли отпадающий стартер к «Дружбе» или отчерпывал лодку берестяным черпаком. Дядя Митя, старый и уважаемый охотник и рыбак, когда напивался, через слово говорил «черт побери», причем произносил это по-остяцки отрывисто и отчетливо – сродни перепелиному «спать пора». В обычное время его особо не было видно, но выпив, он начинал бегать по деревне и с жаром здороваться со всеми двумя руками, выкрикивая отчетливой скороговоркой: «О, черт побери, как дела? Выпить есть, в самом деле? Все по уму! О-о-о, чер-т-т побери!» Примечательно что через дом от Чертика жил другой мужик, Николай Афанасьев по кличке Бог, в свою очередь прозванный так за выражение: «В бога мать», тоже пожилой, но сухой, с худым и правильным бледным лицом и светло-синими глазами. Он сильно сельдючил[16] и отличался нечеловеческим трудолюбием и такой же нечеловеческой бережливостью, косил вручную, правда, с помощниками, на десять бычков и ходил все время в одной, покрытой аккуратными мелкими заплатами, фуфайке. У него был почти музейный желтый «буран» первого выпуска, с непоцарапанной краской, на котором он возил дрова из лесу, причем оставлял «буран» на дороге, а от поленницы они с женой, обливаясь потом, таскали дрова на нарточке. Дважды у него вылезала грыжа и ему вызывали санзаданье. Серега одно время рыбачил с Богом промхозным неводом, и тот рассказывал сказочного колорита побасенки одного очень определенного направления, а колючих застревающих в ячее ершей называл «гощударством». «Вон оно – еще одно гощударство идет», – говорил он, высвечивая фонариком надувающегося и манерно топырящего плавники ерша, и аккуратно вытаскивал его длинными сухими пальцами.
3
В ту осень Серега, проявив необычайную прыть и изворотливость, и не без помощи Ленкиной глотки, купил новый, в упаковке, трехсотый «нордик» финской сборки – серебристый, стремительных очертаний снегоход с дымно-голубым ветровым стеклом, похожим на леденец задним фонарем и электроподогревом рулевых ручек.
В начале сентября они с Иванычем увезли в тайгу отцовский «буран» и бензин, и теперь везли Серегин груз и новый «нордик». Незадолго до отъезда Серега гулял на водопутейском катере и один матрос, Эдуардка Пупков по кличке Бешеная Собака, с протезом переднего зуба, от которого отвалилась пластмасса и на ее месте виднелась металлическая основа в каких-то очень авиационных дырочках, так вот этот вот Эдуардка рассказывал Сереге, как якобы занимался в Норильске водномоторным спортом и для повышения скорости шлифовал редуктор и винт, и Серега, загоревшись, несколько вечеров подряд драил винт войлочным кругом, на что Иваныч только качал головой, зная, что вся эта шлифовка до первого камня. Забрасывались они на участок на десятиметровой дюралевой лодке, доставшейся им от одного охотника, склепавшего ее в городе на заводе. По бортам ее были пущены две широкие доски, крашена она была темно-зеленой краской и звали ее «Крокодилом». На редкость громоздкий и неказистый Крокодил брал тонну груза и на волне ходил ходуном, как кисель, что и спасало его от перелома. Первые восемьдесят километров река текла довольно спокойно, а дальше шло несколько широких и мелких порогов, за последним из которых стояла их первая избушка. Вода была не самая, но все же маленькая, и Илюшкины Шиверы[17] и первые два порога Сергей поднял благополучно, всего несколько раз цепанув защитой – сваренной из уголка и прутьев огражденьем для винта. С последним, Мучным, самым неприятным, у Сереги были свои счеты, в прошлом году у него здесь заглох мотор и он чуть не вывалил весь груз. Спасло то, что произошло это в нижней части слива. Мучной порог был самый нескладный, длиной метров сто, не столько даже мелкий, сколько с очень сильным уклоном и огромным числом камней, расположенных в шахматном порядке, так что каждый обойденный камень перекрывал путь к отступлению. Самая пакость была вверху, где за огромным булыганом, через который белоснежными лентами валила стеклянная вода, начинался спокойнейший плес, сквозь кристальную воду которого на многие метры виднелось выложенное плитняком дно. По сторонам от камня дрожали две выпуклые струи. В более мелком левом ходу было несколько метров ровного галечного дна, где вспененная вода текла стремительным, пугающе тонким пластом. Именно здесь обычно подымался Иваныч, с отсутствующим видом сидя за работающим на полняке тридцатисильном мотором и медленно с железной точностью и уверенностью ползя вверх. Правый ход, которым пошел Серега, был глубже, но требовал почти невозможного маневра, потому что как только ты входил в слив, сразу на выходе оказывался камень, и чтобы его обойти, требовалось сделать движение румпелем вправо, но мотор, тут же откидываясь, переползал еще один камень и лодка, потеряв скорость, оказывалась опасно развернутой к течению. Сергей очень хорошо почувствовал через подскочивший мотор этот удар, хруст и видел, как Иваныч с перекошенным лицом пытался шестом выправить нос, а мотор в синем облаке дыма бессильно орал на срезанной шпонке, и Серега не мог понять почему не помогла защита. А они уже неслись, набирая скорость, и Крокодил с горой груза, бочками, с серебристым «нордиком», все сильнее разворачивало поперек, несмотря на все усилия их шестов, и раздался один удар о камень, потом другой, и уже пронесло половину порога, и полностью развернутый Крокодил всей массой несся середкой на блестящий зеленый камень. Серега зажмурил глаза, раздался страшный сложный звук, в которым слился и удар, и треск, и одновременно Иваныч отпустил веское, будто все обрубающее, двусложное слово и вылетел за борт в обнимку с канистрой, успев натянуть на себя карабин.
Все как-то вдруг замерло, застыло, переломленный пополам Крокодил, колыхаясь, сидел, обнимая камень, задняя часть с «нордиком» осела в воду, наполовину слезший с транца мотор упирался в дно, а ниже удалялся, качаясь в серебристой водяной толчее черный вездеходовский бачок.
Истошно орут собаки, Иваныч, стоя по бедра в воде и держась за камень, кричит: «Ну че опрутел? Хватай канистру и прыгай!», а Серега стоит в Крокодиле и то застегивает, то расстегивает ремень, не зная, снять озям[18] или нет. Устройство порога было таким, что они теперь оказались почти в берегу и, падая под напором воды, цепляясь за камни, быстро перебрались на берег, и, кажется, плыть пришлось один раз. Крокодил так и сидел двускатной крышей на камне и из грохота воды волнами доходил собачий ор. Пока отжимались – вода ледяная, вот-вот снег пойдет, – выяснилось, что Серега поставил под винт только одну шпонку, что вторую бессмысленно ставить из-за канавки во втулке, и тут Иваныч от всей души обматерил его за этот отшлифованный винт с канавкой – и пожалел, что не отобрал у него мотор перед порогом.
В избушке в двух километрах от Мучного они сушились и пили чай, и Серега, который никогда еще в жизни не чувствовал себя так гадко, после долгого молчания сказал: «Как же мы все это гощударство вылавливать будем?» «Ладно, “гощударство”, – наконец усмехнулся Иваныч – нордятину-то мы найдем, а вот что с Крокодилом… – Он покачал головой. – Накосить они тебе накосят, а вот с транспортировкой…»
Стащили казанку, поставили «ветерок» и поехали. Привязались к Крокодилу, Серега перекидал мокрых, топырящих лапы, собак, подал лыжи, понягу, оружие, мешок. Когда он вытащил из противомедвежьей бочки мешок с крупой, облегченный Крокодил угрожающе заходил под напором воды и Иваныч заорал: «Режь, утопит нас!» – и Серега вскочил в казанку и перерезал веревку, а Иваныч поймал за фал съезжающий Крокодил, от которого тут же оторвался мотор. Они поволокли Крокодил по дну, видя под мощным пластом клубящейся дымчатой воды, как колыхался надорванный корпус от ударов по камням и как вывалился и потерялся из виду «нордик». Крокодил они успели притащить к берегу раньше, чем их поднесло к следующему сливу, и долго на руках волокли по заваленному камнями мелководью, пока он не оказался на сухом, где выяснилось главное – что дно цело, порвались только борта. Темнело, и в этот день успели лишь найти и достать мотор, казавшийся в воде изумрудно-зеленым, перетащиться через порог и доехать до избушки.
Серега никак не мог сосредоточиться, его волновало все сразу: как искать «нордик», далеко ли унесло бензин и как быть: ремонтировать Крокодил или ехать в деревню за другой лодкой, а Иваныч был спокоен, потому что знал, что надо просто все делать по очереди. Выпили без радости, топили печку, утром намотали высохшие, затвердевшие коркой портянки и поехали к Мучному. Пока грелся чай, Серега профукал мотор, снял маховик, вычистил каменную крошку и завел. Оказалось, что у защиты отломился один ус, видимо, еще в предыдущем пороге, и Иваныч опять с тоской и раздражением подумал о том, что Серега должен был перед Мучным проверить защиту, а сам он должен был напомнить об этом Сереге, но не напомнил, потому что Серега выпучил бы глаза и забухтел бы, что он «мужик» и сам все знает.
Приготовив шест с крюком, веревки и кошки, они уехали к порогу и начали поиск, заезжая под слив и сплавляясь на якоре. Сначала, правда, объехали самые вероятные места, выловили мешок комбикорма и видели ведро. Просматривалось все насквозь, только отсвечивала вода, когда двигались против света. Буровили долго. Избороздили больше половины широченной реки, а «нордика» все не было, и уже ум заходил за разум, и было ясно, что ищут не там, и Серега все ворчал: «Мы здесь елозим, а он, поди, лежит себе спокойненько на камнях в Нижнем сливе». Но «нордика» и там не оказалось, они спустили Нижний слив, за ним шла глубина метров шесть, плясала черно-синяя вода частоколом остроконечных волн, а ниже ходила по кругу пена в огромных черных воронках – и как искать, там было вовсе непонятно. Они сплавились ниже, выудили со дна ярко-зеленый армейский плащ, обнимавший камень, поехали вниз, и нашли вездеходовский бак, стоявший в камнях у берега, а ниже у Гришинского порога бочку с бензином. Вернувшись назад, они подняли Нижний слив и поехав немного левее, чем обычно, вдруг наткнулись на еще один мешок с комбикормом, мешок вытащили крюком, Серега заорал: «Давай дальше так же езжай!», и совсем под камнями у той стороны в хрустальной воде они увидели «нордик», лежащий на боку во всем нелепом великолепии наклеек и отражателей. Подняли его и отволокли на веревке мотором к противоположному берегу. «Нордик» не пострадал, капот был крепко застегнут, поцарапались только металлическая окантовка боковин и разбился боковой отражатель. Серега прокачал двигатель, завел, прицепил лыжи и перегнал «нордик» по пабереге за порог, откуда потом они увезли его к избушке.
На следующий день они, привезя заклепки и доски, собрали Крокодил, облезлой зеленой краской и многочисленными заклепками напоминавший старый бомбардировщик. Серега собрал смолу с прибрежных избитых льдом елок, нагрел ее в банке и с криком «Накосить они тебе накосят!» долил бензину, размешал палочкой и смола вдруг сразу почернела и стала как настоящий гудрон, только темно-коричневая, и Серега подмигнул отцу, мол, «могем изобресть, когда надо», и Иваныч проворно и аккуратно заливал швы Крокодила, а Серега размазывал гудрон палкой с намотанной тряпкой.
В избушке Иваныч сушил крупу и подсчитывал потери: не считая мелочевки, потеряли только Серегину противомедвежью бочку с комбикормом и сгущенкой, но по-настоящему было досадно за новые «бакенские» батареи для радиостанции – старые сильно подсели еще в прошлом году, и эти Иваныч с большими трудами выменял у Бешеной Собаки на стопку камусов[19].
Иваныч с Серегой поехали дальше. Листва с берез облетела еще не полностью и ярко желтели листвяги. Установилась погода: по утрам ледок у берега, днем ослепительное солнце, резкие тени, блестящая синяя вода, желтизна тайги, дно в рыжих камнях и голубая гора над концом поворота.
С утра ездили за птицей. Был запотевший полиэтилен окна, и Иваныч, встав, вышел на улицу и глядел на космически синее небо со звездами и стеклянное зарево восхода, а потом затопил печку-полубочку, и она загудела, и затрепетала в такт рывкам тяги пленка окна с зашитым следом от медвежьей пятерни.
Серега долго грел мотор под капотом, и синий дым стелился волокнистой прядью над сизым от инея берегом, и отчаянный лай привязанных собак отдавался долгим эхом по хребту противоположной стороны. За поворотом за седой от инея каменной грядой на галечнике сидели, вытянув вверх шеи, три глухаря, какие-то особенно ненатуральные в напряженной неподвижности высоко задранных голов. Одного Иваныч убил из тозовки прямо на галечнике, а другой сел на листвень метрах в ста, и Серега застрелил его из ружья. Обратно сплавлялись самосплавом. Припекало солнце, с шорохом опадал подтаявший ледок берегов, и на мелководье у охвостья галечного острова под выпуклым треугольником волны медленно удалялась литая торпеда тайменя.
Потом рыбачили сетями, потом Иваныч уехал вниз, а потом завернула зима, да так, что казалось, никакого лета и не было и вообще ничего в жизни не было, кроме поочередного движения мохнатых лыжных носов перед глазами и упругого холодка капканной пружины в ладони.
Но вообще, осень выдалась морозной и малоснежной, и Серега, шарашившийся по своим дальним избушкам и еще не видевший отца, не знал главную неприятную новость: то, что повылезали шатучие медведи и где-то вверху даже задрали двух охотников. Светло-розовым ноябрьским днем с редким сухим снежком Серега подходил к избушке по хребтовой дороге. Несмотря на погоду настроение было испорчено – собаки еще с утра убежали по старому следу соболя и, скорее всего, вернулись обратно на Еловый, причем едва они убежали, сразу же стали попадаться свежие следы. «Ладно, если завтра не придут, сяду на «нордик» и слетаю». Спускаясь к избушке, он увидел на старой почти задутой лыжнице неожиданно свежие крупные следы и тут же заметил, что с «нордика» скинут брезент и нет стекла. Карабин он оставил в самой дальней хребтовой избушке, ружье было как раз в этой, а с ним была тозовка калибра 5,6. «Блин, и собак нет!» Он постоял, помялся, сделал факел из палки и куска бересты, поджег его для острастки, взял в другую руку взведенную тозовку и пошел к избушке. Стояла она так, что, подходя, он видел ее глухую боковую стену и выкинутые спальники, лампу, кастрюли, батареи, осколки напротив распахнутой двери. «От, козлота! И собак нет», – снова подумал Серега. В морозном воздухе отчетливо послышался скрип развороченного пола – медведь завозился, почуяв Серегу. Тот сделал еще несколько шагов, и медведь вылетел в окно и на долю секунду замер, глядя на Серегу. Серега заорал матом, и медведь в три прыжка скрылся в лесу. Серегу трясло, он схватил ружье, искал патроны, не нашел, потом зачем-то налил в собачий таз и поджег солярку, потом взялся заводить «нордик», тот не заводился – было холодно, потом натаял в банке снега, нагрел его, полил на цилиндр, завел и пока тот грелся, накрытый брезентом, успокоился и поставил на подходах к избушке пару петель из троса, а потом уехал к отцу в избушку. Когда они вернулись, медведь уже сидел в петле. Все вокруг было изрыто-испахано, снег покрыт бурой земляной пылью и бледно-зелеными клочьями мха, окрестные елочки и кедрушки изгрызены в щепки. «Трос не перебей», – не удержался Иваныч, глядя, как ретиво передергивает Серега затвор карабина. Сергей выстрелил в голову, медведь рухнул и, отдрожав мелкой дрожью, застыл рыхлой черной глыбой. Больше всего Серегу поразило, что, когда он уехал, медведь перебежал Сухую и забрался на угорчик – глянуть, не притаился ли Серега за поворотом.
В избушке прибрались, привезли туда продуктов, и в общем все кончилось удачно, единственное, что по реке было холодновато ездить без стекла и приходилось все время останавливаться, открывать капот и греться под теплой струей вентилятора, отдирая от бороды и усов сосульки.
Через неделю Поповы снова встретились. Иваныч пришел поздно и застал Серегу сидящим на нарах, беседующим по рации с ближним соседом – Вовкой Коваленко. Весь день Иваныч как-то с особой теплотой думал о Сереге, а тут снова почувствовал раздражение, увидев, как болтает Серега, садя еле живые батареи, тем более с Коваленко, который мог молотить языком сутками.
Коваленко обо всем говорил с небывалым жаром, все путая и преувеличивая. На его участке, оказывающемся просто какой-то территорией чудес, всегда вываливало в два раза больше снегу, давили антарктические морозы и водились особенно свирепые росомахи, которых тот называл «подругами» и которые разоряли Вовкины дороги, сжирая попавшихся соболей, с особой, почти человеческой, целенаправленностью. Естественно, что подруга, если уж попадалась, то непременно каждой ногой в отдельный капкан, что называлось у Вовки «обуться на четыре ноги». Все у него было особенное, огромные глухари или улетали из-под обстрела, будто бронированные, или падали к ногам еще до выстрела, рыба, если ловилась, то «валила валом», и ее «кое-как» удавалось перевалить в лодку вместе с сетью, а если не шла, то ее непременно «как отрезало ножом». Вовкины собаки, как обезьяны, лазили по деревьям и норовили так «фатануть в хребет» за сохатым, что возвращались не раньше, чем через месяц. Техника тоже у него работала по-своему и ремонтировал он ее тоже своим способом: «Ково? Колпачки? А я их ср-р-азу выбр-р-расываю! Р-р-релюшка? Ср-р-разу отр-р-рываю, напр-р-рямую все пускаю!.. Пор-р-шня, цилиндр-р-р-а? Ср-р-разу р-разбираю…» и так далее – орал он на весь район, и, казалось, что после столь решительных мер от мотора давно ничего не должно было остаться, кроме голого бешено вращающегося коленвала. При этом с охотой у него всегда все было катастрофически плохо, и он опять вопил: «Да нету ни хр-р-рена! Голяк! Пустыня Гоби!», но на вопрос, «надавил» ли он все-таки «пару десятков», не в силах удержаться, тяжко вздохнув, виновато отвечал: «Надавил».
– Ладно, Вовка, тут старшой пришел, ворчит, как обычно. До связи, – попрощался Серега с Коваленкой и весь вечер лежал на нарах с особенно скучным видом.
– Да ты че скучный-то такой? – не удержался Иваныч.
– Да нет, ничего – по-сибирски отдельно ударяя и на «да», и на «нет», ответил Серега и, сморщив лицо, потер правый бок.
– Болеешь, что ли? – насторожился Иваныч.
– Но. Есть маленько.
– Че такое?
– В бочину отдает правую.
– А температура?
– Да то-то и есть, что температура.
– Большая?
– А я хрен ее знат.
– На глаз надави, больно?
– Да вроде есть маленько.
– И давно?
– Да уже четвертый день. Может, отравился чем.
– Едрит-т-т твои маковки! А че молчишь? – сказал Иваныч и, подумав, добавил: – Завтра не ходи никуда.
Оба лежали каждый на своих нарах. Потрескивала печка. Ярко-горели две лампы, и в бачках из литровых банок прозрачно желтела солярка. На стене возле Сереги было вырезано:
Много в избушке набито гвоздей, Здесь Серьга Попов добывал соболей.Кругом действительно было набито огромное количество гвоздей, на которых висела одежда, веревочки, кулемочные сторожки, мотки проволоки, ремешки, фитили для ламп, капканы, ножницы, старый узел перемещения от бурана, мясорубка, а у двери в полиэтиленовом пакете какой-то сплавленный доисторический комбижир, который не ели даже мыши и не трогал здешний робкий молодой медведь, почему-то проверявший эту избушку только через окно. Комбижир этот давно уже стал частью обстановки и, казалось, для того, чтобы его выкинуть, потребовалась бы какая-то нечеловеческая решительность. Ошкуренные посеревшие бревна были очень толстыми, стены рублены в точнейший паз, что вообще редкость в таежных избушках, настоящие, как в деревенской избе, косяки были крепко влиты в дверной проем, а дверь из трех широких плах отлично согнана. Иваныч эту избушку любил особо, он в ней начинал охотиться, она была единственной из десяти на участке, срубленной не им, и ее редкостная добротность как бы с самого начала задала тон всей остальной стройке.
– Батя, эту избушку кто рубил?
– Евдокимов.
– Но-но. Ты рассказывал… Это который кулемки первый начал рубить. Долго он охотился-то?
– Да нет, недолго, года два.
– А потом что?
– Уехал, – сказал Иваныч.
– И стоило ради этого такое гощударство городить…
– С начальником разругался, – сказал Иваныч и перевел разговор на кулемки.
Иваныч сказал неправду. Евдокимов – тридцатипятилетний бездетный, поразительно обстоятельный мужик, приехавший с бабой с Дальнего Востока и первый здесь начавший рубить вороговские кулемки, не ругался с начальником. Избушку эту действительно рубил он, заехав сюда весной. Проохотился он в ней два сезона и под Новый год так и не дошел до деревни – послали самолет и нашли его в версте от этого места сидящим мертвым на нарточке с выражением какого-то сумрачного напряжения на неподвижном лице. Иваныч помогал затаскивать его в клуб, где ему и делал вскрытие прилетевший врач – у Евдокимова «лопнул аппендицит».
На следующий день Серега никуда не ходил, и вечером Иваныч решил связаться с деревней и посоветоваться с фельдшером. Серьга не возражал, но резонно заметил: «Главное, чтобы до Ленки не дошло, а то она всех на уши поставит». Иваныч попросил начальника позвать фельдшера и рассказал, что у Сереги четвертый день «отдает в бочину» и температура. Слышно было плохо, как назло, совсем сели батареи («с Коваленкой целый вечер протрекал»! – рыкнул Иваныч), и Иваныча дублировал Коваленко с присущим пылом. Фельдшер, понятно, не мог сказать ничего определенного, решили ждать и выходить на связь.
Но тут, как это выяснилось позже, в контору ворвалась Большеротая Ленка просить у начальника какие-то злополучные лампочки для метеостанции и услыхала конец разговора. У Поповых как раз в это время совсем сели батареи, а когда Иваныч, перемазавшись в едкой черной жиже, разобрал самую живую из них, пересоединил пластины параллельно, временно добавив напряжения, и вышел на связь, то с удивлением узнал, что вертолет уже летит, потому что Ленка действительно «поставила всех на уши», угрожая, плача, матерясь и особо упирая на плохую связь и севшие батареи, припомнив и Евдокимова, и на всякий случай двух зажранных медведями мужиков и пригрозив фельдшеру, что все равно вызовет вертолет как главная радистка. «Ты гляди-ка – “рано”! – передразнила она фельдшера. – Рана век не зарастет! – и заблажила на одной оглушительной ноте, не давая вставить ни слова: – Мужик мой пропадат, а вы здесь сопли жуете! Ни хрена – слетают не развалятся, когда им за рыбой надо – не спрашивают, кто платить будет, а вас всех по судам затаскают, если помрет мужик!»
В результате прилетел вертолет, и Серегу увезли в район. Иваныч перебрал все «бакена», выбрал рабочие пластины, собрал временную батарею и иногда выходил на связь. Через две недели он узнал, что Серега уже в деревне и заходит на участок. Заходя, Серега гудел в избушках у охотников и по этому гудежу можно было следить за его перемещеньем. «Сколько же он водки взял? Больной… – недоумевал Иваныч. Не всякий здоровый столько упрет», – и до поры не приставал с вопросами.
Через три дня Серега куралесил уже совсем рядом, у Коваленки. Гудеж заключался в том, что оба, отбирая друг у друга микрофон, городили друг на друга всякую несусветицу. Например, Коваленко все кричал, что, мол, мужики, спасайте, этот-то, приблудный-то, верховской-то, аппендицитный, совсем заел, говорит, не кормишь меня, того гляди из избушки выпр-р-рет, в катухе с собаками ночевать заставит, водку притащил, пей, говорит, собака – а мне ее не на-а!..» А «приблудный», давясь от смеха и гремя кружками, отбирал у него микрофон и орал: «Мужики! Вы кого слушаете? Этот майгушашинский! Это такой пес! Я к нему по-людски! Сидел, как швед, последний хрен без соли доедал, а тут ему выпить и закусить! Еле в избушку пустил, заморозить хотел! Слышь, бать, а? В катух! В катух к собакам, к Дружкам, значит, селит меня, как бичугана! И таз! Таз сует с комбикормом! Жри, говорит, пока лопаткой не огрел!» Тут Коваленко вырвал микрофон и заорал: «Мужики! Вы кого слушаете! Он почему в катухе-то оказался? У меня же сучка гониться! Дак этот кобель всех моих по… по… удди отсюда, пораски… пораскидал»… И тут оба завыли от хохота и временно затихли, чтобы выпить крепко разведенного спирта и закусить строганой максой – налимьей печенкой, причем Серега, услышав, как начальник жалуется, что не может улететь в район и третий день сидит на чемоданах, не поленился оторваться от закуски и крикнуть с полным ртом: «А че, на чемоданах нельзя улететь?»
На следующий день Иваныч встретил Серегу на «буране» и через полчаса в избушке Сергей доставал из поняги мгновенно заиндевевшую бутылку, пересыпающиеся с костяным стуком пельмени в мешочке и пакетик с мелким фигурным печеньем.
Серега за дорогу так преуспел в остроумии, что уже ни слова не мог сказать нормально и на вопрос, что же с ним все-таки было, ответил: «Этот застудил, как его, узел перемещения, короче. – Серега хохотнул. – Без стекла-то ездил, и максу посадил, комбижир жрал, как индюк». Иваныч не сразу, но понял, что под узлом перемещения тот имел в виду паховый лимфоузел, а Серега бодро налил водки и весь вечер рассказывал про главврача Тришкина, про свои залеченные зубы и про вредную, но красивую старшую сестру, за пятнистую шубу прозванную Ягуаровной. Потом Серега пошел кормить собак, а Иваныч лежал на нарах и, вспоминая эту осень, в который раз приходил к выводу, что опять все вышло исключительно из-за Серегиного «дурогонства»: не поставил бы он свой дурацкий шлифованный винт с канавкой, проверил бы защиту – не утопили бы батареи, не поленился бы сделать стекло из жести – не продуло бы ему этот самый «узел перемещения», а были бы батареи – вышли бы на связь и, глядишь, не было бы никакого вертолета и этого позора. Ну что за натура такая! И с комбижиром – какая печенка выдержит, когда его даже мыши не едят – там нефть одна, а он на нем целую неделю хлеб жарил. Ну годик достался! Теперь, не дай бог, случись что – и вертачину-то не вызовешь…
Потом вошел Серега, захотел чаю и вывалил на стол фигурные печенюшки. Потом они выпили, разговор постепенно перешел на излюбленную тему работы, и Серега, который, чувствовалось, был теперь полон каких-то новых соображений, все наседал на отца:
– Вот ты, батя, все сам делаешь, а на хрена, скажи, тогда профессионалы нужны?
Иваныч отвечал, что, мол, рад бы и не делать, да кто ж за него сделает, и вообще, какой ты мужик, если ничего не умеешь, а Серега, ударяя на «да», говорил: «Да вы че такие-то? Вот ты с “бураном” копашься, а любой механик все равно лучше тебя шурупит и так его сделает, что тот через два часа как чугунок стоять будет! Вот у нас Петя – на хрена он тогда техникум кончал? Пусть он тебе и делает, а ты б ему платил – и от работы не отвлекался бы, и техника бы лучше ходила, и Петя бы при деле был. Каждый своим делом должен заниматься!» – уже почти орал Серега, раздраженно перебирая пухлые буковки и рыбки печенья.
Иваныч тоже все больше раздражался, чувствуя, как втягивается в какой-то пустой разговор, зашедший теперь уже о свободе вообще, причем по-иванычеву выходило, что свобода – это когда все умеешь и ни от кого не зависишь, а по-серегиному, когда просто много денег.
– Ладно! Как чугунок… – кричал Иваныч. – Ладно! Я хоть худо-бедно сам делаю, а ты пол-лета Петю прождал, а потом вы с ним так движок перебрали, что я до сих пор бутылки из мастерской выношу, а буран как стоял, так и стоит. Как чугунок…
Серега, не слушая Иваныча, орал свое:
– Взял, мужиков нанял, сам в тайгу, а они тебе дом рубят!
– Ладно! – продолжал Иваныч – Если б была у меня здесь мастерская, этот сервиз твой гребаный, что бы я, думаешь, мозолил бы мотор этот, как проклятый под угором, таскал бы его, падлу, взад-передь!.. Сдал бы его на хрен, дал бы пару соболей… Вообще… Заколебал ты меня, Серьга, в корягу! – кричал Иваныч, еще больше злясь, потому что сам не верил в то, что говорит.
– Батя-батя-батя, мозга не канифоль, – подняв палец, быстро заговорил Серега, – ты если б и в городе жил и зарабатывал, и машина у тебя б была, хрен бы ты на мастерскую забил и сам бы с ней копался, как… как всю жизнь копался, и за эту люблю я т-тебя… не знай как… – Голос Серьги дрогнул и он крепко зажал большую чубатую голову Иваныча согнутой в локте рукой и ткнулся лбом ему в висок. А потом налил, и они подняли кружки, и, когда отец выпил, Серега протянул ему китообразную печенюжку: – На вот кита тебе, – и так улыбнулся, что еще долго светло и хорошо было на душе у Иваныча.
В декабре Поповы еще по разу проверили капканы и поехали в деревню. У Коваленки они грелись и пили чай, а Вовка сидел на железной кровати, обдирая соболя, и по-хозяйски улыбался, а на стене висел портрет крашеной певицы из журнала с его припиской:
Ты как будто вся из света, Вся из солнечных лучей. Мы с тобою до рассвета — Сказка тысячи ночей.У Черного мыса они встретили Славку-Киномошенника. Он вывозил лодку. Приходилось все время ждать отстающих собак, и Серега остроумно сообразил посадить их в «бардак» лодки, громко захлопнув крышку с криком: «До связи!» Правда, потом на кочке люк открылся и собаки радостно выскочили врассыпную, но это было уже возле деревни.
Весной Иваныч в который раз неважно себя почувствовал и поехал в район, в больницу, где вдрызг разругался с главврачом, толстым холеным человеком по фамилии Тришкин, которого все звали Тришкин Кафтан. Тришкин, не раз, казенно выражаясь, использовавший выделенные министерством летные часы для посторонних целей, почему-то не мог простить Иванычу осеннего санзаданья, грозил, что заставит оплачивать и, выписывая направление в краевую больницу, имел такое выражением на холеном бабьем лице, будто делал Иванычу великое одолжение, а потом презрительно-авторитетным тоном заявил, что, мол, нечего здесь сидеть с такими болезнями и морочить людям голову и раз так – уезжать надо в нормальный климат и прочее, от чего Иваныч пришел в бешенство и сказал Тришкину все, что он о нем думает.
Потом был Красноярск, обследование, анализы, тест на велосипед, называемый балагуристым дедком, соседом по палате, «велисапедом», потом был диагноз ишемия, потом Серега уехал, сначала ненадолго, а вскоре совсем, причем как-то так поставив вопрос, что он не бросал отца, а, наоборот, ехал в город «пускать корешки», потому что отцу, мол, все равно придется менять климат. Пустить корешки оказалось не так просто, но Серега терпел, жил в общежитии у приятеля, с которым они торговали сцеплениями от маленьких японских грузовичков, а потом, использовав свои владивостокские связи, затеял с этим же приятелем какое-то уже другое дело.
4
По сравнению с общей бедой, когда твое дело жизни оказывается ненужным сыну, сам отъезд Сереги был пустяком и почти не огорчил Иваныча, он даже испытал облегчение – можно было спокойно и не стыдясь чужих глаз подстраиваться под новые условия. В особо тяжелые минуты Иваныч думал о Рае, чувствуя какое-то трогательное тепло, представляя, как она сидит рядом с ним, и это одно время помогало, а потом как-то исчерпало себя: нужно было решать что-то внутри себя, и если бы Рая даже была жива, ее присутствие и поддержка все равно помогли бы до какой-то границы. Однажды дело приняло неожиданный поворот – Иваныч вдруг вспомнил Большеротую Ленку и с каким-то злорадным сладострастьем представил ее выложенное мягкими мышцами тело, длинные смуглые ноги, бедра, плечи, ее губы и тяжелую линию челюстей, всю ее сильную и теперь особенно жестокую в своей правоте красоту, и все то, о чем никогда бы не позволил себе думать и чему был обязан только этой минутой отчаяния, единственным достоинством которой было сознание того, что никто никогда не узнает, о чем он думал. И вот разочаровавшись в этих разовых средствах спасения, он нащупал в себе в общем-то не новое, но единственно прочное ощущение – это ощущение достойно прожитой жизни и необходимости такого же достойного конца. Самой смерти Иваныч не боялся, но в некоторые промежуточные моменты между приступами ощущал в себе унизительнейшую панику расставания со всем этим любимым миром, который, самое досадное, становился с каждым годом все понятней, родней и благодарней при правильном обращении. А теперь он вдруг как-то очень хорошо почувствовал, что ведь дело-то обычное, ведь не первый он, ведь все те русские люди: плотники, печники, охотники, опыт которых он так берег и с такой любовью продолжал – все они в конце концов тоже умирали и тоже стояли перед этим вопросом, и что, если он видел смысл своей жизни в следовании их опыту, стараясь держать масть мужика с большой буквы, то это опыт-то не только плотницкий, печницкий, охотницкий, а самое главное – человечий, самый ценный, потому что человеком труднее быть, чем хорошим охотником или плотником – вот оно как… И так спокойно и твердо становилось у Иваныча на душе от этой мысли, что больше уже ничего не тревожило, кроме, конечно, Сереги.
Действительно, Иваныч как-то прискрипелся, и уже не один год прошел с отъезда Сереги, и сейчас эта стройка так неуклонно, хоть и медленно, приближалась к завершению и, действительно, будто стальной прут, выравнивала его было просевшую жизнь. Очень нравились Иванычу выстроганные стены, нравилось то, что на ту, где полок, он не поленился отобрать осину, чтоб смола не лезла в волосы, и несказанно радовала янтарным перистым рисунком отшлифованная потолочная балка со снятой фаской и овальным глазком сучка. «Все-таки все от земли», – с одобрением думал Иваныч, заливая фундамент, куда маленький Колька закидал специально собранные водочные бутылки, – все от нее, и дерево, и бутылки эти, и железяки все, – сопел Иваныч, глядя, как одним единственно ровным образом устанавливается в квадрате опалубки зеленоватое зеркало раствора, – «все от нее, и раствор этот, и кирпич, и глина, все оно так, все это понятно давно, непонятно только». – Иваныч, кряхтя, выволок в дверь пустую ванну от раствора – «непонятно дурость людская откуда берется. А главное, что этот “Матросов” как всегда, под утро припрется, и выезжай к нему, бегай по трюму, как ужаленный, ищи этого Славку. И будет он нескоро, а икра пропадет, а послать надо литра три. Так что хорошо, что Ленька едет. И рыбу увезет и икру. А главное, что это уже надежно».
В самом деле, было удачно, что Ленька ехал на знакомой побежимовке[20] в Красноярск. Самоходка простояла целый день, он не спеша погрузил флягу и икру и даже посидел в каюте с Ленькой и Лидой, его молодой женой, новым фельдшером, впервые за два года вырвавшейся в короткий отпуск. Правда, пить по случаю их отъезда он не стал, на что Лида с профессиональным одобрением сказала: «А вот это правильно». Но, сойдя на берег, с удовлетворением вычеркнул из сидящего в голове списка еще одно дело и вернулся домой в хорошем настроении.
Так все дальше и шло. На следующий день он уже начал класть печку – своей особой конструкции, двухтопочную каменку, где камни лежат на тракторных траках над одной из топок и прямое пламя раскаляет их добела за полтора часа. Работал он уверенно, уже зная все причуды своего здоровья, по-пустому не нагружая сердце, но и особо не позволяя себе расслабляться, и вообще чувствовал себя, как мотор, у которого было перехватило горючее, но который вот-вот уже профукается и попрет дальше. Через день он дошел до разделки и установил высоченную колонковую трубу, заранее привезенную с брошенной экспедицией подбазы.
На пол у него давно была приготовлена пятидесятка, с ним он управился быстро – приятная работа, и еще несколько дней ушло на дверь и косяки. Доски тоже были готовы уже давно и дверь, самая главная и ответственная часть любого дома, с которой он, правда, провозился два дня, получилась отменная: четыре желтые, как сливочное масло, зашпунтованные доски-пятидесятки, согнанные с едва видными зазорами, намертво стянутые двумя косыми прожилинами и схваченные с торцов врезными планками.
Меж тем дело шло к осени, намечались новые дела, и Иваныч, управившись с полками, лавками и проводкой, решил поберечь силы и предбанник отложить до весны, вкопав сейчас только столбы, чтоб не долбить потом мерзлоту.
Что печка удалась, он понял сразу, еще когда только попробовал топить.
Стояла сырость. В пятницу после дождя все было серым, только желтела лужа на дороге под угором, и серела волна на Енисее, а над ней туча с размытым ватным краем, и белела под тем берегом полоска зеркальной воды, а вверху, в пятнадцати верстах светился освещенный солнцем свеже-зеленый мыс. Но что-то происходило, и в субботу с утра уже стояла ясная, почти осенняя погода с легкой, очень синей рябью едва раздувающегося северка. Иваныч съездил выбрал самолов и до обеда провозился у залитого слизью разделочного стола, складывая в таз розовые в прожилках желтого жира пласты осетрины, в то время как из черного собачьего ведра огромная голова с догорающими глазами продолжала судорожно выдвигать пластмассовый, похожий на кусок трубки, рот.
Посолив и спустив рыбу в ледник, Иваныч перекусил и, часок отдохнув, встал и не спеша натаскал воды в баню. Потом, чувствуя почти детское волнение, как перед долгожданным событием, наколол самых сухих, почти каменных березовых дров, заложил под каменку и поджег тонко нащипанной лучиной. Печка разгорелась без единой струйки дыма наружу, слышались только треск занимающегося дерева и торопливое биение пламени за плотной чугунной дверцей. Иваныч вышел на улицу и долго глядел на трубу, из которой проворно и неопрятно валил густой сизый дым. Когда он снова подошел к бане, труба гудела, как самолет, и крепчающий северок загибал над нею хвост расплавленного воздуха.
Камни уже были малиново-красными, закладка прогорела и он кочережкой утолкал часть углей в плиту и заложил теперь в обе топки. Дав прогореть и поймав момент, когда угли еще сочно переливались пламенем, а камни были почти белыми, он закрыл вьюшку. Вода в баке уже вовсю кипела под крышкой. Он запарил в тазу пару веников и сходил домой за чистыми вещами и полотенцем.
Не спеша раздевшись, он вошел в баню. Там было жарко мягким со всех сторон охватывающим жаром. Он снял и положил на лавку сразу накалившийся крестик, погрелся на полке, мгновенно покрывшись мелким бисером пота, передохнул на улице, вернулся, надел шляпу и верхонки и, подождав, слегка поддал из ковшика. Камни свирепо выбросили струю пара и сразу мутно потускнела лампочка в самодельном плафоне-банке. Иваныч прикрыл каменку и забрался на полок. Сразу сухо шибануло по носу, жигануло мочки ушей и тут же расплылось жарким блаженством по всему телу. Он посидел, кряхтя, отчаянно морща лицо, поддал еще пару раз, достал из таза мягкий распаренный веник, стряхнул его и провел по воздуху рядом с плечом, которое тут же обожгло горячей волной, потом начал не спеша хлестаться, сначала сидя – с наслаждением отмечая, как хлестко загибается вокруг плеча веник, потом лег на спину, еще похлестал по груди и рукам, а потом задрал ноги и отходил бедра, икры и с особой силой пятки, стараясь, чтоб прошло через толстую кожу и бессознательно повторяя дедовы слова: «Пятки – первое дело». Потом слез с полка, сунул веник в таз и вышел на улицу. Приятно сипело в горле и свистела кровь в висках, а по всему телу будто бегали, покусываясь, тысячи муравьев. Он сидел на свежевыстроганной лавке и глядел на Енисей, по которому уже вовсю переваливались медленные валы. Отгребавшийся от берега мужик на крашенном сизой краской «крыму»[21], торопливо уложив весла, завел мотор, включил реверс и, бросившись к штурвалу, прибавил газу и медленно поехал вдоль берега, тяжело разбрасывая белые пласты брызг.
Иваныч отдохнул и после раздумий поддал еще раз, с удовлетворением заметив, что настой пара нисколько не ослаб, а даже еще и будто окреп какой-то обложной крепостью. Он еще похлестался, чувствуя какую-то необыкновенную легкость во всем теле и особенно в горле и в груди и еще немного выдержав себя на крепость, вышел на улицу и снова долго глядел на Енисей, а потом вымылся и уже в доме лег без рубахи на диван, раздумывая, выпить стопку или нет. И решил, что нет, потому что никогда не испытывал такой почти детской чистоты. «Не зря горбатился», – подмигнул он сам себе, а легкость все продолжалась, какая-то даже сухость в груди, и в голове тоже было сухо и мягко, словно память отмякла, и свободно неслись, будто промытые воспоминания, и все, как на подбор, такие важные и знакомые: вот Рая завершивает зарод и последний пласт сена точно и аккуратно ложится в ямку на спине зарода, вот Серега протягивает китообразную печенюшку и нет на него ни зла, ни обиды, пусть живет как знает… и еще много всего другого… И так хорошо и ровно дышалось Иванычу его освободившимся от копоти нутром, что как был он без рубахи, так и вздремнул на диване.
А в это время все раздувался север, и что-то происходило с погодой, какая-то большая осенняя перестановка, и тетка Афимья, старый гипертоник, уже в четвертый раз просила племянницу измерить ей давление, а Иваныч уже не спал, а, тяжело дыша, лежал на диване, сжимая в кулаке хрустящую таблеточную упаковку, и, поглядывая на свои в багровых рубцах плечи, чувствовал, что перестарался со вторым разом.
А потом настала ночь, а сжимающая и давящая боль за грудиной все нарастала, и все было понятно – и что Лиды нет и придется обойтись без укола, и что Тришкин есть Тришкин, и что надо съесть еще таблетку и дотерпеть до утра или, на худой конец, дойти до Кольки, если совсем тоскливо будет, и он еще долго лежал, а потом встал и, выйдя во двор, вдруг упал, как подкошенный, и мертвой струйкой крови ушли в землю все обиды, раздражение, и ручейком расплавленного воздуха отлетела к небу душа Иваныча, никогда не бывавшая такой чистой, как сегодня, а за окном уже занималось утро и серебрились в синеватых листьях капусты слитки ночной росы, и Колька, собираясь с сыновьями на покос, сталкивал лодку.
Им оставалось поставить два зарода в двух километрах ниже, и они заехали на Старое Зимовье, где косили до этого, за вилами. Николай со старшим, Степкой, и с Дедом оставались в лодке, а маленького Кольку послали к зароду. Горько пахло тальниками, пряно – отцветающими травами и сеном, и маленький Колька бежал по покосу, и волочилась соломина на отрывающейся подошве мокрого ботинка, и блестела роса на солнце, и брызгала в еще сонное лицо вода из скошенных дудок, будто говоря: может, действительно, все продолжается – пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни.
Фундамент
Сергею Михайловичу Хромыху посвящается
1
На ржавый винт от допотопного парохода походила тазовая кость мамонта, обсохшая под глиняным крутояром на выпадающей из-под весенней воды террасе Енисея. Вода катилась, и кость, мощным гнутым профилем напоминая лопасть, торчала в желтой луже среди прочих мамонтячьих «запчастей»: берцовых, лопаток, позвонков, которые обваренные солнцем русские и остяцкие ребятишки тащили, пихая в мешки и запасая к лету на продажу проезжим. Кости и бивни вымывало каждый год, но нынче урожай был особенный: ураганный юго-запад пришелся на деревню в самую высокую воду – когда она перевалила каменную гряду и подошла под угор, пологий, глиняный, поросший жухлой травкой. За несколько часов его подмыло, обрушило и снесло, и теперь он обрывался рыжей отвесной стеной в трех шагах от Фединого крыльца.
Наутро после шквала Федор отпустил промяться истомившегося на цепи Лешего. Пока возился с карабином, Леший дрожал и в струну тянул матерую цепь от бортобвязки и, едва спал ошейник, сорвался, как снаряд. Когда слева налетел кровный враг, серый с черной остью соседский кобель, Леший, уклоняясь от удара, метнулся по старой памяти на пологий когда-то спуск и исчез, будто смытый, а через мгновение невозмутимо выбежал далеко внизу и замер, задрав ногу над останком мамонта. Сосед уже успел наладить переломанный трап и, опасливо щупая ногой играющую плаху, спускал взваленный на плечо мотор.
Похожая беда случилась лет сорок назад, когда выпало то же карточное сочетание воды и ветра и крепким северо-западом сбрило метров тридцать угора. По легенде старика соседа выходило, что деревню спас экспедиционный катер с баржой, стоявший в тот день у берега и загородивший его от озверевшего вала. Круглый год прочно застывшая на высоком и крутом, как крепостной вал, яру, в безопасном удалении от Енисея, деревня весной в какие-то три-четыре дня оказывалась обнаженно-уязвимой для стихии, словно, засидевшись на месте, вдруг сама спускалась с угора и отправлялась в плавание.
«Вовремя строиться собрался», – глядя на старый дом, почти нависший над Енисеем, думал Федор, внешне взбудораженный, но внутренне собранный и спокойный, как бывает, когда все одно к одному. Прошлой осенью он присмотрел сруб в К. – большом селе верстах в двухстах пятидесяти к югу, куда они вскоре и отправились на лодке с другом Василием. Год назад в К. перебрался сын их товарища-охотника Валерка. У Валеркиного тестя, Сергеича, они и остановились.
Рослый шестидесятилетний Сергеич запомнился еще с осени. Весь он ширился к низу, длинное большегубое лицо раздавалось, переходя в литую шеищу, и дальше он только креп бутылью, гулкой обсадистой четвертью, размашистым и широким поставом ног. Плотным щитом облегала его длинная и просторная суконная куртка, серые портки в продольную полоску спадали к теплым калошам с войлочными стельками. На голове сидела черная вязаная шапка. Он принял Федю как родного, возил на «урале» с коляской, стрекочущем нехотя, вразвалочку, свел с людьми и помог за день решить дело со срубом.
На этот раз Сергеич был в байковой рубахе и в тех же портках и шапке. Когда пошли в контору выписывать трелевочник, он спросил:
– Так. Все. Готов? Шапку надел?
– Нет. А зачем?
– Ну так… солидней… – буркнул Сергеич, и только позже Федор понял, что это отговорка и дело в другом: шапка понималась Сергеичем с большой буквы, как нечто заглавное. Практическая подоплека отпадала сразу, корыстное пристрастие к шапкам лысых для густоволосого Сергеича было оскорбительным. Шло ли его чувство исстари, из сказок ли, баек, где шапкой и зайца поймают, и воду отчерпают, из жизни ли, когда шапка больше слова говорит, снятая на пороге или если смерть. А может, еще откуда – из родственности последнему навильнику, завершающему зарод, из наивысшего почета, оказываемого голове, или из чего-то связанного с прикрытием от неба, выстужающего, разверстого в непосильные дали.
Несколько раз Сергеич обмолвился про Валерку, что «вечно шапку забудет», и соседу, деду Понягину, ковыляющему восвояси с банкой браги, крикнул: «А где шапка твоя?» И когда собирались к срубу, спросил по-хозяйски, усаживаясь на мотоцикл:
– Так, ребята. Все взяли? Шапки надели?
Говорил Сергеич дробным верховским говорком, уже не северным, а среднеенисейским, как в селах на тракте. Да и дома здесь были не утло-северные, рубленные под экономию дров и с оглядкой на время, отнятое от охоты, а как в размашистой и обжитой Сибири – огромные, с воротами, с громадным крытым двором, по которому Сергеич в быструю хозяйскую перевалочку ходил в носках, ставя ступни на внешние кромки и будто оберегая нутряную часть. Все было аккуратно развешено, разложено, канистры рядком в углу, пила с бачком, тут же стоял мотоцикл, который Сергеич выкатывал, как орудие, отворяя череду ворот. Ничего не валялось походной грудой печек, сетей, топоров, все было капитально, на одну домовито-поселковую жизнь настроенное, и вековым покоем, надежей веяло от этого бесконечного двора, от гладкого сухого дерева, от рассказа о тугунах, которых здесь не солят с кишками, как на Севере, а семьей терпеливо чистят, солят, а когда те усолеют, кладут в бак с дырявым дном и придавливают гнетом так, что тузлук уходит до последней капли и нежная, чуткая к осклизанью и порче рыба хранится крепким пластом до весны.
Из двора шла дверь и в избу, и в отдельную избенку – кухню-горницу, где готовили и ели и где поселили Федора с Василием. Туда им, пришедшим с работы, тихо и незримо подавали еду: то шаньги с брусникой, то жареную рыбу с картошкой, то еще что-то невообразимо вкусное и уместное после коряченья с восьмиметровыми бревнами. Беленая, с лавками и телевизором кухня смотрелась лучше иного дома, но совершенными хоромами была сама изба, куда Федор с Василием тактично не стремились, где царила Настасья Петровна и куда сам Валерка, томясь по душистой и распушившейся после бани Светланке, входил бочком, придавленный просторами.
Главными Валеркиными жалобами на новую родню было, что кормят на убой и работать не дают:
– До того заботой затыркает, – горячась, говорил он про тестя, – зимой чуть мороз – пикнуть не успеешь, сам шапку на тебя напялит да еще и уши прижмет. – И Валерка возмущенно показал, как Сергеич приплющивает ушами шапки его раздобревшую морду, – как ребенку! Чуть колун ли, «дружбу» схватишь – из рук рвет. Ничего делать не дают – да че такое-то!
На сруб Валерка накинулся с жадностью, в перекурах рассказывая о чудной К-ской жизни и о семействе Сергеича, каждый год снимавшей по семьдесят мешков картошки, половина которой скармливалась непутевым подопечным, среди которых главное место занимал бичеватый дед Понягин. Приплетясь с похмелья, стыдливо называемого им «давлением», и втащив стопарь, он пускался в россказни:
– Сижу уток караулю на озере. Две сели. Черношеи. Ага. Тут заяц чешет, я подождал его, с утками спарил и шарахнул всю компанью. Полез уток доставать, сапоги залил. Воду стал выливать: в одном оконь, в другом сорога. Попрет, дак попрет! Или: – Раз рыбачил на озере, в деревню уехал рыбу сдавать, да и загулял. Приехал, рыба вся пропала в сети. Я ее на берегу развешал – пусть вороны выклюют, а сам в избушку спать. Просыпаюсь – собаки орут. Че такое? Выхожу – медведь на берегу. Ревет – сеть сжевал: поплавки-то из ж… вышли, а кольца в зубьях застряли!
Чаще рассказывал о прошлой жизни, конечно же, одновременно и залихватской и налаженной: все-то у него тогда было – и жилье доброе, и баба, а уж инструмент-то! «Што-т-ты, парень: топоры – бритвенный строй!»
Прошлую осень, откатавшись с Сергеичем по здоровенной, разлапистой деревне и ударив по рукам с хозяином сруба, Федор взял водки, и, едва они засели с Сергеичем в горнице-кухне, как завалились мужики с самоходки, тоже с выпивкой, и вскоре Сергеич сказал, что пойдет «позанимается ребятами», «ты отдохни перед дорогой», и видно было, что заниматься какими-нибудь ребятами – его основное дело, несмотря на то что работает он чекировщиком, а всю жизнь тракторист. Куда-то они ездили, что-то доставали, меняли, покупали, ягоду ли, рыбу, и Сергеич заезжал, проверял Федора и снова исчезал.
Отправить человека было для него не меньшим делом, чем срубить баню, снять картошку или поставить дрова. Беспомощный, закинутый дальним ветром и никого в селе не знающий проезжий под руководством Сергеича менялся неузнаваемо. Переделав дела, побывав в той и в этой конторе, достав тугунов, все упаковав, он и сам казался упакованным заботой Сергеича, как посылка, и уж сама простота и завершенность была в собранном, когда он стоял с узлом на палубе. И каким передавали его дороге в руки, такой она и бывала.
Сруб поначалу задавил размерами, но глаза боятся, а руки делают, и едва подалась сложная система стропил – со скрипом, будто зимний лед, как дело и пошло. Бревна покороче кидали, длинные спускали на веревках. Под вечер перекуривали, озирая округу. С заливных лугов, лежащих меж селом и Шаром, необыкновенно шумно и повально ломилась по дворам скотина, вслед за ней битый час молодые балбесы носились на мотоциклах, а потом откуда ни возьмись вынырнула неурочная коровенка с бородатым мотоциклистом на хвосте. Оба скрылись за забором: виднелись только спина коровы и высоко прыгающая на кочках отдельная и серьезная кержацкая голова. В конце концов корова повернула назад, и снова над забором пронеслась спина и пропрыгала голова, и оба исчезли за тем же сараем, откуда явились.
К. было своего рода и столицей, и перевалочной базой кержаков: рядом впадала река с большим староверским поселком в среднем течении и бесконечным числом заимок, откуда, насидевшись за зиму, вываливали на непомерных лодках вместе с детями и коровами кержаки и открывали гулянку. Продавали свежесобранные бочки, весеннюю ондатру, готовые срубы, закупали бензин, соль, муку. Чем ближе к миру жили кержаки, тем сильнее были им опалены, испорчены, но если на Енисее, в береговых поселках, частенько, кроме бород да своего говорка, ничем уже и не отличались от обычных жителей, то в дальних речках еще кое-как сохранялись, а в совсем удаленных монастырях закон соблюдали со всей строгостью. Монастырям, по слухам, помогала братия из Америки ли, Канады. В К. тоже жил один по кличке Американец, переселенец из Орегона. Федор несколько раз видел его бредущим по деревне в ворсистой, ярко-зеленой робе на зубастой молнии – круглолицый румяный крепыш с рыжей бородой. Позже Федор встретил его на берегу в компании молодых кержаков, вокруг которых вились совсем ребята с ростками бород, чуть пьяненькие, кто-то с сигареткой, кто с матерком на устах. Час спустя Американец оцепенело брел к ним от магазина с бутылкой.
Каких только посудин не стояло у берега! Деревянные, из железа простого и гофрированного, с подвесными моторами и тракторными дизелями. Каких приспособлений и изобретений здесь не было, все можно было разглядеть, изучить и принять на вооружение: дистанционные управления из жердей, из тросов, разнообразные передачи и многое другое. Голоторсый бородатый здоровяк с крестом на шее возился по колено в воде с винтом, ему кричали из рубки:
– Слышь, Сафон, а че, ежели редуктор?
От их вида, повадки и говора, от белоголовых ребятишек, девчонок в платках и длинных юбках, от баб с прямыми лицами и ясными глазами веяло исконнейшей Русью, и казалось странным, что именно это старинное сословие здесь самое подвижное, кочевое, цыганское, без конца бороздящее Енисей, Тунгуску, Елогуй, Дубчес и Сым, переселяющееся с Алтая, Верхнего Енисея, Дальнего Востока в вечном поиске тихой и кормной тайги. Встретил Федя на одной речке монастырских рыбаков – три деревяшки, связанные веревкой, и шесты в руках. В версте от них шкондыбал на лодчонке бородатый дед. «Рыбицы че-то умалилося в речке», – пожаловался он и по просьбе Федора набросал гвоздем на куске бересты выкройку бродней, сопроводив ее подписями: «подоша», «рампочка», «переда́»…
Сама деревня К. – старинная, 1623 года закладки, стояла на левом берегу Енисея, посреди заливных лугов, первых с севера, и громоздилась амбарами, коровниками, овощехранилищами, но не живыми, а безглазыми и страшными после недавнего всеобщего развала, в довершение к которому прошло и наводнение. Енисей в Щеках сперло ледяным затором, ударило тепло, и, когда вода прибыла, стопив избы, с Енисея в Шар потащило двухметровый лед, которым все попавшееся на пути сбрило под корень, в частности, целую улицу кирпичных домин, понастроенных крепкими мужиками. От них остались одни зубья, а в купленный Федором сруб врезалась единственная льдина и слегка сдвинула его на фундаменте. Хозяин, неторопливый, похожий на бобра мужичок, не спеша снял крышу и собрался уезжать. О наводнении напоминали особая повальная серость дерева, разметанного по берегу в нечеловеческом беспорядке, винтом скрученные дощатые стены сараев, вееры пепельных досок, просевшие избы.
Деревня удивляла разномастностью строений. То тесно тянулись один в другого переходящие домишки, едва разделенные воротами, – почти столетние, маленькие, со ставенками и наличниками, на разные лады, вразнобой перекошенные и тонущие в земле по окна. То высились хоромы, как у Сергеича, рубленные из мачтового сосняка. Леспромхоз валил крупнейший в стране бор и продавал туркам. На девять метров шкуреной древесины допускалось не более двух сучков, такое бревно звалось «туркой». При всем турецком товариществе заработки были на удивление скромны, и главным для людей оставался доступ к живому телу хозяйства, ярким выражением которого был лом Сергеича, сваренный из траковых пальцев от трелевочника.
Улицы К. были переполнены мотоциклами, машинами, тракторами – заводскими и самодельными самых несусветных конструкций. Особенно запомнился длинный, низкий, размашисто тарахтящий – без капота, с голым, в кишках, двигателем и сутуло сидящим дедком в очках. Тут же бродили какие-то бородатые то ли бичи, то ли кержаки, то ли бичи-кержаки, полз потусторонний дед с ржавой бородой – заросший седым ворсом рот был обметан бурым табачным дыханьем, как чело берлоги. И невзирая на наводнения неслась телега на резине с крепким, до замшевой глади упитанным лошачком, и в телеге во весь рост стояла с вожжами в руках девка, пружинисто приседая на ухабах, и тоже будто подрессоренная.
Зимой оживал зимник, переплетенный с усами лесовозных дорог, и проворотливые мужики начинали ездить в Красноярск и Енисейск за товаром. Перли, все в тросах и запасках, белые «уралы» и «батыры», штурмовали проклятую Хахалевскую гору, срывались с колеи, зарывались по мосты и откапывались, выбирались на твердое и уносились, сыто коптя солярой в морозную ночь, и сзади по углам громадных заиндевелых фургонов тлели сквозь снежную пудру красные габаритные огни. Ближе к весне по сверкающему морозцу проносились гипсово твердым трактом «мистрали» и «сурфы» тропических окрасов с отчаянными молодцами в жарких кабинах и, подкатывая к пельменным, с мощным и сухим хрустом крошили снег тугими и непомерными колесами в грубой насечке, а как-то раз возле Дубчеса попалась навстречу Федору двумя мостами гребущая допотопная «тойота-спринтер-кариб», до отказа забитая бородатыми кержаками. И все шевелилось и путалось, и как мешался на зимнике проезжий люд, так и весь народ, рассыпанный тонко и текуче по сибирской земле, перекатывался, как ягода по дну огромного туеса.
Сруб разобрали за два дня. Трелевочник, мощный «алтаец», густо стрельнув соляркой, взваливал на себя пучок, и его тут же опоясывал проволокой Сергеич, откусывая лишнее специально приваренной с каждого бока гильотинкой и накрепко скручивая концы. Тракторист Вовка сидел за рычагами, показывая отсутствующим видом, что его задача лишь не мешать трактору двигаться расчетливыми и быстрыми бросками. Сергеич велел взять пива, которое, с Вовкой едва пригубив, влил в ребят, так что вышло, они поставили сами себе за смазку событий. Спятясь в синий и сонный Енисей, Вовка опускал площадку, сбрасывал трос, и сухой, как пробка, лес рушился в воду и лежал, свободно и облегченно покачиваясь, пока его задумчиво приходовала даль.
Пучки в натяг прохлестали скобами на два троса, и они, собранные в единую массу, коротко и послушно ходили, поскрипывая, в то время как задетая ногой струна троса пела, как настроенная. Настеленный поперек полубрус и доски от обрешетки придавили пятью бочками бензина и бочкой масла, забросали железом с берега – тросами, скобами, траками.
Валерка, налившись кровью, давил с берега пружинящим багром, жал с плота Вася, уткнув шест в хрусткое дно, Федор, уперев лодку в речной пучок, работал встреч течению мотором, и медленно, тяжело, но неумолимо отделился плот от берега, и, раз обозначившись, полоска серебра все ширилась и ширилась, и все набирал плавный скользящий ход отступающий берег с двумя фигурками, пока Федор, работая уже в середину плота, не дотолкал его до фарватера и не заглушил мотор. Все: и костоломная война с бревнами, и нервотрепка с трактором – все отлегло, отпустилось многоверстным вздохом облегчения. Осталась только лаковая гладь в просверках солнца, синяя даль берегов и морское чувство полной такелажной собранности и готовности к любой дороге, когда все под рукой: и веревки, и троса, и лома, и топоры, и скобы, и железо для костра и навеса. И все эти предметы, каждый из которых и по отдельности необыкновенно хорош, будучи объединены сдвинувшимся делом, радуют сердце, по края наполняя жизнью.
Много всего было в той дороге. Свальное течение за тальниковый островок, куда их едва не утащило и откуда бы понесло по протокам и забросило бы невесть куда к Пантелеевским ярам. Была тихая и светлая северная ночь, с медленно проплывающими синими скалами и невообразимым небом над далеким волнистым хребтом, врезанным в еще закат или уже рассвет с рвущей душу отчетливостью; и собравший вокруг себя лиловое облачко сумерек лоскут костра, то в грусти клонящийся, то порывисто взлизывающий матово-черный бок чайника. И студеное утро, и на фоне ребристых скал встречная натужно тарахтящая самоходка с огнями, особенно выразительными именно из-за полной дневной белизны окружающего, и Щеки, где в огромных и живых уловах, покрытых гладкой и скользящей кожей, вдруг начинала из глубины выворачиваться вода и сначала дыбилась клубящимся бугром, в котором выпуклая и неровная середка торопливо разбегалась к пенной оторочке, а затем мучительно извергалась округлыми непромешанными слоями стекла и серебра и с нарастающим грозовым грохотом переплавлялась в могучий водоворот, цепко ухвативший плот за угол, а потом затихала, чтобы снова вскипеть через одной ей ведомый период. Днем были устье огромной реки и жара, раскалившись от которой, мужики сиганули с плота в Енисей, а тот их лишь обжег и вытолкнул обратно, и они валялись на плоту под испепеляющим солнцем, а рядом проплывала с японской машиной на носу необыкновенно ржавая самоходка, и мужики с нее орали что-то дурацкое и веселое. И был север, которого они ждали и который в конце концов задул и за одну минуту переворотил небо, налил сталью зашелестевшую воду и, хлестанув ледяным дождем, утопил таежный увал в седой рванине тучи. Зазвенело, захлопало железо, крутануло плот, и мужики, пройдя еще верст десять серповидной прилуки, дошли до мыса и там в курье поставили плот на отстой. За мысом брал в лоб прямой север, катя кофейный вал, и пришлось ждать до вечера у костра, а потом снова отправляться по замирающей, замаслившейся волне.
Спали по очереди, часа по три. Бродя взад-вперед, чтобы не заснуть, выглядывая в рябящей глади попутное, еще не пристегнутое к плоту бревешко, Федор изредка вспоминал, что под ним его будущий дом, и думал о том, сколько сил потребуется для того, чтобы эта груда дерева стала долгожданным жильем, чтобы наконец заработала эта шевелящаяся даль и набравшие синевы стены начали бы отдавать ее, питая сон хозяина надеждой и покоем.
Еще он думал о Василии, у которого редкий тям ко всяким увязываниям, утягиваниям, вообще обустройству, вспоминал, как тот, невысокий, но катастрофически здоровый, споро укладывает пихтовый лапник под навес у костра, или по приезде в избушку разбирается со старыми ящиками, роется, что-то рвет, приколачивает или дерет мох так мощно и ухватисто, что напоминает медведя, зарывающего мясо, и кажется, вот-вот зафыркает или взревет.
Но больше всего он думал о Сергеиче. О ночлеге в его доме, о еде, заботливо приготовленной и со сказочным постоянством оказывающейся на столе в пустой и чистой горнице, о походах в контору и поездках в гараж, о тракторе и всей той мелкой и крупной помощи, то с инструментами, то с маслом, то с бочками, которую Сергеич оказывал, видя его во второй, а Васю в первый раз в жизни. О том, как все время спрашивал, не нужно ли еще чего, и на отговорки и отмашки вдруг вспылил, как на безглазых: «Мне же вас собрать надо!» О том, как именно Сергеич, узнав, что Федор собирается строиться, предложил сруб через Валерку, и о нагоняе, который получил за их прошлогодний разгул от Настасьи Петровны.
В этот приезд Федор тоже выставил бутылку, но Сергеич, потирая грудь и морщась, поставил три стопки – Василию, Федору и Валерке, а сам отказался: «Болею, грудь ломит, не знаю, че такое». Потом началась работа, и чем дальше, тем мучительней гадал Федор, как отблагодарить Сергеича, который, перестав пить, отрубил самый простой выход, потому что тем и хороша водка, что вроде и не оскорбляет прямым расчетом, но ставит веселую, увесистую и справедливую точку на деле. Мелькала мысль что-то купить в магазине, конфет ли, вина, бананов хозяйке, но все было нелепо и ни в какие ворота не лезло, и Федор успокоился на том, что обязательно пошлет рыбы… И чем больше думал он, как рассчитаться, тем больше понимал, что никакой расчет с этим человеком невозможен и что единственный путь – просто принять добро как есть и что трусливая торопливость, с какой люди стремятся закрыть счет сродни боязни сквозняка, и что Сергеич, помогая людям, лишь дает текучее добро на передержку, зная, что в приоткрытой душе оно не усидит и попросится в дорогу.
Когда прощались на берегу, стояла почти летняя жара. Сергеич в черной вязаной шапке приехал с огородов, где садил картошку. Он осмотрел собранный плот, что-то спросил и, удовлетворенный тем, что придраться не к чему, протянул руку, и Федор пожал ее с внимательным упреком:
– Как я с тобой рассчитываться-то буду?
– Брось, – махнул рукой Сергеич, – Земля круглая!
2
Трактористы Фединой деревни являли собой отдельную касту, жившую параллельной жизнью, понять которую было нельзя. То они пили, то вдруг не пили, и нужно было разбираться, по правде они не хотят пить или только притворяются, то были заняты на разгрузке, то на загрузке, то разувались, то обувались, то вязли в дрязге с начальником, пузырившейся вокруг соотношения в их жизни оклада и калыма, и тогда работа вставала, начальник бегал зеленый, а трактористы сидели и пили на пилораме в великом протесте и великой оппозиции. Был среди них некий Ленька по кличке Швомаем, имевший привычку по любому поводу высоко, раскатисто и деревянно похохатывать. Отличный тракторист с гоночной жилкой и беспредельной верой в технику, он, будучи мастером короткой атаки, любил взять препятствие с налету и в случае редкой неудачи лишь презрительно посапывал, отцепляя засевшие сани. Обожал, выполняя маневр, своротить какую-нибудь важную трубу.
Однажды Швомаем на глазах у покосной бригады перегнал колесник через широченную Филимониху. Надев трубку на фильтр, он ломанулся в перекат, бешено рубя воду перед собой крыльчаткой вентилятора. Вовремя остановившись и сняв с него ремень, он поехал дальше, и чем глубже заезжал, тем сильнее всплывал легкий передок и тем больше напоминал Ленька всадника – трактор был без кабины. Вскоре он вовсе встал на дыбы и шатким звероящером достиг середины потока, как вдруг раздались громкие раскатистые звуки – вздев морду, трактор высоко и рысисто подпрыгивал на камнях переката, и над ним по ляжки в воде торжествующе хохотал Ленька.
Пылко выпаливая обещание через минуту поставить телегу под дрова, Ленька растворялся, и можно было гоняться за ним полмесяца, хотя невидимый трактор задорно всхрапывал то в одном, то в другом месте деревни. Потом, идя окольным путем по совсем другому делу, можно было вдруг наткнуться на Леньку, задумчиво сидящего на бревнышке. Ни слова ни говоря, он доливал из лужи воды в радиатор и со сказочной скоростью решал все тракторные дела клиента на полгода вперед, по-братски участвуя в кидании дров и усердно корячась с бочками.
Охотникам, и без того издерганным своими многоверстными заботами, до того осточертел сверхурочный гон за трактористами, что они чуть не купили в соседнем поселке «колун» – сто пятьдесят седьмой «зилец», реликтовую бензиновую трехоску на редкость простой и удачной конструкции, с вытянутым клиновидным капотом. У машины не хватало «поросенка», короткого карданчика от третьего моста. Проблем с запасными «поросятами» в районе не было, даже из растормошенной администрации пришла телеграмма: «Подтверждаю возможность отправки б. у. поросенка конца навигации. Свинаренко». Тем не менее дело сорвалось, и после этого любое невыгоревшее начинание звалось «колун без поросенка».
На беду Федора, Леньку за какую-то провинность сняли с трактора и вместо него работал молодой увалень Петруха. Остальные матерые трактористы тоже по каким-то причинам были устранены или сами устранились – понять это было нельзя, – и на всех трех тракторах: рыжем трелевочнике, красной семьдесятпятке и синей восьмидесятке – триедино царил вареный Петруха, причем матерые видели в этом свою особую игру и выгоду, то ли им казалось, будто они через Петруху продолжают управлять делами на расстоянии и в этом был свой шик, то ли втихаря готовили потайной левобережный тракторенок для собственных покосов. Матерые Петруху даже почему-то любили и пытались навязать эту любовь остальным, всяко его нахваливая, рекомендуя и глядя честно с глаза – как цыган, впаривающий бракованную лошадь. Чикеровщиком при Петрухе служил воровитый и отпетый приемный Швомаемский сын по кличке Сухарь.
Повезло, что на момент прибытия плота к деревне стоял полный штиль, продержавшийся до следующего дня, пока забастовка трактористов не перешла в фазу заключительной и примирительной питвы с начальником на стратегическом плацдарме пилорамы, давно, кстати, молчавшей, откуда и были отряжены на трелевочнике Петруха с Сухарем, которые в итоге пучки выдернули, но умудрились до свинского состояния извозить бревна в грязи, одно сломать, порвать трос и потерять гак, белый и зеркально блестящий, который потом, когда вода упала, Федор им принес как некий рыцарский причиндал – подвязку королевы или стрелу героя.
Следующим этапом была перевозка бревен к месту строительства, на что ушло полмесяца: мнительный и самолюбивый начальник не давал трелевочник, заплетя непредвиденную катавасию с землеотводом. Он вспомнил о каком-то постановлении, якобы ограничивающем строительство ближе пятидесяти метров от края угора, и пока прогоняли этот пустой вопрос через район, пронеслось три недели. Дом Федор собирался поставить под крышу этой же осенью. Шел июль, и давно надо было начинать заливать фундамент, потому что первого августа приезжали в короткий отпуск новосибирские друзья, которых кровь из носа надо было прокатить по Филимонихе.
На фундамент требовались люди. По уши занятые дома и на покосе друзья-охотники были припасены на последней бросок – саму заливку, на все же остальное в таких случаях нанимали калымщиков. Был в запасе Ромка, бывший строитель, моржеобразный здоровяк с гулким бронзовым пузом и складчатым, как личинка, затылком, но, пока Федор ездил за срубом, того подрядили на фундамент для клуба, который он заливал вместе с одним разжалованным трактористом со сложной хромотой, по кличке Коленвал, и каким-то малоизвестным невзрачным доходягой.
Был еще остяк Колька Лямич по кличке Страдиварий, с которым Федор договорился еще весной, но, пока тянулась волынка с землеотводом, Страдивария с его подмастерьями нарасхват разодрали покосники, и пришлось устроить на него целую охоту, поскольку Страдиварий с братом Петькой жили одновременно на двух, как они выражались, «квартирах» и поймать их было невозможно. Работали они на покосе у так называемой Мамы Чели, или Зойки Зайко, дородной и оборотистой бабенки, говорившей «кофэ» и «фанэра» и торгующей мерзопакостным спиртом. На покос их забирали с ночи, там они до изумления напузыривались и с остатками пойла терялись потом меж двух «квартир». Федор долго их ловил, распутывал кровавые следы, наткнулся на Петьку с разбитой мордой, который поведал об их чрезвычайной занятости и сказал, что обязательно все передаст Страдиварию.
Страдивария звали так потому, что он делал нарточки. Что-то было, видимо, музыкальное в пружинистом гибе полозьев, в скрипичной натяжке всей этой хлипкой на вид конструкции, когда копылья плотно утапливались в пазы и накрепко притягивались проволокой к полозам, попарно до каменной прочности перевязывались черемухой, стволики бортов пригибались к концам полозьев, все напряженные упирающиеся части последним усилием смыкались воедино и натянутая до звона нарта обретала струнную жесткость.
«Квартира» Страдивария и Петьки представляла собой брусовый дом с земляным полом и въедливым табачно-перегарным запахом. В нем стояло несколько железных коек с расплющенными на них фуфайками и разным выражением их рукавов, словно они с жаром что-то обсуждали, и табуретка с кружкой воды и полной окурков банкой. Квартира была закрыта на щепку. Здесь братья бывали редко, на лето переселяясь к матери. Мать, маленькая, еле живая старушонка, жила в другом брусовом доме, там же жили ее дочь с детьми и старший сын. Все неподвижно лежали на кроватях. Братьев не было.
Зато, когда им надо, они доставали тебя из-под земли, будили среди ночи, трясясь с похмелья или погибая на излете недопоя. Страдиварий входил, отрывисто пошатываясь, как оживающий памятник, и, продираясь сквозь хмель с таким мужественным и судорожным усилием, что казалось, его вот-вот обратно забетонирует, делал страшное лицо, порывисто ловил руку и кричал:
– Федька! Все! Щас! Говори! Че тебе надо сделать!
– Да ничего не надо, проваливайте к бабаю!
Одолевали так, что иногда проще было придумать занятие, чем отвязаться.
– Так! Все! Бревна! (Держи меня, Петро, а то я упаду!) Лом где?
Частенько со Страдиварием таскались спокойный и упорный Юрка Тыганов и молодой губастый и стройный остяк по кличке Негр, совсем мальчишка, уже давно приучающий к водке здоровое и чистое нутро. Иногда следом за ними тянулся Прапорщик, невысокий, крепкий и хитрый остяк с зелеными рысьими глазами, служивший в армии прапорщиком. Страдиварий его не любил и орал: «Так! А этому не наливать! Он мне по уши должен и еще в моем пиджаке ходит!» Тайгой никто из них почти не жил, все было пропито, а гуманные подачки государства и разных комитетов только еще больше развращали. Языка тоже никто из них не знал, кроме одного слова «уль», означающего водку.
Енисейские остяки, или, официально, кеты или кето, принадлежали к особой и древней ветви северных народностей, оставалось их всего несколько сотен – то есть чуть меньше, чем изучавших их этнографов, стада которых, облюбовав кетскую столицу Келлог, выгребали из нее последнюю национальную утварь, так что после их набегов остяки оставались без элементарных посуды и обуви, не говоря о культовых бубнах и деревянных идолах. Одна канадская экспедиция в порядке приобщения к шаманским практикам обожралась мухоморов в окрестностях Келлога, и ее несколько дней ловили и собирали по тайге остяки и отпаивали последним улем, не уставая дивиться, что в честь их деревни названа международная каша – обрывок упаковки валялся возле канадской палатки.
Страдивария уважали за пыл, за отчаянную храбрость трудяги. Был он молодой и, как все остяки, небольшой, приземистый, с широким лицом и индейской прической. Выступающий вперед подбородок и крючковатый нос придавали ему некоторую хищность, а пылающее в глазах выражение свежей трагедии делало похожим на попавшего в беду мелкого ястреба. Глаза, несмотря на маньчжурский разрез, казались необыкновенно круглыми, и в них так трепетал ужас, что они выглядели то квадратными, то треугольными.
Набегали толпой – маленькие, то ли гномы, то ли черти. Ссорились, осыпая друг друга свирепыми матюгами, тут же острили, хохотали и в устрашающем азарте сворачивали горы. Со Страдиварием всегда был старший брат Петька, в отличие от остальных остяков – смуглых, круглолицых и раскосых, с тугой скуловой натяжкой – сероглазый и белесый. Есть такие быстро стареющие остяки с белой или розоватой кожей, дряблой, бугристой и будто вытравленной. Добрый и тщедушный, но духом упрямый и крепкий, Петька, будучи всегда самым пьяным и рыхлым от уля, еле поспевал за несущимся Страдиварием, падал, спотыкался, вечно его чем-то приваливало, вечно приходилось его поднимать и ставить, и непонятно, чего было от него больше – проку или помехи.
Катили раз с берега здоровенную свежеспиленную листвень, толстую, бугристую, как крокодил. Дождь посыпал крутой берег с травяными кочками, железистыми потеками и непролазными тальниками. Засевшее в последней рытвине бревно наконец своротили, и оно устремилось вниз. Федя стоял с толстого конца и вдруг услышал гвалт, крики, мат, мелькнуло и несколько раз крутанулось что-то черное, и когда балан, подпрыгивая, выкатился на свободу и замер в камнях, из-под него вылез Петька, отодрав крепко подцепленную за сук фуфайку. Ощупывая руки-ноги, он мямлил: «Номальне, номальне». Пока на его избитой морде выступал из побелевших вмятин мелкий бисер крови, к нему со страшным матом и кулаками летел Страдиварий. По мере приближения мат превращался в хохот. Хохотали все. Хохотал Петька: «Ямкя! Ямкя! В камнях ямкя! Пляильная ямка!»
Отдельно от Лямичей стоял Юрка Тыганов, или Тугун. Спокойный и рассудительный, от водки делался вязким и приставучим, как смола. Завидя жертву, заторможенно выдавливал: «Э, постой!», догонял и, если потерпевший не наддавал ходу, тормозил его и хватал за руку. Кисть у него была очень крепкой и медленной, хватал он цепко и, пробираясь по рукопожатию все глубже и удобней, говорил тоже медленно и вяло: «Ну, ты это. Дай», а другая рука – медленно и трудно топырила пальцы, пока не добивалась единственной нужной комбинации: все средние сжаты, большой и мизинец торчат. Говорил еле внятно, бухтел, слова набухали пузырями и лопались, не звуча, и тогда высвобождалась первая рука, и обе начинали всеми пальцами что-то изображать, переключать, шарить по рычагам невидимого пульта, пока не замирали в позиции – одна ладонь над другой на расстоянии литровой бутылки.
Хуже всего, если он припирался домой, – было достаточно небольшой щели в двери, чтобы он протек, как осьминог. Сильный, здоровый, не отлепить, и чуть что – корчит слезливую рожу или с медленной и холодной улыбкой кладет руку на косяк – мол, давай, дави дверью. Проникал в сени и с помощью излюбленного словечка «хоть», выстраивал цепочку: не дали выпить – «Ну хоть закурить дай», не дали закурить – «Ну хоть спички дай», спичек не дали – «Ну хоть попить», а когда его все-таки выставляли, бубнил: «Ну хоть извини тогда».
Трезвый был умелым и понимающим дело работником. Ценился как специалист по веткам – легким долбленым лодкам. Однажды новосибирские друзья заказали Федору для какого-то богатея ветку. Ветка требовалась выставочного качества, один Федор взяться не решался и предложил дело Юрке. Письмо из Новосибирска пришло после ледохода, в пору, когда ветками уже не занимаются. Веточный сезон – апрель, тогда по насту можно легко вывезти заготовку, тяжелый осиновый кряж из тайги, а потом спокойно тюкать возле дома. Это удобней, но и конец мая ничем страшным не отличался. Можно найти и свалить осину, сделать ветку на месте, пожив несколько дней в тайге, а потом унести ее на берег к лодке, что Федор и предложил Юрке, особенно упирая на цену:
– Отвалят, сколько скажешь.
Юрка сделал недоуменную рожу, пробурчал что-то вроде:
– Да ну на хрен, кто щас делат? Раньше бы подошел.
– Да ты че! – вспылил Федор. – Живые деньги, четыре дня делов – и мы дома с веткой.
– В лесу, что ль, делать? – возмутился Юрка. – Ну на хрен, комар заест.
3
Федор искал Страдивария по всей деревне, разузнав, где пьют, и держа в голове карту попоек, с пульсирующими изолиниями, голубыми, где пили спирт, желтыми, где брагу, и желчно-зелеными, где все подряд. Обежал все точки и побывал даже на дне рожденья Коленвала, протекавшем на лужайке возле аэродрома. Коленвала там уже не было, сидел, клюя носом, тети-Гранин Славка, дядя Леня Губы-Шифером, еще несколько мужиков, да еще торчала чья-то голая незнакомая ступня, длинная, круглая, как палка, в толстой матово-серой шкуре, с янтарной прожелтью по ободку пятки, с восковой огранкой мозолей и длинным, очень желтым и толстым ногтем, будто сделанным из старого и рыхлого сыра. Владелец ноги неподвижно и скрюченно лежал, с головой укрытый курткой. Страдивария здесь никто не видел, но Федора порадовали новостью: Ромка наконец залил фундамент. Словно в подтверждение, дернулась, стрясая налитого комара, нога и шершаво чиркнула ногу Федора. На протяжении всего разговора, обутая в новую, с широким резиновым пояском туфлю из очень плотной черной материи, нога Федора соседствовала с незнакомой ступней. Это соседство вызывало сложное чувство: жалости к голой ступне, довольства от того, что его нога не гола, не избита, а обута в удобную и крепкую обувь, и брезгливый страх за эту обувь при мысли, что такой ступне почему-либо придется в нее втиснуться.
Федор рванул к Ромке, с первого раза не застал, а когда пришел во второй, тот курил возле кучи дров:
– Не, Федул, не получится, дел по горло.
Федор было развернулся идти.
– Погоди, – оторвавшись от сигареты, Ромка задержал в приоткрытом рту дым и, сыграв им наружу, быстро вернул молочно-синий язычок обратно и после паузы сказал: – Знаешь че? Бери Ваньку. Лучше никого не найдешь. Он у Коленвала гудел, но это когда было. – Почесав пузо со звуком, в котором слились заскорузлый шелест золотой поросли и тугой отзыв налитого нутра, он добавил: – Так-то он у Бесшаглых.
Этого Ваньку Федор видел с Ромкой на фундаменте и прежде пару раз – невнятно торчащим среди компании, исчерпавшей ресурсы и застывшей на перепутье. Никогда Федор к нему не приглядывался, а если и приглядывался, то сквозом, в таких лицах всегда есть что-то чуть знакомое, и взгляд проходит через них, как через оправу.
Семка Бесшаглый, бывший сосед Федора, жил на другом конце. Прозвание его происходило от слова «шаглы», то есть жабры, и означало некую невразумительность и малохольность, и, надо отдать должное деревенским кличкодателям, малохольность эта касалась нутра, а не внешности, и на вид Семка был парень как парень – с руками, гнедыми усиками, крепким бритым подбородком и словечком «понял», которое мог вставлять через слово: «Иду я, ты понял, а навстречу медведь». У него был дикторский голос, говорил он веско, готовыми и сильными оборотами, а если доводилось сесть в лужу, привлекал на помощь и вовсе вековой запас проверенного и хлесткого слова, хотя вокруг перемигивались, и даже Страдиварий кривился: «Парод-дия».
Есть два общих места в енисейской жизни: «Жр-рать-то че-то надо» – так говорят, собираясь поставить сеть или самолов, и «Я ее не ем», с добавкой «Разве токо в охотку» – про красную рыбу. Первое говорится с жизнеутверждающим напором, второе – с оттенком легкого презрения к жирной красной рыбе, годящейся лишь на продажу или обмен, и сюда же примешиваются показное – мол, для кого-то это, может, и осетрина, а для нас – поросятина, и рыбацкое – мол, добываю, объелся.
Так вот, если бы Бесшаглый собрался продавать рыбу, он бы рубанул: «Сдать ее. На хрен она нужна. Я дак ее не ем», а потом обязательно бы проспал пароход и на ехидные вопросы, почему не выезжал, солидно бы отрезал: «Не-э-э. Оста-авил. Жр-рать-то че-то надо!»
Поймав хорошо рыбы, он, не отрадовавшись, начинал переживать, что другие «надыбают место и все вычерпают». Рыбу всегда тушил, ленясь выкопать хороший ледник, а потом за глаза клял бабу с парохода, вернувшую товар: «Обожди-и, косне-е-ется», – умудренно щуря глаз и грозя пальцем.
Рыбий набор перечислял всегда с небрежным оттягом, будто охлаждая слова на медленном ветру и показательно загибая пальцы: «Ок-конь, сорога, ел-лец!» Или: «Чир, муксун, сиг, омоль!» Вне набора называл с закавыкой – презрительно: «Гольный сорожня-ак» или с вялой и вынужденной гордостью и ударяя на «набил»: «Н-но, сиговником набил флягу». Хариуса показывал руками и с двойным набросом длины: «Че-о-орный». Про омуля в начале хода морщился: «Идет, но штуч-чно».
Любил расхожие выражения первого, что ли, порядка, которыми с упоением изъясняются, условно говоря, мелкие бичики в период восторженного приживания на Севере. Например, про казанку на данном уровне следовало сказать, что она «легкая на переворот», а про хорошо слышного по рации товарища – что он «как поднесеный». Уважающие себя мужики таким примитивом не пользовались, а Бесшаглый сыпал напропалую.
Недалеко ушел и оборотец: «Мне чужого не на-а», особенно любимый нечистыми на руку. Бесшаглый был подвержен этому греху, но «слегонца», то есть слегка, и если снимал с бакенов батареи, старательно расставленные водопутейской бригадой, то придавал этому воспитательный оттенок, словно наказывая бакенщиков («Ни хрена-а, еще привезут») за даровой доступ к добру.
Работать особо не любил. Если вставал вопрос, как рубить угол – в чашку или в охряпку, выпаливал: «Конечно, в охряпку!» да еще придумывал десять преимуществ этой охряпки – прямого запила. Зато обожал телевизор, валялся на диване, набираясь пошлости, поругивая для вида правителей, ведущих и всех на свете, и глотая без остатка и тошнотную подноготную семейных дрязг, и американского покроя игрища на деньги, и повышающие грошевую эрудицию викторины. При словах «лотерея», «выигрыш», «клад» очень оживлялся.
Все лето проремонтировал мотор, так и не наладив и приплетя Батюшку-Анисея, который его на рыбалку «не пускает», бережет, мол, от беды ли, рыбнадзора, но, когда сломался телевизор, проявил поразительную прыть, сначала выцыганив у соседей старый на замену, а потом замучив мастера и заставив управиться с ремонтом за два дня. И вот певица блажила о своей трудной судьбе, о каких-то модных архипелагах или затягивала прилаженные к поддельной мелодии настоящие стихи, в которых «я» автора было угодливо перекроено на женскую сторону («Кавказ подо мною, одна в вышине…»), а Семка сочно выпячивал нижнюю губу и цедил: «Малладец».
Имея двух ребятишек, долго не работал, а когда сестра предложила покалымить в К. на ошкурке «турок», презрительно отказался, приплетя Родину, которую «впадлу продавать». При этом, если случалось хапнуть пушнинки, обычно невыходной, сдавал иностранцам с парохода, а к вырученным долларам относился с благоговением, держа в специальной коробочке и показывая гостям.
Выражение «легкая на переворот» имеет аналог «тяжелый на отдачу». Семка был чрезвычайно «тяжелым на отдачу», но очень важно, что, давая сам, отдачи не требовал никогда и, в общем, парнем был добрым, покладистым и безобидным. Раз осеновал он у одного охотника и, оказавшись при рации, наконец-то развернулся во всю силу. Вскоре его знал весь район, и далекие охотники с уважением спрашивали:
– Да кто же такой этот Тринадцатый?
Жену его, Галю, Федор не любил. Гладкая, полная и красивая молодая кетка-полукровка с животной уверенностью в правоте каждого жеста. Двигалась, смеялась, говорила с неторопливым достоинством и с тем же достоинством изменяла Семке с кем попало. Была жадна и домовита однобокой домовитостью – все время занимала, не отдавая, растила в магазине астрономический счет и была определенно «легкой на переворот» и одновременно «тяжелой на отдачу». Еще в пору их соседства Федор за чем-то зашел, Бесшаглого не было, и сидели только Галя и Семкина мать, приехавшая из Игарки. Прижимистая и целенаправленно отваживающая посторонних, Галька вдруг показательно заприглашала Федю к столу, с неестественным усердием загремела закусками, и он еле вырвался.
И на этот раз Семка куда-то ушел, сидела у телевизора Галя, копошились ребятишки, и торчал Прапорщик, у которого был с ней роман.
– Нету Ивана. На покосе.
– У кого?
– У Чели.
– Ясно, – сказал Федя, раздосадованный тем, что тот, кого он ищет, оказался в компании с неуловимой страдигвардией и, вероятно, уже вовсю набирался с ней неуловимости. – Передай, пусть зайдет. Работа есть.
Весь день Федор, отдуваясь от мошки, копал траншею для фундамента, а на следующее утра снова пошел к Бесшаглым, обнаружив ту же картину.
– Как на покос уехал, – сыто сказал Прапорщик, – так и не появлялся.
Федор побрел домой, но свернул к «квартире» Прапорщика, где на железной кровати лежал тот, кого он искал.
– Иван! – негромко окликнул Федор. Иван быстро протер глаза и сел. Длинное лицо было в желтоватой щетине, а волосы как жухлая, пережившая не одну осень, солома.
– Так ты Федор? – Вставая, он пошатнулся, ухватившись за косяк, помолчал и сказал: – Я помогу тебе. Все равно делать нечего. – И добавил, словно оправдываясь: – Что-то забичевал я…
– Ты вот чево, поспи, одыбайся, а как отойдешь, подходи… – И Федор добавил другим, на слой ниже, голосом: – Или, может… стопаря?
– Не, не, я уж лучше одыбаюсь пока… А ты где живешь? А. Ну. Зна… Знаю. Рядом с Хрычей.
У него была привычка повторять выражение собеседника, будто возвращая. Говорил он негромко и чуть торопливо повторяя слова, вставляя в разговор как бы с двух, трех попыток, как ступают на не очень твердое или прощупывают дорогу в несколько притрогов ноги.
Прежде всего надо было загрузить две телеги камней и семь телег гравия. Телега стояла, и Федор пошел еще раз напырять Петруху, чтоб тот не забыл подъехать. Возвращаясь, он догнал Ваню. На нем были когда-то черная майка и штаны из крупного темно-зеленого вельвета, на ногах подвернутые болотные сапоги. Шел он прямо, как палка, голову тоже держал прямо, волосы свисали крупными прядями. Из-под рукавов майки торчали худые и очень выпуклые локти.
Камни с грохотом валились в железную телегу. Федор предложил перекурить, и Ваня быстро согласился и сел на камень, с трудом переводя дух и качая головой:
– Работать я умею. Мне только отойти надо. Сказал, помогу тебе. Ну и спирт у нее!
В нем было странное сочетание пожилой потертости и мальчишеской худобы. Между плечами и костлявым тазом было будто пусто, выцветшая майка колыхалась, как на раме, провал живота и талии казался сквозным, а толстое вельветовое отазье штанов под майкой неуклюже увеличивало бедра. Лицо было длинное, с щетинистыми складками вокруг рта, небольшими глазами в красных веках и лбом очень прямым и высоким. Темно-русые космы являли что-то вроде остатков «горшка» с уступом у висков, причем с боков пряди расступались, выпуская большие сухие уши, так что между ухом и щекой свисала нелепая полоса волос.
С первой секунды все было ясно без объяснений – обороты и интонации, сами, разлюляисто выражаясь, выметывали из колоды судьбы этот знакомый набор: зона, экспедиция, урывчатая охота с любовью к далекой речке и, продолжая карточную тему, большая-большая «гора», переходящая в пропасть.
Закидав телегу, пошли обедать. Едва сели, раздались крики, топот и матюги. Бежал Страдиварий. Молча застыв в дверях сеней, где его перехватил жующий Федор, он играл желваками и трепетал глазами, а Петька примирительно мямлил:
– Ню-ню. Поняль, поняль. Позне. Поняль, Федя.
Едва те ушли, мелькнуло в окне румяное лицо Бесшаглого.
– Галька послала, – хмыкнул Ваня. – Небось дома убраться некому.
Семка постучал и вошел. В таких случаях требовалось сказать: «Э-э-э! – со стариковской укоризненной растяжкой. – Ну а ты где потерялся? Нетту-нетту, ну, думаем, совсем забыл нас!»
Еще за дверью Семкины глаза были изготовлены для стрельбы по столу, так что, входя, он нес взгляд, как ствол, – чуть вбок, градусов двадцать. Едва поймав цель, глаза расслабленно загуляли по сторонам, и на лице выражение тревожной неизвестности сменилось благодушным покоем.
– Э-э-э! Ну а ты где потерялся? – радостно затянул Семка, изо всех сил косясь куда-то за печку. – Нетту-нетту…
Выпив пару стопок, Семка удовлетворенно ушел, а Ваня, постепенно оживляясь, пропустил еще несколько и было потянулся за следующей, но послушался Федора и пошел в соседнюю комнату спать. Вечером копали траншею под фундамент. На потихший ветер вылетела мошка и тучами лезла в лицо. Угол пришелся на старый дом – сразу под дерном начались кирпичи, тряпки, бутылки, выползла нога от мотора и резиновая голяшка от сапога, которую не удавалось ни вытащить, ни разрубить – лопата пружинисто отскакивала, а потом преградил путь лист железа. Раскапывать и оголять его по всей площади было нельзя, чтобы не испортить траншею. Лист кое-как вытащили, но вскоре косо выступила железная кровать, ее пришлось оставить, очистив от земли.
Весь другой день и половину следующего кидали камни и грузили гравий, потом дорывали траншею. Когда кидали бут, проходили кто с рыбалки, кто откуда мужики:
– Здорово, Федул! Давай хоть камень тебе кину.
Федя стремился после работы пораньше завалиться, чтоб накопить сил на завтра, а Ваня, наоборот, посидев, оживал, подставлял стопарь и на слова: «А как завтра?» с горьким недоумением говорил: «После такой работы еще и не выпить». Больше Федя вопрос не поднимал, хотя думал, все будет иначе – в духе Бесшаглого, который в таких случаях бодро отпечатывал: «Все! Я пропился, день отдыхаю и иду работать».
Ваня-то, как видно, и рад был пропиться, да не мог, и чем ближе к ночи, тем больше говорил и крепче сидел, покачиваясь и щуря блестящие глаза. «Воп… вообще-то я норму знаю», – бормотал он, а утром еле вставал, тер слежалое лицо, пил воду, умывался, тягуче курил в печку и признавался, что «дал вчера лишака», и этот «лишак» можно было понять как «лешак», потому что было в Ване что-то от хмурого и больного лешего.
Если он перебарщивал с работой, брал на лопату лишака гравия или кидал слишком часто, начинало жечь, давить сердце, и он следил за ним и тонко регулировал спиртом, зная, когда размягчить, а когда, наоборот, выдержать, чтоб совсем на запороть. Так он и прислушивался к себе, просил в нужное время налить, и Федор послушно наливал и тоже следил за ним, справлялся и досадовал, больше на себя.
С утра работалось хорошо, а к вечеру и соображалось туже, и простое казалось сложным, а день несся, будто стараясь обмануть и, вымотав, сгрести к вечеру с непоместившимися делами, и Ваня все чаще садился курить, говоря с паузами: «Все. Выработался… Раньше у меня кликуха знаешь какая была? Трактор».
Свозили цемент на мотороллере, отобрали доски на опалубку, начали заливать траншею. Мошка зверела, особенно к вечеру, и не давала нагнуться, лепя глаза. Бывало, с ночи разъяснивало, и, надеясь на холодок, вставали рано, в пять-шесть, но воздух был теплый, липкий, и не прибитая мошка уже ждала, скопившись в волглом затишке.
У Вани болела спина, и когда перетаскивали чугунную ванну для раствора, он, берясь сзади себя, нес короткими неудобными шажками, а спина так трещала, что однажды он завалился назад в ванну, жалко задрав ноги, и не мог вылезти. Мышц у него было мало, брал жилами, крепко приросшими к суставам. Локти, обернутые сухожилиями, казались особенно большими и бугрились, как нарост на сухой елке. И сухожилия его, и кости, и хрящи казались сделанными из другого, особо плотного, вещества.
Если срубить худенькую, в руку, елочку, растущую на косогоре редколесья, то насчитаешь в ней не меньше трехсот смолево-рыжих, густо сидящих каменных колец. У елки, живущей в достатке, древесина белая, но и в ней, бывает, встречается с какой-нибудь одной бедовой стороны такое уплотнение, называемое кренью, и когда выбирают дерева на лыжи, смотрят, чтобы она не вторглась и не сбила слои. До красноты напитанная смолой крень обычно бывает у навалом стоящего дерева – с верхней стороны. Из кедровой крени делали раньше полозья для нарт. Федин сосед-дед, всегда говоривший с напористым и гулким посылом, словно все время участвуя в суровом и справедливом спектакле, рассказывал: «Затешешь с двух сторон, дашь топором – как соль отлетат!»
Чтоб по-настоящему оценить драгоценный блеск этого «как соль отлетат!», стоит отложить книгу и, закрыв глаза, погонять через себя, помножить на акустику сибирских пространств, приблизить к полному звучанию эти слова, только что подаренные мне походя соседом дядей Гришей, с которым я вышел сверить свои познания о крени. Самое поразительное в таких дедах, что их единственный истинно русский язык не просто живет в них, а что они страдают и переживают, мечтают и радуются – мыслят только им, и личный строй его, как великое чудо, умирает вместе с человеком. Низкий поклон тебе, Григорий Трофимович! Живи долго, не болей, и пусть наши встречи с тобой всегда будут так же наполнены солью (уже без кавычек), как этот разговор о крени, закончившийся словами:
– А ты что, лыжи собрался делать?
– Да нет, рассказ пишу.
Креневая кедрина стоит навалом в распадке между Таннемакитом и горой Делимо́. Медленно несут плавну́ю сталь Лена, Енисей и три Тунгуски. Ванины прямые волосы в шершавом цементном налете чуть шевелятся от ветра. На лице мазки раствора, глаза изъедены мошкой, в руках штыковая лопата, которой он разрубает в треть плотный мешок цемента. Свежий и стойкий напор ветра сгоняет мошку, очищает лицо, но лишь наполовину, и с подветренной стороны щекочущая масса тем плотней и неистовей, чем сильнее ветер. Мазь, которой он намазался, давно смешалась с потом и цементной грязью. Ваня вставляет лопату в непромешанную толщу цемента и гравия, смоченных водой, трет глаз и, пружинисто изгибая еловый черешок о край ванны, наваливается – жилистый, витой, насквозь креневый, не зря жизнь таких и пускает на полоз.
Вечерами Ваня сидел на своем месте у окна, поглядывая на Енисей и, вертя в руках старый брусничный совок, подарок того же деда-соседа, который все пытался нашарить новое в старом и без конца менял форму и длину лыж, гиб самоловных крючков и угол наклона копыльев у нарт. Именно этот совок в порыве поиска он сделал длинным и широким, как ящик, так что совок служил одновременно и легким пестерем. Чтоб при наклоне собранная ягода не высыпалась, там стоял обычный в таких случаях флажок-заслонка. Изготовлен совок был из легких музыкально-гулких еловых дощечек, темно измазанных ягодным соком. Понизу были пущены длинные, до блеска исшорканные проволочины, частая решетка которых на передке пропускалась сквозь реечку и, загибаясь, торчала, как расческа. Через эту расческу и продергивались кустики брусники. Совок лежал под столом у Ваниных ног, и он клал его на колени, как кота, и то постукивал по гулким бортам, то, положив вверх донцем, водил пальцами по проволочинам, и они отзывались и даже обнаруживали некий тусклый строй, будучи разной толщины и натяжки.
Сморенный работой и водкой, Ваня сидел неподвижно, то роняя голову, то поднимая и открывая глаза и глядя ими в такую даль, и так рассеянно, что казался почти слепым, и с застывшим выражением неизбывной тоски на изможденном лице вслушивался в свое страдание с такой застарелой напряженностью, какой почти не бывает у зрячих.
Была ночь, в преддверии августа уже густо синевшая. Почему-то выключили дизель, Федор зажег керосиновую лампу, и она освещала странным и мягким светом Ваню, сидящего в пол-оборота. Ваня глядел в никуда, держа на коленях плоский короб совка. Совок лежал кверху проволочной решеткой, он отрешенно перебирал ее струны пальцами, и своими прямыми русыми космами, пустеющими глазами, худым и напряженным лицом, внимающим глухому переливу, пронзительно напоминал слепого лирника или гусляра, вернувшегося из бездонной старины опеть-оплакать нашу глупую пору.
На основную заливку пришли мужики, и заработали руки и спины. Вода, заполняя бегучую ямку, проворным озерцом сновала за лопатой, трудно смачивая пепельную пыль и орехово-грубый гравий, долго и неохотно сочась до дна, пока не сплетались воедино сухие и мокрые слои и масса не начинала ворочаться жирно и облегченно. С дрожью взрывая серую слоновую толщу, гнулись от напряжения черешки, истираясь, махрясь до сизого ворса и плоско истончаясь о края ванны, в конце концов ломаясь с костяным и податливым хряском. И ходила огромной суповой ложкой туда-обратно широкая совковая лопата, метая шершавую жижу в высокий короб опалубки, и туда же, когда пустела ванна, с тяжелыми шлепками падали ядра камней, оседая, выжимая раствор и распирая стены.
Заливали два дня. В последний вечер в Енисее, отгороженном галечным откосом от деревни, фыркая и бакланя, плескалась бородатая орава, драила склеееные волосы мылом, и оно бурыми хлопьями расходилось по воде, а у берега по колено в Енисее стоял в ужасающих и длинных трусах Ваня и потирал сердце, а на веселом и шумном празднике сидел, скошенный несколькими стопарями, потом вдруг, еле ворочая языком, заговорил что-то свое, а потом заснул на своем месте у окна, и мужики заботливо и аккуратно унесли его складное тело в комнату. Утром сходили вдвоем к фундаменту, пощупали, потрогали, постукали молотком, уважительно топыря губу, и, замесив с полмешочка пожиже, «метальнули» неровности. Залили водой ванну, прибрали лопаты.
Никакого особого облегчения Федор не испытывал, потому что до приезда новосибирцев оставалось два дня, и нужно было отпарить в бане Ивана, убраться в доме, прогудронить лодку и сделать еще прорву дел. Да Иван по дороге заикнулся о каком-то предстоящем разговоре, и Федя понял, что предстоит еще и заключительное общение по душам с Ваней, уже с трудом вписывающееся в бессонный график. Прибегал Семка, спрашивал, скоро ли Ваня вернется, и не было никакого сомнения, что вся иссохшая артиллерия Бесшаглых давно пристреляна по Ваниному заработку, который тут же подвергнется массированному удару при огневой поддержке Прапора и фланговых атаках группы Страдивария. И Ваня не сможет отказать, поскольку обязан Бесшаглым за то, что приютили по чьей-то просьбе, и он полтора года жил у них, отрабатывая, готовя, убираясь и кормя вечно голодных ребятишек. А зимой пахал на дровах, отдавая весь заработок Гальке, которая по утрам из кровати давала томную разнарядку:
– Ваня, ты постряпай Семе ландориков с собой на работу.
И за свою батрацкую жизнь у Бесшаглых Иван, как сам с горечью обмолвился, даже «на носки не заработал».
Федор знал, что деньги Ване нужны позарез: он ждал затянувшегося расчета за клубный фундамент и собирался в Красноярск по каким-то делам. И хотя Федя не верил в решительные действия людей вроде Вани – такие не уезжают, – все же подумывал над вариантом: предложить до отъезда подержать деньги у себя.
Вернувшись, они сели за стол, и, разводя спирт в пивной бутылке, Федор обдумывал, как потактичней обставить расчет с Ваней. Приготовленные деньги лежали в «вихревской» инструкции, а поношенная, но чистая рубаха и носки – на койке.
– На, Иван, – быстро и решительно сказал Федя, протянув деньги, и сразу налил, а Ваня, поморщившись, что-то хотел возразить, но Федор уже поднимал стопарь, и Ваня с досадой мотнул головой, положил деньги рядом с собой на стол и чокнулся с Федором.
Федор налил по второй и встал:
– Ваньк, у тебя рубаха-то есть? Слушай, я тебе рубаху приготовил… возьми…
А Ваня все будто не слышал, молчал, а потом, доведенный до какого-то последнего предела стыда, вдруг отрезал:
– Да ничего у меня нет!
Федор принес рубаху с носками:
– Ваньк, на тебе рубаху, и деньги убери сразу, чтоб не валялись.
– Н х… мне твои деньги! – вдруг взорвался Ваня. – Я сказал, так помогу, за то, что ты… Федька Шелегов. Погоди. Я тебе вот что сказать хотел… У меня дело в Красноярске… Вообще, мне дергать отсюда надо. Ты, Федьк, это, зови Ромку. Там за фундамент деньги должны прийти. До Красноярска сколько стоит доехать? Полторы-две… Вот ты мне и дал две… – Ваня положил руку на деньги. – Короче, зови Ромку, деньги придут, через месяц ли, через два, пусть все тебе отдаст, там четыре, кажется… Зови. Зови Ромку. Семке только ничего…
– Добро, – сказал Ромка и, опрокинув стопарь, зажмурил глаза, потянул носом и быстро кинул в рот рыжий ломтик стерлядки. – Дак ты че, правда ехать надумал?
– Но.
– И когда пароход?
– Сегодня, – отчетливо сказал Федор.
4
Пароход обычно подходил часам к трем ночи, и хотя время в запасе было, что-то уже происходило, задувал с серебристого фарватера в душу свербящий и тягучий ветерок, и Федя почувствовал, как кто-то и чужой и огромный пошевелился внутри и сказал его челюстями, его онемело послушными губами:
– Ваньк, ведь мне тебя отправить надо… По-человеччи.
И Ваня, который к этому времени уже совсем ослаб и, постепенно разрежая стопки, обессиленно полусидел на старом диване, сказал послушно и тихо:
– Да… Да… Отправь… отправь меня по-человеччи.
Больше всего Федя боялся похода к Бесшаглым, потому что хоть Ваня и говорил, что у него ничего нет, но обязаны были быть у него хоть какие-то хахоряшки – если не паспорт, то хоть справка. Но по его недвижному лицу, по какой-то последней, тихой твердости вдруг стало ясно, что ни к каким Бесшаглым идти не за чем.
Федя бегал как заведенный, натаскал воды, затопил баню и, пока она грелась, вытряс из своих небогатых захоронок куртку, сумку, целые штаны, которые пришлось подлатать, а потом постирать вместе с рубахой и погладить. В нежарко натопленной бане Ваня помылся тихо и старательно, без пара и веника, долго расчесывая затвердевшие волосы и спросив у Федора бритву, оказавшуюся старой и не взявшей его длинную щетину. Вернувшись в избу и отдышавшись, он надел чистые брюки, рубаху и носки и замер, готовясь к главному.
Они и вправду оказались маленькими по сравнению с его огромными ступнями, и, когда он стал втискивать ногу, Федор зажмурился: вдруг не придутся, а значит, надо будет искать, бегать, а хорошее не дадут, а надо хорошее, потому что с ног все начинается и ими кончается, и именно обувь и шапка, которую так уважает Сергеич, – самые важные, краевые части, а уж середка приложится. Сколько же находил за свою жизнь Ваня, столько набегал, что такими огрубело большими и будто раздутыми водянкой скитаний стали его ноги, так поразившие Федора тогда на лужайке!
Неузнаваемо отянутая черным носком ступня с помощью Ваниного пальца чуть зашла в туфлю, и он отвалился, отерев пот; соберясь с силами, пихал дальше и дальше с перекурами и, затолкав больше чем наполовину, поводил ею, как собачьей мордой, и она замерла, а Ваня обессиленно вздохнул и достал из пачки папиросу. Потом каким-то чудом, обманом нога постепенно вползла в черную матерчатую туфлю, сразу угловато надувшуюся, будто ее набили картошкой. Не зашнуровывая правую, Ваня стал уталкивать левую, а Федя изо всех сил помогал взглядом, сам вспотел, и когда нога втиснулась, звонко шлепнул в ковш ладони кулаком: «Там, сучка!»
Дальше надо было шнуровать. Шнурки, измахрясь на концах, не лезли в по-модному мелкие, теряющиеся в ткани дырочки, и Ваня еле управился, слюня их и скручивая, а потом настало самое трудное – затянуть шнурки, выбрать слабину топырящихся витков, и это уже не получалось, и пришлось взяться Феде, и в конце концов Ваня, изможденно сползая, сидел на диване, сумрачно глядя вдаль полузакрытыми глазами, а Федя, сидя на полу, завязывал ему шнурки толстыми темными пальцами.
Об одном молился Федя, чтобы не приперся в последний момент Семка, не сбил с толку обессиленного Ваню, не оплел мольбами и уговорами, и, заранее готовя отпор, продолжал собирать Ваню, паковал в рыжую дерматиновую сумку куртку, мыло, папиросы, достал и завернул пару рыбин из ледника и все требовал от Вани, чтоб тот решил, где поедут деньги: в заднем кармане брюк или в гаманке? Решили, что в кармане. Наконец все было готово.
Последние часы Ваня уже не пил и, расслабленно всплывая из запоя и пребывая в тихом упадке сил, медленно входил в берега и светлел изнутри.
– Поспи, я покараулю, – сказал Федор и пошел под угор к лодке проверить бензин, грушу и веревку.
Ваня обыкновенно спал очень тихо, не вздыхал, не храпел и не разговаривал, и Федя почему-то всегда проверял его. И в первую ночь, и во вторую, и после заливочного праздника, когда Ваня, сбив матрас к стене, лежал с койкой в одной плоскости, провиснув в панцирной сетке, как в авоське, по-детски согнув колени и беспомощно выставив угол таза. Когда в эту седьмую по счету ночь Федор зашел к Ване, тот лежал настолько неподвижно и тихо, что мысль: «А что, если он вдруг умрет?» – пришла сама собой, как естественное и нестрашное продолжение. Зная, что никто никогда и нигде не хватится этого человека и не скажет ему ни слова укора, Федор знал и другое: в том доме, о котором он мечтал всю жизнь и который он с такими трудами возводил, не выживет тогда и одной ночи. Не рискуя включать свет и вслушиваясь в кромешную тишину, прерываемую лишь волнообразным гулом крови в голове, он напряг слух до последней, немыслимой остроты и наконец уловил слабое и редкое дыхание и, облегченно вздохнув, вышел на крыльцо. Слабо темнели два берега, меж ними, загибаясь за круглую землю, уходила в пустоту огромная река. В ее темно-синей дали переливалось студеными огнями вздрагивающее созвездие парохода.
Енисей, отпусти!
Глава первая
1
Глаз человеческий так устроен, что враз один только кусок жизни видать, и если стоять на берегу реки или океана, то углядишь лишь воды сизую полосу да камни, да ржавый винт, да домишко с дымом, да еще что-нибудь заскорузло-простое, вроде ведра и лопаты. А бывает, – во сне ли, в какой другой дороге так от земли оторвет, что аж зудко станет. Глянешь вниз – сначала будто облачка пойдут, потом меж ними что-то забрезжит, а дальше присмотришься – и вся махина памяти разворачивается, будто плот, и куда ни ступи – все живей живого, и одинаково важно каждое бревнышко, а вовсе не то, что последним подцепил.
Один человек был женат трижды. Прожил он долгую и трудную жизнь, идя в ней по велению сердца и делая то, что считалось правильным среди его товарищей – простых и работящих людей, промысловых охотников. С первой женой прожил он несчастливо и расстался, потеряв сына. Позже встретил и полюбил другую женщину, но и с ней долгих отношений не вышло. Тогда он совершил поступок, многими наотрез не понятый: оставил тайгу и все, в ней нажитое, и уехал в город. Там он вскоре сошелся с доброй и приветливой женщиной, однако привычка к промыслу оказалась столь сильна, что через несколько лет он затосковал и решил вернуться ненадолго в те таежные места, где, как ему верно казалось, он только и был собой.
Неоглядный снег и лед встали перед глазами с первых дней жизни в городе и уже больше не отпускали. Виделось все по-зимнему отчетливо: меловой яр с гранеными откосами и черными языками тайги, деревня с такими вертикальными дымками, что казалась подвешенной за них к небу. Синяя алмазная даль, резные торосы, залитые снегом, и за каждой торосиной с подветренной стороны шлейф, стрела, нисходящее снежное ребро с точеным лезвием, и торосы словно мчатся единой и неистовой стаей.
Солнце низкое и густое, будто пробиваясь сквозь кристаллический воздух, перегорает от натуги, да и дня-то нет – один закат. Все резкое и нежное, словно выделено главное, и внутри все чувства тоже окрепшие и самого густого замеса. Снег на заторошенном Енисее рельефный – бескрайнее горное покрывало, и у каждой вершины один склон нежно-желтый, а другой синий.
Прорубь с засаленной прозрачной водой и рыбина с огненными пятнами на боку, замирающая, чуть коснувшись снега, будто тот под морозом, как под током. Обратная дорога с сети, терпеливое переваливание ревущего «викинга» через торосы, полет вдоль берега и избяное тепло, медленно доходящее до лица сквозь забрало куржака. И чувство, когда и точная тяжесть пешни, и холод, и арктическая ширь Енисея, и жар печи доведены до такой обжигающей остроты и так режут по душе, что все прочие лезвия, как посаженные.
Пока месишь снег или ворочаешь засевший в наледи снегоходище, ослепительность снежной окрестности будто выключена и становится наградой лишь по завершении дела, когда, переодевшись в драную фуфайку и таща в избушку охапку дров для раскаленной печки, боковым зрением уловишь догорающее небо. И вековая драная фуфайка и ватный зуд в перетруженных ногах – именно они и дают право на этот алмазный снег, рыжую икру в мятой алюминиевой чашке и красно-зеленое зарево северного сияния, набранного из фосфорно светящихся иголок – точно таких, на какие по весне рассыпаются непомерные обсохшие льдины.
Колка дров, скрип полозьев, легкие и крепкие звуки, будто все пространство поскрипывает на морозных шарнирах, и ликующие дни в начале зимы – с бледно-рыжей взвесью солнца в воздухе и огненным жезлом над местом его погружения, и законченное совершенство округи тем непосильней, чем раздрызганней людская жизнь. А дальние и ближние предметы одинаково четко глядятся сквозь стеклянную полость меж небом и землей, и она заполнена то синим, то рыжим, то сизым гелем, и лишь в оттепель отмокает в бесцветном растворе.
Загар самый жестокий весной, когда день длинен несказанно, и синева в воздухе то прозрачная, то шершавая с седым песочком, но всегда обложная и затухает лишь на ночь. С утра и до полудня мороз, и округа еще под слоем железного снега, и человек в тайге ли, на реке – и всегда в дороге, и лицо выделано потом и выдублено налетающей смесью солнца, ледяного воздуха и снежной пыли. С ветра кожа красная и ночью во сне остывает, как заготовка, доспевает смуглостью, зато лоб под шапкой всегда голубовато-белый и граница, как по линейке. Ниже нее рыжина, смуглина, охра, луженая, жухло-кремневая, будто вековая, глянешь – вот и кедровая плаха такая же, и смола на затеси, и жир на подвяленной рыбине. Все одного хозяйства инвентарь, одной далью мечено.
Было тогда что-то дальнобойное и в облике Прокопича. Лоб, лицо прямое, брови, выгоревшие до белизны, скулы обожженные, каленые, каркас их высокий, крепкий, будто для раздвижения пространства, отбоя ветра. Лицо густо-желтое, и на передыхе-остановке на нем в прозрачные капли топится снежная пыль. Кожа чуть подсочена, подсушена морщинками, и дело не в возрасте, а в постоянном прищуре, выглядывании дороги то в слепящей бесконечности, то в мутном молоке. Теперь лицо Прокопича розовато-белое и дряблое – словно, лишившись загара, осталось без пропитки от старости.
2
– Знаешь, Прокопич, поезжай – я тебе уже и рукавицы сшила. Поезжай, и тебе, и мне легче будет, я тебя прождала столько, что уж три месяца не разговор. Все равно жизни нет… с твоим Енисеем. Садись пилимени ись, – говорила Зинаида Тимофеевна, женщина негромкая и умная тем крепким и добрым умом, которым бывают так сильны простые русские люди, хлебнувшие лиха и выжившие внутренним светом.
Енисей, выбираясь из города, начинался постепенно, ширясь с каждым днем дороги, и, словно щадя, забирал душу постепенно. Толкач буровил его двумя спаренными баржами, заставленными контейнерами, бочками, железяками. Все это было нагромождено так плотно, что казалось, вот-вот рухнет и только держится друг на друге, как на клею. Баржа сидела низко, и вода перекатывалась через нее, как через плот. Прокопич то поднимался в рубку к капитану, крепкому дельцу и давнишнему знакомому, то стоял на палубе в неуклюжем оцепенении и раздавшейся фигурой вбирал простор.
Скалистые лесные хребтики, дымка, проблеск автомобильного стекла на берегу – все казалось огромными пространствами для счастья, куда можно вместиться своей кубатурой, а лучше двумя смешанными, заполнить, чтобы оно налилось смыслом, заработало, а не пропадало ничейной и дразнящей далью.
В А., последний большой поселок перед деревней, пришли утром и встали на разгрузку. До борта тленно-речной запах берегов, смолистый леса доходил только слабыми волнами, отрывками, а теперь догнал и поглотил. Галечный берег, грубо развороченный колесами и гусеницами, полого восходил к высокому угору, вдоль взвоза стояли в разных позах ржавые баржи и понтоны, мимо них медленно спускались к воде трактора и машины. На рейде плавкран поднимал лес на грузовое судно.
Обилие техники должно было поглотить, закоптить, но все это грохочущее железо оказывалось ничтожно мелким, незначительным по сравнению с огромным Енисеем, с дымкой, белесой не от снега, дождя или тумана, а от запредельной задумчивости пространства. И чем дальше к Северу, тем сильнее ощущалась осенняя тугота пространства, наполненность его каким-то выматывающим смыслом, от которого сосало под ложечкой и казалось, что все люди с их судьбами нечто подсобное, а главная тяга где-то рядом гудит в навалившемся поднебесье.
Весь день ждали кран, усланный на другую работу, и Прокопич прибился к вареву прибрежных мужиков, необыкновенно невозмутимых на любую проволочку, отточенных на слово и мастерски притертых к окружающей обстановке. Обсуждали дизеля, легко кочующие с машин на баржонки и наоборот, и продирались по самым сложным узлам с такой свободой, что любая запчасть, протертая их комментариями, набиралась невиданной живучести. У каждого была прорва техники, и они, как руками, продолжались ею в тайгу и на реку, и теперь из затишка передыха озирали свой размах, и без их участия будто хранящий форму.
Терся при них поддакивающий и никем не замечаемый мужичок, давно уже существующий при утечке водки, как жадная тряпочка. О своем вечном похмелье он рассуждал как о чем-то отвлеченном, внешнепланетарном и исключал всякую его связь с собственной волей. Он с тихим раздражением бубнил, что если не похмелится, с ним снова будет то-то и то-то, и требовал подмоги с чистым сердцем.
Обладал он своеобразным географическим сладом с пространством и, рассказывая о родных, с точностью до градуса давал хозяйский направ-кивок головой: «в Хатанге», «в Алинске», «в Чиринде». Примечательно, что прострел «в Южно-Курильске» звучал так же просто, как и «в Шишмаревке».
Нужный кран в тот день так и не приехал, и разгузка баржи перенеслась на утро. Небо расчистилось, и на фоне заката плавкран монотонно вращал стрелой, взрабатывая дизелем и нанося соляркой. Пароход с лесом ушел, и над головами вместо строп носился огромный трехстворчатый ковш, которым кран брал у себя из-под борта грунт. Ковш, раскрыв пасть, с грохотом рушился в воду, отяжелело поднимался, полный гальки, и из его сжатых челюстей мощными лентами сыпалась вода. Вечерний холодок подобрал дымку, и даль с металлической толчеей волн и темно-синим хребтом будто сложилась. И в душе тоже все сжалось в одну крепкую картину при взгляде на пылающее рыжее небо, на фоне которого продолжал метаться черный и отчетливый ковш.
Утром подошел снизу катер с баржой. Прокопич еще продолжал кутаться в остатки сна, казавшиеся тем уютно-спасительней, чем настойчивей врезалась в сон упругая сирена. Воздух был режуще свеж, когда он вышел из затхлой каюты, спустился по трапу и, прохрустев мокрой галькой к воде, умылся ледяным Енисеем.
Поворот скрывался в тумане. Катер работал, пенилась белая вода из-под кормы, и парнишка-матрос, сидя на сырой бухте каната, курил папиросу, и дым был острым и давнишне знакомым. Темный берег стоял стеной, но солнце уже холодно лучилось сквозь лиственницы, и чайка кричала с реки вольно и отстраненно, и все эти безошибочные штрихи брали глубоко и вязко, будто подлинность жизни была в прямой зависимости от ее сырости и стыни.
И Прокопич все больше терялся в густом и плотном тумане происходящего, и каждый день за ним смыкались мысы, как глухие двери, и то, что значило все, с утра рвало душу, а к ночи рубцевалось и отпадало отсохшей корочкой, и все было неправдой – и эти глухие, как туман створки, и эта корочка, и эта требовательная даль, а правдой была только совесть, память и то, как укладывается неподъемная бухта жизни в сердце и голове.
Палуба баржи, на которую он поднялся, была со швами сварки и вся в испарине, и на ней стояли оббитые трактора без фар, ящики, узлы, и бродил сутулый кержак в энцефалитке.
3
Прокопич держался на том, что святее и единственней той жизни, которую он вел, нет ничего на свете, а когда уехал в город, оказалось, что остальные людские пути сосуществуют в мире с таким стальным и равнодушным равноправием, что его судьба чуть не распалась. Другая жизнь была унизительно рациональней и требовала опоры, но любая из них по сравнению с Енисеем казалась искусственной и нуждалась в постоянном укрепе. Да и плотность этой жизни казалась чрезмерной по сравнению с сельской, происходящей из естественной утряски людей по земной поверхности. Она-то и давала и разреженность, и волю, делая из каждого человека событие.
Относиться хуже к людям он не стал, но именно в вынужденности людской близости, ничем не подкрепленной, и была основная потеря городского сожительства. Худая близина́ эта заминала какие-то важные закраины души, и что-то в ней гибло, отмирало и гасло, и даже во сне толпы посеревших смыслов клонились и мялись в ее волнах, как водоросли.
И много тяжелой воды утекло, прежде чем Прокопича выдавило сквозь слои осознания и вернуло жизни, но уже на других правах, и теперь все, что он встречал, находилось с ним в особых отношениях, которые нельзя было назвать иначе, чем последняя близость всему сущему. Все живое и неживое стало так право самим фактом своего существования, что прежний опыт уже не давал ничего, кроме чувства великого незнания, и бывшего единственной силой. И чем зримей густела округа, тем сильнее ощущал он собственное разрежение и тем сильнее манила заострившаяся знакомость жизни.
И кержак на барже был тоже давно знакомый, с плохими зубами и рыжей клочковатой бородой, у всех староверов растущей с горестной вольностью, из-за какой облик их и обретает выражение той потрепанности, по которому они безошибочно узнаются. «Асон, – представился он и срифмовал, как запомнить: – Сон – Асон». Был он словоохотливый, но когда Прокопич спросил, чьи трактора, пожал плечами и только позже, прощупав разговором, негромко поделился: «Мои».
– С Объединенного? – догадался Прокопич.
– Но. Поюжнее перебираюся. К сыновьям. Жена там уже.
– А че так?
– Да надоело. Бьешься-бьешься, и все без толку. Договорился с начальством, что картошку, капусту принимать будут. Бесполезно. Одни обещанья. Они, оказывается, в городе набирают и сюда везут – дешевле. Прошлый год сулились ягоду принять, так в разговор и ушло, а мне пришлось семьдесят ведер в Дудинку везти. – «Ведер» он произнес через «е».
Асон рассказывал, как гостил у брата в Боливии.
– Ну и чем там ваши занимаются? – спросил Прокопич.
– Ну, в общем, этой – агрокультурой.
– А живут лучше, чем здесь?
– Конечно, лучше! – возмутился Асон. – Там пахарей ценят. Это только у нас простой труд не нужен никому.
– А че ж возвращаются-то? – спросил Прокопич.
– А здесь Бога больше, – ответил Асон.
– А как там звер-птица? Шарится хоть живность-то кака-то? – сгрудились мужики.
– Да вот было дело: решили раз с братом пройти охотой.
– И че добыли? – застыла компания.
– Тропическу чушку.
Приехал кран и за час все разгрузил. Заработал дизель, и баржи с мокрым шорохом сползли с берега.
4
Слушая с уже родного каютного дивана рокот двигателя, глядя с палубы на берега, Прокопич вдруг поймал себя на зачатке мысли о том, что он никуда не хочет приезжать, потому что, чем ближе была деревня, тем сильнее давила душу тревога и беспокоил вопрос, примет ли его тайга.
Никогда Прокопич не чувствовал себя таким обостренно обидчивым к происходящему. Парень заводил мотор и что-то кричал на отходящий толкач, бабенка передавала посылку, и все показывало, что жизнь движется подчеркнуто независимо от Прокопича. Хотелось встретиться с ней глазами, убедиться, что признала, но она глядела мимо и особенно ласково окачивала волной убогую лодчонку паренька и его обшарпанный мотор, будто награждая за неподкупную связь с Енисеем. Он принадлежал этим берегам с головой, а Прокопич, несмотря на свой осанистый вид и законное похаживание по палубе, был раздвоен выбором и отлучен от главного, потому что Енисей брал на духовное иждивение лишь тех, у кого выбора не было.
Как ни готовился Прокопич ко встрече с родной деревней, все – и берег, и камни, и даже дым ребячьего костра оказались неузнаваемо другими, отличными по цвету, выражению, будто предметы остались теми же, но были обведены совсем иным контуром.
Еще с города виделась Прокопичу сухенькая предосенняя погодка, аскетический рядок изб на угоре, сизое небо. Галечник, пески – все ровное, строгое, прямое от горизонта до горизонта, вышколенное и отутюженное до стальной линейности речной работой ли, памятью уехавшего человека.
В деревню пришли утром, а с вечера наползла незаметно сплошная и тихая туча, ночью пошел дождь, а утром, когда Прокопич по крутому трапу сошел на берег и чуть не споткнулся о трос, натянутый меж лебедкой и чьей-то лодкой, все казалось особенно парким, синим, дымящимся и будто снятым с гигантской и сырой печи.
Необыкновенно заросшим новой, дикой и сочной травой казался подъем к угору, и волнами валили пряные и спелые запахи земли, дерна, навоза, какой-то сладкой падали. Все было расхристанным и раздрызганным – кусты новой травы и осыпающийся угор с норами береговушек, жирно чиркающих над головами несмотря на осень, рыжие куски гнилого дерева, ржавая шестеренка, запчасть собачьей челюсти. И на угоре пористые углы старых изб, выступающие вразнобой торцы с рыхлыми звездами трещин, истлевший брус с крепким рыжим сучком под осыпающейся серой мякотью, кусок которой мертво валялся рядом. Лохматая сучка с репюхами в штанах, прихрамывая, пробежала с настолько деловым видом, будто опаздывала на важнейшее собачье заседание, где решался вопрос, запускать ли охотникам собак зимой в избушки, и если да, то начиная с какого градуса. Еле узнаваемый в усохшем пенсионере остяк по кличке Пушкин брел с похмелюги и было рыпнулся к новому приезжему с предложением мгновенных и неограниченных пушных и рыбных услуг, но, узнав Прокопича, открыл рот и восхищенно застыл едва не на неделю.
К десяти завязался ветерок, тучи раздуло и вода из мокрого дерева стала уходить, сжимаясь и собираясь пятнами по пепельному полю. Буквально за час небо вытянуло всю влагу в мутную дымку и унесло за горизонт.
Остановился Прокопич у Володьки, тут же строго отправившего его в баню («Тоже Баба-Яга!»). Володька нагонял пар, пока тот не достиг такой обжигающей силы, что казалось, из-под веника идут ледяные сквозняки по всем закоулкам души и тела. До поры это не приносило ничего, кроме сладкого зуда, но вдруг после одного гейзерно-долгого выброса пара от жгучего удара веника невыносимо зачесалась спина, и каждый его охлест начал приносить сумасшедшее наслаждение, будто меж телом и веником вился невидимый гнус и его припечатывали распаренной березой к спине, как мухобойкой. Прокопич выскочил из бани и, взревев, вывалил на себя ведро стылой осенней воды, почерпнув из дождевой бочки.
Он сел на крыльцо. Сердце стучало ровно. Выжав лишнее, оно поджалось и окрепло и, целиком взятое в оборот, впервые за многие годы не успевало думать.
Сидели за бутылочкой – плотный раздавшийся Прокопич и худощавый бородатый Володька, розово поблескивающий тонким, чуть шишковатым носом. Володька он был только для Прокопича, а остальные звали Степанычем этого трудного мужика, которого ничего не интересовало, кроме его тайги и куска Енисея, где он жил навечно, как пристойная рыбина. Охотничий участок Прокопич, уехав, отдал Володьке, и тот прибрал его лучший кусок, куда теперь Прокопич и собирался.
Пришли человека четыре близких, да еще забрел Борька, осеребрившийся, ссутулившийся и как две капли воды похожий на своего покойного отца, знаменитого механика. Его возврат в образе Борьки давал ощущение и горькой остойчивости жизни, и ее вечного размена, потому что Борька в подметки не годился отцу.
Мужики обрадовались Прокопичу по-человечески просто, в объезд его раздумий и не требуя объяснений. Прокопич, в себе самом только и ценивший причастность к Енисею, не догадывался, что многие его товарищи, особенно приехавшие позже, эту жизнь и открыли через него и ему подобных, и поэтому не сомневались, что Енисей в таких не кончается.
Всю неделю до отъезда в тайгу Прокопич готовился сам и помогал Володьке прибираться к зиме. Досняли картошку, вывезли лодки, оставив только деревяшку, скатали бревна, испилили и перекололи остатки дров. Погода стояла солнечная. Прозрачный северок остужал потеющее тело, и жара сколько приходило, столько и уходило. Подчищенный сухой огород с одинокими копешками ботвы, трактор со слитой водой, перевернутая бочка – все оцепенело, обещая, что снегу хорошо будет ложиться.
Отъезд в тайгу представлялся огромными воротами, которые так окрепли и отстоялись в воображении, что казалось, когда он войдет в них по-настоящему сотрясут все его существо до самых глубин, но шаг за шагом вдавался Прокопич в будущее, и ничего не происходило, несмотря на то что он уже сидел в деревянной лодке на горе груза, Володька ворочал румпель и мимо набирал ход галечный берег с осиротелой кучкой провожающих.
Стык должен был пролегать между рывком шнура и первыми проворотами винта, но ничего не сотрясалось ни внутри, ни снаружи, и он близоруко озирался, чтобы не прозевать долгожданную дверь, а она стояла так близко, что он был ее частью, а она таилась и ждала, когда он скроется, чтобы спокойно и навсегда затвердеть.
Не было никаких ворот, вообще никаких сооружений на входе в постепенное и упругое настоящее, и даже наоборот, вода казалась совсем плоской, и Прокопич как-то особенно голо укрывался от ветерка, обтрепывающего груз, но о том, что перевал произошел, говорило ощущение нового открытия. Оно состояло в том, что главным потрясеньем, ожидавшим его столько лет, была полная простота произошедшего.
Вода Феофанихи, впадая в Енисей, долго текла вдоль берега, не смешиваясь, и была темно-синей, а Енисей казался рядом с ней грязно-мутным и разбавленным. В эту горную воду они въехали тоже постепенно и незаметно, и принадлежали Феофанихе с упреждением. В устье глядел с берегов частокол карандашно острых, будто из-под точилки, пихт. За поворотом в галечном перекате мотор выворачивал прозрачную воду, как плугом, и под ее стеклянной кожей проворно и длинно вился за винтом пенный смерч. Через пять верст встали по берегам кедровые увалы, через пятьдесят река подсушилась и ощерилась камнями, а через сто восстала грозовой синью над ней горная даль. Русло сжалось, и они долго ехали сквозь зубчатое нагромождение ржавых кирпичей и кубов. Пока поднимали порог, хребты настороженно нависали, а когда прошли верхний слив, успокоенно расступились и стали поодаль.
Отвезя друга на базу, Володька оставил его одного.
Глава вторая
1
Как ни тепло и понятно было Прокопичу с Зинаидой Тимофеевной, просторы брошенной жизни заявляли о себе неумолимо. Но едва попал он в ту обстановку, о которой тосковал, как стронулось и завращалось неподъемное колесо памяти, и стал он принадлежать себе еще меньше.
Все главное протекало в этой тайге. Здесь сколачивал он окалину людских отношений, выстаивал взвесь событий до зимней ясности, здесь тосковал по дому, маялся разладом с Людой, виной перед сыном и здесь горел любовью, когда появилась в его жизни Наталья. Мысы с камнями хранили каждую складку его лица, а теперь, намолчавшись, заговорили без спросу. И едва напомнил ствол листвени изгиб женского тела, как душа с детской послушностью пустилась в путь, волоча Прокопича по старицам прошлого. К вечеру обострились запахи дыма, тайги, горькой травы на жухлых берегах, и отверзлось, насколько привязан он к этому миру и насколько велика ноша этой привязи.
Под нарами валялась баночка от Андрюшиного детского питания, просроченный ящик которого был отдан Прокопичу в тайгу, и они с Володькой даже пытались им закусывать.
Острые на новое и производительное, охотники давно уже обезжиривали соболей женскими колготками. Отрезали нижнюю часть, и получался капроновый носок, который надевался на руку. Такой варежкой и одиралась жирная и ускользающая мездра – капрон оказывался хватче остального. Колготки увозились в тайгу с запасом, служа предметом шуточек, дескать, барахляных этих девок вытрясаем, а колготки в дело запускаем. На гвозде висел увядший слепок Натальиной ступни.
Воистину сосуд – человек и послушно наполняется окружающим, а когда кончается заряд привычного, мается, неприкаянный и открытый ветрам, пока в извечной работе не соединится с жизнью в новой застройке. Но ничего не рушится в сердце, а только прячется, оберегая, поскольку нельзя одновременно идти по двум берегам, не порвав душу.
Но в какой цвет ни окрашивались река и тайга в то или иное время, разговор Прокопича с этими строгими собеседниками никак не был связан со сменой женщин или другими потерями и тянул высоко и ровно, пока остальная жизнь его же грешной тенью взмывала на вершины и сбегала в ущелья. Обе эти половины были равно важны и несоединимы. И пока крепла тайга осенью и свежела первым снегом, стыл Прокопич на семи ветрах памяти, и одному небу известно, сколь кубов тоски и отчаяния прогнало сквозь его душу в те дни в ту и другую сторону.
2
В пору, когда самыми синими были великие дали, что влекли в себя тысячи людей, казалось, нельзя жить под этой синевой и не зарядиться ею, но выходило, что можно, да еще как. Первую жену звали Людмилой, и был у них сын Андрей, и сошелся он с ней из-за того, что дурак бы не сошелся с одинокой, красивой и работящей соседкой, с которой даже картошка в одной ограде и граница по колышку.
Вот она, как сейчас – в большом окне с тяпкой и в купальнике. Лучшие в деревне ноги светятся, как створы. И надо бы тоже к тяпке, да сети не смотрены, а соседка так рыбу любит, что проще колышек вынуть.
В деревне каждый больше, чем просто мужчина или женщина, и острее раздел: та даль, что за оградой, – хозяина, а та, что внутри, – хозяйкина, и чья бездонней – поглядеть. Если добытчик мужик, вся окрестность, как брага, на него работает и к горловине дома стекается, а уж перегнать ее да на любви-заботе настоять – это хозяйкино дело. И такое это варево неподъемное-неразъемное, что кажется, целые уклады пространства бродят и требуют единения. И некогда пытать друг друга на схожесть, когда работы по горло, а ты силен и молод, и все бы ничего, да только жена стала понемногу огорчать Прокопича, оказавшись из тех недалеких женщин, что в прежние времена звались «злая хозяйка».
Как желудочный сок, вырабатывается в одних радость, а в других извечная желчь и осуждение. До женитьбы Прокопичу казалось, что Людина раздражительность происходит от ее одиночества, усталости, слабости, что душе ее не хватает жара варить то, что положено, и надо помочь, догреть ее, но ничего не получалось. И чем больше она привыкала к Прокопичу, тем меньше сдерживалась в зверином недовольстве, которое накипало в ней, казалось, от самого течения жизни.
Первая выходка насторожила и поразила, но он не придал ей значения, и бездна беды открывалась позже с каждым повтором. Люда сидела за столом и вдруг слово за слово начала нести настойчивую околесицу, бывшую всего лишь внешним проявлением чего-то ужасного, что происходило внутри, и повод был случайным. Истерика состояла в повторении одной и той же глупости, но с разной глубиной захвата, по мере нарастания которой она теребила рукой коробок или терла одной рукой другую. Пальцы у нее были тонкие с выпуклыми суставами. Несмотря на то что ее возмущение могло быть связано с чем угодно, например, с тем, что сучка Укусовых лаяла на их телку, виноватым всегда оказывался Прокопич.
Уйти было нельзя, потому что без зрителей представление срывалось, переносясь на другое время; переговоры только возбуждали, а молчаливое наблюдение приводило в бешенство. Прокопич испробовал все – от полного умиления, до выволакивания на мороз и утирания снегом. Когда отпускало, она удовлетворенно улыбалась и о происшедшем не вспоминала.
Все это было внешней стороной дела и говорило о внутренней тесноте, о том, что порода души здесь самая небогатая и что золотишко тепла, если и водится, то либо самое непромышленное, либо там, где не взять. И вот эта пустая порода и ворочалась, и разрасталась, и чем шершаво-серее была, тем сильнее сама в себе вязла и истирала других.
Прокопич знал, что настоящая любовь светит во все стороны и нельзя любить одним лучиком, как нельзя по-настоящему понимать собаку, человека или реку и не понимать остальную жизнь. И именно зная, что́ такое любить, верила Зинаида Тимофеевна Прокопичу, именно потому и понимала, что Енисей для него больше, чем река.
Воистину то, чем богатой душе прирасти в радость, то у бедной последнее отберет. К себе относилась Люда со всей мещанской серьезностью, не допускающей ни шутки, ни совета, и малейший просвет жизни воспринимала как упрек себе, поэтому всегда ходила надутая и обиженная, осуждая всех. И чем ближе стоял человек, тем больше не устраивал.
Крепче всех доставалось Прокопичу, потом шли остальные в последовательности: Андрей – собаки – и коты, бывшие самой привилегированной кастой. Когда у нее заболевала голова, а это происходило при первом дуновении ветра, она обкладывалась ими, как подушками, и лежала целый день.
Было их штук пять, никаких мышей они не ловили и кормились на такой убой, что казалось, в доме чем бесполезней житель, тем больше ему почета. Звали их Цветиками, Лютиками, Ветерками или чем-то в этом роде. Одного фаворита облизывала особо, брала под одеяло, кормила специальными кексами, причитая: «Иди, слядкий мой, к маме».
Коты вились под ногами, когда Прокопич нес кружку кипятку или горячую сковородку, и она вылетала, рассыпав рыбу, под матюги растянувшегося хозяина, в то время как виновник, весело задрав хвост, уносился к отдушине. Мыши заедали.
В зависимости от погоды кошарня заселяла разные уровни, в мороз лепясь по шкафам, печкам и столам, а в тепло спускаясь на пол. Чуяли заранее, и когда полосатое воинство вместе с зоной игрищ поднималось на новый этаж, дома ждали морозов. В двадцать пять градусов осваивали табуретки и диван, в тридцать – телевизор и спинку дивана, в сорок – книжные полки, в пятьдесят – верха шкафов и печи, а дай волю, забрались бы и на люстру.
Падали, срывали календари и шторы. Пришедшему из тайги Прокопичу не давали выспаться. Лезли часов с четырех. Сначала одавливали пудовыми задами ноги, потом живот, а к утру, как танки, подбирались к шее. Самый жирный, кажется, как раз Ветерок, забраться не мог, норовил привалиться, и Прокопич несколько раз его придавливал и просыпался от вопля.
3
Делиться с Людой чем-либо было делом неблагодарным, все оказывалось несмешным, неинтересным, неглубоким, будто весь душевный инструмент в ее присутствии тупился. Зато сама вся состояла из правил, и когда их нарушали, задиралась, как сырая доска под рубанком, и каждая заноза требовала справедливости.
После ссоры никогда не мирилась первая, и Прокопич шел сам, чтобы прекратить глупую растрату жизни, а она улыбалась и разговаривала, будто ничего не произошло. В недели отчуждения начинала готовить еще вкуснее, мол, стараюсь, а вы все не цените. Считала, что мужик без жены обречен на грязь и голодовку, и главную свою нужность видела в «накормить-обстирать», не вслушиваясь в Прокопича, повторявшего, что может сам себя и накормить, и обстирать «лучше любой бабы» и что ему друг нужен.
Губы у нее были крупной и капризной отливки, а глаза небольшие, стеклянно-дымчатые, в розоватых припухлых веках, и с ресницами, чуть склеенными, не то росисто, не то воспаленно. В разрезе глаз, в веках, в сходе ресниц, когда она их прикрывала, был тот же богатый и вольный росчерк плоти, что и в губах. Тонкие выгнутые брови высоко огибали глаза, и лицо казалось неподвижным, напоминая маску, которая тем сильнее походила на лицевой диск совы, чем отвлеченней был предмет разговора, и лишь ночью упруго расцветало требовательным ртом. Тело имела сильное, незагорающе-белое и веснушчатое.
Спала спокойно, независимо от препирательств, и даже казалось, тем крепче, чем сильней накал вечерней свары. Во сне лицо ее менялось, становясь неожиданно тяжелым. И глядя на приоткрытый рот и грубо-большой подбородок, чувствовал Прокопич дикие приступы духоты, которые терпел только ради Андрея, да и развод в замкнутом пространстве деревни, при общем хозяйстве был делом хлопотным.
Считается, что если с женщиной душевная рознь, то тошно к такой и прикоснуться. Но, насидевшись в тайге, еще как прикоснешься, да еще наткнешься на детское, жалкое, что примешь за доброту, и когда у промороженного, иссохшего мужика сводит шею от нежности, некогда делить близость на низовую и верховую, и кажется, одна подставит крылья и другую перенесет через пропасть, а красота все зальет и все простит, а когда погаснет, в памяти такой слепок счастья оставит, что сто раз повторить захочется.
За разлуку такая надежда в Прокопиче настаивалась, что казалось, чуть-чуть – и найдет в жене то главное, ради чего вместе, и продолжал впускать, погружать ее в себя, и каждый проблеск понимания был как победа, и чем реже они случались, тем казались драгоценней. Наутро выяснялось, что у Прокопича слишком расслабленный вид, что он в тайге «смотрел красоты», а она здесь работала, и что если он явился отдыхать, то лучше бы и не являлся, и что может хоть сейчас оставить их с Андрюшей в покое и «упереться в свою тайгу досматривать, шо не досмотрел». На что Прокопич отвечал, что никуда не попрется, но постарается сделать все, чтобы уперлась как раз Люда, и не ближе, чем «обратно в Хохляндию к мамаше», и что если она будет так громко кричать в расчете на Андрюшины уши и так топать, то он выдернет из места крепления ее хваленые ноги и выкинет под угор, где их будут таскать собаки, потому что они больше ни на что не годятся. Ноги, конечно, а не собаки… А Люда отвечала, что он сам ни на что не годится, что она давно мечтает уехать к маме в Житомир, и дальше начиналась та мерзость, к которой Прокопич за девять лет жизни так и не сумел привыкнуть.
Хотя считается, что дети объединяют, но в плохих семьях они бывают как раз главным стыком розни, где неродство оголяется до такой степени, что дом расползается по швам, о которые и в нормальной-то семье все спотыкаются.
Трудно в детстве, когда и то охота, и это, и топор тяжелющий и идет как-то косо, и ружье вроде вытесывал из доски, а оно такое корявое вышло, что стыд. А будущее так тянет, что из кожи бы вылез, лишь бы побыстрей вырасти, да тут еще взрослый парень от мотоцикла отогнал и чуть по шее не надавал, что «за газ лапал», и вот набегается мальчуганчик, и назад в детство, к маминым оладушкам: «Мам, у нас че-нибудь есть вкусное?» А если заболеет, то и совсем в пеленки закатится, в жар да туман, где только мамина забота и нужна, а никакие ни мотоциклы. А потом снова на улицу. И так мотает мальчишку меж двух огней, да еще родители каждый своего масла подливают – мать подсолнечного, а батя автолу. Один чуть не палкой во взрослую жизнь гонит, а другая назад тянет и так облизывает, что бате тошно, и начинается:
– Ты зачем его так балуешь, поднимай его, хватит валяться!
– Пускай парнишка поспит, еще успеет наработаться!
– Ничо не успеет, пускай сразу привыкает, а то в армию пойдет, будет, как хлюпик, был у нас один такой, смотреть противно.
И бывало, давно на улице парень или, наоборот, спит без задних ног, а они все через него жизнь делят. Мать нужной хочет быть, а отец помощника растит, да такого, что самому ему сто очков по неприхотливости даст. Так в разные стороны и тянут. И растет парень, как деревце, у которого отец подпорку отберет, а мать обратно поставит, и опять начинается:
– Ведь сказал же ей и палку выкинул, а ведь нет, дождалась, пока ушел, нашла и подставила, да еще ленточкой перевязала.
– Прямо изверг какой-то, с такой силой эту палку зашвырнул, еле нашла. Иди, сыночка, иди! Иди покушай!
– Со мной парень как парень, с охоты приду, не узнаю: такой разваженный!
– И главное, концерт идет, мы с Андрейкой смотрим. А там ребятишки, все в костюмчиках, аккуратненькие – прелесть, со стрижечками, и артистка-то эта, ну, полная такая, знаешь… И ты представляешь, ворвался, пульт вырвал, хорош, говорит, пучиться, так и сказал, «пучиться» (бескультурный какой!), поехали, сына, на рыбалку… Прямо дались эти сети, то неделю не смотрят, а тут как приспичило!
И такая вокруг мальчишки каша, что какое уж прошлое-будущее, и настоящего-то нет! Так и шло все в раздрай, а кончилось тем, что Люда, забрав сына, уехала, но, к счастью, до Житомира не добралась и осталась у тетки в Ирбейском районе. Прокопич раз в году навещал Андрюху, а на лето забирал к себе.
4
Наталью он встретил в пору, когда душа уже испытала и жизнь, и женщину и ждала любви со знанием дела, не тратясь на пустяки…
Будучи весной по делам в А., Прокопич познакомился с Натальей в гостях, испытав чувство разгадки, поскольку видел ее раньше, у них же в деревне. Она стояла у вертолета в шубке и чернобурочьей шапке и давала разнарядку коробкам: «Эти Кукисам, эти Фабриченко, а эти Шароглазовым…» И все время улыбалась, просто сияла, словно была хозяйкой не только груза, а и всего снега и солнца на свете. Было столько блеска в ее облике, в желтых очках, прозрачно пропускавших глаза, в улыбке, стоявшей на лице, как погода, что Прокопич вынужден был, побакланив с пилотами, показательно взрыть гусеницей снег и, поставив «викинг» на дыбы, унестись в белом шлейфе и не оборачиваясь. Гари так наподдал – у самого мурашки побежали, как со стороны представил, а что уж о женщине говорить.
– Где бы я тебя заметила, там народу столько! Да и не до того было, я с мужем разводилась. Папа говорит: слетай хоть куда-нибудь, протрясись, а то лица на тебе нет, – говорила она за столиком в баре, и углы рта расходились широко и щедро, вминаясь в щеки, и глаза лучисто светились в нежных и неглубоких морщинках. Долго сидели возле ее дома в машине – черном дизельном «мистрале», и когда он взял ее руку, она ее медленно забрала, не переводя взгляда, и в этом выбирании руки было гораздо больше, чем в том, что она говорила.
Днем уже вовсю жарило, солнце, углядев черновину, рыло воронку, и угольным шлаком и лужами вытаивали дороги поселка. Прокопич уехал ночью, дождавшись, когда та как следует настоится на синеве и морозе, чтобы, скатившись на Енисей, упоить холодом «викинг», неновый, но очень хороший и специально заказанный в Приморье. Прибавляя большим пальцем газ, он словно прощупывал темную даль на податливость, и, когда чуть выдвигал лицо за кромку стекла, от обжигающего удара ледяной стены оно моментально немело, и сочились из глаз, расползаясь по вискам, слезы.
Деревня вытаивала зимним хламом. Ближе к весне привозили из тайги хлысты на дрова, тут же пилили, и у каждого дома копились горы опилок. Внутри ледяные, днем они отмякали рыжим ворсом, меж ними сочилась водица и проглядывала черная земля. Она липла к подошвам, и ее отирали о снег, зернистый и рыхлый. На Енисее тоже отпускало, все пешее и моторное валилось в сырую корку, и только холод был единственной управой над расстояниями.
С вечера небо глядело особенно ясно, и к утру протаявшая земля обезвоженно серела, светился ледок, и все – дрова, щепа, опилки – были подсушены и прохвачены намертво. Енисей стыл в волне надувного снега и звал в дорогу, как сведенный мост, и если одолеть вперевалочку заскорузлый кочкарник деревни, то до Натальи оставалось часа четыре лету.
На подъезде к А. вставало солнце, и горело лицо, и сквозь темные очки дорога казалось покрытой сизым лаком, и чем мягче была дымка, тем ярче сияла за краями стекол слепящая голубизна. Мотор пел ровно, жилы морозного воздуха, пропущенные сквозь заборники в поддоне и капоте, держали ревущую машину как тросы, готовые рухнуть с окрепшими лучами солнца, и Прокопич успевал.
В багажнике – рыба и ведро сохатины, уже нарезанной, поперченной, пересыпанной луком и пропитанной уксусом. Магазин так и назывался «У Натальи». Возле него стоял черный «мистраль».
– Приве-е-т! – удивленно и расслабленно протянула хозяйка, улыбаясь и выходя из машины. – Ты откуда?
– Все оттуда! Принимай гостинцы!
– Значит, на шашлыки поедем?
Ее руки по-детски беспомощно держали его голову, рот был приоткрыт, и меж губ отворялась мягкая и знобящая бездна. И казалось, ничего не скажешь о ней, не испытав этих губ, а они с каждым приездом набирали единственности и однажды сказали, что Феофаниха-то, оказывается, впадает в Енисей ровно на половине между деревней и А. и что «тебе, Кураев, какая хрен-разница, откуда на охоту заезжать?».
Разница была главная, что жить теперь пришлось в чужом доме, но Прокопич так горел любовью, и столько отваги было в Натальином ответе, что уронить отношения с дорогой высоты уже не мог.
Не было в А. той первозданной близости к земле и тайге, как в деревне, где жил он на берегу Енисея, как на краю студеного кратера. Даже кровать стояла у Енисейной стены, и голова его, покоясь у окна, и во сне оставалась открытой его излучению. В А. до Енисея приходилось добираться, и он пролегал отдельно и поодаль, не мешаясь в удобную, с водой и отоплением, жизнь. Но в том, как, приблизившись, озарял синим просветом, вычерпывая через глаза и забирая дыханье, как неусыпно переливался в расплаве вала, и сквозило, сколь условна всякая от него свобода.
Енисей здесь называли «берег», ездили до него на машинах, а лодки держали на платной стоянке. А-ская жизнь была слоистей, и народ рассыпался прихотливым спектром от прожженнейших бичуганов до самых сложных чудаков. Фон же создавали гонористые и искушенные мужики, каждый из которых считал себя лучшим рыбаком и охотником.
Наталья жила в отдельном доме с ванной, телефоном и тремя комнатами: гостиной, спальней и детской, где обитал Виталя, ровесник Андрея. Дедушка, начальник экспедиции, обожал внука и приезжал с другого конца поселка, солидно тарахтя вишневым «сурфом».
Прокопич был в ту пору и знаменит, и хорош, и обаятелен, и у некоторых, особенно у начальства, даже вызывал ощущение, что мог бы распорядиться собой достойней, чем «шарахаться по тайге и колотить соболей». И хотя никто не знал, чего именно «большего» он заслуживает, кроме разве главной роли в документальном сериале про Енисей, но его великолепие и заключалось в том, что он жил, беря свое и не зарясь на чужое. Пересуды же о «лучшей доле» оставались на совести окружающих, которые всегда стараются из зависти выдавить таких людей в некие корыстные дали, вместо того чтобы остальную жизнь дотянуть до их отметки.
Попав в новый переплет, Прокопич вжимался в него с самым естественным видом, и лицо его так умело выражало некую правду происходящего, что все сверялись с ним, как с зеркалом, и с удовольствием расчищали любое поле. Был у него какой-то тям к обстановке, всегда он оказывался наиболее находчивым, остроумным или решительным, а лицо могло сушиться самой можжевеловой улыбочкой или каменеть листвяжным косяком, даже когда душа трепетала, как сиг в ячее. Тяготило теперь лишь житье не в своем доме и отдаленность от Енисея, лежащего не прямо под окнами, а в неподъемных семистах метрах. Но Наталья перевешивала все, а остальное не заботило. Пушнины он добывал, сколько было надо, и в тяжкую минуту помогал Наталье в расчетах с коммерсантами.
После льда ездили в Острова. Все было залито водой на многие версты, и светлой ночью дальние выстрелы бухали так, будто совсем рядом отрубали что-то глухим и отрывистым топором, а ближние повисали настолько картинным эхом, что оставалось загадкой, в какие объемы ссыпается его пространное тело. И вся окрестность лежала не то пластом стекла, не то крышкой огромного рояля, по которой малейший звук, как льдинка, катился без остановки в любом направлении.
На второй день вдул северо-запад, заполоскал выцветшую палатку с жестяной трубой и так нажег лица, что, едва их касался жар печки, они набирались по края огненной тяжестью. Солнце, выйдя из облака, желто наливало потолок, и все внутри озарялось – стеганое одеяло, мягкий дырчатый хлеб, малосольный сиг, поротый со спины и горячайший утиный суп, на поверхности которого ходили, переливаясь, стаи золотых колец. Все было в этом жиру – и руки, и Натальины губы, и жаркое, как печь, лицо и ее слипающиеся глаза тоже были будто вымыты и смазаны этим жиром.
– Ну не возись ты так, Кураев! Прямо встряхнул меня всю! Я же объелась.
– А ты не спи, давай выпьем лучше!
– За что?
– За тебя.
– Ты подхалим. За меня пили.
– Тогда за наших супругов бывших, они хоть и редкостные болваны были, но вовремя чемоданы собрали. Будь здоров, Коля, будь здорова, Людочка! Спасибо тебе, хоть ты и стерва.
– Стерва, зато порядок любила.
– На столе да на полу.
– А тебе где надо?
– А мне надо в жизни. Давай приоткроем, я зажарился, как этот чирок.
– Тогда укрой меня. Любишь ты холодрыгу!
– Зато Енисей видать. Смотри, утки прут! Давай выпьем!
– За что?
– За порядок!
– За какой порядок?
– А за так-кой, ш-ш-шоб никакой вольницы!
– А свобода?
– А свобода, это когда любой маньяк… (ты почему такая вкусная?) или любая маньячка… (ты маньячка?)…
– Я маньячка… а ты уткой пахнешь…
– …может сказать, что важней его пупа нет ни хре-на.
– Оно и есть так.
– Не так!
– Так!
– Не так! Объяснить? Вот мы едем на лодке, да?
– Нет, не едем! Мы на острове сидим, и ты ко мне пристаешь!
– Говори, едем на лодке?
– Ладно, едем, только не души!
– А куда едем?
– В Острова.
– Правильно. В общем, прем в Острова, все по уму, а ты говоришь: «Поцелуй меня, дурак!»
– Не перебивай. Ты говоришь: «Дрель давай!»
– Я так не скажу.
– Ну давай скажешь! Короче: «Дрель давай!» – «Зачем?» – «А хочу дно продырявить в лодке. Моя личность требует, чтобы дыру пробуровить и скрозь нее в рыбьев глядеть. Как они икру мечут».
– Ну и что, ведь интересно же. Продырявлю, чуть посмотрим, и ты сразу чопик забьешь!
– «Чопик»! Ты откуда такие слова знаешь?
– Муж научил.
– А еще чему он тебя научил?
– Погоди, покажу. Давай выпьем! За что?
– А что главное в жизни?
– Икра!
– Щас!
– А что тогда?
– Курс главное! И никакой икры без курса!
– А курс кто знает?
– Мужик знает!
– А баба?
– А баба в дырочку смотрит. На рыбьев.
– И че?
– И молчит.
– Класс какой! Приехали, называется, на остров… Слушай, а ты так и скажешь мне: «Цыц, баба!»
– Иди сюда…
– Нет, стоять! Говори, Кураев! Скажешь мне: «Цыц, баба»? Почему у тебя борода в чешуе всегда?
– Цыц, баба! Я люблю тебя! Давай выпьем!
– Ты знаешь, вот мой муж… Он вроде и так себе мужичок был, а мне с ним как-то проще казалось. А с тобой… ведь знаю, ну… что ты лучше в сто раз, и ты не представляешь… насколько труднее от этого. Иди…
5
Всегда ничтожно маленькими кажутся цепки утиных табунов на фоне хребтов и разливов, но когда идет их пора, все, замерев, служит им, вернувшимся домой. И сам Енисей свой поход строит под этот пересвист, и так неподкупна их магнитная точность, выводящая острие ледохода к Океану, что во славу им стоят скалы, льды сияют по берегам и шумит ветер в голых крестах лиственниц.
Еще по морозному льду начинается ночной ножевой налет, когда с бешеным свистом падают с рыжего неба на окошко воды свиязя́[22] и черношеи, дресвяники и саксоны. И, оглядевшись, расцветают изломами снежных линий и бежевых разводов, рыжих и зеленых углов, желтых и красных щек и лиловых зеркалец. И ликуют души людей, переживших зиму, и от идущей с неба переклички навсегда повисает над Енисеем обнаженное сердце охотника, когда, сухо звякая трелями, слаженно, будто конница, заходит на посадку незримый табун острохвостов.
Прошел лед, а они все неслись дымными небесами – подвешенные к стремительным крыльям и по шеи залитые жиром тельца с туго уложенными кишочками и свежими завязями яиц под спинками. И хорошо было двум людям любить друг друга у подножия этих небес, мыслящих ветрами, лучами и облаками и любящих могучими перебросами крылатой плоти.
И снова был шелестящей бег по Енисею, взрытому валом, глухой дроботок волны по днищу лодки и поселок в частоколе труб и антенн. Был стол на просторной белой кухне, и Наталья с обожженным лицом поднимала хрустальный стопарик и чокалась с Прокопичем осторожно и нежно, глядя в глаза.
Было в ней какое-то одуряющее обаяние, высшая женская проба в каждом движении, стелила ли она постель, прикуривала от веточки или, включив в машине любимую музыку, подпевала с наигранным исступлением, в такт мотая головой и жмуря глаза, или вдруг, выпустив руль, делала сжатыми в кулачки руками ерзающее, будто в танце, движение. Любила все сильное, дорожное, речное. Любила ввернуть что-нибудь заправско-моторное и, управляясь с собаками, могла прикрикнуть, а могла долго смотреть, как щенок, откликаясь на голос, смешно наклоняет голову, будто сливая через ухо лишнее любопытство, или распекать: «Ах, вот ты какой хитрый, это ты из-за хлеба такой послушный!» – и гладить несильно, но точечно – чтоб тот млел. Когда кто-то лез на дорогу или не так ехал, могла очаровательно поругиваться, а могла, оперев локти в стол, держать лицо в ладонях и, глядя неузнаваемо раскосыми глазами на едящего Прокопича, сказать: «Ну что, хорошая я… тебе жена?»
Еду Витальке уносила на большой тарелке, с размашистой россыпью распластованного помидора и сырной корочкой тостов, а он, не поворачиваясь, копал вилкой, уставясь в компьютер и елозя лазерной мышью с багровым отсветом. Время от времени срывался и набрасывался на баскетбольный мяч, который в прыжке кидал в корзину, облепив сверху тренированной кистью. Зайдя на кухню за куском торта, разворачивался на пятке и, вдруг вместе с тарелкой подпрыгнув, уходил обратно за компьютер. При первой попытке ночевки Прокопича устроил такую истерику, что пришлось остановиться у товарища и вживаться по шагу и пристально.
6
«Без дикой любви тайга мертва, как мертвая капля смолы»[23], – пронзили однажды Прокопича стихи в журнале, и повторял он их много недель подряд, потому что только охотник и знает, как обострено чувство женского в тайге.
Видится оно во всем. В ногах собаки с резными жилками, в оттепели, привалившейся сыро и тягуче, как женщина, что отчаялась вернуть любимого окрепшую душу и все доказывает, будто подлежит возврату прошлое. И так настарается, что уже заморозит по-зимнему, а его парной очаг вдруг откроется в мшистом нутре ручья под ледяной оправой, да так живо, что голая смородина, стоящая рядом, тоже пыхнет тало и пахуче.
В запахе норки или горностая с его нашатырным удушьем, по краю всегда отдающим духами. В березе с жестяной листвой, что вдруг зашумит и обдаст извечным, уже и не таежным, и не деревенским, а просто жизненным, русским. В пихте, обвившей кедру, или в елке с раздвоенным стволом, страшно и понятно похожей на женский стан. В мокрой одежде, облепившей бедра, в валящем снеге и треске печки.
Всякий запах и звук подчеркивает нехватку второй половины, и ее доля того огромного и простого, испокон веков вмещавшего труд и усталость, еду и отдых, тепло и холод, так переполнит душу, что та вот-вот не выдержит – настолько непосильна двойная жизненная пайка.
Когда Прокопич возвращался к Наталье, тело ее казалось огромным и желанным домом, и он лежал с ней под одеялом, как под крышей. И не только сам, а все бескрайнее, что за ним стояло, оказывалось прилажено к этим губам, и как отмычка к жизни был оладышек языка, который она вкладывала в его уста.
Засыпала она постепенно и недвижно, как даль осенью, и он любил сползти головой, чтобы совпала скула со впадиной под ключицей и душе легко и прикладисто стало в ее покое.
Казалось, от счастья должен осоловеть человек, оглохнуть и ослепнуть, но у Прокопича второй нюх открылся, и все лучшее, что привлекал он для завоевания Натальи, вместо того чтобы отпасть, с ним и осталось. Погоня ушла из души, и перестало казаться, что вечно чего-то не успевает и потому виноват.
Стало читаться и думаться в просторной квартире, куда не долетала поступь Енисея и где слабело вечное на него равнение и думы, не передует ли дорогу, лодку не подмоет ли и не пропадет ли рыба в сетях, пока север гуляет.
Какая-то жалость к предметам, собакам появилась. Мог часами складывать дрова или, дотошно помешивая, варить в ведре над костром собакам, а потом смотреть, как они едят, следя и подправляя и находя в том тысячи оттенков. А потом менять сено в будках и наблюдать, как они смешно оживляются от его запаха и укладываются, отаптываясь и крутясь на месте.
Стал с Виталей разговаривать, об Андрее больше думать и звонить по три раза в неделю. И тут, словно в ответ, происходящее в прежней семье потребовало вмешательства: истерия Люды довела ее до больницы, и Прокопич забрал сына.
Андрей приезжал к ним и летом, но вопрос о его житье не стоял, поскольку большую часть времени они проводили с отцом в тайге, а главное, был он здесь в гостях. Но когда Наталья спросила Виталю, как он отнесется к тому, что с ними будет жить еще один мальчик, тот скривился не на шутку – так был приучен к приему заботы. И так требовал, чтоб готовностью утолить любое желание сочились даже стены комнаты, личные, как одежда.
Прокопич снял квартиру и зажил на два дома. Наталья приходила к ним, они к ней, все чего-то ждали, хотя все было сказано сразу:
– Ну да, такой вот он, избалованный, конечно, и мной, и дедушкой. Ты его таким и застал, ну что теперь делать? Ты же помнишь, что с ним было, когда ты первый раз остался. Он тогда едва от нашего развода с Николаем оправился. И вот он к тебе только начал привыкать, и тут Андрюша появляется. Ну что хочешь со мной делай – не могу я его ломать! Не мо-гу! А главное, вот ты уедешь в тайгу, а Андрюша-то на мне останется, а у него мать есть. Ее подлечат, не дай бог, ой, прости, Господи, и она начнет звонить или вдруг приедет. Что я буду делать?
Больше ничего и не могла добавить, делала все, чтобы не пошатнуть равновесия, и выходило, один Прокопич вечно недоволен. Что-то в ней изменилось, подоглохла, подослепла, как в начале материнства, и материнское ощущение, что если придется выбирать «между Виталей и любым мужиком, то выберет Виталю», так сквозило, что Прокопич, хоть слов этих и не слышал, но чувствовал всем существом.
Ждал он другого и знал, что ни в его семье, ни в семьях близких ему людей такого противопоставления быть не могло. Крепчайше сидела в нем память о военных временах, о житье в поселенческих бараках или в пору освоения новых просторов, когда сходились люди во имя общего будущего, брали женщин и соединяли их детей со своими, не видя разницы. И дело было ни в поступи эпохи и ни в жестокости условий, а во внутреннем ощущении жизненного замысла, невыполнимого поодиночке, в неписаных правилах обоюдного доверия и поддержки, которые не может пошатнуть никакое благополучие, если люди по правде хотят быть вместе.
Андрюха был в самом бестолковом и неприкаянном возрасте, долговязый, с огромными ступнями и голосом, который то брал грубо и басовито, то срывался и визжал вхолостую. Сдружился с ним Прокопич невероятно, и когда тот к нему приваливался, сжималось сердце, и он знал, что ради парня сделает все.
Учился Андрей хорошо, но кровного интереса к призванию не выказывал, и надо было следить и править его, тем более поступать и учиться дальше он собирался в городе. На городское жилье приходилось зарабатывать в тайге, и, чтобы он путем доучился и подготовился, пришлось отправить его в Красноярск к старому товарищу Прокопича с живописной фамилией Евланов. Тот работал на алюминиевом заводе и жил с семьей в двухкомнатой квартире. Андрей спал в одной кровати с Вовкой, евлановским сыном, и вместе с ним готовил еду и прибирал в доме, успевая учиться.
Прокопич снова жил с Натальей, но отношения изменились, и вся Натальина семья, и гладкое обустроенное житье – все будто лишилось запрета на раздражение.
Дедушка влип с лосями, которых его пилоты вместе с начальником милиции и главным охотинспектором лупили в дивном количестве и без лицензий, и Наталья с возмущением говорила о молодом следователе («сопляк, тоже»), который вызывал дедушку на допрос. Прокопич не только не поддержал ее, но и сказал все, что думает: «Еще понятно, когда браконьерничает безработный мужичонка, у которого семеро по лавкам, а у этих и так полон рот, и все мало».
Едва пришел под Новый год с охоты, прилетел из Норильска однокашник-охотовед, и так накатило старинным, товарищеским и незаслуженно забытым, что загуляли они крепче крепкого. Пили дома, шарились по гостям, и Наталья устала, а Прокопич не мог остановиться.
Стала вырываться наружу обида, да и вожжа под хвост попала, что не указ баба, раз с мужиками сидит в кои-то веки. Наталья, чтобы закруглить дело и вернуть Прокопича, избежав застолья дома, предложила пойти всем в кафе, и мужики настроились, а ей вдруг расхотелось, и Прокопич с охотоведом засели на несколько дней уже в другом месте.
Прокопич, если надо, мог быть и грубым, и жестоким, и вредным. И нашла коса на камень, он не звонил Наталье, Наталья не искала его и только выговаривалась подруге:
– А я не знаю, где он! Может, он у бабы! Откуда я знаю, что он у Сереги? Нет, так не будет! Что это такое: хочу – прихожу, хочу – нет? Это не гостиница!
Потом он приехал с Серегой за какой-то кассетой про росомаху, и был глупый разговор с Натальей, в которым каждый гнул свое и считал разное: Наталья – что раз он мужик, то должен первым и мириться, а он – что не ссорился, и если надо, в два счета нашелся бы у Сереги.
– Развожусь, Сережка, не женись никогда, – сказала Наталья, пока Прокопич рылся в кассетах. Ненакрашенное лицо ее было усталым и выцветшим.
Когда Прокопич пришел домой, там стояли его собранные вещи. Он отвез их товарищу, снял в банке деньги, забрал соболей и уехал в Красноярск. Там удачно сдал пушнину и купил однокомнатную квартиру на Взлетке, где и зажил на пару с Андрюхой.
7
Ложь начинается, когда нельзя говорить о том, что волнует, и трещина в доверии, как в скальной породе: стоит появиться – уже не сойдется, а обида и раздражение – вода да мороз, год за годом разопрут и в крошку развалят. И главное в этой лжи, чем больше люди любят друг друга, тем сильнее не могут простить, и круг замкнутый.
Прокопичу казалось, так неразрывно соединился он с этой милой и легкой женщиной, что, как жить, решали уже не они по отдельности, а их некое общее и теплое устройство. Оно было погружено в него на такие глубины, что, когда вдруг разделилось, сотрясение оказалось чудовищным и необратимым.
Он предлагал продать ее дом и построить большое, на всех, жилье, и Наталья соглашалась, но из-под палки и с доводом, что квартира дедушкина и она ею не распоряжается. Ее «я не знаю, что делать» звучало, как «оставьте меня в покое» и выливалось в очередное обсуждение границ, дальше которых она не может отступить, а он вторгнуться, будто враг или оккупант. Постоянное требование водораздела казалось таким несправедливым, что таскание туда-сюда всего этого забора было уже делом десятым. Из людских слабостей Прокопич не знал ничего хуже сытого деления на мое – не мое, так давившего его в Люде, и когда это душевное сальце почудилось и в Наталье, настала катастрофа.
Острее всего была обида за Андрея, в котором не захотела она увидеть Прокопича, почуяв только по-бабьи, через Люду. И что не на любовь опиралась, а на правильное, но низовое соображение, на какое-то «вдруг приедет Люда» и устроит сучье разбирательство.
И как на два дома располовинило Прокопича, так и Наталья на две части разделилась: женской, сладкой осталась, а главной, человечьей, ушла, и худо было Прокопичу в его двух домах с этой опустевшей женщиной. И чем дальше уходила она человечьей половиной, тем жарче, отчаянней и молчаливей жгла женской. Никогда так не понимал он ее нежность и не была она такой кровной, именно́й и раз выпавшей. И худо было одному в тайге и не хотелось жить. И пронзительно-близкой, вернувшейся казалась она, снясь в избушке, словно знала, что действие ее кончается и из морозной дали видится жизнь в остывшей и окончательной расстановке.
После прежней радости само течение времени стало невыносимым. Хуже всего было при Андрюхе в поселке, где Прокопич хоть и старался быть веселым и жизнелюбивым, но забывался, и сын заставал его на выражении сохлой прищуренности, с каким сидят возле сварки или еще чего-то испепеляющего.
Когда отправил Андрюху и спал изнурительный разлив на два жилья, то как бы ласково ни ждала его Наталья на устье, текли они дальше, уже не смешиваясь. Но так доверчиво струилась она рядом, так ровно дышала и так о чем-то подрагивала на его груди ее раскрытая кисть, что обида Прокопича уже к ней не прибивалась и была только его заботой.
Хоть и не охота бывало маячить на виду со своей бедой, а к людям все равно тянуло, и уж раз зашел, то надо поддержать разговор, поинтересоваться, а на месте души одна рана, да в таких заскорузлых бинтах, что любое слово – лишняя боль и шевеление.
И хуже всего, что в беде человек и добрее должен стать, и к чужому чутче, а Прокопича, наоборот, так объяло болью, что сам валился и других рушил. Соседский парнишка хочет с ним на мотоцикле прокатиться, деду-соседу охота на лавочке посидеть-поговорить, и оба раздражают, и он рычит: отойдите, мол, не трогайте, не до вас – потом.
Кобель ласки просит, рвется на цепи, в глаза заглядывает и скулит, а человек отмахивается: не трави, брат, душу, ведь рвешь ее, напоминаешь, как гладил тебя, в силе будучи, как бы сейчас приласкал, если б до тебя было. И собака, видя, что мимо порыв, возвращается к будке, промахнувшись, и глядит опустело и спокойно. И вовек не простить, что тебе худо, а собака виновата, и что припас тепла для счастливых времен бережешь. Дескать, когда в радости буду, тогда полюблю и пойму, а сейчас грех к живому прикасаться и только делу порча. И такой липой от этого благородства обдаст, что стыдом охлестнет, потому что хоть и обесцвечивает человека беда, но зато себя насквозь видать.
Глава третья
1
Серого Прокопичу принесли незадолго до его неожиданного и все перевернувшего отъезда. Ждал он его несколько лет, заказав у хозяина знаменитого зверового кобеля. Сбитый, крутомордый, с крепкими ушами и толстыми, тут же затопотавшими лапами, оказался он тогда как нельзя нужным и таким отличным, какими бывают только щенки лаек. Спросонья был особенно теплым, тянулся, горбом выгибая спину, и зевал, выпрастывая язык дрожащей ложечкой, оживал, вилял всем телом и гулко покряхтывал, поскрипывал какими-то ворчливыми глубинами. Оставил Прокопич Серого вместе со всеми надеждами об их таежном будущем и отправил Володьке, но у того хватало собак, и кобель так и оказался без дела и хозяина. Одну осень брал его Володькин сосед, но упущенный Серый требовал труда и внимания, а тот отступил, и с тех пор собака сидела на цепи.
Эта загубленная собачья судьба все и решила – Прокопич взял на охоту Серого.
Бывает, пожилой человек набирает охапку дров, и два полена не помещаются, валятся, а оставлять неохота, и вот старается, прилаживает, а потом встает с колена, опираясь на поленницу, и тащит. Рука отнимается, да еще спина с одышкой добавляют, но когда совсем невмоготу, то второй, свежей, рукой обнимет беремя сверху, подхватит и сразу первой руке подмога, и передых от нее по всему телу расходится. Да и по тайге любой знает, как в работе отдыхать, и когда лямка в плечо чересчур зарезалась, большой палец подсунет, на кисть примет – и вроде груз тот, а телу легче.
И когда пошла у Прокопича работа – рыба, птица, ловушки, – перелегло в душе от изболевших мест на новые и полегчало. Без надлома вернулось все, что казалось отвыкшим, и снова Прокопич придумывал зазор, а его и не было ни меж ногами и лыжами, ни меж топорищем и руками, словно те только подправляло и они оживали раньше хозяина.
Серого кидало, как без рулей, и он то лаял на бурундука, то гонял зайцев, и горько было смотреть на этого сильного и крупного кобеля, столько упустившего в своей жизни. Но Прокопич старался, да и кобель оказался не безнадежным и, наткнувшись случаем на соболюшку, хорошо залаял, и надо было теперь закрепить дело.
На особо зверовые способности Прокопич уже не надеялся, что и подтвердилось, когда Серый взлаял во тьму с подвывом, но далеко не убегал, возвращался, носился рядом с хозяином со вставшей холкой и, заходясь дрожью, длился в диагональ с задней лапой, пружинисто оттянутой и взрывающей снег. Наутро Прокопич набрел на след медведя, отвернувшего задолго до избушки. Судя по целенаправленности, с какой он поднимался в хребет, зверь шел ложиться. Прокопич представил, как заводил-закачал он мордой и отвернул, почуяв человека, и как уходил, слыша лай, и было что-то непостижимое в том, что шарашится он по тайге, как по дому, не ища ни угла, ни подруги, и, большую часть жизни проводя в одиночестве, считает это в порядке вещей.
Пора было настораживать, но навалилась оттепель, перейдя в страшенный снег, и Прокопич сходив по путику, не встретил ни следа, не говоря о белке или глухаре. Крупный сырой снег валил пятнистой завесой, облеплял стволы и хвою, и чем глуше становилась ватная обивка и чаще вздрагивали, сбрасывая груз, ветки, тем сильнее хотелось мороза. Казалось, проще перенестись за тридевять земель, чем дождаться, когда в небе передернет огромный затвор и с ночи так хлестанет стужей, что сотрясенная округа осыпется хрустальной крошкой и откроет точеную даль тайги.
Ближе к вечеру сменился ветер, и под краем клубящейся тучи стал открываться темный бок хребта в тальке кухты. Прокопич занимался с дровами и снова глянул на небо, только когда нежно запылал под ногами снег и засветились рыжие поленья. Синева уже отстоялась, и в ней медленно всплывала облачная рябь, напоминая не то перо тундряной птицы, не то елочку мышц самой серебряной рыбины. Солнце садилось, охлаждаясь и застывая, и на фоне его бледно-синего следа гравюрно тонкими казались силуэты лиственниц, голых, чуть припорошенных и недвижных. Гнутый и протяжный излет ветвей придавал такую манящую силу небу, что все виденное в тайге за долгую жизнь расплеталось в душе на струистые реки.
В Сибири, по какому притоку ни едешь, тысячью километров восточней, западней ли, всегда кажется, что это только край самого главного, и черты, которые так привораживают, лишь за горизонтом достигают своей полноты. И поэтому так манит все неуловимое, вроде сладкого дыма листвяжных дров или той невиданной чахлости, которая сразу отличает тайгу от любого другого леса.
Особенно остра она весенними белыми ночами, когда елки с призрачными слоями веточек вытянуты в такую напряженную струнку, что от недвижности рябит в глазах, и на их илистом подножии с той же нежной оцепенелостью стоят, не касаясь земли, стрелки черемши, и салатовые веретена чемерицы, кажется, спустились с небес на тонких и потусторонних струнах.
И кроны кедрача или лиственничника хоть и будоражат расхристанностью вздетых ветвей, но даже в их свирепом разнобое есть свой кристаллический порядок и глубочайшая сосредоточенность на внутреннем замысле. И когда в прозрачным заборе ельника брезжит горная даль, то верится: если нельзя слиться с нею преследованием, то можно размыть, разъесть ее отступающее стекло трудовым потом. И в рукопашной схватке с работой, замесив в одно соленое тесто снег, опилки, кровь, рыбью слизь, бревна и солярный выхлоп, надеяться, что заметит небо твой грубый хлеб и в один великий вечер так одарит закатом, что не останется сомнения – признало.
Так виделось в юности, пока глаз не приспел и не убавил распашку, а допроявлялось уже позже и урывками в пору трудовой мужицкой зрелости, когда и товарищество, и соревнование перемешано воедино, и люди, много делающие, становятся все более раздражительными на безделье и прочее ротозейство.
Да и казалось, слишком бывалый он для восхищения, и порой сам красоту затирал, стесняясь, как новичок нового приклада или свежего топорища. Так ко дню жизни набрала она сок, да притухла, отошла, как рыбина, от берегов, чтобы к ночи вернуться.
2
Нет ничего трудней начала, будь то охота, рыбалка или какая другая добыча, и чем дольше не сдвигается дело, тем больше изводит закупорка. И начинает казаться, что никогда не попадется свежий след и не раскатится вдали лай, слитый эхом в один протяжный и бесконечный окрик.
Горбатую гору с курумником на вершине скрывал берег, с других точек ее тоже что-то загораживало, и по-настоящему открывалась она почти с ее же высоты, а если идти по лесу, приближение оказывалось тоже слепым, настолько зарос крепкой и высокой тайгой ее бесконечный склон. Каменистая вершина уже белела от снега, и ее опоясывали худосочные пихты, абсолютно вертикальные, игольно голые и лишь на концах оперенные густыми ершиками хвои.
Ночью Прокопич несколько раз выходил на улицу и глядел на подошедшие звезды, которых после оттепели всегда будто больше. Завязывался морозец, и он щупал снег, и, густо дыша, повторял крепчавшие пробы пара.
Проснулся он рано, растопил печку и дождался рассвета уже готовый к выходу. Больше всего на свете хотелось, чтобы Серый нашел соболя, но Прокопич так отяжелел за последние годы, что не знал, справится ли сердце с ходьбой, если это произойдет далеко.
Дорога в гору нуждалась в первейшей насторожке, потому что была на той стороне реки, и уже шла шуга. Вода текла по камням плавным пластом, и вся поверхность невообразимо шевелилась звездчатыми комьями шуги и тонкими льдинками. Каждый ком ходил по кругу, переворачивался и, задев за камень, выпрастывал серебряное стеклышко, в котором вспыхивало солнце. Комья были глубоко синими, но синеву то и дело, волнуясь, высасывала река, и обезвоженные иглы пульсировали жидким оловом.
Пересекая реку, ветка участвовала в двойном движении: с мягким шорохом резала шугу, и одновременно ее вместе с расступающимся месивом волокло вниз, и под борт головокружительно неслась янтарная рябь каменного дна.
Едва Прокопич вытащил ветку и оглядел вполглаза голубую кожу реки с темно-синими ежами, как Серый спугнул табун косачей и принялся гонять их с дурацким лаем, гордо взглядывая на взбешенного хозяина. Уже на дороге он побежал по старому соболиному следу и поднял глухаря, которого Прокопич добыл и, радуясь почину, повесил на елку. Потом долго не было свежих следов, и Серый дважды вернулся, когда хозяин слишком долго возился с кулемками. Прокопич знал, что чем больше думать о следе и о лае Серого, тем дольше не будет ни того, ни другого.
Он прошел больше половины дороги и решил попить чаю. И конечно же, едва закипела вода в котелке и Прокопич всыпал туда шершаво осевшую горсть заварки и продырявил топором банку сгущенки, откуда-то издали и сверху залаял Серый.
По-настоящему Прокопич вздохнул, когда увидел сахарно-свежий соболиный след с размашистым конвоем собачьих лап. Некоторое время он смотрел на след соболя. Было столько великолепия в стремительном прочерке меж парами следов, в самой этой парности и в косой растяжке каждой пары, сохраняющей на всем протяжении летучую синхронность. На донце следа различались отпечатки подушечек, а весь овал обрамляла мягкая корочка и края были в нежнейших щербинках.
Когда собака лает в горе, чем ближе подходишь, тем хуже ее слышно, а под навесом вершины попадаешь и вовсе в мертвую зону. Чем выше пробирался Прокопич через ковер пихтового стланика, присыпанного снегом, тем больше поддавался новому волнению: если Серый орет на самом верху, значит, соболь ушел в курумник и его не взять.
Показался среди лилового частокола стволов просвет вершины, и Прокопич остановился, переводя дух и выглядывая Серого. Тот ходил взад-вперед, задрав морду. Соболь сидел на пихте у самого края леса. Дальше бугрилось присыпанное снегом полотно курумника.
От волнения Прокопич несколько раз смазал, но добыл зверька и дал вволю потрепать Серому и через полчаса грел у костра невыпитый чай, расслабленно прислоняясь к кедрине. Сердце билось ровно и счастливо. В ушах стоял ликующий лай Серого, а перед глазами достывало все то огромное и постепенное, что он видел с вершины, куда не поленился подняться, несмотря на камни под шершавыми снежными шапками.
Такого прилива сил, как во время подъема, Прокопич не испытывал давно. Легкость, с которой он поднимался, усиливалась, словно слабело притяжение тоски, и боль разрежалась и оседала на каждым слое тайги, как на гребенке.
Весь оковалок простора до поворота реки, ближайшей горы и облака заполнял податливый синий воздух, и глазу лежалось привольно на огромных пролетах, где, чуть поведя зрачком, можно было ошагать целый пласт расстояния. Потому и гляделось без прищура, и дышалось вразмах. И чем больше было плечо взгляда, тем сильнее утечка душевного напряжения.
Даль начиналась под ногами и уходила постепенно и осязаемо, и в десяти верстах состоя из того же заснеженного камня. Безлесные верхи были отертыми и гранеными, таежные склоны – шероховатыми, а оплывшие ноги с белыми складками ручьев – литыми, как стылая лава. Волнистое покрывало так нарастало и копило такую тяжесть, что, казалось, продолжает доливаться и опадать. И его великая успокоенность рождалась именно из-за того, что, будучи одушевленным, оно не могло не быть зрячим, но зрение его было направлено в самую молчаливую и бескрайнюю глубь.
Стойкая минута эта не требовала ни прошлого, ни будущего, и когда пути ее и человека неумолимо разошлись, Прокопич, не отдавая себе отчета, пора или нет, повернулся и пошел вниз, лишь у границы леса еще раз обернувшись. Ослепительно-белая вершина стояла, опоясанная пихтами, и их черные верхушки горели с тропической четкостью.
Что-то в природе сорвалось, не дозрев до настоящей зимы. Посерело небо, протяжно загудел юго-запад. Подступал вечер, и, насторожив еще несколько капканов, Прокопич повернул к дому и, пройдя с километр, услышал далекий лай Серого, доносившийся с того же места, откуда он недавно спустился.
День был настолько емким и законченно-прекрасным, что возврат казался уже лишним, несмотря на всю радость за успехи Серого. Насколько устал, Прокопич понял, только когда пошел вверх, ступая по старым следам и срывая перемычки между ними с конским понурым усердием. Из-за ветра стал теплеть и тяжелеть воздух, но он все шел, время от времени останавливаясь и прислушиваясь к лаю и даже тайно надеясь, вдруг Серый ошибся и попадется навстречу. Серый лаял уверенно и со знанием дела. Лай затихал по мере приближения горы, и слышался только шум ветра.
Тяжко давалась высота, не будучи в охотку. Пихтовые ветки шуршали по голяшкам бродней, снег и мох проминались под ногой, и железные лбы камней казались тем тверже, чем мягче подавалась подстилка. И с каким бы запасом Прокопич ни заносил ногу, она осаживалась, теряя половину высоты, а запоздалый упор сбивал с шага. Склон становился круче, но ступалось прямо, и верно ходил сустав, хотя в коленях давно кончилась смазка. Сухожилия горели и держались за кости, как корешки пихты за камень, и ноги продолжали в бесчисленный раз распрямляться меж тяжестью тела и базальтовом прессом горы.
Наконец Прокопич дошел до верха. Серый стоял на краю леса и лаял в камни. Ветер свистел в пихтах, и внизу гудела и ходила посеревшая тайга. Прокопич взял Серого на веревку и, успокаивая, оттащил от камней и повел обратно, катясь вниз неловким и расхлябанным ядром. Совсем степлило, отсырел снег, мох срывался рыхлым скальпом, и камни сидели безалаберно непрочно и выворачивались, ударяясь с трезвым и холодным звуком. Мешался Серый, то попадая под ноги, то натягивая веревку. На дороге Прокопич отпустил кобеля, и он, словно зарядившись от нее домашним настроем, побежал вперед.
Бродни сыро валились в грубую смесь давленой черники и снега, и вспоминалась варка варенья и засыпанная сахаром ягода. Хотелось чаю, морсу, киселя. Прибавились оставленные лыжи, которые теперь пришлось тащить под мышкой. Едва кончился разгон склона, мокрого Прокопича накрепко осадило усталостью, прижимая сквозь подстилку к каменному дну, и он тонул. Тело было ватным, и в его мягких полостях пересыпались кульки с дробью, а главный узел бессилия сидел в сладком очажке под ложечкой.
Смеркалось, и хотя дорога была знакома до каждой кедрины, оставшийся кусок дотошно множился подробностями. Спустя годы они воскресали с пожизненной силой. Казалось, вот сейчас будет капкан рядом с выворотнем, за ним ручей, а там еще десяток ловушек и берег, но тут вырастал упущенный памятью поворот с длинной затеской, и она напирала с плотской точностью. Мокрая от пота одежда обводила хватким контуром, словно кто-то лепил его из холодной глины. В ходьбе она то отлипала, то прилипала, и где-то подогревалась от тела, а где-то набиралась уличной стылости.
Когда не оставалось сил, Прокопич стелил лыжи и ложился на них пластом, и не было большей тяжести, чем тяжесть усталого стынущего тела, и не было ничего спасительней.
Рухался на спину и лежал головой к дому, и вес этого отдыха был несопоставим с теми короткими отрезками дороги, на которые он набирался сил во время своих лежанок. Они проносились молниеносно: похоже пролетают расстояния, когда кончается бензин и нарастание скорости накрепко связано с исчезанием его остатка.
Страшно хотелось пить, и Прокопич ел снег, топя под языком и катая по рту. Вернулся Серый, лизнул, сунулся мордой в лицо, шею и собрался бежать, но Прокопич приобнял и задержал его. Серый сидел напряженный, напружиненный, а Прокопич лежал, прижавшись к его боку. Бок был твердым и пах псиной, мокрым снегом и хвоей. Когда Серый внюхивался в ветер или лизался, бок вздрагивал.
Кобель возвышался над Прокопичем, а он лежал у его лап и думал о том, что ничего не знает об этом огромном существе и о том, сколько лет просидел он на цепи и сколько пихтовых веток не доскользили по его бокам, сколько верст снега, моха и камней, не добежали под его ногами. Ноги Серого уходили высоко вверх, как пихты, и по ним передавался гул его сильного тела, и оно казалось Прокопичу полным чего-то главного, чего не было в нем самом.
Такое же чувство испытал он давным-давно, когда привез жену после родов домой. Ночью Андрюша спал в кроватке, а она лежала рядом, и лицо ее с закрытыми глазами излучало такую красоту, что свечение это искупало весь ее нелепый характер. Налитые молоком груди были нежно оплетены набухшими жилами и тоже светились в темноте, и все пространство было напитано сырым вздрогом обновленной плоти, ушито молочной вязью ее дыхания, и Прокопич парил в этом молоке, и оно вымачивало его просоленную душу, облегало и мыло сердце и заполняло все пустоты. Покой был стойким и густым только в пределах дома, и стоило выйти за порог, сворачивался, слоился на тоску и звал обратно, туда, где каждый час совершалось неповторимое.
Там еще вовсю дымилось и рубцевалось пространство, но слишком неравными были разъятые глубины, поэтому, когда недостаток жизни в одной становился таким же вопиющим, как переизбыток в другой, в Андрюшке что-то срабатывало, и он, как усохшая деревина, разражался истошным скрипом. Люда, не просыпаясь, срывалась с кровати и вкладывала в его сведенный рот вспухший бутон соска, и он в несколько судорожных хватков прилаживался и затихал так пронзительно, что, казалось, даже время в эти минуты бьется глотками.
Серый снова завозился, что-то выкусывая в боку, и переступил лапами возле глаз Прокопича, которые еще хранили отпечаток огромной многокилометровой дали и теперь будто соединяли белую вершину горы с подножием собачьих лап. Ноги Серого тянулись вверх, и, повторяя их мачтовый натяг, длились еще выше листвени и кедры и мялись под ветром шумно и истово. И казалось, что люди – как деревья, и если листвень смолевая и тяжелая, как камень, то никто не требует от нее кедровой легкости. И когда выбирают осину на ветку или кедрину на матицу, то сначала ищут прямую, без бугров и несбежистую, а потом уже валят. А если кто загубил лесину зазря, то сам и виноват, потому что она могла на другое погодиться или просто расти.
Если бы Прокопич не видел, с какой силой Андрюха жамкает деснами Людины соски, то никогда бы не узнал, почему они стали такими огрубевшими и измятыми. И почему эта веревочная измятость и перевязывает всех троих самой крепкой привязью, которую дети чувствуют гораздо лучше своих отцов и матерей и в которую никто и никогда не вмешается, потому что рассчитана человеческая совесть лишь на разовое родство. И потому грудь любой другой матери, пусть и самой прекрасной и ласковой женщины, покажется такой непривычной и свято-чужой, и женщина эта останется навсегда при своей молочной дали, дороже которой для нее не будет ничего.
И когда зверь бродит в одиночку, сизый от лунного света, есть в этом что-то и рвущее душу, и величественное, и лишь человек жалок в своем бездомье, и нет ничего важнее дома. Но для мужчины жизнь – нарастание главного, и ширится он постепенно, а женщина чуть не с истока главным разрешается, а потом всю жизнь дотихает им, поэтому и живут оба в разные стороны, и нет ничего труднее дома.
Есть великие излучения природы, и женщина их часть. И чтобы детей вывести, ей даже от самой себя заслон нужен, и не товарищ она там, где суждено бродить тебе, как зверю, в извечном одиночестве. Есть две тайны в жизни – глубь женщины и даль пространства, и как ни тщись, не пересечь их за горизонтом.
3
Все это думал Прокопич, уже лежа на нарах в избушке. Перед этим была темнота и белый знакомый берег, и гулкая ветка, и медленность каждого движения, в которое он влипал, и оно отпускало не сразу, а продолжало держать и взвешивать, словно в раздумье, допускать ли к следующему шагу.
В черно-белом бесцветье все было мягче, чем утром, и резак носа легко рассекал частую и высокую рябь с остатками шуги, и вода шелестела легко и безлично. И каждое новое действие, например попытка поправить веслом упавшую за борт веревку, становилось таким серьезным препятствием, будто совершалось впервые. При этом все время казалось, что он выясняет какие-то застарелые отношения с пространством и предметами, и не было ничего родней этого чувства. И если у других ощущений были какие-то отличия, оттенки, то это оставалось единственным безошибочно узнаваемым и так вмещало остальную жизнь, что казалось, память разжижило, и все, жившее в ней по отдельности, парило теперь в ее расплаве свободно и ровно.
Уже протопилась печка, просохла одежда на вешала́х и чайник опустел по второму кругу, когда Прокопич вышел покормить Серого, и тот отяжелело отошел от таза с кормом и залез в кутух, завешенный мешковиной. Ветер уже улегся, и успокоенно проглядывала белая звездочка в усталом и мутном небе, и луна освещала темные листвени и кедры вокруг избушки. И по знакомой и доверчивой худосочности, по расслабленной обтрепанности и мятости, по какому-то особенно простоволосому виду леса после сильного ветра, сбившего кухту и оборвавшего ветки, видно было, что тревожиться Прокопичу больше не о чем и приняла его тайга так, что ближе и не бывает. Но покой не наставал, и как из темного нагромождения сопок выплывала одна с игольчато-стройным пихтачом и алмазной вершиной, так на месте прежнего вопроса вставал новый, еще более важный: а готова ли душа Прокопича принять извечную красоту тайги так же полностью и безоглядно?
Утро он встретил бодрым и выспавшимся, восход солнца проведя в хозяйственных заботах. Когда колол крепко завитую чурку, короткое эхо, отдаваясь о стену избушки, сливалось с отрывистым ударом колуна, и сухие поленья отлетали с поющим звуком.
Когда спело последнее полено, Прокопич поднял голову и увидел верхушки лиственниц, гравюрно прорезавшие серебряные облака. Отсвет неба лежал на алюминиевой канистре, на снегу, и даже на лабазке под навесом ярко серебрился подсоленный сижок и блестела затертая обойма от карабина. Прокопич стал думать о словах и о том, что «обойма» происходит от глагола «обнимать», и вспомнил, как первый раз улыбнулась ему Наталья, а он спросил:
– Как тебя зовут?
И прозвенела в этом гулком и протяжном «зовут» такая вечная разлука, такая надежда на слияние человека с человеком и такая близость к женщине, что хоть и давно оглохла даль от ее имени, а потребность звать осталась на всю жизнь.
Так он и звал ее этим утром, звал сквозь обиду, сквозь Люду, сквозь Андрюху и Зинаиду Тимофеевну, и так сильно и искренне звал, что почудилось, в небесном просвете медленно обернулась Наталья и махнула крылом облака, а Прокопич встал в снег на колени и помолился, чтобы серебряно и легко отлила от души ее уходящая нежность…
* * *
Небо сквозило все серебряней в ячее ветвей, и каждая листвень стояла прямо и ровно, а одна, с двойной вершиной, держала на отлете кедровку. И все было на месте в то утро, и каждый был занят своим делом. Небо, где перегоняли отставшее облако к сизой и перистой стае, и собака, и пожилой человек, приехавший попросить прощения за неловко прожитую жизнь. И придумавший разлуку, которой не было, и теперь очень удивленный и все будто ощупывающий душу и не верящий произошедшему. И опасающийся, что заскорузла она, переродилась сальцем и остыла к вечному сиянию природы.
К вечеру Серый облаял соболя, и Прокопич, добыв его, не удержался и поднялся на хребет, откуда долго глядел на белую гору, сначала освещенную солнцем, а потом погасшую и ставшую еще четче.
День был ясным и длинным, но каким далеким ни казалось бы его начало, Прокопич знал, что навсегда душа в том серебряном утре и не будет вовек ей остуды.
Полет совы
Глава первая
Вот и начал из меня понемногу вытекать город. Правда, разговора с природой еще не случилось, и моя мечта прокатиться на долбленой лодке по озеру остается мечтой. Так же как и потребность залечь с любимыми книгами, без которых скоро спячу. Хотя хуже всего, что как раз не спячу и что состояние это может длиться вечно. Что жить ожиданием становится привычкой и словно доказывает, что можно обойтись без дорогого. Потому и беспокоюсь: главное следует делать, не откладывая – пока молодой и можешь свернуть горы.
Хотя к горам еще надо пробиться. В городе меня доконали пробки и машина, вещи вроде бы подсобные, но так лезущие в жизнь, словно метят в заглавие. Ползимы простояли морозы, и каждый раз утром на заводке в моторе что-то брякало. То ли цепь растянулась, то ли ослаб какой-нибудь натяжитель или успокоитель. Словечки, конечно, расчудесные, но лучше, чем всякие «иммобилайзеры». Так вот… Оказалось, что на сто пятидесятой тысяче надо менять цепь. На работе шли неимоверные проверки из образовательного надзора, да на выходные предстояло ехать в Минусинск, в музей Мартьянова. В автосервисе на меня посмотрели хищно и сказали, что надо «разбирать лобовину». Через полтора часа требовалось встретить на вокзале директора школы из Канска… И все это каждый день. В таком духе длилось до весны, и я понял, что если так пойдет, то мне самому понадобится разбирать лобовину и менять успокоитель. А может, и натяжитель. Пусть успокоит нервы либо натянет так, чтоб не брякали. А потом ушел мой любимый директор, Иннокентий Александрович, сказав: «Извините, ребята, вы как хотите, а я участвовать в убое образования не собираюсь. Да и преподавать постоянное осуждение эпохи, страны, людей, по писателю Солженицыну, не намерен…».
Я думал, что меня хоть здесь отпустит. Не в смысле, что беды России отойдут, а что я сам успокоюсь и окрепну. Когда случается что-то возмутительно-несправедливое, со мной происходит следующее: внутри моей головы, с обратной стороны… лобовины… с внутренней… ну, как объяснить-то? Короче, у меня будто есть некая внутренняя крышка лба. И, когда я волнуюсь, эта крышка начинает отделяться, отслаиваться, появляется двойное чувство черепа, будто там две пластины и меж них проливается горячая жидкость и постепенно опоясывает всю голову. Проливается, жжет и врезается в мозг, как петля из троса… Это происходит, когда я слышу некоторые слова, например, «успешность» и «толерантность».
Всех почему-то интересует, кто именно разрушает Россию. А по мне, как их ни назови, главное, как ты можешь противостоять. Времени-то нет на расследование. Да и расследовать особо нечего: есть черти внешние, есть внутренние. А есть некий мировой сквознячок, куда они нас тянут, хотя безбожники и Иоанна Богослова не читали.
Уже прошло три недели, а я только сел за стол, чтоб хоть что-то записать. И все жду, когда наконец настанет то, ради чего я сюда приехал: покой, тишина, разговор с тайгой. Картина чудная, долгожданная, но настолько измученная ожиданием, что я уже не за себя, а за нее переживаю, что перекосится, заветрится, пересохнет без подтверждения и, не дай бог, сорвется с гвоздика…
Но все равно… Представляю берег, идущий в какой-то счастливой растерянности снег, и я бреду с ружьем по обледенелому галечнику. Потом поднимаюсь на гору сквозь тальники и чернолесье и вижу среди густых, высоких и остроконечных пихт озеро. И я плыву по озеру на ветке, долбленой лодке, по черной предзимней воде, и медленно-медленно падает снег, огромные, как созвездия, плоские снежинки… Они встречаются со своими отражениями и сами в себя проваливаются, сходят на нет, самопоглощаются, и множатся, множатся вокруг тысячами соединений-исчезновений.
Время до первого сентября прошло в хозяйственных заботах. Домишко, который мне выделили, неплохой, но пришлось не только повозиться с печкой, но еще и баню подделать – не знаю, как тут мылись, не говоря о парилке. Откопал яму и, когда таскал глину, так вдруг захотелось читать, что едва закончил умазывать печку, даже не отмыл дочиста руки: глина так и осталась на верхней стороне кистей, в основаниях ногтей. В тепле кисть начало стягивать с такой бережной и спокойной силой, что показалось – трудовая и древняя наша земля пожала мне крепчающую руку.
С лодкой, слава богу, решилось, сосед дал «напрокат» старую «обушку», я поставил мотор и вовсю борозжу Енисей. Воровства здесь вроде нет. Бачки и ключи оставляют в лодках.
У меня все старшие плюс классное руководство – седьмой класс. Здешние дети сильно отличаются от городских. Скромней ли, замкнутей… и одновременно беззащитней. Особенно девчонки. Седьмой класс самый трудный – они уже вполне большие, чтоб не бояться учителя, и еще недостаточно мудры, чтоб относиться к нему как к человеку.
В городе нет такой границы между школой и остальной жизнью. А в деревне школа – отдельный мир. Представьте осень, дожди. Дрызг невозможный. Грязища, взрезанная, вспоротая гусеницами, жирно из-под них прущая… Кофейная, шоколадная каша, по которой хлещет дождь, и она оплывает водой, блестит как лакированная. Трактор прет на санях продукты с пароходишки, что еле ткнулся в берег: сумасшедший ветер дерет реку огромным зазубренным рубанком, так что суденышко едва не выбрасывает на камни. Накат коричневый. Чуть поодаль длинно ползет извилистая полоса пены. Капитан на взводе, глава села в плащ-накидке недоволен с недосыпу: всю ночь принимал солярку. То кричал, бегал, а теперь замер в оцепенении, под плащом подперев локтем бок и образовав нечто угловато-нелепое. Хозяйка груза носится с размокшими фактурами: «Двух ящиков не хватат! А это вообщэ не мое. Где же “Бристоль”-то эта?»
Поодаль на берегу деревянная лодка на плавничных бревешках-покатах, возле нее бородатый мужик приваливает камнями узлы брезента, которым накрыт груз. Он охотник и должен был уехать в тайгу, но отложил заезд: в такой вал от берега не оттолкнуться.
Грузчики, молодые ребята, разгружают картонные коробки с консервами. Мокрые от дождя, те рвутся с углов. На камни валятся банки с тушенкой и сгущенкой, белея донцами. Наклейки отлепляются поясками. От ударов о камни банки мнутся бессильно, мягко, беззвучно, базальт как-то запросто глотает-гасит звук. Камни холодные, меж них торчит арматурина, которую весной намертво всадило-заклинило льдом. Грузчики берутся за муку, мгновенно белеют. Один недотепа роняет мешок как раз на арматурину. Долговязый парнишка с чуть ассиметричным лицом рявкает: «Ково тянешь, ворона! Вверх подымай! Насадил дак…»
Наконец сани загружены, загромождены шатким и тяжким штабелем. Трактор дергает по мокрым камням, вздирая, высекая сухо-серую крошку. Сани вздрагивают, проскребают по булыганам, прихватив гальку и катя ее между полозом и камнем. Добираются до грязи и, встав в нежные ложа, облегченно скользят, оставляя масляные желоба. Трактор бежит проворно по коричневым жилам и, заезжая в лужу, гонит перед собой коричневую волну.
Ребята стаскают коробки в склад, придут домой, сбросят в сенях угвазданную одежду, сапоги и верхонки под материн крик: «Ку-у-уда страхоту эту? В баню! В баню все!» Вступят в домашнюю жизнь. Тепло печки, беленые стены, половики-дорожки. Уют, который заслужить надо. Как передых.
И тут вдруг длинное беленое здание с большими кабинетами и дневным светом. И жизнь в нем совсем другая, можно назвать ее несправедливо чистой и тепличной, но я вас уверяю – она очень настоящая. И она – эта жизнь, полностью отличается, от всего, что вокруг. Ведь как бывает? Собирались на покос метать копны, а дождь посыпал и все сорвалось. Или по сети с батей дернулись, но вал пошел и никуда не поехали.
В школе такое невозможно. Здесь, если урок в полдевятого, то ветер хоть изревись, урок в полдевятого. И хоть дождь исхлещись, извались снег, но так же горит дневной свет, так же готовится завтрак, пахнет молоком чуточку подгоревшим и так же идет дежурная учительница с ручным колокольчиком и звонит на всю школу.
Школьников здесь домашние называют учениками. Зашел к одному мужику за столярным угольником. Он долго его искал: «Галя, угольник не видала? Найти не могу. Ученики куда-то уташшыли». Слово он произнес с особой ноткой – «ученики» предстали как некая веселая и беспорядочная сила.
В «моем» классе учеников двенадцать человек. Конечно, это меньше, чем в городе, и с таким количеством работать вроде бы и легче. Но времени тратишь ровно столько же. И придя домой, надо управиться с дровами, а многим учителям еще с коровой или козами, да еще обработать рыбу, засолить капусту и картошку убрать, пока солнце. И это только осень. А что будет, когда снегом завалит и морозы прижмут?
Еще наблюдение. В городе и перед учителями, и перед учениками ты выступаешь в одном-единственном экземпляре: тридцатилетний учитель русского языка и литературы Сергей Иванович Скурихин. Все. Вышел за дверь школы и растворился в городе. И что ты для кого-то просто Сережа, сын ли, товарищ – никто в школе не знает. Для домашних же Сережа никак не пересекается с Сергей-Иванычем. А здесь… Здесь они настолько перемешаны, переложены друг другом, что я и сам теряюсь. Выйду из школы, и тут же те, кто звали Сергей-Иванычем, кричат: «Серег, накинь трос!» Хотя женщины и в поселке официальничают: «Сергей Иваныч». Могут одновременно с двух сторон окликнуть и так, и так. На разрыв.
Я никогда не задумывался, кто я из них на самом деле. И не привыкну, что в одном человечьем пространстве есть учитель Сергей Иваныч, молодой учитель и есть Сережа, новый житель поселка, который два часа маслал мотор под угором, потому что перепутал свечные колпачки, потому что их забрызгало волной, потому что сдуло ветром кое-как надетый капот. Потому что раздолбай.
А к ветру привыкаешь. Когда на улице работаешь – раскаляешься под его напором, как в горне. А потом приходишь в тепло, и тебя, краснорожего, развозит, морит, едва сядешь за стол и уткнешься в тетрадь или книгу. Никогда не думал, что настолько бессилен перед осоловелостью. В городе по-другому: заражаешься общим нервозным тоном и на нездоровом бодряке живешь до поры. Угар этот только потом вылезает.
То, что меньше учеников, – облегчения не дает: просто каждый подвигается ближе, становится огромней и, разросшийся, встает со всеми заботами, друзьями-приятелями, дровами, печками, ершиными баночками и петлями на зайцев. С горящим от ветра лицом и глазами, слипающимися при виде букв. И понимаешь, насколько всесильна эта жизнь, мокрая, снежная, ветреная – когда обхватывает, облегает, пронзает, едва вышел из теплого класса на школьное крыльцо. И когда дождь и тьма дышит… Хотя, конечно, есть вещи, которые не меркнут. Это русская литература.
Которую, сократив в часах, вывели вон из главных предметов, и по ней нет выпускного экзамена обязательного. Предмет, конечно, оставили на птичьих правах. Так… из одолжения… в порядке «ознакомления» с направлениями культуры. Но несмотря на планомерный убой образования в школе, как и везде, все зависит от личности. Злая воля, возведенная в систему, не настолько непобедима, как казалось Иннокентию Александровичу. Она равнодушна, механична и безлична, и это ее слабое место. От учителя требуются только «показатели», его никто не проверяет и не запрещает преподавать традиционные для нашего народа ценности. Но таких охотников единицы, и система спокойна: ее сила в том, что большая часть учителей – дети школьного стандарта и телевизора. Они, конечно, скажут: образование нужно. Но не для того, чтобы сделать нашу землю лучше, а чтобы «стать успешными».
Работа учителя – источник вечной опасности. Я все время жду новых ударов и живу по-двойному: хочу, чтобы все уладилось, и одновременно пытаю режим на вшивость в надежде, что он проговорится, обнаружит себя во всей красе намерений. А он прячется за простых людей, и даже в его уступках я вижу обман и опасность. Я никогда не предам его пред иноземцами, но в душе не верю в него, как в их же детище.
Меня в этой передряге больше всего интересует, что значит быть русским. Причем не столько даже по паспорту, сколько глубинно, духовно. И как эта глубь преломляется в повседневной жизни, в работе. Когда я работал в Октябрьской гимназии нашего города, глубь эта преломлялась трудно и вскоре потребовала новой шири и знания. И я, обессиленный, попросил отца переговорить со старинным его товарищем из министерства и переправить меня на Север. И вот я тут и думаю, что значит быть русским и насколько я достоин этого звания. И так крепко думается под шум северо-западного ветра, средь великой географии таежных рек и гор, что в голове моей нарисовалась некая даже карта. Как есть, к примеру, карта населения, где густым черно-коричневым цветом обозначены места скопления людей, а бледно-желтыми – узкие ленточки заселенности вдоль великих сибирских рек и Транссиба к востоку от Читы.
Крестьянство и староверчество таких удаленных мест, как Енисей и Ангара, всегда хранило в себе наибольшую нетронутость обычаев, языка, ремесел, всего того дорогого, что и составляет наше национальное достояние. В то время как в городах вроде Москвы этого и в заводе нет, а те, кто дорожат там русским миром, даже намека на погоду не делают. Поэтому карта русского духа России выглядит нынче как обратный портрет карты населения: в наименее населенных местах мы наблюдаем его наибольшую густоту.
Мое решение работать именно в таком месте кроме желания набраться силы и разгладить душу простором было вызвано желанием отпоиться этим взваром незыблемости, вековечно питавшим нашу литературу.
Обратимся к карте, следуя которой Красноярск выглядит как некая промежуточная точка средней румяности. Меня интересует, кто же я такой по отношению и к столице, и к этому зажатому меж водой и рекой поселку? Предлагаю наложить на карту еще одну ипостась – скажем так… участие населения в уничтожении системы национального воспитания. Заранее договоримся, что нас интересует население русское и местное, так как заезжие этносы – тема отдельная и особая, да и спрос с них иной.
Так вот: есть столичное чиновничество, подрезающее наши жизненно важные жилы путем бюрократизации образования, подмены дела разговорами об «инновациях», перевода внимания учительства на побочные вещи. Обозначим его кружком белого цвета. Есть школьный учитель из центра страны, оказывающий посильное сопротивление. Обозначим его кружком черного цвета. И есть учительница из далекой деревеньки. Вопрос: каким цветом мы ее… припечатаем?
Но для начала надо с собой разобраться. По отношению к столичному духу я крайне русский, что подразумевает кроме взглядов еще какой-то покрой, склад, который ни с чем не спутаешь и по которому всегда узнаешь русскую провинцию. Но вот носитель «покроя» попадает в северный поселок. И по отношению к местным выступает двояко и противоположно. С одной стороны, я для них – как для меня москвич. Во мне меньше бытовой народности и у меня слабее мозольная связь с землей. При этом я более русский идейно и политически и нелепо выступаю как миссионер в своем же полку (дожили!), несущий мировоззрение, требующий осознанной русскости по всем осям и четко отделяющей ее от обычной простонародности.
Возьмем мое окружение. Валентина Игнатьевна Степанова. Директор школы и учитель английского языка. Очень солидная. Из потомственной местной крестьянской семьи. В отличие от многих верна укладу, живет в родной деревне; все, что связано с крестьянским, покосным, огородным – все ее. Поселок для нее – центр вселенной. Она говорит «повешать», «маленько», «ложить», может завернуть ученикам, что у нее «уже мозоля́ на языке повторять» им одно и то же. Доит корову, поет застольные песни и до мозга костей народная. Но при этом она постоянно смотрит телевизор, не читает Достоевского, не верит в Бога и честно повторяет спущенные сверху русофобские разнарядки, не повергая их какой-либо критике и относясь к ним как к производственной инструкции. При слове «православное воспитание» каменеет, сумрачнеет, отвечает по уставу – что «вероисповедание» это «личное», «что каждый сам пусть себе выбирает религию». Она музыкальная, у нее голос, она поет «караоке», но если в деревню приедет гармонист, то закинет это караоке «в под-угор» и выберет родное, да еще и споет уморительно частушку: «Пляшет дедушка Трофим – один бродень, другой пим».
Распространенный тип мировоззрения: сочетание народности, атеизма и напыления западной идеологии. Насколько глубоко это напыление, меня и беспокоит, так как школа – дело нешуточное и от нее зависит будущее. Что еще? Работу Валентина Игнатьевна выполняет хорошо, и что главное: в сердцевине души физиологически отторгает антинародный курс и по-настоящему любит Россию. Единственное, что ей можно предъявить – послушное проведение идеологических установок министерской верхушки. Вот и вопрос: кто из нас более русский? Ответ: вопрос глупый. Почему? Потому что все то, о чем писали наши мыслители – и Уваров, и ранний Толстой, и Достоевский, – это идея. А идея сама по себе не рождается, она приходит из прочитанного и услышанного. И в том, что Валентина Игнатьевна не читала графа Уварова, виноват кто угодно, но не она сама.
Про географию русского духа я могу рассуждать бесконечно, поэтому перейду к ученикам. В классе особенно яркими мне кажутся трое: Агаша, Яна и Коля Ромашов. Агашу все зовут Агашка, но не грубо, а ласково, от избытка симпатии, и я, несмотря на школьный этикет, буду ее так и называть. Она беленькая, с невозможными глазенками и улыбкой. Выглядит моложе, совсем еще по-детски, но характер у нее крепенький. Улыбается она несусветно, будто ее всю распирает от каких-то оживленнейших отношений с жизнью. И от смущения, и от какого-то просто факта собственного существования. Когда она сама из себя выглядывает, прохождение границы с миром вызывает небывалое веселье и смущение. От ее улыбки и в тебе все начинает улыбаться, и приходится собственную улыбку прятать, чтоб девчонка не подумала, что перед нею дурак. У Агашки под нижними веками две полосочки, веки будто подчеркнуты и даже когда она и не улыбается, кажется, что улыбнется вот-вот. Она и живет на грани срыва в улыбку, сама об этом не зная. Тем более девчонка она серьезная. Но очень бы не хотелось, чтобы улыбка эта у нее прошла.
Мама у Агашки – учительница английского языка и директор школы, та самая Валентина Игнатьевна. Статная, с монументальным лицом, красивым, гнутой линией взятым, лепным подбородком. У нее белая незагорающая кожа в чуть приметных веснушках. В детстве такие веснушки напоминали мне крапинки на манной кашке. Выражение ее лица строгое, официальное, но иногда она вдруг улыбнется широко и ярко, и становится понятно, откуда улыбка у Агашки. Муж Валентины Игнатьевны, Агашин отец – Матвей, охотник и рыбак. Но не из тех фанатичных промысловиков, что приехали с материка по мечте и трудятся в дальней тайге безвылазно, а ближнего боя, более поселковый, более крестьянски-хозяйственный, универсальный, и еще и выпивке не чуждый. Участок у него неподалеку от деревни. С виду Игнатьевна и Матвей не сильно подходят друг другу, но, говорят, семья очень дружная.
Яна – эвенкийка по матери, хрупкая, похожая на котенка, с огромными зелеными глазами и выражением какого-то беззащитного в них удивления. За таких страшно, аж сердце сжимается, как представишь – если пьянка, мат, и если попадет куда-то в город или, хуже того, на подступы.
Коля Ромашов – со стержнем парень. Ведет себя в школе сдержанно, сумрачно, хотя сумрачность мгновенно может перейти в тумак товарищу и тут же вернуться обратно вместе с комичным выражением мгновенной образцовости. Школьную жизнь он не то что не разделяет, а так… терпит по закону силы. Ощущение, что у него кроме обычных подростково-школьных дел есть нечто более главное. Выражение его взгляда можно назвать наглым, но это не наглость, а какая-то врожденная уверенность… Будто он тебя не то изучает, не то проверяет. На ту же стать. Я сгущаю краски, но ощущение есть.
Он такой долговязый, как щенки овчарок бывают, с большими лапами, ноги чуть с кривинкой, но с живописной, дающей округлость шагу… Ходит вразвалочку, с потягом… А вот лицо… Как сказать? Когда дают портрет человека, помогает какая-то главная черта, вроде большого носа или сросшихся бровей. Когда таких черт нет, что чаще всего и бывает, а внешность типичная, знакомая до боли – труднее всего. Скажешь «лицо длинное» – обязательно представится баклажан. А у Коли оно только чуть длинноватое и чуть шире книзу, и чуть несимметричное, и чуть губастое, и чуть щекастое. И нос тоже совсем слегка утиный. Черты эти только намечены, а общее выражение дают глаза – серые, с металлической мутнинкой. И смотрит с оттенком сочувственного превосходства, связанного, конечно, с бытовой стороной, в которой он меня намного сноровистей. Если Агашка выглядит моложе, то Коля, наоборот, старше. Живет он с матерью без отца. Коля нравится Агашке.
В нем какая-то не по возрасту холодинка. Детишки все светятся детством, а его душа будто отгорела. И будто отсиявшую эту заготовку опустили во что-то охлаждающее, плотное, и она, отшипев, стала крепкой, но остывшей. Я, помню, в детстве тянулся к яркому, цветному, тяготился будничным, казавшимся серым, в один тон: тряпка, ведерко, телогрейка, калоши, кусты. А этот, наоборот, туда и правит, где неразвлекательно, где серость и сталь, туда только и идет, и рыщет безошибочно, будто знает, что здесь корень движения. Словно тут ему и ход, и эти точки размягчения лишь его и пускают, а перед остальными смыкаются намертво.
Коля заправски ведет себя даже со взрослыми мужиками, здоровается, небрежно выбрасывая руку чуть по дуге наружу, будто целит в середку тела, а потом, так и быть, отводит. Стоит невозмутимо, перебрасываясь словами, дозируя свое участие небрежно и взвешенно. Всех будто упреждает, охлаждает, видит дело насквозь и заранее. Мол, не обольщайтесь. Доску сушат – «Псссь. Порвет!». Речушку приморозит с устья: «Да оторвет ее», про сено, плохо сметанное, по его мнению: «Загорит». С ребятней разбирается в два счета, по́ходя и не глядя, выстреливая на одной ноте: «Э, стопэ! Слышь ты, чучело, еще раз увижу коло своей лодки, уши оборву, понял? Пшел отсюда».
Коля очень цепкий, приметливый. Он частенько проходит мимо моего дома – то на озеро, где у него баночки, то с ружьишком. И если я что-то делаю, колю дрова, например, то при нем обязательно чурка либо упадет, едва занесу колун, либо окажется витая и сучкастая. И я, зная, что ее надо перевернуть другим торцом, не переворачиваю, чтобы меня не заподозрили в том, что сразу не углядел, откуда колоть, и вообще в неумелой возне и лишних движениях. И в итоге луплю по самому сучку и умоляю, чтобы не соскочил колун, который третий день собираюсь пересадить.
Коля подходит именно в такие минуты. Поэтому, если даже работа ладится, я, завидев его, с деланной неспешностью кладу топор или колун, будто давно хочу перекурить и рассчитываю на разговор. И начинаю выдумывать тему и почти заискивать. Или оставляю намертво засевший топор в чурке, чтобы будто бы прикрикнуть на соседскую собаку. Когда Коля подходит, чурка продолжает, расходясь, предательски пощелкивать, и он на нее косится и брякает: «Щеляется… Че, засадили?» И в этом «щеляется» столько же одобрения и восхищения чуркой, живущей своей таинственной и справедливой жизнью, сколько и моего убывающего авторитета. То же самое происходит с засасыванием бензина из бочки или завязыванием узла, разновидность которого я еще сам путем не выучил.
На том краткое знакомство с действующими лицами заканчиваю и приступаю к действию, которое предварю маленьким предсобытием.
У нас каждый ученик имеет свое увлечение. Яна хорошо рисует, и мы устроили ее выставку, которую она открыла бойким заявленьицем:
– Я увлекаюсь рисованием. Я хочу развиваться, расширять мой внутренний мир, хочу достичь хороших результатов, чтобы быть успешной!
В лобной части моей головы я почувствовал легкое шевеление, будто теплая птичка встрепенулась, и ее известково твердеющее крылышко уже отслоилось частью моего черепа. Я осторожно накрыл ее ладонью и держал, пока она не затихла. Ладони я не отпускал до конца мероприятия, и все приговаривал: «Ну тихо, тихо, хорошая, ну пожалуйста, ну дотерпи до урока, а там я тебя выпущу, и полетишь… Куда захочешь».
На ближайшем уроке я все объяснил: слава богу, Николай Василич всегда по рукой… И, конечно же, вывел ребят на разговор об успехе, познакомив с «Портретом», и это была победа. Как же не любить после этого русскую литературу! Прибежище наше, силу которого супостаты в полной мере не понимают, хоть и подбираются. Словно наши классики заранее заложили укрепрайоны по всем направлениям. И их огневая светоносная мощь автоматически крушит любую установку противника. Успешность – на тебе «Портрет», безбожие – на «Карамазовых» и «Лето Господне», толерантность – на Бунина, вообще лезешь – на «Тараса»!
Позавчера на уроке литературы произошел разговор. Передаю его схематично и без описания интонаций и прочего реквизита. Из шепотка, пришедшего с перемены после английского, я почувствовал какую-то перепорхнувшую в класс заварушку. Оказалось, Коле Ромашову поставили двойку по иностранному, и он сказал кулуарно, что ему «на фиг не облокотился этот английский». Я, будучи по большому счету согласен с Колей, не моргнув, произнес:
– Яна, а скажи, пожалуйста, зачем нужно учить иностранный язык?
– Ну… чтобы это… знать… Ну, сейчас много на иностранных языках… ну… информации. Ну и это может пригодиться, ну… если на работу устроишься. Или если эта… поедешь за границу.
– Коля, а ты скажи?
– Тут дя-а Паша мотор взял «тоху-полтоху», а там в книжке все по не нашему. Завал… – Все хохотнули.
– Завал разгрести… Ну, спасибо. Садись… А я хочу вам историю рассказать. Про одно слово. У нас урок литературы. Да? А есть такое слово «беллетристика». Слышали?
– У-у.
– Беллетристика – это то же, что художественная литература! Синоним. Помните что такое? Происходит от двух французских слов «белль» и «леттр» – если буквально: «красивые письма», «красивое письмо».
Я рассказал, как изменилось значение слова, и беллетристика из изящной словесности потихоньку превратилась в литературу не лучшего свойства:
– Получилось, беллетристика, когда только пожаловала к нам в Россию, имела значение большое, высокое, а потом сдала позиции, превратилась во что-то третьего сорта. Вопрос: почему?
Ребята замялись.
– Да потому что русский язык его победил – это слово! Оно не подошло! Сдалось! Я прямо вижу его – было такое гордое, как наполеоновское войско, а стало третьесортное, обтерпанное, обмороженное… Беллетристика… На что похожа?
– Ерундистика!
– Белибердистика… Может, и по звучанию не подошло. Ведь есть уже и словесность, и литература! Они ее не пустили! Но – теперь внимание – обо всем этом мы бы не догадались, если бы что? Если бы не знали французских слов «белль» и «леттр». Значит, иностранный язык нам нужен для чего? Чтобы лучше узнать и полюбить наш родной русский!
– Но у нас так-то английский по программе, – сказал Вася Феоктистов, большой увалень, любитель размеренности и противник всякого отклонения.
– Да какая разница? Ты че такой, Ручник? – пнул его Коля локтем, страшно оскалившись и тут же повернувшись ко мне и сложив лицо в образцовую гримасу. Видно, что у него счеты с Васей, который смешит медлительностью.
– Сергей Иванович! – потянул руку Леня Козловский, отличник и дотошный ученик. – А слово «литература» тоже происходит от слова «леттр»? Оно тоже ведь иностранное!
Класс весело насторожился.
– Совершенно верно, Леня! Молодец! Ты почти прав. Но только слово «литература» древнее латинское, которое на равных правах вошло во все языки. Точнее даже, «литера», то есть буква. А если обще́е – то письменность. И многие ученые действительно считают, что «литера» от латинского слова… Но есть и другое мнение… Слово «литература» появилось у нас в восемнадцатом веке. Ну примерно вместе с книгопечатанием. Когда додумались брать штампы отдельных букв и с них печатать книги. Так вот скажите мне: а как получали эти самые штампы готовых букв? Из чего они, кстати, были сделаны?
– Из свинца, – сказал Ваня.
– Ну не из свинца… Но правильно – из металла. А как их получали?
– Отливали.
– Правильно, Леня. От-ли-вали. А это от какого слова? Ну, Яна?
– От слова «лить».
– Правильно, от слова «лить». То есть буква, литера та самая, от которой идет слово «литература», могла вполне произойти от слова «лить», «литье». Почему нет? Поэтому, – подвел я итог, – чтобы во всем этом разобраться, нам надо очень хорошо знать нашу историю, и историю нашего языка, и нашу ли-те-ра-туру… Э-э-э, вот, например, кто видел медведя?
– Я видел! – хором сказало полкласса.
– А где медведь зимует?
– В берлоге.
– А откуда слово «берлога»?
– Можно я? Можно я? – буквально заерзала, задрыгала вытянутой ладошкой Агашка. Воистину зеленый побег рвался неурочно к сибирским осенним небесам.
– Ну?
– По-немецки «бер» – медведь, ну а «лог», логово, это… ну куда он ложится: бер-лога получается!
– Так. Еще какие мнения? Мнений нет. Все согласны с Агашей. Согласны?
– Да-а-а…
– А вот ребята, все не совсем так! В старом-престаром славянском языке, праязыке – это такой пра-прадедушка нашего современного языка, мы о нем еще поговорим, – так вот в славянском праязыке существовало слово «брло»… Мусор, грязь, навоз… грубо говоря… Такое сорное место… Понятно, что медведь-то не особо пылесосит свою… избушку…
– Ха-ха…
– Ну вот эта его не-про-пыле-сошенная избушка и есть медвежья берлога! Кстати, вы знаете, что такое «медвежья услуга»? Вот давайте к следующему уроку приготовьте мне свои догадки…
На этой берложной ноте мы закончили нашу беседу, а сегодня в учительской Валентина Игнатьевна сказала:
– Сергей Иванович, я хотела с вами поговорить. Да. Прямо здесь. У меня секретов нет.
– Да пожалуйста!
– Скажите, пожалуйста, почему вы говорите, что не нужно изучать иностранные языки?
Я не сомневался, что Агаша передала маме нашу беседу. Но для порядка ответил:
– В смысле?
– Сергей Иванович, вы на своем уроке сказали, что иностранный язык не нужен.
– Валентина Игнатьевна, – сказал я уверенно и доброжелательно, – во-первых, я э́того не говорил, во-вторых, если бы я даже так и считал, то учительская этика мне не позволила бы вас так… ну, в общем, поставить под сомнение преподавательскую деятельность своего коллеги, и тем более руководителя, а в-третьих, я могу объяснить, что именно я имел в виду.
– Да уж, пожалуйста.
– Я как раз защитил ваш английский. Потому что один ученик усомнился в нужности иностранного языка после вашей двойки. А после нашей беседы – все наладилось. Я показал на примерах, что иностранный язык помогает нам узнать свою Родину, а именно одну из ее важнейших составляющих – русский язык!
В учительскую зашла учительница информатики, молодая красавица с длинными светлыми волосами и льдистым именем Лидия Сергеевна. Она так хороша, что почти не красится, и ресницы ее остаются природного цвета и от этого какая-то дополнительная нежность, воздушность в них, что-то от птичьих крылышек… В ее присутствии меня будто током продергивает, и хочется говорить ярко и сильно, в общем… токовать. Она, между прочим, разведенная и воспитывает мальчика. У нее отличный слух и она большая выдумщица на всякие концерты и номера.
– Продолжайте, продолжайте, у нас секретов нет. Садитесь, Лидия Сергеевна. Хорошо как раз. Продолжайте. – Валентина Игнатьевна сидела, чуть изломив грузное свое тело и прямо держа красивое лицо со скульптурным подбородком. Выражение сдержанности, видимо, в ее природе, хотя с очень близкими людьми, например с учительницей химии Екатериной Фроловной, она ведет себя намного теплее и живее, но это как-то отдельно от школьного.
О Екатерине Фроловне, пожилой маленькой женщине, необходимо сказать особо. Кроме ее отчества, на котором запинаются почти все ученики, произнося кто «Екатерина Флоровна», кто «Екатерина Фторовна» (за глаза), она примечательна удивительной душевной теплотой и врожденным чутьем к важному. У нее очень учительская внешность, пучок и толстенные очки, какие носят близорукие люди. Они будто мензурки и кажутся склеенными из двух стекол – верхнего и донца. Глаза в них выглядят маленькими и плоско впаяны в верхнюю поверхность, особенно если смотреть сбоку. И кажется, если их снять, то глаза снимутся вместе. Однажды на перемене я оказался в коридоре напротив ее кабинета. Она вышла из класса и в какой-то замедленной рассеянности проговорила, снимая очки и вытирая огромные босые и мокрые глаза: «…Детишки… невозможные… – покачала головой, – аж прослезилась…».
Вернемся к Валентине Игнатьевне. Я уже говорил о ее взвешенности и спокойствии. За годы ее директорства никто не знал случаев, чтобы она ударила кулаком по столу, хотя многие себе такое позволяли. По выражению ее лица трудно понять, что она думает. Я, однако, продолжал:
– Мы все знаем, в каком положении Россия. И что любой язык – это носитель национального. И что английский язык, носитель англо-саксонского национального духа, начал небывало теснить наш родной русский, а с ним и те ценности, которыми наша цивилизация жила столетиями… И что все очень серьезно. И что каждому из нас хотелось бы не опупеть от «пуппинга», и чтобы на магазинах было написано не «фиг-с-прайс», а что-нибудь русское. Чтобы нас не призывали быть счастливыми вместе с «жокей» и «о’кей», грубо нарушая правила нашего языка и отменяя склонение существительных. И чтобы вместо холодного слово «о-тель», что приперлось оттель (Лидия Сергеевна не засмеялась), употребляли теплое слово «гостиница», вместо файла – говорили «папка», и так далее, и так далее, и я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю.
Я почувствовал поползновение Валентины Игнатьевны возразить, и вынужден был пойти на ответвление разговора, чего я крайне не люблю, так как нарушается стремительность натиска. Но настолько пересохло-затасканно прозвучали мои рассуждения, что пришлось копнуть на штык глубже.
– Вы знаете, меня просто ошарашило, когда в сельсовете простая русская женщина Вера Егоровна протянула мне какую-то пластиковую папчонку: «Возьмите файл». – И я продекламировал театрально и в нос: – Возьми-и-ите фа-айл. Не возьму-у-у… Возьму-у па-а-апку. – Лидия Сергеевна издала носовой смешок, а я облегченно продолжил:
– А ведь это неспроста! Такими словами нас пытаются поставить вверх тормашками. Да! Что вы смеетесь, Лидия Сергеевна? Сама по себе папка для хранения бумаг как явление – выеденного яйца не стоит, однако ж ее нарекли этим идиотическим именем. Таким чистеньким, таким по-своему эффектным и вызывающим целый ряд ассоциаций, ведь за «файлом» обязательно тащится «офис», «стэплер», «мэнэжмэнт» и прочий джентльменский, хе-хе, набор… То есть насильно вводимый в нашу жизнь код, который ничего ни интересного, ни созидательного в себе не несет, а просто обслуживает бесполезную социальную прослойку… э-э-э… приказчицкого толка, являющуюся ничтожным приложением к настоящей жизни, и трудовой, и творческой. И именно чтобы оправдать ее ничтожность, и вводятся эти чужеродные слова, которые падкая на упаковку молодежь принимает слишком близко к сердцу.
– Вот сразу… Можно, Сергей Иваныч? – вступила Валентина Игнатьевна, вежливо улыбнувшись и будто отклонив мое красноречие. Лидия Сергеевна неопределенно улыбалась, прищуриваясь.
– Конечно.
– Сергей Иванович, мы весной были на тренинге в Тундракане, и там как раз все это обсуждалось и многие учителя спрашивали: как же вот иностранные слова входят в нашу жизнь… Как быть? Понимаете, есть процессы, которые идут, вот они есть – и все! – Она распахнула глаза. – И мы их не можем изменить, поэтому приходится в этих условиях работать, и не мне вам объяснять, сколько всего нынче приходится выполнять… скажем так… рутинного. Ладно… Сейчас не об этом… Мы разговаривали со специалистами, лингвистами и задавали те же самые вопросы… Как детям объяснить, отчего столько иностранных слов? Сегодня на учащегося обрушивается просто вал информации, терминов, связанных с современными технологиями, и наша обязанность – помочь в этом вале разобраться, как-то его ус-во-ить. – Она сказала по слогам. – Потому что учащиеся сегодня просто не в состоянии переработать то информационное изобилие, которое нынче имеет место быть.
Бывает, оборот восхищает не сутью, а мастерским попаданием в общее место, выражающее нечто характерное о времени, и последние слова Валентины Игнатьевны доставили мне удовольствие именно такого свойства. Она продолжала:
– И мы вместе пытаемся разобраться, объясняем детям, что язык – это гибкая система, откликающаяся на каждое движение времени, если слово появляется – значит, оно нужно, значит, оно дает как раз тот оттенок, которого еще не было. Извините, я просто не могла не высказаться…
– Почти как у Маяковского: «Если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?» Действительно, появилось слово, и оно очень точно отражает какое-то особенное содержание, свойственное именно нашим дням, по которому мы безошибочно его узнаем.
– Да, – обрадованно кивнула Валентина Игнатьевна, подняв брови и победно оглядевшись.
– И главное, может зажечься еще слово, которое откроет еще один оттенок, еще одно уточнение, и всегда найдется для него повод. И предела уточнению нет. Но это, Валентина Игнатьевна, полное заблуждение. Язык, он хоть и наш хранитель, но существо настолько доброе и наивное, что если за ним не ухаживать, то он моментально зарастает дурниной… Как покос… Покос надо расчищать, Валентина Игнатьевна? Надо. Хотя навязывается теория, что пусть зарастает. Так говорят люди, которым либо чем-то мешает наш покос, либо они им не дорожат и относятся потребительски, как к средству посиделок, то есть общения и передачи информации… А не как к хранилищу и вместилищу дорогого… Хотя покос – это не просто лужайка. С ларьками и газировкой. Это коровы, живые и теплые. А если так пойдет, то нам и припасть-то не к чему будет… в минуту тоски по молоку. Да. Так вот, есть свойство слов рас-сту-паться, так сказать, по доброте, и пускать новое слово… Но это происходит не из-за нужности втиснувшегося слова, а именно из-за чисто физического свойства расступаться, как вот, знаете, брусника в воде плавает, и можно сыпануть горстку – и ягоды расступятся, может, только какие-то под воду уйдут. Зависит от размера тазика. А тазик у нас подходящий… Поэтому дополнять язык можно до бесконечности и всегда будет казаться, что у нового слова чуть другой оттенок. А другой он почему? Да по самой природе слова – у каждого слова неповторимый облик, звучание, окраска. Как человек… людей же нет одинаковых. Суньте в толпу новое лицо – и оно тут же заявит о себе своим говорком, запашком, ухваткой. И нужность тут ни при чем. А главное – понимать, зачем эти изменения, какой они несут смысл и последствия. Каким мы хотим, чтоб был наш язык? Были мы? Ну а теория оттенка… Вот вы сказали «на тренинге в Тундракане», ну вот не могу ничего поделать, не обижайтесь только – ну коробит! Неужели нет? Валентина Игнатьевна, ну только честно? Ну не то ведь… Согласны?
– Ну какой вы прямо… – Она улыбнулась. У нее очень широкая улыбка, ровные красивые зубы. И улыбка дорогого стоит на фоне ее солидности и монументальности. В этот момент в дверь вошла Екатерина Фроловна и, сама по себе нешумная, села особенно осторожно, замедленно, стараясь не шуметь платьем, стулом. Ее приход меня еще более воодушевил:
– Я, кстати, очень люблю эти эвенкийские названия: Тундракан, Выдракан, на Тунгуске есть поселок, Курумкан, в Прибайкалье к северу от Усть-Баргузина. Они русско-эвенкийские. От слов «тундра», «выдра», «курумник». А «кан» – это уменьшительный суффикс. Мы с ребятами об этом говорим и через названия изучаем нашу природу. Это к вопросу о языке и мирах, которые он вмещает… Я отвлекся, Валентина Игнатьевна, и никак не отвечу на ваш вопрос… Мы говорили об опасностях, грозящих нашей русской цивилизации. Так вот, даже при этих угрозах я утверждаю: иностранный язык нужен и его нужно обязательно знать! Но только не для того, чтобы граждане удирали за границу и там знание языка им помогло не сдохнуть с голоду! И не для того, чтобы наши дети работали в иностранной конторе, приехавшей в Россию выпиливать наши сосняки. – Я уже говорил громко и с ораторским посылом, в котором знаю толк. – Или набирались из-за границы педерастии, извините, стяжательской дури и умения грызть русского брата из-за этих чертовых денег… Да! Я русский учитель! Я хочу, чтобы наши дети оставались в поселках, таких как этот, в деревнях и городах, и чтоб они любили свою землю! И чтоб главное для них было не минутная грошовая успешность, намотанная на собственный пуп, о которой без конца талдычат в нынешних школах, а потребность служить своей земле. Вот только для этого и нужны знания! Будь то математика, литература или иностранный язык!
Валентина Игнатьевна продолжала сидеть с монументальным лицом, опустив глаза с подсиненными веками и легонько с какой-то пожилой размеренностью двигая взад-вперед подставкой для ручек. В дневном свете кожа ее казалась особенно бледной и были видны веснушечки. А мне хотелось все больше и больше сказать:
– Знание иностранного языка нужно, чтобы перевести слово «супермаркет» на русский – вспомнить, что оно английское, отделить иностранное от русского, расклеить, как две бумажки склеенные! А это значит вернуть России русское слово! До чего мы дожили – вместо созидания расклеиваем бумажки! Поэтому я как раз за знание иностранного языка! Чтобы наши дети не повторяли иностранные слова как свои родные, а наоборот – чтобы эти слова продолжали звучать по-иностранному. Во всем своем своеобразии и красоте! Я даже за то, чтобы иностранные слова писались по-иностранному и не притворялись русскими! Но для этого мы все должны по-ни-мать смысл этих слов. И именно вы, учителя иностранных языков должны помочь! Поэтому вы должны гордиться тем, какую новую значимость приобретает в нынешних условиях ваш предмет!
Воцарилась пауза. Ее недолгое, но тревожное царствование прервала Валентина Игнатьевна, у которой обозначилась вертикальная складочка меж бровей. Откашлявшись, она произнесла:
– Ну, вы знаете, Сергей Иванович, мы, конечно, согласны со многим вашими утверждениями. Как вам сказать?.. Я не знаю, что думают Лидия Сергеевна и Екатерина Фроловна, но у меня ощущение. – Она торжествующе улыбнулась, оглядев присутствующих. – Что нас отчитали.
Лидия Сергеевна продолжала молчать, но слушала внимательно, и меня страшно интересовало, чью она сторону займет. Я ничего не мог поделать, но чувствовал себя героем «Подростка», и это то мешало, то, наоборот, укрепляло ощущением Федора Михалыча за спиной.
– Простите меня, ради бога, если это так прозвучало. Мне правда неловко. Хотя я простейшие вещи говорил. Атака страшенная идет на русский мир. Ну если человек, готовивший учебную программу по литературе, заявил в интервью, что дети должны быть «умеренно образованы и ничтожно патриотически воспитаны»? Ну?! Что из этого следует? Что надо защищать свое с четким пониманием происходящего, потому что мы работники об-ра-зова-ни-я, – сказал я в тон Валентине Игнатьевне по слогам. – Сейчас все от нас зависит. Да! От нас зависит, будут ли наши дети русскими или… не пришей кобыле хвост… гражданами мира… – закончил я, как это принято говорить, с улыбкой, хоть оно и звучит ужасно, потому что о себе так не говорят.
– Ну наши дети и так русские. – Валентина Игнатьевна даже рассмеялась. – Кто же в этом сомневается? Я лично нет. Просто мы хотим, чтобы они вышли в этот мир вооруженными не только знаниями, но и подходами, а мир сегодня предъявляет крайне жесткие требования. Крайне жесткие… Более того, нынешняя система образования очень гибкая и постоянно меняются стандарты. – Она часто говорит слово «гибкость» в отношении системы образования, и я не понимаю, это искреннее мнение или попытка избежать споров и сохранить мир в школе. – Так что давайте не будем драматизировать, а начнем работать сообща и единым фронтом. Работать в рамках нашей компетенции, и дай нам Бог справиться с тем валом задач, которые ставят перед нами новые требования. И не будем решать за тех, кому виднее. Тем более… – И она, подавшись на меня, добавила по-семейному, по-деревенски: – Кто нас когда спрашивал?
– Валенти-и-ина Игнатьевна! Да мы всю жизнь справляемся с валом… Речь-то о другом. Речь о том, что они пытались выкинуть Гоголя из программы. А знаете почему? Потому что в его произведениях утверждаются истины, прямо противоположные тем, что провозглашаются сегодня на этой земле. – Я ткнул пальцем вниз. – Только не пролезло! Народ на уши встал. Но это мелкая победа… Подачка, скорее. То, что происходит с образованием, – это просто национальная катастрофа. И виднее как раз нам, отсюда, из центра России! Если в основу образования взят совершенно иной принцип! Он назван. Либеральный индивидуализм. И его отпрыск, х-хе: успешность. Какая, к бабаю, успешность?! Что за бред? – Я артистически откашлялся: – Э… У микрофона успешный журналист Передачкин. Новости поселка Усть-Пешного! От слова «пешня», кто не в курсе. Чем лед колотят. Итак… Успешный бортмеханик Ключевой-Гайко успешно обеспечил посадку ми-восьмого на площадку и передал почту успешному почтальону Посылкину… Успешный кочегар Лопатюк успешно обеспечил штатную температуру в школьных помещениях… Успешная техничка Швабрина успешно провела мокрую уборку актового зала. Успешный рядовой Майоров совместно с успешным пожарником Хоботом и успешным монахом Окладовым провели встречу со школьниками, посвященную успешности в вопросах гражданской обороны, пожарной безопасности и духовно-нравственного воспитания. Успешный учитель Дневников-Двойкин успешно провел занятия по повести успешного писателя Гоголя «Портрет», успешно развенчивающую понятие «успешность» в самом корне, как категорию поверхностную и сиюминутную. И катастрофически несостоятельную по сравнению с понятием «служение». – Я выдохнул… – Лидия Сергеевна, вы не согласны? Да что же я вам, коренным сибирячкам-то, объясняю?! Так же можно и до абсурда докатиться! Ведь есть же вещи главные и элементарные! Основы любой цивилизации! Ведь только в американских фильмах побеждает одиночка – вранье полное, и все прекрасно знают, что побеждает дружная, слаженная семья! Поэтому: фундаментальные основы. Народность, семейность, ответственность за свою землю, православное сострадание, любовь ко всему этому… – Я повел рукой. – Что с детства вокруг, что в наших книгах!.. И добро, наконец! Ну?
Лидия Сергеевна, все это время сидевшая, опустив ресницы, наконец вступила в разговор. Очень спокойно и уверенно. И произнеся не «Сергей Иваныч», как обычно все делают, а выговаривая подробно по плиточкам «Ива-но-вич»:
– А я не согласна с вами, Сергей Ива-но-вич. Какое добро? Сейчас совсем другие качества нужны. Время такое. – И продолжила более высоким, грозящим и предостерегающим голосом: – Сейчас, если будешь руководствоваться добром, ничего не добьешься.
Лобная птичка пошевелила роковым своим крылышком. Ресницы Лидии Сергеевны были опущены, и от этого казалось, что она совсем чуточку улыбается. Бывает, люди говорят важные вещи с такой легкой улыбкой, означающей снисхождение, доброжелательный настрой к непонятливому и строптивому собеседнику, и умиление собой, и растворение в правильности своих мыслей. К этому прибавлялось еще и некое ревниво-святое отношение к своей неповторимой, так сказать, поколенческой правде.
– Да что вы такое говорите? Кто же это вам сказал-то? – проговорил я как можно спокойней, и прекрасно зная, кто ей это сказал и что это витает в воздухе.
– Нет, – объясняла она, как школьнику, но не поднимая ресниц и чуть расширив ноздри, дрогнув ими трепетно, отчего они порозовели. – Добро – нет. Терпимость – да. – И добавила, повысив тон и ставя точку: – Только так.
– Да вообще-то ровно наоборот, Лидия Серге-ев-на, – прочеканил я ледяно ее отчество. – Только добро и любовь. И полное неприятие зла. Отпор всему, что угрожает этой любви… Всем безобразиям и извращениям… Всему, что угрожает нашим многовековым истинам. Какая терпимость?! Когда тебя выживают из дома, а ты не сопротивляешься? Всегда представляйте наших предков… Что они скажут… Представьте себе… вот триста лет назад…
– Да какие истины? – Она говорила негромко и словно между прочим. Не особо налегая на слова и с той же улыбкой сожаления о моей безнадежности. Говорила, будто и не прерывалась с момента предыдущих слов, а мои слова ползли понизу иноязычными титрами. – Триста лет: вспомнили, х-хе… Вы хотите, чтоб мы, как какие-то папуасы… которые когда-то там… – Она замялась, подыскивая слова. Не помню, чем она завершила свое эпохальное выступление, но «папуасы» произнесены были во всей ясности, истинный Крест… В качестве силы темной, бесполезной и символизирующей крайнюю степень отсталости и скуки…
Пестрокрылая таймырская пуночка, по здешнему «снегирь», чью трепетную спинку я изо всех сил удерживал ладонью, снова забилась-задрожала, не в силах разжать мою руку, но все больше меня отвлекая и раздваивая. Я взглянул на Валентину Игнатьевну, лицо ее было непроницаемо.
– Не понял, кто папуасы – наши предки, в смысле? – сказал я тонковатенько и дробно. – Лидия Сергеевна, вы, видимо, если и вслушиваетесь в мои слова, то не вкладываете в них их же смысла… У меня предложение: вы придете к нам на урок литературы и я вам докажу, что наши предки были во много раз менее… папуасистыми, чем мы с вами… Там все сказано. Или, может, литература зря стоит в программе? Может быть, наша великая литература, младшая сестра молитвы, неправильно учит?
Валентина Игнатьевна посмотрела на часы, висящие на стене, и сказала:
– Друзья мои, уже много времени… И пора бы поставить точку… Но… Э-э-э… Я не могу объяснить, вроде бы все хорошо, и мы обсуждаем важные проблемы. И глаза у вас горят, Сергей Иванович, и видно, что вы человек неравнодушный. Но все равно… я вот… я чувствую упрек. Конечно, все объясняется тем, что вы молоды… Но вы здесь человек новый и не приобщились еще к нашей жизни. Я думаю, вы многое откроете, когда будете участвовать… в мероприятиях… в наших выпускных вечерах… Которые для нас всегда итог работы. Я не знаю, как они проходят в городских школах, вам виднее… Но если бы вы знали, сколько на этих прощальных вечерах именно добра, тепла, благодарности, дороже которой, поверьте, ничего нет для учителя. – Ее веки покраснели. – И мы как-то умудряемся обойтись без политики, без розни, по-домашнему, и мне кажется, именно вот эта домашняя атмосфера и отличает нашу сельскую школу. Что еще сказать? Сергей Иванович, мы ценим вашу образованность. Спасибо за вашу эрудицию и за ваш такт. Способность слышать других. И раз уж откровенность на откровенность. Вы тут сказали, что вас покоробило слово «тренинги», а меня, скажу честно… тоже кое-что покоробило… – Она переглянулась с Лидией Сергеевной. – Вот я с вами совершенно искренне поделилась ощущением, что меня, наверное, впервые за годы моей работы отчитали… Но вы, зная специфику школьной жизни не понаслышке, не моргнув глазом продолжили вашу лекцию, нисколько не сменив… формат. Пусть это останется на вашей совести. И в завершение – давайте все-таки определим главное, зачем мы здесь собрались… Давайте постараемся сделать так, чтобы взгляды каждого из нас, а они могут быть совершенно разными, не мешали общему делу и оставались личным выбором каждого. Ради наших детей. Вы согласны, Сергей Иванович? Лидия Сергеевна?
– Конечно, – сказал я как можно сдержанней, упихивая, уминая веками, глазными яблоками свою птичку, которая ломилась во все окошки моей души.
– Я совершенно согласна, Валентина Игнатьевна, – вступила Лидия Сергеевна. – Есть личное, а есть общественное. Вы, Сергей Иванович, только что говорили про индивидуализм. А сами… как раз его и проповедуете… Как-то не стыкуется.
– Не понял, что не стыкуется? – Я еле сдерживался.
– Вы пытаетесь навязать нам свои взгляды. А взгляды – это только взгляды. И они у всех разные.
– Конечно… Я согласен… – говорил я, изо всех сил стараясь не ввязываться по второму разу.
– Вы сейчас неискренни! Давайте уж тогда расставим точки, тем более нам с вами вместе работать. Умейте признать и свои ошибки… – И она взглянула наконец своими большими глазами.
– Хорошо, – сказал я трезво и глуховато. – Какие взгляды? Взглядов нет. Есть факты, отраженные в документах. Группа лиц транснациональной ориентации ведет целенаправленную замену духовного базиса нашего народа. На фоне удручающей демографии и экономики. Уж куда общественней? Причем тут личное?
Екатерина Фроловна вдруг пропела:
– Нам-то что делать?
Что-то сорвалось в Валентине Игнатьевне:
– А при том, Сергей Иванович, что это всего лишь ваше видение. Конечно, слава-те, что оно у вас есть. И хорошо, что этот разговор состоялся, и мы лучше узнали, кто, так сказать, есть ху-из-ху. Только я вас хочу предостеречь от ошибок, а они у всех бывают, особенно принимая во внимание ваш молодой возраст. Хорошо, что вы переживаете, ищете ответы, и я вам желаю разобраться не только в политике, но и в самом себе, прежде чем делиться своими опасениями с учащимися. И быть оптимистом. Это очень важно, раз уж вы заговорили о традиции. А по поводу взглядов… повторяю, это дело такое… да… – Валентина Игнатьевна уже устала: – И что-то я еще хотела сказать… М-м-м… – Она замялась, постукивая по столу ручечной подставкой. – У меня бабушка говорила, кочережкой пошевели в печке, если вспомнить не можешь. – Чем больше она уставала, тем больше в ее речи звучало народных слов. – Да! Как раз к слову «бабушка». Как раз бабушка и помогла! Вы вот говорили о религии… Да, у меня бабушка верила. Но я, допустим, атеистка. Меня так воспитали. Так зачем же вы хотите-то всех под одну гребенку, в один барак-то загнать? Раз уж вы такие добрые-смиренные… то будьте уж… маленько… толерантней…
Если бы она не произнесла этих слов, если бы даже она сказала просто «толерантней» или просто «маленько» – все бы обошлось. Но в этом кричащем словосочетании настолько обострилось все происходящее в России, что едва оно выломилось на свет, произошло недопустимое. Конечно же, руки мои не опустились, но одна из них ослабла, и вырвалась из нее шершавая птичка, и стала отслаиваться внутренняя клапанная крышка моего лба, а вслед за ней заедать успокоитель какой-то очень важной цепи наболевшего…
А теперь представьте себе выколоточный молоток или чекан-бобошник, или даже нет: чеканный пресс с шестизвенным кривошипно-коленным, понимаете ли, приводом ползуна. И что этот кривошипно-коленный привод заел и ползун работает с дрожью и скрежетом. Вот именно так – тихим, но ледяным и каким-то скрежещущим голосом, че-ка-ня каждое слово, я произнес:
– Валентина Игнатьевна. Я вас прошу ни-ког-да не произносить при мне таких слов. Извините.
И развернувшись на каблуках, вышел, чувствуя спиной, как пересеклись в замешательстве взгляды Валентины Игнатьевны и Лидии Сергеевны.
Я вышел на берег, где бескрайний металлический пласт воды вел бессменную шелестящую работу, переливался, мерцал, перемерял сам себя бессчетными серебристыми перстами. Река образовывала гигантскую подкову, а я стоял в ее низу, а на той стороне темнел нитью огромный мыс, а правее и левее его вода терялась в фольгово-дымной бескрайности. Взгляд не мог охватить всю панораму целиком, но если слева направо вести очами, то крыла окоема загибались книзу, и открывалась шарообразность земной поверхности…
Проще было бы одиночеству без этого простора. Непомерная гладь, облака, мощь места были неоспоримы, но теперь красота будто выбрала якоря и легла в дрейф до поры, пока не решится человеческое. И ранящее отдаление того, что еще вчера было поддержкой, наливало силой, только добавляло боли, и рвано было на душе.
Я прошел по берегу и медленно поднялся по бесконечной деревянной лестнице на высокий угор. Серебряная гладь подстроилась чутко, изменила угол, зеркало наклонилось ко мне и стало еще огромней… Скажи ты мне, свет-зеркало, откуда де́вица наша красная за несколько лет набралась всей этой дури? Какими ухищрениями, какой подкожной инъекцией накачали ее, каким, едри его мать, ботексом вздули душевную кожицу до полного онемения? И сколько таких Лидий Сергеевн сидят в различных управлениях образования, школьного и дошкольного, отделах культуры поселков, городков и городов с русскими названиями! Оторвавшись от родной земли, лишившись поводырской ее защиты, с какой скоростью полстраны, не ведая измены, превратились во вражьих сподручников-разрушителей? И мне-то каково жить дальше? И что будет, когда нагрянет какой-нибудь обрнадзор и будет пытать меня на рвение в деле воспитания в детях тяги к успешности… А я спою им частушку: «Над округой деревенской ни созвездий, ни планет, и не видно – Достоевскай то ли рантный, то ли нет!» Я точно сорвусь… и прощай моя черная вода и белые снежинки, и ножевое скольжение между небом и землей средь умирающих снежинок. Средь умирающих снежинок один, никчемно-молодой, скольжу на смертный поединок над замирающей водой… И что мне лед, кусты кривые и черной ели острие, твои ресницы ножевые и имя льдистое твое, коль гаснут жизненные створы? Прощай, заветная мечта, тайга, предзимние просторы, и жизнь, и смысл и красота! Прощайте… Прощайте не потому, что я куда-нибудь уеду или не уеду, а потому что снег и вода также станут поодаль и объявят нейтралитет. Конечно же, у меня безотказный аргумент: русская литература, где все прописано черным по белому. Ох, е-е-если бы они понимали ее глубину… То давно бы ее прикрыли!
Я дошел до дому. Печка загудела отчужденно, будто не я ее белил. Прозрачный пакетик из-под травяной заварки медленно пролетел по полу и, плавно, как медузка, изогнувшись, прилип к поддувалу. Мелкое это чудо еще вчера заворожило бы, как завораживали десятки мелочей, о которых не подозреваешь, живя в городе. В первый мой здешний день в кузове машины я подъезжал с берега к своему дому, стоящему в высокой траве. В бок бил невидимый выхлоп, и напротив него трепетной ямой сминалась трава и вмятина двигалась вместе с нами… А за сутки до этого ходил по палубе… и когда шел против хода, берега замедляли движение, тянули назад заскорузло, а когда поворачивал обратно, подхватывало небывалой ходкостью. Она складывалась из трех скольжений: течения огромной реки, движения судна и моего шага. И именно шаг брал на себя всю легкость, скорость и растягивался, летяще отхватывая целый кусок берега. Вот оторвал ногу, занес, и тебя бросило вперед, и новая верста волшебно засквозила мимо. Странное и славное чувство…
Сильные и дикие места… Мне казалось, что сила русской земли в них всемогуща, и крепкие люди, жившие десятилетиями труднейшей жизнью, вынесшие и войну, и укрупнение, выжившие в последнем развале, должны только накапливать противоядие к чуждому и дюжий почвенный дух… И что меня, обессиленного войной на городских рубежах, они этим духом подпитают.
Я в сердце Родины. Течет великая река, до Европы далеко так, что и западный ветер не донесет ее голоса. Вокруг простые вещи – дерево, береста, стайка с козами. Коровы мычит. И что, все это не имеет никакой силы и значения? Что дерево? Что рубленый острог, храм, изба, стайка? Что кринка, берестяной туес, если пришла молодая сильная баба и вылила из них многовековое содержание. Так спокойно, походя, все отменила, почти не придавая значения – с уверенностью, что именно так и будет. И ведь добро бы нерусская, а то славянка самая… Пустые предметы слепо глядят оболочками, кажется, по самой сочной кедрине стукни – рухнет с пустым звуком и расколется на куски…
Я уже боюсь ступать по этой земле, боюсь открывать рот, потому что каждое слово вызывает спор, раскол, укор. И я иду, будто с опаленными ступнями, вздрагивая на каждом осколке слова, на каждой неровности смысла, и, требуя любви к этой земле, встречаю лишь непонимание, потому что в наш вековечный мир нагло и бесцеремонно вносят вместо смыслов – их закрайки, пустыри для взращивания бессильных ценностей.
К моему птичьему списку добавилось еще одно слово – «взгляды». Я все время ищу слов для удобоваримой подачи простых и дорогих понятий, чтобы доступней перевести на язык мира вещи, смертельно дорогие сердцу, а главное, самому не истаскать, не уронить их, придать им звучание, не вызывающее оскомины, потому что все справедливое скучно, так как предполагает самоограничение, выбор трудного. Мои же собеседники даже не пытаются подстроиться, рубят как есть. И не потому что такие прямые, а потому что в миру на первом месте – жизненная бывальщина, работа, обстояния, которыми люди живут, а пресловутые «взгляды» в их представлении – дело отдельное и второстепенное, нечто из области разговоров. И вовсе не руководство к жизни, не мировоззрение, управляющее сердцем. Отсюда и путаница. «Я люблю снег… Лед. Лад. Лиду»… «Ну знаете, у вас странные взгляды»… Вот и весь спор. И сказ.
Поделом мне. Нельзя переносить ответственность на погоду или местность, просить природу разделить гражданские тяготы… Не ставь ее в неловкое положение, пожалей, если любишь, – она же помогала. Да и если честно – ни при чем тут кедрины, да покосы с коровами… Сотни тысяч людей в разных концах света доят коров этих и коз, валят лес, добывают рыбу… Помню, как стало обидно, что где-то в Африке ездят на таких же длинных лодках, как у нас в Сибири.
Хотя из географических открытий меня волнует больше всего свежее, последнее, как раз связанное с местом, с новой полосой жизни: это мое раздвоение, одновременное и неожиданное сосуществование Сережи и Сергея Иваныча. Существование довольно странное, поскольку люди они очень разные и по характеру, и по складу мысли, и даже по манере разговора. Сережа такой задира, он всегда говорит первый, причем негромко, но уверенно, видно, что ему легче, как начинающей стороне. Он большой любитель выводить на чистую воду, причем делает это всегда в разной манере. Сегодня тон у него рассудительно-отстраненный, с распорядительским холодком, предполагающим эдакую необсуждаемую прибавку правды к его позиции.
– Сергей Иваныч, не буду делать оглядку на ваш молодой возраст и скажу без обиняков: вы как педагог, знающий не понаслышке о тех особенностях психологии человека, которые в наше… э-э-э… гибкое время имеют место быть, должны понимать, что все ваше нынешнее состояние происходит исключительно от самой что ни на есть жгучей обиды. Обида же, являясь производной от тягчайшего из грехов, а именно гордыни, происходит от непонимания истоков и, так сказать, истории вещей и судеб, которые к ней приводят. И это как-то не стыкуется…
– С чем? – бросил Сергей Иваныч с нарочитой мрачной грубостью, с трудом преодолевая нежелание вступать в разговор, но и всем сердцем желая его.
– Ни с чем. Хе-хе.
– Сережа, буду откровенен, мне противен твой самодовольный тон. И если я с тобой говорю, то вовсе не оттого, что нуждаюсь в подобном собеседнике и что не в состоянии поставить тебя на место. Но больно велика честь. Ведь пришлось бы выяснять, на какое именно место и что это вообще такое «твое место», действительно ли оно твое, и прочее; в общем, опять заниматься тобой, что мне совершенно не интересно. При этом мне досадно за правду, в которой я не сомневаюсь и которую всегда можно утопить в демагогии. В инновациях, кхе-кхе, и вызова́х времени. Так вот, к твоему сведению, обида – это когда тебя уличили в слабости. И нечем ответить. И это кажется несправедливым. Обида – это переживание себя. Но я готов согласиться: пусть это обида. Обида, которая вмещает сострадание к утратам и разрушению и свое бессилие противостоять. И гневное возмущение, когда кто-то не видит очевидного. Ты говоришь – мое состояние… Мое состояние – это переживание лжи. От лжи я болею. А как еще объяснить? Если у меня независимо от моих мыслей и, заметь, от моего молодого возраста лезет давление, то что это такое?! Что это такое, умник, я тебя спрашиваю? Откуда этот звон в голове? Кто в моей бронзовой головушке бьет в самые неподходящие минуты? Невзирая на время суток и погоду. Что за набат такой? В тепло и в мороз. Я бы сказал даже в мороз! А ты знаешь, дорогой Сережа, что в мороз все вещества, и бронза в том числе, катастрофически меняют свойства? Поэтому, чтобы в стужу не разбить колокольную броню, колокол сначала следует греть осторожными ударами, как говорили в старину звонари, раззванивать. Хотя, вообще, колокол раззванивается всю жизнь. И броня меняет свою жесткую природу и становится более устойчивой к ударам.
Но вернемся к обиде. И вопрос вот в чем. Если эта личная обида колокола, то при чем тут звонарь и что велит ему возлезать на колокольню? И следует ли тянуть колокол за язык в минуты, когда ему не до разговоров? И еще можно долго спрашивать, но уже есть ответ: кроме календарных служб звонарь звонит в катастрофических случаях: пожара, «нашествия иноплеменник и междоусобныя брани». И еще если с кем-то беда. И тогда возникает вопрос: с кем беда? И тут же не отстает и ответ: с красной девицей!
– Хорошо, что вы не врете, – невозмутимо отвечал Сережа. – И раз мы все-таки имеем дело с обидой, то хотелось бы узнать, с какой именно ее разновидностью? В данном случае мы имеем в своем распоряжении следующие виды этого постыдного недуга: обиду за Священное Писание, то есть за идею, обиду за звонкий колокол-говорун и обиду за лепообразную девицу-красавицу! Могу сказать сразу, что за идею обижаться смешно, так как от нее не убудет ни при каких обстоятельствах, обиду за вашу чугунную, простите, бронзовую, головизину мы отставим, чтобы вас самих пред собой не припозорить, а за красну девицу вы обижаться не можете… и знаете почему?
Сергей Иваныч сглотнул.
– Потому что вы ее ненавидите. Так ведь? Только честно, Сергей Иваныч. Ненавидите?
– Ненавижу… – как ребенок, повторил Сергей Иваныч.
– За что?
– За то, что она… русская.
– Видимо, хотите, чтоб она нерусская была?
– Очень хочу…
– Так тогда… вы предатель…
Уйти потихоньку в осень… Надоели разговоры… Чем дальше, тем тяжелей… На дождичек бы… остудиться… Как хорошо на шею капает… И трава такая прелая, терпкая, осенняя… репейники, мокрые, а еще хуже – цепляются… Да пусть цепляются… Одна радость, что на краю дом. И что дождик… Как горят листья на рябинке! И как вздрагивают от капель… По порядку… То один, то другой. Что они знают о порядке? И как решают, кому когда дрогнуть? Или не дрогнуть. И как не дрогнуть? Вот ты уже дрогнул. Нет разве? А что коленки-то дрожат? А? Ну вот и давай… Чтоб не дрожали… Что встал-то, как лом съел? Да не бойся – не размокнут… Да-да, прямо в траву, в сыру-землю. Что такое? А-а-а… Да это гроздь кованый, тут много всякого… добра ржавого, старинного. Терпи. Гвоздь так не попадется. И давай-давай, встава-а-ай на коленочки, давааай, Сергей Иваныч, Се-реженька, не впервой… во-от так, сразу бы… а то «преда-атели»! Ну вот. И давай, начинай, как всегда, как у нас на Руси… Ну? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Молитвами Святых Отец наших… Царю Небесный, Утешителю… Во-от… Давай Трисвятое, во-от, теперь Слава… теперь Господи, очисти грехи наша… во-от, теперь Господню… вот и славно. Вот так… Ну… А что заелозил? Гвоздь в коленку впился? Это тебе не баб уму-разуму поучать… Ну ладно, ладно… Ветер подул – и дождь, видишь, как посыпал… Лист, смотри, полетел… Славное слово: «ненастье»! И как хорошо, оказывается, молиться под дождиком.
А теперь пошли домой свечку зажжем. Вот дверку отворили… и проходим, проходим… Во-от… Спички вот они… Та-ак… На окошечко ставь… Чиркай. Ну вот, пусть так и стоит, тем более темнеет. А за окном пусть бушует ненастье. Да. А сейчас ты дело одно сделаешь! Какое? Читай: «Перед началом всякого дела». Читай. Ну…
Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Так. А теперь повторяй. Громко и четко:
– Я… люблю… этот… народ, какой он ни есть, зрячий и слепый, пьяный и трезвый, безбожный и праведный, драный и сытый, читающий и пьющий, геройский и равнодушный, молящийся и богохульствующий, стоящий насмерть под пулями и позарившийся на бренные блага, предающий друг друга за кусок хлеба и ныряющий за брата в гущу ледяную и огневую! Дай мне сил на это, Господи Иисусе Христе, Мати Пресвятая Богородице, Ангеле Хранителе мой Святый Преподобный Сергий! Это и есть моя честь и слава в тяжелейшее время для моего народа, обезволенного и поглупевшего, готового в тоске на любую кость кинуться: в роковое это время дана мне милость служить ему, воевать за него вместе с теми малыми силами, которые еще способны на войну, и драться неистово и до конца дней своих и если надо положить жизнь! Дай мне, Господи, терпенья стряхнуть с очес пелену невежества моего. Ибо я – самый последний, грешный, безвольный, а главное, самолюбивый червь. Я хуже всех, ибо многое открыто взору моему, а воли и здравомыслия не более чем у малого ребенка. Это и есть моя молитва, Пресвятая Богородице… Это и есть мой путь и крест, и дай мне, Господи, его вынести и не краснеть за слова свои на суде Твоем…
Глава вторая
В магазинах здесь дают продукты под-запись. В ближнем ко мне, «Ландыше», у продавщицы Снежаны истрепанная тетрадка, похожая сбоку на меха гармошки. Меха эти воздушно пухнут с угла. Снежана предложила сама: «Понимаю, что вы сейчас без денег, такие траты на переезд, на обустройство. Снабжайтесь “под-запись”, потом с зарплаты отдадите. Да нормально. Хе-хе, в долг не давать – торговли не видать! Вот пряники хорошие есть наразновес». Правда, передо мной она отшила одну доставучую иссохшую тетку из местных аборигенов, Тамарку. Она требовала под-запись водки и пыталась занять у меня триста рублей «взаимообразно». Здесь очень любят это слово, причем не «заимо…», а именно «взаимо», что отражает некую взаимность обоюдного понимания и выручки. Передо мной снабжался невысокий бородатый человек, лица его я не разглядел, но мне показалось, что он не совсем местный. Глуховатым деловитым баском он спросил Снежану: «А скажи, хозяйка, в какую цену эти сапоги?»
Я попытался получше рассмотреть странного покупателя, но было неудобно заглядывать в лицо, а когда он пошел к выходу, меня снова отвлекла Тамарка. Снежана сказала, чтоб «отстала от человека, бессовестная, он тоже под-запись берет» и покачала головой: «Да вы че такие-то?! Ей говоришь, а она ни але». И дала мне в пакете булку домашнего хлеба и шанюшек. Взаимообразная Тамарка так и осталась докучать при магазине.
Отправляясь в эти края, я думал, что прибуду в заповедник тишины и покоя, в сонное царство, где тебя никто не трогает и в нерабочее время ты предоставлен себе. Оказалось наоборот, и я настолько всем нужен, что спасаюсь лишь этими записками и почему-то надеюсь, что, имея еще неведомую ценность, происходящее не просквозит мимо, а осядет на бумаге плодоносно, оправдав мои деннонощные беспокойства. Хотя возможно, что это лишь жадность, страх за потерянное время. Я ведь правда не знаю, что это: трусость перед уходящим или естественная, как разговор, потребность понять себя, отразиться в русском слове как в мере, каноне совершенства, охладить лоб о прохладный его оклад. Уравновесить душевный пыл, суетность и несдержанность. Причаститься света и крепости, которые будто возьмут на поруки с твоими несовершенствами. Нынешние молодые люди совсем на другом наречии и мыслят, и говорят, да и я, когда перечитываю, не узнаю себя, кажусь намного взрослей и толковитей. И не знаю, честно ли это?
Вчера, едва собрался почитать, прибежала соседка через дом. У нее отъелся кобель, сидевший на веревке, потому что все цепочки «мужик в лес уволок». Больше половины здешних мужиков уже в тайге на охоте, счастливцы.
Перед тем как отъесться, Граф трое суток орал такой дурниной, что, проснувшись в четыре утра, я не мог уснуть. Хотя ор тут стоит повсеместный, потому что количество собак превышает число людей в несколько раз.
Ор особенно силен последнюю неделю: у соседа через два дома «гонится» сучка. Стая из десяти-пятнадцати кобелей различных калибров копятся вокруг виновницы, так сказать, торжества, и пытаются добиться толерантности и одновременно успешности, и вся эта живописная группа беспорядочно вращается по кругу, деря друг друга в клочья. Лай и визг стоит невообразимый, хотя сам предмет поклонения не представляет, с точки зрения здравомыслящего собачьего индивида, ничего особенного. Так… довольно мелкая и драная лохматая субстанция…
Суглан этот, к счастью, не стоит на месте, а медленной трусцой, продолжая вращение, перемещается по поселку, к чему местные жители, включая хозяина субстанции, относятся на удивление спокойно.
У мохнатого ансамбля существует свой график перемещенья, но самое удивительное, что к моему дому они подходят ровно спустя пять минут, как я лягу спать. Независимо от часа отбоя. Отбой может случиться и в одиннадцать, и в два ночи, но псарня подойдет именно спустя пять минут, будто караулит.
Графа этого Кобелянского я еле выловил, потому что, едва я приблизился, лохматый циклон снялся с якоря и унесся с прыткостью, не мешающей участникам успешно и толерантно драть друга на ходу. Успешно, потому что шерсть летела веером, а толерантно, потому что мероприятие, надо отдать должное организаторам, происходило без нанесения серьезных увечий участникам. А жители имели возможность наблюдать, как новый учитель русского языка и изящной словесности несется за собачьей свадьбой с криками: «Стой, падла, убью!»
Граф накрепко сцепился с Пиратом и оба отстали. Пират – здоровенный кобелюга из породы здешних водовозов, очень лохматый, с медвежьей мордой и хвостом, как пальма. Лохмат он невозможно. Шерсть у него изначально белая, но настолько грязная, что цвет ее серо-бежевый, а роскошная шуба вся сплошь в репейниках, как в бубенцах. Нежную серость собакам придает уголь из кочегарок.
Пират очень предприимчивый и вороватый. Раз я колол дрова, как вдруг вздрогнул от далеких, как гром, матюгов. Я обернулся и увидел соседа Тему, бегущего с лопатой. В тот же миг забор перемахнул Пират со стерлядкой в зубах и, снарядом пролетев мимо, так же перемахнул другое крыло забора и скрылся за околицей.
Замечательно полное непризнание Пиратом моей личности – я настолько не представлял для него ни опасности, ни интереса, что он меня едва не сшиб. Напряженная морда с добычей смешно тряслась на скаку, выражение ее было крайне сосредоточенное. Пес бежал, не оборачиваясь, но ухо отлаженно глядело назад, короткими настроечными движениями отзываясь на звуки погони. Прыгает Пират великолепно…
Забор высотой полтора метра для Пирата не преграда. Если его не взять без касания, он разгоняется и взлетает вертикально, быстро перебирая лапами. Когда перескакивает вольерную сетку, на ее зыбком лезвии умудряется забалансироваться, сложиться лапами и еще и оттолкнуться в новый прыжок. Взятие препятствия занимает мгновение.
Я поймал Графа, которому Пират вцепился в ухо. В это время мимо проходил с канистрой и шлангом Костя Козловский, бывший горожанин и отец дотошного Лени. У него с Пиратом особые счеты. Пират – враг Верного, коренника в Костиной собачьей упряжке. Верного держат в вольере, и вольному Пирату доставляет особенное наслаждение дразнить недруга, который стервенеет и заходится, кидаясь на вольерную сетку, в то время как Пират ходит, напротив, с показной неторопливой, что-то будто вынюхивает, и даже не смотрит на Верного. Однажды он взялся ухаживать за дорогой для Верного собачонкой из его же упряжки, Хагдой. Костя куда-то отъехал, а сучонка загулялась. Несмотря на то, что хозяин настрого запретил ее выпускать, Тоня, Костина жена, умудрились Хагду выпустить, и Пират с особым наглым и вызывающим видом любезничал с ней на глазах Верного.
Костя моментально распинал сцепившихся и так вытянул Пирата куском шланга по задку, так что тот, скульнув, выпустил Графа и тут же бодро ринулся за псовым хороводом, который, едва прекратилась погоня, тут же остановился поодаль – как радуга или неопознанный летающий объект. А я схватил кровавого Графа за огрызок веревки и увел к соседке. Он продолжал рваться в направлении Пирата, который уже вовсю вращался в лающей гуще.
Заканчиваю четвероногую тему и безо всяких попыток искусственно присобачить ее к рассказу, возвращаюсь к исходному намерению – доложить, точнее, прокричать, что никакая размеренная жизнь здесь невозможна, так как постоянно приходят с просьбами и предложениями. И дело даже не в осенней недостаче мужиков, почти ушедших на охоту, а в свежести меня как участника поселковой жизни, не запятнанного никакой взаимообразностью. Здесь все настолько ею оплетены, что лишний раз никто никого не попросит. За мою долговую девственность даже борьба. Снятие сливок не касается серьезного и крепкого мужицкого большинства, которым не до меня. Так что в гонке за чистый лист участвуют либо женщины, либо непутевый мужской контингент. Первым приперся один молодой бичик, внешности совершенно не вяжущейся с местом действия: черный, по-гоголевски длинноволосый и носатый, в очках с толстой коричневой оправой и вида какого-то совсем несибирского, еще и ужасно картавящий и похожий на еврейского мальчугана из математической школы времен наших родителей. Сходство случайное, минутное и пропадает, едва он открывает рот, из которого обильно рвутся матерные созвучия. Он абсолютно коренной и простонародный, а облик – причуда генетики.
Чтобы стал понятен произошедший далее разговор, сделаю небольшой отвилок от повествования. Готовясь к северной эпопее, я недорого купил в городе на лодочной станции старый мотор. И гордился бы своей проворотливостью, если бы по приезде не оказалось, что здесь техника у всех новейшая – серые оковалистые и жукообразные моторы висели на каждой лодке… «Вихришка» же попытался барахлить, и я имел неосторожность оброниться, что раз такое дело, то весной, видимо, придется технику менять, на что бодряк-сосед по лодочному стойлу сказал: «Да, конечно, тебе, Серега, путний мотор надо. А то как-то неудобно. Ты же педагог, а не хрен собачачий». Прозвучало это грубовато – и само по себе, и ввиду моих последних собачьих беспокойств, но я пустил шутку мимо ушей – настолько насобачился не подавать виду.
В деревне слово распространяется, как электричество в мокрой среде. Мой гость, которого еще и звали Эдик, зашел, сел на гостевую лавку у дверей и, оглядев мое жилье, задал несколько вступительных вопросов. Чем безмятежнее такие вопросы и чем отвлеченней блуждает взгляд по стенам и книжным полкам, тем я больше нервничаю, гадая, что же на меня в этот раз обрушат? А гость тянет, чтоб домучить и, обессиленного, сразить в свою пользу.
Картавил Эдик очень сильно и раскатисто. Представьте, что небный язычок моего гостя на букве «р» работает, как язык небольшого рычащего колокола. Каждый шарик, каждый зубчик его рыка звучит крайне сочно и зычно, отчетливо и жирно: «жир-р-рная обор-р-ротняя стер-р-лядка», «р-р-работал в пор-р-рту разгр-р-ружал вер-ртаки», «попер-р-рла кр-р-расная р-р-рыба», «нажр-р-ался бр-р-ажки и пр-р-о-овалился в Ер-р-ошкин Р-р-ру́чей», «пр-риобр-рету подер-р-ржанный мотор-р-р р-русского пр-р-роизводства». Далее даю речь гостя в обычной транскрипции.
– Я, Сергей, слыхал, что ты «вихря» продаешь? – сказал Эдик с мужественным холодком, сразу обозначая, что передо мной серьезный человек, а не какой-нибудь бичуганишко.
– Кто это тебе сказал?
– Да ла-а-а-адно… – протянул он с прищуром. – Мне-то можешь не рассказывать… Вся деревня знает.
– Какая деревня?
– Такая. Короче, я знаю, что продаешь. И если че – возьму.
– Да ничего я не продаю, мне еще ездить осень. А тебе куда на зиму-то?
– Мне край двигатель нужен. Для дела одного. Но это никого не касается. И… – Он поднес указательный палец к губам. – Короче, ты понял. А так – деньги сразу. Прямо в этот же день.
– Да ничего я не собираюсь продавать.
– В общем, думай, Серьга. – Он отвернулся и задумчиво постучал пальцами по лавке. – Только некрасиво выходит. Тебе помочь хотят, а ты не ценишь. – И добавил грозно: – Потом поздно будет! Здесь у тебя никто не возьмет «дрова» эти. Все на новые пересели.
– На новые дрова, в смысле? – сострил я.
– Ладно, не умничай. – Эдик и так еле сдерживал улыбку, с которой рвалась наружу его простодушная сущность, и на мой выпад расплылся до ушей.
– Ладно, – сказал я, чтобы отвязаться, – если надумаю, скажу.
Он держал линию солидно и в ключе, и я все ждал, когда наконец проявится его настоящее нутро. Однако после улыбки, стравившей давление его бесхитростных сил, он снова принял фасон, пожал плечами, мол, и не сомневался, да только не понимает, зачем надо было так кобениться.
– Думай. Это в твоих интересах. Да мне и не престиж тебя уговаривать. Грю, деньги в тот же день. Все: мотор – деньги. – Он сделал пальцем распределяющий жест: одно – туда, другое – сюда.
– Добро.
Он сменил тональность:
– Я все хотел спросить, у тя почитать че есть? А то иногда так па-чи-тать охота. Книгу. – И он увесисто подержал это слово в руке.
Продолжаю в воскресенье. Не перестаю удивляться: я хоть и новенький, но меня грузят нарядами безо всякой скидки на мою возможную неумелость.
В субботу четыре урока, и я пришел пораньше. Едва пообедал и прилег с «Чудиками» Шукшина, словно по заказу, пришел Эдик. Принес книгу, которую, видимо, не прочитал, но брал для повода, и спросил про мотор – по-рабочему дежурно и даже показательно-ответственно.
Едва ушел, позвонила Снежана: «Сергей Иванович, полдеревни отзвонила, у кого жрачка, у кого болячка… У вас лодка-то, знаю, на ходу? У меня плаш-кот обсох с продуктами в Налимном, двадцать кило́метров. Его обычно Щепоткин привозит, а у него зубы прихватило, он в город к зубнику уехал… Ну что, поможете? Продукты на зиму… А то я вся на нервах извелась, Дудин звонил, орет как ненормальный, вода падат, он обсох уж, поди. Выручите, пожалу-ста!» – «Ста» она произнесла отдельно и очень громко. «Плашкоут» она произнесла как «плашкот», и я не сразу сообразил, о чем речь. «Ну, понял, выручу, – говорю, – а как его тащить-то? Кота-то этого продуктового?». – «Ну, ха-ха, – шутка про кота насмешила, – слава богу, у меня хоть отлегло… Смотрите, Щепоткин его как-то за середку берет и ташшит. Хорошо, тепло, не померзнут банки». Едва я переварил картину, как Снежана ответственно откашлялась и сказала другим, доверительным, голосом, будто я уже прошел первое испытание и допущен до второго: «Там еще поросята, народ извелся, ждет. Они в трюме с города. Вы их вытащите на солнышко… Ну все, поезжайте тогда сразу. Веревку только возьмите. Я бензин компенсирую». – «Да не надо ничего. Есть бензин».
Сюда ходит с города коммерсант Дудин, у которого по поселкам магазины. Доходит до устья Верхней, бросает плашкоут и «пустым корпусом» идет на сложную порожистую Верхнюю, которую все боятся. В это время Щепоткин тащит плашкоут к нам через Налимный, где вроде заимки и всего трое жителей. Потом Дудин на пустом пароходе забегает за выручкой и забирает плашкоут.
Я поехал в Налимный – это вверх по течению по правой стороне. Там стоит этот самый плашкоут, баржонка с кубриком. Продукты на месте, капуста в мешках, поросята в ящиках. Ящики со щелями меж реек. В кубрике воздух тяжкий. Капусту и поросят я вытащил на палубу.
Нос у плашкоута обсох. И вот задачка: спихнуть его с галечного берега и умудриться на него вскарабкаться, потому что нос высоченный. Лодку я сразу привязал к борту, а сам корячусь с берега вагой. Не думал, что пойдет, но вага – сила. Я видел, как старовер спихивал вагой тридцатитонный «сандакче́сский экспресс».
Нос плашкоута подавался тяжко, с подводным шелестом, хрустом железа о гальку. Едва он освободился, как стало наваливать течением корму, и я почувствовал забирающую силу реки. Все происходило крайне медленно, но тяжесть и медленность только подчеркивали необратимость. Мятый утюг носа отходил незаметно, но мощно. Я ухватился двумя руками за фальшборт и, извиваясь, вскарабкался на нос. Пробежав по палубе, спрыгнул в лодку, завел мотор и, перевязавшись за нос, потащил плашкоут на буксире: «Не знаю, за какую середку брал Щепоткин этот, но мне хотя бы от берега оттянуть его. Там течением подхватит, а дальше только подправляй».
Едва я так подумал, баржонка стала со всей тупой постепенностью зарезаться в береговую сторону или в берег, как здесь говорят. Я буровлю мотором на месте, мятый нос неумолимо тащит вбок. Да так мощно и бесцеремонно, как будто я мальчишка и меня за портки хватают и волокут на расправу. Происходит все на мысу в повороте. Фарватер здесь у берега и очень узкий, и нас несет на красный бакен. Он ближе и ближе, а я знаю, что по закону, который специально для этого придуман, меня на него и набросит.
Тащу я свое наказание от бакена. И дивлюсь: мог бы я подумать месяц назад, что окажусь посреди пятикилометровой реки сидящим в лодке, да еще с каким-то неуправляемым плашкоутом, полным продуктов и поросят. Почему я всегда влезаю в передрягу! Почему, когда о чем-то просят, соглашаюсь, как завороженный? Будто неумолимая сила тянет сказать: «Да», хотя честнее отказаться.
Перевязался за середину – оказалось лучше, но все равно: чуть не соразмеришь обороты – пропало: плашкоут начинает зарезаться в поворот, из которого его вывести целое дело. Вроде выровнял, а он продолжает давить. Не удержал – пошел крутиться.
Едва приспособился, из-за мыса показалась огромная самоходка и нацелила в лоб. Я попытался изменить курс, не сорвавшись в новый оборот. Самоходка прошла рядом, раскачав нашу сцепку так, что лодку елозило и скоблило о плашкоут безобразно.
Не успел перевести дух – сбоку наискосок валит сандакче́сский экспресс. Так флотские зовут тихоходные самодельные посудины, которые варят староверы в Сандакчесе. Длинная плоскодонная баржонка с рубкой в носу и дизелем. Может ползти вдоль берега, может плестись наперерез пароходу – вольная флотилия.
И вот этот «экспресс» тарахтит с той стороны и держит на меня. Причем как-то зигзагами. Едва я так подумал, как вдали замаячил еще бакен с «вехо́й», а сзади стал нагонять сидящий по борта танкер. Представьте себе текучую стихию реки, дышащий живой пласт, скользящий вдоль галечных кос и каменистых мысов. А по нему ползут в разных направлениях три транспорта и сгущаются вокруг груженого плашкоута, который может сойти со своей оси при первом неверном движении румпеля. И уже зарыскал, потому что начался перекат с широкими и упругими водоворотами. Каким-то чудом танкер обошел меня, сверкнув отмашкой. Косо торчащая веха проехала мимо, с дрожью вспарывая воду, словно кто-то в речном нутре держал ее напряженной и судорожной ручищей. Даже представилась эта рука, и ее сведенные, распухшие суставы. Такие сучки́ попадаются на берегу – черешок истерт в гусиную косточку, а сустав-набалдашник необыкновенно выпуклый и глазастый.
Сандакчесский экспресс исчез так же таинственно, как и появился. Я было успокоился, как вдруг из-за носа плашкоута выскочила обшарпанная лодчонка и, описав круг, приблизилась. В ней сидел не кто иной, как гоголеобразный Эдуард, который меня узнал не сразу, а только когда сбавил ход. Его продолжало бессильно подносить ко мне, по мере того как в глазах догорало замешательство и запоздалое поползновение проехать мимо. Он понимал, что веселый раскат по реке нарушает образ его безмоторности. Он храбро переборол себя, широко улыбаясь, подцепился к борту и вытащил затертую коньячную бутылку. Я расшифровал на ней надпись «Дон Карлос».
– Здорррово, Серрега! Кого-кого, а уж тебя я не ожидал тут встретить! От ты мужик – чрез реку вж-ж-жик! Ты смотри, тихой-тихой, а вон какую пароходину отхватил, ха-ха-ха! А я думал, это Щекоткин, хе-хе! – Он сам, как от щекотки, хохотнул над тем, как переиначил Щепоткина: хмель высвободил в нем словесную жилку, и он то переиначивал слова, то рифмовал. Глаза были красными. Веселый и взбудораженный, распираемый предыдущими приключениями, он потряс бутылкой:
– Хе-хе. А я еду с рыбалки, выпить охота, сначала Мотю встретил, с ним давай сначала, ну… – Он вдруг нахмурился, опустил глаза и сказал скрипуче: – Он не хоте-е-ел, правда… у него дела, на участок собирается, еще вечером тугуни́ть… – Эдя развел руками: – А че поделашь? Пришлось Мотьку затравить. Неправильно, конечно: он теперь не остановится. – Эдя стряхнул сожаление и добавил с вызывом: – Ну и че теперь? Не попадайся навстречу! Сам, когда ему надо, глыкат по-тихой, чтоб баба не видела, а тут я виноват! – и решительно махнул рукой: – Короче, он уехал, а я смотрю, сандакчесский экспресс прет, я к нему, а там ребята молодые, один рулит, остальные у печки сидят, мы, грят, бражничам… садись с нами… Брага такая, как яблоко… холодная, ррезкая, аж в нос шибат, – он с силой сжал кулак. – В общем, пображничал с ними с превеликим удовольствием, отцепился, смотрю, еще какая-то трахома ташшится сверху, подъехал – плашкоут Снежанкин. Будешь?
– Да можно, а то баржонка эта все нервы вымотала.
– Да ладно, забудь про свою бражонку, я тебе нормальный напиток привез, – повернул он так, будто приехал мне на выручку.
– Да не бражонку, а я про калошу эту…
– Да нормальная калоша. – Он беззаботно махнул рукой. – И бражонка тоже пойдет, если че!
И придвинулся, подщурился на один глаз и сказал с конфиденциальной улыбочкой, негромко и доверительно:
– Давай коньячку, – и еще так губу нижнюю подвыпятил, мол, это для тех, кто понимает, не для бичей каких-нибудь, так что цени доверие.
Я изо всех сил выправлял баржонку. Эдя налил в обрезок пластиковой бутылки и в крышку от термоса. Напиток оказался коричневатым, судя по всему, спирт на орехах.
– Это что у тебя?
– Коньяк, – невозмутимо ответил Эдик и указал рукой: – Туда подработай, не видишь, заваливает? У меня еще была одна, но мы с Мотей выдули… Или, вообще, знаешь? Заглуши. Заглуши его к хренам небесным! Давай сплавимся. Здесь нормально! У нас полтора кило́метра безопасного сплава. – О-о-н до того бакана, а если нас вон то улово поймат, то двойной тягой оттащим. Двое – не один! – говорил он колоритно, и я с удовольствием заглушил мотор.
– Тем более, че вот она порожняком течет? – Он указал на воду: – Пускай нас тащит. Не употеет. А мы пока коньячку. Коньяк это такая штука… Он покоя требует. Вот слушай, тебе интересно будет… – сказал он, видимо, намекая на мои записки. – У меня, короче, дядька, Дя-а Юра, бортмеханик, в Туве жил, в Хандага… Хангадай… Хандагай… – Не взяв с наскоку, он выдохнул, демонстративно притих и сказал показательно спокойно: – В Хандагайтах жил. На заставе. А в Кызыле у него дочка. У ней мужик – охотовед. Тувинский Зять кличка. К нему на охоту люди вало́м идут. И короче, с Испании приезжает один, в общем… дон. Дон… Как его? Ну… не помню…
– Дон Карлос, – предположил я. От «коньяка» у меня отлегло.
– Да. Дон Карлос, – оценив мою находчивость и радуясь, что я включился в игру, весело согласился Эдя. – И они сначала едут на Хындик… на Хиндык, едут на Хындыктык… на Хиндикдик… – Он пытался в несколько попыток форсировать Хиндигтик-Холь, но ничего не получалось: – В общем, на Хындык…
– На Хындык-Тайгу.
– На Хындык-Тайгу… И там дон настрелялся козлов до больного плеча, нарыбачился, аж рука отваливается… и стакан еле держит, и говорит… Давай намахнем… Это, в смысле, я говорю уже… А не дон… Хе-хе. Давай. Букет чувствуешь? Вот то-то. Короче, дон говорит: знаешь, Тувинский Зять, я так хорошо у тебя отдохнул, что приезжай-ка теперь ты в мое испанское графство-государство. Хорошо, говорит Зять. Ну и едет, как словом так и делом. А дон селит его у себя в замке. Селит. От те койка, от те мойка, от те принадлежность мыльно-рыльная, в общем, все как у людей. А под за́мком, – секретно прищурился Эдя, – хе-хе, подвал… А в подвале колидоры подземные, а в них погреба винные-глубинные. Хе-хе… Короче, дон, оказывается, коньячный барон. И каждый день дон-барон велит с подвалу поднять коньяку… А коньяк, я тебе доложу, такой, что губа сначала разворачиватца, а заворачиватца… Короче, они три дня кряду. – Он поднял палец. – Сидят у камину, едят бычачью бочину и пробуют на губу коньячину. А надо сказать, что у Зятя губа далеко не дура. Что у Зятя губа – далеко не так слаба. Хе-хе… И вот к концу треттего дня дон Карлос, или как его там… говорит: дорогой Дон Тувинский Зять, теперь я тебе доверяю, как самому себе, пойдем-ка пройдем по подземелью. На что Дон Зять говорит: почему нет? Мы с тобой по Хиндык, по Хындык-тык-тык-тык… по Хунды…
– По Хындык-Тайге…
– По Хындык-Тайге шарохались, а уж по каком-то подземелью всяко-разно прошкребемся. Они спускаются… А там этих бутылок… – Эдя повел рукой. – А они такие пыльные, и идут так вот… в глубь средневековых времен, иначе не скажешь… И чем дальше в подземелье – тем старее бутылка. Только не думай, что они каждую дегустируют. Они продвигаются и оттяпывают так это… лет по пять исторического пери́воду. В общем, остановятся, тяпнут – и дальше. Тяпнут – и дальше. А чем дальше они тяпают, тем вкуснее коньячина. Обожди, давай я на плашкот слажу, пожрать че-нибудь возьму.
– Возьми, Дон Эдуардо, там в мешках капуста. Только поросят не трогай.
Эдик принес вилок капусты:
– Не сказать, что упитанное свинство, так… супорось доходна́я… Доходна́я… дохо́дная… На чем? Дохо́дная, доходная… А! Доходят они до поворотка, где колидор ломатся. – Эдя показал его изгиб ладонью на ребро. – А там такие коньячины, что каждый можно в ломбард зало́жить и на все поло́жить: сто лет жить безбедно и припеваючи, хе-хе. А после поворота там старина аж… заваривается! Вековая! – рыкнул Эдя. – Аж в глазах от нее мутно. А барон тогда цопэ́ с полки пузырь, пузатый такой. Открывает… наливает… а там… ммм… – а там така-ая вкуснятина, что аж плакать хочется. Такой букет, что хоть ложи его в пакет, ха-ха! Но барон его затыкат и бац на полку, мол, это так… ерунда. Разминка перед боем. Мол, вот там да-а-альше – да! Там действительно букет. А это так… прошлогодняя солома. Дудка с Нижней Кулижки. А наш-то Зять с удовольствием бы посидел на такой Кулижке, он бы встал на ней станом и еще бы бычков взял на передержку, а сам бы, как конь, матадором ишачил до самых зазимкав, ан нет – дудки, хе-хе! Барон тащит дальше и дальше. – Эдя окончательно нашел ноту и она рвалась в бой. Он все больше распалялся и рубил рукой, как лопаткой: – И они все пробуют и пробуют. И вдруг Зять чувствует, – Эдя настороженно поднял указательный палец, – что пойло-то уже не то пошло, что пусть оно и старше, но как-то резче становится… Что горчат эти выдержанные хваленые сортовые коньяки – как… э-э-э… – он уже привык, что слова сами подскакивают в нужный момент… – как… э-э-э… на солнце тальники́[24], и чем дале, тем боле… А дон-гвидон волокет его дальше, а там уже не просто горчит – там де-рет. Да не то что дерет, там просто задирает, не хуже, чем спирт у нашей тетки Натальи с Нижнего Взвозу. Видать, пе-ре-стояли они… – Он поднял свой безотказный палец: – Потому что все на белом свете… вовремя должно быть вы-пи-то! Подняли!
– Да ну, так не может быть.
– Да как не может?! – вскричал, возмущенно жуя капусту и ходя желваками, Эдя, так что несколько крошек вылетело мне в лицо. – Я тоже думал – не может. Может! И еще как! В том-то все и дело, что может!
– Так там же купаж!
– Купашь коней у лиственей… – подавшись ко мне, грозно продекламировал Эдя: – А там Европа! И дону охота, чтобы Зятю понравилось. А Зятю-то оно все вот уже где! – Эдя провел по горлу: – Оно уже вообще не по Зятю! И Зять, а его, я тебе скажу, на мякине не взять, видит каменный столбушок – а ну-ка, ходи сюда! – Он изобразил пальцем призвание Зятем столба. – И цепляется за столбушок одной ручищей, а другой хвать барона за шкварник: «Куда ты меня ташшышь, дон ты мой дорогой, отпинать тебя ногой? Ты куда несесся, испанский ты дон человек? Челдон ты испанский! Я хоть чалдон сибирский и зять тувинский, а и то понимаю, че к чему. Ведь так же хорошо все шло! Такой был путний коньяк, там, коло поворота в дымные эпохи. И уже не помню сколь на нем звезд, но все бы наши были. Самый букет! Разъедри твой этикет! И теперь ответь: куда мы с тобой ломимся, как будто за нами гонятся шатучие медведя́?! А? Медвядя шатучия, дикие да злючия! Мы ково потеряли? Ково мы ломились, когда надо было никуда не ломиться и спокойно сесть на тубареточку, спокойно открыть ту самую поглянувшуюся бутылочку и с нею в обнимочку просто-напросто спокойно па-си-деть! Вот так как мы с тобой сейчас и делаем, досточтимый дон Сергуччио… дон Сергундо де Свиноперевозо, э-э-э… дон синьор Хряко де Кабано… эль Хрюкотранспортирадо! – И он поднял крышку от термоса: – Хрюко!
Заковыристый тост, видимо, традиционно прилагался к истертой бутылочке.
– Отличная история. Я тоже считаю, что давным-давно уже пора посидеть у своротка. Это ведь прямо в точку! Прямой расклад! – я невольно говорил ему в тон. – Вот смотри! Вот например, этот твой охотовед – это кто?
– Как кто? Тувинский Зять.
– Да какой Зять? Я образно. Отстранись… Это же Россия!
– Да ну! – восторженно воскликнул Эдя, не ожидав столь образной трактовки… – Так. А барон? Ну-ка, ну-ка? А барон тогда че за энблема?
– Да это все энблема! Ты че – не понял? Барон – это Запад!
– Вон ты куда. Нормально!
– Да. А этот темный коридор…
– Думаю, Организация Объединенных Наций, – осторожно предположил Эдя.
– Это научно-технический прогресс.
– Да, н-но, – возразил Эдя разочарованно, какой эт прогресс? Эт не прогресс, это какая-то… гонка соболя от ко́беля… Прогресс – это другое… – Он задумался, подбирая слова. – Вот смотри. – Он повел рукой: – Течение… Бесплатная вещь. Дармовая сила. Видишь, столько вокруг дармовой силы? И мы. Мы движемся! Нам скажут – вы ничего не делаете. А я скажу – хрен ты угадал, мил-человек! Хреноф, как дроф! Это вы ничего не делаете! У нас-то как раз все делается: у нас, будь добр, груз доставляется к заказчику, капустка доходит, помидоры, можно даже сказать, томаты краснеют, яблоки наливаются, словно красны девицы пред добрым молодцем! Стань-ка передо мной, как лис перед дрофой! Хе-хе! И это, заметьте, при полной экономии горючего! У нас белоконное, в смысле, бело-беконное животноводство: свинни! Свинни растут, набирают вес, того гляди взломают свои… постылые клетки! Плюс ко всему мы еще обсуждаем проблемы. Хотя вру! Как раз все остальное плюс к этому! Остальное – к этому! И ты говоришь, мы ничего не делаем, да? Да хрен ты угадал! Мы делаем главное. Мы все организовали. И спокойно сидим! От это и есть прогресс! Это и есть самый прогресс! Все остальное – ногозахватывающий капкан для а… для окуневшего человечества! Верховая кулемка с… э-э-э… с… э-э-э… насторожкой челачного типа… – выпалил Эдя и победно зыркнул мне в глаза. – А у нас прогресс. А прогресс нужен, чтобы… – Жилы на худой шее Дона Эдуардо надулись, и он взревел: – Прогресс нужен, чтобы мы-слить! Да. А че? Мы мыслим. Мы столько с тобой сегодня намыслили, сколько мыслей налопатили, наваляли, с корня взяли – целую деляну! Да! На связи. Пожалста, присылайте представителя… освидетельствовать лесосеку. Да. Милости просим. Вот пожалуйста – мысля, как говорится, соковая-строевая, шкуреная-ядреная, аж звенит – два сучка на шесть погонных метров – хоть за море гони… Это вот вершинник, а это так – сучья-дрючья… дураков морочить. Ау, контора! Никанора, хе, – сказал Эдя развязно, приложив к уху капустную кочерыжку: – Это Верхний склад, дак че вы там говорите, народ из села в город дерет? Да нет, у нас как-то наоборот! Наоборот! Так что милости простим к нам на перфора… на периферию! Приезжайте. Мы вас жить научим! Эх, и работать, и кушать, и отдыхать культурно. А ты как думал? Ешь – потей, работай – мерзни. Мыслить – самая трудная работа. А после работы и сон сладок. Иэ-эх, растянуться на нарах… печуганочку подтурить добром… И снится мне со-он, – запел-затянул Эдя и, неожиданно вскочив и заходив плясово́, зачастил: – Как заплыл мне в ж… сом, а за ним два налима и всякая др-р-ругая р-р-разная рыба, и сор-рога, и пескарь, и нещипаный глухарь. – Эдя сел обратно и принялся стучать себя в такт по коленям: – На болоте мошкара, по четыре комара, толстомордый бурундук прет ореховый сундук, росомахи и песцы тащут зиму за узцы, эти… как ево… олени, ехо-ехо-ехорь-е, пушнорылое зверье, кто тут едет вверх по Лене на оструганном полене, это ж Мотька, е-мое, – Мотьке ехать в зимовье! Йэ-эх! – Эдя махал руками, но взгляд его уже плыл, и когда он моргал, веки ходили, будто в густой розовой смазке. – А лесные сеноставки, попросились на полставки заготавливать покос для промхозных для стрекоз, эх ежкин коток, таежные скитальцы – уходили без порток, возвращались в малице! Проросла моя нога скрозь родные берега, узнаю тебя, тайга, в каждой загогулинке! Приходи на посиделки, белки просятся в тарелки, утром бегали в мехах – превратились в куренки[25]. Не хочу глядеть в стакан, а пойду по путику, лезет в плашку и капкан белка, дятел и ушкан. Ковролетные летяги на воздушной, эх, на тяге! Рассчитают шаг винта – остальное от винта! – последние припевки ему особенно понравились, и он повторил:
Опа, опа, трит-татушки, Эдуардовы частушки! Эх, жизнь-красота, Отвалите от винта! Мотька понял бы сполтыка, Что у нас за закавыка, Я поехал на простор Осв… освдт… идетельствовать Серьгин мотор! Он работат кое-как, я еще подумаю, Брать такое барахло или сразу выки… Иль пустить на якорек, Эх гусь, глухарек, жареные гузочки… Или сразу барахло поменяю на бухло… Если купленный «вихрек» Не выдержат нагрузочки… Эх, ек-мокалек, опустевший бутылек… Погляжу в подводну часть Подвесной конструкции, Есть ли там на месте винт И что на нем за лопасти. Если лопасти на месте, Та-та-тара-татата, Всем устрою шаг винта, Остальное от винта!Бутылек окончательно опустел и Эдя, блуждая взглядом, прозаично свернул концерт и унесся в поселок.
Небо, ветерок, разлетная даль, упругие водные силы так же стояли поодаль. И за балагурством только казалось, что они отошли и ослабили свой спрос. Едва скрылся Эдя, как навалились на меня речные воздушные пространства, чуткие и могучие токи. Ветерок насек темные скобочки на гладкой водяной коже, навалился на плашкоут, и оказалось, что меня довольно сильно отбило от берега… Это было плохо: могло утащить в другой фарватер и пронести мимо дома. В этот момент раздался истошный визг, от которого кураж слетел во мгновение ока. Бросив мотор, я вскарабкался на палубу и увидел, что ящик взломан, и один поросенок уже выбрался и трясучей торпедкой носится по палубе, болтая ушами, и того гляди сорвется за борт. Я еле поймал тугие бока и, едва удерживая, понес к ящику, из которого в это время топырился второй и готовился к десанту третий.
Представьте себе шершавого, тугого, как надутая камера, поросеныша. Плотного и тяжелого. Которого еле удерживаешь за наждачные борта – на них ни складочки – можно только сжимать, что на весу почти невозможно. «Орать как резаный» – точнейшее определение. Уровень визга совершенно не отвечает размеру опасности. Абсолютная истерия – ничего более!
В ящике выломаны дощечки и торчат розочкой, из них вырывается наружу второй свин. В соседнем ящике наблюдают, повизгивают и визжат истошно в особо волнующие моменты. Надо затолкать в розочку одного, который в руках, и поймать другого, пока не вылез третий. Хорошо, что рядом лежит комплект печного литья: дверцы и чугунная плита с кружками. В общем, я все это осуществил, привалил ящик плитой и бросился в лодку, потому что плашкоут уже крутился и его несло на галечный опечек.
Едва я потянулся к мотору, как объединенные поросячьи силы второго ящика взломали… и этот ящик…
Глава третья
Зазвонил телефон. Сережа нехорошо, трудно замер, прикрыв глаза с дрожью в веках, шумно и отрывисто выдохнул и очень медленно, будто впечатывая, положил ручку всей длиной-плоскостью. Худощавый, с темно-русой слабой бородкой. Глаза большие, серые, из тех, что принято называть лучистыми. Они придают одухотворенный и прямой вид. И лоб тоже прямой, челка высокая, торчащая крепко. Выражение какой-то удивленной готовности, будто он еще минуту назад расслабленно дремал, и вдруг его разбудили для трудного и небывалого дела.
Он сидел за столом перед открытой тетрадкой. В пузырьке стояли фиолетовые чернила и рядом кружка с горячим чаем. Дымок вился туманной спиралью.
– Слушаю. Да!
– Сергей Иваныч! – раздался взволнованный женский голос. – Это Наташа Щелканова. У вас фонарик есть? Бежите! Бежите на берег! Там Мотя Степанов… Под Тимкиной Корго́й… Мой поехал на лодке… Надо встретить… Агашка прибежала… Неладно там…
Сергей порывисто и по-ответственному быстро оделся: куртка, большие сапоги из легкой пористой резины. Стоявшие наготове, они даже будто потянулись к ногам, как трубы. Шапка, фонарь на лоб… По длинной крутой лестнице, потом по тропе меж камней Сережа спустился на берег, пологим галечником сходящий к воде. Там еще никого не было.
Чем больше возвышался, оставался дальше за спиной угор с невидным поселком, тем сильнее Сережа лишался тыла и принадлежал воде, чувствовал ее иную плоть, иную тектонику, в которой и звуки, и запахи, и расстояния жили по своим законам огромной и дышащей плоскости. Чем ниже спускался к границе, к холодной и кромешной черте галечника – тем сильнее ощущал отрешающее действие, пронизывающее излучение этой поверхности… Несмотря на то, что вроде бы спускался вниз, едва он достиг границы, едва слился с уровнем, лежащим вкруг на десятки верст, – как все, что за спиной, провалилось, ушло за горизонт, и остался человек на кромке, как на вершине. И живая трепетная мгла, прошивающая до костей…
Каждый раз он вспоминал о подобных ощущениях, как об откровении, потому что не может хранить память такое смешение запахов, дуновений, плесков… Нельзя быть настолько пронизанным тишиной, в которую вслушиваешься, проваливаешься, и она расступается, расслаивается на столько звуков, звонов… Позывка-стон невидимого куличка, шелест севшего табунка утиного… Все невидимое, все наощупь, на доверии. На тайне.
Из-за спины, от поселка тянул восток. Рябь будто из ничего завязывалась в отдалении от берега, но ниже, от устья Рыбной, где берег сходил на нет и не защищал от ветра, негромко, но мощно и раскатисто шелестела волна. Сергей подошел к своей лодке, поболтал холодный бачок, который тоже был частью ночного стылого и внимательно-сырого мира. Бродя по мокрому галечнику, он старался ступать осторожно, сдерживать мерный сырой хруст. Вслушивался, меняя направления ходьбы, ловя угол простора. Казалось, особо удачно повернувшись, что-нибудь наконец уловишь. Вдали вроде бы завязался звук мотора… то пропадая, то исчезая. То вдруг усилился, а потом снова зазвучал тише и вдруг неожиданно загудел уже рядом и ближе, чем думалось. Подлетела темная стрела лодки. Ткнулась в шуме догнавшей волны. В руки Сережи из лодки выскочила Агашка под Темин крик:
– Сюда давай!
В лодке лежал, как труп, голый, в трусах, ледяной человек, которого Сергей сразу не узнал, хотя и понимал, что это Агашин отец – настолько он имел другой облик, усугубляемый мертво-голубым светом фонарика… Мотя был напряженный, как доска, как мокрый ледяной балан, топляк… Черная щетина, волосатая грудь, крылатые завитки симметрично узорятся к середке грудины. Сергей сорвал с себя куртку. Матвей пошевелился и еле проговорил: «Я умер». Втроем вытащили его на нос, где Матвей начинал складываться пополам от приступов крупной дрожи.
– Давай одеваем! Час бултыхался!
– Давай, Тем. Лодку сам вытащишь. Сади его мне на закорки. Я его к себе попер.
Все происходило одним порывом, быстрые сильные движения, слова, которые сами говорились. Сергей, не чуя дыхания, выпер Мотю, тяжелого и клещами сжавшего его тело, к лестнице, а потом выжимал его, вытягивая, цепляя рукой за перила, как лебедкой. Агаша побежала вперед и открыла дверь, он втащил Мотю в избу и свалил на кровать.
Мотя лежал, заволакивая на себя покрывало, руки сгребали все, что попадалось. Он только приходил в себя. Дохнул, и от него нанесло перегарчиком. Он был, как холодный замытый топляк с песочком в трещинах, он был частью реки, гальки, тины, стыни, которое его тело в себя натянуло. Речная толща уже начала равнодушно его перерабатывать, перетирать, возвращать камню, песку, гальке.
Давящая ледяная стихия пропитывала тело миллиметр за миллиметром, и оно становилось спокойным и таким же равнодушным, будто чужим, с тем особым холодом, который так поразил Сережу у лодки. Целый час со всех сторон в Матвея вдавливалась река, и он отступил в самую сердцевину-середину себя, и ему все трудней становилось говорить с миром через наросший настывший панцирь. Когда ужавшийся почти до ребенка или старика живой еще человек пытался докричаться до людей, голос продирался сквозь ткани судорожно и издалека. Он пролепетал медленно и откуда-то изнутри:
– Я замерз, Серьга, че я так замерз?..
Зашел Тема с бутылкой водки:
– Держи! Я пошел на дизельную, у меня дежурство.
– Да у меня есть. Ну, погоди… Агаша, беги домой, тащи одежду батину! Только мать не пугай. – Сережа хотел отправить ее, чтоб не слушала. – Да как все вышло-то?
– Не говори ничего, по́няла? Скажи, оборвался.
– Обожди, давай позвоним ей. – Сережа взял трубку: – Валентина Игнатьевна, это Сергей Иваныч. Тут Матвей оборвался в воду маленько, сейчас Агаша прибежит. Он у меня. Вы одежду сухую приготовьте. Да нет, нет, зачем? Не волнуйся, все нормально, подсушится и придет. Не за что.
Агашка убежала. Все это время она ничего не говорила, только смотрела на отца во все глаза. Веки были красными, взгляд напряженным, а лицо осунулось и казалось резче, суше и взрослей.
– Ну что там было-то?
– Агашка прибегает, кричит: «Папа тонет!»…
Мотя был самый обычный деревенский мужик, трудовой, а главное, очень коренной, местный, такой же крепкий, как здешние камни, лиственницы, корнями цепляющиеся за скалу, весь скроенный таким, чтобы устоять на этой ветровой, вьюжной, базальтовой тверди. Мужественность, звенящая и естественная неотесанность словно уравновешивала полную отесанность Валентины Игнатьевны, ее официальную огранку. Сережа с добрым любопытством пытался представить, как они дома разговаривают, обсуждают хозяйство, потому что со стороны они совершенно не подходили друг другу. Валентина Игнатьевна расслабленно чувствовала себя в Мотиной защите, кроме тех случаев, довольно, впрочем, нечастых, когда он кратко загуливал. В тайге он не пил, но дома, пока жены нет, тихонечко прикладывался, причем особо не шалил, и иногда было даже трудно определить, пьяный он или нет. Валентина Игнатьевна тренировалась в определении его по телефону, знала, когда он даже полстопки пригублял у товарища. Звонила в момент, когда он выдыхал и только собирался закусить.
Мотя тянул домашнее хозяйство с абсолютной врожденной легкостью. Без всякого оттенка напряжения. Был он вообще какой-то… врожденный. Коренастый, резковато-ухватистый. Плотный. Породистый сильной мужской породой… Темной масти чуть с отливом в про́золоть, стриженный бобром, обильно щетинистый. Голос резкий, низкий. Лицо плотное. Кругло-квадратное. Все части, черты крупные, напластаны густо, уверенно. Курносый нос, вздернутый, упрямый, ноздри продолговатые, длинные, брови, сросшиеся в прямую черту, веки толстые, ресницы выгнутые, будто чуть мокрые. Глаза чуть прикрытые, в лице что-то кубинское… Пока не подымет глаза, которые оказывались серые в зелень. Когда толстые веки опущены – немного капризное выражение, брови, наоборот, высоко подняты и получается больше расстояние между веками и бровями. В жизни сдержанный, немного недовольный, мрачноватый. Когда выпьет – сдержанность выходит, будто он сам устает от резкой своей хватки.
В тот вечер после злополучной встречи с Дон-Карлосом Матвей не сумел себя пересилить и, дома продолжив гулянку, поехал с Агашей на косу тугунить. Тугун, как и многая рыба, идет к берегу в сумерках, поэтому на тоню́ встают с вечера. Они сделали несколько заметов и уже отрыбачили. Матвей отвязал веревку от лодки и по хмельной бесшабашности легонько подтянул лодку и, повернувшись спиной к реке, возился с лежащим вдоль берега неводом. С фонариком они выпутывали из невода ершей, шершаво-топырливых, с лилово сияющими глазами. Если оставить – собаки выгрызут вместе с неводом.
Река Рыбная впадала в Енисей под острым углом, и через косу тянул с нее крепкий восток, оказываясь на Енисее отбойным. Если стоять спиной к косе и лицом к Енисею – ветер лупил в спину через косу с простора Рыбной. Рябь на Енисее начиналась прямо от галечника. Вдруг Агашка закричала:
– Папа, лодка!
Лодку отбило ветром от галечника и тащило в реку. В темноте она еле виднелась. Пока Мотя снимал сапоги, штаны с широким офицерским ремнем и ножом, ее оттаскивало и в реку, и одновременно уносило течением вниз – и она моментально оказалась ниже острия косы напротив устья Рыбной. Мотя добежал до этого острия и бросился в воду. Через какое-то время Агашка услышала далекие крики:
– Агаша-а-а, доча! Бежи! Бежи, доча, в деревню! Не выплыву! Бежи! Бежи, моя!
– Папа, не умирай! – истошно закричала Агаша и ринулась в поселок, до которого был почти километр, постучалась к Сереже, потом к Теме. Тема оказался дома и вместе с Агашей помчался на выручку. Шансов найти в полной темноте посреди огромной реки тонущего человека почти нет. Тема ехал, время от времени глуша мотор и слушая. Так повторялось трижды. Тема уже решил повернуть, но встал в четвертый раз: «Агашка, кричи!» Агашка закричала: «Па-па-а-а-а!» Раздался далекий ответ.
Мотя еле барахтался в километре ниже устья Рыбной и примерно в полукилометре от берега. Когда подъехали, он уже «курялся» – нырял и выныривал. Сначала он выставил руку, как веху, а потом, из последних сил рванувшись вверх, обнял снизу нос лодки и замер железным замком, придя в полузабытье, как бывает, когда спасли. Тема перелез на нос, попытался расцепить Мотины руки, но того свело мертвой хваткой. Тема тогда дал ему по ушам ладонями, отодрал руки и перевел под борт, как балан. Стрижен Мотя коротко и за волосы было не ухватить. Тема еле подхватил его за шею и за трусы и перевалил. Тот свернулся калачом. Тема накрыл его своей спецовкой и велел Агашке ложиться рядом и греть.
Тему распирало возмущением от того, что учудил Мотя, восхищеньем его же живучестью и тем, как умудрился найти его ночью посреди реки.
– Ладно, днем, а то прикинь – ноч-чю. Ноч-чю! Да и вода-то ни хрена ни кипяток! А он, я те грю, курялся уже… Был бы трезвый, давно к налимам ушел бы! Хе-хе… От дела! Ладно, пошел.
Мотя, все тянувший, по-звериному загребавший на себя покрывало, дрожал мелкой дрожью и просил еще укрыть его, повторяя: «Что ж мне так холодно?» У Сергея был спирт, он смочил им конский вязаный носок и долго растирал ледяное и сырое особой плотской тяжестью тело – крепкое, щетинистое, твердое, как бывает твердым мокрый песок. Грудь с узором волос, с красно-синим кровоподтеком – следом от борта лодки, дюралевой ребровины, через который его перевалили. Потом Сергей надел на него эти самые грубые конские носки, отцовские еще, почти музейные, привезенные из города.
Глаза у Моти были полузакрытые и будто уменьшившиеся. Сережа никогда к нему особо не присматривался и толком его не помнил… Сейчас видел его сильное, заросшее темной щетиной, очень курносое скуластое лицо, с припухлыми, будто всегда заспанными глазами, со сросшимися бровями, со складками по подбородку, по щекам, которые темная щетина повторяла, послушно складываясь, заминаясь, по ложбинам.
Сережа влил в него водки и все растирал шерстяной рукавицей. Тот начал оживать, но был таким же ледяным и так же трясся. Видя, что водка не берет, Сережа заставил Мотю выпить стопку чистого спирта, которую тот принял, не заметив и не поперхнувшись: засевшая внутри стынь поглотила жгучую жидкость, не заметив. И снова тер и тер. На третьей стопке спирта Мотя как-то по-жизненному отозвался, потом вдруг попытался приподняться, но лег опять. Потом все-таки сел. Сережа напялил на него шерстяной свитер и штаны.
Прибежала Агашка, принесла одежду. Мотина глаза чуть заблестели, расклеились, он огляделся, приподнялся на локте:
– Я где? Я у тебя, Серег? – Скрипуче прокряхтел: – О-о-о…
– Ну как, согрелся?
– О-о-о… – Он увидел Агашу, и что-то в нем стало происходить: – Доча, ты? – говорил он низко. – Ты здесь? Хорошо. А я, Серег… Я в рубашке… В рубашке родился, Серьга… Эта она. Доча… Она спасла… Я же дурак, дурак… Я в воду за лодкой, а там ково… Не видать нич-чо… я гребу, а она ни на грамм, потом вобщэ закрутился, вобщэ ничего не вижу, где берег, где че… Она как закричит: «Папа, не умирай!» О-о-о, Серега… Доча… Если б не доча…
– Да конечно, в такую даль бежала! – рвалось из Сережи. Снова и снова он представлял, как она бежала, а в ушах крик отца, уносимого течением. Казалось, этого невозможно вынести, и оно чудовищно не вязалось с Агашкой, такой веселой и всегда улыбающейся.
– Да ково бежала… Бежала… Не то… Не то! – Возмущение непонятливостью пробилось сквозь дрожь. Голос тоже еще только отходил и его ломало, вело: – Ты понять не можешь! Я плыву, а лодку отбивает, все, уже сил – все. А-а, думаю, да хрен с ним… И такая, как… сказать-то… апат-тия напала…
Инородные слово, еще и произнесенное по-сибирски, «апат-тия», будто переродилось, тоже прошло закалкой стыни, подчеркнуло дикость произошедшего.
– Аппат-тия такая поймала, что я, как это… как сказать-то… ну… Ну? – Он затряс рукой, требуя помощи… – Ну как это? Ну будто… – Слова тоже настолько перестыли и отсырели, что еле шевелились, не подбираясь. «Апат-тия» не давало ответа, раздражала чужеродностью, сердила, а он не мог подобрать замену: – Ну! Ну, я будто… Что? – Он помогал рукой.
– Сдался!
– О – «сдался»! Молодец! Серег, молодец. «Сдался»! – обрадованно вскрикнул Мотя и ухватился за это слово, как за лодку. – Я сдался… Да пропади оно все… Какая хрен-разница… А как вспомнил: «Папа, не умирай!» Как вспомнил! И ср-р-разу ка-ак даст! Думаю, врешь! Вр-решь! Не на того напали! Мотьку не взять! О-о-о, че ж холодно-то так!.. Окол-лел… А я – все, Серег – все, смирился… Хрен думаю с ним, одним дураком меньше… А как дочу вспомнил… Ее… вспомнил… э-э-э… – Он замотал головой. – А ты говоришь – бежала… Бежала-то понятно… Я-то не про то…
Мотя сжался, сморщился лицом… Но слезы, видать, тоже застыли и не текли. Он сбросил покрывало. Сел, скрестив ноги, разваля колени.
– Серег, курить есть?
– Папа, вот в куртке. – Агаша достала и протянула пачку.
Матвей сел, закурил. Руки еще тряслись, пальцы не слушались. Он уронил сигарету и прожег покрывало.
– От… елки!..
Какая-то механическая часть Сережи, отвечающая за матчасть, вскипела досадой за вещь, но он, пришикнув на нее, сказал спокойно:
– Да ладно.
– Серег, я сегодня второй раз родился. – Слова эти, на бумаге такие обычные, в его устах, с его своеобразным, здешним выговором, интонациями и тоном представляли собой нечто совсем особое, такое же природное, заповедное, дикое, как и все остальное. – Прикинь, Серег… Я поплыл и догнать не могу… А как понял, что не могу… смотрю – мне уже что до берега, что до лодки… я уже думал, все, уже все. А я уж на середине Рыбной… А с нее самое течение… Еще же дожди шли… Я днем-то видел, вода аж горкой на середке… Все, думаю. А и хрен с ним… В общем, уже… – Он снова просил Иваныча подобрать слово:
– Сдался.
– Сдался! А как вспомню дочу: «Папа, не умирай!»
Мотя согревался, отвоевывал обратно свое тепло, и ледяная короста, панцирь отступали. Он уже вернулся в свою рубашку, у него ничего не ломило, не болело. Он сидел с ногами, опершись на локти. Лицо ожило. Только веки были опухшими и подсохлыми одновременно. Живо поблескивая глазами, он вдруг взял пустую стопку и протянул Сереже:
– А я ведь первый раз у тебя… в гостях… Наливай! Серег! У меня день рожденья сегодня! Серег! Ничего, что я у тебя тут? Доча, иди ко мне… У меня день рождения сегодня! От дурр-р-рак! От дурр-р-рак же пьяный… Везет дуракам да пьяницам… Серег, а ты меня донес! Доне-е-ес… Х-хе… Дай Бог! Дай бог здоровья! Слушай, дай я тебя обниму… Серьга… М-м-м…
Он сгреб Сереже голову, очень сильно, тисочно, как струбциной, и поцеловал куда пришлось, куда-то в верх уха. Сережа почувствовал как и в нем дрогнуло что-то, и только отрывисто крякнул. Агаша не сдвинулась и так же сидела, неподвижно и сухо блестя глазами.
Чокнулись.
– Папа! – крикнула Агаша. Мотя махнул рукой.
– Ты хоть закуси!
Но тот мотал головой: закусывать было нечего – спирт-чистоган будто на молекулы растаскивался выстывшим нутром еще в пищеводе. Мотя все не мог поверить в случившееся, надивиться и все гонял по кругу случившееся. Он еще несколько раз полностью повторил рассказанное, каждый раз будто забывая и начиная снова, на слой приближаясь к сути события, словно просыпался, и все предыдущее оказывалось заспанным.
– Серге, а ведь если бы не она, – он указал на Агашку, – я бы там уже был… Уже бы у налимов… хе-хе… Еще Дон Карлос этот попался… Ведь не хотел же… Ой дуропляс ты, Мотька…
– Ты, может, чего перекусишь?
– Да нну, ково! – Мотя все больше оживлялся. – Доча, ты иди, иди домой… А мы с Серегой тут… О-о-о, если б не ты, Серег, ты меня спас, Серег… м-м-м, – он схватил Сергея за руку, затряс… – Серега!
– Да это Тема спас. Я-то че? Как же они нашли тебя?
– Сам не знаю… Я гребу, уже плюхаюсь, и уже все… Каюк… Сначала-то водка грела еще, а потом выходить-то стала… Все… И куда грести – не видать… Так барахтаюсь… Оно с воды-то по-другому, не видать добром, волна еще… И тут слышу – как вроде мотор… Сначала еле-еле, а потом точно. Гремит. Думаю, «ищут!». Если ищут – орать буду… Слышу, заглох, я как зареву[26]. Ну а потом… потом… уже и не помню… Наливай, Сергей!
Агаша продолжала тихо и напряженно смотреть на отца, сидя странной образцовой посадкой – руки ладонями вниз на коленях – правая на правом, левая на левом.
– Агаш, наверно, надо батю это… в расположенье части… ты давай его… – Сережа глазами показал, что надо брать дело в свои руки.
– Папа, ты согрелся, все. Домой пошли, ну па-па-а… – говорила она, дергая его за рукав. – Мама там…
– Да обожди ты… Когда мы еще с Серегой так посидим? А между прочим, Серег, я же у тебя первый раз… в гостях! – и он махнул рукой от смеха и затряс головой. – В «гостях»… Че попало… Вытащили меня, как щенчишку… Не ты бы с Темкой, я бы там уже был… А че, Серег, давай загудим! Иди оно все в пень! А? Наливай! – Он уже протянул рюмку.
– Агаш, ты это, давай сходи к дяде Косте Козловскому… У него телефон не работает. Пусть зайдет, срочно скажи, зовет Сергей Иваныч. – Мотя, не думай, что я тебя выпроваживаю. Но это… Мне Валентина Игнатьевна башку отвернет, давай Матвей, давай все, хорош. Агашка, одевай его.
– Вы че?! У меня день рожденья седня! – грозно вскричал Мотя, вырываясь. Он спустил ноги на пол, расправился, раскраснелся, как-то расширился, утвердился ногами, руками и выдвинул вперед пустую стопку: – Отлично! Отлично сидим, Сережка! Когда еще так побазарим? Друга, я не пойду никуда!
Глава четвертая
Пришел Костя, помог одеть Матвея и увел его домой. Позвонила Валентина Игнатьевна:
– Ну че, мой-то не сильно вас… стеснил-то? Вы уж извините… И спасибо вам. Спасибо.
На следующий день в школе Валентина Игнатьевна посмотрела на меня с теплотой и снова сказала: «Спасибо!», очень твердо и с чувством.
– Да ладно, Валентина Игнатьевна. Все хорошо.
– Да как ладно? Вы ведь вдвойне герой – еще и плашкоут притащили!
Я немного волновался и думал, что Матвей придет на следующий день с бутылкой и разговором. И не знал, хорошо это или нет. Конечно, и радость была в таком повороте, и неловкость: пришлось бы с Мотей по всем правилам пить, а не хотелось, да и возврат к пьянке сводил на нет все спасение.
Через день я встретил Матвея. Он только что поднялся по нашей бесконечной лестнице и шел по краю угора. С бачками, ружьем, весь перевьюченный – ездил на охотничий участок. Говорю об этом специально, потому что у него рядом с поселком есть еще озеро, где его дед охотился и где он весновал на ондатру и уток. А у меня на озеро план.
Приземистый, широкий и на редкость кряжистый, Мотя кивнул, приветливо поздоровался за руку. Я спросил про лодку:
– Да нашел вчера, к Сурнихе прибило. Под ту сторону.
– Это сколько кило́метров? – зачем-то ударил я на «о».
– Пятнадцать киломе́тров, – сказал он буднично, и мне стало неловко.
– Н-да… – Я покачал головой.
– Давай, Серег. Заходи, если че надо будет.
Интересно наблюдать за собой. Вроде сознательный человек, а внутри будто сидит кто-то серый, как крыс. Практичный, животный, который, чуть что, как пролитая вода, стремится занять место на плоскости, где попокатей. И если его не осаживать, опозорит так, что не отмоешься, как с этим окурком на покрывале, к которому мое нутро дернулось, подалось судорожно, испугавшись за материальное. Меня и раньше расстраивали эти тельные, подобные мышечному электричеству, судороги – казалось, у меня не может быть черт, которые презираю в других. Гордыня крайнейшая! Потому что главное – не какие качества тебе дадены, а как ты Божьему в себе помогаешь. Хотя все от обстоятельств зависит: бывает, пока один – еще справляешься, а как с людьми захлестнешься, так все Божье куда-то делось, а одна гордыня и вылезла. Видно, я чего-то главного не понимаю, не знаю, например, где настоять, где уступить, и от этого мучаюсь.
Конечно, я могу быть и твердым и чувствовать границу, дальше которой не двинусь, но от стыда не могу избавиться ни при каких обстоятельствах: едва отобью край колышками, стану рядом как дурак – и чувствую себя так же фальшиво, как когда и прослабляюсь. Хотя точно знаю, что и в силе слабость бывает, и в слабине сила. А сам иногда уступаю вроде, а от уступки мне подпитка – раз другому прибавка, и я как при ней.
По крайней мере, так казалось, когда Эдик стал поддавливать с мотором. Он просит, значит, нужно. А мне почти все равно. Ему край, а мне середка. Сижу проверяю тетради. Приходит Эдик. Он запил с кем-то, из-за этого поругался с женой, но потом что-то свежее и веселое переложило ссору, и ко мне он ворвался, как обычно, полный предысторией, сияющий и требующий гостеприимства:
– Серег, здорово! Разрешите ввалиться! – крикнул он, сияя счастьем до ушей и будто неся счастье другим.
– Заходи. – Я оторвался от таблицы.
– Здравствуйте, – сказал торжественно, оглядывая восторженно комнату.
– Ну проходи… – отвечаю сдержанно.
– На-ка, – протягивает сверток с рыбиной и белую бутылку, выпукло и самодовольно блестящую круглыми плечиками, очередные «Хрустально-медвежьи озера», «Озерные медвежьи родники», прущие ацетоном. И вдруг пугающе посерьезнел: – Сергей, у меня дело к тебе. Токо не пугайся.
– Что такое? – насторожился я.
– Га-га-га! – Он указал на меня пальцем: – Задергался!
И, деланно нахмурившись, сказал:
– У тебя стопки есть? – и тут же залыбился, довольный розыгрышем: – Ха-ха-ха! А скажи – испугался!
– Эдик, стопки есть, да только я работаю.
– Да лан, работа не волк. И не росомага, хе-хе. В тайгу не удерет. Я же к тебе не каждый день вот так вот прихожу.
– Как не каждый? А на лодке тогда?
– Дак то на лодке, – с неожиданным умудренным холодком парировал Эдя, показывая, что он всегда начеку. – А это сухой ногой.
В такой обстановке два пути-сценария, исключая, конечно, выгон гостя восвояси. Сценарий первый: наотрез отказаться, что чревато препирательствами, потому что гостю не гордо «в одново» пить, так как он не «ганька же какой-нибудь»… Вот не хотел, а чувствую, завязывается какое-то руководство по обращению с подвыпившим гостем, но иначе не выходит – нужна полная ясность.
В общем, если продолжительность препирательств превосходит по времени краткое и решительное совместное питье «по три стопки – и шабаш», то целесообразно выпить по три стопки. Это и есть сценарий два. Если окружающая обстановка располагает нужным реквизитом, например, одетая на тебя куртка или стоящие на тропинке заправленные канистры, то можно сказать, что рад бы загудеть, да через минуту едешь на рыбалку с кем-нибудь очень пунктуальным и свирепым на расправу с опоздавшими.
Доктрине, что пришелец многого не просит, а только, дескать, поддержать тремя стопками, можно противопоставить то, что ты так не умеешь, мараться тремя стопками не привык и сам способен загудеть так, что тошно станет всем, и гостю в первую очередь, и что скоро тебе на работу. Позиции слабая, так как у гостя наготове проверенный козырь: «Ладно, я тогда сам по себе посижу. – И грозное: – Это хоть можно?»
Так как невозможно спрогнозировать, сколько времени отъест тот или иной вариант, никакой гарантии эффективности дать нельзя. Многое зависит от мастерства противника, с каким он может растягивать процесс, используя все способы давления и манипуляций понятиями «ты че как не русский?» или «где твоя широта души?». Второй сценарий опасен еще и тем, что, почуяв слабину, противник закрепится на завоеванных рубежах и перейдет на позиционную войну, в которой определяющее значение приобретут объемы его боекомплекта. Главный же минус второго пути состоит в том, что в случае если противник все-таки не ограничится тремя залпами и вынудит вас к дальнейшей совместной операции, то при ее затягивании есть опасность скатиться в полномасштабное обоюдное застолье. Аргументация в этом случае следующая: раз уж день пропал и все равно придется с негодником сидеть, то не лучше ли это сидение скрасить хмельным скрасом? Заодно и увеличив вдвое скорость расхода топлива.
Состояние гостя также влияет на тактику и стратегию обороны. В некоторых случаях, когда он близок к готовности, результативно увалить его частой очередью стопарей. Однако квалифицированный супостат, как правило, тонко контролирует ситуацию в любом состоянии и, видя подвох, будет отставлять стопку, пригублять, половинить, четвертить и всячески избегать ее заглатывание и даже, если надо, притворяться еще более невменяемым. Из всего сказанного следует, что наименее затратным способом борьбы с нарушителем домашнего пространства является прямой и честный отказ в посадке.
– Я пить не буду, – твердо сказал я.
– Ты что, меня совсем не уважаешь?
– Уважаю.
– Ага… Беру за хвост и провожаю…
– Ну ты че как маленький?
– А ты прям большой. В чем дело-то тогда?
– Да просто занят.
– А как же гостеприимство?
Следуя инструкции, достаю две стопки:
– Эдвард, давай так. По три стопки: по-русски. И все. Шабаш.
– Ково шабаш? Уж нормально посидим. Че мараться-то. Мы че, бичи, что ли?
– Мы не бичи. Но мне работать надо, – отчеканил я как можно тверже.
– Че за люди стали? Не зайди ни к кому. Да что с вами сегодня такое-то? Да ково сегодня… это па-ста-янно так! Я уже заметил! Главно, когда ва-а́-м надо, придете, дохлого разбудите, давай то, давай это! Электроды давай! Намордник! Спасжилет! Выручай! Давай спасай меня! Тону… – Он сделал паузу, переводя разговор в другую протоку, покачал головой и прозорливо прищурился, подняв верный палец: – Подожди-и-и. Теперь с этим Мотькой на меня еще собак повешают. А я, может, спас его! От погибели. Ка-ак? А так! Не попался бы я навстречу, он трезвый хрен выплыл бы, вы об этом подумали? А то: «развяза-ал», «напои-ил». – Он передразнил. – Я не напоил, а подготовил к аварийной ситуации! – отчетливо произнес Эдя. – Валентина тут Игнатьевна на меня поволокла… Я ей говорю: ты сама виновата. Довела мужика. А как? Иду весной, смотрю, стоят у ограды, думаю, хе-хе, целуются. Голубки… Ага, хрен те в норки![27] Техосмотр… Нюхает его. Да. Натурально обнюхивает стоит! Главное, не то что «пил – не пил». Не-ет! А когда пил, с кем, что, чем зажирал и о каких бабах говорил. А тот боров стоит, как на допросе. Еще и шею тянет. Дал бы в норки! Тоже парфюм нашла. Как не запить после этого? Или в реку не кинуться. Тьфу! И ты туда же… «Рабо-о-отать надо»… Как нерусские…
– А ты знаешь, какой русский-то?
– Ну какой? – Он стал усаживаться, ерзая, блестя оживленно глазами, довольный тем, что уже втравил в разговор и, значит, все складывается. – Какой? Давай! Давай поговорим! Вот это уже по-нашему. А то «рабо-о-отать надо». Ну какой? Какой русский?
– Который не бухает русский, – вязко и медленно сказал я.
– О-о-о… – протянул он с деланным и презрительным разочарованием. – Во-о-н ты как? – и пустил в ход «самую тяжелую артиллерию, ста пятидесятипятимиллиметровые гаубицы»: – А я, между прочим, со своим пузырем к тебе пришел.
Серьезные мужики умеют одним прикрытием стопки отмести все посягательства на их трезвость, и их «нет» звучит настолько прохладно-мимоходно и необсуждаемо по сравнению с тем, что они выражают своим обликом, о чем говорят и чем занимаются, что в голову не придет заподозрить их в какой-то душевной мелкости, неспособности к чему-то мужицки-разгульному. Когда кто-то из них приходит, я суечусь, зачем-то предлагаю стопку, а они отказываются даже не потому что им некогда, а потому что им со мной, скорее всего, неинтересно. И я отступаю, не обладая и сотой долей Эдиной вязкости.
Эдю я выставил, несмотря на все его уловки. Он попытался пойти на крайнюю меру: снова сделать вид, что его интересуют книги и он хочет совета, что «па-чи-тать», что любит «пачитать», и что в избушку «набирает полные нары литературы» и пока не «пра-чи-тает из зимовья́ ни ногой», а «баба» его за это «докоряет». А потом вдруг взгордился-набычился и спросил, «где хронометр?», произнеся «хрономет». И заявил, что он пришел «не языком мести че попало», а навести ясность с мотором, а я его путаю и сбиваю на ерунду.
Не устаю наблюдать за собой. Иногда придет кто-нибудь такой вот нудный и просидит от силу час, а я изведусь и мечтаю, чтоб он ушел, будто отнимают неделю. А кажется: ну что трудного уделить час времени, раз человеку нужно? Нет – заедает: как же так? Какое он имеет право тратить мое время? Которое я мог спокойно протереть, валяясь на койке или слоняясь. Гордыня чистая. Она у всех книжных людей. Свое время оцениваешь дороже чужого.
Дочитал «Чудиков» и пришел к выводу, что читать про них намного интересней, чем с ними жить. По дороге с работы удачно встретил Матвея.
– Здоро́веньки! Как дела?
– Да нормально. Моть. – Я помялся. – Это… Ты помнишь, говорил, если че – обращаться.
– Конечно, помню. Помощь нужна?
– Да. Ты машину будешь заводить?
– Буду, а че?
– Лодку мне сможешь вывезти?
– Да без проблем, я как раз сегодня в-под угор собирался.
Я страшно не люблю угружать людей несколькими просьбами подряд, но выхода не было:
– Матвей, а у тебя там на озере… никто же не охотится?
Мотя собрал кожу вокруг глаз в настороженный прищур, видимо, решив, что я прошусь туда на осень на охоту. Я объяснил:
– Да я давно хотел спросить: можно ближе к зиме я на выходные схожу туда, ну для души… просто? Там же ветка есть у тебя? Я хотел просто проехаться… Ниче там не нарушу… Утку разве, может, убью…
– Т-т-е… – облегченно выдохнул Мотя. – Да иди, конечно. Там только, Сережа, ведро дыроватое, и медведь нары разворотил, скорее всего, бурундука рыл, но разберешься… А так – печка, дрова, все на мази… Живи… Я там только весной бываю… Там и ветка, и лодка-дюралька есть… Без мотора, правда. Ночуй, конечно, сетушку воткни… Сети висят сзади на стенке, увидишь там. Сразу бы сказал… Заодно посмотришь, чтоб не шарились там пацаны… А то они любители. Да, ну и договор, – сказал он строго, – на соболя не охотиться… Остальное – птица там… – бей.
– Да понятно, не волнуйся, мне не надо соболя, мне вот на озере… побыть.
Мотя внимательно на меня посмотрел и сказал:
– А ты на ветке-то хоть плавал?
Я сказал, что «приходилось» на практике в Лесосибирске, что было чистой правдой.
– Ну ездил, дак… А то эта такая штука, чуть зевнул и… – Матвей помолчал многозначительно и добавил с усмешкой: – Ну че, этот чудотворец берет у тебя мотор-то?
– Да я не собирался его продавать.
– Да продай ты эту чахотку. Весной возьмешь нормальную технику, небольшенький двигунок какой-нибудь. Тебе куда сильно ездить? Давай короче. Я за тобой заеду.
И пошел дальше в своих заботах. Хороший мужик. Да они здесь в большинстве такие. Ничего не могу поделать, под них подстраиваюсь, начинаю, несмотря на все учительство, говорить «кило́метры» и «поло́жил», и тут же становится стыдно, потому что говорю это неумело и будто заискиваю. А они будто чувствуют и еще меньше уважают меня. Лучше б я казенно рубил «киломе́тры». Тем более ценят здесь не за то, как ты их произносишь, а как обживаешь и одолеваешь. А я всегда подстраиваюсь и за это подстраивание себя презираю, потому что корень в гордыне проклятой – мне кажется, что в моей правильной речи укор. А значит, действительно считаю, что я грамотней.
Нутром-то я чую, что мужики ближе к какому-то естеству, которое я утерял взамен на некую благоприятную городскую запитку, книжную, образовательную, «современную» (не могу произносить это слово без кавычек). Которой дорожу, в которой себя чувствую чистенько, ладно, вроде как еду в мягком автобусе с большими, в кофейную дымку, стеклами, в то время как мужики шагают по обочине в пыли и солярном выхлопе, но при этом знаю, что земля-то через них говорит, а не через меня, и что на истинной обочине как раз я. И будто кричу сквозь гладкие затемненные стекла: «Я тоже ваш, не отгоняйте меня, я даже вылезу из автобуса со своими хахаряшками, пойду с вами, буду делать что-нибудь скучное, трудное, буду слушаться, буду думать и говорить вашими словами – лишь бы вы меня взяли в дорогу. Во-о-он за те сопки…»
А может, я просто хочу сбросить это выправленное литературное наречие? Потому что язык, на котором говорит русская деревня, прав вовеки и хоть ничего уже не решает, но стоит как отвес, как вертикаль… за которую еще можно держаться.
Когда я пытаюсь говорить их языком, они воспринимают это как должное – для них оно неважно. А для меня важно: я костями его чувствую – корни-то у нас у всех крестьянские… Так… Заканчиваю. Что-то тарахтит, похоже, за мной. Слава те Господи! Не забыть вернуться к этим мыслям.
Продолжаю вечером.
После встречи с Мотей, когда решилось про озеро, пришел домой воодушевленный и намечтал кучу записок и чтения. Читается, кстати, здесь отлично. Глотаешь, как рыба в жор. Вот и я такой хайрюз. Писать тоже могу взахлеб, когда есть мысли, а просто так «пришел, икнул, затопил печку, закрыл печку, лег спать» – не умею. Сейчас как раз самый захлеб, но я так устроен, что если посреди дела ожидается какое-то прерывающее обстоятельство, уже не могу собраться и жду, когда оно поскорей настанет. Так и ждал лодку – побыстрей вывезти и освободиться.
Едва затопил печку, потарахтела квадратная дизельная «дэлика». Я было выскочил радостно, но меня насторожило, что она без прицепа. «Садись! – сказал своим сдержанно-сочным баском Мотя. – Сейчас за телегой только заедем». Сказал так веско, что я не стал спрашивать лишнего, где телега и почему он едет из дому, ее не подцепив. Был он абсолютно трезвый, тугой какой-то, говорил низко-резким голосом и изредка. С седушки в салоне я видел его руку на правом руле и выпуклую, будто накачанную, щеку. Матвей не имел ничего общего с тем трясущимся человеком, которого я растирал конским носком. И с каждой минутой он крепчал, а я будто уменьшался.
В машине сидело еще трое, все приветливо поздоровались и подвинулись, будто расположение ко мне Моти – пропуск. Но главным было ощущение чего-то буйно и давно происходящего, неотвратимо несущегося, к чему я подключился как к зарядному устройству. Шла предпромысловая какая-то заваруха, какой-то предперелетный стайный маневр – со дня на день мужики разъезжались по участкам. Двух из них я видел прежде, но они не обращали на меня внимания. А тут буквально одарили заочным расположением, от которого облегчения не случилось, потому что расположение надо было подтверждать, а я не знал чем.
Их было трое: всем лет по сорок пять – пятьдесят. Все очень загорелые и опаленные работой на ветру и солнце. Звали их Володя, Женя и Слава.
Володя – немного странного, разбойничьего ли, совиного вида. Круглое лицо, почти половину которого составляет большой лоб с залысиной в виде буквы «м» и границей загара от вязаной шапки, в которой он всегда ходит. Лоб выдается, нависает карнизом, глаза большие, карие. Борода темно-русая, не то лосиной какой-то масти, не то медвежьей с рыжим отсветом, сам толком не знаю и боюсь ошибиться. Борода неухоженная, топырится лучами, снопами, завитками, чуть не култышками. Передняя часть торчит вперед, а вторая так же неухоженно образует клочище на шее, кадыке. Облик создают: большой лоб, круглые глаза и вольная двухрядная борода. Лицо широкое, тугое и, когда Володя смеется, скулы поджимают глаза, они с пучками морщинок сминаются в щелочки, и лицо совершенно прижмуривается от улыбки.
Женя – Володина противоположность. Его профиль напоминает полумесяц их детских книжек: длинное лицо, выступающий подбородок. Кожа розовая в синеву и очень светлые, будто разбавленные, глаза. Ресниц нет, почти одни розовые веки. Лицо бритое. Бородой Женя, видимо, обрастает на промысле. Говорит медленно, твердо и как-то неповоротливо, будто не помещается со своими представлениями, основательными и, как балка, гудкими – пока-а-а занесешь в разговор и пристроишь. Поэтому вставляет «не перебивай» и «я грю». Все здоровенное называет очень сочно и одобрительно «дур-рак». Смеется раскатисто, дробно, смех нарубает на крупные пятаки.
Слава большой любитель тайги. Он недавно переехал из города, где долго работал на заводе. Отличается и от Володи, и от Евгения: более ухоженный, выбритый, с подстриженными в косой мысок височками и челкой. Крепкий, в спортивной ветровке. Синеглазый. Лицо правильное, немного стальное, чуть вытянутое и рельефное. Говорит сдержанно, к мужикам иногда обращается по имени-отчеству. Ощущение, что он и подпитывается от них, и немного другими глазами заставляет смотреть.
– Да мохнорылые и мохнорылые… – продолжал Женя то, на чем прервала его моя посадка. – Нормальное слово.
– Да ниче не нормальное! Перестань ты… – громко говорил Володя, раздраженно морща лицо и озирая других, убеждаясь, что все согласны. С Женей он говорил так, будто наперед знал все, что тот скажет, и это и раздражало, и забавило: – Ниче не нормальное. Людей уважать надо. Я так не говорю. И он не скажет. – Володя тыкнул на Славу. – Сергей, будешь? За знакомство.
Он достал из кармана в спинке сиденья початую бутылку, забытую в пылу спора. Сделано это было ради меня, и никто особо не отозвался. Женя снова сказал, вложил двутавровую балку:
– А за что я их уважать должен? Я грю, мой дед всю войну прошел, а эти… сычи в лесах отсиживались.
– «Сычи», – засмеялся Слава, его несколько раз прямо сотрясло, и он покачал головой. Слово «сычи» Женя произнес очень смешно, выпятив губы, отчетливо выделив «ч» и округлив глаза.
– Да тебе все не так… – сказал Володя, сморщившись и обращаясь больше ко мне, – ну вы че? Давайте, вас не переслушаешь, вон человек… – Движения у него были быстрые, как у хищной птицы.
Слава, доставая железные рюмки из кожаного бочоночка, добавил:
– Конечно, неуважение.
Женя не торопясь достал большой пакет с салом и с пластмассовыми ванночками, в одной из которых лежали пельмени, а в другой золотистые копченые тугуны.
– Нож где, Володя?
– Да ищу, здесь лежал. Обожди… – Володя зашарил в багажнике, где подпрыгивали на кочках и гремели канистры.
– Маленького дурака потерял! – подмигнул Женя Сереже и засмеялся негромко, но очень основательно, неторопливо, дробно – так что промежутки между кусочками смеха были очень большими. Улыбка широкая, зубы крупные, ровные и белые. И Володя, и Женя, знавшие друг друга наизусть, больше ко мне взывали как к свежему слушателю и сами себе казались новее, препираясь через меня.
Нашедшийся нож был действительно огромным. Женя на крышке от ванночки некоторое время очень основательно резал сало и луковицу. Матвей остановился у обочины и сидел в полной недвижности, учитывая медлительность Жени и словно добавляя еще слой капитальности.
– Давай, Сергей, за знакомство! – Женя не спеша закусил: – Бери помидоры, Полина солила. А я ро́стил, хе-хе, – вот погоди, – завел он без перехода, словно не отпускавшая мысль сидела в нем полубрусиной и он не мог ее бросить, ценя, как нечто большое, габаритное, требующее определения по месту, не зря ж тащили – Ты первый завоешь, пройдет лет десять – в тайге одни староверы будут.
– Ну значит, им нужней тайга! – сказал Слава.
– Да ладно, Вячеслав, – так же железно, угловато продолжал Женя, будто рельсину укладывал, – у тебя сколь детворы?
– Двое.
– Во. Двое. А у них по пять, а то и по десять. И каждому ись на-а. Я грю, через десять лет вся тайга под ними будет. Хрен че живое пробежит.
– Женя, послушай… – увещевал Слава.
– Не пе-ре-бивай… – невозмутимо отвечал Женя. – Я жил с ними. Все гребут. С корнем. Я как-то на пароходе ехал в Каргино, там подъезжает один, бородища, сам в чем душа держится, а на лодке от такой дурак стоит! – он показал руками огромный мотор. – Откуда? Да рыбу че́рпает, ясен хрен!
– «Дурак»… – опять засмеялся Слава, и дело было даже не в «дураке», а в том, что Женя очень смешно и сочно произносил нравящиеся ему слова.
– Евгений Степанович, – говорил Слава, немножко в себя улыбаясь, с уважением и с терпеливой интонацией, – ну что староверы? У них же уклад, главное, сохранить. А остальное как скть… прилагается… – Слава говорил быстро, чуть заикаясь, словно слова то копились запрудкой, то прорывались. Видно было, что он очень уважает этих мужиков.
Из разговора я понял, что мы едем к некоему Нефеду за Мотиной телегой. В багажнике погромыхивали железяки. Машина ехала, трясясь на ухабах и все то хватались за ручки, то отпускались и колыхались во все стороны, как ботва. Наконец подъехали, вышли. Володя оказался самым рослым, широкоплечим и зобатым, как голубь: выгнутые длинные ноги, широкие плечи, и к ним подтянуты и выпуклая грудь и даже небольшой живот.
На меня как бетонная плита навалилась: на телеге удручающим монолитом, каменным пластом лежал штабель бруса. На двери висел здоровенный замок.
– Ць, вот тебе и Нефед, – пожал плечами Слава. – Че ж он не разгрузил-то?
Все остальные молчали. Казалось, чем сильнее, крепче и старательней молчал каждый, тем неумолимей приближался выход. У соседнего дома стояла телега. Подошли, постучали, вышел мужик – очень белесый, с копной светлых волос. Брови, выжженные солнцем, выцветшим белесым домиком, глаза в рыжих веснушках, узко сидящие:
– Здорово, мужики. За телегой?
– Здорово, Рыжий! Где тот?
– Х-хе, уехал. Услыхал, что в островах нельма прет, и уехал с Ванькой. Как ужаленный. Завтра только будет. А Лида в городе. Вон, если че, мою телегу возьмите. Вам ненадолго?
Пошли смотреть его телегу, оказалось, что серьга намного больше и не налезет на фаркоп.
– Может, веревкой подвяжем? – промямлил я, не ожидая, что будет так тошно от собственного голоса.
На мои слова никто даже не обратил внимания. Только Слава сделал скидку:
– Да ну, несерьезно.
«Ну раз так – фиг с ней, с этой лодкой, завтра вывезем». Едва я так подумал, как Володя резанул:
– Че, парни, чухаться? Пошли скидаем этот брус по-быстрому. Пошел он в пень…
– Ды-кэшно, – пробросил под нос Мотя.
До чего же не хотелось впрягаться в эту разгрузку бруса! Будто что-то дорогое, с тонкой заботой настроенное могло сорваться, смяться во мне. Я понимал, что это очень плохо, но только костенел в обиде на обстояние. Ведь сидел дома, планировал столько сделать, почитать наконец… И закипело раздражение на мужиков: что за нечеткость, стихийность, разве можно так организовывать работу? И кто-то серый внутри эту «нечеткость» стал перетаскивать уже на всю страну и занудил: «Да нет, так не пойдет, конечно». А бытовое паникерство подпело: еще и печка топится! А если уголек вывалится?
Я пролепетал, что, может, «ладно», «потом вывезем», намекая что, мол, из-за меня сыр-бор, из-за моей лодки, так что мне решать. Володя равнодушно ответил:
– Дак Мотьке все равно телегу забирать.
– Держи, – сунул мне верхонки Женя.
Я боялся показаться неловким, неумелым, уронить себе на ногу брус. Но слишком рано озаботился. Оказалось, надо лежки подложить. Еще не легче.
– Че он перекидывать, что ль, будет? – И Володя быстро выворотил из какой-то кучи два сизых бревешка. Едва я успокоился, выяснилось, что и прокладки нужны. Угнетало, что все действительно нужно и правильно, а мне не легче. Володя отошел в ограду к Нефеду и припер пружинящие прогибающиеся обрезки досок. Начали разгружать, и пришло облегчение, особенно, когда разогрелся и вошел в размах. Все действительно выеденного яйца не стоило.
– Еще нам должен будет, – хохотнул Володя, – сам бы хрен так сло́жил, хе-хе…
Я облегченно снял верхонки, зачем-то сказав:
– Женя, куда поло́жить?
Было ясно, что коротко не управимся, тем более Верхний Взвоз на Грузовом причале и ехать надо «в окружку», через весь поселок, потом обратно к моему дому, по берегу, а потом так же назад. Все это я мелочно просчитывал. «Ладно, хоть разгрузили», – подумал я облегченно и вдруг заметил, что мужики как-то странно стоят вокруг водилины, коротко обмениваясь словами, среди которых вырвалось Славино: «от… конь…» и Женино: «это с какой силой пятить надо». Мотя просто вскользь матюгнулся. Оказалось, что Нефед этот, сдавая назад, заломил прицеп и погнул одну из трубок водилины.
– Да, может, ничего? – с надеждой спросил я.
– Хрен ли «ниче» – вон трещина, – грубо ткнув пальцем, бросил Володя.
– Конечно, так не делается, – сказал Слава.
– Варить надо, хрен ли, – цеднул Мотя и хлестко сплюнул.
Опять все сгрудились в совещательном недоумении, а Володя, бросив: «Выправляйте пока!», быстро отошел. Через несколько минут они притащили с Рыжим сварочник, щиток, пачку электродов и бобину с проводом. Встал вопрос: куда цепляться. Пока Женя ломиком выправлял трубу, Володя подцепился к Нефедовской бане, откуда раздался отчаянный лай:
– Кобель злюч-чий такой у него! По зверю, наверно, идет, – вернувшись, сказал Володя весело, и было непонятно, в шутку или нет. Делал он все с улыбкой и будто проводя занятие, а остальные подчинялись и выполняли, но не теряя достоинства, а одобряя. Мотя присутствовал, как почва.
Оказалось, что Слава работал на алюминиевом заводе сварщиком, и Володя предложил ему:
– Ну че, Михалыч, покажешь мастер-класс?
– Да ладно, – застеснялся Слава, – ты уж сам.
Володя было взялся за маску, но она показалась ему неудобной, и он сделал поползновение подварить на ощупь, прикрыл ладошкой трещину. На что Слава настойчиво протянул маску и сказал:
– Владимир Ильич, ну что вы, не следует пренебрегать… техникой безопасности.
Володя варил грубовато, но надежно и не стесняясь Славы, и даже оказывалось, что спорая его хватка здесь жизненно уместней, и Слава это принимал как большее достоинство. Мотя, отвернувшись, словно обидевшись, прижимал прут арматурины, которым усилили трубу. Потом ждали, когда остынет металл.
Держали водилину, пока Мотя пятился, подцепили телегу, и вдруг Володя со словами: «видал, че!» вытащил из покрышки саморез. И в этом «видал че!» было столько очарованности жизнью, что распространялась она и на эту самую жизнь, и на собственный дар, который Володя считал лишь принадлежностью обстановки.
– Ехали и за Лесосибирском… Магазин, короче… – продолжал Слава сварочную тему. – Там сварочники вообще все есть.
– Обожди, это где?
– Ну где шиномонтажка… Где автовокзал, там еще справа стройматериалы.
Я знал это место и вставил слово:
– А слева еще «Казачья харчевня».
– Да-да.
Женя покачал головой и засмеялся дробно и редко:
– Казачья харчевня…
– А че?
– Да че, эти казаки… Какие казаки? Че их сейчас так поднимают, я не понимаю. Еще вырядятся, ордена нацепят. Они их из какого сундука взяли-то?
– Ну они же русские люди, – не выдержал я, – вы историю казачества посмотрите… Они же границы наши охраняли.
– Да ково они охраняли, пили да воровали… Да ну, я грю, – не обращая внимания продолжал Евгений, – какие они русские… – и протянул отстраненно: – Во-о-от, начинают поднимать…
– Женя, послушай, – возразил Слава, – а как же Семен Дежнев, Ермак? Они же казаки были.
– Дежнев… – проговорил Женя на перепутье.
– Дежнев вообще в Енисейске жил. А Похабов? В Иркутске даже памятник стоит! – обрадованно подхватил я.
– Не, ну это на-а-аши казаки, сибирские, – вдруг важно и по-хозяйски протянул Женя, – а я про тех, которые в Сече… Я читал. «Тарас Бульба». Кино-то щас идет.
– Вот, вишь, ты какой! Вывернулся! – вскрикнул Володя. – Как соболь из кулемки!
Все засмеялись.
– Так. Ну… – все с той же основательностью сказал Женя, – я так понимаю, мы в Сухую едем?
– Ну да, – сказал Володя, а я похолодел. Сухая Сургутиха – это речушка неподалеку, которую все называют просто Сухая, и к ней дорога по берегу совсем в другую сторону.
– Как в Сухую?
– Так. У нас кончилось…
Все засмеялись: Женя имел в виду, что едем на берег «всухую» и что надо к нему заехать за отличнейшим самогоном.
– Расслабься, дружище, – положил мне руку на колено Слава, – здесь время по-другому идет. Это в городе – запланировал и делаешь. А здесь – жизнь сама выведет. Че у тебя там, дети малые? Собаки?
– Ни хрена не скажет, «поехал лодку вывезти», – хохотнул Женя. Помолчав, добавил: – Не знаю. Все равно, зря их так подымают…
– Ну как зря? Это же все наше, – попытался я вступиться и за староверов, и за казачество.
– Да какое наше? Наше – это вон… – Он показал рукой вокруг. – За что я ответить могу… Это наше…
– Ну как? Это же части русского мира?
– Русского мира? – повторил Женя, осматривая, ощупывая слово. Решая, заносить или нет. Видно было, что на это уйдет много времени, но если затащит – то оно там и врастет.
– Конечно. Его собирать надо, а не расчленять. Не рознь искать. Созидание же, главное.
– Ну, «созидание»… – с обидой сказал Женя, не теряя знания дела. – Созидание… Это кто может… Вон кто дома строит… Это созидание… А мы че? Мы какие созидатели? Я грю: мы охотники, мы семьи кормим.
– Да не… – Я совсем смутился. – Как раз вы… как раз такие, как вы, самим своим существованием… уже… уже… созидаете…
Машина остановилась, и Женя выскочил за самогоном.
Мотя вдруг сказал почти с гордостью, будто выгораживая меня:
– Вот. На озеро хочет пойти!
– Собака есть у тебя? – спросил Володя и, услышав ответ, сокрушенно покачал головой:
– Плохо. Собаку обязательно надо. – И выпалил специальным голосом, видимо, свою прибаутку: – У меня осенью: собаки залаяли – и я уже тут!
Все засмеялись.
Дождавшись Женю, двинули на берег и там встретили Нефеда. Он только подъехал и возился у уазика, стоявшего с открытым багажником. Плотный, белесый, лицо будто подкачали и его стянуло этой тугостью, особенно от щек к ушам. Сын очень похожий – такое же тугое лицо, только свежее, с пушком, румянцем, с ощущением недозрелости… Как заготовка. А у отца откованное, подправленное складочками и морщинками.
Нефед вытащил мешок и вывалил нельмушку:
– Держите.
Когда подъехали к месту, уже темнело. Кто-то летел на лодке в сумерки с сетью на носу. Мою лодку закинули прямо с мотором одним движением. Когда прихватывали веревкой, Володя сказал, глядя на мой мотор, задумчиво и так… исторически:
– Да, походили мы на «вихрях».
Потом долго ехали по берегу обратно и по поселку к моему дому. Сгрузив лодку, мужики по очереди пожали руку, а Женя слазил в «дэлику» и отдал мне мешок, завернутый трубой вокруг прохладного плотно-пружинистого рыбьего тела. Там пластовито лежала нельма, свежайше пахнущая огурцом. Дома я ее рассмотрел подробно. Голова, узко сходящая ко рту с лепесточками. Крупная очень, серебристая чешуя. Мутно-дымчатая спина. Несколько чешуинок упали и лежали рядом на полу из барочной плахи.
По возвращении я попробовал расписать портреты мужиков, но быстро выдохся. А начал так: Володя. Такой стихийный, чуткий на фальшинку, чующий созидательную правоту всего трудового, идущего от земли и от сильного человеческого естества. Его возмущает все современно-пластиковое, капризный вид актрисы в рекламе, все нерусское, нетрудовое. Для него это все одно, хотя он совершенно не разбирается ни в течениях мыслей, ни в направлениях искусств. Ощущает фальшь, примитивность, которой веет от иностранных фильмов, и огорчается, когда у нас ее обезьянят. Конечно, самолюбивый, все делает, как на выставку, но это же и не позволяет пройти мимо чего-то стоящего. Как это все вдруг не мое? Он гибче остальных, и этой гибкостью вроде бы дальше от крестьянского склада, чем Женя и тем более Мотя.
Женя, на вид вроде бы сепаратист и единоличник, но любит ясность и как ответственный человек верит только в то, что по силам.
Мотя самый крестьянский, простой и самый стихийно-патриотичный.
Слава – настоящий сознательный рабочий. Сын поволжских крестьян. Помешан на природе и охоте. Любит повторять Тургенева про Полутыкина, который был «страстным охотником и, следовательно, отличным человеком». Человек гражданских ориентиров, и я с ним в два счета нашел общий язык. В городе он жил на окраине, в пятиэтажке, где пьянка да поножовщина и где показательно высаживал в палисаднике деревца и занимался с ребятней на футбольной площадке, гоняя кавказцев, тоже мальчишек, таскавших на продажу насвай.
Конечно, это мои первые впечатления. Но все равно пусть будут… А ведь еще какие-то мысли крутились, какие хотел записать, а сбила эта лодка. Сейчас посмотрю.
Пробежал записи и ужаснулся! Оказывается, я и правда гусь. Ведь клялся: возьмите меня с собой, мужики, все буду делать, так и написал: «буду делать “трудное и скучное”». Господь милостив и тут же подослал мне эту «дэлику», эту телегу с брусом, а я закочевряжился. Не понял, не увидел! Так всегда и бывает… Господи, когда же научусь слышать-то? Не выдержал экзамен. Все. В люлю.
Продолжаю через сутки. Сегодня небольшой минус. На желобе повисла прозрачная морковка. А у меня в жизни серьезное изменение: у дома образовалось некое теплое и беспокойное поле. Но все по порядку.
Пока я прибирал мотор, обнаружил пропажу лодочной пробки, за которой впопыхах не уследил. Спустился под угор и увидел огромную железную лодищу. Рядом с ней стоял небольшой тепло одетый человек. Серые немного навыкате круглые глаза в розовых веках, будто надутых то ли от ветра встречного, то ли… ветра… так и хочется сказать: вечного… Круглые, густо-розовые, даже малиновые, яблоки-щеки, с резкой границей между красным и остальной белой кожей. Борода неровная, какая-то… природная. Во всем облике нечто отличающее от любых остальных бородатых мужиков.
Стоял он… как бы сказать-то… Что-то выражало его стояние, не могу сам понять… Что-то связанное… со стыком миров. Будто его выбросило на границу, и он в невольном удивлении, замешательстве, никак не придет в себя. Немного как пришелец. Или как заложник. Тонкое ощущение… Чувствую, как сквозит, а точности не хватает… Так стоят носители другого мира, которые в силу какой-то детской, святой особенности до конца не понимают глубины пропасти.
– Здравствуй, хозяин. – Он обратился рабочим деловитым баском. – У тебя паяльной лампы, случаем, нет? А то подъемник заколел.
Звали его Гурьян. Оказалось, лодку он сварил недавно, и что-то у него подмерзло в самодельном подъемнике мотора. Без груза лодка сидит высоко, и мотор хватает воздух, поэтому он придумал телескопическое приспособление для отладки высоты. В телескопы накидало брызг, и они замерзли. Что-то в Гурьяне брезжило знакомое.
Я принес паялку, и мы прошли на корму лодки, оказавшейся необыкновенно добротной: широкая, корытообразная, с округло и очень аккуратно сваренными бортами. Гурьян отогрел блестящие телескопы – и устройство заходило:
– Ну вот, спасибо. Это… Сергей, хотел спросить. У вас никто, случаем, алюминий не варит? А то лодка у меня есть, заварить все собираюсь.
Я ответил, что не знаю, вроде бы нет. И что нужны специальные электроды.
Гурьян ответил, что про электроды в курсе, что приезжал брат с Луговатки, привозил, и что да, был урок. И у меня все согрелось внутри от этого старинного слова… Когда шли обратно по лодке, я увидел в ее носу, забранным сверху железом наподобие короба, отличную, черную с белым, собаку.
Гурьян спросил, нельзя ли от меня позвонить в город. Поднялись на угор, зашли в избу, разговорились. Выражался он толково и грамотно. Слушая его негромкий, воркотливый говорок, я наконец вспомнил, где его видел: это он спрашивал у Снежаны: «Хозяйка, в какую цену сапоги?» Есть-пить Гурьян отказался, и я спросил:
– Ты еще собираешься сюда?
– Да поди.
– Вот послушай, Гурьян, вот я знаю, если к вам придешь, вы всегда накормите, а мне-то как быть сейчас?
– Ну как? Я, допустим, если у тебя буду останавливаться, оставлю свою посуду. И все, – и перевел разговор: – Ягоду-то набрали нынче?
– Ну, набрал ведерко.
– Да ведерко – это че есть? Мы-то подходя набрали. – Он часто говорил это «подходя», видимо, в смысле «в подходящем количестве», «на подходе» к желаемому. – А ты не охотник?
– Нет, учитель.
– А… – ответил он с легким разочарованием. – Учитель – это хорошо. У нас тоже целое дело было, школу пробили и построили, и единицу учительску, учительшу, с Урала позвали.
– Из ваших?
– Ну.
Мне было необыкновенно интересно все, что касается старообрядчества, но я стеснялся спрашивать. Гурьян же относился к вопросам спокойно и отвечал емко и с достоинством. Оказалось, что воскресные службы – у них целое сельское мероприятие, на которое мужики одеваются в цветные глухие рубахи с поясками и кафтаны из черной ткани. Видя мой уважительный настрой, Гурьян разговорился, посетовал на ослабление традиции наставничества и поделился планетарными опасениями, обнаружив осведомленность в мировых делах и тревогу за Россию.
– Ты посмотри, че на свете-то творится! – говорил он с жаром. – А главное, к нам все это валит! Это же специально делается. Посмотри, что по телевизору… У нас в семье, знаешь, это все словом называлось – скверна. Скверна. Иначе не скажешь. – Он помолчал: – Ххе. Встретил тут… этих… баптистов… – и возмущенно добавил: – Вы кто такие? Нашей вере тысяча лет, она от поколения к поколению. А вы тут с брошюрами шаритесь! – и покачал головой. Потом помялся… Он часто мялся: захочет спросить – и пауза, смущение, напряжение. Гурьян помялся и спросил:
– Сергей, не знашь, собака кому не нужна, может, поспрашашь кого из охотников? Я привез одному, а он уехал с концами. В город. А мы-то договаривались. Правда, дорого встанет. Но кобель хороший. Эвенкийский. Сильных кровей. По соболю. И по зверю пойдет.
Я не понял, как произошло дальнейшее, и бывает ли, что слова орудуют вперед хозяина, но я вдруг сказал:
– А сколько надо денег? Я… возьму.
Он сказал, сколь рублев…
– Гурьян, ты подожди, я сейчас деньги принесу.
И вкратце объяснил про Эдю и мотор.
– Добро, – обрадовался Гурьян. – Ты тогда управляйся, а у меня еще тут дел подходя. А после я коло лодки буду.
Я пошел к Эде, у которого не было телефона. Того дома не оказалось. Встретила настороженная жена, проворчала, что он «не унимается» и что вроде бы «снюхался» с неким Три-Титьки-Мать, у которого он «пожизненно зависает» и где сейчас, видимо, и «зачекирился».
До конца не уверенный в покупке, я находился на перепутье и мог при усилении трудностей махнуть рукой. Но встретил Володю, который ехал на «шестьдесят шестом», свесив локоть в открытое окно. Володя спросил, почему я такой взъерошенный и кивнул – «садись». Я рассказал.
– Бери. Ты че! – Любящий свое дело, он ратовал за растущее число сторонников. – Я бы сам взял, да мне не надо. Тем более он по соболю. А я кулемщик. Гурьян он это… из них самый… путевый. Он и старостой у них.
Я поинтересовался, кто такой Три-Титьки-Мать?
– Это Концевой Дед – дед один тут, бывший будто бортмешок, но вроде как его выгнали сразу почти. Это все при царе-горохе было. Он у Первой речки в балке живет. Поехали, мне в ту сторону.
У места Володя остановился и показал рукой – вдали в прогале меж домов темнел маленький грязно-серый квадрат. Над ним обильно вился синий дым. Я пошел в его направлении. Прошел вдоль заборов на какие-то задворки, где валялись лодки от вездеходов, ржавая рама от трактора, давленные в щепу бревна со свинцовыми следами металла, гусеница, вросшая в землю и похожая на позвоночник. Все было изъезжено гусеницами, улито маслом, а в воздухе воняло выхлопом – где-то за балком у чахлого леса напряженно тарахтел трактор. Чем дольше я шел к балку, тем сильнее терял ощущение реальности и тем больше отдавало наваждением и напоминало уже виденное. Не то наяву, не то во сне, не то читанное в европейской литературе времен моды на многозначительную призрачность.
Вдобавок меня беспокоила полная рокировка ролей – если сначала Эдя меня «докорял», и я не знал, как отвязаться, то теперь я должен был сам его вылавливать. Зная кочевряжистый Эдин нрав, я допускал, что он возьмет и передумает, и придется его уговаривать, а едва он почувствует, что мне нужда, начнет ломать концерт. К тому же он может оказаться пьяным до недееспособности, а жена не даст денег.
Эти мысли клубились во мне одновременно, пока я, разгоряченный, потный и взбудораженный, шел к балку, спотыкаясь о разномастный мусор, поскользнувшись в блестящем до синевы следу от каких-то саней и угваздав ладонь. И все больше взбудораживался потому, что ощущение наваждения, какой-то нелепой тягучки продолжалось, пока я не понял, что никак не могу дойти до балка, хотя вовсю шевелю ногами. Что он реально существует, я не сомневался, и это подтверждалось тем, что вокруг него бегали, махая руками, две фигуры, одна подлиннее, видимо, Эдина, и одна поменьше, видимо, Концевого Деда. Все это время не проходило ощущения суеты, беспорядка. Лаяли собаки и тарахтел невидимый трактор. Потом вдруг что-то в мире встало на место, и я наконец подошел к балку, к которому вели два блестящих следа. Обойдя балок, я увидел трактор и Эдю, снимающего с его рогов трос. Рога блестели, как зеркало.
Трактор развернулся и стал позади балка, тракторист вылез и стал по-своему перекладывать трос после Эди. А я рассмотрел второго человека. Это был матерейший де́дище с пего-пятнистой бородой. Понимая, что от меня ждут описания очередной бороды, объясню: у Концевого Деда она росла одинаково и вниз, и в стороны от щек, как жабры.
– О! Три-титьки-мать, вот и гость пожаловал! Проходите в избу.
Мы зашли в балок, где топилась печка. На столе у окошка лежал кусок рыбы в сохлой чешуе, полбулки хлеба, стояла початая бутылка «Дона Карлоса» и алюминиевая чашка с остатками пакетной лапши.
– Эдя, дело срочное! – попытался я обратиться к Эде, но тот сказал очень солидно и официально:
– Так, дорогой мой, не делается… Обожди, сначала давай хозяина уважим. У человека новоселье. А не собачья свадьба. И давай-ка я для начала вас представлю: Геннадий Иваныч, Сергей Иваныч. Два Иваныча, х-хе. Это не просто. Ну вот так, а теперь давайте.
В это время зашел тракторист. Молодой парень со смолевыми волосами и выступающим набалдашником на носу, отчего у него было необыкновенно «нюховитое» выраженье. Он живо сел к столу.
После паузы с кряканьем, сопеньем и закусыванием я обратился к Эде:
– Эдя, ты мотор берешь?
Эдя посмотрел на меня быстрым сорочьим, вороньим или кедровочьим взглядом. Черный глаз шасть на меня и обратно в сторону. И сказал не спеша:
– Э-э-э… мужики, новоселье не каждый день бывает.
А я подумал, что при таком передвижном жилье новоселье как раз можно устраивать каждый день и превесело жить. Однако Эдя продолжал:
– Не каждый день случается новоселье у человека, поэтому давайте-ка…
Я уже кое-что понимал в дипломатической науке и решил зайти ближе к жизни:
– А че вы его утащили-то?
– Да видишь ли, три-титьки-мать, Сережа, понимаешь, какое дело, – отозвался Концевой, – он стоял, оказывается, на участке одного козла, а тот строиться надумал, и я ему мешаю. А теперь всю эту ерунду с документами устроили, и я теперь не пришей где живу. Раньше в Сибири мы первопроходцы были – где застолбил там и стал! Это по-народному! А у таперишних по кому? Вот Иван Грозный, я понимаю, – он с народом был – против бояр… А эти, три-титьки-мать… с боярами… С боя-я-ярами… – протянул он, прищурившись, и отвернулся, махнул рукой, – я сра-а-азу понял… Эти с боя-я-рами…
Воспользовавшись историческим отступлением, я подготовился и, когда оратор закончил, толкнул Эдю и веско завел:
– Короче, Эдуард, я мотор продаю, только мне край сейчас деньги нужны. Сейчас прямо, я кобеля беру у старовера, он стоит на берегу. Ты мне мозги не канифоль – скажи по честноку, берешь или нет «вихря»? А то у меня покупатель есть. Щас подъедет сюда. «На шейсят шестом».
– Я по-о-онял, что царь с боярами, а не с нами… – продолжал Концевой.
– Погоди… погоди, Иваныч… – Эдя изо всех сил зажмурился, силясь и аж скрипя волей… – так, так… мотор…
– Постой, Эдя, ты че меня, три-титьки-мать, кидашь, что ли? – ошарашенно сказал Дед. Он говорил очень выразительно, отчетливо и сочно.
Эдя продолжал усиленно и очень серьезно морщиться, опустив лицо…
– Погоди… погоди… Сколько?
– Пятнадцать. Как говорили.
– Ты это… – лез обеспокоенно Дед.
– Да стой ты. Не кипишись… – и приказал: – Наливай!
Выпив, Эдя будто протрезвел и сказал голосом управляющего, которого призвали из столицы для разрешения очень важного тупикового вопроса. В час ночи он прилетел на самолете, и его доставили в контору. Глаза у него сами закрываются, но он разлепляет их и, нечеловечески сосредоточившись, говорит негромко и четко:
– В общем так. Четырнадцать. Щас едем ко мне. (Отвезешь, Юрчик?) Заходим вдвоем. Ты. Я. Ты говоришь моей, что пятнадцать… Она в курсе.
– Мудро, три-тит-т-тьки-мать! – рявкнул Дед. – От это мудро!
– И все решаем. Ну?
– Добро. Только поехали.
– Это… парни, – сказал дед, – в магазине, когда втариваться будете, курить возьмите, и бич-пакетов, лапши этой… Сами только не слызгайте.
Гурьян ждал у лодки у костра. Он отдал мне собаку вместе с цепочкой. Кобель внимательно посмотрел на Гурьяна и послушно вышел, понимая, что происходит важное.
– Он молодой, два года, зовут Храбрый. Не пожалеешь. Приезжай в гости. Семьи нет? А то у нас сметана, творог. На цепи только держи, а то может отъесться.
Завершаю записями два длинных этих дня. Вспоминаю и мужиков, и Гурьяна, и Деда с его Грозным… Вот и выстраиваются части моего Русского мира, и чем они ярче, самобытней, извилистей – тем плотней друг к другу прилегают, входят в зацеп.
А то, что у меня теперь собака – я еще до конца и не осознал. Пока я не сколотил ему будку, он смотрел на меня с доверием и желанием ясности, прося, чтоб определили. Когда будка была готова, и я положил в нее сено, он проворно принял помещение, понимающе крутанулся, потоптался и лег. А до этого смотрел с вопросом и надеждой. Чтоб только объяснили и показали. Чтоб дали возможность быть верным. И Храбрым.
Глава пятая
Я очень люблю снег. В средней полосе он сначала посыпет для пробы и ляжет тонкой паутинкой. Сквозь нее землю всю видать, с ее усталыми жилами, веточками, венками, будто просящими: приложи… холодное что-то и светлое… И вот приляжется паутинка, потом отступит, вытопится-исчезнет, потом снова накинет не паутинку уже, а марлю… Синеватую… Польет-промочит не то снегом не то дождем, то крупой побьет… И все постепенно, чтоб горожанина не растревожить резкими сменами.
А здесь снег ложится разом и без подготовки. Одним ударом, слоем, который для юга на всю зиму рассчитан. Налетом снегом груженых низких облаков. Таким неумолимым и решительным, будто и от тебя та же решимость и безоглядность требуется.
Поэтому появление с вечера субботы на речном горизонте огромного, в полнеба, белого марева меня обрадовало несказанно. Простор такой, что снег видишь за много верст, хотя он может час еще надвигаться меловой лавиной. И граница белого резкая, как по огромной прозрачной линейке: вот обычный воздух, а вот приближается млечная толща, и настолько мощно, что кажется весь снежный год ползет-надвигается, и настала наконец смена вещества и завились снежинки осмысленно и сосредоточенно, и ползет бескрайний рой с юго-запада, опускается ярко-белое низкое небо и пошло косить… Легко спать под шум этого роения. А утром встал – все в ровном снегу. И осень в далеком прошлом.
Было тихое воскресное утро, которое я встречал еще в синей полутьме, видя, как необычно светится новым светом каждый предмет во дворе… И, выйдя на двор, смотрел на белое одеяло, будто не веря… Едва рассвело, стала видна темная река и медленно падающие снежинки… Возвратясь домой, старался все делать медленно, неспешно, чтобы не нарушить душевного тихого строя… Но не тут-то было…
В девять утра приперлась баба Катя. Сушайшая старушка с огромной палкой, в огромным малиновым платке, с бахромой, как толстые щупальцы, и в подростковой синтетической ярко-зеленой куртке. Зашла, поставила палку, сяла на лавку:
– Ой, снег-то че… Опеть огребаться… Ой-ей-ей… Я грю, завалит се́году нас… Я че к вам: вы этого, Кольчу, не видели?
– Кого, баб Кать? Не понял…
– Кольку, Кольку этого как его Ромашовского. Ученика-то вашего…
– А что такое?
– Что такое? – возмутилась баба Катя. – А я расскажу! – Она понемногу повышала голос. – Все расскажу. А вы нич-чо не слыхали? Радиво не включали? Новостя́ не слушали? Ниче тамо-ка не сказывали?
С набравшего напряженной грозности голоса она перешла на плаксивый:
– Что, евоный ко́бель лохматый разорил мене… Ой, ой, ой… До того пакостливый! Совсем совесть потерял, треттего дня залез в ограду… Я как раз пензию получила и с магазина ворочалась и котомку на завалину поло́жила, и токо за ключом отошла, – он в бане на гвоздике весится, – слышу мой Пестря кыркат на привязке… Кыркат да кыркат. Ага. А Кольчин ко́бель через забор перемахнул и унес все… – она показала на размах рукой. – Все унес! Уууу, – прогудела она носовым басом и грозя в сторону, – падина! И масло сливочно, и конфеты ети на под-вид батончиков, как их… сикресы… ли… слиперсы… и колбасы полпалки… Главно, масло-то хамкнул, дак хоть впрок бы?! Хоть бы впрок! Так напроходную и вылетело… Сквозом… Вместе со слипинсами… А колбасу так в морде нимо меня и проташшыл. Ташшит и ишшо на меня смотрит! Брось, грю, покость такая! А куда там! Я за палку – он в рык! Я за палку – он в рык… Мне бы сподографировать его рожу бесстыжу да в «Северный Маяк»… Да я зна-а-аю. Зна-а-а-аю… Колька его нарочи́ промышлять посылат! От тебе секерт, от колбаска к чаю! Поди плохо! Мо-ожно жить! Те не соболя гонять! Да ты посмотри на него! Посмотри, какой бухряк! Он же баллон! И куды лезет-то в него? Куды лезет? От ить полобрюхий! А вчера опеть! Опеть. Залез ко мне в кладовку, заложку зубами откинул, сука такой. А у мене там винегрет стоял в чашке… Сестреннице день рожденье отводили… Она мне нало́жила… Чашка-то, главное, с цветочками… Ну и все, одне черепушки… Ах ты падина. Все до капусточки подмел… До капусточки… И тефтелья, и шшуч-чю фаршу… Хорошо ишшо торот убрала. Как чувствовала. Штоб ты сдох, бессовестна рожа! Вот мне Кольчу и на-а. Скажу ему, ты, сына, собачку не корми сегодня, а то бабка муки купила – шаньги стряпат, рыбник-пирог и уху варит налимную, да ишшо оладди с вареннями. И торот вафельный. Пушшай приходит гость дорогой – уважит старуху-то… а то она… не знат, куды пензию девать… о-о-о-о… Мнуки-то разъехались.
– Подождите, подождите, теть Кать. Успокойтесь. А вы с Николаем-то говорили?
– Ково говорела?! Говорела… Да он… – Посмотрела на меня, как на ребенка. – Он бегат от мене. Бе-гат! Я вижу, он вот токо у дровенника стоял, чурку колол, я ви-идела… Я к нему – а его и след простыл. Мне где выгнать-то его? – показала на палку. – Со шкандыбой этой!
– Ну вы домой-то ходили к нему?
– Как не ходила-то? Ходила, грю. Да черт его дома удержит! Шарится где-то… Шатучии, что он, что ко́бель, этот сука бессовестный… Никакого-ка отступу не дает… До того напрокучил мне… Сколь натерпелася я с ним… Ну а теперь все – привадился… Теперь его вагой из моей ограды не вывернешь. Ой-ей-ей… Я, главно, палкой на него, – а он в рык и глядит ишшо на меня… И главно, такой разва-а-аженный… – протянула она капризно и показала, как он развалясь, смотрит с прищуром. – Ишшо подмаргиват… Ты ково подмаргивашь? Моргач. Я те поподмаргаваю! – Она уже сидела, постукивая палкой. – Я Ларисе говорела, пошто не привязываете собаку? – продекламировала она официально. – А Лариса – че? Она сама его боится… Он такой заедливый… Он, грит, только Кольчу слушат… Так и говорит. А Колька его покрыват и меня бегат. А мать есть мать. Я те боле скажу: у йих кругова порука: мать – сына покрыват, а сын – ко́беля. Хотела ишшо к этой-то директорше… к весноватой-то этой… как ее, Валя… Или к мужу ее, Мотьке, хороший мужик, только бражка его загублят… Дак вот и думаю, пойду к учетелю… Он мужчина отдельный… Пушшай меры принимат… А еслив нет, дак я в совет прямиком, скажу, участкового вызывайте.
Я как мог успокоил бабу Катю и, проводив, едва занес перо над бумагой, чтобы записать слово «весноватая», как раздумье мое прервал оглушительный треско-стрекот, внезапно замерший напротив моего дома. Под нарастающий лай Храброго ко мне ввалился крайне возбужденный Эдик и попросил воды. Я тут же протянул ему кружку, на что он рыкнул: «Да не то! Литр-р-ров пять! Ведер-р-рко, кор-р-роче».
Пришлось накинуть фуфайку и идти в баню за ведром. На улице стояло странное сооружение. Железная снегоходная коробушка из развернутой бочки с деревянными бортиками, а на ней на стойке из необрезной доски двигатель, к которому приделан деревянный винт. Сзади вертикально торчала доска с зеленым пластмассовым умывальником наверху. Он соединялся шлангами с мотором.
– Это что за… – я хотел сказать «тарахтат», – агрегат?
– Аэросани, – солидно объяснил Эдуард.
Самое поразительное, что в качестве мотора на аэросанях была голова от моего «вихря», которую я узнал по крашеному маховику. Установленная на боку, с присобаченными каким-то топорным креплением на толстую проволоку винтом. Винт был грубо вырублен из кедровой плахи. Огромный штабель винтов с занозистыми краями, с глазками сучков, как дрова, лежал в корыте и занимал его добрую половину. Лопастей было такое количество, будто они штатно отстегивались в процессе лета.
– Как ступеня́ ракеты… Ты что… топишь ими?
– Да нет. Я шаг подбираю. Угадать не могу. – И стал, перекладывая, гремя ими, показывать: – Вот этот на двадцать шесть, вон здесь зарубка у меня, эти на двадцать восемь… У меня дома еще… два комплекта. И в плахах три куба лежит. Все обтесать руки не доходят.
Последовало долгое объяснение аэродинамических свойств винта, где главным было понятие «давит», причем он с силой показывал рукой, как именно «лопастя́ давят», и так сморщивался, будто тоже изо всех сил создавал тягу и давил все, что можно.
Забыл сказать главное: ведро он вылил в умывальник «системы охлаждения», так как винтом перерубило шланг, который он быстро заменил запасным – видимо, эта неисправность была привычной:
– Нагрелся, как утюг. Щас я запущу, а ты подтолкнешь.
Я вообще-то совершенно не собирался участвовать в этом аэропробеге, тем более вышел полуодетый. Но Эдя настолько не сомневался в том, что его предприятие не может не вызывать страстного желания в нем поучаствовать, что невозмутимо достал из кармана веревку с деревянной ручкой, намотал на маховик и начал дергать. Мотор не заводился, да и не особо спешил проворачиваться вместе с лопастями.
– Подкачать надо, – прокомментировал он, словно это было показательно-обучающее выступление. Он подкачал грушей и еще некоторое время маслал мотор до одышки, пока не произнес фразу, от которой у меня открылся рот. Он вручил торжественно дергалку и сказал:
– На ты. Задолбался.
Это, видимо, означало новый этап доверительности, возникшей по ходу нашего сближающего дела. Я не знал, смеяться или каменеть от того, что шаг за шагом втянулся в эту свистопляску и почему-то оказался обязан дергать Эдино изделие. Но добавлялся еще смысл. Эдя передавал подергушку мне как хозяину мотора, знающего его и будто бы несущего ответственность за его состояние, за сделку вообще, а теперь и за все это предприятие. И даже больше того – еще и виноватому и чуть ли не «впарившему барахляный» мотор. Мол, давай уж впрягайся, раз такой оборот.
Я, как заколдованный, несколько раз дернул, отметив, что дело действительно потное и одышливое. Потом дернул отдышавшийся Эдуард, тот завелся, и Дон Эдуардо, сунув шморголку в карман, с криком: «От винта!!!» прыгнул в корыто. Я стал толкать. Корыто не ехало. Эдя заорал: «Толка-ай!» Потом выбрался на землю, и мы вместе сдвинули аэросани. Эдя впрыгнул и под дикий стрекот стал очень надрывно и медленно удаляться.
А я расстался с планом «тихое утро» и пошел к Косте Козловскому, который обещал показать берестяные поплавки.
Козловский – приезжий еще больше, чем я, но его чужеродность перевешена искренне-священным интересом ко всему плотницкому, столярному, природному, вообще, ко всему ремесловому и промысловому. В работе с деревом и металлом он доходит до полного инженерного совершенства и далеко превосходит всех местных и приезжих. К тому же ничем больше и не занимается. Ремеслам он уделяет времени сколько хочет, и если любой здешний житель делает топорище за полчаса, то Костя уделит сутки, но изготовит абсолютно выставочный образец.
Его отличает доброта, многими воспринимая как наивность или чудачество. У него замечательная искренняя улыбка. Он отзывчив и выручает от души.
Козловский полный, светло русый, с розовыми щеками. Очень курносый и какой-то ноздристый, нос крупный, и от этого имеет несколько кабаний вид. Губы тоже крупные, расстояние от носа до верхней губы большое. Крупен… как сказать-то… весь ротовой узел, или то, что называется уже в кабаньей терминологии одним грубоватым словом, неприменимым к человеку, если б сам Козловский, описывая кого-то и расплываясь в безоружной улыбке, не сказал, что у того, мол, «ярко выраженное рыло, ну не такое, конечно, как у меня», – и засмеялся, открывая зубищи и добрейше морща означенную часть.
Я внимательно отношусь к описанью бород, потому что это действительно традиционное наше явление. Бороды обычно носят люди спокойные: почвенные и конфессиональные. Хотя у самых склочников и фыркачей тоже в почете бороды, причем самые неряшливые! Я это к тому, что борода – лишь оклад, поэтому – к сути, к сути, к сути! Когда идешь к сути, ступени не кончаются! Или так: когда идешь к сути, ее миражи отстреливаются, как ступени.
Так вот бороды… Помните у Гоголя: Чичиков был «не толст, не тонок»… Зачин замечательный! Так вот, борода у Кости не жидкая, не густая, не окладистая и не лопатистая, не клиновая, не двухвостая… А такая… бахромчато-лучевая, лик в разные стороны обрамляющая. И растет она, отступя от рта за некую нейтральную полосу, в полподбородка оставляя свободное пространство для обнаружения нелегально мигрирующих рыбьих костей и хлебных крошек. Щеки у Кости розовые, с резкой границей, как и у Гурьяна. И Костя вроде бы точно такой же, как остальные мужики или староверы из соседнего поселка, но только и румянец, и борода… ну как-то нежнее, что ли, если такое слово к мужику применимо. Так отличается елочка, взрощенная в средней полосе на садовом участке, от таежной, стиснутой мерзлотой и ветрами.
При этом Костя полный, но не рыхлый, а наоборот, очень плотный, такой боровок. Или боровик. И то и то в строку. Очень сильный, порывистый, аж вздрагивает всей массой, когда что-то хватает, поднимает. У него выпуклое выставно́е пузо, он всегда в грязно-коричневом свитере, и на пузе дырка. Пузо твердое, судя по тому, что свитер дырявится, когда он мощно притирается к верстаку или к ящику, который тащит, громко дыша. Носки тоже всегда протертые на пятках. Пятки серо-наждачные, кажется, если он разуется и чиркнет по железной решетке перед крыльцом, то полетят искры. Руки небольшие, подушки пальцев в серую насечку, в чешуйку, как у ящера. Когда он задевает Тоню, она вздрагивает:
– Ой, как напильником… Ну, Костя. Ну никак не дает себя отпарить.
Я подошел, когда он заколачивал бензинную бочку: приставив к плечику на пробке толстую медную трубку, точно и редко ударял по ней молотком. Свои действия он всегда поясняет, вот и сейчас он выдыхал, подкряхтывал, обнажая зубищи и десны и морща весело нос:
– Так вот. Все обычно топором колотят (придыхание) или зубилом, или (придыхание) железякой… Искра́ – и копец. Один мужик, мне рассказывали, так вот целый завод спалил. Я как узнал, хе-хе – все. Теперь только трубкой.
Его будто подсмешил собственный испуг «спалить целый завод», и это тоже было нетипично и будто сокращало дистанцию: здешние мужики обычно строго говорят, не допуская о себе насмешки.
Трубка, которой колотил Костя, была розово-тусклая, затертая, с забитой стороны взявшаяся загнутыми лепестками, словно саранка, луговая лилия. Молоток тоже с затертой ручкой и старинный – с двумя загнутыми козьими рогами. Помню, в детстве мне такой молоток казался очень одушевленным и сердитым. Инструменты у Кости добротные прежней, какой-то армейской или экспедиционной добротностью. Видно, что он их бережет и собирает. Обычно у мужиков в трудовом круговороте топоры-молотки не живут долго, израбатываются, теряются, обновляются. А у этого все любимое, с клеймом пожизненности.
Живет он в неказистом двухквартирном домишке из посеревшего бруса, рядом с которым возводит домину с поморскими фронтонами и галереей. Инженерный дар у него врожденный. Любой предмет, за который он берется, выходит из-под его рук не только в идеальной канонической форме, но и с дополнительной художественной надбавкой: «Я сразу вижу, каким он будет».
Когда, например, я делаю топорище, то мне вообще не до видения. Форма сама себя обнаруживает, а я иду на поводу за всеми ее капризами и уродствами.
Дом у Кости с Тоней немного походный, экспедиционный, смешанного стиля – вьючные ящики и рядом самодельное кресло, оплетенное берестой.
Тоня – статная девушка, тип: «шамаханская царица» из рассказа Ивана Бунина «Чистый понедельник». Бархатно-черные глаза, длинные брови, чуть сросшиеся, небольшой рот с едва заметными усиками на губке, и на височке такой же намек на бакенбардик, который в последний момент завитком уходит за ушко, провисая. Подобранная прядка и трогательная неухоженная развилка.
Узкая длинная талия и несколько тяжеловатый таз и ноги. В ходьбе что-то русалочье, связанное с тяжестью нижней части. Никогда не красится и ходит в джинсах с штатно порванной коленкой. Очень знобко смотреть, как ее смуглая коленка эту дырку еще сильнее дорывает, когда Тоня садится поправить половик. Из-под кофты торчит рубашка навыпуск.
У Козловских двое детей, сын в седьмом классе, у меня как раз, и дочка в первом. Сын в Костю, здоровенный и белесый. Дочка в маму – похожая на белочку с такими же бархатными глазками, с дымной поволокой, как на чернике. Когда мы с Костей зашли, девочка писала прописи, капризничала, и Тоня над нею склонялась, изогнув стан:
– Даша, что здесь написано? «У И-ры»… «У Иры и Вовы… – Она посмотрела на нас, комично округлив глаза: – Тыква».
Улыбнулась, будто извиняясь за «тыкву», пародийно и тоже для нас нахмурилась и с этой нахмуренностью снова обратилась к девочке. Большая часть взгляда относилась не ко мне, а к Косте. У них часто такой перегляд.
– Тонь, Сергей тоже Эдика видел.
Тоня понимающе улыбнулась.
Приехали они в Сибирь сознательно и прикипели. До этого жили в других местах, Тоня работала в заповеднике и ушла, проявив необычайную стойкость в какой-то идейной тяжбе.
С Козловскими я чувствую себя естественней, чем с другими обитателями поселка. Мы говорим на похожем языке, и под них не надо подстраиваться. Они очень остроумно употребляют сибирские словечки, играют в них, но с симпатией, и те звучат чуть по-другому, будто из замшевого чехольчика. Тоня предложила чаю, Костя показал поплавки, а сам вышел на улицу, позудел болгаркой и принес с улицы отшлифованный стул.
– Тонь, смотри, как получилось.
– Бравенько, – сощурилась одним глазом Тоня. Козловские работали в Забайкалье и там подслушали это словечко, означающее не «молодцеватость», а что-то хорошее, доброе, качественное. У меня ощущение, что Костя Тоню все время спрашивает, ждет от нее одобрения, а от нее исходит общее руководство.
Они купили у кого-то очень красивые резные стулья. По желтому лаку они были грубо закрашены охрой. Костя их шлифовал болгаркой. Видно было, что тема давно обсуждается и что это часть большого разговора о местных нравах.
– Меня поражает, – говорила Тоня, накладывая варенье из дикого ревеня, – вроде местные, среди дерева живут и сами этого же дерева боятся, как огня. Как можно было такую красоту закрасить?
Я попытался разобраться, заранее по правилу оппонента встав на местную сторону:
– Потому что дерево сереет и теряет вид, вот его и красят… Хотят нарядней, веселей. Олифить, чтоб желтенькое было – не принято, не было олифы, а краска была. Ну и, потом, многим в деревне хочется, чтоб было, как в городе…
– Я согласна на улице, наличники там, да… А внутри-то… внутри-то зачем? Вот стулья эти…
И снова пожала плечами:
– Закрашивать такую красоту… Муж, ты собакам поставишь?
– Попозже… Ну вы тут общайтесь, а я пока дошлифую, – сказал Костя и выбежал на улицу.
Тоня подбивала тесто, ведя разговор про Ленину учебу. Через полчаса вернулся раскрасневшийся Костя с белыми стульями. Снял шапку, и красные уши расправились смешно, как-то постепенно. Волосы тоже были примяты к голове, голова казалась меньше, а борода торчала особенно широко:
– Сегодня попробуем на собаках проехаться! – сказал он радостно – я заеду.
Заехал он уже после обеда, когда я управился с делами. Зрелище у упряжки несусветное. Шесть собак серого и рыжего цвета, отвыкшие от постромок, вертящиеся, кусающиеся, рычащие. Устройство цуговое, и все это длинное лохматое сборище составляло две парные цепочки с Верным во главе. Нарта у Кости, как и все остальное, сделана им самим, какая-то североамериканская с поперечным набором из дощечек. И с задней двуручной стойкой, за которую Костя держится, как за рычаги, стоя на очень узких полозьях, сделанных из доски на ребро и подбитых черным пластиком, чтоб не подлипали.
Псарня была запряжена в порядке престижа: самые уважаемые впереди. Остальные в порядке «убывания статуса», как сказал Костя, морщя нос: «Вид убегающего мучителя и врага веселит и заставляет преследовать». К барану (дуге) нарты привязан «потяг» из полосы транспортерной ленты, собаки сидят на постромках, привязанных к потягу.
Ехать собрались на аэродром, где можно разогнаться, а главное, нет других собак, потому что драка завяжется незамедлительная. Когда кавалькада несется по улице, нечто невыносимое творится с окрестными собаками. Которые на привязках, изводятся до визга и хрипа, завиваясь на цепочках, а вольные – просто кидаются, лезут и орут. Собаки и внутри упряжки старалась подраться, без конца друг к другу приставали, заедались, лезли в морды, кто лизаться, кто кусаться, наступали на постромки и запутывались ногами. Костя тоже рычал угрожающе, и для острастки шлепал себя по бедру специальным ремешком.
Стараясь избегнуть «участков с максимальной засобаченностью территории» (как выразился Костя), он выбрал самый кратчайший путь, благо мой дом на краю. Я расположился на нарте, он вскинул руками и гикнул «айда», и упряжка, заедаясь и отвлекаясь, потрусила на выезд и стала набирать ход. Никаких органов управления вроде поводьев или бича (учага) у каюра не было. Рулил он то окриком, то взмахом руки, и собаки его понимали. Мы проворно двигались к спуску на поляну, как вдруг… Хотелось бы задержаться на этом «как вдруг» и напомнить, что оно не простое «как вдруг», а намеренно связанное с появлением одного важного действующего лица. Так вот мы уже почти выруливали на поляну, как вдруг сбоку появился бело-лохматый персонаж и с возмутительно невозмутимым видом пробежал рядом, пару раз деланно гавкнув, и дунул в деревню, быстро оглянувшись, чтобы убедиться, что его маневр достиг цели. Это был Пиратка.
Верный залился оглушительным лаем и, хрипя, рванул за врагом, развернув всю упряжку настолько резко, что Костя, матерно взревев, сорвался с задника нарты, проволочился несколько метров, паша брюхом, после чего картинно отпустился (я так думаю, по крайней мере, потому что сам не видел – мне не до этого было). Цуг понесся за Пиратом, забыв внутренние распри. Я полулежал, как раненый в тачанке, вцепившись пальцами в нарту, а за спиной удалялся срывающийся рев Кости. Моих команд лихая сборная не слушала. Улица неслась в коридоре звереющих собак, выпрыгивающих со всех сторон, рвущихся и дергающихся пастей. Собаки каждого участка добегали до границы, передавали нас по эстафете следующему эскорту, и лай катился по улице дальше и дальше… Иногда встречалась отложившая лопату или колун фигура, очарованно открывшая рот.
Я был уверен, что Пират добежит до дома, перемахнет забор, и наш экипаж, смешавшись перед преградой, остановится. Но Пират на ходу фонтаном взрыл носом снег у своей калитки, косо глянул на нее, видимо, что-то мгновенно сообразив, и понесся дальше. Упряжка летела за ним, собирая лающий шлейф. Навстречу попалась пятящаяся грузовая машина. Она резко остановилась, всколыхнувшись всем телом, и упряжка плавно обтекла ее. Водитель проговорил что-то беззвучно-сочное. Встречный мужик на снегоходе метнулся и съехал на обочину, показав у виска. Но мы мчались вслед за Пиратом и свернули в узкий проулок, где едва не своротили лодку. И тут…
И тут я увидел бредущую от нас бабу Катю с палкой-шкандыбой. Умотанная в свой толстенный малиновый платок, она шкандыбала ровно посередине улицы. Тут уже я́ заорал, но она не слышала, и через мгновение собаки, огибая в двух сторон бабку, потягом подсекли ей ноги, и она, с воплем подлетев, упала в нарту мне на колени. Едва не получив палкой в глаз, я схватил ее в однорукую полуохапку, и наш караван помчался дальше под истошный бабкин мат, ставший еще истошней и хриплей, когда она поняла, что мы гоним Пирата, и что и здесь в нем сосредоточился весь корень зла. А дальше…
А дальше навстречу плавно двигалась Валентина Игнатьевна Степанова в сером пальто с овчинным воротничком и серой беличьей шапочке… Она невозмутимо кивнула, и мне показалось, что под глазами ее наметились еле заметные складочки.
Пират целил прямиком в школьную кочегарку. Ее серые от угольной пыли ворота были открыты и занавешены брезентом. Пират стремглав влетел под брезент, и через секунду туда же внеслась наша «конница» и замерла, образуя немую сцену со всем тем, что творилось в кочегарке, в недрах которой исчез Пират. Ярко горела открытая чугунная топка. Возле нее симметричной группой стояли два кочегара с лопатами в руках. Рты их были раскрыты. У ведра с маслом стоял Коля со светящейся раскаленной пешней, как с солнечным копьем. Пешня была секунду назад откована и сквозь ее рыже-розовое парафинное острие прозрачно виднелись грани.
– Здравствуйте, Сергей Иванович… – Удивленное лицо Кольки представляло собой поле борьбы замешательства и дикого смеха. Он сунул пешню в ведро с маслом и она зашипела, выпустив ленточное облако белесого дыма. Когда рассеялся дым, ни Кольки, ни Пирата уже не было. Все грохнули со смеху.
Баба Катя с полминуты лежала недвижно в моих объятьях, словно убеждаясь, что жива, потом встала, не выпуская палку, в которую вцепилась намертво, посмотрела на всех отсутствующе, невменяемым взглядом и вышла вон. С улицы я отчетливо различил слова: «всю растряс, лешак городской».
Собаки, ошалев, стояли, высунув языки, отряхивались, чесались, гремели постромками. Маленькая рыжая сучка из последней пары изгибалась и, нарушая субординацию, пыталась подхалимски подкусаться к Верному. Подбежал раскрасневшийся, тяжко дышащий Костя. Все уже сели на засаленную лавку около бледного старого телевизора. Утренняя предыстория с бабой Катей добавила новых судорог. Успокоившись, Костя потащил меня к себе домой и, сползая от смеха, вывалил все Тоне, еле умудрясь уместить меж приступами хохота:
– Жена, мы ужинать пришли. Достань нам чего-нибудь.
Мы уселись в кухоньке, где теснились обеденный и кухонный столы. Тоня готовила что-то долгосрочное в духовке, косясь на сериального «Тараса Бульбу» в небольшом телевизоре.
Тоня с Костей вышли, и я понял, что витает какая-то сложность. Долетали приглушенные голоса, Костин: «Да и ладно, че такого?», и Тонин: «Не рассчитывала». Я было собрался уходить, но Тоня вернулась с новой какой-то идеей и принялась накрывать на стол, а Костя с таким пылом садил меня, что я остался. Обычно жена продолжает дуться, а муж изо всех сил убеждает гостя, что все в порядке. А тут наоборот – Тоня сказала: «Да все хорошо, не волнуйтесь».
– Все, садимся, Тоня, у нас капуста же есть. Давай ее, – скомандовал Костя, потирая руки, и достал музейную пузатую бутылку. В ней оказался его же производства двойной выгонки самогон на сабельнике.
– У меня только вам дать нечего. Суп я детям скормила, они на площадку уперлись… С санками. Кстати, Костя, у нас такой дубак в спальне.
– А сколько сейчас градусов?
– Да уже десять… «нагнетает»! – сказала Тоня, округлив глаза и, видимо, кого-то изображая, скорее всего, соседку.
Есть хозяйки, которые, когда придут неурочные гости, загонят их куда-нибудь подальше от кухни («Гена, пойди телевизор включи») и томят, а мужики думают: «Че мудрит? Положила бы сала и хлеба, и уж намахнули бы давно». Но их держат в торжественной изоляции часа три, пока идут доскональнейшие приготовления, целое производство, а потом пригласят к столу, где все, как клумба – такое разноцветье грибов, сигов под шубой и холодцов, что рот открывается, и правильно делает. Тоня действовала по-другому: не переставая разговаривать, неторопливо и методично что-то приносила, и производила какие-то действия, с виду непонятные, но потихоньку выстраивающиеся в блюда.
Не поворачиваясь, обращалась к Косте, суя луковицу: «На, чисть» или банку с помидорами: «Открывай давай». Шкури́ла вареную картошку, резала лук, щурясь и смаргивая, тыльной стороной ладони вытирая слезы и поправляя свою прядку-отвилок. И не переставая общаться так, что на первом месте был разговор, а на втором приготовления. Говорила чуть замедленно, словно на два дела ее не хватало и часть внимания отбирала резка. Приготовила отличный чеснок с маслом и солью макать картошку.
Некоторое время мы обсуждали с разных углов собачье происшествие, не желая с ним расстаться. Потом я в очередной раз рассказал о посещении бабы Кати и вспомнил про Эдю, который померк было со своим шагом винта и умывальником, но тут снова раскрылся равноправной добавкой.
– Как вам наш Циолковский? – медленно говорила Тоня, натирая сыр. – Зачем вы ему мотор-то продали?
– Да мне собаку предложили хорошую.
– Он и без собаки бы вас уломал, – усмехнулась Тоня. – Спасибо-то хоть сказал?
– Сказал – не сказал. Это ж не главное.
– Вот и я тоже так считаю… А вот наши… соседи… – раскатывая бутылкой тесто и сдув прядку, выпавшую из-за уха, задумчиво и медленно продолжила Тоня, – хорошие вроде люди, да? Мы у них, бывает, что-нибудь просим. И она вот, Зоя, мы еще только приехали, прибежала, что-то ей нужно было… Не помню. Мы, естественно, дали. А на следующий день приносит блинчики на тарелке. Намасленные. Мне так стало неловко… Что за расчет-то такой? Мы же абсолютно бескорыстно.
Еда была вкуснейшая, и я не мог удержаться и с удовольствием отведал и пельменей из смеси щуки и налима, и овощного горлодера.
– Тоня, а груздочки-то где у нас? – сказал Костя, смолотив тарелки три.
– В холодильнике, снизу… А вот вы, Сергей Иванович, как учитель литературы объясните нам, может, мы чего-то не понимаем? – Она говорила неторопливо и не то с иронией, не то с намеком на насмешку или, наоборот, серьезно, как в школе учитель, – я понять не мог. И с интонацией человека, который уверен в своей правоте и пытается тебя проверить: – Ведь литература учит нас? Чему она нас учит?
Я изо всех сил подумал, что русская литература, младшая сестра молитвы, учит быть сдержанным.
– Причем мы-то от всей души, – продолжила Тоня, возвращаясь к расчетолюбивым соседям. – Мы на благодарность не рассчитывали…
– Да они тоже, может, от всей души! – сказал я как можно доброжелательней.
– Ну как? – раскладывала она по полочкам. – По-моему, такие блинчики означают: вот вы нам помогли, мы вас отблагодарили – и все, нас не трогайте – отвяньте, нам чужого не надо. Мы не какие-нибудь прохиндеи. – Тоня округлила глаза: – Понимам.
– А мне нравится, когда мне блинчики принесут! – сказал Костя, сморщив нос. Будучи деятельным и словоохотливым на дворе в работе, сейчас он просто одобрительно сидел, изредка вставляя что-нибудь несуразное. Выражение его лица означало довольство, что все сидят за его столом, что все это его детище, как и нарта, и баня, и сруб, и то, что так спокойно и справедливо говорит Тоня, тоже его хозяйство.
– Ну так что же? – сказала Тоня. – Рассудит нас великая русская литература?
– Я думаю, да. Она скажет, что вы людям помогли и что они вас отблагодарили. И что у благодарности два мотива: от чистого сердца, и от желания закрыть счет. Да? Два мотива. И что вы… напели второй. То есть попросили счет. Мне кажется: раз помогли один раз, то помогите и в следующий. В сказках так, кстати, часто – выполнил причуду чью-нибудь, а тебе – полцарства… За то, что не стал считаться… Да и почему вы отказываете им в бескорыстии? Может, это гордыня? Я дала бескорыстно, а они отдали корыстно. Согласны?
– Да, да, я слушаю, – как-то торжествующе распахнув глаза, говорила Тоня. И было непонятно, что значит это торжество: она так и думала, что я скажу эту ересь, или, напротив, рада, что делю ее точку зрения. И не спешила отвечать. Но резать она перестала и замерла с ножом.
– Тем более блинчики приносит женщина. Хранительница очага, так сказать. Благодарит, чем может. Женское стремление к порядку. Она же земными понятиями орудует. Это мужику дороже, чтоб его в жмотстве не заподозрили… Я вот взял у соседа напильник, а он рукой махнул: отдашь, когда будет. Меня это, кстати, тяготит. Мне проще ясность. Хотя каждый помог, чем мог. Ну что, не так разве?
– Ну пока я поняла, что бабы… существа приземленные.
– Тоня, извините, если не то сказал. Но я-то вас понимаю. И что, когда явный расчет, будто пропадает что-то. Не могу объяснить, но осадок есть. Хотя…Тоня, вам приходилось общаться со старообрядцами?
– Конечно… Архаичные уклады… Костя с ними вечно носится. Когда мы жили в Николаевском, они все время у нас останавливались. Местные не очень их: «Мохнорылые…» Он даже одному за это по морде дал.
«Архаичные уклады» она произнесла так, будто термин все объяснил.
– Я отлично дерусь, – сказал Костя.
А я продолжил:
– Я вот насчет посуды… Вы ведь останавливались у староверов?
– Конечно, – сказал Костя.
– И вас кормили на убой. А вот ваша посуда для них мирская. Вас не беспокоит, что вас они кормят, а вы-то их не можете угостить, когда придут? Другая крайность… Ведь с позиций добрых отношений-то это больше должно вас беспокоить, чем соседка с блинчиками. И вообще – выходит, вам то навязывают спасибо, а то не дают это же спасибо сказать! Вас спасибами просто заваливают, а тратить-то не дают! От ведь как! Представляете, сколько этих… спасиб должно у вас накопиться в хозяйстве! – Наконец-то я нашел ноту, способную противостоять Тониному наступательному занудству. – Целый склад спасибного материала… Натуральное затоваривание! Так что, Тоня, – я сменил шаг винта, – может, и не стоит переживать? Вот видите, какой сложный наш русский мир!
Тоня улыбнулась, но я так и не понял, удалось ли мне ее расшутить, свернуть с серьезно-загадочного тона, который появлялся особо настойчиво, когда она что-то резала.
– А мы бы могли в любой стране жить, – бодро вывез Костя.
А я уже не мог остановиться:
– А если речь о жизни идет, а не о блинчиках? Кто-то тонет. Один спасает, потому что так принято, дескать, сам могу в беде оказаться. А у другого инстинкт – спасать. Всегда два объяснения – по сердцу и по расчету. Хотя это, может, и не расчет, а христианское здравомыслие? И опять развилка! Наверное, на то и мудрость, чтобы, зная закон развилки, поступать по-человечески. Да и главное, не кто прав, а насколько ты любишь этих людей такими, какие они есть.
– Ну вы знаете, про любовь здесь вообще речи не было, а шла речь о том, чтобы разумно выстраивать отношения. Разумно – это по правилам. – Тоня начинала хмуриться.
– Так они-то, соседи ваши, как раз и живут по правилам, а вы приехали и обижаетесь. Я и вас понимаю, и их. И что осадок есть…
– И что же с ним делать?
– Ну вы же хозяйка – должны знать. Выплеснуть…
– Хм-хм, – засмеялась Тоня с холодком, положила вымытую чеснокодавку на сушилку и села за стол. Окунув картофелину в чесночное макалово, попробовала и восхищенно покачала из стороны в сторону головой. Потом снова медленно сказала:
– В общем, я поняла, что литература учит нас правильным вещам, любви там… добру. А вот сейчас идет фильм по одной известной книге… А книга предлагает нам… застрелить сына. И вот вы… Говорите такие вещи справедливые… О том же добре… О мудрости… А мы знаем, что вы не такой уж и мирный: набросились вот на английский язык. – Ее длинные ресницы были опущены. Ноздри тонко вздрагивали, и она чуть улыбалась. Я снова не понимал, это шутка, укор или эдакое… доверие меж свободными и сильными собеседниками.
– Жена, ну что ты пристала к гостю? Ему это в школе все надоело… Я кором пошел мешать, – по-местному сказал Костя и ушел мешать собачье, которое варилось в огромном чане на костре. Чугунный этот чан от теста Костя приволок из разрушенной пекарни.
– Кором, – повторила Тоня, покачав головой, – совсем осельдючился… Эти собаки такие наглые. Крупу совершенно не выедают.
И вернулась к английскому вопросу:
– Да… Вы боевой, – говорила она неторопливо и будто размышляя над своими словами, перебирая их, протирая и расставляя на сушилку в одном значимом для нее порядке. – Помню, в детстве у нас всегда в школе одно говорили, а дома другое. Бабушка у меня была известным ученым, и понятно, что ее многое вокруг не устраивало, вся эта тупость… И я, конечно, верила бабушке, но разрыв был в душе… И я от этого страдала и надеялась, что у моих-то детей по-другому будет. А тут вдруг то же самое – мы дома говорим, что надо языки учить, а в школе учитель: нет, не надо.
Шла какая-то непонятная мне почти игра, было неловко перед Костей, и хотелось как-то все ошершавить, чтобы исключить и намек на что-либо двусмысленное. Английская тема мне надоела крайне и я топорно перевел разговор на любезную мне незыблемость:
– Да, выходит вопрос остался! Но это же хорошо – значит, действительно ничего не меняется! Именно эту незыблемость я и стараюсь донести до школьников. Например, у нас была тема подвига. Вспоминали Достоевского. Фома Данилов, 1875 год, и Евгений Родионов, наши дни. И мы как раз говорили о том, что на Руси как были герои, так и будут.
– А… ну мученики за веру, – как о чем-то понятном сказала Тоня, причем с каким-то даже облегчением, будто она готовилась к чему-то серьезному, а тревога оказалась ложной. Будто пришпиленное термином слово снимается как аргумент. – Да уж… Леня потом спрашивал про этого солдата, почему он не боялся? И что будет, если он сам так не сможет. Очень переживал и не спал.
– И что вы сказали?
– Да я-то что? У меня муж есть… Костя объяснил, что у разных людей разный болевой порог. Что есть такое вещество, которое вырабатывает страх, и у одних его больше, а у других меньше, или вообще не вырабатывается. Но он все равно не мог заснуть долго.
Вошел Костя и стал говорить очень выпукло, аппетитно, будто сам восторгаясь сказанным и выговаривая «с» немного по-английски, как «th», с шепелявинкой, придающей сочности, песочку:
– Есть вообще люди, у которых руки не мерзнут! Мы с одним мужиком. – Он сочно произнес: – Со Степкой Щербининым, сети смотрим, а у меня сосуды мелкие, руки сразу как култышки, хе-хе, я стою, как ворона. – Он растопырил руки, сияя глазами и улыбаясь. – А тому хоть бы что – ручищи красные, волоски торчат, все в куржаке, грудь распахнута. Аж пар идет. – И добавил тихо-хозяйским голосом: – Юкона сейчас смотрел, сильно прокусили. Распухнет лапа.
Разговор затянулся, и назрел тост.
– Скажите нам что-нибудь, – сказала задумчиво Тоня.
– Вы знаете, я очень не люблю, когда мне зададут вопрос, а я не отвечу. А вы, Тоня, задали очень важный вопрос: чему нас учит русская литература? Который я понял еще и по-своему: чему именно я своих детей на уроках учу? И вы вспомнили одно произведение. А я почему-то вспомнил детство и как в классе все мальчишки, и я тоже, конечно, были за Остапа, а девчонки за Андрия. Сейчас, я уверяю вас, все точно так же, повторю, ничего не изменилось! Но я хочу вспомнить одного человека. У нас в институте был преподаватель Евгений Николаевич Лебедев, великий знаток и ревнитель русской литературы. И вот – у нас Гоголь, «Тарас Бульба». И Андрий на стороне врагов, и идет бой… И Евгений Николаевич спрашивает нас: «Друзья мои, идет страшная битва. И с той стороны, и с другой падают убитые, и на нашей стороне рубятся козаки, рубится Остап, рубится обожаемый Гоголем Тарас, а со шляхетской стороны мчит с вражьим флагом не менее любимый Андрий – такое же дитя Тараса, как и Остап… Такая же кровинушка. Да… И понятно, где кто и за что кровинушку проливает… Но вот скажите вы мне, пожалуйста, а где Гоголь? Где в эти роковые минуты великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь?» Наши попытки жалких ответов не буду и приводить. Приведу слова нашего любимого преподавателя: «А Гоголь, друзья мои, он, как птица, он, как чибис, степная чайка, с криком, со стоном мечется по-над полем битвы, меж Тарасом и Остапом, и Андрием, и сердце Николая Васильевича разрывается на части, и нет и не будет этому огромному и навек подбитому сердцу ни покоя, ни пощады, ни облегчения!»
Я запомнил эти слова на всю жизнь. И на уроках задаю этот вопрос. И отвечаю на него. И чем дальше живу, тем больше понимаю, что если и есть что-то главное в жизни, то это состояние такого вот полета, полного отчаяния, любви и сострадания, которое по силам только огромным людям, которые во все времена рождались и будут рождаться на нашей земле. И я сам стремлюсь к этому полету, хотя жизнь состоит пока из карабканий и провалов, и провалов больше. Но никакие провалы не страшны, если есть над русской землей небо, и в нем этот мечущийся навеки крылатый силуэт. И поэтому я хочу выпить за великую русскую литературу, которая учит нас, конечно же, не стрелять в собственных сыновей, а совершенно другому. Она учит нас… искать Гоголя.
Тоня подняла брови, что можно было истолковать по-разному: как «хм, смотрите-ка, н-да» или «ценю, но не разделяю». Костя дослушал с широко и сочувственно открытыми глазами и разом опустошил стопку. Я тоже почувствовал, что миновала какая-то горка, после которой говориться стало легче:
– Понимаете, надо учить детей видеть автора. Сейчас идет борьба не между книгой и всякими там… соблазнительными носителями, борьба между, скажем так, бумагой и электричеством, между… словом и цифрой, а борьба между книгой и огромным числом писанины, которая к литературе не имеет отношения. Потому что сейчас любая бывшая любодейка может написать «роман», да еще объявить на весь свет, что ее «книга имеет успех», так как «хорошо продается». Поэтому под угрозой сама репутация книги. А у ребенка отношение к книге, как к некоему неоспоримому и незыблемому явлению, как деревья там или горы. Ему не приходит в голову, что за книгой стоит такой же смертный человек, как и он сам. Только еще более сомневающийся и старающийся помочь сквозь свои сомнения. И из ничего великим чудом, непомерным напряжением души созидающий мир произведения. …Еще вчера Андрея Болконского и княжны Марьи не было, а назавтра они появилась и стали частью жизни. И все это автор, такой же живой человек. И ребенку ближе и понятней как раз образ живого человека. Когда отец рассказал, как раненый Пушкин попросил моченой морошки, эта картина произвела на меня в сотню раз большее впечатление, чем десяток учебных разборов пушкинского творчества. Поэтому только образ книги как предмета духовного созидания человека может помочь нам понять, заслуживает ли автор звания художника. Помочь отличить книгу от подделки. А для этого нам надо найти и увидеть этого автора. Пушкина, Батюшкова, Гоголя.
Ввалились раскрасневшиеся дети, посыпались на пол вязаные снежные рукавицы в катышках снега, тут же росисто покрывшиеся шариками воды, потные шапки.
– Хотя, из педагогических соображений, иногда можно и пригрозить ружьем. Как у Толстого в рассказе «Прыжок». Гениальный, кстати, рассказ, и абсолютно универсальный! Обезьяна со шляпой – это искушение, а азарт мальчишки – измена основам. Но особенно точно то, что все лезут на мачту сами. И опоры лишаются постепенно, шаг за шагом. А как глянут вниз – уже поздно. Н-да… И тут выходит Отец Небесный. Со свет-молнией… Или Царь-Батюшка…
Леня подлез Косте под руку. Костя улыбнулся:
– Леня в первом классе этот рассказ проходил. Тоня ему вслух прочитала и спрашивает: «Леня, скажи, почему папа велел мальчику прыгать?» А Леня: «Чтобы застрелить макаку!»
Все засмеялись.
– Конечно, рассказ… такой… – сказала Тоня, тоже, видимо, оттаяв, – совершенно непонятно, зачем капитану кругосветного корабля стрелять чаек.
– А я почему-то это и запомнил! – засмеялся Костя.
– Костя, слушай, – сказал я, удивляясь, – у меня так же было – стал перечитывать «Прыжок», тоже вспомнил про чаек, и они оказались главной приметой рассказа.
– Костя, ты бы показал Сергею Иванычу Ленины сочинения.
– Их найти надо.
– Ну, все как обычно, – вздохнула Тоня.
Самогон кончился, но Костя разошелся и выставил коньяк, на что Тоня метнула из своих черных очей молнийный взгляд. Она продолжала что-то готовить, и, наблюдая ее кулинарные маневры, я недоумевал. На столе стояло все необходимое для празднования псовой погони, вкупе с бабы-Катиным и Эдиным явлением, а Тоня все наращивала хлопоты. Когда я увидел, что она нарезает коржи из круглого бисквита, вытащенного из духовки, и собирается промазывать их кремом, я почувствовал какую-то догадку, переходящую в тревогу… наряду с чувством и одураченности, и открытия, что все это не для нас, и стыда – за постыдную мгновенно-невольную надежду на закусочный кексик. И следовательский азарт, когда открылось, что Тонины коврижки к нам с Костей и даже к детям не имеют никакого отношения. А разгадка приближалась, и тому свидетельствовала легкая отлучка Тони и ее появление в сером трикотажном платье.
Потом Тоня сказала, чтобы мы «валили кормить собак», и мы вытолкались и встретили в тесных сенках Валентину Игнатьевну с тортовой коробкой – «ой, не помни́те». У стены на канистре стоял замороженный петух в пере, грязно-белый, видимо, его вытащили из морозилки проветриться. Он был плоский и, как звезда, расшаперенный, голова смотрела набок, будто он держал равнение. Костя выскочил вперед Валентины Игнатьевны, а я не успел и стоял, прижавшись плоско к стене и глупо повернув голову, чтобы не дышать самогоном – совершенно как замороженный тот петух.
Мы пошли в вольер. На всю свору посуды не хватало, и собаки ели из трех тазов, запуская носы в кашу, чавкая, рыча и пуская бурлящие пузыри. Одновременно они норовили перебежать и попробовать побурлить из другого таза, расталкивая товарищей и грозя надводной сварой, и надо было стоять и управлять кормежкой с помощью специальной палки. Один кобелишка по глаза засунул нос в корм и, не прекращая его свирепо морщить, без перерыва рычал, грозно пробулькивая сытную жижу. И с негодованием поглядывая на соседей.
Я спросил Костю, почему сразу не сказали, что надо закругляться, раз ждут гостей. Он ответил, что напрочь забыл и что «ничего страшного».
– Они переговорят сейчас… Да какие секреты…
Оказалось, Тоня метит в школу учителем биологии, что она работала в заповеднике, в отделе экопросвещения, и что у нее в планах всякие факультативы и «комплексная какая-то задумка по формированию современного мировоззрения». Экопросвещение Костя произнес как «эко просвещение»!
– Кость, а Тоня на меня не сердится?
– Да нет, она просто из-за директрисы дергалась. А так нормально, наоборот, даже хорошо, может, ты слово замолвишь? Куда лезешь?! – закричал он на кобелишку, перебежавшего к чужому тазу. – Ну, директрисе. (Из своего жри!) Пообщаетесь. (Хантер, кому сказал?) Тоня очень свободный человек, и если кого-то захочет поддержать, порвет просто всех, ну за идею… (Ах ты скот такой!) Она всегда правду-матку рубит… (Да ты смотри на него, вообще не реагирует!) Мы из-за этого уехали с Бурятии. Там такой начальник, она, короче, в Старгсб… Стбугрс… (Одну рыбу выбирает! Смотри, привереда! Я те поогрызаюсь! Крупу не ест совершенно!) В Страст… Страстбург… ский суд подавать хотела. Там люди серьезные. (Когда вместе, они лучше выедают.)
– Ничего себе. – И я подумал о том, что Антонина все меньше напоминала мне героиню «Чистого понедельника».
Кого-кого, а Игнатьевну я не рассчитывал встретить, особенно после проезда на собаках с бабкой в обнимку. Я в очередной раз засобирался домой, но Костя сказал: «Давай тогда возьмем что-нибудь и пойдем в баню». Мы зашли в избу: кухня была пуста, зато в комнате за аккуратно накрытым столом сидели хозяйка и гостья. Валентина Игнатьевна, обнажив зубы, осторожно, чтобы не повредить помаду, кусала бутерброд с сырными опилками. Я забрал перчатки, а Костя сказал: «Я гостя провожу, дай нам еще закуски».
– Сергей Иванович? – сделав удивленные глаза, сказала Тоня.
– Пойду. У меня тоже собаки.
– У вас же одна, Сергей Иванович! Что за северные надбавки? – заговорила Игнатьевна, видимо, давно наработанным застольным тоном. – Вот видите, Антонина, директор в сельской школе знает даже, сколько у кого собак в коллективе, хе-хе!
– Да нет. У меня две.
– Откуда же две? Я знаю, что у вас одна. Этот, как его – Быстрый.
– Храбрый. Храбрый и… «Каштанка», – сказал я и тут же пожалел, потому что выходило, будто выгораживаюсь, намекая, что пойду проверять сочинения по Чехову, смотрите, какой молодец.
Валентина Игнатьевна оценила шутку и засмеялась. Возникло между нами некое показательное, со стороны Игнатьевны, единение, которое часто возникает на людях среди сослуживцев.
– Сергей Иваныч, – сказала Валентина Игнатьевна, придумывая повод, чтобы меня задержать, видимо, и ей, и Тоне я был нужен, чтобы сгладить деловую подоплеку застолья, – чуть не забыла, хорошо, что вы мне попались, я еще в сенях подумала. Я вам хотела сказать про фильм… Так что посидите.
Тоня чутко подстроилась, да и подконтрольное освоение нами коньяка было предпочтительней посиделки в бане:
– Конечно, Сергей Иваныч, ну посидите с коллегами, – сказала она, играя, и, продолжая роль, обратилась к Валентине Игнатьевне: – Начинаю вливаться в коллектив! И как же чай? Смотрите, какие Валентина Игнатьевна замечательные безе принесла.
– Без чего? – сострил Костя. На что Тоня, пожав плечами, презрительно-укоризненно хрюкнула и отвела взгляд.
Я снял куртку и вернулся, к радости Кости, который тут же взвис над стопарями с остатками коньяка. Валентина Игнатьевна сделала поползновенье накрыть рукой стопку, а потом вдруг разгульно махнула ладошкой:
– А давайте!
– Что за фильм? – спросила непьющая Тоня. – Я могу поинтересоваться?
Я назвал.
– Мы его, конечно, все посмотрели, – сказала Валентина Игнатьевна. – Я что хотела сказать, Сергей Иванович, фильм сильный, ничего не скажешь. Но вот Лидия Сергеевна считает, что он все-таки слишком жестокий, особенно эти документальные кадры, поэтому я как-то пока не готова такое показывать детям…
– Валентина Игнатьевна? Дорогая! – я никогда к ней так не обращался, но затеянная ею же игра в производственную близость и добротный самогонно-коньячный хмелек давали право. – Это не жестокость, а воспитание сострадания. Выявление и закалка болевых точек. А жестокость – это круглосуточные сериалы, где по пять трупов за серию, чего никогда не бывает… в оперативной практике. – Меня очень вдохновил этот оборот. – Когда жизнь и смерть теряют свое… э-э-э… сакральное значение, они превращаются в материал для коротания досуга. Этого Лидия Сергеевна не боится? Валентина Игна-тьев-на! Вы же на военной хронике вы-рос-ли, вспомните: уходящий на фронт состав и солдаты в теплушках. И «Прощание славянки»!
– Жестокость в сериалах не затрагивает чувств, поскольку все понимают, что это кино, – с показной четкостью вдруг сказала Тоня, – а когда хроника, особенно кадры казней, извините – это совсем другое… Уж поверьте, я немного знакома с телевидением…
– Да чушь! – Меня рассердил Тонин, извините за каламбур, тон, с которым она, как мне казалось, рисовалась перед Валентиной Игнатьевной. – Таких кадров в фильме не больше, чем в нынешних новостях… А то, что мы не воспринимаем в сериалах смерть как смерть, – это либо искаженное представление о сути вещей, либо… на экранах давно уже не искусство.
– Можно я скажу, – по-школьному вытянула руку Валентина Игнатьевна.
Все почтительно затихли.
– Мы уж не будем вдаваться в высокие материи, но я вот что думаю о фильме: давайте пока не спешить. Не спе-шить… А вы, Антонина Олеговна, смотрели этот фильм?
– Да, конечно, – сказала Тоня в тоне той же четкости и в одно слово «даконешно». Очень причем образцовое. И с оттенком «да конечно – и имею что сказать»: – Мракобесие.
– Понял, – сказал я с оттенком «больше не надо», произнеся слово «понял» быстро, по-оперативному, как произносят по связи. И молясь, чтобы Валентина Игнатьевна не спросила: «Почему?» – чтобы не заварилась свара – слишком хороши были и день, и вечер, и стол.
Я давно заметил, что русские люди по своей природе гораздо уживчивее, чем их стараются изобразить писатели и драматурги, делая застолье точкой идейных раздоров. В жизни мирный и веселый настрой всегда перевешивает перспективу порчи отношений. Тем более, как мы уже выяснили, для большинства трудовых людей так называемые взгляды – не повод, чтобы обострять отношения «по пустякам», особенно в деревне. Но когда в расклад добавилась еще одна единица, грозящая стать государственной и смешать баланс, я засомневался, удастся ли удержаться в покладистом русле.
– Поняли, в смысле «дальше не надо?» – бритвенно остро улыбнулась Тоня.
– В смысле понял.
– Почему? – спросила Валентина Игнатьевна.
Выходило, что если до этого мы просто спорили, то теперь старались ради Игнатьевны, а друг в друге видели лишь повод для красноречия.
– Почему мракобесие? – сказала Тоня неторопливо и будто специально укатывая это слово в дорогу нашего разговора, чтоб не вызывала сомнений его правомочность. – Ну, во-первых, религия дает людям надежду на посмертную жизнь. Если б этой иллюзии не было, люди бы старались сделать жизнь на земле более счастливой и безопасной. Несмотря на аргумент, что за все придется ответить, который не работает, потому что слишком абстрактный, далекий и условный. Как стрельба в боевиках, о которых тут говорилось с таким жаром. – Произнеся все это спокойно и уверенно, она на время опустила ресницы, словно промакнув свежесказанное. – А во-вторых, я категорически не согласна с тем, что если Бога нет, то все дозволено. Моя атеистка-бабушка никого не убивала, не воровала, не прелюбодейничала, и разбивалась ради людей в лепешку. Хотя часто они того и не стоили. И у нее была твердая позиция: если мы хотим получить людей думающих и образованных, нельзя преподавать то, что противоречит современной науке. Я с этим согласна, хотя считаю, что школьников нужно, конечно, знакомить с Библией, чтобы они могли адекватно воспринять ряд произведений искусства. Но делать это должен специалист, а не священник.
Я недооценил Тоню, которая открывалась, «как расчетливый риторик». Зная свою способность сорваться и ляпнуть что-нибудь в сердцах, я сказал себе: «Ни в коем случае не спорь с ней, просто четко говори свое». Тоне я, правда, сказал совершенно другое:
– Во-первых, я не понял, при чем тут наука. Вы говорите так, как будто между наукой и верой противоречие. Как научный человек, вы, наверное, слышали слово «ниппель». Вы знаете, что такое нип-пель? – Я прямо пританцовывал на этом двойном «пп».
– Ну да, – не понимая, куда я клоню, настороженно улыбнулась Тоня.
– Бравенько! Дак вот, нип-пель, Тонечка, это, говоря по-нашему, по-деревенскому, – игра в одне воротья. В большинстве людей науки наблюдается полное неприятие православия, тогда как в людях верующих данное противоречие от-сут-ству-ет. Вспомните нашего святителя Луку! И мне кажется, – сказал я в образцово-риторическом стиле, – что искать противоречия и вбивать клинья – более удел разрушителей, нежели созидателей, так как гораздо полезней искать общее… э-э-э, конечно же, если настрой, как вы верно заметили, на счастье и безопасность. – Я скромно закруглился и опустил глаза.
– А я вам объясню, Сергей Иванович, в чем дело, – так же поигрывая, ответила Тоня. – А дело в том, что верующие просто вынуждены проявлять лояльность и гибкость, так как наука показывает полную беспомощность религиозных представлений о мироустройстве. И особенно недопустимо, когда малосведующие священнослужители или другие… к-хе… властители… былого… и дум пытаются эти представления навязать школе, что и является мракобесием.
Я не обладал, э-э-э… мгновенным и приемлемым для застольного разговора арсеналом аргументов, чтобы опровергнуть оппонентку, и применил обходной маневр:
– Вообще-то вы мракобесием назвали фильм. Кстати, это и есть то самое «во-вторых», о котором я едва не забыл. Почему?
Но, видимо, и Тоня подвыдохлась и тоже передернула карту:
– Потому что в этом фильме слишком явно навязывается позиция, которая далеко не для всех приемлема.
– В смысле, любовь к Родине? – наверстал я.
– Вот о любви к Родине… – медленно сказала Тоня, отыгрывая секунды для перегруппировки доводов. – Э-э-э… Я почему-то последнее время с ба-а-альшим подозрением отношусь к разговорам. – Она говорила несколько протяжно… – В которых под любовью к Родине понимают совершенно разные вещи. Видите ли, мне кажется, что есть вещи настолько сокровенные, что их нельзя произносить, так сказать, всуе, я прошу прощения… за термин… – Количество малозначимых слов в ее речи резко возросло. – Бабушка моя, несмотря на то, что была доктором наук, а она по-настоящему служила науке, не выносила, когда кто-то говорит: «Мы, ученые», потому что… ну как вам сказать… потому что это слишком… ну…
Образовалась то, что называется «напряженная пауза».
– Громко, – понимающе подсказала Валентина Игнатьевна, которая очень внимательно следила за разговором, будто проверяла: и свои представления, и нас.
– Совершенно верно: громко! У нее была зав. лабораторией Генриетта Ароновна Беркенглит… Такая умная тетка замечательная, но немножко пафосная… Все ее звали Веркин Клифт… И она все: «мы ученые!», а бабушка: «Гита, мы – не ученые. Мы – научные сотрудники». – Последнее она продекламировала по слогам. – И выходит, тех, кому «громко», называют чуть ли не предателями. И называют те, кому это совершенно не громко. И не только не громко, а негромко настолько, что они рычат – простите, но мне близка собачья тема, – и лают об этом на каждом перекрестке. Причем очень заливисто. Да. Такая мо-но-по-о-о-олия на любовь, – с посылистым и ветровым холодком продекламировала Тоня. Она говорила выразительно и артистично передавала прямую речь.
– Ну вы знаете, есть профессии, в которых про себя любить не получается. Например, профессия учителя, – вдруг сказала Валентина Игнатьевна, как мне показалось, для подлития масла в огонь. А возможно, и для поддержки равновесья.
– Да что же мы все время подменяем понятия?! Н-да… Поскольку я, в отличие от некоторых, кхе-кхе, начинающих работников образования не привыкла вести бездоказательные дискуссии, то мне придется пуститься в некоторый экскурс… Уж извините за казенный, так сказать, штиль… Так вот. Согласно законодательству современное российское образование базируется на Всеобщей декларации прав человека, то есть на общечеловеческих ценностях, выработанных цивилизацией. В кои-то веки! Да жалко, что поздновато, как всегда. Главным принципом является демократизм, свобода и плюрализм образовательной сферы. А главной задачей – воспитание творчески мыслящих специалистов, профессионалов, которые будут активно участвовать в жизни общества, уверенно чувствовать себя в меняющейся мировой обстановке, когда новые технологии…
– …и обновляющиеся инновации обламывают об нас все новые и новые вызова́, – вставил я, не удержавшись.
– Спасибо, Сергей Иванович. Вы очень тонко чувствуете собеседника…
– Пожалуйста, Антонина Олеговна. Видимо, это в моей педагогической природе.
Все эти обмены любезностями происходили без злобы и скрипа зубов и выглядели как остроумная перепалка, смысл которой до конца понимали только мы с Тоней.
– Поэтому профессия учителя предполагает полную объективность в подаче материала и твердую опору на фундаментальные научные знания. Любовь же – это категория эмоциональная, достаточно абстрактная и в силу этого очень открытая для всяческих идеологических спекуляций. И примеров тому тьма из предыдущей истории. Поэтому следует быть осторожными с подобными понятиями.
– Ну да, – с некоторым недоумением сказала Валентина Игнатьевна.
Все эти рассуждения я слышал сотни раз и сотни раз зарекался не воевать с ними в мирной обстановке. Но сейчас в связи с инновационными устремлениями Тони в школу я молчать не мог.
– Не могу не внести ясность: общечеловеческие или, по-другому, либеральные ценности – это когда любую личность стараются понять до такой степени, что общество равняют на извращенца, а не на героя. Это к слову… А к делу: я не понял, почему фильм – мракобесие. Вот уж чего-чего там нет, так это мрака и тем более беса. Только свет и Бог. Поскольку, как я понял, ответа не предвидится…
– Простите!.. – выдвинулась вперед Тоня, нешуточно сверкнув шамаханскими очами.
– Не прощу тебе твоей измены, да и слов жестоких не прощу… – вспоминая Эдину школу, парировал я с улыбкой, – и постараюсь не отдаляться от темы. Мне кажется, что пресловутые люди, которые любят-про-себя, вовсе не такие мирные, как описала наша Тоня. И несмотря на мирный Тонин тон, я чувствую в нем лед. Простите, хе-хе, за каламбур, что рушит лед, как ледобур. Так вот эти любители просебятины, несмотря на все правильные слова, моментально встают на дыбы, едва услышат о традиционных ценностях русского мира, не менее монументальных, кстати, чем академическая наука.
– Минуточку! – попыталась снова вклиниться Тоня.
– Обошел селезень уточку! Это раз. Второе. Тонечка, не сердитесь, пожалуйста… – попытался зализать я прогрессирующее эдуардство более даже перед Костей, хотя и не потому, что он «хорошо дерется», – как раз насчет подмен. Мне кажется, что мы с вами все время говорим о разных вещах. Какую область ни возьмем – одни и те же слова мы наполняем разным смыслом. Видимо, слов меньше, чем смыслов. Поэтому споры бессмысленны. Но почему же вы решили, что под любовью к Родине мы понимаем разговоры о ней, а не дела? Да. Люди, которые много делают для этой земли, они показывают зубы… Видите, Тоня, как я поддерживаю собачью тему! Но они показывают зубы, только в одном случае – когда им… наступают на лапы. А про любовь… По-моему, все это болтовня. И внедряя кошачье-мышачий строй – кошки-мышки с самим собой. Любовь или есть, или нет. Любишь – принимаешь со всеми болезнями. Потому что сам как одна большая и отдавленная лапа. А стыдливую засекреченную любовь я не понимаю. Это знаете, как парень, который все ходит кругами вокруг девушки… Мол, зубы вставишь – женюсь. А потом, продолжая зубоносную тему, – остается с носом. Обкраденный и обделенный. Самим же собой причем.
Тоня использовала мою речь для подготовки атаки:
– Сейчас с традиционными ценностями очень много спекуляций, так же как и с любовью. Вот все-таки хотелось бы поконкретней узнать, что же это за такие ценности. И почему мы с ними носимся и все время о них спотыкаемся.
Я откашлялся, словно обозначая, что шуточки кончились, и сказал:
– Ну, во-первых, спотыкаются те, кто не смотрят под… лапы, то есть на землю, а во-вторых, мы не на лекции, да и не мне объяснять взрослым людям, что такое традиция и в чем ее ценность. Лично для меня ценности, о которых идет речь, заключаются в том, что они вдохновляют на подвижничество людей, на которых бы мне хотелось походить. А так… Существуют фундаментальные законы физики, по которым живет все сущее на этой планете. Один из них до скучности прост. Его понимает не только Генриетта Ароновна Веркин Клифт и понимала ваша замечательная бабушка, но и любой парень деревенский, у которого трояк по физике и который плевал на все вызовации. Это правило простое: чем глубже корни, тем крепче дерево… Собственно говоря, патриотизм – это всего лишь верность себе…
– Вы знаете, если бы так все просто было, то деревья б никогда не падали, – невозмутимо сказала Тоня. – И, Сергей Иваныч, – все очень красиво, но к реальному делу-то какое отношение имеет? Все только и говорят о патриотизме, вместо того чтобы строить заводы.
– Да ладно?! – живо удивился я. – Первый раз слышу, что кто-то в министерстве образования говорит о патриотизме. Разве только в футбольном плане. И не понял, какие заводы? Никто не будет строить заводы. Такой цели нет. Есть совсем другие цели, и они определяются совсем другими людьми, называемыми мировой финансовой элитой. И всех удивляет: по какому такому собачьему, волчьему или лисьему закону страны могут разрушаться изнутри и одновременно усиливаться снаружи? И почему, когда надоедает какая-нибудь зарвавшаяся держава, временное усиление той или иной страны вполне допускается? И что, кто-то из финансовых лис вполне может перекатить… колобок своего центра в другое государство, особенно когда в нем все для этого подготовлено. Да так, чтобы новые хозяева ощущали себя дома, так как скулить и тявкать здесь уже будут на их наречье…
– А, ну теория заговоров… – констатировала Тоня тем же энциклопедическим тоном, что и «архаичные уклады» и «мученики за веру».
– Это не теория, а слова крупнейшего… лисовина: «Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и банкиров, безусловно, предпочтительней принципа самоопределения народов», сказанные ка-а-ак раз в 1991 году.
Тоня демонстративно промолчала.
– Тоня, я сейчас назову три булавки, а может, и три гвоздя, которыми вы пригвоздили традиционное мировоззрение: архаичные уклады, мученики за веру и теория заговоров. Вы о них сказали с характернейшей интонацией: как о чем-то мертво-книжном. А это ярчайшие вещи. Архаичные уклады – источник животворной силы, которую хорошо чует ваш муж Костя. Мученики за веру – вполне конкретные нынешние люди, чей пример вдохновляет лучших представителей общества. А теория заговоров – это не теория, а… так сказать… вариант образного и доступного определения процессов, не обозримых для близкого глаза. Хотя вообще… если разобраться… – я обвел взором присутствующих – да все на свете… теория заговора. Вот вы договорились с Валентиной Игнатьевной поужинать без нас – чем не заговор?
– Сергей Иваныч, вы очень хитрый лисовин, – ударяя размеренно на каждое слово, не удержалась от смеха Тоня.
Валентина Игнатьевна сияла.
– Лисо-свин, – не удержался и я.
– Вы сначала, как Чацкий, а потом за шуточкой прячетесь, – сказала Тоня. – Объясните нам, пожалуйста, что такое патриотизм?
– Пожалуйста… Это не так и сложно. У меня ведь тоже была бабушка. Коренная ангарка. Бабушка говорила: «Ране все миром делали, а тичас на́разно». Или: «У вас, беспут, пошто все порозь-то?» Еще она говорила «головизина». Так вот, патриотизм – это когда в твоей беспутной головизине все не на́разно, не порозь и даже не в кучу – а в жгут, в самый что ни на есть кишошный, совокупный и многоипостасный… э-э-э… жгут-плетенец! – выпалил я. – Когда чувствуешь Россию исключительно в совокупности всех ее прожилин, пространственных, временных, хозяйственных, духовных, военных, воспитательных, научных, художественных и всяких разных, и пренебрежение хоть одной из этих жил-арматурин грозит ампутацией России, чем многие сейчас и занимаются. Как бабушку не вспомнить?! До чего народ зарнай стал! Че хотим – то и оттяпывам! От стыдови́шша-то где! «Не признаю языческую пору, только православную». Или наоборот – «Только языческую, православье – иудейские ереся́». Или ишшо не башше: «Признаю только Русь до семнадцатого года. Все, что опосля, – не Русь». В чем беда оттяпки? Выделяешь идею, путнюю на первый погляд, а забываешь о людях и поколениях. От ить лень отылая! Думаешь: да по каку змею нам в языческу память лезти, коли мы православные? Или: да не от лешака ли перенимать все это ерусалимско приложенне к Христовой вере? О каку пору к селам да мужикам нашим пришатурило-то лавры эти с кипарисьями? Охо-хо-нюшки. Ты пошто ж такой-то? Пошто ж в века-то наши не заглядывашь? Думашь, там одно околеванне? Да там свет немеркнущий…
И думать-то надо не о чужеродности лавров, а о десятках поколений русских людей, живших в ту или иную эпоху, например, в великую православную. Об их победах. О том, каких высот они достигли, развивая христианство, совершенствуя его видение, каких гениев дала наша земля на этом пути! Какие достижения явила в святоотеческой литературе, в иконописи, в архитектуре. О том, как это в будущем отражается. И как наполняет душу. В общем, о душе думать, а не о лаврах.
И еще, вы знаете, это… любовь, которой все окружающее проклеиваешь по швам и которая тебя таким смыслом обдает, что ни на что не променяешь! Вы не представляете, какое это счастье! Это вам не общечеловеческие ценности из брошюры, которой без году неделя. «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами» – не смейтесь – привожу дословно! От дак произведенне! От дак гумага! Еще и написанная как попало. Разве ей можно служить? Как старовер про баптистов сказал: «Нашей вере тысяча лет, а вы тут с брошюрами шаритесь!» Гениально! И, конечно, патриотизм – это служение Отечеству как главное дело, независимо от занятья. Для меня же пример – мученик во Христе, пресветлой памяти воин Евгений Родионов, казненный врагами за отказ снять нательный крест. Будешь мерить судьбу Жениным подвигом – все на место встанет. Аминь.
Настала тишина.
– Сильно, – сказал Костя. Глаза его блестели.
– А… куда же нам-то, смертным?.. – пропела, уютно потягиваясь и зевая, царь-девица.
Валентина Игнатьевна сказала:
– Сергей Иванович, я с вами согласна. Только на прогресс вы зря, конечно, ополчились…
– Вы знаете, прогресс уже давно против человека работает, есть грань, когда его помощь оборачивается… такой зависимостью, что… – сказал я, чувствуя, что выдохся, – знаете, как в авиации, когда прошли точку невозвраще…
Раздался грохот в сенях, выкрик «долбаный петух!», за ним стук в дверь и на пороге появился Эдик: было видно, что шел он издалека:
– Доброго всем вечера! Аварийная ситуация. Костя, у тебя собаки на ходу? У меня аэросани встали, там, у Ерошкина Ру́чея. А я в воду оборвался. По пояс… Сушился. Костер палил… Хорошо лопастя с собой. Ну че? Надо ехать. А то р-разбер-р-рут по винтикам!
Глава шестая
Меня поражает плотность здешней жизни, когда кажется, что вокруг тебя только выжимки главного. В городе оно размывается, давится безличной его энергией. А здесь каждый человек вырастает до символа и выражает пласт мироустройства. И, конечно, никакая тихая размеренная жизнь здесь невозможна.
Мы проходим «Каштанку», которую люблю особо, хотя и не понимаю, почему ее считают детским рассказом. Я перелопатил прорву критики от глубоких исследований до «кратких содержаний» для ленивых школьников. О подобных трудах разговор особый, но меня всегда интересовало, что за паршивец их пишет и, главное, зачем? Почто не сидится ему спокойно, и откуда такое свербящее желание вываливать на всеобщее обозрение свою дурость? Чем пустее человек, тем сильнее в нем зуд делиться и торчать с ней в обнимку на самом юру. Сей век особо учит отсекать лишнее, иначе по дуракам сформируешь неверное мнение о человечестве.
«Каштанку» я ждал, даже предвкушал, потому что на ней пытаюсь показать ученикам одну из главных тайн литературы: совершенство замысла. Он в ней достигает метафоры и начисто лишен какой-либо идеи, кроме идеи простоты и правды. История эта настолько хороша сама по себе, что не требует никаких присадок.
«Каштанка» моя теперь напрочь скомкана историей с Тоней, что еще раз подтверждает главное правило здешней жизни – не строй планов, все пойдет враскосяк. Что касается Тони, ее стремление в школу ставит меня в заскорузлейшее положение: с Валентиной Игнатьевной я не в таких отношениях, чтобы уговорить ее не брать Тоню на работу. Да еще напортить, обострить и спугнуть дело, которому она, я уверен, не придает такого значения, как я. И что я скажу? «Не берите на работу Антонину Олеговну, она детей испортит»? Почему не берите? Потому что она ненавидит Россию? У меня нет прямых доказательств, тем более она утверждает, что по-своему ее любит. Что она работает на замену русских ценностей западными? Как именно она работает?
Если устроить обсуждение Тониной кандидатуры, то в производственных понятиях, которыми руководствуется нынче школа, я не смогу обосновать опасность Тони. И придется подойти к корню вопроса, то есть осудить курс на отход от традиционных ценностей русского мира, на низложение России как независимой цивилизации. К тому же я почти наизусть знаю, что скажет Валентина Игнатьевна…
Я очень понимаю важность момента, когда наконец предлагается выбор: именно сейчас решается, может ли отдельный человек повлиять на происходящее. Общий процесс – это лавина, ветровая или водяная масса, которую невозможно остановить в одиночку, за нее не зацепиться, ее не подковырнуть, не вспороть, не пригвоздить ломом. Но сейчас я в точке, где масса докатилась до упора и рассыпалась, распалась на неделимые частицы. И решается судьба одной частицы, заряженной осознанным и готовым к внедрению мировоззрением, и решение в моих руках. И эта отрицательно заряженная частица разрастается и заполняет мои разум и совесть, мое существо, оплетенное отношениями с окружающим, и эти отношения начинают непредвиденно искажать мои же представления. И то, до чего рукой подать, отступает и меняет очертанья, коробится, как береста на огне.
Когда одержим неизбывной тревогой за свою страну, болью, которая не проходит ни днем, ни ночью, то живешь совершенно другой жизнью и по другим законам, чем остальные. Но ты не можешь требовать от остальных подобного. Ты противопоставляешь себя почти всему, и для рядового человека это потрясение, полный пересмотр ценностей. Тем более для такого существа, как женщина, которая любой войне предпочтет мир. И я знаю, что в лучшем случае скажет Валентина Игнатьевна: «От педагога сегодня требуется квалифицированное преподавание дисциплин, но если он будет проводить взгляды, которые повредят нашим детям, то законодательство всегда позволит нам поставить его в нужные рамки, на то мы и коллектив, и руководство. Есть обязанности, а есть взгляды – это разные вещи, и в том моя роль как директора разрешать подобные вопросы. А взгляды, повторяю, – это личное дело человека».
Ответить, что в вопросах мировоззрения не бывает личного, потому что из мировоззрений складывается окружающая атмосфера – тема грызоватая и разноречивая, и мне всегда скажут, чтобы я не усложнял сложного и занимался «прямыми обязанностями».
Странно: вот размышляешь над тем, как выстраиваются в дорогу маленькие и большие события. А потом тревожные твои наблюдения обращаются в мысли, идеи и понимание того, что следует делать. Но как только ты пытаешься воплотить идею в жизнь, вернуть ее сущему, она немедленно зарывается в тех же мельчайших морщинках жизни, обобщением которых она и явилась. И трудно вызволить ее, особенно в одиночку.
Люди вроде Валентины Игнатьевны никогда не идут против общества, а люди Тониного склада делают это с пылом и вызовом, и «достукиваются» до всяких страсбургских судов, в то время как простым людям чуждо противопоставление себя остальным, правдолюбивая «заедливость», в которой всегда есть что-то несколько постыдное. Тем более, едва борьба за справедливость начинается, она незаметно и подленько стачивается о жизненные же зазубрины. И попутно навязчивой собачонкой возникает еще одна правда, которая так же незаметно трансформирует идею, постепенно отъедаясь и округляясь на ее же издержках. Поэтому я отчасти согласен с Тоней, когда она говорит, что не приемлет разговоры о патриотизме, именно потому, что от идеи до воплощения пропасть.
А мы, совестясь, поддаемся то стыду, то еще каким-то тонким чувствам, с которыми совершенно не церемонятся люди заедливого пошиба. И у них все получается безо всякой трансформации и захлебывания в человеческом. Сами же общественные подлости происходят постепенно, будто каждый совершил только сотую часть предательства, но «всотнером» оно сложилось в нечто полновесное. Будто люди участвуют каждый незаметным движением, но они суммируются, и эта объединенная, сплавленная из сотен уступочек неправда оказывается гораздо более ликующей, чем неправда отдельного человека.
Есть прекрасные речные слова – «быстерь» и «падун». Думаю, они сами за себя говорят, но для незнающих объясню, что «падун» это старинное название водопада. Так вот, чем больше смотрю на мировую историческую быстерь, тем яснее чувствую, каким падуном она оборвется. И нам бы не лезть, а спокойно поставить плоты в боковой протоке – да добывать рыбу, да покосы расчищать, а там, глядишь, еще и воду увести… А кто хочет, пусть и валится. И мы имеем все основания противостоять, но нет… Видим, какой тащит хлам, бревна, доски, и лезем, прыгаем на эту скользкую, блестящую доску с нашими же противниками, лезем к ним на плашкоут, за стаканы, стол, за тарелки, к поросятам, к капустке, где нас не ждут, ибо пир неправедный, да и время чумное.
Под чумой я подразумеваю отказ от мало-мальского задумывания о цели цивилизации, о наведении порядка на земле. Но самое худое, что, пока не решишь главных вопросов в себе, и в наружном не сдвинешься. Мне кажется, что бесконечное противопоставление разума и сердца, идейного и человеческого признак какого-то огромного изъяна, хотя у меня он на каждом шагу, и я знаю, что пока не воспитаешь в себе мудрость сердца, так и будешь мучиться и ломиться в открытые воротья… И снова не могу не думать о постоянной какой-то парности – идейное и человечье, личное и общественное, и чем больше думаю, тем больше понимаю, что раз идет вопрос парой, то пусть парой и отвечает.
Вроде бы стараюсь понимать каждого человека, а для этого быть то Валентиной Игнатьевной, то Козловским, то Эдею. И нет человека, более одинокого, чем я. Но только Тоней почему-то не хочется быть.
Как появляются люди с ощущением происходящего? Какая черта за это отвечает? Что это – счастье или наказанье? Почему из окружающих дальше всех по этому пути ушел Гурьян? Я заметил, что духовным зрением обладают те, кто охраняют полюса, границы: это люди, набравшие выси через знание, или, наоборот, совсем простые, сквозь которых земля говорит, прилегающие к ней беззазорно, вплотную, потной рубахой к гигантскому телу, и будто не имеющие своей толщины. Но самое взлетное движение имеют те, кто прошел путь от земной подорожной близости до исторического и религиозного осознания этой земли и соединяет в себе обе границы и что между ними. Потому что откровения даются лишь при перегрузках, когда ощущаешь себя еще двоящимся. А хуже всего тем, кто оторвался от почвы, а к выси не пришел и так и колышется, грохочет листом железа – заходи, приподнимай, качай любой ветер…
Я нахожусь на самом конце ваги. И пытаюсь сделать то, что надо делать совсем в другом месте, а именно в ее основании, в комле – это понятно даже тем, кто не сталкивал обсыхающий плашкоут с поросятами. Но туда пока не добраться, хотя мне кажется, мой уход в дальние места – это замах для мощного и неведомого броска. Что откат для набора силы необходим, да и землю свою знать надо, коли наградил тебя Господь даром защитника. Картина-то жестокая, но я надеюсь на Бога и уверен в единственном: чем сильнее нас жмет миропорядок, тем негасимей очаги духовного сопротивления внутри России.
Не знаю, уж какой образ учителя литературы сложился в голове Валентины Игнатьевны после незабываемого воскресенья, но вскоре я был приглашен в кабинет:
– Вы так хорошо говорили, Сергей Иваныч, у вас ораторские способности… Я что хотела сказать: в Казаринском учителя делают литературную гостиную, почему бы нам на организовать что-то подобное? Вы могли бы воодушевить и школьников, и учителей, а может быть, и кого-то из жителей поселка. Как вы к этому относитесь?
Я сказал, что отношусь хорошо, а потом глубоко вдохнул, внутренне перекрестился и сказал:
– Валентина Игнатьевна, я имею достаточный опыт работы и хорошо знаю, что такое школа сегодня, когда педагогов загружают огромным количеством бумажной галиматьи, которая только отвлекает от работы и, по сути, является имитацией деятельности, так как никак не связана с эффективностью образовательного процесса. Это очень усложняет работу, потому что на первое место подчас выходят вещи второстепенные и подсобные… Тогда как главные, сутевые, – козырнул я, – оказываются отодвинутыми на второй план. Но я к делу. Я понимаю, что Антонина Олеговна квалифицированный специалист, но прошу вас десять раз подумать, прежде чем брать ее на работу. Это не тот человек, хотя формально я не могу ей предъявить ничего. И настаивать ни на чем не могу. А чтобы это не выглядело как наушничество, готов о своей позиции доложить Антонине Олеговне и Константину.
– Ой господи, я даже не знаю… Сергей Иванович, вы человек со взглядами… ну сейчас на свете другие представления, мы же не можем стоять на месте. И заставить всех думать, как вы… Наша задача – донести, а все сами решат.
– Да как же они решат-то? Без нашей поддержки?
– Сергей Иванович, я уважаю вашу гражданскую позицию… Но мне кажется, что вы преувеличиваете… Преувеличиваете… К тому же я хочу вас успокоить: все не так однозначно с единицей. Вы правы, действительно, огромное количество текущих вопросов. Меня долбит обрнадзор… Нам урезают финансирование, и в этом году мы, как вы знаете, собирали с родителей деньги на бесперебойники. Так что по Козловской давайте не будем впадать в панику. Да, в панику. Сейчас еще не понятно. Я буду связываться с районом и тогда окончательно станет ясно, есть ли такая возможность или нет. Хотя Антонина ничего такого не говорила. И я не понимаю, почему вы так беспокоитесь. И давайте не будем спешить с выводами… Я рада, что вы понимаете… У нас действительно полно проблем – вот что далеко ходить: Пират укусил бабу Катю за… ягодицу и она вчера мне мотала нервы в течение часа, и я ничего не могла поделать… Человек пожилой… ну и сами понимаете, недалекий.
– К сожалению, Валентина Игнатьевна, я преуменьшаю. Идет действительно замещение ценностей.
– Ну, раз так пошло, что мы можем сделать?
– Как что? Поставить заслон. Вася, Коля, Петя, Яна, Рашид – все вместе встали и поставили заслон. И все. Вы же понимаете, что такое толерантность? Это запрет на заслон.
Валентина Игнатьевна положила мне руку на колено:
– Сергей Иванович, вы молодой… Оглянитесь вокруг: такая жизнь интересная… Пожалуйста, не драматизируйте, я вас очень прошу. И поговорите с Колей. Для меня сейчас это важнее всех заслонов.
С Колей я поговорил, и он привязал Пирата на несколько дней, но скорее из охотничьих соображений – чтобы ему кто-нибудь не прокусил лапу накануне охоты. История с Пиратом, собачьей упряжкой и бабой Катей глупым образом нас породнила и еще усилила мою мужицкую несостоятельность в глазах мальчишек, и в первую очередь Коли, перед которым я все сильнее чувствую себя практикантом.
Я задал сочинение на старинную тему: «Почему Каштанка вернулась домой?» Девчонки, я был уверен, напишут, что Каштанка очень верная и что дома «ее тискают, но любят». Леня с Тониной помощью доложит, что некоторые народы не могут без унижения и предпочитают ярко освещенной арене лень и бессмысленность. Коля… Вот именно, что скажет Коля, меня и интересовало больше всего, учитывая его внешкольные неурочные силы, которые никак не удавалось приложить к делу. Я был уверен, что собачья тема близка Коле – и может стать помощником в учебе.
Каково же было мое разочарование, когда я увидел перед собой Колино художество, состоявшее из таких предложений:
«В произведении А.П. Чехова рассказывается о собаке Каштанке. Она принадлежала сыну столяра, Федюшке. Так случилось, что Каштанка потерялась, попала к дрессировщику и начала выступать в цирке, где и увидела старых хозяев и сбежала к ним прямо с арены. Казалось бы, незатейливый сюжет. Каштанка полюбила нового доброго хозяина, а скучала о старых, которые хотя и обижали ее, но были роднее и ближе. Веселые эпизоды здесь соседствуют с печальными. Смеешься, читая, как хрюшка, гусь и кот, делая пирамиду, пошатнулись и упали. Печалишься о бедном гусе Иване Иваныче, который заболел и умер оттого, что в цирке на него нечаянно наступила лошадь».
И в таком духе с концовкой:
«История Каштанки не оставляет равнодушным. Не зря говорят: собачья верность. Несмотря на то, что в этом произведении много грустных сцен, оно оставляет в душе светлое чувство».
Сочинение было списано и, скорей всего, при поддержке Агашки. Я поставил Коле двойку. Коля фыркнул и набычился:
– Почему-у-у? Я же написал.
– Я после урока тебе объясню, почему.
После урока он подошел:
– Сергей Иваныч, вы мне почему двойку поставили? Я же написал.
Главным было, что он писал, тратил силы, а его обидели.
– Ну, во-первых, в сочинении так и не сказано, почему Каштанка вернулась домой. Дается просто краткое содержание. А главное – ты его списал.
– Я не списывал.
– Списывал.
– Докажите, – негромко сказал Коля, глядя в пол.
– Да ничего я не буду доказывать. Сам думай. – Я уже хотел закончить разговор, как вдруг предложил: – Коля, а давай я не буду ставить двойку в журнал, а ты… напишешь новое? За выходные.
– Не-е… – проскрипел было Коля.
– Слушай, давай так. Напиши сочинение на свободную тему: «Почему я люблю свою собаку». Только хорошо напиши. Как есть. Договорились?
Коля насупился и ушел.
В нашей школе несколько выходов, один из мастерской. Вечером, уходя последним, я увидел свет в ней и зашел. Со стороны уличной двери я услышал запах табачного дыма и другие звуки, свидетельствующие о том, что на крыльце толкутся парни. Шел какой-то разговор, и в одном из голосов я без труда узнал голос Коли, говорившего неторопливо, веско и со своим если не шиком, то уж точно шичком:
– …Женек, остынь, я бы поехал тогда с вами… не вопрос. Да тут сочинение еще… Каштанка кака-то… Бася, дай спички. Благодарю, – «благодарю» произнесено особенно вразвалочку и невозмутимо. Пауза, выдох: – Не знай, че он докопался с ней? Кхе… Кхе-кхе… Да что, блин! Такой си́лос эта «Тройка!» Кхе… Про че я?
– Про эту… Каштанку.
– Но. Дармоедка. Я ее за собаку не считаю. Избяная наскрозь… Я вообще сучек не люблю. У меня была… Этот отдал… как его… По белой-то ушел… Ну? В пожарке работал…
– Лыткин?
– Лыткин, ну. У него брал. Кыксой звали… Изовьется, как лиса, а тяму ноль. Старые следдя гонят… Вот кобель у меня – я понимаю, он и по птице и по соболю идет… Стал бы он на этого, хе-хе, гусака смотреть, сразу б башку от…ярил! Ха-ха! – Все заржали. – А эта еще и дура темная. Че она к этому синяку вернулась? Мало он ее метелил. Х-хе. Хотя хрен ли неясного: у клоуна пахать надо, а сто́ляр и так накормит.
Глава седьмая
Снег, доставивший в то воскресенье столько и веселых, и тягостных забот Сереже, стаял, обнажив землю. Какая-то высота рухнула, когда взгляд, приладившийся к свету, уперся в серо-жухлые стебли репейников, которые еще недавно с таким строгим совершенством объемно и звездчато обводили снег.
Все снова шло не так, как Сережа ожидал, и была в этом неподчинении ожиданиям своя опережающая правда, которая, как гнетом, удавливала пласты происходящего, перекладывала то трагическим, то веселым, давала и смысл и осмысление, а вместе с тяжестью и приятие, согласие, какое по плечо сильному. Бывают люди, у которых края души, как топором обрублены. А у Сережи они были постепенные, ворсисто продолжающиеся в других людей. И за себя, и за окружающих он вечно стыдился и огорчался и, пытаясь всех понять, был в самой сердцевине мощным, каленым, как ядро. Но о своей силе не ведал и продолжал считать себя слабым, податливым и пред всеми виноватым. И в этом неведении была его двойная сила.
Настроение было напрочь срублено и Тониными планами, и разговором с Валентиной Игнатьевной, которая, сама того не желая, работала на реформацию русской жизни, впервые на его веку столь тотальную, несмотря на всю постепенность, которая как раз и говорила о серьезности происходящего. Когда огромный и родной мир вдруг оказывается неспособным отловить угрозу, потому что его ячея слишком крупна и не рассчитана на столь мелкоячеистого, вернее, мелкотелого, всепроникающего противника. И главным ощущением было, что Россия – не живущая единым духом страна, а сборище разных по мировоззрению людей, которые, конечно же, объединятся в случае чего, чтобы защитить кровное, но разница между которыми и тобой состоит в том, что для тебя это «в случае чего» давно уже наступило.
Сережа попробовал помолиться, но вопреки поверхностному мнению, что чем дальше, тем легче веровать, дальше было как раз труднее, и вставала нужда в совместной молитве. Храма в поселке не было, хотя о строительстве поговаривали. В таких краях храмы особого стоят. Над малонаселенными районами северо-востока России, где звездному ясному небу под стать тончайшая зыбь облаков, где все, что есть на земле теплого, вмиг выстывает и уносится ввысь, и молитва возносится беспреградно крепнущей струйкой. И нигде людские чаяния не обнажены так разверстому небу.
Конечно же, Сережа не походил на тех, кого можно сбить с пути, но страдания вправду были велики. И как он в городе ждал, что отпустит душу по приезде в деревню, так теперь ждал снега, чтобы отпустило на озере, куда он уже стремился, как к последнему спасению. Но стояло тепло, накрапывало, и умиротворяющие звуки капели звучали кощунством.
В пятницу снова заволокло небо, но уже по-зимнему с северо-запада, и пошел несильный снег, переставший к утру, но вернувший черно-белое равновесье округе и знакомую оторочку траве и репейникам. И было удивительно и знаменательно, что это день преставления Сережиного святого, Сергия Радонежского.
Сережа встал затемно. В окно виднелись репейники и рябинка с крупнозернистым снегом на пучках ягоды. Даль чуть приподнялась, но облака продолжали двигаться с северо-запада, изредка открывая нежное оконце с рассветной, туманной еще, рыжинкой.
Сережа подошел к собачьей будке забрать кастрюльку. Она лежала перевернутая, и он увидел в этом нечто смешное и умилительное, будто пес поел и перевернул посуду, как делают люди, показывая, что наелись. Идти до озера надо было километров шесть по тропе. Храбрый, понимая Сережины сборы, то дрожал от нетерпения, то носился из стороны в сторону: на снегу, как от шершавого огромного дворника, лежал веерный цепной след. Но едва Сергей отпустил кобеля, тот удрал на другой край поселка, откуда доносились звуки собачьего фестиваля. Сережа был уверен, что, видя ружье, Храбрый побежит рядом, и не сообразил, что собаку и в тайгу надо выводить на привязке. Это и расстроило, и рассердило.
Останавливаясь и прислушиваясь, Сережа долго шел по тропе среди припорошенных кочек, надеясь, что Храбрый одумается и догонит. «Собаки залаяли, а я уже тут!» – почему-то вспомнилась Вовина прибаутка, успокоила и, как часто бывает в лесу, привязалась на целый день. О чем он думал? Да как-то обо всем сразу и отрывками – настолько был полон надежды и волнения. Озеро открылось белым просветом среди лиловатых пихтовых стволов, стянутых морщинистыми кольцами. На одном виднелись следы медвежьих когтей, гнутые глазки-веретенца, уже почерневшие и чуть поведенные временем. Под заживляющей силой коры раскосые глаза заплывали, нарастая веками. Вдоль озера шел тес, по которому Сережа вышел к избушке. Она была маленькая, но из очень толстых елок, распущенных повдоль, ошкуреных, гладко-бокастых и будто накачанных до какой-то предельной круглоты-туготы. Так бывает, когда строят весной, и шкуру лоскутами сдирают с блестящего соком древесного бока. Бревно не приходится тесать, и на нем нет следов топора. Дерево было уже не ново-желтое, а на переходе к серому. И то, что Сережа стал свидетелем этого перехода, казалось особо дорогим, будто его подпустили к тайне времени еще на годовое кольцо ближе.
Дверные доски, потолок, пол – все пиленное бензопилой, со следами цепи, выпуклыми веерками… Такие же следы покрывали внутренние плоскости стен – в отличие от наружных, свеже-желтые и шершавые. Стол был из колотых жилистых плах, желточно-рыжих и наливавших теплой рыжиной всю избушку. На двери висела записка: «Дармоеды, дрова не жгите». Медведь в избушке не был. Ветка торчала из-под крыши. Сережа первым делом спустил ее на землю и, когда задел ею о столб навеса, гулко и двузвучно отдалась и в себе, и в объеме двускатной крыши.
Ветка лежала перед ним. Тонкостенная, с веретенно острыми кормой и носом. Внутри на сухом пепельном дереве скульптурно костенели следы от тесла – мелкая волна не то будто от ложки, не то от сохачьих зубов, как на лежащей в тайге осине.
Пока грелся чай, Сергей с интересом и симпатией осматривал избушку: стены, полки с журналами, толстое стекло с паутиной в углу и сухой мухой, комариную мазь на столе, похожую на заварку, серую массу мертвых комаров на подоконнике.
Разгоряченный жаром печки, подразомлевший, он вышел на улицу в окруженье гладких и кожистых пихтовых стволов, ощеренных сухими и игольно выгнутыми сучками. Когда, выходя, толкнул дверь, картина в дверном проеме дрогнула от горячего воздуха, став еще прекрасней, притягательней. И оплавленным стеклом пролилась в душу, забирая, как хмелем, только чище, родниковей. Сережа даже хотел дотопить дело коньячком из плоской бутылочки, но сдержался и отставил на потом.
Он думал, что пережитое за последние недели убьет в нем способность к внутреннему ладу, который дарит тайга, но едва вступил на заснеженную тропинку, все прошло, и остались только волнение и смысл. К берегу вел припудренный снегом кочкарник, но не моховой, как в тайге, а травяной, в повядших волосах-стилетах, и Сережа тащил ветку меж светло-русых спящих голов, с которых сухо слетал снежок и которые были очень высокими и шатко клонились, если на них наступить. Перевернутая дюралька лежала белой спиной к небу.
Сергей готовился к этому дню со всей дотошностью. У него был специально сшитый суконный костюм, и от сукна еще шел масляный запах станка. Сережа очень любил кожу, сыромятные и юфтевые ремешки, которыми все увязывал. На поясе висел нож в рыжих кожаных ножнах с теснением – сидящий глухарь и ла́баз на трех соснах. Сухое нутро ветки так всему этому шло, и от взаимосвязи, круговой поруки любимого он умилился и в один момент почувствовал, как почти навернулись слезы.
Вдали раздался собачий лай. «Собаки залаяли, я уже тут!» – мелькнуло радостно в голове, но по низкому голосу он понял, что это не Храбрый. Чуть подпортилось настроение – нарушилось чувство обостренного одиночества, настолько гулкого, что свидетель, как трещина. Он снова попытался сосредоточиться на ветке, а потом и лай прекратился.
Озеро оказалось очень длинным и нешироким, метров сто самое большое. Ледяной припаек у берега был совсем узким. Рядом в водяной глубине темно виднелся звездообразный выворотень. Под той стороной припаек, наоборот, ширился, и в нем торчал во льду плот, на котором Мотя караулил уток, и еще какой-то вмороженный серый предмет. Сережа поставил ветку на воду и, надавив рукой на ней дно, почувствовал, как упруго выдавливает лодку вода.
Ветка была пепельно-серая – так же серебреет осиновый лемех на куполах, и Сережа отметил это с какой-то тихой радостью, торжеством. Ветка… легкая, изящная, как утица… И как утиный острый хвост, корма и носок. И чуть неправильная, как все живое, с веденой вмятиной на боку.
На ветке Сережа не ездил лет семь, но помнил и ее удивительную верткость из-за круглого днища, и то, как эта верткость проходит, обращаясь в стремительность с одного гребка весла. И помнил правила: не стрелять поперек хода и очень внимательно вылезать на лед – замком взяв и порку (так называют поперечную распорку), и древко весла, и оперев лопасть о твердое.
Сначала он попробовал проехать без ружья и снаряжения. Снял ремень, и, когда сел, ветка заходила частым и угрожающим ходуном, но он успокоил, уговорил ее, и она затихла. Она не бежала нигде, только в маленькой трещинке в носу народилась алмазная бусина. Потом Сережа пошевелился, и она снова заходила, затрепетала под ним, но, едва он гребанул летучим и легким веслом, ветка, разрезая тонким носом воду, пошла устойчиво и плавно, словно движение было опорой. И к Сереже прилило какое-то кишошное наслаждение, чувство мышечного слияния с текучей стихией, и сладостные жилы потянулись из-под ложечки к темной воде.
Описав круг, он вернулся к берегу. Ноги подрагивали. И от волнения, и от напряжения – посадка задницей на пятках требовала привычки. У берега серебрился кружевной ледок. Сережа решил попробовать, как этот лед себя поведет, если придется подъехать в другом месте. Осторожно подойдя боком, попробовал лед веслом – тот легко ломался. Тогда он подошел носом, и лед расступался с хрустом. Сережа расчистил целый причал, и аккуратно пришвартовался, положил весло поперек ветки на порку, так что лопасть оперлась о берег. Потом, зажав кистями и весло, и порку, твердо ощутил берег через весло, почувствовал, как, качнувшись, подладилась и замерла ветка, скрепившись с грунтом. Когда зашевелился и приготовился вставать, ветка затрепыхалась, наклонилась. Потребовала свободы расселина щель меж поркой и веслом в правой бережно́й руке – он усилил хватку и расселина сошлась. Лодка дрогнула и замерла. Казалось, земля пошатнулась, и ладно было уравнять с ней лодку, успокоить мерзлый берег с высоким лесом, и казалось, если надо – он и до горизонта свяжет-уберет болтанку своим сухожильным хватом.
Выбрался неуклюже, неверно ощущая правой ногой опору и продолжая давить к берегу вихлястую ветку, норовящую отчалиться, рвущую его в пахах – так раздирает кедрину трещина в каменном крутике́. И видя веточье дно в черпачинках от тесла, в котором чуть темнела водица, серебряной шариковой строчкой натекшая из щелки в носу. «Замокнет, – спокойно и уверенно подумал Сережа, – надо банку взять».
Потом не спеша подпоясался ремнем, на котором висел нож, кожаные торока и в который была вставлена железная скобка для топора, и помешкал: топор в ветку положить, или оставить в ремне? Если оставить – топор упрется концом топорища в ветку и будет неудобно топыриться. Сережа положил его на днище с гулким стуком, и резонатор ветки раскатил этот звук над водой. Положил сеть с круглыми берестяными поплавками, двуслойными, желтыми и прошитыми по краю толстой ниткой. Не обязательно ее поставит, но пусть дополняет пейзаж. И все-таки он волновался. И рука чуть дрогнула, когда кидал в ветку грузик – ржавую обойму от подшипника.
Подпоясался поверх ремня еще и патронташем, повесил на шею фотоаппарат, положил ружье в ветку. И снова началось усаживание. И снова ветка была связана через весло с берегом протезно твердо и берег подрагивал. Едва весло отпустилось от берега, неловко цепанув лед и чуть сбив плавность, едва настал первый гребок, как открылась полетная, крылатая и упругая тяга… И он полетел.
Однолопастное весло Сережа то перекладывал из руки в руку, то с одного борта подгребал гнутым плавниковым гребком под себя, выравнивая узкий, сходящий в острие, задок. Ветка скользила волшебно и даже небольшое движение тела давало подвижку, посыл вперед или в сторону. Когда погружал и вел весло, лодка будто привставала на нем. Боковые покачивания стали привычными, и только иногда при наклоне простреливало особой близостью воды. И хотелось быстрей и быстрей. Все оказалось как-то мышечней, пружинистей, силовей, чем он представлял, и опережало сознанье… И окутало, обняло всего без остатка, что уже и не мыслилось, а только дышалось небесно и полно.
Вид озера с длинным поворотом и особенно красивым пихтачом. Две белые забереги. Серый скрадок во льду. И серое, оказавшееся упавшей с плота седушкой: две чурки, соединенные доской… Ветра почти не было. Похоже, в этом месте еще и не брало из-за изгиба озера, но Сережа точно не знал. А ветер как раз нужен, чтобы пошел снег. Все было прекрасно и хотелось плыть и плыть в этот лад, и не хватало только снега, медленно падающего с неба. Это были счастливые раздумья. Ветер, конечно, необходим, но несильный, чтоб ветку не захлестнуло. Когда ветер или другая природная сила понесут счастье – как объяснишь ей, что хватит, мол, не переборщи?
Будто услышав мысли, качнулись пихты, ветерок прошарил поверху, не смутив озерной глади. Сережа перестал грести и смотрел, как скользит нос и расходятся треугольником нитяные тонкие волны. Нос выглядел, как длинная луковка храма, и Сережа ее сфотографировал… Громко, чутко и прекрасно капала вода с весла, когда ветка скользила по инерции, будто в невесомости, и, пепельно-серая, она казалась удивительно родственной всему таежному, живому. Капли капали с весла цепочкой и не сразу растворялись в воде, и казалось, какую-то долю секунды держались на воде серебряными шариками. Он поднял весло, и вода с лопасти затекла в рукав. Он проследил движение струйки, сдержав дрожь и допустив к телу, и когда вода нагрелась, почувствовал, как породнился с озером через этот медленно погасший холод.
Закрыл глаза и, почти забывшись, впитывал огромность, одушевленность и холодящее дыханье простора, красно отгороженного закрытыми веками. А когда открыл глаза, снова качнулись пихты и с одной из них медленно сорвался и изогнулся дымный снежный шлейф, и через минуту, как милость, пошел с неба редкий и очень крупный снег. Сережа проехал дальше, к повороту озера. Ветер из-под тучки сначала пятнами покрыл воду. В повороте, где брал северо-запад, темной границей уже лежала шершавая рябь. Он еще поработал к этой ряби, но стало пробирать, и Сережа развернулся и погреб обратно, подумав, что ветерок должен пошевелить последних уток. Пора стояла поздняя, основная утка прошла и тянулась лишь самая северная, морская. В Сереже уже переработалось ощущение тиши, и хотелось действия, промысла. И в этой безостановочности, неутолимости была та же справедливость, что и в полнейшем покое.
Север какое-то время налегал в спину, а за поворотом опять запал, и стало казаться, что тихо на всей земле. Сережа решил проехать в другой конец озера, но вдруг налетели утки: три штуки – иссиня-черные, плотные, остро-стремительные, видимо, турпаны, и, описав дугу, резко спикировали. И Сережа успел обостренным в такие секунды многооким зрением заметить над пихтами орлана, будто на одном месте махавшего огромными крыльями. Ветерок усиливался, забирая по всему озеру. Утки, чувствуя орлана, не взлетали и плавали, ныряя, качаясь корабликами на суетливой ряби. Сережа, помня правило, встал носом к цели, состворил турпанов и выстрелил. Он видел, что зацепил осыпью одну утку, но она взлетела вместе со всеми, и он ударил по летящей. Турпан, сложив крылья, камнем упал на лед на стороне, противоположной избушке.
Полоска льда была очень широкой. Сережа подъехал с пылающим лицом… Утка продолжала трепыхаться, изогнувшись на боку и загребая, чертя лапкой снег, ярко подмокший кровью. Все это снова счастливо опережало мысли и наполняло трепетом: и что он красиво попал по летящей, и что настолько слился с веткой, что уже и не думал. Вдруг тем же круговым охотничьим зрением он увидел на берегу грязно-белое шевеление: это был Пират, видимо, прибежавший на звук выстрела. В деловитом упоении он трусил носом к земле, перемахивая валежины. Еще полчаса назад это бы огорчило, но сейчас стык с окружающим был столь крепок, что если что-то и нарушилось, то временно и с поверхности.
Сереже хотелось быстрее добить утку, чтоб не мучилась, да и просто ощутить в руке добычу, и он споро погреб к турпану. Если пристать боком, то весла не хватало, и Сережа попробовал носом. Ледок по краю был тонким, но когда он наехал веткой, оказалось, что в него вморожена палка, и нос резко задрался. В ту же секунду молнией прорезало, что сзади неладно. Сережа быстро оглянулся и, почувствовав задом мокрый холод, увидел, как хлынула вода. Он быстро оттолкнулся и отъехал. Прострелило таким протестом, что он едва не задохнулся от того, что еще секунду назад все было настолько прекрасно, а теперь он сидел по зад в воде, ее было полветки, и в ней плавала столбиком красная пластиковая гильза. Ружье, опертое на переднюю порку, он, аккуратно подтянув, надел на себя. Стараясь не двигаться резко, начал осторожно разворачивать ветку и все не мог расстаться с развилкой событий, где счастливый вариант продолжал казаться главным, а этот, в котором он застревал, – ошибкой, наваждением. А главный, его правдашний путь продолжал удаляться, и был на виду, но в недосягаемости. И во всей очевидности вставала своя же дурь: «Идиот! Нельзя на ветке носом на лед заезжать! Только боком подходят!» Особенно досадно было то, что здесь Пиратка, а значит, и Колька, и надо быстрее, чтоб не припозориться, чесать к берегу. Что за наказанье! И Пират, как назло, залаял!
На лед не выбраться – тонкий и человека не выдержит. Значит, надо отчерпаться и угрестись к избушке. Наказаньем за нерадивость незамедлительно поддул ветерок. Сережа потянулся топором за консервной банкой – ее оттащило в нос, она кривлялась в воде и наконец зацепилась зубчатым краем крышки за сеть. Он попытался подтянуть вместе с сетью.
В это время налетел шквал. Закачались разом пихты, заходили, зашлись белой снежной завесой. Народилась, заворачиваясь, частокольная острая волна. Сережа понимал, что на середке она выше, и к избушке не перейти – захлестнет. Пару раз плескануло через борт в самой низкой части, в середине, где сидел Сережа. К скрадку не пробиться – лед, и Сережа взялся грести вдоль кромки к Мотькиной седушке – она была вморожена в самый край ледяного припая. Ветку стало боком прижимать ко льду, и лед теперь, когда не надо, оказывался, наоборот, тонким и сминался, дробясь на плиточки. Ветку давило в припаек. Качало часто и суетливо, било с тупой жестокой силой, и начало захлестывать. При всей дикости происходящего не уходило чувство, что все исправимо, что можно вернуть то прекрасное, которое он так глупо и просто не оправдал… Он пытался держаться носом по волне, наискось ко льду. Волны прокатывались повдоль и были выше бортов… Несколько секунд – и корму захлестнуло.
Ветка оказалась залитой по борта. Сереже не верилось, но она уже уходила под воду. Сапоги залились мгновенно и как-то режуще-ртутно. Он проваливался, его тянуло вниз, несмотря на протест всего существа. Вода с ножевой обжигающей бесцеремонностью лезла под мышки. Ветка еще была под ним, и он ее ловил ногами, пытался встать, вытоптать ее, а она, играя из стороны в стороны, ускользала, судорожно и замедленно вихляясь, жила уже по подводным законам, и, шаткая, уходила все глубже… И вот он уже барахтается, уже по лицо, и уже в носу и носоглотке жгучее сыворотное ощущение, как в детстве, когда нырнул…
Суконный костюм, свитер, патронташ, ремень, ружье, фотоаппарат на кожаной петле на шее – все, такое удобное, стало предавать, сковывать, тянуть ко дну, и было понятно, что в этой выкладке не продержишься. Он знал, что одежда топит, но не ожидал, что настолько. И что придется так биться. Работать руками, которые проваливаются с упругой про́дрожью, месят по-собачьи безопорную холодцовую толщу. Из мгновенных ощущений было ощущение нешуточности, именно от этого нелепого беспорядочного барахтанья. И что все происходило независимо и само определяло темп схватки.
Тянуло чугунно вниз, и надо было молотить руками и ногами, и это вычерпывало силы с пугающей скоростью. И только огромный рот дыхательной судорогой цеплялся за воздух, карабкался и соскальзывал с куска сырого неба, за который держался, как за лаз.
Не было никаких положенных мыслей о смерти, никакая жизнь не прошла пред очами огромным мгновением – только звериное барахтанье и короткие мысли-ощущения, мысли-молнии. Барахтался он уже вертикально и в один момент ушел с головой, так что дрызче и беспощадней рванулась вода в ноздри и уши, и сомкнулись сверху сверкающие серебряные сабельки.
Он вынырнул. Сердце колотилось, как автоматная очередь. Все существо обратилось в огромное дыхание – в машинного ритма паровозную отсечку. Не остановить – как биение поршня в цилиндре, когда поддали топлива. Ни задержать, ни перевести дух. Непонятно, где дыхание, где сердце. И одно спасение – прекратить надрыв груди, пружинно-клапанный приступ…
Отчаянная борьба материй. Рук, легких, воды, льда – они главный смысл, а он при них добавкой и ничего не значит, и главное – не лезть, не мешать сердцу, ногам, диафрагме.
Впереди, метрах в пятнадцати от кромки, вмерзший плот, а совсем недалеко седушка от скрадка – чурки, сбитые доской. Чурки хозяйские, такие же толстые, как бревна избушки. Он и греб к ним, чувствуя, что дышит не он, а грудь сама качает его рывками и легкие сейчас сорвутся. Он добрался до седушки и вцепился, и она тут же выломилась изо льда.
– Пира-а-ат! Пират, бляха, ко мне! Пира-а-ат! – зачем-то прокричала грудь.
Никогда в жизни, ни в земной, ни в вечной – или так казалось – не испытывал он большего восторга и благодарности… Не было ничего более справедливого, а в эти минуты хотелось именно справедливости… И нигде и никогда во всей неохватной Вселенной не существовало большего чуда, чем звонкий крик:
– Держись, Сергей Иваныч! Я тичас! Держись! Пират, ко мне, сука! Ко мне, …ля!!!
Колька корячился с лодкой, которую ему было не под силу ни перевернуть, ни утащить к берегу. Ее пролило дождем, и на лед налип снег. Коля гулко колотил топором, отбивал пупырчатую колючую корку. Сережа все это знал животным внимательным знанием, и Колькины движения подсчитывались молниеносно кем-то дотошным внутри него, и разрастались до огромных неодолимых событий, отмеряя жизнь. Коля расшатал лодку, вагой через веревку перевернул и тащил вместе с Пиратом, которого подпряг, и тот то волок, то ватно замирал выкусить блоху:
– Пошел, но, пошел, ишшак! Ково косисься! Ташшы, падла!
Сережа держался локтями за середину доски. Большие и тяжелые чурки с боков были пробиты по диагонали бруском. Сережа, взбодренный подмогой, уж развернул свой корабль и направил к избушке, работая ногами, которые уже не чуял, и они густели вместе с водой.
Шквал запал, и медленно стал падать снег. Громадные снежинки летели на черную воду, и мысли-ощущения, говорили, что это тот снег, которого он ждал. Они падали на Сережино лицо, одна залепила глаз, опустилась на веко, как на неживое, и не смаргивалась, а только двигалась вместе с ресницами. И тянула жильно глубь с корягами, и густела вода, и он еле вырывал цепенеющие ноги, шевелил и работал, уже видя вдали серой точкой возящегося Кольку, у которого что-то снова не ладилось. Под моторную колотьбу сердца, почти уже дробь, Сережа замер отдышаться. И слышал, как снова гулко бьет Колин топор.
Сережа тяжелел. И в этой тяжести тоже была ясность. Что тяжесть одолеет и что сил меньше, потому что он работает лишь в расчете на помощь… Сережа забил ногами, правая чурка, которая держалась на одном гвозде, оторвалась и плот стал расползаться. Сережа снова забарахтался, почти уходя под воду и слыша крик:
– Держись, дя-а Сережа, держись!
Коля вовсю уже греб к учителю.
Глава восьмая
Сережа слег. Первые два дня, когда была температура сорок, приходила медсестра. Заходил Костя, кормил Храброго. Рассказал, что делает Лене игрушечное ружье. «Точная копия винтовки Мосина, один к двум». Достал из кармана тетрадку: «На вот для интереса – Ленькино сочинение старое, у них конкурс был новогодний».
Все происходящее: шаги по дому, звуки улицы – Сережа слышал через бессильную и ненавистную болезненную подстежку. С тем только больному свойственным ощущением, когда кажется, что с ним говорят особенно, переводя с бодрого и сильного языка на какой-то уменьшенный и приглушенный. С подчеркнутой разницей между этим ватным, больным – и тем, здоровым, огромным миром. С чувством бессилия, которое подводит что-то главное в жизни, гасит размах и смысл, заставляя перекисать в носоглотной бесцветной сыворотке. И хуже всего было даже не физическое ощущение жара или когда мутит, а порча жизни вокруг. И что она не просто меркнет, а тоже напитывается горклостью, чем-то отжившим.
Произошедшее тоже как-то уравнялось с болезнью, заразилось ее тусклостью, смещенностью, и казалось больным и перегорелым. Вспоминалось, как не мог выкарабкаться в лодку, хотя казалось – спасся. И Колька тянул его, торопил, горячился, но не мог близко встать на борт – лодка маленькая, какая-то обрезанная «казанка». А Сережа уже заслужил студеное какое-то спокойствие от знания, что есть силы огромней человека и спорить с ними бессмысленно. Стараясь уже будто для Кольки, он, отплевываясь, высипывал, выхрипывал: «Подожди, щас» и все висел, вцепившись в борт. И даже поймал себя на каком-то знакомом замирании и, когда Колька окликнул, встрепенулся, отозвался не с первого раза отрывистым: «А?» и зачем-то сказал: «Топорику копец»… На что Коля ответил: «Да ладно, сам живой». А Сереже тепло стало от того, что Коля сказал не «живы», а «живой», будто они на «ты».
В какой-то момент он собрался, перевалился в лодку, отекая водой с сукна, из сапог и став неимоверно тяжелым, неповоротливым. Одежда прилегала плотнее, липче и холодела на ветерке. И он стыл, будто вода спала, а спиртовой холод остался и не спеша добирался до тела. В избушке Сережа выпил коньяка, порадовавшись, что тогда удержался, и все вспоминая Мотю, который переродился в глазах с его попыткой гульбы. Просушился как мог, долго отпаивался чаем. Потом дошли до деревни, где Храбрый со свежепорванным ухом приветливо подбежал к хозяину и повилял хвостом. По дороге Сережа согрелся даже, а когда растопил печку, взбодрился от домашних дел, но к вечеру почувствовал, что заболевает. Несмотря на тяжесть в глазах и слабость, чистил ружье, делал все, что делает здоровый, стараясь этим отвадить хворь. Разбирал одежду, изучал тотально-беспощадное проникновение воды: в кармане куртки спички, ссохшиеся мокрым пластом, корка какой-то сложенной вчетверо бумаги с синими строчками.
Першение в горле навязалось ночью. В полусне пытался откашливаться, драл горло, будто стружком, каким скоблят ветку. Какая-то донная забота давила, казалась важнейшей, и он просыпался, не понимая, что гнетет, и все стремился туда, обратно, где его ждут, будто там еще кто-то и надо решить что-то важное, и потом, когда отекала сонная пропитка, всплывал, разоблачив свой долг, и оставался стыть с першащим горлом… А утром и глаза, и нос, и горло залились, склеились… Он выходил на улицу, старался продрать пробки ветром, остудить тяжелеющую голову.
Очень огорчило Сережу, что и на дворе расквасилось, что снег согнало уже во второй раз, подтверждая, что год от года климат портился. Наружная склизь казалась продолжением собственной, и природа текла, хлюпала, плавилась и слабела, и теплый ветер не охлаждал и не прочищал. К вечеру второго дня попер жар.
Как сквозь туман, пришли Валентина Игнатьевна с Лидией Сергеевной. Сережа, лежащий под покрывалом в рубахе и спортивных штанах, привстал на локтях на кровати:
– Лежите-лежите! Вот мед вам… – заговорила заботливо Валентина Игнатьевна. – Ну что же вы так… неосторожно? – И покачала головой.
– Сергей Иванович, вот вам носки теплые, – сказала Лидия Сергеевна с улыбкой и сморгнула некрашенными ресничками.
Разговорились. Валентина Игнатьевна дала понять, что не афиширует подробности Сережиного приключения, подразумевая, что тому не хочется, чтобы обсуждали его неопытность. Сережа возразил, что, наоборот, надо говорить, что мальчишка – герой, и что на уроке скажет обязательно. И что для него это опыт огромный: вчера ты помог, а завтра самого, как щенка, выудили…
Валентина Игнатьевна с участием дала понять, что помнит о Сережиной просьбе-заботе:
– С Антониной пока под вопросом. Ждем ответа по единице. А Константину предложила труд повести. Михаил Матвеич уехал на операцию, долго не будет. Отказался Константин… говорит, работы по дому много. А мне кажется, что напрасно, все-таки двое детей. И вот, вы меня не поймете, а я вам скажу – если б Антонина была в коллективе, она бы его… доконтропупила.
Лидия Сергеевна в это время быстро смахнула крошки со стола, протерла его и сполоснула грязную кружку. Промыла тряпочку под умывальником и, прозрачно посветлевшую, аккуратно повесила на веревочку над печкой. Потом обе вдруг засобирались, и, уходя, Валентина Игнатьевна положила на протертый стол папку:
– Вот еще посмотрите на досуге, Лидия Сергеевна у нас какие программы придумывает, может, у вас мысли будут…
В жару о чтении и не думалось. На следующий день стало полегче, и Сережа взял в руки тетрадку с Лениной сказкой. Она получила какой-то новогодний приз, но Костя сказал, что Лене «почти не помогали». Хотя в таких случаях помощь допускается для приглажки детского творчества, поступающего на конкурсы и вообще на внешний обзор. Сочинения перепечатываются и правятся, нередко теряя драгоценную первородность.
Сереже не очень хотелось читать сочинение Лени Козловского. И даже захотелось, чтобы оно было плохим, но, чтобы проломить негожие переживания, он решительно открыл тетрадь.
ДЕД МОРОЗ И ВОЛКИ
Новогодняя сказка
Однажды в новогоднюю ночь поехал Дед Мороз на собаках раздавать детям подарки. Была температура 37 градусов. Дед Мороз остановился переночевать в таежной избушке. Он вылез из саней. Вокруг были кедры и елки. На березах и осинах не было листьев. Их ветки покрывал снег. Уже была ночь, но лучи луны освещали снег. Снег блестел, как обратная сторона фантика. Снегурочка сидела в санях и смотрела вдаль. В санях лежали игрушечные самолеты и плюшевые звери.
Дед Мороз не топил печку. Потому что он весь изо льда и у него может растаять борода, поэтому он так не любит теплые места, и даже огонь.
Вдруг кто-то за избой шевельнулся, и в одну секунду выскочили волки и напали на Деда Мороза. Собаки дремали очень крепко и не замечали, что к ним подбегает опасность. Волки хотели слегка полакомиться собаками. Дед Мороз стукнул своей палкой, и волки превратились в сосульки. Дед Мороз заморозил волков и помчался на собаках раздавать подарки детям.
Настала весна, и он улетел со Снегурочкой на Северной полюс. Там мимо них проходили белые медведицы. Они хотели напасть на собак и съесть их. Дед Мороз их заморозил, а потом приехали таежные мужики и разморозили медведиц. Медведицы с ними ничего не сделали и ушли домой.
А волки весной оттаяли и пустились бежать во весь дух.
Потом в конце осени Дед Мороз собрался опять в деревню и начал раздавать подарки, как и в прошлую новогоднюю ночь. А волки, когда оттаяли, затеяли новую задачу – обхитрить Деда Мороза. Они покрасились красной краской и залезли в сани. Потому что у Деда Мороза сани красные, и они решили замаскироваться. Дед Мороз со Снегурочкой поехали, а один неуклюжий волк нечаянно упал в багажник саней и все там своротил. Дед Мороз не заметил волка и ехал дальше. Волки повалились и раскрыли подарки, и один волк увидел огромную коробку – там было пусто. Дед Мороз решил подарить одному ребенку коробку, чтобы он там что-нибудь хранил. Волки все туда и попрыгали. Дед Мороз их не услышал, потому что он очень заслушался своих собак, и Снегурочка тоже. Потому что им очень нравилось, как шуршат лапы собак. И одному мальчику Дед Мороз подарил коробку с волками и коробку с самолетиками. Тот утром сперва открыл коробку с самолетиками, а потом с волками. Родители сказали: «Какие хорошие собачки!» Тут волки сами себя испугались и залезли на шкаф. А папа взял ружье и тоже их напугал. С тех пор волки перестали гонять собак и нападать на Деда Мороза.
Сочинение насмешило Сережу, а когда пришел Костя, он спросил, действительно ли Леня «сам все сочинил»? Костя объяснил, что Леня придумал все слова и обороты, но Тоне приходилось их «как клещами вытаскивать», выпытывая, как выглядел лес, какие подарки лежали в нарте и почему волки покрасились красным. Коробку, оказалось, мальчишка приплел «чтоб смешно было», не подозревая в ней сюжетного хода и ключа к финалу, который сам уже напросился.
Костя притащил протертой смородины («Тонька послала») и подколол Сереже дров. Перед уходом долго и смешно рассказывал, как они с Эдей выуживали аэросани и как их встретила Эдина жена.
На следующий день зашел Коля:
– Болеете? Вот мать вам передать сказала! – и протянул банку малинового варенья, темного с белесыми точками косточек. Еще Коля принес сочинение и хотел было уйти.
– Ну погоди, не уходи. Оно же недлинное… – удержал его Сережа. И открыл тетрадь:
За что я люблю свою собаку.
Мою собаку зовут Пират. Он хоть и воровитый, по словам некоторых допотопных, не будем показывать пальцем, но зато помощник, каких поискать. Зимой я запрягаю его в нарточку и вожу на нем воду и дрова. Пират хороший охотник. Однажды я пошел в тайгу с ружьем моего деда. Иду, погода хмурая. Дует ветер. Туча аж за землю задеет своими лохмотьями. Навстречу попался след соболя. Пират никогда не искал соболя и сначала погнал пятку. Но потом, молодец, вернулся и взял след. Вскоре я услышал его лай, слышный плохо из-за ветра. Я шел по горельнику долго и думал, лишь бы он не замолчал! Он загнал соболя здорового кота на кедрину. Я выстрелил и попал в соболя, но он застрял в развилке. Топора у меня не было. Я бросил под кедру рукавицы, крикнул Пирату: «Жди сиди!» и побежал домой за топором. По дороге руки заколели, как колотушки, и я грел их за пазухой. Когда вернулся, Пират сидел на месте и повизгивал на кедру. Наступили сумерки. Я срубил кедру и Пират бросился к соболю. Надо было, чтоб он его потрепал хоть и стылого – иначе не затравится. Это был ево первый соболь. Пирата своего я ни на кого не променяю. Я на всю жизнь запомнил этот день. И с тех пор не хожу в тайгу без топора.
Сережа поднял глаза, и по ним все было понятно:
– Молодец… А что такое «пятку погнал»?
– Ну вот соболь, – начал объяснять Коля, показывая обеими руками, – вот он туда бежит, а Пират туда побежал, а не туда…
– А… ну в смысле в другую сторону.
– Ну, в другую сторону, ну куда духан соболевый слабже… Это в пяту́ значит. Ну, говорят так.
– Хм… – задумчиво усмехнулся Сережа, – хорошее слово. Я тоже иногда пятку гоню. – А деда как звали?
– Дед Афонча. Афанасий Никифорович.
– А Дед Афонча какой был? Расскажи про него… – попросил Сережа. – Может, фотографию принесешь? Он воевал?
– Конечно!
– У нас тема будет ко Дню Победы. Конкурс сочинений. Сможешь написать?
– Ну че, можно.
– Дед много рассказывал?
– Ну рассказывал.
– Чо-нибудь необычное рассказывал?
– Хм… – улыбнулся воспоминанию Коля, и эта восторженная улыбка так и не сходила с лица, пока он говорил, – эта… мужики раз рыбачили весной на Долевых озерах – сети, короче, ставили… И тут вихорь налетел. Дед так и говорил – «вихорь», ага. А один мужик на ветке едет, она рыбы полная, по борта аж сидит, а вихорь прямо на него прет в лоб, короче, копец, утопит щас. И он тогда нож из ножне́й достает и в него ка-а-к кинет – с-с-и-и-и-у! – Коля изобразил, как тот метнул нож. – Тот фюить и убрался под облако. – Коля показал рукой, как он подобрался. – А после этот мужик зимой в зимовье́… ну на охоте… сидит, соболя обдирает, слышит – пришел кто-то, скрипит, юксы снимает. Выходит. Двое мужиков стоят. В куржаке все, аж сседа́. У одного глаз завязан. «Вы че, мужики?» Ну этот, и у которого глаз, нож протягиват: «На вот нож твой». А тот стоит, как язык проглотил. Те мужики обули лыжи, пошли – и тут как заморочает, шквал такой ка-ак даст, и снежина как закрутит, загудит, и дед говорит – подхватило их, и все, забрало с концами… А утром мужик вышел, солнышко светит – и ни следушка.
– А собаки что? Или он без собак был? – подотошничал Сережа.
– Дак в том и дело, что собаки вопшэ ни гугу, ни носом, ни ухом, как сидели в кутухах, так и сидят. Токо посапывают. Хоть бы пошевелились, тварюги!
– Ну вот. А я тебе двойку поставил… – сказал Сережа. – Ты, когда будешь сочинения писать, ты пиши, как ты говоришь, не выдумывай ничего, чтобы там красивей, как в книжке, у тебя и так выходит все. Ты потому что живешь… взрослее, чем пишешь.
– Сергей Иваныч, а как вы догадались, что я списал?
– Ты бы никогда не сказал «хрюшка»!
– Ну. Ха-ха!
– Я зашел в мастерскую проверить, почему свет горит, и слышал, как ты про Каштанку… задвигал, что у «клоуна пахать надо, а сто́ляр так накормит». Если б ты так написал в сочинении, то я тебе бы за одну эту фразу пятак вкатил. Понял?
– Понял, – четко сказал Коля. – Че, я пойду? Выздоравливайте…
Сережа лежал и думал о Ленином сочинении, совсем еще детском, но богатом по фантазии и уже развлекательном, по взрослому счету, и про Колино, из которого целый рассказ сделал бы Пришвин или Астафьев. Как по-взрослому заботился Коля о том, чтобы затравился Пират на соболя, и переживал, что из-за его разгильдяйства пес не получит собачьей награды, не потреплет теплого зверька, не высидит под кедрой, убежит за хозяином следом. И вся наука насмарку…
Еще думал о том, что Коле обязательно надо написать про деда Афончу. И про этот смерч, вихорь, уносящий в такую даль – и жизненную, и временную. Сюжет известный, конечно, но как можно красиво сказку развернуть, разметать снежной сетью, объять именно здешние места, чтобы каждая кочка ожила, пошевелила нечесаной травяной макушкой… Сережа начал засыпать, и дед Афонча явился-заговорил… голосом Концевого Деда: «А Тоньку она возьмет. Возьме-е-ет. Я сра-азу понял…» И стал стучать топориком по кедрине…
Это стучал Эдя. И вошел, не дождавшись ответа.
– Здорово, утопленник! Я тебя лечить пришел. Карлос в клюкве. Само то от простуды!
Сережа пошевелился, привстал на койке, проскрипел:
– Заходи. Там стопку возьми. Я не буду. Не полезет.
– Да я сам не буду. Я не в фазе.
– ?!
– Заземлился в ноль. Все напряженье в грунт ушло. Подполье копал: у моей перегруз сети с вылетом пробок. И тарелок. Хожу пригнувшись. Это я тебе. – Он бумкнул Карлоса на стол. – Ну ты даешь! Ты че это решил – Мотьку переиграть? По водному полу. Народ говорит – все из-за Лидки. Говорят, сватался к ней, а она поворот дала! Двойной тулуп с пинком под гузку. – Эдя хитро глянул кедровочьим глазом. – Я грю, не на того напали, станет он из-за этой кряквы нетере́бляной… в озеро ки́даться на зимь глядючи. Он сам селезень, ему жить да жир нагуливать. А я сра-а-азу почувствовал, что неладно, когда гляжу – кобель твой бегает. Думаю, че такое: то сидел-сидел. А тут забегал.
– Ты скажи, что у тебя с аэросанями случилось? – Сережа воспрял от Эдиных рассказов.
Эдя посмотрел как-то вбок, вниз и в сторону. Потом увидел у Сережи на столе молитвослов:
– Божественное читашь? А я тоже летающую тарелку видел… Над Архиповским Лужком.
– Да ладно, над Лужком. Ты на кухне, поди, видел, вместе с пробками, когда собаки… аэроумывальник твой притащили. Да?
Он снова повел глазами и сглотнул, как пес, которому запретили смотреть на пищу.
– Эдя, а ты смерч видел? – сжалился Сережа.
– Да сто раз.
– Знаешь, че делать, когда смерч на тебя идет?
– Пс-с-сь. Нож в него метнуть. Дурак знат.
– А почему?
– Он заряд на себя тянет. Разворачиват магнитное поле на сто пе́тьдесят градусов. Возвращает фазу. И ликвидироват вредные токи Фуко… А меня, кстати, звали в тарелку обедать. Я не полез. Все равно они по-нашему не баят. Мне че обед? Мне общенье нужно. Я вот вспоминаю… все-таки путяво мы с тобой под капустку… порассуждали… когда ты плашкот гнал. Эх, хорошее было времечко… Да… Иногда так разговор нужен… А у всех одно на языке: време-е-ни нет. Да на кой лешак мне время, если поговорить не с кем? Ты вот детей учишь… Вот че такое время?
– Ну… субстанция… – ответил Сережа, которому не хотелось думать.
– Вот и я говорю – суп с танцами. Не пойми че. Кусок сыромятины. Намочил – тянется, нагрел – съежилось. Как визига сушеная… Ладно, пойду, выздоравливай.
«Нагрел – съежилось, – в каком-то просветлении писал Сережа в дневнике. – Прямо как у Каратаева про счастье… Та же интонация… Откуда? От-ку-да?! Откуда и куда? Ведь столько лет прошло… А оно действительно сжимается, когда тепло на душе. А когда тоскливо – тянется. Странная штука – время. Отец говорит, что в двадцать лет ему казалось, будто в столетии помещается пять человеческих жизней. Пять человек будто лежат во всю длину – от него до Достоевского. Когда был маленьким, при слове “до революции” ему представлялась какая-то далекая затуманенная пора, а теперь, когда ему шесть десятков, вдруг открыл: оказывается, от его рождения до революции ближе, чем до сегодняшнего дня! Да и я вроде двигаюсь вперед, а они приблизились, эти русские времена, и стали впритык, чтобы помочь… А Эдя с тарелками какими-то… С космосом… Со всей этой бескрайностью… не знаю… Наверное, бесконечность Вселенной – это замысел Бога об устройстве мира: каким бы он мог быть, если думать бесконечно. У меня уверенное ощущение, что во Вселенной никакой другой жизни, кроме земной, быть не может. Да и не нужно… Центр промысла – Земля, а все что дальше – это как картина, где края только обозначены, намечены… и так… упомянуты… на доверии. И дело не в них. А в нас. Вот мы думаем, что в таком состоянии человечество долго не протянет. И частью души тебе даже бы хотелось, чтоб оно было наказано, чтобы, рушась, ты мог бы прокричать тем, кто не верил: я предупрежда-а-ал, я говори-и-ил, а вы не верили. И пальцем погрозить напоследок… А на самом деле люди могут какое-то время спокойно жить в состоянии, которое тебе кажется невозможным, и вопрос в тебе – насколько ты это выдержишь. Не зря говорится: думай о спасении своей души. Потому что нет ничего страшней, когда твои близкие не видят, как в лоб несется смерть, смерч, вихорь… Но ты можешь бросить в него нож. Если есть вера. И земля, за которую больно.
Уставшая, темная, измученная, на которой зима никак не наступит. Кажется, если она придет, все сорное засыплет снегом, скроет, оставит лишь главное, снежное, пресветлое. Светящееся, как окно морозным утром, на фоне которого свеча потрескивает и кивает язычком пламени… А с вечера шум ненастья. И снежный ковер поутру. Пресвятая Богородица, доживу ль до Покрова́ Твоего?»
Глава девятая
Как плотно все устроено. Едва отошла тягота телесная, вступила духовная. Сережа думал о том, что так и не успел сказать Тоне про разговор с Валентиной Игнатьевной. Часов до четырех не мог заснуть, а едва задремал, начал лаять Храбрый. Пес лаял истошно, и на рассвете Сережа вышел на крыльцо.
Все было в снегу: трава, репейники, рябинка. Черно-белое, удивительно аскетичное. Он оглядел округу: чужих собак не было, только вторил соседский Беркут. Храбрый лаял в угол забора, где барахталось что-то бело-пестрое. Сережа побрел в накинутой фуфайке и калошках. Ноги застревали в полегшей траве, она, как мостами схватывала калошки, и было непостижимо, что трава, слабая в отдельной травинке, в жгуте такая сильная.
Сережа подошел к сетке, которой был обтянут забор. Под ней в самом низу, в бурьяне запуталась полярная сова. С той стороны сетки был угорчик, просвет, куда она стремилась, рискуя покалечиться. Увидев Сережу, сильнее забилась и, неловко заломив крыло с мраморным темным крапом, глядела на Сережу желтыми глазами. Перо было снежно-белым, а узкий черный клюв густо одетым белым пухом. Сова снова затрепыхалась, раскинув крылья, беспомощно распласталась, упала ничком и, повернув голову, раскрыла клюв. Он попробовал ее взять: она оказалась очень легкая, и такая мягкая, что рука провалилась.
– Ну тихо, тихо, хорошая! Сейчас! Тичас! Тичас… – Он так и приговаривал: – тичас…
Больше всего Сережа боялся, чтобы она ничего себе не вередила, ведь Храбрый орал уже несколько часов. «Они же последними откочевывают, за ними только кречеты. Они уже летят вовсю. Ей давно пора. Наверно, ослабла. Хватит сил-то? Сейчас попробую подбросить, только очень аккуратно надо». Он почему-то решил, что ей надо не отдохнуть и успокоиться, а, наоборот, поскорей попасть к небу и что полет ее вылечит. Что она от него запитается, а от земного зачахнет. Но видя, какая она воздушная – сплошной прибор для опоры о небо, – очень боялся повредить о воздух, который может оказаться слишком твердым. Боялся, что сломает ее, сложит, всю состоящую из крыльев. Что их вывернет, выломает из ослабших мышц, настолько они большие и тонкие в управлении… И бессильные, как все полетное, которое на земле только на растяжках и выживает, если шквал.
Но и слабо кинуть нельзя, надо как можно выше, чтоб удержалась, вскарабкалась… Чтобы, если сорвется, успела все-таки вцепиться в синеву, сизоту. А небо поможет. Но как же кинуть, чтоб ее не омяло – такую невесомую, мягкую?
Когда вышел, было еще серовато и непонятно – дымка ли это от прошедшего снега или просто утренняя сизота, седая поволока. Сейчас сквозь нее проглядывала синева, а на востоке уже вовсю румянилось. Казалось, небо еще само не решило, каким будет – ясным или дымчатым, и в этом раздумье было еще больше красоты и покоя. Сережа взял сову двумя руками аккуратным кольцом, уложив, поправив крылья, убедившись, что лежат верно, и, заведя из-под низу, изо всех сил кинул в прекрасное сине-сизое небо. Он не успел разглядеть, как именно она летела, кульком ли, расправляясь, но уже замер пораженный: сову буквально вложило в небо. Она с ним совпала. Она легла в него с полнейшей мгновенностью, безо всякой запинки, и в несколько махов унеслась, исчезла, чуть привставая на крыльях и почти сводя их на взмахе за спиной.
Никакого сбоя не случилось, но удар, встряска все-таки были, и мир содрогнулся и замер на мгновенье, но не в небе, а в нем самом. Сережа ждал, что в нем все будет ровно, как по нитке, а птица оступится, сорвется, черпанет крылами воздух, просядет хоть на долю пространства. Он настолько приготовился к этой ступеньке, вздрогу, что, когда она встала на место с вещей легкостью, в его душе что-то оступилось. Этой отдачей его буквально шатнуло, и он замер, завороженный, а потом вышел на высокий угор и несколько минут смотрел вдаль, где завязывался ветерок и с юга белое снежное полотно нависло над водой линейчато ровно, и вода была особенно серо-свинцовая…
Пошел снег. Солнце прошивало его серебряным трезвым светом, озаряя тихие травы, полегшие от заморозков и оттепелей. Репейники стояли в снежной опушке, светясь торжественно и переживая, запоминая короткую и нечастую свою красоту. Рябинка была совсем голая и снежок обводил зернистым контуром ее стволик и ветки. Уже в третий раз за это время.
Сережа вернулся и лег на койку. Вспоминалось все разом, но не от близости смерти, а наоборот – от жизни, которая потихоньку раскрывала-настраивала крылья, и он, сам, еще сонно расслабленный, чувствовал за пеленой проходящей болезни ее взлетающую силу, и от этого дремотному расслаблению было еще покойней. Память утратила порядок: одинаково виделось и вчерашнее, и давнишнее. Он думал, если перестало меркнуть давнее, то это жизнь ускорилась, а оказалось – нет: просто все выстроилась по важности, невзирая на удаленность. Он вспомнил, как ездили к бабушке на Ангару и отец показывал ему дедовские камусные лыжи с юксами – креплениями из сыромятных ремешков. И как бабушка вздохнула: «Охо-хо, сколь хозяин на них отходил: кама́сья-то все выбродились… Ой, Святодух Восподней… Когда-то и сама врыссю бегала, а таперь обессилела нагото́во… – Она вдруг быстро отвернулась. – Давеча в дивильце глянула…» – и зажмурила, смяла глаза. Отец вздрогнул тревожно: «Ну что ты, мам?» и обнял ее, а она уткнулась ему в грудь и, задрожав, подхватила-прижала Сережину голову. Потом Сереже без всякого перехода представилась трава, не дающая сове взлететь и не пускающая в дальний путь, и как шел к ней, и ноги вязли в травяных арках, как в юксах. Он подумал, что расскажет детишкам о том, какая красота заложена в мире, где они с детства, и который видится чересчур привычным, по сравнению с другими, далекими и потому только притягательными. А потом спросит ребят, что такое дивильце. А они не будут знать. А он ответит, что зеркало.
Как им объяснить, что в языке много разных слов? Что слова, как птицы, есть перелетные, а есть свои, зимующие… Почему-то выплыло слово «толерантность» и, мертвое, упало в снежную траву и не пошевелилось в голове, не щекотнуло крылышко. Сережа произнес снова, еще несколько таких же безжизненных слов, несколько раз повторил – ничего не случилось… Никто не трепыхнулся в яснеющей голове, видно, сова увела навсегда капризную клеточную птичку. Если что и осталось – ресницы Лидии Сергеевны, сделанные из того же материала, что птичьи крылышки.
Он подумал о своем дворе, заросшем травой, – сколько с ним уже связано. Вспомнил, как стоял под дождем на коленях после схватки в учительской. И как зашел домой мокрый и зажег свечу на темном окне. И как молился. И его самодельную молитву… Как она начиналась? Как стихотворение: «Я люблю…» Разве можно с «я» молитву начинать? Молитву… Господи, да сегодня ж Покров!
«Укрой, Пресвятая Богородице, мои споры-сомнения. Какая моя душа? И где она была, когда я барахтался в озере? И почему ей так трудно? Почему так несовершенен человек? И достоин ли неба? И не оступится ли?
А если оступится? Тогда что? Тогда молись! Молись! Молись Пресвятой Богородице… Как, о ком? О ком же еще-то? О ней! О ней самой! О рабе Божией Лидии, чугунная твоя голова! О всех женщинах, которые и в тихие времена, и во времена смуты хотят своей правды, то вяжущей, близкой, нательной, то режущей, как младенческий крик на рассвете. Хотят тепла домашнего и куска хлеба детишкам. И муж чтоб живой да невредимый сидел одесную. И чтобы Тарас Андрия простил. А они сами – и Тараса, и Гоголя. И чтоб Тарас услышал Остапа и крикнул на всю Вселенную: “Слышу!”
Пресвятая Богородице, прости нас… Пой Царицу: Царице моя преблагая… пой… Какой напев… удивительный… Как красиво, Господи… Бабушка, ты меня слышишь? И я тебя… А Остапа? Хорошо… Слезы это хорошо… Вот так… Ну что? Легче? Ведь легче же… Ну вот и слава богу… Свечку-то? Свечку сразу надо было зажечь. Ну вот, пускай горит… Потрескивает вместе с печью».
За окном смеркалось, снег уже привычно белел, но сквозь стекло было не видно, что он продолжал ложиться уже до весны, сеясь рябящей сеткой и укладываясь плотно и крупитчато. Зазвонил телефон, и тихий голос зазвучал:
– Сергей Иваныч, это Екатерина Фроловна. Как вы себя чувствуете? У вас анис есть? Он тут на поляне растет… Его с чаем хорошо. Ну ладно, ладно. С Покровом Божьей Матушки вас! Видите, снег как идет, а то все упасть не мог… А теперь уж ляжет. Слава богу. Я что еще звоню. Я давно хотела вам спасибо сказать. За те… ваши слова… правильные. Тогда в учительской… Вы хороший человек. Я вижу. Трудно вам только будет. Но вам надо быть таким. Хотела… «упертым» – упрямым. Вы справитесь… Я еще тогда хотела вам сказать: ну не убивайтесь так… Не убивайтесь… Я же вижу. Может, кто-то и не видит. А я вижу. И у меня сердце болит… А все управится. Ведь уже было все. И даже похлеще. Так что поправляйтесь. А я помолюсь. А я если честно… тут как узнала, что с вами… случилось. Сердце прямо заныло… Это материнское, наверное… Ой, Господи… И все спрашиваю сама себя, спрашиваю: ну как же так? Как же вы так неосторожно? Вы уж вперед, правда, аккуратней будьте. Берегите себя, – она замолчала, а потом сказала негромко и будто решившись: – Вам еще до директора дожить надо.
Замороженное время
1
Гошка Потеряев ехал на Новый год домой из тайги на «буране». На нем была собачья шапка, суконная куртка-азям, суконные портки, надетые навыпуск на кожаные бродни с исцарапанными головками. Лыжи лежали, поставленные на ребро, вдоль сиденья на подножках, на правой – камусный конец был вечно подожжен о глушитель. Ехал сначала хребтом, потом спускался к реке по косогорам, ручьям, привстав на одно колено, елозя по промятому сиденью, вертясь до треска в пахах, весом крупного тела помогая сохранять пляшущему «бурану» устойчивость. Съехав на реку, взрыл снег ногой, проверив «на воду», и помчался дальше. Сзади болталась нарточка, свирепо провонявшая выхлопом, облепленная снежной пылью. Останавливался подождать собак или посмотреть дорогу, оставляя «буран» молотить на холостых, шел вперед, в подозрительным месте разгребая снег броднем. Грел руки под вентилятором. Стоял – усы в сосульках, борода шершаво белоснежная, блестящие серые глаза откуда-то из глубины белых ресниц живо, тепло блестят, кожа красная, на щеках белые волоски, собачья шапка заиндевелая, пахнет распаренной псятиной. На ремне за спиной проволочная скобка, в ней топорик. Через плечо тозовка стволом вниз. Под стеклом запасные рукавицы.
Солнце туго сеялось сквозь морозный воздух, все было совершенно стерильным, и Гошка и снаружи, и изнутри тоже был чистым и необыкновенно собранным, нацеленным на долгую и долгожданную дорогу.
– Ниче ишшо «буранишко», – пнул он помятый рыжий бок, привычно прибедняя положение, чтобы в случае неудачи или промашки не краснеть за бахвальство. «Буранишко», с которого все лишнее было снято и все нужное наварено, был и впрямь в соку, нестарый еще и уже неновый, неразъезженный. Что-то показалось подозрительным в ходовой, и Гошка, легко завалив набок триста килограммов, внимательно осмотрел низ, имевший особенно боевой вид: истертая добела лыжа, пробитый поддон, свороченные скулы, мощно чернеющие гусеницы. Уронил обратно, постоял толканул, заглянув под капот, сколько осталось бензина, тот болтанулся, закачался в пластмассовом баке темным пластом.
Небо было ясным и казалось совсем весенним, если бы не морозец в сорок два градуса. Оставляя двойную полосу шел на север Норильский Ил-76, за ним, с отставанием на полнеба полз резкий и далекий шелест. Вид такого самолета, нелепая близость к бескрайним таежным пространствам теплой кабины с приборами или салона с ухоженными пассажирами, выпивкой и закусками, вызывал у охотников свою специальную ухмылку. И Гошка тоже ухмыльнулся, вспомнив своего товарища, молодого, едва пришедшего из армии, парня, которого бесконечно забавляло то, что, когда он в ста верстах от деревни вытаскивал «нордик» из наледи, над ним проплывал самолет с «угарными телками».
Рация у Гошки сломалась, и он не знал, кто из охотников где и, подъезжая к избушке нижнего соседа, с надеждой думал, может, Колька там, да еще выскочил из боковых избушек его брат Рудька Подоспатый, а может, вдобавок их приехали встречать из деревни, и тогда он вообще попадает на самый праздник, потому что они наверняка с собой что-нибудь привезли, и в нажаренной избушке открыта настежь дверь, в проеме суетливо вьется обильный пар, все уже как следует шарахнули спирту и дым стоит коромыслом. Как отлично – так вот подъехать, подогнать «буран» к бурановской стае, и все вывалят из избушки, бородатые и похудевшие, постаревшие за разлуку и краснорожие, заорут: «Ну и нюх у тебя, Гоха!», или: «На Кедровом наливают, а он на Скальном нюхтит стоит!», или: «В деревню намылился – защекотилось у него!» Полезут трясти за руки, обниматься, лупить по плечу. А он солидно снимет тозовку, покопается для приличия в нарте, мол, не так уж охота, имеем и терпеж, а потом ввалиться, согнувшись в три погибели, все подвинутся, и он разденется и возьмет протянутую кружку…
За Большим порогом Гошка влез в наледь, чавкал броднями по парящей и похожей на мокрый сахар каше. В конце концов раскатал полную зеленой воды траншею, пробил ее до сухого и выехал. Перевернул «буран» и долго вычищал мокрый снег из ходовой – то красными, вмиг стынущими руками, то концом топорища.
Через поворот стояла избушка, до которой он проскочил минут за пять, изо всех сил шевеля в броднях коченеющими пальцами. Подъезжая, выискивал признаки свежего присутствия товарищей, старался быть спокойным, но сердце колотилось – так всегда, когда долго не видишь людей.
Заезд с берега к избушке был безжизнененый, трехдневной давности, у двери сквозь снежную пудру рыжела вываленная заварка. Гошка затопил печку-полубочку, стянул схватившиеся панцирем портки вместе с броднями, долго стряхивал эти ледяные гармошки, растер белесые, сырые и как-то сразу похудевшие ноги с катышками шерсти от снятых носков, натянул запасные и стоял, попрыгивая и пробуя ладонями нарастающий жар печки. Натолкал еще дров, и все не влезало последнее полено, толстое листвяжное с жилистым извивом вокруг сучка, и когда дрова разгорелись, в щель виднелся тоже жилистый и крепкий извив пламени, и почему-то вспомнилась тундрочка, кривая сосенка с рыжей затесью и тетерка на ней, и рыжее небо с тетерочьей рябью, и все это было одно с другим так перевязано, так само в себе отражалось, что снова стало весело на душе, и в который раз вспомнились слова Фомы: «Ниче нет лучше охоты».
В мороз необычайно крепкими выглядели лыжни, дороги, развороты, все следы труда, и каждое действие казалось намертво впечатанным. У капкана ли, кулемки время будто замороженное – все как неделю назад, следы лыж с овальчиками от юкс, обломанная сухая веточка. Вот кедровка попала, и кровь гуашево яркая и рассыпается. Соболь висит, лапой в капкане, как говорит Фома: «голосует», пушистые штаны, на них прозрачно-желтые капли…
Фома, старший товарищ, суровой повадки мужик, любивший порывисто и мощно чесать хребет о косяк или лесину, делал все настолько хорошо, что это мешало жить – ему казалось, другие ничего не умеют и только все портят. У него же самого каждое движение светилось совершенством, и бывало мужик, сам хваткий и работящий, в его присутствии становился неуклюжим и безруким.
Были у Фомы издержки, порой рациональность движений он, зазевавшись, переносил на отношения, и она вылезала скупердяйством или еще чем-нибудь «разумным». При этом не жалел никогда для товарищей ни водки, ни чего другого, но вот казалось ему, что разумней попользоваться чужим фонариком, раз его хозяин, в отличие от него, вернется в деревню к батарейкам. Это было и понятно, и смешно. Особенно, когда Фома упорно навяливал Гошке подтухающего таймешонка: Гошка, догадавшись о причинах щедрости, захохотал, и Фома захохотал тоже, оттого что Гошка понял, и стало вдвойне смешно.
По осени ездили к Фоме на участок за мясом. Морозным утром в темноте грели факелом редуктор мотора, висящего на длинной деревяшке, и жирно метался лоскут пламени, озаряя заснеженный галечник. Ночевали на берегу у нодьи, на лапнике. Нигде Гошка так не отдыхал, как на земле, разливаясь телом, облегая каждую веточку, кочку. И как тянуло к земле усталое тело, так тянуло над головой к звездному небу стройные и остроконечные елки, а утром вставало солнце, тайга по берегам была серебристо-синей, сумрачной, а вдали на повороте лиственничный бугор горел медным солнцем.
Они убили сохатуху с тогушем, которых собаки загнали в перекат, обдирали их на берегу, и молоко из маленького вымени мешалось с кровью и темной осенней водой. И что-то такое женское, невыносимое было в этом вымени, что Гошка, забыв и Фому, и охоту, стал думать о Валюхе. Как она возила воду на «тундре» в пушистой лисьей шапке с длинными ушами, завязанными на шее, и между воротом фуфайки и завязанными ушами краснел на ветру треугольник голой кожи.
– И че наши бабы не такие прогонистые, как в телевизоре? – подумал Гошка и сказал вслух, наливая чай: – Зато крепкие.
2
Той весной Гошка с Фомой рыбачили сетями у Бородинского острова. По рыбакам для поддержки настроения ехала бригада от клуба: парень с гитарой, Валентина и еще одна девушка. Лодка ткнулась в берег, Валя выпрыгнула: «Здравствуйте, рыбаки! Мы приехали вам песню спеть». Гошка пожарил стерлядку на рожне, парень подстроил гитару, Валя запела. А кругом бескрайняя река, весна… И сидели, потупя глаза в костер, два рыбака с растрескавшимися руками, и лился над ровной водой Валькин чистый голос.
Летом на День рыбака ездили компанией на мотоциклах на косу, на ветерок, праздновать, пили, ели, загорали. Вечером ходили с Валей на танцы. Вышли из клуба тихой белой ночью. Шли, обнявшись, по улице к Енисею, Валентина держала Гошину руку в своей, голову склонила ему на плечо. Пока думал, как пригласить на пески купаться, она вдруг спросила: «У тебя лодка на ходу?» Спустились под угор, он столкнул «обушку», сказал что-то дурацкое, вроде: «Прошу, пани, до кобылки!»
Никого не было вокруг на десятки верст, и неожиданно маленькой, беспомощной казалась ее обнаженная фигура рядом с огромной рекой и небом. И все отвлекала, тянула на себя эта даль – длинное перистое облако, бесконечный волнистый хребет с неряшливым лиственничником, а он целовал ее мокрое, стянутое мурашками тело, и над ними дышала на сотни голосов даль – плеском воды, резко-скрипучим криком крачек, у которых где-то рядом было гнездо и которые все пикировали на них, даже когда они неподвижно лежали на песке, и на той стороне из Черемшаной речки выползала меловая лента тумана.
Встречались все лето. Тетя Тася, Валина мать, вздыхала, и были в этом вздохе и наболевшее желание побыстрее пристроить дочь, и упрек Гошке, и одновременная боязнь этим упреком спугнуть, испортить дело. Гошка сходил на охоту, вернулся к Новому году. Валя принимала у себя, почти как мужа. Тетя Тася сидела на диване, вздыхала, ладно, мол, слава богу, хоть вышел жив-здоров.
Ждал ее вечерами. Вспоминал прибежавшую из бани босиком по скрипучему снегу, чистую, распаренную, пахнущую хвойным мылом. Освещенное керосиновой лампой крепкое тело, полную и нежную грудь с будто светящимися розовым воском сосками. И себя, всего измятого, иссушенного работой, с серыми от железяк мозолистыми руками, даже после бани остававшимися в шершавом налете. И как невозможно было прикасаться к этом розовому воску такими наждачными перчатками и оставалось только пить-целовать его одичавшими губами, до хруста сцепив руки за головой.
Вале больше всего на свете хотелось выйти за Гошу замуж, завести детей и зажить спокойной жизнью, а он чувствовал, что ей это нужно больше, чем ему, и накипало горделивое раздражение молодого мужика, которого торопят, не дают дозреть, надышаться волей. Весной Валя поехала в Красноярск, Гоша отвез ее в большой поселок, посадил на самолет, и это вот «сам, своими руками» долго потом не давало покоя. Валя собиралась на месяц, подлечиться, а потом задержалась и осталась. Чем-то торговала с родственницей, написала в письме, что, если он хочет, может приехать, «ждет всегда», и было непонятно, сказано ли это в расчете на то, что Гошка никуда не поедет, или она всерьез думала, что он из-за нее бросит охоту. «Кого-то нашла, ясный хрен», – сказал Фома, и тут-то Гоша и запаниковал, хоть и держался молодцом, особенно на мужиках.
На следующий год после охоты ездил в город, звонил, тетя Тася дала телефон. Голос в трубке был родной, теплый, даже показался немного жалостливым: очень охотно согласилась встретиться, через час после звонка назначила, и он воспрял, надулся даже, значит, не ладится дело, плакаться будет. Встречались на углу Мира и Кирова. Было холодно, он пришел пораньше, чтоб не ждала, не топталась, постукивая сапожком по сапожку. Прогуливался, прикладываясь к пузатой бутылочке «купеческого светлого».
Тянул хиусок, гнал легкий, сухой снег по серому асфальту. Ждал со стороны Копыловского моста, и все выглядывая нужный автобус, сошел даже на мостовую, но помешала остановившаяся впритык вишневая «мазда-капелла», у которой медленно оползло темное боковое стекло, обдав гулко хлынувшими басами. За рулем, с правой, ближней к тротуару стороны, сидела девица в шубке, с прической, аккуратным белым крылом, прикрывающим пол-лица. Девица откинулась в кресле, через ее колени, улыбаясь, наклонилась похудевшая и подтянутая Валентина, чуть накрашенная, вся в черном, с уложенными каштановыми волосами.
На Коммунальном мосту по разделительной полосе навстречу пронесся с горящими фарами черный двухдверный автомобиль. Девушки переглянулись, хором хрюкнули, а Валя покачала головой: «Артист этот Секарев!» На Правом берегу ехали меж стоянок, мастерских, за ними среди бетонной и железной рухляди скрывалось кафе столиков на пять, все в темном дереве, сумрачное, с прихотливой и дорогой едой.
– Часа через два, Галка! – сказала Валя и, обратившись к Гоше, как к милому, но устаревшему прошлому, спросила, дождавшись, когда принесут пиво: – Ну как ты?
Спрашивала про деревню, про маму, про тетку, выпытывала, как о чем-то самом родном и святом, с теми нотками заботы и сожаления, которые так и обнадежили по-телефону. Говорила больше сама: «Работаем, деньги нужны», держалась сильно, независимо, почти официально, и ему тоже приходилось быть независимым, упругим, и, конечно, ни о каких грустных воспоминаниях не могло быть и речи, да и язык не повернулся бы: красивая и недосягаемая женщина, рассуждающая о сотовой связи, и эти воспоминания были несовместимы. Оставалось только, покуривая, потягивая пиво из высокого стакана, с эдакой прохладцей улыбаться. Вечером у нее ожидалось какое-то сборище, и она потерла зачесавшийся нос: «Ой, нос-то че делат!» и улыбнулась хитро, по-старому, будто на секунду над ним сжалясь, и тут же снова, суховато откашлявшись, стала чужой и далекой. Сидела напротив с голой шеей, которую ошейничком обхватывала цепочка с подковкой, и хотелось впиться губами в белую кожу, сжать эти плечи под черной кофточкой, уткнуться, изъелозить грудь головой, глазами. А ведь только что был героем, охотником, солью края, а теперь все это не имело значения, казалось забавой, непозволительной роскошью по сравнению с ее жизнью, деревянел язык, и он уже почти ждал Гальку с «маздой», чтобы распрощаться и вырваться на волю, на воздух, ясно понимая, что новый Валин образ еще долго будет жечь ошеломленную душу. На другой день он улетел домой.
«Отпустил бабу», – с упреком и досадой говорил ему в деревне Фома. А Гоша только махал рукой… И действительно, словно обрушился какой-то важный край его жизни, а в душе образовался холодный и длинный рукав, кончающийся где-то в полутора тысячах верст, в Красноярске, и в него со свистом уходило все лучшее, что было.
3
Отогревшись и попив чаю, Гошка поехал дальше. Он думал про деревню, состоявшую из двух половин – Захребетного и Индыгина, разделенную протокой, о том, как это, с одной стороны, по-дурацки, неудобно, но и забавно, с другой: всегда вроде дело есть – в Индыгино сгонять.
Так хотелось промчаться по деревне, до железной крепости укатанной снегоходами, грохоча лыжей, пронестись по улицам с дорожной ходовой скоростью, и чтоб сияли вокруг с долгожданной роскошью огни.
Но промчаться не удалось. В Енисее прибывала вода, и верст за десять обе забереги захлебнулись. Он надеялся на переправу у деревни, но вода прибывала так быстро, что та ушла под воду. Ему еле удалось, бросив «буран» на реке, перейти пешком по двум брошенным кем-то жердинам. В деревню он прибрел на лыжах с груженой понягой и оружьем. Топил. Быстро вскипевший чайник густо парил в непрогревшейся избе. Открыл печку пошевелить дрова – из торца сыроватого полена била струйка пара.
Оттаивали окна мокрыми кругляшами. Пошел к соседке за котом, тот мямкнулся под ноги с печки, Гошка взял его на руки. Кот – черный с белым, удивительно добротный, плотный и легкий одновременно, с сыровато-прохладными подушечками и усами, особенно толстыми и белыми на угольном фоне морды. «Валька прилетела. Худющая», – брякнула бабка. «Да ты че? Одна?» – сияя глазами, спросил Гошка и почувствовал, как с хлестом вобрался, стал на место отмороженный многоверстный рукав. «Одна, одна. Хлеба возьми, свезый, вот стряпала». – Бабка протянула смуглый кирпич с коричневой кособокой шляпкой.
«Ну вот, – думал Гошка, идя к себе с котом за пазухой, – Котя здесь, Валюха тоже под боком. Собаки сейчас прибегут, “буран” конечно, не на месте, но уж хрен с ним, постоит до завтра, главное, на сухом. Так что все, дядя Гоша, по теме».
Но праздника не вышло: собаки, как ни ждал Гошка, так и не пришли. Да и что у Валюхи на уме было, неизвестно, сам дома, «буран» на льду, собаки хрен знает где, скорее всего, у «бурана» спят калачами, укрыв хвостами носы. Хоть кот на месте – и то ладно.
Особенно жалел Гошка старого кобеля. В прошлом году после стоверстной пробежки, отойдя от корма, он вдруг зашатался, сам не веря в свою слабость, рванулся, споткнулся на подогнувшейся лапе, и Гошка не выдержал, запустил его в избу, где тот проспал под кроватью до утра, тяжело и по-человечьи вздыхая. Теперь Серый истошно лаял на бегу, то ли от отчаяния, от тоски по уходящим силам, то ли сам себя подбадривая, и лай далеко разливался в морозном воздухе. А Гошка как никогда чувствовал непоправимую вину перед кобелем-кормильцем, и мог только догадываться о том, что творится в этой обделенной лаской голове, и досадовал, что по осени злился, лупил его в лодке шестом куда попало, когда тот гремел кольцом от ошейника, а он искал сохатых, и нужна была абсолютная тишина. И думал о том, какая тяжелая ноша – так вот наблюдать собачью жизнь от начала до конца, и вспоминал, как невозможно было смотреть на старого исхудавшего Тагана, забившегося с глаз долой под балок, на муку его последних дней, и как не мог сам его застрелить и просил Фому.
Спал Гошка плохо, и во сне тревожил Валькин приезд, брошенный «буран», не пришедшие собаки, и хотелось все поскорей подтянуть к дому. Утром пошел к «бурану». Серый так и лежал калачом, а молодой убежал назад к охотнику-любителю. У того гналась сучка, Корень «это дело кусанул», как потом выразился Гошка, и вернулся «поджениться». Вода тем временем прибыла еще, но к обеду мужики бросили пару лафетин, доски и ломанулись по сети, а Гошка перегнал «буран» с нартой, разгрузился, заправился и съездил на Рыбацкую за Корнем, прихватив с устья Севостьянихи синих торосин. Сложил их в сенях и, откалывая в ведро, глядел, как разбегается по полу стеклянная крошка, а потом ставил ведро на красную плиту, оно щелкало, а лед оплавлялся и с шумом опадал.
Пока разбирался со льдом и водой, куда-то подевался Котя, видимо, убежал через дверь – заходила прорва народу. «Куда делся, козел, ведь порвут собаки, или заколеет на хрен, – раздражался Гошка, – опять неладно! В тайге все нормально, а сюда приедешь – одна черезжопица!» И он зашел к соседу, с которым хватанул браги.
По предпраздничной деревне Гошка летал на «буране» в коричневом пальто, делающим особенно длинным его туловище, в росомашьих унтах и шапке, развезя блестящий рот в улыбке – весь в куржаке, но уже рыхлом, оплавленном бражным жаром, и казалось, с этим пышущим, влажным духом выходит наружу горячая, одиночеством закупоренная душа. У конторы лихо и принародно развернулся на заднем ходу, так что задрало лыжу и ее задком пропахало дорогу, и он подумал, что в тайге бы такого себе не позволил – «так и коренной лист засохатить недолго».
Вывез на угор к дому лодку-обушку, с осени стоявшую у камней. Обкапывал лопатой, со скрипом отваливая плотные оковалки снега, потом, с натугой, налившись кровью, за нос оторвал ее от лежек – дно было в игольчатом инее, в осенней испарине. Подцепил на веревку и легко упер в гору, облепленная снегом, она с послушным шелестом шла за «бураном», режа килем дорогу. У дома с соседом завалили лодку вверх дном на бочку. Ближе к вечеру устроил стирку и курил на корточках на пороге бани, красный, с похудевшими от кипятка, взявшимися продольными складками пальцами в белесых ошметках отпаренной кожи. Тридцать первого Гошка не хотел заводить «буран» – «больно дубарно», но пришла старуха-соседка, попросила привезти воды.
Валюха тем временем, косясь в телевизор, хлопотала по хозяйству. Надо было доубраться, достирать и постряпать пирогов, да еще вода кончалась. Выжав и отложив на пол тряпку, она выпрямилась и оглядела горницу. Ничего не скажешь – умела Валентина Валерьевна создать в избе тот праздничный порядок, который зимой и в будни царит в деревенских домах. Ведро прозрачной воды стоит спокойно на табуреточке, молоко – в банке у двери на холодке. Беленая с синькой печка будто светится. Особенно чисты стекла в нетолстых крашеных переплетах, с сухим мохом между рамами. В сенях штабель налимов и чиров – морозных, шершаво-седых, с раскрытыми пастями и обломанными плавниками. А хозяйка ближе к вечеру в новой фуфайке, в унтайках с бисером, в круглой высокой соболиной шапке выйдет, подметет крыльцо и положит поперек веник – для гостей.
4
Бабы-активистки искали Деда Мороза развозить подарки, но все деревенские мужики хитро уклонились, и припахали Славку, зятя Рудьки Подоспатого, к которому на праздники приехала младшая сестра. Славка все таскался с Рудькой по поселку с восторженно довольным видом, какой бывает у приезжего в новой нравящейся обстановке. Малый был веселый, работал помощником машиниста электровоза на участке Мариинск – Красноярск, и рассказывал, как раз они сбили коня, и не заметили, что тот повис на кулаке жесткой сцепки, а мужики со встречного тепловоза подкололи: «А вы куда коня везете?»
Славке не сиделось, он стремился то по сети, то понадобилось в Индыгино, и он попросил Гошу свозить его. Когда съехали на протоку, постучал по плечу: «Дай хоть порулить, а то от Рудьки не дождешься». Сел, поехал неумело, то слишком слабо газуя, то слишком сильно. На середине дорогу выдуло и она плитой возвышалась над протокой и Славка слетел с нее, завалив «буран». Его быстро подняли, но дорога была испорчена: появилась боковая грань, скос как на крышке гроба, по нижней кромке которого темнела прибывающая вода. «Дорогу изнахратил всю!» – весело сказал Гошка и больше руля не давал. На обратном пути еще раз выматерился, глядя на изуродованную дорогу.
В клубе Славку нарядили, вручили мешок с подарками. Возили Деда Мороза в красном халате и отстающей вате Гошка с Рудькой. Заезжали в разные избы, везде хозяин выставлял бутылку, хозяйка закуски, дети читали стишок, и Дед Мороз бодро хвалил и вручал подарок. А хозяин наливал водки и говорил: «Ну давай, Дедка!» – а бабка добавляла с дивана: «Ну и слава богу. И дай бог здоровья».
Заехали к Фоме, и было забавно: вот Фома сидит, ему охота с Гошкой про тайгу поговорить, оба рады друг другу, но каждый при деле, один при семье, другой при Деде Морозе, поэтому молчат, бычатся, и от этого обоим еще смешней.
Кто-то из ребятни закручивал фонариком кота на диване, постепенно подводил к краю, так что пьяный кот падал на пол. Хмелеющий с каждой рюмкой Дед Мороз потел под шубой, борода висела как-то совсем отдельно, и несолидно блестели глаза из-под пышных бровей, но младшие ребятишки смотрели, притихнув и веря.
Последней была бедная избенка Витьки Прокопьева, бичеватого мужичка, работавшего в кочегарке. Ввалились. «Милости просим, проходите!» Бах! – и бутылка на столе. «Ну расскажи Деду-Морозу стихотворение!» Старший забасил: «Сказы-ка дядя, ведь недалом Москва, спаленная позалом, фланцузу отдана была»… Потом младший, потом девчонка.
– Ну, молодцы какие!
– Ну, давай, дедка, издалека ты к нам пришел, и правильно сделал! Гошка с Рудькой вышли на улицу, покурить и погреть «буран», а тут и Дед Мороз выполз, увалили его в сани и привезли в клуб к бабам.
– А это че такое? Че за поклажа? – удивилась нарядная, с накрашенными до кошачьей выразительности глазами, Людка Лапченко и вытащила из мешка три забытые подарка. Оседлали «буран», понеслись, снова громко стучали, снова появилась на чистом столе бутылка и закуски, снова приветливо улыбались хозяева, снова старший читал: «Сказы-ка, дядя»… Дед Мороз вручил подарки. Хозяева так ничего и не сказали, не возмутились, только благодушно замахали: «Ерунда, парни! Давайте еще по стопке!»
Потом поехали к Рудьке, там встретили Новый год и в клуб поехали уже очень «хорошие». В клубе грохотала вовсю музыка, надрывались, хрипя, колонки, и какой только парфюмерией ни пахло. Накрашенные глаза, яркие губы преображали женщин до полной неузнаваемости, одна Валентина сияла строго и сдержанно. Гошка, одетый в стальной костюм и оленьи унтайки, подошел, спросил: «Можно вас?» И она ответила вызывающе и бессильно одновременно: «Можно».
У нее были ошарашивающе голые руки, шея. В вырезе темной кофты виднелась ложбинка и на ее полном боку знакомая родинка, но больше всего манили глаза, родные, радостные и непредсказуемые. Тут вдруг ввалились мужики во главе с Фомой, все смешалось. Мужики звали с собой, Гошка, кивнув на Валентину, развел руками, и кто выпучил глаза, кто сделал какую другую понимающую рожу, а в общем, пожелали «ни пуха ни пера», обещали ждать до утра и, бакланя, увалили.
В клубе еще пили, и он крутил Валентину в танце, плел что-то бестолковое и веселое, потом наклонился к уху:
– Вальча, пойдешь ко мне?
– А шампанское будет? – прищурилась Валентина.
– Все будет, только обожди меня здесь полчасика, ага?» – И, одевшись, вышел к «бурану». В клуб ввалились с морозу накурившиеся мужики. Валя спросила их, где Гоша: «В Индыгино поехал, к Светке за шампанским».
Мороз уже валил к пятидесяти, и при свете звезд особенно светлыми и одушевленными казались яры коренного берега. Гошка мчался через протоку по каменной накатанной дороге, по метровой снежной полосе, рифлено иссеченной гусеницами. Ослепительно-бело сияя в луче фары, она неслась по капот, пел мотор и на душе тоже все пело – скинутым напряжением, седыми картинами таежных недель и Валькиными блестящими глазами. Неслись вешки – воткнутые талиновые ветки, в одном месте кто-то ступил в сторону и чернела в следах прибывающая вода. Вот кочка, на которой днем Славка подлетел, грохнув лыжей, вот место, где их скинуло, и уходит в сторону боковая грань дороги, утопая в воде, а вот и взвоз, и Индыгино.
У Светки вовсю горел свет. Гошка ввалился, думая быстро взять бутылку и рвануть назад, но не тут-то было. Его с криками «Гошенька! Моя хорошая! Нет и нет! Даже не думай! По стопочке, моя – не обижай! Штрафака ему!» раздели, усадили за стол. Женщины пили вино, а мужики – кто разведенный брусникой спирт, кто водку, а кто необыкновенно «дерзкую», по словам хозяина, самогонку. Гошку усадили у самой печи, в жаре он заклевал носом, но выпил несколько увесистых стопарей самогонки, поковырял салат и засобирался: надо было дергать – пока «буран» не замерз, хотелось вскочить за руль, выбить хмель морозным ветром, чтоб осталось силы и на Вальку, и на товарищей. Его не пускали, несколько раз повторялся «посошок», Гошка решительно поднимался, его усаживали, прятали рукавицы, но в конце концов он вырвался, чувствуя, что иначе рухнет. Шампанское сунул под сиденье. Завел, резво понесся под гору, но если по пути сюда он был в каком-то опьяняющем единстве со своим снегоходом, то теперь появилось ватное запаздывание в рулеже, и перед глазами все сильнее смазывалась и разъезжалась белая стрела дороги. Он злился, досадовал на себя, на неуклюжий руль и еще наддал, чтобы наполниться холодом, выдуть постылую тяжесть. Об испорченном участке он вспомнил, оказавшись в метре. На скорости шестьдесят километров в час его понесло по Славкиному скосу.
Чавкая унтайками в парящем месиве, шатаясь, потирая ушибленную ногу, он с пятой попытки перевернул «буран» «на ноги», завел, стал с досады газовать, сжег лампочку от фары, пытался раскачать «буран», вымок, выдохся до полного изнеможения и, дыша, как паровоз, присел на сиденье. Он был в таком состоянии, что дойти пешком казалось непосильным делом, и в помутившейся голове упрямо стояло: «вытащить “буран” и все-таки домчаться победителем». Голова клонилась, и как раз в этот момент навалилась, догнала «дерзкая» самогонка, и он сладко закимарил и замерз бы насмерть, если бы минут через десять навстречу ему со стороны Захребетного не замелькала фара.
Валька, почуяв неладное, заметив с улицы резко погасший посреди протоки свет, попыталась сгоношить остатки мужиков в клубе, но те, уже лыка не вязали и бормотали: «Кто? Гошка? Гошку хрен победишь! Утухни, женщина!» Плюнув, она побежала до Генки, но там открыла недовольная заспанная жена: компания куда-то ушла. Рванула домой, кое-как завела «тундру», вылив на цилиндр полчайника кипятку, подцепила нарту и долго грела двигатель.
Неслась с горы, ледяной ветер врезался под фуфайку, а она летела, свежая, морозная, чуть дышащая перегарчиком. Остановившись возле Гошки, развернула за лыжи «тундру» и принялась, плача и матерясь, тормошить Гошку, кое-как перетащила его в нарту, не в такт шевелящегося и бубнящего. Через пять минут Гошка сидел, покачиваясь на лавке у себя дома, а Валька, некрасиво, как мужик, сморщившись, стягивала с него смерзшиеся унтайки, растирала побелевшие пальцы, а он бормотал: «Фомка, хрен ты угадал… Чтоб вот так вот… и в нарту, как кулек»…
Наутро гремел под окном Фомкин «буран», Гоша лицом вперед сидел на коленях в санях и, наклонясь туловищем, ждал рывка, пока Фома возился с газом, включая скорость, – они собрались за «бураном». Фома все включал скорость, но не удавалось уменьшить газ, и та не включалась, только шестеренка трещала, как расческа, и Гошка сидел, напряженно и неестественно наклонившись вперед, и вся картина застыла, будто поддавшись какому-то морозному наваждению, и Валентине вдруг на секунду захотелось, чтобы все и по правде замерло навсегда, чтоб Фома возился с газом, Гошка ждал рывка саней, а она ждала их через полчаса обратно – с водкой и шаньгами на столе, со счастьем и покоем в глазах.
В обед, когда сидели втроем за столом, Гошка вдруг замер, выставив ухо: «Котя орет!» – Поставил стопку и рванул к двери.
Ночью лежали накормленные собаки в будках, лодка темнела кверху дном у ограды, оббитый об кедрины «буранишко» с измочаленными в наледях гусеницами стоял, как брат, укрытый брезентом. Котя, угнездившись в ногах, тарахтел смешным кошачьим дизельком, и ровно дышала, положив голову на Гошину грудь, Валя, и сам Гоша спал спокойно и счастливо, потому что все, без чего нельзя жить, было наконец подтянуто к дому.
Очерки разных лет
Пешком по лестнице
1
На вид он оказался старше, чем я представлял, чем знал по фотографиям и телевизионным передачам. И как-то крепче, шире, ниже. Лицо было сильно испещрено морщинами, но больше всего запомнился больной слезящийся глаз, в котором стояла влага, и он от этого казался неподвижным. Весь облик его был сбитым, характерным, узнаваемым. И в лице еще сильнее сквозило что-то народное, знакомое, будто эти черты тысячи раз встречались в лицах случайных попутчиков в самых дальних поездах и на затрапезных вокзалах. Народной была и его речь, но если когда-то давным-давно по радио ее грубоватая эпичность казалось нарочитой, то теперь, когда я сам прожил столько лет за Уралом, она казалась настолько близкой и понятной, словно в ней была зашифрована вся моя сибирская жизнь. Тембр голоса, то, как по-красноярски произносит он слова, – все это напоминало речь капитанов с пароходов, тепловозных машинистов, охотников, трактористов, а облик этих людей мешался с его собственным обликом и обликом его героев и отливался в одно-единое крепкое ощущение. Одет был Виктор Петрович в брюки и какую-то, кажется, зеленую кофту, отчего имел особенно домашний вид.
Встретились мы с Виктором Петровичем на Астафьевских чтениях в Овсянке, куда я приехал прямо из Бахты. Добирался сначала на теплоходе, ползущем по осеннему дождливому Енисею, а в Енисейске ночевал в холодющей гостинице под тремя одеялами, потом трясся целый день на автобусе в Красноярск, потом на электричке до Овсянки. В буквальном смысле с корабля я попал на бал. С дороги знаменитая овсянковская библиотека показалась прекрасным замком. Сама Овсянка, по астафьевским рассказам о детстве, представлялась тихой деревней, притаившейся меж тайгой и рекой, а теперь выглядела размашисто и разномастно застроенным поселком, прилепившимся к трассе.
На втором этаже замка-библиотеки в специальной гостевой зале уже заседал Виктор Петрович с небольшой компанией. Меня проводили, представили, усадили за стол, Астафьев велел налить чуть не стакан водки (как охотнику), весело объяснив окружающим: «Он тут охотничат у нас». Мне, голодному с дороги, и водка и закуски были лучшей наградой.
На Чтениях Астафьев был вечно окружен толпой, и к нему было не пробиться. Помню, сказал он, что «если честно – на Чтениях мы мировых проблем с вами не решим, но главное, что вы все можете друг с другом попить водки и пообщаться». Так оно и вышло. Сам Петрович, как его звали в Красноярском окружении, особо не пил, уже здоровье не позволяло, и главным было просто продержаться на встречах. Еще запомнилось, что при общем (несмотря на неважное здоровье) веселом и балагурском настрое Астафьева, когда надо было сказать что-то ответственное с трибуны залу, он говорил точнейшими и краткими словами. Предложил послать телеграмму от всех участников встреч в Овсянке Василю Быкову, находящемуся на чужбине – так «мы его маленько поддержим».
2
Потом, в начале зимы, с красноярской журналисткой Натальей Сангаждиевой мы посещали Виктора Петровича в Академгородке. Поразила квартира (сделанная из объединенных двух) в пятиэтажке без лифта. Я представил, как Виктор Петрович поднимается пешком по этой лестнице к себе наверх, и еще представил расселенных по шикарным писательским домам и дачам маститых столичных литераторов, и вскипело раздражение, обида: «Жиреете, гады, по дачам да пен-клубам… На лифтах ездите, а он пешечком, а вы его и мизинца не стоите, ни по-человечьи, ни в литературе».
– Проходите, ребята, – отворил дверь Виктор Петрович, – а это че за поклажа? Неси ее тоже, – сказал он про авоську с рукописью книги, которую я поставил было в прихожей.
В гостиной стоял огромный светлого полированного дерева стол для гостей и рядом рабочий стол – тоже большой, с каким-то зеленым сукном, все чуть старомодное, с размахом сделанное и какое-то классически-писательское. Именно так я представлял в детстве писательские апартаменты.
До этого я видел его только на людях, а тут в разговоре он поразил какой-то необыкновенно человеческой интонацией, понятными и близкими чувствами. Он рассказал про всякие официальные встречи, мероприятия, где его просят присутствовать, даже подарки дарят (по обязанности, а не от души), и как стыдно – так вот сидеть, исполнять значительную роль. Он потер голову, под седой чуб подлезая ладонью, и, морщась и краснея, выдавил: «Сты-ыдно…» И так верилось тому «сты-ыдно», казалось, что неловко этому видавшему виды человеку не только за один случай, а за все, творящееся на Земле.
Потом подивился, как запросто кто-то говорит, мол, мы, писатели: «А я и сам-то себя писателем с трудом называю – неловко», и я подумал, что сам так же чувствую и думаю – до чего родная мысль!
Шел ноябрь и Виктор Петрович спросил, почему я не на охоте. Я ответил, что приболел, а он спросил-предложил:
– А нельзя как-нибудь потихонечку?
– А как потихонечку-то? Лежит бревно – его надо или поднять совсем или уж не трогать, или собаки хрен знает где соболя загнали – разве не побежишь?
– Да, конечно, нельзя потихонечку… – И по тому, как он снова сморщился, было видно, что знает он все это прекрасно, что за секунду проиграл в голове и это бревно, и тайгу, и человека с уходящими силами, и снова поверилось и в его слова, и в интонацию какого-то последнего понимания жизни, ее сложности, невозможности одолеть нахрапом.
Потом спросил: «Как дальше жить собираешься? Все в Бахте?» И сказал, что надо перебираться ближе, в город – если литературой заниматься. Рассказал о своей жизни, как и где он жил: на Урале, потом в Вологде, а потом сюда вернулся, на родину. Как дом этот купили. Еще речь зашла о том, как к Сибири прикипаешь, и он согласился, вот, говорит, люди пишут об этом, уехавшие в другие концы России. Я сказал, что, когда Енисей начинаешь сравнивать с другими местами, они проигрывают, и Виктор Петрович согласился: Урал вроде похож на наши места, тоже вроде тайга, горы, вода, а не то – другое.
А я думал про Бахту, что, когда уезжаешь, кажется будто предаешь что-то важное, и вдруг Виктор Петрович сказал, что, когда зимой проезжает Овсянку по дороге в Дивногорск, видит свой дом и чувствует, как будто предал что-то.
Напоследок Петрович побалагурил. Рассказал, как был в окрестностях поселка Бор в Туруханском районе на Енисее, где у него живет игарский однокашник. Друзья его отвезли в Щеки – знаменитое и очень красивое место, – оставили рыбачить, а сами отъехали. Стоит Петрович с удочкой, вдруг лодка, в ней мужичишко зачуханный. Глядит подозрительно, странно смотреть ему на эту удочку – место здесь осетровое, и непонятно, то ли правда с удочкой рыбачок, то ли нечисто дело, рыбнадзор замаскированный. Разговорились.
– Астафьев! Да ты че! Да не может быть! Врешь! Скажи: «… буду!»
– … буду.
– Ну ладно тогда.
И мужичок достает из бардачка «Царь-рыбу», рваную, замусоленную, мокрую:
– Подписывай!
А потом Виктор Петрович ехал на рыбнадзорском катере, и у капитана тоже была «Царь-рыба» и он ее тоже подписал.
– Поэтому я могу сказать, что мою книгу читает весь речной народ – от самых отпетых браконьеров до рыбнадзорских начальников! – весело подытожил Виктор Петрович.
Рукопись книги Виктор Петрович оставил у себя, мол, может, придумает что-нибудь, и сказал Наталье:
– Ты здесь все ходы и выходы знаешь. Помоги ему, Наташа, а то так и будет всю жизнь с этой авоськой ходить.
3
На Чтениях екатеринбургский художник Михаил Сажаев все крутил диктофон с записями знаменитого Петровичевого балагурства. Астафьев что-то лепил про Овсянку, как мимо нее весной несет по Енисею всякий хлам, «тарелки несет, холодильники, машины, бляха муха»… Говорил со своими интонациями, с непечатными добавками, и байка воспринималась тогда как просто хохма, а потом, когда вдумался – оказалось, что за смехом этим стоит и горечь, и боль о загаженном Енисее, природе, вообще всей нашей планете. Переживал он, говорил и писал о захоронении радиоактивных отходов под Енисеем, о испоганенной тайге, о том, что человек – самое вредное животное: пока все не изгадит, не срубит сук на котором сидит, не успокоится. Говорил всегда беспощадно, как есть, ширью своей не помещался ни в какие ни круги, ни партии, лепил напропалую, что думал, болея и переживая, но никогда не ненавидя.
* * *
Вокруг Виктора Петровича вращалось огромное число людей. Были друзья, были лжедрузья, но каждый считал, что именно с ним у Астафьева самая особая и самая близкая дружба. Каждый хотел внимания, каждый чего-то требовал. Один парень вошел к Виктору Петровичу, когда тот смотрел футбол. Он решительно подошел, выключил телевизор и сказал:
– Виктор Петрович! Немедленно садитесь работать! Россия ждет вашего слова!
Помогал он бесчисленному количеству людей, постоянно читал какие-то рукописи, подчас графоманские, поддерживал начинающих.
4
«Царь-рыбу» читал студентом как раз перед первой экспедицией на Енисей. У городских экспедиционников «Царь-рыба» была настольной книгой, чуть ли не Библией, как в свое время у геологов куваевская «Территория». Астафьеву писали письма, благодарили. Местные охотники из читающих тоже преклонялись, а мужики попроще критиковали, нагоняли скептицизм. «Хе-хе! “Я сел на куст шиповника” – посмотрел бы я на тебя!» Каждому хотелось выпятиться как таежнику, поучить писателя, но бок о бок с этими амбициями жила и великая гордость за своего земляка. Многие были твердо уверены, что Астафьев живет где-то рядом в енисейском поселке. Помню, зашел в компании охотников разговор о «Царь-рыбе», и один мужик, который всегда все путал и перевирал, заорал:
– Астахов! Я знаю! Знаю! Он в Ярцеве живет!
Один мой друг все читал в журнале дурацкую повесть, про то, как мужики разводят в тайге в клетках соболей и летают туда тайком на оставшемся с войны самолете. Я сказал: «Пашка, ты че всякую ерунду читаешь? Взял бы “Царь-рыбу”!» А Пашка ответил:
– Да ну! Там неправильно написано! Не было в Ярцеве никакого Командора – специально мужиков спрашивал!
Но главная претензия была про рыбалку на самоловах – поскольку все были самоловщики, природоохранный пафос рассказов не разделялся. Говорили, что перегнул палку, что не бывает столько снулых (подлежащих выкидыванию) стерлядок, если вовремя «смотреть» самолов, все хорошо будет. Задевало, что не воспевает автор браконьерскую жизнь, а судит ее. Но это все давно было, после выхода книги, а с той поры уже и мужики пообтрепались и как-то привыкли, что Астафьев – классик, и теперь в голову не придут никому такие разговоры. Наоборот, всегда говорят, мол, Астафьева по телевизору видел, горько говорил, но хорошо.
Недавно зашел ко мне подвыпивший мой друг – начальник метеостанции, и рассказал, что в тайге, в избушке, долго думал о том, как снять бы нам фильм по «Царь-рыбе» и как сыграл бы он тогда в этом фильме Акимку. «Ведь Акимка – это я!» – почти выкрикнул Валерка, и в глазах его блеснули слезы.
* * *
Еще встречались с Виктором Петровичем на юбилее литературного музея. Играл Свиридова известнеший красноярский скрипач в сопровождении парня-гитариста. Когда Виктор Петрович вошел, скрипач сделал шаг вперед и, глядя на него, с силой и радостью заиграл Свиридова, а Виктор Петрович, обернувшись к присутствующим, торжествующе улыбнулся и громко сказал: «Музыка пошла!»
Потом в перерыве Виктор Петрович сразу давай говорить про мою «Ложку супа»:
– Густо, крепко (написано, он имел ввиду), но пьют ведь у тебя всю дорогу, и если книжка вся из таких рассказов, то каково читателю, когда одна водка-то? У меня в «Царь-рыбе» тоже пьют, но со смыслом.
– Но это же правда все чистейшая про моего соседа, что пьет он.
– Мало что в жизни правда, в книге своя правда должна быть.
– Но ведь Енисей его спасает в конце! – продолжал отстаивать я рассказ, а Виктор Петрович сказал, что, если б не спасал, тогда совсем бы грустно было: вот концовка все и спасает.
И добавил, что про тугуна можно было и поподробней, потому что не только городские, а и на Енисее-то не все «эту рыбку» знают. Рассказал, как в Енисейске угощали, а тугун соленый был, несвежий, и не знали гости, какой он свежий, как «хрустит на зубах»:
– Напиши про тугуна!
И это его «надо написать поподробней», «не все еще эту рыбку знают» обожгло чем-то старомодным, писательски-просветительским, каким-то таким замешанным на чувстве долга отношением к своему делу, чем-то таким, что уже давно не в ходу. И снова вспомнились «Затеси», работу над которыми он не прекращал всю жизнь, и слова про пьянку в моей повести – что надо о читателе подумать.
Потом Виктор Петрович показывал музей, с радостью, с гордостью – ведь могут у нас все сделать не хуже, чем где-то там, за границей. Рассказал о том, как дом ведь этот сначала хотели городские власти ему подарить, он: «Да вы че?»
* * *
Тем временем, с подачи Виктора Петровича, заварилось дело с книгой, для которой он вроде бы даже согласился написать предисловие – такой он был отзывчивый и ответственный человек. Рукопись я отдал в Управление культуры, и уже зашел разговор о типографии, но потом хорошего того человека, который всем занимался, сместили с должности.
Потом стала готовиться книга в Москве, весной я рассказал о ней Астафьеву по телефону, он ответил что-то обнадеживающее, а потом заболел, и кроме беспокойства за его жизнь (почему-то была твердая уверенность, что он выкарабкается), была мечта прислать ему книгу, где в конце последнего рассказа был отрывок про тугунов, и все вспоминалось его: «Это че за поклажа?» и «будет всю жизнь с авоськой ходить». Осенью вышла книга, а Виктор Петрович умер, так и не прочитав про тугунов, мелкую и серебристую сиговую рыбешку, свеже пахнущую огурцом.
Озерное чудо
О прозе Анатолия Байбородина
1
Огромная земля русская требует летописи, свидетельства, а главное, любви, выраженной в сокровенном слове, где драгоценность – не тот или иной факт бытия, а вклад человечьей души, ее раскрытие в жертвенной тяге к родному. Велико и недосягаемо святоотеческое наследие, но сейчас поведем речь о литературе земной, светской, тихим подмастерьем глядящее на заоблачные белки́ духовного слова.
Теплая и благодатная Русская равнина многоголосно и соборно выговорилась голосами девятнадцатого века. Орловские, тульские, воронежские земли так напитали даль голосами Лескова, Толстого, Бунина, такой густоты настой оставили в осенней воде дворянской литературы, что, когда приезжаешь, сквозь будничный пропыленный облик с трудом узнаешь черты, выведенные когда-то по юной душе алмазным будто резцом.
Странным островом проплыл Санкт-Петербург, явив непостижимые образы Гоголя и Достоевского, сколь призрачные, столь зримые и великие. А Волга… Дон… Да каждая водная жила, каждая губерния Средней России так выражена в исповедном слове, что кажется, ни к чему и браться за перо – все уже сказано… А главное, задана планка.
Но как разговорилась в двадцатом веке Вологодчина! С какой силой крестьянское слово прямой речью земли влилось в реку литературы и стало ее фарватером, стрежью, быстерью.
К Востоку слабеют наслоения слова, и не столь тощеватей литературные грунты, сколь меньше городов и гуще леса. Просторней дышится сочинителю, уже не толкающему локтем собрата, не чующего под боком ревнивого дыхания. Щедро дарит Россия-матушка ношу отвечать за край или область, как Аксаков и Даль за Оренбуржье, как Бажов за Урал.
А дальше за Камень?..
Чем реже человечьи скопления, чем безмерней, болотистей и солоней версты – тем дороже тепло очага, человечья близость. Пласты земной плоти отмежеваны речными телами, будто в послабление душе, в пощаду, чтоб удалось хоть как-то уложить-оприходовать простор… Иртыш с Тоболом, Обь с Катунью и Бией… Солончаки, степи, тайги… А к Востоку за Батькой-Енисеем и вовсе мерзлотный камень, скупой и суровый кряж восстает в щетине тайги и так и тянется волнистым громожденьем до края света…
И огромными материками простираются духовные миры, Ухожья, как зовут ангарцы охотугодья. У каждого свой хранитель, свое отражение, своя пресветлая тень на литературном небосводе. Купол шукшинской души, как незримый оберег над Алтаем… А за ним сердце России, невообразимый пласт Енисейской земли, почти четыре тысячи дымных горных верст от монгольской границы до Диксона… И ее то светлая, то горестная сень в причудливом дышащем слове – Виктор Петрович Астафьев… И наконец Байкал с бирюзовой Ангарой – ухожья того, чей промысел только высвободился от земных путей и путиков, оставил незатянутый шов, то и дело стреляющий в сиротеющих душах.
Велика Сибирь, а березовые околки рассказов, кедрачи повестей все как-то по югу лепятся. Где пообжитей. Север с жемчужными Путоранами Астафьевым обживался вскользь, но зато бригадно и честно осваивался норильскими писателями. И Эвенкия не смолчала, выплатила литературный ясак народным словом тунгуса́ Алитета Немтушкина.
Но это Север… А великая почвенная литература все-таки вызрела на более южных трактовых землях, где за четыреста лет укоренилось русское крестьянство, протянулось жилами поморской речи, казачьих песен, сказов. Крепко отстроилось стайками, заплотами, избами с наличниками, среди которых есть домищи, рубленные с кедрин, распущенных повдоль. Глядишь на них, и кажется, торцы углов набраны из полумесяцев, лунных доль. Так, бревно к бревну устаивался вековечный уклад, боль за который и стала темой нашей почвенной литературы.
В подтверждение обратим взор на восточные рубежи, на берег Тихого океана. Здесь не так долго живут русичи, как в коренной Сибири, поэтому не нажила еще Россия крестьянского наземного слоя, пойменного, парного, где взрос бы в один Богу известный день ли, век чуткий к книжной мудрости мальчишка. Поэтому классики тут отметились по большей части экспедиционно: Пришвин, Чехов, Павел Васильев, или революционно, как Фадеев. Да Рытхэу, уехавший с Чукотки в Ленинград, и геолог Куваев. И наш современник Кузнецов-Тулянин, забивший пограничный столб, геополитический репер в скалистый Кунашир.
И только верный месту, как пристойный зверь, неповторимый Владимир Клавдиевич в своей первопроходческой литературе так и остался бессменным символом-хранителем Приморья.
Читатель, пытко следящий над нашим подоблачным летом, уже спохватился:
– Ясно: Хабаровский край, Приморье, Сахалин… Но, други, а где же Забайкалье и Амурская область?! Где пролеты Верхнеудинск – Чита – Хабаровск? Как пропустили мы две тысячи семьсот шестьдесят три родных километра, самых немыслимых по красоте, суровости, завораживающей силе? Миновали заезжие дворы, не утолили дорожный глад в позных харчевнях, не оглядели долину Селенги с Омулевой горы?
И впрямь кажется, будто перо наших классиков, омакнувшись в байкальской священной синеве, настолько напиталось силою и увеличивало нарыск и размах строки, что чудно отброшенное к Тихому океану застыло в недоумении: отчего для стольких пропущенных непостижимых территорий не хватило чернил?
Забайкалье, самая малоизвестная и малонаселенная окраина России, и в слове меньше всего представлено в литературной карте. Конечно, навсегда остались и Черкасов, и Вишняков, и другие замечательные писатели, подвижники и хранители родного края, но, как ни крути, такой плотности великих имен, как в более западных улусах, здесь не найти…
А напрасно, потому что слишком уж мало знает читающий люд густонаселенного запада России о забайкальских краях. И многие москвичи или воронежцы слабо себе представляют не только Хилок, Чикой, Могочу и Магдагачи, а и не всегда знают, что лежит восточнее: Улан-Удэ или Чита и что до революции Улан-Удэ звался Верхнеудинском, будучи городищем русских порубежных казаков.
А полюбить бы русским всей православной душой труднейшие эти версты, лишь недавно сшитые друг с другом асфальтом, эти сопки, поросшие чахлым и неожиданным для Восточной Сибири соснячком, степи и в марте ярко желтеющие сквозь скудный снежок приземистые избы, отвесные струйки дыма, меловые увалы в рельефных ребрах…
Если бы вы знали, что это за земля и какие люди здесь живут! Что такое семейские староверы, попавшие сюда аж при Екатерине! Что такое степь с бурятскими чабанами, рыжие лохматые коровенки, возлежащие на федеральной трассе М-58, меж которыми пробираются со стороны восхода пыльные праворучицы с загорелыми перегонами за баранками. И встают в Тарбагатае в заезжем дворе «У семейских», где хозяйка все никак не утихомирит гавкого кобелька Мишку, и под утро не дающего спать путникам.
«Где ж та деревня?» – Далеко, Имя ей «Тарбагатай», Страшная глушь, за Байкалом… Так-то, голубчик ты мой —так заглазно воспел этот поселок Некрасов в поэме «Дедушка».
– …Так постепенно в полвека Вырос огромный посад — Воля и труд человека Дивные дивы творят!..Воистину дивные… Земля, завораживающая путника, очарованно пропускающего сквозь душу гривы сопок с соснячком и листвяжком, борт склона, что скально ощерился на трассу, разлом реки с шиверами и порогами, степи, утягивающие взгляд нераскрывной своею тайной, озера, стеклянно замирающие в морозную ночь. Гулко, раскатно и стонко гукающие свежим льдом, пронзаясь стрелами серебряных трещин. Трудная земля, требующая служения. Трудные жизни, воистину – судьбы, проколевшие, выбыгавшие на морозе, выдутые ветрами, выжженные солнцем, правые трудовой правотой, многовековой крепостью… Как они требуют любви! Да вот кто бы выразил! Кто бы возлюбил эту землю в слове, как Астафьев Енисей?!
Уже разорили хозяйство, позакрывали заводы, посокращали армию, оголя границу в и без того трудном округе… Только Транссиб ниткой связывает и держит поселки, и вечный гуд поездов мешается с летним шумом ветра в листве… Не то поезд шумит, не то дерева мнутся, мятутся о тайне этой земли и трудовом ее человеке…
Плохо спится на многоснежном Енисее, когда знаешь, как зябко забайкальской земле под тонким снежком, как зыбко ей под губительским нерадением… Да и самому Батюшке-Анисею не заспать заботу: то Ангара нашепчет, принесет последний сказ с Байкала, где вода упала, да так, как и старики не упомнят, то селенгинская водица выплетется из многоструйного речного тулова, расскажет, как по берегам восточного братца, Амазара, китайцы лес пластают…
Ау, даль!!! Слышишь, как ворочается Батюшка-Анисей? Как стре́лил двухметровым льдом, катанул морозное эхо к Тихому океану. Вот и мой крик прибился к нему. Уцепился за зудкий полоз… Отзовись! Есть кто дозорный по Забайкалью?! Есть кому укрыть оберегом теплого слова степь, дрожащую от стужи, озера с тихим зеленым льдом и сонными чебачками? Не молчи, а то не заснуть на Енисее, так базлает постылый Мишка в Тарбагатае (даром что тезка, от язви его!) – что рвется душа за недогретую и не опетую забайкальскую землю!! Отзовись, смелый человек с болеющей и чуткой душой!
Слышу сквозь ночь, сквозь свист ветра, сквозь хлест снега о «салафановое» окно зимовья:
«– Не волнуйся, Анисей-Батюшко! Не бойся, брат Михайло! Есть кому отстоять Забайкалье, обогреть степную, еле припорошенную твердь, спасти чудо озер от лютого проколения! Уберечь русскую душу от вражьей осады. Сохранить заповедный русский язык, его дальний сквозьвековой строй, сказовый дых».
Антолий Байбородин…
Вот ведь к каким ухищрениям пришлось прибегнуть, чтобы утаить его, давно известного, замаскировать до поры и открыть в долгожданную и теплую минуту! Все громче его далекий голос, и уже крепко на душе, ближе Забайкалье и сильно на сердце, которое знает, что не урвется от расстояний… И тем веселей загудит топор и пешня в руках, чем тверже приляжется к ним книга «Озерное чудо».
2
Открывает книгу особенно дорогая не только читателю, но и самому автору повесть «Утоли мои печали». Она, как и многие произведения Байбородина, строится на личном, на истории детства, которое сколь и единственно, столь и бесконечно и, расплетаясь на жилы, подробно и многоствольно прорастает через всю толщу творчества. Истинный писатель всегда пишет одну книгу, одну судьбу, как бы ни рядил ее для отвода глаз в одежи разных сюжетов, различных героев. И всегда корень, ключ – чуткий человек с огромным, разверстым и потому навеки раненым сердцем. И очаг, родник боли в детстве, голодном до душевного тепла не менее, чем до хлебной корки, трудном, трудовом, но чистым духом. «Керосинка с протертой до незримости стеколкой» – образ точнейший и очень хорошо отражающий суть того, о чем пишет писатель. Да и вообще сибирской жизни, в которой богоданная и бьющая в очи красота природы вопиюще закопчена несовершенством человечьего существования. И противоречье это падуном-водопадом режет израненную душу мальчонки с такой знакомой силой, что уже перекликается с житием маленького Витьки из книги Астафьева «Последний поклон» и с той же знаковой для русской литературы исповедальностью, горечью, благодарностью освещает пронзительный финал этого откровения.
В повести «Утоли мои печали» Байбородин не снисходит до времени и его явных примет, услужливых и навязчивых, как у верхоплавных литераторов, заостренных на заигрыш с читателем. Нет… Конечно, вехи стоят на этой продутой поземками степной дороге, но только самые важные, без которых не понять героев. Которые как обвал, разлом… Как те «кровавые антихристовые времена», свалившиеся на «русские головы», когда «фармазоны порушили волостной храм, а заодно и сельские церквушки». Но главное дальше – главное в том, что мать вопреки всему сохранила: «ночные и зоревые молитвы да образы от тятеньки и маменьки» и самую заветную «в позеленевшем медном окладе» – икону Божьей Матери «Утоли моя печали».
И все как всегда на Руси: конь, земля, отец, мать, молитва, земля… Монолитное русское время, сплетенное из накрепко сплавленных проводов… Вот отец-фронтовик, едва не утонув во вздувшейся от дождей реке и отмечая возвращение домой из затянувшегося похода в село, открывает гуд с непотребным сродником Гошкой и заводит боевую песню, под «мясное хлебово», дымящееся на костре… А мать, прождавшая, казалось, вечность, только задумчиво произносит: «Вот и прошло Вербное воскресение»… Две жизни, две дороги… Так текут в сизом небе прозрачные облачные гряды, проходя друг в друга, скользя бок о бок, не разделяясь и не сливаясь воедино.
Повесть написана как житие, как попытка осознания судьбы главного героя Ивана, простертой три поколения. И требующая выявления главных смыслов, путеводных створов, ведущих героя… В повести несколько главных героев, они, как созвездия, как духовные сущности, проходя через которые с великими потерями, Иван, напитывается невыносимой тягой понять: а зачем в этой вьюжной жизни угружает его Господь Бог такой неподъемной поклажей? Вот они все: мать, брат Илья, отец, дочка и сам герой, который в последней части повествования крепче берет поводья и правит сам в себя, в свою память и, уже не различая границ между близкими, насыщаясь их смыслами, становится чрез это человеком.
Мать, самая пресветлая, пресвятая ипостась, самая сокровенная составляющая духовного мира Ивана. Плоть от плоти русская женщина – страдалица и хранительница. Ее и обсуждать-то грешно, неловко. Только в ноженьки поклониться…
Старший брат Илья. Пахарь, загульщик, песельник… Живое без прикрас человеческое существо. «Уродившись характером широкий, как Сибирь», сильный и бедовый, не умеющий жалеть себя и живущий безо всякого расчета, оглядки. И, как многие сибиряки, подвластный тяге простора, дороги, той самой магии пространства, чужедальней стороны, которая и вовлекала русских первопроходцев в годы походов. «Гонял скот то в Читу за триста верст, то из Монголии, так что Фая вдовела при живом муже». И требующий от жены такой же душевной шири… И не пожелавший перебираться в город, куда жена стремится в поисках комфорта и «порядка». И потерявший жену, а потом и пожалевший и запоздало согласный, что надо было держать удаль, не давать размаху, шату, потому что так все и разлетится-развеется бравой песней по степи… И будешь потом с покаянной виной и тщетным поклоном жалеть: «не зла желала, к порядку приваживала»…
И вроде сошелся после с другой женщиной, да так… уже без особой надежды на крепкое и дружное житье… А душа требует шири, объему, и неспроста песня так много значит для Ильи, ведь сердце, чуткое к песне, и о земле ведает главное. И ведение это так обнажает душу, так отнимает у материального, что навсегда лишает чувства опасности, пощады к себе, и эта рвущаяся вовне душа в какой-то момент не в силах уберечь защитную свою кожурку… Таким и полетней, и провальней, и труднее всех. Вспомним певца из Турочака Василия Вялкова, погибшего в вертолетной аварии.
А Илью сбросил необъезжанный конь.
Рассказ о брате вроде бы вступительный, и думаешь, что Илья просто первый из череды героев, а потом оказывается, что его история и есть одна из главных: потеря Ваней старшего брата. Илья был мальчику ближе ближнего: родители жили на отшибе, отец служил лесником на удинском кордоне. И их с сестренкой отдали в семью Ильи, в село, где была школа.
Отец такой же и трудовой, и трудный. То упрямый, то черствый, то загульный. Неизбывный узел боли для матери. И маленький Ваня, как на юру, меж ними. У матери забота ближняя: от надсады, простуды защитить, накормить-обогреть, от стыди жизненной оберечь. А у бати – втянуть в мужицкое, трудовое, помошницкое… И мальчонка в вечном разлете меж матерью и отцом. А так охота с батей за жердями для заплота поехать. А мама не пускает… А тут как раз сретенская оттепель долгожданная, первая, та, что после морозов, как велия милость.
«Среди череды морошных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядном мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребенчишка, сиротливо гнусавила в печной трубе, из жалости просилась в избяное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, – милостью Божией тихо опустилась с небес на исхлестанную, настрадавшуюся землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-теплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком, мягкими ладошками».
Как знакома эта брюхатость туч, похожих на косяк рыхлых каких-то рыбин! И то, что в оттепель размораживаются запахи, будто копясь, чтоб обрушиться на чуткую душу.
Мать сдается, и мальчишка отправляется. В пимах, напяленных на валенки – можно представить, насколько ему неуклюже! (Пимами в Восточной Сибири называют камусную обувь, навроде сапожек с матерчатыми голяшками. По сути, это обрезанные бокаря или торбоса. Их не надо путать с валенками-пимами, описанными Шукшиным, там другая история.)
Трясется лошаденка, свистит ветерок в сбруе, свистит полоз по насту… Талый снег уже подстыл на ветру – зима-то не отпускает… И вот то степь, то околочки леса… Березнячок, «там и сям желтеющий соснами, и копотно чернеющий кряжистыми лиственницами»… «Копотно» – очень по-байбородински сказано, да и листвяги у него всегда черные, контрастные, силуэтные, подчеркивающие голыми ветвями предвечный небесный свет…
И еще герои Байбородина поют. Поют песни, которые надо знать и любить. Тогда они сработают на обоюдную работу писателя и читателя. Тут как на неводе: писатель заметывает, а читатель до поры на берегу стоит с бережником, а как тот заметался, ткнулся в берег – тащить уже вдвоем надо… Русская проза тем сильна, что требует участия, читательской подмоги, совместного созидания, которое и тяжело поначалу, но зато так тебя переделает, что к концу в ноги поклонишься за трудовое это перерожденье. Это та же стройка. Тот же сруб. Художнику «в одново», без подмоги и не закатить бревно на самую высь – только вдвоем. Потому и славно, когда читатель участвует встречно, как и сейчас, и с той же любовью, что и автор, пропевает частушки, протягивает, прошептывает, прогоняет через себя жилы песен, как нити санного следа, как струи поземки… А без читательского участия они так и останутся отпечатанными куплетами.
Песня – она как живая вода, все заскорузлые части жизни омывает и воедино собирает… Или сказать наоборот: как связывающее раствор вещество, как гранитный отсев, – самый лучший для связки бетона. А стройка не кончается… И дорога тоже. Если она к свету…
Вот так и отец пел по дороге. Несмотря на все заскорузлости в отношениях с сыном… «Вытягивал песню по всему санному пути», и в этой песни среди степной дороги столько дорогого открывалось. Столько погруженного бессловно в самую глубь, в кости, в кровь, льющуюся то в эту землю, то в жилы потомков… Так тщится душа выразить невыразимое, невозможное, и так передается эта тщета песней – старинной ямщицкой, пушкинской дорожной, казачьей прощальной – песни, как знака сокровенного, пожизненного, родного…
Сколько таких Вань, Ген, Степ, пробираясь по сибирским дорогам на коне ли, на тракторе, КамАЗе, снегоходе, выискивая долгожданный огонек, напевали час за часом знакомый напев! В душе ли, в голос… И песня, даже будучи для кого-то отвлеченно-музыкальной и картинной, наполняясь жизненным, личным, открывалась в главной уже полноте, сливаясь с душой навеки…
Ванюшке чудилось, что песня сама «навевается из степи», что напевает ее «тихий ветер». Он видел «замершее отцовское лицо», «слезы, поблескивающие в глазницах, – вышибленные встречным ветром», и понимал, что поет ее все же отец». И вдруг «так ему стало жалко отца», что «проступили слезы»… Но «жалость не мучила», и внутри Ванюшки «что-то легчало, будто распахивался тугой ворот…». «И ветерок, казалось, протекал и сквозь него».
Так же пела мать, когда собирали голубицу.
На сбор голубицы особое внимание обрати, чуткий читатель! Она и вправду хороша, эта ягода редколесий, осенняя надежа соболя… «На загляденье крепкая, хрушкая, с нежно-сизоватом налетом на бочках, сквозь который до самой глуби призрачно высвечивает голубизна». И сопки в синем мареве… И усталость уже морит ребятишек. И «говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка березовой листвой шелестит песня…» А вот и ночь скоро опустится.
И вот она опустилась… Эта сибирская ночь, полная могучего дыхания пространства и тайны людей, близких и далеких… «Печально шумели в ночном ясном небе вершины древних сосен и лиственей; изредка в хребте лаяли полуночные гураны, стыло и отчужденно Млечный Путь, – гусиная тропа, по которой уплывали ребячьи ангельские души»… Так чувствовала это небо мама.
Поход за жердями чуть не обернулся гибелью для отца и сына, оттепель отыгралась пургой и путники сбились с дороги, совсем как в той песне.
Многое пережил Иван. Глядел, сдерживая ком, на мать, доживающую последние дни у сестры, вернувшись в село детства, стоял напротив своего дома, давно заселенного другими людьми… И вот уже и нет родителей, и дочка подросла, и общаясь с ней, приближаясь к ней и открывая ее взрослеющую душу, он вдруг начинает переживать, что в детстве не было у него близости с отцом… И как задувает в степи ветер, как завязывается у горизонта млечный морочок поземки, так и начинает прокладываться в душе сквозная родовая дорога, полная горечи, вопросов, надежды.
И его собственная душа все сильнее кажется ему слабой, чересчур отворенной для чужих воль, заезжим двором, куда заходят-заглядывают разные люди и где добро силится одолеть зло, да силенок не достает. И хотя в этой гостевой избе чужая душа не находит себе «улежистого места», но зато какое «крылистое чувство легкости» он испытывает, примерив это чужое, привнесенное, то, за что можно не отвечать. А дальше встает вопрос, а какая она вообще, его душа, какой была изначально и какой стала, чем заполнилась… И кажется Ивану, что больше в ней все-таки жалостливого, материнского, смиренного, чем жесткого, силового, нравного, отцова.
«Когда была уже докурена и погашена папироска, когда, страдальчески осветленный взглядом, уже невядяще смотрел сквозь клубящийся сырой морок, Иван вдруг, поразившись, испугавшись, ощутил себя своим отцом».
А потом, оставив Ивана отходить от потрясения, автор медленно переводит камеру на новый ракурс, приближая к предфиналу, в котором «плетутся на сморенной кобыленке сквозь снежный буран два одиноких человека, отец и сын, а степная метель, охлестывая ковыль на буераках и кочках, протяжно с подствистом и подвывом поет».
И снова выплывают из снежного морока отношения с дочерью Оксаной, которая то раздаст добро, то щенчишку бездомного в избу пустит… И с другого борта сквозистой души обида на отца восстает… Почему «пил да нас гонял?» И почему не разговаривал со мной так, как я сейчас говорю с дочей? И сам себе тут же отвечает Иван: да ведь нет, был отец и другим, и крепким, и хозяйственным… Нас же поднял ведь… Да и вообще, может, дело не в отце и не в дочери? А во мне самом?
Так копает и копает герой свое прошлое, свою душу и штык за штыком уходит все глубже и глубже в проколевшую твердь вековечных вопросов, где сквозь всю их неподъемность сверкнет вдруг самородная надежда, что мамина душа все-таки победит… осилит, одолеет закопченное стекло, протрет до кристальной чистоты уже близкое к итогу жизненное небо… Расчистит дорогу свету, что сеется нетленно и предвечно с ненаглядного сибирского небосклона…
Этот Христовый свет и освещает финал, пронзительный и абсолютно классический. Вот он «опять высветлил степную околицу, извилистый санный путь, через который струилась и струилась вечная поземка, завораживающая глаза, как речная течь». И вот – и русская дорога, и родовая повязь, трактовая связка: отец-сын-дочь, и песня ямщика… И близкие перевиваются настолько нераздельно, что уже не различить, где ушедший брат, где отец, а где дочь, «не отводящая глаз от шуршащей и вечно текущей поземки»… А степь не кончается, загибается плавно к небу, и чернеют на едва приметном изгибе меркнущие силуэты ездоков… Вот в общем-то и все.
Остается только назвать песню. «Степь да степь кругом».
3
Как вообще сейчас пишет народ? Вроде в среднем неплохо, много хватких авторов. Хотя общий уровень, как замечает в интервью Анатолий Байбородин – журналистский, очень много похожих по интонации, по манере книг. Оно так и есть. Основная часть современной литературы обезличена журналистским говорком-наречием, будто узаконенным и делающим авторов похожими друг на друга…
Забыт русский язык, не только во всем многообразии цвета, звука, сравнений и эпитетов, суффиксов, приставок и прочих возможностей… Забыт и всячески вытравливается язык как носитель национального, когда каждое слово, подобно сакральным буквам древнерусской азбуки, хранит миры, настолько дорогие русскому сердцу, что многие книги и не возьмешь за один присест – слишком силен взвар смыслов… Такова проза Лескова, Шмелева, Платонова, такова поэзия Клюева.
Я спросил Анатолия Григорьевича, как он относится к поэзии Николая Клюева. Вот что он ответил: «Клюев в слове слил воедино древнерусское языческое слово, северное сказовое, былинное и церковнославянское, слив в образах и эти миры; и по мудрости горней, по русскому образному слову превзошел всех поэтов, допрежь прославленных, и при жизни его, и по нынешнее время, да и грядущему не осилить. Он – воистину гений; но он уже закодированный, он как исследователь русского мира; а Есенин, скажем, превзошел его по ясной, истовой любви к Руси, к русскому простолюдину. Я, кстати, писал тебе раньше: Астафьев далеко обошел Шукшина по слову, но до его совести, до его сострадательной и восхитительной любви к русскому народу не взошел. Лишь Шукшина, в некой мере и Белова, можно повеличать совестью народной. Так я думаю».
Подобную заповедную территорию и созидает православный писатель Анатолий Байбородин, сливая в своей прозе все ипостаси русского мира. Созидает вопреки всему, и уже не обращая внимания на упреки в «орнаментализме» и прочих «великих преступлениях». Безусловна проза Байбородина и трудна своей завершенностью, той самой закодированностью, – не зря автор всю жизнь дорабатывает свои книги. А как по-другому, если оставляешь завещание, свой образ того, каким должен быть русский мир в прозе? И каково созидать этот мир, не отступая, выдерживая по всем осям, вертикалям и горизонтам, включая все соединения, пазы и шипы огромного этого дома? Ведь что есть изба без порога, матицы, печки? Что-то одно убери – и все рухнет… или просто не перезимуешь.
Языковое богатство Сибири Байбородин не только сохранил, но и приумножил, вплетя в полотно повествований язык пословиц и побасок, сказок и сказов. «Большую часть творческой жизни посвятил я очеркам и статьям, а так же составительским проектам, среди них “Русский месяцеслов. Народные обычаи, обряды, поверия, приметы, жития святых», который был издан изрядным для провинции и для времени тиражом…”, – пишет Анатолий Григорьевич. Да, конечно, чувствуется и эта пропитка: «На Благовещенье весна – молодица-медведица – переборола зиму-каргу; та весну стылым ветродуем, утренними заморозками пугает, а сама тает, капелями плачет»… или «На вербе пушок – весна на шесток, – улыбалась мать ребятишкам. – Зимушку пережили, слава Те Господи» (повесть «Утоли мои печали»).
Он и само словопроизводство обновил, прочистил от наносника заброшенные покосы, омолодил словострой, пройдя по старицам, взявшимся ряской и не соединенным протоками-ви́сками с основным руслом, уже сильно поуродованным и замусоренным. Так, соединяя воедино протоки и идя единым пластом, работает большая вода, неся ярко-белые лебедя́-льдины, мокрые искрящие на солнце выворотни, промытые до блеска мореные корни… Действительно, важно вернуть корневой основе слова полное сияние… Ведь иной раз смотришь, а осталось-то где по два-три лучика, где по одному… А где и вовсе померкло слово, угасло, как сосновый ствол на закате.
Взять словечко «копотно»: читатель привык «копченый», «копчено», а автор взял и изменил слову хвостовое оперенье, пустил в ту же сторонку, что и «хлопотно», и вот уже новое дыханье, новое оконце отворилось в привычной словесной основе.
Жаль горожан и особенно зауральцев, обделенных возможностью оценить изнутри сибирскую, а то и просто деревенскую жизнь. Слово проходит через их души, не раскрывшись, потому что ни с чем не связано. Например, слово «урос», «уросить», которое в Сибири значит «капризничать», «шалить» (на русском севере, скорее, «упрямиться», «упираться»). Пока не пообщаешься с этим словом в жизни, пока не обрастет оно воспоминаниями, не перевяжется с судьбами, так и останется оно «чем-то там сибирским» или хуже того – книжным. Но и это не беда: даже в незнании пытливое сердце найдет и прок, и урок: на свой лад допроявит картину, образ ли, слово.
«Как-то он умеет выстроить текст так, что у него каждое предложение заключено само в себе и словно бы одето в скорлупку, это, может быть, похоже на кедровый орешек» – пишет о Байбородине Татьяна Соколова скорее с упреком, чем в похвалу, несмотря на сравнение с кедровым орешком.
Байбородин пишет, как считает нужным, а не «как выходит». Законченность и густота его глубоко осознанная. Как может понять читатель из его статей и интервью, он мастер, а значит, может работать по-разному, может даже «если че» завернуть и диалог на британском (рассказ «Дворник»). Манера выбрана сознательно, выстрадана, и следует не ее обсуждать, а думать о том, почему он избрал именно такой путь. И что защищает и оберегает он своими книгами.
А так… Набросал бы пару конъюнктурных романов про шаманов, наплел какую-нибудь псевдоэтническую бадягу про древних бурятских богатырей, оживших на мостах Верхнеудинска, на которые так падки целлулоидовые читатели, не ведающие жизни Родины – и давно бы красовался на полках книжных «маркетов».
Вычитал, в критике, что Байбородин, дескать, «переперчивает свои произведения сибирскими выражениями»… Будто язык не содержание, не смысл, не мера объема для хранения дорогого, а приправа. При том, что большая часть нашей страны – Сибирь, пусть менее населенная, чем Зауралье, но зато с особой значимостью, выпуклостью каждого поселения, будь то зимовье или региональный центр. И именно Сибирь нынче заповедник русского, именно сюда, следуя выражению моего знакомого старообрядца, не добралась еще мировая «скверна». И сибирское слово – это сегодня самое незамутненное русское слово, и сказать, что им «переперчили», все равно что сказать: переперчили родным, спасительным, русским… «Уподобляемся иностранцам», – сказал бы Шукшин с интонацией Егора Прокудина: «Опускаюсь все ниже и ниже»…
А ведь такая возможность окунуться в стихию языковых образов, тем более человеку городскому, книжному, которому многое знакомо хотя бы по Далю.
Сталкивался порой с отношением жителя Средней России к Сибири, как к чему-то далекому и отдельному. Все мы понимаем, насколько это опасно и чем грозит… Примечательно, что для сибиряка Россия – это единая земля, нужная и родная. И выходит, что с востока, с хребта видать все до Балтики, а оттуда сюда – будто залом какой. Что заломило-то? Какой такой тальник? Каким льдом пропахало?
Вот и пример: тальник в Средней России называют ивняком. И при этом сибиряк знает и ивняк, и тальник, – а москвич только ивняк. Трудность и в том, что многие хорошо известные среднерусичу слова в Сибири имеют несколько другой смысл. Например, в выражении «рыбы добыл дивно» – «дивно» имеет смысл «много». Или часто встречающееся у Байбородина словечко «браво». Бравый – не в привычном смысле молодцеватости, а в значении хороший, путный, добрый, качественный: «бравенькие огурцы» – значит крепкие, хорошие. «Ты моя бравенькая» – скажет забайкалец про жену. Если этого не знать, то можно обвинить автора в неуместном каком-то словоупотреблении, в отсутствии вкуса или меры. А дело-то, оказывается, в читателе… Поэтому к такому чтению и надо относиться как к обогащающему, хотя, конечно… оно для тех, кто любит. Дорожит. Кого каждое словечко обрадует. Анатолий для таких и пишет.
Очень важна древняя, идущая от язычества народная привычка одухотворять природу, древнерусский и бурятский замес этого одухотворения, который в жизни вовсе и не вступает в рознь с православным… Это одухотворение слитно с сыновним доверием к великому распорядку, с ежечасным послушанием, когда от человека не требуется ничего нового – только быть достойным этого Божьего мироустройства и своей, завещанной предками земли. И когда Димитрий-рекостав скует озеро, чудо рекостава особенно потрясет не закопченные детские души – будь то волшебство скольжения по льду на коньках или сама таинственная жизнь озера (рассказ «Озерное чудо») …
С еще недавними волнами, вдруг замершими на «изможденном взлете», когда после студеной ветреной ночи на тихой заре оно вдруг откроется взору – запредельно недвижное, замершее. И поражающее отвыкший взгляд, нашедший опору столь внезапно, что от этого будто на миг пошатнется-вздрогнет забывшийся мир. И в этой ледовой статике еще больше непрекращающегося движения к смыслу, чем во вчерашней суетливой, неряшливой ряби. И только инеем светится «увядшая приозерная ковыль», да седина укрывает «белесую щетину построжавшей земли».
Тончайше и глубинно в рассказе «Озерное чудо» открывает писатель свой дар «пронзительно переживать времена года». Особенно осень, когда душа «сквозна и проглядна и готова, кажется, повеяться к небу», и долгая зима, когда «озеро родниково» выстаивается, так же как и души зимующих со всеми своими бедами и потерями… И недолюбленные детские души, и взор ребенка сквозь лед, в бесконечную неземную глубь, где он завороженно пытается найти нездешний покой, чарующую печаль, силится избыть ею горечь недетского своего бытия, уйти от родимого дома, хмельного и безрадостного… И «жгучие дымные холода», и ожидание весны, и озеро как центр непреходящего чуда, пульсации непостижимого, как подтверждение Божьего существования и надежды на спасение.
На то оно и слово. На то и душа читательская, чтобы каждый раз по-своему – пусть и в свободе неведения, открыть-представить себе суровую и далекую эту жизнь, сделать ее на несколько сотен страниц ближе. Вижу – тысячу читателей и тысячу таких представлений, и тысячу Озер… Будет у каждого свое озеро, и свой отвоеванный у суеты покой, в котором выстоится душа в размышлении о сокровенном. И читатель, проколев и угревшись, пережив Озерное чудо, найдет и в себе древнюю тягу к строгости и сам построжает за эту ночь преображения… И почувствует подледной глубью души, что лишь в православной строгости и труде устоит русский дух, в сохранной собранности и отторжении наносного, привнесенного, преходящего… Так веками выстаивается в спасительной стуже и русское слово – то кристально прозрачное, то густое от смыслов, что медленно ходят подводными травами, глубинными нитями древней памяти. Под озерным стеклом… Рядом… Почти под ногами…
Речные писатели. Очерк о писателях В.П. Астафьеве и В.Г. Распутине
1
Так случилось, что в двадцатом веке именно эти писатели взяли на себя ношу великой русской литературы и, поразив своими книгами самых щепетильных читателей, стали настоящими классиками. Литература наша, всегда жившая живым, настоящим, исконным, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь – край, где русское еще сохранилось нетронутыми очагами, как клочками, местами оставался соболь после убийственного перепромысла в начале двадцатого века.
Сто раз говорено, что город, пусть самый красивый и значимый, – человечье детище и наследует все человечьи грехи. В отличие от него природа – творение Божие, именно поэтому такая мощь и исходит от нее, и, питая художника, она заставляет соответствовать, равняться, а иногда и выстраивать себя заново. Эта нечеловечья мощь ярче всего проявляется в сибирских реках, не только могучих на вид, но и важнейших по сути, поскольку от них напрямую зависит жизнь в этих суровых краях: это реки-дороги, реки-кормилицы, реки-учителя… И чтобы до конца понять двух русских писателей Астафьева и Распутина, надо хорошенько представить, что такое для Сибири реки Енисей и Ангара.
Итак, главный фарватер русской литературы прошел именно по этим великим водным жилам, за каждую из которых будто отвечал свой писатель – за Ангару – Распутин, за Енисей – Астафьев. Страшное географическое противоречие современной России – смещенность Центра к Западу, тогда как самые непостижимые и глядящие в будущее территории расположены от него далеко к востоку. Однако для таких людей, как Астафьев и Распутин, центр жизни там, где живут они сами, а главное – где живут их герои. Герои Астафьева, его необыкновенно личностной автобиографической прозы крепчайшими жилами привязаны к «Батюшке-Анисею». И мощь эта человечья, да и литературная, происходит именно от этой непостижимой реки.
До сих пор идут споры, что считать Енисеем: сам Енисей от Кызыл-Хэма или Ангару, вытекающую из Байкала и впадающую в Енисей вблизи Енисейска, удивительного города-музея, бывшей столицы Енисейской губернии.
Судьбы Енисея и Ангары и схожи, и различны. По этим рекам шло освоение Сибири с запада, по ним испоконно лепились станки, расположенные друг от друга на расстоянии, удобных для смены коней, и именно на этих берегах, прижатых тайгой к воде, и жила-развивалась русская жизнь со своими радостями и горестями.
Пожалуй, Енисею в борьбе с беспросветным человечьим бездушьем повезло больше, чем Ангаре, единственной вытекающей из Байкала реке, что, особенно с воздуха, поражает на выходе своей ясно-синей водой. В отличие от Енисея, прямого, как труба, она по-женски разливиста, изобилует островами и протоками, и меж коренными берегами, называемыми матеро́й (от слова материк), здесь необыкновенно широко. Она вся – как Енисей в Вороговском многоостровье – удивительном месте чуть выше впадения Подкаменной Тунгуски. Здесь, за знаменитыми скалистыми «щеками», непомерная ширь меж коренными берегами, а огромный разлив изобилует островами, протоками, тальниковыми поймами.
Покосы на Енисее – узкие полосы заливных лугов. Многие из них расположены далеко от поселков, так что зимой еще замучаешься сено вывозить на коне или снегоходе – дорог-то нет. Ангара в этом смысле идеальна для сельского хозяйства – огромные покосы прямо на островах, живи и ставь сено в одном месте и под боком. Именно на таком острове и происходило действие повести «Прощание с Матерой». Протоки же меж островами образуют прекрасные рыбьи нерестилища, а сколько зверя в поймах, сохатого и всякой прочей живности – любой охотник позавидует! Живи не хочу. Недаром целый ангарский уклад сложился на этих красивейших берегах, необыкновенно яркий и крепкий. На Енисее, уходящем к Ледовитому океану, эта основательная нота прекращается – начинается остяцкий Север, где все перебивает приполярная промысловая нота – охотничье-рыбацкая.
Лес на берегах Енисея разный, но в основном это кедрачи, ельники, лиственничники. Ангара же в основном светлохвойная, лиственнично-сосновая. Строевые сосновые бора на ней уникальны, и в этом-то оказалась беда ее. Если по енисейским деревням разрушительной лавиной прокатилось укрупнение, то Ангара подверглась еще налету леспромхозного беспредела. Понаехало всякого народу, смешавшего-замутившего вековечный уклад, и названного Распутиным в повести «Пожар» «архаровцами». В довершение в леспромхозы, где больше платили, – ломанулось население из колхозных деревень, особенно молодежь. Бора вырубались, деляны все дальше забирались в хребет, разгоняя зверье. Не отстала и пора ГЭСов, на Ангаре их аж три штуки: Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Да еще и Богучанская, за которую не так давно снова взялись энергетики и добили низ Ангары. Последнее это затопление – особенно трагическая страница в истории Сибири, и о ней отдельный разговор. Дело в том, что Богучанская ГЭС не так уж нужна Красноярскому краю – энергия предназначена для перегонки в Китай. А не для подъема местной промышленности.
История стройки гидроэлектростанций и затопления деревень – одна из самых болевых тем Сибири. На Красноярском море есть такая традиция – каждое лето на пароходике едут жители затопленных деревень и над местом, где когда-то стояли их дома, поднимают стопочку, поминают прошлое.
Все это надо знать читателю, чтоб до конца понять великую боль Астафьева и Распутина за тот божий мир, который даден человеку на уход и преображение, а в ответ получающий от него одно нерадение. Веками великих трудов и лишений наживался уклад и требовал одного – служения исконному и вечному. «Батюшка-Анисей» сам все объяснит и скажет, – когда сено ставить, когда соболя бить, а когда селедку промышлять. А ты не мудрствуй и слушайся, да смири гордыню, иначе будешь, как Гога Герцев, лежать в речке с проломленной башкой.
Разные реки – Енисей и Ангара. Ангара представляется красивой и широкодушной женщиной, Енисей – мужиком с прямым и крепким характером. Но везде река как мера, как основа, а природа как учитель, как стержень, ведь именно ее годовой круговорот и руководит человеком, требуя лишь одного – быть ее достойным. Это касается любого дела – и рыбацкого, и охотницкого, и плотницкого. И писательского тоже! И как прекрасно выравнивается жизнь каждого человека Енисеем или Ангарой! Как почетно и писателю быть таким же учеником, как простой ангарец или сельдюк, как герой «Царь-рыбы» Акимка, для которого главный сюжет его жизни – Енисей.
Вот как писал об Ангаре Валентин Григорьевич Распутин:
«Я верю, что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел – и от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из нее сознательного и материального чувства Родины».
И еще:
«Я уверен, что писателем человека делает его детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что дает ему затем право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в детстве».
2
Поперечник России в районе Красноярья, то есть расстояние от юга Тувы до Диксона на Таймыре, около четырех тысяч километров. Да разве кому-нибудь на западе придет в голову, что Смоленск и Мурманск, стоящие на одной долготе – части единого и строгого целого? А на родине Астафьева так оно и есть, Енисей – это один мир, одна территория, объединенное одной рекой-дорогой, огромной, крепкой, мужественной.
И писатель под стать Енисею такой же кряжистый, крепкий, мужицкий и в своих книгах насквозь речной – пароходский, лодочный, рыбный. Описанию различных рыбин и рыбалок посвящены многие строки его произведений. Сами названия за себя говорят: «Карасиная погибель», «Уха на Боганиде», да и «Царь-рыба». Детство писателя прошло на берегах Енисея: от Овсянки на юге до заполярной Игарки – неплохим плечом длиной 1700 верст пролегла человечья судьба! Крепко, пуповинно перевязана она с великой рекой. Так крепко, что крепче не бывает: матушку писателя навечно забрали суровые воды.
Пересказывать Астафьева бесполезно, хочется дать главную ноту, отзвук, с каким прозвучал Виктор Петрович в лучших своих книгах «Последний поклон» и «Царь-рыба». Нота эта так же разнообразна, как сам Батюшка-Енисей в разные времена года, в разную погоду. Но она всегда исповедальна, летописна, житийна. Она жива по законам лирики, и все происходящее сугубо субъективно и пропущено через «я» автора. Она пронзительно поэтична и стихийна – а ведь было у кого учиться этой стихийной мощи, когда «Батюшка-Анисей» под боком!
Виктор Петрович не делил литературу на жанры и всегда в едином напряжении силы и честности писал о своем главном и в повестях, и в «Затесях», и в предисловиях. И так же звучал его голос в выступлениях. И как чередуется на Енисее сизый штормовой вал с зеркальной безмятежной гладью, так мешается в его произведениях то погибельная интонация довоенных рыбалок, то звонкая, как росистое таежное утро, симфония жизни, то тихое, как белая ночь, откровение. И всегда его голос остается пронзительным, как возвращение молодого Витьки с войны к геологически постаревшей бабушке.
До чего сибирские реки огромны и, что ли, линейны! С парохода и, особенно, с вертолета планетарно бескрайними выглядят плесы, береговые линии, как по линейке, выровненные непомерной работой воды и льдов. С галечниками, поймами, островами… Кажется, огромные ножи лежат, металлически поблескивают на солнце, наждачно синеют. Как побороть пером это величие, как подобраться к гладкой алюминиевой шкуре, не соскользнуть с алмазного лезвия плеса, как всверлиться, прокопаться, каким надфильком? Каким буром забуриться в двухметровый лед, чтоб заговорила речная громада, живым бугром пробилось слово, заходило по кругу, забирая душу? Никто особо и не пробовал – и вот Виктор Петрович впервые в истории взялся за Батюшку-Енисея. Только догадываться можно, как трудно ему было первому… И вот сделал он шаг, ступил из стальной параллельности в этот бурелом, чапыжник, «шарагу, вертепник или попросту дурнину».
С какой любовью Петрович разгребает эти приречные завалы, роется в тальниках, черемушниках, копается в самой мелочевке, пытается разговорить Батюшку-Анисея через какого-нибудь ручейничка или другого бекарасика. А дальше пошло-потянулось, и раскручивается, как веревочка, великая круговая порука всего живого, великий Божий круговорот – харюз съел ручейничка, харюзка – таймешок, таймешка человек поймал – голодных ребятишек накормил… А глаза поднимешь – надо всеми ними стоит приполярное небо вечной тишиной и учит художник высоте, любви и смирению, умению каждой красочке-веточке дать место.
Все-то у него сильное, говорящее, если речка – то угорело петляющая, если пелядка (рыба такая сиговая) – то аж вся жиром истекает… Все делается с порывом, размахом, повально – если уж рыба, то валит валом, если жрет, то жрет, комар если задавной – то задавной, и в этой одушевленности природных сил небывалым образом енисейская душа и выражается. Есть целые породы здешних мужиков, которые именно так и говорят, и чувствуют, одушевляя все вокруг и в первую очередь Батюшку-Енисея. «Анисей воду взвел», «теперь обират с берегов»… – то есть обирает с берегов лед. Обязательно надо наделить природу волей, представить как некое огромное существо с гигантскими своими желаниями, хозяйственными заботами, по сравнению с которым человек – мелочь навроде ручейника.
Любимые герои Астафьева – дети Батюшки-Енисея, принявшие его правила, живущие по его законам. Такое верное и святое дитя – Акимка, весь искореженный жизнью, с брюхом, присохшим к хребту еще с голодного тундряного детства, весь побитый морозами, крученый, как полярная листвяшка из юности Виктора Петровича, и такой же несгибаемый, неказистый, тщедушный, но с огромной душой нарастапашку.
С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями. И не терпит обуянных гордыней, возомнивших себя сильней и независимей Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тертый и совсем не горожанин-белоручка. Он и с «тозовки» лупит отлично, и топорище у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича, поэтому и наказывает Гогу, этот персонаж-идею, даже не автор, а Батюшка-Енисей через одну из своих подопечниц-речек.
К слову: удивительно слабым и бесцветным выглядел фильм по одной из глав «Царь-рыбы» под называнием «Сон о белых горах». Эта несколько приключенческая история, в которой многие не желали узнавать Виктора Петровича, на самом деле тоже вполне его. Енисейские охотники были особенно тронуты и взбудоражены ею. Помнится, еще во времена, когда население по-настоящему жило книгами, один из них с жаром говорил: «Не, ну ты представляешь, приходит мужик в зимовье, а там баба!» Этот момент, жизненный и острый, уловил своим чутьем Виктор Петрович – каждый охотник мечтал о таком приключении. А фильмец получился и вправду слабый – больше всего убило, что «съемшыки» даже поленились на Енисей слетать. Только в титрах идут осенние виды тайги, взятые с вертолета, похоже, где-то под Красноярском, может быть, на любимой киношниками Мане. Остальное снято, скорее всего, в Карелии: европейская природа и совсем не походящий похожий на тайгу елово-сосновый лесок и бараньи лбы. Да и малоубедителен главный герой, крепыш Кононов, если я, конечно, не путаю. Никак он не вяжется с тщедушным Акимкой. Не спасает даже суконная куртка-азям, к которой зачем-то пришили какие-то прямо газыри для патронов – никто в жизни на Енисее таких газырьков не видывал. Ладно…
Не принявшие правила справедливости и добра – необязательно пришлые на Енисее. Почти так же жестоко наказан еще один герой «Царь-рыбы», вроде бы уважаемый енисейский мужик Игнатич, который оказался вовсе и не таким образцовым, как думалось, а при ближайшем рассмотрении и вовсе гнилым. Это рассказ о грехе и возмездии. И человек здесь – не победитель, как в «Старике и море», – а побежденный, посягнувший на неподвластное, наказанный за эгоизм и жадность…
Для тех, кто не знает: крючки самоловные – штука действительно опасная, потому без ножа никто и не ездит на рыбалку – если вдруг подцепился в горячке – отмахнул коленце и спасен. Тема эта старинная промысловая, да и, если смотреть шире, жизненная – поставил ловушки, гляди сам не влети.
Самолов ставят на течении, крючки привязаны капроновыми поводками к хребтине – веревке с грузами, лежащей на дне. К крючку на симочке крепится пробочка, заставляющая крючок стоять, вибрируя на течении. На него и набрасывает струей стерлядку или осетра. Все дело в движущейся, скользящей водной стихии – чтобы понять работу самолова, надо представить, будто не вода со стерлядками несется сквозь ловушку, а, наоборот, неподвижную воду, полную рыбин, тралят крючки. Никакая стерлядка, конечно, не «играется» с крючками – это для красного словца говорилось стариками, хотя в старину даже красные тряпочки привязывали к крючкам – чтоб интересней было рыбе «играться».
Рыба протыкается крючком за тело и болтается на течении, рвя шкуру, пока ее не снимет рыбак. На самолов в основном ловятся рыбы бесчешуйные – шкура легче протыкается крючком. Да и эта самая шкура у осетровых настолько крепка, что бывает скручивается у крючка в рямушку, но не рвется, и рыба висит дольше долгого.
Памятник Царь-рыбе по дороге в Дивногорск изображает осетра и раскрытую гранитную книгу Виктора Петровича. Только осетр почему-то попал в сеть, а не в самолов (не думаю, что скульптор не знал тонкости, но, возможно, кто-то остерег от изображения самолова, дескать, запрещенная снасть, лучше не лезть в эту болевую тему – вдруг инспекция недовольна будет).
В прежние времена веревка была не капрон, а обычная, гниючая, крючки – ржавейка, и пробочки из бересты, самокрученные, а главное – ставили и смотрели ловушку на гребях, а не на моторе. Все это было нелегко и требовало большого труда. Да и аппетиты другие были: рыбой никто не торговал, как сейчас, а добывали «поись». Нынче борьба совсем уж неравная – об этом неравенстве и писал Виктор Петрович.
Снулых (то есть не живых, погибших) рыб выкидывают – ими можно отравиться, был случай, когда один командир «Ми-восьмого», поев в гостях такой осетрины, начал слепнуть в полете и еле посадил машину. Ему повезло: зрение вернулось – отравление оказалось не сильным. Обычно рыба на самолове гибнет от того, что ловушку редко проверяют, – если вовремя смотреть, ничего подобного не будет. Высмотру самолова могут мешать две вещи: сильный вал на Енисее или подошедшая рыбинспекция. Тогда рыба и пропадает. Мужики бухтели на Виктора Петровича, что сгустил краски, описывая самоловщиков. Долго обсуждалось, как «прописал неправильно», «во скоко выкинул снулой стерлядки!», «так не быват», «да и вообще нас, браконьеров, не понял» и так далее. Рыбаки-охотники любят, когда их жизнь описывают с дотошностью пособия по промыслу, да еще и с одобрением и восхищением их трудом и образом жизни. Не на того напоролись. Астафьева с его обнаженной всеотзывчивой душой по сердцу резала жестокость этой ловушки, то, что рыба мучается часами, рвя шкуру, срывается, калечится. И писателем руководила не жажда создать фотографической точности документ, а боль за божью тварь и ненависть к хапужничеству.
Но еще сильнее болел он, задавая главный вопрос: да почему на такой богатой земле так нескладно все выходит, как в этой Шуши (селе Ярцеве, вообще-то), где всего несколько машин, которые давят народ, и почему в поселке Бор, который стоит в таком прекрасном месте (это уже из «Затесей») – такая помойка. Восхищение божьим миром и горечь за нерадивость людскую – вот главные ноты его творчества.
У обоих писателей, и у Распутина, и у Астафьева, обостренно-кровное чувство «нашего» – по-другому и быть не может, если чувствуешь свою землю так, что сколько книг не пиши, а все равно будто и не сказал ничего… Все в начале пути – оттого-то и написано так много.
Мой любимый рассказ Астафьева – «Капля». Прочитайте его отдельно. День на него выделите. Отрешитесь от всего. Вот сейчас только перечитал в который раз – и снова накатило, когда подобрался к этой великой таежной ночи на речке Опарихе, несколько раз останавливался, откладывал книгу… Когда читаешь подобное про Сибирь, душа приходит в такой трепет, что кажется: нет уже авторства у этих слов – а есть нечто необъятное, наше общее с писателем, и что эти огромные слова существовали вовеки… И в который раз ты вместе с Астафьевым встречаешь это пронзительное утро, подкравшееся так незаметно за размышлениями о главном.
Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причем обязательно как единого целого, как круговорот взаимообязанностей. За версту слышно неловко севшую в дерево – копалуху (глухариную мамку). Крохаля, сплавляющиеся по речке, озадачены костром и настороженно перекликаются. В тайге бывает издали слышно, как копалуха или глухарь садится в дерево – этот звук жизненно значим для охотника: когда собака осенью на охоте поднимает глухаря, необыкновенно важно, улетел он или все-таки сел?
Крохаля – есть на таежных речках такие рыбоядные утки с клювом, как пилка, только мягоньким – почуяв-увидев костер, будто их скравшего, начинают беспокоиться, переговариваться: подмечено это необыкновенно тонко. А сова! Которая уменьшилась, оплыла, прижав перо к телу! В каждой такой строчке – целый огромный мир, целая картинка, и одна жалость, что полностью дооценить может лишь тот, кто все это сам пережил. Жаль этих людей, тех, кому не повезло, но зато у них есть возможность с чистого листа представить себе картину так, как подскажет им воображение.
И снова читаешь, со светлой завистью отмечая слово «сеево»:
«Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли».
И дальше: «Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, Батюшка-Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтоб капля по капле наполнять силой вечное движение».
Длилась, нарастала эта светлая таежная ночь, и все шли на подъем переживания души и так работало сердце, что наконец почувствовал человек «вершину тишины!» Как сказано и как описано это чувство – чувство вершины, чувство перелома, когда и сам человек не в силах долго оставаться на острие переживания и должен знать меру, посильность и цену великого.
И вот огромное с маленьким смыкается и достигает предела, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить… Потому что она, как символ Божьей гармонии и красоты, сияет и держит этот мир в сохранности. Хрупкая, как добро. Но как сказал замечательный батюшка из Новосибирска отец Феодосий: «Если бы не было добра и Бога, зло давно бы победило». Не случайно разговор с каплей происходит, когда спят ребята, за которых Петрович в ответе, спит Земля, и Виктор Петрович будто бдит этой белой таежной ночью, охраняет сон планеты, всех ее ребят, глухарят, хайрюзят…
И дальше он говорит о том, что человек нарушил гармонию – это «моя душа» посеяла тревогу – а в природе все покойно и мудро… И дальше следует потрясающее описание копалухи – это именно она тогда шумно садилась в кедрину. Она не просто полетела, а размять крылья, ведь она на гнезде сидела. И тут целая симфония круговой поруки начинается – и про птенцов, и про то, как трогательно присела птица на пол поклевать прошлогоднюю кислую помятую брусничку. И сразу кажется, будто сам маленький голодный Витька предвоенной весной эту брусничку в Игарской лесотундре клевал, как та копалушка. И вот она снова на яйцах: «горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились – птица выпаривала цыпушек – глухарят».
И незаметно за душевной работой подошло утро – и засветились тысячи капель торжествующим сиянием жизни, и спустя четверть века пораженный этим сиянием автор благодарит Бога, что его не убили на войне, что дожил до этого утра.
Тем тайга и сильна, что именно здесь и происходят такие открытия. И везде исполняется великим круговоротом Божий замысел, везде извечные тайны: забота взрослых о маленьких, кормежка, тепло. И незримо присутствует бабушка писателя с, кажется, даже загробной ее заботой – о маленьких Витьках, Ваньках, Петьках, не по-детски угруженных жизнью, брошенностью, голодом, ревматизмом… Это книга «Последний поклон». Ее тема – круговая порука всего сущего, справедливость и благодарность. А гениальный рассказ «Конь с розовой гривой» – является потрясающим образцом православного повествования. Специально не буду пересказывать этот рассказ о прощении и покаянии. Его читать надо.
Чувство земли родной – это единственное, что может двигать настоящим русским писателем. Через окружающий божий мир познается эта земля, через природу и почему-то обязательно через мир растений – по-моему, никто с большей любовью и вниманием не писал о них, как Виктор Петрович. А его чувство осеннего огорода, кровное и глубинно крестьянское, земляное и предковое, оно у него врожденное. И доведены до священнодействия осенние приготовления к зиме – подчищение жизни, приборка и заготовка. Здесь и подведение итогов, и успокоение, и волнение от надвигающейся долгой зимы, которую еще и пережить надо. «Долгая и стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь» – какой ритм потрясающий – и по звуку, и по смыслу. А года голодные были – капустка за лакомство токо уходила. Мелочи часто говорят больше, чем лобовые слова – именно в способности писателя подмечать подробности любимого мира и является нам его щедрость, способность дать место любой травинке. И вот корова в огороде осеннем стоит и недоумевает, что же произошло – еще вчера ее в три шеи гнали отсюда, орали, хозяйка носилась с прутом. А сейчас успокоились… Действительно, вот и осень. И бык на Енисее запенился белым подбоем, и гуси пролетели мимо, потому что негде им присесть в скалистых местах астафьевской родины. С ноткой извинения сказал-позаботился писатель об усталых гусях, что из таймырской тундры летят за тысячи верст на зимовку, чтобы весной снова вернуться.
И в рассказе «Пир после победы» навсегда остался Астафьев мальчишкой, очарованным мирозданием. Как пронзенный войной, вернулся домой, и идет по левому (по течению) берегу Енисея, чтоб потом переправиться в Овсянку… И у речки Караулки забредает в бакенскую избушку к двоюродному своему братишке Мише. Радость, встреча, разговоры, а потом они ловят в сеть тайменя.
Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы. Открывает, как дитя, пораженный его мощью, красотой и его смертью, и его угасанием. Увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей…
Смерть рыбины после войны он сам, насмотревшийся смерти, уже видит по-другому – не как убийство, а как добычу. И в том облегчение.
А дальше следует «Последний поклон» – завершающий рассказ, который так и стоит в конце книг эталоном прекрасного, нравственного, непреходящего. И когда добираешься до встречи-прощания с бабушкой, дождавшейся внука с войны, – читать почти невозможно – настолько сердце разрывается от простых этих слов. Вот какой строгости и силы набрал Виктор Петрович в лучшей своей книге!
Своей главной ноте Астафьев верен во всех произведениях и в потрясающем завещании-обращении к молодежи – «верю и надеюсь, что вы будете достойны и нашей памяти, и той прекрасной планеты на которой выпало нам жить, а вам продолжать эту жизнь».
Астафьев – писатель-поэт, писатель-летописец. И тема летописи – постоянная боль о жизненных изменениях, потому что, как даден ребенку изначальный мир детства, так и кажется, что должен он быть незыблемым. Этой очарованностью детством и болью за рушащуюся жизнь пронизаны все книги Астафьева. Они и нас, читателей, наполняют извечным светом – и через бабушку, и через маленького Витьку, который красоту и горечь жизни так трудно и самоотверженно пронес через свою долгую судьбу. И не зря бабушка читает молитву оптинских старцев – в конце рассказа «Пеструха», посвященного Валентину Распутину.
3
Ангара с еще той кристальной водой, с какой она вытекает из непостижимого Байкала, словно отражает характер прозы Валентина Григорьевича Распутина и ту кристальную четкость замысла, с которым он воплотился в одной из лучших повестей двадцатого века «Последний срок». Схожи названия произведений двух писателей: в книге «Последний поклон» тоже слово «последний» стоит на первом месте. И объединяет эти произведения исповедальность последнего рубежа – подведение великой черты, ответственность и почти непосильная глубина.
Вот что пишет о детстве писателя И.А. Панкеев в книге «Валентин Распутин. По страницам произведений»: Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в Иркутской области, в поселке Усть-Уда, расположенном на берегу Ангары, в трехстах километрах от Иркутска. И рос в этих же местах, в приютившейся неподалеку (по сибирским меркам), всего в полусотне километров от Усть-Уды, деревне с красивым, напевным именем Аталанка. Этого названия мы не увидим в произведениях писателя, но именно она, Аталанка, явится нам и в «Прощании с Матерой», и в «Последнем сроке», и в повести «Живи и помни», где отдаленно, но явно угадывается созвучие: Атановка. Природа, ставшая близкой в детстве, оживет и заговорит неповторимым своим языком в книгах. Конкретные люди станут литературными героями. Поистине, как говорил В. Гюго, «начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие, развертывающиеся с ним, составляющие неотъемлемую часть его». А начала эти, применительно к Валентину Распутину, немыслимы без влияния самой Сибири – тайги, Ангары; без родной деревни, частью которой он был и которая впервые заставила задуматься о взаимоотношениях между людьми; без чистого, незамутненного народного языка. В большом автобиографическом очерке одной поездки «Вниз и вверх по течению», опубликованном в 1972 году (по сути, самостоятельной повести), Распутин опишет свое детство, большое внимание уделяя именно природе, общению с односельчанами – тому, что считает определяющим при формировании души ребенка и его характера.
Сознательное детство его, тот самый «дошкольный и школьный период», который дает человеку для жизни едва ли не больше, чем все оставшиеся затем годы и десятилетия, частично совпал с войной: в первый класс Аталанской начальной школы будущий писатель пришел в 1944 году. И хотя здесь не гремели бои, жизнь, как и везде в те годы, была трудной, временами полуголодной. «Для нашего поколения был очень труден хлеб детства», – отметит спустя десятилетия писатель. Но о тех же годах он скажет и более важное, обобщающее, что найдет затем отражение в его творчестве: «Это было время крайнего проявления людской общности, когда люди против больших и малых бед держались вместе».
Еще и то, что хотел стать учителем. Тоже важный штрих, объясняющий, какую-то постоянную атмосферу ответственности в его творчестве, сдержанность и внутреннюю дисциплину. Астафьев бурен, стихиен, по-речному и по-таежному буреломен, Распутин собраннее, каноничнее, и Ангара его будто сознательно лишена сибирского колорита и подведена под русский классический эталон. Словно говорит писатель: не до экзотики нам, когда речь идет о главном. Конечно, говорить о какой-то сдержанности или отстраненности можно только в кавычках, только как о внешней манере – будучи настоящим русским писателем, он необыкновенно субъективен, неравнодушен и беспощаден ко всем своим героям. Кого любит, тех уж любит, кого нет – того нет.
Все ангарские беды – и леспромхозы, и гидроэлектростанции – Валентин Григорьевич пропускал через сердце, на каждую потерю откликался повестью. А ведь только такой и может быть настоящая наша литература: больно, когда видишь, как обращаются с твоей землей, – хоть пришлые, хоть свои – больно так, что и сказать нельзя, а надо. Необходимо. Иначе жить зачем. А Сибирь – это страна, которую не то что местный – и приезжий, раз увидев, уже не может не полюбить. Чехов, пораженный Красноярском, с надеждой и восхищением писал об этом месте в своем дневнике во время путешествия на Сахалин. Она воистину Божий подарок, эта земля, поэтому таким физически ощутимым горем отдавалось в сердце обоих писателей каждая ее рана.
Повесть «Последний срок» – произведение строгое, четкое и абсолютно совершенное и при этом столь же жизненное и непридуманное. У каждого писателя, и я в этом уверен, она вызывает правильную писательскую зависть: ну как же он подсмотрел такое? Как увидел? Или подсказал кто? Ну как же повезло писателю! Как берег такое счастье, как боялся уронить, не ошибиться, дотянуть до самой высоты! Какое испытание!
Меня всегда удивляла критика, дотошно разбирающая характеры Анны и ее детей, наряду с тем, что сама задумка произведения воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Давайте задумаемся: да как вообще писателю такое пришло в голову? Именно это и представляется главной загадкой. И дело именно в том, что ситуация, легшая в основу повести, – такая, с которой каждый человек обязан столкнуться в своей жизни. Особенно у нас, в Сибири, где расстояния огромные – и как быть, если заболел близкий и надо ехать, и не отпросишься с работы надолго, и самолеты не летают добром? И как попасть, прицелиться сквозь такие расстояния? Не промахнуться? Вроде сюжет-то простой, на земле лежит, под ногами. А Распутин один разглядел. И поднял. Это самое сложное.
Поражает и старуха Анна, изжитая до «последнего донышка» с ее приятием смерти, с великой мудростью и смирением и потрясающе-выпуклые и жизненные образы детей, ничего не понявших в их собственной матери. Врезаются в душу они с детства и на всю жизнь: и горожанка Люся с ее показной и фальшивой «культурностью», оборачивающейся полной душевной черствостью, и простоватая Варвара, и Илья, скользящий по вершкам, и Михаил, самый духовно близкий матери человек, и, конечно, загадочная Танчора.
Захватывает и центральная история с пьянкой, полная горького юмора, и контрастирующая с ним кровная любовь автора к старухе Анне, с которой они сливаются в философских монологах старухи перед смертью. Ведь говорено, что никому не дано знать, что думает человек перед смертью. Так сколько же сам Распутин передумал-испытал, пока писал! И подумаешь – воистину великое перерождение испытывает художник, пройдя через такую книгу, такую задачу. Произведение это истинно многослойно и дает такой простор для размышлений, что откладываешь книгу и замираешь, чтоб дать сердцу передых.
Пересказывать повесть вряд ли стоит, поэтому позволим себе обратиться к еще одной вещи Распутина, которая в контексте наших дней наводит на самые горькие выводы.
Речь идет о книге «Прощание с Матерой», широко известной и у нас, и за рубежом. При существующей ситуации с Ангарой об этой вещи спокойно говорить невозможно. Повесть эта посвящена страшной странице сибирской истории – трагедии затопления, в результате которого населения целых деревень насильно переселялись на другие места, а опустевшие дома сжигались и горели кострами с внеплановой символичностью. Такую судьбу пережили жители Енисея выше Дивногорска.
Трагедия попрания векового уклада, неспособность руководства видеть главное и полное небрежение к судьбам своих трудовых граждан – это одна из непреходящих тем нашей последней литературы. Когда вышла книга «Прощание с Матерой», когда вся страна смотрела фильм с тем же названием – было ощущение великой силы искусства, силы писателя, способного прокричать об ужасающей несправедливости, о преступлении против Отечества. О том, когда ради чего-то сиюминутного и имеющего весьма условную выгоду, ломается самое главное для любого народа – традиция. (А возможный ущерб от ГЭСов и ту опасность, которую они представляют в случае чрезвычайной ситуации, вряд ли кто-то из их сторонников просчитывал.) И в те далекие годы, когда страна внимала этому крику писателя о беде, всем казалось, что в этом и есть задача искусства – повлиять на существующую действительность и если не остановить происходящее, то хотя бы предупредить, предостеречь людей от грядущих ошибок.
Это оказалось заблуждением. То, что сейчас произошло с Ангарой – возобновление строительства Богучанской ГЭС, – тому свидетельство. То, о чем прокричал Распутин, происходит годы спустя с фатальной настойчивостью. Так же переселяли людей, только с большей жестокостью, так же сжигали деревни, так же плакали жители Кежмы и многочисленных поселков и деревень Ангары.
С горечью хочется подвести черту и сказать: ничему не учится человек, никакая самая гениальная литература не может остановить разрушительную энергию человека, и встает перед писателем вопрос: а зачем тогда нужна литература, если она ничего не в силах изменить?
И одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смиренье перед своей долей-задачей русского художника, который во все лихолетья чувствовал ответственность и обязанность быть летописцем, плакальщиком и защитником родной земли и всегда учился силе у простых людей. И у своих героев, таких, как старуха Анна и Дарья, таких, как Витькина бабушка из «Последнего поклона» Катерина Петровна.
Уходящая натура Енисейска
«Город ране в Енисейске был» – говорил мой сосед дядя Гриша, Григорий Трофимович Попов, матерейший старик, сроднившийся с Енисеем и сибирской стариной до такой степени, что, казалось, оторви его хоть на минуту, погибнет от голода и удушья. «Город ране в Енисейске был…» В этой фразе заключается судьба старинных сибирских городов, которые, будучи во времена освоения Сибири опорными и центральными, к двадцатому веку оказались в стороне и уступили ношу столичности Красноярску и Новосибирску. Город Енисейск основали на левом берегу Енисея в полусотне километров ниже устья Ангары в 1619 году тобольские казаки во главе с Максимом Трубчаниновым. «…пошли за волок в тынгусы и Тынгуской острог… ставили».
В одно из десятилетий восемнадцатого века (с 1730 по 1740 г.) сюда из Тобольска ходило более двух десятков тридцатитонных судов. В ту же пору здесь проходила ярмарка с пушным отделом – самым большим в Сибири. Суда шли с Оби по Кети до острога Маковский, а дальше до Енисейска на лошадях, или, как говорят в Сибири, на конях.
До конца восемнадцатого века путь из Томска на Иркутск проходил именно через Енисейск, но после обустройства нового Сибирского тракта через Красноярск началось угасание этого важнейшего городка. Его судьба лишь отчасти сходна с судьбой Томска, минуя который в 1893–1896 годах, прошел Транссиб. Именно железная дорога превратила малоизвестный Новониколаевск в столичный Новосибирск и лишила Томск центральной роли. Но если этот первый в Сибири университетский город лишь несколько померк перед гигантским Новосибирском, то с ростом Красноярска Енисейск свою роль утратил убийственно.
Когда я впервые здесь по молодости оказался, то и значения-то не придал этому городку, такому заштатному по сравнению и с Красноярском, и с Абаканом. Я ничего о нем не знал и проникся его духом, только когда стал бывать и интересоваться историей. Оказалось, что в Енисейске служил рядовым казаком Семен Дежнев. Именно енисейские казаки основали Красноярск, Якутск, Иркутск, Нерчинск. Енисейск стоял на перекрестье путей, и, как канаты, держал в трудовых руках связи с огромным Енисеем, Ангарой и Леной, собирая ясак с кетских и тунгусских племен и служа перевалочной базой. В 1642 году здесь был возведен Спасо-Преображенский монастырь. К концу XVII века Енисейск стал в Сибири вторым после Тобольска центром ремесел и торговли. Через Енисейск пролегали торговые пути на Тобольск и Москву, на восток и юг Сибири, на Амур и в Китай.
Енисейск сохранил облик сибирского города XVIII–XIX вв., по сути являясь музеем под открытым небом, но экспонаты находятся в таком удручающем состоянии, что сердце обливается кровью. Нигде не испытываешь такого чувства запустения и такой любви ко всему уходящему, как в этом тихим городке, поражающем количеством старинных домов и домишек с удивительными наличниками – их очертания необыкновенно плавны, а узоры-завитки с глазка́ми придают зрячее выражение. Купеческие дома, деревянные, каменные, каменно-деревянные с несусветными ажурными угловыми верандами на втором этаже, храмы, восстановленные и нуждающиеся в восстановлении, покосившиеся, уходящие в землю избы с наличниками и ставнями, потемневшие от времени заборы… Вольно разросшиеся тополя. Полузаросшие травой могильные плиты в Спасо-Преображенском монастыре. И ты… Со всем этим один на один. С глазу на глаз с бессонно текущим в душу потоком родной земли. Сострадание к ней. Ощущение ушедшего времени, разрывающий сердце взор старины, и контраст с тем, что испытываешь в сияющих исторических центрах более везучих городов. И мысль: ну почему, несмотря на утрату столичности, нельзя заняться сохранением архитектурного наследия, как это делается в Тобольске, который хоть и тоже в стороне, но несравненно ухоженней Енисейска, в чем во многом заслуга Аркадия Елфимова, мецената и знаменитого собирателя Русского мира. Но Енисейск история особая, и я уверен, что его рвущая душу запущенность зачем-то нам дана – наверное, чтобы открыть в себе самый пронзительный род любви.
В Енисейске, в Спасо-Преображенском монастыре, долгое время жил замечательный человек – отец Севастьян, настоящий старец наших дней, единственный во всей епархии совершавший чин отчитки. К нему ехали со всей Сибири. Теперь он в том самом Маковском, через который шла связь с Тобольском. А в Енисейск приезжают молиться, думать, писать картины. Видно, место такое.
Мне всегда была близка и понятна параллель человек-страна, человек-город. Она казалась мне ключом к пониманию отношений между человеком и его землей, хорошо объясняющим и укладывающим в душе отношение к нашей истории и пространству. Когда отождествляешь эти понятия с человеком, то становится очевидной неделимость Русского мира. Ведь не отрежешь себе часть туловища, ногу, кусок головы. Город, городок, деревня так же болеют и выздоравливают, рождаются и клонятся к закату, оставляя детей в надежде на продолжение жизни. Страна так же, как и человек, испытывает рост и внутреннюю распрю – гражданскую войну, так же бьется с недугами и недругами, защищая свой очаг.
Мы привыкли рассматривать Русский мир в защитном противостоянии агрессивным цивилизациям, забывая, что порой и смыслы внутри нашего мира меняют пути, и упадок и разрушение вызываются изменением географии жизни и передвижения.
Обо всем этом я думал прохладным осенним днем, двигаясь по трассе Красноярск – Енисейск. Дорога становилась все задумчивей, асфальт старее, кое-где прерываясь бетонкой, ритмично отдающей в колеса, а редеющие поселки и редкие машины усиливали отрешающее ощущение от этого пути на север. Чем ближе был Енисейск, тем сильнее я волновался – каждая встреча с этим городом – особый разговор. Особое усилие и особый вопрос: долго ли город-музей будто погружаться в прошлое, несмотря на обращение в Юнеско взять его на поруки? И не позорище ли – такие обращения, отдающие признанием собственного бессилия? И что будет, когда сменятся поколения и встанет вопрос, кому принять на плечи ношу этого города, понести его образ дальше? Найдется ли вообще кто-то раненный этим образом?
Уже шли подступы к Енисейску и тянулся промышленный Лесосибирск, который давно перерос Енисейск со своими лесоперерабатывающими предприятиями и огромным речным портом. С самым большим к востоку от Урала Крестовоздвиженским красавцем-собором, построенным в наши дни и архитектурно напоминающим собор Василия Блаженного. И еще с одним строящимся храмом. Все это я видел много раз, но повторюсь, ехал в Енисейск с новым ощущением. В моих глазах стояли картины молодой красноярской художницы Евгении Аблязовой.
Евгения – я знаю ее не первый год и зову Женя – настоящая гордость нашего края, она, конечно же, член Союза художников России, участница многих выставок и представляла свою живопись, участвуя в международных пленэрах в Сирии и Италии. Женя занимается еще и преподаванием.
Енисейск – Женина тема. Я давно не видел картин, в которых было бы столько материнской заботы к тому, что любишь и хочешь спасти. Под впечатлением от них я записал интервью с Женей и теперь вместо музыки в машине звучал ее задумчивый голос:
– Думаю, главное для художника – найти тему, близкую сердцу и не надуманную. Сейчас в том, что называют современным искусством, многое делается ради денег. А найти свою тему, которая тебя трогает и наполняет – это большое счастье. Мне повезло. Я родилась в Енисейске, в месте, которое само по себе напитано глубокой энергией, удивительным духом. У меня простая семья, мама – библиотекарь, бабушка – учитель русского языка и литературы, с детства мне прививали духовные ценности. Какую поддержку мне дала семья! Мной гордились, помогали во всем. Это долгий путь – вырастить художника, начиная с шести лет, с того момента, как меня повели в художественную школу. Потом училище, потом институт. Мы долго учимся. Наверное, я осознала свой путь не сразу, не помню ощущения выбора: мне кажется, все решило само окружающее пространство – это же Енисейск!
«Енисейск» – отсек придорожный щит, и, едва я въехал в осенний городок, закрапал дождь, словно подчеркивая особость происходящего, и через несколько минут я шелестел по потемневшим блестящим улицам, сравнивая Женины картины с тем, что видел по сторонам. Картины Аблязовой при всей их сознательной сдержанности настолько выразительны, что я уже не понимал, что первородней – ее портреты енисейских окошек или сами эти окна, проплывающие мимо в выцветшей своей красе. Я остановился возле такого дома – в нем была раньше, кажется, почта, но висел ржавый засов. Поддаваясь настроению, я медленно нащупал кнопку на дверце. Покрытое крупными каплями стекло так же медленно оползло, и в машину хлынул запах дождя. Целый мир влажным лезвием тронул и без того обостренную душу.
Правая посадка за рулем позволяла мне глядеть в глаза и окнам, и удивительным здешним наличникам. Чуден зрячий совиный вид их глазков! Будто время глядит на тебя недвижно и пристально. Наличники эти появились в конце XIX века в русле моды на «изящный вкус», которая в аскетической обстановке Сибири выглядит неожиданно оранжерейно, да и ничего подобного в остальной округе не увидишь. Это же «сибирское барокко» есть в Томске и Иркутске, что подчеркивает историческую связь между этими главными городами, их былую близость.
Порыв ветра влажно и шумно прошел по тополям, дождь с силой осыпал и мостовую, и крышу машины, и я несколько раз тронул клавишку громкости. Чистый Женин голос прозвучал отзывчиво и будто окрепнув:
– Домики, да. Балясинки, наличники… А та часть, что над окном, называется сандрик. А сами завитки с глазками – волюты. В училище я любила рисовать то, что покривее, что завалилось – такая живая пластика. Это по технике рисовать интереснее. А теперь есть любимый небольшой участок, там три-четыре дома. Раньше меня это место не привлекало, а теперь я его вдруг открыла и написала много этюдов. Бывает, ищешь место, ходишь часами. Многое зависит от освещения, от времени года. Можно неожиданно увидеть какую-то фактуру в короткий момент. Маленькие случайные мгновения.
Я закрыл окно и тронулся, медленно поехав вдоль домов и заборов, которые угловато ломались, то уходя в землю, то снова будто выплывая на поверхность нашего времени. Заборы были прямоугольных линий с ажурными карнизами на воротах. Доски располагались то в строчку, то елочкой. И без того темные, они особенно потемнели от дождя.
– Не каждому зрителю нужны серьезные выстраданные вещи, – прозвучал Женин голос, – кто-то скажет, что это мрачно, например, спросит: «А почему здесь забор сломанный?» Есть прикладная сторона искусства, а есть содержательная, бесконечная по поискам. Как есть картины для жизни, интерьерные, а есть – для музея. Последние могут быть прекрасны, но они для… встречи, а не для того, чтобы с ними жить. Если покупаешь картину, помни, что с ней придется жить, как с членом семьи. Это очень тонко. Мне кажется, картины – это такие же люди, как мы.
Я уже не понимал, где Женины картины, а где настоящие дома, по-разному покосившиеся и с разным выражением глаз. Несмотря на старость, и избы, и заборы образовывали очень плотный ряд. Вдруг в нем открылся зияющий квадрат.
– Я приезжаю и в любую погоду брожу и стараюсь побольше подметить, захватить. Проверить, все ли на месте. – Женя помолчала. – Бывает, уже не все… А если и все, то смотрю, где что еще отвалилось или оторвано. Сейчас все глобально меняется, даже отношение к семье. А у меня к семье очень глубокая привязанность. И возможно, это тоже объясняет мою привязанность к месту – к деталям, которые дороги. И даже к простым вещам, которые нравится рисовать – опавшему листу под ногами, капусте в огороде, вот этим домотканым половичкам. Да… такие вот мы немодные… Я считаю, что художник должен просто быть искренним. И если я это все люблю, из этого состою, мне не надо ничего выдумывать… А я всегда любила Енисейск. И не было желания сбежать оттуда, мол, дыра, деревня…
Я неумолимо двигался в сторону Спасо-Преображенкого монастыря. На Жениной картине главный собор проглядывается сквозь золотую листву. Сегодня все было серым, блестящим от дождя… Это обычные отношения жизни и искусства, существующего, чтобы открывать в окружающем обобщающий смысл. Силу образа.
– Иногда так страшно, – сказала вдруг Женя, – а вдруг темы кончатся? Но они не кончаются. Я очень жалею, что не написала тогда портрет отца Севастьяна, но я бы, наверно, и не осмелилась… А теперь жалею… Но коплю материал, этюды натурные, фотографии – все пролистываю и вдруг вижу совсем другое, новое, неожиданное. Енисейск, думаю, всегда будет основой для меня. Но я надеюсь, что подкоплю человеческого опыта и выйду на более широкие темы. Может быть, это будет что-то общенравственное, религиозное. Или портретное. Вообще, мне кажется, нормальный художник никогда не думает о шедеврах. Просто делает то, что его трогает. Я знаю, что всегда найдется зритель. А задачи прославиться и заработать кучу денег у меня нет. Лучше быть собой на своем месте, чем неизвестно кем среди общей массы. Наш Союз художников – прекрасные, профессиональные люди, создающие настоящие произведения. Хотя они продаются, может быть, раз в год. А те ребята, которые зарабатывают деньги, шокируя зрителя… не знаю, что от этого останется, время покажет. Все-таки есть ремесло и традиция. А все эти перфоменсы и инсталяции, когда голышом дефилируют в ошейнике… Разве это изобразительное искусство? Для меня огромные города – жесткая чуждая среда, их пространство меня душит. Тем более и уехать далеко от Енисейска я не могу. А друзей у меня хватает. Да и понятие одиночества для художника… особое.
Я подумал о том, что тоже всегда оказываюсь в Енисейске один. И что это труднейшее одиночество мне так же необходимо, как и Жене, бродящей в любую погоду по Енисейску и выискивающей его оттенки то в снежной слякоти, то в морочной морозности, то в прозрачности бабьего лета. И что я, бредя по полупустым улицам мимо собора с выломанной фасадной иконой, испытываю такие ощущения, которые никогда бы не испытал, если бы Енисейск был отреставрирован и полон туристических толп. Но город надо восстанавливать. Ты согласна, Жень?
– Да. Я слышала, что собирались перевезти часть ангарских изб из зоны затопления Богучанской ГЭС и сделать в пригороде Енисейска музей деревянного зодчества, да еще несколько енисейских домов спасти. Но, по-моему, все заглохло. Скорей всего, каменный купеческий центр не сломают. Подали документы в ЮНЕСКО, повесили таблички памятников федерального значения. А деревянный фонд стремительно утрачивается. Культурное отношение, к сожалению, требует бо́льших вложений, чем… некультурное. Я очень болезненно это переживаю. Перемены, стройки. С одной стороны, я понимаю, что молодежь останется, будет растить детей, город будет жить. С другой стороны, безумно жаль этой старины. Культура – это, увы, не первоочередная потребность человека. Дома разбирают, распиливают. А бревна внутри белые! Дома живые. Исторические окна заменяются на пластик – тупо вырезают дыру, запенивают и ляпают. Встречаются мнения – вот, мол, зачем реставрировать эту рухлядь, лучше бы садик построили! Люди не понимают, что если не спасать эту «рухлядь», то Енисейска не будет вообще. Потому что там нет никакого другого ресурса, кроме красоты.
Я медленно ехал вдоль Спасо-Преображенского монастыря… Дышащего, живого, уже восстановленного до такой степени, что недавний ветхий его облик казался минутным наваждением и вызывал недоверие к собственной памяти. А когда-то он очень сильно пострадал от разрушителей. В довершенье всего в него был буквально вживлен пивзавод. Прямо в стену. Да и стоял он говоряще: в островке между улиц Перенсона, Марковского и Рабоче-крестьянской. Возрождение монашеской жизни началось здесь с 1990 года. В монастыре долгое время жил отец Севастян. Вот что говорил о нем один монах: «И еще есть у нас в епархии благодатный старец отец Севастьян под девяносто годочков – духовник мужского монастыря в Енисейске (очень суровый край). За духовным советом в нашей епархии к нему только все и ездят (скольким людям он помог!) Обладает он многими дарами преизобильно. Бесов изгоняет. Только один он во всей епархии совершает чин отчитки. Всего человека и все помышления его видит как на ладони, многим говорит, как быть в их ситуации, еще до того, как те успевают слово вымолвить, часто говорит что-то человеку, например, “а книжки-то с черной магией нужно обязательно из дома выбросить”, а у этого человека их и нету, он вроде как и близко к сердцу эти слова не воспринимает, зато эти книжки есть у человека, который стоит рядом и обязательно это слышит, но ему отец Севастьян по любви этого не говорит, чтобы не обидеть».
Отец Севастьян был небольшого роста, с прозрачными висками и необыкновенно ясными молодыми глазами. Отличался добротой, желанием и готовностью помогать. Несмотря на преклонный возраст, он всегда находил силы для страждущих. Хотя и очень уставал. «Бывает, после службы пойдет к себе в келью отдохнуть, – рассказывает близко знавший его иеромонах. – Кто-то приезжает. Ему говоришь: “Вот, батюшка, снова приехали”. Вздохнет так. Видно, что тяжело ему. Спросишь: “Может, сказать, чтоб завтра приходили?” – “Нет, – отвечает, – люди приехали издалека, значит, беда какая-то их привела, надо поговорить”… Народу много идет в течение дня. По себе могу сказать, что иногда начинаешь раздражаться, хочется побыть в одиночестве. В нем этого вообще не было, проявлялись какие-то уже сверхчеловеческие свойства. Бывает, тяжело на душе, просто рядом с ним постоишь, ни слова не говоря, – и отходит уныние. Вот такой человек.
К нему приезжали самые разные люди. Среди них были руководители предприятий, члены их семей, музыканты, художники, преподаватели институтов. Многие находились на грани самоубийства, настолько невыносимы были их страдания. Демон ведь намного сильнее человека и он пользуется своим превосходством, издевается, внушает какие-то неразумные вещи. А люди этого не понимают, пытаются с ним разговаривать. Во время отчитки внешние проявления одержимости усиливаются. Пришедшие в храм начинают кричать матом, ругать батюшку, чего до этого за ними не наблюдалось. Некоторые катаются по полу, дрыгают ногами – в общем, ведут себя неадекватно. Бывали случаи, когда на отца Севастьяна пытались наброситься. Вообще, такие обряды сильно сказывались на здоровье священника. Он даже в обморок падал во время отчитки… Злобная сущность действует не только на того, кто ею одержим. Когда мы участвуем в судьбе человека, мы берем на себя часть его тяжести…»
Моя хорошая знакомая, приехавшая из Новосибирска специально к отцу Севастьяну, рассказывала, как попросила у него просфоры, и они пошли в подсобку их искать. Он не мог вспомнить, где они лежат, и долго копался среди бочек с крупами и прочей жизненной всячиной. Вышел отец Севастьян по-летнему, а на улице был сильный мороз, но он не остановился, пока не нашел просфоры и не отсыпал ей целый пакет. А про деньги сказал, что денег у них хватает и что они понадобятся моей знакомой на обратном пути. Так и случилось, по дороге навалились траты, и денег хватило впритык. Сейчас отец Севастьян живет в старинном селе Маковском Енисейского района, где продолжает служить в храме, но уже за штатом церкви. И к нему так же тянутся люди…
Я оставил машину у крашеных железных ворот и, зайдя в монастырь, прошел в храм, где первый раз в жизни увидел отца Севастьяна, попав к нему на службу. Это было больше чем десять лет назад. После той памятной службы отец Севастьян прочитал проповедь о покаянии. Храм еще только восстанавливался, и все происходило в каком-то боковом помещении, чуть ли не среди опалубок и цемента. Это была сильнейшая служба в моей жизни.
Я помолился за отца Севастьяна и за Женю, после этого дня будто связавшихся в светлую и бесконечную дорогу. И поехал по мокрому Енисейску, на мостовых которого уже завязывались вечерние радужные пятна. И переживая одну радужную мысль: если по Божьей воле Енисейск восстановим, то Женины образы приобретут особую, уже летописную, ценность. А если нет, то все равно останутся пронзительным напоминанием о забывчивости, картинной галерей с названием «Город, в котором ране был город».
Михалыч из Мариинска
Знай сверчок свой шесток.
ПословицаКто из очарованных пространством, проезжая по бескрайней России и глядя на пропыленные и будто засаленные домишки вдоль воющего фурами тракта, не говаривал жене: «Как можно всю жизнь прожить в таком вот доме?»… А та отвечала, потягиваясь: «Никогда этого не понима-а-ала…» А голоногая дочура, оторвавшись от телефона бросала: «С ума бы сошла в такой запендре́ жить… У нас вода осталась?» И путешественники еще некоторое время обсуждают усидчивость провинциального жителя, то упрекая его, то сочувствуя и особенно переживая за его «кругозор» и неспособность рвануть туда, где «поперспективней».
Мариинск – это Кузбасс и половина длины меж Красноярском и Новосибирском. 370 сюда и 430 туда. Федеральная трасса М-52. На трассе главное, набрав лету, не встрять в городишко, не увязнуть, не влипнуть в светофоры и пробки, в повороты по узким улочкам. Поэтому все проезжают Мариинск по объездной: по пути из Кемерова сворачиваешь налево после живописной острогообразной стелы с надписью «Мариинск». Большие красные буквы. Сам острог огромный, рубленый. На галерее пушка, а перед воротами в башню деревянная крашеная фигура: казак с саблей на поясе и пищалью.
…Есть на Руси земли, особо богатые на таланты. Рассказ наш о Кузбассе, но пойдем мы туда через Алтай, из сибирских регионов, пожалуй, первый по числу даровитых своих чад. Иван Ползунов, Михаил Калашников, Герман Титов. Актеры: Пырьев, Нина Усатова, Панкратов-Черный, Золотухин, Михаил Евдокимов. Воистину народный музыкант и собиратель Русского мира трагически погибший Василий Вялков. Поэты Владимир Башунов, Иван Жданов и Александр Еременко… Наверняка забыл кого-то… Да! Писатель Георгий Гребенщиков.
Но есть имя, особенно дорогое для русского сердца: это Василий Макарович Шукшин. Никто так не притягивает ярких и близких по духу людей, не пересекает их судьбы, связывая навсегда. Вроде бы известное дело, а жизнь нет-нет да и порадует новым подтверждением, дорожным узлом посреди бескрайней Сибири. «Ярманка» – ансамбль народной песни, созданный Василием Вялковым. Мы и ехали на двадцатилетие «Ярманки» в Турочак, а по пути не могли не заглянуть в Сростки. Директор Шукшинского музея Лидия Александровна Чуднова доложила, что здесь только что был Юрий Михайлов из Мариинска: «Ка-ак? Вы не знаете Михайлова? Музей бересты! Он тоже в Турочак поехал. Там и встретитесь».
Двинули дальше, а жена тем временем выудила из телефона и зачитала:
«Юрий Михайлович Михайлов. Почетный гражданин г. Мариинска. Родился 19 мая 1951 года в Мариинске. После окончания средней школы трудился на судостроительном заводе в г. Красноярске, а вечерами занимался в художественной школе им. Сурикова. Он серьезно увлекся живописью и графикой. После службы в армии Ю.М. Михайлов возвратился в родной город. Он стоял у истоков открытия детской художественной школы и был в ней одним из первых преподавателей. Юрий Михайлович претворил в жизнь ряд интересных художественных проектов по оформлению городского краеведческого музея и музея им. Чивилихина. Он является автором герба г. Мариинска. В 1974 году Юрий Михайлович увлекся изготовлением берестяных туесов. Его изделия из бересты экспонировались на выставках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов нашей страны. Он участник фестивалей в Индии, Испании, США, Германии. Ю.М. Михайлову присвоено высокое звание “Народный мастер РСФСР”. Именно Юрий Михайлович является одним из основателей берестяного промысла Кузбасса. В 1998 году Ю.М. Михайлов становится ”Почетным гражданином г. Мариинска”. В 1987 году Ю.М. Михайлову присвоено звание “Народный мастер России”, в 2008 году он стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации “Душа России”. Является активным участником художественной самодеятельности. Был организатором и руководителем ансамбля “Казачий строй”. Один из активнейших казаков Мариинского казачьего округа. В январе 2013 года Юрию Михайловичу присвоено звание есаул».
Почетный гражданин оказался веселым невысокого роста мужиком, чуть прихрамывающим из-за больной коленки. Лицо характерное, знакомое, открытое. Усатое, лобатое. Повадка компанейская, с шуткой, и сразу на «ты». Энергия теплая – и разгульная, и созидательная одновременно. И мудрая: главная черта Михайлова – чувство смежности всех дел.
Бывает, забурится человек в свое ремесло. Завязнет, застрянет в нем, как топор в витой листвяжной чурке, и невзвидит ни мира окрестного, ни людей. Профессионал сугубейший, а нет ему дела до других и говорить не может ни о чем, кроме своего. С такими поначалу интересно, восхищенно, а потом тесно. Людей мерит только собой, кто не в его лодке – черная кость. С такими неловко в компании – замкнут, наэлектризован: собственное знание томит, колет. И все стараешься уважить, спросить наконец про это «свое», чтоб не молчал, не ждал момента вставить слово, потянуть на себя теплое одеяло застолья.
Теперь другая крайность. Считается, что если человек и швец, и жнец и в дуду игрец, то это верхогляд какой-то и суетун. Однако жизнь показывает, что способность проявиться в разных областях – как раз и есть знак Божьего дара. С детства сидит в человеке драгоценное ядрышко таланта. Он еще не выбрало стезю применения и готово с трепетом перелиться в любую долю прекрасного – да больно жизнь коротка. Это про Михайлова. И еще: для него братья – все собиратели Русского мира, независимо от того, кто ты – писатель, промысловик, художник, музыкант. Ну а песня – как объединяющая сила.
Михайлов из тех, про каких в народе говорят: «Он наш».
Песенник, балагур, то и дело сыпящий поговорками и побасками. Тогда в Турочаке кто-то из гостей вывез было, что старинная песня, которую они спели с женой Татьяной, похожа на какую-то современную. «Похожа… – возмутился Михалыч, – свинья на ежа. – И добавил весело: – Кабан на быка, да шерсть не така». Посреди застолья он вдруг кому-то с жаром отпарировал: «Что значит трудно? Это же та-ко-е счастье – заниматься любимым делом!» Жена Михайлова, Татьяна, профессиональная певица. «Как познакомились с Вялковым? На Шукшинских. На Пикете на траве прямо сидит парень с гармошкой и поет частушки. Я тоже запел с ним». Через полчаса они стали друзьями на всю жизнь.
Пикет – это холм в Сростках, на котором любил сидеть Шукшин и глядеть вдаль. На этой горе происходит заключительная часть Шукшинского фестиваля. Там же стоит памятник Василию Макаровичу работы Вячеслава Клыкова. Босые ступни затерты людскими ладонями до золотого блеска. Сколько таких ладоней породнились через дорогие эти стопы! Так вот и мы познакомились с Михайловыми на Алтайской Шукшинской земле.
И кроме знакомства с ярким человеком порадовала давняя мечта – наконец располовинить дорогу Барнаул – Красноярск, особенно утомительную зимою, в пургу, гололеды и потемки (раз в снегопад попал в многоверстную пробку из четырехсот почти фур на кемеровских лесных увалах). «Михалыч, а что, если я к тебе заеду по пути? С ночевой?» – «Да заезжай – какой разговор!»
Мариинск после Новокузнецка самый старый в Кузбассе город. Стоит на берегу Кии, притока Чулыма. Русское село Кийское основано 1698 году, до этого там жили чулымские татары. Стояло на Московском тракте. Городом стало в 1856 году, и было переименовано в 1957 году в Мариинск в честь императрицы Марии Александровны. Облик города создавался купеческими домами и магазинами, многие из которых, к счастью, сохранились.
Подъезжаю к Мариинску со стороны Кемерова. Вижу давно знакомую стелу-острог на въезде. На сторожевой башне икона Казанской Богородицы, уже знаю. Отхожу в осеннее поле сделать фотографию сквозь золотые колосья, косо, ярко и густо освещенное предосенним солнцем. Перед острогом фигура казака, которого все зовут Михалычем – в честь автора городища. Юрия Михайлова.
Рядом шумит федеральная трасса, связывающая всю страну. В Мариинск въезжаю в сумерках. Михалыч встречает на улице в папахе, сапогах и шароварах с лампасами. У него были гости – праздник песни. Михалыч весь еще полон встречи. «Пошли-пошли!» Подходим к дому. Здание – бывший клуб. Здоровенный. Перед дверью лафет от старинной пушки. Тут же маленькая собачонка вся заходится от лая, жажды внимания. Стены музея увешаны шашками, картинами, предметами быта. Здесь же гостиная. И живут здесь же.
На картинах – казаки. То несущиеся на конях, то сидящие крепко в седле, то привставшие. Особенно вдохновляет Михалыча передача движения – копыта, наклон туловища, оскаленная конская морда, казак и замах шашки – искрученность могучего тела, слившегося с конем. Смотрим альбомы с эскизами. Собачонка лезет, Михалыч хватает ее, она подставляет пузо, Михалыч чешет, приговаривает: «Чесаки-пузяки». Потом вскакивает, хватает шашку и, прихрамывая, начинает показывать фланкировку. Рассказывает, как школьники приходят на экскурсии… Потом берет гармошку. Поет. Как-то легко, ненатужно.
Отдает гармошку Алексею, сыну Татьяны, тоже музыканту, и оба поют про кулачные бои. Песня озорная. Михалыч ухитряется одновременно комментировать: изображает, как «задирается» парень. Шепотом и, подмигивая, будто в скобках говорит: «задирается, смотри, задирается!» Потом, когда песня кончилась, рассказывает, как зашедшая чересчур далеко битва моментально прекращается по команде старшого, бойцы-кулачники братаются… И Михалыч с гордостью говорит: «Вот именно поэтому русские солдаты такие храбрые были!»
У Михалыча и мастеровой дар, и музыкальный, и педагогический, и форму чувствует – художник, скульптор и архитектор. Но и это ничего бы не значило, если б не широкая, приветливая и веселая душа, понимающая жизнь от прибаутки до глубины самой слезной. Михалыч сидел-сидел у себя в мастерской, работал над скульптурой, а потом вдруг отложил инструмент: «Знаешь, Мишка, че-то я так вчера по матушке свой загрустил… Что аж…» – И только крякнул и глаза вытер.
Ночь. Засыпаю. Шашки, самовары лучат тихий таинственный свой свет. С утра с Михалычем и Татьяной едем по купеческому двухэтажному Мариинску. Смотрим наличники.
– У нас тут программа такая, долголетняя, называется «Деревянные персонажи старого города». Отец и сын плотники, вот… сын смотрит, как отец рубит. Еще есть памятник… Картошке. Ну да, картошке!..
Оказывается, в 1942 году жители Мариинска собрали 1331 центнер картофеля с гектара – это мировой рекорд. Памятник открыли в 2008 году, в год, объявленный ООН годом картофеля. Администрацией Мариинского района был объявлен конкурс, на который прислали более полусотни образцов. Победил народный умелец, берестянщик, художник Михайлов.
Еще скульптуры. Фигура Николая-чудотворца, покровителя города. Фонарщик. В руке спички. В ногах бутыль с керосином. Смотрит на небо – не пора зажигать? Купец, купчиха и офицер казачий. «Смотри, как глядит-косится на купчиху!» На указателях примерное расстояние до Москвы – 4000 км и до Иркутска – 1400. У каждого из персонажей свое выражение. Казачий офицер с явным интересом смотрит на купчиху, купчиха скромно держит собачку, а сам купчина в какой-то своей хитрой мечтательности скосил глаза совсем в другую сторону. О чем он задумался? О прибыли в своей лавке? О том, что, мол, все видит: «Думаете, не замечаю… Щ-щ-щас. И смеяться-то мне, а не вам…»
Фигура городового. «А будут и пожарные, и гимназистки, и каторжники – сибирский тракт шел по городу».
Михалыч свое балагурство тоже хочет воплотить в фигурах. Рассказывал, как задумал сделать извозчика: «Бывало, зимой ждет извозчик седока, а того нет и нет… А морозяка. Бывало, и стопочку примет. Потом еще одну… В общем, бывало, и напьется. И вот я придумал такую скульптуру – сидит извозчик в санях, в тулупе, только что проснулся. И две оглобли лежат: пока спал – лошадь увели! И добавляет: «Не все ж серьезными быть!»
Вид деревянных фигур посреди асфальта, машин и суеты – не то что инородный – беззащитный. За них и боязно – и гордо. Вроде бы стоять им на ярмарке или в подобном месте – душе бы спокойней было. Но для Михайлова эти фигуры – поступок. И стоят они там, где… жарко.
Выехали на трассу: по правую руку мемориал жертвам Сиблага, возведенный по решению властей Кузбасса совместно с Кемеровской епархией Русской православной церкви. Проект подготовил Юрий Михайлов – все, кроме часовни. Сигнальный рельс, узкоколейка с тачкой, расстрельная стена. Михалыч ударил по рельсу, и понесся звон… Еще здесь засохла береза, будто не выдержавшая пережитого. Михалыч не разрешил ее валить, и она так и стоит страшной памятью, ощерившись угловатыми мелкими сучочками, как скрюченными черными пальцами. С березами у Михалыча своя старая история.
Конечно, заехали и на стелу. А на обратном пути зашли в музей бересты – он через дорогу на той же улице, где музей-жилье Михайлова. Береста – удивительная стихия, глыбью веков от нее веет. Материал удивительно прочный, каменный, при всей вроде бы временной гибкости и даже эластичности в сыром и особенно вываренном виде. Да и процесс изготовления туеса – целый ритуал. А уж снятие сколотня – священнодействие. Многим нынче даже это слово незнакомо, и мало кто знает, как получают сколотень, то есть берестяную трубу – основу для туеса. Я уже как-то писал об этом, но сейчас с удовольствием повторюсь. Дело происходит в начале лета, в пору окончания сокодвижения. Эх, до чего мощно дерево тянет влагу, готовясь к росту! Нам бы с такой силой и верностью питаться соками родной земли! Ищут березу с гладкой кожей, валят аккуратно, оставляя на щепе, чтоб была на весу. Выбирают кусок чистой, ровной бересты, надрезают его границы ножом, справа и слева очищают от коры, обнажают два круговых поля, потом рябиновым заточенным роженьком, как шампуром, начинают подсачивать шкуру. Загоняют шампур меж мокрой от сока древесиной и березовой шкурой. Подсачивают по всему кругу с обеих сторон – а потом, ухватив руками и прижав подбородком – срывают-проворачивают сколотень! (Михалыч меня поправляет: у них чистое поле для подсочки зачищают с одной стороны, с другой – просто надрез.)
Потрясают картины из старой бересты, наросшей на месте снятого пласта. Вид вроде бы неопрятный у бересты с березы, залечившей рану… Но будучи забранным в рамку, такая береста открывается небывалым образом, таинственными очертаниями, в которые пытливое сердце откроет целые миры. Это сродни морозным рисункам на зимнем окне.
– Это ты придумал?
– Ну нет. Вообще, это для тех, кто видит. Хотя это уже не традиция. Это современное…
– Ну а кто придумал-то?
– Художники. Это как туес белой стороной наружу. Крестьянин так не делал – пачкает белым. А художники могут.
– Как ты все успеваешь?
– А я лентяй… Никуда не тороплюсь и все успеваю.
– Михалыч, ну… расскажи еще.
– Меня Господь сподобил познать мир через уважение к мастерам. Была последняя выставка при Союзе. Восемьдесят седьмой год. Выставка мастеров-народников с пятнадцати республик. На ВДНХ. Монреальский павильон. Все его этажи были заполнены прикладниками народного рукоделия со всех республик. А мы только-только с Валеркой (другом Михайлова. – М.Т.) начали становиться звездами в бересте. Ой, как нас Москва принимала! Одна выставка за другой. Газеты печатают: «Советская культура», «Известия»… Фотографии. Мы только начали души разворачивать – и вдруг бах – эта выставка. И мы по ней пошли… А мы сидели 10 дней работы фестиваля… по очереди ходили… один сидит, рассказывает о нашей экспозиции… другой ходит смотрит… Иду по коридорам… и работы-работы-работы!. Кузнецы, чеканщики. Седла… стремена… керамика… кожа…Таджики… эстонцы… резьба по дереву… все-все-все. И я себя поймал на ощущении, что я не иду: а лечу! Так наискосок… до того впечатлен был народным искусством! А народное – это же самое настоящее, это от сердца. И я почувствовал, что набекрень – показывает с силой рукой, – набекрень вот так лечу, и аж испугался… И я сказал – оп, Юра, стоп. Не такая уж ты и звезда. Есть и посильнее. И покрепче тебя. Посмотри, их сколько – им несть числа… И я вот это понял, и успокоился, и меня никто не может укорить, что я такой чванливый, нос задрал. Я сел и притих.
Опять же возвращаясь к пословицам и поговоркам (их нужно преподавать в школах!) – не в свои сани не садись, каждый сверчок знай свой шесток. И я свой шесток знаю. Но и отвечаю на него. И если мне искусствовед предъявит критику, мол, у вас здесь не так что-то, я смогу ему ответить – да, у меня здесь не так, а вот так, потому-то и потому-то. И я это сделал сознательно. Хм…
– Про казачье расскажи.
– Вообще я родился в Мариинске, а работал в Красноярске… А «Тихий Дон» был настольной книгой и до сих пор моя любимая книга. Я стал рисовать казаков, стал изучать анатомию лошадей, изучать оружие… то есть научился грамотно и профессионально рисовать казаков… Если что-то изображаешь, нужно изображать честно, без всяких субъективных вещей, придуманных. Например, если казаки носили винтовку на правое плечо стволом, то это только казаки. Все остальные – охотники-кавалеристы – на левое… И казаков всегда можно было узнать по силуэту. На фоне вечернего неба выскочил всадник. Темно, не видно ничего, ни погон, ни лампасов, но винтовка – на правом плече. Это казак. А корней у меня нет казацких! Мама моя из-под Смоленска, отец – сибиряк, из чалдонов…
– У нас на Енисее не говорят «чалдоны»…
– Ну вообще чалдонами называют русских, давно живущих в Сибири, уже потерявших корни где-то тут…
– Вроде нас, что ль?
– Навроде.
Михалыч усмехнулся. Задумался. Потом заговорил негромко:
– Знаешь, Мишка, у меня с определенного времени появилось стойкое ощущение, что я все знаю в мире. Это не гордыня. Это ощущение, что я это все когда-то прожил… Я не перестал удивляться рисунку ребенка, цветку, шмелю… Но я перестал удивляться: «Как? Этого не может быть!» Нет… Мне скажут: «Тарелка летит». А я: «Может, и летит». Стал маленько меланхолично-спокойный, со стороны гляжу: и всему дивлюсь, но и готов ко всему. Такой порядок в сердце…
Может, это и суть моя. Как в той песне про Мариинск. «В этом городе мне жить нра-а-авится» (песня, которую Михалыч сочинил). Это суть моя, отношение к Родине. Меня звали… – махнул куда-то вдаль на запад рукой, – обещали четырехкомнатную квартиру и прочее, серьезное предложение было. Но я никуда не хочу уезжать. И меня печалит очень, когда дети называют этот город унылым болотом и хотят «хотя бы в Кемерово», а лучше в Новосибирск. А лучше в Москву или даже за границу. А мой друг, режиссер нашего театра «Желтое окошко», который тоже маленький, камерный… и очень сильный… Петька… Привез с Питера Гран-при, «Золотой Арлекин». Обошел театры Олега Табакова и других. И второй раз – чпок! И его в сторонку отозвали и сказали: «Петь, ты это… давай, мы тебе дадим первую премию, а то если опять Гран-при, то нас никто не поймет уже…» Он сказал: «Давайте».
Болото, это когда у вас в сердцах болото. Тогда вам любой город: и Чикаго, и Лондон, и Москва – будет болотом. А если сердце у вас горячее и трепетное, тогда любое болото для вас будет родиной – милой, доброй и щедрой. Лучше не скажешь. И я ребятишкам хочу показать не какой я талантливый, а как можно интересно жить на свете – в маленьком городке. Можно знать о казачестве, о природе, о животных, о скульптуре, знать, как называются разные горшки-вазы… Обо всем знать. В одном городе жить, а весь мир в кармане. И что миров вокруг – сотни! Вы не думайте, что телевизор – это ваш мир, или вот кухня с кашей. Нет. Есть мир жуков-бабочек. Мир палеонтологии, искусства, поэзии, музыки… море всего! Ты в этот мир окунайся! Ты положил лист бумаги перед собой и все, погружайся. И они уходят с горящими глазами и удивленные, что, оказывается, можно в Мариинске так интересно жить!
Столько еще хочется сказать про Михайлова! Какую уйму проектов он предлагал городу и области. Как помогал Тулеев с острогом и мемориалом, как при встрече всегда подходит, за плечо приобнимет. Как спросил: «Как у вас дела?» И Михалыч ответил: «Хорошо. А у вас как?» И тот ответил: «Тоже хорошо!» И оба расхохотались, потому что у Тулеева так никто не спрашивал. И про то, как стелу-острог летом шестнадцатого года свалило ураганом, и Михалыч призвал ребят, которые возводили, и те за полторы недели восстановили.
А раз ехали с детьми из Красноярска и, конечно же, заночевали у Михайлова в музее. Утром раньше раннего он гармошкой детишек разбудил, и они не конючили, не нудили, а проснувшись, глядели смущенно и очарованно. В тот день мы к динозаврам поехали. В поселке Шестаково есть по-над Кией Шестаковский Яр. В его основании в 1953 году геолог Александр Моссаковский нашел скелет небольшого динозавра – пситтакозавра, жившего в раннем меловом периоде. Тут куча ученых побывала, идут раскопки. Михайлов и здесь умудрился отметиться – сделал памятник динозавру.
Детишки посмотрели и памятник, и фигуру динозавра в здании музея. Потом вернулись в Мариинск. Вечером Михалыч с Татьяной пели. Вместе. Бессмысленно описывать пение. Юра ведет и вроде бы на первом плане, а Татьяна вроде бы на втором. Вроде бы ее – школа и музыкальность, а его – вольность дара. Но как Михалыч слушает Татьяну, как буквально купается, омывается в чудном и отточенном ее голосе! С какой любовью смотрит ей в глаза…
– Как я люблю с Танюшкой петь!
Что хочется сказать? В некотором царстве в некотором государстве по имени Сибирь жил-был человек. И я там был, мед-пиво пил… И столько узнал…
Когда человек постигает родство ремесел, открывает, что все искусства одинаково устроены, дело только в решимости и во времени, отпущенном на жизнь. Поэтому к ее концу понимание и навык совершенствуется в немыслимой какой-то прогрессии и обратно пропорционально остатку дней. Конечно, отпустил бы любому Господь триста лет – мгновенно бы снизил ход, расслабился, успокоился. Но только не Михалыч – он и так спокоен.
Да… Какое же все-таки чудо в постижении всего созидательного! И ведь главное – во чью славу? Если себя, любимого, – одно дело. А если во славу ближних, земли родной да Господа Бога нашего – то совсем другое. Поэтому каждый решает – в одну тропу-траншею зарезаться или ровным фронтом двигаться и созидать поле, фронт памяти, не поддаваясь гордыне – знай сверчок свой шесток. И я там был. Мед-пиво пил.
Так и просится сказочный урок: и с тех пор… Что с тех пор? Не объезжаю городов по объездным?
Сколько городов и людей объезжаем мы по объездным, не подозревая, что каждый день кто-то учит наших детей быть русскими. Да пусть так и живет, сидит на месте, никуда не двинется, не шелохнется, не поедет, где ярче, веселей да интересней.
Сделают ли свое дело эти отдельные фигуры? Да делают уже. А если эти фигуры такие беззащитные и разрозненные на улице, то как долгожданно это разрозненное соединяется в единый объем в огромном доме-музее Михайлова! Этот музей – такой же, как музей старообрядческой культуры в Горном Алтае в Уймоне у Раисы Павловны Кучугановой. Это музеи не экспонатов – а духовных обычаев сильных людей, которые собирают вроде утюги да горшки, а не ведают: что главные – теплые, живые, трепетные экспонаты – это они сами. Бог им в помощь!
Скажут, что таких, как Михалыч, мало, что они на фоне объявшей Россию чужеродной волны – как отдельные фигуры посреди пыльного асфальта и ярких временных вывесок. Но если даже и мало – то Шукшин-то видит! И радуется. Тем более, что фигура фигуре рознь – а фонарщиков никогда много и не бывало.
Тобольский образ
…пришед в Сибирскую землю… татарове же сего убояшася русских вой много пришествия, избегоша от града своего, иде же прежде сего быть в Сибири татарский их городок стольный усть Тобола и Иртыша иже именуемый Сибирь, оставиша его пуста. Рустии же вои придоша и седоша в нем и утвердивше град крепко, иде же бо ныне именуемый Богоспасаемый град Тоболеск.
Из Есиповской летописиМного на Руси, а особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, мест удивительных, овеянных легендами, напитанных древностию до какой-то сказочной недоступности, конечно, кажущейся, но и справедливой, поскольку до каждого такого места надо дорасти и дотрудиться. И до поры живешь без него, пока не одарит Божья воля силой, пока вдруг неумолимо не подойдет решение, завораживая, маня, и не развернет жизнь на несусветный какой-то градус… И уже непонятно, как можно было существовать таким обездоленным, спокойно дышать, ходить, спать, пока далекий город, река, урочище существуют где-то там таинственно и полно… Но без меня.
Зима. Сибирь. Дорога. Ночевка в дальнобойном заезжем дворе на федеральной трассе. Раннее сине-черное утро. Свет фар на накатанном и сахарном снежном полотне, выезд на промороженный асфальт. Жар печки. Голос Василия Вялкова, музыканта из Турочака, который всегда с нами. Песня омича Владимира Ворожко «Лодочка»:
Ой попутным ветерко-о-ом Тихо лодочка плыве-от А на лодочке казачок Песню вольную пое-от… …………………………. На Чувашевом мысу-у-у, потерял свово дружка-а-а… Тихо лодочка плыве-ет, Грустно льется песенка-а…Вялкова мы слушаем свое время, его музыка будто озвучивает то, что проплывает за окном, наполняет новым объединяющим смыслом.
На Чувашском мысу произошел бой Ермака Тимофеевича с войском хана Кучума.
В Тобольске мы никогда не были. Тобольск с 1590 года стал разрядным городом и центром освоения Сибири. Как написано в справочниках, по преданию, город был основан в праздник Святой Троицы недалеко от места, возле которого высадились воины Ермака во время знаменитой битвы на Чувашском мысу, решившей вопрос о присоединении Сибирского ханства к России. Первой городской постройкой стала Троицкая церковь, а мыс был назван Троицким.
Бывает, представляешь пространство, куда держишь путь, по рассказам, картинам да фотографиям, и оно в душе разрастается огромно и былинно, а на поверку оказывается будничнее, трезвее, тише и будто учит нас этой сирости, умению узреть глубину под неяркой оболочкой. И вот крепишь силой любви это серенькое, неброское, несешь дальше в жизнь в его сирости, жалея и сострадая, и то умиляясь сам себе, а то и устыдившись умиления и запутавшись сам в себе, в своем мудрствовании.
И вот Тобольск… Сколь раз глядел в его сторону с востока, с гористой таежной выси, с заенисейской дали, чуя его примерно и снисходительно, особо и не различая, не расплетая речных завязей и слияний… Зная, что да, есть заповедно-летописный город где-то там, в стороне от Транссиба, между Камнем-Уралом и Обью затерявшийся на извилистых речках, в болотистой кедровой плоскотине… И что живет там Аркадий Григорьевич Елфимов, знаменитый издатель и собиратель Русского мира, хранитель города. К нему и лежала наша дорога.
Далеко на востоке остались Красноярск и Новосибирск… Ночуем в деревне неподалеку от Ялуторовска. Наш путевождь Сергей Васильевич, приняв нас под свой надзор на Тюменской земле, завез на постой к своему старинному товарищу, пенсионеру и специалисту по березовым веникам, заготавливающему ежелетно их тысячу на продажу в Тюмень. Напарившись с ночи в бане, идя хрустким снежным двором в избу, гляжу на звездное морозное небо, обещающее ясное утро. И переживаю, выстоит ли яснец, не замутит хмарью наш въезд в стольный град Тобольск.
Но не стал Господь пытать нас непогодой, тусклым взором слабеющих звезд, серым налетом западного ветра, севом снега в ветровое стекло, мокрой черканиной дворников…
Ясно морозное утро. Подъезжаем и видим по-над яром дивный белый кремль. Освещенный косым зимним солнцем, налитой нежным варенцом крепнущих лучей, он стоял в морозце, будто медный, и впечатанный, как герб в серебряную заиндевелую округу, еще отходящую от ночи. Словно Господь Бог дарил образ раз и навсегда, пытая взор на крепость, а душу на выносливость, на ту же медность, печатность, способность додержать чеканку, не уронить силы и ясности.
«На Чувашевом мысу-у-у…»
Тобольск относительно небольшой (около ста тысяч населения) город, в котором эта некрупность только подчеркивает штучность, значимость. Плотность и концентрация прошлого здесь небывалая и какая-то ненатужная. Дух места явственен. Плотно и творожно-свеже глядят известкой беленые стены. Многие памятники восстановлены, но еще множество нуждается в возрождении.
С Аркадием Елфимовым я был знаком заочно и телефонно и, конечно, много о нем слышал. Масштаб его заслуг перед Отечеством представлял, но тоже издали, обобщенно, что да, есть такой знаменитый издатель, радеющий о культурном наследии, выпускающий богато книги и руководящий «Фондом возрождения Тобольска». Но одно дело – представлять, а другое – увидеть.
Аркадий каждым движением своей жизни, ее воздухом, даже просто своим видом – созидает, продолжает образ старинного купца-собирателя Русской земли. Это касается всего: и его дома, где каждая картина, каждый завиток на письменном столе дышит обращением к истории, ходом жизни от прошлого к будущему и служит этому ходу сдержанно и собранно, как и сам хозяин. Вот он на одном из портретов – в бородке на это раз, чуть задумчивый, далекий какой-то, сумрачный, отрешенный и уходящий, уводящий и нас в сумрак времен, в старинную даль, где уже нет ни имени и ни личности, а лишь преемственность и память. Словно говорит этот обобщающе знакомый портрет: жизнь прошла, а созданное осталось. Вот в этой отрешенности и обобщенности, возможно, и есть загадка Елфимова, созидательный мир которого настолько говорящ сам по себе и настолько работает на многовековое, что давно уже отделился от своего автора, и тот существует близь него ненавязчивой тенью, его малой, естественной и сдержанной частью, давно не принадлежащей себе.
Аркадий Елфимов создал из своей судьбы поступок, который многократно перекрыл, перевесил личное, человечье, деловое, эгоистическое, и мы, с благодарностью глядя на изданные им книги или заложенный парк, чувствуем, что это лишь закрайки, надводные части того огромного и нематериального, что делает человека принадлежащим тайне истории уже при жизни. Это то, с чем, покидая дорогое такое место, еще долго пытаешься осознать увиденное, услышанное и пережитое. Именно оно дает небывалые силы на созидание и служение Отечеству, в котором мы еще вчера казались себе такими бессильно одинокими.
Образ… Как ни пытаюсь обойтись без этого слова – не выходит. Один издатель сказал, глядя на дорогие и прихотливо оформленные фолианты, изданные Елфимовым, что, мол, я бы на эти деньги сотни тысяч бы дешевых книг издал. Ну издал бы. И добавил свое суетное слово в брошюру времени, в нынешнюю литературную макулатуру, несметных деляческих тиражей на газетной бумаге, унижающих книгу по содержанию и внутреннему, и внешнему. Яркие снаружи и рыхлые внутри книжонки, жалко-одноразовые и бросаемые в придорожных уборных…
А Аркадий Елфимов вопреки всему возродил и терпеливо несет образ книги, как драгоценности, реликвии и свидетельства, чего-то именного, отмеченного клеймом личного, сокровенного и ответственного, как картина или оружейный ствол.
Конец февраля в Сибири. Зима, а мы уже садим дерево в парке у Аркадия Григорьевича. Здесь уже много деревьев, и одно из них посажено недавно ушедшим от нас Валентином Григорьевичем Распутиным. И настолько еще зияет пустота от его ухода, что кажется, и наше дерево тоже связано с ним, тоже садится в его память. Солнце. Кругом сияет снег. Просторная лунка для саженца. На срезе от лопаты грань, плоть земли – уже на удивление талая, искристая, влажная и живая. И готовая принять и вырастить, выкормить наше дерево памяти. И эта неожиданная готовность земли к поддержанию жизни, к умножению и продолжению – как урок и как требование, как напоминание, какое духовное богатство нам завещано и сколь неотвратима кара за нерадение.
Заканчивается наше пребывание в Тобольске. Темнеет и надвигается зимний и предвесенний вечер, бежит асфальт под белый капот и отгорает, удаляется город-символ, город-герб, навсегда отпечатавшись в душе и догорая там, дозревая и достывая.
Как часто недоглядываем настоящее, еще недочеканенное, не достывшее, не додержанное оптикой дистанции. И все ждем, пока затуманится, удалится, чтоб уже, держа на отлете, взглянуть осмысленно на отступившее близкое, и маемся этой близостью, стыдясь в ней личной привязи. И все любуемся прошлым, что с годами набирает притягательности, сквозь завесу лет выглядя все затертей и дороже, и этот тусклый и драгоценный блеск почти в прелесть уводит очарованные души.
В том и пожизненное чудо Тобольска, что неисповедимым образом прошлое происходит здесь сегодня и среди бела дня. И переходя в будущее, явью стоит пред очами, даруя настоящее. Это и есть неделимость русского времени, слияние смыслов. Будто драгоценный нимб вечной России сей час сияет над святым и удивительным этим местом. На Чувашевом мысу.
Колыванское поле. Очерк о писателе и просветителе Николае Александрове
Наказание с этим разливом! В Колывани мне не дают почтовых лошадей; говорят, что по берегу Оби затопило луга, нельзя ехать. Задержали даже почту и ждут насчет ее особого распоряжения.
Станционный писарь советует мне ехать на вольных в какой-то Вьюн, а оттуда в Красный Яр; из Красного Яра меня повезут верст 12 на лодке в Дубровино и там уж мне дадут почтовых лошадей. Так и делаю: еду во Вьюн, потом в Красный Яр… Привозят меня к мужику Андрею, у которого есть лодка.
– Есть лодка, есть! – говорит Андрей, мужик лет 50, худощавый, с русой бородкой. – Есть лодка! Рано утром она повезла в Дубровино заседателева писаря и скоро будет назад. Вы подождите и пока чайку покушайте.
А.П. Чехов. Письма из Сибири. СахалинЗа таким чайком мы уже как-то обсуждали смену транспортных русел по мере обживания нашими предками Сибири и Дальнего Востока. Тогда речь шла о старинном сибирском городе Енисейске, утерявшем значение с обустройством к югу нового Сибирского тракта, развитием Красноярска и прокладкой Транссиба. Теперь разговор о Колывани Новосибирской области, в районе которой старый Сибирский (он же Московский) тракт пересекал Обь и где была важнейшая переправа.
Открываю Историческую энциклопедию Сибири. Поселок городского типа, Колывань «расположен на р. Чаус (приток Оби) в 51 км к северу от Новосибирска… Основан как Чаусский острог 29 июня 1713 г. томским дворянином Д. Лаврентьевым в 6 верстах от устья р. Чаус на месте д. Анисимовой. Острог был поставлен для обороны от набегов кочевников, но его стены ни разу не видели неприятеля и, несмотря на ремонт в 1750 г., вскоре пришли в негодность. Осн. занятиями жителей стали земледелие, скот-во и пушной промысел. Нередки были и раскопки окрестных курганов в поисках драгоценностей».
Стоящую в низине Колывань топило, да и проезжие по Московскому тракту купцы спрямляли дорогу поверху, поэтому в пятидесятых годах XIX века город перенесли на коренной берег. Пик развития Колывани приходится на конец XIX века. К этому времени появились кирпичные, кожевенные, маслобойные, мыловаренные, салотопные и свечносальные заводы. Местное купечество окончательно укрепилось, отстроило каменные особняки. В 1882 году был заложен и в 1887 освящен храм в честь Александра Невского, небесного покровителя убиенного императора Александра Третьего. В 1992 году здесь был устроен Покровский епархиальный женский монастырь, названный также Александро-Невским. Кстати, именно Александр Третий подписал указ о строительстве Транссиба, столь важного для Сибири.
Была в Колывани и почтовая станция. Она находилась в здании, где сейчас располагается почтовое отделение: Революционный проспект, 40. Сейчас здесь висит мемориальная доска, сообщающая о том, что в мае 1890 года проездом на Сахалин в Колывани останавливался А.П. Чехов.
В конце XIX века вовсю строилась Транссибирская магистраль, пролегая примерно там, где шел старый Московский тракт. Однако местность в районе Колывани слабо подходила для строительства моста через Обь. Прикосновение Чехова к Колывани имело литературное продолжение: изыскательским работами руководил знаменитый инженер и писатель Н.Г. Гарин-Михайловский. Вот, что пишет Историческая энциклопедия Сибири:
Гарин-Михайловский «и его зам. В.И. Роецкий обосновали преимущества перехода через Обь у с. Кривощеково, что сокращало протяж. трассы более чем на 100 верст, экономило 4 млн руб., но оставляло старин. купеч. города Томск и Колывань в стороне от Транссибирской магистрали. Несмотря на жалобы купцов и попытки подкупа ими должн. лиц, изыскателям удалось отстоять свой проект. Мост положил начало Новониколаевску (с 1926 г. – Новосибирск)».
На правом берегу Оби стихийно возникли поселки мостостроителей и слились в один, названный в 1894 году в честь императора Александра III Александровским, а в 1898 году он был переименован в честь нового царя в Новониколаевский. Новониколаевск, переименованный же в 1926 году в Новосибирск, и станет столицей Сибири и самым большим городом к востоку от Урала. Вот она – судьба поселения. Была Колывань в трактовом ряду Тобольск – Томск – Енисейск – Иркутск – Верхнеудинск – Нерчинск! А теперь просто рабочий поселок под Новосибирском.
В 1920 году Колывань сотрясло трагическими событиями, именуемыми «Сибирской Вандеей». Недовольство крестьянства, вызванное продразверсткой, привело к бунту против Советской власти. Восстание было подавлено.
В трактовую далекую пору Колывань посетили кроме Чехова еще Короленко, Радищев и Чернышевский. В начале ХХ века в Колыванском вышеначальном училище для мальчиков преподавал математику Александр Волков, автор «Волшебника Изумрудного города». Была здесь и Анастасия Цветаева. В колыванской школе училась певица Жанна Агузарова.
Несомненное явление колыванской жизни – ныне покойный Вячеслав Веревочкин – бывший «зампотех» танковой бригады, «броневой мастер», создавший целый музей военной техники с действующими образцами. Режиссеры Н. Михалков и К. Шахназаров заказывали ему танки для съемок. Веревочкин жил в Малом Оеше, если так можно сказать – пригороде Колывани.
Есть еще другая, рудная, Колывань в Алтайских предгорьях, где приказчики Акинфия Демидова в 1724 году нашли медь. Говорят, что новосибирскую Колывань назвали в честь той, Алтайской. И что та Колывань названа по слову «колыва», означавшему «заготовки руды». «Колывань – колыва, от слова «колоть», «калить». «Колыва – это руда, приготовленная для плавки. Слова одного ряда: колоть – колесо – раскаленная – кол, – пишет мне в письме житель Колывани писатель Николай Александров и добавляет (видимо, рассмеявшись): – Николай, вот… Хотя вообще считается, что название это угро-финское. Таллин раньше назывался Колыванью. Про историю обеих Колываней читай в Исторической энциклопедии Сибири».
Интересно все-таки, кто эти энциклопедии задумывает, пишет? Где живет? «Только, слышишь, автор, не вздумай, сказать, что тоже в Колывани!» – предвижу возмущенный окрик читателя. Как раз вздумаю. Человек, с которого началась Историческая энциклопедия Сибири, действительно живет в Колывани. Это тот самый Николай Александров, который рассказывал о «колыве» и который одновременно является руководителем Издательского дома «Историческое наследие Сибири».
На одном из совещаний в Институте истории СО РАН его директор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, В.А. Ламин предложил Николаю Александрову издать пять томов Советской сибирской энциклопедии (ССЭ). Замысел ССЭ зародился в среде краеведов в 1926 году, когда в Новосибирске сосредоточились значительные силы ученых-сибириведов. Энциклопедия задумывалась как пятитомная, однако был подготовлен и шестой, дополнительный, том. Но вышло всего три тома этого удивительного издания, материалы для которого писали такие академики, как В.А. Обручев, А.Е. Ферсман, С.В. Бахрушин. Редакцию постигла трагическая участь – она была репрессирована в конце тридцатых годов.
Александров предложил создать энциклопедию, которая охватила бы новейшее время, последние открытия, исследовательские работы историков и археологов и данные рассекреченных архивов. Ламин поддержал идею. В пользу новой энциклопедии говорило и то, что многие статьи в ССЭ имели вынужденно политизированный характер, и классовый этот подход также вызывал вопросы.
Свою позицию Александров изложил ученым, и было принято решение издать новую энциклопедию. Через семь лет Историческая энциклопедия Сибири вышла. Это научно-справочное издание с авторским коллективом, включающим около 400 специалистов, представляющих свыше 50 академических институтов и университетов от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока. Ламин, имея непререкаемый авторитет в научном мире, объединил усилия четырех региональных институтов истории и сумел аккумулировать силы специалистов на всем пространстве России. Издательство Александрова создало образ энциклопедии, провело сбор фотоматериала, редактирование текстов и профинансировало проект.
С Александровым мы познакомились на заочном отделении Литературного института им. А.М. Горького, он учился на семинаре прозы М.П. Лобанова. В одном из рассказов Николай описывает случай из тех лет. Сам он рано шагнул в жизнь, и кем только не был: организатором свадеб, акробатом, гонял машины с Дальнего Востока. Бойкий, общительный, он сошелся (или ему так показалось) с нашим любимым преподавателем древнерусской литературы Василием Васильевичем Калугиным. Настала пора экзамена. Николай выучил один, пятый, билет и пошел на экзамен. Достался ему 27-й. Не моргнув глазом, он рассказал пятый, а когда Калугин уличил его в обмане, начал настойчиво клянчить тройку. Калугин негромко сказал: «Давайте зачетку» и поставил «отл.». «Что вы делаете?!» – воскликнул студент. «Ну вы же хотели оценку», – пожал плечами Калугин. Этот случай Николай Александрович запомнил на всю жизнь. Видно, каждый должен пройти что-то подобное, чтоб понять, где зло, где Добро. Помните рассказ Виктора Петровича (фамилию специально не говорю) «Конь с розовой гривой»? Это о том же: как зло Добром одолевается.
Сибирский тракт. Дорога. Размышления. Бросок Красноярск – Колывань. Расстояние 840 км. Семь утра. Возмущенный звонок Александрова в момент проезда мною поста ГАИ. «Ну ты где пропал?» – «Да пру, из города только выехал». – «Ладно, я в Новосибирск еду, тебя когда ждать?! Короче, я в издательстве пока».
Издательство «Историческое наследие Сибири», созданное Александровым, существует 15 лет, небольшое, и состоит из несколько сотрудников и бухгалтера, хотя по договорам работало иногда и до 200 человек. Из детищ: десятки книг, среди которых историко-литературный фотоальбом «Новониколаевск – Новосибирск», пятитомная История промышленности Новосибирска и области, в которой освещены истории 92 промышленных предприятий. Серия «Русская книга», куда вошла книга С.Г. Кара-Мурзы «Евроремонт для России», написанная специально для издательства, его же книга «Манипуляции сознания» и единственное в Сибири издание современного русского поэта Николая Александровича Зиновьева из Краснодарского края.
«Дали титул “Меценат России”, – смешно, какой я меценат, если я деньги на издания где с протянутой рукой, где с боем выбивал! – говорит Александров. – За 15 лет мы раздали книг в библиотеки России более чем на 10 миллионов, это только, что документально оформлено. У нас три губернаторские премии».
«Издательским делом сейчас мало кто занимается с позиции служения. Дело важнейшее, формирующее будущее. Сохранение исторической памяти и духовно-нравственных традиций. Распутин о нас хорошо отзывался. Он нам писал очерк в книгу “Магистраль” о Кругобайкальской железной дороге. Гонорар я ему выдавал в перерыве работы Всемирного Русского Народного Собора, за кулисами где-то. Достал деньги и расходник, он расписался. И очень обрадовался этим деньгам – сказал, что как раз сейчас острая нужда в них. Так обидно за него стало…»
«А “призвание”, “не призвание”, не знаю… делаю, что делаю… Ну да, я писатель, но никогда писательство не считал делом жизни или профессией. А издатель – это профессия и площадка для реализации взглядов. И писательство мое имеет практическое применение. Тоже история – вот жил человек: здесь споткнулся, здесь оступился, а здесь маленькая победа. И та же опасность фальсификации – перед собственной совестью. У меня о семье много написано, ну что такое муж, ну в моем понимании, что жена. И как-то женщина подошла: после вашей книги мы забрали заявление на развод. А я всего-то навсего рассказал, как бился за власть над женой.
Меня больше всего интересуют ну что ли… семейные узы в масштабе государства. Единое понимание Добра и зла. Сохранение традиции в этом понимания. Сейчас столько молодежи, активной, пассионарной, но бесхозно брошенной. А мы стараемся их не потерять».
Это Александровское желание не потерять я испытывал на своей шкуре. Николай Александрович приобщал меня работе с молодежью: мы выступали в школах Колывани и однажды совершили десант в городок Карасук, где три дня работали по четыре пары в день, в лицее и педколледже. Рассказывали о литературе, о Русском мире и о том, как важно знать свою малую Родину. Никогда душа не была так насыщена, так полна. Казалось, только так и можно жить.
Хорошо видны результаты работы архитектора или инженера: вот городище, вот мост. Или вот учитель: столько-то учеников выпустил. А работа таких, как Александров, требующая огромного поденного расхода энергии, она вроде как неучтеная, невещественная, да и повествование о ней вилами по воде писанное: рассказал, как кто-то рассказывал о чем-то правильном. Тем более сработает ли рассказанное – еще время покажет.
На въезде в Ачинск в самом неудобном месте, еще и с трамвайными путями, конечно же, раздается звонок:
– Ну че, ты едешь? Че так долго? Ясно… Ну мне в Обалцы надо до обеда только.
– В какие Обольцы?
– В ОблЦИТ, глушня! Областной центр информационных технологий.
С этим центром связано новейшее детище Александрова, объединившее его общественную работу с литературной программой духовно-нравственного воспитания «Мудрые дети». Когда-то в детстве в руки Коли попала «Книга для родителей» А.С. Макаренко: «Несмотря на острые и даже жестокие сюжеты, способные ранить детскую психику, я с книгой справился и понял, что Добра на земле значительно больше, чем зла, но зло катится с горки по пути наименьшего сопротивления, а Добро карабкается вверх. Это побудило писать для молодежи с осознанием того, что главный инструмент воспитания – это добрая воля молодого человека, который сам принимает решения и делает свободный выбор».
«Сейчас страшно размыты нравственные берега. Библиотека “Мудрые дети” это попытка возродить традицию семейного чтения. Это совместное обсуждение нравственных вопросов, на которые можно найти ответ только в диалоге поколений. Программа призвана, цитирую, породить семейное сотворчество в познании нравственного и поведенческого эталона гражданина и патриота России. И это попытка сгладить противоречие между школой и семьей, который очень часто сеет раздор в душе ребенка».
Литературная основа «Мудрых детей» – короткие рассказы, после каждого из которых в разделе «Думаем вместе» помещены размышления на тему рассказа, а в разделе «В помощь учителям и родителям» – вопросы, рекомендуемые к обсуждению с детьми. В разделе «самостоятельная работа» предлагается выяснить значение тех или иных слов, и список словарей.
За март-апрель 2017 года Александров провел десятки семинаров во всех районах и многих городах Новосибирской области, охватив еще и Кузбасс. Видеоконференции, конференции, встречи со школьниками, студентами и учителями. На этот год запланировано семь конференций по «Мудрым детям» в педагогических колледжах области. Педколледжи ввели в учебный план работу по методике «Мудрых детей» при подготовке учителей младших классов. Спецкурс по «Мудрым детям» в Педагогическом университете начнется с февраля 2018 года.
На «Мудрых детей» Александрова вывела его книга «Тайна счастливой жизни». Санкт-Петербургское издательство «Русская симфония» издавало книгу несколько раз, распространяло и через магазины, и через иконные лавки. С той поры Александров переработал «Тайну» и как он выразился «всю лобовую назидательность оттуда выкинул». Некоторые рассказы из переработанной «Тайны» вошли в «Мудрых детей», некоторые рассказы написаны заново. И теперь, по словам автора, «Мудрые дети» по-настоящему «русские и честные», и главное, в них «нет ортодоксальной религиозности, ортодоксального коммунизма и ортодоксального либерализма, а есть здравый смысл, любовь и нравственная свобода самостоятельного познания традиции».
Проезжаю Боготол и въезжаю в Кемеровскую область.
– Боготол?! – возмущенно кричит колыванский просветитель: – Ну, тянучка! Тебя когда ждать-то теперь? Я вот думаю, курицу запечь в духовке! Пойдет? Когда ставить-то? Что еще сделать? Помидоры есть отличные.
Александров действительно держит кур, правда, несушек, да еще и выращивает помидоры. Вообще, он огородник и хозяин. Лог около дома оформил как парковую зону и начал засаживать соснами. В 2003 году организовал в Колывани движение «Чистый город». Он же председатель Духовно-просветительского центра «Единство». Проводит мероприятие «Конкурс ораторов» среди учащихся школ.
Подвижничество – нечастое явление, и нередко бескорыстные усилия воспринимаются окружающими с удивлением – в лучшем случае на тебя смотрят как на дурака, а в худшем – еще подозревают в каких-то корыстных устремлениях. Но после общения с такими людьми, как Александров, бескорыстное служение идеалу воспринимается как единственная норма.
– Ну что, курицу ставить?!
– Да погоди, я еще Болотное только проезжаю.
В Болотном, в 120 километрах от Новосибирска, Николай родился. Естественно, написана и издана еще и история Болотного. Но вот и Новосибирск остается по левую руку. Да Колывани 20 км: «Ставь курицу!» Мелькает сосновый бор. Проезжаю мост через Оеш, вижу блеснувшие на закатном солнце купола монастырского собора. Вот и Малый Оеш. Интересно, помогли ли Михалков с Шахназаровым вдове «броневого мастера»? Обязательно надо написать о нем. Приезжаю к Николаю Александровичу. Садимся за стол, и хозяин без всякого вступления обрушивает на меня новости. Сколько провел конференций, сколько получил писем и сколько часов ушло на убеждение чиновников в необходимости того или иного начинания. И самое главное: включение «Мудрых детей» в федеральный список Министерства образования идет крайне трудно. Потом ставит видеозапись родительского собрания в карасуцкой школе по программе «Мудрые дети». Потом вдруг идет к книжному шкафу и достает книжечку:
– Смотри, вчера книги разбирал и что нашел! Принес кто-то… Девчонка тут, смотри, какие стихи писала. Какое-то литобъединение выпустило. Что скажешь?
Открываю – действительно чудо, хотя в начале и несколько неумело. Но вдруг натыкаемся на замечательное стихотворение про то, как мальчик выпускает из клетки пойманных бродячих собак. Читаем вслух. Потом стихотворение о раненом в военном госпитале… Николай радуется: «Давай ей позвоним!» Звоним, благодарим за стихи. Ей нужна поддержка. Говорим хорошие слова. Она смущенное что-то лепечет. Александров, сияя глазами, вешает трубку: «Она потом вспоминать будет! А нам ничего не стоит». Вскоре Николай говорит: «Слушай, она в библиотеке работает, давай завтра к ней заедем, пусть она тебе эту книжку подпишет! Все равно в издательство ехать. Ну че – я звоню ей?» Назавтра поехали в Новосибирск, в библиотеку, где работает девушка. Оказалась милой, худенькой. Очень смутилась. Подписала книжку. Поговорили… Из библиотеки вышли с будто промытыми душами.
Пару дней спустя поделился радостью открытия с друзьями-поэтами. С прицелом напечатать девушку в журнале, отправил стихотворение про собак. И тут же, как дубиной по голове, ответ: «Миша, я знаю это стихотворение. Игорь Шкляревский “Собачник”».
Про госпиталь оказалось тоже известное стихотворение одного поэта-фронтовика, только с ампутированными первыми строфами. Позвонил в Колывань. Александров: «Не может быть…». Даю ссылки. Созваниваемся. Досадуем на свою темноту. Молчим. Я: «Надо снять с нее это. Поезжай поговори с ней». Николай задумчиво: «Не стоит ее позорить. Зачем-то ей тогда надо было так поступить». И не позвонил. Снова начались будни, конференции, выступления…
История человека, история региона, история страны. И подопечное пространство, зона ответственности. У кого-то Енисейск, у кого-то Мариинск. А у кого-то Колывань с ее историей и собственная история, изложенная в слове, обращенном к детям… Жизнь, прожитая и пережитая между двумя уроками: экзаменом по древнерусской литературе у Василия Калугина и жизненной двойкой несмышленой девчонки. Это и есть колыванское поле Николая Александрова.
Из енисейских очерков
Все от людей
Сколь раз пытался самому себе объяснить в чем эта енисейская нота, то пыхающая сизой далью, то звякающая на морозном воздухе топориком по обледенелой ходовой «бурана», то еще с юности поражающая штабелем седых заиндевелых налимов в крытом дворе, дак вот сколь ни бился, ни старался – чувствовал это почти невозможно. Хотя связана эта самая нота, конечно, с рыбацкой енисейской жизнью и, конечно, со стариками, чьи рассказы и создают то самое ощущение, которое так трудно передать, и сами им так пропитаны, что продолжают тревожить и поражать, как и много лет назад.
Вот выкинули тебя впервые на этот берег, и вокруг тайга, вода – и все ровное, огромное, как по линейке отрезанное – галечник, хребет с лиственничником, ельник. Все будто притаилось и ждет ключа. Приезжают экспедишники и туристы, привозят с собой кусок города и не видят Енисея, потому что этот ровный, безлюдный и молчащий поток начнет говорить только через людей, и, конечно, в первую очередь через стариков. Это они раскрашивают его своим словом, своим глазом, и под ним, как под рубанком, берется он стружкой, завивается подробностью, обрастает деревеньками, историями, рыбами, становится седым, серым, пепельным, как бревна изб, полозья и копылья нарт, как тела веток (долбленых лодок), как топорища и пеховища (черена пешен). И всегда даль времен и расстояний, рассказы о других поселках, прежних и дальних людях особенно тревожат, и именно простор особенно манит и притуманенный Енисей особенно выразителен и заповеден. А старина… Остяцкие чумы, илимки, конная почта, обозы. Купеческая крепость центра, и далекий Север с седым обилием рыбы, в скрипучих промороженных возах ползущей с низу, оленные остяки и тунгусы, рассказы о которых всегда полны вечного удивления, и судовая история Енисея, ее старинное наречие, до сих пор сохранившееся в языке лоций: «у приверха Мирновского острова», «Ножевые камни», «Канготовские опечки». «Пройдя второй белый буй, следует лечь на кормовой створ № 48, а приближаясь к приверху осередка, лечь на створ № 37 и держаться на нем точно, чтобы не коснуться широкой правобережной косы-заманихи…» «Пройдя красный буй на 39 км, надо лечь на кормовой створ № 37 и оставить слева огражденное буем затонувшее судно». В лоции обозначено и судно – пароход «Минусинск», 1909 г.
…А имена енисейцев: Егор Елизарыч, Николай Никифорыч, Петр Трофимович! А названия: у Рябого (ударение на «я») Камня, у Лиственей! А речь: пьяной в дым, здравствуй-ка, имать, промыслять, зуб упал, ездит взад-впередь, че-набидь привези мне-ка, от бесстызая роза, от, падина, ой, не знай че будет, Анисей ушел – воду увел…
Какая разница, допустим между словами «булькотит» и «буркотит»? Булькотит – в брюхе, а булькотили – это целый день на реке с плавной сетью провошкались и хрен че добыли. Когда Енисей зашугует, скажут: «шебарток стоит», а когда поля посерьезней пойдут-загрохочат: «о-о-о, што ты, парень, Анисей токо громоток делат». «Ванча-то, – скажет про внука бабушка, – дуропляс, опеть нагрезил». – Значит, опять набедокурил, напроказничал. «Напрокудил, такой уросливый, бродни все выбродил, и ноговицы (голяшки от бродней) все посыпались у него-ка и напалок на рукавице, и палец вередил, такой глуздырь, от яскорь тебя-то!»
– А скажи, бабка, сколь у тебя капканьев стоит?
– А сыснадцать стук!
– А скажи, бабка, как здоровье-то у тебя?
– А плохо, сына, плохо. Давеча полезла козочкам сено давать, и оборвалась, да и повешалась. И теперь и туто-ка болит, и тамо-ка, и не знай то ли от усыба, то ли растязенье!
Горностай называется горносталь, росомаха – росомага. Закрыть капканы – запустить капканья. Поехать через Енисей называется коротко – «через». «Поехал через».
Помню, стоял на угоре покойный дед Митрофан – Митрофан Акимыч Ярков – крепкий, здоровый, породистый, пепельный как кряж, а говорил всегда плаксивым игрушечным голоском. Вот стоит он на угоре и, глядя на фарватер, опасается, не рыбнадзорский ли катер идет: «А это че там, сына, ползет такое? Че за болесь?» – плачет-поет Митрофан. А потом приглядывается: «А не-е, сына, это такой (в смысле обычный) катер – неподозрительный».
Нашел в одной книге старинную карту земли Туруханской. Там все нарисовано несусветно, огромная Мангазея посередке, совсем маленькая Подкаменная Тунгуска лепится, Хатанга здоровенная, Огромный Ессей, а Енисей кривой, и над ним море, и написано: Море-Океян.
Енисей – это обязательно вся река до самого низа, Караула и Усть порта или Воронцова и Сопкорги. Единый поток, дорога рыбья и человечья – всегда поражающая своей длиной. От Красноярска до Новосибирска 800 километров, и это два разных города, две Сибири – Восточная и Западная, и освещаются они двумя громадными странами – Саянами и Алтаем, и все тут разное, а по Енисею один Туруханский район тянется больше тысячи километров и все друг друга знают – расстояние громадное, а река одна и мир один.
В колхозные времена, по каким-то тех лет соображениям, отправляли рыбацкие бригады из Бахты на низ, и оттуда мужики, набравшись северного рыбацкого духа, привозили впечатления, рассказы. Сравнивали Енисей с Енисеем, поражались его низовской ширью, рыбным обилием, пристойными нельмами, чирами, омулями и снова, входя в привычную жизнь, укладывали взгляд в знакомые с детства очертания берегов и мысов.
Зимняя картина – просвет Енисея с ярко-белой завесой, меловая даль и сквозь вечную и свирепую запыленность простора проступающие два берега с чахлой тайгой. На левом – частокол чернолесья, чахлейшего и остроконечного ельника и пихтача, а с правого, каменного – уступы таежных яров, с антенным беспорядком лиственей.
На восходе самый холод, тянет с хребта ночной хиусок, кладет печные дымки и они, загибаясь, текут к Енисею, и обязательно синим утром маячат рядом с берегом согнутые фигуры. Люди смотрят налимьи удочки. Один из них – дядя Илья.
Дядя Илья
1
Главное в дяде Илье – он артист. Самый настоящий – и на историю, и на слово, и на жест, отрывистый и четкий. На наклон головы. Головой отвечает то так, то сяк, на каждое заявление, новость – свое положение, то выжидательное, то настороженное, то внимательное, то удивленное, а то издевательское. Глаз то прищурит, то скосит. Голову то вскинет, то накренит зорко, раз, раз, й-эх! Все отточено, как врублено, равнение то налево, то направо, то наискось и всегда насквозь. И руки – вскинул, туда указал, сюда. Туда пальцем ткнул, здесь ладонью, как топором, обрубил. Подметает метлой двор, а его спросили, куда лучше сеть поставить, и он метлой тут же показывает: вот тута-ка быстерь, тамо-ка шугой забьет, и так обыгрывает эту метлу, как ни в каком театре не выучат.
Кажется, видел в кино ли, где ли, такого деда, только все не то было, кусочки, подделки, и актеры пыжились, и больше хлопал их старанию, чем правде.
При всей живости дядя Илья – не Щукарь никакой, и хоть в разговоре гибкий, податливый, а на рыбалке так на сыновей прикрикнет, что так и представишь, какой он председатель когда-то был.
Восемьдесят лет. Бродни, штаны в полосочку, рыжие деревянные ножны в берестяной оправе, кожаный ремешок, рукоятка ножа изолентой обмотана, фуфайка, черная ушанка. С виду небольшой такой верткий дедок, ухватистый на движение, так налима из пролубки крюком подцепит, так привычно на лед бросит и тут же коротко и туго тукнет его по башке обушком крюка, а потом подтащит на крюке же к рюкзачку. Домой пойдет, вверх, на угор, и на спине рюкзачок с налимами, а сзади на веревке пешня ползет, как бревно за трактором. И вроде лихо управлялся у пролубки, а идет-то к дому медленно, а пешня по снегу волочится и в шаг подергивается совсем устало. И что-то такое необыкновенно выразительное серьезное и грустное в этой подергивающейся пешне, будто она о деде больше знает, чем он показать хочет.
Дядя Илья фронтовик. Одни раз, как говаривали на Енисее, попросил я его рассказать о том, как воевал. В конце рассказа, когда дошло до Победы, дрогнул дедка, не выдержал, заплакал. Потом, пораженный дедовым рассказом, я попросил повторить его для фильма «Енисей-кормилец» (вышедший под названием «Счастливые люди»). Боялся, что второй раз дядя Илья скомкает повествование, привыкнет к словам и они не прозвучат так пронзительно, как по́перву. Зря боялся. Дед рассказал так, что уже много лет смотрю эти кадры, и комок к горлу подкатывает.
2
Весной все пространство к устью Бахты от бывшего промхозного огорода залито, и там ставят сети. Стоят пушальни одна за другой и хозяева проверяют их на ветках, в тумане особенно выразительно склоняясь и выпутывая сигов. Почему-то рыбы сиговой породы, что сам сиг, что селедка, что омуль, пахнут свежим огурцом. Наверное, потому же, что и большие грызуны, ондатра или тарбаган – кофием.
Что-то есть замечательное в этих сетях, стоящих почти у дома, в ветке, лежащей вверх дном на берегу и вслед за падающей водой сползающей вниз. С какой животворной быстротой, едва отступил лед, отвоевывает человек свою рыбацкую границу, продолжается в природу. Так же он и осенью, едва намерзнет притор, выползает на него с налимьими удочками, и что-то многовековое есть в этом исконном подчинении природе, какая-то великая воля, роднящая людей со всем негордым живым царством, да так крепко и властно, что вот уже и дядя Илья кажется не маленьким старичком, а ее исполнителем. И если забыть, что болят глаз и руки, то какое это великое его счастье – на залитом солнцем просторе не спеша проверить сеть, вытащить гулко отвечающую на каждый стук ветку и принести свежих сижков в по-весеннему сумрачное и сжавшееся жилье.
Так же повально все ловят и лес, кто на чем, кто на ветке, кто на моторе, и то и дело среди льдов и бревен взревает двигатель, хвативший льдины, и безмоторный остяк, вертко лавируя на ветке меж ледяного мусора, забивает топориком в кедровое бревно проволочную скобку.
Казалось, испокон веков несет этот лес, но несет по-разному. Во времена повальных рубок перло особенно с Ангары прорву упущенного леса, и им питался весь Енисей, а в заливе весь берег был забит пепельным забором. Теперь все меньше такого леса, кончилась кормушка, правда, некоторое время ловили бревна, который особо большой водой снимало с берегов. Нынче вода малая и поселок вовсе без дров остался, поэтому валят на деляне. На реке теперь, как и в прежние времена, ловят не леспромхозные баланы, а больше подмытые и рухнувшие лесины. В такой здоровой лесине кубатура как в нескольких баланах, но надо сразу на плаву опиливать корневатый комель, и я всегда таскаю с собой «дружбу». Здоровенную листвень опилить не так просто, по уже глубокому резу она начинает гулять на недопиленной перемычке, и болтающейся корень пытается вплыть и зажать шину. Есть что-то в этой вихляющейся стихии, когда стоишь одна нога в лодке, другая опирается на бок тридцатиметрового бревна, орет пила и летят брызги, и все мокрое и блестит, а мимо несется заваленный льдом берег и надо не притопить карбюратор, чтобы не угробить пилу гидроударом, и поскорее притащить бревно к кустам.
В бревно забивают плотницкую скобу и тащат его на веревке к берегу или к плоту. В больших поселках мужики помеханизированней, поизобретательней – вместо скоб у них специальные чекира, и я тоже сварил пару чекиров, оказавшихся на редкость удобной штукой. Люблю боевой вид лодки, когда собираешься за лесом, когда в ней по ветровое стекло – свернутые пружинистыми и топырливыми кольцами троса, неудобные, дыбящиеся, ведро со скобами, пила, лом, багор и так все завалено, что непонятно, куда самому деться.
Ищешь место, где набило много бревен, выдергиваешь их из гущи бревен, из гущи кустов, а те пружинят, не пускают, и зло берет, что вроде хилая талина, а такая силища, что если заклинит балан, то мотором рвешь что есть силы, взбуравливаешь желтую воду, а толку нет, и только водит тебя туда-сюда, как на резине.
Раз тащился мой плот по затишку вдоль берега, а я, заехав вниз, ловил и таскал к берегу здоровые листвени и елки с комлями. Встретил своего товарища Игоря. Попили из термоса чаю у бережка, и за разговором я все поглядывал на реку и удивлялся, почему мой плот не несет. Оказалось, прозевал, пока говорили, – спиной к Енисею сидел. Игорь по дороге поймал и привязал плот ниже.
На редкость крепко берется плот тросом. Заделываешь первое бревно получше, обворачиваешь тросом и пробиваешь парой скобок. Скобы эти – не большие, плотницкие, а что-то вроде галочки из проволоки шестерки или восьмерки, и вот ими и пробиваешь трос, причем до конца каждую третью или, допустим, пятую заколачиваешь, а остальные не до конца и трос с них гуляет.
Главное – начало. Одно, два, три бревна, десять и уже ходят они послушно на тросу, крепко держит их тросовая пружинистая натяжка. Бывает трос грубый, замятый, с изгибом, нерасправляемой волной, но и эта волна все равно держит, не дает слабины всей конструкции. Баланы трутся друг о друга, все поскрипывает, и вроде бы хило – трос тоньше мизинца, да скобки из проволоки, но какая связка! Бревны поблескивают, где бочина в красной коре, где голая, сосна – сливочно-желтая, у листвени под корой малиновые лохмотья. Все больше лесу набирается, досок сверху накидаешь и уже ходишь спокойно по ним, а когда большой плот – это уже целый дом. Наедешь лодкой и толкаешь, подрабатываешь мотором. Главное, причалить куда надо, и чтоб мотор не заглох в нужный момент, а то пронесет деревню – и пропала работа, вверх такую махину не выпрешь.
Еще беда – север: пойдет вал и плот разобьет, и вот пробиваешь еще тросом, тот ходит ходуном, все сильнее плещет волна, летят брызги и тугой встречный север тормозит и парусит плот. Если вал разойдется по-серьезному, ставишь в речку или под коргу на отстой и ждешь, пока ветер потихнет. А рожу жжет зверским солнцем, руки черные, во рту вкус черемши, все знакомое, настоящее и знаешь, что лучше не будет.
Плоты заводят на залитый водой аэродром, привязывает к промхозному забору, и тут начинаются заботы, потому что хоть и знают старики, что народ уже плоты тащит, и одна страда другую подпирает, но сети не снимают.
Главное, завести плот с Енисея на аэродром, нужно очень точно попасть между коргой и камнями, рассчитав и свою скорость и скорость сумасшедшего течения. Но вот уже зашел в гавань, и хоть тянет еще встречь через тальники с озер и Бахты, уже легче.
Теперь надо поставить плот и закрепить, и тут новая забота – начинаешь раздражаться и поругивать старичков, которые знают прекрасно, что люди уже лесом занимаются, а все не снимают пушальни, а попробуй свороти – реву не оберешься.
Сети стоят к берегу под девяносто градусов, вот одна, берестяные поплавки болтаются, вот другая – веревку видать, и вроде между ними место. А плот здоровый, да еще одна елка сучкастая – страх, и один сучище точно вниз идет и встречь ходу, и в конце концов не помню уже как, но впоролся я в дяди-Илюшину пушальню, едрит твои маковки, на всю красоту.
Надо отпутывать, а порвешь, дедке шить, а дедка громкий, когда на евоное посягнешь. Помнится, помоложе был, дак так гонял всех, когда мимо его дома ездили на мотоциклах ли «буранах» – у них свой уголок в деревне, старинная аккуратная уличка, у кого листвень, у кого какое другое дерево, а у дедки перед домом дощатая площадка, через дорогу поленница, в огороде кедра и береза растут.
Сижу я на сети, отпутываю плот и матерюсь – целый день на воде, уже поесть-отдохнуть охота – вечер доходит, а тут такая неурядица. Дед на берег выскочил, на ветке подрулил, но держится, не ругается. Сук же этот, чтоб ему пусто было, дал прикурить, я его еще а реке не смог отрубить, потому что он снизу, а лесина горбатая – не повернуть. Елка на плоту пятая с краю, и до нее не добраться, рука меж бревен не пролазит, вода ледянющая, и пришлось посылать маленького Ваньку домой за выдерьгой, расшивать четыре крайних балана, освобождать сук от сети, а потом обратно бревна заделывать. В конце концов отпутались я, и сеть дядя Илья забрал чинить.
С соседом Анатолием, который помогал, зашли потом к дедке. Поговорили с ним, он держится, не особо показывает огорчение, и поворчал, и нас выслушал, что «вы че такие-то, ведь знаете, что уже лес ставят, дак хорош, нарыбачились, убирайте сети». А потом Толя говорит, что, мол, вот все-таки «дедка с нами корефанится», поэтому на тормозах спустил, а кто другой был бы – так бы «на хренах оттаскал», что навек запомнил бы. И благодарно стало, что дядя Илья простил, и приятно, что в друзьях держит.
А потом понес я лом, пилу, чекира домой, и они погромыхивали за плечами на веревке, и вспомнился другой Енисей – Енисей большого поселка, мир дизелей, каэсок, парней с чекирами, рассуждающих о том, как на «амур» поставить дизель от «сурфа», представился азарт и разгон их сильной, стальной, чугунной, солярной жизни и потеря старинного, тихого, деревянного, а потом вспомнил Енисей, когда-то увиденный впервые – пустой, молчащий, ровный. А после прежний, дяди Ильи, Анисей представился, раскрашенный его воспоминаниями, словечками, седыми завитками старины. И подумалось: неужели, когда уйдут старики, Енисей снова плоским, прямым, равнодушным станет?
В зимнем створе. Отрывок из литературного сценария к фильму «Счастливые люди»
В весне всегда что-то долгожданное, лето – будто цель всего года, передышка, и именно летом течет жизнь речная, лодочная и пароходная, но все-таки самая соль жизни – зима. И начинается она исподволь, ее ждут, потому что и шляча осенняя надоела, и охота бодрости, морозца, но это только поначалу, а потом, как всадится поглубже в зиму дело, как оглубеют снега и морозы прижмут – снова вязкой и глухой станет жизнь и время будто главный, тяговый двигатель включит, пойдет рабоче и долго.
Поначалу первые морозцы встречают на реке, и мотор греть приходится, и ветер, как ледяная стена, и руки поначалу с отвычки вдруг заломит от сети, от склизкой рыбины, стянувшей мордой ячею. На той стороне целый день булькотят плавными сетями омуля. На озере ледок, и дядя Илья с внуком ставит морду на животку, без нее потом налима не поймать.
Снег, сначала слегка, и все ждут, чтоб как следует, чтобы на другую технику пересесть, воды привезти на «буране» да закрыть наконец навигацию, вывезти лодку, и в этом снятии и вывозе сначала мотора, потом и лодки что-то есть увесистое и успокоительное. Лодки еще разноцветным рядком на берегу, на Енисее вал, катает север, дейдвуды, винты во льду, в сосульках. Лодки, моторы обшарпанные, битые, кто-то куда-то еще едет, заводит мотор, долго греет, синий дым срывает, уносит, ветром лодку наваливает на берег, мужик пихается, мотор орет, на волне оголяя выхлоп.
На другой день чуть морозец, пошла шужка, сальце, небольшие, похожие на бляшки плесени, льдинки. Вот еще подморозило, сильнее шуга пошла. Вот и притор начинает мять, растет торосистый ледяной припаек у берега, и все глядят, куда бы удочки налимьи воткнуть.
Всех волнует, как Енисей будет вставать – ровно, или замнет его так, что торос на торосе, и дорогу «через» рубить задолбаешься. Когда к Новому году выйдут охотники, им будут говорить: «Анисей ноне как закатало, гольный то́рос», или «Анисей-то нынче, смотри-ка, как стал, хоть боком катись». Вроде зима, морозы, а свое облегченье, и сети поставить поехать, и по сено – гусянки не гробить по торосу.
Вот наконец снежку подбросило и заревели «бураны», «нордики», «тундры». Кончилось безводье: водопровод из скважины был отключен еще с первым же морозцем, и с водой экономия, а теперь вся деревня заегозила, еще вчера на «вихрях» – сегодня на «буранах», кто по воду, кто по лодку, кто по дрова.
Дядя Дима с внуком вывозит «крым» – все старик сам делает – сын запился. Корячится с мальчишкой, на взвозе между камней снегу мало, а подъем крутой, и он не может лодку взять, «буран» буксует, летит галька из-под гусениц, Дядя Дима перецепляет на длинную веревку и рывками, по полметра удергивает лодку. Сашка из всех сил кожилится сзади, толкает. «Буран» ревет, дымина, и гусянки жалко, а лодку вывезти надо – Енисей вставать будет, воды даст, и ее зальет, замнет льдом. Глядишь на эту технику – и жалко ее, а свой хребет еще жальчее. Погода смурная, рабочая, серенькая, снежок пробрасывает, все время здесь то снежок, то ветерок, а то и снежище и ветрище.
На угоре мальчишка-кетенок играет: игрушечный «буранчик» тащит и игрушеную лодку, тоже вывозит. «Буранчик» длиной сантиметров двадцать, сделан из брусочков, капот покрашен красной краской, стекло из пластмассовой бутылки, лодка – разрезанная вдоль такая же бутылка – вместо мотора пенопластовая пробка от самолова.
Боковая речка уже встала, она течет с северо-востока, с гор, и вода в ней ледяней енисейной. На самодельном драндулете едет Витас, литовец. Он упертый, у него все по-своему, и все над ним посмеиваются, хотя и признают, что в технике он шурупит. Он все собирает что-то из железных отбросов. Драндулет – название Витаса – это половинка бурановского двигателя, бурановская гусянка, лодка тоже опиленная бурановская, лыжи от старинного «линкса», а карбюратор от пускача. Капота нет, все наголе. Седушка узкая, фара без стекла привинчена к стойке. Драндулет холодный еще заводится, а на горячую – еле-еле. Коробка тоже бурановская, стоит впереди слева и Витас включает ее ногой. Обороты большие, тормоза нет, и включается она плохо, трещит, а он давит, морщится, и все качают головами, переглядываются и лыбятся.
Ему охота вырваться из деревни, и он едет к речке Акулинихе в балок, хочет сеть поднырить, удочки поставить на налима и налима покандачить, то есть половить на блесенку или на балду. Животку он везет с собой в укрытом ведре.
Вечером долбит пролубку и в темноте кандачит, подергивает балду маленькой деревянной удочкой с куском резинового шланга на конце. Обязательно надо налима поймать, все спрашивают друг у друга: «Ну че, добыл налима?» Свинчаткой-балдой с крючком тукает по дну и из-подо льда слышен звук, сухой, гулкий. Здорово, когда под водой, в том, другом, царстве, слыхать наше что-то, так у плавной сети груза по галечке звякают, как колокольчики, или кошка по дну скребет… Вытаскивает налима, он тинно-зеленый, камуфляжного окраса, и грозный, и смешной, извивается в свете фонарика – главное в нем хвост. Эдакая каверзливое длинное весло, язык ли, лопата, которая все время извивается, загибается, цепляется за лед, и когда наверху сразу же вяло засыпает, извалявшись в сахарном снегу – хвост медленно то складывается, то распускается плоско, как лезвие, серебреет, жестенеет. Утром Витас уезжает.
Разъяснивает. С утра морозец градусов двадцать. Дым из трубы на восходе прозрачно-черной дугой загибается по алмазному небу на реку. С Енисея шорох и грохот. Пар тянет на реку с берега, и он, отползая, зависает столбами, иглами, занавесками. В пару видны ледяные поля. Вздыбленные льдины ползут, будто хребты. Если спуститься на притор и подойти к его краю – совсем близко проплывает стекло. Вот подошло совсем свежее сизоватое стеклянное поле, налезая на притор, оно изгибается и ломается, но натяжку держит, его края дыбятся, ползут и осыпаются обратно на проплывающий лед. Скользят по нему необыкновенно легко и далеко, замерев, едут дальше. Небо розово-рыжее, но солнца еще нет, мужичок-тракторист смотрит сеть, долбит пролубку. На ее льду узор куржака, звезды и перья. Розово отсвечивает снег, брызги льда из-под пешни густейше-синие, и тоже отсвечивают, озаренные небом. Мужик тянет сеть, она подается, тянется из пролубки – вся в мелком льду, в стекляшках, как в колокольцах. Нет ни хрена рыбы, одна шуга, но мужик не унывает. С угора его фигурка кажется совсем маленькой.
Чем шире притор, тем больше на нем черных фигур. Согнутые, по-муравьиному прибитые стужей, копошатся над пролубками, и чуть лишний метр льда – отвоевывают у Енисея, вдаются в него налимьими удочками. Над каждой пролубкой палка-тычка. Встало солнце, низ неба до горизонта густейше синий, дальше пар, а над ним все рыжевато-золотое. Справа от солнца видно одно из так называемых «ушей», радужная скобка, будто зимой солнце, как в скобки, жизнью взято, не шибко светит, хотя прибавку градусов в пять и дает, а когда на дворе сорок – то это прибавка хорошая. Солнце двигается правее и ухо тоже ползет правее, а из-за дома вылезает левое. Для ушей есть и более расхожее, для журналистов, выражение – «солнце чум строит». Днем и к вечеру солнце во всем великолепии, рыжее, с боков два радужных столба, если подняться по деревне вглубь, в хребет, выше – то уши будто подойдут и на фоне домов заструятся. Это вымораживается воздух и видно на темном фоне, как он искрится. Над самим солнцем тоже столб света. Всего три столба. И синейший снег.
Что-то царское в этих столбах, не то скипетры, не то свечи – все мощное, торжественное, будто великий праздник, знак ли, будто над деревней великое совершается таинство – посвящение в зиму. На заходе на месте солнца вертикальный луч – как огненная тычка на месте.
Дядя Илья пересаживает животку из озера в Енисей: пора. Животка подо льдом в ящике, тут же неподалеку морда, еще недавно ставили, еще по осени, а кажется, вечность прошла… Осенний день, снега еще нет, желтая трава, правда, на озерках уже ледок. Дядя Илья едет ставить морду, морда сделана старинно из гартья – тонких щипаных реек, густо-желтая, будто какая-то древняя ваза. Едет с внуком. Внук подскакивает на старом первых выпусков «муравье», зеленом, без фары. В кузове топорщатся морда, загородки, – не то самолет самодельный, не то еще что.
Виталька едет к озеру, дед идет с палкой, твердо трогая ею дорогу, рядом вьется сучка, он покрикивает, поганивает ее, когда она лезет. Ветер – север, на Енисее вал с беляками, камни – белые, как глазурью, облитые льдом, стеклянная волна взлизывает их грубо, бьет с тупой силой, солнце то выходит, то в сизых тучках. У озера поют на ветру тальники, на воде рябь. У берегов лед темный, бесснежный, рыхловатый. Дядя Илья долго ставит морду, когда ставит загородку, кладет на лед топорик и он лежит совсем по-зимнему, неподвижно и спокойно. Морда поставлена. Виталька едет домой, дядя Илья, так же тыкая палкой, так же поигрывая с сучкой, идет по мерзлой каменистой дороге среди желтой травки.
Теперь все белое, и только кое-где торчат из снега черные стволики конского щавеля.
То в ясную погоду дядя Илья на удочках, то в пасмурную, а снега все подбрасывает, и глубже осаживается жизнь в зиму, и всегда с дядей Ильей сучка, и когда он снимает с крючка уснулую животку и кидает ей, она хватает и в два-три подкуса хвост исчезает в пасти.
Дядя Илья то на удочках, то на мордах, морды он поставил две, но что-то ловится неважно. Озера маленькие, длинные, на них понаставлено уже порядочно этих морд с загородками из плоских реечек. Ваня, глуховатый остяк, тоже проверяет морду, загончик у него из реек, а сама морда из алюминиевой проволоки – вот тебе и остяк. Зато мать его, тетка Дарья, еще что-то помнит не алюминиевую жизнь.
Тетка Дарья живет в брусовом доме, внутри почти ничего нет, железные кровати, тряпки, печка, сковородки, кастрюли, кружки. В сенях окно, и иногда в нем маячит ее лицо. Тетка Дарья очень старая, у нее темно-желтая в складках кожа, смотрит она всегда настороженно, а двигается и говорит медленно, не очень понятно, и будто через глухую прослойку.
– Тетка Дарья, покажи куклы.
– Куклы? – переспросит вяло, будто не понимая, голова подрагивает, движения неверные.
– Но. Покажи, вот тут ребята ко мне приехали, посмотреть хотят.
Она мешкает, потом идет с кухни в комнату, куда-то лезет, вставая на табуретку, достает, выносит и кладет на стол что-то завернутое в тряпку. В тряпке сверток росомашьей шкуры. Там куклы – алэлы, домашние покровители – деревянные лица и тряпичные туловища. У одной куклы вместо лица темная железная, а вернее всего, медная петля – как сложенная плетка. Лица в оторочке из старинных бус, крупных, мутных, неправильной формы горошин – блекло-желтых, красных, зеленых. Деревянные лица кукол темные, у одной оно особенно выразительное и круглое, на нем выдающийся узкий и горбатый нос, будто килек, вместо одного глаза квадратик жести на гвоздике – как подкладка шифер прибивать. Что-то поражающе суровое, какая-то страшная простота в этих древних младенцах в чепчиках из бус.
– Мария Игнатьевна, это че такое?
– Куклы, куклы шаманские, – прохрипывает тетка Дарья с очень сильным остяцким акцентом.
– А сколько им лет?
– Старые, старые совсем.
– А имена есть у них?
– А?
– Имена, имена есть у них?
– А-а-а… Имена. Имен нет у них.
– Тетка Дарья, ты никому не отдавай их.
И тут она будто выплывает из своего оцепенения и говорит первые и последние свои твердые и осмысленные слова:
– Не, не. Пока жива, со мной будут. В этом наша жизнь.
Саша с Ваней в это время в другой комнате, Коля валяется перед телевизором, а Ваня вскоре стыдливо выходит. Саше сорок с небольшим, раньше был неплохой охотник, потом от тайги постепенно отошел, сначала бык забодал, бок порвал, потом еще что-то, а потом деревня, пьянка и тупик.
Ноябрьские праздники. Дядя Гриша, мой сосед, только что приехал с охоты, у них с сыном любительский участок рядом с деревней. Оба матерятся – соболя мало, в капкан не идет, отжирается на рябине, а ее море, и снегу навалило по пояс – собаки не идут.
Ночью подморозило, до этого оттеплило и шуга шла масляным легким ходом, со снегом, как в вате вся, и липкая, такую – чуть мороз, и махом склеит.
Дядя Гриша собирается поднырить прогон для сети, в санях черпак, пешня, нырило, крючки, тычки и обязательно лыжи. Вот поехали, и Дядя Гриша унесся в снежном облаке и в своей позе – на коленях в санях в корме, сидя очень прямо и крепко. У него стать-повадка такая, всегда как поплавок, прямой, стойкий, хоть и болеет. Пока сын заводит «буран», он уже сидит неподвижно в нарте, залатанная фуфайка, рукавицы, завязана ушами назад ушанка.
У дяди Гриши многое сплелось в голове – свои детские впечатления он путает с рассказами отца и деда, и прошлое у него теряется в бусом и морозном енисейском тумане. Он сам будто по пояс в прежних временах, все у него делится на «ране» и «ноне». «Ране город в Енисейске был, – говорит он, имея в виду что столицей Енисейской губернии был не Красноярск, как теперь, а Енисейск. – Ране, парень, белка дорого стоила, и щас на нее и кирпич хлеба не купишь».
У всех стариков одна тема, что ране рыбацкий, охотницкий, крестьянский труд ценился и люди свою нужность понимали, а сейчас все никому не нужно. Оно так и есть, хотя народ, как его не трави и ни изводи, все равно силу имеет, кать трудовую и рад бы не работать, да не может. Рассказывали, один мужик, выращивающий в Ворогове помидоры и капусту, просил начальников, чтоб забрали у него овощи, и вроде бы обещали вертолет, готовьте, мол, и ждите, но никто не прилетел, а он ждал да ждал, пока не померзло все. То же рассказывал мне и кержак на барже – что могут они картошку и овощи выращивать и просят начальство: примите у нас, это же для района. Но никто не берет, потому что выгоднее и проще закупить в Красноярске по дешевым ценам и привезти по воде, чем вкладывать в сельское хозяйство на месте.
Дядя Гриша рассказывает:
– Мне отец так говорил, вот ране, кто белку промыслял, рыбу, тот зыл, а кто ни хрена не делат – тот пропадай.
Жена дяди-Гришина умерла, Дядя Гриша признается:
– Скучаю сильно по ней.
Дядя Гриша говорит глухим голосом, и когда разговор закончен, удаляясь по краю угора, продолжает гулко и глухо басить, бросая слова уже совсем в бесконечность, и они растворяются в ветре, дали и сливаются с ней в одну крепь. Дядя Гриша – настоящий рыбачище – весь год сети, перемет, невод. Летом встает в шесть, и полчаса спустя у них с сыном идет на угоре громкая и гулкая разнарядка. Дядя Гриша, продолжая бакланить, спускается, слышно, как стучат сапоги по лестнице, потом взревает мотор, и так же час спустя они подымаются.
И так всю жизнь. Прошлым годом заходит соседка: «Миша, помоги телку ободрать». Туша на угоре над Енисеем, мороз под тридцать, ветерок, все стынет махом, и шкура, и копыта, только нутро еще теплое и рукам в нем хорошо. Дядя Гриша старается, но ему тяжело, хворает, и руки мерзнут, и он еле шевелится, а потом и вовсе уходит домой.
Помню Дядю Гришу еще лет пятнадцать – двадцать назад, такого же прямого, с прямым поставом головы, вечно идущего откуда-то с рюкзаком и посохом на своих сельдюцких лыжах – очень широких и таких тонких, что так и ходят ходуном, вихляются двумя листами. Носы и задки тоже, как мыски листьев, острые, и камус на них исшорканный и по краю блестит затертой голой шкурой. Он и сейчас с этими лыжами за спиной в морозном скрипе шагов проходит по краю угора мимо моего крыльца:
– Куда, дя-а Гриш?
– Да вот пойду, это… пролубку обдолблю, – показывает, стучит посохом, – садок там у меня стоит.
– Ну, ясно, ясно, понял, понял, – ответишь по радиостанцевски, по-охотничьему. Я снимаю его на камеру, и он выжидательно спрашивает:
– Ну что, идти?
И уходит с черпаком, посохом, по краю угора, на фоне высокого яра с белыми откосами, гигантской дали, и за спиной, будто сложенные крылья, пятнистые от камуса лыжи. Пройдя метров десять, он оборачивается, кивает на камеру:
– Интересная стука!
Дядя Гриша тоже болеет о животке. Животкой или животью могут быть и ельчики, и ерши, и щучки, и «леночки» – озерные гольяны, ловят их по-разному – с осени неводом, позже в морду или на кандачку – но главное, что сидят они в садке – ящике в озере подо льдом или в Енисее. Как говорил мой сосед Толя – в «турьме»: «Посажу их в турьму». Турьма – плоский ящик с узкой крышкой на проволочных петлях. К нему привязан на веревке груз, какой-нибудь трак от трактора или камень в авоське из неводной дели. Поперек пролубки лежит палка, на нее крючком, то есть сучком вниз, надета другая вертикальная палка, ее нижний конец под водой, к нему привязана веревка. Обдолбил пешней и тянешь крючок с веревкой, идет садок, на садке груз. Садок будто с сокровищами, весь темный, исшорканный, в мороз дощечки мокро блеснут на солнце, а в ветрище, снежище, веревочки, узелки тут же леденеют… Достал, но не полностью, чтобы не оголить животей, и отворил крышечку. Там в вековой и таинственной рыбьей задумчивости бродят ерши. Тыкаются, пошевеливают хвостами. Чем питаются они долгие недели? Говорят, своей же слизью, но не верится.
Без животки не поймать налимов. Налим – енисейская зимняя еда. Кормилец. Удочка – это капроновая нитка с грузом и одним или двумя крючками. Либо просто тычку, палка метра три длиной, с воткнутым в дно концом и привязанной там же ниткой. На крючках живец. В тепло, когда лед слабенький, подошел к пролубке – если тычка сдвинута – значит сидит кормилец.
У Виктора Петровича Астафьева вычитал, что в Овсянке налимов поселенцами звали, и давай прививать это дело. «О! Поселенец идет!» А мальчишка сосед кричит: «Где? Где васеленец?» Так с Толяном и стали налимов васеленцами звать.
Без васеленца никуда, даже Ванькина бабушка, которая улетела погостить к старшей дочери в Зотино, передает:
– Валя, доча, пришли мне-ка налима, не могу!
Тем временем все шире притор, и уже стоит опечек посередке, на который лед садится сразу. В солнечный день полоса притора с сахарным крошевом торосов тянется вдаль, повторяя линию берега, цепочки торосов изгибаются, и выделяется изогнутой шершавой ниткой одна высокая гряда – в один момент особенно сильно и высоко торосило, и в этой кривом следе посреди уже ставшего льда есть что-то очень речное. Таким же отпечатком речной воли, повадки и видны с вертолета схематично-недвижные, по-школьному условные следы прежних берегов, стариц, и так же проявляется живая тягучая природа реки в дугах и кривулях сахарных торосов.
Но все еще идет Енисей, и хоть уже мало открытой сально-матовой воды среди крошева льда и полей, все еще скользит лед, но совсем скоро замрет это вечное движение пред глазами, этот бесконечный жизненный телевизор, и всех как встряхнет от колоссальной остановки. И настанет великая неподвижность, великий покой, и, казалось бы, тысячи вариантов полей, льдин, водяных окон проезжали каждый день мимо деревни, и вдруг все замерло, и эта картина только что была мимолетной, случайной, и вдруг стала единственной до весны. Как, бывает, десятки людей проходят перед глазами, и вдруг один кто-то остается на всю жизнь. И это превращение случайного, текущего в постоянное и есть судьба.
Енисейного ледостава все ждут, чтобы сразу сети на устье Бахты и Сарчихи ставить, и по сено можно будет на ту сторону на Старое Зимовье ехать, и охотники с той стороны домой прибегут, все это правильно, но помимо всего этого понятного и делового, есть еще какое-то великое успокоение для души, когда Енисей встал.
Как когда-то на растущий притор все повально выползают ставить удочки, так теперь все ломанулись ставить пушальни. Сначала подныривают прогон, то есть подводную веревку по длине сети. К одному концу прогона привязывается приготовленная сеть, к другому – веревка, ее конец тоже рядом с сетью в руке. Тянешь веревку и сеть сходит. Также и смотрят пушальню, собирая в гармошку в пролубке, потом тянут за прогон, и сеть растягивается подо льдом.
Тоже сборы – нырило, крючки, палки. Прогон подныривают так: готовят длинный шест и рогульку. По длине шеста бьют среднего размера лунки, большие только крайние майны, к нырилу привязывают прогон, пихают нырило в майну и ждут, пока оно покажется в ближней лунке, там его пропихивают рогулькой дальше к следующей лунке и так до конца. Лучше прогонять нырилом-шестом с проволочной кошкой на конце. Веревка с грузиком в майне, и ее цепляют нырилом из следующей лунки, и так до конца. Как-то мы с тетей Шурой, царствие ей небесное, подныривали прогон на течении на Енисее льдинкой. Морозы стояли, а снегов не было. Привязали льдинку и пустили по течению от пролубки, один спускал веревку, а другой слушал, как она бьется, стукает, разглядывал белую под темным льдом. Там и долбил.
Бывает, поставят сеть, и вдруг тепло, вода прибудет и оторвет Енисей ли, устье Бахты вместе с сетями и пешнями, и беда – ничего не сделаешь, хоть беги до Диксона берегом – тогда все сначала, сети садить, пешню делать.
Пешню оттягивают обычно в школьной кочегарке – там мощная на угле печь. На пешню годятся болты от бон, пруты шестигранные и круглые, главное, чтобы железяка была сталистая. Раскаляют докрасна и отковывают на наковальне, острят, придают грани. Острие горит, светится, как копье. Потом в масло. Потом приваривают трубку – садило, а потом строгают из березки черен или пеховище, садят, прихватывают гвоздиком – и пешня готова. Долби иди! – как говорит в таких случаях сварной, Василий, убирая сварочник.
Морозный день. Дядя Илья собирается по удочки. Сидя на табуреточке, напяливает носок, пакулек, портянку и сам бродень, опробует его изнутри ногой, дотягивает, подвязывает вызочкой. Морда бродня очень похожа на налимью. Кожа лучше резины, она и дышит, и легче по весу – ноге в бродне необыкновенно удобно, собранно, нутро теплое, мягкое, а снаружи кожа, которая все это тепло держит. Дядя Илья надевает фуфайку, перепоясывает ремешком, поправляет нож, завязывает шапку.
Раньше стельки в броднях делали из травы. А к бродням обязательно полагаются вязочки. Кожаные – держат подьем. Подколенные – голяшки. Они тряпичные с тесемками, широкие и расшиты тряпичными цветными полосками. Очень удобно ехать на таком подвязанном колене на мерзлом сиденье «бурана» или какого другого агрегата. Пакульки – меховые носки – из собачины, а бывают еще из гагары, считаются очень крепкими. Есть еще пимы – камусные бродни – на самый мороз. И рукавицы тоже бывают разные – суконные верхонки, теплые стеганные и собачьи мехом наружу. Они называются лохмашками или мохнашками и очень теплые.
Юксы делают из сыромятины, это кожаные крепления для туго набитого бродня. В мороз они скрипят попадающим туда снежком и для скрадывания сохатого используются специальные мешки – прибивают их к лыже и ногу суют в мешок. Площадки под ногу делают из разных материалов, но главная борьба идет с подлипанием снега под пятку, особенно в тепло. Подбивают бересту – деревянными гвоздиками-пятниками, проволочными скобочками – резину от сапога, белую жесть от банки, и даже пластмассу от распластанной кетчуповой бутылки.
Лыжина бывает пощеляется вдоль, и ее заклеивают прямоугольником налимьей шкуры – и тут васеленец пригодился. Камуса или камусы – шкуры с ног сохатого, оленя или даже коня, ворс у них короткий, крепкий и сильно наклоненный в одну сторону, прямо заглаженный, поэтому лыжи, оклеенные камусом, не катятся назад, к тому же и прочнее в такой обтяжке. Скроенные по лыже камуса называются подлыком. Подлык заворачивается на верхнюю сторону лыжи – в таком чехле лыжа еще крепости берет. Слыхал, что еще жилы пускали под подлык. На северо-востоке Эвенкии с лесом туговато и лыжи из двух продольных половинок делают – подлык держит. Видел в более южном поселке лыжи с конским камусом – гнедые и мохнатые. Слыхал, что конский камус очень ноский. На Енисее говорят обязательно «конь», а не «лошадь», это по-старинному, по-сибирски.
Охотник надевает лыжи, не нагибаясь и помогая в юксах концом посоха или охотничьей лопатки. Вставляет ногу в юксу почти поперек лыжи, потом натягивает ее заднюю петлю пяткой назад и изловчась, заводит гнутым и быстрым движением-выкрутасом в переплет юксы. Также и вынимает ногу – движение это в свое время меня просто поразило – настолько оно справное.
Когда смотрят сеть в мороз с ветром, натягивают рядом кусок брезента. В мороз индевеют волоски на руках.
Щуки, сиги, чиры, ленки… Когда их выпутают из сети, они только извивнутся на снегу и замирают, вывалявшись. А потом становятся седыми, проколевшими и хрупкими в нарте колотятся друг о друга, как стеклянные колотушки. Все заиндевелое – суконные штаны, брючина надетая на бродень поверх голяшки, а бродень во льду – где-то ступил в наледь, в воду. Морда красная и уже в тепле над печкой мужик, развязывает шапку, кряхтит и сосульки выплевывает.
Особенно лихой вид у охотника, приехавшего под Новый год с промысла. По теплу ли, по морозу несся он, будто целую вечность, в реве «бурана». В нарте пила, мешок с пушниной, сахарные рыбины. Влезал в воду, «буран», бродни во льду, весь пепельный, сахарный, резко воняющий выхлопом. Ехал-ехал, и сколь верст было, все его. Если заколевал, грелся по пути в чьей-нибудь избушке. Собак ждал. Сначала, бывает, какой-нибудь молодой кобель рванет вперед, побежит весело, с тобой еще и заигрывая, то впереди, а то и рядом. А потом, глядишь, все, уже сзади, почти носом в нарте – так обдув меньше, хоть и вони больше. А потом уже и сзади никого. И вот стоишь, мнешься, ходишь, и все вглядываешься, когда одна, другая – черные точки покажутся, и всегда сначала какую-нибудь торосину принимаешь за собаку, а их все нету и нету, и начинаешь думать: вот след соболя был свежий, вдруг, козлы, ломанулись или избушку Санькину проезжали – вдруг туда, вдруг останутся, потом езжай за ними, или еще хуже – в капкан влезут.
Но вот запрыгала одна точка, за ней другая, и, как обычно, немного не там, где ждал, и уже ближе, ближе, и рад, и кажется, огромное дело, что вот они догнали и рядом. Вот они, морды заиндевелые, кто посвежее, весело и приветливо сунется к тебе, кто потяжелее – просто подбежит. И снова руку в петлю стартера – и вперед. Только километров за двадцать или десять от деревни, когда уже и дорога накатана, как трасса, и собаки будто на рельсы поставлены – там уже топишь, не оглядываясь.
Небо давно догорело, и остается над хребтом его стеклянно космический край, темно-синий с прорыжью, и все шарит, шарит, густеет по сине-сахарному снегу свет фары. Люблю я этот свет, когда еще только густеет вечер, но все вокруг постепенно отступает и остается только рельефно освещенная дорога, яркое поле сияющего снега и зеленый циферблат спидометра, или наоборот, утром, когда все еще лиловое перед тобой, но за остроконечным лесом, что проносится мимо с ночной еще луной, уже светлеет, прозрачнеет и наливается светом морозное небо, и меркнет на снегу свет фары, растворяется, как сливочное масло в детской каше.
Бывают разные небеса. Бывают просто стеклянные, бывают с тонкими полосами, стремительными, по линейке прочерченными, сизыми по ясному горизонту, бывает небо, будто взрыв – из одной точки будто пучок перьев расходится по всем сторонам. В основании чуть пухлые, а дальше ровные, стремительные, не то рельсины, не то нити – и то ли из какого бутона тянутся, то ли, наоборот, со всей необъятности в один узел сходятся, в чью-то крепкую руку.
И так к Новому году все тоже стягивается в один узел, и охотники подтягиваются, у рыбаков тоже вроде итога, кто уже и сети выбрал и удочки прикрыл. И уже далеким бесконечно кажется и тот осенний ледок в озере, где у дяди Ильи морда стояла, и первый налим, и нырило под тонким льдом. Все уже зимнее, глубокое, снежище дак снежище, морозяка дак морозяка, без дураков, и двадцать градусов, как отдых. И люди на улице стеклянно-заскорузлые. Бороды, усы, оторочки шапок – все белые, звонкие, в сосульках, а зато в тепле еще сильнее живятся, отходя, и краснее рожи и глаза веселее, и руку тянут и жмут крепче, и снова кто-то что-то спрашивает, как и че, сколь кого добыл, как с рыбалкой, и че соболь? Спрашивает, чтобы, выслушав, потом самому рассказать, обрушить трудовое одиночество, завалить подробностями, убедиться, что у Васьки, Генки, Петьки та же история, забил соболь, падла, хрен на капканья, и мыша море, приваду приел, да животка задохлась в озере, да и ладно, главное, что все дома, живы и техника рядом, накрыта, и собаки сытые.
Вот и соседка, бабушка из Зотина, из гостей прилетела на вертолете, ее под руки выводят, и грохот, и снежная пыль, а бабушка только головой качает-мотает, ох, слава, тебе, Господи – дома! И от толчеи этой, гомона так богато на душе делается, что, пока не опростаешь ее в рассказе или повестухе, не успокоишься.
Лица Геннадия Соловьева
О Гене Соловьеве и писано, и думано, а уж с самим Геннадием переговорено – сколько лет прожито!
Геннадий – не пьющий, не бедовый, а, наоборот, крепкий и работящий. Он классический охотник-промысловик, мечтавший мальчишкой о тайге и охоте. Жил в южном Красноярье, то в Боготоле, то под Канском, любую возможность искал для охоты, а после армии уехал в Туруханский район, жил в разных местах, пока в конце концов не осел в Бахте, где был подходящий участок и школа для трех его сыновей и где мы вместе работали охотниками.
Более работящих людей я не встречал. Пребывание в тайге было для него праздником, а охота – любимым делом, не мешавшим оставаться прекрасным плотником, столяром, жестянщиком, механиком, рыбаком, скотником, крестьянином и просто отличным товарищем. Мало того, что он все умел, он ощущал себя носителем этого уменья, и поэтому всегда охотно помогал советом, причем как бы с запасом, с избытком, и огорчаясь, если совет оказывался кому-то не по плечу. Был он всегда лучшим охотником района, гвардейцем промысла, не курил, почти не пил и не пьет.
Держал двух коров, рыбачил, добывал больше всех пушнины, вырастил трех сыновей, которых грозно называл «лоботрясами» и без конца переделывал печку в бане, добиваясь пара, никогда его не устраивающего. Он был вечно в работе, разрывался между хозяйством и тайгой, чувствовал хребтом каждый день уходящей жизни, и свое старение – он с 1947 года – ощущающий как некую нелепость, потому что здоровье у него отменное, мозги на месте и только напитывают знания да ясности. Кажется, наоборот, жить да жить такому человеку Земле на пользу, а нет – и волосы и редеют, и седеют, от глаз морщинки все туже пучком стрелок собираются, глаза садятся, да кожа на висках все прозрачнеет – в белизну с синевой.
Гена ото всех отличается, он другой породы, другого замеса, как бывают батарейки с усиленной емкостью, или какие-нибудь спецмашины, все в нем наивысшей пробы, превосходной степени – даже занудство, и если большинство людей барахтается как попало в жизни – как выходит, лишь бы выжить, – то тот еще и думать успевает.
Кроме рабочего, полезного есть в Геннадии некая художественная, что ли, добавка, без которой его представить немыслимо. Он пропитан промышленным охотницким, ушедшим, набранным из старых баек, историй, слышанных от разных дедов да товарищей. Например: два мужика еще давно решили промышлять в одном глухом углу тайги. Пришли, и почему-то остался один из них в избушке. Сидит он вечером, собаки под нарами. Слышит, скрип-скрип, шаги по снегу. Собаки ноль внимания. Дверь открывается. Входит босой мужик в шинели. Говорит: «Уходи отсюда, из моей тайги. А то худо будет». Был сильный ветер ночью и, конечно, никаких следов наутро не оказалось. Потом явился напарник, история повторилась, пришлось убраться. Историй таких полно.
Еще есть в Гене старина кулацкая, крепко-хозяйственная, причем если охотницко-старинное у него вроде обложки – рассказов, словечек, то кулацкая – нутряная, в движениях, ухватках. В раздражении к безалаберности, разгильдяйству, в бережливости, даже скупердяйстве. Природа этой скупости не от жадности, а от жалости к затраченным силам, к выращенному, собранному и сохраненному хлебу, к добытому мясу, рыбе. От старинной купеческой тяги к копейке, сто раз описанной – да, есть кой-какой достаток в доме, но не думайте, что просто так это все, за этим труд стоит. И нечего добром разбрасываться – прокидаетесь. Аккуратность, бережливость и с инструментом, и с техникой. Этому дам рубанок, а тому нет. Никогда ничего на виду не валяется, чтоб не клянчили. Но зато, когда много чего-то вдруг, особенно дармового, кто-то, к примеру, подшипники подарил двести пятые, почти сотню, тут, наоборот – охота их раздать, чтобы не отсвечивали, в дело пошли, работали – уже жалко, что висят, бездельничают. А мотор какой-нибудь пылится в запасе, и пускай, еще придет ему время. На «буране» по деревне не поедет – пешком пойдет. Еще свои секреты бережет, чем-то делится, а чем-то нет: мол, вам скажи, дак вы всех соболей передавите. Это и игра, и правда.
В одежде тоже аккуратность, сам подошьет где надо, подлатает, каждую вещь под себя переделает. Другой и сам так думал, но поленился. Обычно в таежной одежде ходит, с ножом из рельсовой пилы, а то возьмет вдруг откуда-то яловые сапоги достанет, рубаху, портки в темно-синию полосочку и белую кепку. Все заправленное, чистое, плотное.
В тайгу поедешь с ним, окажется, что все не так делаешь, не так жаришь, те так паришь, не так крышкой накрываешь, не так сеть смотришь, как здесь, на его речках, смотрят, и всему свои объяснения, своя история. Так у каждого охотника, и порой кажется, что и тайга, и речки тоже именные, к хозяину приученные, и у каждого участка свой характер, выражение берегов, камней и лиственей, как у Генки, или у Толяна. Сколько людей, столько и характеров. Бывает, едешь без хозяина, а он все равно как присутствует. А что чувствуешь, когда умирает или уезжает кто-то и другой приходит?
Пока выходит из Гены почти зануда какой-то, но есть у него и другое лицо, охотницкое, но не баечное, старинно-промысловое, а жизненное. Лихость своя: нож метнуть и попасть точно, чтоб воткнулся и замер, мелко дрогнув, через лесину перемахнуть мягко и мощно, подъехать с шиком на лодке или снегоходе. Тут все боевое, быстрое, горячее. И понятное. В тайге, на реке, если что не так, орет, материт, главное, на это внимание не обращать. Охотничье не отделяется от рыбацкого, крестьянско-хозяйственного, сенокосного, плотницкого, столярного, все стороны мужицкой жизни изучены досконально, развиты и прилажены к себе. В компании, в дороге с незнакомыми может быть остроумным, обаятельным, знает вкус к общению – и здесь умелый.
Есть у Геннадия лицо товарищеское. Товаришшы… В старинном понимании слова. Как в Сече или на миноносце. Почти армейская отзывчивость на твой приход, просьбу. Может и отказать, но понятно и необидно. И главное: так честно, что за одно это спасибо скажешь. Одно время я жил у Гены, Гена у меня, все в порядке вещей. Еще очень строгая разборчивость: свои – только охотники.
В нашей молодой охотничьей компании был мужик Гениного возраста – Дмитрич, с которым они состояли в отношениях и близкой дружбы и товарищеской конкуренции одновременно. Охотник тоже с богатым опытом за плечами, Дмитрич, существуя рядом с Геной, олицетворял некую парность, странный закон, по которому одному и тому же явлению жизнь дает на всякий случай две параллельные версии: Пушкин – Лермонтов, Достоевский – Толстой. Они с Геной хоть и крепко дружили, но на людях без конца препирались и так подшучивали друг над другом, что их перепалки давно стали законным спектаклем. У обоих были подрастающие сыновья, и однажды на охоте все оказались на связи: Дмитрич с Петькой и Гена с Денисом. Разговаривали друг с другом сыновья, а отцы, лежа на нарах, продолжали свое единоборство уже через сыновей, подсказывая то каверзнейшие вопросы, то меткие ответы, и было удивительно, как молодой увалень Денис под руководством отца на редкость остроумно препирался с ушлым Петькой.
Сборищ охотников Гена никогда не пропускал, всегда сидел до утра, терпя и дым, и шум ради общения, и очень не любил когда встреча превращается в бездумную, обычную пьянку. Однажды в городе в гостях Гена выпил непривычное количество коньяку и, раскрасневшись, блестя глазами, потребовал гитару. Перестроив ее на семиструнный лад, запел грубоватым подрагивающим баском что-то старинно-сибирское – кабацкое и разбойничье, потом тюремное, а потом что-то жестоко-правдивое про совращение молодой девушки – с прямыми подробностями, которые Гена рубил грубо-невозмутимо, жертвуя приличиями ради правды.
И из этой семиструнной гитары, из подрагивающего мужественного и даже канонического баска проступает еще одно Генино лицо – лицо лирическое. В нем Генины сочиненные в тайге стихи-песни, которые он по выходу читал без всяких реверансов и стеснения и которые сначала не записывал, а потом по моему совету стал все-таки записывать в тетрадь. В стихах этих есть безусловный талант, и достанься такой хоть кому из тех безликих, но профессиональных писчиков стихов, что берут крепкой задницей да неспособностью к другим занятиям, такой бы прославился за год.
Чайка уныло кричит над водой, Машет серпом крыла, И запоздалая баржа волной Стылые бьет берега.Эта концовка Гениного стихотворения, написанного с первого раза и безо всякого редактирования. Что в последней строчке нет рифмы, ему не пришло в голову. Зато какой классический дольник, и как точно передано настроение енисейской осени – эта торопящаяся самоходка, и волна, задумчиво окатывающая обледенелую гальку, и опаздывающая из-за непомерной речной шири. Откуда Гена взял себя? Как скроил?
Бывало, видя мои литературные мученья, он предлагал сюжеты, и были прекрасные моменты, когда мы негромко и не спеша обсуждали, как лучше построить концовку, и была у обоих одинаковая заинтересованность сохранить, воплотить то прекрасное, что нас окружало, и было ощущение небывалой прочности и полноты происходящего, слияния жизни и так называемой литературы.
Гена очень ценил коренные ли, точные словечки, прибаутки, любил старину и вообще все сибирско-енисейское. И, помогая мне, подыскивая оборот, случай, подробность, делал это так же серьезно и дотошно, как искал в ящике запчасть или подгонял косяк. А я уже не чувствовал ни праздности, постыдности своей профессии, а только ее нужность Гене и другим мужикам.
Я допроявлял в рассказе знакомые черты Гены, Витьки, Толяна. Они стояли перед глазами, но в словах еще только намечались, брезжили, и я сплавлял, прокладывал их снегами и облаками, бензином и опилками, и Гена видел и себя, и ржавые лиственницы на берегу, и валящуюся по волнам лодку – и все вдруг казалось вбитым на века в какую-то студеную твердь, и мы оба, и я и Гена, укреплялись и в себе, и в своих ощущениях реки, тайги, товарищей, переоткрывали их и начинали любить еще больше. И казалось порой, что я исполнитель, а Гена неподкупный и суровый заказчик и что перед ним я будто отчитываюсь, как перед какой-то единственной правдой, и что она, эта правда, прямо здесь, рядом стоит.
Ветераны Бахты. Очерк-интервью для газеты «Маяк Севера»
В нашем селе праздник Победы празднуют так: к 12 часам деревня собирается на угоре по-над Енисеем возле памятника павшим за Родину. Народ принаряжен, мужики с оружием. Здороваются за руку. Енисей в это время еще стоит, в тайге полно снега, но сам угор уже вытаявший, с жухлой травкой. Дети, за несколько дней до праздника красившие ограду свежей голубой краской, идут колонной с барабанщиком во главе. В ограде вокруг крашеной серебрянкой стелки со звездочкой темнеют пихты. Открывается калитка ограды и около памятника выстраиваются: глава деревенской администрации, дети с учительницей литературы Еленой Ивановной и двое наших ветеранов. Остальные стоят рядом на угоре. Мужики с ружьями и карабинами наготове ждут в шеренге на самом краю угора. Когда отзвучало поздравление, они вскидывают стволы и дают залп – вверх и вдаль. Летит дым, пыжи, пахнет порохом. Енисей белеет в оттаявших каменистых берегах бескрайним полотном.
Всего двое ветеранов осталось в Бахте: Илья Афанасьевич Плотников и Анатолий Семенович Хохлов. В школьном альбоме, посвященном войне, о них написано: «Плотников Илья Афанасьевич. 1924 года рождения. В ряды Советской Армии призван в июне 1943 года. Был тяжело ранен и после излечения возвращен в строй. Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, 2 медали “За отвагу”, медаль “За победу над Германией”, медаль ХХ лет победы над фашизмом” и орден Отечественной войны 1-й степени;
Хохлов Анатолий Семенович. 1925 года рождения. Закончил 3 класса. В ряды Советской Армии был призван в июне 1943 г. В феврале 1944 года получил тяжелое ранение и был на излечении. 3 августа демобилизован. Награжден медалями “За победу над Германией” и “ХХ лет победы над фашизмом”, орденом Отечественной войны 1-й степени».
Иду к дяде Илье. Дядя Илья открывает – залатанные брюки в полосочку, красная в клетку байковая рубаха, застегнутая на все пуговицы.
– Дядя Илья, мне тут сказали заметку написать. В общем, мне надо тебя о войне расспросить.
– Ничего я не буду рассказывать. Тем более о себе. Раз один корреспондент тоже расспрашивал, а потом такого написал…
– Я «такого» не напишу, а что напишу – покажу.
– Ладно. В общем, родился я в двадцать четвертом году, 31 июля. Остались нас трое с отцом. Как мать от нас ушла, не помню. Отец на неводе работал, возьмет меня на невод, в лодку уташшит, в нос положит. В школе мы учились – из школы прямо на рыбалку. В школе три года отучился. Пришли, уговорили на рыбалку. Тугуна тогда чистили на сдачу, до 15 августа, правда, а после нечищенного принимали. А потом в армию – в сорок третьем году, 22 июня. Никто меня не провожал. 6 рублей было у меня в кармане. Привезли в Красноярск. Сказали: «У кого есть какие вещи, можете продать или в Фонд обороны сдать». Я что было продал – на 700 р.
– Это на наши как?
– Булка хлеба 70 рублей стоила. Богатые деньги были. Стакан орехов кедровых 30 рублей стоил, 25 – стакан семечек. Мы на распреде были – Дом колхозника, возле Качи. На заводе работали, погружали консервы, муку. Мы сами не таскали, мужики наши таскали, а мы им готовили. Нам дали бочку квадратную здоровенную сгущенного молока и крупу любую, какую хотите – варите. Они работали, а мы кашу варили – своим ребятам, которые работали. Потом начали понтонный мост строить. Ниже железнодорожного моста.
– Дядя Илья, ты когда последний раз в Красноярске был?
– В сорок пятом году. По понтонному мосту только машины ходили, и разводили его, когда судно идет. Потом на Абакан нас переключили. Там тоже переправу строили, но только не понтоны, а козлы – потом настил на них. Козлы, ну как дрова пилишь. Потом повезли опять на поезде – в телячьем вагоне, в пульмане. Кто-то кричит: «Нас обратно везут!» Так и есть, в Красноярск везли. В сентябре в Омск привезли. Казармы там – склады для картошки, землянки, но чисто, выбелено. Тут и обмундирование дали.
– И что делали в Омске?
– В Омске? В колхозе хлеб убирали. С фронта комбайнера привезли. Тогда не самоходный комбайн был, а он на месте стоял, а к нему подвозили. День и ночь работали. Пшеница, просо. Хлеб-то надо было убирать – в деревнях не было никого. Кормили хорошо. Потом в свою часть вернулись, прослышали, что на фронт отправляют – и попросились. Командир говорит: «Сынок, ты куда торопишься? На пушечное мясо?»
– Обучали перед отправкой?
– Обучали. Матчасть. Устройство снайперской винтовки. Оптический прицел… Обмундирование дали – шинель, котелок – все новое. И на фронт. Кормили дорогой, честно сказать, ни на фиг не годится.
Ехали на поезде, тоже телячьи вагоны. Привезли под Вязьму. В октябре. Оттуда повезли в Великие Луки. От Великих Лук пешком к передовой. Шли кто как, растянулись по дороге. Дней пять или шесть шли – по одному, по двое. Провожатый-то скрылся где-то. Я один остался, голодный. Иду – никого нет. Кормились как? Бураки, ну, свекла такая, внутри красная, белая, слоями. У костра ее пожаришь и ешь. Иду – устал, света не вижу, машина идет. Проехали, остановился, назад сдали – офицеры какие-то: «Солдат, куда идешь? Влезай!» Залез я… Кусок сала, хлеб…
Голос дяди Ильи дрогнул, лицо вдруг съежилось, он отвернулся и махнул рукой.
Сидим молчим с дядей Ильей. Он продолжает:
– Догнал ребят. Железница станция называлась. Стоят понемногу ребята, собираются, по пять-шесть человек. Один позже меня пришел, Скворцов. Ему офицер – ты дезертир. Стрелять тебя будем. Скворцов белый стоит. А там один мужик был, видно, что бывалый. «Слушай, – офицеру этому говорит, – если ты нам к вечеру не привезешь продуктов, то мы тебя самого зажарим и съедим». К вечеру и жратва была, и все, и хлеб, и концентраты… И Скворцов живой.
– Как первый бой?
Дядя Илья замешкался, будто я спросил глупость, потом помолчал, подбирая слова, а потом как резанул:
– Первый бой был такой – все бегут и я бегу. Потом залегли. У них пули разрывные были, и кажется – и впереди стреляют, и взади стреляют.
– Ну немцев-то видите?
– Как не видим? Видим. Вот они, который близко, который далеко. То, глядишь, каска мелькнет.
– А вообще какая… задача-то у вас была?
Дядя Илья посмотрел на меня, как на дурака:
– Вперед. В сорок третьем одна задача была – вперед. Потом в оборону нас поставили: Большая Пуща, Малая Пуща. Мы там еще простояли.
– А медаль? За что наградили?
Дядя Илья снова стесняется:
– Не знаю, за че наградили. За храбрость вроде. Короче, вот дорога, вот кюветы. – Дорогу изображала ложка, «кюветы» – две чашки. – Мины вот здесь легли, и вот здесь. – Показывает на чашки. – Я услыхал, когда начали стрелять, ну и сюда летит, по шипу знаю, что где-то здесь лягут. Лег посередке – деваться некуда, и вот одна с этой стороны дороги легла, другая с той. Дорога-то выше, ну и осколки – в бугор. Выходит, берег Бог меня.
– Еще психическая атака у немцев была. Все пьяные, рука к руке идут (дядя Илья показал, как касаются немцы друг друга поднятыми локтями) – стреляют.
– Сколько до них?
– Сто пятьдесят метров. Мы стрелять начнем – лягут, потом снова идут.
– Ты попадал в немца-то?
– Да ну! Все врут! Попал – не попал, ты откуда знаешь, кто куда попал? Снайпер – дело другое.
– А ты вроде на снайпера учился?
– Не стал снайпером – обучаться надо было шесть месяцев, а я месяц проучился.
– А у тебя что за оружие было?
– Карабин кавалерийский… Как в атаку? Один встает: «За мной!», ну и подымаются, по два, по три, потом все. В фильмах все неправильно показывают: шквал огня и все в атаку. При таком огне ты и встать-то не сможешь, не то что в штыковую.
– А потом что было?
– А что потом? Ранило. Наградили и обратно в часть. Два раза ранен был. А воевали: Белоруссия, Литва, Латвия. Была там такая Курляндская группировка. Ранило? Шрапнель – сначала суда, потом сюда, – дядя Илья показывает на ногу, на руку, – если б ударила в голову, у меня бы две дырки получились.
Еще спрашиваю про награды.
– Какие награды? Медали «За отвагу». Две было. Одну потерял. Вторую как получил? Тоже так. – Дядя Илья отмахивается. – Там никто толком не знает, не мое это – начальства дело. Я же не за награду воюю – правильно?
Короче, идем с передовой, у меня провода моток на спине. И слышу: командир зовет. Я иду, не откликаюсь. Докричался. Обратно на передовую посылает – доложить там что-то. А я только что оттуда, да еще провод этот. Он подзывает солдата: «Возьми провод у него». Отдал провод и назад, на передовую, а неохота – страшное дело! Так не хотел идти. Сходил, доложил, что нужно. Возвращаюсь, уже чуть не наутро. Вижу – что-то копают тут… В общем, все, кто тогда шли со мной, и начальство, и солдаты – все полегли, 32 раненых и 11 убито. Снаряд. Опять Господь уберег.
– А еще что было?
– Зубами порванный провод соединил, а потом огонь корректировал… – Дядя Илья помолчал, сказал: – В Белоруссии ни одного дома не было целого, трубы где торчат только. Шли по лесу колонной, вдруг остановка. Я шустрый был, вперед пробрался – что такое? На сосне висит женщина молодая, в чем мать родила. Косы… до сих пор перед глазами стоят… льняные. А под ней банки от консервов – жрали… Пожрали и уехали: моторизированные, б…!
Помолчали.
– А медаль как потерял?
– Она у меня в кармане лежала, командир говорит: «Почему не носишь?» Я надел, носом-то рыл когда землю, и потерял.
– И сколько времени тебя дома не было?
– Два года и шесть месяцев, – посчитал дядя Илья.
– А победу где встретил?
– В госпитале, в Ленинграде. Помню, баба идет, толстенная, в дверь только боком проходит. Под каблуками паркет прогибается. А она пробовала еду нашу, годится или нет. Наши ржут: «Опробывалась!» Это к слову… А победу – в госпитале. А вообще, земля слухом полнится, еще победы нет, а слух уже был, что с Америкой вражда идет. А с победой так было: ночью проснулся – гул идет. «Че такое?» – спрашиваю спросонья. А мне: «Кричи ура – победа!» А назавтра Сталин говорил. Немного сказал – поздравил всех. И всем выдали по чекушке вина, бутылку минеральной воды, бутылку пива. Я пива отпил. А больше не хотел почему-то. А днем народ пошел к больнице, а там загородка – как пики. И вдоль загородки побежали все… К нам… Поздравляют… Что было! – Пла… плачут все… – говорит дядя Илья срывающимся голосом, вскакивает, уходит, гремит умывальником, вытирает лицо. Возвращается. Отрывисто бросает: – Извини.
Молчим.
– А что потом? Потом домой. Посчитали, комиссовали, выдали деньги, посадили опять в телячий вагон, и поехали, только не через Москву, а северной дорогой, через Пермь мы выехали. Приехали в ноябре, 28-го числа домой попал. На самолете. Не ждали особо, телеграммы не давал. Что жив, знали. Писал. До Сумарокова на самолете долетели, до Мирного на конях. А от Мирного пешком. Все кони в Арвамке, даже водовозные, сено возят. Пешком пошли. И только я в избу зашел – мне фуфайку не дали снять – все бегут, все целуются. Я утром поднялся – веришь – нет: весь в пузырях!
Прощаюсь с дядей Ильей, иду к дяде Толе. Сияет солнце, снег как железный. Дядя Толя в сараюшке, там рассада и он ставит электрообогреватель, потому что на улице снова мороз.
– Дядя Толя, расскажете, как воевали?
– Да я мало и был-то совсем… Да и вообще рассказывать не любитель.
– Да уж сколько был. О себе расскажите.
– Родился я здесь, в Бахте, 25 апреля 1925 года. Три класса закончил с горем пополам и то убежал. В Мирном мы учились тогда… А в сороковом году на охоту пошел. Работал сразу в колхозе. В сорок третьем году призван в армию, в июне месяце, не помню точно – в двадцатых числах. Сначала – в Красноярск, потом на пересыльный пункт в Канск. В Канске в бане помыли. Мы там, как на карантине были – до ноября. Сено косили, бондарили, бочки ремонтировали. На рыбалку меня посылали дней на пятнадцать – двадцать. Бреднем рыбачили на Кане. На охоту ходил за косачами для воинской части.
– Так не для колхоза работали?
– Покос и для части и для колхоза, а остальное – бочки, и рыбалка, и охота – все для части. В общем, на охоте я пробыл до 22 ноября.
– А потом?
– Потом сразу в маршевую роту на передовую.
– А ехали в телячьем вагоне? – уже со знаньем дела спросил я.
– В нем и ехали. Двойные нары. Буржуйка на вагон. Сухой паек. Кипяток на остановках. Дрова там же. И на 1-й Белорусский фронт.
Дядя Толя на редкость немногословен, каждое слово приходится вытягивать.
– И сколько времени ехали всего?
– Да недели две ехали. А до передовой на своих ногах трое суток. По шоссейной дороге. Строем. Разбитая деревушка – дошли до нее. Сутки пробыли, а потом уже на самую передовую.
– А ранило как?
– В атаки мелкие ночные ходили. И ранило в руку. Под Витебском наступление было. Артподготовка сначала, а потом пошли – и ранило. Весь полк разбило – пятнадцать человек осталось.
– А как назывались-то вы?
– 274-я стрелковая дивизия.
– Дядя Толь, ну а передовая-то что из себя представляла?
– Что представляла… Траншеи нарыты и в них люди сидят.
– Самим приходилось копать?
– Да нет, там война-то уж прошла. Все накопано, так только – для себя чего подправишь.
Дядя Толя снова возвращается к наступлению под Витебском, где его ранило:
– В общем, артподготовка часа два шла. Наши начали, немцы тоже стреляют, тоже артподготовка. Потом в наступление, сначала солдаты, потом техника.
– А до немцев сколько?
– Метров триста, а то и меньше. Видишь их хорошо. В общем, с восьми утра начали, а закончили бой в темноте только.
– А какое оружие было?
– У меня? Винтовка мосинская. Немцы отступают, за ними идешь, где-то ляжешь, ждешь. Лупят из всего. Авиация задействована. А ранило в темноте уже. В руку осколком. Снаряд взорвался. – Дядя Толя закругляет разговор, короче, где должны были выбить, там выбили, а до Витебска тогда не дошли.
А ранило в правую руку, в предплечье. Что почувствовал? Как стукнуло, боль уже потом была. Рука болтается. Сначала подумал – оторвало. Взял вот так руку, – дядя Толя показал – взял предплечье левой рукой, – и пошел. Так и шел, как оступишься – сам понимаешь.
– А куда шел-то?
– Назад, к своим.
– В землянку?
– В землянку. Там собрали сколько раненых, в повозку и в полевой госпиталь. Палатка такая большая. Там дня два-три. Потом в Смоленск в госпиталь. Там операция и гипс. В Смоленске неделю пробыл, потом в Калугу перевели. Оттуда в Иркутск – в оздоровительный госпиталь. Из Иркутска сюда. Пароходы-то ходили.
Попрощался с дядей Толей, который сказал напоследок: «Забылось многое, если б сразу – может, и больше рассказал»… Пришел домой. Задумался. Два рассказчика: один эмоциональный, живой, другой сдержанный, строгий. Но что-то общее было в обоих – то, что оба, из скромности, стремились свести свой вклад до минимума, до роли песчинок, которых то бросало на врага могучей волной, то откатывало назад, но без которых не было бы победы.
Бахтинцы, погибшие в Великой Отечественной Войне:
Хохлов Иван Павлович
Хохлов Иван Игнатьевич
Хохлов Павел Игнатьевич
Синяев Иван Никифорович
Попов Петр Федорович
Плотников Матвей Васильевич
Хохлов Марк Павлович
Лямич Тимофей Яковлевич
Эмидак Андрей Никифорович
Эмидак Михаил Альбудьевич
Эмидак Данил Альбудьевич
Хохлов Павел Елизарович
Хохлов Михаил Павлович
Степанов Михаил Максимович
Хохлов Степан Макарович
Вернувшиеся с войны бахтинцы-ветераны, которых уже нет в живых:
Хохлов Георгий Гаврилович
Хохлов Федор Павлович
Хохлов Евдоким Дмитриевич
Хохлов Андрей Павлович
Степанов Павел Васильевич
Попов Леонид Андреевич
Ярков Иван Андреевич
Лямич Петр Алексеевич
Мальцев Михаил Григорьевич
Хочется обязательно сказать об одном человеке, который в боевых действиях не принимал участия, хоть и был призван в армию в 1944 году. Он никогда и не причислял себя к ветеранам, но, видно, был таким человеком, что люди причисляли его к ним невольно – за его мужество, за трудолюбие, готовность прийти на помощь. Этот человек Адам Валерьянович Шейнов.
С праздником вас, дорогие ветераны! Вечная вам память, герои!
Русский язык на берегах Енисея
Можно в очередной раз отделаться прописными истинами о прижившихся иностранных словах, вроде «контора» или «школа», если бы не последняя словесная интервенция. Ее несметная конница ввезла на своих спинах отнюдь не дефицитную терминологию, призванную облегчить жизнь специалистам новых технологий, а западную идеологию с ее системой ценностей. Живая и удивительная природа слова наглядно проговаривается об этом в терминах, вроде «менеджер», повально употребляемого вместо традиционного для России «управляющего». Отличие «менеджера» от «управляющего», несмотря на «юридическую» тождественность в самом духе, исходящем от подобных слов. В духе бизнеса, то есть зарабатывания денег. Не зря главной мотивацией при обучении менеджеров ставится личное обогащение, а не управление в его исконном смысле. Вдумаемся, что такое управление в русском понимании? Возьмем, к примеру, управление судном? Это навигация, выбор направления, путь, ответственность… (направ, прав, правота). Нынче слово «управленец» берется как синоним «менеждера» и употребляется уже в новом привнесенном смысле.
Чем отличается американское слово «администрация» от привычного русскому уху «правительство»? «Администрация» несет оттенок некой сугубо формальной и демонстративно заниженной (ах, не ущемить бы какую свободную личность!) роли государства, милостиво устранившегося от важных аспектов общественной жизни, будто бы оставленных на совести вольных индивидуумов. «Правительство» же предполагает именно правление страной и народом, управление, направление (однокоренные слова: правота, правда, правило). Некое опережающее знание о пути и ответственность за этот путь перед Богом и народом – словом, все то, что испокон было свойственно русской имперской традиции.
Говоря о состоянии русского языка, не будем впадать в подсчет надругательств над ним, начиная со всевозможных «фандрайзингов» и заканчивая целой кухней называния коммерческих товаров заморской рецептуры – всяких «дляносов» и «вкусноффых», за которые горе-словотворцев впору наказывать «ремнеффым».
Не побоюсь повториться, если в который раз заявлю о необходимости введения гражданского обращения «сударь» и «сударыня» как наиболее приемлемого, да и просто замечательного по звучанию, теплу и уважительности. Робкая попытка продвижения «господина» и «госпожи» ничего, кроме недоумения и раздражения, у народа не вызвало, так как со словом «господа» у большинства населения ассоциируется нечто антинародное и паразитическое – из области господства одних над другими. Мой знакомый охотник-промысловик говорил: «Да какой я, на хрен, господин?!»
Как же быть с этим самым «господином» в дореволюционной России? Да никак… Просто после всего, произошедшего с нами в двадцатом веке, говорить о возвращении к сословному делению, принятому в прежней России, вряд ли имеет смысл. (Что касается «сударя»: традиционно именно нота уважительности была главной в этом производном от слова «государь». Поэтому не следует искать здесь какую-либо общественно-политическую окраску, связанную с понятиями «государь», «государство», «суд» и прочее, включая иностранный термин «sudarium».)
Словом (хороший оборот!), обязанность и государства, и гражданина – проявлять особенное внимание, строгость и ответственность в отношении к языку и понимать, что стоит за словом вообще.
Наш язык понес огромные потери после преступного упрощения его в 1917 году. Всем известно, что до коммунистической реформы в нашем языке было 36 букв, а в «классической» старославянской кириллице – вовсе 43. Уничтожение каждой буквы – это потеря языкового оттенка. Примитивный язык приводит к примитивному мышлению. Упрощение языка – путь к национальной деградации, хотя именно упрощение и объявлялось главной целью данной реформы.
Введение алфавита вместо азбуки – это посягательство на сакральную сущность языка. Вспомним, что за каждой буквой азбуки стояли важнейшие смысловые материки: Аз – я, Буки – буквы (Боги), Веди (ведать), а дальше и объяснять не надо: Добро, Есть, Жизнь…
И если вглядеться в древнерусскую, старославянскую и церковно-славянскую языковую глыбь, то так и замрешь, завороженный огромными возможностями, которые упускались при каждом упрощении. Удивительно, почему в школах не изучают старую азбуку (хотя почему-то изучение так называемых мертвых языков считается незыблемой составной классического образования) – такое обращение к прошлому было бы очень полезно.
Великой школой и сокровищницей русского языка является наша литература. Ее мастера традиционно чувствовали охранную и животворную роль народного языка и питались его родниками. И в наши дни именно язык русских деревень еще противостоит технологической атаке, которой подвергаются города, где сотнями вводятся безо всякого контроля чужеродные слова, которым можно подыскать отечественную замену – была б на то воля. Вот в воле-то и дело.
Русская деревня – это та заповедная территория, где еще жив русский язык как носитель национального духа. И, конечно, самые глубинные и нетронутые места – это Сибирь и ее наиболее удаленные уголки. Здесь, в поселках, деревнях, станках, еще звучит речь русского времени, здесь сам язык еще говорит на другом (богатом и гибком) языке, и ты испытываешь ощущение, будто попал на сто лет назад… Точно так же как, оказавшись в старообрядческом поселке и поднявшись на угор, замираешь… Тебя буквально ошатывает могучей волной времени при виде бородатых мужиков в рубахах с расшитыми воротами и женщин в сарафанах и платках.
Язык, на котором говорят жители Енисея, имеет несколько истоков. Чую в нем самое малое четыре ноты: северорусскую (поморскую), сибирско-енисейскую, тюркскую и самоедскую (кетскую и эвенкийскую). Русская нота пришла во времена освоения Сибири через морской Север. На Енисее, так же как и в Архангельской, Вологодской областях, проглатывают-подрубают окончания глаголов: «быват», «заедат», «токо громоток делат». Здесь называют ветра кратко: «север», «запад», причем обязательно по-старинному: «сивер». «Угором» зовут высокий берег по-над рекой. На угорах стоят деревни на Енисее.
Тюркские слова вроде бы тоже есть – тузлук (рассол для рыбы), ястык (пласт икры), а как возьмешься считать – не так и много их в обиходе. Так же, как кетских и эвенкийских слов. Таких, как, к примеру, «голомуха» – от эвенкийского «голомо» (род таежного на скорую руку жилища). «Пущальня» (точного происхождения не могу сказать) – ставная сеть. Слово это связано с северными народами. В одной из ссылок обозначено долганское происхождение. В сборнике кетских сказок оно указано в словаре.
Теперь о сибирско-енисейском замесе…
Вообще, в Туруханском районе на берегах Енисея как основное население, так и говор традиционно русский. Его можно подразделить на чисто енисейский и… назовем так: общесибирский. На общесибирском говорит целое пространство, городская и южная Сибирь на разных широтах, население Иркутска, Красноярска и Новосибирска.
Сибирский говор – это обязательно вместо «чего» – «ково». «Ково ревешь?» (реветь – кричать, звать. «Пореви меня по рации»). «Знатье» – «знать бы заранее», («кабы знатье – дак…») Вместо «желтый» сибиряк скажет «с желта́», вместо «вроде» – «подвид». («Блесна на подвид битюря» – В.М. Шукшин).
«Шаить» – означает медленно гореть, тлеть. Шаят всегда сырые дрова. Какая звукопись! Так и слышится шипенье капель на торце мокрого полена. Вместо «повесить» сибиряк обязательно скажет «повешать». «Язви тя!» – крикнет в сердцах заполошная хозяйка, опрокинув ящик с рассадой. На Енисее еще говорят: «От, яскорь тебя!» Что это значит, не могу сказать.
Есть еще характернейшее «че моя?», производное от «че, моя хорошая?». Так обращались к близким, к доченьке, к матушке, а потом выражение перенеслось на любого собеседника. И бывает, маленькая усохшая старушка скажет здоровенному мужику: «Че моя?» Мол, что у тебя? Какие трудности-заботы? Болезни-печали?
Таежная избушка называется «зимовьем». С отменой буквы «е» многие образованные люди, усвоив из литературы зимовье, как нечто «сибирское», произносили его с ударением на «о», и это ударение вошло даже в песни, написанные горожанами (у Визбора «В чахлой тайге заметает зимо́вье»).
Очень типично общесибирское слово «уросить» – значит капризничать. Так говорят про ребенка.
А вот удивительное выражение, которое я слышал только на Енисее: «грезить». Оно вовсе не из высокого штиля – грезы и мечты здесь ни при чем. Грезить – это безобразничать, разорять («зорить»), бедокурить. «Росомага (росомаха) нагрезила». Значит, росомаха набедокурила, разорила ловушки, сняла приваду и сожрала попавшихся соболей. «От (вот) греза» – так могут ласково сказать про нашкодившего ребенка.
Замечательно слово «быстерь», означающее быстрину на реке. Хариуса здесь зовут «хайрюз». Вместо «им», «ими» говорят – «имя». Вместо «две или одну» – скажут «двуе или однуе». «Просторечье» – скажет лингвист. «Богатство и гибкость» – скажет поэт.
«Шаглы» – это жабры. Невразумительного человека могут прозвать Бесшаглым. Корга – каменистая гряда, вдающаяся в реку (не путать с беломорскими коргами). Курья – заводь.
Особо произносятся слова, заканчивающиеся на «ьи», «ью» – «ночью» звучит как «ноччю», «свиньи» – как свинни. Звучит с каким-то замечательным оттягом.
«Кутит» – это закручивает (в сани) ветер и снег. «Быгать» – так говорят про мясо, которое выветривается, вымораживается на воздухе. «Выбыгала» привада. Слово «дивно» – означает порядочно, довольно, много. «Вередить» – повредить. «Вередила палец». «Изнахратить» – испортить, изуродовать. Необыкновенно звучное выразительное словцо! Что такое «нюховитый», думаю, объяснять не надо. По этому же лекалу сработано «воровитый». В городской речи из этого кроя выжило, например, «деловитый».
По-особому произносится множество слов: отдал – ондал. Опять – опеть. Разве – разле. Мимо – нимо. Порознь – порозь. По отдельности – нарозно.
«Провьянтом» моя соседка называла боеприпасы – порох, гильзы, капсюля, пыжи. Удивительно старинным духом веет от этого оборота!
За словом «оборот» потянулось словечко «оборотний» – «оборотняя стерлядка» – стерлядка, которая уже прошла вверх, а теперь «катится» обратно. А вот закупать продукты почему-то называется снабжаться. В этом «снабжении» – большая капитальная закупка, деревянная лодка, полная мешков с мукой, всякого товара. Снабжаются на промысловую охоту, на долгую зиму.
Виска – это протока (между озером и рекой). Ручей произносится как «ручей». Переехать на ту сторону Енисея называется коротко: «через». «Поехал через». У рукавицы большой палец – «напалок». Голенища у бродней (енисейской обутки) – ноговицы (скроено по выкройке «рукавицы»). Пальник – тетерев-косач (от слов «черный», «паленый»).
На Енисее есть целая, так сказать… поднародность – сельдюки. О них Виктор Петрович Астафьев писал в «Царь-рыбе». Считается, что «сельдюк» происходит от названия туруханской селедки – ряпушки, которую так любят промышлять по осени жители Енисейского севера. Сельдюки – потомки русских переселенцев, к которым, возможно, подмешалась кровь коренных жителей, кетов и эвенков. Вообще же они абсолютно русские и по облику, и по фамилиям (Хохловы, Поповы, Никифоровы, Плотниковы). Сельдюки – главные носители енисейского говора. Все это «ихнее» – и «сивер», и «быват», и «здравствуй-ка», но главная особенность, что шипящие они произносят по-своему: вместо «ш» – «с», вместо «ж» – «з». «Сто ты парень». «Зырный». «Последний санс». Еще они говорят вместо «л» – «в». «На вызах убезала» (на лыжах). Мягко произносят «л» – бутыука.
У Валентина Григорьевича Распутина в книге «Живи и помни» описывается говор одной из ангарских деревень: там, к примеру, слово «сучка» произносилось, как «щуцка». Что-то родственное с сельдючьим выговором есть в этом переворачивании шипящих на Ангаре, сестре Енисея.
Масса слов связана на Енисее с мастеровой культурой. С предметами быта, охотничьего промысла, рыбной ловли. Ша́рга – расслоенные на плоские волокна стволики черемухи, которые использовались для плетения и скрепления различных частей снаряжения.
Гартье – кедровая щепа, из которой делали морды (ловушки на животь – мелкую рыбешку, используемую как живца). Очень енисейским показалось мне когда-то слово «кляч» – веревка из черемуховой коры, снятой в виде лент. Перед рыбалкой кляч замачивали в Енисее. Каково было мое удивление, когда у Гоголя во второй части «Мертвых душ» я натолкнулся на этот самый кляч – герои использовали его для рыбалки.
Долбленые лодки, которые на Енисее называются «ветками» и вовсю в ходу здесь, были в старину широко распространены по всей Руси и назывались «обласами». Все это еще раз подтверждает, что Сибирь – это действующий запасник русской традиции.
Самое главное и удивительное, что почти у каждого здешнего человека была своя система, свой неповторимый речевой строй, которым он (и каждый на свой лад) прокладывал дороги внутри языка. Примечательно, что взаимоотношения с грамотностью могли быть обратными – чем слабей грамотность, тем поразительней языковое творчество. Несомненно, одно с другим связано прочно и парадоксально. Выходит, что грамотность в некоторых случаях блокирует творческое речевое начало.
Вспоминаю моего соседа – дядю Гришу, царствие ему небесное. Григорий Трофимович Попов был один из самых испоконнейших и по судьбе, и по духу енисейских жителей. Без тайги и особенно реки, Батюшки-Анисея, он себя не мыслил. Единственная поездка в город стала для него страшным испытанием. Он жил рекой – вслушивался, всматривался, вчуивался в Енисей, каждое его дыхание ловил-переживал. Был ему Енисей как огромный термометр-барометр всей жизни, да оно и понятно – рыбак есть рыбак… Вечная зависимость от погоды у огромной воды. Запад ли верховка (юг) задует? «Че вода делат – прибыват или падат?» То на прибылую воду сети плесенью забьет, то сивер так закатат, что через не перейти.
Как-то он сказал (речь зашла про Красноярск): «город-то ране в Енисейска был». Город для него был с большой буквы – образ центра, енисейской столицы – независимо от названия.
Есть такое понятие «крень». Это особо плотная и смолистая древесина с одного бока дерева. Ее избегают при выборе лесины на изделие. Дядя Гриша высказал по этому поводу собственное мнение: что раньше делали из креневой стороны ствола полозья для нарт, что к такому полозу не «подлипат» снег, что он катится отлично, и вообще настолько кристаллически крепкая эта самая крень – что «дас топором – как соль отлетат!»
Вспоминается наш односельчанин – ветеран войны – Анатолий Семенович Хохлов. Разговорились с ним про березовые заготовки для нарты (для полозьев). Дядя Толя сказал, что, вообще, береза «кать имет хорошую», если только не «вертлявая». Кать – он произвел от слова «катиться». А витую (свилеватую) березу назвал вертлявой, будто она вертится (под топором, допустим). С глаголом «катиться» связан еще один термин: «некать» – пора или, скорее, состояние снега с шершавой поверхностью, который не дает катиться полозам и лыжам. Некать бывает в сильный мороз. Образовано по тому же принципу, что и небыль, нетель, нерусь. Еще хорошее слово «есть», обозначающее род верховой воды: «поводь».
В русском языке окраску однокоренным словам придают многочисленные суффиксы, приставки и окончания. И оказывается, у одного слова они остались, а у другого незаслуженно забылись, стерлись. Множественное число от слова «дерево» – «деревья» звучит привычно, а вот от слова «колесо» – «колесья» – уже по-старинному. На Енисее такое словообразование в порядке вещей. Старики говорят: «Поднял капканья», то есть насторожился. Точно так же брат Григория Трофимовича, дядя Петя, пожаловался, что на «Красноярска нету-ка билетьев нисколь». Соседка Серафима Ильинична Никифорова однажды сказала, что в магазин «привезли спагетья». Насколько сильны у этих людей правила жизни языка! Они и новые слова гнут по-старинному!
И вот слово уже видится со всеми связями, жилами. Так Енисейские старики учат нас помнить старинные языковые скрепы, что, будто черемуховой шаргой, сшивают понятия, людей, эпохи. И стыдно перед этими носителями национального духа за современное состояние языка.
Слово, по нашей вине порвавшее связи с миром, – как озеро, потерявшее сообщение с рекой, его породившей. Не так ли зарастают тиной и ряской виски, связывающие душу с родным и кровным?
Как руки, тянутся от каждого слова лучи смыслов, напоминают о великих взаимосвязях в Русском мире, о том, что, если не убережем язык – останемся окруженными словами-инвалидами с ампутированными конечностями, превратимся в одну огромную культю, и так и будем доковыливать на иностранных протезах.
Конечно, заимствования были и во времена подъема русской государственности. Сейчас ситуация особая и эти заимствования беспокоят уже не сами по себе, а как одна и форм натиска на Русский мир, попытка подмены духовного базиса нашего народа.
Приведу дословно учебный план, висящий на стене одного из элитных детсадов города Липецка:
1. Внедрение новых технологий обучения.
2. Программа «Мир открытий».
3. Обучение грамоте: формировать элементарную лингвистическую и культуроведческую грамотность.
4. Развитие логического и творческого мышления с использованием развивающих игр в воспитательном и образовательном процессе.
5. Обучение английскому языку и приобщение детей к культурным ценностям англоговорящих народов – иноязычной культуре.
6. Элементарные математические представления.
7. Элементарные естественнонаучные представления.
О России и родном языке ни слова. Я хотел этот план поставить эпиграфом в «Полете совы», но потом раздумал, так как он слишком лобовой и раньше времени раскрывает тему произведения.
Меня тут спросили на встрече в библиотеке: в происходящем чего больше – собственной нерадивости или вражьей воли? Вопрос вроде бы не совсем корректный, поскольку чужая политическая воля и чья-то слабость – вещи несопоставимые. А с другой стороны, человеческая недалекость – это одно из обстоятельств, с удовольствием используемых нашими недругами в своих целях. Хотя вопрос частый: происходящее с Россией – это что: злая воля наших врагов (мирового олигархата, ЦРУ, транснациональных корпораций и так далее, включая так называемую «пятую колонну» здесь) или следствие собственной нерадивости? Отношение к этому вопросу и является линией раздела нынешних патриотов и либералов, продолжающих спор славянофилов и западников, с той лишь разницей, что если в царской России участники диалога были плотью одного философского процесса и могли мирно общаться в нелитературной жизни, то теперь ряд представителей либерального крыла переходит огненную черту и оказывается среди политических врагов Отечества.
Поэтому вопрос этот скорее мировоззренческий. Процессы влияния одних держав на другие предполагают любые средства: и использование идеологических сторонников внутри интересующей страны, и работу с ее слабыми местами, такими как, допустим, равнодушие граждан. Но главным является вектор, заданный мировым процессом и теми, кто его возглавляет, потому что, манипулируя внутриполитическом курсом, можно то же равнодушие и другие качества человеков усиливать и ослаблять именно так, как этого требует твоя задача. И по большому счету важнее всего – как именно ты ко всему этому относишься. А когда слышишь весь этот инновационный набор, конечно, возникает ощущение подмены и имитации деятельности, выгодной всем участникам происходящего – и набивающим карманы внутри России, и режиссирующим историю за ее пределами. Конечно, тотальным проникновением всяких «блинхрендингов» мы обязаны еще и подчас ухудшающемуся уровню развития населения, точнее, некоторых его кругов, напрочь оторванных от корней культурных и национальных и подсаженных на телевизор. Но в конечном-то итоге именно отмена идеологии в нашей стране привела к такому положению дел. То есть причина все-таки политическая.
И хуже всего, что традиция живого образного языка утрачивается и в литературе. Начинающие писатели даже в самой далекой провинции забыли о существовании русского художественного слова, такое ощущение, что они давно не читали Астафьева и не помнят о том, как слово дышит, как говорит звуками, запахами и красками. В большинстве рукописей идет сценарий, некое журналистское описание событий. А читатель должен сам, как режиссер, поставить происходящее, раскрасить, записать звук, заставить действующих лиц работать выразительно, потому что автор от этого всего полностью устранился. Художественное слово превратилось в текст. Да еще и написанный на языке гаишного протокола или инструкции. Приведу пример. Помню фразу: «Мария Ивановна взяла в руки кусок плотной и крепкой ткани». Не рогожки, не дерюжки и даже не флиса какого-нибудь. Нет. Очень похоже на: «Взяв кусок плотной ткани, тщательно обезжирьте и нанесите на него слой клея».
При существующей культурной и образовательной политике надежды на понимание чиновниками опасности происходящего нет. Наоборот, реформация русской жизни ведется ими целенаправленно и неумолимо. И это значит, что инициатива может исходить только от нас. А значит – и ответственность на нас.
Образы, которые нас охраняют
В юности мне почему-то казалось, что между миром, созданным классиками нашей литературы, и современной жизнью лежит непреодолимая пропасть. Русский мир природы и людей, ею живущих, созданный Тургеневым, Толстым, Лесковым, Пришвиным, представлялся заповедным, священным, а окружающая жизнь по сравнению с ним выглядела утерявшей основу и едва не изменившей главному. Юношеская запальчивость помаленьку улеглась, а пройдя путь, я и вовсе изменил свои представления. Оказалось, дело не столько в окружающей жизни, сколько в нашей способности видеть те образы, которые нам время от времени открывает наша земля. Некоторыми этими картинами-открытиями я хочу поделиться с читателями.
Первая картина: стрелка двух великих рек – Енисея и Нижней Тунгуски, Угрюм-реки.
Было это лет десяток назад, когда над прекрасной рекой еще не нависла вновь угроза гидроэлектростанции (видимо, тяга уродовать священный лик земли в некотором сорте человеков неистребима).
В Туруханск (бывшее село Монастырское) я прилетел из деревни на встречу с читателями. Кто-то из односельчан попросил меня поискать в Туруханске сальниковой набивки для катера, и я отправился на поиски.
Был самый конец мая. Лед только прошел, перед глазами во всю ширь катился Батюшка-Енисей, огромный, вздутый половодьем, в редких лебедях льдин. Такая же полная воды, стремительная, глянцевая, в лаковых водоворотах Тунгуска вылетала в Енисей и, будто оглядываясь, облегченно теряла ход.
Почти на стрелке под берегом маленькая самоходка-«колхозница» готовилась к первому рейсу в Туру, столицу Эвенкии. На палубе было пусто, и я спустился в машину, где мужики копались с дизелем. Среди них особенно горячо и умело действовал отец Иоанн, батюшка из монастыря, с которым я накануне познакомился у друзей. Не помню, добыл ли я набивки, но образ-картина, подаренная мне чуть позже, осталась со мной на всю жизнь.
С отцом Иоанном мы горячо разговорились, сходя по трапу с самоходки, и продолжили многочасовую беседу на высоком берегу Тунгуски, после чего батюшка пригласил меня в свою келью и напоил чаем, а я показал ему фотографии. Одну из них он попросил на память. На ней был снятый с высокого яра поворот мощной и спокойной реки в таежных берегах. «Посмотри, каким покоем веет от этого вида», – задумчиво проговорил отец Иоанн.
Надо сказать, что все это время мы беседовали об очень важных вещах – о чем еще говорить на устьях огромных рек и в других непостижимых местах? Разговор шел о вере, надежде, Отечестве и трудной человеческой доле.
Мы вернулись на берег Тунгуски, сели на лавочку и отсвет тайги, небес и бескрайней воды еще долго питал наши души красотой и глубиной…
Крошечные люди на устье рек… Две глади, два стальных разлета… Место, столько раз виденное с воздуха и лежащее в душе именно в таком огромном, планетарном, распластанном виде и требующее и от нее такого же нечеловеческого простора.
Что же так поразило в отце Иоанне? Думаю, необыкновенная искренность этого человека, его горение, рвение к делу и одновременно сознание своей ничтожности, великий стыд за грешную свою природу. Я и не подозревал, насколько может быть полна мученичества жизнь моих современников! Какое доверие было к слушателю, к брату-человеку, какая небоязнь быть уличенным в слабости и какой силой веяло от этого человека!
Рассказывал, как однажды ночью в городе его чуть не убили, и как трепетало его сердце, когда, казалось, жизнь вот-вот оборвется, и он, готовясь к последней борьбе, спасался молитвой, прижавшись к стене темной подворотни. В таком борении представал человек, и такая в его искренности была воспитательная сила, что встреча эта навсегда заняла одно из важнейших мест в моей жизни… А мимо несла Тунгуска стальные воды с остатками льдин, терялось в весенней дали ее русло в высоких берегах, и за ними вздымалось на востоке туманно-снежное плоскогорье.
В это время снизу нарастало тарахтенье, и вскоре мимо нас проползла коптящая «колхозница». Отец Иоанн что-то говорил и вдруг порывисто поднялся и перекрестил уходящее вверх по Тунгуске суденышко. Была такая немыслимая связь времен в этом жесте, такое чувство Бога и Родины, и так величественно стояла его фигура по-над стрелкой великих вод, что навеки отлились в душе и этот весенний день, и замирающий стук дизеля, и трепет выцветшей рясы на студеном ветру.
Несколько лет спустя очень важным для меня местом стал монастырь в Енисейске. Я ехал на машине из Красноярска в Туруханский район. Протяженный путь этот пролегает через Енисейск, где трасса кончается и начинается зимник длиной 600 километров. Перед этой ответственной и незнакомой мне тогда дорогой Енисейск сделал мне нежданный подарок.
Однако прежде надо сказать несколько слов о важном и удивительном этом городке. Основанный в начале XVII века, именно он был столицей Енисейской губернии, и дух старины в нем еще жив, хотя потери, понесенные в двадцатом столетии поистине невосполнимы. Тем не менее здесь сохранились старинные купеческие дома, избы с удивительными наличниками и, конечно же, монастырь, вдоль которого я и ехал снежным сибирском деньком. По случайности, по высшей ли воле попал я на эту боковую дорожку и двигался вдоль монастырской стены, когда-то белой, а теперь облезшей и такой по-детски низкой, что казалось, мир за четыреста лет навсегда ее перерос. Стена от зубца к зубцу сбегала и взмывала фигурным провисом, но даже через эти провисы настоящее внутрь не переливалось. Кое-где по рыхлому кирпичу лепились березки.
Вдали в углу стен косо чернел силуэт кедра с обломанным стволом и живым боковым отвилком. Погибший ствол был как отрезан по границе стены, а отстволок уцелел над монастырской землей и темнел живописно и густо. Картина была настолько очевидной и символичной, что я поразился, почему до сих пор никто не написал картину или не сделал фотографию этого кедра. Уже позже, когда и город, и монастырь этот стали мне близки так, что и сказать-то нельзя, я спросил у отца Севастьяна, настоятеля монастыря, что это за кедр и сколь лет этому стойкому дереву? Он ответил, что сколь лет, не знает, и что это, наверное, и не так важно, а важно другое – что он выстоял. «Ведь выстоял!» – так и сказал отец Севастьян. Позже я написал цикл стихотворений об этом дереве и, приехав в Енисейск, пришел к отцу Севастьяну. Он был бледным, чувствовал себя плохо, и было ощущение сильнейшей усталости от людей, со всех краев Сибири приезжавших в Святое это место. Стихи я прочитать не решился. Спустя несколько лет отец Севастьян удалился от мира в один таежный уголок.
Примерно в это же время судьба подарила мне еще один кусок русской земли: самый южный остров Курильской гряды – остров Кунашир. Он находится на крайнем юго-востоке нашей страны и словно отгорожен от России северным выступом острова Хоккайдо. Самое же удивительное место расположено еще юго-восточней, на самой оконечности Малой Гряды – это остров Танфильева. Совсем плоский, безлесный, он обрывается серыми базальтами в прозрачно-синий Океан. Если стать на южный его мыс, то до Хоккайдской деревеньки Носсапу будет всего три мили. Видны в тумане постройки и маяк с электрически яркими огнями.
Скуп и странен крайний берег России. На краю этом стоит православный крест из грубого железа, имеющего необыкновенно трудовой вид – его ажурным ствол и крылья напоминают не то авиационный каркас, не то арматуру моста или крана. Вернувшись на Енисей, я не раз мысленно возвращался под этот крест, чувствуя, как с каждым разом далекий остров становится для меня все важней, а крест все огромней.
И душа училась смотреть по сторонам и углядывать Богоданные образы, которые помогают нам понимать и строить мир вокруг себя, осознавать в нем свое место. Образы эти напрямую проходят через всю нашу живопись, музыку и особенно литературу. Именно у русских писателей всегда особенно остро звучала тема объемного восприятия жизни, когда Вера, Отечество и мир родной природы являлись неразрывными частями одного единого организма. И таежная промысловая охота занимала свое место в этом хоре, была ему младшей и верной сестрой, оставаясь примером истинного дела, требующего знания, терпения и любви. А ведь и вправду нельзя по-другому в поле, степи, тайге, где стыдно быть праздным зрителем, но почетно учеником и участником. И где только трудом можно заслужить любовь природы.
Охота всегда была для нас поводом к разговору о главном, фоном для глубинного осмысления жизни, путевкой в мир вечной красоты. Именно поэтому все великие русские художники были охотниками – Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, Пришвин, Астафьев. Поэтому надо помнить, что сила русского сознания в его целостности, в том, что, строя душу, мы не выдергиваем произвольно и пристрастно куски жизни, а стараемся объединить в своем сердце все стороны бытия. И учим его, изводим тоской и любовью и вот уже чувствуем, как огромно оно и трепетно, и что найдется в нем место каждой собаке, птице, былинке. И что связаны они друг с другом великой круговою порукой.
Словарь непонятных слов
Балан – бревно.
Кулемка – деревянная ловушка на пушного зверя.
Щечка балансира – деталь снегохода «буран».
Пазовка (прямое тесло) – развернутый, наподобие тяпки, топор, которым выбирают древесину при изготовлении долбленых лодок, корыт и пазов в бревнах.
«Обуха», «обь» – название лодки.
Путик – ряд ловушек на пушного зверя, обычно длиной в дневной переход.
Яма – место, где после ледостава скапливается красная рыба (стерлядка), туда ездят ставят под лед, то есть подныривают, самоловы.
Самолов – снасть на красную рыбу, впрочем, довольно жестокая – рыба ловится острыми крючками прямо за тело.
…сойдется створ с елкой – (створ – это судовой знак). Иваныч искал самолов по метам – то есть, выбросив из лодки кошку на веревке, греб, пока не сойдутся меты на берегу – створ с сухой елкой.
Настораживать – настораживать ловушки на соболя.
Очеп – приспособления для зависания попавшей в капкан добычи наподобие журавля.
Бастрик – толстая жердь, через которую веревкой утягивают воз.
Тундра – верховое болото, открытое место.
Зарод – стог.
Остяк – представитель коренной национальности – енисейских кетов.
Сельдючить – от слова «сельдюк», житель Туруханского Енисея, (по названию туруханской селедки – ряпушки). У сельдюков особый говор, например, они произносят вместо «ш» – «с», вместо «ж» – «з», («серсавый», «нозык»). Сельдючить – это значит говорить по-сельдючьи.
Шивера – участок реки с камнями и быстрым течением.
Озям, азям – охотничья суконная куртка.
Камус – шкура с ног сохатого или оленя, используется для оклейки лыж и для изготовления пимов (род зимней обуви, вроде коротких бокарей).
Побежимовка – тип самоходки (от Побежимово, где их делали).
«Крым» – название лодки.
Енисейские названия уток: черношей – чернеть, дресвянник – чирок-трескунок, саксон – утка-широконоска, острохвост – шилохвость.
Примечания
1
Проток, река между озерами.
(обратно)2
Кулемка – деревянная ловушка на пушного зверя.
(обратно)3
Балан – бревно.
(обратно)4
Щечка балансира – деталь снегохода «буран».
(обратно)5
Пазовка (прямое тесло) – развернутый наподобие тяпки топор, которым выбирают древесину при изготовлении долбленых лодок, корыт и пазов в бревнах.
(обратно)6
«Обуха», «обь» – название лодки.
(обратно)7
Путик – ряд ловушек на пушного зверя, обычно длиной в дневной переход.
(обратно)8
Самолов – снасть на красную рыбу, впрочем, довольно жестокая – рыба ловится острыми крючками прямо за тело.
(обратно)9
Створ – это судовой знак. Иваныч искал самолов по метам – то есть выбросив из лодки «кошку» на веревке, греб, пока не сойдутся меты на берегу – створ с сухой елкой.
(обратно)10
Настораживать – настораживать ловушки на соболя.
(обратно)11
Очеп – приспособления для зависания попавшей в капкан добычи наподобие журавля.
(обратно)12
Бастрик – толстая жердь, через которую веревкой утягивают воз.
(обратно)13
Тундра – верховое болото, открытое место.
(обратно)14
Зарод – стог.
(обратно)15
Остяк – представитель коренной национальности – енисейских кетов.
(обратно)16
Сельдючить – от слова «сельдюк», житель Туруханского Енисея (по названию туруханской селедки – ряпушки). У сельдюков особый говор, например, они произносят вместо «ш» – «с», вместо «ж» – «з» («серсавый», «нозык»). Сельдючить – это значит говорить по-сельдючьи.
(обратно)17
Шивера – участок реки с камнями и быстрым течением.
(обратно)18
Озям, азям – охотничья суконная куртка.
(обратно)19
Камус – шкура с ног сохатого или оленя, используется для оклейки лыж и для изготовления пимов (род зимней обуви вроде коротких бокарей).
(обратно)20
Побежимовка – тип самоходки (от Побежимово, где их делали).
(обратно)21
«Крым» – название лодки.
(обратно)22
Сви́язь – одна из водоплавающих птиц Северного полушария, относится к роду речных уток.
(обратно)23
Строка из стихотворения Владимира Богатыря «Жизнь».
(обратно)24
Тальник – ивняк.
(обратно)25
Куренки – тушки, к примеру, белки, ободранные от шкурки. Замороженные эти куренки в качестве желанного гостинца привозили охотники домой, и хозяйки запекали их в печке.
(обратно)26
Зареву (реветь) – по-сибирски кричать, звать. «Пореви меня по рации».
(обратно)27
Норки – ноздри по-сибирски.
(обратно)


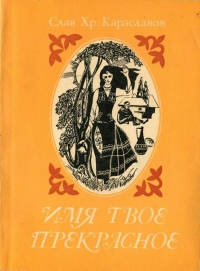




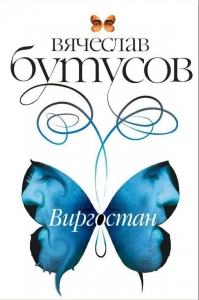



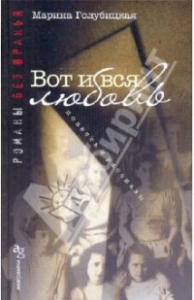
Комментарии к книге «Енисей, отпусти!», Михаил Александрович Тарковский
Всего 0 комментариев