Алексей Притуляк Костюм за сто пиастров
— Хочу костюм себе новый купить, — говорит Хосе Лопес Индульхенсио, после того как Амбросио задал все полагающиеся вопросы: как здоровье (да какое там здоровье в мои-то годы, вот пришёл костюм новый купить), как старый пёс Космо (Космо уж два месяца как помре, а мне, вот, костюм…), как дети, внуки (да кто их знает, как они там, они же разве напишут когда. Пришёл вот костюм себе…).
Сеньора Индульхенсио хорошо знают в Арранконе. В этом небольшом городке невозможно не знать друг друга.
Смерть стоит рядом с Хосе, опираясь на древко косы и сначала оценивающе и с любопытством смотрит на молодого Амбросио, а потом поворачивает голову от одного к другому вслед за репликами, как зритель, наблюдающий за игрой в пинг-понг.
— Костюм? — произносит Амбросио, профессиональным взглядом обегая сухонькую фигуру Хосе в старом, ношенном-переношенном пиджачишке бог весть какой давности. — Костюм, стало быть… — И улыбается лукаво: — Небось, жениться задумал, отец?
— Да нет, помирать, — просто отвечает старый Хосе и кивает головой в подтверждение своих слов, будто для того, чтобы Амбросио не подумал, что он шутит. Смерть, жадно ловящая каждое слово, повторяет его движение.
— Помирать? — недоумевает продавец. — Да с чего бы это, ты же ещё молодой совсем!
— В каком это месте я молодой? — усмехается Хосе. — В апреле семьдесят три стукнуло. Смотрю, пора.
— И что это вдруг ты так заторопился? — недоумевает Амбросио. — Может, лучше женишься, отец? Ты подумай.
— Нет, — твёрдо качает головой Хосе Индульхенсио и упрямо вздёргивает заросший седой щетиной подбородок. Смерть одобрительно улыбается. — Всему своё время. Раньше не женился, а теперь уж и вовсе помирать пора. Вот пришёл костюм новый купить. Мой-то, — он оглядывает себя, — поизносился малость. А в гроб хочется лечь по-человечески, в правильном виде.
Он лезет рукой во внутренний карман, достаёт жидкую пачку денег и аккуратно разглаживает купюры на прилавке.
— Вот, считай. Тут сто пиастров. Так что ты, сынок, помоги мне подобрать костюм. Только хороший. Чёрный чтобы, строгий. И рубашку белую.
Амбросио с недоумением смотрит на мятые банкноты. Сто пиастров? Когда этот старик что-нибудь покупал из одежды в последний раз? Лет двадцать его костюму, если не больше. Костюм и рубашку за сто пиастров? Ну, положим, хорошую рубашку можно подобрать на эти деньги, но костюм…
— Ты вот что, отец, — бормочет Амбросио, беспомощно оглянувшись на стойки, по которым развешаны пиджаки, куртки, платья и жакеты, — ты присядь вот сюда, посиди тут минутку, ладно? Мне нужно с хозяином парой слов переброситься. Думаю, он тебе лучше сможет помочь.
— Хозяин? А ты что ж?
Впрочем, Хосе не настаивает. Ему нравится, что к нему относятся тут как к важному клиенту. И то сказать, не каждый день приходит в эту забегаловку человек с деньгами, чтобы выбрать себе добротный костюм, в котором отправится на тот свет, так почему бы не обслужить его и самому хозяину.
Он присаживается на скамеечку, на которой покупатели примеряют обувь, настороженно прислушивается к спине — не ноет ли опять?
Устало вздохнув и пристукнув древком косы, Смерть присаживается рядом.
— Ну ладно, — кивает старик. — Только ты не долго, сынок, а то мне ещё в цирюльню надо зайти, и помыться.
— Я недолго, отец, — обещает Амбросио.
Он ныряет за стойки с одеждой и, бормоча что-то себе под нос, уходит за стенку, где сидит в своём закутке Родольфо Мартин-и-Бенитес, хозяин магазинчика. Сеньор Родольфо читает «El Diario» и курит пахиту.
— Чего тебе? — спрашивает он, когда в приоткрытой двери возникает растерянное лицо Амбросио.
— Там сеньор Индульхенсио.
— Старик Индульхенсио? — бормочет Мартин-и-Бенитес, возвращаясь к чтению. — Жив ещё, значит…
— Жив пока, — отвечает Амбросио, напирая на «пока».
— Надеюсь, своего пса он не притащил в магазин? — сеньор Родольфо Мартин-и-Бенитес поднимает на Амбросио строгий взгляд. У него приличный магазин, собак сюда приводить строго воспрещается.
— Космо? Космо помер, он говорит, два месяца назад.
— Хм.
— Сеньор Индульхенсио хочет купить новый костюм.
— Новый костюм? С чего бы это? Жениться, что ли, собрался старый?
— В том-то и дело. Помирать, говорит, собираюсь. Нужен новый костюм, говорит. И рубашка.
— Помирать? — сеньор Мартин-и-Бенитес раздавливает пахиту в пепельнице, удивлённо смотрит на Амбросио. — Чего это вдруг?
— Вот и я говорю: чего это вдруг? Может, тебе, говорю, лучше жениться? А он — ни в какую. Сегодня же, говорит, должен помереть, и баста. Вот только новый костюм с рубашкой куплю, говорит, постригусь, помоюсь — и помру.
— Что за причуда! — сеньор Мартин-и-Бенитес поднимает брови.
— Костюм и рубашку, — настойчиво повторяет Амбросио.
— Ну?
— А денег-то у него и нет. Он сто пиастров принёс. Подбери мне, говорит, Амбросио, хороший строгий костюм, чтобы не стыдно было к Богу в нём явиться. И рубашку белую.
— Сто пиастров? — схватывает хозяин суть дела.
— Ну да, сто пиастров. Старик, я думаю, уж лет двадцать себе ничего из вещей не покупал, не знает, какие цены сейчас. Он так гордо выложил свои бумажки, будто это невесть какие деньги.
— Хм.
Сеньор Мартин-и-Бенитес грузно поднимается из-за стола (человек он солидный — увесистый, как говорит Амбросио) и идёт к двери. Амбросио пропускает его, прикрывает за хозяином дверь и семенит следом в торговый зал.
— Ну наконец-то! — встречает их Хосе, который из последних сил борется с одолевающей дремотой.
А задремавшая Смерть вздрагивает и чуть не роняет косу.
— Ба-ба-ба, кого я вижу! — восклицает сеньор Мартин-и-Бенитес. Он приобнимает старика, касается своей мясистой румяной щекой его колючей пергаментной щеки. — Рад видеть тебя в добром здравии, отец.
— Да какое уж там здравие… — бормочет Хосе.
— А мне Амбросио говорит: там, говорит, сеньор Индульхенсио новый костюм себе подыскивает. Ну надо же, думаю, не иначе как старина Хосе жениться собрался!
— А вот и не угадал! — довольно произносит старик. — Как раз таки помирать! А для этого, сам знаешь, нужен новый костюм.
И с гордым видом старый Индульхенсио кивает на прилавок, на котором полёживают себе сто пиастров — две купюры по двадцать, и шесть десяток.
Взгляд хозяина вторит его взгляду.
— Кхм, — смущённо произносит сеньор Мартин-и-Бенитес, — так значит, ты хочешь купить костюм?
— И рубашку, — кивает Хосе. — Чёрный строгий костюм и белую рубашку.
— И рубашку, — отзывается хозяин, бросая взгляд на Амбросио, который лишь многозначительно шевелит бровями: а что я вам говорил, дескать. — Чёрный костюм и белую рубашку…
— Чтобы в них помереть было не стыдно, — добавляет Хосе.
— Может, ты лучше женишься, отец? — осторожно говорит хозяин.
Хосе смотрит на него вприщур. Потом отвечает слегка раздражённо:
— Что это вы заладили? Сговорились, что ли? Когда хотел жениться, женился. Теперь хочу помереть, вот и оставьте меня в покое. Может быть, у вас хороших костюмов нет? Тогда я пойду к Эстебану.
— Ну, и что ты стои́шь? — поворачивается сеньор Мартин-и-Бенитес к Амбросио. — Слыхал? Сеньору Индульхенсио нужно помочь подобрать костюм и рубашку. А ты стоишь. Не удивительно, что торговля у нас совсем не идёт, с такими-то работниками.
Амбросио растерянно кивает и теряется за стойками с одеждой. Там он начинает перебирать пиджаки в поисках невозможного — такого костюма, который можно было бы уместить в сто пиастров: две купюры по двадцать и шесть десяток. Ему не нужно смотреть на ценники, он и так знает стоимость каждого: вот этот зелёный с отливом — девятьсот пиастров, вон тот чёрный — семьсот пятьдесят, а вот этот белый, модный, с кремовым оттенком, от торгового дома «Рохас-и-Монтельяно» — и вообще тысяча двести. Самый дешёвый костюм висит в третьем ряду — чёрный, строгий, классический. Висит и внаглую сто́ит четыреста двадцать пиастров. При этом вряд ли он настолько хорош, чтобы в нём не стыдно было явиться пред очи божьи. Амбросио знает, что это самый дешёвый костюм, но не торопится добраться до него, настойчиво и непримиримо перебирая ценники с ужасающими цифрами. Ну что за страна! — бормочет он. Что за страна, в которой за паршивый костюм нужно выложить чуть не тысячу!
— Ну где ты запропал? — окликает его сеньор Мартин-и-Бенитес. — До чего же ты неповоротлив, Амбросио!
И, приблизившись и перейдя на шёпот, он добавляет:
— Ума не приложу, что делать. Старик, кажется, всерьёз решил отдать богу душу… Надо же… Как я ему скажу, что его денег хватит только на брючной ремень?
Амбросио пожимает плечами.
— Что за страна! — повторяет он недавнюю свою мысль. — Что за страна, в которой за паршивый костюм нужно выложить тысячу!
Сеньор Родольфо Мартин-и-Бенитес хмурится.
— Где это ты видел в моём магазине хоть один паршивый костюм? — строго произносит он.
— Я это — в общем, — тушуется Амбросио. — Не сердитесь, хозяин. Просто очень уж обидно за старика. Он эти деньги поди не один месяц собирал.
— Раньше надо было начинать, вот что, — сердится хозяин.
— Приспичило, наверное.
— Ума не приложу, как быть, — повторяет сеньор Мартин-и-Бенитес. — Если бы он собрался жениться, я бы конечно продал ему костюм, в рассрочку. Но какая рассрочка мертвецу?
— Пожалуй, что так.
— То-то и оно. А самый дешёвый костюм у нас стоит шесть сотен.
— Четыреста двадцать, — поправляет Амбросио. — Есть один за четыреста двадцать. Там, в третьем ряду.
— Четыреста двадцать? — сеньор Мартин-и-Бенитес принимается грызть кончик уса, что всегда свидетельствует о напряжённом умственном процессе.
— Но это же триста пиастров убытка! — бормочет он. — Конечно, можно будет отбить на том платье, итальянском… И ещё на гарнитуре от Фернандеса… Да, извернуться можно…
— Только костюм этот для такого дела не очень, — вставляет Амбросио. — Я бы лично к Господу в таком не отправился.
— Что ты имеешь в виду? — хмурится сеньор Мартин-и-Бенитес.
Амбросио неопределённо пожимает плечами.
Они идут к третьему ряду и там долго и придирчиво осматривают, ощупывают и обсуждают костюм. В конце концов, сходятся на том, что для визита к Господу Богу костюм действительно выглядит простовато, и подкладка у него какая-то уж совсем дешёвая.
Ещё несколько минут уходит на обсуждение другого — за шестьсот пятьдесят пиастров — не модного, строгого, даже сурового, очень-очень чёрного, и никакого блеска, никакой аляповатости, абсолютно никакого легкомыслия. Да, вот в таком костюме можно хоть к Богу, хоть на свадьбу, соглашаются они.
С белой рубашкой всё решается гораздо проще и быстрей. Скромная, простая сорочка которая будет так хорошо освежать и оттенять суровость костюма.
Немного подумав, сеньор Родольфо Мартин-и-Бенитес недрогнувшей рукой присовокупляет к обновкам замечательный галстук от «Рохас-и-Монтельяно» — чёрный, в серую строчку.
— Подарок от магазина, — смущённо объясняет он, боясь показаться излишне сентиментальным. — Всё-таки не каждый день обслуживаешь человека, который… такого клиента, который…
Он спотыкается и умолкает, так и не решившись облечь в слова свою нелёгкую мысль. Но Амбросио понимает, что́ он имел в виду, а потому улыбается и одобрительно кивает.
— Вы очень добрый человек, сеньор Родольфо, — проникновенно произносит он. — Я горжусь, что работаю у вас.
Сеньор Мартин-и-Бенитес смущённо пожимает плечами и отворачивается, растроганный. И думает о том, что зря он, пожалуй, уже третий месяц уклоняется от разговоров о повышении жалованья помощнику. Всё-таки хороший он парень, этот Амбросио, и работник неплохой — не ленив, не глуп, язык ловко подвешен…
Когда они возвращаются (Амбросио с просветлевшим лицом торжественно несёт на вытянутых руках обновки), Хосе Индульхенсио то ли дремлет, то ли уже умер, так и не дождавшись последней своей одёжки.
Слава Господу, жив! — улыбаются они, заслышав посвистывание, которое издаёт нос старика. Смерть открывает сонные глаза, недовольно поглядывает на них, заходится в сухом старческом кашле.
— Вот, отец, — говорит сеньор Родольфо, когда Хосе, захлопав глазами, стряхивает с себя густую дрёму, — примерь-ка вот это.
— А это хороший костюм? — строго спрашивает старик.
— Очень хороший, — кивает Родольфо Мартин-и-Бенитес.
— Тебе понравится, отец, вот увидишь, — добавляет Амбросио.
Когда Хосе Индульхенсио выходит из примерочной в новом чёрном костюме, который, кажется, подобно космической чёрной дыре поглощает свет, падающий с потолка, когда он выходит в сияющей белизной рубашке, разделённой чёрно-серой тропкой воистину прекрасного галстука, когда выходит он из примерочной, и брюки ему как раз по размеру, а пиджак сидит на нём как влитой, можно только ахнуть: до чего же хороший костюм способен преобразить мужчину — даже старика семидесяти трёх лет, готовящегося к смерти! Рост его как будто стал выше, плечи шире, взгляд строже, седина благородней, и даже белесая щетина на небритых щеках цвета старого пергамента не портит впечатления, но лишь придаёт терпкого шарма.
Смерть раскрывает рот от удивления и смотрит на Хосе, как чёрт на икону и, кажется, готова взмахнуть косой прямо сейчас, не дожидаясь заветного часа, нарушив все законы божьи и человеческие, согласно которым она должна дать сеньору Индульхенсио время подготовиться.
По глазам Амбросио, по довольной улыбке сеньора Родольфо старик Хосе сразу понимает, какое впечатление производит. Самому себе он тоже понравился там, в зеркале. Кажется ему, что и Господь не будет пикирован, если он явится к нему в таком виде.
И тем не менее, Хосе полагает нужным спросить:
— Ну, что, как?
— Вел-л-ликолепно! — с воодушевлением взмахивает руками сеньор Мартин-и-Бенитес. — Потрясающе!
— Воистину, — соглашается Амбросио. — Тебя просто не узнать, отец.
— Не узнать? — тут же настораживается Хосе.
Этого-то ему совершенно не нужно. Господь должен сразу понять, кто к нему явился, а не морщить лоб, пытаясь припомнить, где он видел это лицо. Негоже сбивать всевышнего с толку.
— Нет-нет, — торопится Амбросио успокоить старика, — я лишь хотел сказать, что ты теперь настоящий консорт, отец.
— Хоть сейчас на свадьбу, — прочувствованно добавляет сеньор Родольфо.
— Мне не на свадьбу, — ворчливо произносит Хосе.
И что эти двое заладили: свадьба, свадьба?! Что такое свадьба по сравнению с великой минутой исхода из этого мира в мир иной! Что такое свадьба, когда ему предстоит не далее как вечером говорить с Творцом.
— Я помню, отец, прости, — говорит сеньор Родольфо. — Но в таком костюме не стыдно показаться и пред очи господни.
— Воистину, — повторяет Амбросио.
— Ну ладно, значит, беру, — кивает Хосе. — А денег-то достаёт?
— Э-э… в самый раз, в самый раз, — мямлит сеньор Мартин-и-Бенитес.
— Ну и ладно, — подытоживает Хосе, — на том, значит, и порешили.
Покупку ему заворачивают в хрустящую серебристую бумагу с фирменными вензелями и перехватывают бечёвкой. Хосе, разумеется, категорически отвергает идею немедленно переодеться в новый костюм — сначала нужно постричься, помыться, исповедоваться и причаститься. Хозяин с Амбросио провожают его до дверей. Сеньор Мартин-и-Бенитес опрометчиво (привычка, что ты будешь делать!) желает Хосе здравия и надеется почаще видеть его в своём магазине. Амбросио бледнеет, но Хосе не подаёт виду, что заметил оплошность сеньора Родольфо.
— На похороны-то приходите, — говорит он на прощание. — Я заказал Росите поминальный ужин. Вы знаете, какие у неё выходят эмпанады и локро — пальчики оближешь.
— Обязательно, отец, — кивает Амбросио.
— Кхм… конечно, конечно, — соглашается сеньор Родольфо Мартин-и-Бенитес, который несмотря ни на что уверен, что свадьба лучше похорон и не собирается делать вид, что кто-нибудь сможет убедить его в обратном.
Торжественно неся свёрток под мышкой, Хосе выходит на пустынную улицу Сан-Рохелио и неспешно направляется в парикмахерскую. Спешить ему некуда. Никогда в жизни никуда не спешил, а теперь и подавно не собирается. До захода солнца времени полно. Смерть плетётся за ним, позади и чуть сбоку, держа косу наготове на плече. Она изнывает от жары и ждёт не дождётся вечера.
Карло Модесте, цирюльник, надвинув на глаза шляпу, дремлет на скамеечке у входа.
— У тебя что, уже сиеста, Карло? — будит его сеньор Индульхенсио.
Карло Модесте значительно моложе Хосе — ему всего-то шестьдесят пять или шесть, но выглядит он старше: маленький, лысенький, сухонький, так и кажется, что при малейшем его движении раздастся треск и скрежет заржавевших от времени костей. Однако вид обманчив — сеньор Модесте этакий живчик и говорун, который, если его вовремя не остановить, будет трещать без умолку языком, а не костями. Сколько Хосе себя помнит, Карло всегда был цирюльником, но так и не научился им быть. Сколько крови пустил он клиентам за долгие годы — одному Господу ведомо, и только Он знает, как при этом умудрился незадачливый парикмахер сохранить клиентуру. Раз за разом приходили в эту парикмахерскую хмурые мужчины, готовые ко всему, и чинно ждали в душном предбаннике своей очереди на кровопролитие и прислушивались к несмолкающему трещанию Карло Модесте и вздрагивали, заслышав шипение страдальца в кресле, которому не очень острая бритва сдирала подбородок. «Чёрт побери, Карло, когда ты наточишь эту адову бритву?!» — доносилось из зала. Мужчины с застывшими лицами избегали взглядов друг друга и лишь руки их невольно тянулись к лицу, чтобы коснуться колючих щёк и наверняка убедиться в неизбежности муки. И тем не менее, раз за разом и день за днём приходили они к цирюльне Карло Модесте, чтобы сидеть в душном предбаннике, потеть, слушать шипение очередного страдальца и ждать своей очереди на экзекуцию. Такова сила привычки — единственная сила, что властвует над человеком безраздельно. Уходит и самая пылкая любовь, уходят годы, уходит молодость, уходит всё, а привычка — остаётся.
— Семьдесят три — не так уж плохо, — говорит Карло Модесте. — Мне поди и до семидесяти не дотянуть. А полента[1] будет?
— Конечно будет, — отвечает Хосе. — Какие же поминки без поленты.
Обрезанные, седые и жёсткие как проволока волосы падают на плечи Хосе, покрытые белой салфеткой, падают на пол, пристают к фартуку цирюльника. Хосе смотрит на них без грусти и сожаления, как на прошлогоднюю листву. Машинка у Карло Модесте такая же старая, как и её хозяин, такая же беззубая и безалаберная — она безбожно дёргает и рвёт. Хосе крепится, не позволяя себе замечаний под руку, он знает: стрижка — это далеко не самое страшное, что может сделать сеньор Модесте с человеком.
— У Роситы выходит лучшая полента в Арранконе, — говорит Карло. — Она добавляет в неё домашний сыр или творог. А масла кладёт столько, что прямо сочится. Но всё-таки зря ты решил помирать, торопишься, как по мне. Запросто мог бы ещё лет пять покоптить.
Смерть, притулившаяся на стуле в углу душного предбанника, при этих словах неприязненно смотрит на парикмахера и сердито бормочет что-то себе под нос. И в самом деле, надо сказать, люди порой берутся рассуждать о вещах, не только ни в какой степени от них не зависящих, но даже и не поддающихся их разумению.
— Время моё пришло, — возражает Хосе Индульхенсио. — Тут ничего не поделаешь.
На этот раз Смерть одобрительно кивает.
— Это да, — соглашается Карло Модесте, — это дело такое: коли наступил твой час, так уж не отвертишься. — И вздыхает, замерев на мгновение с машинкой в одной руке и расчёской в другой, чтобы изречь не без пафоса: — Такова юдоль человеческая.
— Чем меньше становится у меня зубов, тем больше я люблю поленту, — продолжает цирюльник, берясь за бритву, чтобы подбрить клиенту шею. — Раньше безумно любил асадо[2], мог целого быка съесть за раз, а теперь — как-то всё больше поленту. Даже странно.
— Вкусы с возрастом меняются, — говорит Хосе, словно не замечая иронии.
— Это верно, — с улыбкой соглашается Карло Модесте, в свою очередь прекрасно распознав иронию в словах Хосе. — А это у тебя, значит, костюм в свёртке?
— Костюм, рубашка и галстук. За галстук я ничего не платил, Родольфо дал мне его в подарок, как ценному клиенту.
— Покажешь?
После того как Карло Модесте стряхивает с шеи Хосе последние седые волоски, потом бреет его, умудрившись порезать всего один раз, да и то почти незаметно, потом опрыскивает его волосы и щёки одеколоном «Каса Реаль», сеньор Индульхенсио разворачивает свёрток и демонстрирует ему покупки.
— А ну-ка прикинь, хочу на тебе посмотреть, — говорит Карло.
— Волос насыплется, колоть будет, — возрожает Хосе. — А мне в нём ещё лежать и лежать.
— Прикинь, — настаивает цирюльник. — Я тебя чистой салфеткой оберну.
Даже белая в синюю полоску салфетка, наброшенная на голову и шею, не портит впечатления от пиджака и галстука, приложенного к груди. Сеньор Модесте оглядывает Хосе, одобрительно прицокивая языком.
— В таком только под венец идти, а не помирать, — выносит он свой вердикт.
Сеньор Индульхенсио не подаёт виду, что замечание цирюльника задело его. Что они все про венец да про венец! У человека торжественный день, он, можно сказать, последние часы проводит в этой «юдоли», у ног его уже золотится пыль последней дороги, уже ветерок, слетевший с гор по ту сторону мира, касается его лба, холодит, а им всё нипочём, толкуют про какую-то свадьбу.
Он молча снимает пиджак, аккуратно упаковывает его обратно в серебристую бумагу, оборачивает бечёвкой. С недовольным видом сунув в руку Карло традиционные пять пиастров, прощается сквозь зубы и выходит.
Только уже отойдя на двадцать шагов, понимает, что негоже так расставаться с человеком, которого и не увидишь больше никогда. В конце-то концов, ничего плохого Карло ему не сказал и не сделал; в конце концов, ему, как и любому другому, трудно понять тебя, стоящего на перекрёстке двух дорог. А тебе, стоящему на перекрёстке, на пороге смерти, следует быть чуть мудрее, чуть терпимей к недостаткам тех, кто остаётся по эту сторону, тебе следует быть чуть проще.
Застыдив себя окончательно, Хосе Индульхенсио вдруг останавливается посреди дороги (слава богу, улица пуста и никто, кроме Смерти, его не видит), поворачивается и идёт обратно. Смерть, досадливо вздохнув и чертыхаясь сквозь зубы, плетётся следом.
— Что? — встречает вопросом Карло Модесте, уже снова усевшийся на свою лавочку и готовый задремать. — Галстук забыл?
— Ничего не забыл, — бурчит Хосе. — Хотел сказать… Ты хороший цирюльник, Карло. Хоть ты и можешь иногда кровь пустить человеку, но рука у тебя лёгкая, мастер ты хоть куда.
Карло Модесте пожимает плечами.
— Спасибо на добром слове, — говорит он. — Тут ты в точку попал, я не чета этому вертопраху Руису или неумехе Дельгадо, потому и клиент ко мне косяком прёт.
Хосе Индульхенсио порывается было возразить, что к Руису-то клиент идёт гораздо гуще, потому как он мясо с него, с клиента то есть, ломтями не срезает, и бритва у него всегда отточена, и машинка новенькая, немецкая — но вовремя спохватывается.
— Ну и ладно, — бормочет он. — Сказал, что хотел, пойду, пожалуй. Помыться мне ещё надо.
— Ты заходи, старина, — бросает ему вслед Карло, снова опуская шляпу на глаза. — Уж тебя я завсегда обслужу по высшему разряду.
Смерть за спиной Хосе то ли кашляет, то ли смеётся. Или плачет?.. Да нет, чего ей плакать.
Близится сиеста. Улицы, и до того безлюдные, теперь вовсе то ли уснули, то ли умерли, и тают, тают в солнечном мареве. Накалённая мостовая пышет жаром. Пальмы по краям дороги не шелохнутся. Не слышно птиц, не слышно людей, не слышно божьего дыхания, только доносится откуда-то хрипловатый голос граммофона да тихонько журчит питьевой фонтанчик возле белой резной скамейки.
Сеньор Индульхенсио идёт в бани и думает о том, что совершенно напрасно Карло Модесте надушил ему щёки и голову — ведь всё равно сейчас всё смоется. Конечно, за одеколон отдельно не платишь ни сентимо, да и удовольствие от бритья без него совсем не то, но… жалко же.
Банщик, сеньор Грегорио Висенте, встречает его в прохладной раздевалке могучим храпом. Бани пусты. В будний день, да ещё в сиесту, разве что умалишённому придёт в голову пойти помыться. Ну или человеку, собирающемуся на тот свет, как сеньор Индульхенсио.
Разбуженный, Грегорио некоторое время не сводит с лица Хосе недоуменного и непонимающего взгляда, потом говорит хриплым со сна голосом:
— Будь я проклят, если мне это не снится.
— До чего же грязный у тебя язык, — качает головой Хосе Индульхенсио. — Да что же ты всё время сыплешь проклятьями, Грегорио Висенте?
— Не учи меня жизни, сопляк, — бормочет сеньор Висенте, поднимаясь, садясь на скамье и потирая глаза. — Нет, похоже, ты мне не снишься, узнаю твоё занудство, Жосе Индушенсио.
Сеньор Грегорио Висенте родился где-то на севере, ближе к Бразилии. Сколько Хосе помнит его, то есть лет пятьдесят, не меньше, Грегорио всегда жил в Арранконе, но при этом он упрямо разговаривает на жужжащем и чирикающем испанском провинций Камедано и Десаленас: Хосе Индульхенсио он называет не иначе как Жосе Индушенсио, вместо «охо» говорит «ожо», а вместо «тимбре» — «чимбре». Кроме того, всех обитателей низины он зовёт вакеро[3] — будь то водитель такси Атанасио Парра, жандарм Энрике Москотес по прозвищу Лулу́, цирюльник Карло Модесте или алькальд города Арранкона сеньор Хавьер Рубио Касарес — все они, с точки зрения старика Грегорио, пастухи-вакеро и иначе он к ним не обращается, в каком бы настроении ни был. «Чтоб тебя черти в аду так брили, вакеро! — говорит он цирюльнику Карло Модесте, когда тот срезает ему кусочек щеки. — Будь вовеки проклят тот день, когда ты решил, что хватит уже тебе крутить коровьи хвосты и подался в брадобреи!» — «Послушай, вакеро, — ворчит он в сторону алькальда Хавьера Рубио Касареса, сделавшего неверный ход в кариоке[4], — теперь я понимаю, почему в Арранконе нет и никогда не будет порядка. Откуда взяться порядку, если алькальд не умеет даже посчитать очки в картах». — «Знаешь, вакеро…» — говорит он Хосе Индульхенсио…
— Знаешь, вакеро, — говорит сеньор Грегорио, после того как они, оба чистые, освежённые прохладной водой из Медоны, присели отдохнуть на скамье, — знаешь, вакеро, — говорит он, — помереть — дело немудрёное, но ты же, кажется, молокосос ещё — много ли ты понял о жизни, чтобы помышлять о смерти…
Смерть смотрит на этого старика, разменявшего девятый десяток, с профессиональным интересом. Она даже отставляет косу, достаёт откуда-то из-под хитона потрёпанную записную книжку с карандашом и, высунув от усердия язык, что-то записывает.
— Рано или поздно мы все умрём, — отвечает Хосе Индульхенсио, — и те, кто ничего не понял в жизни, и те, кто вычерпал её до донышка.
— Осознание того, что смерть неизбежна, есть побочный эффект разума, старина, — говорит Грегорио на своём вредном жужжащем испанском. — Животное ни одной минуты не задумывается о будущем и его конце, а человек почти всю свою жизнь живёт в ожидании смерти.
— Ну нет, я никогда её не ждал, — возражает Хосе Индульхенсио.
— Конечно, но всегда знал, что однажды она придёт за тобой.
— Это да, — упрямится Хосе, — но никогда почти не думал об этом и не вспоминал. Ну, лет до семидесяти — точно.
— Так какого же рожна ты вспомнил о ней сейчас? — сердится сеньор Висенте на глупое упрямство своего собеседника, отказывающегося понять всю философскую глубину рекомого.
Хосе Индульхенсио пожимает плечами:
— Знать, пришло время.
— Чёртов вакеро, тебе и вправду пора, если твои мозги так высохли, что ты не можешь понять простейшей мысли! — злится Грегорио Висенте.
Но ведь правда, ему стоило бы учесть, что мысли его не всегда понятны вот так сразу, с наскока. Тем более что выражает он их туманно и на хитром испанском, к которому ещё надо привыкнуть. И многого не договаривает, полагая, что его должны понимать с полуслова.
— Я и говорю: пора, — соглашается Хосе Индульхенсио.
Наступает тишина, в продолжение которой слышно только как размеренно капает из крана в мойке вода да лениво перекрикиваются в патио попугаи.
— Значит, ты окончательно решил? — вопрошает наконец сеньор Висенте.
— Выходит так, — кивает Хосе Индульхенсио.
— Ну что ж… — банщик поднимается и уходит в свою каморку.
Он отсутствует довольно долго, так что Хосе Индульхенсио, сочтя разговор внезапно оконченным — а это в духе старика Грегорио, — уже подумывает уйти. Но едва он тянется к свёртку с костюмом, как возвращается сеньор Висенте и ставит на стол поднос, а на нём красуется бутылка «Москенто Рохо», на нём посверкивают боками два бордоских бокала, на нём потеет сыр, истекают маслом сардины и переливается разными цветами горка овощей. Задремавшая было Смерть, выпрямляется на скамье, и с досадой пристукивает в пол древком косы.
— Я тебе так скажу, вакеро, — улыбается Грегорио Висенте, — напоследок нужно выпить. Может быть даже, хорошенько надраться. В кои-то веки ещё попробуешь этого дивного вина.
— Ну уж нет, пьяным я к Господу не явлюсь, — качает головой Хосе Индульхенсио.
— Хм… — сеньор Висенте кивает, немного подумав. — Конечно, ты прав, до мокрых волос наливаться не стоит. Но немного выпить — дело богоугодное, Господь это приветствует, он сам превращал воду не во что-нибудь, а в доброе красное вино. Мог бы в молоко или в кофе, но нет — в вино. И завещал нам пить его.
Сеньору Индульхенсио хорошо знаком этот неопровержимый довод, спорить с ним не только бессмысленно, но и глупо.
— Что у тебя в свёртке? — спрашивает сеньор Висенте после первого бокала. — Смертное?
— Да, прикупил себе новый костюм и рубашку у Родольфо, за сто пиастров. Так они мне ещё и галстук положили в подарок.
— Этот жмот положил тебе бесплатно галстук? — недоверчиво шевелит седыми кустистыми бровями старик Висенте. — Подумать только, куда катится мир…
— Я тебе говорю, — кивает Хосе. — Костюм и рубашка за сто пиастров, и галстук в подарок.
— За сто пиастров? — сомневается сеньор Висенте, который недолюбливает Родольфо Мартина-и-Бенитеса за то, что не любил его отца, с которым в молодости даже дрался на ножах за благосклонность Паломы Фуэнтес. Оба были ранены, а чертовка Палома выбрала Аугусто Бениньеса. И вот сеньор Висенте говорит: — За сто пиастров!.. Наверняка всё сто́ит на десятку дешевле. Не будь я Грегорио Висенте, если этот прощелыга тебя не надул.
Хосе Индульхенсио смотрит на банщика протяжным взглядом, в котором вот-вот отразится сомнение.
— Нет, — говорит он, — не похоже: уж больно хорош костюм, такой не может стоить дешевле сотни.
— Покажи, — велит Грегорио Висенте. — Но сначала выпьем. За… за женщин.
Хосе Индульхенсио не спрашивает, какая связь между костюмом и женщинами. Женщины всегда к месту, особенно когда нужен тост.
Они выпивают.
— Хороший костюм, — одобряет Грегорио Висенте, оглядывая Хосе Индульхенсио. — Ничего не скажу, хороший. Может, дашь мне его на прокат на пару деньков? Я бы закадрил себе девчонку, есть у меня одна на примете — Альфонсина, может, знаешь.
— Не дочь ли старика Моралеса?
— Она.
— Вряд ли она с тобой пойдёт, даже если ты подъедешь к ней в карете из чистого золота, — сомневается Хосе, снимая и упаковывая костюм. — Зачем ей в её пятьдесят такая старая развалина?
— Не твоё дело, вакеро. Так дашь?
— Нет, не могу, — качает головой Хосе Индульхенсио, завязывая бечёвку. — А зачем тебе эта девчонка, что ты будешь с ней делать?
— Видел бы ты, как она танцует!
— Так видел, — пожимает плечами Хосе.
— Ну и как? Ведь правда, огонь девка?
— Танцует она неплохо, что верно то верно, — соглашается Хосе.
— А чего ж тебе ещё, вакеро? Женщины для того и существуют в этом мире, чтобы танцевать с ними танго направо и налево, — со знанием дела говорит Грегорио. Да и правда: ему ли не знать — этому восьмидесятидвухлетнему страстному готанеро[5], не пропускающему ни одной юбки! — Выпьем за женщин!
Они выпивают и сеньор Висенте идёт за новой бутылкой…
После бани сеньор Индульхенсио, чистый, пахнущий жасминным мылом и вином, нетвёрдой походкой шествует по Кайе-де-Колон. К чистому, освежённому мягкой водой и добрым напитком телу зной, кажется, уже не прилипает с той обжигающей страстью, как ещё час назад, поэтому с губ старика не сходит лёгкая улыбка довольства.
Измученная Смерть бредёт позади, уныло глядя себе под ноги — усталость и жажда измотали это иссохшее безбренное тело. Иногда Смерти хочется в нарушение всех правил и законов махнуть косой, чтобы разом освободиться от этой жары, от этой мостовой, от этого бесконечного похода и наконец-то отправиться куда-нибудь в тень до окончания сиесты.
А сеньор Индульхенсио направляется в прачечную. Старик Висенте, как следует осмотрев костюм и сорочку, дал ему дельный совет: «Ступай-ка ты в лавандерию, вакеро, к милашке Исабель. Она тебе отгладит и рубашку и костюм до такого лоска, что Господь улыбнётся и сразу простит тебе все твои несметные грехи. А иначе будешь выглядеть в гробу, как консервированная креветка».
Сеньора Исабель Флорес Кастильо, кажется, игнорирует сиесту, потому что встречает Хосе Индульхенсио свежая, насколько можно оставаться свежею, будучи шестидесяти восьми лет отроду, она встречает его бодрая, деловитая, исполненная шарма и как всегда скорая на язык.
О да, донья Исабель и сейчас ещё способна вскружить голову мужчине, знающему толк в женщинах, а уж в молодые-то годы и вовсе доводила она сильный пол до поступков, о которых потом тому было совестно вспоминать, но зато не было за них стыдно, как любит говаривать Грегорио Висенте с этой его парадоксальной манерой выражаться. Хосе Индульхенсио не избежал участи многих других мужчин и был во время оно по уши влюблён в тогда ещё молодую и взбалмошную Исабель, но, в отличие от тех же многих, он умудрился не наделать глупостей, а кроме того не дал капризной и безжалостной красавице даже повода заподозрить себя в сердечной слабости. Может быть, зря не дал, кто ж его знает. Быть может, по-другому сложилась бы жизнь. Что ж, известное дело: человеку всегда найдётся о чём сожалеть, и неизвестно ещё, о чём сожалеть горше — о том, что совершил или о том, чего не совершал.
И вот, когда встречает его эта женщина, встречает его бодрая и деловитая, встречает исполненная шарма и горящего взора, выходит к нему во всей прелести своих лет, сердце Хосе Индульхенсио ёкает, как и полвека тому назад, глаза его глупеют, как у телёнка на привязи, а язык начинает заплетаться, будто выпил он не славного лёгкого «Москенто», а жгучей текилы.
— Бог ты мой… до чего же ты… всё едино красивая, Исабель Флорес! — не очень складно, но искренне говорит он.
Щёки доньи Исабель розовеют, она смущённо опускает глаза, скрывая искорки довольства впечатлением, которое неизменно производит на мужчин и по сию пору.
— А ты всё такой же насмешник, Хосе Индульхенсио, — отвечает она, и в голосе её звучит едва слышная ломкая хрипотца, которую хорошо знают и ценят мужчины, понимающие в женщинах.
Сеньор Индульхенсио выпрямляется, грудь колесом, будто ему сделали комплимент, и говорит:
— И не думал насмехаться, Исабель Флорес. Тем более что негоже в последний час.
— Это отчего же он последний? — не понимает сеньора Кастильо.
— Оттого, что так устроена жизнь человеческая, — объясняет Хосе Индульхенсио. — Каждому отмерены его первый час и последний. Вот и ко мне он пришёл.
— Так ты, что ли, умереть решил? — понимает донья Исабель и удивляется. — С чего бы это вдруг?
— Каждому отмерены первый час и последний, — повторяет Хосе Индульхенсио. — А всё, что между ними — то быстротечная суета жизни, — говорит он. И добавляет полную мудрого смирения, слышанную им сегодня от Карло Модесте фразу: — Такова уж юдоль человеческая.
— Да, — вздыхает донья Исабель, философски затуманиваясь взором и думая о том, что мужчины, особенно в возрасте — всё же порядочные нытики, и без женщины ни один мужчина сроду не обрёл бы своей «юдоли». И не знаю, как первое, но ведь в последнем эта женщина права, ох как права! — Да, — вздыхает она и говорит: — Давно мы с тобою не виделись, Хосе Индульхенсио, а ты почти не изменился. Тебе ли говорить о смерти?
— Дерево тоже не меняется до самого конца, стоит себе и стоит, — рассудительно отвечает сеньор Индульхенсио. — А потом — ветер подул, оно и падает. Внутрь поглядишь — всё сгнило, а снаружи вроде ничего не заметно.
Смерть согласно кивает и улыбается.
А донья Исабель тоже улыбается и говорит:
— Если ты дерево, то — кебрачо[6].
В глазах Хосе Индульхенсио появляется блеск, он подтягивается, выпрямляется, шумит листвой и чуть ли не даёт ростки. Однако стараясь оставаться по-прежнему серьёзным и даже где-то суровым мужчиной, говорит:
— На здоровье я никогда не жаловался, это верно. Если бы не помирать, я бы ещё лет двадцать…
Смерть яростно бормочет что-то, до побеления в пальцах сжимая древко косы и вздымая её как стяг.
— Жасмином от тебя веет, будто ты на свадьбу собрался, а не на кладбище, — лукаво произносит донья Исабель.
— Это я в банях был, у Грегорио.
— У Грегорио, — с понимающей усмешкой кивает сеньора Кастильо. — То-то я чувствую, жасмин будто в вине полежал.
— К Господу чистым надо приходить, — словно не замечает Хосе женской колкости.
— И весёлым, — не без едкости поддакивает донья Исабель. — Я тебе так скажу, Хосе Лопес Индульхенсио, ты ещё не двадцать лет — ты ещё десяток женщин доведёшь до умопомрачения, поверь моим словам.
Смерть вздрагивает и неприязненно косится на сеньору Флорес. Весь этот разговор нравится ей всё меньше и меньше.
Хосе Индульхенсио меж тем небрежно дёргает плечом, как бы не соглашаясь, но и не разубеждая. Тем не менее, он полагает нужным смущённо возразить:
— Ну уж ты скажешь тоже…
— А что, — продолжает донья Исабель, и голос её становится чуть ниже, а ломкая хрипотца явственней, — в тени кебрачо так хорошо провести знойный вечер за вином и партией в нарды… рядом с настоящим мужчиной… Только предложи, редкая откажется.
— Кха-кха-кха… — закашливается сеньор Индульхенсио и зачем-то хлопает себя по карманам, и вертит головой, словно выискивая что-то, и неловко пыхтит, стараясь преодолеть смущение. — Да, — говорит он, обегая глазами помещение, — неплохая у тебя прачечная.
— Неплохая, — соглашается донья Исабель, не сводя с него искромётного взгляда. — Вот только мужской руки не хватает. С тех пор, как помер мой Артуро, всё приходится звать кого-нибудь для мужской работы. Но разве сделает мужчина всё как надо, если он тут не хозяин…
— Ну… это… пожалуй что и так, — бормочет Хосе Индульхенсио.
— Вот и я говорю. За семь-то лет кое-что обветшало. Поиссохло. Без мужского внимания.
— Семь лет, — качает головой сеньор Индульхенсио.
— Да, — скорбно произносит донья Флорес и глаза её увлажняются. — Восьмой год уже, как не стало моего Артуро. Знал бы ты, как тяжело женщине моих лет одной, без сильной мужской руки.
— Это я понимаю, — произносит Хосе и зябко поводит плечами.
— Понимаешь ли… — вздыхает сеньора Кастильо.
— Я тут костюм прикупил, — торопливо переходит Хосе Индульхенсио к делу, подальше от тревожной темы. — Вот хочу, чтобы ты его выгладила. И рубашку. Ну и галстук, наверное, надо бы.
— Костюм? — оживляется донья Исабель. — А у кого покупал?
— У Родольфо, сына Игнасио.
— У Родольфо хороший товар, — со знанием дела говорит эта замечательная женщина и кивает в подтверждение своих слов. — Сколько заплатил?
— Сто пиастров отдал за костюм и рубашку, — с гордостью произносит Хосе.
— Что? — донья Исабель замирает с вытаращенными в недоумении глазами. — Сколько?
Хосе Индульхенсио поражён её реакцией, но не понимает, как следует её расценить, а потому расценивает так, как ему кажется правдоподобным.
— Костюм-то хороший, — растерянно произносит он. — А ещё рубашка, не забывай… Ты что, правда думаешь, что я переплатил? Грегорио тоже сказал, что…
— Сто пиастров… — повторяет Исабель Флорес Кастильо, не слушая. — Святая дева, что же там за костюм!..
— Хороший костюм, клянусь сандалиями святого Бертрана, — растерянно отзывается Хосе. — Мне очень понравился.
— Ну ладно, примерь, посмотрим, — велит донья Исабель, деловито прищуриваясь и готовясь ко всему.
Хосе Индульхенсио послушно достаёт пиджак из свёртка, торопливо надевает его.
Донья Исабель оглядывает его спереди, потом обходит по кругу, придирчивым и цепким женским взглядом оценивая покупку. На миг ей кажется, что сзади, у левой подмышки чуть морщит. Она протягивает руку, щупает, пробует ткань. Нет, нет, всё нормально, просто небольшой залом, разгладится.
— Но это очень хороший костюм, — удивлённо говорит она. — Ни за что не поверю, что такой может стоить сто пиастров.
— Клянусь ногтями святой девы, ровно сто монет, ни больше ни меньше, — горячо уверяет Хосе, довольный своей удачей. — Костюм и рубашка. И галстук в подарок дали, как важному покупателю.
— А выглядит дорого, никак не дешевле шести сотен, — говорит сеньора Кастильо. — И так ладно сидит. Ты в нём такой представительный, Хосе — прямо кабальеро с Прадо-де-Хесус, хоть сейчас под венец.
Хосе взглядывает на неё искоса и, сам себе удивляясь и холодея от страха, вот так прямо и спрашивает:
— А ты пошла бы со мной под венец, Исабель?
Бог ты мой, что делают с человеком вино, женщина и новый костюм! Но ведь и правда, ну как тут умереть, скажите на милость, когда видишь эти чёрные глаза под густой опушкой ресниц, чувствуешь рядом тепло и запах этого тела, слышишь грудной голос с хрипотцой, свидетельствующей о способности к самым пылким страстям!
— Ты же помирать собрался, — отшучивается донья Исабель со смущённой улыбкой. — Я уже дважды вдова, но ещё ни разу не отправляла мужа со свадьбы сразу на кладбище.
— Я могу и потерпеть, пожалуй, ради такого случая. Да и тебе не грех вспомнить, что бог любит троицу.
— И всегда-то, Хосе, ты был шутником и повесой, — качает головой донья Исабель и отводит взор.
— Я серьёзен как никогда, — Хосе Индульхенсио расправляет плечи, выпрямляется, застёгивает пиджак на все пуговицы, строго взглядывает на донью Исабель и говорит: — И я без всяких шуток спрашиваю тебя, Исабель Флорес Кастильо, пошла бы ты со мной под венец? Отвечай прямо, без этих ваших женских уловок.
И ещё прежде чем она ответит, по одному только взгляду её понимает: влип. Теперь и вправду придётся потерпеть. Ну ничего, надо только сходить к Хименесу, у него недавно сука ощенилась. Взять щенка. И уж хочешь не хочешь, а придётся, видать, ему танцевать свадебное танго.
Смерть за его спиной сердито сплёвывает и, ворча, плетётся по источающей жар улице в сторону Виа-де-Леонсия, проклиная тот день, когда взяла в руки косу, когда связалась с этими неугомонными арранконцами.
А Хосе подступает к донье Исабель всё ближе, ближе, набираясь решимости и прислушиваясь к спине своей, и чувствуя, что слава Господу Богу нашему, сегодня она, кажется, не подведёт.
Примечания
1
Полента — вид кукурузной каши, мамалыга.
(обратно)2
Асадо — жареное на решётке мясо.
(обратно)3
Vaquero исп. пастух.
(обратно)4
Кариока — карточная игра.
(обратно)5
Готанеро — танцор танго.
(обратно)6
Кебрачо — вечнозелёное дерево с очень твёрдой высокоплотной древесиной.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


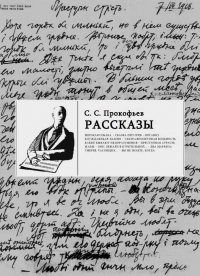

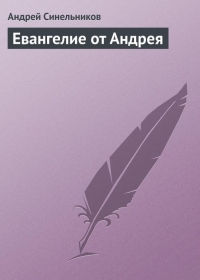

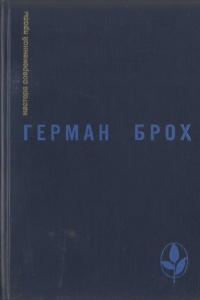

Комментарии к книге «Костюм за сто пиастров», Алексей Анатольевич Притуляк
Всего 0 комментариев