Эйлин О’Коннор О лебединых крыльях, котах и чудесах
Предисловие
В социальной сети «Твиттер» есть аккаунт, который ведется от имени камня в лесу. Каждый день в нем появляется одна и та же запись: «Сегодня ничего не произошло».
Каждое утро я выгуливаю своего пса. Есть счастливцы, которые шагают по берегу океана, есть те, кто бегает в парке или бродит вдоль озер. Мы же с пуделем идем до помойки и обратно: так получилось, что это самый удобный маршрут во всем квартале. Мусорный бак – наш океанский берег, и надо сказать, отлив еще ни разу не подводил. Нет, я не городская сумасшедшая, роющаяся в отходах. Мы всего лишь наблюдаем людей, спешащих на работу, ворон, растаскивающих мусор, безобидных пьянчужек, школьников, старушек, собак и их владельцев, домашних кошек и диких голубей – волна за волной, волна за волной. Каждый утренний отлив оставляет на воображаемом побережье новые цветные стеклышки впечатлений.
Будь я камнем в лесу, в моем лесном мире постоянно бы что-то происходило. Букашки воевали бы с козявками, муравьи отстраивали новые кварталы, яростно выдирались бы из мха сыроежки, дождь смывал бы с их шляпок негодующих гусениц, а дрозды выясняли бы надо мной отношения: огромная, кипучая, смешная, нелепая и абсурдная жизнь происходила бы вокруг, как происходит она повсюду каждый миг.
Эта книга – продолжение вышедших год назад заметок из моего блога, собранных под одной обложкой. Почти каждый день я записываю что-то о маленькой повседневности, окружающей меня, – это мой способ фотографировать жизнь, поскольку фотоаппаратом у меня получается хуже, чем словами. В ней остались люди, коты и собаки и появилась глава «Как все было на самом деле»: о старых сказках, из которых прорастают новые.
Надеюсь, вторая книга понравится читателю так же, как и первая.
Городские письма
Червяки
У меня есть привычка: я убираю с дороги червяков. По разным причинам, в том числе из симпатии к этим безобидным существам, но в первую очередь – руководствуясь эстетическими соображениями. Раздавленный червяк оскорбляет мой художественный вкус. Он лежит синюшный, обезображенный ботинком сорок третьего размера, и некогда упругое тело его безжизненно свисает с бордюра.
В то время как червяк живой, атласный, гибкий, как балерина, и отливающий павлиньей синевой – так вот, повторяю, упитанный цветущий червяк ласкает взор и внушает веру в будущее. Землю разрыхлят тысячи молчаливых кольчатых тружеников, зерна прорастут, ростки заколосятся, и даровано будет людям вдоволь пшеницы и овса, – вот о чем безмолвно вещает мне червяк, встретившийся на дороге.
Однажды случилось так, что я возвращалась летним вечером из гостей, злоупотребив хозяйской настойкой (в свое оправдание могу сказать, что это была настойка на молодых почках черной смородины – лучшее, что придумало человечество после пленки с пузырьками). Незадолго до этого прошел дождь, и на тротуар перед домом повыползали червяки.
Представьте: поздний вечер, лужи, фонари, сирень бушует в палисаднике и ломится через забор, а на асфальте десятки обреченных существ скручиваются колечками и знать не знают о том, что завтрашний день принесет им погибель.
Этого нельзя было допустить.
Я вернулась к углу дома, где высадил меня таксист, и проделала путь до подъезда заново. Через каждые два шага я наклонялась, поднимала червяков и бросала в палисадник. Один страдалец за другим отправлялся к долгой жизни, к новым свершениям, символизируя собой победу добра над бездушной поступью судьбы.
Когда последний червяк перелетел над оградой, я поняла, что миссия моя завершена.
Гуманизм восторжествовал.
Следующее утро выдалось не самым лучезарным из тех, что мне довелось прожить. Положение мое усугублялось тем, что я должна была отвести ребенка на утренник.
Я встала. Собрала дитя, стараясь не делать резких движений. Вышла на улицу и возле первой же чахлой сирени встала в оцепенении.
На кусте висел червяк.
Ребенок сказал что-то вроде «ой, дохлый червячок, как же он сюда попал». У меня была догадка, как он сюда попал, но я молча пошла дальше.
Через несколько шагов опасения мои подтвердились.
Вдоль всего палисадника рос низкий стриженый кустарник, что-то вроде живой изгороди по пояс высотой. Накануне под воздействием выпитого рука моя описывала широкий полукруг. Точно сеятель, разбрасывающий облигации государственного займа, я щедро расшвыривала червей. До земли долетела в лучшем случае треть, а остальные встретили свой конец на ветвях этого куста.
Путь до угла дома, который накануне я проделала, веселясь и танцуя, в то утро превратился в персональную выставку жертв моего гуманизма. Даже на человека с менее развитым воображением трупы червей на высоте метра от земли могли произвести странное впечатление. Что уж говорить обо мне, виновнице этого адского перформанса. Складывалось ощущение, что чья-то злая воля покарала невинных существ. Как будто здесь прошёл озверевший рыбак-неудачник, или обезумевший гельминтолог, дико хохоча, бежал, сверкая зубами в свете фонарей.
Вот с тех самых пор, когда мне говорят, что гуманизм опять восторжествовал – на конкретной улице, в конкретном районе или в конкретном городе, – я сразу начинаю думать, что неплохо бы дождаться завтрашнего дня. Потому что кроме явных последствий есть еще скрытые, и хотя это довольно очевидная мысль, многим она не приходит в голову, пока с ними не случаются червяки.
Кроме того, после этого случая я внезапно начала замечать увлечённых людей, совершающих добрые дела примерно с таким же, как у меня, результатом.
Только в отличие от меня, без оправдания в виде настойки из молодых почек черной смородины.
Пэчворк
Елка осыпается при каждом неосторожном движении, стеклянно шелестят сухие иголки, и остается короткая голая веточка, похожая на руку ребенка без варежки, высунувшуюся из слишком широкого зеленого рукава. Каждый раз думаю глупую мысль, что она мерзнет.
В магазине попросила брызнуть мне на запястье духами «Сад после дождя». Вместо ожидаемых мокрых цветов и влажных листьев уловила какой-то столярный запах, крайне далекий от дождей и палисадников. Девушка-консультант посмотрела на флакон и ойкнула. «Простите, – говорит, – я вам случайно нанесла другой парфюм. “Опилки”».
Я начала смеяться. Не то чтобы я везде искала символизм… (эту фразу следует выбить на моем гербе). Опилки вместо дождя. Разумеется.
– Можем перекрыть, – виновато говорит девушка. – Все наши духи сочетаются друг с другом. Давайте я вам сверху «Садом» побрызгаю.
В итоге ожидаемо получился «Сад, спиленный после дождя». Пах невыплаченной ипотекой.
Январь
Дни внутри зимних праздников просторные, как музейные комнаты, и в них толпятся гости, лыжи, дети, собаки… В уголке за шкафом спряталось притихшее чувство долга. Комкает в руке список: выгулять детей, посетить выставку, больше времени проводить на свежем воздухе, не обжираться. Вот откуда это подспудное ощущение вины, приобретающее странные формы проявления. Мужчина на кассе, поймав мой взгляд, брошенный на три крошечных творожных сырка, неожиданно оправдался:
– Это я не себе!
А я уж было нафантазировала бог знает что. Сырковый угар, глазированный кутеж, чувственное безумие творога. Но увы, увы – все это не ему, а кому-то другому: дерзкому, презирающему условности, быть может, даже бреющемуся опасной бритвой.
– …Смотри! – восхищенно зовет одна девочка другую. – Облака как картофельное пюре!
– Уйди от меня со своей жратвой, – бледнеет вторая.
Праздники – отдельный месяц внутри января, зима внутри зимы, облако тэгов выстраивается пирамидой Маслоу, в основании которой оливье.
Возле банкомата взъерошенная женщина (пуховик, рюкзак, розовые варежки) нервно спрашивает у спутницы (шуба, клатч, лиловые перчатки):
– Как ты думаешь, сколько сейчас может стоить хорошая игрушка?
– Мужу или любовнику? – невозмутимо уточняет та.
По парку галсами движется джентльмен в шапке Деда Мороза, подвыпивший ровно до такой степени, чтобы судно не заваливалось во время движения. С катка доносится музыка. Джентльмен в нарушение всех законов мореплавания пытается изобразить фуэте и уверенно пришвартовывается в сугроб. Встает, отряхивается и делает такой жест, как будто палец его – перевернутый маятник.
– Это, – объявляет он с интонациями конферансье, – еще не все!
После чего немедленно блюет в мою сторону.
Не то чтобы я во всём искала символизм, но временами жизнь до неприличия напоминает этого джентльмена. Только перестанешь беспокоиться, как выясняется, что это еще не всё.
Зато потом он сел на скамейку и спел, отчаянно икая, первый куплет Moon River – усталый наклюкавшийся Дед Мороз, только что поделившийся, можно сказать, последним, что у него оставалось.
Вот так чуть-чуть изменишь точку зрения и чувствуешь себя не без двух метров облеванным, а без пяти минут одаренным.
Пэчворк-2
Шла в разноцветной футболке, ярко-зеленой с рыжей лисой. Два бомжа, сидевшие на пустой трамвайной остановке, при виде меня оживились.
– И вот она нарядная на праздник к нам пришла! – хрипло выкрикнул один.
Второй посоветовал ему уняться и не приставать к девушкам.
Спустя час возвращалась обратно этой же дорогой. Бомжи сидели на прежнем месте.
– Это судьба! – сказал первый с интонацией графини де Морсер, встретившей Монте-Кристо.
– И не возразишь, – сказал второй.
Я думала, что мне начнут предлагать руку и сердце, но вместо этого у меня стрельнули полтинник. Сначала я грустила над этой несообразностью: встретить судьбу и удовольствоваться полтинником. Но затем поняла, что мне преподали урок высшего смирения и одновременно безупречного расчёта: меньше не хватит, а больше не дадут. Если бы мы все были такими точными в запросах, Деду Морозу, кем бы он там ни был, жилось намного легче.
* * *
Прочитала, что чуковское «прямо в мойку, прямо в мойку с головою окунул» – не про раковину, как я всегда полагала в простоте душевной, а про речку Мойку. Поделилась с родителями.
– Это довольно очевидно, – светски сказала мама. – Иначе бы он ему череп размозжил об фаянс.
Мы с папой вообразили эту картину и надолго замолчали. Матушка моя – кроткая голубка, но иногда она нас удивляет – как в тот раз, когда они с папой заспорили, надо ли пересаживать шиповник. Папа настаивал на пересадке, все шло к тому, что шиповник сменит место жительства. Как вдруг без всякой связи с предыдущим разговором матушка сообщила, что труп человека можно полностью сжечь при помощи всего четырех автомобильных покрышек.
В разговоре наступила пауза. «Аргумент», – согласился папа, и шиповник остался на месте.
* * *
Еле отбрыкалась от приобретения рыбы, плавающей в магазинном аквариуме, и вспомнила жену моего приятеля, купившую живых раков, чтобы сварить их мужу на день рождения. Вернувшийся с работы именинник нашел бедную женщину в слезах над ванной, на дне которой молились раки. Как взрослый ответственный человек он предложил взять грех на себя, но оказалось, что за несколько часов жена успела к ним привязаться. Раки Петенька, Варя и Катюша приветственно махали мужу усами, пока Игнат и Федор Петрович смотрели на него как на говно.
На семейном совете, где голос одной стороны был представлен рыданиями, решено было выпустить раков в ближайший чистый водоем.
Следующие несколько часов супруги колесили по Подмосковью, пытаясь понять, достаточно ли чисты встречающиеся им водоемы. Не издохнут ли раки в корчах, едва намочив мандибулы, не понесет ли прочь их обезображенные тела ядовитая речная волна. Ты в ответе за тех, кого не сварил, и все такое. В итоге выпустили их, кажется, в реку Пехорку. Было воскресенье, на обратном пути они застряли в многочасовой пробке и вернулись домой поздно ночью, измученные, грязные и в комариных волдырях.
Ничего не зная об этой истории, я спросила у приятеля, как прошел праздник.
– День рождения у раков удался, – сдержанно сказал этот святой человек.
* * *
Вчера было солнечно, в лобовых стеклах встречных автомобилей отражалось небо. Я стояла в пробке на Третьем кольце и сердилась на пробку, на жару, на солнце, пока не осознала, что навстречу мне едут десятки, сотни машин, битком набитые облаками.
Потоп
«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога. Чудо, что письменные принадлежности и твоя фотокарточка уцелели».
В три часа ночи маленький пес укусил большого кота за лапу. Полагаю, за левую заднюю – она почему-то нравится пуделю больше остальных. Кот в ответ лягнул пса и матерно заорал, и от этой грязной кошачьей брани я проснулась.
За окном было темно, и везде было темно, и только алчно горели три пары глаз, устремленных на меня. Я обругала бессовестных тварей, но встала и поплелась их кормить.
На кухне, во-первых, не горел свет. Во-вторых, нога моя вместо теплого пола погрузилась в теплую воду и ушла туда по щиколотку. Если вы никогда вместо кухни не оказывались в озере, жизнь ваша, считайте, была лишена ярких переживаний.
Мне всегда интересно, как работает в подобных случаях сонный мозг. Девять квадратных метров были залиты по всей поверхности, но первой моей мыслью было, что описался щенок. Хотя даже собака Баскервилей, выхлеставшая у Бэрримора весь виски, не могла бы столько напи́сать, не говоря уже о пуделе размером с чайник.
По воде дрейфовали щенячья подстилка, хохломская ложка и клочья рыжей шерсти. О плинтус мерно бились волны. Капало с плиты, капало с потолка, звонко разбиваясь о плиту. По столешнице плыл размокший батон, его догоняла буханка бородинского. На моих глазах в луче фонарика проскользнул гладкий, как скат, пакет и извилисто утек куда-то в дебри ножек стола.
Светя телефоном, я тихо поплелась в ванную комнату, ошеломленно бормоча: «Голлум! Голлум!» За мной громко пошлепали развеселившиеся коты, шмякая мокрыми лапами о паркет. За ними в восторге бежал щенок, встряхиваясь и поднимая тучи брызг. В ванной была та же картина: разбухшее тело коврика, тускло светящийся из глубины туалетный ершик, вантуз, вынесенный на берег, то есть на порог.
Бродить по квартире в прострации я могла бы еще долго. Но у меня в голове прошито: не знаешь, что делать, – буди мужа. «Звезда моя, – несколько удивленно сказала я, присев на краешек кровати (с ног на пол немедленно натекла лужа), – нас, кажется, уносит в океан». Муж быстро встал, быстро оказался на кухне, быстро пошел, светя в стену и потолок, и остановился над плитой. «Труба», – сказал он. Что нам труба, я понимала и без него. «Трубу прорвало у кого-то», – уточнил голубь моего ковчега и помчался за тряпками, сунув мне на ходу мокрого щенка.
Проза суровой жизни оказалась такова: трубу прорвало на одиннадцатом этаже.
Залило, по словам диспетчера, все нижние десять. Мы находимся посередине, и когда я представляю, каково тем, кто на десятом, на меня нападает нервный смех.
Но, впрочем, и на нашем месте тоже неплохо. Вокруг стоит вода. Коты размеренно плавают брассом, перекрикиваясь вполголоса. На столе возле меня сидит бледный щенок – похоже, его укачало. У нас есть размокший батон, пачка отсыревшей бумаги и – внезапно – венчик для взбивания яиц; вооруженные этим набором, мы с щенком гребем венчиком в ту сторону, где из воды медленно поднимается солнце. Где-то неподалеку невидимый супруг мой, парус моей лодки, ковыряется в электропроводке, и, судя по тональности его тихой брани, дела наши обстоят крайне занимательно. Я пишу эти строки на отсыревшей бумаге, сворачиваю листы в трубочки и пускаю по воде, надеясь, что их вынесет течением на берег. Так что если вы читаете их сейчас, знайте: батона нам хватит ненадолго, а потом я стану мучительно решать, кого съесть первым. Впрочем, судя по веселым и дерзким взглядам котов, они уже все решили за меня.
Цирк
Ребенок взял меня за руку и отвел на представление в цирк. Со стороны это выглядело, как будто я веду ребенка, но на самом-то деле все было наоборот. (У нас так часто случается. По доброй воле я бы в жизни на «Гадкого я-2» не пошла, например. Мне и первый-то не очень после того, как у девочек накрылся их бизнес по продаже печенья.)
В цирке я была последний раз лет двадцать назад и даже не знала, чего ожидать. Но все оказалось вполне традиционно и мило. Клоуны смешили, гимнасты крутили сальто, лошади мчались по кругу, сильно склоняясь на один бок, как лыжники на крутых виражах, а красивые девушки летали над залом на воздушных полотнах.
Последним номером выступали братья Запашные с тиграми и львами.
Собственно, они и до этого выступали. И жонглировали, и на лошадях скакали. Но все ждали, конечно, диких зверей. В программе ведь обещано: «На манеже цирка опасные и захватывающие трюки в исполнении редчайших белых и уссурийских тигров, африканских львов. Только у нас вы сможете увидеть один из самых уникальных трюков «Прыжок верхом на льве» в исполнении Аскольда Запашного, который в 2006 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса».
И вот – последний номер.
Арена в сетке.
Аскольд и Эдгард Запашные в красивых костюмах.
Зрители в предвкушении.
Все замерло, и наконец оркестр делает «та-дам!» – и выходят, один за другим, хищники.
Хищники выглядят так, что хочется бросить семью и податься к Запашным в дрессированные животные. У тигров такие ряхи, будто их набрали из московских гаишников. Их шерсть переливается и сияет, как бальное платье Золушки. Они упитанные, точно гусеницы в пору созревания капусты.
А за тиграми появляется лев. Огнегривый. Выражение морды такое, что сразу ясно: он и вола синего, исполненного очей, сожрал, и золотым орлом небесным не побрезговал.
Лев ложится в стороне и с холодным интересом смотрит на Запашного. Льву явно какая-то сволочь дала перед выступлением почитать программу, и в ней он обнаружил, что, оказывается, должен прыгать с Запашным на спине. Теперь льву самому любопытно, как Запашный будет выпутываться из этой неловкой ситуации.
Дрессировщик подходит ко льву, и начинается самый интересный номер цирковой программы. Слов не слышно, но по жестикуляции и мимике все понятно и так.
– Ты офигел, Аскольд? – осведомляется лев. – Вообще краев не видишь? Цирк твой, и ты думаешь, что тебе все можно?
– Я Эдгард, – смущенно бормочет дрессировщик.
– А мне пополам, – говорит лев. – Хоть Пафнутий.
– Лев Аристархович, один разочек! – умоляет Запашный. – Да что тут прыгать – с табуретки на табуретку?
– Я те чо, кенгуру? – удивляется лев. – Эдик, ты рамсы не попутал?
– Я же вас кормил… – вскидывается Запашный. – Мясо буйвола вам доставал! А вы!..
– Предъявить мне хочешь? – скалится лев.
Запашный отступает на шаг и живо меняет тактику:
– Отплачу, клянусь! Хотите, Гетеру позову?
– Видал я твоих гетер, – морщится лев. – Мочалки драные.
– Эта новая! Только привезли!
– Ладно, так и быть. Показывай. Добрый я сегодня.
По знаку Запашного выводят коротко стриженную львицу. Львица растягивается на арене и небрежно закидывает ногу на ногу.
– Ого! – присвистывает лев и поднимается.
– Я же говорил! – радуется Запашный. – Натуральная Гетера!
– Молодец, – одобряет лев. – Четкий ты пацан, Леха. Прыгай через свою табуретку, разрешаю.
Кладет лапу львице на задницу и неторопливо уводит ее за кулисы.
– Я Эдгард… – потерянно бормочет ему вслед Запашный.
На этом выступление льва закончилось.
Абсолютную правдивость этой истории могут подтвердить все зрители, побывавшие на представлении в прошлое воскресенье, в час дня.
Пэчворк-3
Вчера оказалась по делам в центре города, где над полированной лысиной собора кружатся голуби стаями и чайки поодиночке. Из туристического автобуса вышло семейство: девочка в пуховике, мама в пальто и бабушка в шубе.
– Оглядись, Танюша! – призвала бабушка хорошо поставленным голосом. – Вокруг тебя всё необычайно знаменитое!
(Тут я приосанилась, конечно.)
* * *
Мама с папой везли мне из Нижнего, среди прочего, шоколадные конфеты «Метеорит». Первую половину пути за рулем был папа, а на подъезде к Москве его сменила матушка. Когда стали распаковывать подарки, выяснилось, что папа по дороге украдкой съел половину конфет.
– Как ты мог? – возмутилась матушка. – Это был подарок ребенку!
– Я нервничал, – объяснил папа. – Знаешь, как ты ведешь машину? Как будто ты Татьяна Навка и у тебя еще двойной аксель не выполнен.
– Неправда, – довольно смирно сказала мама. – Я вожу как голубка.
Причина ее миролюбия стала ясна, когда открыли вторую сумку и обнаружили исчезновение нарезки салями.
– На Владимирской объездной мы видели лося, – с достоинством пояснила мама. – У меня проснулся аппетит.
* * *
– Веточек бесплатно не подарите? – заискивающе просит у продавца елок старушка с пакетом мандаринов. У старушки лиловый берет из «Бурды Моден» и скупой мазок помады в тон ему на узеньких губах.
Продавец молча вытаскивает из еловой охапки, пахнущей смолой, несколько уже перевязанных веточек.
– Вот спасибо тебе, милый мой, дай бог тебе всего, – растроганно говорит старушка.
Минут через пять, пока я рассматриваю датские ели, с той же просьбой подходит хрупкий румяный старичок, похожий на лихорадящего кузнечика. Пару веток вручают и ему.
После чего мы с продавцом наблюдаем, как старичок догоняет старушку, вручает ей ветки, себе забирает мандарины, и вместе они неспешно бредут по тропинке к дому.
– Это называется доброе дело! – скептически говорит продавец.
– Не, – бормочет его напарник, запихивая пихту Фрезера в упаковочный раструб, – это называется семейный подряд.
* * *
В дом принесли здоровенную ель, у которой такой размах ветвей, что позавидовал бы даже белоплечий орлан. Кот Матвей всегда под Новый год испытывает потрясение, словно приютский сирота, вывезенный в Дом игрушки, но в этот раз он был напрочь подавлен безразмерным еловым великолепием. Робко жался к стене, вздрагивал, прядал ушами, и так продолжалось до тех пор, пока пудель не наблевал под елочку.
Тут у кота внезапно случился инсайт – он понял, что бога нет, все позволено, и с криком «грабь, воруй, руби гусей» кинулся ломать и крушить дерево. Атаки его всегда стремительны и непродуманны, что приводит к закономерным последствиям. Кот получил еловой веткой по морде, был низвергнут, уполз под стол и сидел там, ошарашенно моргая и мыча что-то о несправедливости и правах животных. Ночью он вылез, мстительно обгрыз нижнюю веточку, обкакался плохо переваренными иголками, но все равно ходил с видом триумфатора, а пуделя два раза пнул и назвал плебейской мордой.
Я вот думаю теперь: то ли некоторые комментаторы в Интернете берут с него пример, то ли у кота есть доступ к «Фейсбуку».
Сирень
Возле моего дома исступленно цветет белая сирень. Подходишь к подъезду – и тонешь в нежной, упоительной, звонкой сладости. Люди замедляют шаг, останавливаются, закрывают глаза.
Положим, закрывают не все, а только те, кто шел-шел с пуделем, а потом осознал, что зрение определённо мешает полноценной работе органов обоняния. А вот если встать и зажмуриться, то можно целиком отдаться ароматам и звукам вечернего города.
– Растопырилась! – недовольным женским голосом говорит вечерний город, задевая меня пакетом.
Даже не знаю, можно ли поставить диагноз точнее.
А по тротуару идет черно-рыжая чумазая кошка, над ней каштан торжественно возносит канделябры с высокими белыми свечами, словно освещая кошкин путь.
– Шаня! – кричит тетка с балкона на первом этаже. – Шаня! Кис-кис-кис!
Чумазая кошка сворачивает в кусты и исчезает. Вечер подходит к каштану и осторожно гасит яркие свечи, одну за другой.
Через пять минут ни кошки, ни тетки, ни торжественного каштанового сияния.
Только по асфальту растекается бледная золотая дорожка, взявшаяся неизвестно откуда.
Май щедр на подарки. Утром город расцветал зонтами, а вечером по двору уже носятся подростки на роликах и перекрикиваются через детскую площадку.
– …сирени наломаем, – доносится до меня.
– Я вам ноги наломаю, – вполголоса обещает затаившаяся в палисаднике консьержка.
– Они и без тебя справятся, – лениво говорит вторая, наблюдая за пируэтами пацанов.
Воздух пахнет так, словно в нем щедро размешали сиреневое варенье.
– Тьфу-тьфу-тьфу, – суеверно сплевывает первая. – Пускай здоровые ездят, засранцы.
Поразительно, до каких высот гуманизма способен поднять человека всего один кустарник семейства маслиновых.
Стоп-кадр
Иногда видишь жизнь стоп-кадрами, иногда – набором короткометражек.
Мальчишка, рыжий, как ирландский сеттер, мчится на самокате и врезается в стаю голубей.
Стоп-кадр!
Внизу лужа, вверху небо, между лужей и небом повисли голуби, точно летучие рыбы, выпрыгнувшие из воды. Воздух загущен до предела синевой их крыльев. Ничего общего нет между жирными птицами, секунду назад бродившими под ногами, и этими существами, созданными, чтобы выныривать из луж и вновь уходить в бездонную теплую глубину.
Люблю, когда этот город сминает реальность, точно обертку конфеты, и расправляет заново. Всякий раз на ней новые рисунки.
…В залитых дождем переулках Китай-города разноцветными гуппи плавают китайские туристы. Возле старой церкви сбиваются вместе и трансформируются в морского ежа, ощетинившегося палками для селфи.
Сбоку из-под деревянного крыльца выбирается пыльный котенок, косматый и заспанный, как утренний первоклассник. «Беги, Форест, беги», – мысленно советую я. Морской еж сейчас атакует тебя. Исфотографирует до потери твоей незрелой кошачьей личности, до превращения из уникального блохастого отродья в умилительную деталь городского пейзажа.
Но поздно: один из китайцев замечает котенка, отделяется от толпы и присаживается перед ним на корточки, держа наготове айфон.
Котенок замирает возле лужи. На пузе у него ирокез. Под лапами у него мокро, а впереди еще мокрее.
Китайский турист сует свой айфон в карман, подхватывает котенка под ирокез и несет в глубь двора, где навалены горой спиленные ветки липы, сухо и есть где спрятаться.
И ни разу – ни разу! – его не фотографирует.
И когда котенок лезет под ветку, смешно отклячив тощий зад, не фотографирует.
И даже потом – тоже нет.
Ни то место, где был котенок.
Ни то место, где его не было.
Вообще – вы представляете? – совершенно ничего не фотографирует! Пальцем не трогает свой айфон.
Если уж это не чудо, то я даже не знаю, что.
Аквариум
В океанариуме утром никого не было, только у входа мужчина в белой шляпе рассматривал актиний. Я прошла дальше, в круглый зал. Тихо. Пусто. Пахнет отсыревшей штукатуркой и бассейном. В чистых окнах аквариумов зелень, свет и прильнувшие к стеклу узкие лица, словно вокруг тебя едет очень длинный автобус с рыбами.
Сразу представляешь, что ты экспонат. Один из представителей исчезнувшего человеческого рода. Случился великий потоп, вся суша ушла под воду, и даже горбушки гор размокли и погрузились в соленый бульон. По подводной площади плывет автобус, и рыбьи дети внимают экскурсоводу. Или не внимают. Просто молча смотрят, как я.
Но тут в настоящий зал ввалилась настоящая человеческая экскурсия с млекопитающим экскурсоводом. Экскурсовод была на каблуках, каблуки цокали по плитке, она говорила внятно и так пронзительно, что хотелось скукожиться и забиться под какую-нибудь из амфор в аквариумах.
– …держится в придонном слое у скалистых берегов, после шторма часто подходит к берегу…
Наверное, эта была хорошая экскурсовод. Она обращала внимание слушателей на каждую рыбу и излагала подробности ее частной рыбьей жизни, не оставляя случайным посетителям вроде меня возможности спрятаться от принудительного просвещения.
Но мне не хотелось знать, как ученые назвали этих странных древних существ, плавающих за стеклами. Я люблю магию безымянности. Целых пятнадцать минут тишины вокруг меня жил и дышал подводный мир, куда пустили только подсмотреть, побродить молчаливым свидетелем, а теперь его на моих глазах грубо овеществляли, превращая в перечень пронумерованных музейных экспонатов. И автобус становился «пристенной секцией», и к бесконечным, серебрящимся, как новогодние сосульки, неведомым рыбинам зачем-то прикалывали ярлыки.
Иногда, давая кому-то имя, ты не добавляешь, а отнимаешь. Я сбежала из круглого зала в соседний, и в первом же аквариуме навстречу мне выплыли три подводных черчилля с надменными бульдожьими лицами, выстроились в ряд и уставились на меня.
Средний что-то сказал (полагаю, выразил неодобрение). Я глазела на них минут десять, пока набежавшие фотографироваться дети не оттеснили меня и я не оказалась возле длинных улыбчивых рыб, похожих на крокодилов.
К счастью, никто не успел рассказать мне, как они называются. Так что для меня они остались рыбами с васильковыми глазами и такими улыбками, как будто им все про тебя известно, даже имя.
Про писателей
Как-то раз меня пригласили в московскую библиотеку на встречу детских писателей. Один из них должен был читать свои произведения. А я, надо сказать, неравнодушна к детским писателям. Они в большинстве своем циничные выродки, я таких люблю. Вот и пошла.
И ведь не то чтобы я была совсем отсталая женщина. Феллини обсудить могу, тальятелле. Но в библиотеке дыхание культуры заставляло ощутить себя немытым питекантропом, ковыряющим в зубах чужим ребром.
Во-первых, фотографии. Библиотека проводила выставку известного фотохудожника на тему «Моя святая Русь». Полсотни снимков, каждый размером с окно.
Там было все: золотые купола, белые церкви, беззубые старушки с умильными морщинистыми лицами, могучие казаки в шароварах, девицы в ромашковых венках, волоокие буренки, пшеничные колосья, обязательная капля росы на траве, в которой сверкает солнечный луч, – в общем, весь тот разлюлималинистый трэш, которым заваливают фотостоки сотни владельцев кэнонов и никонов, не ведающие стыда.
Во-вторых, стихи.
Художник умел не только фотоаппаратом. Он еще знал за поэзию. Каждый снимок сопровождался двустишием. Например, под фотографией зимней речки было написано:
О Родина! Ты вся во льду! И я в бреду к тебе иду, И блики ласково сияют и прямо в сердце проникают.А под морщинистой старушкой —
С годами мудрость накопила, в душе сокровища любви. И пусть бедны ее ладони, ты не стесняясь обними.У меня нервная система как у хомяка. С возрастом еще как-то устаканилось, все-таки трехразовое кормление – великая вещь. А тогда еще остро на все реагировала, особенно если в непосредственной близости березы и старушки мироточат.
В общем, я себя там чувствовала как пациент инквизиции на процедуре экзорцизма. И единственный луч надежды светил мне во всей этой сусальности – повесть детского писателя, которую автор вот-вот должен был начать читать вслух.
Тут нас как раз и созвали. Рассадили кружочком. В центр вышел красивый мужчина при галстуке. Все притихли.
– Сегодня, – говорит мужчина, – я почитаю вам свой новый роман. Он носит религиозно-сексуальный характер. Экспериментальная проза.
Я в этот момент что-то сказала. Ну, то есть как сказала… Звук издала. Это был такой очень концентрированный звук. Как если бы Эдмону Дантесу объявили, что ближайшие двадцать лет он проведет в тюрьме, его отец умрет от голода, а его возлюбленная выйдет замуж за конченого урода, и у него не будет детей, а еще его сбросят в море, но не поплавать, а в мешке для трупов, – так вот, если утрамбовать все то, что сказал бы по этому поводу Эдмон Дантес, в одно надрывное кряканье, то как раз получился бы этот звук.
Дело в том, что я человек довольно старомодных убеждений. Местами прямо-таки пуританских. Поймите меня правильно: если бы Фельтону Миледи станцевала тверк, он бы тоже не обрадовался, хотя казалось бы. Я не люблю, когда мне вслух читают романы религиозно-сексуального характера.
– Иннокентий предавался своей страсти, елозя по ноге избранницы, – с выражением произнес чтец. – Няня смеялась, краснела, отталкивала Иннокентия, но порочный младенец не отступал. Либидо его, уже вполне мужское, требовало удовлетворения.
Брык.
Следующие двадцать минут я провела в каталептическом ступоре. Изредка из внешнего мира сквозь заслон пробивались фразы «ее мраморные ляжки отняли у него дар речи» и «он взялся бестрепетной рукой». У окружавших меня людей лица были до того безмятежные, как будто в их домашней азбуке на букву «К» был нарисован куннилингус, а на «Л» – лубрикант.
Нет, я хочу, чтобы вы это представили.
Библиотека. Люстры. Шторы. Развязные гомосексуалисты заманивают Иннокентия в тенеты запретной любви. Студентки беспорядочно спариваются с преподавателями. А вокруг со стен колосится Родина. Слезятся старушки. Посмеиваются казаки. Целомудренно сверкает роса.
И блики ласково сияют и прямо в сердце проникают.
К тому моменту, когда чтец закончил первые три главы, я ощущала себя монашкой в логове демонстративных бэдээсэмщиков. В перерыве я выбралась из зала, пошатываясь и бормоча: «Фрикции, фрикции! Лямур де труа!», и мимо казаков и девственниц (тьфу, черт; девиц! девиц!) добралась до выхода.
– Ты лошадка? – спросила кроткая старушка-гардеробщица.
Тут я озверела.
– Нет, – говорю, – не лошадка! Конь, блин, Екатерины Великой.
Гардеробщица, видимо, встречала в храме просвещения и не таких дебилов.
– Была шапка? – терпеливо повторила она.
Я покраснела, схватила шапку и выскочила на улицу.
По улице шла компания крепко подвыпивших людей. Они не употребляли слов «дефлорация» и «адюльтер», а употребляли другие, гораздо более простые слова, в том числе даже и односложные. Некоторое время я шла за ними, наслаждаясь звучанием знакомой с детства речи. Потом вспомнила про шапку, лошадь и гардеробщицу и заржала так, что распугала всех алкашей.
Меня тут спросили, отчего я ничего не скажу о Дне Писателя.
Ну, собственно, вот.
Отпуск
– Не получается! – говорит один запыхавшийся маленький мальчик другому, постарше.
Трижды он пытался нырнуть, и трижды его выталкивало на поверхность. Он стоит по пояс в воде и обижается на море.
– Камней надо в плавки насыпать, – с серьезным лицом советует второй. – Они тебя на дно потянут. Там ты их вытряхнешь и обратно всплывешь.
Младший покусывает губу, не до конца убежденный в действенности этого способа.
– Водолазы так делают, – небрежно говорит старший.
Мальчик поднимает на него недоверчивый взгляд:
– Водолазы? В плавки?
– Работа у них такая, – строго говорит второй.
Замолкает и мечтательно смотрит в сторону горизонта, словно прозревая где-то там вдалеке сосредоточенных водолазов, зачерпывающих из мешка по пригоршне нагревшихся камней и с привычным вздохом оттягивающих резинку.
– Сёма, я толстая?
– Нет.
– Сёма, скажи правду – толстая?
– Нет!
– Сёма, ты врешь! Я же вижу: ноги толстые. А вот это – вот это что?! – брезгливо оттягивает кусок своего спелого бока. – Фу! Жир!
– Дура, – любовно говорит низенький плешивый Сёма. – Это сало! В нем вся красота!
Вода у берега зеленая, за буйками синяя, возле самого дна золотистая, и где-то сверху болтаются недоваренные ноги купальщиков.
– Ванюша, Ванюша! Не писай в море!
– Почему, баба?
– Тебя рыбка укусит! Писай вот тут, на песочке!
– А тут я его укушу, – хмуро говорит мужик, обгоревший так, что выглядит беглецом из преисподней. – Я тоже рыбка. Рыбка дядя Игорь.
Бабушка подхватывает Ванюшу на руки и, бормоча о ненормальных психах, скачет к уборным.
Песок серый, камни колючие, но по морю вдалеке бежит маленький белый барашек, отбившийся от стада, и взрослая волна, сжалившись, выносит его к своим. Он трясет курчавой головой и вместе со всей отарой рассыпается в брызги вокруг хохочущих детей.
* * *
…здесь, конечно, иное течение времени. Не потому что курорт, и не потому что безделье, а потому что рядом с морем все отсчитывается от него. Вместо стрелки по циферблату бежит волна: шур-шур, шур-шур. Позавчера был шторм, так возникла новая зарубка: до шторма и после. Какие вторники, зачем субботы? Дни слипаются и тают, как переваренные яблоки в солнечном сиропе.
Солнца много. Рыжие английские дети сгорают моментально, становятся розовые, как новорожденные мышата, и такие же жалкие. У немцев и шведов очень светлый загар, медовый – а может, все они пользуются каким-нибудь специальным средством, не знаю.
Здесь быстро появляются свои любимцы. Сёма с женой, за которыми хочется ходить с записной книжкой («Сёма, поедем на лифте!» – «Почему не по лестнице? Нам нужно больше ходить!» – «Сёма, я буду ходить в лифте ради тебя, хочешь? Кругами, все четыре этажа!»); чета пожилых англичан: он приносит ей вишневое варенье в розетке, она перекладывает самую большую вишню в его рисовую кашу – всё это без единого слова, с легкими касаниями, невесомыми улыбками; маленькая девочка с копной черных кудрявых волос, которая начинает каждое утро с того, что вдумчиво сыпет себе на макушку песок под крики многочисленных родственниц. Сегодня ей заплели волосы в косы. Она постояла на берегу, собрала песочную кучу размером с муравейник, деловито отряхнула ладони, наклонилась и воткнулась в нее всей головой.
Рыбка дядя Игорь уехал или просто не попадается мне на глаза, но вместо него появился очень похожего типа мужчина, который выгуливает по пляжу сына лет шести.
– Пап, а что примерно можно сделать из песка?
– Из песка можно сделать примерно все, – отвечает папа, рассеянно глядя куда-то вдаль.
– Ну, например?
– Например, шлакоблок. Знаешь, что это такое?
– Нет…
– Ну и слава богу, – ласково говорит отец.
* * *
Или вот десерты.
Начинается невинно – с земляничного суфле, похожего на взбитое с розами облако. Но долго смотреть нельзя. Стоит замедлить шаг, как к тебе льнут гибкие турецкие кадаиф – из тончайших тестяных нитей. За ними упругие желе, белотелые пудинги, рыхлые медовики и распутная пахлава… Все, ты пропал. Тебя подчинили эклеры, непристойно жирный тирамису и совсем уж бесстыжий шоколадный бисквит, обложенный засахаренными вишнями, как наложницами.
– Соня, попробуй кекс!
– Я сегодня не буду сладости…
Марципан от изумления трескается. Из эклера выползает кремовая гусеница, чтобы посмотреть, кто это сказал. Пчела, влюбленно жужжащая вокруг пахлавы, теряет сознание и падает в сироп.
«Она не будет сладостей, она не будет сладостей, – шелестит над столом. – Она нас не хочет!»
Все замирают. Где-то на краю взвизгивает слабонервный мармелад.
– Сегодня новые пирожные, с абрикосом! Видела?
– Я видела весы! – хмуро говорит Соня.
– Ну и что?
– Знаешь, на сколько я поправилась?
– О, крем-брюле! Взять тебе? Оно не калорийное.
– Не калорийное? – с надеждой переспрашивает Соня.
Все смотрят на крем-брюле. Крем-брюле втягивает живот и размашисто крестится.
– Там же нет теста!
– Тогда возьми, – после долгой паузы соглашается Соня.
Над десертным столом слышен дружный вздох облегчения. Мармелад вытирает испарину.
И только шоколадный бисквит пожимает плечами: он сразу знал, что этим всё и закончится. Любимый грех дьявола – не честолюбие, а чревоугодие. Дали бы Нео хоть раз попробовать тирамису, и о судьбе Матрицы можно не беспокоиться. «С такой кормой по крышам не поскачешь», – злорадно думает бисквит, глядя Соне вслед, и подмигивает засахаренной вишне.
* * *
Я пишу: сегодня жара, море спокойное, гоняли на водном мотоцикле, видели медузу.
Мама пишет: вчера разморозили бассейн, кот ушел жить в валенок, на ночь созываем в постель мышей, чтоб теплее спалось.
Я пишу: гуляли по берегу, искали камешек с дыркой, нашли трех нудистов и дохлую чайку.
Мама пишет: гуляли на реке, ловили голавля на меховых червей, прорубь затянулась, пришлось рубить другую.
Я пишу: купила новое парео.
Мама пишет: подшила старый пуховик.
Я пишу: объелась арбузом.
Мама пишет: засолили кабана.
Я пишу: скоро приеду! Жарь картошку, доставай наливку, настраивай гармонь.
Мама пишет: не приезжай! Кот законопатил валенок изнутри, кабан сам пришел, принес соль, умолял пустить его в печь погреться. Проси в море политического убежища и сиди там. Найдешь работу, получишь вид на жительство, перевезешь нас с папой, согласны жить с медузами и есть планктон.
(Приписка: узнай правила иммиграции для обуви. Кот согласен ехать только вместе с валенком.)
Счастливые часы
И вот представьте: теплый воздух, пальмы, столики выставлены прямо на песке, чтобы постояльцы могли наблюдать закат. Закат красив, как арбуз в разрезе. Рыбачьи лодки черными косточками утыкали океан. Среди пальм блуждает веселый пьяный ветер, разносит запах цветов.
Для гостей категории «все включено» сейчас так называемые «счастливые часы» – время, когда любая выпивка за счет заведения. С четырех до шести вечера.
За одним из столиков сидит полная дама в шляпе и белом сарафане. И не задумываясь над тем, что кто-то рядом может понимать по-русски, с надрывом говорит в телефонную трубку:
– Боже мой, Люда, ну с чем, с чем ты меня поздравляешь?! Во-первых, до него еще два часа! Во-вторых, не смей напоминать мне про эту дату! Я сейчас зарыдаю, клянусь тебе, зарыдаю!
Люда, видимо, произносит полагающиеся слова утешения – о том, что жизнь не кончается, и впереди еще много счастливых лет, и подруга ее молода и прекрасна и отдыхает в прекрасном отеле…
– Мне завтра уезжать! – прерывает ее дама, едва не плача. – Господи, ну все одно к одному! Хоть бы еще недельку здесь провести… Не поздравляй меня, не хочу! Я принимаю соболезнования!
Люда опять утешает. Трубка долго изливается воркующим бормотанием, и постепенно с лица дамы исчезает страдальческое выражение.
– Да, – уже гораздо спокойнее говорит она, – да, ты права, конечно. Спасибо тебе, рыбонька моя. И я тебя. И мне. И я.
Кладет телефон на стол и долгим застывшим взглядом смотрит на океан. Я могу поклясться, она повторяет себе то, что сказала ей верная Люда. Все у тебя хорошо, ты прекрасно отдохнула, ничего, что завтра уезжать, ты еще вернешься на этот курорт, к тому же ты похудела, придешь на работу – девочки обзавидуются, и загорела наверняка, тебе ужасно идет, ты у меня красавица, и молодая, ну молодая же, что ты там себе напридумывала глупостей!
Если бы я сочиняла эту сцену, то не знала бы, как закончить ее. Но жизнь бесстыднее вымысла. Один из молодых официантов замечает полную даму, уставившуюся на океан. Озабоченно взглядывает на циферблат над баром, где стрелка подбирается к шести, подходит к ней и, склонившись, произносит одну-единственную фразу, которая перечеркивает все старания Людочки.
– Мадам, – доверительно говорит он, – ваши счастливые часы заканчиваются. Хотите еще вина?
Утренник
В средней группе детского сада к сентябрьскому утреннику меня готовил дедушка. Темой праздника были звери и птицы: как они встречают осень и готовятся к зиме. Стихотворений, насколько мне помнится, нам не раздавали, а если и раздали, дедушка отверг предложения воспитательниц и сказал, что читать мы будем свое.
Этим своим он выбрал выдающееся, без дураков, произведение Николая Олейникова «Таракан».
Мне сложно сказать, что им руководило. Сам дедушка никогда садик не посещал, так что мстить ему было не за что. Воспитательницы мои были чудесные добрые женщины. Не знаю. Возможно, он хотел внести ноту высокой трагедии в обыденное мельтешение белочек и скворцов.
Так что погожим осенним утром я вышла на середину зала, одернула платье, расшитое листьями из бархатной бумаги, обвела взглядом зрителей и проникновенно начала:
Таракан сидит в стакане, Ножку рыжую сосет. Он попался. Он в капкане. И теперь он казни ждет.В «Театре» Моэма первые уроки актерского мастерства Джулии давала тетушка. У меня вместо тетушки был дед. Мы отработали все: паузы, жесты, правильное дыхание.
Таракан к стеклу прижался И глядит, едва дыша. Он бы смерти не боялся, Если б знал, что есть душа.Постепенно голос мой окреп и набрал силу. Я приближалась к самому грозному моменту:
Он печальными глазами На диван бросает взгляд, Где с ножами, топорами Вивисекторы сидят.Дед меня не видел, но он мог бы мной гордиться. Я декламировала с глубоким чувством. И то, что на «вивисекторах» лица воспитательниц и мам начали меняться, объяснила для себя воздействием поэзии и своего таланта.
– Вот палач к нему подходит, – пылко воскликнула я. – И ощупав ему грудь, он под ребрами находит то, что следует проткнуть!
Героя безжалостно убивают.
– Сто четыре инструмента рвут на части пациента! – тут голос у меня дрогнул. – От увечий и от ран помирает таракан.
В этом месте накал драматизма достиг пика. Когда позже я читала в школе Лермонтова «На смерть поэта», оказалось, что весь полагающийся спектр эмоций, от гнева до горя, был мною пережит еще в пять лет.
– Всё в прошедшем, – обреченно вздохнула я, – боль, невзгоды. Нету больше ничего. И подпочвенные воды вытекают из него.
Тут я сделала долгую паузу. Лица взрослых озарились надеждой: видимо, они решили, что я закончила. Ха! А трагедия осиротевшего ребенка?
Там, в щели большого шкапа, Всеми кинутый, один, Сын лепечет: «Папа, папа!» Бедный сын!Выкрикнуть последние слова. Посмотреть вверх. Помолчать, переводя дыхание.
Зал потрясенно молчал вместе со мной.
Но и это был еще не конец.
– И стоит над ним лохматый вивисектор удалой, – с мрачной ненавистью сказала я. – Безобразный, волосатый, со щипцами и пилой.
Кто-то из слабых духом детей зарыдал.
– Ты, подлец, носящий брюки! – выкрикнула я в лицо чьему-то папе. – Знай, что мертвый таракан – это мученик науки! А не просто таракан!
Чей-то папа издал странный горловой звук, который мне не удалось истолковать. Но это было и несущественно. Бурными волнами поэзии меня несло к финалу.
Сторож грубою рукою Из окна его швырнет. И во двор вниз головою Наш голубчик упадет.Пауза. Пауза. Пауза. За окном еще желтел каштан, бегала по крыше веранды какая-то пичужка, но все было кончено.
– На затоптанной дорожке, – скорбно сказала я, – возле самого крыльца будет он, задравши ножки, ждать печального конца.
Бессильно уронить руки. Ссутулиться. Выглядеть человеком, утратившим смысл жизни. И отчетливо, сдерживая рыдания, выговорить последние четыре строки:
Его косточки сухие Будет дождик поливать, Его глазки голубые Будет курица клевать.Тишина. Кто-то всхлипнул – возможно, я сама. С моего подола отвалился бархатный лист, упал, кружась, на пол, нарушив шелестом гнетущее безмолвие, и вот тогда, наконец, где-то глубоко в подвале бурно, отчаянно, в полный рост зааплодировали тараканы.
На самом деле, конечно, нет. И тараканов-то у нас не было, и лист с меня не отваливался. Мне очень осторожно поаплодировали, видимо, опасаясь вызвать вспышку биса, увели плачущих детей, похлопали по щекам потерявших сознание, дали воды обмякшей воспитательнице младшей группы и вручили мне какую-то смехотворно детскую книжку вроде рассказов Бианки.
– Почему? – гневно спросила вечером бабушка у деда. Гнев был вызван в том числе тем, что в своем возмущении она оказалась одинока. От моих родителей ждать понимания не приходилось: папа хохотал, а мама сказала, что она ненавидит утренники и я могла бы читать там даже «Майн Кампф», хуже бы не стало. – Почему ты выучил с ребенком именно это стихотворение?
– Потому что «Жука-антисемита» в одно лицо декламировать неудобно, – с искренним сожалением сказал дедушка.
Звон
Сначала на подоконнике возникла муха с бородатыми ногами, затем, деликатно погудев, вошел в форточку шмель, и наконец на шторе обнаружилась дрожащая божья коровка. В ответ на предложение полететь-на-небо-принести-нам-хлеба обмочилась. Это паломничество насекомых наводит на мысль, что тепла еще долго не будет.
На улице толкается ветер. Пылевые смерчи носятся по тротуару, встречная собака колли парусит всем телом. И посреди летящих оберток, окурков, сухих листьев, обрывков рекламных листовок и пивных крышек стоит невозмутимый дворник и созерцает мусорную вакханалию. Идеальная модель для памятника освобожденному Сизифу: камень валяется под ногами, а плешивый Сизиф сворачивает самокрутку и беззлобно сплевывает на горный склон.
Пока рассматривала божью коровку, вспомнила, как один дедушкин знакомый перенес урологическую операцию и на вопросы о здоровье полюбил отвечать «струя крепчает!», чем вводил в смущение женщин-коллег. Продолжалось это до тех пор, пока его случайно не услышала жена.
– Хоть что-то у тебя крепчает! – прошипела она, и с тех пор коллега на вопросы о здоровье краснел и говорил, что спасибо, все хорошо, и шрам больше не тревожит, и вообще самочувствие отличное.
В пасхальную ночь за окном услышала тихий нежный перезвон колоколов. Изумилась, посмотрела на часы – начало второго. Прежде по ночам никогда не звонили, даже на большие праздники.
Сперва мне подумалось, что бить сейчас в колокола не совсем гуманно, ведь по соседству с храмом жилые дома, где спят люди. Но перезвон был так прекрасен, что я невольно отвлеклась от сочувствия разбуженным бедолагам. Он плыл издалека и в то же время звучал рядом, наполняя всю комнату, и чем дольше я слушала, тем радостнее мне становилось. Не знаю, как лучше объяснить, но в его однообразной мелодичности и в самом деле была радость, а еще прощение всем и обещание, что смерти не будет, а раз так, думала я, благоговейно внимая ангельским звукам, пусть звонят, когда хотят, потому что для этой вести нет неподходящего времени.
Колокола всё пели и пели, разгоняя тьму. Я зашла на кухню, чтобы открыть окно, и обнаружила, что все это время звенела батарея бутылок на холодильнике.
Три виски, три коньяка, два хереса и пиво. Я проникалась благодатью под звон непочатого бухла.
Каждый раз в таких случаях вспоминаю фразу, что человек есть устройство по переработке трэша в Царствие Небесное. Она не об этом, но и об этом тоже.
Билет
Однажды мне рассказывали историю о девушке в чужом негостеприимном городе. Город был большой, девушка была маленькая, и как это часто случается с маленькими людьми в больших городах, история ее была об одиночестве и немоте. Люди, к которым не умеешь обратиться, предметы, которым не знаешь названия. Она учила язык, но ей казалось, что, пока она запоминает три новых слова, в мире рождается еще три тысячи.
В общем, это было безрадостное повествование о том, как каждое утро девушка просыпалась затемно в комнатушке, где, кроме неё, жили, ели и спали еще какие-то люди, и бежала на электричку или какой-то пригородный поезд, который доставлял ее на работу. Не помню, чем она занималась – мыла ли полы, перебирала ли овощи, баюкала ли чужого ребенка, – да это и не имеет значения. Она добросовестно тянула свою лямку каждый день, а в конце дня падала без сил на койку, вокруг которой продолжали жить, есть и спать.
Повседневность ее была бы совершенно беспросветной, если бы не лотерейный билет. Девушка покупала его каждое утро. Грошовый билетик – они продавались на станции, с которой ее увозила электричка. Смысл этой небольшой, но довольно существенной для нее траты заключался в том, что каждый новый билет приближал исполнение ее мечты. Потому что девушка твёрдо намеревалась однажды выиграть. И не просто свой месячный заработок или, допустим, поездку на Канары.
Она хотела выиграть квартиру.
Что такое квартира для бездомной, несчастной, нищей девочки в чужой стране? Если подходить к делу практично, то хлопоты, налоги, продажа, налоги с продажи… Но Золушка никогда не думает о тыкве в контексте износа рессор и оплаты проезда по частной королевской трассе. Для нее это лишь способ быстрее добраться до королевского дворца – туда, где всегда воскресенье, и свечи, и праздник, и лето, и смех, и то, что нельзя.
Девушка мечтала о своей квартире, потому что именно так в ее представлении выглядело счастье. Одиночество пассажира в плацкартном вагоне и одиночество машиниста, смотрящего в окно локомотива, – это два разных одиночества. По ночам, засыпая, она мысленно красила стены спальни в светло-зеленый и расставляла на подоконниках фиалки – обязательно синие с белой каймой.
Удивительно, до чего изобретательны становятся некоторые люди, когда им не хватает света. Лотерейный билет был лампочкой – единственной, которая подсвечивала для нее темноту утренней станции, да и всю остальную темноту. Каждое утро девушка стирала защитный слой с картонного прямоугольника и в те минуты, пока еще не вскрытый билет был в ее руках, чувствовала себя почти счастливой.
Ах да, чуть не забыла одну важную деталь.
В эту лотерею не разыгрывалась квартира.
Невозможно было получить ее, что бы ни оказалось под защитным слоем на картонном прямоугольнике. Никак. Никоим образом. Предполагались какие-то ерундовые призы – допустим, пластиковые китайские игрушки, или чашки-непроливайки, или даже карандаши, которыми можно было бы нарисовать дом, а в нём зеленую спальню и фиалки с белой каймой.
Но и только.
Девушка знала об этом с самого начала, с той минуты, когда потратила деньги на первый билет. Но день за днем, месяц за месяцем она продолжала покупать их и мысленно облагораживать свой маленький частный рай ковриками из «Икеи» и полосатыми занавесками из нее же.
Когда я думаю об этом, меня охватывает нечто вроде благоговения. Каждый день человек терпеливо создает параллельную реальность и протискивается сквозь крошечную мятую дверцу лотерейного билета из своей собственной жизни в другую – причем даже не в ту, где он счастлив, а всего лишь туда, где допускается такая возможность.
Скажем, один шанс из пяти тысяч.
Удивительно, до чего изобретательны становятся некоторые люди, когда им не хватает надежды.
Кто-то однажды сказал мне, что это история о самообмане, о торжестве иллюзии над здравым смыслом. Однако я по-прежнему думаю, что это история о чуде, которого не случилось. Этим оно и ценно – невоплощенностью.
Девушка не выиграла, разумеется. Она еще долго ездила в электричке, покупала билеты, учила язык, затем сменила работу, нашла еще одну…
Прошло довольно много времени. Однажды утром она обнаружила себя стоящей на платформе в ожидании пригородного поезда, но только уже в другом измерении. Воздух пах свежескошенной травой, люди вокруг были приветливы и говорили на понятном языке – теперь она даже думала на нем и видела сны. Ее ждала новая работа, а вечером ей предстояло вернуться в съёмную квартиру – нормальную человеческую квартиру с полосатыми шторами и тощим котом, которого в ближайшие два года она планировала перевезти в их собственную.
Сбывшееся чудо меняет реальность, несбывшееся – человека. Когда несколько лет назад уже выросшая девушка рассказывала эту историю, у неё всё было хорошо. Она любила город, в котором жила, и понимала его разговоры. Ее тощий кот растолстел и гонял нового маленького кота по дому, который не без оснований считал своим.
Из сбывшихся чудес рождается сказка. Из несбывшихся получается жизнь. Сотни невыигрышных лотерейных билетов складываются в приз, который невозможно измерить. Я думаю о девочке, твердо знавшей, что волшебства не случится. Весной, когда теплеет, она спускается в сад и высаживает перезимовавшие фиалки в рыхлую землю.
Они распускаются ярко-синими цветами с белой каймой.
Жаворонки
В шестом классе меня подрядили на общественно-полезные работы. Я занималась русским с Юлькой Тумановой. В переводе с языка школьных эвфемизмов это означало, что я пишу за Юльку сочинения и пытаюсь вдолбить ей правила, которых не знаю сама. Дважды в неделю я переступала порог тумановской квартиры и оказывалась среди клонированных березовых стволов, ровных, как единицы в тумановской тетради. Родители Юльки очень любили фотообои. И дважды в неделю меня встречала бабушка Тома Ивановна.
Она была не настоящая бабушка, а чья-то дальняя родственница. Очень толстая, с покатыми, как на портрете Гончаровой, плечами, производившая впечатление тяжеловесной бесшумности. Парадоксальное сочетание, но я не знаю, как объяснить это иначе. Когда Тома Ивановна появлялась в прихожей, казалось, тебе навстречу выплыл приветливый холм.
Холм брал меня за руку и вел на кухню.
В семье Тумановых у Томы Ивановны было лишь одно занятие: она готовила.
Господи, как она готовила!
На ее котлетах хотелось жениться. Борщ было стыдно есть: он во всем, абсолютно во всем превосходил тебя. Блинчики с грибами могли довести чувствительного человека до депрессии: он понимал, что самое яркое событие в его жизни произошло и ничего прекраснее уже не случится.
Тома Ивановна двигалась по своей кухне, как музыкант Дэнни Будман по пароходу «Вирджиния»: с легкостью, доступной лишь тому, кто родился и вырос в этих стенах. Однажды мне довелось увидеть, как она печет яблочный пирог. Печет? О, нет. Идея совершенного пирога, задуманного где-то в высших сферах, на моих глазах обретала материальное воплощение, а проводником этой идеи выступала Тома Ивановна. Она дирижировала всей кухней, от холодильника до штор, а вокруг нее закручивался безумный вихрь из ароматов, отрывистой перебранки венчика и кастрюли, драконьего жара духовки, блеска сахарных кристаллов… Оркестр не фальшивил ни в единой ноте. Я сидела на табуретке, поджав ноги, и меня омывало волнами увертюры яблочного пирога.
Все-таки мироздание в проявлениях своего чувства юмора иногда заходит далеко. В семье Тумановых презирали еду. Юлька перебивала аппетит чипсами и соломкой. Ее отец вполне мог довольствоваться покупными пельменями. Мать, садясь за стол, не раз повторяла с очевидным неудовольствием: «Опять на унитаз работаем!» – фраза, смысл которой оставался для меня загадкой.
Не знаю, что думала об этом Тома Ивановна и думала ли вообще. В детстве я могла бы спесиво назвать ее глупой, если бы уже тогда не ощущала, что категория интеллекта попросту не имеет к Томе отношения. Никто не пытается определить, умна ли плодоносящая яблоня. И какой IQ у холма, на котором она растет.
И вдруг Тома ослепла. Свет ей выключили сразу и навсегда. Никаких подробностей я, конечно, не помню, да и вряд ли они были мне известны. Просто раньше, когда я приходила в гости, на лице Томы сначала появлялось выражение радости, а затем глубокой сосредоточенности: она размышляла, чем меня накормить. А теперь все стало наоборот. Сначала Тома напряженно сводила брови и наклоняла голову – пыталась по шагам узнать, кто пришел. А затем уже ее лицо озарялось улыбкой.
Она упорно выходила встречать гостей в прихожую, и было мучительно видеть, как эта отяжелевшая, громоздкая, до нелепого огромная туша ползет тебе навстречу по коридору с березками: крейсер, застрявший в узком русле реки.
Ее волшебный дар бесшумности исчез. Тома Ивановна задевала полки. Ударялась о шкафы. Роняла стулья. Она была похожа на неуверенный ураган, который несется на тебя, словно в замедленной съемке.
До тех пор, пока не возвращалась на кухню.
Видя, как она готовит, я начинала подозревать, что Тома Ивановна всех нас дурачит.
Ножи.
Кастрюли.
Ложки.
Венчик.
Дуршлаг.
В кухне не находилось предмета, который не подчинялся бы Томиной воле.
Она доставала из шкафов банки со специями, не задумываясь ни на секунду. Отмеряла стеклянным стаканом муку, и если нужно было взять две трети, отсыпала ровно две трети. Точность и быстрота, с которой она разбивала яйца, резала овощи – точно строчила швейная машинка, обжаривала мясо или замешивала тесто, ошеломляли. Я и раньше понимала, что Тома творит нечто необыкновенное, но теперь ее возможности обрели явственный оттенок чуда.
Лишь холодильник поначалу вызывал у нее небольшие затруднения, но и с ним они быстро договорились, что и на какой полке он будет хранить. Задержку в коммуникациях я списываю на то, что он был очень молод и, возможно, туповат.
Это был первый в моей жизни случай, когда я увидела, как сначала человек создает свой мир, а потом мир хранит своего человека. И бережет его в несчастье, и длит его до-бедственное существование.
Что осталось от плюшек? От драников и борщей? Ничего. Работа на унитаз, как говорила Юлькина мама, любящая фотообои с березками.
Ради чего Тома дирижировала своим оркестром? Ради идеального манника и лучшего в мире бульона? Близким было глубоко плевать на то, что она делает. Но мне хочется думать, что рано или поздно эхо каждой песни, пропетой с любовью, возвращается, и мелодия снова звучит вокруг замолчавшего певца.
В начале мая мы с Юлькой провели последнее занятие: она уезжала куда-то на юг, к родне матери. На прощание Тома Ивановна вручила мне пакет «жаворонков» – мягких тестяных птичек с глазками из изюма. Я бездумно съела их один за другим.
И только на последнем споткнулась, представив, как незрячая Тома выкладывает каждой заготовке глаза.
Впрочем, потом все равно его съела.
Он был такой вкусный, что хотелось петь.
Письмо
Мне принесли гвоздички: мелкие, похожие на полевые. Стояли они долго, почти месяц. А достояв отпущенный им срок, не завяли, а выцвели. Остались с прямыми жесткими стеблями, не опустив и не сморщив ни одного цветка.
Но там, где горели алые лепестки, стали блекло-розовые, а ликующий белый выродился в тень самого себя. Кажется, оставь я цветы в вазе еще на неделю, они бы просто растворились в воздухе.
Подумалось, что вот так, пожалуй, могла бы выглядеть идеальная старость. Ни тебе отвисающих складок, ни морщин: медленное выцветание, процесс, обратный проявке: на фотокарточке постепенно исчезают черты и знаки. Пока не остается белый лист, сиречь – небытие.
Но на белом листе проступают слова.
Все дело в том, что у этой старухи была открытка, новогодняя открытка с елкой и крутыми завитками синей вьюги. Открытка в больнице – довольно глупая вещь. В больнице часто трогательные, хорошие, добрые вещи отчего-то выглядят глупыми. А эта была еще и хронически неотправленная, что меня тихо выводило из себя: очевидно, как надругательство над самой идеей послания.
Она писала на ней каждый день. Доставала из ящика ручку. Садилась на край продавленной кровати, поближе к тумбочке. Эти панцирные кровати в больнице хуже ям, честное слово. В яму упал один раз – и все. А тут чем дольше лежишь, тем глубже проваливаешься.
И медленно начинала выводить слово за словом.
За те два месяца, что я наблюдала за ней, не было ни одного дня, когда она изменила бы своему ритуалу. Худая старуха с целлофановыми глазами, с туго обтянутыми, как луковицы в сетке, скулами и подбородком, воплощение той самой идеальной старости без морщин, брала одну и ту же открытку и писала на ней, выводя всё новые и новые пожелания поверх уже высказанных.
Я знаю, о чем она писала, потому что еще застала то время, когда открытка была белая.
У старухи был прекрасный почерк. Так что поначалу, пока все это не превратилось в безумные напластования каллиграфической вязи, текст можно было разобрать, хотя под конец каждого сеанса буквы начинали слабеть, конвульсивно подергиваться и тянуть умирающую строку вниз.
Не знаю, кому она адресовала свое письмо, эта сломанная балерина с вечно прямой, словно намертво приколоченной к кресту спиной. Обращения там не было. Но было «здоровья Саше», долгие годы жизни кому-то, и чтобы им выдали новую квартиру, а еще чтобы не сгорела дача.
Вот эта дача меня сильно занимала. Странное какое-то пожелание подруге или родственнику, думала я. День за днем старуха продолжала свое дело: здоровья Саше, пускай выдадут квартиру и дача пусть останется цела… Потом неожиданно появилось что-то о пианино, а чуть позже на оставшееся свободное место влез совершенно безумный «продмаг».
Старуха писала.
Слов становилось все больше. Уже нельзя было прочесть новые, а елочка с обратной стороны украсилась выпуклыми гирляндами продавленных строчек. Старухе это не мешало. Она упорно нашептывала в ямку свои пожелания, не замечая, что они давно переливаются через край, впитываются без остатка в щедро удобренную чернилами землю.
И однажды меня осенило. Я вдруг поняла, отчего на открытке нет адресата, и почему именно елка с завитками вьюги, и при чем здесь дача.
Старуха писала Деду Морозу. Как маленький ребенок, высказывала она все, что накопилось за долгий, длиннее года, прошедший день. Неизменный скелет ее просьб о Саше, квартире и даче то обрастал плотью и просительно щерился черно-белыми клавишами пианино, то снова истаивал до костей, и над ним в толще фиолетовой воды плыли запятые и восклицательные знаки.
Я смотрела на нее и понимала, что делаю то же самое. Без этой детской магии, но и я пишу одно нескончаемое письмо. Слова, поначалу разборчивые, давно уже слились в огромное чернильное пятно, и, кажется, адресат не в силах будет ничего прочесть.
Возможно, мне нужно было вовремя остановиться?
Попросить один раз, может, два. Но не двадцать и не сто. Не засорять эфир белым шумом, сократить свои желания до простой дроби, а не возводить в степень бесконечным навязчивым повторением.
Может быть, тогда меня кто-нибудь услышал бы?
К концу второго месяца открытка превратилась в труху. В изъеденный шариковой ручкой бумажный лоскуток. Я купила на почте новую, тоже с елкой, но положить на тумбочку не успела: однажды старуху увезли в другое отделение, и больше я ее не видела.
Старая открытка так и осталась на тумбочке. У меня в руках она развалилась на две половинки, но я все равно бросила ее в почтовый ящик: без всяких мыслей, просто потому, что нужно было ее куда-то пристроить. А таскать чужой мусор в сумке я не люблю.
Но с тех пор я вот думаю иногда… Должна же она была дойти, правда? Пусть не сразу. Сначала попадет к Деду Морозу, тот глянет возраст отправителя, шлепнет штамп «не рассмотрено» и передаст вверх по инстанции, Богу.
Тот возьмет открытку, в которую несчастный больной человек до безумия долго вписывал свою жизнь. И вся эта слежавшаяся сырая глыба бесконечных просьб вдруг расслоится на легкие, как перышки, ясные желания: чтобы мама с папой были счастливы, чтобы Саша был здоров, чтобы мы вместе приезжали на дачу и больше не было того страшного пожара, после которого слег дедушка. Чтобы Катенька хорошо училась и ее не обижали в школе, как меня.
Пусть никого не обижают.
Забери меня отсюда, дедушка, ты уже всех моих забрал, а я все тут, одна да одна.
А когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех.
Бог задумчиво почешет подбородок, кивнет, и юная девочка в белой пачке закружится под вальс, который играет на пианино ее мама, и на полке будут конфеты, те самые, из продмага, в золотой обертке, и елка будет сиять, и вьюга будет петь, но совсем нестрашно, потому что больше не случится ничего страшного, ибо все уже давно случилось и прошло.
А все, что осталось, – только старая новогодняя открытка, на которой никогда не будет написано ни единого слова.
Почему они это делают
Я все думаю о мотивах поступков. Разных. «Живой Журнал» этому очень способствует: ты читаешь то, что люди пишут о причинах своих действий, а фоном к их рассказам идет восприятие этих действий окружающими.
С детьми особенно сложно.
Восьмилетний мальчик, сын моих приятелей, возвращаясь из школы, вдруг пытается обломать ветки барбариса, растущего у подъезда. Его стыдит сначала консьержка, потом бабушка, которой неловко перед консьержкой за поведение внука. На другой день повторяется то же самое. На третий его проводят подальше от этого несчастного барбариса, а он все равно вырывает руку, бежит к кусту и злобно дергает ветки.
В конце концов историю доносят до мамы. Бабушка жалуется, что невозможно управиться с мальчишкой. Что он агрессивен, неуправляем. Предупреждает, что будут проблемы в школе: сегодня он срывает злость на безобидном кусте, а завтра стукнет какого-нибудь малыша.
Мама идет к мальчику. Гладит его по голове. Мальчик, конечно, ревет: он слишком долго был для бабушки негодяем. И сквозь слезы и сопли с трудом объясняет: там гуляет собака по утрам, большая белая собака. Она проходит по узкой заасфальтированной дорожке между машинами и кустарником и задевает боком об ветки. Собаке больно. Кустарник царапает собаку, потому что у нее мало шерсти. А ее хозяин ничего не замечает. Он и кормит ее плохо: она худая, как забор, и еще у нее уши пострижены.
Утром мама смотрит в окно. Действительно, собака: обычная дворняга. Никакого вреда бедный барбарис ему, конечно же, не причиняет. Но мальчик летом сам оцарапался о кусты, и ему кажется, что собаке тоже больно.
Почему он не пытался объяснить бабушке? «Не знаю. Она бы не поняла».
Я слушаю мою подругу и думаю, что надо бы постараться не стать такой бабушкой.
Потом думаю, что от моих усилий ничего не зависит.
Но ладно – дети. У меня есть знакомая семья: мама, папа, пятнадцатилетняя дочь. В середине января я встречаю папу с дочерью в парке. Спрашиваю шутливо, где они забыли маму. Папа так же шутливо отвечает, что их выгнали из дому: мама разбирает елку, а она любит делать это в одиночестве.
«И выносит елку тоже сама, – поддерживает дочь (у нее папины снисходительные интонации). – Ветки ей обкусывает секатором. Садистка!» Оба посмеиваются: немного свысока, но беззлобно.
Месяц спустя мы сидим с их мамой в кафе. Заговариваем о Новом годе. Я показываю фотографии наших новогодних игрушек. И вдруг она говорит: «Знаешь, а я каждый год реву, когда убираю елку. Ничего не могу с собой поделать. Снимаю игрушки, складываю в коробку – и плачу».
Я смотрю на нее, забыв про дурацкие фотографии.
Она плачет каждый год, когда настает пора убирать елку. Она выгоняет мужа и дочь, чтобы они не видели, как она ревет.
А они думают, что ей нравится убирать елку в одиночестве.
Свитер
Когда мне было семнадцать, папа поехал в Америку и привез мне оттуда свитер.
С таким же успехом можно было написать «слетал на Марс». Очень далеко от нас была та Америка. Я вообще, собственно говоря, все три недели папиного отсутствия не верила, что он в Америке. Ну, какой Нью-Йорк, что вы, честное слово, не смешите меня.
Потом папа вернулся и привез свитер.
И вот когда я увидела эту вещь… В общем, сразу стало ясно, что папа меня не обманывал.
Мама же, увидев подарок, открыла рот, а потом закрыла с клацающим звуком и прикусила зубами хвостики крепких выражений, которые уже рвались наружу. Поскольку эти выражения вопиюще не соответствовали торжественности момента и общей маминой нежной натуре. Русским же языком было сказано: «Девочке нечего носить. Привези что-нибудь этакое!» – и рукой так сделано: этакое. Ну, понятно ведь любому, да, что имеется в виду? Элегантное, тонкое, облегающее, стильное. Вырез лодочкой, рукав три четверти. В крайнем случае – две.
Свитер лежал на кровати, скрестив рукава на груди, и на морде его было написано, где именно он видал все эти ваши три четверти с лодочкой.
Во-первых, он был огромный. На бирке у него было написано, кажется, XXL, и это честные американские два икс-эль, рассчитанные на нормального краснорожего реднека, вскормленного кукурузой, бигмаками и пивом.
Во-вторых, основной его цвет был серый. Серый мне не шел.
В-третьих, он был странный. С узкой горловиной, весь состоящий из пестрых серо-черно-белых полос шириной в мою ладонь, и каждая полоска отличалась от соседней, а стыки между ними были сделаны в виде шнурков. Мы тогда не знали слова «пэчворк», но что-то в нем было от пэчворка, только прямоугольного.
Большой, грубоватый, странный. Мужской. Или вовсе бесполый.
Это была немыслимо чужеродная вещь для нашей тогдашней жизни, где пределом мечты казалась белоснежная мохеровая кофта со светящейся ниточкой люрекса. Или что-нибудь элегантное, с рукавом три четверти.
Я влезла в папин подарок и забыла про мохер и люрексовое баловство тотчас же.
Свитер был прекрасен. Он был больше, чем свитер: я надела вещь, которая мне не шла, не была элегантной, не подсказывала всем своим видом об обладательнице «она пытается быть красивой девочкой» – и я чувствовала себя в нем абсолютно непринужденно. Это было время, когда мамы моих подруг говорили о ком-то, сочувственно вздыхая: «Она совершенно не женственная, бедняжка», – и быть женственной казалось чем-то необходимым. А как иначе? Ты же девочка.
Свитер показывал, что без этого можно обойтись. Он учил не притворяться.
Следующие два года я не вылезала из него. По большому счету, это именно свитер научил меня непринужденно носить издевательски короткое мини, смелые топы, облегающие платья, высокие каблуки. Когда-то дав разрешение быть любой, свитер оказался последователен: «любой» не означало, что нужно всегда кутаться в вещь на три размера больше твоего и прятать тощие запястья в длинных рукавах. «Носи что хочешь», – благодушно разрешил свитер.
Я слушаюсь его до сих пор.
Дубленка
Однажды году эдак в девяносто восьмом у мамы случились деньги.
Ну как деньги.
Нет, если бы их заставили позировать на фоне маминой зарплаты, то даже очень скептически настроенный человек понял бы: конечно, деньги! На фоне маминой зарплаты даже моя студенческая стипендия выглядела солидной прибавкой к семейному бюджету.
И мы с мамой отправились покупать мне дублёнку.
Хотя лично я полагала, что зимней одежды хватает.
Во-первых, перешитое бабушкино пальто. Бабушка у меня метр с кепкой в прыжке и с комплекцией Нонны Мордюковой. Я могла в ее пальто замотаться три раза или ночевать в нем, растянув на колышках. Но портниха нам попалась сильно оторванная от реальности. Результат ее работы свидетельствовал о неоспоримой уверенности, что девицу формата «исхудавший суслик» удастся до зимы раскормить до пятидесятого размера. В результате я болталась в пальто, как тычинка в проруби.
Во-вторых, древняя мамина дубленка. В прошлой жизни эта вещь была танковой броней и в новой инкарнации сохранила вес и пуленепробиваемость. Каждый раз, когда я ее надевала, меня прибивало к земле, как Портоса гранитной глыбой. В этой чертовой дубленке владелец физически не мог замерзнуть. Не потому, что она была очень уж теплая, а потому, что таскать на себе двадцать кило закостеневшей овечьей шкуры очень способствует согреванию в любых погодных условиях.
Вот этот роскошный парк верхней одежды матушка и решила обновить. Для чего торжественно повела меня на рынок.
Там ее гордость и энтузиазм несколько поутихли. Как мы ни приценивались, вариантов было немного. Премии хватало либо на рукав от дубленки, либо на подкладку от шубы. Я видела, как гаснет мамина радость, и уже готовилась клятвенно заверять ее, что мечтаю носить бабушкино пальто до пенсии, а еще лучше до порога крематория. Но тут навстречу нам выплыла продавщица в пуховом платке.
Платок был как-то хитро завязан тюрбаном у нее на голове, и под ним всего было много: щек, рта, подбородка – всего, кроме глаз. Вместо них имелись два острых зрачка, и на эти зрачки нас накололи, как на иголки, двух глупых беспечных бабочек с премией в дырявом кармане.
Через две минуты перед мамой уже расстилали на прилавке роскошные дубленки. Серые, синие, изумрудно-зеленые! Они, правда, были очень тонкими и довольно странными на ощупь: как подмерзший картон. Я смутно ощущала, что здесь что-то не то, но продавщица, словно верный оруженосец, уже высвобождала меня из брони моей старой овчины, накидывала что-то легкое и серебристое, тащила зеркало, и хвалила, и расписывала достоинства пуговиц, капюшона и карманов.
По лицу мамы я видела, что вот это новое, хрустящее и странное мне идет.
А главное – цена. С обещанной скидкой получалось, что маминой премии как раз хватит на это чудо природы. Вернее, не совсем природы. Авторитетно улыбаясь, продавщица заверила нас, что искусственная дубленая кожа ничем не отличается от настоящей. Она даже лучше. Во-первых, легче. Во-вторых, выгоднее. В-третьих, вы посмотрите, как девочке идет!
Девочке, разумеется, шло. После мамино-бабушкиного гардероба девочке пошла бы даже коробка из-под пылесоса.
«А самое главное, – прибавила доверительно продавщица, – ни один баран не пострадал».
И моя сияющая от радости мама обменяла свои кровно заработанные на эту дубленку. Баран не пострадал, а две овцы с премией не в счет.
Следующие два года прошли для меня под знаком бубна. Начиная с октября, я шаманила, чтобы зима выдалась мягкой. Потому что в плане сохранения тепла новая дубленка могла конкурировать с той самой коробкой из-под телевизора.
Эта сволочь не грела. Вообще. Совершенно.
Фактурой она напоминала вымоченный в рассоле и хорошо окрашенный картон. Качеством – его же. Хорошего в ней был только цвет: серебристый, с отливом в синеву.
Две зимы я люто мерзла. Зато в совершенстве освоила принцип многослойности, лет на десять опередив модный тренд. На мое счастье, под папин американский свитер можно было поддеть что угодно и еще место для папы осталось бы. Тогда же я очень полюбила длинные шарфы, которыми обматывалась, как пулеметной лентой. И перемещалась до института короткими перебежками.
Сжечь эту серебристую хрень к чертовой бабушке мне не позволяло одно простое соображение. Вы ведь понимаете какое, правда? Мама была так счастлива каждое утро видеть меня в этой проклятой дубленке, что я не могла отправить ее в нокаут известием о том, что именно мы приобрели. Я знала, как важна для нее была эта покупка. Мысль о том, что мое здоровье для нее гораздо важнее, не приходила мне в голову. Восемнадцатилетние девочки бывают настолько же стойкими, насколько и глупыми.
Два года спустя я заработала свои первые приличные деньги, купила пуховик и наконец-то перестала считать зиму наказанием за все мои совокупные грехи в предыдущих воплощениях.
Пару лет назад, выбирая матушке куртку, я вспомнила эту историю.
– Мам, – говорю, – а помнишь дубленку, которую мы с тобой купили?
– Конечно, помню, – спокойно отвечает маменька. – Терпеть ее не могла.
Я выронила из рук вешалку с чем-то итальянским за многотыщ.
– Что?! – хриплю. – Что ты сказала?
– Ужасная была дубленка, – качает головой маменька. – Цвет как у протухшей редьки. Но ты с такой радостью ее носила… Я не хотела тебя огорчать.
Иногда мне в голову приходят разные бессмысленные вопросы. Кто виноват, например. И что с этими виноватыми делать. Понятно, что никто и казнить, но кому-то же хочется сказать спасибо за две зимы, выстужавшие меня до костей, а свой идиотизм я уже отблагодарила со всей свойственной мне пылкостью.
Потом я смотрю на маму, которая до сих пор так и не научилась отличать поддельную кожу от настоящей, и думаю, что никому ничего не надо говорить. В конце концов, если бы не эта покупка, я бы так и не освоила принцип многослойности.
И хотя в жизни он больше никогда мне не пригодился, мысль о том, что я это умею, греет значительно лучше искусственной китайской дубленки.
Платье
Я купила платье – черное платье-рубашку на кнопках от горлышка до подола, сказочное платье, по которому среди алых мухоморов, земляники и черничных ягод в коконе зеленой листвы бегут длинноногие белые кролики.
На сайте магазина его рекламировала тонкая нежная девочка. Она принимала разные странные позы, но фасон можно было разглядеть. При такой расцветке я бы даже махнула рукой на фасон – пусть висит у меня в шкафу вместо картины. Но платья-рубашки обычно исключительно удобны, и я его купила.
Примерила.
Из зеркала на меня посмотрела развязная бабенка, выскочившая поутру в халате за огурцами и поллитрой.
Я охнула и застегнула верхнюю кнопку.
Стало ясно, что у меня нет шеи. И никогда не было. Всё иллюзия, упоительный самообман. Отсюда и алкоголизм, отсюда и мои безобразные загулы.
Расстегнула три кнопки.
Платье отхлынуло, и обнажилось плечо с синяком, который мне поставил собутыльник. Нет и не может быть другого объяснения, а лепет «стукнулась об дверь» просто смешон.
Расцветка осталась прежней. Но наполнение платья превратило изысканный волшебный лес, в который могла бы попасть Алиса, провалившаяся в нору за белым кроликом, в подмосковные вечера с привкусом настойки на мухоморах и крольчатины в сметане.
Конечно, буду носить. Не каждый раз вместе с платьем тебе продают увлекательную чужую судьбу.
Надо только купить голубые тени и перламутровую помаду, иначе я выгляжу провинциально.
К этому вашему так называемому
– …а жизнь, Леня, не имеет никакого отношения к этому вашему так называемому счастью.
Я резко останавливаюсь и ищу глазами, откуда это донеслось.
Вокруг парк. В глубине парка больница. В больнице лежит моя бабушка. Она не узнаёт меня, но помнит, что я существую. Поэтому иногда она спрашивает, когда вернется Алена. «Скоро, бабушка, – успокаиваю, – скоро». Спустя месяц начинаю ловить себя на том, что задаю этот вопрос уже сама себе, в рабочем, так сказать, порядке. Смотрю в зеркало, вижу там кого-то хоть и с неуловимо знакомыми чертами, но глобально – бесповоротно чужого, и спрашиваю его в тревоге: а когда вернется Алена?
И в точности как и бабушка, подозреваю, что в ответ мне врут.
– Покрути мне еще мозги напоследок, – язвительно советует в ответ тот, кого назвали Леней.
Два старика на соседней аллее.
Ее я знаю. Она лежит в бабушкиной палате. Из тех женщин, которые, завидев в дверях Смерть, вздергивают все свои три подбородка и очень убедительно просят: «Голубушка, будьте любезны, наденьте бахилы. Не люблю грязь». Тяжелая, грузная, всегда устремленная вперед – ледокол «Красин» в китайских тапочках.
Муж у нее сухой кузнечик, насмешливый и какой-то очень легкий. Не идет, а парит в десяти сантиметрах над землей, живенько передвигая ногами только для вида, чтобы не смущать окружающих. Ни в больнице, ни на аллее не оставляет за собой следов. Шапочка на нём ядовито-розовая в полоску. Отродясь не видела таких дурацких шапок.
– Было б что крутить! – фыркает старуха. Получается у нее смачно, со вкусом. Хочется предложить ей сена, теплое стойло и отскочить подальше, чтоб копытом не врезали.
А вот двигается еле-еле. Словно льды стиснули ее большое неповоротливое тело и не выпускают, и колют, как тореадоры упавшего быка, пиками айсбергов.
Но она несгибаемая старуха. Медсестер шпыняет, с врачами разговаривает свысока, будто делает им одолжение. Снисходит, в то время как остальные лебезят и заискивают. Больных и всякую родственную шелуху вроде меня начисто игнорирует.
– Всю жизнь через тебя терплю унижения, – театрально горюет старичок.
– Хуже, чем эта шапка, я тебя не унижу! – парирует она. – Лёня! Сними!
– Лида! Иди нахер, – не меняя интонации, предлагает он.
И оба вдруг начинают смеяться. Их смех похож на диковатое уханье и скрип. Так могли бы смеяться деревья или, допустим, энты перед решающей битвой с Мордором, когда уже ясно, что большинство поляжет в сражении.
Бабушка сидит на кровати и смотрит в никуда. Она постепенно оплывает, как воск в тепле; глаза по утрам у нее затягиваются корочкой, с каждым днем все более твердой, как будто она больше не хочет смотреть наружу, хочет лишь закрыться от нас, чужих пугающих людей, законопатить щели, окуклиться и замереть. Я бережно протираю ей лицо ватными дисками, дойти до туалета – целая проблема, каждый раз это мучительно тяжкий поход, сорок девять шагов по больничному линолеуму до заветной двери, а обратно почему-то пятьдесят три. Не знаю, отчего обратно дольше.
– Когда вернется Алена?
– Скоро, бабушка, скоро.
Шесть старух в моей палате, пропахшей содержимым подгузников, несвежим бельем, затхлыми ртами, лекарствами, раздражением замотанных медсестер. Я все чаще чувствую себя седьмой.
Однажды наступает самый отвратительный день. День, когда все идет даже хуже, чем обычно. Мы едва не падаем по дороге в туалет, медсестры орут на меня, бабушка плачет в испуге, я пытаюсь успокоить ее и нарываюсь на ярость. «Где Алена? Не трогайте меня!»
Я все-таки дотаскиваю ее до палаты. Сто кило против моих пятидесяти: бабушка выигрывает этот бой еще до сигнала рефери. Я стою, взмокшая, вцепившись в спинку панцирной кровати, тяжело дышу, и перед глазами у меня плавают красивые черные круги, густые, как масло.
– Сутулишься! – строго замечают сзади. – Держи спину прямо.
Я рефлекторно выпрямляюсь прежде, чем успеваю понять, что произошло. Оборачиваюсь.
Целых три секунды бабушка смотрит на меня прояснившимися глазами и осуждающе качает головой. Это ее любимое наставление, она вечно укоряла, что я не слежу за осанкой.
Если можно ошпарить счастьем, то со мной случается ожог девяноста процентов поверхности тела.
Я еще ничего не знаю о том, что у таких больных бывают просветления, после которых часто наступает ухудшение. Мне понятно лишь одно: бабушка вернулась. Горячая волна толкает изнутри, я натыкаюсь взглядом на выросший в дверях ледокол «Красин» с зубной щеткой в руке и пытаюсь объяснить ему, что происходит, потому что такую огромную радость невозможно держать в себе.
– Узнала! – горячо говорю я, стараясь не расплакаться. – Она меня узнала! Она поправится?
Старуха бросает взгляд на мою бабушку, привалившуюся к стене и снова глядящую перед собой бессмысленно и кротко. Потом смотрит на меня.
– Обязательно поправится, – очень ласково и с такой абсолютной верой, что меня оставляют последние сомнения, говорит она и кладет тяжелую влажную руку мне на плечо. – Все поправятся.
Именно сдержанная ирония больше прочих эмоций соответствовала бы сказанному, но в голосе этой властной жесткой старухи нет ни тени насмешки. Сила ее убежденности такова, что я верю во все сразу. Конечно же, все поправятся! Непонятно, как я вообще могла в этом сомневаться.
Я обнимаю сначала ее, потом бабушку, потом снова ее, я тычусь, как щенок, и она терпит, хотя вряд ли ей приятны мои объятия.
Этого заряда мне хватит на целый месяц. Даже несмотря на то, что неделю спустя старуха не выйдет утром в коридор, пропахший жидкой овсянкой.
Полагаю, ей удалось настоять на бахилах. Большой силы убеждения была женщина.
Ее муж станет тяжело шаркать ногами по больничному истерзанному линолеуму, мигом спустившись на землю – воздушный шарик, привязанный к корме ледокола «Красин», который затонул.
Но пока все живы, и мы стоим в дверях, а бабушка смотрит в окно, где как будто специально для нас отдернули шторы и стало видно небо, заботливо отретушированное богом: золотое по краям, синее над головой.
кто-то должен все время смотреть на свет повторяя упрямо что смерти нет потому что в действительности у тьмы нет другого оружия только мы (с) Ася АнистратенкоПисьма из деревни
Лето, жара, я брожу по колено в чепухе – легкой, как тополиной пух, и такой же привязчивой.
В магазине ко мне, берущей с полки баночку меда, обращается женщина – из тех, что с вечно озабоченными лицами. Думаю, они рождаются сразу с насупленными бровями и печатью беспокойства на челе: где грудь? выдадут ли мать по требованию или будет безжалостный режим? отчего пуповину до сих пор не перерезали? поторопитесь, товарищи, тут ребенок проголодался!
– Что, мед вкусный? – спрашивает женщина.
Нет, говорю. Невкусный.
Это правда. Мед бездарный, но хороший дома закончился, а авторитетные люди с дипломом и регалиями настоятельно рекомендовали мне выпивать на ночь чашку горячего молока с медом и содой.
– Зачем же вы его берете? – недоверчиво спрашивает женщина.
А другого нет, говорю.
Женщина начинает тревожиться. Что-то здесь не то! Не берут люди просто так невкусный мед! Не платят за него двести одиннадцать рублей прописью!
И решившись, снимает с полки банку этого дурацкого меда, при изготовлении которого ни одна пчела не привлекалась, не состояла, не участвовала. «Как же! – написано на ее лице. – Невкусный! Ври больше».
И ведь можно даже ее переубедить. Но я так думаю, двести одиннадцать рублей – не слишком высокая плата за чувство превосходства над окружающими, которые пытаются обмануть, ввести в заблуждение и вообще всячески сберечь ценный мед для себя одной.
Продуктовый наш – удивительный магазин. Где еще купишь пять минут торжества за такую цену.
* * *
Дни в деревне стоят прозрачные, исхудавшие, до скрипа отмытые дождями. И заполненные бездельем, лишенным привкуса вины.
Крыша наконец-то залатана. Новый забор держится уверенно, словно он вырос тут, состарился и даже обзавелся потомством.
Кстати о потомстве: соседские дети внезапно выше меня и зовут «тетя Алена».
– А ведь я помню их еще мелкими отморозками, – растроганно говорю папе.
Как выяснилось позже, папа почему-то решил, что речь идет о наших собаках.
– Да, – говорит, – весь угол нам в кухне загадили.
Я изумилась. Оказывается, самые загадочные подробности взаимоотношений наших двух семейств прошли мимо меня.
Еще некоторое время мы с отцом вели полный абсурда диалог, пока недоразумение не разъяснилось. Поймала себя на том, что чувствую разочарование. До чего драматичный эпизод мог бы быть с кухней!
Матушка варит в тазу варенье из тыквы и апельсинов, содержимое таза сияет золотом Монтесумы, наполненные банки превращаются в волшебные фонари, от которых стол расцвечен янтарными пятнами. «Тыква-2016», – подписывает мама. Как будто проводит конкурс красоты. Прошедшие первый тур отправляются в белоснежный рай холодильника, остальные толпятся на столе, волнуются, нервно подрагивают крышками.
– Хочется, – говорю папе, – как-то утешить их. Погладить по теплым плечикам, сказать, что все будет нормально, проигравших не останется, все победят…
– …и всех сожрут, – заканчивает папа. – Кроме тех, кто испортится.
Совершенно невозможно сочинять с ним сказки: каждый раз получается какая-то бессовестно правдивая жизнь.
Бледное неуверенное небо к вечеру дозревает, наливается полосатой краснотой мельбы. Сад пахнет яблоками, дом пахнет яблоками, кот пахнет яблоками и смотрит с крыши сарая желтыми яблочными глазами.
Папа задумал сделать яблочные чипсы, но что-то у него пошло не так и вместо чипсов получились две сковородки качественных углей. Дом пахнет углями, сад пахнет углями, угольно-черный кот смотрит из кресла и пренебрежительно морщит нос.
– Ты читала рассказ «Жизнь с идиотом»? – спрашивает папа у мамы в рамках поддержания светской беседы, пока оба заняты отмыванием сковородок.
Матушка поднимает голову и молча смотрит на него.
– Понимаю, – горестно соглашается папа. – Ты могла бы его написать.
Вечером выходим за околицу. Над горизонтом с фигурно вырезанными в нём макушками елей разгорается самая преждевременная в мире звезда – Венера, которая вовсе никакая и не звезда, а планета, но какая разница, когда следом за ней радостно высыпает прочая звездная мелочь, как детсадовцы за воспитательницей. Внизу по дороге беззвучно мчатся две собаки, белая и черная, растворяются в сумерках, точно короткие сны. Настроение у всех молчаливо-лирическое – до тех пор, пока из-за баррикад ивовых зарослей не заводят свою революционную песнь комары.
– Сейчас прольется чья-то кровь, – говорит папа.
Обратный путь проделываем с неприличной поспешностью, притворяясь, что это не побег, а заранее спланированная передислокация.
Но когда мы подходим к дому, оказывается, что вечер, как соседские дети, внезапно вырос во взрослую ночь. Стоит, сутулясь, сунув руки в карманы окон и дрожа на ветру всеми своими звездами, облаками, сверчками и яблоками, отсыревшим сеном и камышовыми зарослями, рыбаками на далёкой Оке и чужой безмолвной рыбой, смотрящей на них то ли сверху, то ли снизу, отсюда и не разберешь.
Рыбак бросает окурок в воду. Рыба ухмыляется, бьет хвостом и уходит в глубину.
– Сидр! – говорит папа. – Завтра сварим сидр.
– А еще у Чехова есть такой рассказ – «Безнадежный», – говорит мама.
* * *
Дни в деревне медовыми сотами заполняют июнь: одинаковые, ровные, залитые тягучим зноем. В палисаднике матушка поливает цветы, укоризненно напевая:
– Ромашки спрятались… Поникли лютики…
Словно мягко отчитывает детей из ясельной группы.
Веретено можжевельника окутано белоснежной паутиной такой красоты и тонкости плетения, словно до нашей богом забытой деревушки добрался редкий вид паука – оренбургский.
– Не могу его прогнать, – говорит матушка извиняющимся тоном. – Мне кажется, это он для меня сплел.
Восхитительный и трогательный эгоцентризм. С интересом жду, будет ли он распространяться на кротов и огневку.
* * *
В гости заглянул с инспекцией дальний сосед. В нашей деревне «дальний» означает, что нас разделяет десять домов. А сосед – да потому что тут все соседи, куда друг от друга денешься. Побеседовал со мной о политике, жаре (вы заметили, сэры, какие стоят погоды? предсказанные!) и раскуроченной ремонтниками трассе на Нижний.
– А все-таки хорошо тут у нас, – говорит мечтательно. – Тихо…
В этот момент на крыше бани грохнули литаврами молотков строители.
– …спокойно, – слегка озадаченно продолжил сосед.
С чердака бомбами обрушились дети, акустической волной взрывая остатки безмятежности.
– Настоящая, простая жизнь, – с тревогой закончил сосед, повысив голос.
Из палисадника вышла матушкина собака Дульсинея в трусах и бюстгальтере.
Трусы – потому что течка. Бюстгальтер – потому что дети – глумливые балбесы. Сосед крякнул и, очевидно, убоявшись прогрессии, торопливо распрощался.
Синее полотнище неба расцарапано до белой изнанки. Облачный пух торчит сквозь прорехи. Похоже, где-то ходит гигантский летний кот и точит когти.
Столько лета вокруг, что его трудно унести одной.
* * *
Жарко, душно, и кот вытягивается в проходе, где сквозняки. Ветер зарывается теплой пятерней в его шерсть, треплет за хвост. Вдоволь належавшись, кот потягивается и бредет в кухню. На полу остается пушистый золотой клочок. Сквозняки тут же радостно принимаются швырять его друг другу по паркету.
Подарок, думаю я, лениво наблюдая за клочком, скользящим то на восток, то на юго-запад. Как мило со стороны кота оставить в знак признательности эту рыжую чепуховину.
Хотя, если судить по количеству шерсти, больше всего благодарности от него заслужили мои зимние брюки, и я бы предпочла, чтобы они так больше не делали.
* * *
Матушка звонит из деревни, жалуется на комаров, слепней и папу. Комары поют, слепни кусаются, а папа виноват в том, что Интернет посещает наш дом крайне редко и только в солнечные безветренные дни.
Надо сказать, папа здесь совершенно ни при чем. Деревня расположена в таком месте, что даже покрытие сотовых вышек у нас шахматное, через каждые пять метров: тут берет, тут не берет. А уж бесперебойно работающий Интернет и вовсе недостижим.
– Вот я и сказала! – трагически восклицает матушка. – Пусть придумывает что хочет, но чтобы Интернет в доме был! И знаешь что он сделал?
– Что? – спрашиваю, теряясь в догадках. Потому что хоть ты тресни, но ни у кого в деревне нет нормальной Сети.
– Бубен, – горько отвечает матушка. – Твой отец сделал бубен. Говорит, будет камлать на хорошую погоду.
* * *
Вернулась из деревни в город. Выползла на улицу посреди дня. Ни за что бы не стала, я вообще не создана для героизма, преодолений и поднятия тяжестей, но дома закончилась овсянка. Пришлось идти.
Испитые тени домов. Побуревшие остовы машин. Голубь, чиркнувший краем крыла о мусорный бак, вспыхивает на лету. На сковородках канализационных люков равномерно поджариваются коты. Декорации для постапокалиптического романа предоставлены «Летом Инкорпорейтед».
У входа в продуктовый стоит длинноволосая девушка. Сверху шорты, снизу кеды, между ними растут до того потрясающие ноги, что я забываю об овсянке.
Господи, думаю, вот бываешь же ты иногда в ударе. Например, когда создаешь подобные формы.
Безупречные ноги. Невозможные. Если б у Елены Прекрасной хоть одна нога была такой красоты, вся эта заварушка никогда бы не кончилась миром.
Отчего-то именно в такие секунды остро и на удивление непротиворечиво осознаешь, что, во-первых, все существование твое бессмысленно, а во-вторых, есть, есть в жизни высший смысл. И даже успеваешь затеять торг с господом: боже, давай ты мне – такие ноги, а я тебе, допустим…
Тут девушка поворачивается и хриплым баском спрашивает:
– У вас закурить не найдется?
И смотрят на тебя с ее небритой физиономии слегка припухшие глаза.
Нет, боже, давай иначе. Дай мне, пожалуйста, любопытства, чтобы замечать красивых девушек, наблюдательности, чтобы описывать длинноволосых юношей, и немножко разума, чтобы отличать первых от вторых.
Роза
У мамы на участке все лето цветут розы. Зашла по делам соседка с дальнего конца деревни, увидела, попросила черенок.
Было это в июне.
– У Катерины роза моя расцвела, – говорит матушка на днях. – Хочешь посмотреть?
Мы идем вдвоем по деревне, и мама восхищается соседкой. Я не знаю, сложно ли вырастить розу за один сезон от черенка до бутона, но по маминым словам получается, что та заботилась о цветке как о ребенке. Подкармливала, укореняла, укрывала от заморозков.
Надо знать Катерину. Женщина она тихая, кроткая и безалаберная. В доме у нее свинарник. Участок порос хвощом, в палисаднике воюют полынь и крапива. Грязь там, уныние и беспорядок.
– Подумать только, как может воздействовать на людей красота, – говорит по дороге матушка, устремляя растроганный и благодарный взгляд в небеса. – Вспомни маленького принца из Сент-Экзюпери…
– Мама, – говорю, – какой еще, в задницу, принц. Катерина – тихая пьянчужка, да и врушка к тому же. Розу она наверняка купила на базаре в Палово, высадила у себя, а всем рассказала, что прорастила твой черенок.
– Нет-нет, красота действительно меняет людей, даже если это лишь красота цветка… – возражает матушка.
– Или, – говорю, – не в Павлово. Стырила где-нибудь.
– Что за глупости… – говорит матушка.
И обе мы замолкаем.
Потому что в Катеринином палисаднике, где ни следа не осталось от крапивы, издалека видим розу.
Высокий прямой стебель, увенчанный одним-единственным алым цветком того оттенка, какой, должно быть, выбрал Грэй для своих парусов. Это, несомненно, роза от маминого куста, но необычайно крупная и яркая. Розы в нашем саду чудесны. Но в этой, вокруг которой уныние, сорняки и бардак, больше чем красота, – в ней чудо.
– С ума сойти, – говорит матушка.
Мимо бредет местный пчеловод и тоже останавливается перед забором поглазеть на цветок.
Спустя миг из дома появляется Катерина.
– Ты чего тут? – громко спрашивает она. – Хрен ли ты ходишь? Иди себе!
Я второй раз замираю в изумлении. Никогда не слышала у Катерины ни такого тона, ни такого голоса.
– Да я это… – говорит пчеловод. – Ты чего, Кать?
Она выпрямляется во весь свой небольшой рост – впереди враг, за спиной роза – и разражается бранью. Из которой ясно, что ни один подлец не может пройти мимо ее дома, чтобы не покуситься на цветок. Одни завидуют; другие хотят себе такой же; третьи мерзавцы, которым лишь бы испаскудить чужую радость.
– Знаю я, чего тебе надо! – визжит Катерина.
И наступает на пчеловода, выкрикивая ругательства, – взвинченная, злобная, остервеневшая, защищающая свою волшебную розу от ублюдков, живущих в нашей деревне. Где тихая пьянчужка, от которой я за двадцать лет не слышала ни одного грубого слова? Она солдат, вокруг которого война; она последний хранитель прекрасного в окружении варваров.
Пчеловод бежит.
Роза цветет.
Катерина уходит в дом и снова, могу поручиться, занимает свой наблюдательный пост.
– Красота, – на обратном пути нравоучительно говорю я маме, – преображает людей.
Мама молчит.
– Ты только, – говорю, – больше не давай никому свои розы.
Мама молчит.
– А то здесь все, – говорю, – поубивают друг друга.
– Как будто это что-то плохое, – бормочет матушка, научившаяся от меня старым мемам.
Вася
Пару лет назад на окраине деревни горела изба Симаковых. И сгорела. Полыхало так, что из пяти ближних домов еле-еле отлили три, а два так и остались калеками: один лишился пристроя с кухней, второй пугал обуглившимся дочерна фасадом.
Стали собирать всем миром для погорельцев. Понятно, что страховки нет, а занялось, потому что выпивали в честь отсутствия праздника. У Симаковых всегда гуляли на совесть: тяжеловесно, с мучительным надрывом, без этого вашего пошлого веселья. То ноги друг другу переломают, то Шарика дворового прирежут с пьяных глаз, то беременную бабу пихнут неудачно. Или удачно – это уж как посмотреть. В принципе, дед Симаков всегда говорил, что хватит с него этих выродков.
Народ, конечно, пошумел, потому что зять Симакова, как выяснилось, баловался с паяльником, оттого и загорелось. И нет бы для дела использовал – пытал там кого-нибудь или просто кошку мучил. А то по дурости, солдатикам игрушечным головы поотшибал, поменял местами и пытался заново припаять. В процессе уснул, естественно. Кое-кто бормотал, что лучше бы он себе голову отшиб. Но сбора средств это все равно не отменяло.
Ну, деньги собрали, Симаковы отстроились.
И, в общем, черт бы с ними.
Сегодня с матушкой обедаем – стук в калитку. Выхожу. Бродяга: тощий, обгоревший. В наколках, ясное дело. Лицо – как старая скомканная газета: если приглядываться, можно много любопытного прочитать о прошлых временах. Как его занесло-то в нашу глухомань!
«Хозяюшка, рабочие руки не нужны? У тебя вон на бане, смотрю, мужики трудятся. Я б посодействовал».
А там всей работы с той крышей – двоим на три дня. Если очень постараться, то на неделю.
Нет, говорю. Спасибо, работников хватает. Но по мелочи помочь можете. Есть борщ, хлеб и сладкий чай, они по такой жаре завтра испортятся, их съесть бы надо, а сами не справляемся.
Во двор он не пошел, хотя звали. Сел на спиленной березе у забора, съел тарелку супа, хотя съел – не совсем точное слово для процесса уничтожения борща за полторы секунды. Ликвидировал. То же самое со второй порцией, чаем и бутербродами.
Поблагодарил, спросил дорогу на Павлово и ушел.
Через пятнадцать минут – снова стук в калитку. Выхожу.
А там делегация. Лучшие люди деревни. Дед Симаков. Зять его. А также землевладелец Вязин и два безымянных товарища, у которых на лицах написано, что они здесь самые ответственные за чужую безответственность.
О чем мне и заявляют.
Разведка, говорят, доложила, Ален Иванна, что вы привечаете бомжей. Так вот: вы здесь человек пришлый. Каких-то тридцать пять лет живете. Правил наших не выучили. А правила наши таковы, что всякую шваль прикармливать не надо, если только не в целях последующего истребления. Всякая шваль – мы по себе знаем! – к местам кормления очень привязчива, и хрен вы ее потом прогоните. Вы, Ален Иванна, невзирая на худобу, все-таки женщина, и женским вашим слабым умом соображаете чуть дальше вышивки крестиком. Поэтому запишите себе на канве: больше так делать не надо. Иначе будут последствия.
Я молчу. Снаружи. А внутри усиленно занимаюсь тем, что топлю в сиропе кротости и смирения внутреннего Халка. Потому что я-то уеду, а матушке потом заново растить цветы взаимопонимания на грядке, удобренной соседскими кишками и кровью.
И тут из-за спиленной березы поднимается спящий там до этого Вася.
Вася – фигура эпического размаха. Местная легенда. Старше меня всего лет на восемь, но выглядит как вечный энт: огромный, седой, с руками-ветками и вороньим гнездом на голове. Слово «бухает» и близко не отражает той глубины отношений, которая сложилась между Васей и водкой.
Вася был задуман Создателем для разрушения крепостей и уравнивания городов с рельефом местности, но где-то в небесной канцелярии что-то напортачили, и он родился в поволжской деревушке. Где занимается тем же самым, но в совершенно не удовлетворяющих его душу масштабах.
Еще до всех этих наших интернетов с котиками у Васи была любимая угроза: «Ты у меня щас разродишься котятами». И пару раз при виде драки с его участием я была близка к мысли, что уже пора нести щипцы, зажимы и что там еще используют акушеры.
Вася страшный, нелепый, бестолковый, пьющий и трогательный.
А еще он до смешного привязан к нашей семье.
– От вы сучары! – приветственно начинает Вася.
И затем толкает речь. Она начинается с буквы «ё», заканчивается буквой «хэ», между ними поместились сто сорок семь букв неизвестного науке, но интуитивно понятного любому колхознику алфавита. Квинтэссенция Васиного обращения сводится к предложению всем незаинтересованным лицам очистить помещение, город, область, мир от своего бренного существования, пока он сам не начал способствовать. Иначе тут все захлебнутся в котятах.
Лучшие люди деревни утекают прочь, напутствуемые пожеланиями, от дословной передачи которых запылал бы «Фейсбук». Через две минуты только пыль покорно оседает, со страхом косясь на Васю: типа, можно я тут побуду, нет? я тихонечко.
Вася садится на траву.
– Чо смурная какая? – благодушно спрашивает он.
Будто не орал только что так, что наличники потрескались.
Тошно мне, говорю, Вась. Тридцать с гаком лет, как мы тут живем, а ничего не меняется. И рыла все те же, и говорят всё то же.
– Ты посмотри на это дело с другой стороны, – предлагает Вася. – И тридцать лет назад я б этих гнид уделал. И сейчас я их уделываю. На голодный желудок, между прочим! Сообразила, к чему это я?
– Сообразила, – говорю. – Пойдем, борща тебе налью, матушка только утром сварила.
– Я к тому, – говорит Вася, с жалостью глядя на меня, – что если где-то не меняется что-то плохое, то там же не меняется и что-то хорошее.
Сплюнул во вздрогнувшую от ужаса траву, помахал мне лапой и пошел.
Ужик
Вася завел себе ужа. Назвал Васькой. Я не очень удивилась: последние три его кошки были Васятки.
Ужик худенький и простодушный. У него внимательные глазки, растрескавшаяся, как сухая земля, макушка и чернильные дырочки ноздрей.
По вечерам оба Василия выползают наружу, один из дома, другой из-под крыльца, и встречаются возле скамейки.
– Образовываю я его, – флегматично говорит Вася. – Объясняю ему, как у нас тут все устроено.
– А почему не кошкам?
– Кошки что, – отмахивается Вася, – кошки дуры. Перебивают только.
Ужик лежит у него на коленях, острым подбородком уткнувшись в Васину ладонь.
– Про реку вот ему рассказывал. – Вася почесывает ужу загривок. – Про труп врага. Ну, который мимо плывет. Пока не проплыл, из реки пить можно было. А проплыл – и все, хана. Испортил водопой, гнида, лучше б не подыхал, от живого вреда меньше. А чего смеешься-то? Чего смеешься! Не, ну ты хуже кошки.
Ужик молча крутит головой. Возле скамейки толпятся старые седые одуванчики. Ветер шевелит желтую стружку березовых листьев.
– Я его яйцом кормлю, – говорит Вася. – Яйцо он уважает. Как думаешь, он зиму переживет?
– Переживет, – говорю. – Заныкается под домом и проспит до весны.
– Вот и мне бы, – говорит Вася, – заныкаться и до весны.
С веток боярышника воробьи стреляют ягоды, как мальчишки сигареты у прохожих – с опаской и восхищением от собственной дерзости. Над соседской баней шерстяной столб дыма, такой густой, что из него можно прясть кудель.
– Что-то ты редко приезжаешь, – говорит Вася. – С кем мне про Ваську разговаривать?
– Да здесь полно народу, – говорю. – Найдешь, кому про ужа рассказать.
– Сказать-то есть кому, – говорит Вася. – Сказать всегда есть кому. Поделиться не с кем.
Сливы
– Вася! – говорю я. – Где секатор?
Накануне мы сражались с терновником. Куст этот озверевший прет на Васин огород. У куста щупальца, как у Ктулху, у него в подбрюшье сухие кишки крепко сросшихся веток. По ночам из его зарослей раздается странный хруст, вызывающий в воображении неприятный образ сработавшей мышеловки. Птица падает замертво, пролетая над ним, и ни костей потом не найти, ни перьев.
А мы были воины света. Поющие в терновнике – вот кто были мы с Василием и орали боевую песню «Мы лед под ногами майора».
Но нынче второй день битвы. А секатора с ручками, обмотанными изолентой, нигде нет.
– Вася! – говорю я. – Где секатор?
– За погребицей посмотри, – пыхтит Вася, оттаскивая в сторону кучу веток.
Я иду за погребицу и там, на широком березовом кругляше, который иногда служит обеденным столом, вижу секатор с изолентовыми ручками, а рядом с ним два желтых, цвета воска, человеческих пальца.
Некоторое время я просто стою и смотрю на них.
А затем с шелестом веера картина произошедшего раскрывается в моей голове. Я вспоминаю, что вчера на пути от Васиного дома мне встретился Николай, а если заходил Николай, они, естественно, выпили, и в процессе совместного употребления, очевидно, случилось что-то, что позволило Васе потом беспрепятственно отрезать у гостя два пальца секатором. Очевидно также, что Василий о вчерашнем ничего не помнит, иначе вряд ли таскал бы сейчас ветки терновника вместо того, чтоб забрасывать собутыльника землёй или каким-то иным образом реагировать на случившееся (скажем, деятельным раскаянием).
Еще в моей голове всплывают экзаменационный билет о совокупности триста шестнадцатой и сто пятой статей Уголовного кодекса, а также разнообразные вопросы, которые я предпочла бы никогда не задавать ни себе, ни кому-либо другому.
Размышляя обо всем этом, я делаю два шага к березовому кругляшу и внезапно осознаю, что это не пальцы. Это две усохшие сливы.
Возле терновника Вася уже ждет, примеряясь к веткам.
– Ну, – говорит, – взялись! Над чем задумалась?
Не объяснять же человеку, что за последние три минуты я помогла ему избавиться от трупа, была задержана, меня судили, впаяли двушечку и выпустили по УДО через десять месяцев. И что Николай-то, оказывается, жив, а не лежит в погребе, отражаясь в банках с огурцами или, допустим, вишневым компотом.
– Да ничего, – говорю. – Профдеформация. Потом как-нибудь расскажу.
– Ты про сливы, которые типа обрубышей? – ухмыляется Вася. – Знал, что тебе понравится!
Веер со щелчком захлопывается.
То есть вот взрослый человек. Взрослый человек нашел сморщенные желтые сливы. И обдуманно разложил их рядом с секатором, отдавая себе полный отчет в том, как это будет выглядеть. Я бы даже сказала, целенаправленно разложил. И пока я пыталась сообразить, в огурцах отражается усопший или в вишневом компоте, тихо радовался своей затее.
– Знаешь что, – говорю, слегка придя в себя. – Знаешь что! А свались я там с сердечным приступом? Сидел бы ты сейчас над моим трупом, рыдая и запоздало раскаиваясь.
– Я бы? Сидел? – удивляется Вася. – Христос с тобой, голубка. Я бы тебя в погреб спустил, к огурчикам.
* * *
– Вась, – говорю, покусывая травинку, – я про тебя в стенгазету напишу.
– Валяй, – флегматично соглашается Вася.
– Пороки твои бичевать буду, – говорю.
– Эт' какие? – интересуется Вася.
– Алкоголизм, – говорю. – И неуемную страсть к разрушению чужой собственности.
Сидим мы с ним, кстати говоря, на обломках нашего забора.
Вася с механистичностью башенного крана поворачивает ко мне косматую свою башку. Некоторое время без выражения смотрит на меня.
Я демонстративно сплевываю травинку на землю. С таким видом красный комиссар рвал рубаху: давай, стреляй в комсомольскую грудь!
Вася молчит долго, очень долго. Щурится, потягивается с хрустом. Я уже начинаю думать, что дерзость моя сошла мне с рук.
– Книжку читал, – роняет Вася без видимой связи с предыдущим. – Там про одного деятеля понравилось. – Он прищуривается. – «Был туповат и поэтому бесстрашен».
Хм. После тридцати лет общения стоило бы запомнить, что Василий, вообще-то, та еще язва.
– Причем, – говорю мрачно, – наверняка это была эпитафия.
Вася от души смеется.
– Пиши про меня, – говорит, – куда хочешь. Только чтобы с фотографией.
– Еще не хватало, – говорю. – Набегут желающие комиссарского тела. Не успеешь мяукнуть, как уже женат.
– Да не с моей фотографией-то, – ласково, как дурочке, поясняет Вася. – Забора!
Сентенция
У моего друга и соратника по деревенской жизни Василия однажды завелась любимая сентенция. «Если ничего не видно, это не значит, что ничего нет».
Период Васиной любви к нравоучительным фразам совпал с моим подростковым возрастом. Я воинственно отрицала мудрость, накопленную предками. «Банан велик, – язвительно говорила я Васе, – а кожура еще больше». Намекая на то, что не надо фальшивых глубин и ложных глубокомысленностей.
Но что Васе до сарказма городской малолетки, когда он нашел универсальный принцип всего!
Вот мы идем купаться, по дороге нам встречается непроглядная лужа, я снимаю сандалии и пытаюсь перейти ее вброд. Распарываю пятку осколком бутылки. «Если ничего не видно, это не значит, что ничего нет, – хмуро говорит Василий, обматывая мою кровоточащую ногу своей футболкой. – Сложно было обойти?»
Поход за грибами в Васиной компании – это череда ударов по самолюбию. Я исходила поляну вдоль и поперек, получив в награду за усердие два маслёнка. Но появляется Василий и за две минуты набирает дюжину выставочных боровиков. «Если ничего не видно, это не значит, что ничего нет», – снисходит он до объяснения, жалостливо глядя в мою корзину.
И так далее, и так далее. На каждом шагу. При каждом удобном случае. Вскоре мне стало казаться, что вся жизнь состоит из удобных случаев для демонстрации Васиной псевдомудрости.
Тем летом к нам приехала погостить дальняя родственница – женщина, в которой требовательность к окружающему миру приобрела гипертрофированные размеры после получения звания «Заслуженный учитель». Наш бестолковый деревенский быт вызвал ее справедливое презрение. Но больше всего родственницу возмутило попустительство родителей моей дружбе с деревенским охламоном.
Она пыталась разъяснить им неприемлемость подобных контактов, но столкнулась с поразительным легкомыслием. Мама с папой симпатизировали Васе, а мой круг общения и вовсе никогда не ограничивали. Тогда родственница зашла с другой стороны. И надо отдать ей должное – это было сделано виртуозно.
Василий заглянул к нам, уже не помню по какому поводу. Родственница завела с ним непринужденный разговор, и никто из нас не заметил, в какой момент светская беседа образованной дамы с вахлаком перешла в инспектирование его знаний.
«Заслуженного учителя» родственнице дали не зря. Она била прицельно, и каждый удар рушил стену, за которой пряталось чудовищное Васино невежество. География. Биология. Физика. Математика. С каждым его ответом на ее лице все явственнее проступало сострадание. «Несчастный юноша!» Василий потел и корчился, но уползти из-под обстрела был не в силах. Родственница вскрыла его, как устрицу, и выставила на всеобщее обозрение: ешьте теперь, если не побрезгуете.
– Приятно было побеседовать, – великодушно сказала она напоследок. – Вы крайне интересный экземпляр! Такая первобытная нетронутость – просто удивительно!
И ушла, посмеиваясь.
Тут-то и настал мой выход. Пока мама молча разливала чай, я погладила Васю по голове и сочувственно сказала:
– Если ничего не видно, это не значит, что ничего нет.
Имея в виду содержимое Васиной башки.
В другое время Василий съел бы меня с сандаликами. Но момент был выбран стратегически безупречно: мой друг был настолько унижен и раздавлен, что на сопротивление у него не осталось сил.
Мама с папой обернулись ко мне. Лишь много лет спустя я догадалась, что они оба были поражены не меньше, чем Вася, и не меньше, чем он, стыдились – потому что не смогли, не сообразили остановить это избиение.
По их лицам я вдруг поняла, что сейчас услышу что-то ужасное. Мне стало не то чтобы страшно. Но если бы в тот момент кто-то предложил мне маховик времени, чтобы открутить обратно последние десять секунд, я бы, пожалуй, отдала бы за него пару месяцев лета.
– Васина футболка, наверное, высохла, – очень спокойно сказала мама. – Принеси, пожалуйста. Она возле бани.
И всё? Я умчалась, неуверенно радуясь, что меня никто и не собирался наказывать за дерзость.
Футболка действительно высохла. Никаких следов крови (а распоротая стеклом пятка кровоточила прилично) не осталось. Я свернула ее и побрела обратно.
На подходе к дому мне внезапно стало так тошно, что пришлось сесть, и некоторое время я провела под кустами малины, глядя, как по моим ногам карабкаются крошечные малинниковые муравьи.
Мне было двенадцать лет, и я впервые ощутила, на какой тонкой грани балансируют насмешники со своим бесчувственным острословием, со своей способностью вслушиваться только в себя. Вася был взрослым и неуязвимым. Мне казалось, об него можно обтачивать ехидство до бесконечности.
Еще через пять минут в компании муравьев я поняла, что у моих родителей было что мне сказать. Но все, что они себе позволили, – это напомнить мне о событиях трехдневной давности.
Еще через десять минут из дома вышел Василий.
– Ну? – говорит. – Чего расселась?
– Ягоды искала, – говорю. – А их уже нет.
– Не выдумывай, – говорит Василий. – Это ремонтантная малина, она у вас до сентября плодоносить будет. Хоть что-то я знаю, да?
Это был первый и последний раз, когда Вася позволил себе напомнить разговор с нашей родственницей.
С тех прошло довольно много лет, и я даже повторяю про себя иногда, что если ничего не видно, это не значит, что ничего нет. Фраза, конечно, менее дурацкой не стала. Зато я от повторений определенно стала менее дурацкой, хотя Вася, наверное, со мной и не согласился бы.
Дачники
Год назад приехали в нашу деревню люди. Купили развалюху покойной бабы Гали. Развалюху снесли, на ее месте возвели двухэтажную бревенчатую избу с резным крыльцом и верандой. Собирались жить в ней сами, но передумали, и дом был выставлен на продажу.
За восемь миллионов.
Тут надо понимать: деревня наша расположена в живописных глухих местах. Вокруг леса, кишащие зверьем: клещами, лосиными мухами и комарами. Кто скажет, что комар – не зверье, тот не гулял в наших дубравах июньским вечером.
Ближнюю рощу облюбовали кабаны, а ближняя роща начинается в пятистах метрах за околицей; матушка моя, выйдя однажды прогуляться, вернулась на удивление быстро и сильно побледневшая. Позже встретившееся ей стадо застрелили охотники.
В двух километрах от деревни течет Ока: широченная, красивущая. Каждая фотография – как открытка для рекламного проспекта. Берег дрянной, грязный, можно и на стекло напороться, и на ржавый гвоздь. Течение страшное – детям купаться нельзя, да и взрослым надо бы с осторожностью.
Продукты привозим свои. Можно, конечно, и в магазин сходить в те редкие дни, когда он работает. Там есть замороженный минтай, водка и два вида сушек, которыми побрезговала бы и крыса. Еще тетрадки, карамельки и искусственный цветок «гвоздика пластиковая» – если вдруг на первое сентября приблудится к нам одичавший учитель.
Что еще? Кладбище есть, в сыром лесу.
Церкви нет, конечно.
Зимой деревня вымирает. Три вечных старухи, два полумертвых алкоголика да друг моего детства Василий, которого боятся и вечные старухи, и полумертвые алкоголики.
Теперь вы понимаете, отчего, услышав о восьми миллионах, местные начали смеяться? Приличный дом с большим участком у нас можно купить за полтора.
Стоим с тетей Машей и соседом, обсуждаем расценки на картофель и небывалый урожай терновника. Мимо идет семейная пара дачников, обосновавшаяся в деревне пару лет назад. И остановившись, чтобы поздороваться, немедленно заговаривает о том, что обсуждают все, – о немыслимой цене на новый дом.
– Хи-хи! Восемь миллионов! – говорит супруга. – Это в нашей-то дыре!
– Да сюда бесплатно-то не каждый поедет! – вторит ей супруг. – Мы сами здесь землю купили только потому, что у меня сестра в Гороховце.
Тетя Маша меняется в лице.
– Ну и дураки, что только поэтому! Да у нас здесь воздух знаете какой? Его вдохнешь утром – и выдыхать не хочется! А леса, леса-то какие!
– С кабанами… – вякаю я.
– С кабанами, зайцами, лисами, селезнями! – воодушевленно подхватывает тетя Маша. – А соловьи по весне поют – целыми ночами ведь выводят, поганцы! поубивала бы! но как же славно, аж душа заходится!
Оробевшие дачники молчат.
– А рыбалка… – мечтательно говорит сосед. – Ведром черпнешь у берега, вынимаешь, а оно с раками.
– А озера! На наше Свято-озеро за сто километров люди ездят!
– И детишкам тут хорошо. Продукты свои, натуральные!
– Да всем хорошо! Земля родит, в лесу грибы каждый год ковром!
– Тыщу лет ищи, не найдешь такого места! Да, Алена Ивановна?
Под взглядами соседа и тети Маши становится ясно, что молчать нельзя, а говорить надо очень обдуманно. Особенно с учетом того факта, что у Маши наша семья покупает яйца и козье молоко.
Некоторое время я пытаюсь сообразить, что еще хорошего есть в нашей деревне. Как назло, кроме медведки устрашающих размеров, в голову ничего не приходит. «А медведка у нас какая… Соловьев жрет!»
Пауза затягивается. Тетя Маша и сосед мрачнеют.
– Героям еще памятник стоит, – мямлю я, чтобы сказать хоть что-нибудь. – За победу. В Великой Отечественной войне.
Все, думаю, конец молоку. Придется возить из Павлово.
– Вот именно! – удовлетворенно говорит тетя Маша и похлопывает меня по плечу. – Это значит, люди-то у нас какие? Героические!
– Землю родную отстояли, – твердо говорит сосед.
– Соловьев, – слабо говорю я.
Потрясенные дачники пылко кивают.
– Да если хотите знать, – горячо говорит тетя Маша, – восемь миллионов – это ж тьфу! Ну купили бы люди в Горьком квартиру на эти деньги. Разве свой дом не лучше?
И дачники, пять минут назад высмеивавшие нашу деревеньку, от всей души соглашаются, что лучше, несомненно, лучше.
– Надо Зелениным рассказать, – говорят друг другу. – Они как раз искали.
Думаю я, что в итоге мои дорогие односельчане так и продадут эту избенку. Поторгуются, скинут немного – и продадут.
Потому что вы же понимаете: над домом за восемь миллионов можно смеяться от силы пару месяцев. А над теми, кто его купит, – всю жизнь.
Кролики
Однажды, давно, дедушка сколотил восемь клеток и объявил, что мы станем разводить кролей.
– А забивать их кто будет? – сразу же спросила я.
Дедушка высокомерно ответил, что уж кролика-то он как-нибудь убьет. У меня были кое-какие сомнения на этот счет, особенно учитывая, что за пару недель до этого к нам в огород забрел бесхозный цыпленок – худой, с оранжевыми, как морковка, ножками, впалыми щечками и сонными глазами. Дед объявил, что цыпленка мы пустим на куриный суп. Мой младший брат немедленно зарыдал.
Дед ушел, чтобы свернуть птице голову в укромном месте. Минут через десять он вернулся несколько растерянный. На ладони у него сидел живой цыпленок и благосклонно поглядывал на дедушку, точно приговоренный к съедению туземцами миссионер, которому удалось обратить грешника в свою веру.
До вечера куриное дитя бродило по нашему саду, а перед ужином легло у сарая и безропотно испустило дух. Мы в некотором изумлении столпились вокруг. Часть семьи решала в уме задачу, сколько человек отравилось бы больным цыпленком, часть оплакивала неслучившуюся курицу.
– Жернова господни мелют медленно, но верно, – сказала бабушка, обладавшая поразительным талантом с помощью единственной реплики превращать ситуацию из идиотской в абсурдную. Дедушка схватился за голову и убежал, брат зарыдал над цыпленком, а я пошла копать могилу.
И вот, значит, кролики.
– Мех, – веско сказал дедушка, – плюс диетическое мясо.
И в самом деле привез на следующий день с рынка двух зверей – серых, угрюмых, неожиданно больших, с ушами как лепестки ромашки. В клетках они разошлись по углам и принялись жевать, повернувшись к нам спиной.
Кролики оказались безучастными животными. Мы боялись давать им клички, памятуя об их судьбе, потому что названное равняется обретшему индивидуальность, и ты убиваешь не комок плоти, а личность. Даже хромой таракан Арсений, которого мы в городской квартире с бесстрашным невежеством крестили в фотографической кювете, прожил у нас почти три месяца, вызывая у всех отвращение, но защищенный магической силой имени, пока его не скосил вместе с остальными безжалостный серп судьбы, принявший обличье мелка.
Ухаживал за кролями дед. Они быстро росли; к концу лета каждый был вдвое крупнее кошки. По вечерам дед читал книгу о кролиководстве и учился гуманным методам убийства. Зайдешь вечером в комнату, а он стоит там в полном одиночестве и сосредоточенно машет кувалдой.
Чем ближе была дата забоя, тем чаще дед тренировался. Это напоминало сражение Тора с невидимым злом. Он явственно тщился переступить через что-то внутри себя, и мы все, понимая это, обходили молчанием тему перехода кроликов в крольчатину. Зверьков никому из нас не было жаль, но равнодушие к жертве не отменяет нежелания быть палачом.
За несколько дней до казни дед снова поехал на рынок. Вернулся он с парой новых животных. Возможно, ему хватило воображения представить, как он будет наталкиваться взглядом на опустевшие клетки. Или же процесс, закрепленный повторяемостью, лишал убийство кроликов того тягостного смысла, который имело разовое действие. У однократной смерти всегда есть имя. «День, Когда Мы Прикончили Кроликов». Смерть, поставленная на поток, теряла индивидуальность так же как неназванное животное. Растворялась в будничности процедуры.
– Начал за здравие, кончил за упокой, – сказала бабушка, увидев новых обитателей клеток.
Дедушка привычно фыркнул.
Однако ее слова оказались пророческими. Наутро все четверо зверьков выглядели какими-то заторможенными. У них опухли глаза и потекло из носа.
А затем они стремительно передохли один за другим. Их скосил вирус миксоматоза, кроликовая оспа, принесенная, должно быть, теми двумя, которые должны были помочь деду вывести наше домашнее животноводство на другой уровень.
Приехали люди из райцентра, забрали трупики и даже выдали то ли справку, то ли какой-то другой документ, удостоверяющий, что дедову начинанию неоспоримо пришел конец. Мы растерянно стояли перед домом, глядя вслед машине. В ней уезжали наши надежды на предпринимательство, прирост капитала и просто на мясной суп.
– Смертию смерть поправ! – многозначительно заметила бабушка.
И это был первый раз, когда ни один из нас не хмыкнул в ответ. В ее кощунстве скрывалась извращенная правота: кролики погибли, но для нас остались историей о живых кроликах, а не о мертвых. Мы их не убивали.
Дальше потекла обычная летняя жизнь.
Дедушка с неделю ходил озадаченный, точно человек, не совсем понимающий, что он приобрел, а что потерял, но вскоре отвлекся на утепление чердака.
Я завела землеройку и решала задачу ее прокорма.
Младший брат был пойман за свинчиванием катафоток с чужих велосипедов.
Бабушка пекла пироги, на запах которых слетались ошалевшие осы и плясали перед ней в жарком воздухе, как наложницы перед султаном.
Восемь опустевших клеток сожгли за баней.
– А ведь этих кроликов вполне можно было есть, – удрученно заметил дедушка, вычитавший, что миксоматоз для человека не опасен.
На что бабушка заметила, что сытое брюхо к ученью глухо, и никто из нас не нашелся что возразить.
Нюра
Я хорошо помню Нюру. Нюра была красавица. Пела знойным контральто, выщипывала брови дугой, пекла сладкий хворост, которым угощала нас, детей. До деревенского магазина ходила в белых разношенных туфлях, которые на ее ноге сорок второго размера по недоразумению именовались не баржами, а лодочками. Кудри свои черные никогда не подбирала наверх.
Нюра была вдова. Вдовушка. В ее присутствии мужчины начинали глупо посмеиваться. Компасы сходили с ума и уверяли, что север там, где Нюра. Окрестные коты складывали дохлых мышей к ее ногам, и ворот колодезный нежно поскрипывал, когда она приходила за водой.
Прежде чем открыть дверь, на минуту задерживаюсь в сенях.
– Мам, – говорю, – помнишь Нюру?
– Кудрявую такую? Помню. Несчастная была женщина.
– Почему несчастная?
– Муж у нее был рыбак, утонул лет в сорок. Замуж она больше не вышла, детей не родила. Кажется, влюблена была в кого-то безответно. И умерла рано, до пятидесяти не дожила. Почему ты про нее вспомнила?
– Да просто так, – говорю. – Хворост она вкусный готовила.
На дороге тихо-тихо, только собака взлаивает где-то вдалеке. Ночное небо подёрнуто облаками, как льдом, и если приглядеться, в проруби луны видна медленно плывущая рыба.
Тетя Шура встречает на пороге. Из приоткрытой двери тянет блинным духом. Пока мы сидим за столом, под ногами вьется мелкая кошка с родинкой на щеке.
– Шур, помнишь Нюру?
– Потаскуху-то эту? Чего смотришь? Она, между прочим, мужа своего извела.
– Как это?
– Утопила его пьяного.
– Шур, что ты выдумываешь?!
Тетя Шура сердито отодвигает тарелку с блинами.
– Слушай-ка сюда! Вы городские, прилетели на лето, фыр-фыр – и обратно! А я тут седьмой десяток живу. Нюрка была вертихвостка. Перед одним задницей повиляет, другому глазки состроит… С деверем своим, говорят, крутила. Муж ее за это учил маленько приличиям.
– Бил, что ли?
– Ну, если она с его родным братом хороводила, что ж ему, в меду ее купать? Поколачивал, бывало. Но только когда выпьет! Чтоб трезвому ее тронуть – это ни-ни. Ты вот с этой стороны блины пробовала? Я их с грибами навертела. Ешь!
– А как она его утопила?
– Да откуда ж мне знать. Вечером ушел на Оку с ночевкой, утром возле турбазы труп выловили. Сам бы он выпивший в воду не полез. Я думаю вот чего: Нюрка дождалась, пока он уснет, и по траве его в реку стащила. А к чему ты про нее завела на ночь глядя?
– Да просто так, – говорю. – Печеньем она угощала нас в детстве.
– Подлизывалась! Ну такая хитрая баба… Кстати, я тебе вот тут блинов отложила. Родителей угостишь. Завтра к матери твоей зайду, передай ей, пусть ждет.
Воздух на улице сырой и как будто слежавшийся. Редкие зернышки фонарей светят едва-едва. Ко всем жилым домам сквозь снег прорыты прямые дорожки, и только к Васиной калитке ведет вытоптанная синусоида.
– Вась, помнишь Нюру?
– Грудастую? Ну!
– Шура говорит, она своего мужа утопила.
Вася усмехается:
– Ты больше слушай. Юрка его утопил, брат родной. Чего ты рот разинула? Нюрка от него беременная ходила. Муж ее избил, она ребенка выкинула. Юрка переживал сильно. Подстерег брата на реке, утопил. А сам после этого уехал, не смог с Нюркой жить. – Он с аппетитом откусывает от свернутого трубочкой блина. – Ты правда не слышала?
Я сижу и думаю о бедной Нюре, которая так красиво пела, и выщипывала брови дугой, и щеголяла в белых туфлях-лодочках, нелепо смотревшихся на ее больших ногах, и пекла для окрестной малышни сахарный хворост, потому что самый простой способ собрать вокруг себя детей – это угостить их сладким печеньем.
– Муж ее был пакость трусливая, – спокойно продолжает Вася. – Мой отец про таких говорил: «душонка рыхлая». Брата боялся, на своей бабе душу отводил. Ты маленькая была, не помнишь, а я видел, как Нюрка с фингалами по деревне рассекала.
– Подожди, а почему Юру не посадили? Раз все знали, что он убил?
Вася пожимает плечами:
– Во-первых, не все. Во-вторых, кому это надо – сажать его! – Он сворачивает очередной блин. – Нюрка, кстати, после его отъезда всего лет пять прожила. Слушай, а чего ты про неё заговорила?
– Просто так. Хворост она пекла вкусный, угощала нас. Помнишь?
– Помню, – кивает Вася. – Только это не Нюрка, а Нинка, соседка ее. Из Нюры хозяйка была – как из гондона самовар.
Всю ночь воет метель. Наутро мы с псом доходим по лесной дороге до кладбища, но тропинки занесены и к могилам не подобраться. Могли Шура с Василием сочинить эту историю? Жизнь в деревне скучная, особенно зимой. Любые события обрастают комом подробностей, и по прошествии лет уже не разобрать, где выдумка, а где правда. Я хотела отыскать могилу Нюры и посмотреть, похоронена ли она рядом с мужем. Но пока пес бегает вокруг, а я стою на границе леса, снова поднимается ветер и беззвучно заносит старое деревенское кладбище снегом.
О котах (и о маленьких собаках)
Кот и пес – это два чистых типажа, два характера, имеющих столь же мало общего друг с другом, как Портос и, допустим, Онегин.
Пудель простодушен. Счастье его безгранично, как у маленьких детей, и лишено малейшей примеси обиды.
– Вернулась! – кричит он, исполняя всем своим маленьким кудлатым тельцем неистовый танец. Хвост его крутится точно миксер, хребет бешено изгибается, как если бы пес был рыбой, пойманной в невидимые сети. Где достоинство, где благородство? Забыты, растворены в единственной всепоглощающей эмоции!
Кот несет себя мне навстречу, как надменная рыжая волна.
– Вернулась, – констатирует он. – Где тебя носило, распутная тварь? – Мимоходом отвешивает пуделю оплеуху: – Чему радуешься, рыло? Спроси, где она шлялась? Чем от нее пахнет? Чужим пуделем пахнет! Не трогай меня, мерзавка!
Блаженство пса обнуляет его предыдущие муки. Забыто одиночество, забыт ущербный сон на коврике у двери. А кот всё-ооо помнит. На небесном полотне сиюминутной радости острее вырисовываются пики отдаленных терзаний. Где у пуделя мотив «как я с тобой счастлив» – у кота «как я без тебя страдал».
– Здесь чеши, – указывает он. – И здесь. Ублажай меня, дрянь. Я тебя не прощу никогда. За ухом, за ухом!
Но потом в приоткрытое окно врывается весенняя муха, как шальная императрица, и вытесняет из головной коробочки кота воспоминания о травме.
Матвей
Кто бы что ни говорил, у этого кота голова вывернута наизнанку. Извилины нарисованы снаружи для обозначения содержимого черепной коробки; это что-то вроде таблички «Здесь думают». Табличка врет. Возможно, коту в принципе чужд этот процесс. Простая логическая связка «если я упаду в ванну, то промокну и буду унизительно спеленат полотенцем» так и осталась для него недоступной. «Кто сунет голову в унитаз по самые жабры, того огреет крышкой» – тоже слишком сложно. Да боже мой, что крышка, когда даже многократно подтвержденный факт – «я могу застрять за диваном» – кот раз за разом пытается опровергнуть: «Не могу!» – «Можешь». – «Не могу!» – «Можешь!» – «Не могу! Застрял…»
В попытках объяснить это поведение чем-то иным, кроме незаурядного скудоумия, я пришла к мысли, что кот каждый день проживает новую жизнь. Это ее усовершенствованная версия, жизнь-N, где любая последующая лучше предыдущей.
Каждый день оконное стекло становится мягче. Близок тот час, когда удастся пробить его лбом и дорваться до трепещущей птичьей плоти.
В стиральной машинке когда-нибудь восстанет белье. Выйдет и соберется в теплые свежевыглаженные стога.
Люди осушат унитазы. По всей планете. Доберутся и до нашего – это свершится, надо только верить.
Но самое загадочное – вода. Что должно произойти с ней, чтобы кот перестал падать в ванну, при том, что купание ему ненавистно? Сперва я предполагала, что он надеется на изменение ее физических свойств. Допустим, заледенеет. Кот мечтает испытать скольжение, думала я, он желает нестись от края до края, лихо закладывая виражи и лишь изредка отталкиваясь от бортика задней лапой.
Но со временем до меня дошло, как я ошибалась. Не в скольжении дело. Раз за разом обрушиваясь с бортика, Матвей ожидает, что воды расступятся перед ним. И пересечет он ванну, сопровождаемый пением ангелов, и сладострастно вонзит зубы в мочалку, которую все время прячут подальше, и истреплет ее в клочья, а веревочку съест.
А еще вернее – пойдет по самой воде. Не замочив лап. Двинется навстречу мне, онемевшей и пристыженной, и над его ушами будет расходиться рыжее сияние. И дойдет до меня, и протянет великодушно лапу, и поведет меня в обратную сторону, а если я начну тонуть, рявкнет: «Усомнилась в своем коте? Дура!» И даже подушечки лап у него не намокнут, вот вообще нисколько.
А пока, приближая этот воистину светлый день, кот застревает за диваном, падает в воду и стучится лбом в стекло. То есть в принципе, если слегка абстрагироваться, в своем поведении ничем не отличается от тех самых людей, которые называют его идиотом.
Пение
По утрам кот Матвей поет.
У большинства котов его породы не «мяв», а убедительное воркование.
В нем слышны невозмутимые интонации гостя, которому нет нужды быть грубым с деревенской хозяйкой. Хлеб давай, милая. И млеко. И яйки. Все давай, только без резких движений.
Кот Матвей не таков.
Едва стрелка часов добирается до пяти, в воздухе раздается плачущий голос.
– О, детка, солнце почти взошло! – поет кот (йоу, мамми, йоу). – Но миска моя пуста! И через час она будет пуста, и через два. Жизнь тяжела, мамми (йоу!) Разве для этого был я рожден? Давай спросим у господа, мамми, пусть он ответит мне!
В этот момент раздается звук, в котором любой владелец домашнего животного безошибочно определит удар кроссовки об кота.
Песнь обрывается. Некоторое время Матвей осмысливает поразительное открытие: эти люди не любят блюза.
Проходит десять минут.
Тишину спящей квартиры вновь нарушает плачущий голос, и голос этот стремительно набирает силу.
– Я спросил у господа, мамми! – поет кот. – Я спросил у господа, отчего миска моя пуста. Господь заплакал, мамми, о да, он зарыдал. Моя миска пуста, как моя жизнь, и до скончания моих дней будет так (йоу)!
– Урою, тварь, – говорю я.
Кот некоторое время молчит, а затем берет на октаву выше.
– У смерти всегда облик белого человека! – надрывается он. – Я слышу ее поступь, мамми. Но лучше умереть быстро, чем тянуть эту лямку, йоу!
Я встаю. Подхожу к миске. Она наполовину полна сухим кормом.
– Ты совсем ума лишился? – говорю.
Кот под столом флегматично играет на губной гармошке.
Я досыпаю в миску еще две пригоршни корма и возвращаюсь под одеяло. Из кухни доносятся хруст и чавканье. Затем они смолкают, и наступает тишина, которую в романах принято называть благословенной.
Тихо.
Тихо.
Тихо.
Бог мой, какое счастье: тихо.
– О, чудный день! – прорезает тишину жизнерадостный голос кота. – О, чудный день! Когда господь утолил мои печали? Йе, мамми, йе! Кто утер мои слезы? Кто насытил мою утробу? Да будет славен он во веки веков! Я воззвал к нему, и он услышал! Йе!
Раздается звук, наводящий любого владельца домашнего животного на мысль, что кроссовок было две.
– И спиричуэлса они тоже не любят! – бормочет кот, убираясь под стол. – Господи, прости этих варваров.
Шкаф
Пока меня не было, кот Матвей подтвердил репутацию самого скудоумного существа во Вселенной, случайно забредя в шкаф и не найдя из него выхода. Получился непреднамеренный оммаж к «Черному коту» Эдгара По. «Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, – в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы».
Душераздирающее стенание. За приоткрытой дверью. Да.
Едва его освободили, кот плюнул в лицо матушке, вытер ноги об ребенка и ушел походкой д'Артаньяна, только что соблазнившего Миледи и – на посошок – графа де Варду. Извините. Способность этого кота выглядеть триумфатором после бесчестья всякий раз меня изумляет. Другое животное обрило бы голову, сдало награды, ушло в монастырь, на войну, на антресоли, лишь бы память о нём растворилась в реке небытия.
Но Матвей, эта инфузория-туфелька кошачьего мира, внутри своей ушастой с кисточками головы преобразует поражение в победу. Это не туповатый оптимизм, но нечто большее: проявление натуры истинного короля, с которого можно содрать мантию, а корону сдать на золотой лом, но нельзя лишить осознания, что он двадцать первый в ряду, допустим, Плантагенетов. Или Валуа.
Иногда я пытаюсь понять, как кот Матвей представляет себе свое место в этом мире. Эльфийский ли он владыка, правящий выродившимся, но беззлобным народцем? Светило, вокруг которого кружат по эллиптическим орбитам мелкие кривобокие планеты? Тогда я беру его за уши и пристально вглядываюсь в зеленые глаза, надеясь найти в них ответы. Кот мягко, но непреклонно отталкивает меня мокрыми лапами. «Умывался, чистоплотный наш», – думаю я с умилением, потому что нужно же хоть чему-то умиляться в этом коте, кроме бессмысленной нашлепки на носу.
– Сними своего дурня со стола, – флегматично говорит матушка. – Он только из унитаза вылез, еще не обсох.
Обогреватель
Если в комнату принести обогреватель, нормальный человеческий кот идет об него греться. Кот Матвей же, у которого одна извилина, и та нарисована снаружи на лбу, пугается громкого потрескивания и забивается в щель между диваном и стеной. Когда обогреватель умолкает, кот Матвей осознаёт, что опасность миновала, и начинает ПЯТИТЬСЯ. Никто из знакомых с ним людей так и не нашёл ответа, по какой причине этот кот не может пробраться вперед, чтобы выйти из-за дивана с другой стороны. У меня, впрочем, есть версия. Думаю, любая критическая ситуация вызывает в его канареечном мозгу пульсацию тревожной красной лампочки: «Я в заднице». А поскольку из этого положения только один выход, кот действует согласно намеченному плану.
Когда Матвей, пятясь, доползает до края дивана, замолчавший было обогреватель удовлетворенно щелкает. Кот вскрикивает, опять лезет вглубь по тоннелю, обдирая бока и щеки, добирается до выхода с противоположной стороны и там сидит, затаившись и стараясь лишний раз не моргать.
Так проходит полчаса. Обогреватель молчит. До кота понемногу доходит, что всё страшное закончилось.
И что он тогда делает, сидя возле самого выхода из диванного тоннеля?
Правильно. Он начинает ПЯТИТЬСЯ.
Одаренность
И в завершение разговора об одаренности.
Срезанные розы я на ночь кладу в ванну, в холодную воду – чтобы дольше стояли. В последний раз из ванны вместе с розами был выловлен стучащий зубами кот Матвей, ходивший туда-сюда по грудь в воде.
Мнения разделились. Матушка предполагала попытку суицида. Я склонялась к косплею Офелии. Ребенок процитировал классическое «не нужно объяснять умыслом то, что можно объяснить глупостью» и, наверное, был прав: Матвей, обладающий грацией Гоздиллы, вполне мог сверзиться с края ванны.
Но почему он оттуда не выбрался?
Что искал он среди колючих стеблей и тугих бутонов?
Карасей?
Смысл жизни?
Затычку, чтобы выдернуть ее зубами?
Нет у меня ответов.
* * *
Кот Матвей боится людей, тараканов, мочалки, просыпавшейся муки, но больше всего – самолетов. Самый страшный звук, страшнее даже стрельбы фейерверков, – это гул летящих истребителей. Кот припадает к полу, в ногах его дрожь, в глазах ужас: он понимает, что это за ним. Праздник Девятое мая организован специально для истребления кота, вопрос лишь в том, каждого ли кота или одного конкретного.
Когда над домом раздается гул, кот Матвей кидается под диван, а малютка пудель радостно бежит за ним, стараясь ухватить за хвост. Пес не осознаёт трагедии. Ну, шумят… Самое время играть! Будь ты проклят, думает Матвей, убьют же обоих. И ползет на четвереньках под диван, и трясется, и в панике прижимается к дальней стене, надеясь, что она несущая.
Но когда страшные самолеты улетают, Матвей выбирается из-под дивана и вместо того, чтобы отхлестать пса по морде когтистой лапой, ложится рядом, прижимает к себе и нежно, ласково, бережно вылизывает дурака от макушки до хвоста. Пудель страдальчески косит глазом, но терпит.
Кот что-то мурлычет невнятно, бормочет себе под нос. Я думаю, вот что: «Ну и пусть ты дурак, пусть. Зато живой».
Диета
Ветеринар пришел сделать прививку пуделю, увидел Матвея, вздрогнул и перекрестился.
Впервые, говорит, вижу брюхоногого кота.
Я говорю: помилуйте, доктор, он всего-навсего дородный.
У него пузо, говорит, по полу волочится!
Я говорю: он просто бежит на полусогнутых.
И ряха, говорит, вдвое шире вашей!
Я говорю: у нас в роду все миниатюрные.
Ветеринар не слушает и требует весы.
Котик заполз на весы, весы тоже вздрогнули. Четырнадцать килограммов. Я пыталась возражать, что там одних усов грамм на пятьсот, но ветеринар недрогнувшей рукой вывел: ДИЕТА!
И вручил нам.
Вы когда-нибудь сажали животное на диету? Кот ходит за мной четвертый день подряд и спрашивает: «Мама, ты зачем меня с такой жопой родила?» Ночью садится рядом. Открываешь глаза – над тобой нависает рыжее мурло. Смотрит. Такое чувство, будто ждет, когда я умру, чтобы мне лицо обглодать, пока тепленькое.
Раньше говорил много слов: мама, пруф, мыгр, птичка, ня. Теперь знает только «мясо» и «дай». Вчера приходил гость, кот обнюхал его и внезапно вцепился в икроножную мышцу. Когда оттаскивали, отбивался и сквозь стиснутые зубы кричал «дай мясо». На всякий случай ножи убрали подальше, гостей тоже пока не пускаем.
С вечера начинает плакать под холодильником. Вчера прислушалась – отчетливо разобрала «не для меня придёт весна». Бьет на жалость, сволочь.
Но мы держимся. Рыбу перестали покупать, колбасу прячем, понемногу переходим на вегетарианское меню, чтобы ему не было завидно.
Что самое обидное – кот от голода стремительно умнеет. Раньше я думала: господи, за что нам достался такой дурак, у него же череп изнутри выстлан мхом, по которому бегают солнечные зайчики. Теперь понимаю, что это было не проклятие, а благословение. Умный голодный кот нашел нычку печенья в детской, раскопал конфеты в моем собственном рюкзаке, добрался до помойного ведра и обглодал куриные кости, а из одной, по-моему, сделал заточку. На этом нервном фоне все худеют, кроме кота, и я со страхом думаю, что диета не сработает и придется все-таки добавлять кардио и тренировки на пресс.
Хризантема
Собака моей мамы, Дульсинея, лишь называется собакой, а по сути, конечно, нежный цветок в обличье мелкого зверька. И название у ее породы цветочное: китайская хохлатая. Быть бы Дульсинее хризантемой, цвести бы до поздней осени, наполняя воздух тонким печальным ароматом; распускаться бы в пруду лилией с сахарными лепестками или мягко слетать с отцветающей яблони в траву. Но создатель решил иначе, и на свет вместо лилии появилась собачка.
При первом взгляде на нее кажется, что она питается нектаром.
При втором – что из ее лопаток прорезаются крылышки.
При третьем хочется сделать книксен.
Дульсинея прекрасна и нежна, изящна и женственна. Рядом с ней пудель Патрик выглядит вахлаком, по недоразумению допущенным в высшее общество. Патрик курчав и весел. Дульсинея шелковиста и задумчива. Он мчится по лужам напрямик, она брезгливо обходит каждый след, в котором скопилась дождевая вода. Пока пудель дрыхнет на истерзанной подстилке, хранящей следы его молочных зубов, Дульсинея почивает на подушке, где вполне могла бы быть вышита ее монограмма.
Словом, это утонченное существо, с легкой грустью взирающее на наш несовершенный мир. Леди – от челки до кончика хвоста.
Но лишь до тех пор, пока ей не встречается крыса.
И тогда Дульсинея забывает обо всем. Происхождение, привычки, аристократизм и вышитая подушка – все отринуто, втоптано в грязь. С криком «сдохни, тварь!» Дульсинея несется, не разбирая дороги. Зубы ее оскалены, глаза выпучены, из пасти вырывается глухое рычание, не обещающее крысе ничего хорошего. Вместо утонченной леди – озлобленная портовая девка. Взамен цветочного ангела – яростный убийца.
Если жертве повезет забраться в нору, Дульсинея ввинчивается в нее все с тем же остервенелым рыком. На крысиное счастье, Дульсинея довольно высокая собачка. Китайские хохлатые плохо приспособлены к ввинчиванию. В них отсутствует необходимая юркость; их ноги аристократически длинны, а тело недостаточно вытянуто. «Иди сюда, сволочь! – свирепо воет Дульсинея в нору, поняв, что враг недосягаем. – Сразись со мной!» Крыса в это время улепетывает куда подальше. Понятия чести ей неведомы.
Я мечтаю о том времени, когда найдется храбрец, достойный Дульсинеи. И из норы выберется старая, мощная, исполосованная шрамами крыса. Встанет на поляне напротив белоснежной когда-то собаки, оскалится – и на счет «три» ринется в бой. Это было бы эпическое сражение. О выживших, как и о почивших, слагали бы легенды. Быть может, этого и жаждет Дульсинея, в которой при виде серого крысиного хвоста просыпается воин. Быть может, ее предки служили китайским императорам и защитили дворец от нашествия обезумевших тварей ценой своих жизней. Пепел героического прапрапрапрадеда стучится в ее сердце, и Дульсинея мечтает повторить его подвиг.
А пока она возвращается к хозяйке, пристыженная, но лишь потому, что противник вновь ускользнул. Остаток дня семья занята тем, что вычесывает из собачьей шерсти колтуны и отмывает китайскую хохлатую от русской грязи.
К вечеру это все то же прелестное создание, милое и благовоспитанное. Но когда она, заснув, вновь начинает глухо рычать, перебирать лапами и мотать головой, словно вцепившись в скользкое серое горло, я понимаю, что во сне Дульсинея – бесстрашный воин и легендарный боец, и в этом-то и состоит ее суть. В то время как ее нынешняя жизнь – лишь сон бабочки, присевшей на цветущую хризантему.
Патрик
Никто из нас не хотел пуделя.
Пудель существовал, собственно, в двух видах. Первый обитал в рассказах Куприна и прочих классиков; он работал в цирке или с бродячей труппой, был красив, воспитан и отличался исключительным умом. К названию породы часто прибавлялось почтительное «королевский».
Мифический, идеальный пес. Недостижимый книжный образ.
Пудель же второго вида был вздорной шавкой, живущей со старухой такого же скверного характера. Звали его Мими, иногда Жужу или другим нелепым именем, от которого должна отказаться любая уважающая себя собака. Это был пудель реальный, обитавший по соседству, и такую собаку не хотел никто из нас.
Поэтому после долгих споров и изучения форумов собаководов было решено приобрести терьера.
Терьеры – отличные звери. Задиристые, веселые, сообразительные. Может быть, немного слишком задиристые… Но ведь можно выбрать спокойную суку, которая не станет гоняться за помойными крысами и доказывать своё превосходство окрестным кобелям.
Питомник располагался за городом, и пока мы ехали, я думала: неужели у нас наконец-то появится пес? В моем воображаемом семейном фотоальбоме всегда есть место для собаки: нечто вроде контура, вырезанного силуэта, в который должна вписаться лохматая морда. Я мысленно перебирала снимки щенков с сайта заводчика.
Питомник оказался большим и шумным. Мы выбрали шестимесячную суку ирландского терьера и обсуждали с владелицей ее рацион. Но пока хозяйские собаки носились вокруг, из-под стула, нетвердо ступая, вышел щенок – черный, с рыжими подпалинами. Доковыляв до моих ног, он уселся и покачался из стороны в сторону, точно мохнатая неваляшка. Я бросила на пол ключи – старый способ проверить устойчивость собачьей психики, вычитанный мной в советской книжке по дрессировке. Терьеры бросились врассыпную. Щенок, не без труда оторвав попу от пола, наклонился к ключам и с любопытством понюхал кожаный чехол.
– Это кто? – спросила я, очарованная его смелостью и необычной внешностью.
– Пудель, – флегматично ответила хозяйка питомника.
Пудель?!
Столкновение желаний с предубеждениями всегда болезненно.
Тот самый пудель, что остервенело лает с балкона на проходящих мимо жильцов? Кидается на велосипедистов и делает лужи в подъезде?
Мне нравился этот щенок больше прочих. Но скудный опыт знакомства с породой нашептывал, что от прежних пуделей, умнейших собак, давно ничего не осталось, что они выродились, как это случилось в свое время с таксами и йорками, что из чудесной собаки сделали игрушку, которая годится лишь на то, чтобы грумеры оттачивали на ней свое мастерство.
Меня разрывали сомнения. Я взяла пуделенка на руки – это было ошибкой, конечно, потому что он был пушист и нежен, он облизал мои пальцы, он уткнулся влажным носом мне в руку и наконец уснул на сгибе моего локтя, утомленный показом.
Какой чудесный пес!
Но что, если из него получится Жужу или Мими?
Я взвешивала все за и против, вспоминала описание породы и то тешила себя надеждой, что сумею воспитать из него человека, то представляла, как следующие пятнадцать лет буду страдать от соседства с дураком и пустолайкой.
Однако зачастую наш выбор определяется сущей ерундой.
– В воскресенье родился, – зачем-то сказала хозяйка, небрежно потрепав спящего щенка по загривку.
Это решило дело. Я чувствовала, что существо, родившееся в выходной, не может вырасти самодовольным болваном, грызущим обувь и пачкающим диваны. Я сама появилась на свет в воскресенье, и никто не может упрекнуть меня ни в первом, ни во втором.
Так в нашем доме появился Патрик. А вместе с ним восстановилась и моя вера в пуделей.
Он оказался умным, веселым и деликатным – каким и должен быть пес-компаньон. По утрам он дремлет, пока я сплю, а вечером вышагивает со мной по дворам до тех пор, пока мне хочется гулять. Он побаивается мусорных пакетов и стиральной машинки, но я сама недавно отскочила в страхе от упавшего сверху полотенца, так что не мне его упрекать. Временами я вспоминаю, что мы хотели взять терьера, и пытаюсь представить на месте Патрика какого-то другого пса.
Однако у меня ничего не получается. Маленький пудель заполнил фигурную рамку с подписью «Моя собака» целиком, утвердился в ней так, словно она была вырезана по его контуру. Ни малейшего зазора, ни одного несовпадения. Здравый смысл подсказывает, что не пудель так точно попал в мои ожидания, а ожидания пришли в соответствие с его обликом, – но разве не в этом и заключается доказательство правильности моего выбора?
Его все любят. И только кот время от времени показывает дурной характер, то мимоходом давая Патрику оплеуху, то цепляя когтем бедного пса, когда тот пробегает мимо.
Но кот родился не в воскресенье, ему простительно.
Медаль
Маленький пудель Патрик носит на ошейнике адресник – медный кругляш с кличкой и номером телефона владельца. Каждый третий ребенок, остановившийся поболтать с пуделем, обязательно спрашивает, за что он получил медаль.
Обычно я отвечаю, что за спасение утопающих, но иногда вру, что за мужество.
За год выяснилось, что набор реакций у детей исчерпывается пятью-шестью вариантами.
– А кого он спас? – спрашивают дети.
– А он собаку спас или человека?
– А это вы его плавать учили?
– А можно погладить?
– Я тоже умею плавать!
Несколько раз дети интересовались, не я ли была тем самым утопающим. Сначала я изумлялась этому ходу мысли, но затем вынуждена была признать, что определенная логика здесь прослеживается: раз уж ты вытащил какую-то бестолочь из воды, приглядывай теперь за ней, иначе подвиг твой был впустую.
Но сегодня утром мне встретился мальчик, выбившийся из общего хора.
– За что медаль? – строго спросил он.
И выслушав стандартное «за спасение утопающих», внезапно взглянул на меня широко раскрытыми глазами и со страхом спросил:
– А сам – выжил?
Здесь бы, конечно, стоило рассмеяться. Но на самом деле я ужасно опешила, потому что было видно, что он не шутит, а всерьез испугался, и этим детским страхом за совершенно незнакомого ему пса, который к тому же стоит с этой самой медалью прямо перед ним, живой и здоровый, меня ударило и пробило насквозь. Был ли это сбой в логике детской мысли или у него имелась стройная и непротиворечивая картина происходящего, в которой медаль, допустим, вручали одному псу, а носил ее другой, – не знаю. Не имело значения.
– Даня, ты глупый, что ли? – покровительственно спросила то ли очень молодая мама, то ли старшая сестра.
Мальчик на нее даже не посмотрел.
– Конечно, выжил, – говорю. – Конечно, выжил! Ты что! Их же с детства учат плавать! Сначала в ванне тренируют, потом на море вывозят, на Балтийское, приучают к холоду, а там есть подлодки, и они на подлодках отрабатывают погружение!
И еще какую-то пургу понесла, примерно такой же степени достоверности. Очень молодая мама или старшая сестра, кажется, решила, что на моем фоне Даня вовсе не выглядит идиотом, и успокоилась.
Мальчик тоже успокоился. Подождал, когда я выдохнусь, погладил пуделя и сказал:
– Ему нужно две медали.
И только когда они ушли, я догадалась, что он имел в виду.
Одну медаль за спасение другого, а одну – за себя.
За то, что выжил.
* * *
– Это что за щенок? – спрашивает маленький мальчик у брата лет двенадцати, указывая на моего пуделя.
– Щенок длинношерстного бонифация, – веско отвечает старший.
И не поймешь: то ли шутит, то ли в одну секунду изобретает новую породу.
– А он большой вырастет?
– Ну-у-у… со льва.
Всякий раз меня очаровывает эта способность с легкостью опытного демиурга создавать сущности без необходимости, одним движением мысли добавляя в наш небогатый фауной мир серьезных лохматых зверей с бровями цвета сена.
Маленький пудель мой, намерзнувшись на ветру, спит и во сне бежит по саванне. Он вырастет размером со льва.
Зигмунд
Наш деревенский сосед, охотник, однажды решил завести собаку и подошел к этому делу с той беспощадной самоуверенностью, от которой прежде страдала только его семья. Все мы помнили, как он выкопал на участке бассейн. Высмеивая наш надувной, сосед зацементировал неглубокую яму и залил ее водой. На третий день вода помутнела. На шестой зацвела. Дети соседа не выказывали никакого желания купаться в ней, но тот уверял, что плавание закаляет. Дети ныли и сопротивлялись. Грубые цементные бортики царапают кожу, жаловались они, а вода теплая и противная. Через три недели, браня глупых отпрысков, сосед слил воду, в которой к тому времени уже вовсю копошились какие-то мелкие создания, залил новую и запустил рыбок.
Те, впрочем, вскоре передохли.
После бассейна настала очередь облепихи. Сосед вычитал, что сок этой ягоды спасает от всех напастей. Рак, гангрена, нежелательная беременность – все должно было уступить напору облепиховых витаминов. Сосед с мрачной убежденностью рассказывал, как разбогатеет на бесценном соке. Заодно советовал нам брать с него пример, а пока вырубить бесполезные вишни и яблони.
Но когда его драгоценные саженцы начали плодоносить, желающих собирать ягоду не нашлось. Ветки облепихи колючие, а ягоды исключительно кислы на вкус. К тому же желтый сок пачкает кожу. Дети соседа разбегались, как только он появлялся на крыльце с ведерком. Жена находила множество неотложных занятий, не позволявших прийти на помощь. Приходилось ему одному, стоя на лестнице и чертыхаясь, обдирать несчастное деревце.
Собранных ягод на продажу не хватило. «Буду лечить себя!» – объявил сосед и принялся пить сок по утрам и вечерам. Спустя недолгое время он оказался в больнице с обострением холецистита, а вернувшись, вырубил облепиху под корень и больше о пользе природных витаминов с нами не заговаривал.
Так вот, собака.
Однажды сосед с гордостью вывел на лужайку перед домом молодого спаниеля – собачьего подростка, криволапого и длинноухого. Пес смешно совал морду в розетки лопухов, точно в колодец, и гавкал от избытка чувств. «На уток ходить будем, – сказал довольный сосед. – Только сначала воспитаю его под себя».
Я заподозрила неладное.
«Дом вот ему построил. Пусть привыкает. Неженки нам не нужны».
Свой дом?
В ответ на мое молчаливое изумление он с гордостью провел меня на задворки, где среди куриного помета и грязи желтел грубо сколоченный вольер, в котором было бы тесно и хомяку. Я знала, что многие охотники держат спаниелей на улице, но лишь в теплое время года и не в таких условиях.
– Ему же будет тесно, – невольно сказала я.
– Перебьется! – отрезал сосед. – Чай, не император.
Конечно, я не была для него авторитетом в вопросах содержания животных – скорее, наоборот. Мы были глупыми обладателями декоративных собак, непригодных для дела. От зверя в доме должна быть польза! А какой прок от китайской хохлатой и маленького пуделя?
– Давай, Зигмунд! – приказал сосед, волоча упирающегося щенка к вольеру. – Залезай!
Щенок не хотел в вольер. Когда мы уходили, он скулил и царапал сетку.
– Приводи своих, тоже воспитаю! – хохотнул сосед напоследок.
Я не ответила. На душе у меня было тошно.
Следующие недели показали, что я была права в своих предчувствиях. Сосед не понимал собак и не хотел этому учиться. Щенок выл, брошенный в одиночестве, и за это его били. Он пытался гоняться за курицами, и за это его били тоже. Он кусал лопухи – и получал пинок под зад. Грыз поводок – и получал удар поводком. Время от времени хозяин пытался заниматься с ним по книге «Эффективная дрессировка русского охотничьего спаниеля», но ему не хватало терпения: заканчивалось все визгами несчастного пса и руганью соседа. Ему попался тупой выродок, собачий кретин!
Мне было жалко собаку до слез. Сосед не выгуливал его, полагая, что Зигмунд и так живет на открытом воздухе. Я попросила разрешения брать спаниеля с собой на прогулки вместе с Патриком, но получила отказ. «Уведут его у тебя, – мрачно сказал сосед. – Собака-то ценная». – «Так на поводке же!» – «И на поводке уведут».
Уговоры оказались бесполезны. Чем больше я настаивала, тем сильнее сосед убеждался, что я сама задумала похитить его сокровище. И расстался со мной уже в полной уверенности, что меня нельзя подпускать к Зигмунду.
Вскоре я уехала из деревни. Было очевидно, что спаниель очень быстро превратится в забитого невротика, и не хотелось наблюдать, как с наступлением холодов он заболеет и умрет в своем убогом жилище.
Насчет невротика я, пожалуй, не ошиблась. Но вот до холодов пес не дотянул.
Я приехала к родителям на выходные в конце августа. Дни стояли теплые: мы вытащили на улицу плетеные кресла, завели самовар, оставшийся еще от дедушки, и спокойно пили чай под перезвон мошкары. Что-то показалось мне необычным, и я вдруг поняла: тишина! С соседского участка не доносилось ни лая, ни воя, ставших привычными за летние месяцы.
– А где Зигмунд?
Я ожидала грустного рассказа о кончине бедного спаниеля. Вместо этого родители переглянулись и засмеялись.
– Неужели на охоте? – недоверчиво спросила я.
– Бог с тобой, какой из него охотник. Зато беглец неплохой.
– Беглец?
И родители рассказали, что пару недель назад Зигмунд начал особенно громко выть по ночам, а потом вдруг притих. Как и я, они решили, что собаке вот-вот придет конец. Сосед высмеял их просьбу осмотреть спаниеля. «Жрет за двоих, гадит за пятерых», – сообщил он. И больше они ничего не добились.
Но в одно прекрасное утро их разбудила громкая ругань. Спаниель сделал подкоп – и сбежал. Хозяин поленился глубоко вкапывать в землю стенки вольера. Зигмунд выбрался через лаз и исчез.
Услышав эту новость, я сперва обрадовалась, но затем приуныла. Бедный пес вдалеке от людей, безусловно, издохнет от голода. Или же снова прибьется к деревне, и сосед поймает его и вернет в вольер.
– Да, вот еще какое дело, – неторопливо сказал отец. – Совсем забыли тебе рассказать. Ехали мы тут с твоей мамой на рынок. Смотрим – собака вдоль обочины чешет.
– Какая собака?
– Откуда же нам знать, – сказала мама, безмятежно разливая чай. – Спаниель какой-то. А может, и не спаниель. Мы в породах не разбираемся.
– Это был Зигмунд?!
Родители с совершенно одинаковым недоумением взглянули на меня.
– Нам ведь его не показывали, – кротко сказала мама.
– Мы с ним не знакомы, – подтвердил отец.
– Но на имя «Зигмунд» он не отзывался, – закончила мама.
Родителям было отлично известно, что полным именем спаниеля звали только в первые дни. А затем он стал Гошкой.
– И что вы сделали с этим не-спаниелем? – помолчав, осторожно спросила я.
– К дяде Володе отвезли, на лесопилку. У него как раз старенькая сука недавно умерла.
– Так он теперь на лесопилке?
– Точно. В следующий раз приедешь – можем навестить.
У меня не получилось выбраться на лесопилку ни в том году, ни в следующем. Но от мамы с папой я знаю, что до сих пор у ее владельца живет подобранный на трассе пес, ласковый и дурашливый. Он гоняет кур, грызет ботинки и спит дома на диване. Дядя Володя безбожно балует собаку. Поначалу тот боялся громких окриков, но на него уже давно никто не кричит.
Зовут его Карлуша. Имя ему дала мама, и эта ее маленькая шутка – единственный намек на прошлое когда-то забитого, а ныне счастливого пса.
Bonus: О лебединых крыльях, или Как все было на самом деле
Красавица и чудовище
Давайте начистоту. О чем в действительности повествует история красавицы и чудовища, если отвлечься от сказочной мишуры?
В своем логове живет холостяк. Дом его в скотском состоянии, и сам он зверье зверьем: ногти не стрижены, шея немыта, руки в цыпках и разжирел до неприличия. Крыша течет, стены отсырели. Электричество отключено за неуплату.
И вдруг в этом хлеву появляется женщина.
Совершенно не важно, откуда в действительности она взялась: бежала ли выручать отца или просто заглянула на запах, поскольку с детства любит зоопарки. Важно, что после ее появления пространство вокруг холостяка начинает стремительно преображаться.
Во-первых, в доме становится чисто. Ковры выбиты, пыль протерта, люстры сверкают и какая-то милая тряпочка висит на окне – кажется, вспоминает он, мамина занавеска.
Во-вторых, его начинают вкусно кормить. Он привык питаться сухомяткой и дошираком, вершина его личных кулинарных достижений – заказ пиццы. А тут вдруг супы. Компоты. Расстегайчики и паштет.
В-третьих, чудесным образом меняется вся жизнь. Слуги, которые прежде были совершенно деревянными, внезапно все до одного пристроены к делу. Он привык относиться к окружающим как к мебели, а они проявляют лучшие человеческие качества. В саду что-то цветет, на кухне что-то варится, постель хрустит свежим бельем, ботинки начищены, а посреди этого праздника стоит она – смущенная, прелестная – и застенчиво лепечет: «Ах, как тепло вы меня приняли! Вы такой очаровательный мужчина!»
Здесь надо сказать, что характер у него всегда был не сахар, а за годы затворничества испортился окончательно. Отношения с соседями дошли до того, что те спускают на него своих лаек. Но наш герой отлично понимает, что ему выпал сказочный шанс.
Он стрижется у хорошего стилиста, выкидывает треники, ограничивает себя в сладком и начинает бегать по утрам вокруг поместья не с целью устрашения соседей, а хорошей формы для. Он приучает себя не рычать по ерунде, не впадать в звериное буйство и доносить до окружающих недовольство их поведением деликатно, без попутного уничтожения предметов фамильного сервиза. Он практически бросил пить. Он приобрел привычку говорить ей словно невзначай: «Знаешь, до встречи с тобой я был словно заколдован» – и намекать на какие-то отвратительные грехи молодости (женщины питают слабость к отвратительным грехам молодости).
Потом, естественно, свадьба. Он шепчет: «Ты превратила мою жизнь в сказку!» – и дарит ей самую прекрасную розу из оранжереи.
А соседским лайкам, которых он шесть месяцев кряду приучал загонять к нему в поместье всех существ женского пола младше сорока пяти, ничего не дарит. И без того на них столько ветчины перевел.
Красная Шапочка
– Масло забыла, – хмуро напомнил отчим.
Девочка покосилась на него, но промолчала. Она не забыла, а нарочно отставила в сторону, чтобы не растаяло раньше времени рядом с горячими пирожками.
Мать, вздыхая, смотрела, как она собирается. Тесемки завязать под подбородком, корзинку сверху прикрыть…
– А может, черт с ней?! – не выдержал отчим. Девочка зло сверкнула глазами, но сдержалась. Бабушка говорит: не спорь с ним никогда, молча гни свое.
Мать махнула рукой: ладно уж, пускай идет. Все равно в последний раз.
Вещи давно были собраны, увязаны в тюки. Ружье отчима поблескивало в углу, приготовленное на продажу. Как он ни расписывал прелести их новой жизни, но в конце концов признал: одним город все же плох – там не поохотишься. Зато: «Кабаки – не чета местному! По праздникам всяких уродов привозят на площадь. Жуткие – страсть! В вашей дыре таких и не встретишь. Улицы камнем выложены. Будешь по мостовым ходить, как королева! Не грязь месить сапогами, а в башмаках вышагивать».
Этим он ее и подкупил, думала девочка. Башмаками. Бедная, бедная матушка…
Сама она носилась босиком по лесу до поздней осени. Бабушка ее приучила. Показала, какие опасности могут подстерегать на безобидной с виду тропинке. Варила для нее по весне густой сок травы костень, за которой забиралась в самую чащу. Сок пах остро, как разрезанная луковица. В чане он густел, ворочался, исходил тяжелым паром. Когда на дне оставалось с пригоршню, бабушка, чуть остудив, намазывала им девочке ступни, и кожа грубела на глазах. «Будешь чувствовать лес, дитя мое. Ты здесь не чужая, не то что некоторые».
Бабушка замолкала, но девочка знала, кого она имеет в виду. «Опять от нее воняет, как от козла!» – кричал отчим, когда она вбегала домой. Мать вилась вокруг и суетилась: «Тише-тише, дорогой, тише-тише. Старуха немного выжила из ума, ты же знаешь. Вот, присядь, выпей пива…» Отчим недовольно смолкал. Девочка ухмылялась про себя, с наслаждением вдыхая едкий запах. Жаль, к утру он выветривался.
Всякий раз, когда мать доставала из печи противень, отчим был тут как тут. «Не пускай ее! Еще не хватало девчонке шляться в такую даль!»
Я тебе не пущу, мысленно огрызалась девочка. Отчим каждый пирожок провожал таким взглядом, будто хоронил.
– Слабая она, старая, – оправдывалась мать.
– А зачем на отшибе поселилась? – шипел он. – Собаку не заводит, дверь не запирает – щеколда на веревке, это ж курам на смех! Любой зайти может!
– Нет у нас здесь чужих-то, милый…
– С нами бы пускай жила, раз старая!
«А ты бы ее домик продал». Девочка помнила, как сладко пел отчим, предлагая бабушке перебраться к ним. У него и покупатель на дом нашелся, из его приятелей-охотников. И как вызверился, когда бабушка отказала наотрез.
С тех пор распускает гнусные слухи. Как выпьет в трактире, так начинает: мол, старуха совсем свихнулась – надеется, что к ней заглянет кто-нибудь из дровосеков, кто помоложе да посмазливее. Для того и оставляет дверь открытой. В какую же ярость девочка пришла, услышав об этом! Была б ее воля – искусала бы, честное слово! Да мать стало жалко.
Выйдя на порог, девочка задержала взгляд на острых пиках елей, воинственно торчащих над лесом. Они словно охраняли его от незваных гостей. Волновались дубы, трава гнулась, серебрилась под ветром. Неужели она видит это все в последний раз? Девочка шла по тропинке, изо всех сил удерживая слезы. Мать обещала, что они будут приезжать. Накопят в городе денег и смогут останавливаться в трактире. На два дня, а может, даже на три!
Она вытерла глаза.
Лес сочувственно шумел над ее головой: «Куда же ты, девочка моя? Разве ты можешь меня оставить? Я дарил тебе золотые лютики, крестил тебя в ледяной купели озера, баюкал песнями сосен – глухими, скрипучими. Ты знаешь, как пахнет свежевыпавший снег, читаешь заячьи следы и с закрытыми глазами можешь найти дорогу домой даже ночью. Ты никогда не боялась меня. Что станет с тобой в городе, где повсюду мертвый камень? Твое место – здесь». – «Матушка обещала возвращаться хоть иногда!» – «Ты же знаешь, этого не случится».
По мере того как девочка углублялась в чащу, в ней зрела решимость. Она попросит бабушку, чтобы та разрешила ей остаться. Но ее терзали сомнения. Что ответит старушка – не угадаешь.
В деревне все убеждены, что она любит внучку без памяти, но иногда в ее взгляде мелькает что-то странное… Она присматривается к внучке, как к чужой, и почти не разговаривает с ней.
«Готовить умею, – перечисляла девочка. – В доме прибраться, затопить, дров принести – все могу. Постирать, подушки взбить, матрасы перетрясти… Все-все-все буду для нее делать!»
Она ускорила шаг. Да, надо убедить бабушку! Только не ныть. Они поговорят как взрослые. Бабушке наверняка тоже невесело оставаться одной!
Возле самой опушки ей показалось, что в кустах кто-то есть. Ветки качались слишком поспешно. И трава примята. Девочка нахмурилась и ускорила шаг.
У калитки быстро обернулась. Нет, никого. Показалось.
Она постучала.
Бабушка сидела в кресле. При виде внучки она отложила вязание, и грустная улыбка скользнула по ее губам.
Все мысли о «взрослом» разговоре вылетели из девочкиной головы. Она упала перед старухой на колени и горько зарыдала.
– Не нужно плакать, дитя мое, – голос мягкий, но отчужденный. – Ты уезжаешь не навсегда.
– Б-бабушка… – девочка заикалась от рыданий. – Умоляю, разреши мне остаться!
– Что?
– Пожалуйста! Не прогоняй меня! Я научусь такие же пирожки печь! А сама ни одного не съем, вот те крест, пусть у меня рука отвалится, если откушу хоть кусочек!
Ей показалось, что бабушка сказала что-то про мать.
– Она будет с ним счастлива! – всхлипнула девочка. – А я с ними – несчастна. Мое место здесь!
Она подняла заплаканное лицо к старухе.
Но что это – бабушка улыбается? Смеется над ней, в такую минуту?!
– Не поеду! – выкрикнула девочка отчаянно. – Ни за что! Вы меня не заставите! В трактир наймусь, полы буду мыть… Я… Я…
Она уткнулась в подол и заревела. Кому она нужна в трактире!
Зашуршали юбки, скрипнуло кресло, и теплые руки с силой обняли ее.
– Чш-ш, дитя мое. Вытри слезы и посмотри на меня.
Бабушка встала. Девочка, шмыгая носом, следила за ней.
– Ты никогда не спрашивала меня про шапочку, – задумчиво сказала старуха.
– Я думала, это что-то вроде оберега. Ты ведь сама связала ее.
– Оберега? – Бабушка усмехнулась. – Пожалуй. Больше этот оберег тебе не понадобится.
Девочка недоуменно уставилась на нее.
– Настала пора мне кое-что тебе показать… – сказала старуха и выпрямилась во весь рост.
Лесоруб заметил девчонку еще на поляне. Еще бы не заметить, когда красная шапка видна издалека! Ходит в ней, как дура, круглый год, и зимой, и летом. Говорят, чокнутая бабка заставляет. Пригрозила родной дочери, что лишит наследства, если малышка хоть раз окажется в лесу без этой красной штуковины на голове. Он следил из-за кустов за девчонкой. Вылитая бабка в молодости! Родная дочь и та меньше похожа на старуху. Ох и запах из корзины! Не то что живот, челюсть свело от голода, он ведь с полудня-то не евши. А скоро уж и солнце садится. Отобрать бы у нее корзинку – вот и ужин. Если бы он не побаивался гнева старухи, так и поступил бы. Но ведь малютка узнает его.
И тут в голову дровосека пришла отличная идея. Девчонка зайдет в домик и поставит корзинку на стол. А стол где? – у окна! А у окна кто? Он, собственной персоной! Хвать корзинку – и наутек. Они и не догадаются, кто это сделал.
Дровосек даже засмеялся от удовольствия. Умен он, что ни говори! Не каждый сможет так запросто разжиться пирожками.
Когда девчонка скрылась в доме, он торопливо подбежал к окну, пригибаясь. Кажись, не заметили. Дровосек осторожно привстал. Где ж корзинка-то?
– Бабушка, почему у тебя такие большие глаза?
Это девчонка пропищала.
Вот еще, большие глаза, скажет тоже! Обычные старушечьи глазенки, узенькие, серенькие, припухшие.
– Чтобы лучше видеть!
Услышав второй голос, дровосек вздрогнул. Эт-то еще что такое?!
– Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?
– Чтобы лучше слышать, – так же хрипло ответили ей.
Дровосек, похолодев, осторожно заглянул в приоткрытое окно. От увиденного волосы его зашевелились. Он дернулся обратно, стискивая челюсть, чтобы не стучала. Матерь божья, матерь божья, матерь божья….
– Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?
Раздался глуховатый лающий смех, от которого дровосека бросило в ледяной пот.
Господи и святые угодники, спасите и сохраните!
– Да уж не для того, чтобы пирожки жевать!
Что-то ударилось об пол, послышался хруст, стон, и вдруг девочка завизжала – высоко, на одной ноте. Дровосек обхватил голову руками и съежился под окном.
Бежать бы – вот только он даже пошевелиться был не в силах, будто окаменел. Визг оборвался. Его сменил хрип.
– Что… со мной… происходит… – Девочка как будто выталкивала слова из глотки. Он не узнавал ее голос. Снова крикнули – дико, нечеловечески – и наступила тишина.
А потом кто-то зашевелился. Раздался рык, от которого затряслись стены дома.
– Ахгрррр! – сказал один голос.
– Гррр-ар! – ответил второй.
Вокруг дровосека все потемнело, и он провалился в забытье.
Когда он открыл глаза, в синем небе над ним созревала луна. Было очень тихо. Дрожа и стуча зубами, дровосек поднялся, заглянул через окно и в свете луны разглядел шаль в кресле, отброшенное в сторону вязание и клочья серой шерсти на полу. На столике у окна стояла корзинка с пирожками. Дровосек бросил на нее дикий взгляд, развернулся и помчался прочь.
К полуночи он был совершенно пьян. Трактирщик только успевал подливать из бочки. Вокруг него собрался народ, одни кричали: «Брехня!», другие ругались: «А ну заткнитесь! Давай дальше!»
– А п-потом я вззз-зял топор и каааак рубану его! – Дровосек показал, как он рубанул волка. – Брюхо ему – хрясь! А оттуда они!
– Живые?! – ахнул кто-то.
– А то!
– А шкуру-то с волка хоть снял?
– Да нн-ну ее! – махнул рукой дровосек. – Старый он б-был, п-п-п-плешивый!
В ночном лесу разгулялся ветер. С треском хлопнул незакрытый ставень, а в печной трубе свистнуло что-то лихо и весело.
– Она решила остаться у бабушки, – сказала женщина, испуганно прислушиваясь. – Я так и думала!
– Будешь навещать ее, – равнодушно ответил мужчина.
– Буду, – вздохнула она.
Ветер оборвал с деревьев отжившие листья и швырнул в озеро, поднял волну, разметал сухие ветки над медвежьей берлогой. Зверь выбрался наружу, доковылял до тропы и остановился, принюхиваясь. Пахло знакомо. Он отлично помнил, что обладательницу этого запаха нужно обходить стороной. И медвежат учил: тронешь человеческого детеныша с красным лоскутом на голове – от тебя самого только лоскут останется, это каждый в лесу знает.
Медведь свернул с человеческой дороги и скрылся в чаще. Мужчина и женщина в доме подтаскивали тюки к двери. В трактире пили и гоготали. Дровосек храпел, уткнувшись в соседа.
Где-то вдалеке выли волки.
Две серые тени мчались через лес, по ночным холмам, под огромной луной – золотой, как кусок тающего масла.
Кот в сапогах
«А Кот в сапогах стал знатным вельможей, – рассказывали про него. – И с тех пор охотился на мышей только изредка».
Слегка поправляя классика, существует ложь, наглая ложь и счастливые финалы сказок. Людей хлебом не корми, дай только присобачить к чему-нибудь хэппи-энд. К своим-то жизням не всегда получается, вот они и отводят душу на чужих.
На мышей кот охотился изредка, потому что после съеденного великана у него от них начиналась изжога. «Психосоматика, как пить дать», – грустно думал он, провожая взглядом очередную несостоявшуюся добычу.
Само собой, вокруг визг, писк, крики и опрокинутые табуретки. Мышь тем временем с достоинством удаляется под плиту.
А Маркизу потом кухаркины жалобы выслушивать: «Ваш кот даже мышей не ловит!»
И вельможество продлилось недолго. Ровно до того момента, как наследник Маркиза и Принцессы расчихался, дернув его за хвост.
Что тут началось! «Аллергия! Аллергия! Ах, у нас в роду непереносимость кошек!»
Ну и выставили за милую душу.
Маркиз сам лично сапожки вынес. «Ты, – говорит, – извини, брат, что так вышло». И глаза отводит в сторону. Совестливый! Совестливые хуже всего. Сделают гадость, а мстить им никак не получается, поскольку понятно, что и так мучаются. Даже в ботинки не нагадишь: куража не хватает. Тьфу!
«Я за тебя не беспокоюсь, – говорит. – Ты же котик. Вас все любят».
И дверь замка закрыл изнутри. Как иллюстрацию к всеобщему обожанию.
А кот побрел навстречу любви и признанию.
Позже, вдумчиво анализируя свои похождения и зализывая шерсть так, чтобы шрамы не бросались в глаза, он пришел к выводу, что с двумя качествами ему не повезло.
Во-первых, окрас. Родиться черным котом в семнадцатом веке – не такая бесспорная удача, как может показаться.
Во-вторых, рост. То ли перепелиных яиц в детстве переел, то ли бабушка когда-то согрешила с водолазом, но только люди непривычные шарахались. А привычные сперва стреляли.
Впрочем, врожденные черты характера, как-то любовь к стебу, глумлению и троллингу – тоже нельзя сбрасывать со счетов. «Если вы не скажете, что этот луг принадлежит маркизу Карабасу, вас всех изрубят в куски, словно начинку для пирога!»
Ха-ха! Грех смеяться над убогими, но что ж поделать, если других вокруг нет.
С таким нравом и обликом ему подолгу нигде не удавалось задержаться. Тот случай, когда три дня кряду гоняли вилами по всему селу, не в счет.
Скитаясь, он выучил, что вдовы мстительны, а жены злы. Что босому труднее, чем в сапогах, но значительно безопаснее. Что дураков каких мало в действительности на удивление много. Что добрее всех людей поэты, даже если кричат и размахивают кулаками, но проку от той доброты чуть, ибо им самим вечно жрать нечего.
А что смеяться нужно до последнего, ему накрепко вколотили в бродячем цирке, с которым он шлялся пару лет, пока не выгнали за порчу циркового имущества. Всего-то и сделал, что подбил дрессированного пуделя цапнуть клоуна за тощую задницу. Обещал, что зрители будут в восторге. Ну и что, разве обманул?
Закономерный итог его странствиям настал в Париже. Недооценил кот булочника, которому являлся по ночам, извалявшись в муке, и выл, что он дух убиенного круассана. «Что ни говори, славная вышла шалость, – философски думал кот, бултыхаясь в мешке. – Хоть сладким полакомился напоследок».
Мешок встряхнули, и связанный кот шмякнулся на землю. Холодные языки речной волны облизывали берег в двух шагах от него. «Утопят, – с пробивающейся сквозь все заслоны самоиронии тоской понял кот. – Надо было дочке скорняка являться».
Что произошло затем, он не совсем понял. Только что булочник привязывал камень к его лапам, и вдруг выкатил глаза, зашатался, пал на четвереньки и ускакал в кусты. Только хруст сломанных веток затих вдали.
Кот попытался извернуться, чтобы увидеть, кто так перепугал его несостоявшегося палача. Но на голову ему снова надели мешок. А потом словно выстрелили им из пушки. Ни с чем иным кот не мог сравнить это чувство упруго обтекающего воздуха и бешеный свист в разом закоченевших ушах.
Полет закончился так же неожиданно, как начался. На этот раз его бережно поставили на холодный мраморный пол, рассекли ножом веревки, и лишь затем стащили с головы грубую дерюгу. Щурясь от ослепивших его свечей, кот огляделся.
В золоченом кресле напротив него сидел мужчина с острым подбородком и перекошенным на правую сторону ртом. «Не кресло, – понял кот. – Трон». А возле перекошенного стояла та, кто, по всей видимости, и притащила его сюда, а именно – ослепительной красоты рыжая нагая женщина с жутковатым шрамом, пересекающим горло. «О. Из наших!» – одобрительно подумал кот.
А больше ничего не успел подумать, потому что женщина опустилась на одно колено и хрипло сказала, обращаясь к тому, кто на троне:
– Мессир! Вы давно искали питомца…
Дикие лебеди
«Палач схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев. Только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло: не успела Элиза докончить последнюю рубашку, в ней не хватало одного рукава».
Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?
Жизнь остается, братцы. В которой сестра твоя замужем за королем, братья – прекрасные принцы, а у тебя правая рука человеческая, а слева болтается лебединое крыло.
Представили?
А теперь добавьте к этому, что летать вы больше не можете.
Во дворце я протянул всего пару месяцев. Ушел. Не мог больше видеть виноватое лицо сестры. Бледнела она, бедняжка, всякий раз, как взглядывала на меня и вспоминала, что последнюю рубашку не успела доплести. Ни разу я не обмолвился, что предпочел бы остаться лебедем, чем жить вот так. Она сама догадалась.
Знаете, что может быть хуже, чем изо дня в день портить жизнь любимым людям?
Портить им сказку.
Так что я нацепил самую беззаботную из своих ухмылок и сообщил, что отправляюсь путешествовать. Чем еще заняться молодому балбесу, не обремененному семьей и государственными обязанностями!
Я шел, а крыло волочилось за мной по земле: огромное, белоснежное, бессмысленное, как грех без удовольствия. Там, где за нормальными людьми остаются следы, за мной тянулась полоса, прочерченная острыми перьями.
Кстати, в них заводятся блохи.
На меня сбегались поглазеть взрослые и дети. Меня пытались ощипать, пока я спал. Самые пытливые кидали камни, чтобы проверить, смогу ли я улететь. Я научился смешить людей, чтобы меня меньше обижали, и понемногу заново научился смеяться сам.
А там и не заметил, как перестал себя жалеть.
Но что я ни делал, мне никак не удавалось найти себе толковое занятие!
Устроился слугой в придорожный трактир – так все горшки им поразбивал. Повернешься неловко, взмахнешь крылом невзначай – и двух полок с тарелками как не бывало.
Нанялся лошадей пасти, а они от крыла шарахаются.
Каменщики меня прогнали: с одной рукой много дел не наворотишь. Паромщик поначалу было взял, чтобы я развлекал его болтовней, но скоро велел убираться. Шуршишь, говорит! Спать из-за тебя не могу!
Даже цирку – и тому я не пригодился. Нам, смеются, своих уродов хватает.
А однажды занесло меня к принцессе. Она как увидела меня, затрепетала вся и говорит:
– Ах! Вас-то я и ждала!
И ведь красивая. Глаза сияют. Щечки румянятся. Облик весь ее прекрасный дышит волнением и предвкушением счастья.
«Ангелы мои! – думаю. – Неужели и меня кто-то полюбил?»
Привела она меня в свой замок розовый, опустилась на кровать и смотрит с обожанием. А я рядом стою, дурак дураком.
– Ну что же вы! – восклицает капризно. – Я жду!
Засмущался я, покраснел. Не знаю, с какой стороны и подойти к ней, чтобы поцеловать.
А она уже раскинулась на постели. Грудь вздымается, глаза прикрыты.
Тут я окончательно стушевался. Вот же, думаю, какая у них тут свобода нравов и королевство победившего феминизма.
А принцесса выдыхает:
– Машите на меня, машите!
Тут всё недоразумение и разъяснилось. Работать королевским опахалом – дело, конечно, завидное. Но не для меня.
Ушёл я из замка, а вернее сказать, сбежал. А то у принцессы уже такой вожделеющий блеск в глазах появился, что еще немного, и приковали бы меня за ногу возле ее монаршьего ложа.
Бреду через лес, и такая тоска, что хоть крыло грызи. И летать не способен, и по-человечески жить не получается! Отрезать бы к чертовой матери эти перья с мясом, остаться одноруким инвалидом. Хоть жалеть начнут! Пособие будут платить! Психологическую поддержку оказывать!
Что толку быть крылатым наполовину. Ни неба тебе, ни земли.
Вот тогда-то и повстречался мне поэт.
Я заблудился и вышел к покосившейся ветхой хижине, перед которой сидел тощий рыжий тип в обносках.
– Смотри-ка ты! – весело сказал он, взглянув на меня. – Ангел с одной рукой!
Тут до меня дошло, кого я встретил. Обычный человек сказал бы: «Парень с одним крылом!»
Мой поэт был гениальный. И совершенно сумасшедший. Он мог жрать сырых ежей и закусывать уховертками, он спал на раскисшей земле и не замечал, какое время года вокруг. Но из-под его пера выходили такие стихи, что хотелось носиться по берегу под летним дождем и орать, что счастлив, хотя ни дождя, ни берега, ни счастья. Вот такие у него были стихи, и я не знаю, как объяснить всё это лучше.
Я не собирался оставаться у него. Двое убогих на один лес – это слишком. Но как позже выяснилось, у поэта на меня были свои планы.
Он транжирил перья со страшной скоростью. Бумагу-то он где-то утащил, в углу лежала целая стопка, прикрытая от дождя, и это было единственное, о чем он в самом деле заботился. А вот перья в его руках просто горели. Ломались, трескались. Тогда он, ругаясь так, что черти в аду затыкали уши, бросался их чинить. Но строка ускользала, нужное слово забывалось, и поэт посылал проклятия этому миру, недостаточно снабжавшему его рабочим инструментом.
И тут появляюсь я.
Вы только представьте: целое лебединое крыло! Отборные перья!
Блох к тому времени я истребил известкой и пылью.
«Ходячий пенал!» – прозвал меня этот псих. Когда он выдернул у меня первое перо, я его чуть не убил. Больно! Он даже не заметил моей ярости. С губ его срывались строки, в глазах плескалось безумие.
Каюсь, в тот момент я подумал: надо было оставаться у принцессы и не выпендриваться.
А посреди ночи он растолкал меня и прочел стихотворение, написанное моим пером.
Вот тогда мне, наконец, стало понятно, зачем всё это было: ведьма, лебединая жизнь, рубашка из крапивы, бессмысленные мои скитания. Вот за этим. Чтобы он мог писать.
Так в хижине из старых веток и молодого ветра стало на постояльца больше.
Поэт выдирал из моего крыла одно перо за другим. Я быстро слабел. Этот человек тратил меня бездумно и свободно, переживая о моей судьбе не больше, чем прохожий об участи колодца, из которого черпает воду. На месте перьев оставались проплешины. К боли я привык, но к тому, что крыло лысеет, приспособиться оказалось труднее. Оказывается, в глубине души я гордился его красотой.
А теперь оно становилось уродливее с каждым днем. Вскоре я ходил с огромным багровым куском мяса, торчавшим из моего плеча. Стихи рождались, а перья исчезали, и близок был тот час, когда сломалось бы последнее.
Я знал, что тогда мы просто ляжем рядом и умрем. Меня беспокоило не это, а то, что он не успеет закончить свою поэму.
Да, он замахнулся на крупную форму. Теперь, когда его ничто не отвлекало от приступов вдохновения, он работал как одержимый. Без сна, без еды… Впрочем, нам почти и нечего было есть.
Никто, кроме меня, не слышал его стихов, и новорожденной поэме суждено было сгнить в этой хижине, как и нашим телам. Но всё это не имело значения.
Четыре пера.
Три.
Два.
Одно.
Ни одного.
То утро выдалось ясным и солнечным. Я отправился к ручью за водой и, нагнувшись, увидел свое отражение. У меня было измученное и совершенно счастливое лицо. Первый раз с того времени, как я лишился крыльев.
Когда я вернулся, то увидел на лице моего поэта точно такое же выражение. Он закончил свою поэму.
В хижине было темно, и мне пришлось вывести его наружу. Я содрогнулся, увидев на безжалостном свету, что с ним стало.
– Пойдем в поле, – попросил он. – Буду читать там!
Позёр!
Но мы пошли, спотыкаясь и поддерживая друг друга.
На поле стелился вереск, у обочины росла крапива, и неба было столько, сколько я никогда не видел. Вдалеке парили облака, похожие на стаю лебедей.
Поэт опустился на землю.
– Валяй, – говорю, – скотина. Рассказывай свои вирши.
Он ухмыльнулся и начал читать.
Три вещи невозможно пересказать: смех, стихи и море. Я не могу описать, о чем была его поэма. Но слушая его, я сначала выпрямился. А потом ощутил щекотку в левом плече.
Он читал, и голос его набирал силу.
Щекотка перебралась на правое плечо. Кожу под лопаткой пронзила острая боль.
Он рассказывал о самом отвратительном и прекрасном, что бывает в жизни. Он откуда-то знал всё, что случилось со мной, и всё, что случится. Сам того не понимая, он творил магию, этот истерзанный рыжий дурак, и с каждым его словом мир наполнялся ею.
Плечи мои налились тяжестью. Изветшавшая рубашка с треском разорвалась.
Он читал о любви, и о страхе, и о тех, кто жил в хижине из старых веток и молодого ветра, и о тех, кто придет за ними, и о вечной как небо истории о том, что ты никогда не знаешь, что у тебя отнято, а что дано. Но ты можешь пытаться жить так, словно не отнято ничего, а дано всё. И может быть, из этого что-нибудь и получится.
Когда замерла последняя строка, я расправил за спиной белоснежные крылья. Ветер провел по ним пальцем, словно пробуя остроту перьев, и уважительно присвистнул.
Поэт посмотрел на меня, улыбнулся, осел и, кажется, собрался помереть.
Но теперь у меня были на него свои планы.
Я подхватил его на руки, разбежался и взлетел. Исписанные листы выпали из его ослабевших пальцев, но это меня не беспокоило: я знал, что запомнил поэму наизусть.
Восходящий поток подхватил нас и понес. Взмахивая крыльями, я поднимался всё выше и выше, пока не увидел сверкающие вдалеке крыши дворца. И тогда я помчался туда, где ждала меня моя сестра, каждый день выходя на балкон и вглядываясь в голубеющее небо.
А где-то далеко внизу ветер разбросал исписанные страницы среди зарослей крапивы, взмыл за нами следом и растаял в облаках, похожих на стаю лебедей.
Спящая красавица
– …тогда принцесса уколет палец веретеном и погрузится в вечный сон!
«Сон! сон! сон! сон! сон!» – отдалось каркающим эхом от стен сияющего дворца.
– Ах ты ж драконий понос на твою дивизию! – выразил всеобщие чувства расстроенный король.
Побледневшая королева устремила на него взор, полный надежды и мольбы.
– Может, хотя бы не веретеном? – попытался исправить положение король. – Скажем, мексиканский кактус – тоже очень колючая штуковина…
– Никаких кактусов! – презрительно отвергла фея.
– Ежом? – не оставлял попыток король. Мысленно он уже прикидывал, во сколько обойдется казне истребление всех ежей в королевстве. «Лесникам зарплату повышу, глядишь, и обойдется…»
– Только веретеном! – отчеканила фея. – Никаких уступок! Никаких поблажек! Я страшно обижена!
И фея постаралась напустить на себя вид страшный и одновременно обиженный.
Король и королева подавленно молчали.
– Сука ты крылатая, – внезапно сказала толстая кормилица.
Фея вздрогнула и изумленно уставилась на дерзкую тетку.
– Тварь бессовестная! – поддержал кормилицу дряхлый королевский советник.
Фея в ярости направила на него волшебную палочку.
– Стреляй, бесстыжая твоя рожа! – Старец рванул на груди кружевную сорочку.
– Свинство! – выкрикнули сзади.
– Подлость!
– На ребеночка покусилась!
– Всех не перережете!
Гул возмущенных голосов прокатился по дворцовой зале, как морской вал.
Фея попятилась, устрашенная этой набирающей силу бурей, взмахнула крыльями и вылетела в открытое окно.
…Оставшись одни, король и заплаканная королева склонились над кроваткой. Прелестная кудрявая девочка спала и сосала во сне большой палец.
– Что вы предпримете, мой дражайший супруг? – робко спросила женщина.
Король тяжело вздохнул.
– Вы знаете не хуже меня, что личные интересы семьи должны быть принесены в жертву интересам королевства. Ткачество – наш основной источник дохода…
Королева сдавленно всхлипнула.
В дверь постучали.
– Ваше величество, там старшины ткачей, – объявил стражник, стараясь не смотреть на несчастное лицо королевы.
– Передай, что их не коснется проклятие феи, – сухо сказал король и отвернулся.
Из-за спины стражника внезапно вылезла морщинистая голова:
– Я дико извиняюсь, ваше величество, – прогнусавила она. – Но мы, того-этого, не согласны!
– Что?!
В ответ на гневный оклик короля из-за спины стражника повылезали другие головы, словно там притаилась многоголовая гидра, преимущественно лысая, но местами седая.
– …и убедительно просим вас завтра же объявить об уничтожении всех прялок в нашей стране, – хором сказала гидра.
* * *
Тем временем фея входила в тронную залу совсем другого дворца, мрачного и темного, где ее уже ждали.
– Ваше величество, все исполнено!
Довольная фея склонилась перед кряжистым бородатым мужчиной в мантии, который нетерпеливо спрыгнул с трона и пошел ей навстречу.
– Как и было условлено? – быстро спросил тот.
Фея кивнула:
– Все в соответствии с нашими договоренностями!
– Но они точно решатся на это? – настаивал король.
– П-ф-ф! Никаких сомнений! Они все слишком сильно любят этого ребенка. Завтра начнут сжигать прялки.
Король соседней страны ухмыльнулся:
– Твои умения просто поражают. Смертельное веретено!
– Да уж, – скромно согласилась фея, – это вам не тыквы в кареты превращать.
– Что ж, Королевство Ткачей отныне нам больше не конкурент! Наконец-то! Я столько этого ждал!
Бородач хлопнул в ладоши, и словно из-под земли возник писарь.
– Готовь приказ о расширении торговли с заморскими странами! – распорядился король. – И ждите безработных ткачей из соседнего государства. Обложим их налогами – и пускай трудятся нам на благо!
От избытка чувств он обнял фею и громко расхохотался:
– Вот так и надо убирать соперников! Так и следует идти к успеху! Без малейших затрат, изящно и красиво.
– А как же моя доля?.. – напомнила фея, глаза у которой жадно заблестели.
– Казна к вашим услугам! – шутливо поклонился король.
– И процент от прибыли!
Король поморщился, но кивнул.
– Само собой.
– Теперь, когда ваш сосед уничтожил самый успешный бизнес своими руками, вы будете грести золото лопатами, – успокоила фея. – Отныне вы монополист, как и мечтали.
Она направилась к выходу.
– Кстати, скажи-ка мне… – окликнул ее король. – Как он назвал ребенка?
Фея хмыкнула.
– Они выбрали на удивление безыскусное имя, ваше величество. Девочку зовут Дженни.
* * *
Полгода спустя
От бешеных воплей короля слуги попрятались по углам мрачного дворца.
– Сукин сын! – надрывался король, бессильно дергая себя за бороду. – Сволочь! Из-за него я обанкротился!
Он от души пнул зазевавшуюся кошку, и та с воплем вылетела за дверь.
– И где эта чертова колдунья?!
Фея со скорбным лицом вышла из тени.
– Ты! – король, задыхаясь, наставил на нее трясущийся палец. – Ты смеешь смотреть мне в глаза после того, что случилось?!
– Это была наша совместная идея! – взвизгнула фея. – Вы хотели разорить его – я помогла это осуществить!
– Помогла?! – король побагровел и забулькал от негодования. – С тех пор, как в его королевстве изобрели прядильную машину, я не знаю ни дня покоя! Трюмы его кораблей забиты рулонами тканей! Он заключает сделки, которые мне и не снились. Его ткачам, будь они прокляты, удается спрясть за неделю столько, сколько нам за год! Да ты издеваешься надо мной!
Он швырнул в промелькнувшего за дверью писаря последним жестяным подносом.
– И почему, черт возьми, его дочь никак не уколет палец?!
– Потому что веретена защищены деревянным корпусом, – нехотя признала фея. – Они все продумали.
– И как это называется?! – в бессильном отчаянии возопил король.
– Поступь научно-технического прогресса, ваше величество, – мрачно сказала фея. – Если бы не наша затея с проклятием, он пришел бы позже на двести лет. Но кто мог знать, что они изобретут прялку Дженни!
Король уставился на фею покрасневшими от ярости глазами. И вдруг, сжав кулаки, медленно двинулся на нее.
– Спокойствие, ваше величество, только спокойствие! – пятясь, призвала фея. – Мы еще можем все испра… Ай!
Она едва увернулась от летящей в нее короны и рванула прочь из дворца, бормоча себе под нос:
– Лучше б я научилась превращать тыквы в кареты!
Кольца власти
– Три – эльфийским владыкам в межзвездный предел, – завел голос. – Семь для гномов, царящих в подгорном просторе…
– Почему им семь, а нам три? – перебил эльф. – Что за дискриминация?
– Число колец и коэффициент развития усредненного представителя расы обратно пропорциональны, – ледяным тоном сообщил голос.
Гном задумался. Эльф просветлел лицом и кивнул.
Голос подождал, не последуют ли еще вопросы.
– Девять людям, чей выверен срок и удел… – громогласно возвестил он.
– А вот мой папаша всегда знал, что помрет на виселице! – возразил человек. Голос поперхнулся на полуслове. – Все ему твердили: мол, спляшешь ты, Джон, в петле, воровская твоя рожа! А он что? Взял да утоп по пьяни. А ты говоришь, удел выверен!
– Отдай ты им двадцать колец, не жилься, – пробормотал эльф.
– Девять мало, – поддержал гном, косясь на человека. – Одно сломают, другое потеряют…
– И одно властелину на черном престоле в Мордоре, – с нажимом проговорил голос. – Где вековечная тьма!
– А чо сразу вековечная? – огорчился гном. – Можно электричество провести. По цене договоримся.
– Свет Эарендила поможет разогнать мрак! – высокопарно поведал эльф.
Гном усмехнулся:
– Во даете, а! Родного папашу продадите за золото!
– Эарендил – это звезда, невежда!
– А во лбу звезда горит! – икнул человек. – Пра-ашу прощения. Гори-гори, моя звезда! – вдруг завыл он, но под изумленными взглядами эльфа и гнома притих и добавил шепотом: – Чтобы это… Не погасло.
– В Мордоре, где вековечная тьма! – яростно загромыхал голос. «Тьма-тьма-тьма-тьма!» – испуганно разбежалось эхо.
Наступила тишина.
– Да, гиблое местечко, – прокряхтел вдруг человек. – Мой папаша там бывал…
– Где? – опешил голос.
– В этой, как ее… в Мордовии. И мне завещал: не ходи в Мордовию, сынок. Сожрут! Там, говорил, даже котов – и тех жрут.
– Вранье! – взвизгнул голос.
– Про котов ты уж загнул, – укоризненно заметил гном.
– Кто это? – удивился эльф. – Вы о ком?
– Такие же остроухие, как вы, – махнул рукой человек. – Только поют приятнее.
– Ежели в марте, так примерно одинаково, – проворчал гном.
– А-а-а-а! – негодующе взревел голос. – Чтобы всех отыскать!
Стало тихо. Человек гулко шмыгнул, но ничего не сказал.
– Воедино созвать!
Молчание.
– И единою! Темною! Волей! Сковать! В Мордоре!
– Бардо ли я? – с горечью вопросил человек, покачиваясь. – Ик! Гордон ли я? Вот так ищешь себя, ищешь. Всю жизнь! И не можешь найти!
Голос невнятно хрюкнул.
– Что, простите? – вежливо переспросил эльф.
– Ы-ы-ы-ы, – обреченно сказал голос. – На правой руке золотое кольцо.
Эльф, гном и человек переглянулись.
– Не простое украшенье! – голос всхлипнул и вдруг захохотал. – Кастет мне стал! Ха-ха! как обручальное! Хи-хи-хи! кольцо!
– Я извиняюсь… – быстро вставил человек, – а все девять на один палец или на разные?
– Вон! – дико взвыл голос. – Все вон! Прочь! А-ааааааа! Дикари! Кретины! Недоумки!
Троица бросилась бежать. Едва они выскочили, как сверху рухнула, отсекая пещеру, каменная глыба. Некоторое время все прислушивались к неразборчивым выкрикам, доносящимся изнутри.
– Ладно, пойду я, – человек флегматично кивнул на прощанье и, сунув руки в карманы, побрел прочь, слегка пошатываясь.
Часом позже он уверенно выбрался на поляну, где стояла синяя будка. Перед ней взъерошенный юнец и рыжеволосая девушка неумело пытались нанизать мясо на шампуры.
– Как все прошло? – поднял голову юнец.
– Думал, труднее придется! – Человек с наслаждением опустился на траву, вытянул ноги и прислонился к нагревшейся от солнца будке. – Да он слабак! Пять минут – и уноси готовенького. А что с линиями вероятности?
– Уже посмотрели! – подала голос девушка. – Все в порядке!
– Точно?
– Абсолютно, – кивнул взъерошенный. – В отсутствие артефактов такой мощности человечество станет главенствующим видом не через три тысячи лет, а через пятьсот. Золотой век, культура, наука, затем бурное развитие техники… Гуманизм через пень-колоду, конечно, а местами и через задницу, но с кольцами-то вообще никакого не было бы. Так что все отлично! Главное, чтобы Саурон не передумал!
– Может, все-таки надо было тролля посылать? – озабоченно сказала девушка.
Человек усмехнулся.
– Вы уж мне поверьте, – ехидная ухмылка стала шире, – по части троллинга нас никто не переплюнет!



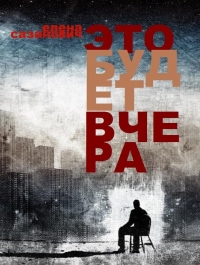
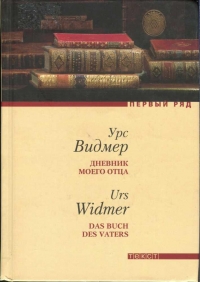
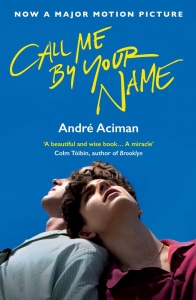
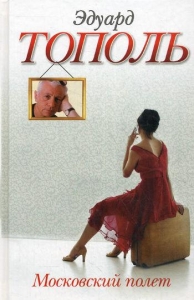



Комментарии к книге «О лебединых крыльях, котах и чудесах», Елена Ивановна Михалкова
Всего 0 комментариев