Лора Барнетт Три версии нас
Моей матери Джейн Билд, прожившей множество жизней; и моему крестному отцу Бобу Уильямсону, которого мне очень не хватает
«Иногда он представлял себе, как в конце жизни ему покажут любительское кино обо всех тех дорогах, которые он не выбрал, и о том, куда они могли его привести».
Энн Тайлер. «Любительский брак»«Ты и я делаем историю. Вот что такое мы».
Марк Нопфлер и Эммилу Харрис. «Что такое мы»Laura Barnett
THE VERSIONS OF US
Copyright © Laura Barnett 2015
Published in the Russian language by arrangement with Greene and Heaton Ltd. Literary Agency and Andrew Nurnberg Literary Agency
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2018
1938
Вот как это начинается.
На железнодорожной платформе стоит женщина, в правой руке у нее чемодан, в левой — желтый носовой платок, которым она вытирает лицо. Глаза слезятся, вокруг них залегли тени, в горле першит от запаха сгоревшего угля.
Ее никто не провожает. Мириам запретила всем приходить, хотя мать плакала, как она сама плачет сейчас, — и все-таки время от времени привстает на цыпочки и смотрит поверх покачивающихся шляпок и лисьих боа. Может быть, Антон, устав от слез матери, сдался, надел ей на руки варежки, усадил в инвалидное кресло и повез по бесконечным лестничным пролетам… Но нет ни Антона, ни мамы. На платформе одни незнакомцы.
Мириам заходит в вагон и останавливается в коридоре, где мерцают лампы. Черноусый мужчина со скрипичным футляром переводит взгляд с ее лица на округлившийся живот.
— Где ваш муж? — спрашивает он.
— В Англии.
Мужчина смотрит на Мириам, по-птичьи наклонив голову. Нагибается и свободной рукой берет ее чемодан. Она открывает рот, чтобы возразить, но он уже идет по проходу.
— В моем купе есть свободное место.
Во время всего долгого пути на запад они разговаривают. Он угощает ее свежей селедкой и маринованными огурцами из бумажного пакета, и Мириам не отказывается, хотя и не любит селедку, но прошли уже сутки с тех пор, как она ела в последний раз. Мириам не признается, что никакого мужа в Англии не существует, но ее попутчик и так это знает. Когда поезд со скрежетом останавливается на границе и пограничники приказывают всем пассажирам выйти из вагонов, Якоб не отпускает ее от себя, и они стоят рядом, а снег метет, и тонкие подошвы туфель начинают промокать…
— Ваша жена? — спрашивает пограничник, протягивая руку за документами Мириам.
Якоб кивает. Шесть месяцев спустя, в Маргейте, в ясный солнечный день, младенец засыпает в мягких объятиях жены местного раввина — вот что происходит с Мириам.
* * *
Это начинается еще и так.
В саду, полном цветущих роз, стоит, потирая поясницу, другая женщина. На ней — голубой рабочий халат ее мужа, художника. Он сейчас рисует в доме, а она стоит здесь, положив руку на заметно выпирающий живот.
Внутри только что шевелился ребенок, но теперь затих. У ног женщины — плетеная корзинка, наполовину заполненная срезанными цветами. Вивиан делает глубокий вдох, наслаждаясь резким, похожим на яблочный, запахом свежескошенной травы — утром, пока не началась жара, она подстригала газон. Она все время чем-нибудь занимается из страха, что, если остановится, тьма накроет ее с головой, как одеяло, теплое и уютное. Она боится, что заснет под этим одеялом, и ребенок вместе с ней.
Вивиан наклоняется за корзинкой и чувствует, как что-то рвется внутри. Она оступается, вскрикивает. Льюис не слышит: он включает музыку, когда работает. Чаще всего Шопена, а если нуждается в оттенках потемнее, то Вагнера. Вивиан оказывается на земле, рядом валяется перевернутая корзинка, розы — алые и розовые — рассыпались, их раздавленные лепестки источают слабый аромат. Боль возвращается, и Вивиан судорожно хватает ртом воздух; тут она вспоминает про соседку, миссис Доуз, и начинает звать ее. Через мгновение миссис Доуз уже бережно обнимает Вивиан за плечи и усаживает в тени, на скамейку у двери. Сына бакалейщика, застывшего у ворот с открытым ртом, миссис Доуз посылает за доктором, а сама спешит наверх, чтобы найти мистера Тейлора — эксцентричного маленького человека с круглым животом и крючковатым, как у гнома, носом. Совсем не так в представлении миссис Доуз должен выглядеть художник — но в общении он очень приятный. Обходительный.
Вивиан не чувствует ничего, кроме боли, которая накатывает волнами, да внезапной прохлады постели.
После бесконечной череды минут и часов доктор наконец говорит ей:
— Ваш сын. Вот ваш сын.
Она опускает глаза и видит его — дитя подмигивает ей, словно поживший, умудренный опытом человек.
Часть первая
Версия первая
Прокол Кембридж, октябрь 1958
Потом Ева часто будет думать: «Если бы не этот ржавый гвоздь, мы с Джимом могли никогда не встретиться».
Эта мысль была такой яркой и отчетливой, что перехватывало дыхание. Ева лежала неподвижно, наблюдая, как свет пробивается сквозь занавески, и вспоминала, под каким углом колесо скользило по изрытой колеями траве; сам этот гвоздь, старый и гнутый; маленькую собачку, которая не услышала звук приближающегося велосипеда и выскочила наперерез. Она попыталась объехать ее, и тут подвернулся ржавый гвоздь. Как легко все это могло не произойти, не должно было произойти.
Но это будет потом, когда вся жизнь до встречи с Джимом станет казаться Еве бесцветной, лишенной звуков, и вообще, можно ли это назвать жизнью? А сейчас она слышит только слабый звук прокола и шипение воздуха, выходящего из велосипедной шины.
— Черт, — говорит Ева. Нажимает на педаль, но переднее колесо трясется, как нервная лошадь. Она тормозит, слезает с велосипеда и опускается на колени, чтобы выяснить причину поломки. Маленькая собачка виновато кружит в отдалении, затем лает, будто извиняясь, и устремляется вслед за хозяином, чья фигура в бежевом плаще уже исчезает вдали.
Вот он, этот гвоздь, из-за которого в шине образовался разрыв длиной не меньше двух дюймов[1]. Ева надавливает на шину, и воздух с хриплым свистом покидает ее. Колесо уже практически стоит на ободе; придется теперь тащить велосипед обратно в колледж, хоть она и так опаздывает на встречу со своим куратором. Профессор Фарли решит, что Ева не написала эссе по «Четырем квартетам» Т. С. Элиота, а ведь она потратила на него две ночи; эссе лежит в сумке, тщательно переписанное, занимающее пять страниц, не считая сносок. Ева этой работой гордится, предвкушает, как будет читать ее вслух, краем глаза наблюдая за старым Фарли, который наклонится вперед и станет шевелить бровями. Он делает так всегда, если что-то привлекает его внимание.
— Scheiße[2], — говорит Ева по-немецки, потому что в подобных ситуациях годится лишь этот язык.
— С вами все в порядке?
Ева все еще стоит на коленях, с трудом удерживая велосипед. Опустив голову, рассматривает злополучный гвоздь и размышляет, стоит его выдернуть, или будет еще хуже.
— Все в порядке, спасибо. Только колесо проколола.
Неизвестный прохожий молчит. Она думает, что он ушел, но тут его тень — мужской силуэт без шляпы, рука в кармане пиджака — появляется на траве рядом с ней.
— Позвольте, я помогу. У меня с собой есть ремонтный набор.
Ева поднимает взгляд. Солнце уже садится за деревья, растущие вдоль дороги, — середина октября, дни становятся все короче — и светит ему в спину, отчего черты лица различить трудно. Его тень, к которой теперь прилагаются поношенные коричневые башмаки, кажется гротескно большой, хотя сам он среднего роста. Светло-каштановые волосы, похоже, давно не виделись с парикмахером; в свободной руке — книга в мягкой обложке. Ева успевает прочитать название — «О дивный новый мир» — и внезапно вспоминает зимний воскресный день, когда мать возилась на кухне с ванильным печеньем и по дому плыли звуки скрипки, на которой играл отец, а она сама с головой ушла в странное, пугающее будущее, нарисованное Олдосом Хаксли.
Ева аккуратно кладет велосипед на землю и встает.
— Спасибо, но боюсь, я не умею им пользоваться. Когда что-то случается с велосипедом, мне помогает сын привратника.
— Уверен… — Он говорит спокойно, но при этом хмурится и начинает рыться в другом кармане. — Похоже, я поторопился. Не представляю, куда подевался этот набор. Обычно я ношу его с собой.
— Даже когда идете пешком?
— Да.
Он скорее мальчик, чем мужчина: примерно ее возраста; студент — шарф цветов колледжа (черные и желтые полосы, как у пчелы на спине) небрежно повязан вокруг шеи. У местных ребят не такой выговор, и они уж точно не носят с собой «О дивный новый мир».
— Надо быть готовым к неожиданностям, и все такое… Кроме того, обычно я езжу на велосипеде.
Он улыбается, и Ева замечает, что глаза у него темно-голубые, почти фиолетовые, а ресницы длиннее, чем у нее. Будь он женщиной, это выглядело бы красиво. В случае с мужчиной немного сбивает собеседника с толку — Еве трудно поймать его взгляд.
— Значит, вы немка?
— Нет!
Ответ звучит резко, и он смущенно отводит глаза. — Извините, я просто слышал, как вы ругаетесь по-немецки. Scheiße.
— Вы говорите по-немецки?
— Нет, но слово «дерьмо» могу сказать на десяти языках.
Ева смеется, не стоило на него набрасываться.
— Мои родители из Австрии.
— Ach so[3].
— Значит, вы все-таки говорите по-немецки.
— Nein, mein Liebling[4]. Совсем чуть-чуть.
Их глаза встречаются, и у Евы возникает странное ощущение, будто они давно знакомы, хотя имени юноши она не знает.
— Вы изучаете английскую литературу? Откуда Хаксли? Я думала, ничего более современного, чем «Том Джонс», мы не проходим.
Он смотрит на обложку книги и отрицательно качает головой:
— Нет… Хаксли — это для удовольствия. Я изучаю право. Наверное, вы удивитесь, но романы нам читать не запрещено.
Она улыбается.
— Разумеется.
Значит, на факультете английской литературы она его видеть не могла; должно быть, встретились на какой-нибудь вечеринке. У Дэвида столько знакомых — как звали того парня, с которым Пенелопа танцевала на майском балу в Кембридже, прежде чем выбрала Джеральда? У него глаза были ярко-голубые, но точно не такие.
— Ваше лицо мне кажется знакомым. Мы с вами раньше встречались?
Он смотрит на нее, склонив голову набок. Выглядит как типичный англичанин — бледная кожа, нос в веснушках. Ева готова поспорить, что при первых же лучах солнца их станет намного больше, а он ненавидит веснушки и проклинает свою кожу, чувствительную, как у всех северян.
— Не знаю, — отвечает он. — Мне кажется — да, но я уверен, что не забыл бы ваше имя.
— Ева. Ева Эделстайн.
— Ага.
Он снова улыбается.
— Такое я бы запомнил. Я Джим Тейлор. Клэр Колледж, второй курс. А вы из Ньюнхэма?
— Тоже второй курс. И у меня будут серьезные неприятности, если пропущу встречу с куратором из-за какого-то идиота, который оставил на дороге этот гвоздь.
— Мне тоже нужно на встречу с куратором. Но, честно говоря, я собирался ее прогулять.
Ева смотрит на него оценивающе; она не любит тратить время на людей — как правило, это парни, — если те ленятся учиться и пренебрежительно относятся к своему образованию, самому, кстати, дорогому в мире. Казалось, ее новый знакомый не из их числа.
— И часто вы так поступаете?
Он пожимает плечами:
— Да нет. Просто нездоровилось. Но сейчас вдруг стало гораздо лучше.
Разговор прерывается. Оба чувствуют, что надо уходить, и обоим этого не хочется. На тропинке появляется девушка в темно-синем коротком пальто с капюшоном. Бросает на них взгляд, проходя мимо, затем узнает Еву, смотрит внимательнее. Ее фамилия Гиртон, она играла Эмилию в той постановке театра «Эй-ди-си»[5], где Дэвид исполнял роль Яго. Гиртон имела виды на Дэвида, это и дурак бы заметил. Но сейчас Еве не хочется думать о Дэвиде.
— Похоже, — говорит она, — мне надо возвращаться. Надеюсь, сын привратника починит велосипед.
— Или вы позволите мне этим заняться. Клэр отсюда гораздо ближе, чем Ньюнхэм. Я найду ремонтный набор, заклею прокол, а потом мы выпьем чего-нибудь вместе.
Ева смотрит на него и внезапно понимает — с уверенностью, которую не может, да и не хочет объяснять, что сейчас — переломный момент, дальше все в ее жизни будет иначе. Ей стоит — она должна — сказать «нет», повернуться и уйти, толкая велосипед по полуденным улочкам университетского городка к воротам своего колледжа, где сын привратника, краснея, придет ей на помощь, за что получит четыре шиллинга. Но Ева поступает иначе. Поворачивает велосипед в другую сторону и идет вместе с этим юношей, Джимом, а их тени крадутся за ними по пятам, перекрещиваясь на высокой траве.
Версия вторая
Пьеро Кембридж, октябрь 1958
В гримерной она скажет Дэвиду:
— Я чуть не переехала собаку велосипедом.
Дэвид, в эту минуту покрывающий лицо толстым слоем тонального крема, посмотрит на нее искоса в зеркало и спросит:
— Когда?
— Когда ехала на встречу с профессором Фарли.
Странно, что Ева вспомнила об этом сейчас. Она испугалась: маленькая белая собачка стояла неподвижно, а потом бросилась к ней, виляя обрубком хвоста. Ева уже собиралась вывернуть руль, но в самый последний момент собака выскочила из-под колеса и убежала с испуганным лаем.
Ева остановилась, ошеломленная.
— Я говорю, внимательней надо быть, слышите?
Невдалеке стоял человек в бежевом плаще и сердито смотрел на нее.
— Простите, — сказала Ева, думая при этом: «Лучше бы ты держал свою проклятую собаку на поводке».
— С вами все в порядке?
С другой стороны к ней подходил юноша примерно ее возраста в твидовом пиджаке и небрежно повязанном шарфе цветов колледжа.
— Все в порядке, благодарю вас, — чопорно произнесла Ева. Когда она садилась на велосипед, их взгляды на мгновение пересеклись: у него были глаза необычного темно-синего цвета, и длинные, как у девушки, ресницы. Еве показалось, что они точно встречались раньше. Она даже собралась поздороваться, но засомневалась, передумала и уехала, не произнеся ни слова. К тому времени, когда она очутилась в кабинете профессора Фарли и начала читать свое эссе по «Четырем квартетам», происшествие совершенно забылось.
— Ева, — говорит Дэвид, — ты все время попадаешь в нелепые ситуации.
— Неужели?
Ева хмурится из-за того, что в его представлении она такая — рассеянная и взбалмошная.
— Я не виновата. Глупая собака сама бросилась под колеса.
Но Дэвид не слушает. Внимательно изучает свое отражение в зеркале и начинает класть грим на шею. Выглядит он смешно и грустно, как настоящий Пьеро.
— Смотри, — замечает Ева, — ты пропустил одно место.
Она наклоняется, чтобы растереть грим по подбородку Дэвида.
— Не надо, — произносит он резко, и Ева убирает руку.
— Кац, — в дверях появляется Джеральд Смит, одетый, как и Дэвид, в длинный белый балахон. На лице Джеральда тоже неровно лежит белый грим.
— Пошли, начинается сбор труппы. О, привет, Ева. Могу я попросить тебя выйти на улицу и найти Пенелопу? Она где-то там, у входа.
Ева согласно кивает и говорит Дэвиду:
— Увидимся после спектакля. Ни пуха ни пера.
Когда она поворачивается, чтобы уйти, он притягивает ее к себе.
— Прости, — шепчет Дэвид, — это все нервы.
— Я знаю. Не переживай. Все пройдет отлично.
«Все идет отлично», — с облегчением подумает Ева спустя полчаса. Они с Пенелопой, ее подругой, сидят, держась за руки, на местах для приглашенных. В начале первого акта девушки напряжены и едва могут вникнуть в происходящее на сцене; их занимает реакция публики, они про себя повторяют текст, который столько раз слышали на репетициях.
Дэвид в роли Эдипа произносит длинный, минут на пятнадцать, монолог — он разучивал его целую вечность. Вчера после прогона Ева допоздна сидела вместе с ним в пустой гримерной, снова и снова повторяя роль, хотя ее собственное эссе было написано только наполовину и ей предстояло провести бессонную ночь. Сейчас она с трудом заставляет себя вслушиваться, но голос Дэвида звучит уверенно, он не запинается. Ева видит, как двое сидящих перед ней мужчин увлеченно подаются вперед.
Потом все соберутся в пабе, где будут пить подогретое белое вино. Ева и Пенелопа, высокая девушка с отличной фигурой и алыми губами — первое, что услышала от нее Ева на торжественном ужине в честь студентов-первокурсников, было: «Не знаю, как ты, а я бы полжизни отдала за сигарету» — стоят вместе с Сьюзан Флетчер. Режиссер Гарри Янус расстался с ней ради другой актрисы, которую встретил на спектакле в Лондоне.
— Она старше меня, ей двадцать пять лет, — рассказывает Сьюзан. Ее голос дрожит, и видно, что она с трудом удерживается от слез, когда, сузив глаза, смотрит на Гарри. — Я видела ее фотографию в «Прожекторе», нашла экземпляр в библиотеке. Она великолепна! Как я могу с ней соперничать?
Ева и Пенелопа незаметно переглядываются. Они, разумеется, должны сочувствовать Сьюзан, но их не покидает ощущение, что та принадлежит к типу девушек, которые в подобных драматических обстоятельствах только расцветают.
— Не соперничай, — советует Ева. — Выйди из игры. Найди кого-нибудь другого.
Сьюзан смотрит на нее, часто моргая.
— Легко тебе говорить. Дэвид от тебя без ума.
Ева вслед за Сьюзан переводит взгляд на Дэвида, который в дальнем углу беседует с человеком постарше, в жилете и шляпе. Это явно не студент, но и пыльным профессорским духом от него не веет; может быть, лондонский агент? Собеседник Дэвида смотрит на него с выражением человека, искавшего пенни, а нашедшего хрустящую однофунтовую банкноту. А почему бы и нет? Дэвид переоделся, смыл грим, воротник спортивного пиджака поднят по последней моде; он высок, красив, излучает обаяние.
На первом курсе имя Дэвида Каца преследовало Еву по всем коридорам и аудиториям Ньюнхэма, и произносилось оно восторженным шепотом:
— Вы знаете, он сейчас в Королевском колледже!.. Вылитая копия Рока Хадсона[6]… Он пригласил Хелен Джонсон на коктейль…
Наконец они встретились — Ева играла Гермию в спектакле «Сон в летнюю ночь», где Дэвид исполнял роль Лисандра. Это был первый сценический опыт Евы, подтвердивший ее подозрения, что актрисы из нее не получится. Ева знала: Дэвид ждет, что она, подобно другим девушкам, будет застенчиво краснеть и кокетливо смеяться. Не дождался: он показался Еве пижоном, чрезвычайно увлеченным собой. Но Дэвид этого не заметил. В пабе «Орел», куда они отправились после читки пьесы, Кац расспрашивал ее о семье, о жизни с таким интересом, что Ева решила — он делает это искренне.
— Ты хочешь стать писательницей? — спросил Дэвид. — Это замечательно.
Он почти дословно пересказывал целые сцены из радиосериала «Полчаса с Хэнкоком», и Ева не могла удержаться от смеха. Через несколько дней Дэвид пригласил ее выпить после репетиции, и Ева с неожиданным энтузиазмом согласилась.
Это случилось на Пасхальной неделе, с тех пор прошло полгода. Ева не была уверена, что их отношения переживут лето — Дэвид на месяц улетел в Лос-Анджелес к родителям (его отец родом из Америки, со связями в Голливуде). Она сама две недели копалась в земле на археологических раскопках в Хэрроугейте (тоска смертная, но в долгие предзакатные часы между ужином и отбоем можно было писать). Однако Дэвид отправил ей несколько писем, даже звонил, а по возвращении явился в Хайгейт на чай, очаровал ее родителей тем, что привез немецкое печенье, и они с Евой отправились купаться на пруды.
Дэвид оказался намного более содержательным человеком, чем считала Ева сначала. Ей импонировал его ум и знания в области культуры и искусства. Однажды он повел Еву в Королевский театр смотреть «Куриный суп с ячменем»[7], и постановка чрезвычайно ей понравилась, к тому же Дэвида приветствовала как минимум половина посетителей театрального буфета.
Они рассказали друг другу историю своих семей, и это сделало общение еще более свободным. Родня отца Дэвида эмигрировала в Штаты из Польши, а родственники матери приехали в Лондон из Германии. Теперь семья Кац жила в Хэмпстеде, в добротном эдвардианском доме, отделенном от дома родителей Евы всего лишь поросшим вереском пустырем.
Если уж говорить честно, не последнюю роль сыграла и внешность Дэвида. Ева не отличалась тщеславием: унаследовав от матери отличный вкус — пиджак по фигуре, красиво обставленная комната, — она с детства была приучена ценить умственные способности человека выше его внешнего вида. Но Ева ловила себя на том, что ей нравится, как Дэвид притягивает взгляды, когда появляется где-то, и как любая вечеринка с его участием становится более веселой и оживленной.
К концу осени их уже воспринимали как заметную пару в кругу, где вращался Дэвид, — среди начинающих актеров, драматургов и режиссеров. Ева купалась в его обаянии и уверенности; в заигрываниях его друзей, в их шутках для посвященных и в абсолютной убежденности, что мир принадлежит им, стоит только руку протянуть.
В своем дневнике Ева писала: «Возможно, именно так и приходит любовь, и мы не замечаем той тонкой грани, что отделяет знакомство от близости».
При всем желании Еву нельзя было назвать опытной. До Дэвида она встречалась только с Бенджамином Шварцем. Они познакомились на танцах в Хайгейтской мужской школе. Шварц, застенчивый мальчик с совиным взглядом, был глубоко убежден, что когда-нибудь именно он изобретет лекарство от рака. Бенджамин так и не зашел дальше того, чтобы взять ее за руку и попытаться поцеловать; рядом с ним Ева часто испытывала скуку, которая нарастала, словно подавляемая зевота. С Дэвидом никогда не бывает скучно. Дэвид весь движение и энергия, он как цветное кино, когда все остальные — кино черно-белое.
С другого конца бара он находит ее взглядом, и губы его беззвучно шепчут:
— Прости.
— Видела? — спрашивает Сьюзан, наблюдая за этим безмолвным диалогом.
Ева потягивает вино, наслаждаясь чувством незаконного обладания предметом, который вожделеют многие…
Впервые Ева оказалась в комнате Дэвида в тот душный июньский день, когда они в последний раз играли «Сон в летнюю ночь». Дэвид усадил девушку перед закрепленным над умывальником зеркалом, как манекен. Сам встал позади и разложил ее волосы волнами по светлому хлопковому платью.
— Видишь, насколько мы красивы? — спросил он.
Ева, глядя, как их зеркальные двойники отражаются в глазах Дэвида, внезапно почувствовала то, о чем он говорит, и просто ответила:
— Да.
Версия третья
Осень Кембридж, октябрь 1958
Издалека он видит, как она падает: плавно, постепенно, словно в замедленной съемке.
Маленькая белая собака — терьер — сопит, стоя у обочины дороги, изрытой колесами велосипедов, затем укоризненно лает вслед хозяину, человеку в бежевом плаще, который уже удалился на приличное расстояние. Приближается девушка на велосипеде — она едет слишком быстро, темные волосы развеваются, подобно флагу. Ее голос перекрывает высокий звук велосипедного звонка:
— Уйди, уйди!
Но пес, почуяв что-то привлекательное для себя, бросается не в сторону, а под колеса велосипеда.
Девушка резко поворачивает, выезжает на высокую траву, и велосипед заносит. Она падает на бок, тяжело приземляется, левая нога ее неестественно вывернута. Джим, находящийся в нескольких футах от места происшествия, слышит, как она ругается на немецком:
— Дерьмо!
Терьер мгновение выжидает, сочувственно помахивая хвостом, затем уносится вслед за хозяином.
— Я спрашиваю, с вами все в порядке?
Девушка не поднимает головы. Приблизившись, он видит, что она небольшого роста, худощавая, примерно его возраста. Густые волосы закрывают лицо.
— Не уверена.
Она говорит с трудом, прерывисто: явно не пришла в себя после падения. Джим сворачивает с дороги, идет к ней.
— Колено? Попробуйте наступить на ногу.
Наконец можно рассмотреть ее лицо: худое, как и вся она; узкий подбородок; быстрый, оценивающий взгляд карих глаз. Кожа у нее темнее, чем у Джима, покрыта легким загаром; девушку можно принять за итальянку или испанку, но за немку — никогда. Она кивает, встает, слегка поморщившись. Ее нельзя назвать красивой в классическом смысле, и, кажется, Джим где-то ее видел. Хотя и уверен, что они не знакомы. Во всяком случае, не были до сих пор.
— Значит, перелома нет.
Она кивает:
— Перелома нет. Немного побаливает. Но жить, похоже, буду.
Джим улыбается. Его улыбка остается без ответа.
— Я с ужасом смотрел, как вы падали. Наехали на что-то?
— Не знаю.
На щеке у нее грязь; Джим борется с внезапным желанием стереть ее.
— Наверное. Я обычно езжу очень аккуратно. Но собака бросилась прямо под колеса.
Он смотрит на лежащий на земле велосипед и рядом с задним колесом обнаруживает большой серый камень, едва различимый в траве.
— Вот он, злоумышленник. Наверное, вы повредили шину. Давайте я взгляну. У меня с собой есть ремонтный набор.
Джим перекладывает из одной руки в другую книгу в мягкой обложке — это «Миссис Даллоуэй» Вирджинии Вульф. Книгу он нашел на столике возле постели матери, когда собирал вещи перед возвращением в колледж с осенних каникул, и попросил почитать в надежде лучше понять ее психологическое состояние.
Джим лезет в карман пиджака.
— Спасибо большое, но, думаю, у меня получится… — Пустяки. До сих пор не могу поверить, что владелец собаки даже не оглянулся. Не очень-то вежливо с его стороны.
Он нервно сглатывает, смущенный тем, что она может увидеть в его словах намек: дескать, я-то не такой… Но его вряд ли можно назвать героем дня; ремонтный набор, как выясняется, он забыл. Лезет в другой карман. Затем вспоминает: Вероника. Когда сегодня утром Джим раздевался у нее в спальне, не успев даже оставить в прихожей пиджак, то выложил содержимое карманов на туалетный столик. Потом забрал бумажник, ключи, мелочь. А коробочка с ремонтным набором так и лежит там среди ее бус, колец и духов.
— Похоже, я поторопился. Боюсь, не знаю, где он. Обычно ношу его с собой.
— Даже когда ходите пешком?
— Да. Чтобы быть готовым ко всему, и так далее. И как правило, я не хожу пешком. В смысле, езжу на велосипеде.
Некоторое время они молчат. Девушка отрывает левую ногу от земли и начинает медленно сгибать и разгибать ее. Она делает это плавно и элегантно, словно танцовщица, работающая у балетного станка.
— Не больно?
Он сам удивляется искренности своего любопытства.
— Немного опухла.
— Может, показаться врачу?
Она качает головой.
— Уверена, холодный компресс и порция неразбавленного джина — это все, что мне нужно.
Он смотрит на нее, не понимая, шутит ли она. Девушка улыбается.
— Так вы немка? — спрашивает Джим.
— Нет.
Он не ожидал такого резкого ответа и потому отводит взгляд.
— Извините. Просто услышал, как вы выругались. Scheiße.
— Вы говорите по-немецки?
— По сути, нет. Но я могу сказать слово «дерьмо» на десяти языках.
Она смеется, обнажая здоровые белые зубы. Наверное, слишком здоровые для человека, выросшего на пиве и кислой капусте.
— Мои родители из Австрии.
— Ach so.
— Значит, вы все-таки говорите по-немецки!
— Nein, meine Liebling. Совсем чуть-чуть.
Глядя на девушку, Джим вдруг понимает, как хочет ее нарисовать. Необычайно отчетливо представляет себе эту картину: она сидит на подоконнике и читает, свет, падающий из окна, пробивается сквозь ее волосы; он делает набросок, в комнате светло и тихо, только карандаш скрипит по бумаге.
— Вы тоже изучаете английскую литературу?
Вопрос возвращает его в реальность.
…Доктор Доусон в аудитории колледжа Квинс, трое его коллег-правоведов с безучастными мясистыми лицами небрежно записывают что-то для доклада о «целях и соответствии гражданского законодательства»… Джим уже опаздывает, но его это не волнует.
Он смотрит на книгу в своей руке и отрицательно качает головой.
— Боюсь, нет. Я изучаю право.
— А-а! Я почти не знаю мужчин, которые читают Вирджинию Вульф ради удовольствия.
Он смеется.
— Я ношу эту книгу с собой, чтобы производить впечатление. Отличный способ знакомиться с очаровательными студентками английского факультета. Достаточно спросить: «А вам нравится “Миссис Даллоуэй”?» — и дело в шляпе.
Она смеется в ответ, и Джим вновь смотрит на нее, на этот раз дольше прежнего. В действительности глаза у нее не карие, радужка почти черная, а по краям ближе к серому. Такие глаза были у женщины, стоящей на фоне бледного английского неба, на одной из картин отца; теперь Джим знает — ее звали Соня, и мать не хотела видеть эту картину в их доме.
— А вам? — спрашивает он.
— Что мне?
— Вам нравится «Миссис Даллоуэй»?
— Да, разумеется.
Она замолкает ненадолго.
— Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы не встречались на занятиях?
— Только если вы пробрались на одну из увлекательных лекций профессора Уотсона по римскому праву. Как вас зовут?
— Ева. Ева Эделстайн.
— Ага.
Имя подошло бы оперной певице или балерине, а не этой невзрачной на первый взгляд девушке, чье лицо — Джим знает наверняка — он будет рисовать, размывая контуры: плавные линии скул, легкие тени под глазами.
— Нет, такое я бы не забыл. Меня зовут Джим Тейлор. Учусь в Клэре, второй курс. А вы… в Ньюнхэме. Угадал?
— Все верно. Тоже второй курс. У меня будут серьезные неприятности, если пропущу встречу с куратором. А ведь я написала эссе по Элиоту.
— Это особенно обидно. Но я уверен, они вас простят. Учитывая обстоятельства.
Ева изучает его, склонив голову набок. Джим не понимает, находит она его интересным или странным. Возможно, просто недоумевает, почему он до сих пор не ушел.
— Мне тоже нужно на встречу с куратором, — сообщает он, — но, если честно, я думал прогулять ее.
— Вы регулярно так поступаете?
В ее словах слышится жесткость. Ему хочется объяснить: он не из тех, кто учится спустя рукава и считает, что ему все позволено по праву рождения. Джим мог бы рассказать ей, каково это — заниматься не тем, к чему стремится душа. Но он отвечает:
— Да нет. Просто неважно себя чувствовал. Но теперь мне неожиданно стало лучше.
На мгновение кажется — говорить больше не о чем. Джим понимает, что сейчас произойдет: она поднимет велосипед, повернется и медленно пойдет обратно. Он в смятении, не может придумать никакого предлога, чтобы удержать ее. Но Ева не уходит и смотрит не на него, а на дорогу. Он поворачивает голову и видит девушку в коротком темно-синем пальто, которая внимательно рассматривает их, а потом удаляется.
— Ваша знакомая? — спрашивает Джим.
— Виделись пару раз.
Чувствуется, как что-то меняется в ней, она закрывается.
— Мне пора возвращаться. У меня еще встреча сегодня.
И встреча, конечно, с мужчиной, в этом нет сомнений. Джим начинает паниковать: он не должен, не может ее отпустить. Он дотрагивается до нее.
— Не уходите. Пойдемте со мной. Я знаю один паб. Там много льда и джина.
Он все еще прикасается к рукаву ее пальто из грубого хлопка. Ева не отталкивает его, только смотрит задумчиво. Джим уверен, что девушка скажет «нет», повернется и уйдет. Но она говорит:
— Хорошо. Почему бы и нет?
Джим кивает с напускной беспечностью, хотя ощущает нечто совсем иное. Думает о пабе на Бартон-роуд; если понадобится, он сам отвезет туда проклятый велосипед. Встает на колени, ищет повреждения; на первый взгляд — ничего, если не считать длинной рваной царапины на переднем крыле.
— Ничего страшного, — говорит Джим. — Я его поведу, если хотите.
Ева качает головой:
— Спасибо. Справлюсь сама.
И они уходят вдвоем — выбравшись из колеи, которая каждому из них была предназначена, — в сгущающиеся сумерки, в тот день, когда один путь избрали, а другим пренебрегли.
Версия первая
Дождь Кембридж, ноябрь 1958
После четырех неожиданно начинается дождь. Незаметно собрались облака — синевато-серые, почти фиолетовые по краям. Дождь заливает стекло, и в комнате становится необычайно темно.
Джим за мольбертом откладывает палитру и начинает торопливо включать все лампы, какие только есть. Результат его огорчает: при искусственном освещении краски кажутся плоскими, безжизненными; местами мазки положены чересчур густо, а следы кисти слишком заметны. Отец никогда не рисовал по вечерам: чтобы не упустить утренние часы, вставал рано и поднимался на чердак, где была оборудована мастерская.
— Запомни, сын, дневной свет не обманывает, — говорил он. Порой в ответ на это мать негромко — но Джим мог расслышать — отзывалась:
— В отличие от некоторых.
Он кладет палитру в раковину, вытирает тряпкой кисти и ставит их в банку из-под джема, наполненную скипидаром. На плитке остаются водянистые брызги краски: завтра уборщица опять будет закатывать глаза и ворчать, что не нанималась прибирать это. Но все-таки она относится к его занятиям живописью более терпимо, чем миссис Гарольд, которая работала в прошлом году. Не прошло и месяца в первом семестре, как она пожаловалась старшему уборщику, и Джима сразу же вызвали к заведующему учебной частью.
— Прошу вас, Тейлор, проявлять понимание, — устало сказал тогда мистер Доусон, — здесь все-таки не художественная школа.
Они оба знали, что серьезное наказание ему не грозит. Жена Доусона — художница, и, когда Джиму выделили огромные комнаты с высокими потолками и незанавешенными окнами на последнем этаже, он подумал, что произошло это не без вмешательства старого профессора.
Но в том, что касается учебы, Доусон гораздо менее терпим: в этом семестре Джим не сдал вовремя ни одной работы и ни разу не получил оценки выше «2/2».
— Мы вынуждены задаться вопросом, Тейлор, — сообщил профессор, вызвав Джима к себе на прошлой неделе, — хотите ли вы продолжать обучение?
Затем, уставившись на него поверх очков в черной оправе, строго спросил:
— Итак?
«Конечно, хочу, — думает теперь Джим. — Хотя у меня на это совсем другие причины, чем у вас. У вас и моей матери».
Он слегка дотрагивается до холста, проверяя, высохла ли краска: Ева скоро придет, и надо убрать портрет. Он говорит, что работа еще не закончена, но на самом деле картина близка к завершению. Сегодня, вместо того чтобы читать материалы по земельным трастам и вопросам совместного владения собственностью, Джим работал над фоном, который должен оттенить ее лицо. Он нарисовал Еву в кресле у стола с книгой в руках (эта уловка сделала процесс создания портрета приятным для обоих), ее длинные темные волосы локонами спускаются на плечи. Закончив набросок, Джим понял: именно такой он и хотел нарисовать Еву с момента их встречи на сельской дороге.
Краска высохла; Джим закрывает портрет куском старого холста. На часах четверть пятого. Ева опаздывает уже на сорок пять минут, а дождь все не унимается, с прежней силой барабаня по слуховому окну. Его охватывает страх: она могла поскользнуться на мокрой дороге, или какой-нибудь ослепленный ливнем водитель задел ее велосипед, и она лежит сейчас распростертая на мокрой мостовой. Он знает, что это глупые мысли, но ничего не может с собой поделать — не может уже месяц с тех пор, как они вошли в жизнь друг друга с такой же легкостью, с какой старые приятели обсуждают им одним известные темы. Страх подстегивает его возбуждение: страх потерять ее, оказаться недостойным ее внимания.
Ева рассказала ему о Дэвиде Каце, своем парне, вечером того же дня, когда они встретились, — после того, как Джим заклеил дыру в шине, взял собственный велосипед и они поехали в известный ему паб на Грантчестер-роуд. Ева познакомилась с Кацем полгода назад, когда оба играли в спектакле «Сон в летнюю ночь». (Кац был актером и пользовался некоторой известностью: Джим слышал о нем.) Ева сказала Джиму, что не любит Каца; на следующий день она сообщила Дэвиду, что им нужно расстаться. Она призналась бы ему в тот же вечер, но он играл премьеру — «Царя Эдипа». Ева и так пропустила спектакль, и было бы жестоко сказать Дэвиду почему.
Джим и Ева сидели в дальнем углу паба, и хозяин уже звонил в колокольчик, предупреждая посетителей, что заведение скоро закрывается. Прошло ровно шесть часов с тех пор, как они встретились, и час и десять минут с их первого поцелуя. Когда Ева закончила говорить, Джим кивнул и поцеловал ее вновь. Он умолчал, почему фамилия Кац показалась ему знакомой: тот был приятелем одноклассника Джима Гарри Януса, ныне студента английского факультета в колледже Сент-Джонс. Джим встретил Каца на какой-то вечеринке и мгновенно невзлюбил его — по причинам, которые не мог ясно определить.
Но с этого дня — даже когда карьера Каца достигнет таких высот, что любые его неудачи будут представляться чем-то невообразимым, — Джим станет испытывать к своему сопернику великодушное сочувствие победителя к побежденному. Чего бы Кац в конечном счете ни добился, первый приз достался Джиму.
Там, в пабе, Джим рассказал Еве о том, что и ему надо разорвать отношения с другим человеком. Ева не поинтересовалась именем, но спроси она, Джим с трудом бы его вспомнил. Бедная Вероника: неужели она в самом деле ничего для него не значила? И тем не менее так и было: на следующий день Джим предложил Веронике встретиться в баре на Маркет-сквер и, не дожидаясь, пока она допьет кофе, сказал, что между ними все кончено. Вероника тихо заплакала, отчего тушь черным ручейком поползла по щеке. Он удивился такому проявлению чувств — Джим пребывал в уверенности, что они честны друг с другом. Но вежливым недоумением с его стороны все и ограничилось: он протянул ей салфетку, пожелал всего хорошего и ушел. На обратном пути в колледж Джим подумал, что, вероятно, проявил равнодушие. Но эту неловкость скоро вытеснили другие, более радостные мысли — о карих глазах Евы, о прикосновении ее губ. Веронику он больше никогда не вспомнит.
В следующую пятницу Ева одна отправилась в Лондон на день рождения матери. Девушка была бы рада прийти с Джимом, но ее родители летом знакомились с Кацем, и Ева не хотела огорошить их известием о новом романе. Вечером того дня Джим, оставшийся в одиночестве, проходил мимо университетского театра и купил билет на вечернее представление «Царя Эдипа».
Даже густой слой сценического грима не помешал увидеть, что Дэвид Кац — серьезный противник: высокий, обаятельный, заносчивый ровно в той степени, чтобы это качество вызывало у окружающих скорее приязнь, чем отторжение. К тому же Кац, как и Ева, был евреем. Хотя Джим ни за что бы в этом не признался, но его — формального протестанта, крещенного только по настоянию бабушки и не ощущавшего ни принадлежности к общей истории, ни трагических утрат своего народа, — это обстоятельство смущало довольно сильно.
Он вернулся из театра в общежитие колледжа и заходил по комнате, пытаясь понять: что же Ева нашла в нем такого, чего не мог дать ей Кац? А потом пришел Свитинг, постучал в дверь, сказал, что собирается еще с несколькими ребятами в местный бар, и почему бы Джиму не перестать слоняться из угла в угол, словно тигр в клетке, и не пойти вместе с ними напиться?
Сейчас льет как из ведра, и Джим все время думает об одном и том же: Кац виделся с Евой, уговорил вернуться, и они лежат, обнявшись, в ее комнате. Он хватает пиджак и сбегает вниз, перепрыгивая через ступени: надо проверить, не пролезла ли Ева через дыру в ограде, которой пользовалась всякий раз, когда не хотела попадаться на глаза привратнику. Тот уже начал хмуриться, полагая, что видит здесь Еву слишком часто; но Джим считал это несправедливым, поскольку она уж точно была не единственной студенткой Ньюнхэма, проводившей много времени за стенами своего колледжа.
На нижнем этаже он налетает на Свитинга.
— Поаккуратнее, Тейлор, — говорит тот, но Джим не задерживается, даже не замечает, что на улице дождь, от которого мгновенно намокают волосы и капли стекают за воротник рубашки.
У забора он останавливается и шепчет ее имя. Затем повторяет его уже громче. На этот раз слышит ответ.
— Я здесь.
Ева пробирается через дыру, мокрые ветки лезут в лицо, цепляются за пальто. Он пытается развести их, чтобы помочь Еве, но набухшие ветки не поддаются, царапают руки. Когда она наконец оказывается перед ним — вымокшая, испачканная, задыхающаяся от бега, объясняющая на ходу: «Прости, заболталась после лекций», — Джим готов заплакать от облегчения. Он удерживается от упрека, понимая: это было бы не по-мужски. Но когда обнимает ее, слова вырываются сами:
— Я боялся, ты не придешь.
Ева выскальзывает из его объятий и со строгим выражением на лице, которое он со временем так полюбит, говорит:
— Дурак. Не смеши меня. Где еще, как не здесь, мне хочется быть?
Версия вторая
Мать Кембридж, ноябрь 1958
— Тебе обязательно надо идти? — спрашивает она.
Джим, одевающийся в полутемной комнате, поворачивается и смотрит на Веронику. Она лежит на боку, ее груди, твердые и белые, как китайский фарфор, прижаты друг к другу под фиолетовой ночной сорочкой.
— Боюсь, что да. Мне надо встретить одиннадцатичасовой поезд.
— Твоя мать приезжает, — произносит Вероника ровным голосом, наблюдая, как Джим натягивает носки. — Какая она?
— Ты не хочешь этого знать, — говорит он, имея в виду: «Я не хочу тебе о ней рассказывать».
И правда, любых ассоциаций между матерью и любовницей следует избегать. Разница в возрасте у них — чуть больше десяти лет, и мысль об этом смущает Джима. Без сомнений, Вероника испытывает то же, только в большей степени.
Наверное, она это чувствует и потому не настаивает на продолжении разговора, а поднимается с кровати, надевает шелковый халат, спускается вниз, чтобы проводить Джима, и предлагает сварить кофе. Утро пасмурное, низкие облака обещают дождь. В унылом сером свете остатки вчерашнего ужина — бокалы, на одном из которых остались следы ее розовой помады, грязные тарелки в раковине — выглядят отталкивающе. Джим отказывается от кофе, торопливо целует Веронику в губы и оставляет без ответа вопрос, когда они теперь увидятся.
— Не забудь, на следующей неделе возвращается Билл, — низким голосом говорит Вероника, отпирая замок. — Времени у нас немного.
Дверь за его спиной захлопывается. Джим выводит из-за угла свой велосипед. Занавески в окне соседнего дома чуть колышутся, когда он проезжает мимо, но Джим не смотрит вокруг, испытывая странное чувство нереальности происходящего. Будто не он, а кто-то другой едет по неприметной окраинной улице, только что распрощавшись с любовницей — женщиной старше его на двенадцать лет, чей муж служит в торговом флоте.
«А ты уверен, — спрашивает он себя, поворачивая на Милл-роуд, чтобы избежать плотного потока транспорта, который движется из центра в сторону вокзала, — что это была целиком ее инициатива?»
Вероника нашла его в темном углу университетской библиотеки (она посещала вечерние курсы по культуре Древнего мира) и предложила выпить вместе. Конечно, она проделывала такое не в первый раз, и вряд ли Джим станет последним в ее списке. Это не делает его безвольным соучастником, напротив, но Джим вдруг понимает, что почти не знает Веронику и вовсе не стремится узнать, а то, что когда-то представлялось таким волнующе запретным, превратилось в рутину. «Пора это прекратить, — думает он. — Поговорю с ней завтра».
Подъехав к вокзалу, Джим находит свободное место у стены и оставляет велосипед; его настроение улучшилось, стоило лишь принять решение. Одиннадцатичасовой поезд из Лондона опаздывает. В ожидании Джим сидит в кафетерии, пьет дрянной кофе и съедает булочку. Наконец — с громким скрежетом тормозов — прибывает состав. Джим не торопится к нему, допивает последние глотки, после которых на дне чашки остается лишь гуща; он слышит голос матери, доносящийся откуда-то со стороны билетных касс.
— Джеймс! Джеймс, дорогой! Мамочка здесь! Где ты?
Вивиан в отличном расположении духа: Джим понял это еще два дня назад, когда она позвонила на телефон привратника и сообщила, что приедет в субботу, и разве это не чудесный сюрприз? Бессмысленно объяснять матери, что семестр скоро закончится, и через две недели он сам будет дома, а сейчас у него гора работы, которую надо сделать, иначе профессор Доусон не позволит ему продолжать учебу в следующему году. То есть если Джим решит ее продолжить.
— Да, мама, это чудесный сюрприз, — покорно согласился он. И повторяет сейчас, найдя ее на стоянке такси, по-прежнему выкрикивающей его имя. На ней ярко-голубой шерстяной костюм, розовый шарф и шляпка, украшенная с двух сторон красными искусственными розами. Обняв мать, Джим понимает, какая та маленькая: он со страхом думает, что с каждым разом она кажется ему все меньше, будто медленно тает у него на глазах. Именно так, когда Джиму было лет девять-десять, еще при жизни отца, она описала свои приступы депрессии. Он сидел у ее постели, и мать сказала:
— Такое чувство, будто я исчезаю потихоньку, а мне все равно.
Джим оставляет велосипед на вокзале, предлагает взять такси, но Вивиан и слышать об этом не хочет.
— Пройдемся, — предлагает она. — Чудесный день. День вовсе не чудесный — они не успевают дойти и до середины Милл-роуд, как начинается дождь, — но она ничего не замечает вокруг, потому что говорит не переставая. Поток слов. — Вчера я выехала из Бристоля и в дороге встретила замечательную женщину. Я дала ей наш телефон. Уверена, мы подружимся… В Крауч-Энде ночевала у твоей тетки Фрэнсис… Она зажарила цыпленка, Джеймс, целого цыпленка. Там были все дети, прелестные малютки! А на десерт она приготовила бисквит со взбитыми сливками, она же знает, что это мое любимое блюдо!
Джим заказал столик в ресторане отеля «Юниверсити Армз», недалеко от Королевского колледжа. Вивиан предпочитает обедать в университете «…чтобы по-настоящему почувствовать, как тебе здесь живется, Джим», — но в предыдущий свой визит она подошла к столу для преподавателей и заговорила с каким-то испуганным магистром. Прославленному военному бригадиру понадобилось почти полчаса, чтобы освободиться от нее. Джим как будто вновь очутился в школе, и мать в зеленом пальто и в красной шляпке — яркое пятно на фоне остальных в одежде сдержанных тонов — машет ему от школьных ворот. Мальчишки вокруг таращатся, пихают друг друга локтями, перешептываются.
После обеда они идут в Клэр через город по мосту, сложенному из огромных светло-желтых камней, и сворачивают около сада. Дождь прекратился, но небо все того же свинцового цвета. Настроение матери тоже ухудшается. Когда они подходят к декоративному пруду, она замолкает, смотрит на Джима и говорит:
— Ты ведь скоро приедешь? Мне так одиноко в этой квартире, когда рядом никого нет.
Он чувствует комок в горле. Одного упоминания того места достаточно, чтобы на сердце у него стало тяжело.
— Я приеду домой через две недели, мама. Семестр скоро закончится. Ты разве не помнишь?
— Да, конечно.
Мать кивает, поджав губы. После обеда она вновь их накрасила — красным, очевидно, в тон цветам на шляпке, хотя он совершенно не подходит к шарфу — но получилось неудачно, помада размазалась.
— Мой сын — юрист. Очень, очень умный юрист. Ты совсем не похож на своего отца. Даже не представляешь, дорогой, какое я от этого испытываю облегчение.
На сердце у него все тяжелее. Внезапно Джиму остро хочется закричать — чтобы мать узнала, как ему здесь невыносимо, как он не хочет тут оставаться. Спросить ее: почему она настояла на Кембридже вместо художественной школы, понимая, что рисование — единственная вещь в мире, способная сделать его счастливым. Но он не кричит, а спокойно отвечает:
— Собственно говоря, мама, я раздумывал над тем, чтобы не возвращаться сюда на следующий год…
Вивиан закрывает лицо руками, и Джим знает, что она плачет.
— Не надо, Джим. Пожалуйста. Я этого не перенесу.
Он замолкает.
Джим живет в Мемориальном корпусе, названном так в честь выпускников Кембриджа, погибших в Первую мировую, и отводит мать туда — умыться и опять накрасить губы. От прежней бодрости не осталось и следа, Вивиан движется будто по инерции, и Джиму очень хочется помочь ей — но мать погружается в привычное состояние беспомощной подавленности, и он знает, что она его не услышит.
На этот раз ему удается настоять на том, чтобы они взяли такси. На вокзале он провожает Вивиан в купе пятичасового поезда, выходит на перрон и стоит у окна, размышляя, не надо ли поехать вместе с матерью к тетке и убедиться, что она добралась благополучно. В прошлом году, будучи в похожем состоянии, Вивиан заснула в пустом купе сразу после Поттерс-Бар, и дежурный обнаружил ее, уже когда все вышли и поезд стоял на запасном пути в Финсбери-парк.
Но он не едет. Торчит на перроне и напрасно машет рукой — мать не реагирует, сидит с закрытыми глазами, откинувшись на салфетку, покрывающую изголовье сиденья, — до тех пор, пока поезд не скрывается вдали, и теперь уже Джиму ничего не остается, кроме как забрать велосипед и отправиться обратно в город.
Версия третья
Кафедральный собор Кембридж и Эли, декабрь 1958
В последнюю субботу семестра они просыпаются рано утром в комнате Джима, пробираются незамеченными через дыру в изгороди и отправляются на автобусе в Эли.
Прозрачное солнце висит низко, будто опирается на горизонт, и едва освещает окрестные болотистые низины. Ветер сегодня восточный. В городе он дует уже несколько недель, заставляя прохожих, у которых изо рта на морозном воздухе валит пар, плотнее завязывать шарфы. Но здесь нет зданий, способных остановить его разгул, вокруг только акры замерзшей грязи и низкие кривые деревья.
— Когда ты будешь собираться? — спрашивает он. Завтра они оба уезжают: Джим в полдень на поезде, и по дороге еще проведет день у своей тетки Фрэнсис в Крауч-Энде; Ева — после обеда, на родительском «моррис-майноре» вместе с младшим братом Антоном, который всю дорогу будет сидеть сзади, усталый и раздраженный.
— Утром, я думаю. Мне нужен час или два, не больше. А ты?
— Тоже.
Джим берет ее ладонь в свои. Его рука холодная, жесткая, указательный палец огрубел от работы с кистью, под ногтями засохшая краска. Вчера вечером он наконец показал Еве портрет; Джим снял старый холст с непринужденностью фокусника, но Ева видела, как он нервничает. Она не стала признаваться в том, что несколько дней назад уже посмотрела на картину, когда Джим ушел в ванную; сходство поразило ее. Просто слои краски — но это была она сама, созданная быстрыми, легкими движениями его кисти, очень похожая и в то же время какая-то другая, нездешняя. Прошла неделя с тех пор, как Ева ходила к врачу. Смотреть на картину, видеть этот подарок и хранить молчание было невыносимо. А что тут можно сказать?
Она вновь молчит, глядя на пробегающие мимо пустоши. Где-то на переднем сиденье автобуса хрипло плачет ребенок, мать пытается его успокоить.
— Срок — восемь недель, — сказал врач, внимательно глядя ей в глаза, — возможно, двенадцать. Вам надо начинать готовиться, мисс Эделстайн. Вам и вашему…
Он не закончил фразу, и Ева не стала договаривать за него. Она думала только о Джиме и еще о том, что их знакомству всего лишь полтора месяца.
Если Джим и замечает ее молчание, то не задает вопросов. Он тоже ничего не говорит, лицо у него бледное, под глазами круги от усталости. Ева знает: ему не хочется уезжать, возвращаться в бристольскую квартиру, которую он не считает своим домом. Для Джима это просто жилье, которое снимает мать. Его дом в Сассексе, где он родился; там стены из грубого серого камня и розы в саду. В мастерской, оборудованной на чердаке, рисует отец; мать сидит с маленьким Джимом или смешивает краски, ополаскивая банки из-под скипидара в кладовке на первом этаже. Вивиан была там, когда ее муж, схватившись за грудь, упал с лестницы; она выбежала из кладовки и обнаружила его внизу, с многочисленными переломами. Джим в это время был в школе. Тетка Пэтси забрала мальчика и привезла в то место, которое разом перестало быть домом; там уже толпились полицейские, соседки заваривали чай, а мать безостановочно рыдала, пока ее не успокоили приехавшие врачи.
В Эли автобус останавливается возле почты.
— Конечная, — объявляет кондуктор, и они последними идут к выходу, по-прежнему держась за руки. Впереди них мать с ребенком, который наконец заснул, и пожилая пара: мужчина — в приплюснутой шляпе и со строгим выражением лица, и женщина — добродушная толстушка. На выходе из автобуса она встречается с Евой взглядом.
— У вас все только начинается? — спрашивает толстушка. — Хорошего вам обоим дня.
Ева благодарит и теснее прижимается к Джиму. На улице холодно.
— Посмотрим собор? — предлагает Джим. — В прошлом году я слушал здесь концерт в честь собрания Общества юристов и заодно сходил на экскурсию. Красивое место.
Ева кивает; она согласна на все, что предлагает Джим, только бы оставаться рядом с ним, только бы подольше не наступал тот неотвратимый миг, когда надо будет сказать ему правду о себе и о том, что она должна сделать.
И они идут, закутавшись в шарфы, туда, где высятся соборные шпили, своими рублеными формами напоминающие крепостные башни; их стены испещрены временем, и эти следы явственно видны при тусклом зимнем свете. Внезапно Джим останавливается, поворачивается к Еве, лицо его краснеет.
— Ты ведь не против? Ну, чтобы мы зашли в собор? Я даже не подумал.
Она улыбается.
— Ну конечно, не против. Думаю, бог не возражает. Прежде всего Еву ошеломляет огромное пространство собора: колонны бесконечно тянутся ввысь, к сводчатому потолку, на полу — мозаика из плиток.
— Лабиринт, — объясняет Джим, — в центре которого находится бог.
Впереди, под огромным панно из цветного стекла, стоит золотая ширма, а за ней алтарь, покрытый дорогой белой тканью. Они медленно идут по главному нефу, иногда останавливаются, чтобы рассмотреть потолок, украшенный золотым, красным и зеленым орнаментом. В центре видна звезда; на скатерти, которой мать Евы накрывает стол в Шаббат, почти такая же, хотя у этой — Ева посчитала — восемь лучей, а не шесть.
— Восьмиконечная звезда, — тихо, почти шепотом, объясняет Джим. Ева смотрит на его живое, подвижное лицо, и любовь переполняет ее: это чувство настолько огромно, что она едва может дышать.
«Как, — думает она, — как я смогу его оставить?»
И тем не менее ей придется это сделать. Однажды, лежа без сна в своей комнате в Ньюнхэме, прислушиваясь к скрипам и вздохам старого здания, Ева позволила себе помечтать: представила, что призналась ему, и выражение его лица изменилось, а потом все разрешилось.
— Это не имеет значения, — сказал воображаемый Джим и прижал ее к себе. — Ничто не имеет значения, Ева, если мы вместе.
Пока все это лишь мечты, но Ева знает, что они еще могут сбыться. Настоящий Джим, который стоит сейчас рядом и рассматривает высокий свод собора (как же хочется прикоснуться к его лицу и дотянуться губами до его губ), способен на такие слова. Именно поэтому в то утро, когда колледж вокруг нее начал просыпаться, она решила не давать ему шанса, не допустить, чтобы любимый человек — с его талантом, с его огромными планами, и без того уже сражающийся с болезнью матери, — поневоле очутился в ловушке, став отцом чужого ребенка. Джим скажет, что ему это по силам, и он действительно справится. Но она не позволит ему принести такую жертву.
Несколько дней назад они с Пенелопой сидели в обнимку в Евиной комнате, и даже лучшая подруга не пыталась отговорить Еву.
— А если Дэвид откажется? — спросила Пенелопа. — Что мы тогда будем делать?
Как же Ева была благодарна ей за это «мы».
— Он согласится, Пен. А если откажется, я что-нибудь придумаю.
— Мы что-нибудь придумаем, — поправила ее Пенелопа, и Ева не стала с ней спорить, хотя знала, что эту ношу предстоит нести ей и Дэвиду, и никто им тут не помощник. Ни Пенелопа, ни родители Евы. Она верила, что Мириам и Якоб все поймут, да и как иначе, учитывая их собственную историю? И все-таки мысль о том, что придется оставить университет, вернуться в Хайгейт и вновь оказаться в своей старой комнате, беременной и одинокой, была непереносима.
В дневнике она записала: «Я выбрала Джима и не могу его оставить. Но решения теперь принимаю не только я».
Джим, стоя посреди собора, продолжает говорить: — Монахи построили новые колонны после того, как однажды ночью старые рухнули. Скорее всего, произошло землетрясение. Так они хотели показать, что не отступят перед стихией.
Ева кивает. Она не знает, что ответить, как передать растущее в груди чувство: любви, но вместе с тем и печали по всем, кто ушел. По отцу Джима, лежащему в неестественной позе у подножия лестницы; по Евиным бабушкам и дедушкам с обеих сторон, по всем ее теткам и дядьям, двоюродным братьям и сестрам. Их загоняли в эшелоны, как скот, а они мучились от жажды и темноты, ничего не понимали, только догадывались, куда направляются, и страшились этого, но все еще надеялись. Они наверняка надеялись до последнего момента, когда становилось ясно, что сделать уже ничего нельзя.
Джим как будто догадывается, о чем она думает, и сжимает ее руку.
— Давай зажжем свечу.
У западного входа виднеется подставка, на ней мерцает с десяток огоньков. Ниже — коробка с прорезью для денег, рядом — свечи. Ева достает из кошелька несколько монет, бросает их в прорезь, берет свечи в память обо всех бабушках и дедушках, зажигает их и опускает на металлическое дно подставки. Джим берет только одну — в память о своем отце; они, держась за руки, смотрят, как разгорается пламя, и Ева опять ощущает загрубевшие от работы пальцы Джима. Ей хочется плакать, но слезы не могут передать все, что она чувствует сейчас — близость к нему, воспоминания, надежду, предчувствие расставания.
Они съедают жидкий овощной суп в трапезной собора и медленно бредут через город. Солнце заходит, ветер ерошит волосы; теплое нутро автобуса становится спасением. Ева снимает туфли и ставит ноги на радиатор под сиденьем. Она не собирается спать, но почти сразу роняет голову на плечо Джиму. Тот будит ее уже в Кембридже.
— Мы приехали, Ева. Ты проспала всю дорогу.
Только сейчас Ева сообщает Джиму, что она, к сожалению, не сможет провести с ним вечер, ей надо кое-что сделать. Джим протестует: ведь послезавтра они разъедутся и не увидятся долгих четыре недели. Ева говорит: «Да, все верно, мне очень жаль, но…» Подается вперед, целует его и заставляет себя уйти, не оборачиваясь, хотя Джим несколько раз окликает ее, но ничего больше она сделать не может.
Она идет до Кингс-Парейд, не замедляя шаг. Высокие башни на входе в Королевский колледж отбрасывают длинные прямоугольные тени на брусчатку мостовой. Ева останавливается возле фонарного столба, не обращая внимания на любопытные взгляды парней в черных мантиях, которые спешат на ужин в честь окончания семестра. Она пропустит такой же ужин в Ньюнхэме, но ей все равно. Ева не может себе представить, что еще когда-нибудь в жизни проголодается.
Привратник смотрит на Еву с нескрываемым неодобрением.
— Начинается торжественный ужин, мисс. И мистер Кац должен на нем присутствовать.
— Пожалуйста, — повторяет она, — мне нужно срочно с ним поговорить.
Дэвид появляется через несколько минут.
— Ева, что случилось? — спрашивает он тревожным шепотом. — Ужин вот-вот начнется.
Затем всматривается в ее лицо и смягчает тон. Ева вспоминает, как Дэвид выглядел, когда она сообщила, что между ними все кончено, как он словно уменьшился от этих слов.
— Но я выбрал тебя, — сказал он тогда, и все, что она могла произнести в ответ:
— Прости.
Сейчас Дэвид снимает мантию и вешает ее на руку.
— Ладно. Пошли. Съедим что-нибудь в «Орле».
Позднее, когда они все обсудят и спланируют, Ева вернется к себе в Ньюнхэм и напишет письмо. Затем сядет на велосипед и поедет по темным улицам в Клэр, где попросит привратника — он как раз смотрит телевизор и улыбается, глядя сначала в экран, а потом на Еву — принять письмо для Джима Тейлора.
Затем Ева быстро уйдет, не оборачиваясь, чтобы случайно не увидеть его. Не желая оглядываться на все то, что могло бы произойти.
Версия первая
Дом Лондон, август 1960
Когда Ева и Джим возвращаются из свадебного путешествия, Якоб и Мириам Эделстайн устраивают прием в саду.
Стоит самый теплый летний вечер, какой только можно представить в Англии: последние лучи солнца бродят по террасе, воздух неподвижен и напоен ароматами жимолости и сырой земли. Джим потягивает виски с содовой; мысли разбегаются, его клонит в сон, голова словно ватой набита, но ему хорошо, и рядом Ева, которую он держит за руку. Она улыбается, загар ей к лицу. Джиму кажется, что от ее кожи до сих пор исходит тепло острова, где на подметенной ветрами веранде они завтракали дыней и йогуртом, а вечерами пили греческое вино в бухте.
— Что ж, — говорит Мириам, — придется вас еще раз отправить в Грецию. Вы оба выглядите отлично.
Она сидит слева от Евы, летнее платье не скрывает ее стройных ног. Нет сомнений в том, что они мать и дочь: обе маленькие и подвижные, как птицы — похожи даже голоса, низкие, напоминающие звук флейты, хотя у Мириам до сих пор временами прорывается жесткий австрийский акцент. Как ни странно, ее певучий голос — она училась в Венской консерватории, когда забеременела Евой, — на октаву выше, чем у дочери: ярко выраженное сопрано, чистое, как выбеленная временем кость.
Антон пошел в отца: оба высокие, широкоплечие, двигаются неторопливо, размеренно. Ему уже девятнадцать, и он налил себе виски, чтобы поприветствовать сестру и ее мужа.
— Добро пожаловать домой, — говорит Антон, чокаясь с Джимом.
«Домой, — думает Джим. — Теперь и мы здесь живем».
Так оно и есть. По крайней мере, пока. Эделстайны освободили небольшую квартиру — спальня, гостиная с примыкающей к ней маленькой кухней и крохотная ванная — на третьем этаже их просторного элегантного дома.
Раньше ее занимал герр Фишлер, дальний родственник Якоба из Вены, но год назад он умер. С тех пор квартира служила складом для коробок с книгами, которые не помещались на первых двух этажах жилища, знавшего, как и его владельцы, только два увлечения — чтение и музыку. Каждую комнату украшают книжные стеллажи, а в гостиной их место занимают кипы пластинок. Там же стоит рояль, за который изредка и неохотно садится Антон. Ребенком Ева тоже проводила время за инструментом, но отсутствие у нее таланта было настолько явным, что родители признали ее случай безнадежным.
На стенах вдоль лестницы с перилами из красного дерева висят выцветшие портреты каких-то родственников Эделстайнов: все как один в высоких воротничках, лица неулыбчивые. Эти фотографии ценны не столько качеством изображения, сколько тем, какой путь им пришлось проделать: в Лондон после войны снимки прислал добросердечный друг отца Якоба, католик, которому тот после Хрустальной ночи доверил все ценное, что у него оставалось.
Ева, его жена, — как красиво и ново звучит это слово — сплетает свои пальцы с пальцами Джима. Вначале, когда Якоб предложил им занять пустующую квартиру — дело было за обедом в ресторане отеля «Юниверсити Армз», где одновременно отмечали помолвку и день рождения Евы, которой исполнился двадцать один год, — Джим колебался. Он представлял их жилище несколько иначе, как место, где они смогут отгородиться от остального мира. Его приняли в Художественную школу Слейд, занятия начинались в сентябре: при поддержке Евы он наконец решил оставить юридический факультет. Ева поехала вместе с Джимом в Бристоль, чтобы сообщить об этом его матери. Та немного поплакала, но Ева заварила чай, ловко отвлекла Вивиан разговором на другие темы, а Джим наконец поверил, что мать вполне сможет выжить под тяжестью своего разочарования.
Затем последовало несколько томительных недель, пока Джим не убедился, что Министерство труда позволит ему вновь перенести сроки ненавистной службы по распределению. Наконец, к его огромному облегчению, пришло письмо — его освобождали от этой повинности. На той же неделе Джим сдал последний экзамен.
* * *
Ева между тем отправилась в Лондон на собеседование в газету «Ежедневный курьер».
— Речь о том, чтобы писать для женской странички, — рассказала она, вернувшись, — ничего особенного.
Но Джим знал, насколько важна для нее эта работа. Предложение она получила через несколько дней после того, как ему пришло письмо из министерства. Они тогда выбрались через окно в комнате Джима на балюстраду общежития, стояли вдвоем, оглядывая идеально подстриженный газон и лодки на реке, и потягивали из горлышка сладковатый портвейн (приз Джима за победу в художественном конкурсе).
— За будущее, — сказал Джим, а Ева рассмеялась и поцеловала его. Ему казалось, что будущее лежит перед ними как раскрытая книга: после свадьбы он станет рисовать, Ева — писать, а главное, каждый вечер они будут засыпать вместе. Ощущение счастья было настолько сильным, что Джиму пришлось ухватиться за парапет, дабы не свалиться. В этот момент внизу проходил один из университетских служителей в фирменном котелке. Он поднял взгляд и заметил их:
— Эй вы, слезайте оттуда!
Они в ответ помахали ему, держась за руки, молодые, свободные, неуязвимые.
В том будущем, которое представлял себе Джим, они жили отдельно от Эделстайнов — в районе Хэмпстедхит, где можно гулять летом в выходные; в квартире с широким окном, у которого он поставит мольберт, с кабинетом, где Ева будет писать. Но Ева отнеслась к предложению отца более прагматично. Крошечная стипендия, обещанная Джиму в Слейде, гроши, которые, по крайней мере вначале, она сможет зарабатывать в «Ежедневном курьере», — все это обещало им довольно скудный достаток.
— Лучше в бедности и тепле, но рядом с мамой и папой, — сказала она, — чем в бедности и холоде в каком-нибудь сыром подвале, верно?
Джим улыбнулся.
— Честно говоря, второй вариант выглядит соблазнительно. Нам пришлось бы искать спасение от холода в объятиях друг друга.
Ева улыбнулась в ответ и погладила его по щеке; но Джим знал, что решение уже принято.
«В любом случае, — думает Джим сейчас, глядя на родственников жены, — мне повезло». Эделстайны приняли его с ненавязчивым гостеприимством и великодушием. Якоб, первая скрипка в Лондонском симфоническом оркестре, — человек мягкий, скромный, почти застенчивый. Когда они встретились впервые, Джим заметил, что Якоб внимательно присматривается к нему — оценивает, предположил Джим. Поскольку с тех пор он подобного выражения на лице Якоба не наблюдал, очевидно, вердикт был вынесен положительный. Антон обрадовался, обнаружив на свадьбе, что двоюродный брат Джима Тоби — его одноклассник, плюс к этому староста класса и звезда школьной футбольной команды. И Мириам с самого начала хорошо относилась к Джиму. Если они с Якобом и были разочарованы, что дочь выбрала человека другой веры, то умело это скрывали. Они, кажется, остались довольны тем, что брак заключат по светским канонам: на церемонию Ева наденет белое шелковое платье с букетом голубых анемонов, а в зале на первом этаже будет играть джазовая группа. Ни разу у Джима не возникло ощущения, что они предпочли бы видеть свою дочь выходящей замуж в синагоге.
Голова у Джима кружилась при мысли, что Ева ответила согласием на его предложение. Вскоре после помолвки, во время одного из тихих утренних разговоров, он спросил, не хочется ли ей, чтобы он перешел в иудаизм. Джим был серьезен, но Ева мягко рассмеялась и велела ему выбросить это из головы.
— Мама и папа выше такого, — сказала она, лежа в его объятиях. — Выше стадного чувства. Они видели, к чему это приводит.
В восемь на улице еще тепло; небо над Хайгейтом розовеет, бледная луна проглядывает над горизонтом. Ужинать решили на воздухе.
— Стыдно сидеть в душной столовой, — говорит Мириам, — когда такая погода.
Джим помогает носить стаканы, приборы, свечи. Мириам ставит на стол холодного цыпленка, селедку в укропном соусе (любимое блюдо Якоба), картофельный салат и спелые помидоры, заправленные домашним оливковым маслом, которое Ева привезла из Греции. Якоб разливает вино по бокалам, и, пока все пьют и закусывают, Джима охватывает чувство приятной усталости и восхитительного тепла, исходящего от Евы, его жены, женщины, которая предпочла его остальным. Сейчас она рядом, а прошедшие две недели они провели в объятиях друг друга, и Джим до сих пор ощущает соленый вкус ее губ.
— Вам обоим пришли письма, — сообщает Мириам, — я положила их наверху возле камина. Видели?
Ева отрицательно качает головой.
— Еще нет, мама. Мы сразу заснули. Потом посмотрим.
Мириам смотрит на Джима:
— Одно из Бристоля. Наверное, от твоей матери? Джим кивает и отводит взгляд. За несколько дней до свадьбы Вивиан опять попала в больницу, и даже Ева не смогла убедить его в том, что не решение бросить занятия юриспруденцией стало этому причиной. В последний раз он видел мать сразу после сессии. Из Кембриджа отправился прямо к Эделстайнам, жил наверху, а Ева заняла свою старую комнату. Ясным субботним днем Джим взял семейный «моррис» и поехал в Бристоль. Вивиан в одиночестве сидела у окна, выходящего на заросший деревьями сад. Он несколько раз назвал ее по имени, но мать не обернулась.
Почувствовав, что Джиму не по себе, Якоб обращается к Мириам:
— Еще успеют прочитать. Пусть сначала придут в себя после дороги.
Эделстайны переглядываются, и Мириам, промокнув губы салфеткой, слегка кивает.
— Когда начинаются занятия в Слейде, Джим? Наверняка не терпится приступить?
Позже, наверху, уже в постели Ева шепотом скажет ему на ухо:
— Джим, давай на следующих выходных навестим твою маму. Можем взять с собой фотографии со свадьбы. Она посмотрит и словно сама там окажется.
Он ответит:
— Да, наверное, так и сделаем, — и прижмет ее к себе. Потом Джим заснет, словно провалится в глубокую черноту. Ему приснится, что он едет в поезде по Италии, и поля чернеют за полуоткрытыми окнами, а в соседнем купе спит мать. Сквозь разделяющее их стекло он видит, как покачивается на сиденье ее голова, и не может до нее дотянуться, да и пробовать не хочет.
Версия вторая
Гипсофила Лондон, август 1960
Ева Мария Эделстайн и Дэвид Абрахам Кац сочетаются браком в воскресенье в Центральной синагоге на Халлам-стрит, прием по случаю этого события проходит в «Савое».
Невеста одета в длинное платье с пышными негнущимися юбками и глубоким декольте в форме сердца, приобретенное за приличную сумму в «Селфриджес» ее свекровью Джудит Кац, а в руках у нее — чайные розы и гипсофила. Потом все приглашенные станут восхищаться ее красотой, хотя на самом деле их внимание в первую очередь привлек жених. Как хорош собой, как сидит на нем серый костюм, как безупречна его стрижка. На приеме в честь бракосочетания одна из теток Дэвида Каца будет делиться впечатлениями со всеми, кто пожелает ее слушать:
— Я едва узнала своего племянника. Думала, это Рок Хадсон во плоти.
День очень душный: та же тетка потеряла сознание в синагоге, когда молодые пили ритуальное вино. Происшествие вызвало недолгий переполох, но даму быстро привели в чувство с помощью благоухающего лавандой носового платка, который нашелся в сумочке у более молодой родственницы. Затем гости выстраиваются под палящим солнцем на ступенях синагоги с пригоршнями конфетти в руках. Появляются молодожены. Они смеются и щурятся от яркого света, а конфетти ложится им на лица и плечи, и фотограф все щелкает и щелкает затвором.
В «Савое» подают напитки, столы ломятся, гости танцуют. Антон Эделстайн и его школьный приятель Ян Либниц перебрали ромового пунша и блюют в декоративную вазу. После поздравительных речей Мириам исполняет песню Шуберта, Якоб аккомпанирует ей на пианино. Джудит Кац находит это несколько избыточным, но вслух не говорит ничего, только улыбается и вежливо аплодирует, тщательно скрывая неодобрение. Гости между тем перемещаются в зал, где оркестр играет хору, а Дэвид и Ева, согласно обычаю, держат за концы белый шелковый платок, пока их поднимают вверх на серебряных стульях.
Неожиданно быстро наступает момент, когда молодые должны покинуть праздник. Брачную ночь они проведут наверху, в одном из самых роскошных номеров «Савоя» — еще один подарок от Джудит и Абрахама Кац наряду со свадебным путешествием. Завтра утром Ева и Дэвид рейсом «Бритиш эйруэйз» вылетают в Нью-Йорк, где пробудут несколько дней у бабушки и дедушки Дэвида в Верхнем Ист-Сайде, а затем поездом отправятся в Лос-Анджелес.
Прощальные объятия, поцелуи; слезы тетушек и двух подружек невесты — ее лучшей подруги Пенелопы (которой ужасно жарко и неудобно в атласном корсаже) и двоюродной сестры жениха Деборы. Эта яркая, хотя и несколько надменная брюнетка дважды, как подметили внимательные наблюдатели, зевнула во время церемонии в синагоге. Потом Дэвид и Ева поднимаются наверх в полной тишине — обитые материей двери лифта гасят любые звуки — держась за руки, и тонкое кольцо невесты у нее на пальце поблескивает рядом с бриллиантами на обручальном кольце.
В номере тоже царит тишина. Пара останавливается на пороге, за спиной у них переминается с ноги на ногу посыльный.
— Сэр, мадам… что-нибудь еще? Шампанское в номере — подарок от администрации отеля.
— Очень мило с их стороны, — произносит Дэвид. — Спасибо, вы свободны.
Посыльный еще раз поздравляет их со сдержанной ухмылкой, которую Ева предпочитает не заметить, и уходит. На столике стоит проигрыватель, рядом кипа пластинок.
— Немного музыки, миссис Кац?
Ева кивает, и Дэвид ставит пластинку братьев Эверли.
Тишина нарушена. Он подхватывает ее и ведет в танце по мягкому синему ковру. В манерах Дэвида всегда присутствует актерство — иногда кажется, что Ева для него скорее зритель, нежели невеста. Но сегодня это неважно, ведь он так красив, и они поженились, и никого, кроме Дэвида, Ева никогда не любила.
Или думает, что не любила. Однажды утром, вскоре после того, как он сделал ей предложение, Ева проснулась с чувством, похожим на панику. Не могла избавиться от ощущения, что не любит Дэвида или делает это неправильно; возможно, просто не умеет любить. В библиотеке, где ей предстояло закончить эссе по «Гамлету», она вместо работы записала в дневнике, пригнувшись, чтобы никто из девушек вокруг ничего не увидел: «Дэвид так умен, так обаятелен и талантлив. Когда я рядом с ним, мне кажется, что преград не существует. Я на самом деле его люблю, я в этом уверена. В то же время меня гложет неприятное чувство, что все происходящее между нами — какая-то поверхностная имитация любви. Мне не дает покоя идея Платона о том, что большинство людей проводят жизнь, повернувшись спиной к свету и наблюдая лишь тени на стене. Что, если моя жизнь с Дэвидом — та самая тень? Вдруг это все не настоящее?»
Ева мгновенно отбросила эту мысль как вздорную — она явно усложняла самые простые вещи. Но позднее, когда они с Пенелопой шли на лекции, поинтересовалась:
— Откуда ты знаешь — по-настоящему знаешь, что любишь Джеральда?
— Дорогая, я просто знаю. Инстинктивно чувствую.
Она взяла Еву за руку.
— Но если ты беспокоишься из-за Дэвида, то зря. В принципе, сомнения — это естественно. Знаешь, как я себя чувствовала, когда ответила Джеральду «да»? Словно кролик, ослепленный светом фар. Я совершенно не понимала, правильно ли поступаю. Помнишь, ты сказала, что мы с Джеральдом созданы друг для друга и это всем очевидно. Разреши мне вернуть тебе долг. Дэвид Кац блестящий человек, он любит тебя, и я знаю, что вы сделаете друг друга счастливыми.
Ева позволила убедить себя. Она действительно верила, что Дэвид любит ее: тот взял за правило каждую пятницу дарить ей букет красных роз, наполнявших комнату пьянящим ароматом. Предложение он сделал в «Юниверсити армз»: столик был заказан заранее, Дэвид встал на колено — игра на публику, разумеется, — и пара за соседним столом принялась аплодировать. Тогда он сказал, что с того момента, как увидел ее, знал: когда-нибудь она станет его женой.
— Ты не похожа на других девушек, Ева. У тебя есть амбиции, собственные планы. Мне это нравится. Я это уважаю. И мои родственники тебя любят, ты же знаешь.
Казалось, в ресторане не осталось равнодушных: все присутствующие следили за тем, как он надевает кольцо ей на палец.
— Даже твоя мама? — спросила Ева.
Дэвид рассмеялся.
— Об этом не беспокойся, дорогая. Через несколько месяцев ты будешь единственной миссис Кац, мнение которой имеет значение.
«Миссис Ева Кац». Она написала эти слова в дневнике, как будто пытаясь ощутить их значение. В присутствии Дэвида Ева чувствовала себя прекрасной, парящей над землей, свободной. Может, это и есть любовь? На самом деле у Евы не было причин сомневаться, так что она отогнала беспокойные мысли, списав их на неопытность и неумение разобраться в собственных чувствах.
Сейчас Дэвид в номере отеля разливает по бокалам шампанское. Они перебираются на гигантскую кровать, скидывают огромные подушки и стеганые одеяла и занимаются любовью — немножко неуклюже, потому что оба выпили лишнего. Потом лежат рядом — обессиленные, не в силах сказать ни слова. Дэвид засыпает почти мгновенно, Еве не спится. Она надевает новую ночную сорочку и халат — то немногое, что разрешили купить Мириам в качестве приданого, несмотря на многочисленные подарки Джудит Кац, — находит сигареты в переднем отделении сумки, тщательно уложенной к завтрашнему путешествию, и выходит на балкон.
Еще не поздно, и воздух не успел остыть от дневной жары: по набережной прогуливаются, взявшись за руки, пары, зажигаются фонари, и лодки скользят по темнеющей реке. Как странно: завтра они окажутся в воздухе, будут пролетать над Лондоном и коварными водами Атлантики.
Ева закуривает. Думает о Якобе, о том, как вчера, в последний вечер в родительском доме, когда она собиралась к себе наверх, отец отвел ее в сторону и спросил по-немецки:
— Ты абсолютно уверена в своем выборе, дорогая?
Он повел ее в музыкальный салон, усадил рядом с роялем, на котором лежали скрипки и ноты. Место для серьезных разговоров; от этого и оттого, что Якоб заговорил по-немецки, Ева почувствовала холод внутри.
— Почему ты спрашиваешь? — резко ответила она по-английски. — Тебе не нравится Дэвид? Не думаешь, что нужно было говорить об этом раньше?
Якоб пристально смотрел на нее своими карими глазами, излучающими бесконечную доброту. Мириам всегда говорила, что именно эти глаза привлекли ее к нему в поезде на пути из Вены; а еще то, как он, не говоря ни слова, поднял и понес в купе ее чемодан, будто безоговорочно принимая тот факт, что их жизни пересеклись.
— Дело не в том, что он мне не нравится, — сказал Якоб. — Дэвид приятный молодой человек, и видно, что он заботится о тебе. Но я боюсь за тебя, Ева. Боюсь, что Дэвид никогда не полюбит тебя так сильно, как любит самого себя.
Ева ужасно разозлилась: почему Якоб ждал так долго, прежде чем сообщить о своих подозрениях? Злилась еще и потому, что он облек в слова те страхи, которые она сама усердно гнала от себя. В последние месяцы при обсуждении совместных планов на будущее Еву не покидало неясное чувство, что интересы Дэвида всякий раз оказываются важнее ее желаний. Через несколько недель у него начинались занятия в Королевской академии драматического искусства, так что им предстоял переезд в дом Джудит и Абрахама в Хэмпстеде. Ева предложила в качестве жилья пустующую квартиру в доме своих родителей, но мать Дэвида с ходу отвергла эту идею.
— Дэвиду предстоит очень много работать, Ева, — сказала она. — Будет лучше, если мы обе будем поблизости, чтобы помогать ему.
Ева выдержала паузу и затем спокойно ответила, что не собирается посвящать всю себя заботам о Дэвиде. Она претендовала на место в «Ежедневном курьере» (всякая мелочовка на женской странице, ничего особенного), но оно досталось кому-то другому. Теперь ради заработка Ева собиралась читать рукописи пьес — Дэвид обещал использовать свои связи в Королевском театре — и приступить к собственному роману. Но если они поселятся в Хэмпстеде, придется жить в старой комнате Дэвида. Ее давно превратили в храм его школьных достижений, увесив стену битами для крикета и грамотами из драматического кружка. Да, там имелся стол, за которым теоретически Ева могла бы писать, но, как она подозревала, если Джудит будет поблизости, времени на это у нее не останется.
Но здесь, в музыкальном салоне родительского дома, Ева не собиралась позволять Якобу вновь пробуждать в ней сомнения. Она побежала наверх, в свою комнату, где несколько часов пролежала с открытыми глазами. Лишь ближе к утру Ева забылась неглубоким сном.
Сейчас она курит, глядя на реку, фонари и небо, местами окрашенное в фиолетовый цвет. Затем возвращается в комнату и ложится рядом со своим спящим мужем.
Версия третья
Прилив Лондон, сентябрь 1960
Субботнее утро: Еву будит звонок в дверь. Вначале она даже не понимает, что это за звук, — не может вырваться из тревожного сна. Ей снится, что они с Ребеккой находятся на маленьком острове; начинается прилив, вокруг ни души, из пустынной гавани доносится сигнал горна, а ребенок все плачет и плачет, не желая успокаиваться.
Открыв глаза, Ева чувствует, как слабеет напор волн: остров оказывается всего лишь старой кушеткой, а горн — дверным звонком, кнопку которого кто-то нажимает с равными интервалами.
— Антон! — зовет Ева через дверь, удерживая на руках Ребекку. Дочь вырывается, не переставая кряхтеть. Но никто не отвечает — уже поздно, и тут Ева вспоминает, что брат на тренировке по крикету. Мириам, как обычно в субботнее утро, дает уроки пения в Гилдхолле, отец уехал с оркестром на гастроли. А Дэвид… Дэвид тоже ушел куда-то. Они с Ребеккой дома вдвоем.
Она усаживает ребенка себе на колени. Ребекка открывает сонные глаза — темно-карие, всезнающие — и пристально смотрит на мать. Кажется, малышка раздумывает — не закатить ли истерику, ведь ее разбудили столь бесцеремонно. Потом решает, что не стоит, и вместо этого одаряет Еву беззубой улыбкой. Ева улыбается в ответ, удерживая дочь на вытянутых руках, затем бережно опускает ее на пол.
— Сейчас мамочка оденется, и мы спустимся посмотреть, кто там устроил такой шум.
На верхней ступеньке стоит раскрасневшаяся Пенелопа в короткой черной куртке, в руках — букет желтых роз, завернутый в коричневую бумагу. Едва взглянув на Еву, подруга бросается к ней, они дважды целуются, и Ева ощущает знакомый аромат помады и ландышевых духов.
— Скажи честно, дорогая, — ты забыла, что я должна прийти?
Ева не успевает ответить, а Пенелопа уже наклоняется к Ребекке, которую мать с трудом удерживает на руках.
— Боже, меня не было всего три недели, а она так выросла!
Пенелопа гладит легкие как пух детские волосы. Те сильно отросли — Ева уже несколько дней собирается постричь дочку — и торчат в разные стороны, делая ребенка похожим на какаду-переростка.
— Какая ты у нас красавица, Бекки! Ну давай, улыбнись тете Пенелопе.
Ребекка послушно улыбается: Ева подозревает, что она унаследовала от отца готовность угодить публике. Жажда всеобщего внимания — тоже от него; по ночам девочка часто плачет, жалуясь на неведомые ущемления своих прав. Ева с матерью уже протоптали дорожку на ковре, пока расхаживали туда-сюда, прижимая к себе извивающегося младенца. Мириам при этом негромко напевает старинные колыбельные на идиш.
На кухне Ева отдает ребенка Пенелопе. А сама готовит чай, ищет вазу для цветов и тарелку для песочного печенья, упаковку которого подруга достала из глубин своей кожаной сумки.
— Не выспалась?
— Куда там.
Она наполняет чайник, роется в кухонном шкафу в поисках подаренной матерью хрустальной вазы.
— Дэвид после занятий пошел вместе со всеми в паб, вернулся поздно, ему, конечно, захотелось увидеть дочь, и он ее разбудил. Ребекка разволновалась, ну и как ты думаешь, кто потом всю ночь ее успокаивал?
— Понятно.
Чувствуется, что Пенелопе есть что сказать, но она сдерживается и отходит к раковине с девочкой на руках, чтобы не мешать Еве. Ребекка, воспользовавшись моментом, выхватывает из сушилки деревянную ложку и пытается ударить Пенелопу по голове.
— Бекки, дорогая, не надо так делать, — мягко говорит Пенелопа. Ева морщится.
— Прости. Давай я ее возьму.
— Давайте-ка вы обе посидите, а я приготовлю чай.
Ева слишком устала, чтобы спорить. Она устраивает дочь на полу в гостиной, перед французскими окнами — отсюда открывается хороший вид на кошку у соседской двери — и приносит ей любимую куклу. Думает о том, каким пришел вчера Дэвид — с трудом держался на ногах, распространяя вокруг себя запах пива и табачного дыма. Он разбудил ее, да и весь дом, наверное. Благоухая ароматами паба, наклонился над кроватью и спросил:
— Где тут моя любимая девочка?
Спросонья Ева решила, что муж хочет обнять ее, и ошиблась — он тянулся не к ней.
— Я имел в виду Ребекку. Разве она не хочет обнять папочку?
«По крайней мере, — думает Ева сейчас, — нельзя обвинить Дэвида в равнодушии к дочери, хотя он и проявляет внимание только тогда, когда удобно ему». Он по-прежнему временами хорошо относится к Еве. В прошлом месяце они втроем ездили на день в Брайтон, сбежав от удушающей городской жары; жареная рыба с картошкой, мороженое, восторженные вопли Ребекки, когда отец бережно опускал ее ножки в самые маленькие волны. Ева смотрела на мужа и дочь, чувствуя, как уходит накопившееся напряжение. Она на мгновение закрыла глаза и ощутила губы Дэвида на своей щеке.
— Скажи, любовь моя, — прошептал он ей на ухо, — отчего ты так бледна? И почему так быстро вянут розы?
Ева улыбнулась: они вновь стали Гермией и Лисандром, репетировали в пыльном, залитом солнечным светом зале, и Дэвид брал ее за руку во внутреннем дворике паба «Орел». Тогда — до Джима, до всего остального — они были счастливы; и почти два года назад, обсуждая планы на будущее, Дэвид обещал снова сделать Еву счастливой. Кто мог поверить, что он оставит эти попытки так быстро?
Пенелопа приносит чай и печенье, усаживается рядом с подругой.
— Как я понимаю, у Дэвида в академии все в порядке?
— По-моему, все идет отлично. — Ева старается говорить жизнерадостно. — Взял сценический псевдоним. Теперь он Дэвид Кертис. Старший преподаватель сказал, так у него будет больше шансов получить работу.
Пенелопа округляет глаза и откладывает недоеденное печенье.
— Почему Кертис?
— Дэвид утверждает, что его тетка в Америке вышла замуж за какого-то Кертиса, и эта фамилия теперь имеет отношение к их семье. Но я полагаю, это из-за Тони Кертиса. Знаешь, режиссеры могут подумать, будто они родственники.
— Ясно. Что ж, удачи ему. Мы ведь не хотим, чтобы хоть что-нибудь стояло между Дэвидом и мировой славой, верно?
В ее голосе слышна мягкая ирония; девушки встречаются взглядами. Первой смеется Пенелопа, следом Ева, и утро вновь становится солнечным.
— Рада тебя видеть, — говорит Ева, беря подругу за руку. — Расскажи про ваш медовый месяц. Я жажду подробностей.
И Пенелопа рассказывает…
Вначале они отправились в Париж, остановились в чудесной маленькой гостинице на Монмартре с видом на базилику Сакре-Кер. Первые пару дней выходили из номера — тут подруга краснеет, — только чтобы добраться до бистро на углу. Оно выглядело прямо как в фильмах Годара: клетчатые скатерти, свечи в бутылках из-под вина, маринованные мидии с картошкой фри.
— Слава богу, — добавляет Пенелопа с улыбкой, — все молодожены, слоняющиеся по Парижу, выглядят одинаково изможденными.
На блошином рынке Джеральд купил ей в подарок старинный браслет, они провели несколько часов в Лувре, а как-то вечером обнаружили джазовый клуб в подвальчике и танцевали в облаках дыма от «Голуаз».
— Там все были ужасно серьезными. Когда музыканты переставали играть, кто-нибудь вставал и начинал читать чудовищные стихи. Ну, действительно плохие. Я хихикнула. Видела бы ты, как на нас посмотрели.
Потом они взяли машину напрокат и уехали из Парижа, сняли коттедж на старой обветшалой вилле и две недели прожили там, купаясь в хозяйском бассейне и питаясь сыром и салями, отчего оба растолстели — тут Пенелопа похлопывает себя по животу. Она никогда не отличалась стройностью, а после свадьбы еще больше набрала вес, но, по мнению Евы, подруге это шло.
— А теперь мы вернулись в реальную жизнь. На прошлой неделе Джеральд вышел на работу в Министерство иностранных дел. Мне кажется, дело как раз для него — он знает русский и все такое. И совсем не скучает по актерской игре.
— Я так рада за тебя, Пен.
Ева внимательно следит за Ребеккой: отложив надоевшую куклу, она неуверенно встает на ноги и жадно разглядывает соседскую кошку — та потягивается и умывает мордочку на террасе. Ева думает о Джеральде, о его гладком юношеском лице, любви к вельветовым пиджакам с подбитыми плечами и полной, безоговорочной преданности Пенелопе. Вспоминает собственный медовый месяц: неделя в Эдинбурге, в отеле «Скотсмэн», подарок от мистера и миссис Кац. «Тоска» в Королевском театре, мокрые серые улицы, чрезмерное внимание Дэвида к ее положению — не очень, на счастье, заметному под свободным пальто, — которое постепенно превратилось в плохо скрываемое нетерпение.
«Я не стану завидовать лучшей подруге», — думает Ева. А вслух произносит:
— Ты начинаешь работать в издательстве «Пингвин» с понедельника?
Пенелопа кивает.
— Думаю, там будет интересно. Хотя первое время мне, наверное, придется заниматься всякой дребеденью.
Наступает напряженная тишина, и тут Ребекка решает сделать шаг навстречу кошке, прямо в стекло. Раздается плач, и Ева бросается успокаивать дочь. Когда Ребекка перестает рыдать и вновь берется за куклу, Ева возвращается на диван.
— А ты? Что собираешься делать? — спрашивает Пенелопа.
Ева прекрасно знает, о чем говорит подруга, однако ее охватывает внезапное упрямство: легко задать этот вопрос, но как трудно на него ответить.
— Ты о чем, Пен?
— Ну, о работе. Что-нибудь пишешь?
— А ты как думаешь? Я едва живая от усталости.
Она не хотела отвечать так резко; Пенелопа отводит взгляд, на щеках выступают красные пятна — ей всегда плохо удавалось скрывать чувства. Но и сбить ее с толку нелегко.
— У тебя появился ребенок, Ева. Но тебя не посадили в тюрьму. Есть твоя мама, Якоб, Антон, Дэвид, когда он дома. Родители Дэвида. Ты вполне могла бы взять какую-нибудь работу. Или найти время, чтобы писать. В конце концов, скоро я буду знать, кому показать твой роман.
Разговор вновь прерывается. Несмотря на то что она действительно устает, Ева понимает: Пенелопа права. Ей надо писать — половина романа уже готова, блокноты с текстом хранятся в спальне под кроватью, к тому же есть еще рассказы, правда робкие и безжизненные. Но мечта Евы о литературном творчестве, вызванная потребностью придать окружающему миру понятную форму, мечта, всегда казавшаяся естественной как дыхание, испарилась в тот страшный вечер, когда они с Джимом вернулись из Эли и она не дала ему никаких объяснений, кроме письма, трусливо оставленного у привратника.
Джим не искал встречи с ней. Ева напомнила себе, что именно так и планировала: она поставила Джима перед свершившимся фактом, чтобы тот не пытался ее переубедить. Но где-то в глубине души теплилась надежда.
Ньюнхэм пришлось оставить. Ева до сих пор не могла забыть выражение на лице заведующей учебной частью — смесь сочувствия, неловкости и легкого неодобрения, — когда она объявила, что прекращает учебу. Профессор Джин Макмастер, дама энергичная и прямолинейная, принадлежала к тому типу женщин, которых раньше называли «синими чулками», а в иных университетских кругах, пожалуй, называют так до сих пор.
— Не могу передать, Ева, как мне жаль вас, — сказала она. — Надеюсь, когда-нибудь университетские правила будут соответствовать реалиям жизни, а не мужским представлениям о том, как женщины должны себя вести. Однако понимаю, что сейчас вам здесь будет некомфортно.
Брак зарегистрировали спустя несколько недель в городской ратуше. Мероприятие было скромным и малолюдным, хотя Мириам и Якоб очень старались развеять атмосферу, поддерживая оживленный разговор с Абрахамом и Джудит Кац. Отец Дэвида отвечал им тем же, мать поджимала губы и обняла новообретенную невестку так коротко, как только позволяли приличия.
В январе Ева и Дэвид вернулись в Кембридж и поселились на Милл-роуд, в сырой, пропитанной кислым запахом квартире для семейных пар, которую предоставил им Королевский колледж. Ева пыталась навести там уют, сшив чехлы для подушек и заполнив книгами полки, но безуспешно: квартира оставалась темной, затхлой и холодной.
Большую часть зимы, которая тянется в этих краях бесконечно, Ева провела взаперти. Живот у нее рос, а Дэвид приходил домой все позже и позже — то со спектакля, то с читки пьесы, то с банкета. Она не могла найти работу. Вскоре после возвращения Ева зашла в книжный магазин и в пару кафе с вопросом, не найдется ли чего-нибудь на неполный день, но всякий раз владелец смотрел на нее и говорил:
— Не в вашем положении.
Тогда она попробовала писать. Сил вернуться к роману, начатому летом, не хватило — блокноты так и хранились под кроватью, — и Ева принялась за рассказы, один, потом другой, но обнаружила, что не может написать больше четырех абзацев. Она привыкала к своим персонажам, думала за них, представляла их внешность и манеру разговаривать и даже напоминала себе иногда, что они — не живые люди. И вдруг те перестали казаться ей подлинными; в них появилась какая-то мимолетность, бесплотность. Спустя несколько недель Ева оставила попытки угнаться за ними. Теперь ей оставалось только читать, слушать радио, изучать рецепты из книги Элизабет Дейвид, подаренной матерью (карбонад из баранины имел успех, картофельный гратен — в меньшей мере), и дожидаться родов.
Нет, она не искала Джима, изо всех сил старалась не думать о нем; но однажды он все-таки появился. Это случилось в марте, за несколько дней до ее двадцатилетия, Ева была в то время на шестом месяце. Она вышла в город, усилием воли заставила себя пройти по Кингс-Парейд мимо главного здания университета, где так и не получила диплом, полюбовалась игрой света на каменных стенах. У книжного магазина Хефферса Ева остановилась — соскучилась по новым книгам — и тут увидела Джима. Он открывал дверь, держа в руках бумажный пакет с парой томов внутри. На нем был тот же твидовый пиджак, тот же шарф. Ева затаила дыхание. Стояла не двигаясь, в надежде, что Джим ее не заметит, и в то же время ей мучительно хотелось, чтобы он оглянулся, уходя.
И Джим оглянулся. Сердце замерло, когда Ева увидела недоуменное выражение на его лице: как будто собирался улыбнуться, но передумал. Он ушел в сторону Сидней-стрит, а она все смотрела ему вслед, пока не потеряла из виду.
Ева видела Джима еще несколько раз — однажды тот проехал на велосипеде мимо их дома; и в следующем году на Маркет-плейс, куда пришла на выпускную церемонию Дэвида и стояла рядом с его родителями, держа Ребекку на руках. А потом Ева и Дэвид сложили вещи в коробки и перевезли их в Лондон, в пустующую квартиру в доме Эделстайнов. Ева отвергла идею о переезде в дом Кацев, заявив, что с ребенком ей понадобится помощь матери, и возразить на это было нечего. Шансов снова увидеть Джима у нее не осталось.
На следующий день, распаковывая вещи, Ева вновь запихнула свои блокноты под кровать, где они и лежали сейчас.
— Я вот о чем подумала, — говорит Пенелопа. Еве хорошо знакома интонация, с которой это произносится: так Пенелопа обращается к Джеральду с предложением, которое, по ее мнению, может тому не понравиться.
Ева подается вперед, наливает подруге остатки чая.
— О чем?
— Смотри. Издателям всегда нужны рецензенты. Ну, то есть люди, которые будут им говорить, какую рукопись взять, а какую отвергнуть.
Ева протягивает ей чашку.
— Спасибо.
Пенелопа берет с тарелки еще одно печенье.
— Может быть, мне удастся замолвить за тебя словечко в «Пингвине». Расскажу им, какая ты замечательная, ведь никто не знает о книгах больше твоего.
Услышав слова Пенелопы, Ева внезапно осознает, что уже очень давно не считает себя годной на большее, чем успокаивать дочь, улавливать ее настроение и превращать остатки вчерашнего ужина в некое подобие еды.
— Ты имеешь в виду — никто, кроме тебя.
Пенелопа с облегчением улыбается.
— Так что? Поговорить о тебе?
Ребекка у окна тихо лепечет что-то на ухо своей кукле. Ева думает о матери, о тех секретах, которыми они шепотом поделились друг с другом, сидя на этом же диване несколько недель назад, укачав наконец Ребекку.
— Серьезно тебе говорю, дорогая, надо заняться чем-то еще, помимо работы мамой, — сказала Мириам. — Материнство — замечательно и важно, но если ты поставишь на себе крест как на творческой личности, то со временем возненавидишь свою дочь.
Ева, плохо соображавшая из-за бессонных ночей, посмотрела на мирно спящую Ребекку.
— Ты чувствовала это, когда забеременела? Когда пришлось уйти из консерватории?
Мириам помолчала.
— Вначале, может быть. Но потом, когда он бросил меня, и мы поняли, что происходит в Вене, я думала только о том, как вырваться оттуда. Когда появилась ты — и Антон, разумеется, — вы стали главным в моей жизни. Но как только смогла, я тут же вернулась к вокалу.
Ева откидывается назад, закрывает глаза. В памяти всплывает сцена на пятничном ужине у Кацев: Дэвид и Ева задержались из-за Ребекки, которая никак не хотела засыпать, и Джудит, сидевшая во главе стола, напомнила сыну, что лишь благодаря ее и Абрахама деньгам они живут вполне комфортно и могли бы проявить хоть каплю уважения и не опаздывать к ужину в вечер Шаббата.
«Да, — думает Ева, — если я начну зарабатывать, все изменится».
Она берет Пенелопу за руку:
— Спасибо тебе. Поговори, если можно.
Версия вторая
Мост Бристоль, сентябрь 1961
По пятницам клерки непременно собираются в пабе после работы.
Сегодня Джим освободился позже других: нужно было закончить множество дел, которые в минуты отчаяния представлялись ему сотнями толстых, грубых нитей, опутывающих его с ног до головы, подобно виноградной лозе.
«Эти пятничные собрания, — думает Джим по дороге из офиса в ближайший паб, — лишний раз доказывают, что мои коллеги — рабы заведенного порядка. Ровно в девять приходят на работу. В полдесятого отправляются на утреннее совещание. В час идут есть сэндвичи с сыром в кафе на углу. В пять вечера по пятницам они уже в «Белом льве», накачиваются теплым пивом и добиваются расположения барменши Луизы».
А вот и они, сгрудились за столом на улице. Неделя выдалась необычайно теплая, и сейчас заходящее солнце мягко золотит металлические цепи висячего моста, который хорошо виден отсюда. Руководство зовет их «парнями», хотя ничего мальчишеского в этих мужчинах с аккуратными прическами, мягкими руками и университетскими дипломами нет, они уже начинают напоминать своих отцов. В конторе они пересказывают остроты из юмористической радиопередачи «Кен выходит из себя» и делятся грязными шутками, бывшими в ходу в их кампусах, но за офисными стенами, среди напористых работяг, весь их лоск улетучивается. Среди них только Питера Хартфорда Джим с некоторой натяжкой может назвать своим другом. Питер — сын докера, единственный из их компании, кто не имеет ученой степени, а деньги на свое образование собрал, работая по субботам почтальоном.
Джим находит Питера внутри, у стойки бара. Луиза с улыбкой на губах, покрытых матовой розовой помадой, наклоняется к нему, демонстрируя обширный бюст. Увидев Джима, барменша стремительно отстраняется, на ее лице появляется привычное бесстрастное выражение. Питер улыбается при появлении приятеля.
— Что будешь пить?
Они выходят с пивом на террасу и садятся вдалеке от остальных.
— Выпьем за окончание еще одной недели в угольном забое.
Джим чокается с Питером. Невысокого роста, коренастый, рыжеволосый, с бесхитростным выражением на широком лице, Питер — первый мужчина из пяти поколений Хартфордов, кто не работает в доках. «Он умнее любого из нас», — думает Джим и внезапно ощущает приступ симпатии к приятелю. Обещает себе не откровенничать с ним, не рассказывать, насколько презирает профессию, давшуюся Питеру большим трудом, тогда как сам Джим оказался в ней случайно, в силу обстоятельств… Каких? Страх, полагает Джим: страх и та центробежная сила, которой стала в его жизни болезнь матери.
Получив диплом, он в компании Свитинга добрался автостопом до Франции, где две недели шатался по деревням и виноградникам, рисуя акварели — девушки с голыми ногами пили в уличных кафе свежевыжатый лимонный сок, желтыми волнами покачивалась кукуруза на полях, — и ощущал небывалый прилив сил. Джим вернулся, собираясь решительно сказать матери, что будет поступать в Художественную школу в Слейде, но в Бристоле узнал — она опять в больнице. Лечащий врач соглашался выписать Вивиан только при условии, что кто-то постоянно будет за ней присматривать.
— Ее нельзя оставлять одну, мистер Тейлор, — сказал врач. — Во всяком случае, до тех пор, пока состояние не стабилизируется. Вы готовы переехать к ней?
— Я думаю, да, — ответил Джим, глядя, как отдаляются все его планы, подобно незнакомому пейзажу, проплывающему за окном поезда.
Но следом встал вопрос о роде занятий. В моменты просветления Вивиан уговаривала сына не бросать юриспруденцию, да и сам Джим не представлял, чем можно зарабатывать в Бристоле; но требовалось еще получить степень, а в городе не было юридического факультета. В конце концов на выручку пришла тетка Пэтси: оставив своего мужа Джона в Бадли-Салтертоне, она согласилась пожить с Вивиан, пока Джим будет сдавать экзамены в Гилдфорде; на время каникул племянника она собиралась возвращаться домой. За несколько недель все устроилось. Первое же адвокатское бюро, найденное в телефонной книге Бристоля, куда Джим отправил свое резюме, — «Арндейл и Томпсон» — согласилось принять его на работу. В Гилдфорде он жил у Сида Стэнли, одинокого, печального вдовца, вечера в компании с которым чаще всего проходили за просмотром сериалов. Через полгода Джим вернулся в Бристоль полноправным практикующим юристом и поселился вместе с матерью.
Ничего подобного Джим не планировал — даже когда, уступив Вивиан, согласился штудировать право в Кембридже. Он хотел учиться на искусствоведческом факультете, но туда была очередь, и в знак протеста Джим подал документы на юридический факультет, не рассчитывая поступить; однако, к его собственному удивлению, выяснилось, что он расположен к юриспруденции, где царствует логика и добро отделено от зла четкими границами. «Возможно, — думал он, — сейчас все могло быть иначе, встреть я в университете женщину, с которой захотел бы начать самостоятельную жизнь». Кто-то появлялся после Вероники — в конце учебы, например, завязался короткий роман с миловидной первокурсницей с исторического, Анджелой Смит. Но та разорвала отношения, чтобы вернуться к парню, с которым встречалась еще в школе. И не было никого, к кому бы Джим относился хоть сколько-нибудь серьезно.
— Неплохое местечко, верно? — произносит Джим вслух. — Даже старик Крогген кажется здесь не таким неприятным.
Питер кивает.
— Я предпочитаю держаться от него подальше, пока он не вернется с обеда, выпив портвейна.
Они обмениваются легкими улыбками и отхлебывают пиво. Джим сидит лицом к мосту, наслаждаясь видом его изгибов и опор, тем, как естественно мост вписывается в поросшие лиственным лесом берега. Питер, как и большинство коренных бристольцев, похоже, просто его не замечает, а Джим каждый раз восхищается творением Брюнеля[8], которое, подобно огромной птице, раскинуло над Эйвоном свои серые крылья.
Когда они впервые зашли в «Белый лев», Питер рассказал Джиму историю про девушку с местной фабрики; обманутая любимым, она бросилась с парапета, но уцелела — широкая викторианская юбка сыграла роль парашюта.
— Умерла, когда ей было восемьдесят пять, — сказал Питер. — При жизни стала легендой.
Джим поежился, вспоминая, сколько раз после возвращения в Бристоль — три? четыре? — бегал ночами по улицам Клифтона в поисках матери. Вивиан уходила из дома босиком, в плаще, небрежно накинутом поверх ночной сорочки. Однажды он успел схватить мать, когда та уже ступила на парапет. Держал за воротник, как кошку за загривок, и старался не смотреть вниз, в глубокую темноту.
Чтобы прогнать воспоминания, Джим интересуется у Питера планами на выходные.
— Особо никаких. Завтра, естественно, буду работать. В воскресенье, может быть, повезу Шейлу куда-нибудь. В Кливдон, например, там по-прежнему хорошо. Прогуляемся, съедим мороженое на пирсе. Всякая чепуха.
Джим видел Шейлу один раз, на дне рождения Хартфорда: широкобедрая, высокая (выше Питера, но их обоих это обстоятельство, похоже, не смущает) кудрявая блондинка с низким голосом и заразительным смехом. Они недавно поженились и живут в маленьком доме в Бедминстере, недалеко от места, где оба выросли.
— Все верно, — с гордостью произнес Питер, представляя Шейлу, — я влюбился в соседскую девчонку. Как здорово, что она в меня тоже влюбилась! А у тебя? — спрашивает он, внимательно глядя на Джима поверх пивной кружки. — Никаких планов? Как дела вообще?
Джим вкратце рассказывал Питеру о своих обстоятельствах: о болезни матери и о решении — хотя про себя называл это иначе — забыть про художественную школу, Лондон и остаться здесь вместе с ней.
— Все в порядке, — отвечает Джим.
Все действительно в относительном порядке. Вивиан чувствует себя лучше. Прошлой ночью она разбудила его в три часа, поставив на полную громкость пластинку Синатры.
— Потанцуй со мной, Льюис, — попросила мать с блеском в глазах. И Джим протанцевал с ней пару песен, не найдя сил в тысячный раз повторить, что он — не отец, тот давно умер.
— Найдется время, чтобы порисовать в выходные?
— Возможно.
Мольберт стоит в углу его спальни; освещение неважное, Джим часто просыпается с головной болью из-за запаха скипидара, но, по крайней мере, комнату можно запереть, уходя. С месяц назад он забыл это сделать и по возвращении обнаружил огромные пятна краски на чистых холстах и полупустые тюбики на ковре.
— Надеюсь.
Приятели замолкают, благодарные друг другу за возможность не вникать в подробности чужой жизни. Вскоре их кружки пустеют; кто-то из коллег по пути в бар спрашивает, не хотят ли они выпить еще. Оба отвечают утвердительно: Питер — чувствуя, что Джиму нужен собеседник, а Джим — потому что этот пятничный летний вечер, уже пропитанный спелыми ароматами осени, дарит тепло, и ему хочется оставаться здесь, в неверном солнечном свете, как можно дольше.
Версия третья
Лицо Бристоль, июль 1961
Джим видит ее в воскресный полдень.
Он гуляет с рюкзаком за спиной, где лежат альбом и карандаши: его тетка Пэтси и дядя Джон приехали навестить мать, и Джим предоставлен сам себе на целый день. Раздумывает, не отправиться ли в доки порисовать портовые краны, склонившие головы к воде, или тушу парохода «Уильям Слоан», только что приплывшего из Глазго. Попозже, может быть, сходит в кино или заглянет на ужин к Ричарду и Ханне: те звали приезжать к ним в Лонг-Эштон без приглашения. Подадут жареного цыпленка, салат из зелени, выращенной в собственном саду, и кошка усядется на коленях у Ханны. Ричард откроет бутылку хорошего вина, будут слушать музыку и говорить об искусстве, и на какое-то время Джим испытает чувство, похожее на счастье: забудет о матери и ее беде, которой никто не в силах помочь; и о пустоте, царящей у него в душе. Джим думает об этом лениво, спокойно — и вдруг видит ее. Еву.
Она идет вверх по противоположной стороне улицы. Лицо скрыто в тени дома, но нет сомнений, это Ева: тот же узкий, заостренный подбородок; те же темные глаза под густыми изогнутыми бровями. На ней легкий летний пиджак без пояса и зеленое платье. Волосы подобраны высоко, обнажая стройную шею и нежную кожу.
Он останавливается как вкопанный, на него налетает какая-то женщина — ругается и предлагает разуть глаза, но Джим не отвечает. Ева идет быстро и целеустремленно, не видя его. Джим выбегает на проезжую часть, едва не попадает под машину, водитель давит на клаксон и кричит на него. Джим не слышит; хочет окликнуть Еву, но не может произнести ее имя. Идет следом, наслаждаясь этой близостью. Кровь шумит в ушах.
В последний раз он видел ее на Маркет-плейс. Ева держала на руках маленькую девочку, брюнетку с темными, как у нее самой, глазами. Дэвид Кац высился рядом в отделанной мехом мантии, предназначенной для таких торжественных случаев, как вручение дипломов. Элегантный мужчина, похожий на иностранца, и его жена со строгим, неулыбчивым лицом стояли поодаль, будто не решаясь признать, что они тут все вместе. «Родители Каца, — подумал Джим, — и Ева им не нравится». Несмотря на почти физическую боль, не отпускавшую его с того вечера, когда Джим прочитал письмо от Евы, он испытал тревогу за нее. Впервые задумался, каково пришлось ей; до сих пор с яростным эгоизмом, присущим отвергнутым, Джим полагал, что страдает только он один. На самом деле хотелось, чтобы и она страдала; тогда у книжного магазина он заметил Еву, ее выпирающий живот — и отвернулся преднамеренно, удостоверившись, что она это видит.
Сейчас Ева идет на несколько шагов впереди него. Ребенка рядом нет. Может быть, Кац остался с дочерью, или — позднее Джим будет с содроганием вспоминать, как легко мысль пришла в голову и как страстно ему хотелось, чтобы это оказалось правдой, — они отдали ребенка. Он беспорядочно думает, с чего начать разговор, какие фразы подобрать.
«Что ты делаешь в Бристоле, Ева? Как дела? Знаешь, я больше не работаю в адвокатском бюро. Я стал помощником скульптора, его зовут Ричард Сейлз. Может быть, слышала о нем? Хороший мастер, мы познакомились на выставке, подружились, теперь он мой наставник. И я работаю, Ева, работаю, и с большим удовольствием, чем когда-либо. Скучаешь по мне? Почему решила тогда расстаться так, я имею в виду то письмо? Почему не дала мне шанса, скажи, бога ради? Разве ты не знаешь, что бы я выбрал?»
Все эти слова громко звучат в голове у Джима, и ему кажется, будто он произносит их вслух. Он берет Еву за руку, та оборачивается и яростно округляет глаза.
— Какого черта вы за мной идете? Уходите, или я закричу!
Это не Ева! Чужое лицо, шире и полнее, чем у нее, и в глазах нет острого ума и вечного любопытства. Он шел вслед за незнакомкой и напугал ее до полусмерти.
— Простите. Я обознался.
Женщина трясет головой, поворачивается и почти бегом удаляется в сторону Клифтона. Джим стоит и смотрит ей вслед. Затем уходит в противоположном направлении — к докам, к воде, к кораблям, величественно застывшим у причала.
Версия первая
Розовый дом Лондон, октябрь 1962
Дом хорош — не слишком большой, но основательный, квадратный; по два окна с каждой стороны крыльца, украшенного двумя колоннами; большое дерево с медными листьями заслоняет собой почти половину фасада.
Из-за этого, а еще из-за цвета — дом выкрашен в необычный лососево-розовый оттенок — агент по имени Николз не хотел его показывать. Николз — одетый в мешковатый клетчатый жилет, лицо украшают тонкие усы — сообщил им, поколебавшись, что внутри дома ничего не менялось с двадцатых годов.
— Деньги просят смешные, — сказал он. — И вы поймете почему. Хозяин был художник, знаете ли. Представление о жилье имел весьма своеобразное.
Этого хватило, чтобы Джим мгновенно отреагировал:
— Благодарю вас, мы хотим посмотреть дом сегодня же.
Возможно, этого оказалось бы достаточно и для того, чтобы заставить их расстаться с приличной суммой даже без осмотра дома (в сравнении с остальными вариантами цена была вполне разумной). В конце концов, имелись деньги в банке; их Еве — неожиданно для всех Эделстайнов — завещала Сара Джойс, ее крестная мать и первый человек, с которым Мириам подружилась в Лондоне.
Но решающим аргументом стал сад. Не сам участок на склоне холма в Джипси-Хилл — пыльного дальнего угла Лондона, любимого Евой и Джимом по необъяснимым причинам, — а полуразрушенная мастерская в нижней его части. Обычный сарай, но художник снял с крыши рубероид и поставил стеклянные панели, которые в хорошую погоду можно было раздвинуть — и увидеть небо. Летом там, конечно, бывало жарко, а зимой холодно, и после смерти старика помещение пришло в запустение. Сквозь щели в полу пробивалась трава, стеклянная крыша побелела от птичьего помета. Но Еве хватило одного взгляда, чтобы понять: здесь будет их дом. Они сообщили Николзу, что все решено — сделка состоится.
Сейчас, когда Ева стоит у кухонного окна и чистит картошку для рыбного пирога, она легко может представить, что происходит в мастерской, расположенной у основания заросшего травой холма: будто видит наклон головы своего мужа и то, под каким углом установлен его мольберт. Большую часть лета Джим занимался домом — циклевал полы, ремонтировал шкафы, красил стены; почти каждый вечер Ева, придя с работы, меняла деловой костюм на старую рубашку и заляпанные краской штаны и присоединялась к нему. С тех пор как была готова мастерская, она нечасто видела Джима. Он отправлялся туда раньше, чем Ева уходила в редакцию, прерывался на ужин, когда она возвращалась, и затем рисовал до поздней ночи, забыв свое старое правило заниматься живописью только при дневном освещении. Его преподаватель в Слейде назвал это чепухой, и Джим постепенно с ним согласился.
Учеба в художественной школе сказалась на манере его письма: почти исчезла образность, пропали сочные, изысканные изображения земли и воды, самой Евы. На их место пришли картины, написанные резко, яростно, будто в горячке.
«Незамутненная энергия» — так отозвался о них один критик в своей восторженной рецензии на коллективную выставку в Манчестерской художественной академии, хотя и не упомянул фамилии автора. Ева, глядя, как Джим поздравляет своего друга Юэна — тому достались все лавры, — чувствовала разочарование мужа. У нее не было слов для Джима, кроме тех, что она верит в него и успех со временем обязательно придет.
Почистив картошку, Ева нарезает ее, кладет в кастрюлю, заливает водой. Рыба уже сварена и залита густым сливочным соусом; бисквит, пропитанный кремом, томится в кладовке. Гости приедут через час. Ева ставит чайник на плиту; в ожидании, пока он закипит, она стоит, опершись о край столешницы, и с удовольствием рассматривает кухню: выскобленный до блеска сосновый стол, купленный на рынке в Гринвиче, и пестрый гобелен, который раньше томился свернутым в подвале родительского дома.
— Никакой бытовой техники там нет, — предупредил их Николз. — По-моему, в том новом доме, который я вам показывал, жить будет гораздо лучше.
Они не стали спорить: как рассказать человеку, предпочитающему газовые плиты, оборудованные кухни и новые ковры, об удовольствии, которое доставляют дощатый пол, лепнина из гипса и выщербленная плитка Викторианской эпохи? Николз считал их сумасшедшими. Возможно, он не ошибался. Еве и Джиму было все равно.
Ева несет чай мужу в мастерскую. У двери останавливается и, как заведено, дважды стучится, дожидается ответа и только затем входит. Джим смотрит на нее отсутствующим взглядом, он все еще погружен в работу. Она заставляет себя не смотреть на холсты — Джим по-прежнему не любит показывать незаконченную работу, хотя уже и не прячет картину, стоящую на мольберте. Ева понимает: сама не прочитает никому ни строчки, пока рассказ — ну, сейчас не рассказ, конечно, а колонка — не закончен.
— Уже шесть, дорогой. Ты помнишь, что они придут в семь? Душ примешь?
Джим качает головой:
— Не успею. Боюсь, придется им потерпеть меня таким, какой я есть.
— Тогда я пойду.
Она подходит к Джиму, протягивает чайник, тянется к нему и целует, ощущая едкий запах краски.
— Но к семи ты все-таки приходи.
Поднявшись к себе, Ева принимает ванну. На кровати разложена одежда, в которую предстоит переодеться к ужину. Гостей сегодня будет восемь: Пенелопа и Джеральд; Фрэнк, редактор Евы из «Ежедневного курьера», и его жена София; Юэн со своей подругой Кэролайн. «Все такие разные, — думает Ева, погружаясь в горячую, ароматную воду, — но, по-моему, они должны между собою поладить».
Она откидывается назад, прижимаясь затылком к краю эмалированной ванны. Подумать только, они впервые позвали в свой дом гостей на настоящий ужин; как странно чувствовать себя такой взрослой.
К половине восьмого все собрались, нет лишь Юэна и Кэролайн (Юэн вечно опаздывает). В гостиной пьют мартини с джином, и концентрация последнего опасно высока: Джим недавно начал смешивать коктейли, и соблюдать пропорции ему удается не всегда. К восьми, когда наконец являются Юэн и Кэролайн и можно садиться за стол, остальные уже порядком навеселе. Пенелопа рассказывает, как они с Евой в Ньюнхэме в первый раз пытались приготовить спагетти на маломощной электрической плитке.
— Мы зашли в соседнюю комнату выпить по коктейлю — у Линды Спенсер была бутылка джина — и забыли про ужин. Когда вернулись, вода уже выкипела, и спагетти превратились в угли. И тут, конечно, сработала пожарная сигнализация…
Выпивший свой первый мартини Юэн, вгоняя Кэролайн в краску, рассказывает, что она недавно пыталась накормить его сырым яйцом, забыв вскипятить воду в кастрюле. Затем София — изящная, с мелкими чертами лица, недавно дебютировавшая в свете, с неожиданно грубоватым чувством юмора — делится историей о том, как Фрэнк предпринял очередную попытку «освободить ей вечер» и предложил на ужин сырой фарш, политый яйцом, настаивая: это бифштекс по-татарски.
— Я бы поверила, — говорит София, поднося к ярко накрашенному рту кусочек рыбного пирога на вилке, — если бы не узнала в этом фарше то, что сама отложила утром для собаки. Он был серого цвета — по-настоящему серого — и запах от него шел…
Вскоре пирог доеден, от бисквита не осталось и следа, шесть бутылок вина опустошены. После кофе Джим предлагает послушать музыку. Они с Фрэнком добродушно препираются по поводу того, какую пластинку выбрать — прежде чем стать в «Ежедневном курьере» женским редактором (только Фрэнк, жизнерадостный и уверенный в себе мужчина, мог изобрести подобное название для своей должности), он заведовал там отделом искусства и сохранил особую привязанность к джазу. Фрэнк одерживает верх, вытаскивает из конверта пластинку Дейва Брубека, и все они неуклюже танцуют под вкрадчивые звуки саксофона.
Потом Пенелопа и Ева, разгоряченные, выходят в сад покурить. Вечер прохладный, облаков на небе нет, и звезды сияют над скопищем неоновых огней Лондона.
— Ева, дорогая, какой чудесный вечер, — говорит Пенелопа, нетвердо держась на ногах. — Мне кажется, я слегка напилась.
— Если только совсем чуть-чуть, Пен. Я тоже.
Опершись о стену, они наблюдают, как тлеют в темноте огоньки их сигарет.
— Мне очень понравилась твоя колонка на этой неделе, Ева. По-настоящему смешно. Смешно и умно. Думаешь, тебе разрешат продолжить?
Ева улыбается. Она до сих пор не может окончательно поверить, что идея серии колонок, изложенная Евой Фрэнку в пабе несколько недель назад, оказалась удачной.
— Современный брак от А до Я, — перекрикивая обычный пятничный гам в «Чеширском сыре», — рассказывала она. — От аргументов до яйцеклетки. Можем назвать это — «Алфавит замужней женщины».
Фрэнк поперхнулся пивом.
— Звучит отлично, Ева. Надо обсудить с начальством, но думаю, у тебя получится. Только пообещай не писать про яйцеклетки.
Сейчас она отвечает Пенелопе:
— Не знаю. Надеюсь, что да. Спроси у Фрэнка.
— Может быть, я так и сделаю. — Пенелопа улыбается, в темноте виден лишь ряд белых зубов. — Ну ладно, наверное, не сегодня.
И склоняет голову на плечо Еве.
— Мне так нравится этот дом. Он совершенен. Ты совершенна.
— Ничто в мире не совершенно, — отвечает Ева, а про себя думает: «Возможно, этот момент близок к совершенству больше чем какой-либо другой. Здесь и сейчас мне ничего не хочется менять».
Версия вторая
Хозяйка вечера Лондон, декабрь 1962
— Ну разумеется, мы все обожаем Дэвида. Он изумительно талантлив, не правда ли?
Ева пытается вспомнить, как зовут актрису: кажется, Джулия, но не стоит рисковать, называя ее по имени вслух. Актриса смотрит с вызовом — будто ожидая несогласия. Глаза у нее аметистового цвета, совсем как у Элизабет Тэйлор, и щедро подведены черным карандашом.
— О да, — отстраненно говорит Ева, вспоминая, что оставила в духовке противень с сосисками в тесте — если немедленно не вынуть, они будут хороши только для мусорного ведра. — Удивительный талант. Извините меня.
Ева пробирается через толпу в гостиной, улыбаясь всем подряд:
— Как мило, что вы пришли…
Живот на таком сроке спрятать уже невозможно, он выпирает даже из-под широкого платья; она и не хочет его прятать, просто неловко чувствовать себя такой неповоротливой — препятствием, из-за которого рассеиваются и перемешиваются группы гостей. «Актрису зовут не Джулия, — запоздало вспоминает Ева, — а Джульет». Она играла Джессику в «Венецианском купце» в театре «Олд Вик», а Дэвид тогда играл Лоренцо — и она так сморщила нос при виде Евы, будто от той дурно пахло.
— О боже, какая вы огромная, надо же! — воскликнула Джульет без тени симпатии. Еве захотелось вырвать бокал с коктейлем из ее изящной маленькой ручки и вылить содержимое актрисе на голову; она сдержалась, но это усилие истощило запас ее самообладания.
На кухне она застает Гарри Януса, его ладонь лежит на бедре молодой незнакомки. Гарри убирает руку при появлении Евы и адресует той одну из самых чарующих своих улыбок.
— Наша прелестная хозяйка, — сообщает он. — В полном цвету.
Ева не обращает на него внимания. Подходит к духовке и наклоняется, чтобы достать противень. Девушка топчется рядом, не предлагая помочь.
— Когда вам рожать? — смущенно спрашивает она. — А вы себя очень плохо чувствовали? Моя сестра ужасно переносила первую беременность. Что, правда, не помешало ей завести второго.
«Она кажется милой, — думает Ева, перекладывая сосиски на блюдо. — И не знает, что Гарри собой представляет. Пока, во всяком случае».
— Первый триместр был тяжелым, — говорит она. — Сейчас уже лучше. Рожать мне в следующем месяце.
— Волнуетесь?
Когда Ева неловко поворачивается с тяжелым блюдом в руках, девушка спохватывается.
— Давайте я понесу. Кстати, меня зовут Роуз.
— Спасибо, Роуз, очень мило с вашей стороны. Меня зовут Ева.
— Я знаю.
Роуз забирает блюдо и несет его к дверям, где замешкался Гарри, удивленный тем, что не он оказался в центре внимания.
— Мне так нравится ваша квартира. Роскошная. Очень стильная.
— Благодарю.
Через окошко для подачи блюд Ева наблюдает за круговертью в гостиной. Кто-то из гостей танцует на фоне широких окон, за которыми — темнота; но днем они предлагают отличный вид на залитые зимним светом деревья и промерзшую траву. Близость квартиры к Риджентс-парку стала решающим аргументом в ее пользу. На самом деле выбор сделал Дэвид — то есть его мать. Ева предпочла бы что-нибудь более уютное и менее современное; думалось, она имеет право голоса, не в последнюю очередь потому, что часть денег, потраченных на покупку, досталась ей по наследству от крестной матери. Но ослушаться Джудит Кац оказалось непросто. Как-то поздним утром она просто вошла без стука в комнату Дэвида и Евы; мужчин не было дома, а Ева пыталась сосредоточиться на пьесе молодого автора из Манчестера.
— Ева, объясни мне попросту, — сказала Джудит, — что тебе не нравится в этой прекрасной квартире? Она — само совершенство. Не могу понять, почему ты всегда споришь со мной?
Ева тогда была на третьем месяце беременности и все еще страдала от тошноты, причем не только по утрам, но и во второй половине дня. Она хотела возразить, но почувствовала, что ей просто не хватит сил. Хорошо, они согласны на эту квартиру. И просто замечательно (хотя Ева ни за что бы не доставила Джудит удовольствие, признавшись в этом вслух) жить в двух шагах от парка, когда родится ребенок и вновь зацветут деревья.
Ребенок. Хотя Ева молчит, тот будто слышит ее: она ощущает резкий толчок, словно младенец рвется на свободу.
— Ева, почему ты прячешься? Выходи, пообщайся с людьми.
Дэвид возникает в дверях; Ева поворачивается к нему, прижимая палец к губам, жестом подзывает мужа.
— Что такое?
Ева берет его ладонь и кладет себе на живот. Дэвид чувствует под рукой шевеление и улыбается.
— Боже, Ева, иногда я до сих пор не верю, что он там. Наш сын. Наш малыш.
Он наклоняется поцеловать ее. Очень неожиданно — уже несколько недель Дэвид обходится только легкими касаниями губ, не говоря о чем-то большем — и Ева удерживается от напоминания: нет уверенности, что это мальчик. На самом деле она почему-то твердо знает — но сказала лишь матери и Пенелопе — родится девочка.
Они довольно долго ждали, прежде чем завести ребенка.
— Я хотел бы прежде встать на ноги, Ева, — говорил Дэвид, — а у тебя все время отнимает чтение пьес.
Ева действительно была занята — иногда даже чрезмерно, — а Дэвида работа просто поглощала: пробы, читки, банкеты в честь премьер… Его мир состоял из людей, общения, коллективных усилий, а Ева оставалась заперта в четырех стенах. Примерно раз в две недели она забирала в Королевском театре новую кипу рукописей, потом возвращала их, а больше и не имелось особых причин выходить из дому. Однажды, будучи не в силах больше находиться наедине с Джудит, Ева решила без предупреждения зайти к мужу на репетицию; режиссер рявкнул на нее, требуя немедленно уйти, а Дэвид дулся еще несколько дней. Теперь, когда она пригляделась к миру театра поближе, тот — прежде казавшийся Еве красивым и загадочным; местом, где совместными усилиями актеров и публики творится таинство, — стал терять свою привлекательность.
Между тем попытки писать, как Ева и боялась, оказались бесплодными: роман был брошен на половине. Пенелопа посмотрела рукопись и сказала очень мягко:
— Ева, в этом что-то есть, но полноценной вещью не назвать, ты согласна? — подруга снова и снова листала страницы в поисках следа, который выведет на правильную дорогу и превратит текст в целостное произведение. Но след не находился, а внутренний голос твердил Еве: «Ты никогда не станешь настоящим писателем. У тебя просто не получится».
Шли месяцы, она все реже открывала свои наброски и все чаще думала о том, что хочет ребенка; один из немногих вопросов, по которым у нее не возникало разногласий со свекровью.
— Не могу понять, Ева, почему ты так тянешь с беременностью. Тебе же совершенно нечем заняться, — сказала Джудит на одном из ужинов в честь Шаббата.
— Вы ошибаетесь, — едко ответила Ева. — Я, знаете ли, работаю.
— Материнство — единственная настоящая работа для женщины, — заявила Джудит. Она часто повторяла эту сентенцию с высокомерием викторианской вдовы. Дебора, кузина Дэвида, округлила глаза, призывая тем самым Еву не спорить, а Абрахам успокаивающе погладил жену по руке.
— Остынь, Джудит, я думаю, со временем все у Дэвида и Евы наладится. А сейчас ему надо думать о карьере.
Когда наконец это случилось — плохое самочувствие, длившееся неделю, оказалось симптомом беременности, — Дэвид обрадовался ничуть не меньше Евы. Через несколько дней она выбрала имя для будущего ребенка — Сара, в честь своей любимой крестной матери Сары Джойс, которая, уходя из жизни, сделала крестнице такой щедрый подарок, — но никому пока об этом не сказала. В таких вопросах Ева не собиралась уступать ни Джудит Кац, ни кому-либо еще.
— Пойдем, дорогая. Ты пропустишь вечеринку.
Дэвид берет ее за руку, и они возвращаются в гостиную. Кто-то поставил пластинку, купленную Евой специально для сегодняшнего вечера: старые рождественские песни в исполнении Эллы Фицджеральд. Тот факт, что по крайней мере половина гостей празднует Хануку, значения не имеет. Первые фортепианные аккорды, легкие, почти невесомые, разносятся по комнате, превращаясь в мелодию; Элла Фицджеральд поет о заснеженных полях и санях, летящих над ними. Число танцоров все увеличивается. Кто-то — Пенелопа — хватает ее за руку, и Ева осторожно скользит по полу, слегка поворачиваясь в разные стороны, а ребенок внутри брыкается и крутится в такт музыке, которую слышит только он сам.
Ева не видит Джульет в глубине гостиной. Но когда, запыхавшись, останавливается отдышаться — Сара брыкается все сильнее, Еве кажется, будто внутри у нее два сердца, бьющиеся в унисон, — она замечает пристальный взгляд Джульет. Та смотрит не моргая, без улыбки, но и не хмурясь, словно ждет, что Ева отведет взгляд первой.
Версия первая
Танцовщица Нью-Йорк, ноябрь 1963
Первое, на что Джим обращает внимание, — ее ноги; длинные, чуть изогнутые, «обезьяньи» пальцы; белизна лодыжек бросается в глаза на фоне черного трико. Все остальное, разумеется, тоже попадает в поле зрения: широкие бедра, узкая талия, высокая грудь. Но когда женщина танцует, выделывая причудливые па и подчиняясь собственному ритму, Джим не может оторвать взгляд от ее ног.
На сцене появляются другие танцоры — мужчина с мятым печальным лицом; худая рыжеволосая женщина, сквозь трико которой проступают ребра, — но он замечает только одну пару ног. Джим слегка нетрезв — сегодня очередной потраченный впустую день; утро провел дома, но рисовать не мог, а вечером пил виски в баре на перекрестке Чарльз-стрит и Вашингтон-сквер, — и ему кажется, что ничего прекраснее этих ножек он в жизни не видел.
Публика после представления расходится неохотно. Небольшая кучка людей собирается на ступенях церкви, будто по окончании службы, хотя дует холодный ветер, гоняя по улице последние опавшие листья. Девушка в синем плаще с неестественно блестящими глазами — обкуренная, решает Джим — обращается к нему:
— Ничего подобного я никогда не видела, а вы? Правда ведь, великолепно?
Джим колеблется. Ему понравилось действо. В движениях артистов чувствовалась завораживающая свобода. Их танец напоминал рисунки Матисса, которыми Джим увлекался когда-то в Слейде: те же четкие линии, такая же бесшабашная энергетика. Но он не знает, как объяснить подобные вещи незнакомке.
— Да, просто замечательно.
Девушка улыбается и торжествующим тоном произносит:
— Вы англичанин!
Будто можно забыть об этом обстоятельстве. Без особого дружелюбия Джим улыбается в ответ и засовывает руки глубже в карманы — оставил перчатки в съемной квартире, не обратив внимания на пронизывающий нью-йоркский холод.
— Да, я англичанин.
Девушка в голубом плаще — ее зовут Дина — продолжает говорить, когда появляются танцоры: высокие нескладные фигуры, закутанные в пальто и шарфы. Ее длинные бледные ноги сейчас обуты в кожаные сапоги, но Джим узнает лицо и не может сдержать улыбку, хотя, разумеется, они не знакомы. Танцовщица в ответ не улыбается — с чего бы? Танцор с мятым лицом целует Дину, обнимает за плечи. Дина, глядя на Джима, приподнимает брови, будто извиняясь, но он едва замечает ее, не в силах оторвать глаз от женщины в кожаных сапогах.
Компания отправляется в бар на Корнелиа-стрит. Джим идет следом за ними: сейчас только десять, Ева вернется домой из театра не раньше чем через пару часов — после представления будет банкет в «Алгонкине». Когда Джим представляет себе жену, стоящую рядом с Дэвидом Кацем, его старым соперником — они болтают, смеются, вспоминают прежние времена, — то чувствует тяжесть в груди. Наверное, следовало пойти вместе с ней на премьеру, отказ выглядел каким-то ребячеством, Джим теперь это понимает. Но когда Ева сказала: «Звонил Кац, спектакль Гарри будут ставить на Бродвее», — Джим инстинктивно отказался идти. Попытка самосохранения, полагает он, или же застарелая ревность. Уже пять лет Кац не имеет никакого отношения к Еве — пять лет, господи боже, за которые она стала Джиму женой, самым важным, что только есть в его жизни. Но где-то в голове у него поет, не замолкая, невидимый хор, от которого нет сил избавиться.
«Кац теперь звезда, а чего достиг ты? Кто ты? Бесцельно слоняющийся по Нью-Йорку муж на содержании собственной работающей жены. Ты не художник. С тех пор как закончил обучение в Слейде, не продал ни одной картины. Даже даром не можешь раздать. Ты никто».
Только в баре на перекрестке ему удается забыться; он сидит со стаканом виски и наблюдает, как утро плавно переходит в день.
Бар на Корнелиа-стрит разместился в подвале — это заведение с темными стенами, липкими полами и небольшой эстрадой; там стоит стул и временами появляется гитарист. Танцоры из труппы Джексона занимают стол в отдельном зале. Джим задерживается в туалете, а когда возвращается, не может поверить своей удаче — единственное свободное место осталось рядом с ней.
— Памела, — представляется танцовщица, когда он садится.
Джим не многое запомнит из той ночи: запах сажи в полутьме бара; красное вино в толстых, обернутых рафией бутылках; глубокий грубоватый голос музыканта, который периодически поднимается на сцену и исполняет что-то из репертуара Вуди Га-три. Такие же отрывочные воспоминания оставит и Памела: черный локон, отброшенный за ухо; бокал у губ; белизна обнаженного тела, особенно яркая в полумраке. И конечно, ее ноги, длинные и прохладные, обхватывающие бедра Джима в момент приближения оргазма.
Джим не мог потом вспомнить, как ушел от нее и добрался домой, хотя, очевидно, он сделал это — ведь на следующий день проснулся в их с Евой постели. Раздражающий до боли телефонный звонок вырывает Джима из состояния жесточайшего похмелья в его жизни. Он с трудом встает и, пошатываясь, лихорадочно ищет телефон.
В трубке голос Евы — она уже на работе, в редакции «Нью-Йорк таймс», откуда передает в «Ежедневный курьер» свою регулярную колонку «Англичанка в Нью-Йорке», а также новости и заметки в раздел культуры и моды. Ева говорит, что президента Кеннеди застрелили в Далласе, когда кортеж проезжал по улицам. Три выстрела. Кровью забрызгало изящный розовый костюм первой леди.
Пережив шок, Джим испытывает сильнейшее облегчение и стыдится его: вот, оказывается, зачем она звонит. Новость, о которой все вокруг станут говорить в ближайшие дни, недели и месяцы. Ева будет занята передачей материалов в Лондон и не начнет выяснять, где ее муж был прошлой ночью; почему пришел на рассвете, принял душ и лег рядом с ней, по-прежнему думая о другой женщине. Потом он, конечно, испытает чувство вины, но только потом. Не сейчас.
Версия вторая
«Алгонкин» Нью-Йорк, ноябрь 1963
После спектакля продюсеры устраивают в «Алгонкине» банкет в честь премьеры.
По британским меркам — шикарное мероприятие: лакеи в ливреях, джазовое трио, шампанское льется рекой. В стенах Дубового зала, отделанных деревом, все это приобретает характер средневекового действа, почти таинства; ряды тяжелых металлических люстр оттеняют богатую лепнину на потолке, льющийся из них неверный свет погружает гостей в комфортный полумрак.
В одном углу стоят рядом Пол Ньюман и Джоанн Вудворд, в другом Рекс Харрисон, склонив голову, слушает Берта Ланкастера, чей четкий, хорошо поставленный баритон едва слышен из-за царящего в помещении шума. В центре внимания — Гарри, Дэвид и Джульет, молодой режиссер и занятые в его спектакле звезды. Они обходят собравшихся, сияя улыбками, и все это время ладонь Дэвида касается спины Джульет чуть ниже выреза ее вечернего платья.
Ева стоит в стороне, держа в руке бокал с шампанским. Туфли жмут — она купила их вчера в «Блумингсдейле» вместе с платьем в пол. Чтобы сделать покупки, оставила Сару на попечение живущих в Верхнем Ист-Сайде дедушки и бабушки Дэвида. Ева впервые рассталась с дочерью больше чем на полчаса, тревожилась за нее и потому взяла первое же платье, которое примерила. Сейчас, увидев свое отражение в зеркальной боковине бара, Ева задумывается, хороший ли сделала выбор: зеленый шелк собирается некрасивыми складками, подчеркивая мягкий животик, образовавшийся после родов. Она старается держаться прямо.
— Все прошло хорошо?
Рядом с собой Ева обнаруживает Роуз. В длинном белом платье та похожа на невесту. Возможно, девушка таким способом пытается намекнуть Гарри на свои чувства. Но Ева не желает ей удачи — она испытывает симпатию к Роуз и радуется, что их отношения с Гарри никуда не движутся. Последний месяц Ева провела наедине с Сарой в крошечной квартире в доме без лифта, снятой для них американскими продюсерами, — Дэвид, отстаивая необходимость собственного личного пространства, отказался поселиться у дедушки и бабушки, ужасно их разочаровав. За этот месяц Роуз стала Еве другом, похоже, единственным в прекрасном безумном городе, с его безвкусными неоновыми огнями, навесами над тротуарами и снующими тут и там бездомными, до которых никому нет дела. Во время долгих пеших прогулок с Сарой в коляске, которую американцы так и зовут — «прогулочной», Ева обнаружила, что лишь у нищих в Нью-Йорке есть время, чтобы остановиться и поговорить. Несколько недель назад они с дочкой наблюдали за голубями на Вашингтон-сквер, и к ним подошла крошечная высохшая старушка с голубыми пластиковыми пакетами вместо обуви на ногах.
— Осторожнее, дамочка, — прошипела старушка, когда Ева быстро отодвинула Сару в сторону, — я могу укусить.
С тех пор лицо этой женщины стояло у Евы перед глазами.
— Да, все прошло безукоризненно, — отвечает она Роуз. — Хотя я боялась, что Джон пропустит обращенную к Дэвиду реплику в финальной сцене. Он опоздал на несколько секунд.
Роуз смотрит на нее с уважением.
— Я ничего не заметила. Ты знаешь текст лучше их.
Она отпивает глоток шампанского.
— Ну конечно, это же твоя работа. Имею в виду — читать внимательно. Все замечать.
— Да. Или это было моей работой раньше.
Сара родилась чуть больше шести месяцев назад, и с того момента Ева перестала читать рукописи пьес. Вскоре Королевский театр объявил, что они берут человека в штат на полную ставку, а вакансиями в других театрах Ева не интересовалась.
Она была рада полностью посвятить себя материнству, ежедневно и ежеминутно заниматься дочерью. И все-таки порой, особенно бессонными ночами, когда Дэвид спал, уткнувшись лицом в подушку, а она ходила взад и вперед по крошечной гостиной, изо всех сил пытаясь успокоить Сару, Ева задавалась вопросом — достаточно ли ей только этого? Конечно, не такой выглядела в ее мечтах жизнь с Дэвидом: они должны были идти к славе вместе — он в актерском деле, она в литературе. А теперь Ева садится писать в редкие свободные минуты, и тут выясняется, что сосредоточиться невозможно, внутри пусто, а мысли, приходящие в голову, не стоит переносить на бумагу. Если она пытается поговорить об этом с Дэвидом — чтобы вновь заручиться поддержкой, которая так ее согревает — тот, как правило, отвечает:
— Ну, дорогая, ты же должна заниматься Сарой, правда? Уверен, когда малышка подрастет, у тебя будет время, чтобы писать.
Однажды в момент слабости и полного упадка сил Ева поделилась своими печалями с Роуз, — сейчас та будто прочла ее мысли:
— Ты могла бы оставлять Сару у дедушки и бабушки Дэвида, как сегодня. И тогда появилась бы возможность писать.
Ева смотрит на Дэвида — в этот момент он пожимает Ланкастеру руку. Джульет по-прежнему рядом. Ева видит, как взгляд Ланкастера перемещается с безупречного овала лица актрисы на глубокое треугольное декольте.
— Или, может быть, Дэвид с ней посидит? Теперь дни у него освободятся. Как и у всех остальных. Можно оставить Сару на Дэвида и поработать в библиотеке.
Ева обдумывает эту мысль: поручить дочку заботам мужа, отправиться в общественную библиотеку на Пятой авеню, провести там целый день; вернуться и обнаружить убранную квартиру, довольного, выспавшегося ребенка и ужин на плите (или по крайней мере пару блюд из ближайшего китайского ресторанчика). Нет, представить себе такое невозможно; Дэвид, без сомнений, любит дочь, но поменять ей пеленки способен с таким же успехом, как и слетать на Луну.
Их разговор прерывает появление Гарри в сопровождении человека, которого Ева не узнает: тщательно уложенные волосы, мешковатый темно-серый костюм немного консервативного покроя. Не актер, скорее кто-то из мира больших денег. Но когда они подходят ближе, Ева понимает, что ошиблась: это лицо кажется смутно знакомым.
— Дорогие мои!
Гарри излучает счастье, упиваясь своим успехом. Он обнимает Роуз за талию.
— Хочу представить вас обеих. Джим Тейлор. Джим, это Роуз, моя прекрасная англичанка. А это Ева, жена Дэвида.
Джим формальным жестом протягивает руку Ро-уз, но та, подавив смешок, наклоняется и целует его в обе щеки.
— Это намного лучше, чем скучное старомодное рукопожатие, верно?
Он краснеет и поворачивается к Еве. Наклоняясь поцеловать Джима, та замечает, что глаза у него темно-синие, почти фиолетовые, а ресницы длиннее, чем у нее самой. Женщину это украсило бы, в случае с мужчиной эффект получается неожиданный.
Гарри, исполнив свой долг, тут же отвлекается и делает шаг назад, торопясь к более важным гостям.
— Мои дорогие, позаботьтесь, пожалуйста, о Джиме.
Он уходит, не дождавшись ответа.
На минуту воцаряется неловкое молчание. Затем Джим обращается к Еве:
— Дэвид сегодня сыграл блестяще. И постановка замечательная.
Взгляд у Джима пристальный, необычный цвет глаз только усиливает впечатление.
— Да, он хорош в этом спектакле.
Еще одна короткая пауза.
— А вы откуда знаете Гарри? Вы тоже актер?
— О нет, ничего столь же блестящего. Я адвокат.
Джим поднимает руки, будто извиняясь.
— Мы с Гарри вместе учились в Кембридже, хотя встречались не часто.
— В каком колледже? Я была в Ньюнхэме.
— Я в Клэре.
Он вновь смотрит на Еву, на сей раз более внимательно.
— Вы знаете, у меня странное чувство, будто мы раньше встречались.
Роуз делано вздыхает.
— Прошу вас, только не начинайте ваши кембриджские разговоры. Терпеть их не могу. Мне такого с Гарри хватает.
Ева смеется:
— Прости. Ты права. Это утомительно.
Несколько минут они говорят на другие темы — о карьере Роуз в модельном бизнесе; о Саре; о том, что Джим делает в Нью-Йорке (двухмесячная программа по обмену, призванная «углубить англо-американские отношения»). Затем Роуз, заметив, как Гарри оказался в опасной близости от девушки в облегающем коктейльном платье, покидает их.
— Рада знакомству, Джим.
Проходящий мимо официант наполняет их бокалы. Он уходит, и Джим говорит:
— Никак не могу вспомнить, где я вас видел.
— Понимаю. У меня такое же странное чувство, что мы раньше встречались.
Теперь, когда они остаются наедине, Ева внезапно испытывает легкое смущение.
После паузы Джим спрашивает ее:
— Может быть, хотите присесть?
— О да. Эти туфли просто убивают.
— И мне так показалось. Вы все время переминались с ноги на ногу.
— Правда?
Ева разглядывает его, пытаясь понять, нет ли в его словах насмешки, но Джим вновь улыбается.
— Как неловко.
— Вовсе нет.
Они садятся в углу. Пока никто не видит, Ева скидывает обувь. Разговор опять прерывается, и теперь молчание носит несколько напряженный характер. Джим нарушает его:
— Вы давно знакомы с Дэвидом? Встретились в Кембридже?
— Да. Вместе играли в «Эй-ди-си», в спектакле «Сон в летнюю ночь», я — Гермию, он — Лисандра.
— Так вы тоже собирались стать актрисой?
— На самом деле нет. Моя подруга Пенелопа пошла на пробы, и я решила составить ей компанию. Было весело.
Ева вспоминает сухой запах мела в кладовой Королевского колледжа, где они репетировали; теплый шанди во дворике паба «Орел» и Дэвида — высокого, яркого, более мужественного, чем все, кого она встречала до тех пор.
— Вначале я решила, что он невыносимо высокомерен.
— Но ему удалось завоевать ваше сердце.
— Это правда.
Ева осекается, боясь сказать лишнее. Затем осторожно спрашивает:
— А вы? Женаты?
— Нет. Я… Обстоятельства складывались непросто. Моя мать, она…
Джим снова смотрит на нее прямо, не отводя взгляда, будто взвешивает, можно ли ей доверять.
— Она нездорова. Когда ее в последний раз выписывали из больницы, врачи сказали, что мать не может жить одна. А отец умер.
Он замолкает, и Ева чувствует, как непросто дается ему этот рассказ.
— Моя тетка жила с ней, пока я заканчивал учебу в Гилдфорде, а потом все легло на меня. Поэтому я переехал к ней в Бристоль.
— Понятно.
В противоположном углу джазовое трио начинает новую мелодию, грустно поет саксофон, перекрывая тихие переливы тарелок и баса.
— И как она себя чувствует сейчас?
— Не очень.
Выражение лица Джима меняется, и Ева начинает сожалеть о своем вопросе.
— Плохо на самом деле. Снова попала в больницу. Я бы не стал проделывать весь этот путь…
Собственно, ее врач сказал, что надо поехать. Он считает, подобное должно помочь. Мне, во всяком случае.
— Помогло?
— Да. Давно себя так хорошо не чувствовал, честно говоря.
Разговор переходит на Нью-Йорк: его безостановочный ритм; головокружительная высота небоскребов; пугающие клубы пара, которые вырываются из-под асфальта, словно призраки.
— Когда я в первый раз это увидела, — рассказывает Ева, — решила, что в метро случился пожар.
То, что Ева и Дэвид поселились в Гринвич-Виллидж, производит на Джима впечатление. Сам он живет в центре города, в невзрачной квартире недалеко от офиса адвокатского бюро. Но почти все свободное время проводит в своем обожаемом Гринвич-Виллидж.
— В этом квартале есть потрясающие художественные галереи — в подвалах, в гаражах, просто в витринах магазинов. Там можно увидеть что угодно — скульптурные работы, инсталляции, представления. В церкви Джадсона на Вашингтон-сквер даже танцуют. Великолепное зрелище.
— Тогда, похоже, я знаю, где вас видела. В Гринвич-Виллидж.
Он кивает:
— Да. Наверное, там.
Затем они разговаривают об отце Джима — Ева была на последней посмертной выставке Льюиса Тейлора в Королевской академии — и о самом Джиме: его любви к живописи и давнем желании вопреки чаяниям матери поступить в художественную школу, а не в Кембридж.
— Отец умер, когда мне было десять лет — вы, наверное, в курсе, раз знакомы с его творчеством. После этого маме стало значительно хуже. Она продала дом в Сассексе и почти все отцовские картины. Не могла примириться с мыслью, что я буду похож на него.
Подходит официант; в полной тишине наполняет их бокалы. Затем Джим нарушает молчание:
— В его жизни была одна женщина. Ее звали Соня. Он крутит бокал в пальцах.
— Вообще-то, женщин было много.
Беседа продолжается, и у Евы возникает ощущение, что она находится не в этом зале, а в каком-то безграничном пространстве, где время ломается и исчезает, и есть только этот человек и этот разговор, и единственное чувство — глубинной связи с ним. По-другому происходящее не описать, хотя Ева пока не отдает себе в этом отчета — просто живет здесь и сейчас, в реальности, в которой Джим находится рядом и звучит его мягкий голос. Весь остальной мир отходит на второй план.
Она рассказывает о своих литературных опытах и неудачной попытке закончить роман: описывает сюжет, героев, обстоятельства.
— Я думаю, это история о четырех работающих женщинах, — говорит Ева. — Они познакомились в Кембридже, а потом вместе сняли дом в Лондоне. Пытаются добиться успеха, заводят друзей, мечтают.
Ева прерывается, с улыбкой глядя на Джима:
— И разумеется, влюбляются.
Он улыбается в ответ.
— Звучит увлекательно. А название уже есть?
Ева качает головой и говорит, что боится никогда не закончить роман, слишком много времени уходит на Сару; но если совсем честно, то ей кажется, она как раз боится его закончить и понять, что он никуда не годится.
Тут Джим наклоняется вперед, сверкая удивительного цвета глазами и постукивая ладонью по столу.
— С чьей точки зрения никуда не годится, Ева? Ведь единственный судья — вы.
Звучит очень просто, но ничего более интригующего Ева никогда ни от кого не слышала. Она сидит на кожаном диване и борется с желанием дотронуться до Джима, взять его руку в свою.
— А вы? — спрашивает она с необычайной тревогой. — Продолжаете рисовать?
— Нет, — говорит он, и заметно, что правдивый ответ причиняет ему боль. — Если серьезно, то я просто… — Джим вздыхает. — У меня нет оправданий.
— Вот что я скажу, Джим Тейлор, сын Льюиса Тейлора, — тихо произносит Ева, — вам тоже надо вновь заняться делом.
— Наконец-то я нашел тебя, дорогая!
Рядом с ними возникает Дэвид и протягивает Джиму руку:
— Кажется, мы не знакомы. Дэвид Кертис. Я вижу, вы составили компанию моей жене.
Джим встает, обменивается с Дэвидом рукопожатием. Тейлор ниже ростом, чем Кац, одежда выглядит непрезентабельно на фоне костюма от «Сэвил-Роу», который так хорошо сидит на его собеседнике, но он спокоен и уверен в себе.
— Джим Тейлор. Скорее это она мне составила компанию. Я здесь никого не знаю, кроме Гарри.
Дэвид продолжает смотреть на Джима.
— Гарри? Откуда вы знаете моего старого приятеля?
— Вместе учились в школе, а потом и в Кембридже. На самом деле мы с вами встречались. На дне рождения Грэма Стивенсона в Мэйполе. Вы пришли вместе с Гарри.
— В самом деле? Я вас совершенно не помню.
Дэвид переводит взгляд на Еву. Та чувствует, что краснеет, и ненавидит себя за это, ведь она не сделала ничего предосудительного, просто разговаривала с интересным человеком, пока Дэвид фланировал между гостями в компании Джульет. Ее охватывает справедливый гнев (и ревность, хотя в подобном чувстве Ева себе не признается; но сложно отмахнуться от мысли, что еще несколько лет назад именно она была бы рядом с мужем, а не кто-либо другой). Однако Ева не произносит ни слова; к ним вновь приближается официант. Но на этот раз не с предложением налить шампанского.
— Миссис Кертис?
Ева кивает: на приемах по случаю театральных событий она откликается на сценический псевдоним мужа.
— Вас срочно к телефону. Не могли бы вы подойти, пожалуйста, мэм?
После бедлама, царящего наверху, в лобби отеля прохладно и тихо. Администратор — элегантная, коротко стриженная блондинка — с выражением профессиональной озабоченности протягивает Еве трубку.
Высокий голос Рейчел, бабушки Дэвида, звучит напряженно: у Сары температура, она все время плачет. Рейчел не хочет отвлекать Еву, но, кажется, той надо приехать.
Ева чувствует, как учащается пульс. Она просит администратора передать Дэвиду, что уезжает; пусть немедленно едет следом. Но муж будет дома лишь спустя несколько часов, и Ева потом с трудом простит его за это.
В два часа ночи они ждут у дверей реанимации; тусклые окна в коридоре пропускают только неоновые отблески города. Они сидят рядом на тяжелых металлических стульях; Ева и Дэвид — в вечерних нарядах, Рейчел и Симеон кутаются в пальто: бабушка и дедушка Дэвида настояли на своем приезде, хотя от усталости и тревоги их лица посерели.
В глазах у Евы темно. Она ни с кем не разговаривает, отказывается от третьего стаканчика жидкого кофе, предложенного добросердечной разносчицей сладостей, которая проходит мимо со своей тележкой. Ева держит Дэвида за руку, напрочь позабыв о Джиме. Не вспоминает их разговор, не помнит вообще ничего — в памяти только Сара, покрасневшее лицо дочери и то, как она плакала, исчезая за дверями реанимационного отделения на руках у чужого человека.
В три часа ночи из реанимации выходит сестра.
— Сара в порядке, — сообщает она, — у нее ушная инфекция, это неприятно, но волноваться не о чем. Доктор дал ей успокоительное. Девочку можно забрать домой.
Не сговариваясь, все садятся в такси и едут к Рей-чел и Симеону. Ева кладет дочь рядом с собой. Сара дышит медленно и ровно, волосы прилипли к вспотевшему лбу.
Дэвид быстро засыпает, и Ева прислушивается к тихому дыханию мужа и дочери. Только сейчас, посреди ночи, она позволяет себе подумать о Джиме Тейлоре и головокружительном ощущении связи с ним — таком странном и неожиданном. Это его лицо видит Ева, прежде чем погружается в долгожданный сон, глубокий и безмятежный.
Версия третья
«Алгонкин» Нью-Йорк, ноябрь 1963
Джим не собирался быть на спектакле. У него имелись другие планы на вечер — в церкви на Вашингтон-сквер выступала труппа Джексона. Ричард и Хан-на тоже собирались пойти вместе с компанией из Музея современного искусства; а потом намечалась вечеринка в квартире какого-то художника в Гринвич-Виллидж. Артисты, писатели, темноглазые девушки покачиваются под музыку, а на кухне кто-нибудь раздает амфетамины из бумажного пакета.
Но с того момента, как Джим появился в Нью-Йорке, эти афиши преследовали его, они висели везде — в метро, на газетных киосках, на кирпичных стенах домов и уличных фонарях. Жирным черным шрифтом на них было написано:
Дэвид Кертис и Гарри Янус.
Пьеса, покорившая Лондон!
Он старательно игнорировал афиши, притворяясь, что ни одно из имен ему незнакомо. И внезапно для себя в день премьеры, выйдя из галереи, где он руководил развешиванием картин для выставки Ричарда, Джим направляется в театр и спрашивает в кассе, остались ли билеты на «Богему».
— Последний, сэр, — сообщает ему кассир. — Берете?
Джим сидит в последнем ряду бельэтажа. Отсюда невозможно разглядеть партер, и это его огорчает — он уверен, что Ева здесь, и надеется ее увидеть. Декорации, реалистично-грубые — соломенный тюфяк, раковина, унитаз — с такого расстояния кажутся игрушечными.
Он читал отзывы об этой постановке — свободном прочтении «Богемы», действие которой происходит в послевоенном Сохо, среди торговцев наркотиками и проституток. В Лондоне спектакль получил восторженный прием и оставался в репертуаре Королевского театра еще два сезона. Но Джим не ожидал, что увиденное подействует на него настолько сильно — даже с большого расстояния. Кац — или Кертис, как он теперь себя называет, — в роли поэта Родольфо (здесь его зовут Ральф) совершенно преображается: трясущийся от озноба, исхудавший, он держит на руках свою Мими (тут — Мэри, роль которой исполняет Джульет Фрэнкс, актриса необыкновенной, чувственной красоты). Кац настолько хорош, что Джим даже забывает о своей ненависти к этому человеку.
После окончания спектакля толпа зрителей выплескивается на Бродвей. Джим идет последним, разыскивая взглядом Гарри (и конечно же Еву). С Гарри они не виделись после окончания университета, никогда не были особенно близки, его нью-йоркского номера телефона у Джима нет, и сообщить о своем приходе он не может. Джим ждет до того момента, когда в фойе становится пусто и тихо, и уборщик в безупречной полосатой ливрее уже достает из шкафа огромный пылесос.
— Вы кого-то ищете, сэр?
Служитель в униформе с начищенными до блеска золотыми пуговицами спешит к нему из партера.
— Собственно говоря, да. Я друг Гарри Януса, режиссера. Не знаете ли вы…
Выражение на лице служителя смягчается.
— Его друг из Лондона? Вы проделали долгий путь, сэр. Банкет проходит в «Алгонкине». Вызвать такси?
— Я сам. Благодарю вас.
Джим выходит на Бродвей. На улице прохладно, поднявшийся ветер бьется о витрины, шуршит по тротуарам старыми газетами. Джим плотнее затягивает шарф и поднимает руку, подзывая такси, — в этот момент у него возникает странное чувство, будто он смотрит на себя со стороны, как на героя какого-то фильма. Ему везет, такси останавливается почти сразу. Джим садится.
— В «Алгонкин», пожалуйста.
В отеле он называет администратору фамилию Гарри. Посыльный принимает у него пальто и ведет по коридорам, в которых царит почти церковная тишина, открывает перед ним дверь и приглашает Джима внутрь. Он дает посыльному двадцать пять центов на чай и заходит. Внезапно на него обрушиваются свет и звук: уродливые металлические люстры освещают темные стены, обшитые деревом; джазовое трио играет мелодию Стэна Гетца. Люди — модно одетые, раскованные, веселые — стоят тесными группами, держа в руках бокалы с шампанским. Он тоже берет у официанта бокал и оглядывает зал в поисках Гарри. И Евы.
Ее он видит первой. Она стоит в одиночестве в зеленом платье до пола. Высоко подобрала и заколола свои вьющиеся волосы, обнажив загорелую шею; когда отпивает шампанское, обнажается и рука. Сейчас, видя ее воочию, Джим понимает, как сильно ошибся тогда, на бристольской улице. Ева ни на кого не похожа — как можно спутать этот тонкий подбородок, эти удивленно поднятые брови и карие глаза, светящиеся любопытством, с чьми-то еще? Ему очень хочется, чтобы она заметила его, и одновременно он охвачен желанием повернуться и бежать отсюда.
— Джим Тейлор! Ты откуда здесь взялся?
Гарри стоит перед ним, одетый в смокинг — сияющий, оживленный, наслаждающийся успехом. За то время, что они не виделись после окончания университета, Янус явно набрал вес: лицо расплылось, появился живот. Он хлопает Джима по спине, как бы слегка обнимая, и Джим отвечает тем же.
— Я в Нью-Йорке по работе. Смотрю, твой спектакль — главное событие в городе, ну вот и купил билет.
— Умно поступил.
Голубые глаза Гарри внимательно смотрят на Джима.
— Чем занимаешься? Продолжаешь рисовать?
Джим кивает.
— Да, когда представляется такая возможность. И работаю на одного скульптора, Ричарда Сейлза. Не слышал о нем? У него на следующей неделе открывается выставка в Музее современного искусства.
— Да что ты? Это здорово, Джим.
Но Гарри его уже не слушает: смотрит мимо и улыбается кому-то другому.
— Прости, пожалуйста, еще со столькими надо поговорить. Позвони в театр, тебе дадут мой номер телефона. И спасибо, что пришел.
Гарри уходит, и Джим внезапно чувствует, что Ева смотрит на него. Его охватывает паника. Не важно, с каким выражением она глядит в его сторону — дружеским или враждебным, — но вынести это невозможно. Она стоит на прежнем месте — Джим еще не забыл этот пристальный взгляд, — однако уже не одна, а в компании стройной девушки в белом платье. Ева без улыбки кивает Джиму, приглашая подойти. Он проходит через зал, и вот они уже рядом друг с другом. Джим наклоняется, чтобы поцеловать ее в щеку.
Ева представляет Джиму Роуз Арчер.
— Подруга Гарри, — добавляет она; Джим целует и Роуз, отмечая про себя ее красоту, но как-то безучастно, будто смотрит на фотографию в журнале. Словно ее — в отличие от Евы — здесь нет.
Джим глядит на Еву долго, потом отворачивается, не желая показаться невежливым. Располнела, но ей идет, исчезла былая угловатость. Выглядит усталой, впрочем, как любая мать — сколько сейчас ребенку, пять лет? Под глазами у Евы залегли тени. Он вспоминает их первое совместное утро после встречи в полях. Они мало спали в ту ночь, и, когда Джим проснулся, Ева еще не открывала глаз, и ее лицо казалось серым в утреннем свете. Его охватило жгучее желание нарисовать Еву — такой, какой Джим видел ее тогда и какой она никогда больше не будет. Вместо этого он заснул, и та минута безвозвратно канула в прошлое.
Джим разговаривает с Евой и Роуз. Он видит, как двигаются губы девушек, но сам участвует в беседе через силу, хотя разговор идет о самых тривиальных вещах — понравился ли ему спектакль, сколько времени он уже в Нью-Йорке… Роуз переводит взгляд с Джима на Еву. Возможно, у Роуз и есть сомнения по поводу того, насколько хорошо ее собеседники знакомы друг с другом — Ева представила Джима всего лишь как «старого университетского товарища Гарри», и он с трудом поборол соблазн поправить эту вопиющую неточность, — но она ими не делится, а спустя некоторое время просит извинить ее — надо отыскать Гарри, рада была познакомиться… Джим произносит ответные вежливые банальности, собственный голос доносится до него откуда-то издалека. И вот они остаются наедине.
— Приятно тебя видеть, — говорит Ева.
Джим смотрит на нее не отрываясь и думает: «Наверняка она могла найти другое слово вместо “приятно”». От своего отца он унаследовал любовь к точным деталям — как в языке, так и в искусстве. Джим хорошо помнит один воскресный полдень — ему тогда было лет семь, вряд ли больше. Отец позволил сыну подняться на чердак, где тот увидел картину: лесной пейзаж, утопающий в белизне.
— Смотри, — сказал отец. — Ты думаешь, снег белый, но это не так — он серебристый, серый, пурпурный. Смотри внимательнее. Ни одна снежинка не похожа на другую. Ты должен всегда пытаться показать вещи такими, какие они есть. Все остальное — чушь.
Лишь много лет спустя Джим понял, что имел в виду отец, но усвоил это твердо.
— Прости, — произносит Ева. Она, должно быть, догадалась, о чем он думает: всегда умела читать его мысли. — «Приятно» — неправильное слово. Такое же дурацкое, как «мило». Но тут сложно подобрать что-то получше.
Тогда она просто написала ему письмо. Джим думает, что какое-то время, наверное, ненавидел ее, вместе с тем желая найти слова, которые убедят Еву вернуться. Но притворяться сейчас, будто он испытывает прежнюю ненависть, было бессмысленно.
— Да, — отвечает он. — Сложно.
— Джим Тейлор!
Это Кац (Джим не может привыкнуть к его псевдониму), стройный, как тореадор, в черном костюме, с элегантно растрепанной прической.
— Вот так сюрприз! Ты как здесь оказался?
Джим протягивает ему руку.
— Я работаю помощником у одного скульптора. Его зовут Ричард Сейлз. Завтра в Музее современного искусства открывается его ретроспектива.
Кац поднимает бровь:
— Правда? Видел его работы. Очень интересно. Мы с Евой обязательно зайдем, если будет время.
Джим почти физически ощущает, как Дэвид, с лица которого не сходит доброжелательное выражение, пытается понять, что Тейлор здесь делает. Он всегда недолюбливал Каца, но до появления Евы не мог понять почему. Впоследствии у него было много времени, чтобы поразмышлять на эту тему; и Джим искал ответ единственным доступным ему способом — с помощью карандаша и бумаги, холста и красок. Он не рисовал самого Каца, только людей, похожих на него — с обаятельными жестокими лицами и невидящими глазами. Людей, которые выходили победителями в любой игре, не удосужившись даже изучить правила.
Джим вдруг понимает: все эти годы Ева считала, что он и не старался ее переубедить. Но это не так. Прочитав ее письмо, он много раз пытался ответить ей. Хотел объяснить, что она поступила неправильно, и все это не имеет значения; он будет любить ее и ребенка при любых обстоятельствах. Однако ни одно из этих писем Джим так и не отправил; просто не нашел в себе смелости. Прошло Рождество — и матери стало совсем плохо. Джим погрузился в ежедневную рутину — помочь ей встать, одеться, поесть. К началу нового семестра он чувствовал себя опустошенным, охваченным убаюкивающей апатией. Ева сделала свой выбор. И разве предоставить ей свободу — не есть высшее проявление любви?
Сейчас, когда она стоит перед ним, Джим осознает всю глубину своей ошибки. Он должен был найти ее. Обнять и не отпускать до тех пор, пока она не поймет. А сейчас не остается ничего другого, кроме как извиниться и сказать: «Мне пора». В дверях Джим оборачивается, но Евы уже нет. Он в одиночестве идет по коридору. И вдруг кто-то хватает его за руку и тянет в сторону. Это Ева. Она засовывает ему в карман записку и убегает. Оказавшись у выхода и дожидаясь, когда ему принесут пальто, Джим наконец достает листок. Большие черные буквы, написанные карандашом, смазаны. «Завтра. Публичная библиотека на Пятой авеню. В четыре».
Часть вторая
Версия первая
Выставка Лондон, июнь 1966
— Гилберт опять притащил этого проклятого попугая, — говорит Фрэнк.
Ева, целиком погруженная в текст, раздумывает, какое слово здесь уместнее — «может быть» или «возможно», — и не поднимает головы от пишущей машинки.
— Да?
Фрэнк встает из-за стола и подходит к открытой двери.
— Ты разве не слышишь, как тот верещит?
Он высовывает голову в коридор:
— Гилберт! Утихомирь эту сволочь, пожалуйста!
Из кабинета напротив — его занимает Гилберт Джонс, редактор отдела некрологов, худой, сухощавый человек, который недавно начал приходить на работу со своим попугаем ара, — раздается тихий голос:
— Хорошо, хорошо, не надо так кричать.
Следом слышится глухой стук закрываемой двери.
— Так-то лучше.
Фрэнк, не присаживаясь, лезет в карман за сигаретами.
— Будешь?
Ева останавливает свой выбор на «возможно».
— Давай.
Как обычно, они устраиваются на подоконнике. Это неудобно, но Боб Мастерс, литературный редактор, с которым Ева и Фрэнк делят кабинет, не переносит запаха сигарет. День перевалил за половину; в тяжелом, липком воздухе висят привычные запахи жареного лука и переполненных мусорных баков. Их кабинет расположен в тыльной стороне здания редакции, и вид из окна — сплошные пожарные лестницы и вентиляционные шахты — не внушает восторга. Но преимущество места в том, что поблизости пролегает главная лестница — по крайней мере, это преимущество с точки зрения Фрэнка, который обожает слухи и старается держать дверь в коридор всегда открытой.
Каждый раз, когда мимо проходит пара секретарш, обмениваясь новостями и не понижая при этом голоса, он внимательно прислушивается. Таким образом Фрэнк, например, узнал, что Шейла Дьюхерст, старшая секретарша, спит с редактором, жена которого обо всем прекрасно осведомлена и, по сути, выдала им карт-бланш.
— Боб не появлялся? — спрашивает Ева, глядя на стол коллеги, где пишущая машинка прячется за нагромождением книг, стопок бумаги, конвертов и скоросшивателей.
Фрэнк вытягивает ноги и выпускает одно за другим три идеальных кольца дыма. Как обычно после обеда, он закатал рукава рубашки; густые, плохо поддающиеся расческе волосы уже заметно седеют. Он хорош собой — Ева слышала, как девушки перешептываются о нем в столовой, — но по-прежнему трогательно предан Софии; как полагает Ева, Фрэнк не бабник.
— И вряд ли появится, — отвечает он. — Обедает в Художественном клубе с каким-то писателем. Обычно это заканчивается ужином. Мы ведь знаем писателей, да?
Фрэнк слегка подталкивает ее локтем в бок, Ева улыбается.
— Как у тебя вообще дела?
— С материалом?
Ева сейчас работает над статьей о женской коммуне в Восточном Сассексе: она провела там два дня в начале недели. Фактическим лидером коммуны — теоретически иерархия у них отсутствует — оказалась Теодора Харт, полная женщина с низким голосом. По наследству от тетки ей достался большой дом, и она решила — в силу бескорыстного идеализма, граничащего с глубочайшей наивностью, — основать коммуну, построенную на принципах «нового матриархата».
Ева восприняла идею скептически: как, спросила она членов коммуны, из движения, которое борется за равные права для всех, можно исключать половину человечества? Женщины угощали Еву вкусным рагу, приготовленным из собственноручно выращенных овощей, и терпеливо отвечали на ее вопросы. Потом, усевшись на полу, слушали музыку и курили марихуану.
— Не понимаю, — сказала одна из них, — как вы терпите замужество? Чтобы мужчина все время указывал, что делать?
Ева — расслабленная после травки — расхохоталась и ответила:
— Не беспокойтесь. Я даю столько же, сколько получаю.
— Нет, не с материалом, — говорит Фрэнк, — а с твоим романом. Это, как ты выражаешься, более важные буквы.
Ева медленно затягивается, наслаждаясь мягким вкусом табака.
— Спасибо, неплохо. Почти закончила.
— Когда дашь почитать?
— Скоро. Но после Джима, разумеется.
— Конечно.
Какое-то время еще они дымят сигаретами. Фрэнк сует окурок в пепельницу.
— Итак. Мне нужен еще час на то, чтобы привести этот несчастный материал Иветты в божеский вид, а потом заскочу в «Чиз» выпить пива. Пойдешь со мной?
— Нет. Сегодня вечером у Джима открытие выставки.
— Ну да, я совсем забыл.
Фрэнк выглядит виновато.
— Нам с Софией, наверное, надо прийти?
— Нет. Он никого не приглашал. Выставка только для сотрудников школы. Хотя я думаю, что по субботам она открыта для всех.
Ева сейчас ненавидит собственную интонацию; будто извиняется за скромность выставки и за отсутствие у Джима амбиций. Она усаживается на свое место и опускает взгляд на пишущую машинку.
— Отлично, — говорит Фрэнк, скрещивая ноги под столом, — тогда мы, наверное, зайдем в какую-нибудь субботу.
Примерно через час статья готова: Ева кладет копию на стол Фрэнку, чтобы завтра он начал день с этого текста, и выходит на вечернюю улицу. Флит-стрит заполнена людьми. Женщины, похожие на Еву, в аккуратных платьях с принтом, целеустремленно движутся к автобусной остановке или к метро; быстро шагают зрелые мужчины в модных костюмах со свернутым номером «Ивнинг стандард» в руках; их обгоняют клерки, копирайтеры, маркетологи и прочие знаменосцы новой медиаэры — молодые, быстроногие, длинные волосы развеваются над воротниками спортивных пиджаков.
Поезд, идущий с вокзала Виктория, задерживается, поэтому до школы она добирается только к половине седьмого. Выставку устроили в коридоре, ведущем в актовый зал, — Джим рассказывал, как трудно было развешивать картины, пока мимо пробегали любопытные ученики. Она посочувствовала ему, представив себе узкое, плохо освещенное пространство. На деле коридор оказывается просторным и светлым, картины Джима яркими пятнами выделяются на белых стенах. Ева в который раз задумывается, почему мужу надо принизить любое свое достижение, любой шаг, приближающий его к успеху.
Она даже не уверена, что значит теперь для него это слово: человек, которого Ева встретила и полюбила в Кембридже, — строивший грандиозные планы, твердо намеренный перенести на свои полотна весь мир, — этот человек исчезает у нее на глазах, подобно тому, как выцветает лежащая на солнце фотография.
— Возможно, — сказал Джим несколько месяцев назад (они ходили в театр, потом допоздна сидели за бутылкой вина), — это все, на что я способен, Ева: преподавать и баловаться живописью в свободное время. Возможно, это мой предел.
— Нет.
Она стиснула его руку в своей, этим пожатием пытаясь передать, насколько верит в него.
— Не говори так. Если хочешь создать что-то настоящее, приходится бороться, ты же знаешь. Ты не должен опускать руки, Джим. Не должен сдаваться.
Он пристально посмотрел на нее — у Евы даже мурашки побежали по коже. В этих знакомых темно-синих глазах она увидела то, чего там раньше не было: отстраненность и неверие, спокойное принятие факта — между ее победами и его неудачами лежит пропасть. Ей тогда захотелось крикнуть: «Нет, Джим! Не делай этого. Не используй мой успех как оружие против меня. Мы же вместе!»
Но она не крикнула, и он тоже промолчал; через несколько секунд Ева сказала, что ложится спать, а он не сделал попытки последовать за ней.
Сейчас она видит Джима в окружении других преподавателей, родителей учеников, воспитателей. Некоторые ей знакомы.
— Прости, дорогой, — говорит она негромко, — поезда — это какой-то кошмар.
Он хмурится, шепчет в ответ:
— Жаль, что ты не пришла раньше.
Ева сжимает его ладонь, они возвращаются к гостям, и лицо Джима меняется; на нем вновь появляется привычное беззаботное выражение, так привлекающее людей.
Алан Данн, директор школы — высокий грузный мужчина, неуловимо похожий на отставного армейского полковника, — обращаясь к Джиму, довольно неубедительно называет его выставку «триумфальной». Затем рассказывает Еве о том, что ее последняя колонка (после возвращения из Нью-Йорка она получила новое назначение и больше места на полосе — теперь пишет статьи для женской страницы) произвела фурор в его семье.
— Я не уверен, что вам следует призывать английских домохозяек повесить фартуки на гвоздь. Элеонор угрожает объявить забастовку.
Ева открывает рот для ответа. Трудно представить себе Элеонор Данн — та происходит из обедневшей аристократической семьи и любым другим темам для беседы предпочитает скачки и брачные союзы между королевскими домами Европы — хоть что-либо делающей по дому. Но Алан Данн продолжает свою мысль:
— Разумеется, я шучу, дорогая. Мы читаем вас с удовольствием. «Ежедневный курьер» для нас не вполне традиционное чтение, вы понимаете, но все равно — с удовольствием.
Он широко улыбается Еве, и та улыбается в ответ с ощущением, что Алан сейчас наградит ее медалью.
Когда шерри допит (пара шестиклассников с недовольным видом разносила напиток в пластиковых стаканчиках) и коридор заполняет тишина, которая бывает только в опустевшей школе, компания преподавателей отправляется в ближайший паб. Ева знакома с большинством из них — вот Гэвин, учитель английского; Джерри преподает рисование, как и Джим; Ада, учительница французского, носит черное и непрерывно курит «Голуаз», совершенно не боясь быть похожей на карикатурную француженку. Джим — благодарный им за то, что остались до конца, — заказывает на всю компанию пиво и чипсы.
У Евы кружится голова от выпитого натощак алкоголя и напряжения, которое она испытывает, думая, как много сегодняшний вечер значит для Джима, хотя он ни за что этого не покажет. Когда в мае он сообщил Еве о планируемой выставке в школе, то сделал это словно походя, пожав плечами.
— Всего лишь утешительный приз, разве не так? — сказал он. Ева принялась спорить и настояла на том, чтобы они отметили это событие — поужинали в его любимом французском ресторане в Сохо, съели по стейку с жареным картофелем. Джим разошелся — заказал бутылку кьянти и был похож на себя прежнего. Но когда подали десерт, впал в слезливое настроение: вновь заговорил о том, что это, вероятно, предел его возможностей.
— Вот о чем я подумал, Ева, — сказал он, внезапно оживившись и взяв ее за руку. — Я бы очень хотел, чтобы у нас был ребенок. А ты? Не пора ли уже? Разве мы не достаточно долго ждали?
Ева осушила свой бокал и несколько секунд помолчала, прежде чем ответить:
— Ты знаешь, я тоже хочу ребенка, Джим. Но не сейчас. Еще не время. Я так занята на работе, и я хотела бы еще…
Он ответил резко и пренебрежительно:
— Да-да, знаю — ты должна закончить труд своей жизни. Как я мог забыть?
Вначале преподавание его увлекло. Джим задумался об этом еще в Нью-Йорке. Прошла неделя после покушения на Кеннеди — Ева продолжала собирать материал, брала многочисленные интервью, но, несмотря на занятость, обратила внимание на перемены в Джиме. Он неделями не подходил к мольберту; по вечерам, когда она возвращалась из редакции «Нью-Йорк таймс», его часто не было дома, и записок он не оставлял. Ева забеспокоилась: ее тревожило не только то, что Джим внезапно утратил природный интерес к творчеству, но и происходящее с их браком. Она боялась даже думать, что в жизни ее мужа появилась другая женщина. Но вслух Ева о своих страхах не говорила, опасаясь превратить их в реальность. Однажды, вернувшись домой, она обнаружила на столе еду из ближайшего китайского ресторана и только что откупоренную бутылку вина.
— Я решил, Ева, — сказал Джим. — Когда вернемся в Лондон, пойду преподавать.
Она знала, какой ценой Джиму далось это решение — ему пришлось, по крайней мере на время, расстаться с мечтой о том, чтобы зарабатывать на жизнь исключительно творчеством. Юэн уже завоевал некоторую известность: крупная галерея на Корк-стрит выставляла его работы; вот кому уж точно не было нужды преподавать. Но Джима воодушевили новые перспективы: по его словам, такая работа — все-таки лучше, чем возвращение к юридической практике; преподавание позволит ему не отрываться от искусства, а рисовать он сможет по выходным. И Ева позволила Джиму убедить себя, что он поступает правильно. «Слава богу, дело только в этом, — думала она. — Слава богу, у него нет другой женщины. Слава богу, с нами все в порядке».
Сейчас они сидят на веранде паба, и теплый бархатный вечер пропитан запахами пива и свежескошенной травы. Преподаватели выпили лишнего и со смехом делятся друг с другом страшными историями об учениках. Ада, старшая среди них, вспоминает какого-то пятиклассника, который присылал секретарше директора скабрезные записки от имени последнего. Пока обман не раскрылся, бедная женщина постоянно рыдала на своем рабочем месте.
— Я никогда не видела Алана в таком гневе, — рассказывает Ада, одобрительно кивая. — Это было похоже на сцену из фильма про рассерженную гориллу, как его? «Кинг-Конг»!
Джим не участвует в разговоре, он незаметно для других держит Еву за руку. Она думает о его картинах, аккуратно развешанных по белым стенам: широкие мазки и тонкие штрихи, вихрь ярких красок, заключенный в строгие черные рамы. После возвращения из Нью-Йорка у Джима наступил новый творческий период. Он самозабвенно рисовал в своей мастерской — вечерами и по выходным, уже приступив к работе в частной школе для мальчиков в Далвиче. Ее директор, Алан Данн, обрадовался появлению Джима в штате. Сейчас, спустя два года, Джим рисует гораздо реже — по воскресеньям, иногда по вечерам, если не очень устал — и из-под его кисти все чаще и чаще выходят абстракции. Но если у других художников абстрактный метод становится языком самовыражения, то с полотнами Джима дело обстоит иначе — их смысл остается туманным. Ева считает, что муж должен вернуться к прежней изобразительной манере; он прекрасен в портретной и пейзажной живописи; многие его ранние работы, в том числе два ее портрета, висят у них дома.
Однажды она попыталась со всем возможным тактом сказать Джиму об этом, но он только проворчал в ответ:
— Никому больше не нужна техника письма, Ева. Ради бога, разве ты не видишь, эта чепуха — уже вчерашний день? Мир меняется.
Ева отлично понимала, что под «этой чепухой» подразумеваются произведения его отца. Она редко видела Джима таким раздраженным и не стала продолжать разговор.
После закрытия паба они отправляются домой; машина припаркована возле школы, но оба выпили слишком много, чтобы сесть за руль, тем более идти недалеко, хотя и все время в гору. На полпути Ева и Джим останавливаются перевести дыхание. Пригородная улица темна и пустынна, внизу светятся огни города.
— Мне кажется, все прошло хорошо, — говорит Джим. — Может быть, позову Адама Браунинга взглянуть.
Адам Браунинг — владелец галереи, где выставляется Юэн. Тот благородно рассказал галеристу о своем друге, и Адам написал Джиму с предложением посмотреть его следующую выставку.
— Хорошая мысль, — отвечает Ева и целует Джима. Он обнимает ее за плечи, и они идут домой.
Версия вторая
Склад Бристоль, сентябрь 1966
Выставка проходит в старом складе у доков. Названия у здания нет, и Джим не понимает, как отыщет нужное место. В объявлении о предстоящем событии — написанном от руки на грубой бумаге, буквы вьются вокруг изображения женской головы с густыми, распущенными, как на картинах прерафаэлитов, волосами — сказано только «склад № 59».
Но подойдя к реке, в неподвижной зеркальной поверхности которой отражаются силуэты громоздких судов и заброшенных элеваторов, Джим понимает, что беспокоился напрасно: по вымощенной булыжниками набережной движется множество людей. Все примерно его возраста, женщины в длинных юбках, с распущенными, как на объявлении, волосами; мужчины в джинсах, бородатые, воротники рубашек расстегнуты. В Сан-Франциско таких называют «хиппи», а теперь это слово прижилось и в Бристоле. Они окликают друг друга и смеются громко и беззаботно. Поравнявшись с толпой, Джим начинает жалеть, что у него не было времени переодеться после работы.
— Друг, — обращается к нему какой-то незнакомец, — идешь на выставку?
Глаза человека полуприкрыты, на лице загадочная улыбка. Под наркотиками, скорее всего. Джим кивает в ответ, и его случайный собеседник продолжает разговор:
— Отлично. Это будет бомба!
Проходя мимо доков, штабелей поддонов и контейнеров, ржавеющих остовов старых пассажирских паромов, Джим чувствует, как настроение его улучшается. Он сбрасывает с себя тоску и скуку рабочей недели, проведенной в душных комнатах за многочасовым изучением бесконечных уставов и правоустанавливающих документов в компании упитанных бизнесменов.
Джим не стал любить юриспруденцию больше, чем прежде, но оказалось, он к ней предрасположен вопреки своему желанию; и чем меньше усилий прилагает, тем лучше идут дела.
Возможно, Джим работал бы в «Арндейл и Томпсон» с большим удовольствием, если бы ему хоть изредка удавалось высыпаться. Уже много месяцев непредсказуемое поведение матери превращало всякую ночь в кошмар. Несколько недель назад Джим проснулся в четыре утра. В квартире царила неестественная тишина. Он встал, обнаружил, что комната Вивиан пуста, оделся, выскочил из дома и обнаружил мать в ночной сорочке на Уайтлейдиз-роуд, одной из пустынных клифтонских улиц. Она плакала и дрожала от холода. Джим закутал ее в пальто, отвел домой и уложил в постель, как уставшего ребенка.
В ту ночь что-то изменилось: Джим решил — ему надо беречь душевные силы. Непонятно, заметила мать перемену в сыне или нет, но с того момента обстановка в доме улучшилась. Врач прописал Вивиан новое лекарство, и теперь она спокойно спала до утра, правда, большие дозы препарата делали ее сонной и заторможенной. Хотя ничего хуже электрошока в больнице все равно быть не могло.
Джим до сих пор в подробностях помнит, как впервые пришел навестить мать после смерти отца: прохладные белые коридоры; добросердечная медсестра, налившая принесенный им апельсиновый сок в пластиковый стаканчик; ужасная, неописуемая пустота в глазах матери.
То, что он вновь начал рисовать, также не способствует здоровому сну; Джим делает это по ночам, поставив пластинку Дюка Эллингтона или Боба Дилана и приглушив звук. Нью-Йорк будто вдохнул в него новые силы. Говорливых адвокатов волновали только деньги, машины и выпивка. У Джима не было с ними ничего общего. Большую часть свободного времени он проводил в Музее современного искусства, где как раз проходила ретроспектива британского скульптора Ричарда Сейлза, произведения которого он видел в Бристоле. Джим заинтересовался, зашел в музей и возвращался еще дважды, чтобы вновь насладиться зрелищем мощных законченных форм из бронзы, гранита и бетона. Он бродил по Гринвич-Виллидж, где можно было заглядывать в окна галерей или зайти в распахнутые двери и стать участником какого-нибудь спонтанного представления. Однажды в подвальной галерее на Кристофер-стрит, стоя в небольшой, серьезно настроенной толпе, Джим наблюдал, как молодая женщина сняла с себя одежду и принялась торжественно покрывать тело жидкой глиной.
Поначалу, вернувшись к рисованию в своей комнате в Бристоле (Джим ненавидел этот город, мечтал вырваться отсюда, но понимал, насколько опасно оставлять Вивиан одну, пока продолжаются ее ночные эскапады), он побаивался реакции матери. Джим слишком хорошо помнил те времена, когда, вернувшись с работы, мог обнаружить свои холсты испорченными, а краски разлитыми по полу. Но она повела себя намного более сдержанно, чем ожидалось. В прошлые выходные даже зашла в его комнату, села на кровать, по-девчоночьи поджав под себя ноги, и наблюдала, как сын работает. Джим не возражал, хотя и не любит рисовать в присутствии других людей. Спустя некоторое время Вивиан сказала:
— Ты знаешь, у тебя неплохо получается, дорогой. Так хорош, как твой отец, ты не будешь никогда. Но это и в самом деле неплохо.
Найти склад № 59 оказалось легко: кто-то нарисовал на грубых кирпичных стенах цветы, они тянутся из окон над выщербленными фронтонами. Внутри — открытое пространство, разделенное металлической лестницей. Картины на стенах, на полу — скульптуры и инсталляции; справа от себя Джим обнаруживает скелет какого-то животного, сделанный из старой магазинной тележки; слева — водруженную на постамент гору камней.
Большинство работ — второсортица, это видно с первого взгляда, но Джима не покидают сомнения: кто он, в конце концов, такой, чтобы судить? Адвокат, рисующий по воскресеньям. Сын великого живописца. Человек, напуганный и издерганный болезнью матери, вряд ли имеющий право претендовать на звание художника.
Джим берет пиво с козел в углу, оставляет мелочь и неторопливо обходит помещение, убеждаясь, что никого здесь не знает: он увидел объявление в «Белом льве» и оставил Питера и остальных коллег, допивавших в этот момент первую кружку пива. Джим звал Питера с собой, но Шейла ждала мужа к ужину, и вообще, такие выставки — не по его части.
Время от времени Джим завидует семейной жизни своего приятеля — их полной и легкой близости с Шейлой; взаимной поддержке и тому, как Питер любит свою жену — это видно всякий раз, когда он произносит ее имя. Разумеется, в жизни Джима появлялись женщины. В Нью-Йорке была секретарша по имени Кьяра, пышная американка с итальянскими корнями; и Дайан, худощавая блондинка, учившаяся актерскому мастерству; еще несколько в Бристоле, в том числе учительница младших классов Энни, с которой он познакомился недавно. Уже несколько месяцев они осторожно присматриваются друг к другу. Джим видит, как Энни постепенно влюбляется в него — собственное высокомерие ему невыносимо, но он знает, что никогда не будет испытывать к ней похожих чувств. Когда Джим смотрит на Энни, кажется, будто он видит перед собой другую женщину — с узким овалом лица, умными глазами и кожей слегка загорелой, будто покрытой тонким слоем глазури.
Ева. Ева Кац — или теперь она Кертис? Замужем за человеком, которого называют следующим великим британским актером, преемником самого Лоуренса Оливье. Тогда, в «Алгонкине», она проговорила с Джимом, наверное, с полчаса — прежде чем торопливо уйти. Джим спросил кого-то — да-да, ту красивую девушку в белом платье, — куда подевалась Ева. Посмотрев на него с любопытством, девушка сказала, что дочери Евы нездоровится. Услышав об этом, Джим устыдился — кем надо быть, чтобы вести откровенные разговоры с чужой женой, матерью бедного заболевшего ребенка? Однако именно так Джим и поступил — а теперь не мог забыть лицо Евы и ее слова.
«Вы продолжаете рисовать?.. Нет… Вот что я скажу, Джим Тейлор, сын Льюиса Тейлора, вам надо вновь заняться делом».
Одна картина привлекает его внимание. Это немодный по нынешним временам морской пейзаж — голубые и серые тени, сливающиеся воедино море и небо. Джим стоит перед полотном, пытаясь определить изображенную на нем местность — на переднем плане россыпь камней, окруженных высокой сухой травой, — Корнуолл, решает Джим и слышит сзади голос, словно отвечающий ему:
— Сент-Айвз.
Он оборачивается. Рядом с ним стоит высокая женщина — их глаза находятся почти на одном уровне. У нее чистая бледная кожа, каштановые волосы разделяет аккуратный пробор посередине. Она одета в свободную белую блузу, при виде которой Джиму вспоминается отец в своем рабочем халате, джинсы и коричневые замшевые сапоги, похожие на ковбойские.
— Хелена, — говорит женщина так, будто Джим спросил, как ее зовут. — Это моя работа.
— Да? Очень хорошая.
Он представляется, протягивает руку. Хелена только улыбается в ответ.
— Вы кто, банкир?
Джим чувствует, что начинает краснеть.
— Адвокат. Но не волнуйтесь. Скука не заразна. По крайней мере, я так думаю.
— Может быть.
Какое-то время Хелена рассматривает Джима. У нее голубые глаза, большой чувственный рот; от ее тела исходит аромат свежести, будто от нового постельного белья или морского воздуха.
— Вы голодны? Наверху можно поесть.
Они едят, усевшись на полу в комнате на втором этаже, где стены увешаны дешевыми индийскими гобеленами и крашеной хлопковой тканью. В одном углу оборудована маленькая кухня; в другом прямо на кирпичах стоит проигрыватель. Кто-то делает музыку громче; Джим почти не слышит Хелену, но ему нравится смотреть на движения ее губ и на то, как она ест — аккуратно и бережливо. Потом они выходят наружу, где музыка почти не слышна и одинокие лодки у опустевшей пристани отбрасывают на воду длинные тени. Хелена достает из сумки готовую самокрутку с марихуаной. Закуривает, предлагает Джиму, сидящему рядом с ней на мостовой у кирпичной стены бывшего склада. Рассказывает, что живет в Корнуолле, не в самом Сент-Айвз, но рядом — там художники создали колонию. Когда-то такая же была в Сент-Айвз, но сейчас это умирающее место: виной тому дрязги и преклонный возраст обитателей. На новом месте все иначе, без эгоизма, просто художники живут вместе и делятся друг с другом идеями, размышлениями, навыками. Там не бывает всех этих скользких типов из мира искусства, которые любят указывать художникам, как им рисовать, о чем думать и где продавать свои работы, а есть только покосившийся старый дом, огород, в котором надо работать самим, и бесконечная свобода моря и неба. Джим признается: ему нравится ее рассказ, похоже на идиллию, и очень отличается от его жизни — с мольбертом в углу комнаты в квартире матери.
— Я рада, что тебе нравится мое описание, — говорит Хелена. — Надо приехать и увидеть все своими глазами, гостям у нас всегда рады.
Джим отвечает:
— Наверное, приеду, — но он не уверен в собственной искренности. Пока.
Когда он целует Хелену, то чувствует запах чеснока и табака, сладкий, навязчивый аромат марихуаны, а кроме того — хотя позже Джим поймет, что это ему почудилось, — еле ощутимый соленый привкус моря.
Версия третья
Песчаные черви Саффолк, октябрь 1966
На день рождения Мириам Ева дарит матери поездку на неделю в Саффолк. Пенелопа и Джеральд недавно отметили годовщину свадьбы в Саутуолде, в чудесном отеле на побережье. Они снабдили Еву телефоном местной жительницы, сдававшей старый рыбацкий дом у моря.
— Самое очаровательное место, которое я когда-либо видела, серьезно. Ребекке там очень понравится.
Ева вдруг понимает, как давно никуда не выбиралась с дочкой, а с матерью — и того дольше. Из-за постоянных гастролей Якоба родители путешествуют нечасто; в редкие совместные выходные предпочитают гулять, заниматься садом и слушать свои любимые оперы, сидя рядом в одинаковых креслах и молча кивая в такт.
Но этот день рождения они проведут втроем — Ева, Мириам и Ребекка. Якоб на гастролях в Гамбурге. Антон уехал по работе в Глазго (к большому изумлению всей семьи, он начал карьеру судового брокера). А Дэвид улетел на съемки: да и когда, собственно, Дэвид бывает дома?
Они отправляются в пятницу после школы на новом «ситроене» Евы (подарок Дэвида, купленный на гонорар за последний фильм; как бы ни была Ева благодарна, она не может избавиться от мысли, что эта машина — попытка откупиться от угрызений совести). Ребекка в восторге от предстоящего путешествия — малышка настаивает, чтобы бабушка села с ней на заднее сиденье, хочет показать ей свой сегодняшний рисунок. Учительница попросила всех изобразить свои идеальные выходные. Ребекка нарисовала себя, маму и бабушку в виде трех человечков-палочек на пляже, напротив полоски неба; каждая волна — карандашная завитушка, солнце — оранжевый шар, лучи напоминают велосипедные спицы.
— Бабушка, я нарисовала то, чем буду заниматься на выходных. Мисс Эллис сказала, что я счастливица.
Мириам сквозь смех подтверждает этот вывод. Она интересуется у Ребекки насчет четвертой фигуры на рисунке — находящейся поодаль от остальных.
— Это папа, глупая, — отвечает девочка насмешливо. — В моем воображении он тоже туда приедет.
— Не говори бабушке «глупая», Ребекка, — строгим голосом произносит Ева с водительского сиденья. — Так нехорошо.
Дочка прикусывает нижнюю губу, что всегда предвещает слезы. В зеркале заднего вида Ева ловит взгляд матери.
— Я знаю песню про искателей приключений, — говорит Мириам. — Кто хочет послушать?
Они доезжают до места уже в темноте. Ева с трудом ведет «ситроен» по узкой дорожке между двумя террасами и втискивает в маленький двор, который автомобиль занимает почти целиком.
— Не хотела бы я проделать этот номер еще раз, — говорит Ева, когда машина, дернувшись, наконец останавливается. Мириам согласно кивает.
— Нам никуда и не надо ездить. Что будем делать с Ребеккой — перенесем в дом на руках или разбудим?
Ева оглядывается на дочь, свернувшуюся клубочком на заднем сиденье с выражением полного умиротворения на лице. Девочка мала для своих семи лет, ростом она пошла в Еву и Мириам, хотя черты лица унаследовала от Дэвида: такие же яркие черные глаза и полные выразительные губы. Мысль о том, чтобы разбудить ее, кажется преступной.
— Я ее понесу. Возьмешь сумки?
Дом квадратный, с плоским фасадом; к нему примыкает запущенный сад, тянущийся до самого волнолома. Внутри холодно, и это ощущение усиливает резкий запах сырости, словно от гниющих овощей.
На мгновение она бессильно застывает в дверях с Ребеккой на руках — у Евы при себе две рукописи для издательства; их необходимо закончить к утру, а еще надо распаковать вещи и сделать этот дом пригодным для жилья, что сейчас кажется невозможным. Слава богу, с ними Мириам. Внеся сумки, та сразу начинает хозяйничать.
— Приготовь постель для Ребекки, Schatzi[9]. Открой на десять минут все окна — только не снимай пальто, — а потом я затоплю камин. Сейчас мы тут сделаем gemütlich[10].
Быстрыми умелыми движениями Мириам отчищает каминную решетку и разводит огонь с помощью смятой газеты и жидкости для розжига. В открытые окна врывается свежий морской ветер. Наверху, в дальней маленькой комнате — Ева настояла, чтобы Мириам заняла большую центральную, — она застилает двуспальный матрас простынями и одеялами и укладывает Ребекку.
Затем они сидят вместе с матерью у камина, распивая бутылку рислинга. Аромат горящих дров заглушает запах сырости, и в темноте различимы лишь оранжевые всполохи огня да зеленоватое мерцание настольной лампы. Обсуждают семейные новости — последний концерт Якоба; новую пассию Антона, хрупкую светловолосую секретаршу по имени Сьюзан, к которой обе они не испытывают особой симпатии; здоровье Мириам, давно уже страдающей от осложнений после легочной инфекции, подхваченной во время долгих гастролей, когда ей было лет тридцать.
Они не говорят о Дэвиде, хотя тот незримо присутствует в разговоре. В последний раз Ева видела его перед отъездом на съемки. Было уже поздно, Ребекка давно спала, а Дэвид только что вернулся с какой-то вечеринки. Еву на нее не приглашали. Она сидела на краю кровати, курила и наблюдала за сборами мужа.
Дэвид полюбил ее сразу — так он сказал в тот вечер в пабе «Орел». Сколько времени прошло с тех пор; какой напрасной и бессмысленной кажется сейчас тогдашняя паника, все эти спешно составленные планы. Дэвид не испытывал никаких сомнений, ни разу не попытался воспользоваться ситуацией, внезапно обернувшейся в его пользу, — а многие мужчины поступили бы так — и отказаться от Евы и от их ребенка.
Ева тогда верила, что сможет полюбить этого красивого, умного, обаятельного человека, безгранично верящего в собственный талант. По-своему она любит Дэвида, как и он ее; но чувствует — Ева долго размышляла об этом, подобно ученому, исследующему объект под микроскопом, — что он так и не открылся ей, не дал возможности увидеть себя без тех многочисленных масок, которые бесконечно демонстрирует миру.
В тот вечер полтора месяца назад, глядя на Дэвида, в молчании двигающегося по комнате, Ева спросила себя, не играет ли он сейчас роль образцового отца и мужа, это нравилось ему когда-то, но потом утомило. Возможно — скорее всего, так оно и есть — это ее вина. Могла ли Ева стать Дэвиду достойной женой, создать с ним крепкую семью, если он знал — а он не мог не знать, — что ее сердце отдано другому? Тем не менее она старалась — о, как же она старалась; но не могла простить Дэвиду его отстранение под удобным предлогом работы. И конечно, занятость не была единственной причиной постоянного отсутствия мужа; Ева хорошо это понимала.
На следующее утро, в день рождения Мириам, Еву будят лучи зимнего солнца, вкусный запах горящей древесины и приглушенные разговоры на первом этаже. Вторая половина кровати, где спала Ребекка, пуста. Ева причесывается и одевается. На кухне ее мать и дочь готовят еду, в камине разгорается огонь.
— С днем рождения, мама. Который час? Это я должна была сделать для тебя завтрак.
Мириам, стоя у плиты, приветственно машет рукой.
— Не беспокойся, дорогая, меня не надо обслуживать. Сейчас десять. Я решила дать тебе поспать. А мы с Ребеккой отлично проводим время.
Ребекка тянет мать за рукав.
— Садись здесь, мамочка. Вот твое место.
Они завтракают яичницей и кофе с молоком, которое для них предусмотрительно оставили в кладовке. Ева достает из сумки подарки для матери. Шелковый шарф от нее и Дэвида. Пара шерстяных перчаток от Ребекки — та купила их, опустошив свою копилку. Духи «Флер де Рокель» от Якоба. Пластинку с записью «Нормы» Беллини в исполнении Джоан Сазерленд — от Антона (он консультировался по этому поводу с отцом).
— Какая роскошь, — говорит Мириам. Она немедленно повязывает шарф, душится и надевает перчатки — под крик Ребекки, потрясенной таким нарушением протокола:
— Бабушка, так нельзя!
Потом они идут к морю. Прилив закончился, вода отступает; крупный песок еще не просох; повсюду валяются выброшенные рыбаками пустые коробки из-под червей. Ребекка, раскинув руки, бежит вперед, к линии воды. Ева окликает ее, опасаясь зыбучей почвы или других неведомых угроз, но Мириам успокаивающе касается ее локтя.
— Не тревожься все время, Schatzi. Пусть поиграет.
Ева берет мать под руку, и они идут дальше. Ева думает о том, как много лет назад Мириам и Якоб шли так же по другому берегу на востоке страны. Рассказ о том, как они прибыли в Англию, — а через несколько месяцев родилась она сама, — знаком Еве в мельчайших подробностях, словно старая фотография, хранящаяся в бумажнике. Они приплыли в Дувр и поездом отправились в Маргейт, где кузен Якоба владел пансионом — его адрес был записан на клочке бумаги. Кузен нашел им обоим работу — Мириам занималась уборкой, Якоб мыл посуду. Чета молодых музыкантов с новорожденным ребенком перебивалась поденной работой, живя в забытой богом ночлежке на краю света.
И несмотря ни на что, всегда подчеркивала Мириам, они были счастливы. Это ощущение не покидало их и позднее, в лагере для перемещенных лиц на острове Мэн, где они организовывали вечерние концерты, а Мириам преподавала основы английского людям, говорящим только на немецком, чешском, венгерском или польском. Тогда, вопреки известиям из материковой Европы, еще верилось, что рано или поздно к ним в Англию доберутся родные: брат Мириам Антон и их престарелая мать Йозефа, из-за болезни не уехавшая вместе с дочерью; Анна и Франц, родители Якоба; его сестры Фанни и Марианна; многочисленные дядья, тетки и двоюродные братья.
Потом, разумеется, они испытали боль, и та осталась с ними навсегда, со временем лишь чуть ослабнув. Но Ева часто завидовала способности матери поддерживать в себе ощущение счастья, ее умению оставлять беды в прошлом и стремиться к лучшему будущему, которое обязательно наступит.
— Похоже на Маргейт? — спрашивает Ева. — Ну, ваш первый город в Англии.
— Немного, — отвечает Мириам, на мгновение задумавшись. — Такое же огромное бледное небо, как на акварелях Тернера. Твоему отцу здесь понравилось бы.
— Да, — соглашается Ева, зная, что мать имеет в виду Якоба, а не ее настоящего отца; тот остается для нее всего лишь туманным образом, человеком без лица.
Они идут дальше в молчании, песок тихо шуршит под ногами. Ева думает о Дэвиде; он сейчас в Испании, где-то южнее Мадрида. Домой должен вернуться через пару недель. Съемки долгие и сложные — он занят у режиссера Дэвида Лина в экранизации «Дон Кихота» с Оливером Ридом в главной роли. Дэвид звонил пару раз и большую часть времени проговорил с Ребеккой; Еве сказал только, что Лин заставляет съемочную группу много работать, но они неплохо проводят время — накануне до утра дегустировал с Ридом местные крепкие напитки.
Дэвид ни словом не обмолвился о Джульет Фрэнкс, хотя ее образ незримо стоит между супругами; Джульет получила в этом фильме небольшую роль и должна была приехать в разгар съемок. И Ева, и Дэвид знали, кто предложил ее кандидатуру.
После семи лет брака Ева неохотно призналась себе: это ошибка. Сейчас она с трудом понимает, почему тогда убедила себя, что беременность подразумевает немедленное вступление в брак. И ее уверенность разделяли Дэвид, Абрахам и Джудит (Ева до сих пор отчетливо помнит выражение мученической покорности судьбе на лице будущей свекрови). Но родители не оказывали на Еву никакого давления.
— Главное — чтобы ты была уверена, Schatzi, — сказала Мириам. — Совершенно уверена.
Почему они так поступили, ведь Якоб женился, зная, что станет отцом чужого ребенка? Но он любил Мириам и верил в правильность своего поступка. Ева знала — Джим поступил бы так же, дай она ему хоть малейший шанс. Тогда, семь лет назад, отказывая Джиму в такой возможности, Ева верила — это из любви к нему. Ради того, чтобы его грандиозные планы не рухнули под тяжелым грузом отцовства. Но, увидев Джима в Нью-Йорке, мгновенно поняла: их расставание причинило ему гораздо большую боль, чем она могла себе представить.
При мысли о Джиме у Евы кружится голова, будто она оказалась на краю обрыва. Подобные ощущения часто заставляют ее просыпаться ночами. (Вчера она впервые за много месяцев спала крепко.) Побежать за ним, передать записку и не прийти — собственное поведение вызывает у Евы отвращение. Она никогда не предполагала, что способна на такое. Но она сделала это. Тем ясным солнечным утром в Нью-Йорке Ева испытала дикий страх — и не смогла заставить себя выйти из дома. Не могла представить, как в тот осенний полдень оставит Ребекку на бабушку с дедушкой и отправится в библиотеку навстречу — кто знает, чему? Новым отношениям? Новой жизни? Отказаться от всего, что есть, ради неопределенного будущего?
Ей до сих пор стыдно за свое малодушие — хотя она не уверена, пошел ли Джим в библиотеку. Больше они не встречались. У него нет лондонского адреса Кацев, но найти его не составляет труда: достаточно спросить Гарри или кузена Джима, Тоби, который по-прежнему относится к числу многочисленных друзей ее брата. Поэтому, возможно, — Ева не уверена, становится от этой мысли легче или наоборот, — Джим никуда не ходил. Вполне вероятно, он был возмущен ее предложением, порвал записку на клочки и выбросил их.
— Ты несчастлива, Schatzi, — внезапно произносит Мириам, будто читая мысли Евы. — Ты несчастлива в браке.
Ева собирается возразить. Она никогда не обсуждала с матерью свое подлинное отношение к Дэвиду — но, разумеется, Мириам о многом догадывается; обмануть человека с такой интуицией, как у нее, непросто. Она и Якоб всегда утверждали, что им нравится Дэвид — энергичный и обаятельный. Но Ева понимает: их все больше огорчают его длительные отлучки, из-за которых Ева, по сути, воспитывает Ребекку в одиночку, со всеми сопутствующими трудностями и проблемами. Ей приходится отвечать на бесконечные вопросы о том, когда вернется папа, и утешать дочь, приходящую посреди ночи в спальню родителей, но застающую там только мать.
Изо всех сил Ева старается беречь психику Ребекки: рассказывает, как много Дэвид работает, как он востребован в своей профессии. Каждая открытка, полученная от него, тщательно изучается; всякий междугородный звонок становится поводом для праздника. Сама же Ева — мать на полной ставке, двадцать четыре часа в сутки. Мать, конечно, любимая, но привычная, не вызывающая и доли того интереса, как ее далекий блистательный отец; тот появляется в жизни Ребекки с поцелуями и подарками, когда ему заблагорассудится. А что касается самой Евы — ее литературных усилий, намного более важных для нее, чем поденщина в издательстве «Пингвин», — на это попросту не остается времени. Разумеется, она может не работать — у Дэвида теперь хороший доход, — но принципиально не хочет жить за счет мужа, точно так же, как не делала этого ее мать, хотя и полагалась на Якоба во многом другом.
Сейчас, гуляя вдоль полосы прибоя под бесконечным небом, Ева понимает, что больше не в состоянии скрывать правду.
— Это правда, мама. Я очень несчастна. И уже давно.
Мириам прижимает к себе одетую в шерстяную перчатку руку дочери.
— Моя любимая, ты посадила себя в клетку. И думаешь, что выбраться из нее невозможно. Но ты не права. Достаточно открыть дверь.
— Так, как это сделала ты?
Мириам не поворачивает головы; продолжает глядеть на море и на Ребекку, которая носком ботинка рисует на песке большой круг. Ева смотрит на мать сбоку и видит, насколько та по-прежнему красива, лишь редкие морщины тронули глаза и уголки губ.
— Да, как это сделала я, — отвечает Мириам. — И как может сделать каждый, кому посчастливилось иметь свободу выбора.
Версия первая
Чудо Лондон, май 1968
Дженнифер Мириам Тейлор появляется на свет в девять часов ясным весенним утром, когда редкие облака бегут по бледному акварельному небу, а деревья, чьи верхушки достают до окон родильного зала, только начинают зацветать.
Годы спустя Джима поразит, насколько время рождения его дочери точно соответствует ее характеру — она будет аккуратным дисциплинированным ребенком, а со временем превратится в аккуратную дисциплинированную женщину, юриста, намного более квалифицированного, чем когда-либо мог стать ее отец. Но сейчас, держа новорожденную на руках и чувствуя ее неровное дыхание, он почти не следит за временем. Минуты и часы потеряли свое привычное значение.
Он хотел остаться с Евой — чтобы разделить и хоть как-то смягчить ее боль, — но акушерка шикнула на него и выгнала из палаты. Всю ночь Джим пил кофе, сидя за кухонным столом, тревожно поглядывая на часы и ожидая звонка, который разрешит ему вернуться. После девяти телефон наконец зазвонил; уже светало, когда Джим сел за руль и поехал в больницу. Он застал жену спящей.
— Не будите ее, — сказала сестра и погрозила пальцем.
В присутствии медсестер — решительных и всезнающих, похожих друг на друга в одинаковых белых накрахмаленных шапочках — он всегда чувствует себя беспомощным.
Ему, однако, позволяют взглянуть на ребенка. Джим всматривается через окошко палаты для новорожденных и не сразу обнаруживает свою дочь. Тут его охватывает паника, пугает значимость происходящего, он боится, что уже оказался несостоятельным как отец. Затем наконец видит Дженнифер, и к нему приходит понимание: он в любом случае узнал бы ее, эту миниатюрную головку с кажущейся прозрачной кожей; темные, неожиданно густые волосы; эти разумные, ясные глаза — такие же синие, как у него самого. Открытие приводит Джима в восторг, хотя сестра и сказала, что с возрастом цвет поменяется.
Ева просыпается: на лице у нее выражение болезненной усталости. Но она улыбается, и Джиму кажется — жена изменилась; он восхищен ею самой и чудом, которое та совершила. Этим маленьким чудом. Он садится у ее кровати на неудобный пластиковый стул. Дженнифер сосредоточенно смотрит на него своими невероятными голубыми глазами, сжимая и разжимая маленькие кулачки. Джим знает — новорожденные порой выглядят странно, как сморщенные старички, будто обладают глубинным знанием о прошлой жизни; Юэн говорил о чем-то подобном в том году, когда родился его сын Джордж. Однако Джим испытывает это впервые, ему еще не доводилось смотреть в лицо только что появившегося на свет человека, понимая: ребенок приходит в мир со знанием великих тайн жизни, но вскоре знание покинет его, и все надо будет начинать заново.
Этой долгой бессонной ночью за кухонным столом Джим испытывал радостное возбуждение, отравленное, впрочем, чувством острого стыда: он вспомнил танцовщицу из Нью-Йорка, Памелу. Больше они не встречались: на следующий день, отойдя от похмелья, Джим осознал, как легко и бездумно предал свою жену и все, что та для него значила. «Я сделал ошибку, — успокаивал себя Джим. — Такое больше не повторится».
Тем не менее «такое» повторилось, причем в их доме, примерно через год, когда Ева уехала в командировку: на сей раз это была Грета, молодая немка, работавшая в школе помощником преподавателя. Девятнадцать лет, гибкое, податливое тело, высокая грудь. Потом она не хотела отпускать Джима, расплакалась, и он понял, какую ошибку совершил. К счастью для него — для всех, — через неделю Грете пришлось вернуться в Мюнхен, где заболел кто-то из родственников. Оттуда она написала Джиму два трогательных письма, которые удалось перехватить прежде, чем кто-то заметил немецкие марки на конвертах, а затем, к его облегчению, связь прервалась. На протяжении нескольких недель Джим был отвратителен себе до такой степени, что не мог смотреть на свое отражение в зеркале. Он не понимал, как Еве удается жить так, словно ничего не случилось. Но постепенно чувство вины истончилось, стало похоже на постоянный звон в ушах, словно белый шум, — мешает, но можно притерпеться. Жизни не угрожает.
Джим часто спрашивал себя — не испытывал ли подобное чувство его отец? После войны Льюис Тейлор был звездой английской живописи, а теперь вышел из моды, хотя преподаватели Джима в школе Слейд хорошо его помнили. Некоторые из них даже учились вместе с Тейлором-старшим, и в их памяти он остался худым подростком с кривой ухмылкой и вечной сигаретой в углу рта. Джиму всегда казалось: наставники особенно строги к нему именно потому, что он сын Льюиса Тейлора. Например, один из них с особым удовольствием обвинял юношу в попытке копировать отцовскую манеру письма; такое отношение вызывало у Джима упрямое нежелание подчиняться требованиям. Он хотел быть не таким, как все, и в то же время знал: единственный человек, чье одобрение ему нужно, — это отец, от которого Джим подобных слов не услышит никогда.
С возрастом Джим стал понимать, что Льюис не хранил верность Вивиан: он переспал с большинством натурщиц, в некоторых даже влюблялся. Джим помнит сцену из детства — отец собирал вещи, а Соня, рыжеволосая девушка с картины, ждала его в машине у ворот. Мать бегала вверх и вниз по лестнице, ее крики привлекли внимание соседей, четы Доуз. Он помнит робкий голос миссис Доуз из-за забора:
— Успокойтесь, миссис Тейлор, я уверена, все образуется.
Но мать оставалась безутешна: после того как отец, мягко отстранив ее руку, поставил чемодан в багажник машины, она плакала целыми днями. Джим сам готовил и носил поднос с едой матери на второй этаж. Ему было всего девять лет, мальчику в голову не приходило в чем-то обвинять отца; тот вернулся домой через несколько недель безо всяких объяснений. Вивиан пришла в себя, вновь начала краситься. Джим слышал, как она напевала что-то на кухне, когда готовила, а ночами из родительской спальни до него доносились другие, странные звуки, но смысл их оставался Джиму недоступен. Все, казалось, встало на свои места — и внезапно спустя год отец умер, а через несколько дней после этого мать впервые забрали в больницу.
Какое-то время Джим утешал себя тем, что никогда не подвергал Еву подобным унижениям. Ведь он не любил Памелу, в конце концов; и, безусловно, не испытывал никаких чувств к Грете. Они привлекали его только физически — инстинкт и вожделение; так, во всяком случае, говорил себе Джим вначале. Но недавно он задумался, не стояло ли за его изменами кое-что еще: может быть, желание по-другому познать женское тело — безо всех обстоятельств, сопутствующих браку: воспоминаний, размолвок, взлетов и падений; и без любви. Безусловно, он любит Еву: предав ее, Джим ощутил это с необыкновенной силой. И тем не менее чувствует, как они отдаляются друг от друга, и ненавидит себя за происходящее. Ненавидит собственное негодование, которое не в силах подавить, как ни старается. Его недовольство вызвано тем, что карьера Евы идет в гору, ей во всем сопутствует успех, пока он сам находится в ловушке постылых учительских обязанностей — заведенный туда собственной ложью. Нежелание Евы иметь детей долго стояло между ними: подобно гранате с вырванной чекой, которая периодически взрывалась, причиняя огромный вред. Джим винил Еву в эгоизме и однажды прямо сказал об этом, но, когда увидел, какую боль ей причинил, пожалел о собственных словах — да тех уже было не вернуть.
А затем в один прекрасный летний день в прошлом году Ева сказала, что беременна (они были осторожны, но, как выяснилось, недостаточно). Джим видел, что она радуется этой новости не меньше его. И вот в мир вступает Дженнифер: их дочь, их любовь и надежда на счастье в браке.
Сегодня ночью, ближе к четырем, на стол, за которым сидел Джим, взобрался их кот и растянулся там, погрузившись в сон; Джим, сидящий на стуле, уронил голову на руки и тоже задремал. Ему привиделась мастерская — он теперь называл ее просто «сарай», поскольку определение «мастерская» казалось слишком значительным для редких посещений по воскресеньям. Во сне Джим заканчивал автопортрет. Изображение на холсте расплывалось, но Джим знал, что рисунок хорош, возможно, лучшая работа в его жизни, и она наконец принесет долгожданный успех. Он позвал Еву, чтобы показать ей картину, и та прибежала из дома; но, когда Джим обернулся, увидел не жену, а свою мать. С портретом тоже что-то произошло: на месте глаз зияли две дыры.
— Не достаточно хорошо, — услышал он за спиной свистящий шепот матери, — не достаточно.
В больнице Джим, оставив задремавшую Еву, идет в кафетерий выпить чашку жидкого кофе, а по дороге рассказывает встречным — врачу в костюме и строгом галстуке, испуганно глядящему на Джима, пожилой женщине с грустным, изборожденным морщинами лицом — о том, что стал отцом. Днем приезжают Якоб и Мириам: они светятся от счастья, оживленно разговаривают, по очереди держат Дженнифер на руках. Все трое уходят, когда заканчиваются часы посещения — все в порядке, говорит медсестра, но пару дней мать с ребенком еще надо подержать здесь, чтобы «привести их в идеальную форму», — и неуверенно останавливаются у дверей больницы.
Якоб откашливается.
— Мне кажется, отправиться в такой день по домам будет неправильно, а, Джим? Может быть, поужинаем все вместе?
Они находят неподалеку французский ресторан, где мужчины заказывают себе по стейку с жареной картошкой, а Мириам — буйабес. Джим смотрит то на Мириам в элегантной светло-желтой блузе и со вкусом подобранном шарфе, то на Якоба и его открытое лицо с крупными чертами, свежевыбритое, но с уже пробивающейся щетиной. «У Евы хороший отец, — думает Джим, — а ведь он ей не родной. Может быть, отцовство — вопрос не только биологии, но и простой человеческой решимости».
— А твоя мама? — спрашивает Мириам. — Она приедет?
Джим на мгновение видит мать такой, как в своем вчерашнем сне: молодой (примерно столько лет ей было, когда умер отец), с гладкой кожей, без морщин, с обнаженными руками. Состояние Вивиан сейчас улучшилось: новое лекарство сделало ее более уравновешенной. Джим позвонил матери сразу после того, как у Евы начались схватки; ее голос показался странным: он звучал приглушенно, будто эхо. Но эта странность была все-таки меньшим злом по сравнению с альтернативными вариантами.
— Я позвоню ей завтра, — сказал он. — Не хочу строить планы, посмотрим, как Ева будет себя чувствовать.
Мириам кивает. Сидящий рядом с ней Якоб улыбается Джиму, отпивая из своего бокала.
— Теперь у тебя есть дочь, Джим. Ничто уже не будет как прежде.
Джим улыбается в ответ:
— Я знаю.
Он до сих пор потрясен новостью о собственном отцовстве и пытается осмыслить незнакомое ощущение жизни, которая разворачивается перед ним, подобно чистому листу, ожидающему, что же на нем напишут.
Версия вторая
Уход Лондон, июль 1968
Вернувшись из редакции «Ежедневного курьера» домой, Ева застает там Дэвида. Его раскрытый чемодан стоит на кровати.
— Ты вернулся раньше.
Дэвид смотрит на жену с высоты своего роста. Он одет в рубашку с короткими рукавами, которую Ева видит в первый раз. Белый цвет подчеркивает загар — после месяца, проведенного в Италии, Дэвид вполне может сойти за итальянца. Встретив его взгляд, она испытывает странное замешательство: муж был в разъездах несколько недель — в Италию отправился прямо из Нью-Йорка — и за это время они лишь иногда беседовали по телефону; когда он звонит, то общается в основном с Сарой. А если очередь доходит до нее, Ева с трудом может отыскать понятные им обоим темы: мир Дэвида состоит из расписанных по часам съемок, интриг, дней, проведенных в трейлерах, и ночей, тонущих в выпивке, — и очень далек от ее собственного. Все чаще Еве кажется, что они разговаривают на разных языках и ни один не стремится услышать другого.
— Съемки закончились на два дня раньше. Я поменял билет.
— Понятно.
Она испытывает раздражение. К ужину должна прийти Пенелопа, и Ева предвкушала, как они вдвоем с подругой проведут вечер на террасе, обмениваясь новостями и офисными сплетнями. Ева начала работать в «Ежедневном курьере» два года назад: не под началом Фрэнка Джарвиса, проводившего с ней собеседование после окончания Кембриджа, а как младший редактор в отделе литературы. Устроиться ей помогла Пенелопа.
Для присмотра за пятилетней Сарой, когда та возвращается из школы, а Ева еще на работе, она наняла Аурель, флегматичную молодую француженку. Аурель не вызывает нареканий, правда, любит усадить Сару перед телевизором, чтобы спокойно поболтать со своим парнем в Реймсе или накрасить ногти. Но сейчас девушка на каникулах в родной стране, а Ева хотела бы иметь немного времени, чтобы подготовиться к приезду Дэвида — убраться в квартире и рассказать Саре о скором возвращении любимого папочки.
— Ты мог бы меня предупредить.
Он молча смотрит на нее. В разговоре возникает заминка, и внезапно Ева понимает, что происходит, — от этого ей становится нехорошо. Дэвид не разобрал свои вещи.
— Пойдем присядем, — говорит он ровным голосом. — Мне кажется, нам обоим не повредит глоток чего-нибудь.
Она выходит на террасу. Солнце все еще жарит, и Ева подставляет ему лицо, закрывает глаза, вслушивается в отдаленные крики детей в Риджентс-парке, в равномерный гул проезжающих машинам. К своему удивлению, она сохраняет спокойствие. Дэвид приносит джин с тоником, слишком крепкий, без сомнения, а через час надо забрать Сару из дома ее подружки Доры, — ну и ладно, пусть мать Доры думает что хочет. Еве кажется, будто все это происходит с другими людьми, за которыми она лишь наблюдает. Молодая пара сидит на солнце: он — брюнет с движениями точными и выверенными, как у танцора; она — легкая, подвижная, с миниатюрными чертами лица. Мужчина протягивает женщине стакан, оба пьют, не глядя друг на друга.
— Куда ты поедешь? — спрашивает она. И дабы показать, что все понимает — назвать имя другой женщины означает лишить ее власти над собой, — добавляет:
— Вместе с Джульет?
Дэвид смотрит на нее, но Ева не отвечает на его взгляд. Хочется думать, что даже здесь и сейчас она по-прежнему способна удивить его.
— Знаешь, а ты совсем не такая, как я представлял, когда мы познакомились, — сказал Дэвид через несколько лет после женитьбы. Ева посчитала это комплиментом, но позднее задумалась, не говорил ли муж о своем разочаровании: на смену женщине, которая когда-то его привлекла, явилась ее скучная, бледная копия.
Но даже если он и удивлен, Дэвид этого не показывает.
— У нее есть квартира в Бейсуотере. Но мы подумываем о переезде в Лос-Анджелес.
— А Сара?
— Она может прилетать к нам на каникулы.
В словах Дэвида возникает заминка, вызванная, как хочется верить Еве, тревогой и сожалением, хотя она знает — подобные чувства мужу чужды. «Если они и есть, — думает она недобро, — то лишь потому, что он их разучил заранее. Подготовил сценарий».
— Если ты, конечно, не возражаешь.
Ева молчит, и Дэвид торопливо продолжает.
— Я должен это сделать, Ева, — ты ведь меня понимаешь? Думаю, да. Ты ведь тоже знаешь, что наш брак давно умер.
В сознании Евы вспыхивает картинка: они лежат на бетонных плитах, словно каменные изваяния на христианских гробницах. Что сказал Якоб в тот вечер накануне свадьбы — они сидели в музыкальной комнате, а в холле громко тикали дедушкины напольные часы? «Я боюсь, что он не сможет любить тебя так же сильно, как самого себя». Она знала это тогда, знала, собственно, всегда, но происходящее сейчас — это уже слишком. Уехать в Лос-Анджелес с этой женщиной, возложив на Еву обязанность самой сообщить Саре, что папа больше не вернется… Ева знает: гнев придет; чувствует, как он подступает, но происходит это словно не внутри ее, а где-то вдали, и сама она наблюдает за происходящим в перевернутый бинокль, испытывая только леденящее спокойствие.
— Ева.
Она глядит на него и немедленно узнает это выражение лица: именно такое Дэвид Лин снял крупным планом в своем последнем фильме. На шестифутовом[11]экране в кинотеатре она рассматривала фальшивые слезы на лице своего мужа. В жизни Ева ни разу не видела Дэвида плачущим.
— Ты же знаешь, я любил тебя. Мне жаль, что все так случилось. Я постараюсь, чтобы все прошло для тебя… безболезненно.
Дэвид кладет ей руку на плечо.
— Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, просто уходи. Он остается на месте. Ева с усилием, стараясь сохранить достоинство, произносит:
— Мы все обговорим потом…
Пока Дэвид собирается, она ждет на террасе, допивая джин и не открывая глаз.
— Я позвоню завтра, — говорит он из гостиной. — Постарайся все объяснить Саре.
«Но ведь это твоя обязанность, — думает Ева. — А ты так легко перекладываешь ее на меня».
Дэвид топчется в дверях. Ева размышляет, выйдет ли он на террасу поцеловать ее на прощание — так, как делал всегда, уезжая на репетиции, представления, пробы, съемки: словно и сейчас покидает дом лишь на время. Но Дэвид не выходит.
— До свидания, Ева, — произносит он. — Береги себя.
Она не отвечает — ждет, когда напоследок щелкнет замок входной двери. Вскоре он появляется на улице. Ева сверху наблюдает за мужем, везущим по тротуару свой чемодан.
Дэвид останавливается у припаркованной неподалеку машины, открывает багажник, кладет туда вещи. В машине сидит женщина: Еве видны только темные кудри, черные очки в черепаховой оправе, розовая помада. Это Джульет. Вероятно, все это время ждала Дэвида в машине, наблюдая за ними. От мысли, что их брак кончается так спокойно и безо всяких церемоний, а эта женщина сидит и наблюдает за происходящим, будто смотрит пантомиму, Еве хочется плакать, и она быстро уходит в дом.
На кухне она позволяет себе расплакаться и стоит, опершись на раковину, до тех пор, пока не наступает время идти за Сарой.
Умывается холодной водой, тщательно поправляет макияж и спускается к машине — наверняка автомобиль останется ей, если условия развода окажутся справедливыми. Она не сомневается: так и произойдет; несмотря на свое высокомерие и буйный нрав, Дэвид всегда был человеком разумным; даже добрым в той мере, в какой это доступно мужчине, превыше всего ценящему собственное счастье.
Ева вдруг понимает — и эта мысль доставляет боль, — ей будет не хватать Дэвида вопреки всему: их отдаленности друг от друга; его изменам; осознанию того, что роман между ними не должен был продлиться дольше нескольких месяцев; недостаточности ее любви к нему — и причина заключалась не только в неискушенности Евы. Ей будет не хватать его смеха и того, как он постукивает себя по колену, когда нервничает. Его прикосновений (хотя в последний раз они занимались любовью несколько месяцев назад) и ощущения собственной красоты и могущества, возникавшего всякий раз, когда Дэвид признавался ей в любви. Семейных завтраков: случалось это нечасто, но поверить в то, что она больше не увидит, как Дэвид кормит Сару, Еве непросто. Его звучного, глубокого голоса, доносящегося из комнаты дочери, где Дэвид укладывает ее спать. Ей будет не хватать этого и многого другого, составляющего их общую жизнь; все теперь покроется тьмой и исчезнет.
Какое-то время Ева просто сидит за рулем, глубоко дыша. Затем заводит мотор и едет по улице, мимо того места, которое только что покинула машина Джульет.
Версия третья
Мороз Корнуолл, октябрь 1969
Прошлая ночь выдалась морозной. «Впервые в этом году», — думает Джим, стоя у окна и грея руки о кружку с кофе. На часах четверть восьмого. Джим встал первым — так же поступал его отец, чтобы застать утренний свет, который беспрепятственно проникал в комнату и окрашивал ее в бледные тона.
Сегодня он проснулся позже обычного, зарылся под одеяло и прижал к себе теплое тело Хелены, будто чувствуя, что на улице минусовая температура, и высокая трава на задней лужайке пожухла, а салат замер на грядках под пленкой. Кому-то — скорее всего, Говарду — хватило ума накрыть их: наверное, прочитал прогноз, или чутье сельского жителя помогло ему правильно истолковать подсказки ветра и грозно темнеющего неба.
До переезда в Трелони-хаус Джим тоже мог считать себя сельским жителем: его детство прошло вдали от городов, в Сассексе, и он привык к его ритму жизни, неожиданным звукам и глубокой тишине, краскам и запахам. Но теперь Джим знает: Сассекс — не настоящая сельская местность, в отличие от Корнуолла. Во всяком случае, этой, продуваемой всеми ветрами части, в нескольких милях от Сент-Айвз: впереди море, позади поля и черные утесы, создающие впечатление лунного пейзажа, и высокая трава, и цветы. Говард называл их, но в памяти Джима сохранились лишь некоторые: истод, очанка, мягкий подмаренник.
Подмаренник — ярко-желтый цветок с четырьмя матовыми лепестками. В то лето, когда Джим впервые появился здесь, они пошли на прогулку, и Хелена улеглась на цветущем лугу. Желтый фон выгодно оттенял ее роскошные рыжие волосы. Оттенок, словно у Лиззи Сиддел, по крайней мере, такой, каким передал его Россетти в своих работах. На это Джим обратил внимание еще при знакомстве с Хеленой; к своему разочарованию, впоследствии он обнаружил, что ее волосы — крашеные. Там, на вершине утеса, Джим собрал букет из подмаренников, принес в дом и поставил в кувшин возле мольберта. Хелена выделила ему угол в старом сарае, служившем мастерской; зимой там царил холод, несмотря на то что они завесили дверь индийскими покрывалами, а в самые морозные дни приносили древний обогреватель. Первая картина, написанная Джимом в Корнуолле: букет подмаренников в бело-голубом кувшине на столе. Ничего особенного, но он сразу понял: это лучшее, что удалось ему за очень долгое время.
Джим наливает себе еще чашку кофе, находит в запасах Кэт хлеб из муки грубого помола, отрезает кусок и мажет на него масло и джем. Наверху кто-то ходит; наверное, Говард. Он обычно встает следом за Джимом. Немало утренних часов они провели вдвоем в мастерской, где Джим смешивал краски и отмывал кисти, а Говард перетаскивал с улицы всяческие деревяшки — коряги, очищенные и выбеленные морем; здоровенные обрезки мореного дуба, добытые на лесопилке в Зенноре; собственноручно собранные толстые вязанки хвороста, похожие на ведьмовские метлы. Говард — скульптор по дереву, поэтому его часть мастерской напоминает рабочее место плотника — инструменты, токарный станок, острый запах смолы и опилок.
Вначале звуки, раздающиеся из владений Говарда — стук молотка, монотонное повизгивание пилы, — отвлекали Джима от работы. Он даже поинтересовался у Хелены по секрету, нельзя ли ему занять одну из пустующих чердачных комнат. Она покачала головой: главная идея как раз и заключалась в создании общего творческого пространства, где происходит постоянный обмен идеями. Хелена рассказала об этом еще при первой встрече на праздновании пятидесятилетия Ричарда в его доме в Лонг-Эштоне; Джима сразу привлекла рыжеволосая женщина в зеленом платье, стоявшая у камина. Он подошел к ней и с прямотой, удивившей обоих, спросил, как ее зовут. Им приходилось перекрикиваться — кто-то поставил пластинку «Лед Зеппелин», — но рассказ Хе-лены о колонии художников в Сент-Айвз выглядел, с точки зрения Джима, как описание рая.
Спустя неделю он сел в свой потрепанный «рено» и отправился в Корнуолл. А еще через несколько недель Джим — потерявший голову от любви, желания, долгих ночных разговоров с обитателями колонии, во время которых они, передавая по кругу самокрутки с марихуаной, обсуждали искусство, секс и любые темы без ограничений, — сказал матери и Ричарду Сейлзу, что уезжает.
— Поезжай, займись делом, — ответил Ричард, — и будь счастлив, как ты того заслуживаешь.
Даже мать проводила его словами, похожими на благословение:
— Джим, ты сын Льюиса Тейлора и унаследовал отцовское упрямство. Только не забывай, пожалуйста, о женщине, которая тебя очень любит, хорошо?
Она подалась вперед, взяла сына за подбородок, и в этот момент он будто вновь оказался в родительском доме в Сассексе; как часто, возвращаясь днем из школы, Джим заставал мать, сидящую без движения в кресле с вечной сигаретой между пальцев, и отца, работавшего наверху, отгородившегося от всего мира.
Уже поселившись в Трелони-хаус, Джим начал сомневаться в правильности идеи общего творческого пространства, но вслух не возражал. Дом, в конце концов, принадлежал Говарду; достался ему после смерти матери, светской дамы и первой покровительницы колонии в Сент-Айвз. Теперь, год с лишним спустя, Джим видит, что идея неплоха: его собственные работы стали более энергичными, словно жесткие, законченные формы творений Говарда придали Джиму уверенности в себе.
На лестнице раздаются шаги. Дверь кухни открывается, и появляется Говард, еще сонный, похожий на медведя в своем шерстяном халате. У него выдающаяся внешность: рост шесть футов, совершенно лысая голова, крупные, выразительные черты лица будто позаимствованы у трех разных людей. И все же, считает Джим, в нем есть харизма, хотя это слово не совсем точно передает исходящее от Говарда ощущение силы, которое особенно действует на женщин. Джим подозревает, что когда-то у Говарда и Хелены был роман, но вопросов не задает, понимая — ответ может ему не понравиться. Если даже и так, все держится в секрете: Говард и Кэт вместе уже много лет. В любом случае в этом доме подобное не поощряется — Говард сказал это Джиму, когда они обсуждали его переезд в Трелони-хаус.
— У нас тут, — говорил Говард с горящим взглядом, — не какое-нибудь сомнительное сборище, о которых пишут газеты. Мы не делимся друг с другом деньгами и — тут он для убедительности постучал кулаком по столу — любимыми. Мы художники. Работаем бок о бок, вместе готовим еду и ухаживаем за садом. Если такая жизнь вам нравится, тогда — добро пожаловать.
— Нальешь мне кофе? — Говард грузно опускается на стул. — Спасибо.
— Сегодня ночью были заморозки, — говорит Джим. — Первые в этом году.
Говард делает глоток, прикрывает глаза.
— Да. Я закрыл салат пленкой. Но дрова сырые. Ты сегодня за них отвечаешь?
— Думаю, да.
Расписание дежурств по хозяйству, написанное аккуратным мелким почерком Кэт, пришпилено к пробковой доске у двери.
— Хелена готовит вечером. Я что-то слышал про мясное рагу.
Говард задумчиво кивает, глаза его по-прежнему прикрыты. Лысый и в халате с капюшоном он напоминает молящегося монаха.
— А в двенадцать, если не ошибаюсь, появится Стивен.
— Так он сказал.
Всю прошедшую неделю Джим готовился: заканчивал последние работы, разбирал картины, хотя Стивен предупредил, что выбирать будет сам и упаковка — не забота Джима, он приведет с собой человека, который ею займется. Джим ни с кем этим не делится, но он боится, что все может сорваться: Стивен Харгривз не приедет, не погрузит его картины в фургон и не увезет их в свою галерею в Бристоле. При этом Джим знает, что его страх иррационален, как ночной кошмар. К выставке все готово: афиши отпечатаны, и одну из них Хелена с гордостью прикрепила к пробковой доске: «Джим Тейлор. Рисунки. 1966–1969». Закрытый показ состоится через три дня — на него в стареньком микроавтобусе Говарда поедут все восемь обитателей дома: кроме Говарда, Кэт, Джима и Хелены тут живут еще Джози, Саймон и Финн с Делией. Придут тетка Джима Пэтси и его дядя Джон, и даже Вивиан вместе с Синклером. Джим никак не может заставить себя называть его спутником матери. Пэтси сообщила ему новость — и та удивила Джима до глубины души — по телефону спустя несколько месяцев после его отъезда в Корнуолл.
— Твоя мать познакомилась с одним человеком. Джим, я не видела ее такой счастливой и спокойной с тех пор, как она встретила твоего отца.
— Вы с Хеленой больше не ссоритесь? — спрашивает Говард, отхлебывая кофе. — Я имею в виду из-за этой картины.
Джим свой кофе допил. Он тянется за кофейником, но тот уже пуст.
— Да. По крайней мере, мне так кажется. Она утверждает, что все в порядке.
Шесть месяцев назад случилась их первая настоящая размолвка, длительная и болезненная. Тогда он взялся за самую важную в своей жизни картину. Работая над изображением рук и ног, Джим попросил Хелену позировать — возможно, в этом и заключалась его ошибка. Но в остальном портрет писался по памяти: женщина сидит на подоконнике с книгой в руках, ее лицо слабо освещено. Небольшого роста, блестящие темные волосы, блуждающая улыбка… Ева, конечно, то была Ева; Джим знал это еще до того, как начал рисовать.
Ему не пришло в голову опасаться ревности Хелены — она тоже художник и знает, что подсознание иногда выдает образы полностью готовые — и сформировавшиеся абсолютно бесконтрольно. Но Хелена приревновала. Несколько дней не разговаривала с Джимом и не позволяла себя успокоить — да и как он мог сделать это? С первого дня знакомства Джим был честен с ней: она знала, как глубоко он любил Еву и какую рану та ему нанесла.
«Не стоило, — думал все эти дни Джим, — начинать эту картину». Хотя это оказался лучший из нарисованных им портретов: они оба — и он, и Хелена — так думали. На выставке, организованной ими в Сент-Айвз, эта работа словно заслоняла собой все остальные, и какая-то загадочная сила постоянно влекла к ней посетителей. Один человек простоял у портрета почти четверть часа; им оказался Стивен Харгривз, старинный приятель Говарда по Королевскому колледжу. Его галерея в Клифтоне, как выяснилось, располагалась всего через несколько улиц от квартиры Вивиан; Джим проходил мимо нее много раз.
— Хорошая работа, Джим, — сказал Стивен, протягивая ему руку. — Нам надо подумать над твоей персональной выставкой.
Разумеется, портрет Евы (так Джим именовал его про себя, официально полотно называлось «Читающая женщина») займет центральное место на предстоящей выставке, но Хелена не позволяла себе думать об этом; вчера, помогая разбирать картины в мастерской, она вновь увидела эту работу, прислоненную к стене, и внезапно расстроилась. Позднее, в постели, успокоившись, она сказала:
— Прости, Джим. Знаю, что выгляжу смешно. Но меня не покидает чувство, как будто она нас преследует. Я знаю это.
Он, конечно, разубеждал Хелену, обнимал, шептал на ухо ласковые слова. Но чувствовал, что в ее словах есть доля правды, и злился на себя, а еще больше на Еву.
Два часа он проторчал тогда у входа в публичную библиотеку Нью-Йорка; сто двадцать минут текли очень медленно, вокруг волнами проносились автомобили, а Джим стоял, ощущая, как груз разочарования становится тяжелее. Возвращаясь домой, он дал себе слово забыть Еву и все, что с ней связано. Он вновь поддержит принятое ею решение.
Джим остался верен своему слову — но вот Ева снова здесь, на картине, которую вскоре упакуют и увезут за двести миль отсюда, в Бристоль. Джим ставит пустую кружку в раковину и оборачивается к Говарду; тот сидит, прислонившись к стене, по-прежнему прикрыв глаза.
— Никак не отойду, старина. Трава была злая.
— Это правда.
Джим вчера сделал лишь пару затяжек и пошел наверх к Хелене, которая не захотела присоединиться к вечеринке.
— Пойду прогуляюсь.
Говард кивает.
— Сильно не задерживайся. И включи обогреватель, ладно? Холодает.
Джим и вправду замерз, пока шел по двору навстречу свежему утреннему запаху моря и сырой земли. На этот пейзаж он мог смотреть бесконечно: изъеденные пещерами утесы, беспокойное, переменчивое море, вода, темно-синяя этим утром, и небо, светлеющее на горизонте. Он медлит, прежде чем открыть дверь в мастерскую, чувствуя, как увиденное наполняет его беспричинным счастьем, и наслаждается этим состоянием. С возрастом Джим понял: счастье мимолетно, к нему не надо стремиться и цепляться за него не стоит, нужно только осознать, что оно пришло, и длить миг сколько удастся.
Версия первая
Тридцатилетие Лондон, июль 1971
Они опаздывают на вечеринку к Антону уже почти на два часа.
Сначала Анна, дочь соседей, довольно раздражительная девица, которая должна была остаться с ребенком, без объяснений явилась на полчаса позже оговоренного времени. Затем Джим, будучи уже изрядно навеселе (он налил себе и Еве по порции джина с тоником, пока они собирались, и еще два коктейля выпил в ожидании Анны), внезапно заявил, что ему не нравится наряд жены.
— Ты похожа на младенца-переростка в ползунках, — сказал он, и уязвленная Ева принялась рассматривать себя в обтягивающем комбинезоне. На днях в магазине тот показался ей таким элегантным, особенно в сочетании с новыми босоножками на веревочной танкетке. Неужели Джим не понимал собственной жестокости? Он произносил эти слова с улыбкой и удивился, даже обиделся, когда Ева решительно отправилась наверх переодеваться.
— Ты что, шуток не понимаешь?
Наверху она отыскала длинное платье, в котором недавно ходила на барбекю с бывшими одноклассниками, — в тот раз у Джима не возникло претензий к ее внешнему виду. Снимая одежду, Ева обнаружила, что тихонько плачет.
— Не обращай внимания, — сказала она собственному отражению в зеркале, поправляя макияж в ванной. И все-таки ее ранила эта жесткость, появившаяся в Джиме; место комплиментов, которые доставались ей раньше (сколько раз в начале их отношений он называл ее красавицей!) теперь заняли едкие замечания. Особенно часто такое случалось, когда он выпивал.
И вряд ли Джим делал это неосознанно: несколько недель назад Ева попыталась вызвать мужа на разговор, чтобы понять, чем так его раздражает. Он посмотрел удивленно — конечно, момент был выбран неудачный: они вернулись с вечеринки в редакции «Ежедневного курьера» и оба были не вполне трезвы.
Он сказал:
— Не понимаю, что ты имеешь в виду. Это я тебя должен раздражать. Твой муж — несостоявшийся художник. Нечем особо гордиться, верно?
В ванную неуверенным шагом входит маленькая Дженнифер.
— Мама идет на вечеринку, — лепечет она. За ней следует Анна с обиженным выражением лица. Ева целует дочь, спускается на первый этаж и говорит, что лучше бы им отправляться прямо сейчас, иначе можно будет уже никуда не ходить.
— Ты переоделась, — произносит Джим неприязненно. — Я не просил этого.
Ева делает глубокий вдох.
— Давай просто пойдем.
Такси привозит их к дому Антона. Продолговатое георгианское здание стоит на одной из тенистых площадей Кенсингтона. Антон со своей женой Теа — яркой худощавой блондинкой, юристом из Норвегии — купили его сразу после свадьбы, устроенной в Осло. Теа немедленно принялась сверлить стены, отдирать старый линолеум и ликвидировать все обнаруженные ею недостатки — и вскоре дом стал выглядеть современно, богато и неброско — как сама Теа, думает Ева.
Она обнаруживает золовку в саду, где с деревьев свешиваются разноцветные лампочки, а складной столик уставлен остатками пиршества: тут холодное мясо, сыр, селедка под укропным соусом, картофельный салат и цыпленок по-королевски, а также огромный торт «захер», испеченный Мириам.
— Мы пропустили еду? — спрашивает Ева, целуя Теа в обе щеки. — Прости за опоздание.
Та машет рукой с красивым маникюром:
— Не переживай, ради бога. Мы только начали.
Антона Ева находит на кухне, разливающим ромовый пунш из глубокой металлической кастрюли.
— Meine Schwester![12]Попробуй пунш. Твой муж тебя опередил.
Он кивает в сторону холла — там Джим о чем-то оживленно беседует с Джеральдом — где же в таком случае Пенелопа?
Ева берет наполненный стакан и целует брата.
— С днем рождения. И как себя ощущаешь теперь, когда тебе тридцать?
Он пожимает плечами и протягивает порцию пунша очередному гостю. Ева смотрит на Антона — глаза той же формы и цвета, что и у нее самой, густые брови (как у Якоба), жесткие, непокорные волосы — и видит перед собой мальчишку на два года младше ее, которому всегда нужно было заполучить то, что принадлежит сестре. Однажды, в три года, Антон выпросил у Евы ее любимую куклу и весь день не расставался с ней, повторяя: «Мое, мое», пока не вмешалась Мириам. Когда ему сейчас об этом напоминают, Антон смеется.
— Не знаю, сестренка. В принципе, все то же самое. А как это выглядит со стороны?
Ева не успевает ответить — появляются новые гости, друзья Антона по работе, громогласные, с раскрасневшимися от выпивки лицами. Мир, в котором живет брат, — царство регат, прав на швартовку и блестящих корпусов новеньких яхт — далек от Евы так же, как и Антону незнакома ее жизнь. Вежливо улыбаясь мужчинам и здороваясь с ними, она отходит, повторяя про себя вопрос, заданный братом: «А как это выглядит со стороны?»
Ей тридцать два; замужем за любимым человеком; родила дочь; зарабатывает на жизнь журналистикой. Ее роман написан наполовину, и она надеется — верит, — что он хорош. Все чаще Еву зовут на телевизионные ток-шоу, где обсуждается все — от ядерного разоружения до прав работающих матерей.
Регулярное появление на экране сделало Еву известной — она уже привыкла, что посторонние люди узнают ее, смотрят ей вслед, пытаясь вспомнить, где могли видеть. Впервые это произошло в парке — Дженнифер каталась там на трехколесном велосипеде, — и Еву несколько вывела из себя непрошеная слава. Она и сейчас считает такую популярность лишней; но в глубине души известность доставляет ей удовольствие.
А что же другие, более важные вещи, например, тот фундамент, на котором держится все остальное, — брак? Здесь дела обстоят куда хуже: Джим несчастлив, Еву это приводит в отчаяние, но контакт с собственным мужем утрачен. Она пыталась — конечно, пыталась — восстановить его, однако Джим сопротивляется любым попыткам. В прошлое воскресенье, например, вернувшись вместе с дочкой с обеда у Пенелопы, она застала его в мастерской, задремавшим в кресле; пустая бутылка из-под виски стояла на полу.
— Папа спит, — сказала Дженнифер. Ева подхватила малышку на руки, отнесла в дом и усадила играть в гостиной — так она могла за ней наблюдать через стеклянные двери. Вернулась и растолкала Джима. Очнувшись, он посмотрел на нее с тоской и безысходностью. Ева вдруг испугалась:
— Что происходит, дорогой? Я могу тебе чем-то помочь?
Джим вновь закрыл глаза:
— Нет. Ничем.
Она придвинулась ближе, положила руку на затылок, погладила по вьющимся волосам.
— Любимый. Не надо так. За что ты себя наказываешь? У тебя есть работа и время, чтобы рисовать, у нас есть Дженнифер, и у нас есть мы. Разве этого не достаточно?
— Тебе легко говорить, Ева.
Джим отвечал мягко, без ожесточения, и тем не менее каждое слово врезалось в Евину память.
— Ты получила все, чего хотела. Ты не можешь себе представить, что чувствую я.
— Ева!
На Пенелопе сегодня платье с пейслийским узо-ром[13]; после рождения Адама и Шарлотты она прибавила в весе, и это придает ей величественности.
— Где тебя носит?
Ева улыбается, благодарная подруге за то, что отвлекла ее от грустных мыслей. Они вновь выходят в сад; солнце зашло, и Теа зажгла свечи, расставив их в стеклянных банках вокруг цветочных клумб, в дополнение к висящим выше разноцветным лампочкам.
— Девушка, которая сидит с Дженнифер, опоздала. — Та вечно надутая соседская девчонка?
Ева кивает.
— На самом деле она ничего.
— Это ты так думаешь. Представляешь, на прошлой неделе, когда Джеральд заболел — какая-то кишечная инфекция, два дня не вставал, — Луиза зашла к нам в спальню, одетая в шорты и лифчик от купальника, с вопросом, не надо ли ему чем-нибудь помочь.
— Может быть, она беспокоилась…
— Не похоже.
Испанку Луизу, свою помощницу по хозяйству, Пенелопа обсуждает постоянно, поскольку подозревает ее в нимфомании. Ева не может себе представить, как Джеральд, образцовый супруг, вдобавок набирающий вес с такой же скоростью, с какой редеют его волосы, поддается чьим-то чарам. Точнее, она не может представить, как изящная двадцатилетняя девушка с шоколадными глазами соблазняет Джеральда. С другой стороны, чего только не бывает. Но она бы никогда не подумала, что Джим способен на такое.
— Эта женщина опасна, — добавляет Пенелопа.
— Брось. А как же женская солидарность?
— Она не пробуждает во мне чувства солидарности.
Пенелопа делает глоток; она предпочла пуншу белое вино. Ева уже немного пьяна и жалеет, что не поступила так же.
— Но ты, конечно, права. Не стоит беспокоиться. По правде говоря, мне ее бог послал. А ты не думала кого-нибудь взять?
— Помощницу по хозяйству?
Ева часто размышляла о такой возможности: они с Джимом целый день на работе, и всякий раз надо в суете подыскивать кого-то, кто приглядит за Дженнифер, а к Мириам она и без того обращается слишком часто.
В прошлое воскресенье Якоб со всем возможным тактом заговорил о Джулианне, внучке их старых венских друзей. Та планирует приехать в Лондон учиться.
— У нее имеется опыт обращения с детьми. Она может подойти, дорогая.
Ева согласно кивнула, хотя мысль о молодой незнакомке в их доме ей не нравилась. Есть обстоятельства, о которых она не может сказать вслух. Однажды, убирая в мастерской, Ева нашла письмо в конверте с немецкой маркой; его автором оказалась Грета, ассистент преподавателя иностранных языков в школе Джима, недавно уехавшая на родину. Ее английский был неуклюжим: Я мечтаю, как мое тело опять соприкоснется с твоим… Мое сердце зовет тебя…
Ева почувствовала дурноту, убежала в ванную и склонилась над раковиной. Но это состояние прошло; потом она села на кухне и закурила. Когда пачка опустела, решила положить письмо на место и не говорить Джиму о своей находке: не могла подобрать слов, ответ на которые была бы в состоянии выслушать и принять. Одна мысль, что Джим полюбил другую и остался с семьей лишь из чувства долга, вместо того чтобы уехать с Гретой, казалась невероятной. Но Ева знала — она не вынесет, если это предположение подтвердится.
— Папа говорит, какая-то девушка приезжает из Вены в сентябре, — рассказывает она Пенелопе. — Внучка их друзей, Дюреров — помнишь таких? Может быть, имеет смысл на нее посмотреть.
— Хорошая мысль. Давай выпьем еще.
Так они и делают — и Ева вопреки здравому смыслу решает не изменять пуншу. После второй порции у нее кружится голова, по телу разливается восхитительное тепло. Антон приносит Еве еще один стакан, затем ведет сестру в сад танцевать. Все гости уже там: школьные друзья Антона (Ян Либниц и его новая жена Анджела танцуют, слившись в объятиях); коллеги по яхтенному бизнесу; Теа и ее приятели-юристы; Пенелопа и Джеральд; кузен Джима Тоби и его компания с Би-би-си; Джим подходит к Еве со спины, обвивает ее руками, они раскачиваются в такт музыке — «Роллинг стоунз» исполняют «Диких лошадей». Ева поворачивается к нему лицом. Разумеется, Джим пьян, как и она сама; оба улыбаются друг другу, продолжая танцевать.
Джим наклонятся к Еве, и она вновь видит эти синие глаза цвета неба, так поразившие ее в первую встречу; чувствует прикосновение его колючей щеки.
— Прости, — шепчет Джим ей на ухо. — Я люблю тебя. Любил и всегда буду любить.
— Я верю тебе, — отвечает Ева, и ее слова правдивы — вопреки всем сомнениям и неотступному страху. Ведь на самом деле, если не верить в это, во что тогда верить вообще?
Версия вторая
Тридцатилетие Лондон, июль 1971
Джим и его двоюродный брат Тоби встречаются, как договаривались, в пабе неподалеку от Риджент-стрит. Тоби в рубашке с короткими рукавами сидит с друзьями за столом в саду — у него отличное настроение, он пьет пиво и смеется. Когда появляется Джим, Тоби поднимается. Мужчины приветствуют друг друга тепло, но немного неуверенно — они не виделись несколько лет, идея встретиться со своим кузеном пришла Джиму в голову только вчера поздно вечером. Недавно звонила его тетка Фрэнсис, чтобы поздравить с первой выставкой в Лондоне: она прочитала об этом в «Ежедневном курьере».
— Мы обязательно приедем, — сказала она. — Позвони, пожалуйста, Тоби при возможности. Я знаю, что он очень хочет повидаться с тобой.
И вчера вечером, перед тем как Хелена повезла его на вокзал в Сент-Айвз — надо было успеть на ночной лондонский поезд, — Джим связался с Тоби. Он не искал, где бы остановиться, — Стивен предложил поселить его в гостинице, — но кузен настоял: Джим должен провести время с ним и его друзьями. Они собираются в пабе, а оттуда отправятся праздновать чье-то тридцатилетие.
— Тебе будет полезно поменять картинку, — сухо произнес Тоби. — А то у тебя перед глазами одни овцы.
Джим подавил желание объяснить: в Трелони-хаус нет овец, там только поля и утесы да еще ленивый кот Марсель, который появился однажды — тощий, с клочковатой шерстью — на пороге кухни и с тех пор отказывается уходить. Но Тоби не ошибался, когда говорил, что в Лондоне Джим отвлечется; Джим даже не представлял себе, насколько кузен был прав. Поезд прибыл на Паддингтонский вокзал в шесть утра. Еще не до конца проснувшись, Джим отдернул занавеску в купе, и перед ним открылся огромный город, грязный и суетливый, с толпами людей, спешащих по перрону под высокую сводчатую крышу. Дома, в Корнуолле, все еще спят; Дилан в поисках тепла прижимается к матери.
Джим много лет не бывал в Лондоне и, как теперь понимает, оказался не готов к встрече с городом. Выйдя из вагона, он остановился на перроне, осматриваясь. В кафе на Бишоп-бридж-роуд взял кофе и сэндвич с жирным беконом и, усевшись за столик, разглядывал бесконечные приливы и отливы машин на улице, решительно шагающих мужчин в строгих костюмах и женщин в туфлях на высоких каблуках. «Почему, — подумал Джим, — они все так спешат?»
Друзья Тоби, как выясняется, в большинстве своем работают вместе с ним на Би-би-си: продюсер, редактор программ, диктор по имени Мартин Сондерс. Они не могут поверить, что у Джима нет телевизора и он не смотрел его уже много лет, но с возрастающим интересом слушают рассказ о жизни в Трелони-хаус — об общей мастерской, огороде, строгом разделении обязанностей.
— Коммуна, — произносит один из них; Джим не запомнил его имени.
Джим неловко ерзает на стуле. Он знает, как большинство людей воспринимают слово «коммуна».
— Мы предпочитаем называть это колонией. Художественной колонией.
Человек кивает в ответ, но Джим видит, что его не слушают.
— Понятно, колония. А как вы там оказались?
Складское здание в Бристоле, застывшие тени от лодок, темная вода, свежесть поцелуя Хелены… Потом она повела его к себе — Хелена остановилась у друзей в Редленде; множество людей махали им на прощание из гостиной сквозь клубы дыма от марихуаны.
Кожа у нее была бледной и теплой на ощупь; движения ее тела в одном ритме с его собственными дарили Джиму совершенно новые, замечательные ощущения. Когда потом они лежали без сна, Хелена спросила:
— Не хочешь поехать со мной в Корнуолл, Джим? Сегодня.
Джим открыл рот, чтобы сказать «конечно же я не могу», а вместо этого услышал собственный голос:
— Почему бы и нет? Просто на выходные.
В понедельник он позвонил из Сент-Айвз в «Арндейл и Томпсон» — сообщить, что заболел и появится на следующий день. Так он и сделал; но через неделю подал заявление об увольнении, а еще спустя месяц погрузил вещи в машину и покинул Бристоль навсегда. Мать не устроила своей обычной истерики — спасибо тете Пэтси, которая приехала к ней на первое время, — и даже лечащий врач Вивиан поблагодарил Джима.
— Вы сделали для нее больше, чем многие сыновья на вашем месте.
Сейчас человеку, чье имя он не может вспомнить, Джим отвечает:
— Разумеется, я встретил женщину. И поехал вслед за ней. А как еще?
Собеседник улыбается и поднимает стакан.
— За это стоит выпить. У вас ведь скоро открывается выставка на Корк-стрит, верно?
— Да. Предпоказ в понедельник.
— Отлично. Вот что, Джим. Я расскажу о вас нашему редактору. Может быть, пришлем съемочную группу. Выйдет хороший материал для раздела культуры.
— Я не уверен…
Джим на минуту представил себе, как воспримут эту идею Говард и Кэт: мясистое лицо Говарда краснеет, ладонь в застарелых шрамах опускается на стол.
«Исключено. Как тебе такое могло прийти в голову? Это противоречит всем нашим…»
— Ну, посмотрим. Но в понедельник я бы зашел посмотреть на вашу выставку.
Джим поднимает бокал и говорит неправду:
— Буду рад вас видеть.
Когда пиво допито, Тоби объявляет: пора идти.
— Чей день рождения празднуем? — интересуется Мартин.
— Антона Эделстайна, — отвечает Тоби. — Мой школьный приятель — помните, был на рождественской вечеринке? Он судовой брокер.
— Помню, — энергично кивает в ответ Мартин. — Брат Евы Кац. Или теперь она снова Ева Эделстайн?
Сердце Джима готово выскочить из груди. Медленно и осторожно он произносит:
— Ева Кац?
Мартин поворачивается в его сторону:
— Да, она писательница. Жена Дэвида Каца — точнее говоря, бывшая жена.
Он с интересом смотрит на Джима своими серыми глазами:
— А вы ее знаете?
Джим пожимает плечами:
— Почти нет. Встречались однажды в Нью-Йорке, на бродвейской премьере «Богемы».
Мартин понимающе кивает.
— Очаровательная женщина. Как-то я пытался с ней закрутить… Но слышал, у нее роман с Те-дом Симпсоном из «Ежедневного курьера». Повезло ему! Теду сейчас, наверное, не меньше пятидесяти, я думаю.
На Риджент-стрит они берут два такси. Сидя в машине, которая несется по Трафальгарской площади, затем мимо Уайтхолла и через Миллбэнк, Джим думает о Еве Кац. Сколько лет они не виделись? Восемь — и последняя их встреча длилась не больше часа. Но если вспомнить всех, с кем он общался за эти годы, на множестве вечеринок — в Корнуолле они случались реже, и тем не менее счет этим быстрым, обрывочным разговорам шел на сотни, — никто не оставил в памяти такой след, как Ева, ее лицо во время той давней беседы.
Один раз Джим даже нарисовал Еву по памяти. Не совсем так, конечно: он увидел фотографию в газете — она стояла в облегающем платье рядом с Дэвидом Кацем на какой-то премьере. Хелена настойчиво интересовалась, кого он изобразил, возможно, даже ревновала. Но картина не получилась: не удалось уловить выражение — задумчивое, немного строгое, — заинтересовавшее Джима в ней когда-то. Потом, погрузившись в хлопоты отцовства и ежедневную работу, он перестал думать о Еве. Но сейчас, когда такси подъехало к длинному дому георгианской эпохи, из ярко освещенных окон которого доносились звуки музыки и громкие голоса, Джим испытал внезапное волнение при мысли, что опять увидит ее.
Внутри дом оформлен с подчеркнутой элегантностью — всюду белая лакированная мебель. Джима представляют приветливому человеку с густыми бровями — это и есть Антон Эделстайн, темные глаза выдают родство с Евой — и его жене Теа, стройной, неэмоциональной блондинке. Тоби с друзьями толпятся в саду у складного стола, где сервированы закуски. Джим тоже подходит, кладет себе на тарелку сыр, холодное мясо, цыпленка по-королевски, но все время отвлекается, оглядываясь по сторонам в надежде увидеть Еву среди толпы незнакомцев. И наконец это происходит — он замечает ее в кухне, Антон как раз наполняет стакан сестры.
Она оказывается выше, чем ему запомнилось, на ней черный комбинезон и туфли на танкетке. Темные волосы заколоты высоко и открывают шею; Джим забыл, какая у Евы ровная, матовая кожа. Она оглядывается вокруг, будто почувствовав на себе чей-то взгляд; видит Джима и отводит глаза без улыбки. Джим краснеет и отворачивается. Ясно, что она не узнает его.
— Привет.
Голос Евы раздается у него за спиной. Джим оборачивается и видит ее рядом. На этот раз Ева улыбается, но неуверенно, словно сомневаясь в его реакции.
— Джим Тейлор, верно? Мы встречались однажды в Нью-Йорке, в «Алгонкине». Вы, наверное, не помните меня. Я Ева Кац.
Ему становится радостно — она не забыла его, она его узнала. Джим собирается сказать: конечно же, я вас помню, — но, разумеется, не успевает.
— Ева!
Мартин опускает свою тарелку, чтобы протиснуться поближе, целует Еву в щеку.
— Выглядишь потрясающе.
— Спасибо, Мартин. Рада тебя видеть.
На несколько минут Ева оказывается потерянной для Джима; к ней подходят все новые люди, она болтает с ними о том, как обстоят дела на Би-би-си, звучат разные имена, ничего не говорящие Джиму. Однако, прислушиваясь к беседе, он узнает кое-что интересное: оказывается, у Евы только что вышел роман (как он мог не заметить? Надо будет поговорить с Говардом насчет доставки в колонию газет); раньше она работала в отделе литературы в «Ежедневном курьере»; а сюда пришла в сопровождении Теда Симпсона, знаменитого журналиста.
— Где же Тед? — интересуется Мартин, оглядываясь вокруг. Ева улыбается — она делает это всякий раз, когда кто-то упоминает Теда, — и отвечает рассеянно:
— Где-то там. В доме, наверное.
Через некоторое время, заметив, что Джим не участвует в разговоре, она поворачивается к нему. Спрашивает, чем он сейчас занимается; он ведь юрист, правильно? Джим начинает рассказывать, что оставил юридическую практику и переехал в Трелони-хаус, и замечает, как друзья Тоби заскучали. Постепенно они с Евой остаются наедине; он говорит о предстоящей выставке на Корк-стрит, она слушает с интересом.
— Это замечательно, — произносит Ева. — Похоже, новая жизнь пошла вам на пользу.
— Да.
Она смотрит ему в глаза. Джим помнит этот взгляд, способный, кажется, проникнуть в глубину души сквозь любые барьеры лжи и лицемерия. Что же натворил этот идиот Кац, как умудрился ее потерять? «Будь ты со мной, — думает Джим, — я бы ни за что тебя не отпустил». Он ловит себя на этой мысли, и ему становится стыдно. Джим произносит:
— Я живу там со своей партнершей, и нам обоим нравится. И нашему сыну Дилану тоже.
Ева в ответ радостно, но несколько напряженно улыбается.
— У вас сын! Как здорово. А у меня дочь. Сара. Сколько лет Дилану?
Джим отвечает на вопрос, показывает фотографии, которые всегда носит с собой. Джози снимала на «полароид», к тому же против солнца, поэтому изображение нечеткое, и в нижней половине кадра какая-то полоса… Дилану на снимке девять месяцев; пухлый, кудрявый мальчуган неуверенно шагает по лужайке навстречу Хелене, которая протягивает к нему руки.
— Прелестные, — говорит Ева. — Оба.
— Спасибо. А вашей сколько?
— Восемь. Сейчас покажу фотографию.
Она открывает маленькую сумочку, висящую у нее на запястье. Он в это время любуется изгибом ее шеи и простым серебряным кулоном в виде сердца, который виден в низком вырезе. Несмотря на внешнюю простоту, это дизайнерская и, видимо, дорогая вещь, однако Джим инстинктивно чувствует: его выбирала не Ева, скорее всего, подарок Теда.
— Ох…
Она поднимает глаза, и Джим переводит взгляд на ее лицо.
— Ну конечно. Они остались в другой сумке. Какая жалость. Я так хотела, чтобы вы увидели Сару.
— Могу представить ее. Если она хотя бы немного похожа на вас, то должна быть красивой.
Он произносит это не задумываясь. Живя в Корнуолле, Джим привык к искреннему выражению чувств — откровенность была одним из правил в доме Говарда и Кэт; хозяин утверждал, что у него нет времени на «мелкобуржуазное манерничанье». Ощутив, как Еве становится неудобно, Джим тут же жалеет о сказанном. Ева бросает взгляд на свой пустой бокал, и Джим пугается, что она сейчас повернется и уйдет, он вновь ее потеряет.
Но она тихо говорит ему:
— Когда мы встретились в Нью-Йорке, вы сказали мне одну вещь, которую я запомнила.
Ее серьезность удерживает Джима от попытки отделаться шуткой: «О боже, неужели это было настолько ужасно?»
— Я рассказывала вам, как трудно мне пишется, и я не могу закончить книгу, опасаясь, что она никому не понравится, а вы сказали: «Единственный судья — вы».
Он помнил, конечно, помнил — потом ругал себя за невыносимый пафос, с каким это прозвучало.
— Я так и не закончила ту книгу, — сказала Ева. — Она просто не была нужна — ни мне, ни кому бы то ни было другому. Но когда начала работать над новой, то записала ваши слова на листе бумаги черным фломастером и повесила его над своим столом. И не снимала до самого конца.
— Уверен, вы переоцениваете мой вклад. Но и я помню сказанное вами. Что надо просто продолжать рисовать и не искать отговорки. Я долго не мог забыть эти слова.
Несколько мгновений они смотрят в глаза друг другу, потом Ева отворачивается в сторону двора, где гости танцуют под музыку «Роллинг стоунз». Джим забыл о них, забыл обо всех, кроме нее; нестерпимо хочется положить ей руку на затылок и притянуть к себе. Но в этот момент Ева видит кого-то — мужчину, который машет рукой и зовет присоединиться к танцующим. Он старше ее (не пятьдесят, конечно, как сказал Мартин, но сильно за сорок), шевелюра седая, и Джим отмечает, что он еще привлекателен, лицо живое и выразительное, как у человека, добившегося высот в этой жизни, но не утратившего способности удивляться окружающему миру.
— Тед, — говорит Ева, хотя Джим уже понял, кто это. — Я, пожалуй, пойду… Поговорим потом, хорошо? Рада была вас повидать, Джим.
Она быстро сжимает его руку и уходит. Он остается один в саду среди мерцающих огней — пока они разговаривали, кто-то расставил свечи в стеклянных стаканчиках вдоль забора и зажег их, вдобавок к гирляндам разноцветных электрических лампочек.
Джим достает папиросную бумагу, табак и немного травы, прихваченной с собой. Свертывает самокрутку, пытаясь не глядеть туда, где Ева танцует в объятиях Теда, его руки обнимают ее талию, их лица почти соприкасаются. Он очень старается не смотреть, но всякий раз Ева оказывается в поле его зрения, будто остальные гости — просто фон в тонах сепии и ларго.
И даже когда Джим закрывает глаза после первой затяжки, наполнившей рот сладким дымом, он продолжает видеть танцующую Еву и отражения десятков огоньков в ее волосах.
Версия третья
Тридцатилетие Лондон, июль 1971
Ева замечает Джима первой.
Он только что пришел и неуверенно озирается по сторонам, стоя в холле вместе с другими гостями; среди них — его кузен Тоби. Отпустил волосы до плеч, носит расклешенные джинсы; сняв пиджак, остается в облегающей коричневой футболке с овальным вырезом.
Джим никогда не походил на хиппи, но несколько лет назад он переехал в Корнуолл и поселился в какой-то коммуне. Гарри однажды рассказал об этом за ужином у них дома, еще до отъезда Дэвида в Лос-Анджелес; он сделал это без всякого умысла, подумала Ева, а просто с привычным для себя безразличием к чувствам других людей.
— Помнишь Джима Тейлора? — спросил Гарри. — Того парня из Клэр, с которым у тебя что-то было?
Ева ничего не ответила, только посмотрела на него в упор; будто она могла забыть Джима!
— Связался с какой-то художницей и поселился в коммуне хиппи. Свободная любовь и все такое. Везет же засранцам, я вам скажу.
Сейчас Ева поворачивается и убегает по лестнице наверх — прежде чем Джим сможет ее увидеть. В ванной она стоит у зеркала, держась за раковину; ее сердце бьется учащенно, а в горле пересохло. Смотрит на свое отражение в зеркале; лицо бледное, на веках растушеваны серые тени, положенные в несколько слоев, — попытка сделать «дымчатые глаза», увиденные в каком-то журнале.
Еве не приходило в голову, что Джим может оказаться на вечеринке Антона, а теперь она не видит в этом ничего удивительного. У него скоро открывается большая персональная выставка — «Ежедневный курьер» писал о ней, — и конечно же, оказавшись в Лондоне, он вполне мог найти своего кузена Тоби. Но Джим непременно должен был отказаться от приглашения на день рождения ее брата. «Если только, — при мысли об этом Ева крепче хватается за край раковины, — он не захотел увидеть меня. Если не пришел сюда ради меня».
Она немедленно отбрасывает эту мысль как абсурдную и самонадеянную: у Джима есть женщина, возможно, даже дети. Ева уверена, что Джим никогда не вспоминает о ней. А у нее свои обязательства: хотя даже в самые трудные дни она не позволяет себе так думать про Ребекку и Сэма.
Ева умывается холодной водой, потом достает из сумки косметичку, румянит щеки. Вспоминает, как перед уходом из дома наклонилась над кроваткой сына поцеловать его — Сэм, в пижаме, с волосами, еще влажными после ванны, обнял ее, притянул к себе и отчаянно попросил:
— Мамочка, возвращайся скорее!
Она пообещала и сказала, что Эмма, его няня, сейчас поднимется к нему и почитает сказку.
Ребекка у себя в комнате красила ногти на ногах пурпурным лаком. Ева подумала: «О, напоминает конечности при гангрене», — но вслух произнесла:
— Потрясающий цвет, дорогая. Я ухожу.
Дочь подняла голову, выражение ее лица смягчилось. Ей всего двенадцать, а уже заботится о собственной внешности (Ева говорит себе: «Вся в отца») — и после школы часами шепчется с подружками по телефону, обсуждая мальчиков.
— Отлично выглядишь, ма. Мне нравится это платье.
Ева ответила «спасибо» и, целуя Ребекку на прощание, уловила смешанный запах шампуня и духов «Шанель № 5». Дэвид во время последнего приезда в Лондон купил ей флакон в дьюти-фри. Ева полагает, что эти духи не подходят для двенадцатилетней девочки, но Ребекка пользуется ими каждый день, даже отправляясь в школу.
С лестницы, ведущей на первый этаж, Ева оглядывает гостиную: появляются все новые и новые гости, люди смеются и переговариваются, держа в руках бутылки с вином, но Джима среди них не видно. Она подбирает полы длинной юбки, чтобы не наступить на нее. Улыбается пришедшим, хотя не узнает их — наверное, это друзья Теа; так же небрежно элегантны, как ее золовка. На кухне Ева наливает себе еще один стакан пунша.
Ее брату тридцать лет. Верится с трудом — порой, думая об Антоне, она по-прежнему видит перед собой маленького упрямого мальчика, всегда желающего иметь то, что есть у сестры. Но мальчика, разумеется, уже нет, как нет и прежней Евы. Нет девчонки с косичками, питавшей сильную, хотя и недолгую страсть к лошадям. Нет юной девушки, заполнявшей многочисленные тетради тривиальными рассказами и чудовищными стихами — ее саму потом коробило от них. Нет студентки, упавшей с велосипеда и увидевшей тень человека, проходившего мимо. Который тогда тоже не знал, что с ним станет.
— Привет, — говорит Джим, приводя Еву в замешательство: она все еще там, в окрестностях Кембриджа, смотрит на юношу в фирменном двухцветном шарфе колледжа Клэр и размышляет, надо ли принимать предложенную им помощь. Но этот юноша исчезает и превращается в мужчину; стоит перед ней в проеме двери, ведущей в сад — там на деревьях светятся развешанные Теа разноцветные фонари.
— Привет, — отвечает она.
Незнакомые Еве мужчина и женщина осторожно протискиваются мимо Джима.
— Извините, — говорит молодая босоногая блондинка, — мы за пуншем.
Джим делает шаг в сторону сада.
— Освобождаю вам дорогу.
И, повернувшись к Еве, добавляет:
— Пойдем прогуляемся?
Она безмолвно кивает и идет за ним.
Сад невелик, но большинство гостей собрались на площадке возле дома, где начались танцы. Пенелопа и Джеральд тоже там, в этой колышущейся толпе. Ева и Джим без труда находят тихое место, отгороженное белыми горшками с лавровыми деревьями. Создается иллюзия, будто они здесь в полном одиночестве, и Ева вспоминает их последнюю встречу в «Алгонкине», на той проклятой вечеринке. «Да, сложно», — сказал Джим тогда, и Ева прекрасно поняла, что он имел в виду, но не нашла правильных слов для него.
— Я не собирался сюда приходить.
Впервые за вечер Ева смотрит на Джима внимательно: видит его обычную бледность, и россыпь веснушек, и нахмуренный лоб. Он держится неприязненно, и Ева отвечает так же сухо:
— Зачем же пришел?
— Тоби привез. Сказал, мы идем на день рождения. А чей это день рождения, я узнал уже по дороге.
«Но ты мог повернуться и уйти», — думает Ева. Вслух она говорит:
— Ты ведь не знаком с Антоном?
— Нет, мы не встречались.
Кажется, молчание длится очень долго. Ева чувствует пульсацию в висках.
— Прости… я не пришла тогда.
Джим с непроницаемым лицом делает глоток красного вина.
— Откуда ты знаешь, что я пришел?
В горле у нее пересыхает. Воображая их встречу — Ева делала это, отрицать бессмысленно, — она не могла вообразить такой холодности. Знала: Джим будет сердиться, но ей казалось, злость быстро уступит место снисхождению и даже радости.
Джим произносит уже мягче:
— Конечно, я пришел, Ева. Я ждал тебя. Ждал у библиотеки несколько часов.
Она смотрит ему в глаза, потом отводит взгляд.
— Я внезапно испугалась… Прости меня, пожалуйста, Джим. Я поступила ужасно.
Краем глаза Ева замечает, как Джим кивнул, и думает: «Возможно, это было не более ужасно, чем тогда, в Кембридже, — но я все сделала правильно, Джим. Верила, что тебя освобождаю». Она размышляет, не сказать ли об этом, но сейчас уже слишком поздно, слов явно недостаточно. Ева делает глоток пунша, чтобы отвлечься и перестать прислушиваться к собственному участившемуся сердцебиению. Она не могла представить Джима таким: изменилась не только манера поведения, но и внешний облик. Он иначе выглядел в Нью-Йорке — одетый с небрежным богемным шиком, в джинсы и рубашку навыпуск, с копной непричесанных волос — и когда был студентом Кембриджа, в свитере поверх рубашки, спасавшем его от пронизывающего холода Фенландской низины. Иногда, просыпаясь на узкой кровати в комнате Джима в колледже Клэр, Ева подолгу рассматривала его лицо, бледное до синевы, и темные нити вен, сбегающие к запястьям.
— Читала в газете про твою выставку, — с усилием произносит она. — Рада, что ты нашел себя.
— Спасибо.
Он достает из кармана папиросную бумагу, табак и немного марихуаны.
— На самом деле это оказалось нетрудно. Во всяком случае, легче, чем я думал вначале.
Джим разговаривает уже не так неприязненно, и Ева понемногу успокаивается.
— У тебя кто-то есть…
Джим не отвечает; Ева смотрит, как он умело уминает табак и рассыпает марихуану по всей длине бумажного листочка.
— Да.
В одной руке он держит свернутую папиросу, другой закрывает пачку с табаком и кладет ее в карман.
— Ее зовут Хелена. У нас есть дочь Софи.
— Софи.
Ева на мгновение задумывается.
— В честь твоей бабушки.
— Верно. Мать была вне себя от счастья.
Вивиан. Они встречались как-то в Кембридже, когда та приезжала на один день, и Джим повел их обедать в университетскую столовую. Вивиан была одета пестро — голубое платье, розовый шарф, красные искусственные розы на полях шляпки — и вела себя капризно. После кофе, когда Джим ненадолго отлучился, она повернулась к Еве и сказала:
— Вы мне очень нравитесь, дорогая: вы прелестны и, как я вижу, умны. Но у меня есть ужасное предчувствие, что вы разобьете сердце моего сына.
Ева никогда не рассказывала Джиму о том разговоре, опасаясь показаться сплетницей. Сейчас она вспомнила о нем и поразилась дару предвидения его матери.
— Как Вивиан?
— В общем, неплохо.
Джим закуривает, делает пару глубоких затяжек и протягивает самокрутку Еве. Та берет и тоже затягивается, хотя марихуана — не по ее части, и, кроме того, что скажет Эмма, если Ева придет домой под кайфом? «Но немного не повредит», — думает она. Джим продолжает:
— Ей выписали новое лекарство — похоже, помогает. Она, кстати, тоже не одинока. Вышла замуж за приятного уравновешенного человека. Он бывший банковский служащий, сейчас на пенсии.
— Как хорошо. Я рада за нее.
От земли сладко пахнет травой. Ева делает еще одну затяжку и возвращает самокрутку Джиму.
— Все?
Она качает головой, он пожимает плечами и продолжает курить.
— А ты как? Я слышал, у тебя уже двое детей. Мальчик, верно?
— Да. Сэм. В следующем месяце ему исполнится четыре.
Сэм: ее замечательный мальчик, нежданный подарок. Это случилось вскоре после выходных, проведенных с матерью в Саффолке. Ева решила поговорить с Дэвидом, когда тот прилетит из Испании, — и сказать ему, что уходит. Но Дэвид вернулся в приподнятом настроении: немедленно повел ее ужинать в Артистический клуб, заказал шампанское, развлекал рассказами об Оливере Риде. В тот вечер Ева увидела прежнего Дэвида — такого, каким он был в начале их знакомства: настолько притягательным, что ни одна женщина не могла удержаться от того, чтобы обернуться ему вслед. Она глубоко ранила его, уйдя к Джиму, но Дэвид потом повел себя решительно. Сейчас, сидя в клубе при свечах, Ева вспомнила сияние его глаз и то, как он без колебаний согласился: их единственный выход — немедленно пожениться.
— Позволь мне заботиться о тебе, — попросил тогда Дэвид. — Позволь заботиться о вас обоих, о тебе и ребенке.
Он говорил искренне; возможно, по его мнению, он до сих пор проявлял заботу. Они немало выпили тогда, вернулись домой поздно ночью и впервые за много месяцев занимались любовью. Так появился Сэм.
Ева не собиралась просить Дэвида о разводе. Не хотелось, чтобы Сэм вырос, зная отца только по рассказам, а Ребекка, по-прежнему боготворившая его, окунулась в печальные подробности родительских отношений. Дэвида такое положение дел вполне устраивало: статус женатого человека помогал держать на безопасном расстоянии толпы поклонниц (и маскировать отношения с одной из них). Но в прошлом году он купил дом в Лос-Анджелесе — Дэвид постоянно снимался в голливудских фильмах и устал жить в гостиницах — и его статус мужа и отца окончательно сделался теоретическим. Предполагалось, что он будет прилетать в Лондон, когда сможет; но за последние девять месяцев Дэвид провел здесь лишь два уикенда.
Разумеется, можно было отправиться к нему в Америку, но они никогда это не обсуждали, да Ева и не настаивала. Она видела Лос-Анджелес во время медового месяца, и город совершенно ей не понравился: гигантские супермаркеты, безликие автострады и непреходящее ощущение, что все вокруг хотят друг друга использовать. У Дэвида, разумеется, есть причина не звать жену в свой калифорнийский дом — Джульет Фрэнкс. Ева знает об их отношениях, и довольно давно.
— Полный набор, — говорит Джим, и Ева резко вскидывает голову, пытаясь понять — не подшучивает ли тот над ней. Она не станет обижаться, если даже и так.
— А чем ты занимаешься?
— По-прежнему читаю рукописи для издательств. Иногда берусь за книжные обзоры.
Он, как никто другой, знает: ей этого мало.
— Пишешь?
— Нет, на самом деле… тяжело, когда дети, знаешь…
— Не надо искать оправданий. Если хочешь — то делаешь. Это очень просто.
Она чувствует, что краснеет. — Мужчинам всегда легче…
— И в этом все дело?
Они смотрят друг на друга в упор. Ева ощущает новый приступ сердцебиения, но сейчас причиной его становится не прежняя смесь вины, страха и горечи потери, а чувство гораздо более сильное и незамутненное — ярость.
— Ты раньше не был таким шовинистом.
Джим почти докурил. Делает последнюю затяжку, бросает окурок на землю и растирает его носком ботинка.
— А ты не была такой тряпкой.
Ева поворачивается и уходит в дом через сад, проталкиваясь сквозь толпу танцующих, игнорируя Пенелопу, которая шепотом спрашивает:
— С тобой все в порядке? Что он сказал?
Пен, должно быть, наблюдала за разговором, хотя Еве и Джиму казалось, что никто не обращает на них внимания. Но Еве все равно; она бежит наверх, мечтая побыстрее отыскать свой пиджак, выйти на прохладную площадь, поймать такси, добраться до дома, убедиться, что дети в порядке, и с наслаждением скрыться от мира под одеялом, забыв сегодняшний вечер навсегда.
«Извинюсь перед Антоном потом, — думает Ева, — да он уже, наверное, пьян, и не заметит моего отсутствия». И в этот момент кто-то кладет ей руку на плечо и поворачивает к себе. Он обнимает ее, его губы прижимаются к ее губам, и Ева ощущает вкус марихуаны, табака, красного вина и тот запах, который может принадлежать только Джиму и больше никому.
Версия вторая
Приглашение Лондон, июль 1971
— Ты действительно не против?
Тед, сидя на террасе с вечерней газетой и порцией джина с тоником, поднимает голову и улыбается.
— Конечно, не против, дорогая. Ты иди. Развлекись. Мы с Сарой отлично проведем время.
Ева наклоняется и целует его в теплую щеку. На часах немногим больше шести, и на улице все еще жарко, хотя солнце готовится вот-вот нырнуть за деревья и скоро терраса погрузится в тень.
— В холодильнике фаршированные помидоры. Их надо лишь на несколько минут засунуть в духовку и сделать салат.
— Ева.
Он берет ее за подбородок.
— Мы справимся. Иди. — Спасибо. До вечера.
Сара читает в своей комнате; дочь стала задумчивым, замкнутым ребенком, и Ева немного беспокоится о ней, позабыв, что в этом возрасте тоже предпочитала мир книг беспокойным детским компаниям. Жаль, что у них нет сада, где Сара могла бы играть. «А в Париже, — размышляет Ева, — у нас будет сад?»
— Я ухожу, дорогая. Вернусь не поздно. Тед накормит тебя ужином.
— Хорошо, — отвечает Сара, отрываясь от книги — она дочитывает «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт и с трудом может думать о чем-то, кроме судьбы Бет Марч. Ева поражается отстраненному, невероятно взрослому выражению на лице дочери.
— Хорошего вечера, мам.
В прихожей она надевает босоножки и лезет в сумку — проверить, на месте ли приглашение, которое Джим Тейлор вложил ей в ладонь на дне рождения Антона, перед самым уходом.
Ева решает пройтись: Корк-стрит недалеко, а она весь день просидела у стола, редактируя одно трудное место в своей второй книге. Героиня романа Фиона — актриса. Она добилась славы, но все более отдаляется от мужа-адвоката — трогательно преданного и скучного; это вольная интерпретация ее жизни с Дэвидом, только герои поменялись местами. Но к своему огорчению Ева никак не может изгнать мужа из повествования. «Почему, — спрашивает Дафна, ее редактор, в последних замечаниях к тексту, — он так долго мирится с эгоизмом Фионы?»
Ева не находила пока ответа на вопрос и поэтому сегодня позволила себе отвлечься: прочитала письма, принесенные почтальоном после обеда, поболтала с Дафной по телефону. Ничего за день толком не сделав, теперь она испытывала чувство неловкости из-за того, что оставляет Теда присматривать за дочерью, отправляясь на встречу с другим мужчиной — какой бы безобидной эта встреча ни выглядела. На улице она смотрит вверх, надеясь поймать взгляд Теда, но тот целиком поглощен чтением газеты.
* * *
Прошел почти год с того дня, как Ева впервые согласилась поужинать с ним. Тед добивался этого несколько недель — оставлял записки в ее ящике для корреспонденции или в книгах на рабочем столе; присылал букеты цветов — они заполоняли кабинет, который она делила с Бобом Мастерсом, литературным редактором, и редактором женской полосы Фрэнком Джарвисом. Букеты напоминали Еве — и воспоминания эти были приятны — о пятничных розах Дэвида. Фрэнк умолял сжалиться над человеком и не превращать кабинет в цветочный магазин (от запаха лилий он начинал чихать). Боб был более сдержан, но он хорошо относился к Теду после двадцати лет совместной работы. Лучшего репортера на Флит-стрит не найти, сообщил он Еве, будто это могло стать доводом в пользу того, чтобы принять ухаживания Теда.
Ева, однако, колебалась. Бракоразводный процесс занял больше года и оказался более трудным и болезненным, чем она себе представляла. Особенно для Сары. Ева пока не была готова к новым отношениям.
Кроме того, она не была уверена, что Тед Симпсон ей нравится, — он казался лишенным чувства юмора и высокомерным. С ним считался даже главный редактор, его мнение, сформулированное с убедительностью, присущей политикам, всегда имело резонанс. Наконец, хотя Ева и не знала его точного возраста, она подозревала, что Тед старше ее лет на пятнадцать.
И, разумеется, дело осложняла Сара. Дочь еще не до конца оправилась от развода родителей, и Ева боялась невольно причинить ей боль. Сара до сих пор иногда просыпалась по ночам и звала Дэвида; Ева подходила к ней, гладила по голове, пока девочка не затихала, или даже брала к себе в постель почитать на ночь — чего не делала с тех пор, как Сара была маленькой. Как она отреагирует на появление нового мужчины, не разрушится ли то хрупкое ощущение домашнего уюта, которое Ева так старалась сохранить?
Однако через несколько недель мнение Евы о Те-де поменялось. Теперь она ждала его новых записок и цветов; заметила, что он довольно привлекателен; начала высматривать Теда в коридорах редакции и отвечать на приветствия и улыбки. Однажды она обнаружила особенно смешную записку в присланном им экземпляре романа «Жизнь девочек и женщин» Элис Манро.
Тед написал: «Книга совсем не понравилась, поскольку в ней отсутствует жизнеописание Евы Эделстайн, а истории всех остальных женщин данного конкретного читателя не интересуют».
Она не выдержала и рассмеялась в голос, потом написала короткий, осторожный ответ.
«Как жаль, что книга не пришлась вам по душе, но рецензия меня развеселила. И я подумала: наверное, будет все-таки приятно поужинать вдвоем».
Ответа не было в течение нескольких дней. Она безуспешно искала Теда по всей редакции и сама удивлялась силе своего разочарования. Но как-то утром он появился на пороге ее кабинета (Боб и Фрэнк отсутствовали) и сказал, что забронировал столик в ресторане на вечер пятницы, если это не противоречит ее планам.
— Не противоречит, — ответила Ева.
Когда Тед ушел — так же внезапно, как и появился, — Ева позвонила матери и спросила, может ли Сара провести у них пятничный вечер. Мириам не стала задавать вопросов, хотя наверняка что-то заподозрила — особенно когда в следующие недели Ева еще не раз обращалась к ней с подобной просьбой. Лишь однажды — отношения с Тедом длились уже несколько месяцев — Мириам сказала:
— Ты светишься, Schatzi. Этот человек делает тебя счастливой.
Ева чувствовала — это правда, впервые за несколько лет. Ее сомнения относительно Теда оказались совершенно беспочвенными: он серьезно относился к работе и прекрасно разбирался в международных делах, но мог быть и забавным, и внимательным, и легкомысленным. Единственное, чего Ева не могла понять, — почему он никогда не женился.
— Я несколько раз приближался к этой черте, — сказал Тед однажды вечером; они были в его квартире в Сент-Джонс-Вуде — огромной, с высокими потолками, полной сувениров, привезенных из многочисленных командировок (он жил в Западном Берлине, Иерусалиме, Бейруте), однако казавшейся пустой и неухоженной. — Но постоянные разъезды по миру не способствуют прочным отношениям.
Ева взглянула на него — они пили красное вино, лежа в постели, — и спросила:
— А теперь ты осел в Лондоне? Навсегда?
Тед наклонился к ней с поцелуем.
— Да, Ева. Да.
«Он ответил слишком поспешно», — думает она сейчас, поворачивая на Марилебон-хай-стрит по пути к галерее.
На прошлой неделе Тед предложил ей перебраться вместе с ним в Париж. Нынешний собственный корреспондент «Ежедневного курьера», немолодой франкофил, страстный любитель бургундского вина, собрался выйти на пенсию и обосноваться в своем имении в Дордоне.
— Это завидная работа, Ева, — сказал Тед, ощутимо волнуясь, и тут же добавил: — Но я не уверен, что соглашусь, если ты не поедешь со мной. Вы обе.
Она не сразу поняла, о чем он говорит.
— Хочешь, чтобы мы поехали с тобой? В Париж?
Тед взял ее за руку.
— Глупышка, я не просто хочу поехать туда всем вместе. Я хочу жениться на тебе. И стать Саре настоящим отчимом.
Первым порывом Евы было сказать: «Да! Я люблю тебя, и это будет замечательное приключение», — но она сдержалась. В конце концов, такое решение нельзя принять в одиночку. Оставались еще Сара и родители Евы, друзья и все те корни, что привязывали ее к Лондону. И Дэвид, разумеется, хотя тот вряд ли станет возражать: он может прилетать в Париж так же редко, как и в Лондон.
Ева поцеловала Теда и ответила:
— Большое тебе спасибо. Это замечательное предложение. Но я должна подумать, дорогой. И первым делом поговорить с Сарой.
— Разумеется, — сказал он, — не торопись с ответом.
На следующий день после уроков Ева повела дочку на фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» в кинотеатр «Керзон» в Мейфэр, а после сеанса — в бар «Вимпи» есть гамбургеры.
— Что ты думаешь о Теде, дорогая? — спросила Ева словно невзначай.
Сара отхлебнула молочный коктейль.
— Мне он нравится. Забавный. И нравится, что ты с ним счастлива, мам. Когда он рядом, ты чаще улыбаешься.
Ева, сидевшая напротив дочери за пластиковым столом, едва не расплакалась.
— Когда ты успела стать такой взрослой?
— Ну, я ведь смотрю на тебя.
Сара взяла бургер, смерила его оценивающим взглядом и откусила кусок. Не переставая жевать, спросила:
— А почему ты спрашиваешь?
— Видишь ли, — Ева отложила свой бургер, — мы с Тедом обсуждаем возможность пожениться.
Сара уставилась в свою тарелку.
— Что ты об этом думаешь, дорогая?
Сара ничего не ответила. Она не отрываясь смотрела на недоеденный гамбургер. Ева поглядела на дочь — темные шелковистые волосы, мягкие щечки, — затем накрыла ее маленькую руку своей.
— Тед хочет, чтобы после свадьбы мы переехали в Париж.
— В Париж?
Сара вновь взглянула на мать. Аурель, ее первая няня, была провинциальной француженкой, влюбленной в Париж — она непрестанно говорила о нем, и на какое-то время этот город стал для Сары навязчивой идеей. Девочка постоянно спрашивала, почему не может жить там, как Мадлен, героиня ее любимой книжки-раскраски.
— Мне придется выучить язык?
Ева осторожно подбирала слова.
— Мы постараемся найти для тебя школу, где говорят по-английски. Но может быть, ты сама захочешь его выучить?
Сара погрузилась в размышления.
— Может быть. Тогда я смогу переписываться с Аурель на французском.
Она на какое-то время замолчала, доела бургер, вновь взялась за молочный коктейль. Ева не нарушала молчания. «Для нее это слишком, — думала она. — Я скажу Теду, что пока еще рано».
Но когда она собиралась заговорить, Сара подняла глаза и сказала прямо и открыто:
— Хорошо, мам. Я не против, если только мы сможем видеться с папой.
— Конечно, сможете, — пообещала Ева и, отпустив руку дочери, погладила ее по щеке.
И когда Тед зашел за ней, чтобы вместе отправиться на день рождения Антона, Ева встретила его долгим поцелуем. «Сегодня, — думала она, — я дам ему ответ».
Но на вечеринку пришел Джим Тейлор — и все превратилось в хаос. Разговаривая с Джимом, даже просто чувствуя его присутствие где-то рядом, Ева, как и тогда в Нью-Йорке, ощущала: между ними существует необъяснимая, но прочная связь, которую нельзя описать словами. Когда Джим передал ей приглашение на выставку, она пережила вспышку возбуждения, такого сильного, что кровь прилила к щекам.
Дома Тед между делом спросил, с кем она так увлеченно разговаривала на вечеринке.
— Один старый приятель, — ответила Ева так же небрежно. Тед, казалось, выбросил этот эпизод из головы, и Ева старалась о нем не напоминать.
Но сейчас, поворачивая на Корк-стрит, где возле галереи уже собираются приглашенные — рыжеволосая девушка в расклешенных джинсах и с золотой цепочкой на шее, мужчина без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами, — Ева внезапно пугается. Лучше бы Тед не настаивал, чтобы она пошла одна, не предлагал ей с беспечной щедростью провести время в компании «старого приятеля». Что, черт возьми, Ева здесь делает? Надо развернуться и уйти, вернуться к дочери и человеку, за которого она собирается замуж.
Но Ева не разворачивается, а проходит в галерею. Почти сразу же видит Джима, окруженного гостями. Страх уступает место смущению; она берет предложенный официантом бокал и идет смотреть выставленные работы. Ева замедляет шаг у картины, где женщина с широким правильным лицом стоит у открытого окна, за которым виден утес и сине-зеленое море, рядом с ней — ваза с ярко-желтыми полевыми цветами. Это спутница Джима, он показывал Еве ее фотографию, которую всегда носит с собой. Ева не помнит, называл ли Джим имя.
— Ева. Вы пришли.
— Да.
Она целует его в обе щеки и чувствует, как вновь предательски краснеет.
— Поздравляю. Замечательное событие.
— Спасибо.
Джим смотрит на нее, потом переводит взгляд на картину.
— Хелена с букетом подмаренников. Это полевые цветы, которые растут на скалах в Корнуолле, их там целые поля. Удивительный цвет.
Ева кивает, демонстрируя заинтересованность. Она остро чувствует его присутствие; смотрит на бледную веснушчатую кожу в расстегнутом воротнике рубашки. В голове всплывает странное видение: ее пальцы скользят по его плечам… Она вздрагивает и отводит глаза.
— Я не хочу вас задерживать. Вам еще со многими надо поговорить.
— Пойдемте, я вас кое с кем познакомлю.
Ева не успевает ответить, а Джим уже берет ее за руку и ведет навстречу незнакомым людям; Ева улыбается им, здоровается, поддерживает необременительную светскую беседу.
К девяти галерея уже почти пуста; официанты собирают бокалы и тарелки из-под закусок, а Ева, не отдавая себе в этом отчет, все еще стоит рядом с Джимом. Он поворачивается к ней:
— Мы собираемся поужинать в ближайшем ресторане — я, владелец галереи Стивен Харгривз, его жена Прю и еще несколько человек. Не хотите присоединиться к нам?
Ева сомневается, думает о Теде и Саре. Она не сказала, когда вернется, но Сара будет волноваться, если она слишком задержится. И дочь сделала такое усилие над собой, приняв Теда и согласившись на переезд в Париж, — каково ей будет, если теперь все пойдет прахом? Не говоря уже о Теде, которому Ева так осторожно и неторопливо позволила узнать и полюбить себя? «На самом деле, — думает она, — выбора нет».
— Спасибо, но мне уже пора. Вечер был замечательный, Джим. Берегите себя.
Ева торопливо целует Джима в обе щеки и быстро выходит из галереи на улицу, оглядываясь в поисках такси, которое отвезет ее домой.
Версия третья
Приглашение Лондон, июль 1971
— Пойдем поужинаем, — предлагает Джим.
Они стоят в дальнем углу галереи; посетители уже расходятся. Он до сих пор не может поверить, что пришло столько народу: кажется, все это происходит не с ним, это лишь сон. Официанты неторопливо собирают пустые бокалы и тарелки из-под закусок.
Джим безуспешно пытается вспомнить имена тех, с кем его сегодня знакомили, — художников, галеристов, коллекционеров. Стивен уже прикрепил бирки с надписью «Продано» на несколько больших работ. Джим выслушивает комплименты и вопросы, иногда даже воспоминания о своем отце. Пожилой художник с гривой седых волос и крючковатым носом сказал, что преподавал Льюису Тейлору живопись в Королевском колледже. Он долго не отпускал руку Джима.
— Я видел вас еще маленьким мальчиком. Ваш отец порой вел себя отвратительно — уж я-то знаю, — но он был настоящим художником. Случившееся с ним — настоящая трагедия.
Заехала на час тетя Фрэнсис с тремя кузенами Джима: Тоби явился прямо из телестудии, в костюме и галстуке, который распустил с явным облегчением. Джим поцеловал тетку, поблагодарил братьев, согласился, что отсутствие его матери и Синклера — просто ужасно. Но все его мысли занимала только она: невысокая женщина в синем платье, одинокая в толпе гостей. Ее обнаженные руки были унизаны серебряными браслетами, распущенные темные волосы спадали на плечи.
— Не могу, — отвечает Ева тихим голосом. — Все будут любопытствовать, почему я там.
— Они знают, что мы старые друзья по университету и ты приглашена посмотреть на свой портрет. Никто ничего не заподозрит.
Она глядит на Стивена — тот дает указания официанту, уносящему подрагивающую стопку тарелок.
— Я не уверена. — Пожалуйста.
Джим слегка дотрагивается до ее руки, однако этого прикосновения достаточно, чтобы Ева начала оглядываться по сторонам.
— Хорошо. Но я не могу задерживаться. Мама сидит с детьми.
Стивен заказал стол в дорогом французском ресторане на Шефердс-маркет. Их шестеро, считая Джима и Еву: Стивен и его жена Прю; Макс Файнстайн, коллекционер, приехавший в Лондон из Сан-Франциско на несколько дней вместе со своей подругой-японкой по имени Хироко. Как бы Джим ни успокаивал Еву, пока гости рассаживаются, он немного нервничает. Замечает подозрительный взгляд Стивена и надеется, что ему можно доверять; он, конечно, видит такое не в первый раз. К тому же присутствие Евы поначалу остается почти незамеченным: внимание всех собравшихся притягивает Файнстайн, крупный мужчина с густым утробным голосом, от звука которого позвякивают бокалы на столе. Хироко сидит рядом с ним тихо как мышка и время от времени невесело улыбается.
— Стивен сказал мне, Джим, вы живете в какой-то коммуне, — говорит Файнстайн, поглощая закуски. Глаза на мясистом лице поблескивают, словно начищенные пуговицы. — Свободная любовь, а?
Джим откладывает вилку.
— Вовсе нет. Это не коммуна, а художественная колония. Место, где художники могут делиться друг с другом идеями и творческими методами, работать сообща.
Но Файнстайна так просто с толку не сбить.
— И это ведь не все, чем вы делитесь?
Он накалывает на вилку гриб в чесночном соусе, подносит ко рту. Джим наблюдает за жирной каплей, стекающей по его подбородку.
— Я вас, хиппи, знаю. Дома насмотрелся, верно, Хироко?
Хироко по-прежнему молчит и улыбается. Сидящая напротив него Прю — прирожденный дипломат — вмешивается в разговор:
— Ты не слышал о колонии в Сент-Айвз, Макс? Помнишь Барбару Хепворт и ее компанию? Трелони-хаус расположен недалеко, но это совсем разные вещи.
— Хепворт, — произносит Файнстайн так, будто пытается вспомнить лицо старого приятеля. — А, точно.
Он начинает подробный рассказ о том, как однажды выставил работу Хепворт на аукцион и был нагло обманут покупателем, звонившим из Панамы. Джим не вслушивается в слова Файнстайна; он смотрит на Еву — та, держа бокал за ножку, вежливо наклоняет голову в сторону рассказчика.
Он видел: портрет потряс ее. Ева остановилась у этой работы и смотрела на нее не в силах оторваться. Стоило предупредить ее заранее. Джим хотел сказать еще на дне рождения Антона, когда они поднялись с кровати (чудо, что никто их не застал) и он сунул Еве в руку приглашение на выставку. Но Джим промолчал. Возможно, ему хотелось поразить ее, донести с помощью портрета — «Читающая женщина» была самой большой работой из представленных, — как много она значила для него тогда и по-прежнему значит сейчас. При первой же возможности Джим подошел и встал рядом с Евой у картины.
— Помнишь, я однажды нарисовал тебя?
Она ответила не сразу.
— Да. Конечно, помню.
Сейчас в ресторане Макс Файнстайн смотрит на Еву, и лицо его расплывается в улыбке узнавания.
— Вы же замужем за этим актером! Как его — Дэвид Кертис? Слышал, он поселился в Лос-Анджелесе. О чем он думает, оставляя в одиночестве такую женщину, как вы?
За столом воцаряется тишина, даже Прю выглядит растерянной. Но Ева спокойно отвечает:
— Я вовсе не одинока, мистер Файнстайн. Наши дети со мной, и Дэвид приезжает, когда может. Но с вашей стороны очень любезно волноваться за меня. Благодарю вас.
Файнстайн не чувствует иронии и благосклонно кивает, а Прю быстро меняет тему разговора; но Джим видит — Еве неприятно происходящее, и начинает жалеть, что пригласил ее на этот ужин. Его собственная совесть тоже нечиста: он ощущал дискомфорт вчера, когда звонил в Трелони-хаус (там наконец установили телефон) и слушал рассказ Хелены о прошедшем дне, о том, как Софи расправилась со своим обедом и как все смеялись над ней, перепачканной едой и сияющей от счастья.
— Возвращайся скорее, Джим, — сказала она. Джим думает о Софи, подвижной не по возрасту, похожей на мать простоватыми правильными чертами лица, и на мгновение ему становится страшно, что Стивен расскажет Хелене о Еве, посетившей выставку и присоединившейся к ним за ужином. Но он все равно благодарен Еве за то, что она пришла, и не собирается отказываться от задуманного.
После десерта Стивен предлагает всем дижестив, но тут Ева встает и извиняется:
— Благодарю за чудесный вечер, но мне уже пора.
Джим провожает ее. Они молча выходят на Уайт-Хорс-стрит. Там он останавливается и обнимает Еву.
— Прости, если пришлось нелегко. Но я не мог отпустить тебя.
Она прижимается щекой к его груди; голос звучит сдавленно.
— Знаю. Я тоже не хотела уходить. Но как же тяжело притворяться!
Джим берет Еву за подбородок и приподнимает ее лицо. Он полюбил эту женщину, когда впервые увидел возле велосипеда с проколотой шиной, любил все годы в Кембридже и продолжает любить сейчас.
— Поехали со мной. — Он наклоняется и целует Еву. — Я найду какое-нибудь жилье. Твои родители могут посидеть с детьми.
Ева отводит взгляд и оборачивается в сторону Пикадилли, где бежит бесконечная череда такси и громко пыхтящих автобусов, а вдали колышутся на ветру деревья в Грин-парке.
— Я не знаю, Джим. Правда, не знаю.
Он не говорит ни слова, но не представляет, как переживет расставание с Евой во второй раз, хотя, разумеется, переживет. Люди преодолевают одиночество каждый день. Думают, что им это не под силу, однако секунды сменяют друг друга, превращаясь в часы, дни и недели, а они все еще живы. По-прежнему одиноки, даже когда находятся посреди толпы. Даже если рядом с ними любимый человек или ребенок.
Но сейчас Джим не одинок. Ева глядит на него.
— Да, хорошо. Позвони мне, когда все устроишь. Скажешь, куда приехать.
Он целует ее вновь.
— Да. Как только все сделаю. Ты знаешь, я так и поступлю.
Ева поворачивается и уходит, Джим провожает ее взглядом до тех пор, пока она не исчезает за углом. Затем возвращается в ресторан, где Стивен заказал бутылку десертного вина, а Файнстайн рассказывает о своем доме в Майами.
— Видели бы вы тамошних женщин — ничего подобного нигде на свете нет!
Стивен поглядывает на Джима с любопытством, а Прю избегает смотреть ему в глаза, но Джиму все равно: он думает только о том, когда снова увидит Еву. Все годы, прожитые без нее, будто не имели ни формы, ни цвета, прошли словно во сне, и лишь теперь Джим вспомнил, что значит бодрствовать.
Версия первая
Ожидание Бристоль, сентябрь 1972
Ева просыпается ранним субботним утром.
Она спала плохо, как и ребенок внутри. Ева несколько часов пролежала без сна, сложив руки на животе, ощущая его пинки и ожидая момента, когда серый утренний свет начнет пробиваться сквозь створки жалюзи. Наконец стрелки будильника, стоящего у изголовья, приближаются к семи, и Ева грузно встает с кровати. (При ее теперешних размерах мало что удается делать элегантно.) Джим спит не шевелясь. На двери она обнаруживает теплый халат, заботливо оставленный Синклером, и накидывает тот поверх ночной сорочки. В соседней комнате — кабинете с идеальными рядами скоросшивателей на самодельных полках — поперек раскладной кровати лежит на спине Дженнифер и смотрит загадочные сны.
Спустившись на кухню, Ева наливает воду в чайник, находит банку с растворимым кофе и насыпает его в кружку. Кухня, оснащенная по последнему слову техники, производит впечатление стерильной, как и остальные помещения в доме. В воздухе витает легкий аромат дезинфицирующих средств. Впервые навещая Вивиан и Синклера, Ева удивилась непритязательности здания — только что построенного, стоящего рядом с шестью другими точно такими же домами. За ними тянулись бесконечные поля, и лишь один ряд молодых низкорослых деревьев виднелся на горизонте. Можно было подумать, что Вивиан специально выбрала самый неброский пейзаж, желая стереть из памяти годы, проведенные в чудесном старом доме с каменными полами, розовыми кустами в саду, мастерской на чердаке, и ту часть своей жизни, которая прошла среди былого величия георгианской эпохи в темной квартире в Клифтоне, где по углам остро пахнет плесенью. Но, как выяснилось, на самом деле дом выбрал Синклер.
— Нам нравится то, что он новый. Как будто старая жизнь закончилась.
Ева понимала, о чем говорит Синклер — у него тоже имелся брак за плечами. Они с Вивиан познакомились, когда она зашла узнать состояние своего счета в банк, а Синклер, служивший там клерком, с неожиданной для него смелостью предложил сделать это за обедом. Синклер сед, стрижется очень коротко, и в целом внешность его непримечательна — из тех, какие сложно удержать в памяти.
После знакомства с Джимом Синклер позвонил ему и сказал, что имеет серьезные намерения в отношении Вивиан. Он внимательно изучил ее историю болезни и собирался теперь добиваться, чтобы врач назначил Вивиан лекарство, которое недавно прошло первые испытания.
— Я уверен, вы согласитесь, — сказал Синклер тем спокойным, взвешенным тоном, которым сообщал клиентам об отмене кредита по текущему счету, — что новый препарат лучше шоковой терапии.
Ева видела, что муж не вполне понимает, как относиться к Синклеру. Казалось, появление этого человека в жизни матери и тот факт, что теперь она подчиняется ему, не слишком нравились Джиму. Но в то же время он испытывал облегчение. Синклер рано вышел на пенсию и стал заботиться о Вивиан, до этого целиком зависевшей от Джима и своих сестер. И когда лечащий врач наконец прописал новое лекарство, состояние Вивиан изменилось словно по волшебству.
Все, и Ева в первую очередь, радовались тому, что чудовищные перепады настроения остались в прошлом — хотя Еве обретенное свекровью спокойствие чем-то напоминало этот дом, стерильно чистый и абсолютно заурядный.
Чайник вскипел. Ева наливает воду в кружку, наблюдает, как растворяются гранулы кофе. Они приехали вчера вечером позже, чем планировали: Ева хотела закончить последнюю порцию правки, чтобы в понедельник отослать своему редактору. Дверь им открыла Вивиан. Она тараторила, не давая никому вставить ни слова, пока Джим и Синклер переносили вещи из машины, а Ева помогала Дженнифер снять пальто, пытаясь уследить за потоком слов свекрови. Когда все уселись за приготовленный Синклером поздний ужин, Вивиан не могла оставаться на месте ни секунды. Даже Дженнифер, с трудом уместившись на коленях у матери, — ей давно пора было спать, но у Евы не нашлось сил пререкаться с дочерью — спросила громким шепотом, когда Вивиан вышла ненадолго из-за стола:
— Почему бабушка такая странная?
Ева и Джим не смогли поговорить с Синклером о переменах в состоянии матери: когда они отправились спать, та еще не ложилась. И пока Ева не погрузилась в тревожный неглубокий сон, она представляла, как несчастный Синклер, еще не оправившийся от недавнего гриппа, убеждает Вивиан лечь.
— Уже встала?
Ева рассеянно размешивает кофе, стоя у кухонного стола. Она оборачивается на голос: Синклер, полностью одетый, улыбается в дверях.
— Я думал, ты поспишь подольше.
— У меня сейчас со сном не очень.
Он переводит взгляд на ее живот.
— Вот старый дурак, совсем забыл. Уже скоро, верно?
— Через месяц, если все пойдет по плану.
— Так оно несомненно и будет.
Синклер подходит к Еве и мягким движением забирает у нее ложку.
— Садись, пожалуйста, дорогая, а я сделаю завтрак. Съешь что-нибудь?
Ева позволяет Синклеру усадить себя и начать суетиться вокруг, предлагая тосты, апельсиновый сок и яйца. В ее романе с недавно придуманным названием «Под давлением» — действие происходит в редакции газеты, очень напоминающей «Ежедневный курьер», — есть персонаж, отчасти срисованный с Синклера: Джон, редактор отдела писем, мягкий человек, которого трудно полностью оценить с первого взгляда. Этот герой очень нравится ее редактору Джилли, хотя та и предложила Еве придать его характеру чуть больше твердости. Но роман на самом деле о четырех абсолютно разных женщинах: среди них есть и неглупая юная секретарша, мечтающая стать репортером, и театральный критик, заядлая курильщица, меняющая одного неудачного любовника на другого.
— Отлично получилось, Ева, — сказал Джим, прочитав первый вариант. — Все на месте. Настоящая работа.
Похвала мужа, сумевшего преодолеть то, что еще недавно разделяло их, привела Еву в восторг, и она поцеловала его, впервые за много месяцев чувствуя себя счастливой.
— Спасибо тебе, — сказала Ева. — Для меня это много значит.
Он поцеловал ее в ответ, и внезапно они как будто вновь оказались в старом пабе на Грантчестер-роуд, где строили планы на будущую совместную жизнь, — и Ева даже не вспоминала о Дэвиде, вновь и вновь целуясь с Джимом, пока хозяин заведения не предложил посетителям сделать последний заказ и освободить помещение.
— Интересно, Ева, — говорит сейчас Синклер, поставив перед ней тарелку с тостами и налив себе кофе, — что тебя волнует больше — будущий ребенок или твой роман?
— Роман, конечно.
Она намазывает масло на тост и поднимает глаза, чтобы увидеть, оценил Синклер ее шутливый ответ или нет. Шутливым он был лишь отчасти, если честно. Ребенок, пусть и долгожданный, — это подарок судьбы, которого с особым нетерпением ожидает Джим. Он избавился от тоски, пожиравшей его еще год назад, и вложил всю свою энергию в то, чтобы переоборудовать кладовку на втором этаже в детскую — так Дженнифер могла остаться в собственной комнате.
Джим уже не притворяется, будто уходит работать в свое убежище (даже Ева перестала называть сарай мастерской), но никаких эмоций по этому поводу, если верить ему, не испытывает; наоборот, он счастлив, что не надо заставлять себя проводить там столько времени после занятий в школе. Ева, напротив — хотя ни с кем, кроме Пенелопы, своими переживаниями она не делилась — пыталась сопротивляться беременности, бороться с тем убаюкивающим состоянием заторможенности, которое охватывало ее и мешало работать над романом. Она надеется, что скоро все закончится. В понедельник она отправит редактору окончательный вариант и всю себя посвятит ожиданию ребенка.
На несколько минут в кухне воцаряется тишина: Ева доедает тосты, Синклер пьет кофе. Слышно, как наверху ворочается Дженнифер. Ева ждет, что сейчас раздастся тихий плач дочери, но все тихо.
Первым заговаривает Синклер:
— Я немного тревожусь из-за Вивиан. Ты видела, насколько она…
Ева кивает, ничего не говоря: откровенность Синклера удивляет.
— Наверное, виноват этот проклятый грипп. Она ведь тоже переболела.
— Да, похоже.
— Думаю, стоит переговорить с ее врачом. Конфиденциально. Может быть, он объяснит, в чем дело.
Синклер смотрит в стол. Ева внезапно хочет дотронуться до него и берет его руку в свои ладони. Он поднимает голову и удивленно глядит на Еву.
— Я понимаю, как вам тяжело.
Синклер прочищает горло, отвечает Еве легким пожатием и высвобождает кисть.
— Не слишком. В чем суть семейной жизни? Принимать все — и радости, и горести. Так, по крайней мере, должно быть.
Сверху, приглушенный ковром, доносится плачущий голос Дженнифер:
— Мамочка…
— Я пойду к ней, — говорит Ева.
Поднимаясь по лестнице, она повторяет про себя услышанное. «И радости, и горести…» Вот уже несколько лет последнего с избытком хватало в жизни; иногда Ева сомневалась в их с Джимом способности справиться со всем этим. Она верила в их взаимную любовь, но порой казалось: этого недостаточно. Что ж, ее страхи были напрасны: трудные, бурные времена позади, и Ева может теперь оглядываться на них из той тихой гавани, куда зашел корабль их семейной жизни.
В кабинете Синклера четырехлетняя Дженнифер — Еве кажется, дочь беспокоится из-за скорого появления брата или сестры, — скинула пижаму и стоит у двери вся красная и в слезах.
— Мамочка… — Дженнифер плачет навзрыд, ее интонации внезапно напоминают Вивиан. — Ты не пришла!
— Вот она я, дорогая, — произносит Ева успокаивающе. — Я просто спускалась на первый этаж.
Дженнифер недовольно смотрит на мать; глаза опухли от слез.
— Мне здесь не нравится. Я хочу домой.
Ева подходит к дочери и целует ее в макушку.
— На самом деле не хочешь, Дженнифер. Сейчас нужно позавтракать. Спускайся, и дедушка Синклер тебя накормит.
Она помогает Дженнифер надеть халат и любимые тапочки с Микки Маусом, подаренные когда-то Пенелопой и Джеральдом и способные положить конец любым пререканиям.
— А у дедушки Синклера есть хлопья? — с надеждой спрашивает Дженнифер.
— Думаю, да, — отвечает Ева. Когда они выходят на площадку, из спальни появляется Джим, зевающий и растрепанный.
— Доброе утро, — говорит он, сонно улыбаясь. — А кто меня поцелует?
— Папочка!
Дженнифер бросается к отцу и обнимает его за ногу; Джим поднимает девочку, и они прижимаются друг к другу носами — их особое приветствие. Ева смотрит на мужа и дочь, мысленно благодаря того, кого следует благодарить в таких случаях, за то, что им с Джимом удалось — она знает это наверняка — преодолеть трудные времена в семейной жизни, став терпимее, сильнее и лучше, чем прежде.
Версия вторая
Париж, Монмартр Ноябрь 1972
У Евы появилась привычка работать по утрам в кафе на Пляс дю Тертр.
Вначале ее это очень смущало: казалось нарочитым сидеть с блокнотом и ручкой в кафе, где полвека назад столько знаменитых писателей пили анисовую настойку. Ева ярко представляла, как Эрнест Хемингуэй хлопает ее по плечу со словами:
— Мадам, полагаете, вы в состоянии написать хотя бы одну настоящую фразу? А вы сможете ее узнать, когда та укусит вас за ногу?
Она поделилась своими сомнениями с Тедом, но тот лишь расхохотался.
— Ева, дорогая, ну когда ты уже привыкнешь к тому, что можешь с полным правом называть себя писателем?
Ева рассмеялась вслед за ним, почувствовав его правоту: литература сейчас стала для нее единственной работой, хотя доходы от первой книги не совпали с ее ожиданиями, а работу над второй она забросила. Через несколько месяцев после этого Ева приступила к третьему роману — о женщине средних лет, которая внезапно решает оставить своего вполне благополучного мужа, переехать в Париж и начать новую жизнь.
— Не слишком автобиографично? — спросила она как-то за ужином у Теда, пересказав ему сюжет.
Вопрос его слегка встревожил.
— Нет, конечно, — сказал он. — В конце концов, ты переезжаешь в Париж не одна. Или есть что-то, о чем мне надо знать?
Ева начала новую книгу еще в Лондоне, и дело пошло быстро, вдохновенно, но вскоре работа затормозилась. Вначале Евины оправдания выглядели убедительными: свадьба (малолюдная, со вкусом организованная церемония в городской церкви в Челси, куда были приглашены только родственники и близкие друзья, и последовавший за этим отличный обед в Реформ-клубе); переезд в Париж, со всей сопутствующей укладкой и распаковкой вещей. Устройство Сары в новую школу. Время, ушедшее на то, чтобы приспособиться к жизни в незнакомом городе. Но все, чем она пыталась отговориться потом, — косметический ремонт в квартире, предоставленной «Ежедневным курьером», попытки Сары завести новых друзей — было незначительным, даже с точки зрения самой Евы. Правда заключается в том, что она не знает, куда двигаться дальше. А кафе, где тебя постоянно что-то отвлекает — жужжание кофемашины, позвякивание колокольчика над дверью, ровный гул разговоров, понятных только наполовину, — отличное место, где можно спрятаться от осознания этого факта.
Пятничным утром Ева сидит на своем обычном месте за столиком у окна. Она неторопливо выпивает два кофе латте и съедает круассан, отрывая от него кусочки и намазывая их маслом и джемом. На площади полно художников в пальто и перчатках с обрезанными пальцами — они сидят за своими мольбертами, пытаясь продать праздношатающимся туристам картины в стиле Пикассо, Дали и Матисса. Как всегда, в одиннадцать за окном появляется старуха в пальто с кроличьим воротником. В двенадцать Ева встает, засовывает блокнот в сумку, надевает пальто, оставляет чаевые рядом со счетом на металлическом блюдце, открывает дверь и вдыхает свежий парижский воздух.
За три часа в кафе написано ровно два абзаца. «Я превратила ничегонеделание в искусство», — думает она, подходя к небольшому гастроному на углу. Затем задумывается о более приятных вещах, например, о сегодняшнем приезде Пенелопы и Джеральда вместе с детьми. Их поезд приходит на Северный вокзал. Они замечательно проведут выходные вместе, и Ева вновь осознает, как ей повезло, что у нее есть Сара, и Тед, и верные друзья.
В магазине она покупает сыр, ветчину, оливки, йогурт, две бутылки красного вина и длинные твердые багеты, которые все еще не научилась любить, как настоящий английский хлеб, выпеченный из австрийской ржи, столь милой сердцу ее родителей. У овощного прилавка Ева лицом к лицу сталкивается с Жозефиной Сент-Джон, чей муж Митч, корреспондент «Джералд трибюн», делит с Тедом кабинет в Доме иностранной печати. Жозефина — неглупая, дружелюбная уроженка Бостона, вышедшая замуж за Митча сразу после окончания Гарварда и с тех пор путешествующая с ним по миру, — стала Еве подругой. Женщины стоят, обмениваясь новостями, почти до часа дня, и тут Ева спохватывается: ей уже пора, в обед она ждет Теда дома.
Жозефина поднимает брови и дважды целует подругу на прощание.
— Да вы настоящие молодожены! Ничем не могу заманить Митча домой на обед.
Но выясняется, что Тед прийти не сможет. Когда Ева входит в квартиру, раздается телефонный звонок: ему надо сдать материал в завтрашний номер — и Еве, если она не против, придется самой забрать Сару из школы, встретить Пенелопу с семейством на вокзале и на такси привезти всех домой. Она, естественно, справится с этим — но Тед все равно извиняется и обещает вечером ужин в «Максиме».
Положив трубку, Ева в который раз удивляется разнице между своим первым и вторым браком. С Тедом всегда легко, он в первую очередь думает о ней, даже когда обязан ставить во главу угла свою работу; с Дэвидом же она постоянно мучилась из-за его нарциссизма и вечного вмешательства свекрови, которая указывала, что и как надо делать. Хотя Джудит Кац поразила Еву, появившись на пороге квартиры в Риджентс-парке через несколько дней после отъезда Дэвида. Тогда боль еще была остра, и Сара непрерывно спрашивала, скоро ли вернется папа.
Джудит принесла еду в пластиковых контейнерах — куриный бульон, русский салат, пастуший пирог.
— Мне кажется, вам это не помешает, — сказала она и неожиданно обняла Еву, чем едва не довела ту до слез.
— Ева, дорогая, хочу, чтобы ты знала: мне за него чрезвычайно стыдно. Что касается этой женщины, то ни я, ни Абрахам никогда не будем иметь с ней ничего общего.
Ева ответила, что, если Дэвид и Джульет поженятся, как, похоже, и собираются сделать, ни у кого не останется выбора. Джудит, проходя в кухню со своими судками, согласно кивнула:
— Думаю, ты права, — на лице ее отразилось неприкрытое огорчение, и Ева мгновенно поняла: свекровь сама нуждается в утешении.
— Джудит, не беспокойтесь по поводу общения с Сарой. Она обожает вас обоих. Вы и Абрахам сможете видеться с ней так часто, как вам захочется.
«Сейчас, конечно, это не так просто», — думает Ева, хозяйничая на своей парижской кухне, раскладывая покупки, нарезая на тарелки сыр, ветчину, помидоры. Но Джудит и Абрахам, к ее удивлению, нисколько не возражали, когда она сообщила им о Теде и предстоящем переезде в Париж.
— А в Париж, — со свойственным ему добродушием немедленно отозвался Абрахам, — мы будем приезжать так часто, что ты еще от нас устанешь.
Действительно, они уже дважды прилетали на выходные — останавливались в хорошей гостинице на Сите[14]; с Тедом держались вежливо, даже дружески. Все прошло намного лучше, чем Ева могла ожидать, и ее нелюбовь к Джудит сменилась смутной приязнью.
В квартире прохладно, хотя двери закрыты и газовый обогреватель включен: Ева относит поднос с едой в гостиную, накидывает на плечи шаль и открывает ставни, впуская в комнату слабый свет зимнего дня, шум машин и крики школьников, выскочивших на улицу в большую перемену.
Тед сложил сегодняшние газеты на столе: предпочитает, чтобы почту доставляли домой, а не на работу. Он внимательно читает их: вначале французские, затем английские и, наконец, «Уолл-стрит джорнэл» и «Джералд трибюн». Ева ограничивается британскими изданиями, выискивая материалы знакомых, а по субботам — свои собственные; Боб Мастерс по-прежнему присылает ей на рецензию два-три романа в месяц. Ева берет «Ежедневный курьер», лежащий в стопке сверху, и за едой просматривает основные статьи: последствия победы Никсона; шестеро погибших в результате взрыва бомбы, заложенной ИРА. А затем в глаза бросается первый заголовок в разделе культуры: «Джим Тейлор: вдыхая новую жизнь в искусство портрета».
Ева перестает листать газету. Вспоминает лицо Джима в тот момент, когда отказалась принять приглашение на ужин и ушла, оставив его на ступеньках галереи на Корк-стрит. Он выглядел на удивление молодым и каким-то потерянным. Потом прислал ей на адрес «Ежедневного курьера» открытку: «Спасибо большое за то, что пришли на выставку. Я желаю вам всяческого счастья — вы его более чем заслуживаете. Д.»
На лицевой стороне изображалась одна из скульптур Барбары Хепворт: овальной формы камень (называлась она «Овал № 2») с двумя аккуратными отверстиями, будто проеденными термитами. Ева несколько минут рассматривала открытку в поисках скрытого смысла — кроме того, разумеется, что Хепворт имела отношение к Сент-Айвз, — но не нашла. Похоже, Джим умышленно выбрал нечто, не несущее смысловой нагрузки. Наверное, хорошо, что он так сделал, — Ева заволновалась, получив эту открытку, хотя и засунула ее потом на самое дно ящика письменного стола. Там ей и суждено оставаться, лишь изредка напоминая Еве об их с Джимом взаимном притяжении. Она уже ответила Теду. А Джим… что ж, у него своя семья. Своя жизнь.
В два часа Ева убирает посуду после обеда, затем быстро осматривает квартиру, взбивает подушки, стелет свежее белье в гостевой комнате, где поселятся Пенелопа и Джеральд; в комнате Сары она поставила двойную раскладушку для Адама и Шарлотты. Затем надевает пальто, находит шарф и перчатки и отправляется на улицу.
Международная школа, в которой учится Сара, совсем недалеко от их дома. Ева обнаруживает дочь на игровой площадке в компании еще двух девочек, склонивших друг к другу свои головки так, что светлые волосы мешаются с каштановыми. Ева не хочет их прерывать — Сара только-только начала заводить здесь друзей, — но дочь поднимает глаза, видит ее, и начинаются долгие девичьи прощания.
Они берут такси до вокзала: поезд прибывает через полчаса, а Саре много задали на выходные, и ее ранец набит учебниками.
— Девочки, с которыми ты разговаривала, выглядят милыми, — говорит Ева, усаживаясь на заднее сиденье. — Наверное, стоит позвать их в гости?
— Может быть.
Сара передергивает плечами. Глядя на ее резкость, Ева внезапно видит, какой будет дочь, когда вырастет, и одновременно она вспоминает себя в таком же возрасте. Она обнимает Сару за плечи.
— Ты чего? — говорит Сара, но она все-таки еще ребенок, поэтому откидывается и кладет голову матери на плечо.
— Просто так, — отвечает Ева, и они едут, рассматривая пробегающий мимо город: светлые фасады домов, яркие пятна витрин, базилику Сакре-Кер на вершине холма.
Версия третья
Интервью Корнуолл, февраль 1973
Интервьюер оказалась совсем не такой, как ожидал Джим.
Солидная женщина средних лет, интеллигентного вида, коротко стриженная, одетая в темно-синие брюки и гарнитур из светло-желтого джемпера и жакета в тон. Джим наблюдает из окна, как гостья паркует машину возле дома, а выбравшись из нее, оглядывается вокруг с нескрываемым любопытством. Джим выходит на улицу, здоровается с ней за руку. Она внимательно рассматривает его маленькими голубыми глазками из-под густых седеющих бровей.
— Энн Хьюитт. Вы думали, я окажусь моложе?
Джим улыбается, сбитый с толку этим вопросом.
— Возможно. А вы, уверен, ожидали, что я выгляжу лучше.
Энн Хьюитт вскидывает голову и на мгновение задумывается, стоит ли принимать этот шутливый тон.
— Вероятно.
Джим ведет ее на кухню, ставит чайник.
Хелена приготовила печенье, поставила в вазу букет цветов. С раннего утра она убирала в доме, мыла, подметала, наводила порядок, а потом уехала.
— Она не риелтор, Хелена, — сказал Джим, — на нее не надо производить впечатление.
Хелена посмотрела на него недоверчиво.
— Надо, Джим. И ты дурак, если думаешь иначе.
— Никого нет дома? — спрашивает Энн Хьюитт, стоя перед расписанием дежурств по хозяйству.
Теперь в Трелони-хаус жильцов стало меньше; Финн и Делия уехали в прошлом году после того, как Говард обвинил Делию в краже денег из общей кассы — на покупку марихуаны. Обязанности оставшихся расписаны, как всегда, скрупулезно. Это делает жизнь в доме подобной бегу белки в колесе, и Джима начинает угнетать существующий порядок вещей. Честно говоря, он уже давно его угнетает.
— Боюсь, никого. В Сент-Айвз сегодня рыночный день. У нас там есть стенд.
Он наливает кипяток в кружки, находит молоко.
— Вам с сахаром?
— Нет.
Она достает из сумки небольшой блокнот и карандаш, переворачивает первую страницу. Джим следит за быстрым бегом грифеля по бумаге, ставит кружку с кофе на кухонный стол и пытается вообразить, каким видит это помещение Энн Хьюитт. Старинная плита, очень ненадежная — даже в морозные дни порой приходится обходиться без горячей пищи. Занавески, собственноручно сшитые и покрашенные Джози, остро нуждаются в стирке. Батарея пустых винных бутылок на комоде, собранная там Саймоном, — он создает скульптуры из битого стекла (когда ему заблагорассудится встать с постели). Джим внезапно преисполняется благодарностью к Хелене и стыдом за то, что упрекал ее, — а ведь она заботилась о нем, обо всех них. Но в последнее время Джим часто чувствует себя виноватым перед Хеленой и уже к этому привык.
Он делает глоток из кружки с чаем.
— Пойдем в мастерскую?
— Хотела спросить…
Энн Хьюитт улыбается, не разжимая губ.
— Может быть, пока никого нет, разрешите посмотреть, как вы здесь живете?
Джим колеблется. Стивен Харгривз настаивал на том, чтобы он давал интервью дома:
— Журналистам важно посмотреть место, где ты работаешь, Джим, — тут нет ничего постыдного.
Но Говард пришел в ярость и не дал своего разрешения. Пришлось спокойно напомнить Говарду, что тот ему не отец и не имеет права что-либо запрещать, а в Трелони-хаус Джим живет уже пять лет, это и его дом тоже.
— Я, черт побери, действительно не твой отец, — рявкнул Говард в ответ. — Но будь он жив, сказал бы то же самое — ты художник, а не чертова знаменитость! А ты, похоже, забыл разницу между двумя этими понятиями.
Они не разговаривали несколько дней — хотя в последнее время подобное случалось сплошь и рядом. Первым заговорил Говард:
— Если ты настаиваешь, чтобы эта женщина приехала сюда, ради бога. Но не пускай ее дальше кухни и мастерской. Не позволяй слоняться по дому, совать всюду нос и судить о нашей жизни. И пусть приезжает в рыночный день. Мне неохота сидеть с вами и поддерживать светскую беседу.
«Будь проклят этот Говард, — думает сейчас Джим. — Вместе с его зацикленностью на себе и мелочными правилами».
— Хорошо, — говорит он вслух. — Полагаю, вам понравится.
Позднее Джим задавался вопросом — о чем он думал, когда показывал Энн Хьюитт комнату за комнатой — словно чертов риелтор — и отвечал на ее вопросы, такие вежливые и невинные.
— А кто здесь живет? Ах, ваша дочь Софи — а где она спит?
Он даже открыл дверь в спальню Джози и Саймона: они не отдернули безвкусно раскрашенную простыню, служившую занавеской на окне, и комната, пропитанная сладким запахом марихуаны, была погружена в полутьму.
Имелось одно-единственное обстоятельство, которое могло служить Джиму оправданием, но им нельзя было ни с кем поделиться — в тот момент он думал о Еве. Она занимала его мысли, как, впрочем, и все последнее время — особенно этим утром, за несколько часов до момента, когда их встреча из мечты вновь станет реальностью.
Поэтому сейчас по дороге в мастерскую Джим не придает значения своим словам, почти не замечает, что записывает Энн Хьюитт в блокноте. В мастерской, по крайней мере, прибрано, все вычищено и расставлено по местам. Говард даже позволил Кэт подмести опилки и аккуратно разложить инструменты.
За разговором время проходит незаметно: когда раздается стук в дверь, кажется, прошли часы, возможно, даже дни. Джим внезапно вспоминает: этот условный стук, на котором настоял Говард, означает, что время интервью истекло. И Джиму тоже скоро уезжать.
Он провожает Энн Хьюитт до машины, где Энн жмет ему руку и благодарит за уделенное ей время.
— У вас тут очень интересно, — говорит она, садясь за руль. — Я уверена, наши читатели будут в восторге.
Джим машет журналистке на прощание, не обратив внимания на ее последние слова. Он не будет вспоминать об Энн Хьюитт несколько недель, пока газетный номер с ее статьей не ляжет на кухонный стол, произведя эффект разорвавшейся бомбы.
Джози приготовила на обед омлет по-испански. Джим садится к столу и ест, а на вопрос, как прошло интервью, отвечает уклончиво:
— По-моему, нормально.
Софи взбирается к отцу на колени, и он кормит малышку омлетом, хотя и чувствует раздражение Хе-лены: она считает, что Софи должна есть самостоятельно. Но Джиму нравится сидеть вот так, уткнувшись носом в головку дочери и вдыхая сладкий запах детских волос.
Чувство вины перед Софи еще сильнее, чем перед Хеленой, избавиться от него непросто. Это вина за то, что она растет здесь. Колония когда-то представлялась Джиму самим воплощением свободы, но теперь уже не кажется подходящим местом для ребенка. Софи два с половиной года, она становится требовательной и беспокойной: по ночам часто выбирается из кроватки и начинает с плачем бродить от комнаты к комнате, пока Джим — а чаще Хелена — не проснется и не устроит дочь под своим одеялом. И вокруг множество опасностей: ножи, оставленные на ночь на кухонном столе, крутой обрыв утеса, страшные острые камни под ним.
До недавнего времени девочке разрешалось заходить в мастерскую: но однажды в январе она запустила руки в масляные краски Джима и оставила разноцветные отпечатки на одной из деревянных скульптур Говарда. Джим счел это забавным и милым, но Говард явно придерживался другого мнения.
— Кто-нибудь собирается присматривать за этим чертовым ребенком? — рявкнул он, и его мясистые щеки побурели от гнева. — Она тут скачет, как дикий индеец.
Софи лишилась доступа в мастерскую, и это означало, что теперь Джим или Хелена (хотя Кэт и Джози тоже приходили на помощь, когда могли) должны были приглядывать за ней. Чаще всего эта обязанность ложилась на Хелену. Она почти перестала рисовать после рождения Софи. Это мучает Джима — не говоря о том, что уже два года он прижимает к себе дочь со всей возможной любовью, а затем отрывается от нее и уезжает к женщине, которую любит не меньше. И та женщина вовсе не мать Софи. Сегодня Джим уедет рано, но так, чтобы не вызвать подозрений. Софи выбегает на улицу проводить его, и Хелена придерживает девочку, не давая попасть под колеса.
— Ты вернешься завтра? К ужину?
— Да, к этому времени.
Он целует ее и наклоняется поцеловать Софи — та уже морщит лицо, готовясь заплакать. Разворачивая машину и выезжая на дорогу, он видит жену и дочь в зеркале заднего вида. Софи рыдает, колотя кулачками по ноге матери. Джим размышляет, не стоит ли ему вернуться. И едет дальше, наблюдая, как две фигуры уменьшаются, пока не исчезают совсем.
В Бристоле Джим около часа проводит у матери и Синклера. Говорит им то же, что и Хелене: в Лондоне ему надо встретиться со Стивеном, обсудить организацию выставки в следующем месяце. Страшно подумать, сколько раз уже использовался этот предлог — Стивен, разумеется, все знает, — но ни Вивиан, ни Синклер не проявляют особого интереса. Мать не может ни на чем сосредоточиться, ее глаза во время разговора блуждают. Синклер, когда они с Джимом ненадолго остаются одни, признается, что его беспокоит состояние Вивиан, у нее опять начались перепады настроения.
— Значит, надо снова показать ее врачу. Как можно скорее. — Джим говорит озабоченно, но втайне стыдится того равнодушия, с которым воспринимает это известие. Все, что его занимает сейчас: как бы уехать поскорее.
К семи вечера Джим добирается до «их» отеля — он называет его так, хотя они встречались там лишь пару раз. Они редко могут позволить себе такую роскошь, как целая ночь вдвоем.
Он находит Еву в баре: она пьет джин с тоником и смотрит на серый морской простор.
Когда Ева оборачивается на звук его шагов, Джим чувствует, будто внутри у него что-то взрывается: он слишком давно ее не видел и сейчас испытывает эйфорию. Это сродни наркотическому опьянению — видеть ее лицо и знать, что на целую ночь и несколько коротких утренних часов Ева принадлежит ему.
Версия первая
Остров Греция, август 1975
По пути из Афин они сидят на верхней палубе парома, в глубине, точно так, как в свой первый приезд. Краски, яркие, словно на фотографии, сделанной «никоном», остались теми же, что и в памяти Джима: синяя глубина моря, удаляющаяся бледно-желтая суша, лазурная высь неба.
Закрыв глаза, он подставляет лицо солнцу. Шум двигателей, похожий на урчание огромного добродушного животного, позволяет не слышать других пассажиров — сидящая рядом американка вслух читает ребенку сказку доктора Сьюза[15], греческая семья перекусывает пирогом со шпинатом и мягким сыром «фета». Он берет Еву за руку, вспоминая их медовый месяц: тогда все было внове, все еще было впереди. Она носила бело-голубое платье, а на загорелых ногах — белые сандалии.
— То платье сохранилось? — не открывая глаз, спрашивает Джим.
— Какое?
— Которое ты носила в медовый месяц. Бело-голубое. Я давно его не видел.
— Нет.
Ева высвобождает руку. Судя по звукам, она копается в глубинах своей сумки.
— Я отдала его Дженнифер для благотворительного базара в школе. Ему было лет двадцать.
Паром приближается к берегу, и Джим с Евой вместе с другими пассажирами выстраиваются на носу; они вновь испытывают какой-то детский восторг при виде острова. Полуразрушенная пожарная вышка на входе в бухту, пологие холмы, у подножия которых стоит городок, — неожиданно зеленые после иссушенных зноем афинских улиц.
В прошлый раз они встретили на пароме одного афинянина, и тот отпустил шутку, поражая знанием крепких английских выражений:
— Говорят, когда господь бог создавал Афины, он испражнялся бетоном.
А вот и сам городок — дома, амфитеатром поднимающиеся от гавани; купол церкви; бар и таверна у пристани, где под вечер собираются старики, чтобы поиграть в нарды.
Джим помнит местных осликов: худых, истощенных, стоящих на улице под полуденным солнцем; его это зрелище расстраивало, а Ева, на удивление, спорила с ним, утверждая, что не надо мерять других по себе. Но теперь осликов не видно, а город разросся: верхние ярусы заполонили новые дома, некоторые из них еще не достроены, и арматура торчит из бетонных блоков; баров и таверн стало заметно больше. Прямо у причала в тени полосатого навеса пара в белых одеждах пьет коктейли под песню Элтона Джона, доносящуюся из открытой двери бара.
Внезапно Джима посещает яркое, отчетливое воспоминание: они с Евой сидят на закате в гавани и пьют местное вино; бармен Петрос наливает узо рыбакам, чьи лица напоминают дубленую кожу. Но сейчас Петроса не видно: из дверей бара с подносом, полным коктейлей и вазочек с вишневым гляссе, появляется другой человек, молодой, мускулистый, обаятельный. Возможно, внук Петроса. Или не имеет к нему никакого отношения.
На сходнях, где они с чемоданами в руках дожидаются своей очереди, Джим обращается к Еве:
— Как же тут все изменилось!
— Неудивительно, столько времени прошло.
На причале их дожидается мальчишка с табличкой в руках — их имена написаны с ошибками. Не говоря ни слова, он грузит вещи на тележку и идет вперед. Джим и Ева следуют за ним, и Джим чувствует, как настроение падает. Это была его идея — и она казалась удачной — отметить пятнадцатую годовщину свадьбы на острове, который им так полюбился когда-то: здесь они провели неделю вдвоем, наедине друг с другом. Ева вначале колебалась: Дэниелу еще не исполнилось трех лет — рано бросать его одного надолго. Но постепенно Джим убедил ее: Дэниел останется со своей няней Джулианной (внучка Дюреров приехала из Вены четыре года назад, и теперь Джим и Ева не представляли жизни без нее). И все у них будет отлично. В конце концов Ева согласилась, при условии, что они не станут жить в той же гостинице.
— Если она изменилась до неузнаваемости, — сказала она, — это будет ужасно.
Похоже, Ева подготовилась к переменам, произошедшим с островом, лучше Джима. Он знает, что склонен к ностальгии гораздо больше жены. Именно Джим стремится запечатлеть на фотографиях события детской жизни — дни рождения, первые шаги, выход в театр, — а затем отправляет в проявку все до единого кадры и бесконечно рассматривает их. Джим полагает, что им движет чувство, когда-то побудившее его рисовать: потребность остановить мгновение, подлинное или воображаемое, прежде чем оно исчезнет. Но эти попытки кажутся ему сейчас обреченными на неудачу, идет ли речь об искусстве (абстрактная мазня, на которую он потратил столько времени, теперь не вызывает у него ничего, кроме легкого стыда и сожаления), или о семейных фотографиях. Каждый раз Джим ощущает несоответствие между своими воспоминаниями — Ева, отбрасывающая волосы с лица; Дженнифер в школьной форме, серьезная и повзрослевшая; Дэниел с хулиганской усмешкой сидящий на детском стуле — и фотографиями, разложенными на кухонном столе.
Они идут по булыжной мостовой к арендованной квартире — в местном туристическом агентстве Джим просил подыскать им жилье с балконом и видом на море — и он внезапно вспоминает афоризм из коробки печенья с сюрпризами: «Нет в жизни ничего постоянного, кроме перемен». Эта фраза звучит в его мозгу неотвязно, как заевшая пластинка, пока наконец они не добираются до места назначения, где приходят в восторг от белизны стен и прохлады закрытых ставнями комнат, красных бугенвиллей на балконе и тихого моря, блестящего под солнцем. Будто тяжелый груз спадает с плеч Джима, и он говорит себе: «Не все перемены обязательно к худшему».
Мальчик, получив свои чаевые, уходит, толкая перед собой пустую тележку, и они с наслаждением засыпают, утомленные долгой дорогой. Джим просыпается первым. По-прежнему тепло — они отворили ставни, чтобы проветрить квартиру, и задернули занавеску на балкон, — но солнце уже садится, и легкий бриз колышет кружевную ткань. Он лежит еще какое-то время, не вполне очнувшись от сна, где он играл в саду своего дома в прятки с Дженнифер и Дэниелом. Мать и Синклер тоже были там, и все спрашивали, где Ева, а он не знал. Джим переворачивается на бок, охваченный бессознательной тревогой, но Ева спокойно спит рядом, согнув руку в локте, словно машет кому-то на прощание.
Хочется прижаться к ней, почувствовать ее тепло. Пятнадцать лет назад Джим сделал бы это, не раздумывая, с одной только мыслью, как повезло ему встретить Еву, без которой теперь он не может представить свою жизнь. Сейчас он колеблется — Ева крепко спит, а Джим знает, как она устала за последнее время: два интервью лишь на этой неделе и переговоры с Би-би-си по поводу экранизации романа «Под давлением».
По мере того как приближался день отъезда, Дэниел доставлял все больше хлопот: просыпался по ночам, звал Еву и успокаивался, только забравшись к ним в постель, где начинал сопеть и ворочаться, лишая обоих родителей сна. И Джим решает дать Еве поспать. Он встает, находит пачку сигарет и выходит на балкон.
Вечер хорош: плитка на балконе нагрелась за день, вокруг разливается мягкий свет. Из стоящих ниже домов доносятся приглушенные звуки — мать зовет ребенка, смеется женщина, бойкой скороговоркой переговариваются герои идущего по телевизору мультфильма. Джим наблюдает, как небольшой катер рассекает тихие воды бухты. Его охватывает удивительное спокойствие. Джим вспоминает, что именно привлекло его когда-то в этом месте — возможность остановить поток мыслей, сосредоточиться на происходящем здесь и сейчас.
Во время их медового месяца Джим полагал, что будущее выглядит волнующим и прекрасным только потому, что он сам влюблен и счастлив. Но сейчас с удивлением испытывает то же самое. Все лишнее, вся муть минувших десятилетий отступает на второй план: годы преподавания; тяжелое разочарование из-за несбывшихся надежд; давние измены (после случая с Гретой он хранил верность жене); ревность к ее легкому успеху. Хотя его, конечно, не назвать легким, и Джим лучше прочих знал, как много она работает, — но в часы уныния не мог удержаться от мысли, что Еве все дается без труда. Все это просто испаряется, остаются лишь нагретые плитки на полу балкона, темно-синее небо и чернеющая вдали полоса моря.
Джиму хочется плакать от облегчения, но он сдерживается. Возвращается в спальню, ложится на бок рядом с Евой, прижимается щекой к ее плечу, дожидается, когда она, еще не до конца проснувшись, повернется к нему, и говорит:
— Я так рад, что мы сюда приехали.
Версия вторая
Возвращение домой Париж и Лондон, апрель 1976
Звонок раздается сразу после девяти.
Очень удачно, что Ева оказалась в это время дома. Она только что отвела Сару в школу, откуда собиралась пойти прямиком в университет. Но ее первая встреча со студентами отменилась: рано утром позвонила Ида, секретарь факультета, и сообщила, что оба плохо себя чувствуют и прийти не смогут — в тягучем выговоре уроженки южных штатов сквозило явное неодобрение надуманной причины. Таким образом Ева получила несколько часов свободного времени: возвращаясь пешком домой, зашла в любимую булочную за свежей выпечкой, полюбовалась расцветающими деревьями на их улице — и решила посвятить пару часов новой биографии Симоны де Бовуар, которую Боб прислал из Лондона на рецензирование.
Но едва Ева сняла плащ и положила ключи и сумку с покупками на столик в прихожей, как зазвонил телефон.
— Ева? — это Антон.
По его тону сразу понятно: что-то произошло.
— Где ты была? Я пытаюсь дозвониться уже полчаса.
В прихожей стоит стул — чудесная хрупкая старинная вещь, — который Ева купила на блошином рынке Ле Пюс и собиралась отреставрировать, сменив обивку на сиденье. Она садится, ощущая, как в горле встает ледяной ком.
— Почему ты не позвонил на работу? Что случилось? Мама?
Антон молчит и вздыхает.
— Мама в больнице. Клиника «Виттингтон». Пневмония. Состояние не очень хорошее. Ты можешь приехать сегодня?
Пневмония: какое странное слово. Все то время, пока она устраивала дела — искала Теда, связывалась с Идой, звонила домой в надежде услышать голос Якоба, упустив из виду, что его там быть не может, — это слово не отпускало Еву. Она видела его написанным мелом на доске и представляла себе бородатого профессора с указкой. «Обратите внимание на сочетание “пн”, непривычное для нашего уха, — от латинского “пнеумон”, что означает “легкое”». Легкие Мириам: уже много лет в них слышались хрипы; она носила с собой ингалятор и дышала через него во время приступов, покачивая головой, будто это всего лишь небольшое неудобство.
Тед немедленно возвращается домой с работы, обнимает Еву, гладит ее по голове. А она представляет себе легкие матери — вялые, бессильные, как сдувшиеся шарики.
После короткого спора решают, что Ева едет в Лондон одна. Сегодня четверг: Теду надо сдать два материала в субботний выпуск, а Саре — подготовиться к завтрашнему тесту по французскому языку.
— Приезжай в субботу, — твердо говорит Ева, захлопывая чемодан. — Я должна понять, в каком она состоянии.
Тед хмурится, глядя на нее с сомнением:
— Ну… если ты так хочешь, дорогая. Но я бы предпочел отправиться с тобой сегодня.
В поезде, идущем в Кале, так и не раскрыв биографию де Бовуар, Ева размышляет, почему настояла на том, что поедет одна. Тед мог отложить сдачу материалов или отправить их из Лондона, а Сара пропустила бы контрольную. Но она чувствовала инстинктивную потребность, причины которой были непонятны ей самой, поехать к матери без мужа и дочери.
Ева пытается вспомнить, когда в последний раз видела Мириам. Это было на Рождество — или, как добродушно окрестил его Тед, совместив названия христианского и еврейского праздников — Хануство. С тех пор как в их семью вошли Тед и Теа, жена Антона, у Эделстайнов стали подавать индейку, зажигать гирлянды и даже наряжать елку. Тогда все ужинали при свечах за обильно накрытым столом. Круглоглазая Ханна, дочь Антона и Теа, еще не умеющая говорить, издавала булькающие звуки, сидя на коленях у матери. Потом все по традиции переместились в музыкальную комнату. Якоб играл на скрипке грустные старые мелодии, созданные, казалось, вековой памятью еврейского народа. Сара, усевшись за рояль, исполнила «Гимнопедию» Сати, за которую получила диплом с отличием в шестом классе. Мириам слушала, устроившись в своем любимом кресле. Мама выглядела усталой — Ева и Теа даже настояли на том, что сегодня готовить будут они, — и немного задыхалась, но не больше, чем всегда, и внимательно следила за игрой внучки. Затем закрыла глаза и с легкой улыбкой откинула голову на изголовье кресла.
Сейчас Ева вспоминает: мать тогда отправилась спать очень рано, а в День подарков отказалась участвовать в традиционной прогулке по Хайгейтскому лесу.
— Вы идите, дорогие мои, — весело сказала она за завтраком, — а я с удовольствием проведу время с новыми книгами.
Якоб, как понимает теперь Ева, был встревожен.
— Твоя мама слишком много на себя берет, — сказал он ей, когда они шли рука об руку к лесу и немного отстали от остальных. — Поговори с ней, Ева. Убеди, что иногда надо и отдыхать.
Ева успокаивающе погладила отца по руке и ответила, что обязательно это сделает; но остаток дня прошел в готовке, уборке, наблюдении за совместными играми Сары и Ханны, и она забыла о своем обещании.
Сейчас, под мерный стук колес Еву охватывает сожаление — бесполезное, но неотвязное. Она все время задается вопросом: почему не добилась от матери ответа на вопрос, как та себя чувствует, не осталась с ней хотя бы на несколько недель, не убедила ее передохнуть? Но Ева знает: все это оказалось бы бесполезным. Мириам всегда делала то, что считала нужным, и принимала решения самостоятельно. А Ева не станет теперь ее осуждать, поскольку всегда восхищалась этими качествами в собственной матери.
В Кале она встает в очередь на паром. Здесь так же светло и ясно, как в Париже: воды пролива гладкие, словно темно-синее стекло, и переправа проходит спокойно. В Дувре Ева не сразу узнает брата. Он одет в дорогое пальто из верблюжьей шерсти и встречает ее на новой машине, обтекаемой формы и с низкой посадкой.
Брат и сестра обнимаются.
— Как она? — спрашивает Ева. Брат прочищает горло. Вблизи видно, что привычный лоск сошел с него: Антон бледен, под глазами заметны черные круги.
— Когда я уезжал, ей, кажется, немного полегчало.
По дороге в Лондон они говорят на другие темы: о Ханне, которая по-прежнему не спит ночами; о Теа; о Теде и Саре; о том, как Еве работается в университете. Она рассказывает брату про курс писательского мастерства, который сама же и придумала; про то, какую радость доставляют ей успехи отличников, и как приятно подтягивать отстающих. С удивлением слышит гордость в собственном голосе: преподавание не виделось ей чем-то серьезным, скорее это был способ заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как прервались отношения с ее литературным агентом Джаспером. Нет, время от времени он присылает Еве чеки и интересуется, не пишет ли она что-нибудь; с Дафной, ее давней приятельницей и редактором, они также поддерживают связь. Но в недолгих дружеских разговорах по телефону и тот и другая старательно обходят молчанием факт, что новая книга Евы выглядит сейчас не более чем туманной перспективой. Сюжеты, когда-то казавшиеся ей такими животрепещущими, поблекли или совсем увяли. Ева утратила уверенность в себе. Просматривая наброски к третьей книге — это занятие давалось ей с трудом и с каждым абзацем доставляло все меньше удовольствия, — она ясно видела, как грубо слеплен сюжет. Наконец она призналась себе, что собственная жизнь ей интереснее, нежели судьба выдуманной героини.
Первое время Ева не понимала, что чувствует в связи с этим — разочарование или облегчение. Как-то за кофе она поделилась с Жозефиной наблюдением: когда не пишешь, возникает ощущение бесконечности времени. Через несколько дней Жозефина по телефону изложила ей свой план: Одри Миллс, ее давняя приятельница по одному женскому обществу, сейчас преподает английский в Американском университете в Париже и пытается найти для своих студентов наставника по литературе.
— Одри очень хочет с тобой встретиться, — сказала Жозефина тоном, не терпящим возражений. — Я договариваюсь?
На подъезде к Эшфорду Ева начинает дремать, убаюканная мягким урчанием двигателя. Ей снится, что она в их парижской квартире, поправляет одеяло на засыпающей Саре (в тринадцать лет та еще иногда позволяет матери такие нежности), приглушает свет лампы, стоящей на тумбочке у кровати, оставляет дверь полуоткрытой и идет в гостиную, чтобы посидеть и выпить с Тедом по бокалу вина. Но застает там не Теда, а Дэвида: он выглядит так же, как в день их свадьбы — светло-серый костюм, роза в петлице, безукоризненная прическа.
— Послушаем музыку, миссис Кац? — говорит Дэвид и делает шаг вперед, протягивая к ней руки. Но когда они начинают танцевать, Ева видит перед собой лицо другого человека — Джима Тейлора.
Машина останавливается, Ева просыпается и, растерянно моргая, смотрит на Антона.
— Мы приехали, сестренка. Пора просыпаться.
Близится вечер: на Хайгейтском холме загораются уличные фонари, а небо становится темно-синим. В неровно освещенных больничных коридорах царит суета. Вслед за братом Ева торопливо идет к лифтам. Они обгоняют двух деловитых медсестер в накрахмаленных халатах и пожилого человека в тапочках, который целеустремленно движется к выходу с пачкой сигарет «Вудбайн» в руках.
Ева берет Антона за локоть.
— Подожди. Я ужасно себя чувствую.
— Понимаю. У меня было такое же ощущение, когда ее сюда привезли. Но посетителей пускают только до семи. И старшая сестра — просто какой-то монстр.
Едва они заходят в палату, предварительно назвав сестре свои имена, как там появляется седовласая женщина в голубом халате. Слева на груди у нее прикреплен бейдж с надписью «Старшая сестра». Она протягивает Еве руку:
— Вы, должно быть, дочь миссис Эделстайн. Слава богу, вы приехали. Она все время о вас спрашивает.
Сестра говорит, что им удалось найти для Мириам место в углу у окна. В ее голосе слышится гордость, но Ева видит только металлический каркас кровати, где под несколькими одеялами лежит мать, удивительно маленькая, будто ребенок. Рядом с ней на пластиковом стуле сидит Якоб. При их появлении он встает и идет к Еве, чтобы поцеловать дочь, но та, не отрываясь, смотрит на лицо Мириам, белое, как наволочка ее подушки. Она пытается улыбаться пересохшими губами.
— Ева, Schatzi, — произносит Мириам. — Прости меня за все эти хлопоты, которые я вам доставляю.
Ева садится на другой стул, стоящий возле кровати. — Не говори глупостей, мама. Никаких хлопот ты не доставляешь.
Якоб целует Мириам в лоб.
— Мы вернемся через минуту, Liebling, — говорит он и уходит, увлекая за собой Антона.
— Не позволяйте ей много говорить, — мягко произносит старшая сестра, прежде чем тоже уйти, и Ева старается следовать этому совету, наблюдая, как тяжело дышит мать. Но Еве столько нужно ей сказать, и она говорит это про себя: «Нет в мире другой женщины, которую я уважала бы так сильно. Я люблю тебя. Не покидай меня».
Мириам молчит, ее глаза полуприкрыты, но Ева знает: она все слышит. Мириам поднимает веки, сжимает руку Евы и произносит по-немецки:
— Он пытался заставить меня избавиться от тебя. Сказал: «Я не хочу, чтобы на свет появилось еще одно маленькое грязное существо, такое же, как ты. Покончи с этим».
Ева чувствует нарастающую боль в груди. Она гладит руку матери в надежде успокоить ее, но Мириам продолжает говорить, не отрывая взгляда от лица дочери.
— Вот почему я уехала. Не по какой-то другой причине — а их, конечно, было множество. Уехала из-за тебя. И так рада, что сделала это, Schatzi. Я гордилась тобой каждый день.
Еве хочется сказать: «И я гордилась тобой, мама. Смогу ли когда-нибудь отблагодарить тебя?»
Но глаза Мириам закрываются, и разговор заканчивается: Ева продолжает гладить ее руку, а в палате слышны только слабые стоны и писк прибора, к которому подключен кто-то из пациентов. Ева наблюдает за спящей Мириам до тех пор, пока не возвращается старшая сестра. Следом за ней идут Якоб и Антон, и брат говорит Еве, что пора уходить.
Версия третья
Герань Вустершир, май 1976
На следующий день после похорон Мириам они встречаются в Бродвейской гостинице.
Это была идея Джима: в прошлом году он как-то заехал в этот городок на долгом, скучном пути из Бристоля в Лондон, находясь в состоянии одновременного отчаяния и возбуждения, ставшего для него привычным в последние годы. Он увидел крыши, покрытые толстой соломой, каменные стены цвета густых сливок, горшки с геранью на отделанных деревом пабах — все это представлялось ему устоями английской жизни и внушало некоторое спокойствие.
Но тогда, вероятно, стояло лето: сейчас герань уже отцвела, хотя корзинки по-прежнему висят на стенах, а соломенные крыши именно такие, какими Джим их запомнил. Он забронировал номер в лучшей гостинице города, но, когда хозяин приводит их туда — карнизы, кровать красного дерева, на которой могут поместиться четверо; «Номер для новобрачных, сэр», — Джим понимает, что совершил ошибку.
Ева смотрит в окно и не отвечает на пожелания спокойной ночи. Когда дверь за хозяином закрывается, Джим несколько мгновений молча глядит на ее напряженную спину.
— Мы можем уехать отсюда.
Он подходит к ней, обнимает за талию.
— Куда угодно. Куда захочешь.
— Нет.
Она сильно похудела, под одеждой проступают ребра. Джима охватывает стыд и ненависть к себе за то, что он не в силах позаботиться о ней.
— Все в порядке. Правда, Джим.
Ева поворачивается к нему, и Джим видит худое лицо и глаза, лишенные обычного света. Он где-то читал, что печаль старит людей, но с Евой это не так. В своих джинсах и коротком пальто с капюшоном она кажется очень юной, похожей на школьницу.
— Может быть, пойдем в постель? — спрашивает Джим.
Она смотрит непонимающе.
— Я имел в виду — просто ляжем спать. Ты выглядишь изможденной.
— Я действительно без сил.
Ева отходит от окна, расстегивает пальто.
— Наверное, надо поспать.
Кровать оказывается жесткой и неуютной, а подушки тонкими, но Ева отключается почти мгновенно. Джим лежит рядом с ней на спине, разглядывая рисунок на пологе — листья и цветы. Он кажется смутно знакомым; это Уильям Моррис, думает Джим, и внезапно вспоминает кресло, где зимними вечерами сидела его мать в их доме в Сассексе. Он отчетливо помнит, как водил пальцем по такому же узору, уютно устроившись на материнских коленях. Дыхание Евы становится ровным. Джим знает — заснуть ему не удастся. Через несколько минут он тихо встает, берет одежду, ботинки, сигареты и бесшумно закрывает за собой дверь, надеясь, что до его возвращения Ева не проснется.
На Хай-стрит толпы туристов стекаются от автобусных остановок к сувенирным лавкам и кафе. Джим закуривает, глядя вслед двум пожилым дамам, медленно бредущим по тротуару. Одинаковые плащи и седые кудряшки, похожие на вычесанную шерсть, делают их похожими на близнецов. Джим слышит, как одна из них обращается к другой:
— Как думаешь, Энид, если мы съедим по булочке, не испортим ли аппетит перед обедом?
Джим обгоняет их и не слышит ответа. Впереди он видит паб; выбрасывает сигарету, заходит, заказывает пиво и садится за пустой столик на улице. На часах почти полдень. Дома — если только это слово сюда применимо: во время встреч с Евой Корнуолл кажется таким же далеким, как заграница, — Хелена отбивает цыпленка и чистит картошку, рядом крутится Софи. К обеду придут родители Хелены, и в этом заключалась ее главная претензия к Джиму, когда тот сказал, что в воскресенье его не будет дома — Стивен хочет обсудить, в каком порядке будут висеть картины на следующей выставке. Джим теперь старается пореже использовать Стивена в качестве причины своего отсутствия.
— Именно в это воскресенье? — спросила Хелена. Разговор происходил на их собственной кухне — прошло почти три года с момента их отъезда из Трелонихаус. Это случилось после кошмарного интервью Энн Хьюитт, в котором все обитатели колонии были представлены как «юродивые наркоманы и презренные хиппи». Так выразился Говард, прося Джима и Хелену — приказывая на самом-то деле — уехать. Хелена с горящим от злости лицом прошипела:
— Как ты мог? Я же тебя просила быть осторожнее с этой женщиной.
Пока они носили вещи в машину, Софи, которую увозили из родного места, от всех, кого малышка знала, безутешно плакала.
Джим посмотрел через кухонное окно на небольшой сад, где Хелена высадила в горшках зелень и вскопала грядки под картошку. Испытывая отвращение к самому себе, сказал:
— Прости, любимая. В понедельник Стивен улетает в Нью-Йорк.
Но тогда Джим не был уверен, что Ева сможет освободиться. Прошло два месяца с их последней встречи, но Мириам умерла всего четыре дня назад, и Ева не только скорбела о матери, но и занималась похоронами: надо было найти раввина, заказать цветы, напоить чаем бесчисленных друзей и соседей, пришедших выразить сочувствие.
Дэвид прилетел из Лос-Анджелеса первым же рейсом. Джим не мог подавить в себе ревность к нему: он оставил Еву одну, отбыл на другой конец Земли и только теперь появился. «Но в действительности, — с горечью думает Джим, — я должен быть благодарен Дэвиду». Теперь Ева имела законную возможность оставить детей на ночь с отцом и уехать. Дэвиду она сказала, что хочет побыть одна. Кац, очевидно, посчитал споры неуместными.
Иногда, задумываясь об абсурдности той ситуации, в которой они оказались, Джим испытывает ужас: вот Ева, которая практически в одиночку воспитывает двоих детей, хорошо зная при этом, что ее муж любит другую женщину; и вот он сам лжет Хе-лене и Софи. Однако, когда Евы нет рядом, Джим не чувствует лжи: дома он — обычный муж и отец. Со-фи, как ему кажется, обжилась на новом месте, стала реже просыпаться по ночам. Хотя возникли проблемы в школе: мать одноклассницы обвинила Софи в хулиганстве и воровстве игрушек у ее дочери. Учительница вызвала Джима и Хелену в школу и спросила, все ли благополучно в их семье.
— Да, — уверенно сказал Джим, держа Хелену за руку, — все в полном порядке.
Он привык лгать. При этом Джим убеждает себя, что сейчас относится к Хелене мягче и внимательнее, чем когда не изменял ей, а мысли о предстоящих встречах с Евой не вносили в его жизнь радость. Работа, безусловно, не пострадала — после «Читающей женщины» образ Евы больше не появлялся на картинах Джима. Но ни одна из них не обходится без ее участия: когда Джим рисует, перед его внутренним взором всегда стоит лицо Евы, ее бездонные, проницательные глаза, полные веры в его талант.
Он доверился только Стивену и много раз рассказывал ему о своем ощущении: Джиму кажется, будто он разделился надвое, и это два разных человека, живущие в отдельных вселенных.
В последний раз, когда засиделись за виски в клубе Стивена и говорили об этом, друг, откинувшись в кресле, сказал:
— Видимо, яблоко от яблони все-таки недалеко падает.
Слова Стивена запомнились Джиму, и всякий раз, как они всплывали в голове, к нему приходило осознание: надо что-то делать. Но как только он собирался обсудить это с Евой, мужество изменяло ему. Им выпадало слишком мало времени побыть вдвоем — порой не больше часа, который они проводили в Риджентс-парке. Потом Ева шла забирать Сэма из школы, а Джим отправлялся на свои встречи — и он не хотел отравлять эти мгновения разговорами о будущем. Как будто здесь и сейчас есть только он и она, весь остальной мир отступает на второй план. Но в глубине души Джим отдавал себе отчет: у такого отношения есть и оборотная сторона — при столкновении с повседневностью сказка может закончиться.
Джим пьет пиво и думает о Мириам Эделстайн. В гостинице, прежде чем подняться в номер, они с Евой пили кофе, и она достала из сумки свои свадебные фотографии. На первой были Якоб и Мириам; она — молодая, улыбающаяся, в летнем платье без рукавов, удивительно похожая на дочь. Джим долго не мог оторваться от этого снимка, вчитываясь в незнакомые слова, написанные на обороте на иврите. «Покойся с миром». Он жалел о том, что не знал Мириам; не он в парадном костюме стоял рядом с Евой на ступеньках мэрии, щурясь от солнца; и не его — в качестве тещи — поздравляла Мириам Эделстайн, не им с Евой желала она счастья.
Допив пиво, Джим выходит на Хай-стрит и возвращается в гостиницу. Хозяин поднимает голову навстречу входящему, но Джим не смотрит на него. Осторожно открывает дверь номера, не зная, проснулась ли Ева, но та еще спит, приоткрыв рот, темные волосы рассыпаны по подушке.
Джим вновь раздевается, кладет одежду на спинку стула и забирается под одеяло. Ева вздрагивает, когда
Джим прижимается к ней и говорит полушепотом:
— Я хочу, чтобы мы жили вместе, Ева. Давай начнем сначала.
Несколько секунд длится тишина, нарушаемая только стуком его сердца и легким дыханием Евы.
И Джим понимает — она не слышала сказанного.
Версия первая
Поэты Йоркшир, октябрь 1977
— Еще глоток? — спрашивает он.
Ева смотрит на свой пустой стакан. Следует отказаться. Пожелать спокойной ночи, подняться на два лестничных пролета и укрыться в безопасной тишине своей комнаты, устланной коврами.
— Почему бы и нет?
Есть множество причин не делать этого. Она смотрит в спину Лео, который подходит к бару и наливает две щедрые порции односолодового виски. Он высок, хорошо сложен, двигается чуть враскачку, что свойственно спортсменам. В его группе много женщин среднего возраста, и Ева видела, какими глазами те глядят на него. В первый день в женском туалете она невольно подслушала разговор двух таких дам, хихикавших словно школьницы:
— Господи, этот Лео Тейт, он в жизни выглядит даже лучше!
Другая ответила:
— Но он женат.
Первая, презрительно:
— Когда их это останавливало?
Моя руки — она тактично дождалась в кабинке, пока дамы уйдут, — Ева размышляла над тем, кто такие эти «они», упомянутые в разговоре. Мужчины? Мужья? Поэты? Предположила, что речь шла о последних, чья репутация неверных супругов возникла не на пустом месте — вспомнить хотя бы Байрона или Бернса. Но ей не нравилась нынешняя мода описывать всех мужчин скопом и давать им довольно неприятные характеристики. Она посмотрела на свое отражение в зеркале, пытаясь оценить, не погорячилась ли с тенями для век, когда собиралась на завтрак; подумала о Джиме, который остался дома с детьми и Джулианной; вновь испытала почти забытое чувство ярости, вызванное его изменой. Затем взяла себя в руки, отправилась на поиски своей группы и погрузилась в таинства длинных фраз и коротких абзацев — она вела недельный курс по самостоятельному редактированию — и больше не думала ни о Джиме, ни о Джулианне, ни о Лео Тейте.
Но сегодня за ужином она оказалась за столом рядом с ним: в столовой стояли скамьи, на которых, по идее, должны были вперемешку рассаживаться слушатели и преподаватели, хотя на деле последние все-таки предпочитали держаться особняком. Ева сидела по соседству с Джоан Доулинс, автором детективов (однажды они вместе участвовали в телевизионной программе). Напротив устроился драматург Дэвид Слоун, печальный человек, ни с кем не перекинувшийся даже словом, — и тут появился Лео с бокалом вина в руке.
— Свободно? — спросил он, указывая на пустующее место рядом с Евой.
— Конечно, Лео, — жеманно ответила Джоан. Слоун по-прежнему хранил молчание. Но Лео не садился, будто ожидая разрешения от Евы.
— Ева?
Она подняла голову, только сейчас заметив его присутствие.
— Тут не занято.
И поймала себя на том, что слова ее прозвучали грубо. Джоан пошла красными пятнами — Ева вспомнила, как то же самое произошло с ней в телевизионной студии при свете софитов, и визажисту пришлось срочно спасать ситуацию. На лице у Слоуна появилась улыбка — он принадлежал к типу людей, получающих удовольствие от чужого замешательства. Ева уже собралась извиниться перед Лео, но тот, казалось, ничего не заметил.
— Я так рад, что вы тоже читаете курс на этой неделе, — с воодушевлением сказал он, усаживаясь рядом. — По-настоящему люблю ваши книги. Я несколько раз проезжал свою остановку в метро, пока читал «Под давлением». И телевизионная постановка мне понравилась. Хорошая работа.
Ева аккуратно положила приборы на пустую тарелку.
Сложно было понять, говорит ли он искренне: Ева ненавидела лживые комплименты, которых в изобилии наслушалась с тех пор, как к ней пришел «успех». На самом деле она не считает себя «успешной» — иначе, наверное, не написала бы больше ни слова — правда, ей нравятся похвалы, интервью, рецензии. Но в глубине души она знает: все это вторично по отношению к творческому процессу — когда, отправив детей утром в школу и поручив Джулианне хлопоты по кухне, можно сесть за письменный стол и насладиться полным одиночеством.
В конце концов, не многие женщины могут себе это позволить.
— Спасибо.
Вероятно, в голосе Евы слышалось сомнение, потому что Лео повернулся к ней, демонстрируя темно-серые глаза и мальчишеские ямочки на щеках, и сказал:
— Вы думаете, я шучу? Зря. Просто из-за внешности никто не воспринимает меня всерьез.
— Вот уж не поверю.
Лео отпил вино из бокала, по-прежнему глядя на Еву.
— Возможно, вы станете исключением.
Он флиртовал с ней весьма беззастенчиво, и так продолжалось всю неделю. Вероятно, женщины, чей разговор подслушала Ева, были правы в своих оценках: Лео точно знал, что делает. Уделял Еве во время завтраков и обедов ровно столько внимания, чтобы она понимала — он выделяет ее среди остальных, — но так, что это не бросалось в глаза другим. Ева наблюдала за его рыцарским поведением — если можно использовать это слово — с усмешкой. Она никак не поощряла Лео (оба знали о браках друг друга, и для него происходящее, разумеется, было всего лишь игрой), но ни разу не предложила ему остановиться. Позднее Ева призналась себе, что легко могла положить этому конец, но в действительности не хотела; на самом деле она ждала продолжения флирта.
После смерти матери Ева привыкла к чувству легкой отстраненности, будто все происходящее с ней — не вполне реально. Словно она не один человек, а два, даже три, и каждый живет своей жизнью, дышит, что-то изображает, но кто из них настоящий, уже неизвестно. Она попыталась пересказать свои ощущения Пенелопе, но ничего не вышло, получилась какая-то научная фантастика. Подруга посматривала на нее осторожно, не уверенная, как надо правильно реагировать на эти слова.
— Это печаль, дорогая, — в конце концов сказала Пенелопа. — Печаль делает с человеком очень странные вещи. Не надо бороться. Пусть само пройдет.
Действительно ли печаль заставляла Еву продолжать игру с Лео — соглашаться в ответ на предложение выпить вдвоем; с удовольствием ощущать тепло его тела, когда за ужином он прижимал под столом свою ногу к ее? Вначале, возможно, да, но на четвертый день — во вторник — Лео положил ладонь ей на колено, и у Евы перехватило дыхание; однако она не оттолкнула его руку. После этого события приняли стремительный оборот: во время групповой экскурсии в Хэйуорт — Лукас, директор фонда, был страстным поклонником Бронте — они на минуту остались одни в коридоре на верхнем этаже здания, и Лео обнял ее за талию, страстно прошептав на ухо:
— Я должен поцеловать тебя, Ева. Должен.
Ева вырвалась из его объятий и отправилась догонять остальных. Остаток дня держалась от Лео на расстоянии, испытывая чувство вины, хотя не сделала ничего предосудительного, даже не позволила поцелую случиться; однако ночью, в постели, осознала: это чувство неслучайно. Она хотела Лео. Решение уже было принято; и, лежа без сна, Ева думала о Джиме и о том, испытывал ли он нечто подобное по отношению к Грете.
Итак, сегодня вечер пятницы. Как заведено в фонде, окончание курса отмечают чтениями: сначала по два слушателя от романистов, драматургов, поэтов и авторов детективов — тщательно отобранных преподавателями; затем сами преподаватели. Тейт должен был выступать последним. Остальных принимали снисходительно, но женщины не скрывали нетерпения, когда встал Лео, держа в руках тонкий сборник своих стихов.
— Я готова его слушать вечно, — театральным шепотом сказала соседка Евы.
Ева, разумеется, тоже смотрела на Лео: ей нравился его глубокий баритон, заполнивший комнату. Она не читала стихов Тейта (хотя не признавалась ему в этом) и не была готова к тому впечатлению, какое на нее произвели слова, с неожиданной элегантностью сплетенные в обволакивающую паутину. Она ждала жестких, рубленых форм — но не убаюкивающих напевных рифм, закончившихся мощным крещендо, — когда Тейт замолчал, присутствующие на мгновение замерли, а затем разразились аплодисментами.
И вот Лео возвращается с третьей, а может, и четвертой порцией виски. Уже три часа ночи, и остальные отправились спать: несколько минут назад нетвердым шагом ушел даже изрядно подвыпивший Лукас. Ева знает, что каждая минута, проведенная здесь, наедине с Лео, таит опасность, но она не делает попытки избежать ее.
Подойдя к столу, он не присаживается.
— Может быть, допьем у меня?
Они молча поднимаются на третий этаж. Окна эркера в его комнате выходят на дорогу и парковку: сейчас за ними царит мрак. Ее комната больше, с видом на сад, и, подумав об этом, Ева испытывает гордость, которой стыдится.
Она стоит у двери, держа в руке наполненный стакан, а Тео задергивает занавески и включает лампу на столике возле кровати.
«Еще есть время, — думает Ева. — Я могу открыть дверь и уйти». Но не делает этого и не сопротивляется, когда Лео подходит к ней, забирает стакан, ставит его на стол и обнимает ее.
— Ты уверена? — спрашивает он. Ева кивает и притягивает его к себе.
И больше не остается ничего, ни единой мысли, лишь телесные ощущения, лишь это путешествие в неизвестность…
Она просыпается в постели Лео. Раннее утро — она едва уснула, — и комнату заливает слабый розоватый свет. Лео спит, слегка приоткрыв рот и негромко дыша. Его расслабленное лицо выглядит очень молодым, хотя он на несколько лет старше Евы. Она одевается, стараясь не разбудить его; бесшумно закрывает дверь и быстро идет в свою комнату. Никто не попадается навстречу, но даже случись такое, ей было бы все равно; как ни странно, стыд, преследовавший ее всю неделю, теперь испарился.
Стоя в душе и намыливая тело, которое еще помнит прикосновения его рук, Ева внезапно ощущает приятное волнение. Они с Лео больше не встретятся, разве только случайно, на какой-нибудь вечеринке или на других подобных курсах; и они не давали друг другу никаких обещаний, которые невозможно будет исполнить. Сегодня вечером она будет дома, вместе с Джимом и детьми; вновь начнется привычная повседневная жизнь. То, что произошло здесь, в Йоркшире, она сохранит для себя. Как камушек, взятый на память и позабытый в кармане пальто.
Версия вторая
Имбирные пряники Корнуолл, декабрь 1977
Сочельник: бледное, прозрачно-голубое небо, гладкое, застывшее море. На чисто прибранных палубах стоящих в бухте судов тает тонкий слой наледи.
Окна паба «Старый Нептун» украшают рождественские венки, а вход — ветки омелы, которые всякий раз задевают головой рыбаки, зашедшие выпить пива, пока жены дома ощипывают индейку и заворачивают подарки. Всякий раз, как открывается тяжелая дубовая дверь, изнутри доносится музыка — «Когда рождается дитя», «Мыс Кинтайр», «Всех с Рождеством».
В своем доме на Рыбной улице — они смеялись над этим названием, услышав его впервые, — Хелена, Джим и Дилан пекут имбирные пряники. Хелена добавляет сахар в кастрюлю и помешивает в ней деревянной ложкой. Лицо ее раскраснелось, и выбившийся локон прилип к мокрой щеке. Джиму хочется протянуть руку, поправить прическу и ощутить тепло ее кожи. Но он этого не делает.
— Мам, можно мне помешать?
Дилану восемь; он высок для своих лет, с бледной, как у матери, кожей, и светло-каштановыми волосами. Из-за них Хелена зовет его Мышонком; сама она стала краситься хной, от которой в ванной остается горький травяной запах. Глаза у Дилана, однако, одного цвета с отцовскими — темно-синие; и веснушки на переносице, как у Джима. Иногда, глядя на сына, Джим пугается этого сходства — будто смотрит на собственное отражение в зеркале. Они похожи не только внешне: Дилан проявляет склонность к рисованию (набор карандашей средней мягкости, подаренный Джимом на последний день рождения, — одна из самых ценных вещей в его жизни); и так же чувствителен, как отец. Это становится особенно заметно, когда сын пытается разобраться в настроениях Хелены и Джима.
— А я уж думала, ты никогда не попросишь.
Хелена ловит взгляд Джима поверх головы Дилана и улыбается. Она сегодня выглядит спокойной и веселой, напряжение ушло, это можно сравнить с солнцем, выглядывающим из-за края облака. Так в последнее время бывает далеко не всегда.
— Давай-ка.
Хелена через голову надевает на Дилана свой фартук, завязывает его и, чтобы сыну было удобнее орудовать ложкой, пододвигает ему стул:
— Мешай.
И обращается к Джиму:
— Ну что, перекур?
Они стоят, поеживаясь, у задней двери, изо рта у них вырываются клубы пара. Зелень Хелена укрыла в самодельной теплице, построенной из деревянных ящиков и двух чуть покосившихся оконных рам, выброшенных кем-то за ненадобностью. Хе-лена намного практичнее его. Но запрет на курение в доме — это что-то новое: с такой идеей — нет, указанием — выступила Айрис. При мысли об Айрис Джим ощущает застарелую неприязнь.
— Айрис не передумала приходить? — спрашивает он как можно более небрежно. Хелена бросает на Джима внимательный взгляд.
— Нет. Сейчас появится.
Она глубоко затягивается.
— А Синклер не сказал, во сколько они приедут? — К чаю.
— Около пяти, значит.
Он смотрит на ее профиль: широкие брови, выгнутые дугой, полные потрескавшиеся губы. Когда они познакомились на полутемном складе в Бристоле, где было много плохих картин и дешевого вина, его поразила таившаяся в этой женщине жизненная сила. Казалось, от нее веет морским воздухом. Бывало, в Трелони-хаус после бурной ночи Хелена вставала рано, отправлялась на прогулку, и никакие излишества не отражались на лице, а радостное настроение не покидало ее. Такой Джим и рисовал Хелену. «Хе-лена с букетом подмаренников»: несколькими штрихами он запечатлел ее чистую, бесхитростную красоту. Джим не помнит, с каких пор в их отношениях появилась напряженность, подобная тонкой трещине на стекле, но знает, кто в этом виноват — Айрис.
Когда приходит Айрис, Джим наверху надевает свитер, собираясь отправиться в мастерскую — старый, выбеленный ветрами сарай, где всегда стоит холод, хотя каждое утро Джим включает там электрический обогреватель. Он инстинктивно напрягается, представляя, как эта женщина здоровается в прихожей с Хеленой и наклоняется поцеловать его сына.
Айрис невысокого роста, коренастая, с грубоватыми чертами лица, стоящие торчком волосы выкрашены в отталкивающий рыжий цвет. Она занимается тем, что лепит громоздкую посуду, которую называет «скульптурными произведениями»; некоторые образцы имеются и в их доме, убраны с глаз подальше. У нее есть место на местной субботней ярмарке, и, к огромному удивлению Джима, ей иногда удается продать какой-нибудь горшок или кружку. Назвать ее бизнес процветающим нельзя: насколько он понимает, Айрис живет на щедрое наследство, оставленное двоюродной бабушкой. Это позволяет Айрис разделять презрительное отношение хиппи к материальным ценностям, хотя, как подозревает Джим, в глубине души она завидует его скромному коммерческому успеху.
— Искусство для людей, а не на продажу. Собственность — это воровство. Я стремлюсь преодолеть духовную планку в своих работах.
Иногда, слушая эти сентенции в исполнении Ай-рис, Джим ощущает сильнейшее желание ударить ее; ни к кому раньше он не испытывал такой острой неприязни; истоки подобного чувства ему самому не до конца понятны. Хелена, конечно, чувствует это отношение, но упорно не хочет его разделять. В последнее время кажется, что компании мужа она предпочитает общество подруги. В прихожей Джим здоровается и лицемерно целуется с Айрис. От ее липких щек неприятно пахнет пачулями. Айрис смотрит на Джима искоса.
— Я слышала, ты печешь имбирные пряники, Джим. Не знала, что ты кондитер. Разве это не женская работа?
Айрис усмехается, повернувшись к нему вполоборота. Она вечно подтрунивает над ним, навязчиво демонстрируя свой доморощенный феминизм, словно Джим какой-то женоненавистник, в то время как единственная женщина, которую он терпеть не может, — это она.
— Дилан нам помогает. Это же не делает его женщиной? — Не дожидаясь ответа Айрис, Джим обращается к Хелене: — Пойду пройдусь. Позовешь меня, когда они приедут, ладно?
В мастерской, которую работающий обогреватель наполнил запахом нагретой пыли, его приветствует кот Марсель, лежащий пузом вверх на старой циновке.
— Здорово.
Джим наклоняется и чешет мордочку кота, тот урчит и трется о его руку.
— Против музыки не возражаешь?
Он вставляет в кассетник (подарок матери и Синклера на прошлое Рождество) «Кровь на следах» Боба Дилана, нажимает кнопку. Снимает кусок материи, которым закрыт мольберт, — неискоренимая привычка, хотя Хелена нечасто теперь заходит в мастерскую, — лезет в карман за табаком и бумагой для папирос.
Как-то утром, лежа в постели, в солнца лучах, я думал о ней, о рыжих ее волосах…
Джим умело сворачивает папиросу, внимательно глядя на холст. Волосы изображенной на нем женщины не рыжие, а темно-каштановые. Она повернула голову и смотрит на мужчину, сидящего рядом с ней на диване в гостиной их дома; тот глядит прямо перед собой, и Джим не хочет, чтобы зритель понял, какие чувства он переживает. Страх Джима объясняется тем, что мужчина на картине — он сам и в то же время не он, точно так же, как женщина одновременно и Хелена, и Ева Кац, и все женщины, которых он знал, — выглядит слишком несчастным.
Это заключительная часть триптиха. Две другие стоят на полу, повернутые изображениями к стене, и все это вариации одного и того же сюжета: на втором полотне мужчина стоит рядом с диваном; на третьем они оба сидят. Кроме того, Джим изменил некоторые детали интерьера: в разных местах висят настенные часы за диваном; иначе расположены открытки и фотографии на каминной полке; кот, устроившийся в кресле, поменял масть. (В одном случае он из уважения к Марселю стал черно-белым.)
— Что-то вроде «найди отличия», — сказала Хелена, когда он впервые поделился с ней этим замыслом; шутка, разумеется, но язвительная. Идея триптиха выглядела намного более масштабной — рассказать о невыбранных путях и непрожитых жизнях. Джим назвал его «Три версии нас».
Он едва успевает приняться за работу — хочет поправить тени в уголках губ и немного их приподнять, — как Хелена приоткрывает дверь мастерской, сообщая о приезде Синклера и Вивиан. Ей приходится повысить голос, чтобы перекричать музыку.
Джим кивает, неохотно отворачивается от холста, опускает кисть в банку со скипидаром. Выгоняет Марселя на крыльцо и выключает обогреватель: он сможет вернуться сюда не раньше, чем через несколько дней.
Джим никогда не любил Рождество с его бесконечным застольем и принудительным весельем. Он помнит Рождество в год смерти отца. Вивиан только вернулась из больницы и даже не захотела встать с постели. В холодильнике не было ничего, кроме банки приправы и коробки заплесневелого печенья, которую он прикончил к тому моменту, как появилась соседка. Миссис Доуз всегда безошибочно чувствовала, что Джиму плохо, и настоятельно позвала его к себе на ужин.
Сейчас Джим держит в руках теплого кота и трется подбородком о его голову.
— Пошли, приятель. Пора домой.
Кухня наполнена ароматами остывающих имбирных пряников, из радиоприемника доносятся тихие мелодии рождественских песен. (Хелена, на удивление, относится к Рождеству очень консервативно: когда однажды в Трелони-хаус Говард и Джим предложили не отмечать праздник, дело дошло до того, что Хелена и Кэт чуть не уехали.)
Вивиан очень громко обращается к Дилану:
— Ты не должен подсматривать, как мы будем раскладывать подарки, дорогой. Нельзя.
На ней зеленый свитер с неумело вышитым оленем и розовая вязаная шапочка, в ушах сережки в форме листьев падуба. Она поворачивается к вошедшему Джиму, чтобы поцеловать сына, и он видит густой и неровный слой краски на веках и розовую помаду, размазанную в углах рта.
— Мой дорогой, — говорит Вивиан.
Синклер, который в этот момент появляется в дверях с чемоданами в руках, ловит взгляд Джима и беззвучно, одними губами произносит:
— Не очень хорошо.
Вечер спасает Дилан. Мальчик обожает бабушку и желает показать ей все свои игрушки — машинку-рисовалку, движущуюся фигуру Люка Скайуокера, живую пружину. Хелена ставит на стол ветчину, сыр, салат, потом они пьют чай с имбирными пряниками и играют в шарады, но, как только очередь доходит до Вивиан, она произносит название фильма вместо того, чтобы жестами и мимикой изобразить его.
— О господи, — восклицает она, осознав свою ошибку. Ее глаза наполняются слезами. — Какая же я глупая.
Джим, помня катастрофические последствия игры в двадцать вопросов, которая в его детстве закончилась рыданиями матери, пытается отвлечь ее и предлагает всем выпить. После второй рюмки шерри Вивиан засыпает на диване, слегка похрапывая.
Позднее, когда Вивиан удается отправить к себе в комнату, а Дилан уже спит, и Хелена тоже готовится отойти ко сну, Джим и Синклер допивают на кухне бутылку виски.
— Давно она в таком состоянии?
Синклер пожимает плечами. Выражение его лица Джиму знакомо, он сам выглядел так же, когда жил с матерью в той несчастной квартире в Бристоле.
— Недели три-четыре, наверное. Это лекарство творило чудеса — ты сам видел, — но мне кажется, она перестала его принимать. Говорит, из-за него у нее возникает ощущение, будто она находится в коконе, а ей хочется все чувствовать.
— Удалось найти таблетки?
— Нет. Ты же знаешь, какой она бывает хитрой. По-моему, она спускает их в унитаз.
Тикают часы на стене; Марсель, свернувшийся в старом кресле в углу, зевает и засыпает вновь.
— После праздников надо опять вызывать доктора Харриса. Она так долго не продержится. Для тебя это слишком большая нагрузка.
— Для всех нас.
Синклер допивает виски.
— Ты знаешь, она по ночам зовет твоего отца. Такое с ней впервые. Когда я пытаюсь ее успокоить, начинает драться.
— Мне жаль, — говорит Джим, потому что ему действительно жаль и сказать больше нечего. Потом оба отправляются наверх, ложиться — Джим в кровать, согретую Хеленой, Синклер в комнату, где мирно, во всяком случае пока, спит Вивиан.
В эту ночь Джим просыпается от женского плача. Несколько секунд лежит, прислушиваясь; но Хелена продолжает спать, а звук больше не повторяется.
Версия третья
Отблески Лос-Анджелес, декабрь 1977
Новый год Ева и Дэвид отмечают у Харви Блуменфельда, агента Дэвида, в его доме в Хэнкок-парке.
Дом, разумеется, большой, из кирпича и дерева, с башенками во флорентийском стиле, которые не к месту напоминают Еве о школьной экскурсии в Стратфорд-на-Эйвоне и покрытый соломой домик Энн Хэтэуэй, его оштукатуренные стены с темными прожилками балок. Бассейн возле дома Харви окружен гигантскими пальмами, а сбоку расположена терраса из красного камня с навесом и открытой жаровней, где хозяин летом лично готовит пиццу для более узкого круга гостей.
На Еве длинное ярко-розовое платье колоколом с глубоким шнурованным декольте. В Лондоне наряд смотрелся отлично — Ева купила его в бутике рядом с Карнаби-стрит, — но для Лос-Анджелеса, как она понимает вскоре после начала вечеринки, точно не годится.
Почти все женщины вокруг одеты в брючные костюмы и блузки в пейзанском стиле. Их волосы тщательно уложены; обнаженные руки и то, что видно в декольте, — покрыто нежным загаром. Было бы неверным назвать их красивыми — это нечто большее, чем обычная красота. «От них исходит какое-то золотистое свечение», — думает Ева, глядя на окружающих. Вот стройная и длинноногая Фэй Данауэй в белых брюках клеш; а у бассейна Керри Фишер беседует с Уорреном Битти — свет софитов будто проник им под кожу. Дэвид всегда был таким же, а людей этого круга тянет друг к другу, словно мошкару на свет. Ева видит, как в дальнем конце комнаты он оживленно разговаривает с худощавой актрисой, которая смотрит на него, не отводя глаз.
Ева стоит в одиночестве и пьет шампанское, оглядывая свое ненавистное розовое платье. Внезапно ей в голову приходит неприятная мысль: вся история их отношений с Дэвидом может быть описана как бесконечная череда неудачных нарядов, надетых ради вечеринок, где она никого не знает.
Ну, не то чтобы прямо никого: вот, например, Харви, который относится к ней с преувеличенным вниманием — ему кажется, так принято в Европе. «Прелестная фрау Кертис! Как дела, красивейшая из женщин?» Гарри тоже здесь, хотя Роуз отсутствует: они расстались три года назад после того, как она застала его в постели с очередной молодой актрисой. И Ева за эти годы познакомилась с достаточным количеством людей из окружения Дэвида, чтобы сейчас спокойно переходить от компании к компании, поддерживая разговор. Ева знает: она для них чужая; какая-то англичанка, мать двоих детей. Но, как правило, они держатся с ней приветливо. Однажды на вечеринке в честь вручения «Оскара» молодая актриса по имени Анна Капоцци — небрежно элегантная в своем вечернем платье с открытой спиной — подошла к Еве, взяла ее за руку и прошептала на ухо:
— Все, что рассказывают про Дэвида, — глупости. Никто этому не верит.
Анна не могла не знать, что это правда — Дэвид был и остается влюблен в Джульет Фрэнкс, — но Ева была благодарна ей за отрицание самого факта.
По крайней мере, Джульет здесь нет — проводит отпуск в Лондоне. Ева признательна ей за это тактичное отсутствие, но обманываться не хочет. Ведь ясно, что Дэвид и Джульет практически живут вместе. Она обнаружила в ванной дорогую косметику и духи, а Ребекка в приступе безжалостной откровенности — как будто ей было интересно увидеть реакцию матери — рассказала, как по утрам Джульет часто готовит им завтрак. Блинчики с черникой, свежевыжатый сок. Когда-то мысль о том, что эта женщина готовит ее дочери завтрак, вызвала бы у Евы истерику. Сейчас она понимает — так и должно быть. Хотя Джульет и увела у нее мужа, именно она теперь его настоящая жена.
Идея провести рождественские каникулы в Лос-Анджелесе возникла у Евы. На это время она будет свободна от корректуры, у Сэма появится возможность пообщаться с отцом (с тех пор как умерла Мириам, Дэвид ни разу не задерживался в Лондоне дольше чем на выходные — его вечно ждали пробы), и оба они повидаются с Ребеккой, которая теперь живет с Дэвидом. Ей восемнадцать, дочь переросла Еву, глаза темные, как у отца, полные губы и беззаботная улыбка. Она уже пробовала себя в качестве модели в Лондоне, Дэвид водил ее с собой по голливудским вечеринкам, словно… «словно сутенер» — так охарактеризовала Ева его поведение, когда они в последний раз спорили по телефону. Дэвид оскорбился — как сделал бы на его месте всякий отец, наблюдающий взросление своих детей с безопасного расстояния в пять тысяч миль.
— Если будешь заставлять Ребекку делать то, чего она не хочет, ты добьешься только отчуждения.
Еве не хочется признавать, но Дэвид прав. Подростковый возраст Ребекки — это бесконечные рыдания, хлопанье дверями и угрозы уехать к отцу в Лос-Анджелес. Самая жестокая стычка произошла, когда Ребекке исполнилось четырнадцать: Дэвид не приехал, как обещал, на ее день рождения. За этим последовал обычный звонок с извинениями: «Прости, дорогая, но Харви назначил встречу с Джорджем Лукасом», — следом пришла «примирительная» посылка с большим флаконом «Шанель № 5». Ева постаралась возместить дочери потери и приготовила парадный ужин для нее и четверых ее друзей: салат-коктейль с креветками, цыпленка по-охотничьи, торт «Аляска». К ужину никто из них не явился; и только одной из них — милой и нервной девочке по имени Эбигейл — хватило совести позвонить.
— Простите, миссис Кац, — сказала Эбигейл. — Ребекка вместе с остальными пошла в клуб. Она очень рассердится, если узнает, что я вам сказала, но иначе я буду чувствовать себя ужасно.
Ева не торопясь обернула пленкой и убрала в холодильник все приготовленное, собрала столовые приборы, сняла с проигрывателя пластинку Дэвида Боуи (ее подарок Ребекке). Пятилетний Сэм помогал ей — он обожал старшую сестру, но очень чутко прислушивался к настроениям матери. Ева уложила сына и уселась с пачкой сигарет ждать Ребекку. Та появилась к двум ночи; увидев мать, поджала ярко накрашенные розовой помадой губы и сказала:
— Я хочу жить с папой, а не с тобой.
Ева ответила ей с искренностью, о которой потом пожалела:
— Тогда почему бы тебе не сесть на самолет и не убраться отсюда к чертовой матери?
Глаза Ребекки сузились.
— Возможно, я так и сделаю. Но ты ведь потом будешь переживать, верно?
Ева не верила в реальность этой угрозы до тех пор, пока спустя четыре года, сдав выпускные экзамены на «отлично», Ребекка не перешла к действиям. Она собрала все свои вещи — джинсы, футболки, куртки, кассеты с записями Боуи, старого плюшевого мишку по имени Гюнтер — и субботним утром отправилась в Хитроу с билетом в кармане, который, очевидно, прислал ей авиапочтой Дэвид.
К счастью, Ева, возившая Сэма на футбольную тренировку, вернулась домой вовремя. Увидела дочь, стаскивающую рюкзак по ступенькам, схватила ее за руку и поинтересовалась:
— Куда это ты собралась?
— В Лос-Анджелес.
Ребекка смотрела на мать прямо, и в этих темных отцовских глазах, в этом упрямо вздернутом подбородке Ева увидела то, что уже видела когда-то в глазах Дэвида — решимость и уверенность. Дочери было восемнадцать; она пошла в отца; возможно, им следовало пожить вместе. И Ева решила не сопротивляться.
— Но почему ты собиралась уехать, не говоря ни слова?
Ребекка ответила уже не так агрессивно:
— Прости. Думала, ты попытаешься меня остановить.
Ева вздохнула и поправила выбившийся из прически дочери локон.
— Пошли. Я отвезу тебя в Хитроу. Не могу сказать, что ты это заслужила. Не говоря уж о твоем чертовом отце…
Ева положила рюкзак в багажник. Ребекка устроилась на пассажирском сиденье, демонстрируя безупречные загорелые ноги, и сказала:
— Мам, ну ты же понимаешь, мне надо уехать. Ты душишь меня, честно. Душишь своей любовью.
Ева отвернулась, притворяясь, что поправляет боковое зеркало, и смахнула слезу. Все время, пока они ехали по трассе М4, в машине царило молчание (Джим считал этот неприглядный отрезок пути очень романтичным, потому что дорога вела в Корнуолл). В аэропорту Ребекку охватило раскаяние.
— Прости, пожалуйста, мам… — и Ева, чтобы не усугублять горечь расставания, купила ей в подарок пудру от «Кристиан Диор» и солнцезащитные очки «Рэй-Бэн». Когда они прощались, Ребекка даже всплакнула. И ушла. Ева проводила взглядом тонкую фигуру дочери, согнувшуюся под весом огромного рюкзака.
Пока она ехала назад, где Сэм ждал ее в квартире, казавшейся теперь пустой, Ева вновь и вновь повторяла про себя слова Ребекки: «Ты душишь меня». Думала о том, что в жизни не раз, а дважды совершала такой выбор. Делала ставку не на Джима, не на возможность найти счастье вместе с ним, а на своих детей, убежденная, что они будут счастливы только с матерью, которая, по крайней мере формально, хранит верность их отцу. Да, она часто думала о разводе с Дэвидом и открытых отношениях с Джимом. Но когда эта мысль приходила в голову, Ева видела перед собой детей — Ребекку, расцветающую при появлении отца; Сэма, для которого афиши, театральные программки и фотографии размером десять на двенадцать с автографом Дэвида были самым большим сокровищем. Она мечтала, чтобы Джим стал частью их жизни, а взамен разрушенных семей появилась новая, — и боялась своей мечты.
Дети стояли для нее на первом месте, но и для Джима тоже не было никого важнее его дочери Со-фи; осознание этого пробуждало в Еве особую, иногда избыточную потребность защитить Ребекку и Сэма. Она вспоминала, как после одной из редких ночей, проведенных с Джимом, заставила Ребекку, которая хотела куда-то пойти с друзьями, остаться дома на все выходные. Очевидно, подсознательно она таким образом пыталась заглушить глубокую боль из-за отсутствия Джима рядом. Ева вспомнила еще, как в те дни, когда им с Джимом удавалось провести украдкой несколько часов вдвоем в Риджентспарке, она запрещала Сэму после школы ходить в гости к приятелям. Чувство вины заставляло ее держать детей при себе. Добираясь домой по трассе М4, Ева вдруг поняла: в этом больше нет нужды. Возможно, лучшая мать не та, которая старается оградить своих детей от всего, а та, что честна перед собой, счастлива и живет собственной жизнью.
Вечеринка в Лос-Анджелесе идет своим чередом — гости пьют шампанское, звучит живая музыка, в полночь взрываются фейерверки. В час ночи музыканты (группа «Колеса Кэтрин», знававшая лучшие времена) еще играют, но толпа начинает редеть; желающие продолжить веселье сделают это либо в «Шато Мармо», либо в номерах мотелей, стоящих вдоль автострады. Евы и Дэвида там не будет: их ждут Сэм и Ребекка (если Ребекка осталась дома, а не улизнула куда-нибудь на подаренной отцом машине, слишком мощной для ее возраста). И поэтому они идут к красному «астон-мартину» Дэвида сквозь сырую прохладную калифорнийскую ночь, пахнущую олеандрами, выхлопными газами и сгоревшим фейерверком.
Дэвид опускает верх, и, когда машина, громко шурша по гравию, выруливает на дорогу, Ева поправляет шаль на плечах.
— Мерзнешь? — спрашивает Дэвид, взглянув на нее.
— Нет, все в порядке. Просто свежо.
С дороги виден центр Лос-Анджелеса, полный мигающих огней, похожих на хвостовое освещение самолетов. Ева, как всегда, думает о Джиме: о том, насколько надежно и безопасно чувствует себя в его присутствии, и в эти минуты остальной мир словно перестает существовать.
На память приходит один день в Бродвее, после похорон матери, проведенный с ним: Джим вернулся, лег рядом и сказал, что хочет жить вместе, а она притворилась, будто спит и не слышит. Конечно, Ева была благодарна ему за эти слова — но она тогда потеряла маму, а дети — обожаемую бабушку, и мысль об ожидающей их еще одной потере и резких изменениях в жизни казалась ей просто непереносимой.
Она размышляет о том, что сейчас происходит с Джимом; может быть, он лежит рядом с Хеленой, вспоминая, как они с Евой занимались любовью во время их последней встречи.
Думает о письме, написанном много лет назад; она везла его на велосипеде по Кингс-Парейд под мигающими уличными фонарями и чувствовала, как сердце ее — в буквальном, физическом смысле — разрывается на части.
Представляет, как Джим стоит перед публичной библиотекой в Нью-Йорке, пряча мерзнущие руки в карманы, и высматривает ее в толпе прохожих, а она так и не появляется.
«Слишком все затянулось, — думает она. — Время пришло».
— Пора это прекратить, Дэвид.
В тишине, царящей на дороге, ее голос звучит неестественно громко.
— Я так больше не могу. Даже не могу подобрать слов, чтобы описать происходящее.
Дэвид не поворачивает головы. Ева смотрит на его профиль; через несколько месяцев ей исполнится сорок, она знакома с Дэвидом большую часть жизни, но человека, в которого ее муж превратился за последние годы, не знает совсем. Перед ней — лицо с афиши, непроницаемое, ничего не выражающее.
— Ты права, — отвечает Дэвид. Он говорит медленно, будто подбирает слова на чужом языке. — Эта ложь тянется слишком долго.
— Есть человек, которого я люблю. — Ева произносит это неожиданно для самой себя.
— Я знаю. И Джим заслуживает тебя, Ева. Я серьезно. Он любил тебя все это время.
Ева бессознательно поправляет платье. Внезапно в голове всплывают стихи Элиота; она зачитывалась им в студенческие годы: «И в памяти звучат шаги по дорогам, не выбранным нами…» Сколько сил ушло на разные уловки, полуправду и полуложь — и вот не осталось ничего.
— Когда ты узнал?
— Думаю, я всегда это знал.
Ева проглатывает ком в горле. Вывеска мотеля у дороги вспыхивает призрачным светом.
— Ребекка в курсе?
— Не уверен. Она ничего не говорила.
Еве становится легче дышать — когда-нибудь она сама все скажет дочери и Сэму.
— Мы не были с ними честны, верно?
— Мы не были честны друг с другом.
— Этого я не знаю.
Дэвид достает из бардачка пачку сигарет, прикуривает, отдает сигарету Еве.
— Мы оба поступали так, как считали правильным. И не из каких-то замшелых представлений о долге — я, знаешь ли, любил тебя. Возможно, до сих пор люблю. Мы просто не подходим друг другу, ты не находишь?
Они молча курят. «Он порядочный человек, — думает Ева, — под всей этой его оболочкой. Он действительно сделал все, что было в его силах». Другой кабриолет, сигналя, обгоняет их, из динамиков в машине доносится «Дип Перпл». Ева вглядывается в лица четверых подростков в поисках Ребекки — но дочери среди них не видит. Она откидывается на подголовник, докуривает сигарету до фильтра, размышляя о том, как внезапно все может поменяться; и еще о реакции Джима, когда тот узнает, что она сделала.
Машина плавно останавливается у дома Дэвида — современного здания из стали, стекла и бетона, — который так и не стал для Евы своим. Они не выходят из машины, им не хочется пока заходить внутрь.
— Хочу, чтобы ты была с ним счастлива, Ева, — произносит Дэвид. — Я действительно желаю тебе счастья.
Она протягивает руку и дотрагивается до его лица. Она не делала так много месяцев — да что там, много лет — и сейчас, прикоснувшись к его прохладной щеке, Ева вздрагивает от нахлынувших на нее чувств: страха, сожаления и радости, какую испытывала, когда любила Дэвида. Или верила, что любит. Или — что должна любить.
— Думаю, мы будем счастливы, Дэвид. Я верю.
Версия первая
Земля Бристоль, февраль 1979
Вивиан хоронят утром в пятницу: на улице — один из самых холодных дней в этом феврале, сырой и промозглый, хотя дождя нет.
Трава в церковном дворе замерзла и хрустит под ногами, когда они выходят из церкви. Пока процессия медленно движется — Джим поддерживает левый передний угол гроба, который все время больно врезается ему в плечо, — он может думать только о рабочих, рывших могилу; как долго, наверное, они пробивались сквозь замерзший верхний слой грунта к теплой рассыпчатой земле.
Он впервые присутствует на погребении. Ему приходилось бывать на похоронах — когда, например, три года назад скончалась Мириам. Но всякий раз речь шла о кремации: недолгая служба, напоминающая театральное действо, и гроб исчезает за ширмой, как по мановению фокусника.
От похорон отца в памяти Джима остался только проплывающий мимо красный бархат гроба, который под механические звуки удалялся неизвестно куда, и мать, неподвижно сидящая рядом с ним на церковной скамье (утром приходил врач и дал ей какое-то лекарство «для успокоения нервов»). Еще он помнит свои короткие штаны из колючей темно-серой шерсти.
Когда после звонка из полиции с известием о смерти матери к Джиму вернулась способность думать, он предположил, что и эта церемония пройдет так же. Но выяснилось, что планы уже составлены и нарушать их нельзя. Вивиан посещала церковь больше года. Джим не удивился, узнав об этом. В моменты просветления мать нередко охватывал религиозный фанатизм. Особенно трудно было, когда она увлеклась викканством: Джим находил дома странные вещи — венки из веток, гнездо с перепелиными яйцами, охапки засушенных цветов.
Синклер сказал, что Вивиан хотела быть похороненной в своей новой церкви: она боялась кремации, боялась, что ее сожгут заживо и криков никто не услышит. Джим не сказал: «Знаете, если моя мать хотела быть похороненной по христианскому обряду, не стоило тогда бросаться с моста», — пусть и подумал об этом.
Ему очень хочется утешить Синклера, который чувствует себя ответственным за случившееся, хотя Джим так не считает. Синклер виноват не больше самого Джима, а может быть, и куда меньше. Это Вивиан решила не принимать лекарства: в бачке туалета на первом этаже они нашли целый пакет. Вивиан хотела, чтобы к ней вернулись чувства. Она растолкла в порошок таблетку снотворного и подмешала Синклеру в вечерний виски, а затем незаметно вышла из дома и босиком пошла по холодному асфальту к мосту.
Обычный пешеходный мост — к нему вело ответвление от главной дороги; одному богу известно, почему Вивиан выбрала это место. Полиции о происшествии сообщил проезжавший мимо водитель: он увидел, как женщина падает с моста, и ее ночная сорочка белеет в свете фонаря.
— Она улыбалась, — сказал он. — Клянусь. Я этого никогда не забуду.
Джим знал детали, потому что попросил разрешения ознакомиться с показаниями водителя. Читая их, внезапно вспомнил историю, услышанную когда-то в одном из бристольских пабов, — он приехал из Кембриджа на каникулы и вечером отправился выпить пива в «Белом льве». Рассказывал ее мягкой бристольской скороговоркой высокий мужчина приятной наружности, ровесник Джима; он сидел в пабе в компании одетых в дешевые костюмы клерков с одутловатыми лицами. История была о том, как однажды работница местной фабрики, обманутая своим любовником, бросилась с подвесного моста в Клифтоне — и благополучно выжила. Ее широкая викторианская юбка сыграла роль парашюта.
— Дожила до восьмидесяти пяти, — подытожил рассказчик. Джим удивился тому, что до сих пор ясно помнит его лицо. — Стала живой легендой.
Рабочие подходят к краю могилы, готовясь опустить в нее гроб. Зеленое сукно, лежащее по краям, на фоне черной земли смотрится фальшиво. Джим отходит в сторону, отдавая гроб в крепкие руки рабочих — и в этот момент чувствует, как кто-то берет его за руку. Ева. С другого бока от него стоит Синклер — вид у него потерянный, такое ощущение, будто из этого человека выпустили воздух. Позади — Якоб, держа за руки Дженнифер и Дэниела. Когда священник, крупный, неуклюжий человек с мягким, добрым лицом — разумеется, надо быть добрым, чтобы разрешить церковные похороны самоубийцы, — подходит к могиле, Дэниел громким шепотом спрашивает у Якоба:
— Дедушка, что он делает?
— Прощается, — шепотом отвечает Якоб. — Мы все прощаемся с твоей бабушкой.
Потом кавалькада черных машин привозит их к дому Синклера — Джим так и не привык к мысли, что дом принадлежал и матери тоже. Там Ева и его тетки накрыли стол, поставили вино, пиво и шерри. Джим наливает себе остатки виски из бутылки, подаренной Синклеру на Рождество, — он выпил ее практически в одиночку за последние несколько бессонных ночей — и наблюдает за Евой, хлопочущей вокруг гостей. Она по-прежнему стройна, фигура не расплылась; темные волосы, собранные сейчас в короткий хвост, поседели, но выглядит как юная девушка, это правда.
Его девушка. Его жена. Женщина, знакомая лучше любой другой — уж точно лучше собственной матери, в которой таилась такая неисчерпаемая печаль. Ева уже совсем не та девчонка, что встретилась ему когда-то на окраине Кембриджа. Теперь она, можно сказать, публичная фигура: ее узнают на улице. Несколько недель назад в ресторане к ним подошел мужчина, ровесник Джима, и, даже не взглянув в его сторону, принялся восхищаться Евой. Джима это не задело — во всяком случае, не так, как задевало раньше. Тогда, в Греции, где они провели замечательный отпуск, он распрощался с этим неприглядным чувством горечи. И вернулся домой с давно забытым ощущением близости со своей замечательной женой, любви к детям, удовлетворенности от преподавания и возможности пробуждать в других ту любовь к искусству, какую познал сам.
Но постепенно им вновь овладело уныние, горечь поражения и несбывшихся надежд. Муж, отец, преподаватель рисования: скучный, ничем не примечательный, надежный. Не настоящий художник; не чета его другу Юэну, выставляющемуся в галерее Тейт. Недавно на какой-то вечеринке он услышал, как новый знакомый Евы — лощеный телепродюсер в синем костюме — интересовался, почему ее муж не захотел стать «толковым художником, как его отец».
— Но Джим художник, — ответила Ева. — И хороший, кстати.
Преданность жены, ее преднамеренная слепота вызывали у Джима гордость. (Он не рисовал уже много лет.) Тем не менее Евины слова задели его. Несколько дней он размышлял, действительно ли Ева верит в сказанное, считает это правдой, видит его мастером? И если так, что это означает для него самого? Ведь говоря начистоту — имеет ли Джим право вообще называться художником?
Он возвращается в реальность, видит лица людей.
— По крайней мере, она покоится с миром, — произносит какая-то женщина, примерно ровесница матери, с маленькими голубыми глазами, оттененными розовым. Джим кивает, не понимая, что надо сказать в ответ. Слова находятся только у его тетки Пэтси.
— Ты сделал для нее все возможное, Джим. Она тебя любила, ты был для нее всем, но в конце концов и этого оказалось недостаточно. Ей всегда чего-то не хватало.
Тетка хмурится, наблюдая, как Джим наливает себе новую порцию виски: вторую бутылку он привез с собой из Лондона.
— Поаккуратнее. Если напьешься до беспамятства, легче тебе не станет.
Пэтси права: он стал много пить. Не хочется винить мать, хотя это удобное объяснение. Уже на протяжении многих месяцев Джим замечает, как первый глоток приносит облегчение — делает мир другим, более понятным.
Самое лучшее время обычно наступает после ужина (по выходным это, бывает, случается и раньше). Напряжение дня спало, Дэниел уже лег, Дженнифер послушно сидит за уроками, Евы нет дома — как правило, Джим не помнит, где она и звала ли его с собой, — на кухне, залитой уютным светом, тихо. Вторая порция идет хорошо, за ней третья: окружающее пространство окрашивается в теплые цвета, вечер становится многообещающим. Четвертая и пятая порции — и вот обещания уже не сбылись, а в комнате сгустились тени. Тут он начинает задумываться: где Ева? И все остальные? Почему в доме так тихо? В этот момент Джима охватывает леденящее чувство одиночества, и пугающая мысль приходит ему в голову — он идет по пути не отца, а матери. Ведь наверняка Вивиан испытывала то же самое, темной безлунной ночью закрывая за собой входную дверь и отправляясь босиком бродить по улицам. Джим думает о том, что он сын своей матери, и страх охватывает его; тогда он наливает себе еще.
Сейчас, когда на улице темнеет и свет из окон кухни падает на тщательно ухоженный газон, Ева готовит кофе. Она ставит кружку перед Джимом, который давно уже сидит за кухонным столом. Большинство из тех, кто приходил выразить сочувствие, вероятно, разошлись: Джим слышит только голоса жены и Синклера, да еще тихое бормотание телевизора в гостиной.
— Я подвел ее, — произносит Синклер. — Прости меня, Джим.
Джим смотрит на отчима, на его мягкие, невыразительные, незапоминающиеся черты лица.
— Не извиняйся, Синклер. Ты ничего не мог поделать. Никто не мог.
На протяжении нескольких недель Джим безостановочно повторяет эту мысль на разные лады. И будет продолжать еще долго, хотя вряд ли в таком повторении есть толк. Он никогда не объяснит Синклеру, что в душе Вивиан царила тьма. И даже ненавидя и страшась ее, мать хотела нырнуть в пучину с головой. Джим знает это и потому тянется к бутылке виски, чтобы налить себе в кофе щедрую порцию.
— Джим…
В негромком голосе Евы звучит озабоченность, но Джим только мотает головой. Встает, берет со стола кружку, выходит в холл, открывает заднюю дверь.
Вначале Джим не замечает холода, но когда достает табак, бумагу и фильтр, то понимает: пальцы его не слушаются; проклинает погоду, собственную неловкость, все на свете… На пороге появляется Ева, забирает у него табак и бумагу и сворачивает пару сигарет. Они курят молча, глядя на темные замерзшие кусты. Курят, потому что говорить не о чем — пока от холода не начинает щипать лицо. Тогда оба поворачиваются и заходят в дом.
Версия вторая
Завтрак Париж, февраль 1979
Газетное объявление нашел Тед.
Совместный завтрак: кофе с бриошами, негромко вещает Си-эн-эн, по столу разбросаны газеты. Тед по-прежнему предпочитает читать их дома, но Ева может составить ему компанию только в пятницу утром — во все остальные дни надо быть в университете к девяти. Она часто приходит туда на час раньше, чтобы не торопясь подготовиться к занятиям, собраться с мыслями. Кабинет Евы на третьем этаже здания, где расположен факультет английского языка: небольшой, но хорошо освещенный, в окна заглядывают верхние ветки платана, стены обклеены киноафишами и репродукциями книжных обложек. Удовольствие, которое Ева получает от этого места, обставленного в соответствии с ее вкусом, удивляет. Она любит свою квартиру, полную мелочей, говорящих о том, что здесь живет семья (прислоненная к дивану гитара Сары; бумаги Теда на столе; свежевыстиранное белье на старинной стойке для сушки в кухне), но нигде не чувствует себя так хорошо, как в этом крошечном, давно не видевшем ремонта кабинете.
Даже сейчас, погрузившись в чтение заметки про забастовку водителей грузовиков, Ева мысленно переносится туда, где на письменном столе ее ждет стопка рассказов, написанных первокурсниками, и незаконченный отзыв на магистерскую заявку для Гарварда. Поэтому она не сразу понимает, о чем говорит Тед:
— Джим Тейлор. Ты была с ним знакома в Кембридже?
— Джим Тейлор?
Ева отрывает взгляд от газеты и видит серьезное лицо мужа.
— Что с ним?
— Его мать умерла. Очевидно, самоубийство. Ужасный случай.
Он аккуратно сворачивает пополам номер «Гардиан» и протягивает Еве.
«Вивиан Тейлор, вдова художника, умерла в возрасте шестидесяти пяти лет».
Это не первый текст в разделе некрологов, он помещен в самом низу полосы и сопровождается небольшой черно-белой фотографией хрупкой женщины в вышитом платье; рядом стоит коренастый мужчина ниже ее ростом. Коронер пришел к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.
«Остался сын Джим, также известный художник, и сестры Фрэнсис и Патрисия».
Ева вновь вглядывается в фотографию. Вивиан не улыбается, но Льюис Тейлор — мужчина, обнимающий ее за плечи, просто лучится счастьем. Льюис не красавец; невысокого роста, с грубоватыми чертами лица, совсем не похож на Джима, однако в нем, даже на крошечной газетной фотографии, ощущается невероятная энергия. Но Вивиан: вдова художника, мать художника… «Как ужасно, — думает Ева, — когда от человека остаются только имена тех, кого он любил, а больше о нем сказать нечего».
Тед смотрит на Еву.
— Ты ее знала?
— Нет.
Она откладывает газету.
— Я и Джима едва знаю. Мы не встречались в Кембридже, только позднее, в Нью-Йорке.
— А, извини.
Тед уже переходит к французским газетам и берет в руки утренний выпуск «Либерасьон».
— Значит, ошибся.
Позднее, во время обеденного перерыва, когда улицы заполняются машинами, спешащими на выходные за город, а из коридора доносится хохот и топот студентов, Ева в своем кабинете достает газету с некрологом и кладет ее поверх незаконченного отзыва на магистерскую заявку. Джим, конечно, похож на Вивиан чертами лица и хрупким телосложением. Она удивлена тем, что в некрологе не использовали фотографию Джима — его лицо более узнаваемо; Ева недавно читала статью, где говорилось, что его работа была продана на аукционе за ошеломительную сумму. Возможно, редактор решил, что для него и его близких это будет слишком болезненно. «Странно также, — думает она, — что нет ни слова о Хелене и их сыне. Как его зовут? Дилан. Очаровательный мальчик: темные волосы и живые, прищуренные на солнце глаза, в которых светится любопытство».
Из ящика стола Ева достает почтовую открытку с напечатанным адресом университета. «Слишком сухо, — решает она. — Слишком по-деловому». Вместо этой достает другую, купленную в музее Родена — на ней изображена композиция «Волна». Три женщины присели перед набегающим на них потоком зеленоватого оникса. Это не работа Родена, автор — Камиль Клодель. Вдова художника, жена художника: поймет ли Джим эту аналогию? Ева надеется, что нет.
«Дорогой Джим, — пишет Ева, — меня очень опечалила кончина твоей матери». Вычеркивает слово «кончина» и смотрит на испорченную открытку. Другой у нее нет; Джиму придется простить ее за ошибку. Она пишет «…смерть» — все остальное просто словоблудие. «И нет других слов. Иногда, мне кажется, язык не справляется с тем, чтобы верно передать наши чувства. Изобразительное искусство для этого приспособлено лучше, правда? Я надеюсь, ты в этих обстоятельствах по-прежнему можешь работать. Я думаю о тебе…»
Ева останавливается и сидит, в задумчивости постукивая концом авторучки по подбородку. «Часто» было бы преувеличением; она вспоминает Джима Тейлора изредка и мимолетно — например, умываясь или закрывая глаза перед сном — в те моменты, когда неосторожно позволяет себе задуматься о том, что могло бы быть. Дописывает: «С сочувствием и наилучшими пожеланиями. Ева Симпсон». Осталось только написать в правом верхнем углу адрес галереи Джима на Корк-стрит, и дело сделано.
Ева переворачивает открытку и несколько секунд смотрит на изображение — выражения лиц бронзовых женщин, застигнутых каменной волной, не вполне различимы — и кладет в карман пальто, собираясь отправить позже.
Следующие несколько часов проходят спокойно. Еву никто не тревожит, кроме нервной первокурсницы Мэри, которая не может дождаться занятия в понедельник и хочет прямо сейчас узнать, что Ева думает о ее рассказе; и Одри Миллз, принесшей ей кофе и выпечку из ближайшей булочной. Одри — крупная добродушная женщина, свои пышные седые волосы она заплетает в косу, переброшенную через плечо. Они обсуждают обычные темы: ремонт, который муж Одри делает в их сельском доме, расположенном к югу от Версаля; книгу Теда (он на полпути к окончанию работы над язвительным описанием французского характера глазами англичанина); Сару.
— Сегодня ведь концерт в честь окончания полугодия, верно? — спрашивает Одри, прожевывая кусок «наполеона».
Ева кивает.
— Начало в пять. Я хочу поскорее закончить с этим отзывом и поехать. Если опоздаю, мне лучше не жить.
В четыре Ева вынимает из пишущей машинки готовый отзыв и, аккуратно сложив его, кладет в конверт из плотной, кремового цвета бумаги. Затем проверяет, есть ли в сумке ключи от машины, пудреница и кошелек. По пустынным коридорам факультетского здания эхом разносится дробь ее каблуков. Ева спускается вниз и желает хороших выходных охраннику Альфонсу.
Пятничные пробки еще не рассосались: ей долго не удается вывести свой маленький «рено» на авеню Боске, а когда Ева добирается до моста Альма, движение замирает окончательно. На часах уже половина пятого. Она нервно постукивает пальцами по рулю и пытается уговорить себя, что бывают пробки и похуже; день выдался облачный, унылый, но высокие серые здания на правом берегу Сены прекрасны в своем монохромном аскетизме.
Ева смотрит на небольшую лодку, которая покачивается на угрюмых водах Сены, и невольно вспоминает о матери, о том, как однажды летом, вскоре после их с Тедом свадьбы, Мириам и Якоб приехали в Париж. На речном трамвайчике они доплыли от Нотр-Дам до Эйфелевой башни. На открытой палубе негде было укрыться от жары, и Сара все время клянчила мороженое. Чтобы успокоить ее, Ева достала из сумки пакет апельсинового сока, и Сара — похоже, вполне сознательно — вылила его на свое новое белое платье. Ева рявкнула на дочь, а затем и на Мириам; они решили не подниматься на лифте на Эйфелеву башню, а пошли в близлежащее кафе, где царила прохлада.
Ева ясно видит эту картину: мать копается в сумке в поисках носового платка; Тед и Якоб ведут разговор, тактично делая вид, что ничего не произошло; Сара поедает мороженое с фруктами, в котором Ева не смогла ей отказать. Еве тогда стало очень стыдно, она взяла мать за руку и сказала по-немецки:
— Прости меня, мама.
И Мириам ответила:
— Глупости, Schatzi. Что тут прощать?
Мысли о матери по-прежнему не оставляют Еву, когда в четверть шестого она наконец добирается до школы. Тед дожидается ее у входа, ссутулившись от холода.
— Не переживай, — говорит он Еве, когда та, обессиленная, выбирается из машины. — Концерт еще не начался. Скажи спасибо французской пунктуальности.
Ева целует Теда, восхищаясь его способностью сохранять спокойствие в любых обстоятельствах. Спорить с ним невозможно: Тед слушает и принимает решения, никогда при этом не повышая голоса. Всего несколько раз Ева видела его по-настоящему рассерженным, и даже в тех случаях его выдавали только покрасневшее лицо и резко замедлившаяся речь. «Его так просто любить», — думает Ева, берет Теда под руку, и они идут по коридору в актовый зал. Его легко любить и Саре, к которой он относится с искренней теплотой. Когда Ева видит их вдвоем, то иногда жалеет, что у Теда не может быть собственных детей. Он сказал об этом в одну из первых ночей, проведенных ими в его квартире в Сент-Джонс-Вуде — так просто и неэмоционально, что стало ясно: он боится потерять ее и отношения, которые они терпеливо и старательно строят. Но Ева притянула его к себе и ответила с уверенностью, которую по-настоящему ощутила только позднее:
— У меня есть дочь, Тед. Будь ей отцом. Надо быть благодарными за то, что мы имеем.
Сара выступает одной из последних. Ева, едва дыша, смотрит, как дочь появляется из-за кулис, усаживается на стул, стоящий в центре сцены, и пристраивает гитару на колене. Она очень похожа на Дэвида — тот же рост, та же небрежная элегантность, те же точеные черты лица, — но непробиваемой самоуверенности отца в ней нет и в помине. «Да и откуда ей взяться, — думает Ева, — если начиная с пятилетнего возраста она видит его от силы два раза в год».
Иногда Ева задается вопросом, не стала ли застенчивость дочери — преподавателю музыки понадобилось несколько недель, чтобы убедить Сару принять участие в концерте, — своеобразной реакцией на известность Дэвида. Здесь, в международной школе, где учатся дети дипломатов, писателей и бизнесменов, мало кто интересуется ее родителями. В Лондоне дело обстояло иначе: Сару дразнили и обзывали, она чувствовала себя изгоем. Ева медленно, исподволь добивалась от нее правды о происходящем: «Ты думаешь, это из-за того, что твоего папу показывают по телевизору?» Хотя ей хотелось немедленно отправиться в школу, схватить директрису за горло и таким образом положить конец страданиям дочери. Но ради блага Сары она поборола этот порыв. А вскоре Тед сделал ей предложение и заговорил о возможном переезде в Париж; и вот они здесь.
Сейчас Сара неподвижно сидит на сцене. Секунд через десять-двадцать в зале устанавливается тишина. Еву охватывает страх, что Сара может просто подняться и уйти; она так крепко держит Теда за руку, что на ладони у него остаются красные отметины; он продемонстрирует их Еве позже. Но после паузы, которая кажется бесконечно долгой, Сара начинает играть. И у нее хорошо получается — Ева ясно осознает это, и дело не только в ее материнской гордости. Музыкальность Сара унаследовала от бабушки; как только она начала играть, Ева услышала дружный выдох других родителей. Когда раздались аплодисменты, Сара стояла на сцене, раскрасневшись, растерянно глядя в зал, будто забыла, что в нем есть публика.
Как и обещали, после концерта они ведут Сару и ее подругу Хейли ужинать. Родители Хейли тоже идут с ними. Кевин, риелтор из Чикаго, занимается элитными квартирами для экспатов, и Тед обсуждает с ним недвижимость. На другом конце стола секретничают Сара и Хейли, пряча лица под спадающими волосами. Диана — маленькая изящная женщина с изысканными манерами уроженки южных штатов — наклоняется к Еве так близко, что можно почувстввоать аромат духов «Шанель», исходящий от ее шейного платка «Гермес».
— Не могу поверить, что они уже такие взрослые. — Я тоже.
В представлении Евы ее дочь остается толстощеким младенцем, ползающим по ковру, или пятилетней девочкой, топчущей пухлыми ногами газоны Риджентс-парка. Порой, когда Сара заходит в комнату, Ева не сразу может отогнать эти видения.
Сейчас она не вспоминает об открытке, которая так и остается лежать в кармане пальто; вернувшись домой, Ева повесит его в прихожей и не будет носить еще почти неделю. А надев, только под вечер сунет руку в перчатке в карман и обнаружит неотправленное послание. Перечитав его, Ева удивится написанному. «Зачем Джиму Тейлору, — подумает она, — соболезнования от малознакомой женщины?» Выбросит открытку в корзину для бумаг, стоящую под столом, и забудет о ней на много лет.
Версия третья
Земля Бристоль, февраль 1979
— Чем я могу помочь? — спрашивает Ева.
До этого момента оба долго молчали. Джим слышал, как она приближалась по посыпанной гравием дорожке, но подошла не сразу. Ева стояла у него за спиной на некотором расстоянии, Джим точно знал, что она здесь, будто слышал ее голос; и, как всегда, испытал приступ радости. Он мгновенно устыдился этого: стоять в одиночестве у могилы матери после того, как остальные уже отошли, — и испытывать радость?
— Просто побудь со мной.
Не снимая перчаток, Ева взяла Джима за руку, и черная кожа сплелась с серой шерстью. Ева купила ему новые перчатки и пальто, вручила подарок в элегантном полосатом пакете. Джим пытался возражать, говорил, что это слишком, но Ева только покачала головой:
— Возьми. Пожалуйста, дорогой, позволь мне сделать что-то для тебя.
Сейчас Джим радуется новому пальто: лицо и шея уже успели замерзнуть.
Он не знает, сколько простоял здесь после того, как последний комок земли упал на крышку гроба и викарий пробормотал завершающие печальные слова молитвы: «Господу нашему, Иисусу Христу, вверяем мы тела наши бренные…»
Десять минут? Полчаса? Викарий — деликатный человек с мягкими чертами лица — закрывает книгу и отходит в сторону. Рабочие дружно делают шаг вперед. Пришедшие на похороны негромко переговариваются между собой, Синклер вопросительно смотрит на Джима. Софи тянет его за руку:
— Папа, я замерзла.
Джим не двигается. Он стоит молча, пока все не уходят: даже Ева, которая во время церемонии находилась не рядом с ним, как ему хотелось, а сзади, поддерживая Якоба. (Несколько недель назад ее отец упал и до сих пор ходил с тростью.) С другой стороны от нее стоял Сэм, тихий и молчаливый, в черном костюме, который был ему мал. Ребекка держалась позади — темные волосы подобраны и заколоты, ногти покрашены уродливым красновато-коричневатым лаком. Она не хотела приходить на похороны — ее курс в Королевской академии театрального искусства заканчивал репетировать «Зимнюю сказку», — но Ева настояла. Джим слышал, как они шепотом препирались в темноте: квартира в Риджентспарке недостаточно велика для четверых — тем более для пятерых, поскольку Софи с недавних пор живет с ними. Теснота порождает взаимные претензии: иногда, открывая входную дверь, Джим ощущает накопившееся напряжение — так чувствуется запах табака в непроветренной комнате.
Споры вспыхивают с удручающим постоянством, но участвуют в них одни и те же: Ева и Ребекка, Софи и Джим. Все остальные отношения пока еще остаются настолько хрупкими и неопределенными, что никто не решается на прямой конфликт. С Евой Софи застенчива, немногословна, слабо реагирует на мягкие попытки мачехи установить контакт (длительный тур по магазинам в поисках обуви для школы, прошедший в гробовом молчании; поход в кино; посещение концерта оркестра, в котором играет Якоб). Джим и Ева ведут себя с девочкой терпеливо, подозревая, что ее решение переехать в Лондон, оставив школу, друзей, всю свою жизнь в Корнуолле, продиктовано не столько тем, что она простила Джима, сколько ухудшением отношений с матерью. У Хелены начались многочисленные романы — Джим знает об этом со слов дочери и из язвительных писем самой бывшей жены — с мужчинами моложе ее. Последнее увлечение — электрик по имени Данни, парень возраста Ребекки. Хелена познакомилась с ним, когда он пришел чинить проводку в летнем домике.
— Это отвратительно, — сказала Софи с трогательным достоинством. — Я больше никогда не хочу ее видеть.
Между тем Ребекка пришла в ярость, когда Ева настояла, что во время учебы в академии она будет жить с ними, дабы не выбрасывать деньги на дорогие съемные квартиры, и теперь по большей части ведет себя так, будто Джима здесь вообще нет. А Софи явно побаивается Ребекки с ее беспечностью, гламурными замашками и привычкой громко декламировать роли, стоя перед зеркалом в ванной. Сэм, похоже, единственный, кто спокойно воспринял перемены в доме — у него легкий характер, он прилежно учится и страстно увлечен футболом, космическими путешествиями и конструированием. Джиму это чуждо, но он изо всех сил старается демонстрировать свою заинтересованность. Конечно, эта квартира — неподходящий вариант. Джим и Ева решили: им надо найти свое место, полное свежести и света. Место, где можно будет все начать заново.
Стоя в одиночестве у края могилы, обрамленной зеленым сукном, и вспоминая об этом и о многом другом (о том, например, как Вивиан смешивала краски в кладовой их дома в Сассексе; о том, как она выглядела в больнице — исхудавшая, плохо видящая, в очках), Джим мимоходом подумал, как смотрится со стороны. Будто представил себя на фотографии, сделанной с большого расстояния: убитый горем сын у могилы матери. Но рядом со свежевырытой ямой он ощущал не столько печаль, сколько странную пустоту. Истощение. Облегчение. Спокойствие, наступающее после того, как долгожданное событие остается в прошлом.
— Пора ехать, — негромко произносит Ева. Джим кивает: он совсем забыл о черном лимузине, которым управлял шофер в кепке с узким козырьком. Ева сжимает руку Джима, они поворачиваются и направляются к выходу. Парковка у церкви почти опустела: остался только маленький «ситроен» Евы (арендованная машина всех не вместила) и черный лимузин. На заднем сиденье Джим видит женщину, прижавшуюся к затемненному стеклу. Бледное лицо, широко поставленные голубые глаза. У него учащается дыхание: Хелена. Джим всматривается, моргая — черты лица трансформируются, зрелая женщина превращается в девушку. Это Софи.
Когда Джим сказал Хелене, что уходит, на ее лице появилось такое выражение, словно он ее ударил. Он хотел бы испытать жалость, но Хелена выглядела слишком неприглядно и была настолько переполнена желчью, что после того, как она назвала Еву «презренной женщиной», ему стоило больших усилий выйти молча, затворив за собой дверь. Хотя именно так он в конце концов и поступил, оставив ее рыдать на кухне среди разбитой посуды — Хелена швыряла в него тарелками, а позднее в мастерской набросилась с ножом на его работы.
Джим посмотрел наверх, на дверь в комнату Софи — она в это время была в школе — взял чемодан и отправился на улицу. До этого он оставил на подушке у дочери письмо, где, как мог, объяснил причины своего ухода и сказал Софи, что они с Евой всегда будут ей рады. Много позже Джим понял, какую ошибку допустил, не поговорив с дочерью лично. Он не знал тогда, что в следующий раз увидится с Софи только спустя три месяца. А еще через полгода низкий, угрожающий голос Хелены скажет ему по телефону, что Софи хочет уехать из Корнуолла и поселиться у него.
— Она выбрала тебя. Вот и все, Джим, — произнесла Хелена. — Ты забрал все, что у меня было. Теперь, надеюсь, ты счастлив.
Он действительно был счастлив — в этом и состояла чудовищная правда — не бездумно и напоказ, а глубоко, по-настоящему. И счастье, как осознал Джим, являлось не состоянием, а формой честного существования: это было ощущение собственной правоты. Он пережил его когда-то давно в Кембридже вместе с Евой; искал в отношениях с Хеленой и нашел в них много подлинного, но не того, в чем нуждался. И вот, много лет спустя, Джим вновь обрел это с Евой, снова почувствовал счастье или что-то похожее, каким бы трудным и тернистым ни был путь к нему сквозь годы.
Сложности закончились 8 января 1978 года. Он навсегда запомнил тот день. Ева только что вернулась из Лос-Анджелеса, они договорились провести ночь в своей любимой гостинице в Дорсете. При встрече Джим сразу почувствовал в ней перемену. Он испугался, что Ева в конце концов решила расстаться с ним. Все оказалось наоборот: она уходила от Каца.
— Мне нужен ты, Джим, — сказала она. — И так было всегда.
В этот момент он осознал: все верно, все части пазла сошлись. На следующий день Джим поехал в Корнуолл и собрал вещи. Сейчас он провожает Еву до машины, в которой сидят Якоб, Сэм и Ребекка — ее семья, ставшая и его семьей тоже.
— Увидимся на месте, — говорит Джим, целуя Еву. Затем садится на заднее сиденье арендованного автомобиля.
— Домой, сэр?
Джиму хочется ответить: «Это место никогда не было моим домом». Но он говорит:
— Да, пожалуйста. Извините, я заставил вас ждать.
Дом Вивиан и Синклера находится неподалеку от церкви; можно было дойти до него пешком, но организаторы похорон настояли на том, что нужны машины. Они едут по окраинам Бристоля, где запущенные поля уже изуродованы новостройками и гигантскими трубопроводами. За окном проплывают китайский ресторан, прачечная, обширная территория школы, откуда раздаются крики невидимых с дороги детей, играющих на площадке. На часах половина первого, время обеда.
— Ты проголодалась, дорогая?
Софи сидит рядом с ним, держа спину прямо, на щеках по-прежнему следы слез. Она качает головой, и Джим испытывает сильнейшее желание обнять ее — как не раздумывая и сделал бы еще несколько лет назад.
Только приехав в Корнуолл за Софи, Джим понял, как сильно дочь злится на него. Чемоданы с ее вещами, школьными учебниками, коллекцией смешных кукол с жесткими пластмассовыми лицами и разноцветными блестящими волосами заняли весь багажник и заднее сиденье машины.
В прихожей Джим притянул дочь к себе — к большому облегчению, Хелены не было дома — и почувствовал, как неохотно она откликается на объятия.
— Я так рад твоему переезду, — прошептал он на ухо Софи. — Мы оба этому рады. Я и Ева.
— Я переезжаю только потому, — ледяным тоном ответила дочь, — что маму больше видеть не могу.
Вивиан, к удивлению Джима, тоже разозлилась не на шутку. Ему казалось, что они с Хеленой не были особенно близки; но когда мать узнала о «дезертирстве» Джима, как она это назвала, то позвонила по телефону в квартиру Евы, и у них с Джимом состоялся крайне неприятный разговор.
— Ты животное, — прошипела Вивиан; слышно было, как Синклер пытается ее успокоить: «Ну, Вивиан, перестань, не надо так».
Он также получил много писем, написанных ее крупным причудливым почерком. «Ты ничем не лучше своего отца. Вы оба эгоисты. Вы думаете только о себе и своих проклятых картинах». И наконец она явилась лично. Ева открыла дверь; Вивиан — в широкополой шляпе, с неровно накрашенными розовой помадой губами — величественно проплыла мимо нее.
— Что вы сделали с моим сыном? — спросила она.
Будь Вивиан человеком иного склада — или имей ее болезнь другую природу, — эта сцена выглядела бы смешной, будто вышедшей из-под пера Оскара Уайльда. Таких полно в пьесе «Как важно быть серьезным». Но сейчас никто не смеялся.
— Ты разрушил жизнь своей дочери, — сказала Вивиан Джиму. Ева в это время разливала чай, поглядывая на Вивиан с осторожной тревогой. Отпив глоток из своей чашки, мать добавила: — Ты разрушил мою жизнь. Вы оба.
Джим догадывался — всегда это подозревал, — что в действительности эмоции Вивиан адресованы его отцу. В тот же вечер он отвез мать обратно в Бристоль — она уехала, когда Синклер был в ванной, не сказав, куда направляется. В машине Вивиан почти сразу заснула, и лишь огни фонарей отражались на ее лице. Джим переночевал в свободной комнате, а к утру Вивиан вновь стала вменяемой — по крайней мере, на время. Перед отъездом Синклер отвел Джима в сторону.
— Мне кажется, она бросила принимать лекарство. Но врачи ничего не станут делать до тех пор, пока она не угрожает самой себе. Я просто не знаю, что предпринять.
Все, что Джим мог посоветовать Синклеру, — не беспокоиться: рано или поздно, при помощи лекарства или без него, но самочувствие матери придет в норму, как это происходило всегда. Но прошло чуть меньше года, Вивиан подмешала Синклеру снотворное в стакан с виски и поздней ночью ушла из дому. Случайный водитель нашел ее тело неподалеку, возле опоры эстакады. Записки она не оставила.
В доме тетки Джима расставляют на столе тарелки с бутербродами и сосисками в тесте. Ева, приехавшая на несколько минут раньше его, нарезает пирог с клубникой и взбитыми сливками. Народу немного: молчаливыми группами в гостиной стоят человек двадцать. Здесь Стивен и Прю, Джози и Саймон, приехавшие из Корнуолла. Даже Говард и Кэт прислали один из изящных карандашных набросков Кэт с бутылкой из-под молока, лежащим рядом букетом тюльпанов и витиеватым «Соболезнуем» внизу.
Джим курит вместе со Стивеном в углу гостиной.
— Мне понравилась служба, Джим, — негромко говорит Стивен, одетый в строгий темно-серый костюм. Джим вспоминает, как вечерами — сколько их было, не сосчитать — они сидели вдвоем, и он рассказывал другу о любви к Еве и неспособности что-то решить; о своем отношении к отцу и матери.
Стивен, как теперь понимает Джим, — единственный человек, который знает про него все; даже с Евой он должен следить за своими словами, чтобы не причинить ей боли. Не говорить, например, об эротических сценах, описанных в злых письмах Хе-лены. Или о том, как при их первой встрече Якоб отвел Джима в сторону и вежливо предупредил: Джим не имеет права поступить с Евой и ее детьми так, как поступил с Хеленой и Софи. Стивен знает все и обо всем — и они по-прежнему друзья. Вот он, рядом. Джима охватывает горячая благодарность к нему.
— Спасибо, что приехал. Я серьезно.
Стивен откашливается.
— Не стоит. Это меньшее, что я мог сделать.
В противоположном углу гостиной его тетка Пэт спрашивает викария, не хочет ли он чаю; Джим ловит ее взгляд, кивает.
— Прости, Стивен, я на минуту.
На кухне Синклер наполняет чайник водой.
— Давай я сделаю, — предлагает Джим, но отчим твердо отводит его руку:
— Ради бога, Джим, я в состоянии сам приготовить этот чертов чай.
— Да, разумеется. Прости.
Джим берется за чашки и блюдца. Кто-то — Пэтси, скорее всего, — аккуратно расставил их на комоде рядом с кувшином для молока и сахарницей, вручную расписанной желтыми цветами, — она из другого, парадного сервиза. Джим помнит эту посуду по их дому в Сассексе: такие чашки Вивиан доставала, когда приходили гости. Одну из них она однажды разбила, метнув через всю кухню в голову отцу. Промахнулась, и осколки потом несколько дней лежали на полу.
Джим подумал об этом в тот день, ровно год назад, когда уезжал от Хелены — от осколков разбитых ею тарелок на полу, от выжженной пустыни, в которую превратились их отношения, их любовь, — подумал и только тогда ощутил всю тяжесть принятого им решения.
Но по мере приближения к Лондону — а значит, к Еве, к их долгожданной совместной жизни — Джим ощущал, как печаль его слабеет. «Интересно, отец чувствовал себя так же, когда уезжал вместе с Соней? — думает он сейчас. — Но он тем не менее вернулся, а я — нет. Значит ли это, что Льюис был лучше меня?»
— Прости, Джим. За резкость.
Джим на мгновение забыл о присутствии Синклера. Он поднимает голову и видит сокрушенный взгляд отчима. Трясущимися руками Синклер ставит чайник на подставку. Джим никогда не слышал от него ругательств.
— Неважно. Что я могу сделать?
Джим неосознанно повторяет фразу, сказанную Евой на кладбище. Он заглядывает в гостиную через проем для подачи блюд в надежде увидеть ее. Он помнит о ней всегда, но время от времени ему надо видеть Еву, чтобы убедиться: ниточка, связавшая их с первой же встречи в Кембридже, не порвалась. Джим до сих пор помнит, как прекрасна она была в тот день, ее внимательный взгляд и безукоризненную осанку.
Наконец он находит взглядом Еву — та протягивает тарелку с пирогом незнакомой пожилой женщине. Ева стоит спиной к нему, но, почувствовав на себе взгляд — или испытав то же, что и Джим, — оборачивается. «Вместе с тобой я могу вынести все, — беззвучно говорит он ей. — Будь со мной».
Ева едва заметно улыбается ему в ответ, как будто просто отвечает: «Да».
Часть третья
Версия первая
Белла Лондон, сентябрь 1985
Белла Херст возникает в жизни Джима в прохладный сентябрьский день, когда на улице ясно и безоблачно, а лужи на детских площадках еще не просохли после ночного дождя.
Семестр вот-вот начнется: в классах пахнет краской, а паркет в актовом зале сияет свежим лаком. В коридорах царит тишина — мальчики появятся только завтра, — и Джим неторопливо наводит порядок в классе для рисования, расставляя по полкам банки с тушью и маслом. Он наслаждается покоем; скоро здесь вновь воцарится шум и гам.
— Мистер Тейлор?
В дверном проеме Джим замечает девушку — позднее он поймет, что та на самом деле старше, чем показалось вначале, — которая как будто не решается войти.
Он смотрит на нее против солнца, свободно проникающего сквозь свежевымытые окна и заливающего своим светом мольберты, парты, растровые экраны, — и видит только ее силуэт. Шапка кудрявых волос, широкая белая юбка. Легинсы и высокие ботинки. Кожаный рюкзак, переброшенный через левое плечо.
Джим откладывает в сторону коробку с красками. — Да?
— Белла Херст.
Она протягивает ладонь, он делает то же самое. Рукопожатие у девушки крепкое.
— А, это вы, — произносит Джим.
— Вы меня не ждали?
— Ждал. Ну, я знал, что вы должны прийти. Но я…
Джим хочет сказать: «Я не представлял себе, что вы так безрассудно молоды».
В августе ему позвонила Дейдра, секретарша Алана: Джерри, заместитель руководителя отделения, в котором работал Джим, в отпуске упал во Франции с велосипеда и сломал ногу, теперь ему ищут замену. Много времени это не заняло: через несколько дней Дейдра позвонила вновь с известием о том, что новый преподаватель найден. В это время Джим и Ева собирались вместе с детьми в Корнуолл — Пенелопа и Джеральд позвали их на две недели в свой летний дом неподалеку от Сент-Айвз. Когда раздался звонок, Ева стояла рядом с ним в прихожей и укоризненно смотрела на часы, поэтому Джим запомнил имя — Белла Херст — и выбросил разговор из головы.
— Называйте меня Джимом, — говорит он. — Мистер Тейлор я только для мальчиков.
— Хорошо, Джим.
Белла отступает на шаг, снимает с плеча рюкзак.
— Проведете для меня обзорную экскурсию?
Он водит ее по классу, демонстрирует содержимое полок и ящиков, учит включать проектор, показывает, где хранится грубая бумага, предназначенная для младших, а где — ватман для шестиклассников. Она старше, чем показалось сначала (Джим принял Беллу за ровесницу Дженнифер), на самом деле ей, наверное, лет двадцать пять. На голове у нее копна темных волос, и, присмотревшись, Джим замечает, что глаза у Беллы разного цвета — один голубой, другой почти черный.
— Как у Дэвида Боуи, — говорит она. Джим как раз включил проектор, и на дальней стене появилось искаженное изображение «Подсолнухов» Ван Гога.
— Что?
— Я про глаза. У Боуи они такие же странные — голубой и черный.
— А-а.
Джим выключает проектор, и цветы исчезают со стены.
— Вообще-то я не…
— Не всматривались? Я знаю. Мне просто нравится говорить людям, что у меня есть что-то общее с Боуи.
Джим кипятит воду в старом, испачканном краской чайнике, который хранится на дальней полке, заваривает чай. Они сидят на высоких стульях перед партами, образующими полукруг со столом Джима в центре. Белла рассказывает о себе: среднее образование получила в Кэмбервелле, бакалавром стала в колледже Святого Мартина, а магистром в Королевском колледже. Она арендует мастерскую в Пекхэме, а живет в сквоте, самовольно захваченном старом здании в Нью-Кросс. Джим инстинктивно ежится, представляя себе щели в полах, мышей и текущую крышу, а позже будет ругать себя за мелочность. «С каких это пор, — подумает он, — ты стал так откровенно буржуазен?» По городу Белла ездит на велосипеде; раньше никогда не преподавала (ее учитель в Королевском колледже, школьный приятель Алана, рекомендовал Беллу на это место); и от всей души осуждает платное образование. Прихлебывая чай, она говорит с улыбкой:
— Вероятно, это прозвучало лицемерно.
— Не без того.
Джим допивает в неловком молчании, не зная, что сказать этой девушке — или женщине — кудрявой, в мешковатой одежде, тараторящей со скоростью пулемета и легко меняющей темы разговора.
— Но, наверное, не стоит об этом распространяться.
Белла отставляет свою чашку.
— Да. Скорее всего, вы правы.
Она достает из рюкзака пачку табака.
— Свернуть вам? Джим улыбается.
— Я сам, если не возражаете.
Они выходят на пожарную лестницу, где Джим и Джерри обычно устраивают перекур на утренней перемене, собираясь с силами перед встречей со следующей партией скучающих подростков. Джим пришел к выводу: ребята просто не понимают, как им повезло; какая это редкая удача — учиться в такой школе, с башенками из красного кирпича, вековыми дубами и широкими газонами. Отцы этих мальчиков — банкиры и адвокаты: лощеные, при деньгах и титулах, они становятся богаче с каждым месяцем благодаря усилиям Маргарет Тэтчер.
Искусство, с точки зрения большинства учеников Джима, лишено смысла. Для них это всего лишь способ беспечно провести время с красками и ножницами в руках, прежде чем вернуться к серьезным вещам — экзаменам по математике, дискуссиям об общественном устройстве и тренировкам по регби. Но всегда находятся мальчики — один или двое за год — непохожие на других, которые смотрят на натурщицу (стареющую актрису, полностью одетую), потом склоняются над своими рисунками, и под их карандашом изображение на бумаге оживает. Ради таких мальчиков Джим встает рано утром, повязывает галстук и приводит в порядок прическу. Ради них — а также ради Евы, Дженнифер и Дэниела — он способен вечером остановиться на пятой порции и не ждать, когда после шестой или седьмой к нему придет сладкий, стирающий память сон.
— Вы ведь учились в Слейде, верно?
Белла стоит, подставив лицо теплым солнечным лучам. Потом она всегда будет вызывать у Джима ассоциации с игрой света и тени. Как фотографии Мана Рэя, сделанные на зернистой монохромной пленке.
— Верно. Откуда вам известно?
Белла открывает глаза. Из-за того, что они разного цвета, взгляд ее оставляет тревожное ощущение, будто она смотрит сквозь собеседника.
— Виктор сказал. Мой преподаватель. Он видел ваши работы. И конечно, все знают вашего отца. Великого Льюиса Тейлора.
Джим пытается понять, не дразнит ли она его.
— Я уже много лет не занимаюсь творчеством всерьез.
— Что ж.
Белла докуривает сигарету и тушит окурок в горшке с песком, который они с Джерри приспособили под пепельницу.
— Наверняка у вас есть на то свои причины.
Джим кивает, размышляя, стоит ли продолжать разговор, но Белла уже поворачивается, чтобы уйти.
— Мне предстоит встреча с полковником.
Заметив его замешательство, девушка смеется.
— С Аланом Данном, с кем же еще. По словам Виктора, он руководит школой так же, как командовал полком.
Она уходит, и в классе для занятий живописью внезапно образуется пустота.
Джим продолжает наводить порядок на полках. Скоро обед, и остаток дня пройдет в совещаниях, составлении расписания, подготовке к занятиям. И только сев в машину и помахав на прощание Белле Херст, проезжающей в этот момент мимо на велосипеде, он вновь задумается над ее словами.
«Наверняка у вас есть на то свои причины». И пока Джим едет по извилистой дороге в направлении Джипси-Хилл, он пытается вспомнить, в чем же эти причины заключаются.
Версия вторая
Скорая помощь Рим, май 1986
— Милый, ты здесь?
Ева ставит сумки с покупками на пол в прихожей. Останавливается у ступенек, ведущих на второй этаж, прислушиваясь к тишине.
— Тед, я собираюсь готовить обед. Ты спускаешься? Вновь тишина. Наверное, Тед ушел: его расписание непредсказуемо, оно зависит от заголовков утренних газет и срочных звонков из Лондона. Крис Пауэрс, его новый редактор — необычайно моложавый мужчина с гладким лицом, недавно перешедший в их редакцию из «Мейл», — невероятно требователен. Ева чувствует, как тратит его драгоценное время даже в те несколько секунд, когда поднимается наверх, чтобы позвать мужа к телефону.
Она берет сумки и несет их на кухню. Умберто, лежащий на кухонном столе, поднимает голову и приветственно мяукает. Еве приходится согнать его. Они завели кота вскоре после переезда в Рим, и с тех пор все попытки обучить его хорошим манерам терпели фиаско. Тогда он представлял собой трогательный блохастый комок шерсти, который гонялся за мухами и непрерывно скреб себя лапой. Но Ева редко находит в себе силы ругать Умберто; вместо этого она чешет ему мордочку и в любимом месте, за ушами. Кот жмурится и мурлычет, подставляя живот. Когда Ева откликается на его просьбу, взгляд ее случайно падает на стол. Бумажник, ключи и водительское удостоверение Теда. Три вещи, без которых он никогда не выходит из дома.
Рука Евы замирает. Она напряженно прислушивается к происходящему наверху — не доносится ли оттуда негромкий голос мужа, разговаривающего по телефону, или стук пишущей машинки. (Он с осторожностью относится к текстовому процессору[16], подаренному ему Евой на шестидесятилетие, утверждая, что размытые зеленоватые буквы появляются на экране слишком быстро.) Но ничего не слышит — только урчание кота, жужжание древнего холодильника и невнятные крики соседки, синьоры Финелли, которая пытается сказать своему глуховатому мужу, что пицца готова. А затем раздается странный звук, похожий на поскуливание раненого животного.
Ева пулей взлетает наверх. Перед дверью в комнату Теда она останавливается, пытаясь отдышаться. Стон становится громче: как будто тот, кто его издает, пытается найти слова, но ему подвластны только бессвязные протяжные гласные. Она открывает дверь и видит спину Теда, выпрямившегося в кресле за столом. Первое, что приходит ей в голову: «Следов крови нет». И второе, когда Ева подбегает к мужу и поворачивает к себе лицом: «О, господи!»
Лицо Теда выглядит окаменевшим, подвижны лишь глаза. Он смотрит на нее изумленным детским взглядом (на секунду Еве вспоминается двухлетняя Сара, заболевшая ветрянкой, закутанная в промокшие от пота простыни), пока она гладит его по щеке.
— Дорогой, что случилось? Тебе больно?
Ева не ждет ответа: из полуоткрытого рта Теда вырывается только уже знакомый стон — будто он собирался что-то сказать, но остановился на полпути, когда его тело окаменело.
— Я вызываю скорую помощь. Не шевелись, пожалуйста. Я здесь. С тобой. Мы отвезем тебя в больницу как можно быстрее.
Ева хватается за телефон, стоящий на столе Теда — тот наблюдает за ней. Пока Ева набирает номер скорой помощи, ее взгляд останавливается на первой странице перекидного блокнота — верхняя страница покрыта мелкими каракулями. Разобрать нельзя ни слова.
Ева берет левую руку Теда в свою.
— Скорая помощь? — произносит она в телефонную трубку.
Спустя несколько часов Ева сидит на металлическом стуле в приемном покое больницы скорой помощи. Это низкое современное здание в пяти минутах ходьбы от их дома; Ева проходила мимо бесчисленное количество раз, направляясь в Трасте-вере. Их дом расположен у высокого холма Монтеверди-Веккио; от улицы его отделяют железные ворота, а ко входу ведут крутые ступени. Вдоль них соседи посадили ароматную зелень, газонную травку и пурпурные бугенвиллеи, лепестки которых сейчас, в последние дни лета, укрывают каменную лестницу.
Ева идет этим путем почти каждое утро — спускается не торопясь, останавливаясь, чтобы поздороваться с синьорой Финелли и насладиться мягким, желтоватым римским светом, отражающимся от черепичных крыш и окон обветшалых дворцов. В кафе на площади она заказывает кофе и мороженое — иногда в компании с кем-нибудь из друзей, но чаще в одиночестве. Заходит на рынок, где покупает помидоры, перец, кабачки и несколько шариков моцареллы; они перекатываются в целлофановом пакете, как пойманная рыба. Затем медленно идет обратно и проходит мимо больницы, на ее стене яркими красными буквами написано «Pronto soccorso» — «Скорая помощь».
Ева замечала эти слова — они отложились в ее памяти наряду со многими другими итальянскими словами, которые ежедневно встречались ей в последние четыре года. Итальянский Ева освоила не так хорошо, как французский, но в достаточной степени, чтобы не испытывать бытовых неудобств. Но ни разу не задумывалась о том, что скрывается за этой стеной, и о том, что сама когда-нибудь может оказаться в приемном покое, где будет сидеть и наблюдать за мерным движением минутной стрелки на часах.
Скорую помощь они ждали целую вечность. «Почему, — думала Ева, сидя рядом с Тедом и бессмысленно гладя его по щеке, — они едут так долго, если больница находится так близко?» Когда наконец появились санитары, они долго жаловались на отсутствие мест для парковки. С собой у них были носилки, аптечка первой помощи и дыхательный аппарат — но к этому моменту Теду уже стало лучше. Чувствительность в конечностях восстановилась, он мог двигаться и говорить и попытался убедить Еву и санитаров в том, что не нуждается в госпитализации.
— Non è niente[17], — заверил их Тед на своем старательном ученическом итальянском.
Но старший в бригаде покачал головой:
— Синьор, мы обязаны отвезти вас в больницу, даже если для этого нам придется привязать вас к носилкам.
В машине скорой и здесь, сидя на жестком стуле, пока врачи делали бесчисленные анализы, Ева пыталась не поддаваться панике. Как только Тед вновь обрел дар речи, он тут же заявил: все это чушь, не надо было вызывать скорую, к двум он должен сдать материал. Но Ева в ответ проявила твердость. Она сама позвонила Крису Пауэрсу и настояла на том, чтобы врачи выяснили, по крайней мере, что именно произошло с Тедом.
Никто не произносил слово «инсульт», но оно витало в воздухе и мелькало во взглядах санитаров, слушавших рассказ Теда о его самочувствии. Оно же читалось в глазах милого доктора, встретившего Теда у дверей приемного отделения.
— Prego, signore[18].
Ева, естественно, хотела сопровождать Теда, но это явно было против правил.
— Пусть родственники подождут здесь, — сказал врач, и двери за ними захлопнулись.
Сидящая напротив пышная матрона наклоняется к Еве, протягивает ей что-то завернутое в фольгу и говорит «Mangia»[19]таким тоном, будто та — одна из ее детей. Их рядом с ней двое: девочка лет шести с туго заплетенными косичками и мальчик постарше, ерзающий на стуле. Третий, по предположению Евы, находится за плотно закрытыми дверями больничного коридора.
Ева собирается отказаться, но вдруг понимает, что завтракала очень давно.
— Grazie mille[20], — говорит она. Панини с салями и мортаделлой восхитительно вкусен. Матрона внимательно наблюдает за тем, как она ест.
— Grazie, — повторяет Ева. — È molto buono[21].
Матрона воспринимает сказанное словно приглашение к разговору и одаривает Еву подробной лекцией на тему, где лучше покупать продукты: рынок в Трастевере явно ее не устраивает. Ева собирается вежливо возразить, но в этот момент видит Теда, который появляется в дверях.
— Мой дорогой.
Тед выглядит усталым, но спокойным: будь новости плохими, наверное, доктор позвал бы ее?
— Что они сказали? Тебя отпускают?
Тед качает головой.
— Они пока не поняли, что случилось. Хотят, чтобы я проконсультировался у невропатолога.
Заметив, как изменилось выражение ее лица, он добавляет:
— Они не думают, что это был инсульт, Ева. Это уже кое-что.
— Да, это уже кое-что.
Ева берет Теда за руку.
— Как ты сейчас себя чувствуешь?
— Потрясенным. — Он скупо улыбается. — Пожалуйста, пойдем домой.
Они берут такси, возвращаться пешком нет сил. Дома Тед тяжело опускается на диван в гостиной, Умберто устраивается у него на коленях. Ева ставит кассету с записями Моцарта — для улучшения настроения — и идет готовить спагетти. Раздумывает, не позвонить ли Саре в Париж, и решает этого не делать — уже почти девять, и Сара наверняка готовится к выступлению, поэтому лучше не тревожить дочь. А она будет волноваться. Даже сейчас Сара советуется с Тедом по поводу своих многочисленных проблем не реже, чем с Евой: парижская жизнь Сары протекает бурно, успехи ее группы чередуются с неудачами, и отношения с гитаристом Жюльеном тоже складываются неровно.
Все эти годы Тед был для Сары надежной опорой — так же, как и для Евы, разумеется.
— Не могу поверить, что я так долго не мог тебя найти, — сказал он ей однажды ночью, много лет назад, когда все только начиналось. — Боюсь, ты исчезнешь, если я сделаю хотя бы одно неверное движение.
Сейчас, доставая из кухонного шкафа упаковку феттучини, Ева вновь пытается избавиться от картины, вставшей у нее перед глазами, когда она позвала Теда, а ответом ей была лишь тишина. Бесконечная пустынная дорога, извивающаяся по бесплодной равнине: так выглядит жизнь без Теда — пустой и монотонной.
Версия третья
Приземление Сассекс, июль 1988
— Ну? Как все прошло?
Софи, устраиваясь на заднем сиденье, отвечает не сразу.
— Все в порядке.
Джим перехватывает взгляд Евы.
— А мама?
Вновь следует пауза.
— Да, она тоже в порядке.
Джим включает заднюю передачу и выезжает на дорогу. Сегодня суббота, в аэропорту, где они встречают Софи, людно. Джим с Евой приехали раньше времени; пили водянистый кофе в зале прилета и наблюдали, как мимо них прошло семейство — родители и трое обгоревших на солнце детей, толкающих перед собой тележку, доверху набитую чемоданами и пакетами из дьюти-фри, поверх которых пристроен игрушечный ослик в сомбреро. Следом появляются трое мужчин в майках без рукавов и с банками пива.
— Боже, — сказал Джим Еве, понизив голос, — я надеюсь, они не с рейса Софи.
— Не волнуйся. Самолет из Аликанте еще не сел.
Аликанте: пыльный и жаркий город недостроенных небоскребов. Таким, во всяком случае, представляет его Джим. С тех пор как Хелена переехала жить в Испанию, он получил от нее единственную открытку. На ней был изображен аляповато покрашенный отель отталкивающего вида, а на обороте имелась надпись: «Джиму — поскольку даже самое омерзительное здешнее здание лучше того дома, который я делила с тобой. Х.»
Джим пришел в ярость — не от Хелениной ненависти (это он понимал), а потому, что она написала эти слова на открытке, которая могла попасться на глаза их дочери. Он сочинил возмущенный ответ, но Ева, прочитав его по просьбе Джима, посоветовала пока не отправлять это.
— У Хелены есть все основания чувствовать себя задетой. Не стоит еще больше озлоблять ее.
Джим последовал совету, а через несколько дней выбросил свое письмо в мусорную корзину. Хелена, очевидно, посчитала, что высказалась ясно. С тех пор она писала только Софи и слала ей фотографии: маленький белый дом в горной деревне; женщины в черном с испещренными морщинами лицами; худые козы на лишенных растительности горных склонах. Два года назад на снимках появился темноволосый, загорелый мужчина с узким лицом, щурившийся на солнце.
— Хуан, — сказала Софи, никак не выражая своих чувств, — мамин новый приятель.
Хелена, естественно, могла делать что угодно; Джим волновался только из-за Софи — из-за того, как она в своем юном возрасте переживет эти перемены. Тогда, два года назад — Софи только-только исполнилось шестнадцать — он попытался узнать, как она относится к появлению Хуана, но Софи отказалась поддержать разговор. Она медленно подняла глаза, прикрытые тяжелыми веками, и спросила совершенно бесстрастно:
— Почему меня должно интересовать то, что она делает?
«Равнодушие» — слово, чаще всего приходящее на ум Джиму при мысли о дочери. Она угрюма и апатична, почти никогда не заговаривает первой, а если к ней обращаются, отвечает предельно односложно. Софи набрала вес: ее лицо — точная копия материнского — округлилось, а раздавшиеся бедра она вынуждена скрывать под мешковатыми футболками. Но больше всего Джима тревожит в дочери полное отсутствие интереса к чему или к кому бы то ни было: учится она средне, друзей у нее немного; по выходным обычно сидит дома, смотрит маленький телевизор в своей комнате. Конфликтуй Софи с Евой, объяви она мачеху ответственной за свои юношеские невзгоды, было бы понятно, с чем они имеют дело; но Софи относится к Еве с тем же спокойствием, что и к другим членам семьи. Единственный, кого она признает, — это Сэм, который сейчас изучает геологию в Лондоне: когда на выходные он приезжает в Сассекс со своими учебниками и ворохом грязного белья, Софи преображается: оживляется, начинает улыбаться, ходит хвостом за своим обожаемым сводным братом, и тот отвечает ей искренней привязанностью.
Вначале Джим и Ева старались ни к чему не принуждать Софи, понимая, как непросто дался ей переезд в Сассекс. Он состоялся в восемьдесят четвертом; они наконец продали квартиру в Риджентс-парке и купили ветхий фермерский дом неподалеку от деревни, где вырос Джим.
— Ты разве не помнишь, что это такое — сменить школу? — спросила Ева. — А она это сделала уже не раз. Мне кажется, надо дать ей время.
Так они и поступили — не трогали Софи, пока она осваивалась в новом доме и заканчивала первую четверть. Софи, казалось, только в том и нуждалась: она выжидала, тянула время. Не приводила домой друзей, и ее никто не звал к себе. (Много лет спустя Джим вспоминал об этом с горькой усмешкой.) Ева и Джим начали тревожиться.
— Как дела в школе, Софи? — регулярно интересовались они или говорили: — Если тебе не нравится в Сассексе, нам совершенно не обязательно здесь оставаться, мы можем подумать о том, чтобы вернуться в Лондон.
Но Софи отделывалась своим обычным: «Все в порядке. У меня все хорошо». Так продолжалось до тех пор, пока Сэм, который тогда заканчивал школу и еще жил с ними, сказал Еве и Джиму, чтобы они не приставали к ней с вопросами.
— Она считает, вы к ней придираетесь, — объяснил он Джиму. — Что бы она ни сделала, вы с мамой все равно будете недовольны.
И тогда они постарались оставить Софи в покое, дать ей возможность самой справиться со своими проблемами.
— Она подросток, — сказала Ева, вспоминая, через что она сама прошла с Ребеккой в этом возрасте. — Это пройдет.
Но не прошло: с годами Софи все больше отдалялась от них. В последние месяцы перед выпускными экзаменами в школе она не проявила никакого интереса ни к поступлению в университет, ни к поиску работы. Джим и Ева перестали делать вид, будто происходящее их не интересует.
— Нельзя вечно прятать голову в песок, дорогая, — сказал Джим. Они сидели за столом после воскресного обеда, пустые тарелки из-под пудинга еще стояли на столе. — Нужен какой-то план.
Ева, сидевшая рядом с ним, кивнула.
— Чем мы можем тебе помочь, Софи? Может быть, вместе попробуем решить, чем ты хочешь дальше заниматься?
Ее слова встряхнули Софи: она повернулась к мачехе и спокойно, твердо спросила:
— Вот так ты и поступила? Села вместе с моим отцом, и вы выработали план, как он оставит мою маму?
Им, конечно, было больно — позднее, когда они легли, Ева расплакалась, и Джим обнимал ее, пытаясь успокоить, — но они вернулись к этому разговору. Хочет ли Софи поступить в университет? Или пойдет работать? Выпускные экзамены остались позади, а решения Софи так и не приняла. Даже в Испанию поехала только потому, что Хелена и Хуан прислали билеты на самолет в качестве подарка на восемнадцатилетие. Джим не мог вообразить, при каких обстоятельствах его дочь способна проявить инициативу, даже если они с Евой предложат ей деньги. (Они это делали многократно, но всякий раз Софи без объяснений отказывалась.)
Сейчас, в очереди машин, собравшихся на выезде из аэропорта, Джим сжимает руль и спрашивает:
— И это все, Софи, что ты можешь рассказать о двухнедельной поездке в Испанию? Все было нормально?
В зеркале заднего вида он видит округлившиеся глаза дочери.
— А что еще ты хочешь узнать?
Ева предупреждающе кладет ему руку на колено.
— Ты, наверное, устала, милая? Давай ты сейчас поспишь, а за ужином расскажешь подробности.
Воцаряется тишина. На автостраде Джим старается следить за стоп-сигналами едущих впереди машин. День выдался теплый, но не жаркий, с моря дует легкий ветер. Свернув с трассы на второстепенную дорогу, ведущую к их дому, Джим открывает окно и делает глубокий вдох. Дорога, петляющая между полей, постепенно сужается: стоящие по обочинам высокие деревья склоняются все ниже, местами образуя туннель, в котором солнечные лучи приобретают зеленоватый оттенок.
Джим любит эти места так, как никогда не любил ни Лондон, ни даже Корнуолл. Чувство оказывается естественным продолжением его любви и к Еве, и — он это понял неожиданно для себя, когда Ева впервые заговорила о возможности переезда в Сассекс, — к собственной матери. Первоначальное постыдное облегчение, которое он испытал после смерти Вивиан, — будто тяжкий груз свалился с его плеч — быстро уступило место чувству вины. Несколько месяцев Джим не мог рисовать и слонялся бесцельно по квартире в Риджентс-парке до тех пор, пока у Евы, работавшей над рукописью в бывшей комнате Ребекки, не лопнуло терпение. Она взяла у Пенелопы номер психотерапевта — их общей знакомой еще по Кембриджу. Та приняла Джима в своей квартире в Максвелл-Хилл — уставленной книжными полками, тихой, спрятавшейся за шторами от дневного света — и, преодолев некоторое сопротивление с его стороны, пришла к определенным выводам. Джим может если и не до конца избавиться от чувства вины (за то, что он сделал или, наоборот, не сделал по отношению к матери, Хелене и Софи), то во всяком случае приглушить его. А главное — после шестимесячного курса психотерапии Джим вновь начал рисовать.
Через несколько лет, когда ситуация с Софи ухудшилась, Джим в разговоре с Евой сказал, что, наверное, дочери тоже стоит проконсультироваться с кем-нибудь; а вдруг, не приведи господи, у нее развиваются ранние признаки болезни, от которой страдала ее бабушка?
— Да, — сказала Ева, — надо попробовать.
Он попытался обсудить такую возможность с Со-фи, но та взглянула на отца с презрением:
— Что ты хочешь сказать, папа, — у меня не все дома, как у бабушки Вивиан?
Джим не смог сдержать гнев:
— Никогда не говори так про бабушку. Ты не знаешь, о чем речь.
Софи, выходившая в этот момент из кухни, остановилась в дверях и взглянула на него.
— Так же как и ты, папа. Почему бы тебе не оставить меня в покое?
Вернувшись домой из аэропорта, Джим относит наверх чемодан Софи и спрашивает у жены, не надо ли помочь с ужином. Ева качает головой.
— Я просто разогрею лазанью.
— Тогда я ненадолго загляну в мастерскую.
Ева кивает.
— Я постучусь, когда все будет готово.
Мастерской служит старый сарай: он, вместе с неухоженным фруктовым садом и лугом, по пояс заросшим травой, был одной из причин, по которым Ева и Джим влюбились в это место. Сарай находился в ужасном состоянии: черепица местами отсутствовала, перекрытия сгнили, рядом мирно ржавел покрытый паутиной старый трактор. Но они взялись за работу — он, Ева, Антон, Сэм и бригада строителей из ближайшей деревни. Постепенно, шаг за шагом сарай превращался в полноценную мастерскую: покатая крыша стала прозрачной благодаря вставленным в нее огромным окнам; появился туалет и даже такая роскошь, как центральное отопление. Еще несколько недель после ремонта Джиму постоянно слышался голос Говарда, разносившийся по их насквозь промерзшей общей мастерской в Трелони-хаус:
— Немного холода еще никому не вредило. Перестань, бога ради, ворчать, лучше надень еще один свитер.
В новой мастерской Джим стал все больше заниматься скульптурой в ущерб живописи: поначалу работал с огромными глыбами известняка, потом переключился на гранит. Он создавал высокие отполированные монолиты; ему казалось, что в них таится спокойная сила древних памятников. Критики отнеслись к нему без снисхождения: «Смешное и бессмысленное упражнение с фаллическими символами» — так описал один из них последнюю выставку Джима. Джим смеялся, читая эту рецензию; он вспомнил слова отца, сказанные однажды вечером, когда Джим молча наблюдал, как тот рисует:
— Газеты с мнениями критиков годятся только на то, чтобы выстилать ими клетку хомяка.
Первая реакция Стивена его, однако, удивила.
— Скульптуры интересные, — сказал старый друг Джима и владелец галереи, продававшей его картины. — Но ты в первую очередь все-таки художник, Джим. Может, вернешься к тому, что у тебя получается лучше всего?
Сейчас Джим стоит перед работой, занимавшей его последние три недели: узкий кусок гладкого темного гранита; на матовой поверхности виднеются серые, белые и угольно-черные вкрапления. В голове у него звучат другие слова Говарда — тот повторял их снова и снова любому, кто соглашался его слушать: «Занимаясь скульптурой, вы не создаете нечто из ничего. Вы делаете явным то, что уже существует».
Эта мысль поразила Джима. Впервые прикоснувшись к камню, с которым он собирался работать, Джим почувствовал: идея Говарда касается и его отношения к Еве. Джим никогда не позволяет себе жалеть о годах, проведенных без нее — с Хеленой и Со-фи. Но в его представлении эти скульптуры должны стать памятником тому, что он чувствует рядом с Евой, — убежденности в правильности собственного выбора и благодарности за данный судьбой шанс. Он жалеет только о том, что его попытка добиться счастья причиняет такую боль Софи. И у него нет иного способа смягчить эту боль, кроме как каждый день, каждую минуту показывать дочери, как много она для него значит. Но она будто не желает его слушать. «Или, — мрачно думает Джим, — я недостаточно стараюсь».
В половине седьмого они собираются ужинать; Ева ставит на стол лазанью и салат, разливает белое вино. Она вновь расспрашивает Софи про каникулы, и та на этот раз рассказывает подробнее — о черных цыплятах, которых Хелена держит на заднем дворе; о Хуане; тот, по ее словам, «нормальный — немного странный, но нормальный».
Джим смотрит на дочь, бледную и неуклюжую, одетую в черную футболку и легинсы, и чувствует прилив любви к ней. Он берет Софи за руку, говорит, как рад, что она дома.
Софи смотрит на Джима холодно и отдергивает руку.
Версия первая
Ман Рэй Лондон, март 1989
За несколько дней до своего пятидесятилетия Ева зовет Пенелопу позавтракать вместе.
— Приходи без Джеральда, — говорит она. — Джим уехал в Рим. Школьная экскурсия.
На следующий день — это суббота — Ева готовит киш, салат и ставит охладиться бутылку шабли. Они едят, пьют и разговаривают. Обсуждают больную спину Джеральда; планы Дженнифер по организации свадьбы: девушка помолвлена с Генри (они оба — помощники адвоката) — вежливым, спокойным молодым человеком, склонным к раннему облысению, но преданным Дженнифер. Впрочем, это у них взаимно. В прошлом месяце, выбирая в магазине свадебное платье, Дженнифер повернулась к матери и сказала:
— Я так люблю Генри, мама, что боюсь выходить за него — вдруг все окажется не таким, как я себе представляю? У вас с папой тоже так было?
Ева посмотрела на дочь, стоящую у вешалки с платьями, — молодую, красивую, горячо любимую. Ее охватило чувство, с трудом поддающееся описанию: смесь печали, радости, любви и чего-то еще, похожего на ностальгию, словно она вернулась в прошлое и стоит сейчас рядом с Джимом, клянясь ему в вечной любви. Нет, она никогда не испытывала страха.
— Не переживай так, дорогая, — ответила она Дженнифер. — Брак — это не то, что соответствует твоим мечтам. Это то, что получится у вас в результате. А у вас с Генри все выйдет отлично.
Воспоминания эти слишком болезненны. Ева наливает себе и Пенелопе еще вина и показывает подруге почтовую открытку, которую засунула между страниц верстки своей последней книги (на этот раз ничего художественного, обзор творчества десяти лучших писательниц двадцатого века). На открытке, лежащей сейчас на столе перед ними, — репродукция черно-белой фотографии. Женщина, запечатленная в профиль: полные губы, темные брови, волосы коротко подстрижены по последней моде. Изображение чуть расплывчато, как будто сделано мягким карандашом.
— Ли Миллер? Нет. Ман Рэй?
Ева кивает, впечатленная познаниями Пенелопы.
— Переверни ее.
На обратной стороне открытки знакомым округлым почерком написано: «Б. — которую я всегда буду помнить в одном и замечательном цвете. Спасибо за то, что вернула меня к жизни. С любовью и навсегда. Дж.».
Пенелопа прерывает воцарившееся молчание.
— Где ты это нашла?
— В машине. Вчера. Убиралась в багажнике.
Ева допивает вино и смотрит на сидящую напротив подругу. Она испытывает странное спокойствие, как и вчера днем, когда вдруг наступила предельная ясность, и она села в машину, точно зная, куда надо ехать.
— Я не стану оскорблять тебя вопросом, уверена ли ты, что это почерк Джима.
— Не надо.
Пенелопа откидывается в кресле, вращая в пальцах бокал.
— А знаем ли мы, кто такая эта Б.?
— Белла Херст.
— Девушка с мастерской?
— Именно.
Конечно, Ева могла бы догадаться, любая жена на ее месте догадалась бы. Ее не отпускает неприятное ощущение: она должна была понять все еще осенью, когда почувствовала в Джиме какую-то перемену. Он повеселел, стал меньше пить, прибрался в мастерской, раскопал свой мольберт и даже начал рисовать. Вот тогда-то и стоило сообразить: дело не только в унявшейся боли по Вивиан, за всем этим стоит что-то или кто-то еще. Она знала о новой преподавательнице, подменившей Джерри, — Джим несколько раз упоминал о ней вскользь («Вполне приятная, очень молодая, живет в каком-то сквоте в Нью-Кросс»), затем ее имя стало возникать регулярно, и Джим говорил о ней все с большей теплотой. Время от времени Джим с Беллой Херст ходили вместе в паб; он заглядывал к ней в мастерскую в Пекхэме, которую она снимала на пару с кем-то; иногда они встречались уже после того, как Джерри вернулся к работе и Белла ушла из школы. Теперь Ева полагает, что были и другие встречи, но о них ее не ставили в известность.
Ева верила в дружеский характер их отношений — возможно, этой Белле Херст (почему-то она всегда называла ее именно так — по имени и фамилии) нужен старший товарищ. Что же касается Джима… у Евы не имелось оснований сомневаться в нем со времен Греты. И он откровенно рассказывал ей о Белле — о том, как ему нравится разговаривать с ней о живописи и обсуждать темы, о которых раньше не задумывался: навык и вдохновение, деконструкция, размывание прежних границ между высоким и низким искусством. Еве эти рассуждения казались претенциозными, но она оставляла свои мысли при себе.
Однажды Джим даже пригласил ее к ужину: Белла Херст сидела здесь, пила их вино и поглощала еду, приготовленную Евой. Она была невероятно молода и выглядела такой миниатюрной в своей рабочей куртке и комбинезоне; из-под копны густых волос смотрели глаза разного цвета — черный и голубой. Оторвать от них взгляд казалось невозможно. Ева тогда что-то почувствовала — пусть даже просто минутную зависть к молодости и свежести девушки, к тому, чего им с Пенелопой теперь приходилось безуспешно добиваться с помощью мазей и ночных кремов, — и выбросила это из головы.
Она была слишком занята, чтобы тратить время на подозрения: надо было готовить материалы для новой книги, писать газетные статьи, выступать по радио и на телевидении, а еще эта Букеровская премия. (Ева входила в жюри 87-го года, и большую часть 86-го потратила на чтение номинированных романов.) В прошлом году Джим рассказал ей: в мастерской, которую арендует Белла Херст, освободилось место, он хочет рисовать там по выходным и во время каникул — и она только обрадовалась этому.
— Замечательная идея, Джим, — отозвалась Ева. — Возможно, новое пространство — как раз то, что нужно, чтобы начать все сначала.
Сейчас Ева может думать лишь о собственной преднамеренной слепоте, ведь они не очень-то и скрывались. Наверняка считали ее дурой — если вообще думали о ней. Или Белла Херст полагала, что у них свободный брак; что, если Джим сказал ей так? Мог ли он узнать о ее коротком романе с Лео Тейтом тогда, в Йоркшире? Конечно, она никому не рассказывала о той ночи, и вряд ли это сделал Лео. Но теперь она сомневается во всем. Будь это просто минутный порыв — физическое влечение, которому Джим оказался не в силах сопротивляться, как она сама в случае с Лео, — Ева чувствовала бы себя иначе. Но написанное Джимом свидетельствовало о более глубоких отношениях. «Спасибо за то, что вернула меня к жизни». Каждое слово было для Евы как пуля в сердце.
Вчера, в Пекхэме, когда между ними произошел разговор, Белла Херст держалась невозмутимо, лицо ее выглядело непроницаемым. Ева позвонила в дверь мастерской и сказала открывшему ей скучающему мужчине в испачканной краской одежде, к кому пришла. Он не предложил войти, Ева осталась у открытой двери — и успела несколько раз прочитать все фамилии на почтовых ящиках, висевших на облупленных, покрытых зеленоватой плесенью стенах; только буквы в фамилии ее мужа сливались в нечитаемую абракадабру.
Она почувствовала головокружение; опершись о стену, думала о том, как поведет себя, увидев Беллу Херст; и может ли та сказать Еве то, что облегчит ее боль. Сказать, разумеется, было нечего — похоже, это конец всему, уничтожение жизни, которую Ева и Джим так долго и трудно выстраивали. Головокружительное чувство влюбленности, обретения друг друга. Их медовый месяц. Обожаемый дом в Джипси-Хилл. Дженнифер. Дэниел. Уход Вивиан и Мириам. Ужас тех лет, когда Еве казалось, что между ними — пропасть. И все-таки они сумели ее преодолеть, разве нет? Они выстояли тогда. Что же сказать девушке — почти ребенку, — чтобы та поняла, каково это: тебе показывают семейную фотографию, за которой часы, дни и годы совместной жизни, — а потом бесцеремонно вырывают ее из рамки и топчут на твоих глазах.
Наконец появилась Белла — в белой рубашке навыпуск, черных легинсах и мужском твидовом пиджаке (не Джима) — улыбающаяся и безмятежная. Ева протянула Белле открытку и дрожащим, несмотря на все свои усилия, голосом сказала:
— Видимо, это ваше.
— Что ж, — произнесла Белла, не опуская своих разноцветных глаз, — не стану говорить, будто сожалею. Боюсь, это не так. Но надеюсь, вам будет не очень тяжело.
Рассказывая все это Пенелопе, Ева сама поражается банальности произошедшего: немолодой мужчина накануне пятидесятилетия влюбляется в девушку, которая лишь на несколько лет старше его дочери; жена находит любовную записку и бросается выяснять отношения с соперницей. Ева представила себя в вонючем холле, непричесанную, одетую в самые потрепанные джинсы — наведение порядка в багажнике было последним этапом весенней уборки, и она не успела переодеться.
Джим отвел ей самое старое из всех возможных амплуа — обманутой жены, — и она его ненавидит; ненавидит и себя за то, что играет такую роль. Но боль от этого не становится слабее.
Ева плачет.
— Я, наверное, выглядела так пафосно…
Пенелопа гладит ладонь Евы, другой рукой лезет в сумку за носовым платком.
— Уверена, что нет. Но разве в этом дело?
— Нет, конечно.
Подруга протягивает ей платок, Ева вытирает глаза. Из прихожей раздается пронзительная трель телефонного звонка.
— Хочешь, я подойду? Скажу, пусть перезвонят.
— Не надо.
Ева комкает платок.
— Это, наверное, Дженнифер. Не нужно ей пока знать, что что-то происходит.
Это действительно Дженнифер; звонит рассказать о подготовке к вечеру вторника — они собираются отметить день рождения Евы на верхнем этаже венгерского ресторана «Веселый гусар». Услышав голос дочери, Ева не может сдержать подступившие слезы, но ей удается скрыть рыдания.
— Мама, с тобой все в порядке? У тебя расстроенный голос.
Глубоко дыша и глядя на фотографию в рамке, висящую над столиком в прихожей — они вчетвером на побережье в окрестностях Сент-Айвз, — Ева собирается с остатками сил и произносит твердо и уверенно:
— Все хорошо, дорогая. Не беспокойся. Пенелопа зашла на обед. Я перезвоню попозже.
Вернувшись на кухню, Ева падает в кресло и роняет голову на руки.
— Боже, Пен. Дети. Я этого не перенесу. Что мне делать?
Пенелопа достает из сумки пачку сигарет. Прикуривает и отдает сигарету Еве, затягивается сама.
— Мы же бросили, — говорит Ева, но Пенелопа не принимает ее возражений.
— Ради бога, Ева, сейчас мы имеем право начать опять.
Выдержав паузу, она спрашивает у Евы:
— А что бы ты хотела сделать? Кроме того, как заехать ему по яйцам.
Ева поднимает голову, и даже в этих обстоятельствах у них находятся силы обменяться слабыми улыбками.
— Не знаю. Правда, не знаю. Конечно, придется поговорить с Джимом, понять, действительно ли он собирается уйти. Белла, похоже, уверена в этом. Но я должна услышать от него.
— Разумеется.
Пенелопа выпускает облачко дыма из накрашенных красной помадой губ. Ева видит: Пенелопа недоговаривает, чтобы не показывать, насколько сама чувствует себя преданной, — она, естественно, злится из-за Евы, но из-за себя тоже. Пенелопа всегда обожала Джима, всегда принимала его точку зрения. Они были такими близкими друзьями, но теперь черта перейдена.
— А если он скажет, что порвет с Беллой? На этом все и закончится?
Ева глубоко затягивается.
— Тогда мне надо будет понять, что осталось от наших отношений. Я просто не знаю, сумеем ли мы быть вместе.
Слова Евы повисают в воздухе, ответить на них невозможно. В саду — вид на него открывается из французских окон — бледное весеннее солнце постепенно скрывается за крышей мастерской, за лужайкой, раскинувшейся на крутом склоне холма. Дерево, на котором по-прежнему висит тарзанка Дэниела, только-только начало цвести; а кусты, много лет назад посаженные Евой и Джимом по границам участка, уже кудрявятся пышной листвой. Ужасная мысль приходит Еве в голову: в случае развода с домом придется распрощаться. Не по финансовым соображениям — уже давно она зарабатывает больше Джима, — а потому что слишком многое здесь будет говорить о прежней жизни. Мебель, фотографии, воспоминания о том, как эти комнаты наполнялись детскими криками, смехом, звуками гамм, разучиваемых на пианино… все это останется в прошлом.
Щелкает замок входной двери. Ева бросает взгляд на Пенелопу и быстро тушит сигарету.
— Это Дэниел. Ничего ему не говори.
— Можно подумать, я бы стала.
Пенелопа делает последнюю затяжку и тоже тушит окурок.
Входит Дэниел, нескладный шестнадцатилетний подросток пяти футов ростом, в регбийной форме, с коленями, черными после тренировки. Он обожает эту игру, и, хотя Джим равнодушен к спорту, он исправно водит сына на матчи и может часами стоять у боковой линии в толстых шерстяных перчатках, подбадривая Дэниела, играющего за школьную команду. «Будет ли Джим делать это, если уйдет от нас? — думает Ева. — И может ли все стать по-прежнему?»
— Как дела, тетя Пен? — интересуется Дэниел. — А у тебя, мам?
— Все в порядке, дорогой.
Ева вымученно улыбается. Она старается, чтобы ее голос звучал уверенно и не дрожал.
— Как игра?
Версия вторая
Отец Корнуолл, ноябрь 1990
Джим просыпается в шесть утра, когда поезд приближается к Лискерду.
Некоторое время лежит под одеялом на полке, наслаждаясь теплом. Он спал крепко; несомненно, благодаря виски, выпитому вечером вместе со Стивеном в Художественном клубе, не говоря уже о шампанском и вине за ужином. В одиннадцать Джим приехал на такси на Паддингтонский вокзал, не вполне уверенным шагом дошел до нужной платформы и разместился в одноместном купе класса люкс, подумав при этом, что начал привыкать к роскоши. Он едва успел переодеться в пижаму и выпить горячий шоколад, предложенный проводником, как сон сморил его.
Раздается негромкий деликатный стук в дверь купе.
— Завтрак, сэр?
— Да, благодарю вас.
Джим вылезает из-под одеяла.
— Минуту, пожалуйста.
Завтрак не производит впечатления — пережаренная яичница, холодный тост, жирный бекон, — но Джим съедает все без остатка. Голова гудит; одеваясь, Джим находит упаковку аспирина и последними глотками жидкого кофе запивает три таблетки. Накидывает пальто, складывает немногочисленные вещи в маленький чемодан и выходит на утренний перрон.
На улице стоит ясная погода, которую он так любит: небо затянуто облаками, через них пробиваются лучи восходящего солнца, на деревьях дрожат под ветром последние красные и желтые листья. Джим наслаждается морозной свежестью корнуоллского воздуха; в машине он, не обращая внимания на холод, открывает окно и дышит полной грудью. Это то, что он не в силах объяснить Стивену в ответ на его тысячи раз задаваемый вопрос, почему Джим продолжает жить за сотни миль от Лондона. (Стивен, похоже, благополучно забыл о времени, когда его галерея находилась в Бристоле.) Только здесь есть такой воздух, такой свет, такой пейзаж, соединивший в себе воду, камни и траву. Лишь тут возникает чувство, что ты находишься на самом краю земли.
В доме прохладно и тихо, кухня вычищена до блеска — вчера Сандра приходила убирать. Кейтлин пополнила запасы в холодильнике; рядом на столе лежит записка, написанная ее аккуратным почерком с правильным наклоном: «Еще раз поздравляю! Буду около десяти. К.».
Джим заваривает кофе и идет в гостиную, где свет настолько ярок, что режет глаза. За огромными окнами — мечта художника: усеянный валунами сад, протянувшийся до самого обрыва; одинокая чайка, кружащая в поисках тепла; бескрайнее темное море. Джим сидит и пьет кофе. Головная боль почти прошла, он вернулся домой с хорошими новостями, и его окружает эта восхитительная тишина.
Через несколько месяцев после ухода Хелены Джим с удивлением обнаружил, что быстро привык жить один. Он оставил дом на Рыбной улице сразу, как только появилась возможность. Не мог больше находиться ни дня там, где его ожидала не привычная теплая и так любимая им тишина, а тягостное молчание, исходившее, казалось, от полупустых шкафов и буфета без посуды на полках. Самое тяжелое испытание — детская, из которой забрали все, кроме рисунка с надорванным краем, прикрепленного скотчем к стене над кроватью Дилана. Иногда Джим впадал в депрессию. Это случалось несколько раз за недели, прошедшие с тех пор, как он вернулся домой и застал там следующую картину: Хелена укладывает вещи, Дилан плачет, Айрис стоит в прихожей с решительно поджатыми губами и быстро говорит ему, что он не должен «препятствовать любви». Чувствуя ужасную тоску в груди, он брал одеяло и забывался лихорадочным сном на кровати сына. Проснувшись однажды ночью в гнетущей тишине, Джим снял со стены рисунок. Обычные детские каракули: Хелена, Джим и Дилан стоят у моря в окрестностях Сент-Айвз под круглым, невесомым солнцем. Джим понимал: этот надорванный кусок бумаги вряд ли заменит ему сына, но, положив рисунок рядом, он спал крепче.
Покинув Рыбную улицу, Джим нашел временное жилье — только что построенный неприметный дом на окраине; гостиную он превратил в импровизированную мастерскую. Одна спальня предназначалась для Дилана: Хелена пообещала отпускать его из Эдинбурга к отцу, как только тот захочет. (У Айрис, как выяснилось, имелся собственный дом в новой части города; однажды в приступе гнева Джим не удержался и заметил, что Хелена могла бы отправиться еще дальше, хоть «в чертов Тимбукту».) А Дилан хотел приезжать и говорил об этом, когда звонил отцу. По быстрым, скомканным разговорам легко было заметить: Дилан смущен и скучает по дому. Осознание этого тяготило Джима, но он заставлял себя в первую очередь думать о сыне: они с Хеленой условились, что Дилан станет приезжать в Корнуолл только после того, как все образуется и он привыкнет к новой школе. Иногда Джим задумывался, не стоило ли ему побороться за сына и оспорить материнское право Хелены увезти ребенка с собой, хотя это она сама, а не Джим, уходила из семьи. Но он решил не превращать развод в уродливое перетягивание каната; Хелена, надо отдать ей должное, придерживалась того же мнения. После отъезда она прислала письмо, очень взвешенное и разумное, в котором просила Джима простить ее и понять. Она писала, что полюбила Айрис неожиданно и глубоко, и у нее не было другого выбора, кроме как попробовать стать счастливой вместе с ней. Хелена просила его не забывать о замечательном времени, проведенном вдвоем, и об их общем чудесном сыне. Когда гнев отступил, это письмо принесло Джиму умиротворение.
Но пока в его жизни имелся только неухоженный дом, уставленный горшками с магнолиями. Работать там было сложно, но выхода не оставалось. Свой гнев (еще не угасший в ту пору) Джим превратил в серию мрачных картин. Айрис, с толстыми щеками и крашеными рыжими волосами. Хелена, нарисованная со спины, с жидким хвостиком. Рядом с ней — девятилетний Дилан, стоящий лицом к отцу. И Вивиан, выбирающаяся из постели в ту роковую ночь, когда Синклер остался мирно спать под одеялом.
Он назвал эту серию «Расставание в трех частях». Закончив работу над ней, Джим обнаружил, что стал спать лучше, а тихая и упорядоченная жизнь в одиночестве начала приносить ему удовольствие. На следующей выставке в сентябре 1980 года Стивен продал всю серию анонимному коллекционеру за сто пятьдесят тысяч фунтов. С учетом полученного раньше от продажи полотна «Три версии нас» — сумма попала в газеты и прославила Джима, мечтавшего на эти деньги купить дом, где у них начнется новая жизнь, — он разбогател. А когда спустя несколько месяцев умер Синклер — тихо, никому не доставляя затруднений, точно так же, как жил, — Джиму отошли скромное наследство Льюиса Тейлора и очень разумные вложения в ценные бумаги самого Синклера, не имевшего детей. Все вместе вылилось в сумму, о которой Джим никогда и не мечтал. Но с достатком пришло и неприятное осознание факта (в этом, как и во многом другом, он повторял отца): искусство по сути своей не должно иметь ничего общего с финансами. Большую часть денег Джим положил на депозит на имя Дилана; на оставшиеся купил этот дом. Ему нравилось называть его уважительно — Дом. Приземистый, квадратный, построенный в 1961 году из дерева, стекла и бетона местным архитектором, страстным последователем Фрэнка Ллойда Райта, дом примостился на вершине утеса и походил на лодку, которая причалила к морскому берегу. До ближайшей деревни было восемь километров, и Джима, ценившего одиночество, радовало это обстоятельство.
Допив кофе, Джим относит чашку и кофейник на кухню, а чемодан — наверх. В спальне раздевается и отправляется в душ. Он пытается вспомнить сказанное вчера вечером Дэвидом Дженсоном — льстивым и обходительным человеком из галереи Тейт: «Знаковая выставка, где впервые произойдет единение отца и сына. Английская портретная традиция продолжается во втором поколении».
Джим на это не рассчитывал. Как и Стивен, он полагал, что совет галереи просто рассматривает возможность добавить еще одну картину к уже имеющимся. Он был настолько потрясен, что несколько секунд не мог говорить; молчание нарушил Стивен:
— Замечательная идея, Дэвид. Мы выберем день, когда вы могли бы приехать в Корнуолл посмотреть работы.
Тут Дженсон заказал шампанское. Стоя под душем, Джим думает об отце. Отчетливых воспоминаний осталось мало: неправильные черты лица, делавшие его похожим на гоблина; исходивший от него запах скипидара и трубочного табака. И как он каменел во время скандалов Вивиан; редко отвечал ей тем же, но если до этого доходило, Джим прятался в своей комнате, настолько оглушительным был его голос. И как однажды, когда миссис Доуз привела его домой из школы — Вивиан уехала навестить родителей, — он обнаружил на кухне странную женщину, намазывавшую хлеб джемом. Из одежды на ней был только голубой шелковый халат его матери. Льюис налил всем чаю. Джим помнит темные волосы девушки, матовую кожу и точеную шею. Он запомнил ее лицо, в отличие от лица Сони; Джим не может забыть, как отец собирал вещи, а та ждала его в машине, и Вивиан кричала так, что на полках дребезжала парадная посуда.
Все детство Джима прошло среди картин отца: приглушенных серых и голубых оттенков, женщин с добрыми глазами, неяркого английского неба. Но после смерти Льюиса Джим видел его работы только на репродукциях и открытках: Вивиан продала все до единой картины. Теперь этот Дэвид Дженсон собирается найти их, как позабытых родственников в преддверии общего семейного сбора. И выставить вместе с картинами Джима. Чтобы люди стояли, смотрели и оценивали, что же передалось от отца сыну.
Одеваясь, Джим думает: «Мне сейчас больше лет, чем было отцу, когда он умер». Джим Тейлор, пятьдесят два года: свое пятидесятилетие отпраздновал в этом доме — шампанское, коктейли, музыканты, до четырех утра играющие репертуар «Роллинг стоунз». Не состоит в отношениях (более или менее серьезных) на протяжении десяти лет. Бывшая спутница жизни счастливо живет на острове Скай с лесбиянкой, занимающейся гончарным делом. Сын, которому сейчас двадцать один год, изучает графику в Эдинбурге, и он уже намного взрослее, чем были его родители в этом возрасте, да и — Джим думает об этом со смехом — потом тоже.
Дилан приезжал на день рождения Джима; когда они стояли в саду и пили пиво, сын сказал:
— Знаешь, пап, я много думал о том, каково тебе было после нашего с мамой отъезда. Ты ведь никогда не пытался настроить меня против нее. Мог, но не стал этого делать. Я любил приезжать к тебе на каникулах. И до сих пор люблю. Ну, наблюдать, как ты работаешь, и все такое. Это всегда здорово.
Джим посмотрел на сына. Тот очень хорош собой — гладкая кожа, унаследованная от матери, и голубые, как у отца, глаза, на взгляд Джима, в отношении внешности Дилан оставил его далеко позади — и испытал такую гордость и любовь, что на мгновение потерял дар речи. Поэтому он просто обнял Дилана за плечи, думая, что никогда не ждал такого поворота судьбы; а с другой стороны, прожил достаточно долго, чтобы понимать тщетность любых ожиданий. Кого бы то ни было, чего бы то ни было.
Все годы, прошедшие после ухода Хелены, одно и то же лицо неизменно всплывает в памяти Джима. Его кузен Тоби тоже приехал на юбилей вместе со своей женой, элегантной француженкой Мари, и они несколько дней провели в Доме. Однажды поздним вечером Джим вдруг спросил про Еву. И увидел, как Мари и Тоби обменялись взглядами.
— Ей сейчас непросто, — сказал Тоби. — Тед Симпсон плох — болезнь Паркинсона, насколько мне известно. Они вернулись в Лондон из Рима. Он совершенно беспомощен. Она практически стала сиделкой при нем.
Джим не мог понять, что он чувствует к Еве. Вероятно, жалость, но ее заглушало понимание, что он не имеет на нее права. Разве он знает Еву? Джим часто вспоминает ее большие, ласковые глаза и проницательную улыбку; но никого похожего на нее он не рисовал уже много лет — с тех пор как создал тот триптих. Возможно, картины стали своеобразным самоочищением: таким образом он пытался избавиться от воспоминаний об их так и не сбывшихся отношениях. А ведь они были возможны — Джим почувствовал это при встрече с Евой. Ева Кац — Симпсон — пусть даже порожденная воображением художника, могла бы сделаться для него идеальной спутницей. Джим не сомневался в том, что Хелена это понимала. Но Кейтлин — нет, Кейтлин — это другое дело.
Она помогала ему в мастерской, выполняла обязанности секретаря, иногда позировала, а потом незаметно и постепенно превратилась в нечто большее. Ей тридцать восемь; она и сама вполне достойный художник; подтянутая, стройная. (Каждое утро Кейтлин начинает с пробежки вокруг бухты Карбис.) За плечами у нее недолгое раннее замужество. Детей нет, претензий тоже.
Сейчас Джим слышит возню Кейтлин внизу: без сомнений, готовит кофе. У нее есть свой ключ, но Кейтлин соблюдает рабочий график — если, по взаимному согласию, не задерживается вечером. Она ни разу не провела здесь ночь. Их отношения устроены очень деликатно, так, чтобы не задевать ничьи чувства и учитывать обоюдные потребности.
— Кофе будешь? — раздается крик из кухни; напиток, разумеется, уже готов.
— Да, спасибо, — отзывается Джим. И идет вниз, где его ждет Кейтлин, а впереди — новый рабочий день у свежего холста в мастерской.
Версия третья
Гамлет Лондон, сентябрь 1995
У барной стойки Дэвид разговаривает с Гарри; тот одет в дорогое черное пальто, на шее — клетчатый хлопковый шарф.
На минуту Еве кажется, что она перенеслась на сорок лет назад и вновь видит их такими, какими они были тогда — молодыми, вечно куда-то спешащими, полными грандиозных планов. Но иллюзия быстро исчезает, и перед Евой вновь двое немолодых седеющих мужчин — многого добившихся и уверенных в себе. Ни один из них никогда не испытывал даже малейших сомнений в том, что все, им задуманное, сбудется.
— Ева.
С годами обаяние Дэвида никуда не делось; он наклоняется поцеловать ее с таким видом, будто она — единственная женщина в его жизни. Когда-то, полагает Ева, так и было, но сейчас ее уже не обманешь: обаяние Дэвида — всего лишь способ удовлетворить инстинктивную, неутолимую жажду обожания. Это действовало на многих женщин, и на нее в том числе.
Та постановка в Кембридже… то лето… головокружительные полуденные часы на смятых простынях, которые сблизили их гораздо сильнее, чем следовало бы. Они были счастливы тогда и слишком долго пытались вернуть свое счастье. Как он сказал в Лос-Анджелесе, в новогоднюю ночь, когда они поняли, что все бесполезно: «Мы просто не подходим друг другу, верно?» Причина, разумеется, в Джиме, в его попытке дать еще один шанс их отношениям с Евой — в этом нет сомнений.
— Дэвид.
Ева подставляет щеку под его губы.
— Волнуешься? — спрашивает она у Гарри.
Тот кивает.
— Нервное занятие. Показ для прессы и все такое. Но Ребекка держалась молодцом от начала до конца.
— Да, конечно.
Ева оценивающе смотрит на Гарри. Он растолстел, поредевшие волосы топорщатся за ушами, делая его похожим на сову. Ребекка рассказала, что он вновь женился на женщине гораздо моложе, ей, кажется, едва исполнилось двадцать. Разумеется, актриса. Его последняя Офелия.
— Если, конечно, Гарри не наскучит, — отреагировала на эту новость Ева.
Ребекка нахмурилась.
— Он хороший. Не понимаю, мам, что ты всегда имела против него?
Под взглядом Евы Гарри чувствует себя неловко.
— Ладно, пойду проверю ряды бойцов. Встретимся на вечеринке — и получайте удовольствие.
Дэвид хлопает старого друга по плечу:
— Давай. Ни пуха ни пера вам всем. И дочь мою за меня обними.
Когда Гарри уходит, он обращается к Еве:
— У нас еще полчаса. Я заказал тебе джин с тоником. Может быть, присядем?
Они находят столик у окна. Ранний вечер: улица, асфальтовой лентой сбегающая к Темзе, погружается в полумрак, в неверном свете фонарей спешат по набережной пары. Фойе театра постепенно заполняется; Ева замечает, как перешептываются окружающие, подталкивая друг друга локтями. Едва они усаживаются за стол, к ним, держа в руках программку, подходит улыбающаяся женщина в алом пиджаке и с губной помадой в тон — на первый взгляд ровесница Евы.
— Прошу прощения за беспокойство. — Она краснеет, почти сливаясь с пиджаком. — Если вы не против…
Женщина достает из кармана ручку. Дэвид улыбается своей профессиональной улыбкой:
— Конечно же. Как вас зовут?
Ева смотрит в сторону. Она давно нигде не бывала вместе с Дэвидом и позабыла, как часто в его обществе может нарушаться личное пространство.
Однажды — в середине шестидесятых, когда Дэвид находился в зените славы, Ребекке было лет шесть-семь, и Ева еще не забеременела Сэмом, — они втроем возвращались в свою квартиру у Риджентс-парка, и какая-то женщина увязалась следом. Она дошла с ними до дома и звонила в дверь так настойчиво, что у Евы и Дэвида не осталось другого выхода, кроме как вызвать полицию. Дэвид тогда посмеялся:
— Это просто часть моей работы, прекрати переживать по этому поводу.
Но Ева до сих пор не может забыть выражение страха и смущения на лице дочери. Правда, кажется, случившееся никак на нее не повлияло: в конце концов Ребекка выбрала тот же путь в жизни, что и Дэвид. Гарт, ее муж, драматург, чье хладнокровие так выгодно оттеняло эксцентричность супруги, в прошлом году высказался по поводу возникновения Ребеккиного фан-клуба:
— Наконец-то нашлись люди, которые любят ее почти столь же сильно, как она сама.
Разумеется, Гарт сказал это со смехом. Ребекка сначала нахмурилась, но потом смягчилась и улыбнулась.
— Рад тебя видеть, — говорит Дэвид, когда женщина в алом пиджаке наконец неохотно удаляется. — Отлично выглядишь.
— Правда?
Ева только-только начала выкарабкиваться из летней простуды: нос красный, глаза слезятся, что, без сомнения, портит макияж; надо будет поправить его перед вечеринкой. Но, не желая показаться неблагодарной, она отвечает:
— Спасибо. Хорошее пальто.
— Точно? — Дэвид проводит рукой по выглаженным лацканам. — «Барберри». Джакетта выбирала.
— Как она?
— Хорошо. — Он прихлебывает джин с тоником. — Все в порядке.
— А девочки?
Он улыбается — на этот раз искренне.
— Отлично.
О предстоящем разводе Дэвида и Джульет Еве также сообщила Ребекка. Их свадьба широко освещалась — церемония у бассейна в «Шато Мармон» стала темой номера журнала «Пипл» — и развод обещал быть не менее публичным. Газеты перетряхнули все грязное белье: Дэвид сбежал из Америки и залег на дно в родительском доме в Хэмпстеде. Еве стало его жаль настолько, что она пересилила себя и позвала Дэвида провести выходные с ними в Сассексе.
Идея оказалась неудачной. Дэвид выпил все их коллекционное вино; непрерывно повторял Джиму, что тот не должен был отпускать Еву (эта часть выступления показалась ей особенно неубедительной); и наконец, уронил кофейник на новый ковер в гостиной. С тех пор Ева ограничила их встречи семейными мероприятиями — свадьбами детей и крещением внуков. Время от времени они также бывали вдвоем на театральных и кинопремьерах.
На крещение младшей внучки, дочки Сэма, — он назвал ее Мириам, в честь бабушки, чем чрезвычайно растрогал Еву, — Дэвид пришел в сопровождении высокой блондинки, чью худобу скрашивала явно видная беременность.
— Это Джакетта, — с гордостью представил ее Дэвид родственникам. — У нас будет двойня.
Сейчас он спрашивает:
— А как Джим? На ферме все в порядке?
Ева кивает:
— Да.
Хотя это не вполне правда, но у нее нет желания обсуждать с Дэвидом, насколько огорчила Джима его последняя выставка скульптур. (Ни одной продажи и ни единой рецензии в крупных газетах.) Или что их по-прежнему тревожит Софи. Ей сейчас двадцать пять, она ведет в Брайтоне совершенно хаотичный образ жизни, меняя места работы и спутников с обычным своим равнодушием, которое Джим и Ева так долго пытались побороть. Или то, как Ева все еще не может оправиться от смерти Якоба; ей не хватает его ежедневно и ежечасно, хотя прошло уже два года. И может ли она объяснить Дэвиду, что все проблемы не в состоянии разрушить главное, созданное ими с Джимом за эти годы?
Они молча завтракают вдвоем под тихое бормотание радиоприемника. Затем он отправляется в мастерскую, она — в свой кабинет, но все время чувствуют близость друг друга. По вечерам готовят ужин, смотрят телевизор, встречаются с друзьями — для них важно одно: они делают это вместе.
— Ребекка сказала мне, ты над чем-то работаешь, — произносит Дэвид. — Книга?
— Возможно. Это рассказы, но мне кажется, они могут существовать под одной обложкой.
Голос Евы выдает волнение: вновь начать писать после долгого перерыва, получать от процесса удовольствие, надеяться, что выходит что-то стоящее, — о таком она даже не мечтала. И конечно, произошло это благодаря Джиму, его абсолютной нетерпимости к ее слабым отговоркам. «Ты писатель, Ева, и всегда им была. Так вот, иди наверх и пиши».
Дэвид кладет руку на ладонь Евы.
— Послушай, это замечательная новость. Я всегда говорил, тебе надо продолжать.
Ева улыбается — Дэвид сказал ровно то, что от него ожидалось.
— Пишешь обо мне?
— О да. Я свяжусь с твоим адвокатом в ближайшее время, — со смехом отвечает Ева.
— Отлично.
Дэвид выпрямляется на стуле, глаза его светятся от удовольствия.
— Я это заслужил. А если серьезно — о чем рассказы?
— Ну…
Как же ответить на этот вопрос, как свести в одно связное предложение месяцы работы, размышлений и тревог?
— О любви, я полагаю. Об одной женщине и ее любимых мужчинах. Каждый рассказ — эпизод из истории ее отношений с кем-то из них.
Увидев его удивленно поднятые брови, Ева добавляет:
— Не смотри на меня так. Мужчин было немного. Большинство рассказов — про одного мужчину, которого она любит особенно глубоко.
— То есть про ее Джима.
Ева смотрит Дэвиду в глаза, и тут в фойе раздается третий звонок.
Толпа вокруг приходит в движение. Напряжение, возникшее между ними, спадает.
— Нам пора, — говорит Ева.
— Да, пошли.
Они проходят на обычные места для приглашенных в шестом ряду партера. По пути Дэвид здоровается с незнакомым Еве мужчиной в восьмом ряду. Она вежливо улыбается тому и устраивается в кресле — снимает пиджак, ставит сумку под сиденье. На ярко освещенной сцене — высокие стены из фальшивых кирпичей, украшенные чудовищно яркими концептуальными арт-объектами, и видавшая виды металлическая кухонная мебель. Нью-Йорк, приблизительно 1974 год: Гамлет — непрерывно курящий трансвестит, ничего не рисующий художник, в прошлом протеже Энди Уорхола. В роли Гертруды — Ребекка; в ее тридцать шесть рановато играть мать принца датского, но Гарри, верный друг, равнодушно проигнорировал все жалобы заведующего труппой.
Ребекка подробно описывала матери режиссерский замысел, но Ева не вполне уверена, как надо относиться к происходящему на сцене. Однако насколько бы странной ни оказалась постановка, она не сомневается в том, что дочь будет хороша: недаром у нее дома стоят на столике три премии Лоуренса Оливье. И тем не менее Ева привычно переживает за Ребекку — та в нервном ожидании, уже одетая стоит за кулисами — так же, как в свое время переживала за Дэвида. Ева ясно помнит тот день, когда они с Пенелопой сидели в партере университетского театра, повторяя слова, которые Дэвид и Джеральд произносили со сцены, и внимательно оглядываясь вокруг — не решится ли кто-нибудь на критику?
Дэвид усаживается рядом, и Ева спрашивает его:
— Помнишь ту постановку «Царя Эдипа» в Кембридже?
— Да, а в чем дело?
— Ты тогда выглядел довольно испуганным.
Дэвид внимательно смотрит на нее, и Ева начинает тревожиться, что он воспримет сказанное слишком серьезно: Дэвид никогда не дружил с самоиронией.
Но он хохочет.
— Ты права, черт возьми. Юношеская робость, что поделаешь. Мы ни о чем не имели ни малейшего понятия!
Ева тоже начинает смеяться. Они останавливаются, только когда гаснет свет и на сцене появляются Франсиско и Бернардо в велосипедных кроссовках и с торчащими вверх, как у панков, волосами. Дэвид наклоняется и шепчет на ухо Еве:
— Но все-таки мы выглядели не такими напуганными, как эти ребята.
Ева утыкается лицом в локоть, чтобы не рассмеяться вслух. Пожилая женщина, сидящая на соседнем месте, смотрит на нее с неодобрением. Ева пытается сосредоточиться на спектакле. И одновременно думает о том, как их собственная драматичная история — брак, заключенный по расчету и в то же время по обоюдной страсти, и затянувшийся развод — превратилась с годами в предмет для шуток, в источник общих воспоминаний, и не более того.
Версия первая
Снежок Лондон, январь 1997
— Ты не смотришь, папа.
Вторник, на часах четверть четвертого; Джим ведет дочь домой из школы. Снегопада не было уже несколько дней, но вдоль тротуара все еще лежат белые сугробы, превращаясь ближе к проезжей части в желтоватое месиво. Робин проводит руками по ограде сада и лепит из собранного снега снежок. Джим опускает голову и видит, как он тает в маленькой ладони, одетой в красно-розовую варежку.
— Я смотрю, дорогая. У тебя здорово получается. Но лучше его, наверное, выбросить.
Робин мотает головой, и помпон на ее розовой шапке колышется в такт.
— Нет, папа. Снежки не выбрасывают, а бросают. — Так бросай.
Робин высвобождает руку и прицеливается; Джим хочет остановить ее, но не успевает. Снежок летит по низкой дуге в сторону проходящей мимо собаки.
— Робин, — резко одергивает ее Джим, — никогда больше так не делай.
Дочь, к счастью, не отличается меткостью, и снежный комок падает на тротуар в нескольких сантиметрах от пса.
— Простите, — говорит Джим, поймав взгляд владельца.
Тот улыбается из-под шляпы с загнутыми полями, демонстрируя три золотых зуба.
— Ничего страшного. Это же дети.
— Дети, — соглашается Джим.
Робин останавливается, засовывает в рот мокрую варежку и смотрит вслед уходящей собаке и ее хозяину.
— Папа, — говорит она громко, и прохожий наверняка ее слышит. — Ты видел зубы этого человека? Они сделаны из золота!
— Пошли, болтушка.
Он тянет Робин за руку.
— Тебе пора домой.
Домом ему на протяжении последних семи лет служит особняк в раннем викторианском стиле в Хакни: двухэтажный, с прямым фасасадом и без балконов; наличники выкрашены белой краской; высокие кованые ворота сбоку отделяют дом от соседнего, похожего на этот, как брат-близнец. До тех пор пока они с Беллой сюда не въехали, здание несколько лет пустовало. Никакого самозахвата — Джим честно купил его, потратив часть наследства, оставшегося от Синклера. В дальней комнате вместо обоев обнаружилась плесень и свисающие с потолка провода, а полы окончательно сгнили. Но Белла влюбилась в это место, и поскольку именно Джим настоял на переезде, то теперь по выходным ему приходилось сидеть в своей комнате и читать в наушниках, чтобы спрятаться от оглушительного звука дрели. Но он считал себя не вправе мешать Белле.
Она занялась ремонтом немедленно: даже на восьмом месяце беременности продолжала отдирать размокшую штукатурку и старые обои, красила потолки, стоя на верхней ступеньке стремянки и игнорируя просьбы Джима быть осторожной.
Джим, конечно, вспомнил лето 62-го (все пробовал посчитать, сколько лет прошло с тех пор), когда они с Евой переехали в район Джипси-Хилл, в ярко-розовый дом с мастерской старого художника в саду, где он рассчитывал добиться многого. Джим прожил в том доме тридцать лет и не мог просто взять и стереть его из памяти. Они с Евой положили немало сил на то, чтобы сделать его обитаемым: по вечерам Ева возвращалась из редакции «Ежедневного курьера», переодевалась в одну из его старых рубашек, затягивала косынку на голове и бралась за малярную кисть.
Однажды Джим допустил досадную оплошность: поднявшись наверх, он увидел Беллу на стремянке — она стояла к нему спиной, темные кудри выбились из-под косынки — и назвал ее Евой. Белла не разговаривала с ним четыре дня. Послала куда подальше — подвергла обструкции, как теперь выражаются, — что проделывала с огорчительной регулярностью. В начале их отношений такого за ней не водилось.
В прихожей Джим снимает с дочери рюкзак, шапку, варежки и толстый пуховик. Робин топает ногами, обутыми в высокие сапоги, стряхивая остатки снега на пол. Голубыми глазами (одинакового цвета, в отличие от матери), формой нежно-розовых ушных раковин, забавным выражением, появляющимся на лице в моменты глубокой задумчивости, — всем этим Робин очень напоминает Джиму Дженнифер и даже, пожалуй, Дэниела. Но он опасается подобных сравнений: когда Робин впервые улыбнулась, и Джим — преисполненный отцовского счастья — сказал, что видит перед собой Дженнифер, Белла отреагировала очень резко.
— Не заставляй меня чувствовать так, — сказала она, — будто все, сделанное нами вдвоем, надо обязательно сравнивать с твоей жизнью с ней.
Потом Белла извинилась за этот срыв, объяснила его нервным истощением после родов. Но неприятный осадок остался. Это была уже не совсем та женщина — девушка, — однажды в сентябре заглянувшая в художественный класс, с которой он разговаривал об искусстве, свободе и жизни, не ограниченной условностями, и мог делать это часами — в пабе, в мастерской и даже во время того злополучного ужина в компании с Евой.
Время, проведенное в обществе Беллы, ощущалось Джимом словно глоток холодной воды при сильной жажде: она была молода, красива, с ней рядом казалось легко существовать, не чувствуя обязательств, налагаемых длительным браком, и не питая надежд, с ним связанных.
На протяжении многих месяцев он и не надеялся на взаимность; и вдруг выяснилось — к его неописуемой радости, — что это возможно.
Стояла ранняя весна. В один из воскресных дней они работали в мастерской; впервые за много месяцев открыли настежь окна, поставили выбранный Беллой диск с какой-то громкой и резкой музыкой. Она зашла в его комнату и долго стояла за плечом, наблюдая, как Джим рисует. Он молчал, предчувствуя, что сегодняшний день многое изменит в его жизни. Белла придвинулась вплотную — он ощущал ее дыхание на шее — и прошептала ему в правое ухо:
— Мне кажется, я люблю тебя, Джим Тейлор. А как ты думаешь, ты мог бы полюбить меня?
Он притянул ее к себе — таков был его ответ.
Тогда, в первые умопомрачительные месяцы их связи, Джим не мог себе представить, что Белла способна на мелочную ревность. И когда он появился на пороге ее дома в Нью-Кросс с чемоданом в руке, поставив точку в своем браке, она обняла его и повела внутрь. А на следующее утро, за невкусным завтраком в какой-то забегаловке по соседству, призналась, что в жизни не была так счастлива.
Джим не может вспомнить, когда все начало портиться. «Возможно, — думает он сейчас, — я и не знал подлинной Беллы, принимая за нее ту, которую себе вообразил: своего спасителя, женщину, вернувшую мне веру в искусство и в собственные способности; избавившую от пристрастия к алкоголю». Джим перестал безоглядно пить, едва только встретил Беллу, будто боялся потерять даже секунду их общения. Возможно, свой отпечаток наложило на нее материнство или же сильные переживания о том, уйдет ли Джим из семьи. Независимо от причин результат был налицо — Белла изменилась.
Когда Джим вернулся из Рима и застал на кухне разъяренную Еву — открытка с репродукцией Мана Рэя лежала перед ней на столе, — он оказался совершенно не готов к такому повороту событий. Вначале он не узнал открытку, но Ева перевернула ее, и Джим почувствовал пустоту в желудке. Никогда раньше, видясь тайком с Беллой по вечерам (обычно он отправлялся в Нью-Кросс после занятий, а Еве рассказывал про очередное собрание в школе), Джим не позволял себе даже представить, что произойдет, если иллюзорное будущее столкнется с настоящим. Он воображал, как вместе с Беллой создаст шедевр и сообщит Алану Данну, куда именно тот может засунуть свою школу. Но к происходящему сейчас он готов не был и потому стоял, беспомощно глядя на жену и слушая собственное сердцебиение, громкое, будто прибой. Ева не нуждалась в объяснениях — она уже съездила к Белле. Услыхав об этом, Джим испытал сильнейший приступ тошноты. Казалось, Ева даже не злится: просто хочет знать, что Джим собирается делать.
— Делать? — бездумно переспросил он.
Ева смотрела тем взглядом, который привлек его внимание еще тогда, при первой их встрече в Кембридже, возле велосипеда с пробитой камерой. И вот уже тридцать один год он смотрит в эти глаза — умные, вопрошающие, знакомые Джиму в каждом своем выражении.
— Сейчас, Джим, ты обязан сделать только одно, — произнесла Ева холодным твердым голосом, словно от правильного подбора и расстановки слов зависело ее самообладание. — Сказать мне, собираешься ли ты уходить.
Он ушел немедленно — это казалось самым милосердным в данной ситуации. Просто сказал Еве: «Я очень сожалею. Я люблю тебя. Всегда любил», — повернулся и ушел. Она плакала; хотелось успокоить ее — но Джим, разумеется, не мог так поступить. И тут к нему пришло страшное понимание: возможно, он больше никогда не обнимет Еву. Джим с трудом заставил себя повернуться и уйти. В прихожей забрал чемодан, с которым вернулся из Рима. Закрыв за собой дверь, сообразил, что забыл взять ключи от машины. Впрочем, машина ему теперь не принадлежит. Ее купила Ева. Как и многое из их прочего имущества. Джим вышел на улицу и стал оглядываться в поисках свободного такси; он ощущал пустоту и истощенность, но одновременно и растущую радость. Белла теперь его: пути назад нет. Он переворачивает страницу, начинает новую главу в жизни. Двери дома в Нью-Кросс ему открыл один из сквоттеров — соседей Беллы. Смерив Джима скучающим взглядом, он сказал, что Белла спит наверху. Джим подошел к двери комнаты, тихо открыл ее и, когда Белла бросилась ему навстречу, ощутил тепло ее маленького стройного тела.
Сейчас на кухне их дома в Хакни Джим делает Робин бутерброд из ржаного хлеба без корки и земляничного джема. Он сидит рядом с дочерью, пока та ест и одновременно делится с ним новостями загадочной школьной жизни:
— Папа, мы рисовали Австралию… Гарри на перемене стошнило… У мисс Смит на джемпере дырка. Под мышкой.
Джим не припоминает таких эпизодов, связанных с Дженнифер и Дэниелом. Он начинает осознавать, как мало времени проводил с ними наедине: Ева и тогдашняя их няня Джулиан брали на себя большую часть родительских забот. Удивительно, как Ева справлялась при ее занятости — ведь она работала в «Ежедневном курьере», да еще и писала. Тем не менее она все успевала, и Джим не может припомнить, чтобы Ева упрекнула его в том, что он мало помогает. Наоборот, недовольство всегда выказывал он сам, и сейчас Джиму стыдно за это. Он чувствует, как растет его долг, который старшие дети не собираются просто так прощать. Дженнифер, потрясенная предательством отца, заявила, что не хочет видеть его на своей свадьбе и встречаться с ним больше не будет; она разговаривала с ним по телефону отстраненно, ледяным тоном. (Теперь, конечно, они видятся регулярно, раз в несколько месяцев, но свое слово Дженнифер держала почти год.) Дэниел был более сдержан, но расстроился не меньше сестры.
— Мама просто убита, пап, — сказал сын, когда они обедали вдвоем в мясном ресторане в районе Джипси-Хилл. — Может быть, ты вернешься?
Джим не нашел слов, чтобы объяснить своему шестнадцатилетнему ребенку, почему это невозможно. Он не хотел причинять боль Еве и собственным детям, но рядом с Беллой испытывал такое счастье, какого не знал уже много лет. В то время Джим больше не работал в школе — уволился в конце весенней четверти, и никто его отговаривать не стал. На лице Алана, подписывавшего заявление, читалось неодобрение, и Джим не нашел в себе смелости сказать вслух то, что столько раз произносил про себя. Вскоре выяснилось, что Белла беременна, и вопрос об их совместном будущем встал ребром. В больнице, где делали первое УЗИ, разглядев на экране крошечное изображение зачатого ими ребенка, Белла сильно сжала руку Джима.
— Я знала, — сказала она позднее. — Знала с той секунды, как увидела тебя, что хочу стать матерью твоего ребенка. Она — или он — будет таким красивым! Наше общее произведение искусства.
После чая наступает время игр: Джим усаживает Робин в детской в окружении кукол. Выйдя оттуда, останавливается перед дверью, ведущей в свободную комнату: именно там, среди коробок, сломанных зонтов и старых игрушек дочери, он поставил мольберт и разложил краски, кисти и пропитанные скипидаром тряпки.
Сперва это казалось временным решением: арендованная ими мастерская в Дальстоне была меньше той, что в Пекхэме, а Белла как раз начала работать с большими формами — последняя картина, изображающая во всех подробностях ее девичью спальню, заняла почти все пространство. Для совместной работы места не оставалось, и Джим вынужденно стал рисовать дома, дабы Белла могла спокойно распоряжаться мастерской.
Ее работы подавляли Джима и размерами, и бесшабашностью — собственные картины на их фоне выглядели более скромными и робкими. Скульптуры, на которые его вдохновила любовь к Белле, не получились, и Джим, переживая горечь неудачи, вернулся к живописи.
Но даже здесь, дома, его не покидает чувство приниженности — работы Джима кажутся тихим шепотом рядом с громкими высказываниями Беллы. Он все еще покорно рисует в те дни, когда не работает учителем на подмене и не сидит с Робин, но именно так к этому и относится — словно к долгу. Перед своими былыми амбициями; перед Беллой; перед тем Джимом Тейлором, каким он хотел выглядеть в ее глазах, — художником, угнетенным отцовством, браком, ответственностью и желающим все начать сначала.
Так и не открыв дверь в комнату, где стоит мольберт, он поворачивается и идет вниз. Время — половина четвертого: спокойные часы перед ужином, который он обещал приготовить. Если, конечно, Белла вообще придет домой: она теперь, бывает, несколько раз в неделю ночует в мастерской. На кухне Джим делает себе чай и садится с чашкой в гостиной. Его внезапно охватывает усталость, подняться просто нет сил. Глаза закрываются, и он не чувствует ничего, пока детская рука не начинает теребить его за рукав.
— Папа, проснись! Почему ты спишь? — слышит он тонкий голос дочери.
Медленно приходя в себя, он отвечает:
— Иду, Дженнифер. Папа идет.
Открыв глаза, Джим внезапно обнаруживает, что Дженнифер рядом нет, и несколько секунд удивленно смотрит на маленькую девочку с ярко-голубыми глазами и копной темных кудрявых волос, пытаясь понять, кто это такая.
Версия вторая
Совет Лондон, июль 1998
Она несет поднос с обедом Теда. Суп-пюре из картофеля и лука-порея; хлеб с маслом, который он будет есть небольшими кусочками, макая их в суп.
— Ты готов покушать, дорогой?
Ева ставит поднос на больничный стол на колесиках — некрасивый, но практичный. Она не ждет ответа, а когда оборачивается, видит, что Тед заснул.
Ева смотрит на своего мужа: его грудная клетка поднимается и опускается. Он прижался к подушке правой щекой, и осталась видна только левая — неповрежденная — часть лица. С закрытыми глазами и слегка приоткрытым ртом Тед выглядит совершенно обычно: Ева вспоминает, как, проснувшись в первый раз рядом с ним, долго всматривалась в его лицо.
Открыв глаза, он тогда произнес:
— Пожалуйста, Ева, скажи, что ты мне не снишься.
Она рассмеялась и потрепала его по щеке:
— Я здесь, Тед. И никуда не денусь.
На кухне Ева ставит поднос на стол: через полчаса подойдет к нему вновь, потом разогреет суп; или, возможно, он захочет съесть его холодным. День сегодня чудесный — теплый, но не жаркий; Ева открывает настежь окна и развешивает выстиранное белье — бесконечные простыни Теда, его полосатую пижаму, лечебные гольфы. Затем наливает себе тарелку супа и идет с ней в сад, где на раскладном столе ее уже ждут аккуратно разложенные приборы и салфетка.
Ева описала этот ритуал в своей книге. «Как правило, вы будете есть в одиночестве, но не пренебрегайте условностями. Вы соблюдали их, когда ваш супруг или родители чувствовали себя хорошо, так зачем же что-то менять?»
Дафне казалось, что это звучит слишком назидательно.
— Ева, тебе не кажется, что большинству из тех, кто заботится о своих близких, не до правильно сложенных салфеток? — спросила она по телефону во время работы над вторым изданием. — Таким образом ты их только перегружаешь, разве нет?
Но Ева настаивала на своем.
— Именно эти мелочи, Дафна, позволяют не сойти с ума. Таков, во всяком случае, мой опыт. О нем я и рассказываю.
Ева говорила об этом с уверенностью, которой на самом деле не чувствовала. Сам факт написания книги — с рабочим названием «Обращаться осторожно» — тревожил ее гораздо сильнее. Предложение Эммы Харрисон, молодой женщины, которая унаследовала клиентов Джаспера, старого друга и агента Евы, застало ее врасплох. Всего полгода назад Сара подарила Еве ноутбук и научила пользоваться электронной почтой. Адрес Евы был у немногих, но предприимчивая Эмма Харрисон сумела его добыть. В письме она тактично объясняла, что пришла на работу в агентство, где трудился Джаспер, вскоре после его смерти. Она писала: «Надеюсь, что мое неожиданное обращение не вызовет у вас негативной реакции. Я хотела бы предложить вам как-нибудь пообедать вместе. У меня есть для вас одна идея».
Они встретились в Сохо, в ресторане «Васко и Пьеро», любимом заведении Джаспера. (Ева отдала должное этой девушке; та изучила историю вопроса.) Заказав бутылку недешевого «Сансер», Эмма изложила свою идею: книга о том, как правильно заботиться о немощных. Отчасти воспоминания, отчасти практическое пособие.
— Вы, Ева, выполняете на самом деле тяжелую работу — и тысячи мужей, жен и детей по всей стране заняты тем же. Не напоказ, с чувством собственного достоинства — и, как правило, не за деньги. Это возможность обратиться к ним. Поддержать их.
Слова о чувстве собственного достоинства показались Еве несколько избыточными. Она сухо заметила, что не считает себя матерью Терезой, но над идеей обещала подумать. Вечером, после купания Теда — поднимать его помогала Кэрол, вечерняя сиделка — она сказала, натирая мужу ноги лечебным кремом:
— Дорогой, мне предложили написать книгу о нас. О том, каково это — заботиться о другом человеке. Мне эта идея не кажется удачной. А ты что думаешь?
Тед пришел в волнение: бессвязные звуки, которые теперь были для него единственным средством общения, стали громче. (С этого наблюдения она и начнет книгу: как ужасно для человека, чей профессиональный успех строился на умении общаться с людьми, потерять дар речи.) Глаза его начали двигаться из стороны в сторону, он принялся усиленно моргать, что означало согласие.
— Думаешь, стоит согласиться?
Тед продолжал моргать.
— Ну что ж.
Ева начала втирать крем в его правую руку.
— Посмотрим.
Сейчас, доедая суп в саду, Ева слушает новости по радио, которое она оставила включенным в кухне: трое детей погибли в Северной Ирландии в результате взрыва самодельной бомбы; голод в Судане; в финале чемпионата мира по футболу Бразилия сыграет с Францией.
«Не теряйте интереса к происходящему вокруг, — написала она в третьей главе своей книги. — Слушайте радио, смотрите телевизор, подписывайтесь на газеты. Важно помнить, что вы и тот, о ком вы заботитесь, — не одни в этом мире, и уж точно не единственные, кто оказался в беде».
Она думает о бедных детях в Северной Ирландии и Судане; о своем внуке Пьере, замечательном подростке, свободно владеющем двумя языками; о незнакомой женщине, которая прислала ей месяц назад письмо о том, что ее муж с двумя детьми вернулся в Пакистан и она боится их больше не увидеть. Ева не стала высказываться в своей колонке по поводу этого письма. Она поступила в соответствии с рекомендациями юристов «Ежедневного курьера» — посоветовала женщине обратиться в полицию. Вчера от нее пришло еще одно письмо. «Благодарю вас за совет, миссис Симпсон. Не могу вам передать, как это важно для меня. Но все бесполезно. Он говорит, что убьет их, если я последую за ним. И думаю, он на такое способен».
Советы. Вот чем сейчас занимается Ева, хотя в глубине души отдает себе отчет, что ни в одном вопросе не разбирается лучше остальных, а может быть, и хуже, чем когда ей было двадцать лет и все вокруг казалось простым, ясным и понятным. Это началось после выхода «Обращаться осторожно»: успех книги превзошел даже ожидания Эммы Харрисон. Критики отнеслись к ней благосклонно (большинство из них, во всяком случае), читатели — с восторгом. Еву пригласили выступить в телепрограмме и войти в совет директоров трех благотворительных фондов. Вопрос «об опеке» обсуждался в парламенте. Даже Джудит Кац — ей уже девяносто, и она коротает свои дни в роскошном заведении для людей преклонного возраста в Хэмпстед-Гарден — позвонила, чтобы поздравить Еву. А затем к ней обратились из редакции «Ежедневного курьера»; Джессами Купер, главный редактор нового субботнего приложения, тридцати четырех лет от роду. Ева не уставала удивляться тому, как неожиданно помолодел весь мир вокруг.
За очередным дорогостоящим завтраком Джессами спросила Еву:
— Как вы смотрите на то, чтобы вести у нас колонку, где вы могли бы давать советы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации?
Ева на минуту задумалась.
— Рекомендации в безнадежных случаях?
— Можно и так сказать. — Джессами улыбнулась. — Но слово «безнадежный» звучит слишком пессимистично.
Парадоксальность ситуации, думает Ева, доедая суп, состоит в том, что чем больше она советует другим, как правильно заботиться о близких, тем меньше времени на это остается у нее самой. Кэрол теперь приходит на три дня в неделю и еще помогает купать Теда. Когда сразу после Рождества он заболел воспалением легких, сиделка оставалась на полные сутки и ночевала в гостевой комнате.
Они могли себе это позволить благодаря гонорару за книгу и более чем щедрому выходному пособию, которое выплатил Теду «Ежедневный курьер». Еву пригласили на встречу к новому главному редактору, который недавно перешел в «Курьер» из «Телеграф». Это была их первая встреча; сидя на удалении от редакторского стола, Ева наблюдала, как его маленькие, слезящиеся глазки бегают по кабинету.
— Тед Симпсон — великий человек. Нам его очень не хватает.
Ева удержалась от соблазна сказать в ответ: «Вы с ним даже не знакомы. Откуда вы знаете, насколько его не хватает?»
Но даже Тед предпочитает — такое у Евы создалось впечатление, — чтобы она продолжала писать. Он сказал однажды, пока еще мог говорить, что больше всего боится не за себя, а за нее — будет катастрофой, если ей придется все время посвятить заботе о немощном муже. Через несколько недель после возвращения из Рима случилось кое-что ужасное: однажды утром они вышли из поезда на вокзале Кингс-Кросс, и, когда шли по перрону, Тед вдруг утратил контроль над своим телом. Ева знала, как поступать в таких случаях: крепко взять его за руку, увести подальше от толпы, усадить и главное — успокоить. Но какая-то бизнес-леди — Ева до сих пор помнит ее строгий деловой костюм и стук высоких каблуков — громко сказала, проходя мимо:
— Напиться с утра! Какой позор!
Услышав это, Тед сжался, словно от физической боли. Когда они наконец нашли, где присесть, он закрыл лицо руками и произнес:
— Ты должна меня оставить, Ева. Я тебе обуза. Я разрушаю твою жизнь.
Ева оторвала его руки от лица — холодные, безжизненные — и принялась отогревать их в своих ладонях.
— Тед, я тебе говорила, что никуда не уйду. И не собираюсь это делать. Придется тебе меня терпеть.
Но в глубине души Ева знает: мысль о том, чтобы оставить Теда, все-таки посещала ее. Спустя несколько недель после того случая она вышла прогуляться и медленно брела к Александра-палас[22]. По дороге она присела отдохнуть на скамейку под старым платаном; открывавшийся оттуда вид напомнил ей о Париже. «Я слишком молода для этого, — произнесла Ева мысленно. — Я не просила такой судьбы. Это несправедливо».
Так оно и было — но Ева заставила себя подумать, что куда более несправедливым это было по отношению к Теду. Она представила, как покидает его, поручив сиделке, которая способна только на отстраненную, безличную заботу; оставляет одного в какой-нибудь больнице, веря, что та может заменить Теду дом. Тед был единственным ребенком в семье, его родители умерли, своих детей он не имел, Ева и Сара — все, кто у него есть; они его не оставят. И Ева любит его. Без всяких сомнений.
Из радиоприемника сейчас доносится музыка из «Арчеров»[23]. Ева слушает, закрыв глаза, наслаждаясь теплом летнего солнца и звуками сельской жизни, которыми полон вымышленный Эмбридж. Открыв глаза, обнаруживает Умберто — он превратился в благородного старика, худощавого и неторопливого, как и положено пожилому итальянскому синьору. Кот потягивается после сна на своем любимом месте, в тени под клематисами. Ева подходит к нему и чешет мордочку.
— Что ты хочешь сказать, мой дорогой итальянец? Я должна пойти посмотреть, не проснулся ли твой папочка?
Тед не спит. Ева вновь приносит поднос с едой, кладет ладонь на его лоб.
— О господи, дорогой, ты весь горишь. Хочешь, я открою окно?
Он часто моргает, глядя на нее. Ева открывает окно, и в комнату проникают звуки улицы и дуновение свежего воздуха. Она смотрит на мужа, на ту сторону его лица, которая после последнего приступа как будто сморщилась и не может расправиться. В глазах Теда Ева видит невыразимую печаль. Она говорит:
— Мой дорогой. Пожалуйста, не смотри на меня так. Это невыносимо.
Тед вновь моргает и закрывает глаза.
Версия третья
Пропавшая Сассекс, апрель 2000
К тому моменту, когда Джим, вернувшись из мастерской, сказал: «Думаю, надо начинать ее искать», — они не получали никаких известий от Софи уже полтора месяца.
Сегодня вторник, на часах — начало двенадцатого. Ева стоит у окна в кухне с чашкой кофе в руке: обычно в это время она делает перерыв в литературных занятиях. Она почти закончила редактировать свой долгожданный сборник рассказов, во всяком случае, надеется, что это так.
— Дорогой, ты полагаешь, это правильная идея?
— Нет.
Джим прислоняется к дверному косяку.
— Я не считаю эту идею правильной. Но других у меня нет.
Ева садится за руль. Утро ясное и ветреное; деревья, стоящие по обочинам узких дорог, раскачиваются и гнутся, с живых изгородей падают лепестки. Джим размышляет о своей последней встрече с Софи, перед Рождеством. Дочь отвергала любые попытки пригласить ее отпраздновать вместе с ними — мобильный вечно был выключен, — и Джим решил взять дело в свои руки. Он поехал в Брайтон один; Ева проводила выходные в Лондоне вместе с Сэмом и внуками, а Джим остался дома, чтобы закончить работу над заказом, который предстояло сдать на следующей неделе. Он ехал тогда по этим же дорогам, покрытым наледью.
У него имелся адрес: Софи жила на Квебек-стрит в небольшом доме с террасой и голубым, покрытым трещинками фасадом. На звонки долго никто не отвечал. Джим подумал, что, возможно, Софи переехала, не предупредив его, — такое с ней уже случалось. Но затем она появилась в дверном проеме — точнее, ее тень, исхудавшая и дрожащая от холода в футболке с длинными рукавами.
— Папа, — сказала тень, — ты не понял? Я не хочу тебя видеть.
И закрыла дверь перед его лицом.
Сейчас они поворачивают на Лондон-роуд, и Ева спрашивает:
— Квебек-стрит, верно?
— Других координат у нас нет.
Ева накрывает его ладонь своей.
— Мой дорогой. Не испытывай чрезмерных надежд.
Он сжимает ее пальцы.
— Я знаю.
Они оставляют машину в конце улицы, рядом с аккуратно выбеленным домом, где на подоконнике стоят две деревянные модели яхт. Идти недалеко, но Джим чувствует, как тяжелеют ноги, и внезапно его охватывает страх не устоять на них. Ева берет его за руку.
— Не хочешь присесть? Может быть, придем попозже?
Джим качает головой. Он не станет бояться собственной дочери.
— Нет. Пошли. Я должен хотя бы попытаться.
Второй раз в жизни он звонит в эту дверь. Они томятся в тревожном ожидании. С противоположной стороны улицы на них мрачно смотрит девушка в черном кожаном пиджаке и с ярко-зелеными волосами.
Джим вновь нажимает звонок и ждет. Наконец на лестнице раздаются шаги, и за замерзшим стеклом появляется расплывчатый силуэт. У Джима перехватывает дыхание. Дверь распахивается. Перед ним стоит незнакомый мужчина в черной футболке и поношенных джинсах; он необычайно бледен.
— Что надо? — спрашивает он.
Джим глядит на незнакомца, силясь понять, что тот из себя представляет.
— Я отец Софи. Она дома?
— Ошибся адресом, приятель. — Мужчина говорит с сильным лондонским акцентом, в голосе слышится скрытая насмешка. — Никакой Софи здесь нет.
— Я вам не верю.
Джим делает шаг вперед, но ему преграждают путь.
— Не советую, приятель. Говорю же — ты ошибся адресом.
Ева предупреждающе берет Джима за локоть.
— Если это так, — говорит она, — то извините нас за беспокойство. Но мы в замешательстве. Моя падчерица раньше жила здесь. Муж виделся с ней всего несколько месяцев назад.
Мужчина смотрит на нее, улыбаясь уже в открытую. Джим испытывает сильнейшее желание ударить его, почувствовать, как крошатся его зубы и кости. Но Ева по-прежнему придерживает его руку.
— Что ж. Я понимаю, вы в замешательстве. Но она здесь больше не живет.
— Не могли бы мы, — продолжает Ева тем же спокойным тоном, — пройти внутрь и убедиться в этом сами?
— Нет. И вообще, почему бы вам не развернуться и не продолжить вашу безбедную буржуазную жизнь?
Дверь захлопывается. Джим едва слышит слова этого человека. Он смотрит на свою дорогую смелую Еву. И внезапно наступает чудовищная ясность: он выбрал Еву — то безусловное счастье, которое испытывает рядом с ней, — в ущерб собственной дочери. Очевидно, что он принес страдания и себе, и всем окружающим. Джим не имел права уходить от Хелены. Нельзя было возвращаться в прошлое, туда, где перед ним и Евой простиралась целая жизнь. Он нарушил закон природы: шанс на счастье дается один раз, с одним человеком, и, упустив его, второго ты не получишь.
Джим вспоминает, как увидел Еву на дне рождения Антона: она стояла на кухне, в длинном платье, с подобранными сзади волосами. В тот момент он должен был повернуться и уйти домой — к Хелене и их маленькой дочке, к своей жизни. Но Джим знает: он никогда не смог бы этого сделать. Не в силах был отвернуться от Евы, как уже сделал однажды, столкнувшись с ней возле книжного магазина Хефферса; она носила под сердцем Ребекку, она смотрела ему вслед. Джиму тогда понадобилась вся его воля, чтобы не обернуться. Во второй раз он на такое оказался не способен.
— Джим, дорогой. С тобой все в порядке?
Он не отвечает. Спотыкается, и Ева поддерживает его.
— Пойдем обратно в машину.
Она везет его на набережную. Автомобиль они оставляют на Брунсвик-сквер; оттуда Ева ведет Джима к морю, поддерживая за локоть, как инвалида. Они спускаются к прибрежному кафе, где стоят твердые металлические стулья и в желтых пластмассовых контейнерах продают жареную рыбу с картошкой. На пляже никого, кроме человека с собакой; он бросает палку, и собака ловит ее в красивом прыжке; на бесконечном сером море волнение.
— Где она? — спрашивает Джим.
— Где-то, куда нам не добраться.
— Наркотики.
Джим впервые произносит это слово, но уже много месяцев, если не лет, оно витает в воздухе. Непредсказуемое поведение Софи. Ее внезапная худоба. Нездоровый, желтоватый цвет кожи. Ева кивает:
— Думаю, да.
— Это моя вина, — говорит Джим.
— Нет.
— Да. Я виноват во всем. Софи, мама… я всех подвел, Ева. Никому не стал опорой. Заботился только о себе.
— И обо мне.
Джим смотрит на Еву. Ветер треплет ее волосы. Она значит для него все, в ней заключается весь мир или лучшая из его версий. Нет сомнений: выбора у Джима никогда не было.
— И о тебе.
Несколько минут они молчат. Затем Ева берет пустые контейнеры и несет их к мусорному баку, стоящему возле тропинки. Джим наблюдает за ее неторопливыми, уверенными движениями. Со спины ей по-прежнему можно дать лет двадцать; и даже когда Ева оборачивается, с трудом можно поверить, что ей шестьдесят один год.
Она возвращается, опять садится рядом с Джимом и говорит:
— Ты не должен винить себя во всем. Просто не должен.
— В первую очередь стоило думать о Софи, — отвечает он негромко. — Я был ей плохим отцом.
Ева поворачивается к Джиму и сжимает его лицо в своих ладонях.
— Мой дорогой, все отцы и матери в мире чувствуют ровно то же самое. Ты сделал все, что мог.
— Я должен был сделать больше.
Джим встает, Ева за ним вслед. Она отрывает руки от его лица, он ловит их.
— Извини. Я просто так переживаю за нее.
— Естественно. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти ее. Когда вернемся домой, начнем всех обзванивать — Хелену, то место, где Софи работала, кажется, оно называется «Корабль». Может быть, Сэм что-то подскажет. Поднимем всех, Джим. Мы найдем ее и вернем домой.
Джим испытывает огромное облегчение; Ева существует, она рядом, он любит ее. Делает глубокий вдох.
— Дойдем до моря.
И они идут по гальке, неловко спотыкаясь, подобно детям, делающим первые шаги.
Версия первая
Шестидесятилетие Лондон, июль 2001
— Готова к торжественной речи?
— Всегда готова.
Ева пригубливает шампанское.
— У меня в сумке есть шпаргалка.
— Умница.
Пенелопа поднимает свой бокал и чокается с Евой. — В любом случае, в твоей биографии бывали аудитории и посложнее.
Они стоят на носу корабля, на верхней палубе. Вокруг мужчины в строгих костюмах — их ровесники, с седыми прилизанными волосами (если осталось что прилизывать) и умиротворенными раскрасневшимися лицами — и дамы в вечерних нарядах со смелыми декольте. Наблюдая за женщиной, стоящей на противоположной стороне палубы, — ее пышные белокурые волосы собраны на затылке, глубокий вырез длинного красного платья открывает безукоризненную грудь алебастрового цвета, — Ева испытывает смешанное чувство жалости и восхищения.
Они с Пенелопой проявили мудрую сдержанность: Пенелопа, проигравшая борьбу с лишним весом, одета в черное платье, расшитое золотой нитью. Ева выбрала темно-зеленый шелк. Это платье — подарок самой себе, сделанный спонтанно, и обошелся он недешево.
— Красивое платье. Ты в нем такая стройная. Черт бы тебя побрал.
— Ты мне льстишь. Но все равно спасибо.
Пенелопа с улыбкой рассматривает Еву, слегка вздернув голову. И произносит уже серьезно:
— Ты великолепна, дорогая. Возраст тебя не берет. Ко всем нам он безжалостен, но ты — исключение. Помни об этом.
— Хорошо, Пен. Я постараюсь.
Ева благодарно сжимает локоть подруги. Пенелопа всегда оказывалась рядом, когда Ева в ней нуждалась, а за последние годы таких моментов набралось множество.
— Я отлучусь ненадолго. Встретимся за ужином. — Договорились. Удачи с твоей речью. Представь их всех голыми.
Они внимательно смотрят друг на друга, и Пенелопа начинает смеяться первой.
— Хотя если подумать, то лучше не надо.
Туалеты расположены на нижней палубе, поблизости от зала для приемов, где официанты лихорадочно расставляют бокалы и стаканы на круглых столах, в центре каждого из которых — высокая белая ваза с одинокой лилией. За широкими окнами тянется ввысь, в чернеющее небо, островерхое здание галереи Тейт Модерн; светлое пятно на противоположной стороне реки — величественный собор Святого Павла. Ева замирает в дверях, разглядывая панораму своего города, впитывая ее.
— Ева. Вот ты где. Слава богу.
Это Теа: седеющие волосы умело подкрашены, тонкие лямки вечернего платья подчеркивают округлость предплечий. Ей пятьдесят восемь, но каждое утро она встречает в спортзале, оборудованном в подвале их дома в Пимлико. В первые недели после ухода Джима — в те ужасные дни, когда казалось, что жизнь кончена, и Ева даже не могла заставить себя переодеться, — Теа пыталась привить своячнице подобную дисциплинированность. По утрам три раза в неделю она забирала Еву из дому, сажала в свой «эмджи» и заставляла вставать на беговую дорожку.
— Физическая нагрузка лечит все, — уверяла она Еву со своей норвежской прямотой. Но это было не так: Еве нагрузка не помогала. Боль просто перемещалась по ее телу, находя себе новое место, где угнездиться.
— Все выглядит отлично, — говорит Ева.
— Правда? Я очень рада.
Теа подходит к Еве, обнимает и кладет ей голову на плечо. Она подвержена таким приступам сентиментальности; раньше Ева чувствовала себя из-за них неловко — в Англии, а тем более в Австрии такое поведение не принято, — но со временем привыкла, и манеры Теа ей стали нравиться.
— За нашим столом будет сидеть один человек, я хочу тебя с ним познакомить.
Ева отступает на шаг, пораженная.
— Теа, ты что…
— Не смотри на меня так. Расслабься.
Теа озабоченно вскидывает ухоженные брови.
— Время садиться за стол. Поможешь мне всех собрать?
Родственники садятся за первый стол, как на свадьбе: Антон и Теа; Дженнифер и Генри; Дэниел и Хэтти, его новая подруга, студентка факультета дизайна, в собственноручно изготовленной элегантной соломенной шляпке на заплетенных в мелкие косички волосах. Бент, мать Теа — нейрохирург на пенсии, ей сейчас за восемьдесят, но она все-таки приехала по такому поводу из Осло, — похожая на дочь и прекрасной фигурой, и незаурядным умом. Она сидит рядом с племянницей Евы, двадцатишестилетней Ханной, студенткой последнего курса медицинского факультета. По другую руку от Бент расположились школьный приятель Антона Ян Либниц и его жена Анджела; подобно многим парам, давно живущим вместе, со временем они стали очень похожими друг на друга. Место между Анджелой и Евой пустует, на табличке, стоящей на столе, аккуратными буквами выведено: «Карл Фридландер». Это новый компаньон Антона, его жена, если Ева правильно помнит, умерла от рака не более года назад.
Ева ловит взгляд брата, сидящего напротив, — он многозначительно смотрит на пустующий стул рядом с ней.
— Ну погоди, — беззвучно отвечает она, — я тебе все скажу, когда придет моя очередь выступать.
Ева не показывает виду, но внутри у нее все кипит. Вместо того чтобы получать удовольствие от юбилея собственного брата, теперь ей придется участвовать в представлении, устроенном этими сводниками. Да еще на глазах у своих детей и их общих друзей (за исключением Джима, разумеется. Тот не приглашен). Но Антон только смеется и пожимает плечами. Он сейчас так похож на себя в детстве — пухлый, краснощекий, вечно в поиске новых авантюр, — что Ева против воли улыбается в ответ.
Карл Фридландер появляется, когда начинают разносить закуски. Он очень высокого роста — больше шести футов, как кажется Еве; запыхавшись, извиняется за опоздание — добирался сюда от дочери, которая живет в Гилдфорде, и где-то в районе Ватерлоо поезд просто встал. Худое, почти изможденное лицо, копна седых волос. Пожимая ему руку, Ева вспоминает черно-белую фотографию Сэмюеля Беккета, висевшую над столом Боба Мастерса, с которым она делила кабинет в редакции «Ежедневного курьера»: строгое изображение самолетов и их перекрещенных теней. Но она с облегчением замечает, что выражение лица Карла Фридландера лишено этой одномерности.
Усевшись, он говорит:
— Очень рад увидеться с вами.
Устраивается на стуле, одергивает пиджак.
— Я, разумеется, вас знаю. Имею в виду, знал еще до того, как мы встретились с Антоном. Моя жена читала все ваши книги.
Он еле заметно вздрагивает, произнеся слово «жена», и Ева, чтобы не длить его замешательство, быстро произносит:
— Приятно слышать. А сами вы их читали? Мужчинам это не запрещено.
Карл внимательно смотрит на Еву, коротко смеется.
— Правда? Жалко, не знал раньше. Когда я читал «Под давлением», маскировал его свежим номером «Плейбоя». Чтобы никто не увидел.
Теперь смеется Ева. Она замечает, как с другого края стола за ней наблюдает Дженнифер, неизменно чуткая к переменам в настроении матери.
— Так знайте же, что теперь вы можете перечитывать его, не скрываясь.
В перерыве между закусками и горячим Ева узнает, что Карл Фридландер родился и жил в Уайтчепеле в семье выходцев из Германии (нет нужды говорить о его еврейском происхождении). В 1956-м поступил на службу в торговый флот, где провел тридцать лет, а затем создал собственную компанию по торговле судами. Когда два года назад его предприятие выкупила компания Антона, он хотел уйти на пенсию, но Антон всеми правдами и неправдами убедил Карла остаться. Обожает Вагнера, хотя знает, что, наверное, не стоило бы. Его внучку зовут Холли, и она самое лучшее, самое ценное в его жизни. А еще Карл совершенно, невыносимо одинок.
Последнее, разумеется, заметно лишь тому, кто понимает, что такое — прийти к финишному отрезку жизни (как ни печально, но факт есть факт) и внезапно обнаружить собственное одиночество. Ева знает: неожиданность подобного открытия смешна. В одиночестве мы приходим в этот мир, одинокими и покидаем его. Но брак — во всяком случае, счастливый брак — призван скрыть от нас эту основополагающую истину. Брак Евы и Джима был счастливым: сейчас, спустя десять лет после его бесславного окончания, она ясно видит это. На протяжении нескольких месяцев после ухода Джима Ева переживала то, что теперь неохотно описывает как нервный срыв, хотя определение кажется ей неточным. Скорее это было раздвоение сознания: она будто заблудилась в жизни и не могла найти путь назад. На ум приходил Данте с его «утраченной дорогой жизни». Ева не могла работать (ее издатель был вынужден напечатать книгу о женщинах-писателях без единого интервью); просто не могла существовать. Для того чтобы вывести Еву из такого состояния, понадобились общие усилия Антона, Теа и дорогостоящего психотерапевта. Вместе они заставили ее вспомнить, что есть дела, которые без нее останутся несделанными, и проблемы, ждущие ее решений. Помогло также и категорическое нежелание Евы оставлять детей одних; не говоря уже о том, что ей не хотелось демонстрировать Джиму свою неспособность прожить без него.
Ева решила обойтись без такого унижения. Собралась с силами и выставила на продажу их любимый розовый дом; затем приобрела в Уимблдоне меньшее жилье, где имелась свободная комната на случай приезда Дэниела, который только что уехал в университет в Йорке. Она даже отправила поздравительную открытку Джиму и Белле по случаю рождения их дочери Робин.
Джим не появлялся примерно год. Дженнифер отказалась приглашать его на свою свадьбу. Но затем он постепенно вернулся в их жизнь: на выпускной церемонии Дэниела (Белла осталась дома с Робин) он взял Еву за руку и прошептал ей на ухо:
— Спасибо за то, что не сделала эту ситуацию еще более тяжкой.
Ева почувствовала ярость; ей хотелось закричать: «Ты появился в моей жизни, когда мне было девятнадцать. Ты был единственным человеком, кого я любила. И все, что мы сделали вместе, все, чем мы были друг для друга, ты превратил в прах».
Но она промолчала и только сжала руку Джима, а затем отпустила.
Когда с горячим покончено, Теа поднимается со своего места, и в зале воцаряется тишина. Она предлагает тост за здоровье Антона, в ответ раздается звон бокалов, звучит нестройный хор поздравлений. Затем Теа смотрит в сторону Евы. Та встает, и все мысли, занимавшие ее, — о Джиме, об одиночестве, о незнакомце рядом, случайном попутчике на неверной дороге жизни — улетучиваются, когда она начинает говорить о своем брате: мальчике, мужчине, отце и сыне. И о своих родителях, которых им обоим так не хватает.
— Отлично сказано, — говорит Карл после того, как Ева усаживается на место; все это время он неотрывно смотрел на ее лицо.
Потом столы сдвинут, и мало кто останется трезвым; Карл пригласит Еву танцевать. Вначале будет держаться очень церемонно, затем обнимет ее крепче и поведет в танце уверенно и элегантно, что окажется для Евы неожиданностью. Увидев любопытствующие взгляды своих детей и племянницы, Ева высвободится из его объятий; Карл кивнет и растворится в толпе. И она почувствует его отсутствие и станет искать его на верхней палубе, не признаваясь, однако, в этом самой себе.
Когда вечер приблизится к своему завершению и гости начнут покидать корабль, чьи огни отражаются в черной глади ночной воды, Карл подойдет попрощаться и скажет, что очень хотел бы увидеть Еву вновь.
И Ева услышит собственный ответ:
— Да. Пожалуйста. Мне бы тоже этого хотелось.
Версия вторая
Объезд Корнуолл, июль 2001
Ранним утром Джим пакует вещи, собираясь в Лондон, где Антон будет праздновать свое шестидесятилетие. В этот момент ему звонит сын.
Повесив трубку, Джим некоторые время сидит молча и улыбается. Затем набирает номер своего кузена Тоби.
— Прости, но я не приеду, — говорит он. — У меня родилась внучка. Да, на две недели раньше. Извинись за меня перед Антоном и Теа, хорошо? Хорошо вам всем провести время.
На станции он пытается поменять билет, но кассирша недовольно поджимает губы.
— У вас такой тариф, сэр, что нельзя ни сдать, ни поменять. Придется покупать новый. И поезд единственный — ночной из Пензанса.
— Отлично.
Джим так возбужден, что даже не раздражается.
— Тогда забронируйте мне билет из Лондона в Эдинбург. Первый класс. Я должен там быть сегодня. Моя невестка только что родила девочку. Первенец.
Выражение на лице кассирши смягчается.
— Первая внучка?
Джим кивает.
— Что ж.
Она нажимает на кнопки клавиатуры и ждет, пока принтер с урчанием выплюнет билет.
— Значит, все у вас только начинается.
До ближайшего поезда на Лондон еще полчаса. Джим покупает газету в киоске и заказывает большой капучино с дополнительной порцией молока. Утро ясное, но обычный для этих мест ветер с моря заставляет поеживаться; стоя на перроне со стаканом кофе в руке, Джим ощущает абсолютное счастье. Причина тому — его внучка, Джессика. (Дилан и Майя выбрали имя на шестом месяце беременности, побывав на постановке «Венецианского купца».) Он закрывает глаза, подставляет лицо ветру и вдыхает запахи вокзала — машинное масло, бекон и моющее средство. «Я запомню этот момент. Остановлю его прежде, чем он исчезнет», — думает Джим.
Его место у приоконного столика: просторное и удобное. Официант приносит свежий кофе, и Джим не отказывается, хотя капучино еще не допит, заказывает на завтрак омлет с сосисками и беконом. Только налюбовавшись пробегающими за окном домиками из сланца и известняка и поблескивающим вдали морем, он разворачивает наконец газету и вспоминает, что не предупредил Ванессу, что уезжает больше чем на сутки. Он достает из чемодана свой новый мобильный телефон (Ванесса настояла на его приобретении; Джим пока относится ко всем этим крошечным кнопкам и необъяснимым звукам с опаской). Медленно, терпеливо набирает эсэмэс.
«Джессика родилась на две недели раньше. Я еду в Эдинбург. Не знаю точно, когда вернусь. Присмотришь за хозяйством? Дж.».
Разумеется, она присмотрит. Ванесса удивительно полезный человек: оставила Лондон, где работала личным помощником у главы инвестиционного банка, и переехала в Корнуолл для того, чтобы вести здесь «более творческую жизнь». Джим не вполне понимает, есть ли творчество в том, чтобы наводить порядок в его мастерской, заказывать необходимые материалы, вести каталог работ, принимать и отправлять корреспонденцию и спасать его от лавины писем, поступающих по электронной почте, но Ванесса, похоже, довольна своей ролью. Ванесса, конечно, не Кейтлин, которая два года назад вдруг уехала, объявив, что встретила человека, который «будет принадлежать только ей». Прежде всего, Ванесса замужем, и даже будь иначе, вряд ли Джим стал бы испытывать судьбу. Но ее общество его устраивает, и он благодарен Ванессе за ее своеобразную заботу.
А вот и новая эсэмэска от нее — с вопросом, не надо ли послать букет на адрес Антона Эделстайна.
«Отличная идея. Спасибо, В. На связи».
Антон Эделстайн: сегодня ему исполняется шестьдесят. Джиму, перешагнувшему этот рубеж два года назад, как ни странно, трудно осознать это. (Кейтлин тогда только покинула его; он продолжал зализывать раны и ограничился скромным ужином в индийском ресторане в компании Стивена Харгривза.) В его представлении Антон Эделстайн — все тот же тридцатилетний молодой человек в расклешенных брюках и яркой рубашке, разливающий пунш на кухне своего дома в Кеннингтоне.
Джим нечасто встречался с Антоном в последующие годы — пару раз на вечеринках в доме Тоби, на частном просмотре перед своей первой персональной выставкой в галерее Тейт. Тогда, в полумраке фойе, расположившегося на цокольном этаже, Джим спросил его про Еву.
— Я не знал, что вы знакомы с моей сестрой, — удивился Антон.
— Не очень близко, — торопливо ответил Джим. — Мы встречались всего пару раз.
— Да, конечно.
Антон понуро уставился в пол.
— Тогда, наверное, вы знаете, что ей пришлось нелегко. Очень нелегко.
Джим кивнул, хотя о том, как тяжело было Еве, мог только догадываться. Впервые он услышал ее выступление по радио два года назад — обычно за работой он включал 4-й канал, и однажды утром из радиоприемника совершенно неожиданно раздался ее звонкий, выразительный голос. Она рассказывала о книге, в которой описала, как ухаживала за своим мужем Тедом Симпсоном, бывшим журналистом-международником. Из-за болезни Паркинсона и нескольких инсультов тот стал полным инвалидом.
Джим замер, не дыша, вспоминая слова Тоби на вечеринке по поводу собственного пятидесятилетия: «Тед Симпсон совсем нехорош». Он вспомнил мужчину, много лет назад обнимавшего Еву на дне рождения Антона: коренастого, основательного и привлекательного своей надежностью — это было очевидно даже Джиму. Ева в тот вечер надела кулон в виде сердца, несомненно подаренный Тедом.
Сейчас, доедая завтрак, Джим признается себе, что предвкушал встречу с Евой на дне рождения ее брата. Его пригласил не сам Антон — они с Джимом знакомы недостаточно хорошо, — а Тоби, чья жена Мари уехала на две недели во Францию вместе с их дочерью Делфин. Тоби же остался заканчивать работу над своим последним документальным фильмом.
— Пошли со мной, старина, — не терпящим возражений тоном сказал он по телефону. — Будем там как два старых крокодила. Покажем молодежи класс.
Джим согласился, думая о Еве. Ее голос он теперь часто слышал по радио; еще он каждую неделю внимательно читал ее колонку в «Ежедневном курьере» с советами людям, оказавшимся в трудной ситуации. Ему нравилась женщина, которую он узнавал благодаря ее текстам: мудрая, ироничная, неравнодушная к людям. Джим представлял себе их встречу на юбилее Антона на корабле, куда он придет, уже зная ее лучше, чем прежде. Тед умер чуть больше года назад: Джим читал некролог. Он хотел выразить Еве сочувствие. Представлял, как та внимательно посмотрит на него своими темно-карими глазами, и они — тут Джим позволял себе полностью отключиться от реальности — начнут обсуждать возможное общее будущее.
Но сейчас он едет на север, к своему сыну и внучке. Дилан настаивал: отец может приехать попозже.
— У нас тут полный беспорядок. Приезжай через несколько дней, если хочешь.
Но Джим чувствует, что должен быть с ними. Он обожает сына — тот вырос умным и тонким человеком и уже сделал себе имя в качестве художника-гравера. Джим от души гордится его талантом и отношением к искусству; его удивительной мудростью, с которой Дилан отнесся к расставанию родителей и появлению в жизни матери Айрис, а также тем, как он старался, чтобы все они сохранили между собой добрые отношения.
Джим любит и свою невестку Майю: ее доброту и ум, и то, как в мелочах — взглядом, добрым словом, рукой, дружески положенной на плечо, — она показывает Джиму, что значит для нее его сын. Джим хочет видеть внучку немедленно: маленькую девочку, дочку Дилана, впервые увидевшую этот незнакомый мир.
Вот она, Джессика — у нее голубые глаза Дилана, смуглая кожа Майи и собственные темные редкие волосы (Дилан прислал по электронной почте ее фотографию у Майи на руках). Именно о ней думает Джим, пока поезд везет его на север, через поля, мосты и раскинувшиеся на пути городки; везет той дорогой, которую он выбрал, а не той, которую мог бы выбрать, сложись жизнь иначе.
Версия третья
Шестидесятилетие Лондон, июль 2001
Ева обнаруживает Джима на верхней палубе на носу корабля.
— Дорогой, ты идешь? Теа зовет всех за стол.
Джим оборачивается, и Ева на мгновение ужасается тому, насколько усталым и потерянным он выглядит. История с Софи состарила его. За несколько недель, прошедших после ее исчезновения, прожитые десятилетия будто проступили на лице Джима, которое в памяти Евы всегда выглядело одинаково: чуть угловатым под копной взъерошенных волос, излучавшим лишь одному ему свойственную энергию. Так он выглядел, когда проводил ее через дыру в заборе в Клэре; и когда искоса поглядывал на нее, быстро скользя карандашом по бумаге. И когда медленно проводил ладонью по ее плечу.
— Просто вышел подышать, — отзывается Джим. — Иду.
Они вместе спускаются в зал. Родственники рассаживаются за первым столом, как на свадьбе: Антон и Теа; Ребекка и Гарт; Сэм с женой Кейт, между ними — Алона и Мириам, их дочери, которые чувствуют себя неловко в красивых летних платьях. Бент, мать Теа, приехавшая из Осло, сидит рядом с племянницей Евы Ханной. По другую сторону от Бент — Ян и Анджела Либниц; по правую руку от Евы — человек по имени Карл Фридландер, новый деловой партнер Антона. (Ева вначале удивилась, обнаружив его рядом с собой, но позднее, вспомнив рассказ Антона о том, что жена Карла недавно умерла от рака, оценила жест брата.)
— У вас замечательная семья, — говорит Карл, налив Еве вина, а Ева благодарит его и думает, оглядывая сидящих за столом: «Да, это правда». Ребекка выглядит потрясающе в своем облегающем платье, ее темные волосы собраны на затылке; Гарт наклонился к ней и что-то шепчет на ухо. Сэм, как всегда, держится спокойно и уверенно. (Ева ясно помнит его маленьким: небольшого роста, с пухлыми коленками, он всегда удивлял ее своей терпеливостью; Сэм никогда ничего не требовал и никем не командовал, в отличие от сестры.) Но Ева знает: сдержанность Сэма объясняется его природной застенчивостью — точно унаследованной не от Дэвида — и проявляется только при общении с малознакомыми людьми. В отношениях с Кейт и своими детьми, да и с Софи, он другой — легкий, открытый, любящий. Сейчас он твердо кладет руку на плечо Алоне:
— Сиди спокойно, дорогая.
И та, вместо того чтобы пререкаться или жаловаться, любовно трется щекой об отцовскую руку, чем глубоко трогает Еву. Ее семья: их общая семья с Джимом, который сейчас держит ее за руку. Все в сборе, кроме одного человека — Софи. Убедить ее прийти не получилось, хотя Сэм специально ездил к ней в Гастингс и объяснял, как важно для него — для всех, — чтобы она пришла; и привела с собой Элис.
Софи нашел Сэм. Она позвонила ему через полтора месяца после безуспешной поездки Евы и Джима в Брайтон и дала адрес, но попросила ни с кем не делиться. Сэм сдержал слово.
— У меня нет выбора, — сказал он Джиму, охваченному бессильной яростью. — Если я это сделаю, она может перестать разговаривать со всеми нами, и что тогда?
Это было болезненно для него, но Джим признал правоту Сэма. И тот отправился к Софи в Гастингс, взяв с собой Кейт, Алону и Мириам — будто совершал обычный семейный визит. Он оставил жену с детьми на набережной, а сам поехал по адресу, полученному от Софи. Там оказалась маленькая квартира на третьем этаже непрезентабельного дома.
— Довольно чистая, — доложил потом Сэм. — Очень чистая.
Софи тоже была чиста во всех смыслах слова. К тому же она находилась на шестом месяце беременности.
— Скажи им, что я завязала, — велела она Сэму, но запретила делиться любыми другими подробностями.
Когда родилась девочка, Софи назвала ее Элис и прислала Сэму по электронной почте фотографию. Небольшое зернистое изображение младенца, появившегося на свет два дня назад, — сморщенная, чуть раскосая: больше Джим не знал о внучке ничего. Софи отказалась видеться и с Хеленой: не ограничиваясь неприязнью к отцу, она прервала общение с обоими родителями, как обрубают ветку на дереве. Ева полагала, что это послужит Джиму хоть слабым утешением, но он так не считал.
Ужин великолепен: коктейль из омаров, говяжий стейк, пирог из лайма.
— Любимые блюда Антона, — объявила Теа, ласково поглаживая мужа по затылку. Она по-прежнему стройна, вечернее платье из серого шелка сидит на ней безупречно. — Ему надо было родиться американцем.
Антон улыбается, гладит руку жены в ответ. Он выглядит как эталонный предприниматель средних лет: лощеный, на пальце перстень-печатка, и даже избыточный вес ему не мешает. Еве приходится постараться, чтобы вспомнить, каким брат был в детстве: вот он стоит в прихожей их дома в Хайгейте, одетый в белые брюки для крикета; а вот монотонно повторяет слова молитвы во время своей бар-мицвы. Но иногда брат смотрит на нее, и Ева видит, что тот мальчишка — беспокойный, склонный к проказам и готовый на все — никуда не делся.
— Она меня раскормила, — объясняет Антон. — И должен признать, это уже не щенячья пухлость.
За ужином Джим разговаривает в основном с Анджелой о своей последней выставке в галерее Стивена: небольшом собрании картин, предназначенных исключительно на продажу — свидетельство упадка былого интереса к работам Джима. Ева слышит вопрос Анджелы: «Как вы выбираете тему для рисования?» — и возвращается к разговору с Карлом; это высокий, исхудавший человек с грустным лицом. Он спрашивает у Евы: верно ли, что она недавно опубликовала роман (Ева кивает, ей самой пока еще верится в это с трудом); затем застенчиво интересуется, не была ли она замужем за актером Дэвидом Кертисом. Ева утвердительно отвечает на этот привычный вопрос и делится стандартным набором историй: про Оливье Рида (очаровательный), про Лос-Анджелес (в нем испытываешь некоторое одиночество), про Дэвида Лина (блистательный).
Ева расспрашивает Карла о его бизнесе. Он рассказывает о службе в торговом флоте и о детстве, проведенном в Германии (они обмениваются шутками, услышанными в детстве, и, хотя Карл говорит на немецком не так свободно, как она, Ева все равно смеется); и о своей жене Фрэнсис, с которой они прожили двадцать семь лет.
— Вам, должно быть, ее очень не хватает, — говорит Ева в конце ужина.
— Это правда.
Карл поворачивает голову вправо, чтобы поблагодарить официанта, убирающего тарелки из-под пудинга.
— Но жизнь продолжается. Нельзя жить прошлым, верно?
После кофе начинаются тосты. Первой говорит Теа. Затем наступает очередь Евы. Она поднимается, ощущая внезапную нервозность. Ловит взгляд Пенелопы, которая ободряюще улыбается ей из другого конца зала, а сидящий рядом с Евой Джим сжимает ее руку. Этого достаточно: теперь Ева может произносить речь. Закончив тост, она поднимает бокал за здоровье брата, и все присутствующие следуют ее примеру.
Выйдя на палубу, Ева и Джим выкуривают одну сигарету на двоих. Уже поздно: внизу оркестр играет медленные мелодии, на набережной, освещаемой только фарами проезжающих машин, не видно ни души. У них за спиной высится труба старой электростанции на Бэнксайд, где теперь находится галерея Тейт Модерн. Еве нравится смотреть на этот символ преображающегося Лондона, но Джим отворачивается.
— Ты отлично выступила, — говорит он.
— Спасибо.
Она протягивает ему сигарету.
— Не могу поверить: Антону шестьдесят. Не могу поверить, что нам самим уже больше.
— Знаю.
Ева смотрит на Джима, на длинные ресницы, прикрывающие его голубые глаза, на профиль, расплывающийся в темноте.
— Трудно это представить, да?
Они замолкают. Снизу доносится песня Пола Веллера «Ты преображаешь меня».
— Я скучаю по ней, Ева, — говорит Джим. — Сильно скучаю.
Она думает о Карле Фридландере, оставшемся в одиночестве впервые за почти тридцать лет. О Якобе и Мириам. О Вивиан и Синклере. Об отце Джима. О пустоте, которая образовалась с их уходом в жизни тех, кто остался.
— Я знаю, что ты чувствуешь.
Он передает ей догорающую сигарету.
— Ты думаешь, Софи когда-нибудь вернется?
Ева делает последнюю затяжку. Ей не хочется вселять в него напрасные надежды.
— Думаю, да. Со временем.
— Она злится на меня.
Джим поворачивается к Еве, и его лицо в свете фар проезжающей мимо машины кажется ей расплывающимся, бесформенным.
— И на мать тоже. Мы все делали не так, я имею в виду себя и Хелену. Жили в этой странной колонии хиппи, где постоянно появлялись новые люди и действовали эти мелочные правила, установленные Говардом, а я все время проводил в мастерской, а не с ней.
Ева гасит сигарету в пепельнице, прикрепленной к палубным перилам. По набережной медленно проходит пара: женщина на высоких каблуках и ее спутник в модных обвисших джинсах. Женщина поднимает голову и смотрит на Еву и Джима, стоящих на верхней палубе, — и Ева вспоминает, как в их доме в Сассексе Софи прислонилась однажды к дверному косяку и неотрывно наблюдала за Евой, которая приводила в порядок макияж перед тем, как отправиться на вечеринку. Ева позвала Софи к себе, полагая, что ту заинтересовала губная помада. Но Софи отрицательно покачала головой.
— Мама говорит, красятся только шлюхи, — без выражения, равнодушно сказала она. — Значит, ты шлюха.
Затем повернулась и ушла в свою комнату прежде, чем Ева нашлась с ответом; после она так ничего и не сказала Софи и Джиму говорить не стала. Это был один из редких случаев, когда Софи открыто продемонстрировала свою нелюбовь к ней. И хотя Ева надеется, что сделала все для налаживания отношений с падчерицей (она по-прежнему верит — это возможно), забыть о том эпизоде она не может.
— Она тогда была ребенком, Джим, — произносит Ева. — И вряд ли что-то запомнила. В любом случае, ты отдавал силы тому, во что верил. Софи должна гордиться тобой. Ее отец — художник.
Не стоило этого говорить: Ева видит, как Джим моргает.
— Что ж, — отвечает он с нажимом, — мы оба знаем, что из этого вышло.
Она тянется к его руке. Джим крепко сжимает ее ладонь и продолжает с возрастающим накалом:
— Мне иногда так хочется вновь оказаться в Эли в тот день — помнишь, когда мы поехали туда на автобусе из Кембриджа?
Ева кивает: конечно, помнит.
— У меня есть странное чувство, что с тех пор все пошло не так. Всего этого не должно было произойти.
— Ты же не считаешь всерьез, что все на свете предопределено? — Ева произносит это совсем тихо.
— Возможно, и не предопределено. Кто знает?
Ева обнимает Джима. Чувствует запах пены для бритья, зубной пасты и виски, щедрую порцию которого он позволил себе после ужина.
— Давай не будем ни о чем жалеть, Джим, хорошо?
Уткнувшись лицом в ее волосы, Джим отвечает:
— Я не жалею ни о чем, Ева. Сейчас. И никогда не жалел.
Версия первая
Спасение Лондон, ноябрь 2005
Он просыпается от звука выстрела.
Джим лежит, не двигаясь, прислушиваясь к громкому стуку собственного сердца. Он стоял на подземной парковке, спрятавшись в тени от того, кто преследовал его, — фигуры без лица, в натянутой на голову балаклаве, с охотничьей двустволкой в руках…
Еще два выстрела, один за другим. Затем раздается голос:
— Папа. Папа! Это я, Дэниел. Открой!
Джим пытается заговорить и не может. Лежит неподвижно, тяжело дышит и ждет, когда пульс замедлится. Занавеска в гостиной не задернута, и помещение полно причудливых теней. Почему он не в спальне? Почему его сын колотит в дверь? Если потерял ключи, почему Ева его не впустит?
— Папа!
Голос Дэниела становится громче. Видимо, подошел к окну гостиной.
— Ты здесь? Открой мне, пожалуйста.
Джим возвращается в реальность постепенно — так контуры детского рисунка угадываются под пятнами краски. Сначала он начинает ощущать грубую обивку дивана, на котором лежит, потом видит испачканный собственной слюной рукав. Затем — батарею бутылок, выстроившихся полукругом и поблескивающих в сумеречном свете. И наконец Джим понимает: дом не его.
— Папа, открой. Я волнуюсь за тебя.
Но это должен быть его дом: иначе как он здесь оказался? И где же в таком случае Ева?
— Папа, я серьезно. Открой.
Это его дом, а не Евы. Он живет здесь вместе с Беллой и Робин. Но где они?
— Папа!
Раздаются глухие удары: кто-то барабанит по оконному стеклу.
— Пожалуйста, впусти меня.
Беллы нет дома. И Робин тоже. Джим здесь один. — Я говорю серьезно, папа. Если ты меня не впустишь, я позову полицию, и мы взломаем дверь.
— Хорошо, — хрипло шепчет Джим. Собственный голос кажется ему чужим. — Иду.
За окном слышится вздох облегчения.
— Папа, ты здесь. Слава богу.
Поднимаясь с дивана, Джим ощущает оглушительную боль. Присаживается, стараясь держаться прямо. Он дышит тяжело, прерывисто; из одежды на нем только трусы и халат, на правом рукаве которого расплывается большое коричневатое пятно. Когда Джим встает, голова начинает кружиться, а боль усиливается.
Он идет, шатаясь, из гостиной в прихожую и открывает дверь. На крыльце стоит сын — в джинсах и коричневой кожаной куртке, темные волосы тщательно уложены.
На улице ясное зимнее утро. Солнце слабо просвечивает сквозь облака, похожие на осыпающуюся штукатурку. Дорожка, ведущая к входной двери, завалена опавшей листвой.
— Господи боже, папа.
Джим пытается рассмотреть сына, но дневной свет режет ему глаза.
— Давай зайдем внутрь. Я хотя бы сварю тебе кофе.
Джим видит: Дэниел с трудом удерживается, чтобы не сказать что-то еще. Он пропускает сына в дом и идет вслед за ним.
На кухне все выглядит не так ужасно, как опасался Джим. Невымытая посуда сложена возле раковины, в пластиковых контейнерах — окаменевшие остатки еды из индийского ресторана, которую он заказал вчера вечером. Или это было позавчера? На подоконнике выстроились бутылки. Джим смотрит на них озадаченно: он ясно помнит, как бросал бутылки в мусорный бак, а те разбивались и превращались в осколки. Но бутылки имеют странное свойство появляться вновь.
Дэниел наливает Джиму черный кофе — молока в доме, естественно, нет, — протягивает упаковку нурофена и усаживается за столом напротив него. Джим принимает две таблетки, запивает их кофе. Чугунная дробь в голове немного стихает, он вновь начинает различать краски. Постепенно возвращается и память. Безразличный взгляд Беллы в тот день, когда она уходила, — будто перед ней был малознакомый человек. Робин, играющая со своими волосами (Джим повел ее в пиццерию), пока он расспрашивает ее о школе, о друзьях, о занятиях танцами, лихорадочно пытаясь найти правильные слова для разговора с собственной дочерью. Все это мучительно напоминало тот давний ужин с Дэниелом вскоре после того, как он ушел от Евы и покинул дом в районе Джипси-Хилл: пережаренный цыпленок, регби по телевизору, и его сын, которому еще не исполнилось семнадцати, не понимающий, что происходит. «Мама просто убита, пап». Но разве Белле плохо? Нет, плохо ему, а с ней все в полном порядке. Он отвез Робин домой — в дорогой многоквартирный комплекс, где они с Беллой жили вместе с тем человеком, — и вернулся в Хакни. Там, в магазинчике на углу, он услышал зовущее звяканье бутылок, аккуратно расставленных по полкам. И с первым же глотком мир вокруг стал выправляться.
— Папа, ты выглядишь ужасно.
— Правда? — Джим давно уже не смотрел в зеркало. Проблема состояла в том, что он не узнавал в нем себя. — Полагаю, ты прав.
— Когда ты в последний раз мылся?
«Ничего себе вопрос сына отцу!»
Джим прочищает горло.
— Ладно тебе, Дэниел. Не так все ужасно.
Он замечает, что сын наблюдает за ним. У Дэниела глаза Евы и такой же прямой, бескомпромиссный взгляд. А что он взял от отца? Ничего, надеется Джим, ради его же блага.
— Мы с Хэтти хотим, чтобы ты пожил у нас какое-то время. Неправильно тебе оставаться одному.
Хэтти, очаровательная девушка с широкой улыбкой и заразительным смехом. Джим представляет свое мрачное лицо в их светлом, прекрасном доме с белыми стенами и деревянными полами, с сухими цветами в вазах.
Он качает головой:
— Нет. Мне эта идея не нравится. Мне и здесь хорошо.
— Не очень-то хорошо, папа.
Джим не отвечает. В окно, выходящее на задний двор, он наблюдает за воробьем, который устраивается на ветке.
Белла и Робин уехали однажды утром после завтрака, когда Джим вышел за газетами. Вероятно, Белла собрала вещи заранее и держала их в гостевой комнате. Как он мог этого не заметить? Записку, написанную торопливым, почти нечитаемым почерком на обороте старого конверта, Белла положила на кухонный стол. Позднее Джим задавался вопросом, собиралась ли она вообще ее оставлять. «Мы оба знаем: все кончено. Подозреваю, и начинать не надо было. Но мы это сделали, и, пока все продолжалось, нам было хорошо. Мы переезжаем к Эндрю. Ты сможешь видеться с Робин, когда захочешь».
Эндрю — это Эндрю Салливан, разумеется. Джим знал о нем: много лет Салливан коллекционировал работы Беллы, а та не скрывала от Джима факт, что спит с Эндрю. Она сказала об этом как-то раз, растянувшись на их кровати; Джим стоял рядом, складывая свежевыстиранное белье и испытывая странное чувство неловкости. Она спит с Эндрю уже несколько месяцев. Но он же знает об этом, разве нет?
Джим не знал.
Белла выглядела искренне озадаченной.
— Я никогда не внушала тебе ложных надежд, Джим. Мы обещали сделать друг друга счастливыми. Ну так вот, это делает меня счастливой.
— Брось, папа, — говорит сейчас Дэниел. — Не надо тебе сидеть здесь в одиночестве.
Он не добавил: «Среди всего, что напоминает об этой женщине». Дэниел и Дженнифер никогда не скрывали своего отношения к Белле: Дженнифер делала это открыто (они с Генри планировали свои визиты в дом Джима таким образом, чтобы избежать встреч с Беллой), Дэниел — с чуть большим тактом. В последний день рождения Джима они даже мирно поужинали вместе — он, Белла, Робин, Дэниел и Хэтти. Но это происходило в итальянском ресторане в Сохо; Джим не может вспомнить, когда в последний раз сын бывал у него дома.
— Прими душ. Я пока сложу твои вещи.
— Дэниел. — Джим впервые поднимает глаза на сына. Он видит его открытое молодое лицо — на котором отражается весь его чертов оптимизм — и едва сдерживает слезы. — Я вижу, что ты хочешь сделать, и благодарен тебе. Но не надо мне никуда ехать. Посмотри на меня — я развалина. Притащить все это дерьмо в твой дом было бы нечестно. Несправедливо по отношению к Хэтти.
— Собственно, это идея Хэтти. Ее и мамина.
Возможно, упоминание Евы — или просто отсутствие сил — заставляет Джима изменить решение. В любом случае, он не противится, когда Дэниел отводит его в ванную, где Джим принимает душ, пока сын складывает его вещи в чемодан. И вот на старом «фиате» Дэниела — включенный обогреватель наполняет машину душным теплом — они едут прочь из Восточного Лондона с его дешевыми забегаловками и винными магазинами с затемненными окнами вдоль извивающейся реки, через Сити, мимо небоскребов из стекла и бетона, на юг города, где стоят высокие, равнодушные особняки.
Хэтти и Дэниел занимают первый этаж аккуратного дома в эдвардианском стиле в Саутфилде. Стены недавно покрашены, живая изгородь подстрижена. Хэтти, от которой исходит аромат крема для лица и свежевыстиранной одежды, кажется настолько чистой, что Джим не решается прикоснуться к ней. Но она сама его обнимает.
— Хорошо, что ты приехал. Мы так волновались.
И только сейчас, в объятиях девушки своего сына — Дэниел ушел к машине за его чемоданом — Джим начинает плакать.
— Я все вокруг себя превратил в руины, Хэтти, — тихо говорит он. — Мне так ее не хватает.
— Ну конечно, — отвечает она. — Конечно, тебе не хватает Беллы.
«Нет, — хочет сказать Джим, только сейчас начавший осознавать правду. — Не Беллы. Евы».
Но он не произносит этого вслух. Благодарит Хэтти, отступает на шаг и вытирает глаза рукавом свитера.
— Прости. Не знаю, что на меня нашло.
Дэниел появляется из кухни и берет отца за руку.
— Пошли, папа. Пора выпить чаю.
Версия вторая
Сосны Рим и Лацио, июль 2007
— Ты голодна? — первым делом спросила Ева после того, как обняла Сару и, чуть отстранившись, придирчиво рассмотрела дочь. У Сары новая прическа — короткая и элегантная, в шестидесятые такую называли «под мальчика». И она похудела — Ева почувствовала, когда обнимала ее. Сразу же нахлынули мучительные воспоминания о бурной жизни дочери в Париже, о том, какой она была тощей из-за того, что питалась, похоже, только кофе, сигаретами и бог знает чем еще.
Они с Тедом часто звонили ей из Рима, стараясь при этом не выглядеть надоедливыми, и спрашивали, не нужны ли ей деньги и хорошо ли она питается. И сейчас по старой памяти Ева спрашивает о том же.
Сара слабо усмехается в ответ.
— Все в порядке, мама. Мы поели в самолете. Но от чашки кофе я не откажусь. А ты, Пьер?
Пятнадцатилетний внук Евы — худой и угловатый, с наушниками в ушах — стоит в стороне. Увидев, что губы матери шевелятся, он освобождает одно ухо:
— Что?
— Выключи, пожалуйста, плеер и поздоровайся с бабушкой как следует.
Пьер закатывает глаза и кладет наушники в карман, всем видом подчеркивая, с каким трудом ему это дается. Но когда Ева обнимает его, то вновь видит перед собой большеглазого улыбчивого мальчишку, который гонялся за рыжим котом в маленькой квартире на пятом этаже в Бельвиле, где он рос.
— Привет, бабушка, — говорит он ей на ухо.
— Привет, дорогой. Добро пожаловать в Рим.
Они пьют кофе — три эспрессо в тяжелых чашках из белого фарфора — в баре аэропорта, где бармен рассматривает Сару с ленивым любопытством. Сара восхищенно наблюдает за тем, как мать свободно общается с ним на итальянском.
— Не забыла язык?
— Похоже, он вернулся. Как твой французский. Мне кажется, язык нельзя забыть совсем, даже если долго не говоришь.
Правда, вначале Ева боялась, что именно это и произошло: она не только забыла итальянский, которым не пользовалась много лет, но и утратила любовь к Италии, потеряла ту легкость, с какой они вместе с Тедом когда-то обживали улочки Рима. Но больше всего ее страшило, что она просто не сможет ходить по этим улицам без него.
У Евы было достаточно причин отвернуться от витрины агентства по торговле недвижимостью во время их с Пенелопой недельной поездки в Рим. Они отправились «изгонять дьяволов», по выражению Пен. Арендовали машину и поехали в Браччано. Но Ева не отвернулась, а зашла внутрь и попросила показать ей дом в горах, расположенный к югу от городка, с небольшим бассейном и лимонными деревьями в кадках на террасе. Вскоре подруги уже стояли рядом с этими деревьями, вдыхая смолистый аромат сосен, отделявших дом от соседнего участка.
— Ты должна это сделать, — сказала Пенелопа. И через несколько дней Ева последовала ее совету. Сейчас она ведет машину на север, мимо низких домиков в предместьях Рима, где на рекламных плакатах застыли стройные девушки в бикини; мимо полуразрушенных фермерских построек, во дворах которых ржавеют трактора; мимо стен, украшенных загадочными политическими граффити «Берлускони подонок! Да здравствует фашизм!».
Это время суток Ева любит больше всего: близится вечер, солнце постепенно растворяется в тени, а небо начинает отсвечивать розовым и рыжим. Все окна в машине опущены, они вдыхают теплый ветер и запахи жаркого дня, смешанные с автомобильным выхлопом, слышат звуки сигналов.
Сара на переднем сиденье потягивается, как кошка.
— Боже, как мне здесь нравится.
— Тяжелая выдалась неделя?
— Тяжелый год, мам.
— Все по-прежнему в вашем совете?
— Ты даже себе не представляешь.
Сара извиняющимся жестом дотрагивается до руки матери.
— Прости, я не хотела так резко. Потом все расскажу. Сейчас посплю немножко.
— Конечно. У нас впереди целая неделя.
Остаток пути проходит в молчании. Сара дремлет на переднем сиденье, Пьер сзади слушает музыку. Они добираются до дома в сумерках. Сара с Пьером стоят на террасе, позевывая и оглядывая окрестности.
— Ничего себе, бабушка, — Пьер, сняв наушники, смотрит на бассейн с открытым ртом. — Ты не сказала, что здесь можно плавать.
— Разве? Я надеюсь, ты не забыл положить плавки в свой чемодан?
— Не переживай. — Сара шутливо треплет сына по плечу. — Старая мудрая мать все собрала.
К ужину Ева ставит на стол тарелки с сыром, хлебом, помидорами, тонко нарезанным прошутто. Этим утром она не торопясь прошла по рынку в Браччано, наслаждаясь дружескими разговорами с продавцами о ценах и качестве товара. Ей вспомнился рынок в Трастевере и добродушная синьора, с которой они встретились в отделении скорой помощи. Та строго предупредила Еву, что покупки следует совершать в другом месте.
Конечно, многое навевает на нее грусть — Ева будто все время слышит голос Теда, чувствует его руку в своей руке. Но есть и причины для радости — хотя Ева считает эти чувства слишком сентиментальными; ей кажется, здесь, в Италии, она ближе к Теду, чем в их лондонском доме, где он болел и слабел, а она наблюдала его постепенное угасание. Теду здесь понравилось бы. Иногда — и Ева никому об этом не рассказывает — ей чудится, будто Тед в белой рубашке энергичным шагом проходит по террасе. Она замирает и сидит неподвижно, боясь спугнуть видение, но всякий раз, не в силах противостоять соблазну, поднимает голову — и конечно же терраса оказывается пустой.
За едой они пьют простое местное вино — для Пьера его разбавляют водой — и обсуждают последний случай из практики Сары. (Она теперь социальный работник в Тауэр-Хамлетс в Лондоне, куда переехала после того, как в Париже потерпела неудачу во всем — и с группой, и в отношениях с Жюльеном.) Вино делает Пьера более разговорчивым: он рассказывает о планах на лето, включающих занятия на курсах барабанщиков и поход с друзьями на музыкальный фестиваль. Сара интересуется, как идет работа над новой книгой, и Ева отвечает:
— Медленно.
Позднее, когда на улице уже совсем темно, Пьер отправляется спать, а Ева зажигает по всей террасе свечи на глиняных подставках.
— Здесь очень красиво, мама. Я понимаю, почему ты полюбила это место.
— Да. Я в него влюбилась. Знаю, ты решила, что я немного спятила.
Сара смотрит на Еву поверх бокала.
— Нет, я не решила, что ты спятила. Но боялась, что тебе будет одиноко. Я была неправа?
Ева отвечает после паузы:
— Иногда бывает. Но не больше, чем в любом другом месте. Конечно, мне трудно. Без него.
— Да, мне его тоже не хватает.
Сара вновь ненадолго замолкает.
— Позавчера звонил папа.
— Правда?
При упоминании Дэвида Ева улыбается. По прошествии стольких лет она стала лучше к нему относиться. Теперь она знает цену его эгоизму и невероятному тщеславию — и одновременно отдает должное таланту и желанию этот талант реализовать. Ей бывало с ним хорошо; а в том, что их брак распался, — как теперь понимает Ева — ее вины ровно столько же, сколько и его. Просто они оба выбрали не того человека. С годами Ева начала понимать, что их случай никак нельзя назвать исключительным.
— Он тоскует, — рассказывает Сара. — Никто больше не предлагает ему ролей. И он страшно жалеет себя. «Я одинокий старик, Сара». Я предложила ему пожить на десять фунтов в неделю, не видя ни души за весь день, а после этого жаловаться на одиночество. Тут он заткнулся.
— Не сомневаюсь.
Ева прихлебывает вино. В непростые для нее парижские годы Сара отказывалась встречаться с Дэвидом и настаивала, что Тед — ее единственный настоящий отец. Надо признать, теперь они ладят куда лучше.
— В нашем последнем разговоре он упомянул роль короля Лира. Сказал, Гарри ведет переговоры с Национальным театром.
— Да. Он надеется, это произойдет в следующем году. Ну, хоть на время ему будет чем заняться. И будет на что себя прокормить.
Сара сухо смеется.
— Полагаю, да.
Разговор вновь прерывается; слышится только потрескиванье свечей и урчание мотора, прогоняющего воду в бассейне через фильтры. Откуда-то из-за сосен доносятся голоса матери и ребенка.
— Ты еще что-то хочешь мне рассказать, дорогая?
Сара смотрит на мать: постепенно взгляд ее смягчается.
— Мам, твои мысли разгадать несложно.
— Да? А я полагала, что сама скрытность.
— Ну хорошо. Я встретила одного человека.
— Я знаю.
— Откуда?
— Прическа.
Сара улыбается.
— К нему это не имеет отношения. Хотя ему нравится.
— Ты познакомила его с Пьером?
— Пока нет. Это началось не так давно. Но все идет хорошо. Его зовут Стюарт. Он родом из Эдинбурга. Живет в Сток-Ньюингтоне. Работает в фонде «Думай о пожилых».
Ева цепляет вилкой прошутто и, прожевав, спрашивает:
— Он женат?
— Разведен. Двое детей, младше Пьера. Поэтому мы не торопимся.
— Разумно.
Сара кивает.
— Я тебя познакомлю, как только мы будем готовы. Но для этого тебе придется приехать в Лондон.
— Я приеду. В октябре, наверное. Зимой здесь бывает грустно.
— Но не так грустно, как в Лондоне?
Сара наливает им обеим еще вина. Затем, усевшись на место, спрашивает:
— А ты?
— Что — я?
— Никаких намеков на роман? Долгие призывные взгляды, все такое?
Ева смеется.
— Роман? Ты считаешь, мать в одиночестве тронулась умом?
Сара не смеется. Серьезное выражение не сходит с ее лица: глядя на нее, Ева вспоминает, как они с Те-дом часами разговаривали с дочерью по телефону — разумеется, счета за переговоры между Римом и Парижем оплачивали они, — а на другом конце провода Сара не могла прекратить рыдать. Самой страшной была ночь, когда Сара сообщила им, что забирает Пьера и уходит от Жюльена; они с Тедом бросились к машине и всю ночь ехали на север, по бесконечной пустынной автостраде. На рассвете впереди показались Альпы, укрытые белыми шапками снега.
— Брось, мам. Ты сделала для Теда все, что могла. Ты не обязана навсегда оставаться одна.
— Я знаю.
Ева берет салфетку и вытирает еле заметную каплю вина, упавшую на воротник рубашки.
— Но я никого не ищу, Сара. Думаю, что эта часть моей жизни закончена.
Ева чувствует, что дочь пристально наблюдает за ней. Но та ничего не говорит. Молчит и Ева. В сгущающейся тьме итальянской ночи они допивают вино и уходят спать.
Лежа без сна и разглядывая тени на потолке, Ева размышляет, правду ли сказала дочери; еще она думает о том, что здесь, в Италии, ей все чаще и чаще снится одно и то же лицо — худощавое, бледное, в веснушках. С живыми темно-голубыми глазами.
За последние месяцы она несколько раз видела сон: комната с высоким потолком, свет в которую проникает через запыленное окно. За мольбертом работает человек. Он не оборачивается, когда она окликает его и подходит поближе в надежде рассмотреть картину. Каждый раз ей кажется, что он рисует ее. И каждый раз, подойдя на расстояние вытянутой руки, Ева видит, что холст чист.
В ее сне художник никогда не показывает своего лица. Но, просыпаясь утром, Ева точно знает, кто он такой, и ее охватывает странное чувство, будто она тоскует по этому человеку и по жизни, которой никогда не знала.
Версия третья
Пляж Корнуолл, октябрь 2008
На семидесятилетие Джима Пенелопа и Джеральд устраивают пикник на пляже возле своего загородного дома.
Это больше чем пикник — настоящий праздник чревоугодия, деликатесы для которого доставлены из Сент-Айвз. Четыре плетеные корзины заполнены консервированными омарами, ростбифами, мясными пирогами, сочными греческими оливками, кусками сыра «фета» и сыра с плесенью, от запаха которого с отвращением морщатся дети, — Джеральд называет его «Зловонным епископом». Белое вино остывает в ведрах со льдом. Подушки и одеяла разложены на прибрежной гальке. Из колонок, подсоединенных к ай-поду Джеральда, доносится негромкая музыка: Мадди Уотерс, Боб Дилан, «Роллинг стоунз». Необычайно тепло для этого времени года — настоящее бабье лето: ни единого облака на ясном бледно-голубом небе.
В три часа дня Джим сидит на складном стуле и беседует с Говардом. Джим достиг счастливой стадии опьянения: когда Говард, подобно призраку, появился рядом с ним, Джим никак не мог поверить, что воочию видит своего старого друга и судью. Говард сильно похудел и ходит опираясь на трость, но крупные черты лица и черные глаза под седыми бровями остались прежними. Вначале Джим лишился дара речи. Единственное, что смог выговорить через несколько секунд:
— Как?
— Ева, — ответил Говард. Оглянувшись, Джим увидел: Ева наблюдает за их разговором. Он улыбнулся ей, показывая, что этот поступок — правильный, замечательный, неожиданный. Затем обнял Говарда, ощутив знакомый запах крепкого табака и старой шерсти — и почувствовал, как тот по-прежнему крепок и жилист. Вернулись и другие запахи: сладкий аромат марихуаны, прохладный морской ветер, свежераспиленное дерево, сложенное в их общей мастерской.
Разжав объятия, Джим спросил у старого друга:
— А Кэт?
— Я потерял ее пять лет назад, — ответил Говард, покачав головой. — Рак.
Сейчас они пытаются восстановить события прошедших трех десятилетий. Постепенное угасание Трелони-хаус (Джим и Хелена кое-что слышали об этом от Джози), чьи обитатели рассеялись по миру. Говард и Кэт переехали в деревенский дом с террасой в Сент-Эгнес. Джим ушел от Хелены к Еве, рядом с которой обрел долгожданную свободу. Его яркие, плодотворные годы, полные выставок, газетных статей, достатка, уже позади.
— Какое-то время я занимался скульптурой, — рассказывает Джим. — Вспоминал тебя, Говард. Как ты говорил? Мы не создаем ничего нового, только добываем из материала то, что в нем уже существует.
Говард смеется.
— Я действительно так говорил? Да я просто не признавался, но первым это сказал Микеланджело.
— Нет, не признавался.
Джим улыбается. Он видит, как за спиной у Говарда его внучка Элис подходит к воде. Она побаивается волн, приближается к ним боком; ее старшие двоюродные сестры Алона и Мириам держат Элис за руки, подражая взрослым.
— А помнишь, как ты завел правила совместного проживания, Говард? Всегда стремился показать нам, кто тут старший.
Говард удивленно поднимает густые седые брови. — Совсем не для этого. Я просто хотел, чтобы нам хорошо работалось. И чтобы мы верили в одно и то же.
Помолчав, он произносит:
— То интервью… Где было сказано, что мы отбросы и маргиналы. Ты показывал ей наши комнаты… О чем ты думал тогда?
— Не уверен, что я вообще о чем-то думал.
Джим вспомнил лицо Говарда в то утро, когда вышло это интервью. Газетный номер, лежащий на кухонном столе, и Кэт, тихо плачущую в углу. Безутешно рыдающую Софи. Мрачное лицо Хелены и молчание, царившее в машине.
— Она исказила все мои слова. Ты знаешь, как это бывает. Теперь должен знать.
Говард медленно кивает, глядя вдаль.
— Знаю. Все это было очень давно.
Джим хочет сказать, как всегда восхищался Говардом, в глубине души понимая, что тот превосходит его талантом. Но правильные слова никак не находятся.
— Ты продолжаешь работать?
— Нет. Давно уже.
Улыбка пробегает по губам Говарда.
— Предал все огню, вот что я сделал. Как-то вечером рассердился на Кэт, выпил бутылку виски и поджег свои работы. Кэт вызывала пожарных. Чуть целую улицу не сжег.
— О господи, Говард!
Джим смеется, хотя воспоминания об этой истории — он читал о ней в газетах, где, конечно, все сильно преувеличили, — остались у него тягостные. Дым, поднимающийся над сельскими домами. Говард, стоящий босиком в собственном дворе и наблюдающий, как горит труд всей его жизни.
— Я читал об этом. Хотел тебе написать. Хотел спросить, как ты.
— Да ну, чепуха. Настоящим деятелям искусства вроде тебя нечего было беспокоиться о такой мелочи, как мы.
— Говард…
Джим собирается ответить, но его отвлекает Элис. Девочка отошла от края воды и зовет на помощь — песок набился ей в туфли.
— Иди, — говорит Говард. — А я найду Еву. Поблагодарю еще раз за то, что вытащила меня из моей пещеры.
Джим встает на ноги и берет Говарда за руку.
— Рад твоему приезду. Приятно тебя видеть. И мне очень жаль. Я о Кэт. Я ее любил, ты это знаешь. Все ее любили.
— Знаю.
Говард кивает.
— С днем рождения, Джим. У тебя замечательная семья. И забудем наши ссоры.
На отмели Джим помогает Элис удерживать равновесие, пока внучка вытряхивает песок из туфель. Хотя он ни за что в этом не признается, но Джим относится к Элис с большей нежностью, чем к Алоне и Мириам. Не из-за кровной связи (в конце концов, с женщиной, которую он любит больше всех в мире, его не связывает ничего, кроме этого чувства) — а из-за долгой разлуки с ней.
Элис исполнилось два года, когда Джим увидел ее впервые. Однажды после полудня Софи появилась на пороге их дома с посеревшим лицом, дрожа от холода. Незнакомый мужчина ждал ее в машине, припаркованной неподалеку; позднее они вспомнят, что тот даже не выключил двигатель.
— Пусть она немного побудет у вас, хорошо?
И прежде, чем Ева и Джим успели ответить, Софи уже добежала до машины и вскочила на переднее сиденье, хлопнув дверью.
Когда мать ушла, девочка не заплакала. Она наблюдала, как машина развернулась, разбрызгивая гравий, и исчезла. Затем Элис дотронулась до руки Джима и совершенно спокойно произнесла:
— Хочу есть.
В следующие несколько лет они много раз оставляли Элис у себя, и беспокойство за судьбу Софи не покидало их. Элис пора уже было отправляться в первый класс — Джим и Ева договорились, что ее примут в начальную школу в деревне неподалеку, на случай, если Софи ничего не подыщет в Гастингсе, — когда та появилась так же неожиданно, как и исчезала, и забрала дочь домой.
— Я завязала, папа, — сказала Софи. — На этот раз по-настоящему. Обещаю.
Насколько известно Джиму и Еве, она сдержала слово: Софи сейчас работает помощником учителя в школе, где учится Элис, и четыре раза в неделю посещает собрания «Общества анонимных наркоманов». На одном из них она встретила Пита. Он сейчас здесь; малоприметный человек с мягкими манерами, в котором трудно угадать бывшего наркомана, но если жизнь чему-то и научила Джима, так это не доверять внешности. Он сам всегда ощущал в себе это подспудное желание сорваться с поводка. Сложись обстоятельства иначе, думает Джим, он легко мог поддаться этому желанию.
Он благодарен Питу: тот принес в жизнь Софи спокойствие. И Элис его обожает. Сейчас девочка вырывается из рук Джима и бежит по берегу с криком:
— Пит! Мы с дедушкой подошли к морю! Оно нас укусило…
Джим не торопясь следует за Элис, ступая грубыми ботинками по отполированной водой гальке. Он присоединяется к сидящим за столом — Пенелопе, Джеральду, Антону, Теа, Тоби и Еве. Она внимательно следит за тем, чтобы бокалы всех присутствующих были полны. При виде Джима Ева улыбается и протягивает ему бокал с вином.
— Все хорошо?
— Замечательно.
Он занимает свободное место рядом с Пенелопой, одетой в голубой комбинезон, с белым шелковым шарфом на шее.
— Спасибо, Пен. Лучшего праздника я и представить себе не мог.
— Это Еве надо сказать спасибо. Все происходило без нашего участия, мы только наблюдали за ее трудами.
— С каких пор, — мягко интересуется Джеральд, — что-то может происходить без твоего участия, дорогая?
Ева подходит сзади к Джиму, кладет ладонь ему на затылок.
— Как вы поговорили с Говардом?
— Хорошо. Отлично.
Он оборачивается, чтобы видеть ее лицо.
— Как, черт возьми, тебе удалось его найти?
Ева улыбается.
— Ты не поверишь, но мне помогла Хелена. Я написала ей по электронной почте. Она ответила, что Говард и Кэт переехали в Сент-Эгнес. Дальше — просто: я спросила Гугл, и он выдал мне результат. Говард — президент Ассоциации жителей Сент-Эгнес.
— Неужели? Он сразу перешел в разряд стариков. — Послушай, — вмешивается Тоби, — почти стариков. Не всем присутствующим уже исполнилось семьдесят.
— Хорошо. Почти стариков.
Семьдесят: когда-то люди этого возраста представлялись Джиму согбенными, шаркающими старцами, смиренно доживающими свой век. Но Джима никто не назовет согбенным или шаркающим: живот, наверное, мог быть и поменьше, а лицо не таким обвисшим и морщинистым — но он сохранил энергию и тягу к жизни и ценит каждое ускользающее мгновение.
Джим накрывает своей ладонью руку Евы, лежащую у него на затылке, как будто хочет таким образом выразить ей свою благодарность. Ева понимает значение этого жеста и отвечает на его пожатие; они оба смотрят вдаль, туда, где рассыпаются волны, унося в своих брызгах глубокое одиночество моря.
Версия первая
Кадиш Лондон, январь 2012
Тусклый зимний день в Лондоне: бесконечный дождь поливает тротуары. Пришедшие на похороны толпятся у входа в крематорий, женщины постарше придерживают вздымаемые ветром юбки. Курильщики стоят отдельной группой в стороне, прикрывая ладонями зажигалки.
Ева смотрит на них через окно черного лимузина, предназначенного для членов семьи. Она крепко держит Теа за руку и вспоминает другие похороны: Вивиан — в Бристоле, когда от мороза пожухла трава возле могилы; Мириам — был четверг, ясное весеннее утро, в вазах у входа в синагогу стояли свежесрезанные нарциссы; Якоба — все прошло просто и строго, как он и хотел. Гонит от себя мысль о катафалке, который сейчас останавливается впереди них; и о цветах, лежащих рядом с гробом — лилиях и ирисах, — особенно любимых Антоном (Теа сказала это очень уверенно, и Ева не стала с ней спорить). Гроб — из простого дуба, с медными ручками. Они сошлись во мнении, что Антон не захотел бы ничего более пышного.
Никаких распоряжений о своем погребении брат не оставил, только завещание. Они оба написали их еще в начале совместной жизни, сказала Теа в одну из мутных, бессонных ночей после его смерти, когда они с Евой сидели за столом в кухне и ждали наступления еще одного бесконечного дня. Антон был суеверен и не хотел думать о собственных похоронах. Ева — взвинченная, измотанная, допивающая шестую чашку кофе — с трудом могла поверить в услышанное: настолько это не сочеталось с образом ее брата — деда, успешного судового брокера, солидного человека. Но потом она даже нашла что-то успокаивающее в том, что Антон вел себя как мальчишка, беспокойный, проказливый, каким был когда-то, и категорически отказывался верить в неизбежность смерти.
Теа и Ева сами решали, как будут проходить похороны. Кремация; никаких религиозных обрядов, настаивала Теа, и Ева — хотя считала еврейскую церемонию, по которой хоронили ее родителей, умиротворяющей — не стала спорить. Теа, понимая чувства Евы, предложила, чтобы кто-нибудь (может быть, Ян Либниц?) прочитал кадиш, традиционную заупокойную молитву. Сердечный приступ случился у Антона на вечеринке в «А и Е», где они с Теа встречали Новый год, прямо посреди веселящейся нарядной толпы — и в первые же часы после этого Ева и Теа почувствовали, как сблизило их общее несчастье, превратившее давнюю обоюдную симпатию в нечто более глубокое. Они решили, что прощальное слово напишут вместе, а прочитает его ведущий церемонии; ни одна из них не находила в себе сил сделать это самостоятельно. Ханна будет декламировать стихи Дилана Томаса. Когда тело отправится в последний путь, прозвучит запись Крейцеровой сонаты в исполнении Якоба.
Они испытали облегчение, закончив приготовления: учли все нюансы. Но Ева оказалась совершенно не готова к тому, что испытает, сидя в машине, следующей за катафалком с телом ее брата; к тому, как поникнет и начнет оседать на входе в крематорий Теа. Ханна, ехавшая в машине вместе с ними и своим мужем Джереми, спешит к матери, чтобы та могла опереться на нее. Ева благодарно гладит ее по плечу и идет вдоль ряда соболезнующих, выслушивая сочувствия, утешая рыдающих, обнимая близких. Рядом с ней — Дженнифер; четырехлетняя Сюзанна, поздний ребенок, появившийся на свет после многочисленных попыток ЭКО, молча стоит вместе со своим отцом Генри и внимательно наблюдает за происходящим. Далее — Дэниел и Хэтти, чье темно-синее платье и винтажное меховое боа скрывают ее беременность. Вплотную к Хэтти стоит Джим; худощавая фигура, седые волосы, одет в черное пальто. Он похудел после того, как бросил пить, но никто не скажет, что эти перемены в нем — к худшему.
— Ева.
Джим делает шаг вперед, берет ее руки в свои, одетые в перчатки.
— Мне так жаль.
Она кивает:
— Я знаю. Спасибо.
Ведущая церемонии деликатно приглашает всех пройти внутрь; в дверях кто-то берет ладонь Евы. Это Карл. Он самостоятельно приехал в крематорий и не подходил к Еве, пока та принимала соболезнования, позволив ей, как всегда, не чувствовать себя скованной. Она благодарна ему за то, что он пришел и стоит рядом с ней, высокий, стройный и надежный, словно парусный корабль.
— Я рада, что ты здесь, — шепчет Ева.
— Я тоже.
Церемония прощания — с этим потом согласятся все — получилась красивой. Флорист расположил три больших букета лилий и ирисов у изголовья гроба. Ян Либниц читает кадиш красивым звучным баритоном. Прощальное слово выглядит в меру неформальным и торжественным одновременно; ведущая церемонии ни разу не запинается. Слезы душат Ханну во время чтения стихов, но она собирается с силами и продолжает. Помещение наполняет звук скрипки Якоба — парящий, протяжный, исполненный печали, — и за гробом медленно закрываются шторы.
Поминки проходят в доме Антона и Теа в Пимлико, где официанты ставят на столы жареных цыплят и картофельный салат, а также норвежские блюда — тефтели и запеченного лосося. Официанты бесшумно снуют из комнаты в комнату, предлагая напитки. Ева берет с подноса бокал с белым вином и вспоминает, сколько раз поднимала тост за здоровье своего брата, и вечеринку в честь его шестидесятилетия. Это было больше десяти лет назад, тогда Антон и Ева предусмотрительно посадили рядом с ней Карла Фриденберга.
Карл, не прилагая к тому видимых усилий, стал частью жизни Евы так быстро и легко, что это удивило их обоих. Они вместе выпили кофе, потом сходили на концерт, в субботу днем посетили Тейт Модерн, после чего пошли выпить и поужинать; спустя несколько дней Ева позвала Карла на ужин к себе в Уимблдон и оставила ночевать. На выходные он повез ее кататься под парусом на побережье возле Коувза. Она предложила ему вместе встретить Рождество; он пригласил отметить свой день рождения в Гилдфорде вместе с дочерью Дианой — добродушной женщиной с простонародным выговором, к которой Ева сразу прониклась симпатией, — и внучкой Холли. На следующий год в начале декабря Карл преподнес ей неожиданный подарок — поездку в Австрию, три дня в Вене в хорошей гостинице. Они спасались от холода в отделанных деревом кафе, ели «захер» (вкусный, но не сравнить с тортом Мириам) и пили кофе с молоком. Нашли квартиру, в которой родилась Мириам. Та находилась в высоком неприметном здании — на первом этаже теперь работал обувной магазин; и постояли на перроне, где Мириам прощалась со своей матерью и братом, не подозревая, что больше не увидит их никогда. Там Ева расплакалась, и Карл, совершенно растерявшись, обнимал ее до тех пор, пока слез больше не осталось.
Карл — человек очень умный и тонкий; печаль, которую Ева почувствовала в нем при первой встрече, отступила под воздействием времени и появившейся в его жизни новой любви. Ева не может удержаться от сравнения Карла с Джимом: безмятежность и уверенность одного и вечное смятение другого. Когда-то эта черта характера Джима ей нравилась, как нравилось в нем все. Казалось, это непреходящее беспокойство является естественным продолжением его потребности творить, придавая окружающему миру понятную форму. Возможно, так оно и было: и сложись все иначе, это чувство побудило бы Джима стать большим художником — что произошло с его отцом.
Ева не радовалась, что, уйдя от нее к Белле, Джим не нашел искомого — нового стимула к творчеству, любви или жизни. Ее гнев давно отступил. Джим был и навсегда останется частью ее мира. Размышляя об этом, Ева вспоминает песню Пола Саймона, которую в начале восьмидесятых могла слушать бесконечно: «Два тела, сплетенные в одно, уже не разделишь обратно».
Ева по-прежнему верит в правдивость этих строк, хотя теперь они с Джимом не более чем бывшие любовники, родители и бабушка с дедушкой: миновав бурные воды, они причалили в тихой гавани старости. Юноша, который остановился тогда в Кембридже на дороге, чтобы помочь ей, превратился в исхудавшего, бледного человека, почти старика. А та девушка скрыта теперь под седеющими волосами и увядающей кожей, под всем тем, что неумолимо несет с собой время.
Когда Ева выходит в сад покурить (ее неспособность побороть эту привычку — один из немногих поводов для разногласий между ней и Карлом), Джим находит ее там.
— Не бросила?
Ева качает головой и протягивает Джиму пачку.
— Ты, насколько я знаю, тоже.
— Должны же быть у человека какие-то пороки.
Джим берет сигарету, прикуривает от протянутой зажигалки.
— Но ограничиваю себя пятью в день.
— Я думала, речь об овощах.
Джим улыбается. Улыбка та же, хотя при ее появлении в уголках губ появляются многочисленные морщины, как, впрочем, и у нее. Сколько раз они вот так стояли рядом, курили, разговаривали, строили планы? Не упомнить. Не сосчитать.
— И это тоже. Стараюсь как могу.
На какое-то время разговор прерывается, Джим и Ева смотрят на пожухшую от холода траву и голые деревья. Над головой у них собираются облака: не успел дневной свет вступить в свои права, как вновь наступает вечерняя тьма.
— Все не так без Антона, — произносит Джим. — Он был такой энергичный. Так любил жизнь. Помнишь его тридцатилетие? Когда он сделал тот отвратительный пунш, и все сильно обкурились.
Ева закрывает глаза. Перед ними встает старый дом в Кенсингтоне: белая мебель, сад, окруженный живой изгородью, гирлянды лампочек на деревьях. С той ясностью, которая приходит с годами, Ева видит, как многое начало рушиться уже тогда; она помнит, как Джим обнимал ее в танце и как сильно ей хотелось, чтобы все наладилось. И на какое-то время ведь так и произошло.
— Конечно, помню. Господи, тридцать лет казались таким серьезным возрастом. Знали бы мы…
— Ева…
Она открывает глаза и видит: Джим смотрит на нее в упор. Ева сглатывает ком, образовавшийся в горле.
— Нет, Джим. Пожалуйста. Не сейчас.
Он моргает.
— Нет, я не… я не хочу просить о прощении. Не сегодня. И вообще. Я знаю, что ты счастлива с Карлом. Он хороший человек.
— Это правда.
Ева делает глубокую затяжку. Джим неловко переминается с ноги на ногу. Она чувствует, как в ней поселяется страх.
— Джим, в чем дело?
Он выпускает кольцо дыма.
— Я не стану тебе ничего говорить сегодня. Не в день похорон Антона. Давай встретимся. Может быть, на следующей неделе? Поговорим.
Ева докуривает сигарету и втаптывает окурок в землю.
— Похоже, дело серьезное.
Он вновь смотрит на нее, на этот раз не отводя взгляда.
— Да, Ева. Но сегодня мы это обсуждать не будем. Приходи ко мне. Пожалуйста.
Страх разрастается, постепенно охватывая ее целиком. Джим может больше ничего не говорить. Она встретится с ним. Узнает, что сказали врачи, и сколько времени ему осталось. Поможет ему спланировать остаток жизни и утешит, если сможет. Два тела, сплетенные в одно. Девушка возле сломанного велосипеда. Юноша, с которым она вполне могла не встретиться — проехать мимо, не остановиться и прожить совсем другую жизнь, без него.
— Конечно, я приду, — говорит Ева.
Версия вторая
Кадиш Лондон, январь 2012
— Пойдем покурим? — спрашивает Тоби. — По-моему, у нас есть время.
— Бросил, — отвечает Джим, качая головой.
— Ты? — Тоби смотрит на него недоверчиво. — Трудно поверить.
Джим стоит рядом с Тоби, пока тот раскуривает сигарету и делает первую жадную затяжку. Поодаль стоят другие курильщики, обмениваясь понимающими полуулыбками. Этот день не очень располагает к смеху, хотя именно таким Джим всегда будет помнить Антона Эделстайна — жизнелюбивым, дружелюбным, улыбающимся.
Джим в последний раз виделся с Антоном много лет назад, но в последние месяцы несколько раз натыкался на его фотографии в Интернете: вот Антон, Тоби и их друг Ян Либниц изучают производство виски в Спейсайде; а вот Антон со своей женой Теа на отдыхе в Греции. Когда Джим в прошлый раз приезжал в Эдинбург, Дилан завел ему аккаунт на Фейсбуке.
— Хорошая вещь для того, чтобы следить за старыми друзьями, — сказал он.
И Джим покорно кивнул, не желая демонстрировать свое непонимание того, когда и как разрушились стены, в свое время надежно охранявшие частную жизнь от посторонних взглядов.
Друзей на Фейсбуке у Джима немного — Дилан, Майя, Тоби и Хелена. (Последняя любит размещать на его «стене» фальшивые призывы к оптимистическому взгляду на мир, зная, как это раздражает Джима.) «Каждый раз, когда в трудной жизненной ситуации ты находишь повод для смеха, ты становишься победителем. Не позволяй вчерашним разочарованиям заслонять завтрашние горизонты». Он не стал посылать запрос на добавление в друзья Антону Эделстайну, руководствуясь старомодным соображением, что виртуальная дружба должна быть продолжением реальных, пусть и не сердечных, отношений. Однако внимательно разглядывал фотографии, размещенные Антоном, в поисках одного-единственного лица.
Вскоре он нашел Еву. Она сидела на залитой солнцем террасе; за спиной в отдалении виднелись сосны, а по левую руку — бассейн, в котором блестела вода. В первый момент он был потрясен тем, как сильно она изменилась. (Джим часто испытывал подобное чувство, глядя на свое отражение в зеркале.) Но в главном она осталась прежней: то же худощавое лицо и стройная фигура и то же исходящее от нее ощущение жизнерадостности и открытости. Видно было, что беды не смогли ее сломить, и за это Джим испытывал к Еве своего рода благодарность.
Похоронный кортеж приближается; плавно тормозит катафалк. Курильщики начинают суетиться, будто их застигли за каким-то неблаговидным занятием. Джим оборачивается и видит, как открывается дверь лимузина, в котором приехали близкие родственники. Ева выходит, крепко держа за руку жену своего брата. Она выглядит меньше, чем на фотографиях и в его многочисленных воспоминаниях. Ноги, обутые в изящные черные туфли, кажутся миниатюрными, а сама она в своем темно-сером шерстяном пальто с поясом напоминает крохотную птицу. Ева не замечает Джима: она смотрит на закрытые двери крематория, у которых собрались пришедшие на похороны. Рядом с ней — Теа Эделстайн, бледная, как призрак, с покрасневшими глазами; присутствующие из деликатности отводят глаза при ее появлении. С заднего сиденья появляется ее дочь Ханна в сопровождении симпатичного мужчины со светлыми волосами — мужа, как полагает Джим.
Внезапно он понимает: ему не следовало сюда приходить. Дыхание перехватывает. Задыхаясь, Джим говорит Тоби, что отойдет на несколько минут. Тоби смотрит на него внимательно:
— С тобой все в порядке?
— Да. Просто воздуха не хватает.
Джим стоит в одиночестве, опершись на красную кирпичную стену, и дожидается, пока остальные зайдут внутрь. Это худший образчик зимнего дня в Лондоне — бесцветный, унылый, с ледяным ветром и дождем, — но Джим не чувствует холода. Вспоминает кабинет врача в больнице. Собственно, не кабинет, а комната без окон. Стол, на нем компьютер, кушетка, покрытая тонкой клеенкой. Врач что-то говорит, а Джим не может оторвать глаз от плаката на стене. «Ты вымыл руки? Каждый может помочь предотвратить распространение стафилококка».
В последующие дни Джим вспоминал именно эти слова, хотя сказанные врачом он тоже услышал. Они ждали своего часа, подобно минам, которые взорвут его привычную убежденность в том, что жизнь будет продолжаться как прежде.
— Вы проходите, сэр? — это спрашивает служитель, выглядящий необыкновенно торжественно в своей шляпе и костюме с жилеткой. — Мне надо собрать тех, кто понесет гроб.
Джим кивает:
— Прохожу.
Три больших букета из синих и белых цветов лежат у изголовья гроба. Ян Либниц читает кадиш. Джим знает его только по стихотворению Аллена Гинсберга: он не думал, что эта молитва пронизана такой щемящей горечью. Ведущая церемонии произносит прощальные слова, написанные вдовой и сестрой Антона. Джим видит, как Ева, стоящая в первом ряду, наклоняет голову. Ханна Эделстайн читает поэму Дилана Томаса, слышанную Джимом на многих похоронах, но Ханна декламирует удивительно сильно и четко, голос ее начинает дрожать только в самом конце. Под звуки скрипки гроб уплывает вдаль. Позднее Джим поймет, что это была Крейцерова соната Бетховена. Он вспоминает, разумеется, похороны матери: стылую землю на кладбище в Бристоле; высокие деревянные стропила церкви; собственную злость, которую был не в состоянии изжить. Он так долго злился на Вивиан, взвалившую на него груз своей болезни — и в конце концов уступившую ей. На отца, который не подал ему примера любви к единственной в жизни женщине и — Джим знал это — превосходил его самого как художника. И на себя Джим злился… за то, что не позволил никому — ни Хелене, ни уж точно Кейтлин — узнать настоящего себя. На протяжении многих лет ему удавалось гасить это чувство работой, однако теперь Джим знает, что злость — удел молодых. Он больше не находит поводов для ярости — даже на своего врача и изложенные им факты. Тем более, если с ними бесполезно спорить.
После окончания церемонии собравшиеся выходят во двор, где стоят венки и букеты. Джиму бросается в глаза надпись на букете из белых роз. «Дорогому коллеге и другу. Нам будет тебя очень не хватать. Карл Фридландер».
— Джим Тейлор.
Он поднимает голову. Она смотрит на него заплаканными глазами, пытаясь улыбнуться.
— Ева. Мне так жаль.
— Спасибо.
Ева подходит ближе, кладет ему руку на локоть. От нее исходит аромат пудры и сладких духов. Почему он так часто мечтал об этой женщине, с которой едва знаком, так часто делал карандашные наброски ее лица и пытался подобрать точный оттенок краски для кожи, лица и волос? Джим никогда не мог найти ответ на этот вопрос. Теперь ему становится ясно: все дело в одном лишь ее присутствии.
— Как хорошо, что вы пришли.
Он остро ощущает ее руку, лежащую у него на рукаве.
— Я следила за вашими успехами. Вы многого добились.
— Не уверен.
Джим бессознательно занимает оборонительную позицию, как в последнее время поступает при общении с большинством людей. Но Ева выглядит обескураженной, и Джим смягчает тон.
— Спасибо. Мне приятно это слышать от вас. А вы… Собственно, я читал все ваши книги.
— Правда? — Она вновь слабо улыбается. — Вы мазохист?
Джим собирается ответить, но видит, что Ева смотрит на кого-то, стоящего у него за спиной.
— Дэвид, — говорит она. Повернувшись, Джим видит Дэвида Каца. В дорогом черном пальто, постаревшего, седого.
Ева отходит от Джима.
— Вы придете на поминки? Люпус-стрит, дом двадцать пять. Приходите, пожалуйста.
Вопреки своим планам Джим приезжает по указанному Евой адресу и сейчас стоит чуть особняком рядом с Тоби, держа в руке бокал красного вина. Дом красив: эпохи короля Георга, с колоннами; белые, серые и голубые тона интерьеров напоминают морской пейзаж. С неожиданной тоской, удивительной для него самого, Джим вдруг вспоминает свой любимый Дом в Корнуолле, из широких окон которого видны скалы, море и небо.
Дом, разумеется, достанется Дилану, как и все остальное: Джим уже связался со своим адвокатом и попросил его подготовить завещание. Сегодня вечером он ужинает со Стивеном. Проинформирует своего старинного друга о необходимости привести в порядок его творческое наследие (формулировка придает сделанному в жизни большее значение, чем, как подозревает Джим, оно того заслуживает). А завтра он отправится на север, повидаться с Диланом, Майей и Джессикой. При мысли о выражении лица Дилана, когда он услышит новости, в глазах у Джима темнеет, будто снегопад скрывает окружающий пейзаж.
Примерно через час — подступает вечер, и на улице смеркается — к нему подходит Ева. Сняв пальто, она осталась в черном шерстяном платье, которое сидит на ней идеально. Джим наблюдал за тем, как Ева обходила гостей, благодарила их за то, что пришли, и делала это легко и заботливо. Не будь у нее кругов под глазами, ее можно было бы принять за хозяйку рядовой вечеринки. Он восхищается Евой, теми жертвами, что ей пришлось принести за годы, пока она ухаживала за Тедом. Хотя сама Ева, вероятно, воспринимает это иначе; может быть, она принадлежит к тому типу людей, кому бескорыстие дается легко. Джим хорошо знает себя и понимает: сам он такой характеристики никак не заслуживает.
— Простите, я все время занята, — произносит она. Они вдвоем стоят у окна, выходящего в сад, вдали видны туманные очертания деревьев. — Как ни странно, похороны требуют непрерывного общения, хотя именно этого хочется меньше всего.
Он смотрит в пол, размышляя, не его ли она имеет в виду; ведь именно присутствие такого малознакомого человека, как он, и причиняет неудобства — чего, собственно, Джим и опасался.
— Нет, я не вас имею в виду, — быстро добавляет Ева, будто он заговорил вслух. — Очень рада, что вы пришли. Я всегда…
Ева замолкает, а Джим смотрит на кулон в виде сердца в вырезе ее платья.
— Мне казалось: я знаю вас лучше, чем это есть на самом деле. Странно. Я ведь получила тогда от вас открытку. И много лет ее хранила. Ту, на которой работа Хепворт.
— «Овал № 2».
Как же Джим ругал себя за историю с открыткой: несколько недель ждал ответа, хотя знал, она написана так, что не предполагает ответа.
— Верно. «Овал № 2». Я долго рассматривала ее, пытаясь понять, не содержит ли она какое-то тайное послание.
Послание было. «Оставь его. Возвращайся в Англию. Полюби меня». Но он скрыл его слишком умело.
— Просто хотел пожелать вам всего наилучшего.
Джим смотрит Еве в глаза, надеясь, что она поймет истинный смысл сказанного им.
— Так я в конце концов и решила.
В разговоре возникает короткая напряженная пауза.
— Я, собственно, тоже написала вам открытку.
— Правда?
— Да, когда узнала о смерти вашей матери. Но не отправила. Решила: ничего нового по сравнению с уже сказанным другими, вы от меня не услышите.
Джим невольно усмехается.
— Это удивительно, но я поступил точно так же.
Ева внимательно смотрит на него. В ее темных глазах он читает невысказанный вопрос.
— Правда?
— Да. Я написал вам еще раз после того, как умер ваш муж. Тед. Я прочитал вашу книгу и слушал вас по радио. Мне казалось, что я много знаю о вас обоих, а когда закончил то письмо, понял, это не так. И порвал его.
— Черт возьми.
Незнакомая Джиму женщина возникает за спиной у Евы: она высокого роста, с крупными чертами лица. Ева оборачивается к ней:
— Дафна. Спасибо большое, что пришла.
Женщина обнимает Еву, затем удаляется. Внимание Евы вновь обращено на Джима, пораженного тем, насколько ему важно, чтобы она его выслушала.
— Мы говорим об упущенных возможностях, полагаю, — произносит Ева.
— Да. Об упущенных возможностях.
Ева отводит взгляд и смотрит в сторону сада. Джим чувствует, как в ней медленно зреет решение.
— Здесь и сейчас мы не поговорим, — произносит Ева. — Толком, я имею в виду. Но, может быть, нам сделать это в другой раз?
Она продолжает с некоторой тревогой:
— Только если вы захотите, конечно. Знаю, что вы по-прежнему живете в Корнуолле. А я большую часть времени провожу в Италии. Но в ближайшие несколько месяцев буду в Лондоне. Если вдруг вы окажетесь…
Теперь наступает очередь Джима отвести взгляд. У него возникает странное видение — будто две дороги, по которым они шли в жизни, вдруг неожиданно начали сближаться. Он обязан сказать ей «нет». Она всего лишь приглашает его вместе выпить кофе или чаю в «Уоллес Коллекшн» или «Роял Академи», но это не простое предложение. Он знал это тогда, в «Алгонкине»; и на дне рождения Антона; и когда она стояла рядом с ним у входа в галерею Стивена. Тогда, как и сейчас, в ней зрело решение, и всякий раз оно оказывалось не в его пользу. Возможно, в данный момент дело обстоит иначе.
Он не должен говорить «да». Ева потеряла Теда; она не заслужила новых потерь. Но сказать «нет» Джим просто не в силах. Или же он просто слишком эгоистичен: позднее он так и не сможет найти ответ на этот вопрос. В то же время, представляя себе их будущую встречу, Джим испытывает возбуждение, которое заглушает страх перед грядущим разговором с Диланом — он так долго к нему готовится, но предсказать его последствия не в состоянии.
— Я бы этого очень хотел, — отвечает Джим.
Версия третья
Кадиш Лондон, январь 2012
— Все в порядке? — спрашивает она.
Он поворачивается к ней. Она чувствует его напряжение, слышит затрудненное дыхание.
— Да. Все в порядке.
Она придвигается ближе, берет его за руку. Перед ними — многочисленные венки и букеты: белые хризантемы, ярко-желтые ноготки, бесчисленные лилии и ирисы.
— Красивые, правда?
Джим не отвечает. Пришедшие на похороны постепенно расходятся, направляясь к припаркованным машинам.
— Мы можем поехать домой, — говорит Ева. — На поминках присутствовать не обязательно.
— Нет.
Джим сильнее стискивает ее руку.
— Нет, мы должны. Ради Антона. Ради Теа и Ханны. Не обращай на меня внимания.
Как и на пути в крематорий, Ева садится сзади, с Ханной. Джим располагается на переднем сиденье рядом с водителем: держится подчеркнуто прямо, демонстрируя, что с ним все в порядке. Так он ведет себя всю неделю — отстраненно и молчаливо — с того дня, как они побывали у врача.
Уже тогда, когда врач попросил, а вернее, потребовал провести биопсию, Ева знала: результаты будут не очень хорошими. Но выслушать диагноз все равно оказалось трудно: Еве чудилось, что она находится где-то далеко, а не сидит на твердом пластмассовом стуле возле стола доктора. «Пожалуйста, — твердила она про себя, не зная наверняка, к кому именно обращается. Может быть, к матери, а может быть, к Якобу, чье доброе мудрое лицо часто видела перед собой. — Я только что потеряла брата. Не хочу потерять еще и мужа».
Голос врача доносился до нее далеким эхом. Но Джим слушал внимательно, подавшись вперед и делая пометки в блокноте, прихваченном с собой по предложению Евы. Потом она перечитала эти записи, дополняя их там, где считала необходимым. «При химиотерапии, — писал Джим, — 12–18 месяцев, без нее — 6–8». Цифры «6–8» были подчеркнуты трижды.
Они договорились, что сообщат родственникам после похорон Антона.
— Нельзя их сейчас перегружать, — сказал Джим. — Да и мне нужно время все осознать.
Ева согласилась. В любом случае она не могла сразу подобрать слова, чтобы донести до кого-то такие новости. Так что пока об этом знали только они двое и добросердечная медсестра по фамилии Макмиллан, переехавшая к ним два дня назад из Брайтона: сидя на диване в их гостиной с чашкой чая, она демонстрировала им буклет, выполненный в жизнерадостных цветах.
— Химия, — сказала медсестра, — даст вам некоторое время, мистер Тейлор. Оно ведь того стоит, не правда ли?
Ева ждала, что Джим согласится, но он промолчал.
Он не плакал: его глаза оставались сухими во время похорон Антона, которые прошли точно так, как спланировали Ева и Теа. Ян Либниц прочитал кадиш. Ведущая церемонии — прощальные слова, написанные Теа при помощи Евы. Ханна не побоялась прочитать стихи Дилана Томаса. Когда гроб с телом Антона отправился в последний путь, помещение заполнили звуки Крейцеровой сонаты в исполнении Якоба. В этот момент Ева расплакалась: плечи ее тряслись, дыхание прерывалось. Теа обняла Еву за плечи, и ту охватил стыд: это она должна была утешать жену брата; понимание, каково это — потерять мужа, — уже начало приходить к ней. Ева заставила себя вспоминать Антона веселым, довольным, счастливым — наверняка таким он хотел бы сохраниться в ее памяти — и не думать, во что вскоре может превратиться Джим, сидящий сейчас рядом с ней.
Столы накрыты в гостиной — жареные цыплята, картофельный салат, запеченный лосось и норвежские тефтели. Официанты, бесшумно передвигаясь из комнаты в комнату, разносят на серебряных подносах напитки.
Вернувшись из ванной на первом этаже, Ева на мгновение останавливается в дверях гостиной, осматривая помещение. В одном углу она видит Пенелопу и Джеральда, которые беседуют с Дэвидом и Джакеттой, высокой яркой женщиной в черном вельветовом пиджаке. Ребекка и Гарт стоят рядом с Яном и Анджелой Либниц, двоюродным братом Джима Тоби и Карлом Фридландером, деловым партнером Антона. У французских окон она видит Софи и Пита. В подступающих сумерках этого холодного, сырого, сумрачного дня Элис играет в саду вместе с Алоной и Мириам; Ханна и Теа ушли ненадолго передохнуть на второй этаж. У нее за спиной выходят из кухни Сэм и Кейт. Куда подевался Джим, она не знает.
— Мам. — Сэм берет ее за руку. — Ты в порядке?
Она оборачивается, слабо улыбается в ответ.
— Да, дорогой. Настолько, насколько это возможно. А ты?
— Держусь. Давай ты что-нибудь съешь.
Ева кладет еду на тарелку, хотя знает, что всего этого ей не одолеть. Она редко ела с тех пор, как в новогоднюю ночь раздался звонок Теа. Они с Антоном были на вечеринке, когда у него случился сердечный приступ; Ева, Джим, Ханна и Джереми провели остаток той ночи в отделении скорой помощи. А с момента, как они с Джимом побывали у врача, она стала есть еще реже.
— Бабушка Ева.
Это Элис. У нее такое серьезное выражение лица, будто она готовится сообщить важные новости.
— Дедушка ждет тебя на улице, хочет поговорить.
Ева поднимает голову и видит Джима, который, сгорбившись, курит в саду.
— Спасибо, Элис, дорогая. Отнесешь на кухню эту тарелку?
После теплой гостиной холод снаружи ощущается особенно остро. Плотнее запахивая свой жакет, Ева жалеет, что не надела пальто. Она подходит к Джиму.
— Вот ты где.
Джим кивает. От сигареты остался только фильтр. (Джим бросил курить и начал опять в ту бесконечную бессонную ночь в больнице.) Растоптав окурок каблуком, обращается к Еве:
— Я решил пройти химию.
— Правильно, — говорит Ева ровным голосом, стараясь не выдать облегчения. Он внимательно смотрит на нее своими голубыми глазами.
— Мне это казалось бессмысленным. Восемнадцать месяцев вместо восьми — какая разница?
Ева делает шаг к нему, становится рядом, но руки их не соприкасаются. В кустах в дальнем углу сада раздается шуршание: там охотится пожилой кот Антона и Теа по кличке Мефистофель.
— Большая разница, — говорит она.
— Да. Теперь я понимаю.
Джим протягивает руки и обнимает Еву.
— Давай скажем им обо всем вместе? Не на этой неделе. Может быть, в следующее воскресенье. Мы можем устроить вечеринку. Ну, не совсем вечеринку… Но ты понимаешь, что я имею в виду.
— Да, дорогой, я понимаю.
В тишине они слышат, как открывается дверь, ведущая из кухни в сад: появляются молодые мужчина и женщина, которых Ева не знает — должно быть, коллеги Ханны по больнице: они достают сигареты и переговариваются громкими, звучными, уверенными голосами.
Увидев пожилую пару, стоящую в обнимку, женщина смущенно говорит:
— Ох, простите, что помешали.
Ева качает головой:
— Нисколько.
Молодые люди уходят в глубь сада, где Мефистофель, обернув хвостом передние лапы, вынюхивает добычу.
— Ты, — шепотом говорит Джим на ухо Еве, — принесла мне такое счастье, о существовании какого я даже не подозревал.
— Ты неисправимый старый романтик, — отвечает она шутливым тоном, ведь иначе не удержаться от слез. — Что за жизнь у меня была бы без тебя?
Он не отвечает, потому что ответа нет: можно только стоять рядом, ощущая тепло другого, и смотреть, как сгущаются тени и подступает ночь.
2014
Вот как это заканчивается.
В спальне на втором этаже дома в Хакни женщина складывает вещи в черные пластиковые пакеты. Иногда снизу доносится голос ее дочери Дженнифер:
— Мам, я не знаю, что с этим делать. Нужен твой совет.
Или:
— Давай прервемся и выпьем чаю.
Дом не принадлежит Еве, но она легко в нем ориентируется: без труда находит кружки и чайные ложки. Утром они с Дженнифер по дороге сюда купили молоко и печенье. Вероятно, разбирать вещи должны были Белла и Робин, но они живут теперь далеко отсюда, в Нью-Йорке. И в любом случае Ева никому бы не позволила этим заниматься.
Рубашки, костюмы, джинсы отправляются в пакеты. Разрозненные носки, съеденный молью коричневый джемпер, пара испачканных краской халатов следуют за ними. Взяв в руки халаты, Ева останавливается. Перед ее глазами встает дом в районе Джипси-Хилл: розовый фасад, голые доски пола, грязная стеклянная крыша разваливающейся мастерской.
А вот и Джим с кистью в руке, оборачивается к ней — она только что пришла с работы и обнаружила свежепокрашенную гостиную.
— Как тебе? Нравится?
И он обнимает ее, а она видит следы белой краски у него на волосах. Вместо ответа целует его.
— Мне нравится, Джим. Очень нравится.
Ева тщательно складывает халаты, разглаживает темно-синюю саржевую ткань — и оставляет их в стороне. У нее есть несколько вещей, которые будут напоминать о Джиме: мебель (антикварное кресло, подаренное ей на сорокалетие и заново обитое серым вельветом; старый деревянный кухонный стол, который они нашли на рынке в Гринвиче). Коробка с семейными фотографиями. Его экземпляр Хаксли, старый настолько, что страницы пожелтели и начали вываливаться.
Джим отдал Еве эту книгу, когда она приезжала сюда в последний раз. Стоял теплый июльский день; они сидели в заросшем сорняками саду; позднее Ева позвонила Дэниелу и позвала его помочь справиться со всей приготовленной ею едой: холодным цыпленком, помидорами, салатом со спагетти. Джим в тот день почти не ел: он был уже слаб, одежда болталась на нем, и, когда Ева помогла ему выйти в сад и бережно усадила на скамейку, не открывал глаз, будто боясь посмотреть на Еву и увидеть в ее взгляде жалость.
Они обедали и разговаривали. После того как Ева приготовила кофе, Джим попросил ее сходить в дом и принести книгу, оставленную на столе возле кресла.
— Ты, наверное, ее узнаешь, — крикнул он ей вслед и не ошибся: Ева узнала эту книгу издательства «Пингвин», в мягкой обложке, обрамленной по краям красным, — «О дивный новый мир».
Она принесла книгу в сад.
— Я нашел ее, когда разбирал вещи, — сказал он. — Готовлюсь, знаешь ли.
Ему не надо было говорить — к чему. Ева смотрела на это лицо, до боли родное и знакомое, и испытывала такую любовь, что некоторое время не могла говорить. Затем, собравшись с силами, произнесла:
— Ты произвел на меня впечатление тем, что читаешь Хаксли.
— Правда?
Он улыбнулся, и Ева перевела взгляд на книгу, которую положила на колени. Когда Джим улыбался, он выглядел намного моложе своих лет — все тот же мальчишка, в которого она когда-то влюбилась; ее муж, с кем строила совместную жизнь. Эта жизнь не была идеальной, но она принадлежала им, и только им — до тех пор, пока продолжалась.
— Я, наверное, полагал, что если меня с ней увидят, решат, будто я умнее, чем есть на самом деле. Представляю из себя нечто большее, чем будущий выпускник юридического факультета.
— Ну, это и дураку было видно.
Ева приняла шутливый тон, но Джим протянул к ней руку.
— Нет, Ева, не всем. Только тебе.
Рука Джима стала совсем легкой, местами кожа на ней просвечивала. В его рукопожатии таилось все, что она когда-то любила, все, во что верила; в этот момент гнев, боль, снисхождение отступили; просто женщина держала за руку мужчину, изо всех сил стараясь его утешить.
— Я боюсь, Ева, — он произнес это между делом, глядя в свою чашку с кофе. — Я очень боюсь.
— Понимаю, каково тебе. — Она крепче сжала его руку. — Мы все будем рядом с тобой, Джим. Все мы.
Он посмотрел ей в глаза:
— Не знаю, как благодарить тебя.
— Не нужно благодарности, — ответила она. Ева продолжала сидеть, держа Джима за руку, пока он не начал засыпать; тогда она осторожно помогла ему встать, подняться наверх и лечь. Через три дня Джим уехал в больницу. Лампы дневного света, полы, покрытые линолеумом; Джим почти не просыпался, глаза на посеревшем лице оставались закрытыми. Его онколог пригласил их всех в комнату для свиданий — Еву, Дженнифер, Дэниела, Карла; Робин и Белла летели в это время из Нью-Йорка — и сообщил печальные новости с искренним сочувствием и деликатностью, за которые они были ему благодарны.
Хоспис. Здание красного кирпича, фонтаны во дворе; за окнами палаты Джима растет огромный каштан, роняющий на землю свои плоды. Кажется, с каждым днем его тело усыхает и под конец становится трудноразличимым на больничной койке.
Крематорий. Чудесный октябрьский день — мягкое солнце, кладбищенская дорожка, заметенная опавшей листвой, разноцветные отблески, оставляемые витражами на полу в церкви. Белла: ее непокорные кудри собраны в строгую прическу; на ней дорогое темно-бордовое пальто. Робин: высокая, голубоглазая — копия отца. В церкви Белла останавливается у передней скамейки. Ева оборачивается, слегка кивает ей, та кивает в ответ и садится. Между ними усаживается Робин; по левую руку от Евы — Дэниел, Хэтти и Карл. На следующем ряду располагаются Дженнифер, Генри и Сюзанна. Когда ведущая церемонии выходит вперед, Ева чувствует умиротворение; конечно, оно смешано с печалью, но в нем так много благодарных и радостных воспоминаний. «Я любила тебя, — говорит она про себя Джиму. — И посмотри, как многое получилось благодаря нашей любви».
И вот она здесь, в комнате Джима. В его доме. Разбирает вещи, все то, что окружало его в этой жизни какое-то время.
Верхний ящик комода Ева открывает в последнюю очередь. И там, под кучей трусов и маек, находит аккуратный рулон плотного дорогого ватмана. К нему скотчем приклеена записка. «Еве. С любовью. Навсегда. Джим Х.».
Она разворачивает рулон на комоде и видит себя. Мягкие карандашные линии. На коленях у нее книга. Волосы наполовину закрывают лицо; позади нее — окно в знакомой по университетским временам раме. На рисунке — она и в то же время не она. Одна из версий, созданная им, или предложенная ею самою.
Ева стоит, не двигаясь, и смотрит на рисунок, пока снизу вновь не раздается голос Дженнифер, зовущей ее. Она идет к дочери.
* * *
И вот так это заканчивается.
Женщина стоит возле панорамного окна, из которого открывается вид на неспокойное море у побережья Корнуолла. Бледно-серые облака пробегают по бескрайнему небу.
— Итак, вы познакомились в Нью-Йорке в 1963-м, — говорит журналистка. Ее зовут Эми Стэнхоуп (так написано на визитке, которую она вручила Еве), и ей не больше тридцати. Сейчас журналистка сидит на диване и держит в руке чашку с чаем, приготовленным Евой. — Вам тогда, — Эми Стэнхоуп заглядывает в свой блокнот, — было двадцать четыре, но вы сошлись, только когда вам обоим было уже за семьдесят?
Ева неохотно отвлекается от вида за окном.
— Пожалуйста, не пишите «сошлись». Мы же все-таки не подростки.
— Простите.
Эми слегка побаивается этой худощавой женщины со строгими манерами, забранными назад седыми волосами и проницательными карими глазами. Она читала только одну книгу Евы Эделстайн — «Обращаться осторожно» — ее исповедь о том, как она ухаживала за своим вторым мужем Тедом Симпсоном. Женщину, решившуюся на такое во второй раз в жизни и в отношении человека, которого полюбила, уже будучи очень немолодой, Эми представляла себе иначе. Мягкосердечной старушкой, готовой к самопожертвованию.
— Но вы… сблизились именно тогда, когда ему был поставлен диагноз — полтора года назад?
Ева кивает. Каким-то образом, увидев Джима на похоронах Антона, она поняла, что произойдет дальше. Она видела, как Джим борется с собой, и ей хотелось сказать ему: «Не думай ни о чем. Ты же знаешь, это наш последний шанс, и действовать надо быстро». И она просто предложила встретиться. Это произошло спустя несколько дней: Джим оказался в Лондоне по пути из Эдинбурга домой. Он предложил выпить вместе чаю в «Уоллес Коллекшн». Ева разнервничалась — долго не могла решить, что надеть, в конце концов остановилась на темно-зеленом платье, купленном в Риме прошлой зимой. Когда она увидела Джима Тейлора за столиком в кафе, одетого в долгополое черное пальто, то успокоилась. Но вот он поднял голову при ее появлении, и Еве показалось: сердце сейчас выпрыгнет из груди.
Они провели вместе остаток дня; назавтра встретились за обедом, а потом Ева пошла провожать Джима на Паддингтонский вокзал, откуда отправлялся поезд до Сент-Айвз. Когда они стояли на перроне, Джим рассказал Еве то, чем немногим ранее поделился со своим сыном. Сказал, что поймет, если она больше не захочет его видеть — это слишком тяжело, он понимает. Посреди вокзального шума и гама Ева протянула руку и дотронулась до его щеки: «Нет тут ничего тяжелого, Джим. Ничего».
* * *
Эми вновь задает вопрос:
— И вы переехали сюда спустя несколько месяцев?
— Да. Через полтора месяца после того, как мы встретились вновь.
Эми улыбается. — Романтично.
— Некоторые назовут это безрассудством. Но нам так не кажется.
Она помнит свой первый приезд в Сент-Айвз. Он ждал ее на перроне, и, увидев его, Ева испытала такое живительное волнение, будто вновь стала двадцатилетней девушкой. Они ехали мимо сельских домов с деревянными крышами и подснежников, кивавших им с обочин; был февраль, и пейзаж, наполненный бело-голубым мерцанием, напоминал картины импрессионистов. По просьбе Евы Джим опустил стекла, и она наслаждалась холодным ветром, пахнущим морем. Когда они подъехали к дому, Джим сказал:
— Не могу тебе передать, как я рад твоему приезду. Ты ведь останешься на какое-то время? Сколько захочешь.
И Ева осталась: убедила Сару и Стюарта поселиться в ее лондонском доме, а виллу в Италии сдала. (Она хотела отвезти туда Джима отдохнуть под солнцем, но он уже слабел, и единственным его желанием было находиться в своем доме в любимом Корнуолле.) Ева писала или гуляла в саду; когда Джиму становилось получше, он заставлял себя дойти до мастерской и рисовал.
— Если Матисс мог, лежа в постели, вырезать из бумаги шедевры, — говорил он, — значит, я, по крайней мере, должен попробовать взять в руки кисть.
Когда его самочувствие ухудшалось, они сидели вдвоем на диване в гостиной, слушали радио или смотрели старые фильмы. Джим при этом часто засыпал — он стал легко уставать — и прислонялся к плечу Евы. Однажды проснулся посреди фильма с участием Дэвида — Ева не видела эту картину давным-давно и сейчас смотрела с интересом, будто документальное кино о своем прошлом, — и спросил:
— Это Дэвид Кац?
Ева ответила утвердительно, и Джим издал звук, напоминавший одновременно кашель и вздох.
— Я возненавидел его, когда мы познакомились. За то, что он нашел тебя раньше, чем я. Но это ведь наша жизнь. Просто хочется, чтобы ее оставалось побольше.
Сейчас на этом диване сидит Эми Стэнхоуп. «У нас было так мало времени», — думает Ева, и комок встает у нее в горле. Чтобы отвлечься, предлагает Эми еще чаю. Та благодарит и соглашается, хотя ее чашка наполовину полна.
На кухне она все время видит перед собой Джима: вот он помешивает соус «болоньезе» на плите, наливает кофе, обнимает ее, стоящую у кухонного стола и нарезающую овощи для супа. «У нас была хорошая любовь», — мысленно говорит Ева Джиму. Не подростковая увлеченность и не устоявшийся брак людей среднего возраста, обремененных детьми, работой и повседневным бытом; а новые, чистые отношения, связывающие людей, которые никому и ничего не должны. Если дети задавались вопросами по этому поводу (а они задавались), им пришлось просто принять положение дел таким, каким оно было. Джим и Ева договорились: их любовь не должна отменять всего того, что было у них прежде; и пустым рассуждениям о том, как могла бы сложиться жизнь, они тоже предаваться не станут.
В прошлом году на пасхальные каникулы приезжала Сара со Стюартом и Пьером; они сидели все вместе на террасе, ужинали и наблюдали за солнцем, садящимся в бухту Сент-Айвз. Джим закончил последний курс химиотерапии; он выглядел изможденным и больным, но одновременно спокойным и счастливым, обсуждал с Сарой и Стюартом их работу в Лондоне, а с Пьером — его занятия музыкой. Ева зашла на кухню поставить чайник и застала там Сару, которая мыла посуду. Дочь обняла ее и тихо сказала:
— Теперь я понимаю, мам. Теперь я понимаю, почему ты его любишь. Мне так стыдно, что я устроила скандал.
Ева благодарно обнимает дочь в ответ.
— Тебе не из-за чего переживать, дорогая.
Спустя несколько месяцев — наступил июль, погода стояла теплая, море окрасилось в темно-бирюзовые тона, а скалы пожелтели от подмаренников — Джима положили в больницу в Труро. Ева позвонила Дилану в Эдинбург и посоветовала приехать как можно быстрее. К сентябрю Джим начал угасать. Хоспис был так похож на тот, в котором Тед прожил свои последние несколько недель, что на входе у Евы подкосились ноги; медсестра поспешила к ней на помощь.
— Я боюсь, это будет для тебя слишком тяжело, — произнес Джим в тот день на Паддингтонском вокзале. И он не ошибся. Она знала, как будет, но сделала выбор. Стоя через несколько недель в крематории и думая о том, что значил Джим для своих родных и для нее самой, Ева не сомневалась: доведись ей выбирать опять, она поступила бы так же.
«Ничего не поменялось, Джим», — думает Ева сейчас, наливая молоко в чай Эми.
С полной чашкой в руке Ева возвращается в гостиную.
— Может быть, договорим в мастерской?
— Отличная идея, — отвечает Эми, и они выходят в сад, где в воздухе пахнет морозом, а кусты, образующие живую изгородь, пожухли и облетели к зиме. У входа в мастерскую Ева останавливается.
— Вы хорошо знаете картины Джима?
— Думаю, да. Как большинство людей. Лучше всего, наверное, я помню «Три версии нас». Такая сильная работа, такая впечатляющая. И я читала о выставке в галерее Тейт, где были представлены произведения Джима Тейлора и его отца Льюиса. Удивительно наблюдать эту преемственность — и различия, конечно.
Ева улыбается: похоже, она недооценила Эми.
— Тогда вы, возможно, знаете, что «Три версии нас» сейчас здесь. Она находилась в частной коллекции, но в прошлом году Джим выкупил ее.
Полотна, составляющие триптих, висят на шарнирах на дальней стене мастерской, слегка повернутые друг к другу. Ева открывает внешние ставни на двух окнах, и Эми получает возможность подробно рассмотреть картины. На одной изображена женщина с темными волосами, она отвернулась от зрителей и смотрит на сидящего позади нее мужчину, чье лицо непроницаемо. Это третья часть триптиха. Две другие очень похожи, за исключением мелких деталей: на первой картине женщина сидит, а мужчина стоит; на второй сидят они оба. И обстановка в комнате немного отличается: не так расположены настенные часы; разные открытки и фотографии стоят на комоде; кот, растянувшийся в кресле, другого окраса.
— Замечательно, — произносит Эми. — Такие краски… Он нарисовал это в семидесятых?
Ева кивает:
— Да, в семьдесят седьмом, когда жил в Сент-Айвз вместе с Хеленой Робинс.
— Как странно. Эта женщина на картинах очень похожа на вас.
Триптих был подарком, сюрпризом. Стивен Харгривз помог Джиму все организовать. Утром в день Евиного рождения — Джим еще ходил без палки — он повел ее в мастерскую и потребовал, чтобы Ева не открывала глаза до тех пор, пока они не окажутся внутри. А потом она увидела себя. Их обоих.
— Теперь ты понимаешь, — спросил Джим, — что всегда была со мной?
Он поцеловал ее, а она подумала обо всем, что предшествовало этому моменту — о годах, днях, часах и минутах, проведенных в других местах, с другими людьми, за другими занятиями; все не напрасно, и сожалеть было не о чем, но ничего важнее этих минут в ее жизни не происходило.
— Да, похожа, не правда ли?
Ева говорит так тихо, что журналистка вынуждена напрягать слух.
Они замолкают, глядя на триптих. Мазки масляной краски на холстах. Три пары. Три жизни. Три возможные версии.
* * *
Это заканчивается еще и так.
Женщина стоит у дороги на окраине Кембриджа. Примятая трава, следы многочисленных велосипедных шин. В отдалении слышен шум автострады. Она смотрит на рощу, за которой виднеется часовня Королевского колледжа.
— Здесь, я думаю, — говорит Ева. — Наверняка не вспомнить, но кажется, то самое место.
Пенелопа, стоящая рядом, берет ее под руку.
— Ничего не изменилось, верно? Я имею в виду, если смотреть на Королевский колледж, то легко можно себе представить, что нам по двадцать лет и все еще впереди.
Ева кивает. Приближается девушка на велосипеде — темные волосы развеваются, на плече болтается черный рюкзак — она сигналит, и Ева с Пенелопой отступают в сторону. Ева слышит, как девушка, проезжая мимо, громко ворчит. «Интересно, — думает Ева, — как мы выглядим в ее глазах, две пожилые женщины, бесцельно торчащие на дороге. Зрители, наблюдающие за молодой, торопливой жизнью».
— Место, однако, нам уже не принадлежит…
Пенелопа сжимает руку Евы.
— Это место всегда будет твоим, Ева. Твоим и Джима.
Они хотели приехать сюда вместе. Ева все организовала — заказала на выходные номер в хорошей гостинице и столик в ресторане. Но утром того дня, когда надо было ехать в Кембридж, Джим проснулся бледным и изможденным. Он плохо спал, что часто случалось с ним в последнее время: Ева слышала, как ночью он ворочался в постели, выходил, спотыкаясь, в туалет. Она посмотрела на него и сказала:
— Давай никуда не поедем, дорогой. Отдохнем дома. Кембридж от нас никуда не денется.
Пришлось пережить разочарование; оба знали, что вряд ли им удастся вновь побывать в тех местах. Химиотерапия оказалась эффективной — Джим по-прежнему был здесь, рядом с ней, — но за это пришлось заплатить: кроме бессонницы и слабости, его мучили приступы тошноты, он утратил интерес к еде и вину, ко всему, что когда-то доставляло Джиму радость. Волосы редели, он худел: Еве казалось, Джим усыхает у нее на глазах.
— Такова цена удовольствия, — шутил Джим. Чувство юмора он сохранял до конца.
Дома, в Сассексе, они проводили время за чтением, иногда слушали радио, а в те дни, когда Джим чувствовал себя получше, ездили на машине в Брайтон. Море оставалось прежним, вечно беспокойным, а по каменистому пляжу Джиму ходить теперь было тяжело, поэтому они медленно прогуливались по пирсу, пили чай в кафе и наблюдали, как другие пары флиртуют, целуются и ссорятся. Они разговаривали все реже: не из-за отсутствия тем, просто Джим и Ева наслаждались тишиной и взаимной близостью; а то, что их связывало, представлялось невозможным облечь в слова. Они испытывали боль, печаль и страх; и все-таки эти часы на побережье в Брайтоне нельзя было назвать несчастливыми. Они находились рядом друг с другом. У каждого из них имелись дети и внуки, а значит, жизнь продолжалась. Они радовались возвращению Софи в семью. Испытывали умиротворение оттого, что в конце концов все-таки соединились.
Потом был хоспис. В саду, прямо под окнами палаты Джима, рос огромный каштан; лежа на кровати, он любил смотреть, как солнце блестит на упавших плодах. Рассказывал: мальчиком по дороге из школы он собирал каштаны и рассовывал по карманам, а через несколько месяцев находил уже потускневшими. Элис, сидящая возле кровати деда и рассматривающая опутавшие его провода и трубки медицинской аппаратуры, пришла от этого рассказа в сильное возбуждение:
— Я тоже так делаю, дедушка! Я тоже так делаю!
Ева бывала в хосписе каждый день и, как правило, ночевала там; знала по имени всех медсестер. Большинство из них относились к пациентам с той теплотой, которая не была предусмотрена их профессиональными обязанностями; одна из них, нигерийка по имени Адеола, особенно прониклась к Джиму, и он даже стал в шутку называть ее «второй женой».
— Мистер Тейлор, — говорила Адеола, подмигивая, когда Ева появлялась на пороге палаты, — пришла ваша первая жена. Попросить ее зайти попозже?
Джим улыбался в ответ, если ему хватало на это сил (это зрелище было для Евы мучительным), и говорил, да наверное, надо впустить, иначе у нее возникнут подозрения.
Эти четыре стены. Этот стул — на нем Ева просиживала часами. Эта кровать — на ней лежала под больничным одеялом, прислушиваясь к негромкому жужжанию и гудкам аппаратов, к которым подключили Джима. Все произошло посреди ночи, но Ева не спала; проснулась за несколько минут до того, почувствовав: его час настал. Глаза Джима были закрыты, рот открыт; Ева положила ладонь ему на губы и ощутила неровное дыхание. Он издавал пугающие звуки, но Ева преодолела страх. Она взяла его руку. Вскоре его не стало; она так и сидела, поглаживая руку Джима до тех пор, пока не появилась Адеола.
Сейчас, когда они стоят на окраине Кембриджа, Пенелопа говорит:
— Давай еще раз посмотрим на рисунок.
Ева достает из сумки свой автобиографический роман в твердом переплете, в который аккуратно вложен лист формата А5. Она нашла его неделю назад, разбирая бумаги в мастерской Джима. Это карандашный набросок женщины, спящей на боку со сложенными, как при молитве, руками. На обороте неразборчивым почерком Джима написано: «Е. спящая — Бродвей, Котсуолд, 1976». Джим никогда не показывал ей этот рисунок, засунул в папку со счетами, и Ева даже не была уверена, что помнил о его существовании.
Она рассматривает набросок, затем передает его Пенелопе. Через некоторое время, ничего не говоря, та возвращает его.
— Все, дорогая?
— Я думаю, да, — отвечает Ева.
Благодарности
Многие люди помогали мне писать эту книгу и сохранять в процессе психическое здоровье.
Огромное спасибо за поддержку и советы моим первым внимательным читателям: Джонатану Барнсу, Фионе Маунтфорд, Дорин Грин, Саймону Армсону, Мэтью Россу (его знания о соборе в Эли произвели на меня неизгладимое впечатление), Софии Бутарацци (прости за отнятые вечера!). Спасибо Дэвиду Рейсу, Элли и Айрин Бард, а также Конраду Физеру.
Сотрудники архивов The Guardian и The Observer, а также заведующая архивом колледжа Ньюнхэм Энн Томсон посвятили меня в историю этих учреждений. Катарин Уайторн поделилась воспоминаниями о Кембридже и Флит-стрит. Спасибо всем большое.
Я благодарна Джудит Мюррей за ее бесценные советы, поддержку и невероятную креативность; Кейт Риццо, Элеонор Тисдейл, Джейми Коулману и всем сотрудникам Greene & Heaton. Спасибо Салли Уоффорд-Жиран и всем сотрудникам Union Literary и замечательному Тоби Муркрофту.
Я в долгу перед Кирсти Дансит и Андреа Шульц за их веру и внимание, точную, аккуратную и деликатную редактуру. Спасибо Ребекке Грей, Джессике Хтей и всем сотрудникам Weidenfeld & Nicolson and Orion; а еще Лорин Вин и коллективу Houghton Mifflin Harcourt.
Хочу поблагодарить Яна Бильда, Питера Бильда и Яна Барнетта за многолетнюю поддержку и веру в меня. И прежде всего — своего мужа Эндрю Глена: он мирился со мной и не возражал против того, что некоторые его остроты незаметно перекочевали на страницы книги.
И наконец, этот роман наполнен воспоминаниями о матери Питера, моей покойной приемной бабушке Аните Бильд. История Мириам Эделстайн во многом написана с ее биографии; подобно Мириам, она также перебралась в Лондон из Вены в тридцатые годы; и дом Эделстайнов в Хайгейте очень напоминает дом Аниты, где мы с ней столько времени провели в разговорах о музыке и литературе.
Как бы мне хотелось, чтобы она прочитала эту книгу; а закончив чтение, сказала бы (я надеюсь!), что книга ей понравилась; и затем дружелюбно, но твердо поправила бы мои ошибки в немецком.
Л.Б.Об авторе
Лора Барнетт — журналист, театральный критик. Пишет для Guardian, Observer, Daily Telegraph и Time Out London. Родилась в 1982 году в районе Кристал Пэлас на юго-востоке Лондона, где и сейчас живет со своим мужем Энди и котом Ино (в честь Брайана, конечно же).
Изучала журналистику в Университете Сити в Лондоне, испанский и итальянский языки — в Кембриджском университете. «Три версии нас», ее первый роман, издан на двадцати семи языках.
Примечания
1
1 дюйм равен 25,4 мм. — Здесь и далее примечания редактора.
(обратно)2
Дерьмо (нем.).
(обратно)3
О (нем.).
(обратно)4
Нет, моя милая (нем.).
(обратно)5
Театр в Кембридже (ADC Theatre), старейший университетский театр в Британии.
(обратно)6
Хадсон Рок — знаменитый в 50–60-х годах ХХ века американский актер кино и телевидения.
(обратно)7
Нашумевшая пьеса Арнольда Уэскера о жизни одной еврейской семьи. Премьера состоялась в 1956 году.
(обратно)8
Клифтонский подвесной мост в Бристоле является одной из главных достопримечательностей города. Автор проекта — знаменитый инженер-проектировщик XIX века Изамбард Кингдом Брюнель.
(обратно)9
Сладкая, милая (нем.).
(обратно)10
Уютно (нем.).
(обратно)11
1 фут = 30,48 см.
(обратно)12
Моя сестричка! (нем.)
(обратно)13
Пейслийский узор (индийский огурец) — миндалевидный узор с заостренным кверху концом.
(обратно)14
Сите — один из двух островов на реке Сене в Париже.
(обратно)15
Доктор Сьюз — известный американский детский писатель и мультипликатор, автор книг «Кот в шляпе», «Слон Нортон высиживает яйцо» и других.
(обратно)16
Текстовый процессор — машина, состоящая из клавиатуры, встроенного компьютера для простого редактирования текста и электрического печатного устройства.
(обратно)17
Ничего страшного (ит.).
(обратно)18
Пожалуйста, синьор (ит.).
(обратно)19
Ешьте (ит.).
(обратно)20
Большое спасибо (ит.).
(обратно)21
Спасибо. Это очень вкусно (ит.).
(обратно)22
Александра-палас — культурно-развлекательный центр Викторианской эпохи.
(обратно)23
«Арчеры» — культовая радиопостановка о жизни людей в сельской местности.
(обратно)






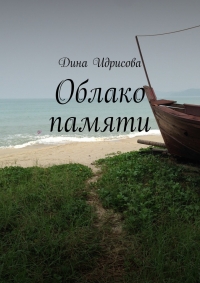


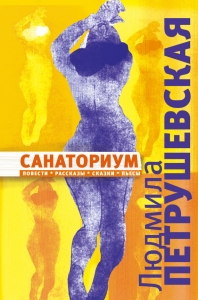
Комментарии к книге «Три версии нас», Лора Барнетт
Всего 0 комментариев