Константин Нагаев Сорок тысяч
Первый день
Расстояние между двумя людьми,
лежащими в одной постели, равно нулю, или примерно 40 000 километрам.
Журнал «Экватор Сибири», №6 (53), стр. 11.С кухни несло вчерашним.
Проснулся разбитым. Долго лежал, осматривая комнату. Как всегда с похмелья проснулся раньше будильника. Теперь лежу в тишине, зная, что минут через пятнадцать он заверещит. Я прихлопну его ладонью и резко поднимусь с дикой болью в затылке.
Хорошо что у меня есть цель. Даже две. И обе привязаны к воде. Первая – вылить воду искавшую, но так и не нашедшую выход за ночь. Вторая – набрать ванну и без архимедства погрузить в нее тело. И две таблетки аспирина бонусом.
Но вчера все было прекрасно.
Был в сквере. Посмотрел на людей. Пофотографировал снег на обглоданных еловых лапах. Хорошо вышел снимок фонаря, стеклянный шар которого облепило снегом. Построил глазки молодым мамашам, выгуливающим своих оболтусов. Потом долго курил на лавке. Вероятно, смотрелся немного странно. Черное короткое пальто, взъерошенные волосы, фотоаппарат на плече, без шапки. И дурацкая улыбка.
Остановка. Парочка пьяненьких, менты, студентки. Какая-то женщина с банками в пакете и с отрешенным взглядом.
Наверное, едет к мужу в больницу. Может, ему раздробило руку на заводе, он в гипсе и не работает, а у нее еще, скорее всего, и кредит не выплачен за машинку, и дочери надо в школу на дискотеку денег дать…
Понесло меня домысливать чужую жизнь, твою-то мать. На хрен, на хрен…
Магазин. Ветчины, оливок, кукурузы, яиц. Водки бутылку, хорошей. Бумаги туалетной, рулона три. И возьму книжку… Какой-нибудь тупой женский роман про Хуана и Джейн, которые «безумной страстью сливались томно в единое целое» где-то под Житомиром. И хлеб.
Дом. Ключи злобно не хотели завершения прогулки, цепляясь зубцами за карман. Я их понимаю: только что было все – люди вокруг, смех. Опять же свежий воздух. А тут раз, как девок в сауне на продажу, выдернули, вставили, провернули. И на полке в коридоре до утра никому не нужные. Но замок сдался. Ботинки сняты, пакет с едой брошен на кухонный столе. Горит свет в ванной, а в мухинском стекле плавает бумажный пакетик с суррогатом чая.
И звонок сотового.
– Да.
– Звезда! Привет, товарищ.
Андрюха. Нежданно, но очень вовремя.
– Взаимно. Как дела?
– Блин, все разъехались, а мне выпить хочется.
Ну хоть честно, без всяких «я соскучился, давно не виделись».
– Я из дома выходить не хочу…
– Да говно вопрос, я уже пакет собрал. Сейчас приеду. Лады?
– Лады.
А гори оно синим пламенем, все одно лучше, чем разговаривать с самим собой.
– Тока я не один приеду.
– Андрюха, хватит меня сватать…
– Господи, кому ты нужен… Я себе возьму.
– Симпатичная хоть?
– А я че, знаю? Еще не выбрал. Да не боись, какие бы страшные ни были – водки хватит.
Ну тут он с лихвой приврал. Девки у Андрюхи всегда как на подбор, с одной конюшни – холеные, вороные. Так что пить придется только для смелости и за знакомство.
– Ладно, давай, я жрать пока нарежу, а ты там гайцам на уши не припадай. И у киоска с продавщицами не шушукайся.
– Ой, все, мамаша, хватит учить. Я выхожу. Пока.
Внезапно на плечи обрушилась усталость. Присел в кресло…
Удар. Еще удар. Стук. Что за?
– Открывай давай! Охренел совсем, полчаса стучу!
– Да щас, иду уже.
Щелчок замка, и он здесь. Канареечная куртка, серая шапочка и два пакета, еды в которых хватило бы победить голод в Африке.
– Уууу… Судя по следам подушки и охреневшему от радости взгляду, нас здесь ждали.
– Не язви, блин. Я ж не просто спал – это глубокий стратегический маневр. Один хрен пить, пока не кончится, а это уже завтра.
– Стратег! Мозг! Дольча и Габбана мысли! Знакомься, это Варвара.
В комнату протиснулось рыжеволосое существо со снегом на голове. В красных полусапожках на низком каблучке, каком-то непонятном вязаном пальто и ярко-синем шарфе непомерной ширины, обмотавшим голову так, что от лица остался лишь фрагмент, где за слипшимися ресницами подразумевались глаза.
– Добрый вечер, Варвара. Вам помочь чем?
Андрей практически бросил в меня пакетами с провиантом и затараторил:
– Зайчонок, отнеси кушать на кухоньку… А мы тут с Варварой Рюриковной сами разберемся. Вара-Варечка, давайте пальто, сумку. Вы так промокли. Быстрее к костру.
Под донжуанский щебет из коридора я побрел в кухню…
– Тапочки в коридоре под стулом!
– Разберемся!
Вот и снова водка, вот и дом родной… Я поставил чайник и достал стаканы. Люблю я именно граненые.
Хорошо что кухня большая… Это очень важно – чтоб кухня была большая. Или хотя бы средняя, или маленькая. Но главное, чтобы была. И все-таки желательно, чтобы большая.
Андрюха залетел на кухню и сразу пошел в атаку на пакеты. Что-то на стол, что-то в кастрюлю, что-то в тарелку, а вот это, в золотистой фольге, – на разделочную доску. Из его кармана выпали ключи.
– Ты что, на машине? Сдурел? Пьяный потом за рулем не поедешь! Здесь останешься, я сказал.
– Да щас прям! Я с водилой договорился – он на моторе прилетит и вывезет, надеюсь, к тому моменту пьяное тело в родные пенаты.
– А где?..
– В уборную пошла. Замерзла, видно, на улице. Теперь полчаса оттаивать будет.
– А что ж ты ее на улице держал?
– Я держал? – Андрей ткнул себе в грудь пальцем и сделал возмущенное лицо. Уши отъехали на затылок. – Да я ее первый раз вижу! Просто шла, я притормозил, спросил: «Хочешь, мол, красна девица, в горницу к добрым молодцам?», а она: «Попробуешь лапать – нос сломаю». Ну, я, конечно, охренел от такого приветствия. Говорю: «Что ж ты так? Я ж тя культурно посидеть зову, может, просто хочется, чтоб душа рядом живая была…» А она как кинется к машине – я, чесслово, чуть не обделался. Дверь распахнула и говорит: «Я поеду, но если что, желтопузый, я из твоего „хаммера“ пионерский костер сделаю, понял?» Ну, я присох маленько. «Как зовут-то?» – спрашиваю, а она: «Как и в паспорте – Варвара». А потом: «Не боись – я вообще адекватная, но просто это не сегодня». Я сказал, что вопросов больше не имею… Ну. И вот мы здесь… Я вообще-то думал из своей гвардии кого-нить взять – Илонку или Зинку, но у одной зуб заболел, а у второй муж с рейса приехал… Дурынды крашеные… А че?
– Автомат через плечо… – прошипел я сквозь зубы. – Ты хватаешь на улице какую-то Варьку, которая обещает спалить твое корыто, и везешь ее ко мне? Ты сдурел, нах?
– Давай по пунктам, Глебушка. Хочешь хлебушка? – Андрей начал пихать в рот ломоть хлеба с маслом и колбасой.
– Убери на фиг.
– Не бубни. Ну, объясню для марсоходов и сантехников, – я никого не хватал. Я предложил, и она, согласен, хоть и несколько необычно, но согласилась. Насчет машины я не волнуюсь – на нее ведро динамита надо, чтобы ушатать, а у нее в сумке больше одной осколочной гранаты и не схоронишь. Про нос вообще молчу – его топором за неделю не перерубишь, от папы достался.
– Ага. Как и сарай, на котором ты щас ездишь.
Андрей проигнорировал укол.
– Кто она, не знаю, но если ты хочешь, тащи утюг и паяльник, а я – веревку и стул. По-нашему, по-стариковски, все выясним. Кто такая и на кого работает. Не хочешь? Электричество экономишь? Молодец. А везу ее к тебе, потому что так договорились. Сказал бы нет – я б без бабы и приехал. Все?
– Охренеть, я же еще и виноват? А если она…
– Что она? Коньяк весь выпьет? Так для того вроде и звали… Или отдаст твою, в хер никому не впершуюся подшивку газет за три года, превратившую твой балкон в склад сырья для туалетной бумаги? Кому? Норвежской разведке, чтобы в нее селедку заворачивали? Или заберет у тебя все чистое белье и продаст на блошином рынке? Так у тебя акромя вот этой салфетки, твою мать, ничего нет, а за нее много не выручишь. На спички только. Продолжать?
–…
– Вот увдишь – нормальная баба. Просто, видимо, надоело со всяким быдлом общаться, или одиноко, или ПМС, или еще хрен знает что. Я ей черепную коробку вскрывать должен, чтоб выяснить? Ну, села, не зассала, не начала орать «насилуют», или ментов там звать… Кстати, посмотри, где она там застряла… как бы вся через канализацию не ушла… А мне некогда. Еще морской салат готовить и лимончик препарировать надо…
И то верно – двадцать минут трем о неважном, Андрюха уже всю поляну обсервировал, а Варвара даже не подает признаков жизни. Залезла, небось, в заначку и последние двести звездно-полосатых сперла… А нет, вода в ванне шумит. Напевает себе гостья что-то…
Я прошел в коридор. Секунду поколебавшись, аккуратно постучал в дверь.
– Варвара, вы в порядке?
– Да все нормально, замерзла только, в ванну залезла, курю… Сейчас уже вылезу. Вы там пока без меня начинайте.
А у меня, как на грех, носки в тазу… И какого она в ванну полезла? За воду у нее что ли, дома не плачено? И что начинать? Пить – это можно. Или, может, она решила, что мы с Андреем… Хотя, в принципе, после «зайчонка» можно вполне предположить…
Мы опрокинули уже третью рюмку, когда она зашла на кухню.
Полотенце тюрбаном на голове, громадный, мягкий, теплый, мой самый любимый, спертый в Ялте на какой-то конференции халат, замотан поясом в два обхвата.
– Я там у вас вещи сушиться повесила – мокрые все. Я же с самого утра по городу шарахаюсь, все карманы снегом набиты. У вас хорошо, тепло. И меня Варей зовут, а не Варварой, как сказал Канарейка.
– Кто?
– Андрейка-Канарейка, сразу его так назвала, когда он на своем телковозе остановился в этом оранжевом пончо.
– Категорически возражаю, я не Канарейка! – Андреич демонстративно нахохлился.
– Опаньки… Как же я обшибалась… Тогда сидите и не чирикайте, уважаемый. Давайте лучше выпьем. За знакомство и прочие культурные мероприятия.
Андреич бровью не повел, взял бутылку. Бульк – и по сто грамм в граненых стаканах.
Вот ведь бывают такие – пришла в чужой дом, к двум неизвестным мужикам, ни хрена не боится, ванну оккупировала, всех определила, а теперь еще и командовать начала. Она или ебанутая, или блядь. А скорее всего, и то и другое. Презервативы по-любому. Два сразу для надежности, и спать в разных комнатах. И на разных концах города. И еще уколы в живот от бешенства.
Легкий взмах руки, и стакан, взлетая, делает петлю Нестерова в запрокинутую назад голову (шея у нее великолепная, нежная, а кожа чуть-чуть смугловатая). Легкий присвист сквозь зубы. Глазенки оживают и загораются. Ручонка подхватывает со стола бутербродик и провожает его вслед коньяку…
Тишина. Пауза. Аплодисменты. Примадонна приседает в реверансе. Публика в восторге.
– А вас как зовут, а то Канарейка тайну сию великую в бричке схоронил…
– Варь, ну перестань…
– Ладно-ладно… Не буду, обещаю. По чесноку… Вроде отпускает. Так как зовут вас, добрый хозяин таверны?
– Мама Глебушкой звала, но друзья зовут меня Глеб, а вы можете называть меня просто – Глеб Юрьевич.
– А давайте с вами, Юрьевич, за встречу выпьем.
– Однако! Вы же, милейшая, только что без малого стакан вложили в душу. И сразу второй акт, без антракта?
– Ну так это ж для согреву было, а теперь – за настоящее знакомство.
– А вас как по батюшке-то?
– Кондратьевна. Нагло вру. Борисовна. В девичестве.
– В смысле?
– Без смысла. Не замужем значит. Ну что, наливать будете, или вам спеть в голос?
– Пожалуй, лучше я налью.
– И то верно.
А вот голос у нее интересный. Бархатный, с небольшой хрипотцой. Почти детский. Вплетается в мозг, как ленточка в косу… а может, я просто давно не слышал женщин.
А питье меж тем пилось. Варя рассказывала дивные истории про подруг и их похождения. Андрей травил относительно свежие анекдоты. Потом опять немного пили, размышляли о строительстве нового моста и прочих чрезвычайно безразличных вещах.
В коридоре в куртке зазвенел мобильный. Андрюха подскочил, выбежал. Потом прикрыл дверь, и коридор наполнился потоком отборного русского мата. Пока он болтал, мы успели еще раз дерябнуть. При этом Варвара умудрилась занюхать коньяк рукавом рубашки. Моей.
– Ребятушки, извиняйте, у меня кое-какие диалоги с животными наклевываются, и я, как юный натуралист, не могу отказать себе и животным в удовольствии…
– Что случилось?
– Да блин, менты с прокурорами что-то не поделили, но выяснять отношения они приехали именно в мой бедлам. Так что я в путь… «гондола за мной ужо отчалила»! Лей дорожную!
АНДРЕЙ
…С Андрюхой познакомились еще в школе, в нашем родном городке. Он учился в параллельном, и всегда мутузил всех, кто хотя бы дышал не так как он. Да и этих мутузил. Но мне не доставалось, что было очень странно. Пару раз он даже вытаскивал меня из передряг. А за это я давал ему списывать…
Рос он с матерью, нервной белесой алкоголичкой, считавшей его отродьем и постоянно обвинявшей его в том, что она не работает и не может устроить жизнь… Порой она выбегала на улицу и орала: «Мудила ты, как и отец твой, чтоб те голову оторвало за твои корни!» Потом он пару дней ночевал у нас, ожидая, когда бес в матери возьмет отгул и можно будет забрать сумку с учебниками.
К концу лета, после девяностого, мать сгорела от водки. На похоронах было мало народу. Человек девять. Один из них был Михаил, отец Андрюхи. Он был серьезным, в очках с тонкой оправой. С тяжелым виноватым взглядом. Через три дня после похорон он увез Андрея с собой. Мне остались на память маленький стеклянный глобус и шрам на скуле после исторического полета с Андреем в овраг вместе с угнанным во дворе мопедом…
На отца он не злился. Как оказалось, тот каждый год пытался отсудить Андрюху. Но самый гуманный суд в мире всегда оставлял его вечно пьяной матери. Она же пропивала алименты, жгла его письма, делала все, чтобы сын ненавидел мир и, в первую очередь, отца. Так же, как она…
Встретились только через шесть лет. Я уже в универе учился. Случайно, на улице. Ловил машину, а остановился он.
Отец пристроил его в хорошую школу, а после окончания отправил на два года в Германию, грызть гранит экономтеории. Мачеха относилась к Андрею гораздо лучше, чем мать, и Андрей всегда про нее с теплотой говорил «Верочка Лексевна». Сразу по возвращении отец передал ему в распоряжение кафе в пригороде, купленное на сдачу от какой-то аферы с поставкой фанеры в Финляндию.
А через два года Андрюха былуже владельцем развлекательного центра, считавшегося хорошим местом для реализации любого досугового изыска, с жирной клиентурой, готовой за это платить. И при этом остался, на удивление, нормальным человеком. Еще у него была Ирочка, но это отдельная история.
Мы выпили.
– Деньги-то у тебя есть?
– Есть…
– Не, если надо, я могу занять немного, под восемнадцать процентов, квартира в залог…
– Ой, идите вы, Андрей Сергеевич, к козе в трещину.
– Не к козе в трещину, а в культурно-досуговый центр «Матрешка». Хотя можно подумать о ребрендинге. Ладно, водила приехал, я рванул. Завтречка обзвонимся. Варенька, вы – просто песня! Пока. Не балуй!
Последнее было обращено к массам в целом и имело столько же смысла, как реклама борьбы с курением…
Андрюха хватанул из пиалки пару маслин в ладонь, подмигнул и шагнул за дверь.
Подвисла тишина.
– Глеб, а давайте выпьем на брудершафт!
– Да вы, Варвара Батьковна, никак натрескались? Не буду, не обижайтесь. Я не стилист какой-нить, чтоб с дамским полом брататься. Есть на то свои причины. Не обижайтесь…
– Вот ты как?! Ну и хрен с ним, давай тогда просто выпьем?
– Вот это предложение я поддерживаю. Наливай. Может, в зал пойдем? Там диван…
– Глеб Юричь, ты за кого меня принимаешь, твою мать? Поймали дуру на дороге, посмешили и в постельку? Я думала: нормальные ребята, просто посидим. Я пойду.
– Варенька, Варюша, Варечка… щас грубость скажу, но заткнись и дай объяснить. Я устал. Устал сидеть на тверд ых стульях. Я сижу на них в офисе. Я сижу на них, когда еду домой. И сейчас я четыре с половиной часа сидел на твердом стуле. И задница одеревенела. Я просто хочу взять бутылочку и тебя, Варенька, и просто пойти сесть на диван, потому что он мягкий. И просто, по-нашему, по-девичьи, по-пролетарски потрепаться. А теперь продолжай начинать меня ненавидеть.
– Ну вот, блин, подарок судьбы, такой скандал испортил. А в зале тепло?
– Мало того, что тепло, там еще и не накурено. Я батл беру и рюмки, а ты закуску возьми. Если приставать не будешь, покажу свои фотографии.
– Даже не знаю, что выбрать… так уж и быть, фотографии.
И вот уже альбомы из шкафа перекочевали на журнальный столик.
– Ну, значит, вот… Это я на хребте. Между Бурятией и Читинской областью. Природа там нереальная. Глупо звучит, но это так. Когда из нашей грязи, денег и прочего дерьма вдруг прорываешься туда… А озера какие! Вот, смотри, придорожный божок. Весь в веревках. И не лень же эти ленточки вязать. Ну выйди ты у себя во двор. Обмотай березу какую-нибудь вдоль и поперек и возрадуйся! Ан нет, люди не такие. Прут через тайгу. Гнус собою угощают, сапоги топят. Но дойдут, завяжут ленточку. Загадают. Да еще и монетку бросят.
Мужики там… Знаешь, настоящие такие, без элегантности, без лоска. У кого шрам, у кого ожог. Небритые. Ручищи… ну, как стамеской точеные… Но при этом неговорливые. Только важное. Про охоту. Про зверя. Про сенокос. И никакой злобы или бахвальства. Ты с ними по-честному – и они с тобой по-людски. Староверов там много. Может быть, и поэтому.
А это мы на Байкале. Вода чистая. А тучи налетели – почернела вся моментом. Как нефть. Аж страшно стало. Во, старик бурят. Мы его бензином взгрели и патронами, а он нас мясом накормил. И водкой. На кедровых орешках.
А вот еще. Это уже севернее. Ближе к БАМу. Тут мы с ребятами с Домны познакомились… Серьезные тоже… Река у нас, мол, разлилась… Медведя, мол, видели… А потом в баню все поперлись. Выпили. Разговорились немного. Да, говорят, бывает тяжеловато, но не бежать же.
А вот на Алтае. Мамонтовский район… Снова озера… Ты уже засыпаешь, по-моему…
– Есть немного. Перемерзла видимо. Опяять же…
Замерла. Передернула плечами. Поправила волосы.
– А я только в Турции была. Нам шефиня три путевки отстегнула от щедрот своих…
– А я вот не был. Больше все по-советски отдыхаю. Или антисоветски. Ну и как тебе?
– Знаешь, отели хорошие. Не фонтан, но чисто. Море там… Наши везде пьяные. Турки эти с их вонючим наташизмом… Вроде отдых как отдых. Но бесит: все готовое, все принесут. Какой-то отдых строгого режима. Похож на цукаты. И сладко. И фрукты. А на самом деле… Прости, конечно, пукнешь на пляже – уже несутся, вдруг что хотела белая госпожа… И такое за тремя слоями прикрытое хамство и злоба. Но больше чем турки наши бесят. Все их это вшитое в подкорку мудачество наружу лезет. В общем, отдохнула хорошо. Но больше не хочу. Спасибо. И да – спать хочу.
– Ясно с тобой все. Давай такси вызову.
– Давай. Любови я вам, граф, не обещала, а расставаться нам уже пора…
– Интересная ты особа, Варвара.
– Да и вы, Глеб Рюрикович, не плохи. Вызови машину. А я пока посуду уберу.
…Зашуршал снег под колесами. Гудок. Желтая «Волга». Пора.
– Варя, пора.
Она всю посуду перемыла. Ох уж эти женщины. Но я рад. Что врать-то.
– У тебя на холодильнике фотография девушки…
– Это Светлана. Бывшая, как говорят. Долгая история.
– Вот и хорошо. Если к утру не разочаруешься, значит, будет о чем поговорить при следующей встрече.
– А ты? Не разочаруешься?
Водила начал сигналить.
– Скорее всего, да. Но не сразу. Ладно, мне пора. Спасибо.
Щелкнул язычком замок. Стало тихо. Пусто. Причем настолько, что даже не хотелось выпить. Зато вечер, безусловно, удался.
«И почему я, дурак, не убрал эту Светкину фотографию? Глеб, ты идиот… Ну да Бог с ним». Потер руки и уверенно и бесповоротно побрел чистить зубы и намывать прочее…
СВЕТЛАНА
Мы прожили вместе шесть лет.
Еще в институте на последнем курсе я работал в одном издательстве фотографом. Вечерком как-то пили водку по поводу дня рождения нашего редакционного товарища, дяди Федора. Был февраль. Один из тех мерзких периодов, когда безумно сыро и ветер пытается залезть во все штанины, воротники и рукава. Поэтому пили зло.
На следующий день я, едва проснувшись, побрел по улице. Был обед. Да, точно, был обед. Я был «ну очень со вчерашнего» и есть не хотелось. Сидеть в конторе – тоже. И с чего-то я решил, что прогулка по околоарктическому климату будет мне мила и крайне положительно отразится на моем самочувствии. Напялив пониже шапку, намотав на шею шарф (эдакий двухметровый удав-радуга, связанный мне на день рождения бывшей подругой из института), подняв воротник пальто, я шагнул в ветер и повелел своим ногам идти.
Проскочил я всего один квартал и осознал, что лучше мне не становится. А вот потряхивать начинало еще сильнее. И как кстати оказалась автобусная остановка с милым сердцу киоском.
Я заскочил внутрь. Стащил одеревеневшими пальцам с носа шарф и попытался улыбнуться продавщице. Как я понял по ее реакции, мое лицо полностью отражало меру страданий и их причину.
– Бутылочку пива, только не холодненького, светленького.
– Что, прямо так?
– Несомненно!
– У нас пить нельзя, хозяйка ругается.
– Да я и не собирался. В пакетик положите. В непрозрачный.
– Ленточку повязать?
– Спасибо, рассмешила. И пачку сигарет. «Кент», четверка.
Покончив с торгами и финансами, я на секунду представил, как мило и не торопясь доберусь до редакции, тихонько проскользну в курилку и там, на подоконнике, сидя прямо над батареей, выхлестаю с горла микстуру и закушу ее сигареточкой. И мир будет спасен. Божественно.
Я открыл дверь и сделал всего один шаг. И тут же нечто темное, сопровождаемое женским визгом, обрушилось на меня. Я инстинктивно отпустил пакет и подхватил на руки поклонницу ньютоновских яблочек.
«Блядь!» – хрустнул во весь голос пакет при ударе стеклянного об ледяное. «Блеа-а-ать» – отозвалось эхо во внутренней пустыне мозга. Планам спасения мира через отдельно взятого индивидуума пришел пиздец.
– Простите, извините, я не специально. Поскользнулось вот.
Темно-синий пуховик. Съехавший набок капюшон-труба. Опушка в инее…
– Спасибо. Я сначала подумал, что вы преднамеренно. А сейчас вижу – нет. Даже полегчало, – сухо выдал я, ставя объект на место. В смыслу на ноги.
Пиво вытекло из пакета и прихватилось на брусчатке желтым пятном в форме попавшего под каток осьминога. Наклонился, подхватил пакет с боем и отправил его в урну. Спи спокойно, дорогой спаситель…
– М-да… Здоровье мое теперь в непоправимой опасности…
– Ой, а вы из аптеки шли?
– Ну да. Типа того.
Поправила капюшон. Одернула куртку.
– Мне так… А может, я вам денег дам на лекарства? Что я говорю?… Скажите, как оно называлось – я сбегаю куплю.
– Не купите.
– Почему?
– Потому что это была вакцина от армянской коньячной лихорадки. Ее только под заказ делают.
Пауза. Жду реакции. А пока можно достать сигарету и закурить. Тем более повод явно есть…
– Пиво, что ли?
– Ага. Решил вот, понимаешь, в себя вернуться. А пришлось спасать вас. Супермену не до здоровья в такие моменты.
Она откинула капюшон и улыбнулась. Приятное лицо. Немного резкие черты. Скулы такие монгольские. Но очень мило. И глаза большие.
– Меня Света зовут. А вас?
– Ну так как за знакомство мы уже бутылочку раздавили давай на ты. Я Глеб. Фотограф. И теперь, видимо, трезвенник.
– А я через две остановки работаю, в обменнике. Кассиром.
– Рад безумно. Ты симпатичная.
– Знаю. Только неуклюжая немного.
– Это мы потом разберемся. С тебя пиво и встреча после работы.
– Можно.
– А парень твой ревновать не станет? Или муж там.
– Я не замужем и с парнем рассталась три месяца как.
– И ты вот так первому встречному все рассказываешь. А вдруг я – насильник. Или того хуже – коммивояжер?
Улыбнулась. И снова красиво.
– Супермены – они не такие. Вот мой автобус. До вечера!
Она резко сорвалась и залетела в салон.
«Хорошо как получилось. Она ничего. Надо будет созвониться… Твою-то мать!»
Одним рывком, чуть не разбив нос об стекло двери, я каким-то чудом протиснулся в автобус.
Светлана стояла через два человека впереди, спиной ко мне. Но протиснуться было нереально… На следующей остановке сзади ко мне прижалась еще парочка страждущих доехать сограждан. А вот и вторая остановка.
Какая-то древняя старуха с клетчатой китайской сумкой и тележкой с рюкзаком рванула на меня. Я спустился на ступеньку, подхватил бабкин скарб и вытащил его на улицу.
– Спасибо, сынок.
– Да ладно, мать, обращайся.
И тут из автобуса вышла она. А я стою, как дерево– идиот. Лыблюсь. В одной руке сумка, в другой – тележка, на плече старушка висит.
– Я тут подумал. Ты же неуклюжая. А вдруг поскользнешься. Упадешь… А я так не согласен, ты мне пиво должна…
Старуха забрала у меня такелаж и почесала дальше…
– Блин. Точно супермен. Вот мой обменник. Мне пора уже.
– Да я не возражаю. Только это… Номерочек дай. На всякий случай. Вдруг там вестибулярный аппарат опять пошатнется…
– Точно. Называй свой.
Она достала мобильный. Маякнула. Значит. точно хочет встретиться.
– Ну, тогда в семь?
– Давай в семь тридцать… Тут на повороте кафешка. Мы туда с девчонками ходим иногда. Там тепло и можно курить.
– Заметано.
И пошла. А я побежал. Нет. Стартанул через дворы, навстречу ветру. И побоку похмелье. Вечером у меня рандеву. Ну, давай, ветер, останови меня!
Я ворвался в редакцию. Сразу в курилку. Там стоял Трофимыч с Женей. Над чем-то посмеивались.
– Ты откуда такой одухотворенный и мокрый?
– Не сейчас. Тут такое дело. В общем…
– Сколько?
– А ты как догадался?
– Милый мой, я знаю, когда мальчик забегает с мороза с такими глазами в курилку. Ему нужны деньги. И тут два варианта. Либо ударил машину, либо ударился о секвойю с разбега, то есть влюбился. Машины у тебя, босота, нет. А на первое свидание без денег идти – моветон. Как зовут-то?
– Меня?
– Идиот. Ее!
– А… того… Светлана.
– Судя по тому, что ты произнес ее имя полностью – это серьезно. На вот. Но с отдачей. Через неделю. У нас тут не общество помощи при амурах. И с тебя рассказ о первом свидании с нимфой. Хочу знать, на кого пошли инвестиции…
– Спасибо, Трофимыч! Дай я тебя обниму.
– Ну уж, не хер. Иди к Симке, у нее там шабашка для тебя есть. Какую-то богадельню с танцами и блядьми открыли на двадцать шестом. Им надо антураж поснимать для рекламы. Глядишь, и отдашь поскорее.
Встретились мы с ней вечером. Посидели, потрепались. Она была наполовину татарка, наполовину украинка. Приятный голос с легкой картавостью, и очень ухоженные руки. Закончила финансовый. Снимала квартиру на пару с подругой.
Мы съехались через полтора месяца. Вернее, она переехала ко мне. И мир расцвел.
Мы мотались по городу до утра. Неделями не вылазили из кровати. И снова гуляли.
Так прошло самое светлое лето в моей жизни. Без преувеличения. Все просто радовало. Все.
Какие-то концерты. Выезды на природу. Встречи с друзьями. И ночи. Горячие, до покалывания в ступнях.
К осени мы были уже сформировавшейся парой. Притершейся. Монолитной. И весь мир затаенно следил за нами и оберегал.
Я начал неплохо зарабатывать. Шли заказы. А однажды мне перепал заказ интимного свойства. Не буду углубляться в подробности, но две респектабельные пары попросили поснимать их совместные увеселения. А тут как раз подвернулся вариант с двухкомнатной на третьем этаже в спальном районе. И хозяин готов был отдать с рассрочкой на полгода (квартира осталась ему от тетки, а в деньгах он не очень нуждался). В общем, денег, полученных за ту съемку, а, вернее, за молчание, хватило, чтобы заплатить сразу половину стоимости.
Квартиру я оформил втихаря от Светки. Мы свезли с хозяином оттуда все барахло. Я нанял работяг ободрать все обои и линолеумы. Добрые тетки за отдельную плату отмыли всю квартиру. А я закрепил на пустой кухне собственноручно мойку.
Светкин день рождения был четырнадцатого февраля. В тот самый придуманный праздник. Я приехал за ней на работу. Посадил ее в такси и повез. Она допытывала всю дорогу, куда мы едем. На что я лаконично ответил, что товарищ, мол, попросил полить цветы, заскочим на секунду, и в ресторан.
Мы зашли в пустую квартиру. «Хороший район, – сказала она. – Но здесь нет цветов. Здесь вообще ничего нет. Только одна коробка из-под телевизора в зале». «А может быть, они в коробке?» Света открыла ее. Там лежало пять роз, бутылка вина, плед, кусок сыра из супермаркета и два граненых стакана.
– Слушай. Это мило, конечно. Но непонятно. Ты так решил меня поздравить? Положив цветы в коробку?
– Вина давай выпьем.
– Ничего не понимаю. Я думала, мы посидим где-нибудь, потом прогуляемся по городу – погода-то, вон какая хорошая. А потом поедем домой…
– А я решил все сделать наоборот. Сначала мы поедем домой. Потом прогуляемся. А потом пойдем в ресторан или кафе там…
– Глеб, ты меня путаешь и пугаешь.
– Солнце мое солнечное. Светочка! Разве тебе не нравится здесь? Посмотри, какой вид из окна. А какая кухня! А спальня! А ванная одна чего стоит! Расстелим плед. Выпьем. Закусим. Подумаем, какие занавесочки повесить.
– В смысле? Я все, пас, открывай карты.
– Мы дома. Это наша квартира. Это наш зал, кухня. Спальня – наша. Не съемная. И даже вид с балкона – только наш.
Светка села на пол. Откупорила бутылку. Налила полный стакан вина и выпила его одним махом. И вдруг вся заметалась (я даже испугался, что ей в гузку угодила шаровая молния) и понеслась по квартире. Хлопала фрамугами окон, кричала что-то наподобие «А вот тут надо еще розеток!», «Смотри. Скворечник на дереве!», «А здесь вот гардеробную можно сделать!»… Весь этот пятиминутный марафон закончился тем, что она тихо зашла снова в зал, села рядом, заплакала и подарила мне поцелуй. Такой, знаете… Самый второй. Вот первый запоминаешь на всю жизнь, а второй помнишь до смерти…
И началась суета… Ремонт… Мы перепроверили на себе кучу строителей… Или они на нас… Светка носилась с какими-то безумными идеями. Но в итоге все устаканилось. Обзавелись имуществом для совместной жизни. Устроили новоселье. И даже мама приехала. Подарила сковородку и пинетки «А что? Вдруг внуки пойдут? Слава Богу, место есть теперь, где малым бегать». Мы обнимались и были… Да, черт возьми, счастливы!
Напротив нашей кровати стена была расписана полностью. Венеция. Лодки какие-то. Площадь. Голуби. Причем не похабно так, а-ля Арбат на скорую руку, а очень даже живенько.
За квартиру я расплатился. И, как оказалось, вовремя. В нашем издательстве поменялся собственник. Привел свою команду и порезал штат. Ну а что я скажу? Это их деньги…
Заказов стало меньше… Подрабатывал как мог. Но на жизнь хватало. Не голодали и позволили себе даже смотаться пару раз в Крым.
На одном из заказных выездов познакомился с парой чуваков из банка… То ли «Внешторгпромстройсбыт», то ли еще как то. Посидели. Попили. Спросил, можно ли устроить к ним Светку. Она давно уже изнывала от однообразия в своем валютном шапито. Вот как-то так и устроилась специалистом в отдел рефинансирования. Опять же диплом подтвердила.
Мы завели собаку. Продали нам его как сеттера, но когда щенок подрос, стало ясно, что интерфейс у него совершенно иной. Нестандартный. Имя дали ему «Гай», ибо он по детству гадил в коридоре и грыз тапки одновременно. Существо было веселое, до неприличия жизнерадостное и бодрячковое. Я каждый день с утра таскался с ним на улицу, причем, чем отвратительнее была погода, тем раньше у него возникала потребность справления естественных нужд. Я выходил во двор, Гай начинал наматывать круги, а я курил и спал одновременно.
А вот с детьми у нас не складывалось. Светка всячески оттягивала этот процесс. То у них отчет на носу, то еще какая-то херь по Чехову. Я не торопил. Молодые. Время есть.
Все начало меняться. Светка стала задерживаться на работе (срочные дела), приходить пьяной (день рождения у начальника департамента). Начались длительные командировки. Сначала по стране, а потом и в Европу. И она приезжала и рассказывала об успешных людях, о том, что я себя не могу реализовать, о новых возможностях. А на вопрос «Так когда мы детей-то заведем?» отвечала «Ты совсем меня не слышишь». Вскоре начались скандалы. И она улетала снова. А я, лежа в холодной кровати, пялился на черно-белую Венецию. И ждал.
Она улетела. В Лондон, на месяц. Редко отвечала на письма и звонки. Ужасно уставала. Мне звонила мама и слышала только, что « у нас все просто замечательно». Гай начал часто скулить. Терял равновесие. Я отвел его к ветеринару, нашли опухоль. Врач вышел в коридор и просто, между делом, сказал: «Надо усыпить. Решать вам, но животное мучается. Надо». Я отписал Светке. Она ответила через два дня: «Привет. Очень жаль. У меня все хорошо. Не волнуйся».
Я выжрал бутылку водки. Просто так. Не понимал, почему ей настолько наплевать. В ее «жаль» не было места для жалости. Это был стандартный ответ. Будто не родное существо теряешь… Не знаю даже. Мебель.
Утром отвез Гая в клинику. Не отпускал. Сидел с перегаром, в тумане, небритый и обнимал пса… Потом его увели. Я заплатил деньги в кассу, а мне выдали его завернутого в простынь. Друга. Моего друга. Я его отпустил.
Гая я закопал на пустыре за домом, там, где мы с ним прогуливались вечерами. Андрюха приехал, помог. Жутко тряслись руки. Мы утоптали холм вровень, от греха подальше.
Андрюха увез меня к себе. Постелил на диване, и больше за вечер мы не перекинулись ни словом.
Она прилетела через два дня.
Я вернулся со съемки. В коридоре стоял ее чемодан. Светка чем-то шубуршала в зале.
– Привет.
– Ой, блин, испугал.
– Как съездила?
– Нормально все. Ты мое свидетельство о рождении не видел?
– Нет. А на кой оно тебе? И что ты не переоделась? Я там покушать приготовил.
– Я не буду переодеваться. И…– она не смотрела в глаза. Пристально так не смотрела. Куда угодно, только не в глаза. – Нам надо с тобой поговорить.
Бляха. Я знал. Я знал и ждал. Верить не хотел. Но знал.
– Давай так. Я пойду поставлю чайник. А ты минутки через две приходи на кухню. Там и поговорим. Хорошо?
– Ладно. Только…
– Что?
– Да ничего. Потом.
Я прочапал на кухню. Зажег газ. Набрал воды. Поставил чайник на плиту. Достал кружки с нашими именами (друзья подогнали на новоселье) и бросил в них пакетики с чаем. Сел.
Светка зашла тихо. Села напротив. Чайник засвистел. Я налил кипятку.
– Глеб, ты только не психуй…
– Я знаю, что ты хочешь сказать. И я никогда не психовал. И не дергал тебя. Просто скажи причину. Почему?
Замолчала. Затеребила рукав блузки.
– Чай пей. Остынет.
Отхлебнула немного. Поставила на стол.
– В общем… Я хочу больше. Я расти хочу. Развиваться. Посмотреть мир. Добиться чего-нибудь. А рядом с тобой…
Я сорвусь. Точно сорвусь. Встану и уебу ей табуреткой. Раз пять. А потом пущу газ.
– Что со мной не так?
– Все так. Но по-твоему. Ты зажат в этом своем мирке. В этой квартире. В своем кругу знакомых. В своей безуспешности. Ты себя не реализуешь. Живешь одним днем. Ты даже машину не купил за эти годы.
– Свет, какая, на хрен, успешность? Ты о чем? Я создал дом. Поддерживал тебя во всем. Не дергал по пустякам и был искренне рад твоим достижениям. Но я хочу ребенка. Хотел. Сына. Нашего. А может, и девочку. А может, и еще одну. Хотел быть хорошим отцом и мужем. Сам. Без нянек. Без блеска и ротожопства. Хотел просыпаться с тобой и тихонько прокрадываться на кухню, чтобы приготовить завтрак. А потом гулять по аллее и пинать громадные красные листья. Хочу жить так, чтобы никому не надо было завидовать или объяснять. И чтобы никому ничего не доказывать и ни от кого не зависеть. Помогать людям и встречаться с друзьями. А не с те, с кем «надо». Семью я хочу – нормальную, крепкую, настоящую. А машина… А машину, свет, блядь, в твоем окне, я не хочу. Не хотел никогда. и вряд ли захочу. Мне это не нравится. Если тебе она так нужна, кто мешает? Что ты мне боишься прямо сказать, не наминая сисек и не оставляя меня виноватым?
Взяла кружку. Подержала в руке. Поставила. Снова взяла. Закусила губу.
– Мне предложили должность в Лондоне. В бэк-офисе. Финансовым аналитиком. Там хорошие перспективы. И в карьере, и вообще. Я смогу жить в Европе, понимаешь? И я согласилась.
Дура. Тупая дура. Тварь.
– Здóрово. Я за тебя рад. Мы с тобой не женаты, так что и разводиться не придется. Когда улетаешь?
– Через двадцать дней.
– Славно.
– Что?
– Ничего. Просто – славно.
Молчи. Молчи. Молчи. Всеми богами заклинаю. Просто сиди. Пей свой вонючий чай и не открывай рот.
– Ты пойми. Я хочу туда. Тенгиза Равильевича переводят в Лондон, и он берет меня с собой. Говорит, что…
– Ты давно с ним спишь?
– Да как ты…
Осеклась. Вот и все. Спалилась сама и деревню спалила.
– Год.
Замолчала.
– А чего ты ожидал? Верности? Окстись, Глеб. Верность – удел счастливых.
Затараторила.
– Но это ничего не значит. Ты мне очень дорог. И я где-то тебя еще… Но я не могу упустить такую возможность. Я понимаю, что если бы была жива собака, тебе было бы легче…
– Его звали Гай. А не собака. Гай. И, как оказалось, он был единственным верным. И я его убил. Чтобы не мучился. Тебе жаль? Ты меня оставляешь жить, чтобы мучился? Пожалела?
Не бить. Не бить кулаком. Не бить в этот носик, который мне так нравится. Не бить в лицо. Не оставить ее жертвой.
– Мне все ясно. Спасибо.
– Глебушка…
– Я запрещаю, – зашипел я. – Я запрещаю, слышишь, тебе произносить мое имя. У тебя все вещи сложены? Возьми все, что тебе надо. Документы все нашла? Вот и молодца. Час тебе на сборы.
– Но…
– Говно! Если ты через час не свалишь отсюда, я тебе обещаю: твоя карьера закончится сегодня на столе для вскрытий в городском морге. Ясно?!
– Ты никогда не был таким.
– Каким? Злым? Акакого хрена мне лыбиться? Пошла собирать вещи, – и добавил: Тварь.
Подскочила. Замерла. Посмотрела исподлобья. Но не зло… А как-то ошеломленно-прибито… плечи упали. Развернулась и пошла.
Под окном коньяк. Срочно. Стакан. Не меньше. А то и два. Главное – не сорваться. О, да сегодня же пятница! И я два дня буду один здесь. На этом пепелище. С тенью мертвого пса и осколками жизни. Я сраный лузер. На фиг. Наливаю. С горочкой. И залпом.
Она заглянула на кухню.
– Ты не против, если я выберу себе фотографии.
– Против. Новых наснимаешь. Из них и выбирай. Эти – мои.
Развернулась. Ушла.
– Ты пьешь?
– Вот тебе, блядь, какое дело? Или мне вышивать сесть? Это, говорят, очень успокаивает.
Опять ушла… Наливаю второй, но поменьше. Вроде отпускает. Ну что, опять?
– Вызови мне, пожалуйста, такси.
– Нет. Звони своему Акакию Георгиновичу. Пусть он за тобой «кадиллак» пришлет. С мигалками. Или карету.
Пришла. Закурила. Поправила волосы. Смотрит себе на колено.
– Что? – это я уже спокоен, это уже тихо…
– Ты знаешь… может, если тебе станет легче. Ну, чтобы это не кончалось вот так. Ты очень много для меня значил… В общем, я хотела бы в последний раз… Ну… Пойдем в спальню, а?
Все. Это полный провал операции. Это шмурдяк разума. Клоака. Слова другого нет в голове.
Встал. Закурил. Подошел к окну. Полнолуние. Красота. И на улице тепло. Слышно, молодежь мучает гитару и район. И табак сладкий. И мир дерьмо и нелепость.
– Спасибо. Но я, пожалуй, пропущу. Давай я вынесу твои вещи на улицу. Одевайся.
Хватаем. Два чемодана. Быстро бегом вниз. Поскорее.
– Ключи от квартиры.
– Вот.
Сейчас заплачет.
– Надеюсь, ничего моего не прихватила?
– Глеб…
– Не произноси мое имя.
Схватила за шею. Полезла губами. Поцеловала таки. Оттолкнул.
– Ну, ты будешь по мне скучать? Ничего, если я тебе писать буду иногда?
– Пиши. Какая мне, в жопу, разница, что не читать. И вообще… иди ты на хуй, сука.
В подъезд. Наверх. Домой.
На кухонном столе кружка. С ее чаем. Ее кружка. Ее кружка с ее сраным чаем.
Открыл балкон и швырнул на асфальт. На мелкие осколки. Хватит.
Еще сто коньяка. Почту просмотрю завтра. Эсэмэска Андрюхе: «Как хочешь, а в 12 у меня». И спать. Это был хороший на урожай год. Дадим лозе отдохнуть. Гай тоже спит. И вот…
Утром первым делом принял ванну. Дважды. В перерыве поблевал и покурил. Затем пошел к студентам – соседям по площадке. Они снимали на пятерых совершенно пустую однушку. Спали на матрасах и вели себя относительно тихо.
Звонок. Открыл парень. Желтая майка. Сонные глаза.
– Тебя как зовут?
– Слава… А что? Мы вроде тихо…
– Не ссы. У нас акция. Помощь студенчеству. Буди своих архаров. Будем вас мебелировать. Жду у себя.
Через пятнадцать минут охреневшие от счастья студенты уже тащили к себе двуспальную кровать, а потом шкаф и ночной столик. Студенты кланялись и обещали щедро отблагодарить после сессии. Все оставшиеся Светкины шмотки я сложил в покрывало и вытащил на помойку.
В комнате не осталось ничего. Акромя Венеции.
В два приперся Андрюха.
– Пунктуален ты, брат…
– Ты не указал часовой пояс.
– Понятно. Спецодежда есть?
– Говно вопрос – купим. А что?
– Надо, понимаешь, подкрасить кое-что.
– Че те щас от меня надо? Говори – и дано те будет.
– Поехали в магазин. И у тебя это… плотник есть знакомый?
– Завхоз из клуба. Мужик пьющий, но рукастый.
– Тогда вперед.
Мы заехали в стройряд. Там я купил 6 банок черной краски, валики, кисточки и замок. Андрюха вызвал по телефону Потапыча (в свое время этот тип медвежатничал и имел несколько ходок за спиной, но возраст уже не тот, и помер бы он на помойке, не подбери его Андрюха), своего завхоза, который без лишних слов за двадцать минут и пол-литру врезал в дверь спальни замок.
После того, как Потапыч отбыл для распития прибылей, мы покрасили потолок, стены и пол в черный цвет. Даже батарею и окно. Висела только люстра с одной лампочкой. Но стены сжирали свет, так что получилась отличная пыточная.
– Андрюх, тебе не кажется странным то, что я делаю? Ты даже не спросил ничего.
– А что спрашивать? Каждый по-своему сходит с ума. А у тебя все логично – пошла темная полоса в жизни. И ты решил запереть ее в одной комнате. Вроде все понятно. Сегодня у меня переночуешь. Краской так воняет, что даже тараканы сегодня уйдут ночевать к соседям. Собирайся. Поедем в баню. Пожрем. А потом рисанемся по ночному городу
– На порт?
– Безусловно, коллега. «Роллинг Стоунз» и прочее. И фотик прихвати. Может сгодиться. На том и порешили. И сигаретка перед затяжным прыжком в сон.
Второй день
Это утро началось с обычных процедур. Протирание глаз. Растягивание затекшей ноги. Почесывание пуза. Стакан холодной кипяченой воды. Очень ускоряет процесс. Туалет со всеми вытекающими. И завтрак.
А потом кофе, ветки за окном. И первая за день сигарета. Сигарета – друг. Настоящий. Верный. Бросить друга – выше моих сил.
СИГАРЕТА
Первой была «Астра». В девять лет. Соседская девочка Валя. Тайное похищение сигареты из полупустой пачки ее отца и передача мне.
Мать уходила на работу рано. Я просыпался. Готовил себе яичницу. Делал вид, что чистил зубы. А потом хватал книгу с полки в зале и заваливался на диван. С учебой проблем не было. То ли в силу моей лени, то ли гениальности все домашние задания я делал в школе.
И вот на том самом диване я читал книги. Первого Хемингуэя. Первого Фейхтвангера. И, конечно, Верна.
В обед (а иногда и раньше) приходила Валя. И в этот раз она принесла сигарету. И я, как настоящий мужчина, просто был обязан ее выкурить.
– Вот. Надеюсь, он не узнает.
– Пойдем на балкон, чтоб запаха не было.
– А вдруг кто увидит?
– Мы на пол сядем…
И вот с добычей и коробком спичек пробираемся на балкон. Прижимаюсь спиной к перегородке под перилами. Кое-как прикуриваю сигарету. Облако расползается вокруг меня.
– Ну как? Вкусно?
– Я не знаю. Еще не распробовал.
– Папа дым вот так – Валя сложила губы, поднесла воображаемую сигарету ко рту, вдохнула глубоко, и выдавила воздух через нос – делает…
Я вглотнул клуб дыма. Он застрял в гортани. Я продавил дальше. Подташнивало. Но терпимо.
– А теперь выдыхай!
Я выдавил дым в нос. И в этот момент я понял, что чувствуют книги, которые падают с книжной полки. Голова развалилась, а потом сегментами начала уезжать набок. В глазах носилась оглушительная мозаика.
– Ну? Как?
– Хорошо. Прямо как по-взрослому. Только голова кружится.
И не было в мире бед. И не было печалей. Взрослый мальчишка Глеб вступал в клуб настоящих мужиков. Правда, рефлексы так и подвигали взблевнуть.
Я спровадил Валю в школу. Попросил сказать, что у меня болит живот. А сам завалился на диван, минут пять поплавал в воздухе и уснул.
Есть люди, которые говорят: «Я один раз пробовал курить. Мне не понравилось и я решил, что никогда не буду». К приходу матери я выспался. Умылся. И точно знал – буду. По одной простой причине – мне это нравится.
В двенадцать, когда мои одноклассники только начинали, я уже первый раз бросил. Я не курил до конца школы. Вернее, до окончания девятого класса. Меня практически выдавили из школы. Я мог бы претендовать на золотую медаль, но двойка по поведению отшвырнула меня в реальный мир.
Получил я ее очень легко. Директор решил обыскать пацанов на предмет табака. Я отказался выворачивать карманы. А когда он попытался залезть мне в штаны, я без лишних слов подхватил со стола мраморную подставку для карандашей и отправил ее прямиком в окно. С тех пор моя карьера в школе не задалась. Меня не пустили по обмену в Канаду. Потом отстранили от всей общественной работы и даже выгнали из хора. В конце концов, мне пришлось пойти дополучать полное среднее в профтехучилище. Где я, безусловно, снова закурил.
Потом институт. Пьянство-блядство и, конечно, никотин. Но я бросал. Искренне. Честно. Один раз даже не курил полгода. Приятно поправился. На щеках появился румянец. Но курить хотелось жутко.
Чем старше я становился, тем чаще бросал. Иногда по четыре раза в неделю. Но возвращался к дымам.
И терпкий вкус, и запах детских воспоминаний о взрослой жизни витал вокруг, и многим замужним дамам это нравилось.
Знаю, что вредно для здоровья. Но, с другой стороны, – его тоже надо на что-то тратить.
Надо было заскочить в редакцию. Подхватить заказ. Выкрасть у секретарши Леры пару конфет. Пошантажировать бухгалтерию и попутно узнать, к кому (или от кого) ушла очередная жена.
Затем заскочить в грузинское кафе напротив, отдать долг. Слава Богу, с хозяином на короткой ноге и у меня там беспроцентный кредит.
Потом съездить в студию к Шишову, нащелкать девок для рекламы макарон, и после трех я совершенно свободен. Непонятно зачем, но сам факт радовал.
Я осмотрел комнату. Диван. Журнально-питейный столик. Пошарпанный комод. И фотографии на стенах. Я только сейчас осознал, что на них нет людей. Вот старая рыбачья лодка. Весло вывернулось на уключине и махало мне. Вот дом со съехавшей, почти воткнувшейся в землю кровлей. Фотография елочного шара. Зачем-то фото советской настольной лампы, причем это фото висело над весьма прогрессивным торшером. И трехколесный велосипед на вершине холма.
Человеческая цивилизация была на каждом снимке, но людей не было. Стало грустно и совершенно ясно, что в жизни у меня то же самое. Вещи, услуги, деньги опять же, и нет людей. А может, и к лучшему.
Где-то прочитал «На какой бы совершенно необитаемый остров вы бы ни попали – ваше одиночество всегда с вами», и это полностью отбивало желание провести отпуск одному.
Вот так-то… Прожил тридцать с гаком, и все, чем смог себя окружить – плоские вещи в рамках. Ограничено и обезличено.
От глубоких самокопаний и жалости к себе отвлек треск телефона на кухне. Межгород. Мама.
Я выдохнул и пошел отвечать.
– Сынок, здравствуй.
– Мам, привет.
– Как ты там? Как твои дела?
– Да вроде все в порядке. Питаюсь регулярно. Курю мало, – соврал я.
– Врешь, – ответила мама. – Ты куришь, как генерал перед атакой. Всю квартиру провонял, небось.
– Я проветриваю, – ответил я.
– Ты давно не приезжал. Знаю – дела. Но я соскучилась и волнуюсь. Ты кого-нибудь себе нашел?
– Нет пока. Но я в поиске.
– Ты уже скоро можешь себе фамилию поменять на Следопыт. Глеб Следопыт.
– Мам, не начинай.
– Ладно… Ты давно не приезжал. А я хочу купить газовую плиту. Старая уже ни в какие ворота. Тесто не печется, а сохнет. Думала сходить, купить самой. У тебя есть ребята знакомые, кто поможет поднять и подключить? – она опять помолчала. – Я заплачу.
Теперь молчал я. Мама уже давно была одна. Она была моей совестью, но при этом никогда не ковыряла пальцами в ранах. Никогда не осуждала и хорошо вязала свитера. Ей очень нравилось, как я готовлю.
А еще она плакала. Всегда внезапно. Коротко. И тут же останавливалась. Сразу хваталась за уборку. Или гладила. Это ее успокаивало.
Несмотря на свой возраст (родила меня она поздно), мама работала. Бухгалтером. В небольшой конторе. «Если я не буду работать, я сдохну со скуки, как белка в пустыне. Опять же, прибавка к пенсии. Я даже понемногу откладываю». Каждый раз, когда я уезжал от нее, она незаметно совала мне в карман купюру. Я знал это, но свой протест выражал уже приехав домой. По телефону. Мама делала вид, что обижается, но в душе радовалась, что так удачно провернула эту финансовую операцию. Ее деньги я складывал в книгу со стихами Симонова.
Я не был идеальным сыном. В свое время очень сильно потрепал ей нервы. Но она принимала все стойко. И никогда не жаловалась.
– Мам… Я не буду никому звонить. Я приеду. Мы выберем плиту, и я сам ее подключу.
– Ой, я же и забыла, что ты немного технарь. Приезжай. Когда?
– А вот в конце недели и приеду.
– А я тогда к чаю что-нибудь куплю. И тесто поставлю. Лепешек напеку. Как раз вишневое варенье открыла.
– Мам, мне пора. Если что-то изменится – позвоню.
– Хорошо. Одевайся теплее. И, – она вздохнула, – береги себя. Да, Надя про тебя спрашивала.
– Хорошо, – повторил я. – Мне действительно пора.
Я положил трубку. Почему-то стало стыдно. Но появилось дело на после обеда – съездить на вокзал и купить билеты.
В обед позвонил Андрюхе. Поинтересовавшись, как дела и стул, напомнил, что сегодня у нашего общего дружбана Сереги день рождения. Договорились вечерком пересечься и выпить рюмочку-другую чая в «чиста мальчуковой» компании.
К себе в «Матрешку» Андрюха не звал никогда, обосновывая это просто и доступно для масс: «Во-первых, там жопа как дорого. Во– вторых, меня будут постоянно дергать по делу и без. То повар запил, то какой-нить залетный прокурор, заливший свои прокурорские шары, будет требовать хозяина, чтобы не платить. А самое главное – персонал. Будут лебезить весь вечер, прекратят обсчитывать клиентов, полюбому будут подслушивать все, что мы говорим за столом. И как итог – озлобленность, нервы и пиздец. Короче, будет все как с вокзальной проституткой – расслабиться не удастся».
Я успел сделать все, что запланировал на день. И даже выкупил билет. Отпросился на неделю.
«Возьми больничный, – посоветовала мне главбух. – Хоть какие-то да деньги, и от начальства прикроешься».
Заехал Андрюха. На такси. В серых джинсах и футболке с надписью «ABBA в нас!» Заехали в центр. Купили Сереге сигару, какой-то брелок с гербом Союза и «Голую пионерку» Кононова. Книга, в переплет ей ноги, все равно лучший подарок. И выбросить не жалко.
Серега ждал нас у бетонного парапета. Серое пальто до пола. Шляпа как у Индианы Джонса. В руках упаковка памперсов.
– Натахе решил купить. Ей уже рожать через месяц.
Куда пойти, естественно, не решили. Сначала прогулялись по городу, обмениваясь пустыми фразами. Андрюха рассказал скабрёзный анекдот, я ухмылялся, а герой вечера закатывался, периодически переходя на поросячий визг.
– О, смотри – кафе «Волна», – воскликнул Серж.
– В жопу. Они покупают рыбу, которая начала портиться на складе, засыпают специями и выдают за изыски даров моря.
– Ты-то откуда знаешь?
– Я тоже так делаю, – закрыл вопрос Андрей.
Следующим был кабак «Минин».
– Там подают либо китайскую еду, – ляпнул Серега – либо то, что поляки близко есть не станут.
– Однохуйственно, – обозначил Андрей.
На том и порешили.
– У нас для рабочих дорого, – предупредила администратор, оглядев нас с ног до головы.
– Нам похуй, мы крестьяне, – не замедлил хлестануть Андрюха.
Чисто. Уютно. Хорошая посуда. Диваны нормальные. А не те, в которые сразу высыпается все содержимое карманов.
Принесли меню. Кухня обычная. Стейки. Пиво. Водка. И, конечно, «оливье». Особенно радовало то, что живой музыки не было, ибо она в девяноста процентах случаев мертвая.
Пришли мы рано, народу не было. Только через столик сидела женщина приятной полноты, смотрела в окно и мечтательно трескала маслины.
– Я сегодня второй день. А вон там сидит хозяйка. Пожалуйста, не ругайте меня сильно, – обрисовала ситуацию официантка. Как оказалось, это была Мина, в честь которой и был назван сей трактир.
Мы пообещали.
Серега сразу заказал мяса «с кровищей», пива пшеничного нефильтрованного, бутылку водки и мясную нарезку. И сосиски в тесте.
Пока несли заказ, мы передавали «младенцу дары». Сигару он засунул в нагрудный карман. Брелок поцеловал как наградную саблю. При получении книги икнул.
Не нарезаться было нельзя.
Пили мы без особых тостов. Трепались о кино, знакомых, новой музыке. Ближе к четвертой рюмке начали вспоминать дела давно минувших дней и текущего быта.
– Мне жена говорит: «Ты, мол, распиздяй. Зарабатываешь мало. Ничего тебе от жизни не надо. Лишь бы ночь напролет сидеть на улице». А я ей: «А что тебе не нравится?» А она: «А меня все устраивает. Квартира моя. Если совсем прижмет – вышлю тебя к папе, в Воркуту».
– Серега! Твой папа в Воркуте?
– Окстись! Ее папа…
Как пилась водка! Как стройнела на глазах Мина! Какой замечательный вечер удавался!
Серега уже расслабленно откинулся на диванчике, положив руку на упаковку с подгузниками. Он был счастлив, и это было видно по его довольной небритой роже. Нас же с Андреем потянуло на соплежуйство.
– Вот ты скажи, уже семь лет прошло, а ты никого себе не завел. Ни жену. Ни подругу. Ты что, все еще травишься по Светке?
– Блин. Как тебе сказать. Она устроила из меня мусорку. Раз в месяц пишет о своей жизни. Как будто я поп какой. Как все у нее хорошо, как она счастлива. Как у нее все удается там. Потом вкрутит пару строк о том, что ей меня не хватает и прочее… А я после этих писулек еще неделю хожу, обдирая себе нервы… Ах, если бы.. А ведь я виноват… Блядь…
– Ну и послал бы ее на хер давно. Написал бы, что достала. Что не хочешь о ней ничего знать. И почту настрой, чтоб все мимо кассы – сразу в парашу летело!
– Ну да… Можно, конечно… Но пойми: если я это сделаю, я ее совсем потеряю. Единственного человека, который был так близок. Понимаешь? Просто это – оборвать. А потом что? А так могу себе надумать, что она вернулась. Или там, что изводится… А потом понимаешь, что это – все, конец. Но это потом. А вот сейчас она мне написала. Мне. Значит, еще не все пропало. Хотя пропадать уже и нечему. Это знаешь, как обои клеить, когда стен нет. Режешь, мажешь, прикладываешь и все падает. И снова так же. У тебя с твоей по-другому?
Злобно вогнал окурок в пепельницу.
Андрюха задумался. Закурил. Отвел взгляд.
– А она мне и не пишет. Вообще.
– Ну и что? – спросил я, – ты ее забыл?
ИРИНА
…Работа не радовала совсем. Да и какая это работа…
Упыри какие-то странные вокруг. Лысые, тощие, как узники Освенцима, со слабенькими ногами и руками, одетые в узенькие штанцы, с вечно закатывающимися глазами. Или отекшие, с мясистыми рылами, в потных сорочках с пятнами и в галстуках, лежащих на плече. Перекаченные мальчики-пустышки в облегающих, почти женских футболках для разведенных и не очень дам… Куча непонятных существ, похожих на внебрачных детей завхозов и работниц прокуратуры. И бесконечным потоком шлюхи.
И каждый подойдёт, по плечу похлопает. Обязательно спросит «Как дела?» и без паузы «Че, выпьем?» И пьешь. И сидишь за их столами, заигрываешь с их блядями, травишь плоские анекдоты. Все разговоры вокруг тачек, денег и кто с кем переспал. Шум во всем. Не слыша друг друга, все в истерической радости. И я среди них.
А потом на кухню подогнать поваров. Выловить и отругать официанта, постоянно курящего на заднем дворе. Поймать администратора и объяснить:«людей за тем столиком на контроль, а вот тем двум в углу счёт не приносить, это «нужные». И снова в зал, где пьяные улыбки освещают пустые глазницы.
Уходишь оглушенный. Часа в четыре добираешься до дому. И хорошо, если хватает сил на душ. Чаще всего в одном ботинке на диван в зале.
Иногда появлялись мимолетные увлечения на пару недель. Максимум. Все девки одного круга. Как переходящее знамя. Или я уже был у них эстафетной палочкой. Хрен поймешь. И это, все это болото, затянуло. Бесконечный праздник, как труд. Пьяные ночи и привычка просыпаться не раньше часа. И постоянно решать вопросы, до которых мне, по факту, и дела нет.
И лишь изредка, оставаясь дома, я праздновал одиночество. Включал Грига или Листа. Проветривал квартиру. Доставал с полки Фейхтвангера или Сэлинджера. Заваривал зеленый чай и не торопясь смотрел на мир с балкона. Иногда даже писал. Но в какой-то момент понимал, что некому и не за чем. И злоба подкатывала. Весь покой разносило на куски. Я подхватывал ключи от машины и рвал в клуб. К людям, с которыми мне нечего разделить. Ни мою злобу, ни мою музыку. И уж точно – не мое одиночество. Я становился радушным хозяином кабака, директором и рубахой-парнем, без печалей и забот.
И вдруг, среди этого месива из пота, грязи и безнадеги – случайная встреча в кофейне, куда я заскочил разменять деньги. Она сидела у окна в наушниках. Русые волосы собраны в хвост. Лицо немного вытянутое, с тонкими чертами. Серые глаза. Но главное – она читала книгу. «Идиот» Достоевского.
И я вкипел в пол. Забыл, что и зачем. Забыл про таксиста на улице. Про грязь. Про все забыл.
Тихо сел напротив. Она не сразу меня заметила. Подняла глаза. И…
– Привет.
Я опешил. Она мне вот так просто. Без жеманства и закусывания губ. Сигнал машины за окном вывел меня из ступора.
– Я сейчас.
Метнулся на улицу. Сунул таксисту деньги. И пулей назад.
– Ирина. Студентка.
– Андрей. Отучился.
Она засмеялась, хотя шутка была очень сомнительной. Но она засмеялась.
Купили кофе на вынос и гуляли. Щелчки желудей под ногами. Солнце через желтые фильтры листьев. И неспешная, давно уже забытая мною как явление, беседа. Днем. На улице. Под аккомпанемент редких машин.
Я нанял директора в кабак и перестал там появляться каждый вечер.
Мы с Иринкой ездили на склоны, с которых был виден, как на ладони, весь город. Она знакомила меня со своими друзьями. Людьми интересными и не испорченными массовой культурой. Мы ездили на дачу, где пели песни, плясали у костра или молчали, валяясь в гамаке под звездами. Иринка увлекалась живописью. В ее небольшой съемной квартире всегда пахло олифой. Я купил ей целую библиотеку альбомов европейской живописи. Она дарила мне шарфы, книги и уродливых зайцев, сделанных из носков. И, черт возьми, это было лучшее, что мне дарили.
Дела в клубе немного просели. Новый директор не справлялся. Администраторы начали распиливать вечернюю выручку. Постоянные клиенты жаловались на обслуживание и музыку. Я решил разобраться с делами. Поднять кабак на прежний уровень, а потом, возможно, продать.
Ирина ходила на выставки. Я приходил вымотанный, а она рассказывала о новых мирах, именах и направлениях. Иногда ее несло, и монологи растягивались часа на четыре. И сил у нее не убавлялось.
Через четыре месяца мы поженились. Расписались тихо. Собрали закрытую вечеринку в «Матрешке». И были счастливы.
Она съездила в Италию на две недели. Вернулась воодушевленная. Начала много писать. Особенно по ночам. Под музыку. Утром приходила в когда-то моей рубашке, перепачканной краской, и приносила работу. Я говорил: «Хорошо». Она: «Понятно». И снова шла рисовать.
Я уехал на неделю в Варшаву за новым оборудованием для кухни. Вернулся с раритетным изданием немецких гравюр. Меня ждала записка на столе и пустая квартира.
«Ты хороший человек. Но мы разные. Я хочу лететь дальше. Мне нужна свобода. Я уехала в Италию. Буду учиться работать с цветом и формой. Прости и не ищи».
Документы на развод пришли через полтора месяца. Подписал не глядя. К тому моменту я уже злобно пил и трахал все, что двигалось.
Однажды я случайно увидел ее мельком по телевизору, на какой-то выставке то ли в Неаполе, то ли в Палермо. Она выглядела уставшей и похудела. Глаза блестели. Она была, черт возьми, счастлива. Я ревел и просил у нее прощения. Вернее, у телевизора.
Вскоре все вошло в привычное русло. Работа шла. Это помогало не останавливаться. Я патологически боялся оставаться один. Чтобы не вспоминать.
Я отпустил ее. Она меня – нет…
Андрюха замолчал. Закурил.
– Продолжаю.
– Что продолжаешь?
– Забывать.
Об успехах в этом святом деле я его спрашивать не стал.
В этот момент оживился уже было задремавший Серега. Он опрокинул еще рюмку. Прилепил к языку кусок холодной говядины, обнял упаковку с подгузниками и вышел на вальс в центр зала. Все посетители с умилением смотрели на этот дуэт. И даже Мина, как мне показалось, улыбнулась. Вечер начинал утомлять. И надо было утащить Серегу до того, пока он не начал воспринимать реальность, мягко говоря, иначе.
Мы закрыли стол. К нам подплыла хозяйка. Пролепетала что-то вроде «приходите еще». Андрей ответил, что неплохо было бы уволить администратора или хотя бы вломить, что бы больше не определяла людей по одежде. Мина ответила спокойно: если такое повторится, она лично переломает ей ноги.
– Да вы просто противопехотная, Мина! – скаламбурил Сергей, оторвавши лицо от памперсов. Мы сгребли его в охапку и утащили подальше от очарованной внезапным, как ей показалось, комплиментом хозяйки.
На улице было сказочно. Свежий воздух сыграл свою стандартную подлянку, на секунды отрезвив нас, а потом вогнав в еще более овощное состояние. Улица ждала своих героев.
Прежде чем рвануть по норам, мы решили размять ноги. Нас понесло на набережную.
Где-то в середине пути нас одновременно посетило естественное желание избавиться от излишков жидкости.
Встав плечо к плечу на мосту, мы начали свои процедуры.
– Хорошо-то как! – воскликнул Серега
– Нехорошо, граждане, – ответило за спиной эхо хорошо поставленным голосом.
Мы переглянулись, застегнули ширинки и развернулись на сто восемьдесят градусов.
– Сержант Кулибин, – представился вояка. – Нарушаем.
– Это твой родственник кукушку подковал? – крякнул именинник.
– Кулибин изобрел часы с кукушкой. А блоху подковал Левша, – сухо парировал полицейский.
С ним были еще двое. Совсем молодые ребята из внутренних войск. Они оглядывались по сторонам и выглядели испуганно.
– Придется проследовать в отделение и составить протокол. Но мне этого не хотелось бы.
– А кому охота возиться. Ну поссали. И что? Ты, генерал, как будто не ссал ни разу? – не унимался Серж.
Сержант не повел и глазом.
– Ваше правонарушение предусматривает наложение административного штрафа либо исправительные работы сроком на пятнадцать суток.
– Мужики, я ссать хочу. Я готов хоть в ссылку в Воркуту – дайте только поссать.
– Ну, тут от вас все зависит. Если найдем компромиссное решение – свободны. А нет – придется действовать согласно букве закона, а не здравого смысла, – отчеканил сержант.
Андрюха шагнул вперед и протянул бойцу три купюры. Сержант осмотрелся по сторонам, снял фуражку. Опустил туда две. Одну отдал вэвэшникам. Конфликт был исчерпан.
– Теперь я могу поссать? – поинтересовался Серж.
– Я думаю, да, – ответил сержант. – Честь имею. И постарайтесь не нарушать впредь.
– Бабла навалом! Все обоссым! – разошелся оппонент.
– В последнем я даже не сомневаюсь, – ответил сержант и добавил: – Без обид мужики, всем есть хочется.
И вся троица тут же растворилась во мгле. Будто и не было их.
– Глеб? – спросил Андрей. – Что у тебя, кстати, со Снежной человечкой?
– Не понял…
– Ну Варвара. Или так все было плохо?
– Тьфу ты, черт. Я же хотел с ней встретиться. У тебя телефон ее есть?
– Откуда? Я ее к тебе привез. По накладной в руки передал. А на кой она тебе?
– Знаешь. Не то что бы понравилась… Заинтересовала. Только как ее найти?
– Ой. Дите ты деревенское, – Андрюха похлопал меня по плечу. – Судя по всему, фамилию ты у нее тоже не узнал.
– Мммм…
– Не мычи. Что говорила еще? Про работу?
– Да ничего. Только и сказала, что им начальница путевки в Турцию подкинула. И что домой идет через парк Победы. И что с того?
– Ты идиот. Если «нашальник» дарит путевки, значит, они у него есть. А у кого есть путевки? Прально – у туроператоров.
– Да их в городе… как дерьма в навозе.
– Согласен. Но перебрать нужно только ту кучку, которая лежит недалеко от парка Победы.
– Андрюха – гений.
– Вот что: езжай к матери спокойно, а я пошукаю по округе. Как что найду – отзвонюсь. И да, мамане привет. Она у тебя мировая тетка.
– Спасибо, Андрюха!
– Да не за что!
– Не за что им деньги платить, – прокричал внезапно вернувшийся в мир Серж, а потом тихо попросил – Отвезите меня домой, а?
Мы окончательно потерялись, поймали таксо и развезлись по домам. Я довел Серегу до дома, прислонил у двери на третьем этаже, позвонил в звонок и убежал, как в детстве. В парадном остановился. Услышал, как открылась дверь и женский голос с укоризной:
– Не можешь ты как люди, Сергей. Заходи давай.
СЕРЕГА
Ой, Серега. Человек-суета. Человек-несусветица. Человек-поиск. Человек-внезапность.
С самого детства он обладал редкой способностью находить (а скорее организовывать) приключения на задницу там, где их просто не могло быть.
Однажды, играя в прятки, он залез на козырек подъезда, а когда пришло время появляться, не справился с управлением и с высоты двух метров рухнул лицом в бетонную отмостку дома. После чего, все лето ходил с лилово-фиолетовым синяком на всю левую половину, чем несказанно гордился.
Или по весне, начитавшись про Тома Сойера, соорудил плот из досок и веревок, и провел его испытания в затопленном котловане строящегося подземного паркинга. Естественно, вечером, когда рабочие покинули объект. Плот доплыл ровно до середины, где, собственно, и развалился на части, утащив с собой и новоявленного Колумба. Злющий и промокший сторож притащил замерзшего «идиота-морехода» Серегу домой, за что и был накормлен, напоен и снабжен червончиком на дорогу.
Как ни странно, его собственные родители относились к этим выходкам абсолютно спокойно. Мать всегда встречала нас по-доброму, с домашними печеньками и игрой на пианино. А отец ставил «Роллингов» и наливал нам по тридцать грамм коньяку. За встречу.
Он же первый подсунул мне самиздатовскую литературу, Довлатова, и, как сейчас помню, показал настоящий, пахнущий свободой номер «Плейбоя».
На шестнадцатилетние Сереги мы втроем нарезались каким-то дешевым плодово-ягодным пойлом и пошли в зоопарк (там не было милиции). Ну где, как не в зоопарке, отметить переход во взрослую жизнь?
Мы шарахались по территории, зырили на верблюдов и белок, как вдруг возле вольера с волками, Серега с чего-то решил, что он теперь Кевин Костнер.
В один прыжок перелетев через ограждение, он рванул к клетке, бубня какие-то заклинания, как он считал, на волчьем языке. Молодая волчица, глядя спокойными зелеными глазами, протиснула морду через прутья и лизнула его в лицо. Осмелев, Серж полез в карман и вытащил пакетик с сосиской в тесте, наш энзэ по закусочной части… Положил на ладонь и протянул волчице.
То ли она не просекла сути момента, то ли зверей давно не кормили, то ли еще Бог знает что… В тот же момент – рывок, клацнула челюсть, и предложенный деликатес оказался полностью в ее пасти. Вместе с фалангой среднего пальца новоиспеченного шамана.
Серега отвел руку, осмотрел ее со всех сторон. На секунду замер. И заорал. Заорал так, что мир затих, и даже медведи в соседнем вольере попрятали в лапах свои головы, чтобы не оглохнуть. Мы перетащили героя через ограждение и рванули, так как охрана зоопарка уже неслась к нам с потоком совершенно нелестных слов и недвусмысленных намеков. Добрались до травматологии. Там наврали, что отшибли случайно дверью (ну не говорить же, что мы дебилы!), и Сереге зашили то, что осталось от пальца.
Домой он идти наотрез отказывался, но бутылочка портвейна помогла его переубедить. Хотя врачи строго-настрого… И мы пошли сдаваться.
Забившись втроем в прихожую и воняя (именно воняя!) перегаром, мы в один голос начали излагать три разных версии произошедшего. Через минуту Серегина мать, сползающая от смеха по стенке (три тощих пьяных школяра рассказывают, как на них напал вырвавшийся из клетки волк), выдавила из себя: «Ой, ребята, да ну вас на хер, я пошла спать», и отбыла в опочивальню. А отец подошел, обнял Серегу за плечи и сказал: «Ну, вот, сынок. Теперь ты стал взрослым!» – добавил:«Ща обоссусь» и рванул в туалет. Мы стояли, не понимая ничего, шмыгали носами и ожидали, как минимум, четвертования с предварительной посадкой на кол.
Отец вышел. Посмотрел на нас. Сурово так посмотрел. И молвил:
– Что встали, как неродные? Мойте руки и в зал. Я поляну накрою.
Уговаривать не пришлось.
…Это был первый вечер в моей жизни, когда мы по-мужски сидели за столом до самого утра, пили водку, курили на балконе, слушали настоящую музыку и обсуждали серьезные темы. Как взрослые. И это было нереально круто.
Через какое-то время мы расстались, и вот судьба-плутовка свела нас всех в этом городе. Серега уже успел два раза жениться и развестись, оставив женам по квартире и ребенку. Да и пассия, с которой он жил сейчас, уже была на сносях. Уж на что велись бабы – я не знаю. А отчего уходили – тем паче. Но с Серегой нам всегда было весело. Порой даже чрезмерно.
Третий день
Еще сонная ходила по квартире в вязаных носках и свитере. Зажгла свет на кухне. Поставила чайник на плиту. Очень не люблю электрочайники. Есть в них что-то от фастфуда. Вода в них закипает быстро, но чай получается каким-то синтетическим и мертвым. В металлическом же чайнике на плите он зарождается, как жизнь.
Глаза закрывались и почему-то вспомнились студенческие годы. Стало мерзко.
ПАПИК
На третьем курсе я встречалась с человеком, которого все называли Александром Леонидовичем. Я звала его «Папик». Руки эти его вечно мокрые. Засаленный взгляд… Но тогда это было здорово – все подруги встречались со студентами-голоштанниками. А я ела в дорогих ресторанах. Он снял мне отдельную квартиру. Дарил всякие безделушки и щедро сдабривал по утрам деньгами. Естественно, он был женат. Естественно, никаких шансов на развод. Я и сама это знала и не строила иллюзий. Было просто удобно. Встречались раза четыре в месяц… Вернее, он приезжал. Когда до полуночи, когда до утра. Жизнь текла непринужденно, успехи в институте шли рядком. Оставалось время на друзей.
Однажды, где-то в июне, ближе к утру, я спросила его: «А если обо мне узнает жена?» Просто так. Посмотреть на реакцию. Он совершенно спокойно ответил: «А она знает. Она не против. Дети у нас уже взрослые. Она с внуком возится. Да и интимной жизни у нас как таковой давно нет». Меня передернуло.
Вот как. Вот. Однако.
Одно дело быть любовницей обеспеченного человека, чувствовать себя желанной и защищенной. Но так… Чтобы меня, как десерт, разрешала какая-то тетка с нарушениями по женской части? И он со мной не потому, что этого хочет. А потому, что у него есть полтора суток в неделю на то, чтобы почувствовать себя самцом. Ну уж нет.
Подорвалась с кровати. Закидала по-быстрому в сумку свои вещи. Моментально натянула одежду. И пошла к выходу. Потом развернулась и просто сказала ему:
– Иди ты на хер, Александр Леонидович. Со своей женой. Ключи в коридоре. Поливай цветы. Попробуешь искать – яйца отрежу.
Шла по улице. Багровела от злости. Заскочила в магазин, купила бутылку водки и пожрать. Слава Богу, удалось отложить в загашник нормально денег. Хватит на первое время.
И поперлась к своему верному товарищу и советчику по институту Даниле.
Данила был небрит, нетрезв и невозмутим.
– Ушла?
– Да, блядь. Он…
– Не ори с утра. Голова трещит. Я еще спал, – почесал репу. – У тебя выпить есть?
– Да. Ноль семь.
– Дуй на кухню. Я щас умоюсь и приду. Захочешь жрать – яйца в холодильнике.
И ушел. Отвратительный тип. Всегда говорит правду и никогда не суетится.
Скинула вещи. Прошла на кухню. Навела порядок. Накрыла на стол.
Зашел Данила. Начала рассказывать и жаловаться.
– Смешная ты. И психи эти твои тоже.
– В смысле?
– Ты стала блядью. Дорогой такой, откормленной блядью. Ты все прекрасно знала, кто ты. Почему он с тобой. А самое главное почему ты с ним. И тут тебе сказали прямо: ты блядь. И ты затрепетала, психанула и ушла в обиде. Ну и что?
Замолчала. Задумалась. Выпили.
– Но я же…
– Я тя умоляю… Что бы ты сейчас ни говорила, будет просто отмазкой. «Я не такая. Я не поэтому. Да как он мог? Это несправедливо!» Херня это все. Ты хотела легкую дорогу – не вопрос. Но не надо устраивать истерик и жаловаться. У тебя простой выбор – быть блядью или не быть.
– Но он!
– Его вообще больше нет. А ты есть. И у тебя две дороги. Одна простая и шелковая – делать минеты и раздвигать ноги за деньги. И так годков до тридцати пяти, может, и поживешь в меду и беззаботности. Или вторая – учиться. Жрать суп из кильки с томатом. Пересчитывать мелочь в кармане, а потом работать. Строить самой жизнь. Обламываться. Падать. Вставать снова. И идти дальше, зная, что за тебя никто ничего не решает. Вот и весь расклад. Наливай.
Ну, вот с того дня как-то и стало все на свои места. Началась обычная жизнь. Со всеми калейдоскопами событий…
Села у окна. Подтянула колени к груди, натянула свитер. Было чуть больше шести утра. До работы времени – море. За окном стояла утренняя тишина. Только изредка ее разрезал какой-нибудь ранний автолюбитель. Дерево росло вплотную к окну. Ветер был почти незаметен, и дерево не качалось, а как будто танцевало в одиночестве. Что-то из европейской программы. Древесный фокстрот.
Из-за дома напротив выкрадывалось солнышко. Сначала тихонько схватилось ладошкой за конек крыши, приподнялось. Осмотрелось. Закинуло на крышу вторую ладошку. Подтянулось и выскочило. Свет резанул по глазам. Я сощурилась.
Посидела немного. Начало клонить в сон. Выпустила коленки из-под растянутого свитера и пошла к плите. Налила себе кружку горячего крепкого чая. Ложка сахара и долька лимона.
Как хорошо утром бывает просто выпить в тишине чаю. Да еще и свежезаваренного. Да еще и с лимоном.
Из-под кухонного гарнитура вылез паучок. Осмотрелся по сторонам. Неслышно пробормотал что-то вроде «кругом бардак» и снова убежал в темноту.
День официально вступал в свои права.
Я пошла в ванну. Открыла воду.
Вернулась на кухню. Вытащила сигарету из тонкой пачки. Почему-то сразу не прикурила. Задумалась о чем-то неважно-глубоком. Первое облачко дыма вернуло к реальности.
Ванна набралась. Можно идти и замачиваться. И собираться на работу, ибо работа являлась полной альтернативой жизни.
Вдруг, увидев себя со стороны, поняла, что каждое утро я садилась на кухне с чаем и ждала звонка от того, кто не позвонит, как раньше.
ВАРЕНЬКА
Родилась ли я в любви?
Да. И рядом был он. Отец.
Папа был особенным человеком. Очень светлым. Порой до безобразия несуразным. Смешным. Но лживым – никогда.
Они познакомились с матерью, когда он еще работал на стройке, зарабатывая средства на то, чтобы оплатить учебу в институте, а она торговала газетами в киоске. Имея высшее образование по социологии и протестуя против мира капитала.
Роман разворачивался, как снежный ком, из которого в итоге и выкатилась я.
И с тех пор он был вокруг. Не рядом, а именно вокруг. Он сам купал меня, укладывал спать, отводил и забирал из садика, вытирал сопли и строил, если я начинала творить, как он говорил, «бесподобнейшуюнесусветицу».
Мы ходили гулять при первой возможности. Или он устраивал веселый вечер с драками подушками и горячим шоколадом: мы боролись, прыгали на диване, резались в карты и постоянно смеялись над всем, что видели и слышали. Или, как взрослые, сидели на балконе, время от времени хитро переглядываясь и улыбаясь. Он курил, я пила сок, и мы вдвоем смотрели, как солнце прячется в листве.
И все это было замешано на тонкой паутине его рассказов… Порою нелепых, странных и непонятных, но всегда новых. За многие годы он ни разу не повторился.
Так в моем мире поселялись и буддистские монахи, обуреваемые страстями и привязанностью к алкоголю, страшилы под кроватью, которые на поверку оказывались милейшими тварями, боящимися, и небезосновательно, людей. Странные старушки, побеждавшие мировое зло, и настоящий мир фей, которые по выходным курили трубку, пили ром и стирали крылья в местной химчистке.
И весь этот мир был только нашим. Когда мне было три года, он вырезал большие буквы из цветного картона и приклеил их на стену. Мой первый алфавит. Я надевала его очки, расправляла пижаму и с указкой учила его новым словам. Он хорошо учился, и уже к четырем годам я бегло читала газеты. В туалете. Как взрослая.
Иногда он приходил домой пьяненьким, с кульком конфет, и шел, извиняясь за свой поздний приход, укладывать меня спать. Он пытался рассказать новую историю, но быстро засыпал. И я лежала рядом, домысливая его рассказ. И вдыхала пряный запах табака и белого вина, и знала точно: именно так пахнет принц, который придет и унесет меня в настоящий мир. И будет таким же добрым.
Мать была всегда холодна. Они часто ругались. Она кричала на него, психовала, срывалась на откровенную грубость. И очень часто я слышала во время этих разборок: «ты не мужчина», «бездарность» и «скотина». Потом, когда он шел укладывать меня спать, я спрашивала его о значении этих слов. Он быстро менял тему, но я слышала… Да, именно слышала, как в темноте, шурша улиточным шагом по его не выбритым щекам, катились слезы. И я плакала вместе с ним, зная, что так будет лучше и легче для него…
А еще он всегда защищал меня от нее, принимая на себя удар.
Она выгоняла его из дома сотни раз. Может быть, даже тысячи. Он собирал сумку, целовал меня и уходил, говоря: «Заяц, не волнуйся, она успокоитс, и я вернусь». И возвращался. Со своими байками и прогулками по темным улицам.
Когда мне было шесть лет, в жизни матери появился другой мужчина. Какой-то ухажер из прошлого. Дядя Олег. Пустое существо, работавшее то ли слесарем, то ли монтажником. Отец много мотался по командировкам. А он стал захаживать к нам. И он мне не нравился – от него пахло дешевым куревом, водкой и ложью.
А мать выставила отца из дома. Развелась и притащила это существо в наш дом. Мой и папин.
Он молчал, пил, приносил деньги. И из-за него меня рано укладывали спать. Я психовала и злилась, а мать объясняла мне, срываясь на крик, что это и есть «настоящий мужчина, которого она ждала всю жизнь».
«Настоящего» хватило на три с половиной недели. После чего он собрал вещи и без слов ушел к бывшей жене. Мать сидела молча на кухне, курила и плакала. А когда я подошла ее успокоить, отметелила меня по ногам ремнем. Не со зла. Нервы сдали.
Прошел еще год. У матери появлялись новые ухажеры, все из одной компании… К нам практически не приходили… Она возвращалась под утро, упираясь головой в вешалку, кричала: «А отец твой все равно козел и мразь! Он хуже всех и недостоин меня».
А я ждала воскресенья. Что бы сидеть с ним на кухне, пить чай, смотреть на звезды и снова узнавать мир, в котором нет места лжи и алчности.
В тот новый год я была с отцом и бабушкой, его матерью. Это были счастливые дни. Мы ели– пили, ржали над мультами, играли в карты и домино, в прятки, пускали петарды в залитое огнями небо, рисовали на снегу ангелов и раскрашивали лед акварелью.
Я готова отдать многое, чтобы вернуться в ту зиму, в маленькую квартиру на последнем этаже. Туда, где мне не надо было бояться быть собой. Туда, где был он. Мой самый главный принц.
И я знаю, что он всегда любил ее.
Через год, напившись на свадьбе друзей, мать позвонила отцу и позвала назад.
Он приехал… Она плакала, ругалась, снова плакала… А утром я проснулась, и он был здесь. Мой. Родной. Светлый. В тот миг весь фантастический мир стоял замерши за моей спиной и слушал. как бьется наше сердце. Одно на двоих.
Матери хватило на полтора года. А потом все пошло по накатанной. Скандалы, ссоры, крики до рассвета. Пропадания на ночь. Выбрасывание его вещей на площадку. Его сгорбленная спина в окне и детская вера, что он все равно вернется. Ведь он только мой.
И, несмотря на это, он все равно любил ее.
Думаю, у него были романы на стороне. Не могло не быть. Папа был красивым мужчиной, умным, с бархатно-вальяжным голосом и неплохой фигурой. Я не могу судить его за это.
Помню, мы гуляли по паркам, а чужие тетки смотрели на него таким взглядом… А я шла рядом и гордо сжимала его руку. Пусть завидуют, он только мой.
А мать брюзжала. И чем больше отец приносил домой, тем быстрее росли запросы. Мы хотели просто вместе съездить покататься на лошадях, но ей было не до этого, ведь она строила планы на будущее. Новая машина, шубы, курорты. Элитная школа для меня, сапоги какие-то…
Ее корысть не знала пределов. Отец отложил дома деньги на «ремонт» зубов, но она разворотила заначку и купила себе французский парфюм. Как-то раз, когда он, приехав с каких-то чертовых выселок, подхватил воспаление легких, она заняла ему деньги на лекарства… и при первом удобном случае отобрала их назад. Помню, как он ржал и плакал. Я не могла понять почему.
И весь этот ад усугублялся горой обстоятельств. Незамужней соседкой без перспектив к размножению, которая прописалась у нас на кухне наравне с сахарницей и геранью. Крайне православной семьей матери, в которой все были верующими в любовь и милость Божью, но чуть не поубивали друг друга на кладбище из-за наследства. Бабкой со стороны матери, бабой Мариной, которая не отличалась ни умом, ни добротой, и вся ее фантазия уходила на поливание грязью моего отца и выдачу мне пульта от телевизора, когда я уже просто доставала ее. Детей она, как и моя мать, не переваривала на дух.
И однажды мать не сдержала свою волну. Грязь прорвало – она текла со стен, из отдушин, из-под плинтусов. Она заменила воздух. Она просто чувствовалась на вкус.
И он ушел. Просто собрал вещи и ушел. Первый раз сам. Молча.
Я крикнула ей: «Мама, попроси прощения, пусть он останется!» Но в ответ только: «На хер его. Перед таким говном я еще не извинялась. Чтоб он сдох!»
И снова попойки. Ложь про то, что она задержалась у подруги. Какие-то нравоучения о превосходстве надо всеми. Крики. Эта соседка, согласная с матерью во всем… И серые будни… И суббота, когда я видела его. Он постарел. Осунулся. Старался, конечно, держаться. И даже время от времени бросал курить. Все выходные с ним были для меня событием. Он ни разу не повторился… И всегда рассказывал мне что-то еще новее… Никогда не говорил о ней. Хотя все еще любил…
Когда мне было тринадцать, он переехал в другой город. Там у него потихоньку наладилась жизнь… Он успокоился, но потом еще восемь лет кряду звонил мне каждый божий день, и мы могли трепаться обо всем. Я даже приезжала к нему на целый месяц. А он водил меня в театры, покупал сладости. И именно он научил меня лепить пельмени.
…Я училась на четвертом курсе, когда мне позвонили с его работы… Сказали сердце. Сказали ночью. Сказали, что все.
Я не. Я. Это не могло. Как так. Он не мог. И. Нет. Нет. Не он…
Я рванула домой. Мать была на больничном с простудой, и они с бабой Мариной пили на кухне чай, курили и…
И я залетела на кухню как была в сапогах и закричала: «Его больше нет! Слышите вы! Обе! Мой папа умер!»…
Мать уронила чашку, встала… Дала мне пощечину. Сказала, чтобы я вытерла следы и сняла обувь. И ушла в спальню.
А баба Марина… Эта старая сморщенная тетка в дурацкой кофте с цветочком, с пузом навыкат и глазами злой совы выдавила из себя: «Наконец-то Бог его забрал, этого дурака».
Я села на стул. Шарф сполз с плеч и змеей убежал на пол. Молча взяла кружку с чаем, который пила мать, и плеснула ей в лицо.
– Заткнись. Заткнись, ведьма. Заткнись со своим богом. Это вы его убили. Это вы…
Дальше не помню… Я вышвырнула ее из дома, выкинула ей за дверь шубу, сумку, шапку, сапоги… Она запричитала… «Доченька, успокойся, надо съездить, похоронить по человечески. У него ведь там квартира осталась»… А я просто сказала, что никогда больше не скажу ей ни слова. И не сказала больше никогда.
Закрыла дверь. Умылась. Успокоилась немного и пошла к матери.
Та сидела в комнате с открытым ртом, как будто задыхалась… Она посмотрела на меня снизу глазами загнанной под диван кошки. Пыталась что-то сказать, но не могла. Только заглатывала воздух и проседала. Весь ее апломб, весь гонор, вся спесь и жесткость таяли, как айсберг в аду, а в руке был вырванный клок ее волос. А во второй было его письмо. То самое, которое он написал ей в роддом. Когда я родилась… Маленький листок, который пережил все это вместе со мной.
Ему было сорок девять. Он ушел тихо. И я до сих пор терзаю себя за то, что не звонила ему сама, зная, что позвонит он.
Дальше похороны, туман, люди, прощания. Все ненастоящее. Какие-то женщины приходили и молча плакали в углу. Мужики курили на площадке и не спеша рассуждали о нем и о других…
Никакого священника. Отец сам попросил.
И женщина, с которой он жил. Рыженькая, хрупкая, обнимала меня за плечи и непонятно за что все время извинялась… А мать… Она поседела, осунулась, мяла в руках платочек. Как-то неумело, ненужно и поздно. Очень ч асто курила. И что-то бормотала.
Мне кажется, что она тоже все еще любила его, от чего ее предательство было еще более непонятным и лишним. Неумелым, что ли.
А я ходила с телефоном в руке, даже на похоронах.. Я боялась случайно пропустить его звонок.
Но уже пропустила.
И у меня до сих пор этот телефон.
И я до сих пор жду. А он так и не позвонил.
Четвертый день
Вокзал. Оббитые бордюры. Переполненные мусорки. Таксисты, которые смотрят на тебя, как вороны на падаль. Стайка вокзальных потаскух чирикала с патрулем. Какие-то люди с коробками, тюками и детьми. Группа спортсменов с веслами. Байдаро-каноечники. Интересно, как они перевозят лодки?
И запах усталых людей. С детства не переносил толпы, сборища и залы.
Вышел на перрон. Ветерок. Стук молотков по колесам. Закурил.
– Мужик, закурить есть? – спросил какой-то леший в грязной фуфайке.
– Нет. Вон киоск – иди купи.
– А может денег дашь?
– Пошел на хер.
Мужик отошел искать новую жертву.
Одиннадцатый вагон. Третье купе. Два невыспавшихся проводника в шинельках. В вагоне, на удивление, чисто.
Зашел. Метнул сумку на багажную полку. Заправил постель.
С кем, интересно, придется ехать? Все что угодно, только не дети. Дети в купе – это зло. Это хрен уснешь от их криков. А потом нельзя будет даже захрапеть, чтобы их не разбудить… Неприспособленные к транспортировке существа.
А вот и первый попутчик. Мужик лет сорока. Крепкий. Суровый.
– Никита. По работе, – доложился он. В принципе, это все, о чем мы с ним поговорили.
Через минуту он уже был на верхней полке, а через две уснул мертвецким сном.
А вот и остальные подтянулись. Супружеская пара. Лет по пятьдесят. У нее плоское лицо, маленькие поросячьи глаза, приплюснутый нос и губы с морщинками. Злые такие, вечно недовольные губы. Он сухопар. Лицо с желтизной. Очки. И бегающие глазенки. Перебросились парой слов. Я залез наверх. Они запихали свои вещи под полки.
Тонулись. Где-то через полчаса мужчина подсунул мне брошюру.
– Почитайте. Там столько нового! – причем, «столько» было сказано так увесисто, что мне стало не по себе. И не спроста. «Сторожевая Башня» – прочитал я на обложке. Какой идиотизм назвать так религиозный журнал. Лучше сразу «Вертухай». Не споемся.
– А вы уже нашли бога?
– А что же это за бог, если он теряется?
Мужичка слегка покоробило. Но он проглотил. Вместе с женой они развернули нехитрую снедь и принялись быстро крошить челюстями продукты. В купе материализовался зловещий дух чесночной колбасы. Еще через пятнадцать минут мужичок сбегал за чаем, уселся на полку и начал пространно рассуждать, разговаривая как бы с собой, о несправедливости мира, сатане, его роли в истории человечества и его пособниках.
– Жиды захватили все. Где деньги – там еврей. Любой академик – из ихних. Во власти тоже они. Мордехаи и Шацы! А нормальный человек горбаться до скончания дней своих и умирай в забвении…
Судя по татуировкам, горбатился он в основном по хазам, малинам и тюрьмам. Пахарь. Надо будет не выпускать из виду кошель и телефон.
– Вы согласны? – спросил он меня.
– Нет.
– Почему это? – глазенки забегали, ручонки затряслись в предвкушении дискуссии.
– Потому что я еврей, – спокойно ответил я и спустился с полки. – Пойду перекурю.
Я четко слышал за спиной, когда выходил из купе, как он прошипел своей старухе: «Что я тебе говорил? И здесь они». Милые люди.
Прошел в тамбур. Прохладно. Решил сходить в вагон-ресторан. Спонтанно и неожиданно для себя. Я перешел в соседний вагон и двинулся в сторону головы состава.
В наушниках запиливал ситарный риф Paint it Black.
Из купе вывалилась баба лет тридцати пяти. Густые черные волосы, собранные резинкой на макушке, серый свитер, какие-то розовые подштанники. Два зуба золотые. Неухоженные, будто только из холодной воды, руки. Перегородила дорогу.
– Мужчина!
Началось. Пьяное облако позора.
– Да.
– Вы там не шансон слушаете? Ик.
– Нет. «Роллинг Стоунз».
– А что, шансон не нравится?
– Нет. Не нравится. Разрешите пройти.
Остановилась. Собрала растекшиеся по щекам глазенки.
– А если нет, то че? Врежешь мне?
– По обстоятельствам. Дайте пройти.
Бабенку вмиг развернуло. Крикнула:
– Руслан! Тут мужик – того!
Из купе высунулся мужичок в майке и шортах, с заспанным лицом.
– Роза, что ты орешь?
– Представь. Мужика спрашиваю, он шансон любит или нет, а он говорит – нет. Я говорю не пойдешь никуда, а он «Врежу!» Это разве со мной так можно!
Я напрягся. Не люблю такие эпизоды. Но если что – толкну бабу посильнее, может, и сшибет бойца с ног.
– Иди в купе, а то я тебе сейчас врежу. Извини, мужик, сам понимаешь, сорвалась баба.
– Понимаю.
Мужик протянул краба. Пожали и разошлись. А вот и вагон-ресторан.
Занято три столика. За первым, справа от входа, сидели две женщины лет сорока устало-купеческого вида. На столе стояла водка и соленые огурцы с квашеной капустой. Лица красны от солнца и угрюмы. Явно ездили за товаром.
У самой стойки сидели три мужичка и, негромко похохатывая, глотали пивко.
А вот в середине, по правому борту, сидела она. Черное платье с длинным рукавом. Легкий газовый шарфик. Коньяк, кофе, лимон. Лицо светлое, лоб открытый. Облокотившись на стол смотрит в окно.
– Здравствуйте.
– Добрый день.
– Меня зовут Глеб. Я могу к вам присоединиться?
На секунду подняла глаза. Серые. Оценила на лету.
– Скорее всего, да. Но есть два правила: никаких приставаний, ну, кроме, может, легкого флирта, и вы рассказываете мне историю про близкого вам человека.
– Вы психолог?
– Нет. Я сценарии пишу. Для театра. Да присаживайтесь уже. Анна.
– Очень приятно.
– Надеюсь, что тоже смогу сказать эти слова.
– Отлично. А давайте я вас коньяком угощу и шоколадом.
– А давайте просто поделим счет пополам. Так будет вполне справедливо и не вызовет у сторон обид и возражений.
– А давайте.
Ну вот, собственно, и дорожное знакомство.
Анна была легка. Играла словами, переходя от вычурно-аристократического на исключительно простой язык. Весело и негромко смеялась. Время от времени застывала и смотрела в окно.
– Домой едете?
– К маме. А вы?
– Да и я вроде как тоже еду матушку проведать. Или просто от себя еду.
Выпили еще немного. Сидели так, как будто давно друг друга знали, и не было в мире места и времени, кроме этого вагона, у этого окна.
Я рассказывал о своих работах. Друзьях. Собаке.
Она о своих проектах. Учениках. И паре романов с возвышенными личностями, с кратковременным сроком годности.
Отдельное время было выделено на перемывание косточек бывшим.
Взяли еще триста. И лимончик, посыпанный растворимым кофе.
– Попробуйте. Вам понравится. Это меня подруга научила.
Сходили покурить в тамбур. Когда вернулись, она сказала:
– Ну, наверное, сударь, пришло время истории. Пусть она будет не слишком длинной, без морали. Просто одна история одного человека.
– Могу рассказать про деда. И войну.
– Как он там воевал?
– Да нет, наверное. Этих рассказов и так много. Про то, как он пришел домой в сорок шестом. А вернулся в пятьдесят первом.
– Уже интересно. Давайте. Только можно я себе в блокнот буду кое-что записывать?
И полезла в сумку. Достала какую-то тетрадь. Ручку. И очки в тонкой металлической оправе.
ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ АННОЙ
Дед мой на войну ушел из Сибири в двадцать один год. К тому моменту он уже был женат. А жена была на сносях. Но долг есть долг. Деда звали Семен. А бабку Анной.
Ну вот, значит, дед и уехал в вагоне, с сухарями и шматом соленого сала, замотанным в тряпицу. Жену на прощание обнял и уехал.
Воевал, писал письма и пристрастился к табаку. Вернее, к махорке.
Писал он обстоятельно. Как дела, что ел, как товарищи себя чувствуют, как скоро мы немца в нору его загоним. И вдруг пропал. К тому моменту Анна сына родила. Виктором назвали.
В конце апреля на деда пришла похоронка. Схватились за головы. Горя, конечно, немеренно. Опять же вдова сама еще дите, да малой на руках. Прадед мой, Федор Евстифанович, их к себе приютил. Так и продолжили жить да хозяйствовать.
А в июне сорок шестого пришло письмо из-под Краснодара. От Никиты, с которым дед Семен на фронт уходил.
«Так, мол, и так. Понравилось мне на юге – тепло фрукты, и девушка при мне появилась, но дело, мол, не в том. На днях, ага, ездили в воинскую часть от нашей бригады. Крыши делать, что ураганой посшибало. А я на крышу залез, агась, и гляжу, вроде как человек знакомый двор метет. Ну, я, ясно, слез, пошел смотреть, кто таков. А это Семен ваш. Живой, здоровый. Только шрам на голове, уха куска нет, и ничего о себе не помнит. Я и так, и эдак… Ни в какую. Стоит. Моргает. Смотрит, как чужой. Живет при казарме как вольный. Ему койку выдали и паек. А записали Иваном Седым, потому как волосья у него все белые. Так что приезжайте, ждем-с. Можете орехов кедровых захватить, тут с ними напряженно. В смысле, нету». Ну и адрес.
Чуть Анну в чувства привели, Федор ее на свою жинку Агафью оставил, собрал мешок орехов, вещей теплых и рванул. С оказией добрался до части. Нашел сына. Ну, поревел, ясно. Выпили с солдатами. Орехи оставил и домой поехал. Ему еще капитан в дорогу тушенку дал, шинель и сахара кусок, почти в два фунта.
К августу добрались до дома. Вся родня выскочила встречать. Стол худо-бедно собрали. Все к Семену, а он сидит, моргает. Никого не узнает. Даже жинку не признал. Тихо поел. Вышел. Сел на заваленку. Курит.
Ну, в дом его приняли. Он сам от работы не отказывался. И сучкорубил, и лес валил с мужиками, и сено на зиму готовил. А все одно, как чужой. Анна с лица не своя ходит. И мужик есть – и мужа нет. С дитем поиграет, и на заваленку курить. И так по кругу…
А по весне пятьдесят первого пошли мужики в лес. Ну, и Семен с ними. Да в лесу разминулся со своими и на медведя вышел. А тот разбирать фамилии и чины не стал, кинулся на деда, да подмял. Но и дед не слабый. Боролся, кричал, держал медведю пасть, пока свои не подоспели да не завалили зверя.
Бочину он ему подрал. Плечо расцарапал да три ребра сломал. Мужики подскочили, а он лежит и плачет. Не орет от боли, а плачет. Слезы текут, сказать ничего не может.
Ну, подхватили его мужики на брезент. На телегу и в деревню. Домой затащили. Фельдшера вызвали. Тот посмотрел, раны обработал. Бинтом перетянул и уехал. Мне, говорит, тут делать больше нечего. Все зарастет. А пошто плачет, мол, не ведаю.
Положили его, значит, отдельно. А ночью Анна слышит как, он ее Анюткой кличет. Так, как раньше, до войны. Она прибежала, а он руки тянет и ревет. Память к нему через того медведя и вернулась. Считай пять лет с лишним не в себе жил. Анна на пол осела, не поверила такому. А потом сына притащила. Так всю ночь и просидели, ревя.
Ну, а как оклемался собрал Федор всех и стол накрыл. Мол, вот, теперь то мой сын и вернулся. А дед потом еще пятерых девок да троих пацанов с Анной народили. А на медведя дед более не ходил. В благодарность, что ли. Такая вот история.
– Вы сейчас заплачете. Не стоит. Все хорошо. И все до сих пор живы.
Улыбнулась. Выдохнула. Тетрадь в сумку засунула.
Посидели еще немного. Официантка, настойчиво зевая, принесла счет. Вечер закрылся. Я проводил Анну до купе, вернулся к себе. Поезд прибывал рано, а надо было еще все-таки и поспать…
Проводник ногой постучал в дверь.
– Сдаем белье, граждане.
Открыл глаза. Шею надуло от окна. За окном степь и утренний сырой холод. Не спеша слез с полки. Сходил. Умылся.
Вспомнился вчерашний вечер. Почему-то улыбнулся…
К поезду лениво подполз перрон провинциального, ампирски-сталинского вокзала. Дверь открылась. Я вышел на перрон. Осмотрелся. Вроде дома. Вернее на родине. Тот же мост через рельсы. То же тяжелое здание с громадными окнами и шпилем. Та же мраморная доска с отколотым углом и надписью «Отсюда в июне 1941»… И очень чисто. И таксисты тихие. Почти воспитанные.
Легкое похлопывание по плечу заставило обернуться. Это была Анна. Видно, что невыспавшаяся. Волосы волнистыми с позолотой прядями торчали во все стороны.
– Глеб. Я понимаю, что со стороны… В общем, вот мой телефон в Москве.
Протянула карточку.
– Если вдруг будете рядом, позвоните. Мне тоже порой хочется найти постоянного случайного попутчика. Да и сами понимаете…
– Понимаю, – сказал я.
– Вот и славно. Берегите себя. И удачи. – чмокнула в щеку. – И до встречи.
Отошла метра на два. Проводник замахал ей, зазывая в вагон.
– Ты же выкинешь визитку сейчас?
– Нет. Я подожду, пока ты уедешь.
Улыбнулась.
– Ты все понял. Спасибо.
– Спасибо тебе.
И все.
Села в вагон. Поезд незамедлительно тронулся дальше.
Пятый день
Я пошел через вокзал на стоянку, где меня ждала синяя «ауди» с битым крылом и разговорчивым таксистом. День только начинал хозяйничать, и город еще не полностью проснулся.
Подъехали к дому, где я вырос. Нашел на дне рюкзака ключи и шагнул в подъезд. Сразу узнал запах свежевымытых бетонных полов. Тихо и не торопясь поднялся на последний этаж. Так же тихо открыл замок. Мама уже стояла в коридоре.
– Здравствуй, мама.
– Сыночка приехал, – кинулась, обняла. Заплакала.
Останавливать не стал. Ей так легче. Да и мне тоже.
– Как доехал? Похудел. Я котлет нажарила. Сметана свежая. Чай заварила… Представляешь, пошла заваривать, оказывается заварка кончилась. Я оделась, в магазин сбегала… Да что это я… – замерла на секунду, улыбнулась. – Ставь сумку и марш за стол.
– Мама, дай хоть руки с дороги помыть.
– Дам. И полотенце чистое дам.
Дом. Дом. Дом. Город этот не то что не люблю – близко не подпускаю. Стороной в себе обхожу. Все здесь с детства чужое. Хотя есть что вспомнить. Есть на что порадоваться. Есть друзья, люди из теплого прошлого.
Серые с оголенной арматурой бордюры у дорог. И пробок нет. И тишина какая-то ощутимая на вкус. Здесь всегда ветер. Всегда много воздуха. Здесь прошлое. Та, самая первая, неправильная и, может быть к счастью, непоправимая любовь. И серость слоями. И безумно сквозящие, кажущиеся бесконечными, зимы.
И все это целостное. Все завязано. Все собрано в идеальную мозаику. Но уже не мое. Все, что связывает меня сейчас с этой точкой на карте – мама. Старенькая, суетная и маленькая. И я знаю, что отсюда она не хочет уезжать. А может быть, уже просто не может.
– Ты идешь? Что-то долго. Уже остыло все.
– Сейчас. Только руки вытру.
Зал, окна, занавесочки. Видавший виды телевизор. Какие-то керамические крестьяне на полке. Моя детская фотография. Сотовый телефон с приклеенным сзади на скотч номером. Стол с лампой и вечерней газетой. Очки. Калькулятор.
– Садись. Ешь. Рассказывай.
– Все сразу?
– А чего тянуть. Знаю, сейчас поешь, отдохнешь немного, и к друзьям. И ищи тебя до утра с фонарями. А так хоть что-то да расскажешь. Сметану ешь давай.
– Ну, как бы все в порядке. Работаю. Зарабатываю. Мало пью. Курю, правда, много. С Андрюхой часто видимся. Перед отъездом Серегин дээр справили…
– Чего справили?
– День рождения. Сокращенно.
– А… Все вы сокращаете. Будто боитесь, что вам потом букв на что-то не хватит.
– Мам…
– Ладно. Не бубни. Девушку никакую не заприметил, а?
– Опять двадцать пять! – хлопнул ладонью по колену.
– Ну что ты беленишься. Понимать должен. Живешь один. Уже пора бы обзавестись домом. Внуков мне подарить. Глядишь, чаще бы приезжала. Время-то идет. Да и что было, все в прошлом. Всю жизнь будешь бобылем маяться?
– Спасибо за завтрак. Пойду покурю.
– Сыночка, ну что ты сразу взрываешься-то! Ну сколько уже прошло…
Замял сигарету. Достал из пачки другую.
– Мам, ты не обижайся. Но мне еще тяжко. Она пишет изредка. А я потом… Не все так просто.
– А если не читать?
– Думаешь, смогу?
– Нет конечно, – присела на край стула, смела крошки в руку, вздохнула. – Игорь звонил, спрашивал, когда приедешь. У него, кстати, уже двое. И… Надя заходила пару раз. Чай пили. Она сейчас завотделением. Тоже спрашивала, как твои дела. Просила зайти, если сможешь.
– Хорошо, мам. Давай попозже поговорим. Помыться хочу, а потом покемарить пару часиков.
– Да и то верно. А…
– А плиту мы тебе утром купим. И поставим.
– И пирогов с рыбой напечем.
– Точно. Как в детстве. Чтоб лук хрустел.
Проснулся уже в обед. На столе лепешки. Чайник горячий. К холодильнику магнитом прихвачена записка «Пошла на почту. На обратном пути загляну к т. Нине», и подпись «Мама». Зачем-то снял записку, сложил и спрятал в карман рубашки. Как оберег, что ли.
Созвонился с Игорем, бывшим соседом. В школе мы учились в параллельных классах. И не то чтобы были дружны, скорее, просто с уважением относились к друг другу. Пару раз во время командировок он останавливался у меня. Рассказывал о работе, показывал фотографии детей. Каждый раз, когда я приезжал в город, встречались. Пропускали в «Архитекторах» по паре-тройке пива. Вспоминали прошлые годы. Вернее, он вспоминал, рассказывая, кто из кого вырос, а я ненавязчиво изображал понимание, одновременно пытаясь вспомнить, о ком идет речь. Лица и события затирались. Но мне всегда было приятно общаться с Игорем. То ли из-за его провинциального оптимизма, то ли потому что он был единственным, с кем я хотел бы выпить в этом городе.
– Привет. Это Глеб.
– О, дорогой! С приездом! Ты надолго? Как добрался?
– Добрался нормально. Ненадолго. Есть сегодня время? Может, по-нашему, по-стариковски…
– Да не вопрос! Давай в семь. Я домой заскочу, переоденусь и на пятак.
– Договорились. На связи. А я пока прогуляюсь по великим проспектам родины.
– Во, точно. В парк сходи. Там открыли фонтан с каскадом и подсветкой. Правда, подсветка не вся уже работает, но это…
– Хорошо. Так и сделаю. До вечера.
Естественно, никуда не пошел. Вынес мусор. Прошелся до ближайшего киоска, и снова домой. Только в нем я чувствовал остатки детства и защищенность от серости. Присел в кресло и закемарил.
Разбудил звонок в дверь. Мама. Глаза радостные. Наверное, свитер купила.
– Я тебе свитер купила.
С горлом.
– С горлом, как ты всегда носишь.
Вязка крупная.
– Крупной вязки. Темно– синий. Почти без рисунка.
Подошел. Обнял. Прижалась, как маленькая девочка. Опять плачет.
– Ну, что ты, ей богу…
– Да ничего. Щас пройдет. Ты это… померь. А я пока перекусить сделаю.
Одел. Впору. У меня таких уже шесть. Защемило в груди.
– Идет? Нравится? Отлично. Пойдем перекусим.
– И обмоем?
– А давай! Грамм по пятьдесят.
Достает бутылочку коньяка из хрушевского холодильника под окном. Наливает в тонкие, похожие на растянутые наперстки рюмочки. Чокаемся. Выпиваем.
– Вырос, – смотрит на меня грустно. – Как же ты вырос. И седой уже весь. И приезжаешь редко.
– Да. Все да.
– Ладно, не сиди. Знаю, что с Игорем уже договорились. Ольгу его видела. Одевайся теплее и вперед. Будешь задерживаться – позвони.
– Хорошо. А я прямо в этом свитере и пойду.
Игорь уже ждал. Заказал пол-литру белой и русскую закуску. Видно, что рад. Обнялись. Разговор сто раз уже переписанный в голове. «Машину продал, скоро за новой. Ольга ушла на новую работу. Младшая болеет. Отопление поздно дали». И так далее…
Под конец посиделки спросил:
– Ты счастлив? Доволен, как ты живешь?
Задумался.
– Я? Ну, как тебе сказать… дети растут. С Ольгой практически не ругаемся. Прошли те времена. Зарплату на заводе подняли… А я как бы и не ищу от этого лучшего. Доволен ли? Так скажу – у меня все в порядке. И это дорогого стоит.
На том и порешили.
На обратном пути подошли к Надиному дому. В ее маленьком окне на кухне горела лампа, под зеленым абажуром.
– Ты к ней зайдешь?
– Наверное, да. Загляну. Поздороваюсь.
– Ну, тогда давай, до встречи.
И разошлись.
В ближайшем магазинчике прикупил бутылку коньяка. И шоколад. У подъезда покурил.
Дойдя до двери на четвертом этаже, постоял, боясь нажимать на звонок. И даже порывался уйти. Внезапно хлопнула входная дверь подъезда, и я, повинуясь какому-то странному рефлексу, нажал на кнопку.
Соловьиная трель за деревом напомнила милицейский свисток.
Замок щелкнул. Дверь приоткрылась.
– Глеб?
– Да. Это я.
– Зайдешь?
– Нет. Ну что ты. Я пришел просто нажать на звонок и убежать.
– Ты не меняешься. Проходи. Я рада. Только у меня бардак…
Очень маленький коридор, в котором единовременно мог находиться только один человек, узкий проход на маленькую кухню, две небольшие комнаты и ванна. Я стянул ботинки и шагнул вперед.
– Кушать хочешь?
– Нет, спасибо. Я ненадолго. Поговорить. Узнать, как дела. И выпить.
– Пойдем на кухню. Там тепло.
НАДЯ
Первые серьезные отношения. Знакомство еще со школы. Ухаживания и умиление со стороны сограждан. Планы на будущее и прогулки под Луной. Никакого экшена – одна сплошная романтика. Квартира, доставшаяся от бабушки, стала нашим приютом. Мы часами смотрели друг другу в глаза. Потом столько же на звезды. Ее мать была ко мне до неприличия благосклонна. Все пророчили скоропостижную свадьбу. Дети подразумевались по умолчанию.
Высшее образование убило романтику.
Надя поступила в медицинский в нашем городке. Я поехал учиться в столицу.
Первый месяц мы звонили друг другу практически каждый день. Потом все реже. Потом у меня завелась девушка. Потом другая. На втором курсе института Надя внезапно приехала ко мне на неделю в гости, и мы славно провели время во взаимных признаниях в любви и плотских утехах. А через два месяца она выскочила замуж за местного газетного магната, но что-то там сразу не срослось, и к окончанию института она уже была сформировавшейся свободной женщиной-врачем со всеми атрибутами, соответствующими данному типу сограждан.
Я приезжал в город, мы созванивались, вместе пили, вспоминали прошлое. И даже пару раз занимались сексом. Каждый раз по окончании этих встреч у нас происходил забавнейший диалог под копирку.
– Слушай, Глеб, может вернешься? Я помогу тебе устроиться на работу. Я скоро стану главврачом.
– Надя, не пори чушь. Ты знаешь, что я свалил из этого города, чтобы максимум приезжать сюда в гости. Но жить я здесь не собираюсь. Если ты так хочешь, бросай все и приезжай ко мне.
– Глеб, это несерьезно. Кем я там буду? Рядовым участковым в поликлинике? Неинтересно. А здесь я скоро стану главврачом.
– Надя, не неси чушь.
– На посошок?
– Наливай.
Так это все и происходило. Эдакая старая шкатулка, которую достают раз в год, протирают пыль, перекладывают письма и засохшую розу. А потом год не вспоминают. Но знают, что она есть.
– Как у тебя дела?
– Да нормально. Работаю. Живу. Дышу. Ты как? Стала главврачом?
– Ага. Почти. Что у тебя нового в жизни?
Тут начинается традиционный обмен историями. Обычно их три. После чего я либо иду домой, либо в постель с Надеждой.
– Останешься?
– А надо?
– Ну, я бы была не против.
– А я…
Вдруг свело шею. Потом будто под лопатку кто-то ударил. Возможно, ботинком. Почему-то в голове проскочило «умер на кухонном столе главврача». Или еще того хуже: «скончался, будучи в главвраче». Но тут же и отпустило.
– Ты знаешь. Не сегодня. Не обижайся. Устал с дороги. Да и матери обещал вечером помочь.
– Врешь ведь.
– Конечно, вру. Но, согласись, крайне правдоподобно.
– Ладно. Иди уже, Ромео Мценского уезда, – взяла паузу, потом спросила негромко: – Ты сколько еще будешь?
– Дня два, наверное. Не дольше. Сама понимаешь – работа.
Коньяк покинул бутылку. Немного клонило в сон. Я прошел в коридор и натянул ботинки.
Надюха прижалась, сжала руками мне щеки и быстро чмокнула в губы.
– Как-то ты выглядишь не очень. Постарайся себя поберечь. Это я тебе как почти главврач говорю.
Я икнул. Обнял ее на прощание и вышел.
Улица встретила меня ветром и запахом паленых шин. Поймал машину и рванул домой. Завтра еще много дел. Например выспаться.
Два дня пролетели быстро. Вернее, даже обыденно-моментно. Купили плиту. Поставили. Как и планировали, испекли пирог с рыбой. Само собой, обновку немного обмыли. Вечером только присел посмотреть, что же еще такого запихали в говноящик, – уснул. С утра сходил в баню, где от души разогрелся. И на обратном пути даже позволил себе разговеться кружкой пивка. И снова уснул. Странно, но дома у матери засыпаю моментально в любом месте. Хоть в прихожей. Хоть на балконе. А у себя – ни в какую. Ворочаюсь.
Поезд уходил вечером. Закинул вещи в рюкзак и пошел на кухню. Наливать чай из старого пузатого чайника с ромашкой на борту в темно-синюю кружку. На ней был знак зодиака, Дева. Что было непонятно, так как я родился в июле, а мать в декабре.
Пришла мама. Села рядом. Опять немного всплакнула. Даже не по себе стало.
– Ты там хоть… звони чаще. Я же одна тут совсем. А ты позвонишь, и мне легче и спокойнее. И есть что подругам рассказать. У Зины вон сын каждый день звонит, не в пример тебе.
– Хорошо, мам. Мне уже ехать скоро. Вещи я собрал.
– Свитер уложил?
– Да. Конечно. Ты тут смотри… Береги себя.
Замолчали.
За окном просигналило такси. Вышли в коридор. Мать незаметно сунула мне купюру в карман. Как в школу на обед. Улыбнулся.
Присели. Молчали секунд тридцать.
– Прощай, мам.
– Будь осторожнее.
Поцеловал. Вышел. Почувствовал, как она украдкой перекрестила мне спину вслед.
До поезда было еще полтора часа. Я заскочил в супермаркет и взял небольшую бутылку виски.
Душа обдиралась в кровь голыми ветвями деревьев. Мгновенно пришло понимание страшного и необратимого. Скоро она уйдет. Уйдет тихо, не причиняя беспокойств. Так же, как и жила. С добротой и всепрощением. И пропадет последняя зацепка за этот город. И смысла тащиться ночью на поезде с пьяными сектантами и прочей мазотой не будет. Кроме пустого дома, где все будет жить ею. Но ложно. Не по-настоящему. Без нее.
Откупорил бутылку. Вздрогнул. Выпил из горла не меньше половины.
Не спеша дошел до вокзала. В дорогу купил две самсы и бутылку минералки. Зайдя в купе, нервно метнул рюкзак наверх. Выпил остаток так, будто это последний виски на планете. Закусил самсой. Выкурил сигаретку в тамбуре. Умылся. Ни с кем не разговаривая, залез на верхнюю, повернулся на бок и моментально уснул. До самого возвращения.
Шестой день
Вернулся домой. Состояние… Ну… Это когда ты вчера вечером с товарищами пересекаешься. Пьешь ведерными нормами. Разговариваешь ни о чем. Дико куришь. Руки уже жирные от селедки. И потом домой, пачкая куртку известью. И пустая комната. И еле успеваешь снять ботинки. И валишься на неубранную с утра кровать. В рубашке и одном носке. И последняя мысль: «Блевать надо только в унитаз…»
А утром происходит нечто, не поддающееся всем законам мироздания. Голова не болит ни разу. Ну, может легкое обезвоживание. Но в целом – бодрячком. Мысль чиста. Все суетное отошло на второй план. Есть четкое понимание того, что в принципе все идет верно. И встаешь спокойно. И даже без усилий умываешься и идешь гулять по городу. Просто так. Потому что это хорошо. То есть без причины.
И на этом самом утреннем прохладном перроне стоял именно с таким чувством, будто какой-то незримый священник вычистил мою чашку сомнений. Подмел все. А на образовавшейся поверхности от всей души впечатал штамп «Отпущено!»
Покурив и от души послав подальше пару грузчиков с их телегами, не спеша побрел к стоянке такси…
Телефон завибрировал в куртке. Сообщение. Номер телефона и приписка «Это Варвара. Предохраняйся и не кури в постели». Андрей был неумолимо последовательным. Отписал ему: «Спасибо, идиот!»
Несколько раз порывался позвонить Варваре и сказать, что нам надо увидеться. Один раз дождался, когда из– за гудков выскочило мягкое «Да». И сбросил.
Прошло почти три недели с момента возвращения. Работа перекрывала все щели для тоски. Даже заметил, что почти стал меньше курить.
В четыре часа утра пришла эсэмэска. Дико разозлился на себя, что не отключил на ночь телефон. Домой приехал заполночь. А завтра в восемь уже надо… «Вера тебя ждет. Я в дороге. Михаил». Долго склеивал в мозгу. Вдруг прострелило. Попробовал перезвонить – вне зоны. Набрал домашний отца Андрюхи.
– Вера.
– Кто это? Глеб? Ты?
– Да. Пришла СМС. Странная какая-то. Что произошло?
– Андрея нет.
Не понял.
– Как нет? Найти не можете?
В телефоне тишина. Потом вздох. Как обратная тяга.
– Нет. Его просто больше нет. Он погиб. Авария на трассе. Миша за границей. В Хельсинки. Сейчас летит сюда. Приезжай, – пустота встряла в разговор. – Пожалуйста.
– Конечно. Я еду. Держитесь там, – глупо приклеил я.
Отзвонился Сереге. Он обещал быть в течение часа.
…Такси везло меня на другой конец города. Сидел прибитый. Затылок вымерзал изнутри. Кровь в глазах. Пальцы сжимают телефон. Почти до хруста.
Но это просто невозможно. Мы же с ним вот неделю назад… И вообще, так не может быть.
Рявкнул на водилу, чтобы он вырубил свой сраный шансон. В тишине подъехали к дому. Серега уже стоял перед воротами. Я расплатился и вышел.
– Привет
– Привет. Ты еще не заходил?
– Нет. Я боюсь. Ну, это… Тебя ждал.
– Ладно, проехали. Ты знаешь, как это произошло?
– Нет.
Открыли калитку. Собаки были закрыты. Во дворе стояли– курили пара мужиков. Поздоровались. Краем глаза зацепил баскетбольный щит на стене гаража. Здесь мы летом с Андреем не один раз…
Массивная дверь. Приоткрыта. Зашли. Вытерли обувь. А дальше – ни шагу.
Вышла Вера Алексеевна. В черных штанах, кофте и косынка черная. Подошла. Обняла. Провела в комнату. Какая-то женщина поставила нам стаканы с чаем.
– Спасибо, что приехали. Пейте чай. Дома прохладно. И…
Остановилась. Вздохнула. Долго не выдыхала. Как перед выстрелом.
– Все так некстати. И… что же я говорю. Тут, в общем, дело такое. Сугубо личное. Миша попросил, чтобы вы забрали тело и привезли сюда. Вот деньги на расходы. Если возникнут проблемы – звоните.
– Вер Лексевна, не волнуйтесь. Все сделаем. С какого морга забирать?
– Не с морга. Из аэропорта.
– Как? Почему? Вы же сказали автокатастрофа…
Заревела тихо в платок, уже и так весь мокрый.
– Мальчики мои. Бедные вы мои мальчики… Вы не в курсе…
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Андрей, как всегда, днем был в «Матрешке». Раздался звонок.
– Андрей Сергеевич?
– Да, я. А это кто? – номер был какой-то странный.
– Это вас из посольства в Италии беспокоят.
– Это кто так, Руслан шутит?
– Андрей Сергеевич, это не шутка. Ирина ваша супруга?
Пауза. Сердце сжалось. Виски застучали. Выдавил:
– Бывшая.
– Ну, у нас нет сведений о том, что вы официально в разводе. При постановке на консульский учет она указала вас как ближайшего родственника.
– Так в чем, собственно, дело?
Трубка осеклась и снова заговорила.
– Четыре дня назад она была обнаружена мертвой на съемной квартире в Риме. Передозировка.
– Как? Вы что там?
Андрей побелел. Сел на диван. В ушах звон.
– Мы смогли уладить все формальности с итальянской стороной очень быстро. Тело мы планируем завтра переслать на родину. Я понимаю, что это бывшая супруга… Но вы сможете забрать тело?
Андрей не мог ничего ответить. Язык прикипел к высохшему нёбу.
– Угу. Во сколько?
– Рейс прибудет в двадцать два тридцать. Возьмите с собой документы. И катафалк. Все разрешительные бумаги прибудут с грузом, – трубка кашлянула – И соболезнуем.
На той стороне прервалась связь.
Первым полетел в стену телефон. Затем Андрей начал крошить мебель. Швырнул стул в барную стойку. Охрана еле успела его скрутить, пока он не разнес все в щепки. Он прошел к себе в кабинет. Потребовал большую бутылку «Ред Лейбла». И не вы ходил до шести часов вечера следующего дня. Взгляд стал неживым… Выжженным.
Не спеша прошел через зал. Забрался в машину. Еще почти час просто сидел в ней и молча плакал. После чего вжал педаль в пол и поехал встречать «Ирочку».
Ночь. Скользкая трасса. Свет в глаза от встречной фуры. Машина ушла в кювет. Перевернулась. Дважды. Андрей не был пристегнут. Перелом основания черепа. Мгновенная смерть…
– Об Андрюше мы узнали только около часа. Миша решил, что мы их проводим вместе. Андрей сейчас в морге. К обеду… Смешно даже – «к обеду»… Заберем его домой. А вы… вы сможете привезти сюда тело Ирины? Вот.
Я сидел, не принимая нереальности всей этой адской феерии. Это не могло случиться именно так.
– Конечно.
Серега молча кивнул головой.
Я сгреб со стола деньги. Засунул в карман. Вера Алексеевна вызвала катафалк. Мы сели в машину к Сереге и двинули в порт. Говорить было незачем.
– Нам нужно проверить груз, – сказал погранец.
– Зачем. Вот объясни мне – зачем?
– Да не волнуйтесь вы. Я понимаю, что у вас горе. Но порядок такой. Мы постараемся быстро.
– Быстро это сколько?
– Ну, полчаса от силы.
Закурили. Серега неестественно вытянулся. Глаза стали взрослыми.
– Слушай, капитан, мы девочку домой везем. К мужу. Давай ускоримся.
Я сунул комок купюр в руку военному.
Тот постоял. Посмотрел на нас. Потом вернул деньги.
– Дураки вы. Оба. Через десять минут со стороны СВХ подъезжайте.
…На обратном пути разговаривать тоже было не о чем.
Мы приехали быстро. Занесли гроб. Опустили на поставленные в зале табуретки. Иринина тетка, единственная ее родственница, рухнула на пол. Женщины ее отвели в спальню. Долго не решались открыть гроб.
Деньги я вернул Вере Алексеевне. Они просто выдавливались из меня.
Примерно через час подъехал Андрюхин отец. Он поздоровался и прошел к себе в кабинет. Вера Лексевна позвала меня к нему.
– Вот такие дела, Глеб. Как я ни старался, не смог его спасти от…
Сильный человек с осунувшимся лицом сидел на стуле. В нем не было ничего живого. Похож на старый саксаул. Видно, что он плакал всю дорогу до дома. Галстук набок. Руки трясутся.
– Здесь никто ничего не мог сделать. Он и не сказал никому. Да и вы знаете, что она для него…
Он поднял взгляд.
– Мы решили похоронить их вместе. Рядом. Вот… Это все может… Ну, я думаю, он бы этого хотел.
Несказанное «если бы был жив» остановило время.
Михаил замолчал. Стягивая с шеи галстук пробормотал:
– Как ты считаешь, я правильно поступаю, а?
– Думаю, да. И да – он бы этого хотел. Теперь надо все сделать так, чтобы нам потом не было стыдно перед ними. Обоими.
Он замер.
– Спасибо, Глеб. Иди, пожалуй, в зал. Я приведу себя в порядок и скоро выйду.
– Хорошо.
Привезли Андрея. И все, к моему ужасу, встало на свои места.
Заносят Андрея. Ставят рядом с Ириной. На таком расстоянии, что кажется, сейчас они протянут руки и встретятся кончиками пальцев.
Даже мужики ревели в себя, отворачиваясь к стене.
Улица. Еще раз прощание. И крик «За что?» в пустоту неба.
Дорога на кладбище. Страшный, дикий, беспрекословный звук. Гвозди. Черт бы побрал эти проклятые гвозди.
И дробь. Первая горсть земли падает на крышку. Как горох на дно кастрюли.
Холмы. Кресты.
Спи, Ромео. С возвращением, Джульетта.
Старая страшная сказка.
Поминки прошли стандартно. Люди сидели с темными лицами. Молчали. Пили. Подходили. Говорили слова. Не для родных – для себя говорили. Я проводил отца Андрея до его дома.
– Глеб. Спасибо. Понимаю, что не те слова, но спасибо.
– Не надо.
– Тебе, может быть, чем-то помочь? Деньги у тебя есть? Ты говори, я дам. Там вещи Андрея, может оттуда что-нибудь? Возьми. Пожалуйста.
Я не знал, что делать. Впервые старуха с косой подлетела ко мне так близко.
Я замолчал. И вдруг сказал.
– Я хотел бы взять диски с музыкой. У Андрея хорошая коллекция.
Отец сел в кресло. Мне даже на мгновение показалось, что он улыбнулся.
– Когда я привез его сюда, первое что мы сделали, пошли в магазин. И он там купил свои первые диски. Иногда он не ложился спать всю ночь. Слушал их. А когда я его за это отругал, ложился в наушниках.
Он поднял глаза.
– Как же будет дальше?
– Будем жить. Примем то, что произошло. Будем вспоминать, каким он был. Как помогал. И как мы ему помогали. И в этих воспоминаниях он всегда будет живым.
Бред.
– Пойдем, сложим диски. Я хочу помочь.
Мы запихали все диски в Андрюхин рюкзак. Подъехала Вера Алексеевна. Мы попрощались.
– Я буду звонить, – сказал я.
– А если сможешь, то и заезжай.
Не спеша шел к остановке. Идти было совсем немного. Но и груз был тяжел. И курилось много.
Сел в первый попавшийся автобус. Я ехал домой, где меня никто не ждал. С дисками друга, которого никогда не увижу.
Все, что от нас остается, – это дети, фотографии и музыка, которую мы любили.
Добрался я ближе к полуночи. Было темно и сыро. Во дворе сидела молодежь. Орала дурные песни. Пила пиво. Да бог с ними.
В квартире холодно. Я поставил рюкзак в центре зала. Почистил зубы. Выпил воды. По спине проскочил холодок. И звон в ушах. И слабость. Такая хитрая и сильная. Не хватало заболеть.
Присел на диван. Подтянул на себя плед крупной вязки.
За окном лилось полупрозрачное молоко.
Беспечный туман захватывал город как подлый и, при этом, нежный враг. Захватывал жестоко и грубо – дом за домом, квартал за кварталом, не щадя ни мусорки, ни памятники, ни автобусные остановки. Появлялся легким паром по земле, а через мгновение бесшумно съедал все вокруг.
Слегка подвыпившие сограждане начинали основательно сомневаться в законах притяжения, а фары машин впивались в дорогу, как глаза сонных гончих в кровавый след. Никто не страдал от этого, просто одиночество от его атаки становилось слишком уж красочным и объемным. Но не в этом проявлялось теплое лукавство тумана, а в тишине.
В абсолютной бесчувственной тишине, в которую можно было спрятать руки и которую нельзя было ни схватить, ни уничтожить. И каждый, кто попадал в эту оккупацию, понимал, что он один, и никого нет рядом, когда ничего рядом-то и нет. А тот, кто был дома, наконец-то замечал, что мир гораздо меньше, и в данную минуту он вполне укладывается в декорацию из голых веток, которые постоянно были рядом, но которые ты не замечал, когда смотрел на дорогу.
И ты точно знаешь, что это пройдет и что от смутного оккупанта не останется и следа к утру, знаешь но… Ты знаешь, что ветки, что тишина, что туманное одиночество это не просто так. Это…
И тихонько провалился в сон.
Седьмой день
Утром проснулся разбитым. Все суставы напоминали на ощупь вату. Во рту пересыхало. Веки работали только вниз. Позвонил на работу.
– Я не приду?
– Что так? – поинтересовался шеф
– Вчера был на кладбище. Простыл.
– Бывает, – ответил шеф. – Пару дней хватит?
– За глаза, – буркнул я.
– Хорошо, – сказал шеф и добавил: – Постарайся много не пить.
– Постараюсь.
Я огляделся. Комната трепыхалась от моего дыхания. Я пошел в ванную. Долго сидел на бортике, ожидая, когда наберется вода. Курить не хотелось.
Погрузил себя в кипяток. Стало легко. Суставы ожили, но ненадолго. Только вылезешь – опять все разваливается и начинает ныть. Когда почувствовал, что штормит – вылез. Закутался в махровый халат. Заскочил на кухню. Навернул две таблетки аспирина и полстакана вискаря. Подумалось: «Надежда была бы очень недовольна». И в постель. Свалился сразу. Уснул еще в полете.
Снилось, что я тону. Потом, что лечу. Потом, что попал в темень несусветную. Но это даже не испугало. Проснулся около шести часов вечера. Или семи.
Тело ломило. Но в целом стало лучше. Просто обезвоживание. Я заварил чаю. Испил его с маминым вареньем. Зацепил в зал бутылку вискаря. И побрел разбирать рюкзак.
Доставал по одному. Смотрел. Выпивал. Откладывал в сторону. Внезапно захотелось сигару. Тут же прошло. Сложил диски стопочками на полу. Что послушать в первую очередь, что во вторую. А что только под настроение. Стало грустно. И пусто.
И вдруг, то ли под влиянием алкоголя и болезни, а, может, по какому-то хромому жребию судьбы, я взял со стола мобильный и набрал Варю.
Пошли гудки. Потом короткий щелчок и…
– Здравствуй.
– Здравствуй, Глеб.
– Откуда ты узнала, что это я?
– Когда Андрей попросил у меня номер, я сказала ему, что не отвечаю на звонки с неизвестных номеров. И он записал мне твой.
Навернуло сразу. Он и тут мне помог.
– Как твои дела? – спросил я глупо.
– Да вроде как нормально. Небольшой приступ панической атаки. Сижу у компа и не понимаю, что хочу найти в сети. У тебя странный голос…
– Я немного простыл. И я хочу тебя снова увидеть.
Совершенно без паузы.
– Я тебя тоже.
Почему-то я побоялся ей сразу сказать про Андрюху.
– Давай завтра, – сказала она. – У Байрона, на Мира?
– Отлично. Только я не обременен деньгами сейчас. Но на пару стаканчиков кофе и трамвай у меня найдется. Ну, и грамм на пятьдесят-сто… максимум.
– Как раз то, что я планировала на завтра. Созвонимся часиков в шесть?
– Заметано.
Как-то странно все это прошло. Слишком легко. Так не бывает.
Да еще эти стопки с дисками.
Где-то читал, что мы не привыкли быть безнаказанно счастливыми и от этого не пускаем к себе счастье в чистом виде. И поэтому нам нужны дополнительные атрибуты. Вроде бесконечного покаяния за прошлое и сомнения в возможности будущего.
Поставил бутылку. Начинало лихорадить. Выпил два стакана воды и срубился в люлю.
Я только положила трубку, как позвонила мать.
Она звонила всегда не вовремя. Ненужно и словно специально мешая.
Как только трубка была снята, из нее начинал течь елей, на поверку оказывающийся подкрашенной желчью.
– Здравствуй.
– Привет, мам.
– Я тебе звонила. Четыре раза. Ты не подходишь к телефону.
– Меня дома не было. Как ты?
– Не начинай уходить от темы. Лучше ответь, почему тебя нет вечером дома.
– Мам, это мое личное дело. Я встречалась с молодым человеком.
– Вот я умру, и будет это твое личное дело. Вы же все умные, все знаете. Все такие самостоятельные. А потом раз – и беременная.
– Мам…
– Что мам? Нашла какого-нибудь романтического нищеброда и кормила его за свой счет? Или это один из тех…
– Кого?
– Сама знаешь, кого!
– Все, хватит. Ты что-то хотела?
– Да. Но теперь это неважно. Если ты способна игнорировать мои звонки, то на большее ты уже не способна. У тебя остались нитки?
– Шерстяные? Да.
– Привези мне их завтра же. Я буду вязать шарф.
– Что-то я не помню, чтобы ты вязала…
– Да ты и обо мне-то нечасто вспоминаешь. Я купила новый крем. Тебе надо попробовать. У тебя плохая кожа.
– Спасибо. У меня все есть.
– Что есть? Ничего у тебя нет. Две пары джинсов, сарафан и футболки. В твоем возрасте у человека, как минимум, должна быть шуба.
– Мне не нужна шуба. Мне хватает того, что есть.
– Вот и будешь всю жизнь со своими сопливыми детьми и мужем-голодранцем…
Я положила трубку. Иногда я физически ощущала желание быть детенышем гиены. Они хотя бы хоть как-то оберегают свое потомство. Я уже молчу про волков.
Я до сих пор не знаю природы этой злобы. Этой мерзкой манеры учить всех жизни и судить людей. Мне ничего от нее не надо, разве что нормального вопроса «Как у тебя дела, дочка?», на который она хотя бы раз дослушает ответ. Мне кажется, что она не помнит, как меня зовут.
Сон ушел. Осталась стена и тяжесть. Я прошла на кухню и закурила. В вентиляции тоскливо выла затерявшаяся вьюга. Город уже спал.
С изумлением осознала, что если бы не мать, а вернее, ее звонок тем утром… Я бы не психанула и не вышла на улицу.
Не спалось. После звонка Глеба в голову лезли разные мысли. И даже в голове начала подбирать гардероб на завтра и выстраивать приветственную речь. И хотела закурить. Но пол был слишком холодным. Не хотелось покидать одеяло.
Почему-то на секунду почудилось, что в воздухе пронеслась какая-то тень, похожая на кленовый лист. Потом в голове начала происходить метаморфоза. Время превратилось в отрывной календарь, в который листочки начали вклеиваться обратно. Поворачивая время вспять. Вплоть до обложки. Последним вышло мужское лицо, уткнувшееся в испуге в зажатую ладонями чайную кружку.
ВАДИМ
После института мне все не удавалось найти работу. То предлагали работать за сумму втрое меньше прожиточного минимума в какой-нибудь Кутынде, то практически с порога начинались недвусмысленные намеки о том, что надо переспать с шефом для получения тепленького места. Что интересно – пару раз шефами были женщины.
Жила я со своей подругой Олесей в старой части города. Квартира, окна которой выходили на свалку на пустыре, принадлежала тетке Олеси, уехавшей в долгосрочную командировку в Чехию. Время от времени к Олесе приезжал ее парень. И мне приходилось до утра слушать, как они кувыркаются в кровати, бегают в ванну и перекусить на кухню. Дом находился на самой окраине города. Железная дорога была не более чем в двухстах метрах. Автобусы ходили с завидной нерегулярностью, а такси стоило как самолет, что в сумме крайне стимулировало поиск работы.
Как-то случайно наткнулась в газете на объявление, что в офис требуется девушка с хорошим знанием русского и английского. Не надеясь по прошлому опыту на успех, выслала резюме. Да и забыла. Перезвонили через неделю. Пришла на собеседование. Через четыре дня вышла на работу.
Коллектив туристического агентства принял хорошо, несмотря на то, что все четыре сотрудника туристической компании были девушками. Да и шеф тоже. Работа размеренная. Авралов практически не было, а денег, которые платила хозяйка, вполне хватало на оплату съемной квартиры и весьма сносное пропитание. Опять же премии. Жизнь налаживалась.
Я нет-нет моталась по ночным клубам. Но чем чаще там бывала, тем меньше хотелось повторять. Алкоголь уже не радовал. Громкая музыка раздражала. Пьяные самцы, пускающие слюни, просто бесили.
На второй год работы мои вечера, за исключением одного дня в месяц, когда мы с коллегами ходили выпить пива и погонять на бильярде, выглядели примерно одинаково. Забежать в магазин, приготовить на скорую руку ужин и завалиться на диване с книжкой. Только изредка звонила мать, раздражая своими истерическими вопросами, за которыми читалась попытка влезть в мою жизнь и устроить ее «не хуже чем у людей». Обычно после таких звонков я, как варвары Рим, опустошала холодильник. Благодаря такому образу жизни у меня очень быстро выросла библиотека и, что скрывать, размер одежды. Особенно моя начитанность была заметна в бедрах. Отношения с мужчинами не складывались по причине моей патологической любви к тишине и автономности.
Я приняла решение ходить в спортзал. И, как это мне самой ни странно, втянулась. Как я поняла по взглядам проходящих мимо мужчин, результаты радовали не только меня. И как-то незаметно в моей жизни появился он.
Звали его Вадимом. Высокий, немного полный, вернее, приятно-пухленький. Длинные волосы, тонкие пальцы, ухоженное лицо. Старше на шесть лет. Работал он преподавателем в художественном колледже. И, естественно, был художником. Мы ходили на выставки. С ним здоровались люди, лица которых я видела на обложках журналов. Он представлял меня. По сравнению с моими сверстниками, круг интересов которых начинался и заканчивался бутылкой пива на лавке во дворе, он был интересен, образован и галантен. Я была счастлива.
Первые свидания, цветы и поцелуи у дверей дома через три месяца вылились в совместное проживание. Очень долго не могла даже поверить, что живу под одной крышей с человеком и не раздражаюсь по этому поводу. И даже наоборот, радуюсь окончанию рабочего дня, чтобы увидеть его. Готовила ужин на двоих. Что нашло отражение в картине, которую он написал и повесил на кухне. Она называлась «Чаепитие». Мне посвятили натюрморт.
Я взяла над ним коммунально-бытовое шефство. Покупала ему рубашки и брюки, которые впоследствии с удовольствием гладила. Он рассказывал мне о своей работе и планах написать серию картин, посвященных осени и старикам. Иногда мы ходили в театр. Но чаще всего – на выставки художников, где он знакомил меня со своими друзьями и называл меня не иначе как «муза». Честно, мне это очень льстило.
Так прошло около года. Я стала замечать, что от него все чаще несет алкоголем. Сначала это был хороший, дорогой и где-то даже благородный запах. Но потом запах стал усиливаться и изрядно дешеветь. Однажды я узнала, что он уже месяц как не работает.
Вечером я посадила его напротив и решила поговорить. В итоге он сказал, что ему не хватает сексуальной энергии.
«Я иду за своей мечтой, написать цикл работ про стариков и осень. Колледж забирает у меня силы. Утром я выхожу в парк и сажусь с этюдником на лавочку. Но понимаю – мне не хватает сексуальной энергии».
Не теряя времени я взялась за работу. Прикупила белья, журналов и дисков с фильмами Тинто Брасса. Я подстерегала его в коридорах в белых кружевных чулках. Устраивала домашний стриптиз. А однажды даже сняла проститутку, и у нас был секс втроем. В успешности своих действий я была уверена безусловно.
Однако, все это привело к странным последствиям. Он осел дома. Много рисовал и курил. Очень много курил. Потом стал попивать. И отказывался работать, объясняя это тем, что вскоре он сядет за холст.
К тому времени как мужчина он меня практически не интересовал. Да и как человек тоже. Мы все реже спали вместе. Все чаще ругались. Он клянчил у меня деньги. Я старалась задержаться на работе.
Однажды вечером после посиделок с коллегами я поймала машину и поехала домой. Что врать – была нетрезва. Водитель предложил поехать с ним. Я согласилась. А потом передумала и вышла из машины. Полчаса не спеша шла домой в каком-то истерическом счастье и приперлась около трех часов ночи. Он спал.
– Меня изнасиловали! – закричала я в коридоре.
Медленно он выполз из спальни, протер глаза и спросил:
– Правда?
– Нет, – ответила я. – Но это не важно.
– Ты пьяна?
– Наоборот. Я уже протрезвела и вдруг поняла, что живу в болоте и стараюсь не вылезти из него, а вытащить все болото на сушу. И это болото – ты. Любимый мой, родной.
– Я тебя не понимаю. Ты пьяная. Кричишь. Несешь бред. Что ты хочешь сказать?
– Ничего, мой мальчик, – и тихо добавила: – ничего такого, что тебя бы удивило. Тебя же вообще ничего не удивляет. Ты безрадостен, как отчет партсъезда. Ты год сидишь на жопе в своей зоне комфорта и даже не пытаешься хоть что-то изменить. Я уже так не могу.
– Может быть, ты поспишь, и мы утром поговорим?
– Точно. Я посплю. А утром мы не поговорим. Ты соберешь все свои эскизы и пойдешь вон.
– Это нечестно…
– Квартира моя. Я ее снимаю. Я за нее плачу. Я покупаю еду и делаю все, чтобы… Ой, ну тебя к лешему. Устала. Завтра с утра чистишь зубы и к маме. И ляг на диване в зале. Если уж у меня нет нормального секса уже полгода, пусть тому будет хотя бы логическое объяснение.
Зашла в спальню. Закрыла дверь. И вырубилась.
Утром, когда я проснулась, в доме было тихо. Он вывез свои вещи, не забыв прихватить натюрморт с кухни. В телефоне появилась СМС «Взял в долг три сотни на такси».
Я улыбнулась и пошла ставить чайник.
Я встретила его через полгода. Он сидел в кафе. Вид у него был очень помятый. Местами даже с заломами. Заметив меня, он моментально опустил глаза, делая вид, что обнаружил в кружке, как минимум, новую галактику. Или редкий вид жуков-короедов. Так и сидел. Ожидая прихода осени и старости…
Восьмой день
Снег под ногами был похож на кашу из песка, крахмала и опилок. Ботинки то и дело проскальзывали на брусчатке. Спина мокрела и было тяжело дышать. И только крепко затянутый шарф, как колодка, позволял хоть как-то держать голову прямо.
Ботинки намокли. Снежная парша липла к подошвам. Идти оставалось около трех кварталов. Пачка сигарет в киоске. Два светофора. И маленькая аллейка через скверик.
Старый бар, в который мы несколько раз заходили с Андрюхой пропустить по стаканчику, был также неприметен, а от того мил. Те же завешанные красными шторами окна. Та же массивная дубовая дверь. Тот же запах дорогого трубочного табака и хвои.
Я сел у столика в углу. У самого большого окна. Отсюда хорошо просматривался вход в паб и было легко привлечь внимание бармена. Взял себе пятьдесят «Якова Данилыча» и ведро льда. Неожиданно хлопьями повалил снег. И стало очень тихо. Даже пара англичан, только что громко доказывавших что-то друг другу, затихла. Снег. Тишина. Тепло.
Серая тень промелькнула возле входа. Я услышал, как кто-то легко сбивает снег с обуви. Потом цокот каблучков по кафелю. И что-то спрашивают у бармена. Она. Точно.
– Глеб.
Черные вязаные перчатки. Серое пальто. Красный шарф закрывает пол-лица. И красная шапка с дурацким бубоном.
– Бубон дурацкий, – сказала она, стягивая шапку. – Но мне эта шапка нравится. И к шарфу подходит, – и, почти без паузы, : – Здравствуй.
Рыжие волосы упали на плечи.
– Я заказала себе кофе. И виски.
Просто сказать.
– Варенька. Андрей погиб.
Застыла. Посмотрела на меня… как будто толкнула взглядом в грудь.
Серое лицо.
– Как так… Мы же с ним… Вот буквально…
Она побелела.
– Ты присядь. Присядь, девочка Варя. А я все тебе расскажу.
И рассказал. Легче мне стало. Варвара сидела отрешенно. Только слезы капали на свитер. А потом пауза и тихий голос.
– Глеб.
– Да.
– Не место, не время, но пока… Я хочу встречаться с тобой. А наверное, даже жить.
– Варенька…
– Я понимаю, что идиотизм и наивность. Но я должна это была сказать. А теперь – прости.
Подскочила. Начала натягивать пальто. Рука все мимо рукава.
– Варенька. Сядь. Пожалуйста.
Присела на край. Пальто накинуто на плечо. Шарф жадно лизал пол.
– Ты мне сделала предложение. И я согласен. И так же как и ты, не могу объяснить, почему. И давай сегодня немного выпьем.
– А может, потом немного пройдемся?
– Да. И чуть– чуть поговорим. Для сугреву.
Снег за окном перестал метаться и укладывался спать. Блюзы лениво летали по пабу, не находя себе места. Разговор оставлял «ножки» на стенках стаканов. За этим столом сидели два человека, которых свела судьба. Ну и тарелка фри. Да ярд виски.
Мы вышли на улицу в тот момент, когда Синатра начал кричать: Let it snow!.
Алкоголь приятно качал планету. Снег шел уже редкий. Неподалеку от паба был тот самый скверик с освещенными фонарями дорожками и длинными, с основами из чугунного литья, лавочками. Самое замечательное – этот сквер был тихим. Ну и еще абсолютно пустым.
Холода не чувствовалось. Варвара держала меня под руку. Сначала шли молча. Молча и покурили. Потом разговор начал потихоньку складываться. Как тетрис, что ли. Возникали кусками детские воспоминания. Случайные встречи. Любимая музыка. Ненужные уже имена одногруппников из детского сада. Потом снова тишина. И было даже непонятно, кто первым произнес слово «бывшие». Возникла пауза.
И плотину прорвало. В кучу смешались все обиды и озлобленности, приятные и милые сердцу моменты. Начался большой пересказ раздражающих глупостей и утонченный треп о том, что хотелось оставить в сердце надолго. И снова провалы в тишину.
Варя сняла перчатку и стряхнула снег с моих волос. Под фонарем. Улыбнулась.
– Варенька… Знаешь… Для меня очень важно. Даже не так. Критично.
– Спрашивай.
– Ты к собакам как относишься? В смысле – ты их любишь? Ну как вот живое существо. Не знаю, как сказать…
Варвара остановилась. Прокричала что-то звонкое в небо и повернулась ко мне.
– Я и детей люблю. Особенно наших, – выдала и осеклась.
Прошли еще метров пятьдесят. Оба молчали. Смотрели под ноги и тяжело дышали. Снег замер на лету.
– Но первый – сын, – сказал я.
Варвара уткнулась мне в грудь и заревела.
Через двадцать минут, проводив ее до дома, сел в такси. Таксист немного с опаской посматривал на пассажира, который ничего не говоря улыбался, прижавшись лбом к боковому стеклу.
Заскочил домой. Хорошо, что забыл выключить обогреватель. Опасно конечно, но как тепло. Бросился на кухню с радостью мыть посуду. Как будто она прямо сейчас зайдет, а у меня посуда немыта. Потом поставил чайник. И курил в форточку. В окне напротив на кухне тоже горел свет. И тоже кто-то курил. Я несмело помахал ему рукой. Тень в окне ответила взаимностью. Это было очень просто и очень по-настоящему.
Докурив, открыл ноутбук. Прочитал последнее письмо от Светланы, полученное сегодня. Ухмыльнулся. Ответил. Впервые. Что-то вроде: «Да иди ты себе с миром, болезная!» Удалил все письма и настроил ящик так, чтобы все письма от нее летели сразу в ад для писем.
Затем открыл черную комнату. Постоял в темноте. И, ухмыльнувшись, пошел отлить воды и почистить зубы. А после этого просто лег спать. Думаю, ангелы видели, как во сне я тихо улыбался…
Вечер с Глебом был очень смешанным. История с Андреем. Сказанные в запале слова. Его реакция. И весь этот разговор в сквере. Понимание того, что ты только что призналась в любви и решила прожить жизнь вместе с человеком, которого ты видишь второй раз в жизни. Но именно он честнее, понятнее и ближе, чем те, кто, обвешивая тебя балластом, прижимал к земле все эти годы.
Голова немного кружилась. Я переоделась в сухое. Выпила стакан чая. Крепкого. Черного. С сахаром. И залезла в постель. Сон не приходил. В голове была каша из снежинок и слез. Стучали виски.
Бипером заверещал телефон. Я протянула руку.
– Да.
– Во-первых, никогда не смей бросать трубку, когда я с тобой разговариваю. Во-вторых…
– Мам. Я устала и просто хочу спать. Давай не сегодня.
– Во-вторых, – нажимая на буквы, зашипела она, – если ты собираешься связаться с очередным уродом, который будет сидеть у тебя на шее, я лично…
Это было уже слишком. Слишком много.
– Послушай теперь меня ты, – заорала я в трубку. – Я буду с этим человеком, не взирая ни на что, потому что это судьба. Потому что это мой выбор. Потому что я хочу от него детей. Потому что он знает, что такое боль, а мне уже невыносимо одиночество под твоим чутким руководством. И в следующий раз, когда ты захочешь позвонить мне и поставить рамки моей жизни, – подойди к зеркалу и посмотри, как ты живешь. Ты счастлива? А я – да. И хватит твоих нравоучений. Ты смогла изуродовать свою жизнь. Уродовать свою я не дам.
– Ты…
– Не говори ничего. Все сказанное тобой – ложь. Я ложусь спать. И позвони мне тогда, когда вспомнишь, как меня зовут, и что я – твоя дочь. Вот теперь – все.
Уснула злая и моментально.
Девятый день
Утром, только я вышел из квартиры, повело. Стены стали жидкими. Из-под лопатки стонала раненая собака. Грудь ввернулась. Ребра рвали плоть. Все стало ясным и простым. Кровь залила уши и шею. Уже не услышал звука, с которым завернутое в пальто тело обрушивается на бетон с высоты роста…
Странное это ощущение – умирать. Вчера еще вроде была весна, пели птицы на рассвете, девушки надевали цветочные наряды, а сегодня кровь в горле и незачем дышать. Сосед уже не достает, а просто плетется испуганной тенью по стене, пачкая известью видавшее Ленина трико. И солнце по ступенькам уже не льется – оно все расплескалось и медленно впитывается в пыльные бетонные ступени, оставляя грязные, ржавые пятна. Но в принципе уже не важно. Глаза закрываются красной кулисой, и смотритель гасит свет. Спектакль, похоже, отменяется.
– Разряд!
– Да обожди ты… Все, Юрка, давай…
– Убирай руки…
Вспышка. Весь как мокрая тряпка выкрутился, выгнулся. Уже все знаешь. Эти спасут. Просто потому, что это их работа и им наплевать на то, кто ты, кем был. С кем был. Зачем был. Их интересует одно…
– В сердце коли! Бля, да не эту иглу.
– Не ори – я уже два года этого не дела.
– Придержи его, вдруг дернется.
– Куда, блин? К архангелам? Он уже там. Коли давай….
Чтобы был. Просто. Что если и ушел – то уж точно не в их дежурство. У них там спирт в каптерке, и шпроты, и картошка с маслом и луком в стеклянной банке. И домино на столике. Под газеткой… А так – загнусь, и пропал весь вечер…
– Есть! Затрепетал… давление пошло… А че с головой у него? Били что-ли?
– Не-а, упал на площадке – об перила ударился. Думаю, это его меньше всего беспокоит. Илюха, я закурю?
– Бля, что за дурацкая привычка спрашивать, когда уже закурил? Я те что, хоть раз нет сказал? А если бы сказал – это что, тебя бы остановило?
– Че ты завелся? Я те что…
– Ладно, не бзди, докуривай и поехали. Нашему товарищу, похоже, срочна нужна хорошая капельница физраствора, тарелка хреновой каши и мягкая клопяная перина.
– О, он глазенки открыл… Ну, че, милок, тоннель видел? Тени? Голоса? Нет? Значит, не ждали тя там. А вот Зинаида Георгиевна ждет и, скорее всего, уже приготовила тебе карточку и анализы. Не будем заставлять ее ждать. Нехорошо это… Все, бросай соску! Михалыч, давай в шестую!
– По депутатски или по человечески?
– Ясен хрен, с мигалками и музыкой. А то вдруг его опять к тоннелям божьим потянет…
Блин, вот ведь залет – так спокойно было. Ничего не болело, просто уходил и ни о чем не волновался, уже сейчас на арфе херувимам гимны бы пел. Нет, эти приехали, вытащили, а теперь везут по городу в колеснице с иерихонской трубой, и все, что я вижу, – это надпись на люке – «запасной выход». Куда, блядь?
Два доктора. Халаты белые, а в руках – чай с чабрецом в кружках.
– Инсульт. С остановкой сердца. И это в тридцать с небольшим. Откуда?
– Милейший, тридцать с небольшим – это самый подлый возраст. В это время можно легко подхватить ветрянку, отягощенную старческим маразмом. Выкарабкался – уже хорошо. Теперь восстановить. Поставить на ноги. И запретить курить. Категорически. Или хотя бы меньше. Все пальцы вон желтые.
– Повешаю картины Босха в палате. Начнет следить за своим образом жизни. И смерти.
– Смешно. А родные где, кстати?
– Невеста вчера приезжала. Плакала в коридоре. Яблоки просила передать.
– И где они?
– Да ночная смена сожрала.
– Ну ясно. Кто в дозоре сегодня?
– Серикова. Пойдем покурим?
– А пойдем.
Захотелось встать и отобрать у них чай. Пить хотелось жутко.
Десятый день
…На третий день уже смог встать. Созвонился с отцом Андрея.
Узнав, что я в больнице, он выяснил адрес и примчался через сорок минут. Долго молча смотрел на меня. А потом обнял и заплакал.
– Ваше предложение о помощи все еще действительно?
– Глеб. Не дури. Говори что надо. Лекарства? Клиника? Операция за границей?
– Да нет. Врачи говорят, через неделю домой. Отсюда и просьба.
– Ну?
– У меня дома есть черная комната. Ну, Андрей вам рассказывал, наверное… Я бы хотел, чтобы она стала белой. Надо ободрать все стены. И пол. И потолок. И все сделать чистым, белым. Но деньгами я в ближайшее…
– Дурак. Ты же теперь мне… Давай ключи. Завтра загоню бригаду. Под моим контролем. Личным. И выздоравливай. Мне пора. Будешь выписываться – позвони.
Когда он ушел, я позвонил Варе.
– Привет.
– Здравствуй. Пообещай, что ты никогда так не будешь делать. Никогда, слышишь?
– Хорошо. Я тебя люблю.
Всхлипы взорвались ревом. Потом стало тихо.
– Варя?
– Я тоже. Вечером приеду.
– Только яблоки не привози. Привези супа куриного. И бритву. Оброс я, как слон. – И легко, на выдохе пришло забытое слово:– Родная.






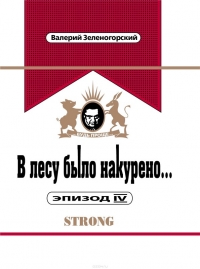





Комментарии к книге «Сорок тысяч», Константин Нагаев
Всего 0 комментариев