Надежда Нелидова 12 Часиков
МИЛЫЙ, МИЛЫЙ СОВКОЛОР
Только что показывали фильм по рассказам Шукшина: тихий, безыскусный, бесхитростный. Американец через пять минут выключит: скучно, не динамично, без спецэффектов. Только русскому человеку сюжет понятен, бесконечно мил и щемит душу. Эти ситцевые и штапельные женские платья в наивный горох и ромашку – их по выкройкам из «Работницы» и «Крестьянки» строчили на машинках наши мамы и бабушки…
…Вы как хотите, а существует рядом с нами параллельный мир, где остановилось застывшими кадрами наше детство. Терпеливо, кротко ждёт, когда коснёмся воспоминаниями того безмятежного времени – и кадры задвигаются и расцветятся, зазвучат родные голоса, захлопают калитки, заскрипят колодцы. Оживут пухлые причудливые облака, солнце польёт лучи, и замелькают штакетины соседского покосившегося забора.
Вот интересно: если бежать, щурясь, вдоль забора, сквозь которое бьёт заходящее солнце – отчего в глазах прыгает полосатый красный огонь? Я, маленькая преступница с мокрыми волосами, в прилипшем сарафане, со всех ног несусь с пруда после запретного купания. Соображаю, как бы проскользнуть в дом, не попавшись на глаза строгим родителям.
Из таких вспыхивающих цветных кадриков состоит детство. И ещё – из запахов. Кожаный запах новеньких сандаликов (шёпот вечного садиковского недруга: «Ой-ой, сандалики ей купили! Хвастуша, воображуля!»)
Рыбий жир лучше вообще не нюхать, а бросить в ложку несколько крупинок соли – ничего, можно проглотить. Новые библиотечные книжки со склеенными пахучими страницами, в которые погружаю нос и не могу надышаться. Волшебный мягкий запах масляной краски от зелёного ведёрка – папа привёз из города.
Папа редко бывает в городе, зато привозит гостинцы в царских, щедрых, мужских объёмах – мама только качает головой. Помню огромный слипшийся ком изюма в липкой серой грубой обёртке. В мутно-прозрачной бумаге – куб благоухающего шоколадного масла, которым я жестоко объелась и после долго не могла на него смотреть.
Однажды привёз большую сумку, раздёрнул «молнию»… Я разочарованно воскликнула:
– Папа, зачем ты купил столько мелкой картошки?! – Потрогала пальцем. – Да они же твёрдые, высохли и все сморщились!
Это были грецкие орехи. Так что я из того поколения, про которое говорят: «Слаще мороженой картошки ничего не ели». А вот и ели: сгущёнку из шестилитровой жестяной банки! Папа пробил в ней гвоздём дыру и нацеживал нам в кружечки густое сладкое лакомство.
Были шоколадки «люкс» с персонажами русских народных сказок. В дни рождений каждый из нас обнаруживал их под подушкой вместе с подарком – как мама ухитрялась каждый раз незаметно подкладывать? Несколько раз за зиму из города привозились мятые зелёные мандарины и яблоки. Разыгрывалась фруктовая лотерея. Кто-нибудь отворачивался, мама или папа высоко поднимали плод: «Кому?» – «Маме!» «Серёжке!» «Вите!» «Мне!» Если попадётся мелкий или с червоточинкой – не обидно. Лотерея же!
У моего сына была не комната, а «Детский Мир» на дому. В результате он обкраден: плохо помнит свои игрушки. У меня из кукол были: Алёнка в жёлтом купальнике, пупс Маша в ванночке, Снегурка и… Всё. Прочие затёртые до белизны, потрескавшиеся резиновые зверюшки служили в играх самыми разными персонажами.
Взбитое, взрыхлённое одеяло превращалось в окопы и блиндажи, старый чугунный чайник – в танк. Из тяжёлых томов «Детской энциклопедии» выкладывались бомбоубежище или афинский акрополь, или египетская пирамида, или доисторическая пещера. Игры, в основном, были продолжением полюбившихся фильмов и книг. Сын Мамонта спешил на помощь танкисту Янеку, а Человек-амфибия уносился от врагов на Чубаром из одноимённого рассказа.
Девочкам кукол заменяли фигурные флакончики из-под духов. Флакончики, то есть голенькие куколки, нужно было одеть. Брался конфетный фантик, складывался пополам, ещё раз пополам, и ещё, и ещё раз. У полученной восьмушки срезался уголок (горловина), закруглялся другой конец (подол), ножницами прорезались дырочки-кружева. Разворачивали – сладко пахнущее платьице готово. Топорщащиеся пёстрые бумажные, шуршащие серебряные и золотые – фольговые, в которых расфуфыренные флакончики важно ходили друг к другу в гости.
Мальчики устраивали гонки с препятствиями на мини-тракторах: у кого мощнее. Для трактора нужна была пустая деревянная катушка из-под ниток, отрезок бельевой резинки, кусочек хозяйственного мыла, палочка. Накручиваешь продетую в катушку палочку – вездеходный трактор готов.
Ещё из катушек хороши были мельницы-радужные брызгалки в весенних ручьях. Ах, могучий грохот ледяных ручьёв, устремляющихся в ложок! Не верится, что мы ещё три недели назад катались здесь на лыжах. Лог залит половодьем, насколько хватает глаз. Холмы просохли и сплошь усеялись пачкающимися жёлтенькими пуговичками.
Прощай, зима с чёрными звёздными морозными утрами, с костюмами, утренниками и катаниями санным поездом! В новогодний вечер папа менял лампочку на голубую, и детская озарялась лунным светом. Таинственно поблёскивали игрушки на ёлке (все, все игрушки наперечёт помню!)
Однажды братья принесли из леса вместе с ёлкой, как в сказке, большого чёрного кота. Нашлись же злые люди, унесли в глухой лес, привязали к дереву. Мы назвали кота Василием. Весной Василий родил котят и стал Василисой.
В начале лета мама привозила из райцентра корзину с невесомым шевелящимся, звонко пищащим, пухлявым жёлтеньким облачком внутри. Цыплята! Забота на все каникулы. Кормили мелко порубленным крутым яйцом и пшённой кашей. Поили розовой марганцовой водичкой – и всё равно два-три нежных птенца умирало у нас на руках.
Устраивались похороны: с укладыванием в обувную коробку, с похоронной процессией, украшением могилки цветами и бутылочными стёклышками.
Остальные цыплята вырастали, становились голенастыми и шустрыми. Попробуй их на ночь или перед грозой загнать в решётчатый крытый загон. А туча на горизонте всё зловещее, чёрно-фиолетовое брюхо волочится по холмам, бухнет на глазах, от раскатистого грома в маленьких сердчишках вспыхивает жуть и восторг.
Интервалы между молнией и громом меньше десяти секунд – значит, мы в эпицентре стихии. Порывы ветра задирают короткие платьишки, в ноги больно впиваются песчинки и мелкие камешки, а несносный последний цыплёнок всё ещё не пойман, притаился в лопухах.
В грозу нам с сестрой нужно непременно надеть платки. У нас длинные волосы, и нас запросто может утянуть на небо, потому что ведь в волосах электричество. Проведите по волосам гребёнкой, потом коснитесь мелко нарезанной бумаги – вон сколько его, электричества. Одну девочку во время грозы вот так за волосы утянуло на небо – только ножки в воздухе мелькнули. Больше её никто никогда не видел. «Что с ней случилось?!» – «Что-что. Задохнулась и превратилась в ледышку!» Скорее бежать в дом за платками!
Пока на улице ливень оглушительно колошматит по железной крыше, самое время забраться на широкую родительскую кровать и рассказывать «аникдоты». Или страшилки.
Значит, одна семья въехала в дом. И мальчик видит, что в спальне по потолку ползёт страшное Жёлтое Пятно. Мальчик испугался и позвал родителей. Они пришли и увидели, что Жёлтое Пятно выросло ещё больше! Тогда они испугались и позвали милиционера. А Жёлтое Пятно уже спускается по стенам! Тогда милиционер взял фонарик и полез на чердак. А там…
Там маленький котёнок сидит и писает!!!
Какая бы погода ни стояла на дворе, какие бы перемены не случались в жизни (подписка на облигации госзайма, 100-летие со дня рождения Ленина, ползучий брежневский дефицит, опустошивший полки магазинов, и даже сборы мамы и папы на Кубань (папа крупно поссорился с директором школы, а на юге требовались учителя и давали благоустроенный домик с фруктовым садом) – мама не изменяла своим кулинарным традициям.
Жидкое тесто заквашивалось с вечера. От него пахло кисло и сладковато, на поверхности лопались пузырьки. Утром мы просыпались от потрескивания дров в русской печи – разумеется, сложенных «колодцем»: четыре вдоль – четыре поперёк, четыре вдоль – и так далее.
Гремела знаменитая чугунная чёрная сковорода. Мама ловко вертела ею перед огнём, насаженной на палку-ухватку, а блинами так вообще жонглировала. Хоп – подброшенный тестяной круг подпрыгивал, переворачивался и смачно шлёпался ровно на место. Блины получались гладкие и белые, только кое-где чернели крапины от стрельнувших угольков.
Книгами о здоровом питании тогда не увлекались, про вред жареного и жирного слыхом не слыхали. Но вот мама пекла настоящие диетические блины – посуху, лишь смазывая сковороду кусочком сала.
Нас встречал накрытый стол. Нет, не так – нас встречал НАКРЫТЫЙ СТОЛ. В центре – блюдо с горкой блинов. Вокруг всё свободное пространство уставлено мелкими блюдечками, тарелочками, мисочками.
Блюдце с густым растопленным подсолённым сливочным маслом, всё в рыхлых белых пенках. Ещё одно – с маслом и распущенными в нём яйцами всмятку – это самая вкуснятина! Блюдечко с мелко порубленными рыжиками и чесноком, заправленными постным маслом – фу, а вот папа это обожает. Блюдечко со сметаной, которая не падает с блина, как ни тряси, а сидит плотно, как шапочка белого зефира («Не балуйся за столом!») Блюдечки с вареньями минимум четырёх сортов: земляничным, малиновым, крыжовенным, смородинным.
Глаза разбегаются, не знаешь, куда макнуть блинчик. В результате алчно тычешь туда и сюда, и очень скоро сметана окрашивается в розовый вареньевый цвет, а в варенье расплываются масляные и сметанные разводы.
Папа сворачивал блин фунтиком, заполнял его грибками и отправлял в рот. Мы старались подражать папе, но у нас так ловко не получалось. Варенье или масло обязательно проливалось и пачкало лицо и руки («Будете безобразничать – вон из-за стола!»)
После завтрака отец непременно находил для нас во дворе какую-нибудь работу – отчего, признаться, я не любила выходные. И если бы дело происходило сегодня, обязательно бы строго высказала: «Папа, мы все из-за тебя попадём в ад. Ведь работать в воскресенье – большой грех».
А мамино бдение у печи тем временем входило в активную фазу. Прогоревшие дрова превращались в огромную золотую прозрачную гору углей. Они, с рассыпанием искр, кочергой загребались в круглые отверстия плиты (конфорки).
У отверстий было много разнокалиберных чугунных колец – снимая или добавляя их щипцами, хозяйки регулировали температуру огня под кастрюлями. В освобождённое огнедышащее жерло мама отправляла противни (самодельные, их ещё мамин дедушка из кусков железа загибал) с успевшими подняться пирогами.
Теперь о пирогах: больших и малых, защипнутых и открытых, рыбных и мясных, овощных и ягодных. В пирогах с рыбой, обильно перемежаемой кольцами лука, встречались косточки – с ними любил возиться папа. Мы предпочитали маленькие пирожки с малиной, в сладких липучих красных подтёках.
Это сегодня, чтобы малина не текла, её посыпают манкой, и получается совершенно чёрт-те что. Мама добавляла в вареньевую начинку сухую малину и рябину: они отлично впитывали сироп, а изба наполнялась сладчайшим, летним тягучим духом.
Как сушили малину, и вообще провизию, на зиму. Духовок, кроме вот русских печей, в то время не было, а топить печку в тридцатиградусную жару – это значило превращать избу на три дня в душегубку. Хозяйки рассыпали ягоды и грибы в противни и раскладывали на крышах низеньких сараев.
Там же сушили дрожжи, мелко нащипывая прессованные брикеты (тогда они весили полкило, а хранить их было негде – холодильники мало кто мог себе позволить). То ли советская пищевая промышленность не догадывалась освоить производство сухих дрожжей, то ли они просто до нас не доходили…
Прекрасно всё, между прочим, сохло. Вот только воробьёв приходилось гонять, которые не столько ели, сколько гадили. Ну, и если внезапный дождь опрокинется. О, это была целая операция по спасению сушилок на крышах!
Мы приставляли лестницу, мама отважно лезла наверх, одной рукой одёргивая от ветра юбку, другой подавая нам противни. Визг, писк… Успели до дождя! А не успеешь – всё с трудом высушенное хозяйство плавает в противнях.
Пока пироги доходят, мама время от времени заглядывает в печь, подсвечивая спичкой или папиным фонариком, двигая заслонкой. Одновременно успевает раскатывать нетолстым слоем жёлтое маслянистое рассыпчатое тесто. Мы спорим за право вырезать рюмкой кружочки. Это сухое печенье нам на неделю – носить с собой в школу. Тогда школьных обедов не предусматривалось. В буфете толкучка, мальчишки-старшеклассники лезут без очереди по головам – не пробьёшься, а попробуй высиди на голодный желудок 4–5 уроков.
В последний жар отправлялись чисто промытые брюквы. Вру: в предпоследний. В последний ставился огромный чугун с картошкой для запарки – скотине на завтра. Русская печь тем и была хороша, что отдавала тепло до последнего вздоха.
Мама вынимала запечённые брюквы старой, прожжённой во многих местах варежкой, соскабливала ножом жирную золу. Разрезала пополам – внутри пряталось ярко-оранжевое красивое содержимое. Она всех уговаривала: «Попробуйте, м-м… Объедение!» Никто, даже папа, её восторгов не разделял. А она ложечкой вынимала горячую сладкую душистую мякоть, отправляла в рот и жмурилась от удовольствия, причмокивала.
И походила на маленькую девочку – ту, которой ещё её мама, моя бабушка, запекала брюкву. Для них это кушанье казалось изумительным по сладости и сытости лакомством.
Для каждого мамина еда из детства – самая вкусная. У какого-нибудь аборигена из Папуа – это золотистые кругляшки жареного банана или, может, сушёные лапки кузнечика, которые он щёлкал вместо семечек. А для меня – те самые воскресные блины и пироги.
Иногда я задумываюсь: единственный день в неделю был у мамы – воскресенье – чтобы позволить себе чуть-чуть расслабиться, отдохнуть. А она предпочитала отдыху – эту добровольную, от рассвета до заката, каторгу у раскалённой печи. Крутила тяжеленную сковороду, сгибалась в три погибели с тряпками и ухватками, отворачивала пылающее от жара лицо.
Но это для меня каторга – а для неё-то было счастье! Муж, дети, большая семья под крышей нового дома, все здоровы. Стол, на который яблоку некуда упасть. В центре, как символ достатка: высокая горделивая стопа блинов, а вечером – крытые полотенцами поджаристые пироги на любой вкус! Значит, в чулане есть белая мука, а подпол забит припасами на долгую зиму, и нет голода и войны – а это ли не большое счастье?
Детство – это старый пруд за сосновым бором. Лишь маленькая чистая заводь пригодна для купания – всё остальное цветёт и затянуто зеленью. Если упросишь мальчишек в лодке – тебе срежут резиновый розоватый стебель с цветком кувшинки – слишком точёным, фарфоровым и холодным, чтобы быть живым. Уткнёшь нос в слабо, нежно благоухающую сердцевину – и ходишь с жёлтым носом и одурелыми глазами. «Знаешь, что такое кувшинки? Это русалкины духи!»
За прудом льнозавод. В огромных кучах мягкой кострики мальчики ищут жуков-носорогов – сейчас они занесены в Красную книгу. Повезёт – поймают самца: блестящего, чёрного, величиной с пол-ладошки, с огромным рогом. Если посадить двух самцов в стеклянную банку, они немедленно устремляются друг на друга – и часами жестоко бьются, пока один не убьёт другого. Ну, вот и попали в Красную книгу.
Что ещё было у нас, кроме льнозавода? Открываем старую советскую энциклопедию и читаем. Село наше было райцентром и имело: кирпичный завод, леспромхоз, инкубатор, пилораму, кузницу, ремонтно-тракторную станцию, маленький аэродром с регулярными пассажирскими рейсами (двадцать минут – и ты в Ижевске).
Был маслозавод – там работала мама подружки, однажды она вынесла нам алюминиевый ковш с ледяными густыми сливками. Сливки были так вкусны, что не пить было невозможно, и так жирны, что невозможно было пить. А подружка привычно выпила и облизала белые усы. Был богатый шумный базар, куда съезжались крестьяне из окрестных деревень – их, больших и малых, вокруг было рассыпано видимо-невидимо.
Что из вышеперечисленного осталось сегодня? Ничего.
Моё детство уже не застало того изобилия. Восьмидесятые – очереди за хлебом (это в центральной совхозной усадьбе!) Мальчишки-гонцы периодически бегали к пекарне и возвращались с очередным известием: «Хлеб ещё в печи!» «Уже загружают лошадь!» «Уже едут!» Поспешное выяснение перепутавшейся очереди, кто за кем стоял. В одни руки выдавались две буханки за 14 копеек: тяжёлых чёрных, обжигающих руки кирпичика, кислых и полусырых изнутри.
Почему брали так помногу? Потому что хлебом кормили скотину. Хотя в школе учителя говорили, что это преступление и негодяйство – пускать хлеб на корм скоту. Приводили в пример блокадный Ленинград с его двухсотграммовыми пайками, читали лекции. Вернувшись домой, учителя и лекторы переодевались в домашнее, брали хлебушек, резали крупными ломтями, крошили, делали болтушку – для кур, свиней, коз. А больше кормить было нечем, на одной картошке не выедешь. Украдкой друг от друга ходили с мешками за травой и рвали с оглядкой: увидит совхозный объездчик – оштрафует. Позору не оберёшься.
Молоко тоже дефицит. Ранним утром подойдёт к совхозной столовке грузовик, с гулким стуком сгрузят холодные запотевшие фляги. Если четыре фляги – хватит всем. Если три – очередь приходила в неописуемое волнение: хватит? Не хватит? Работникам совхоза – вне очереди. (Какая-нибудь вредная старушка брюзжит: «Жирненьки сливки себе сверьху снимут – нам жиденько останется!») Ещё на подоконнике теснилась целая батарея «блатных» банок. Вот и они заполнены. Ура, нам досталось!
В энциклопедии был упомянут и детский дом, образованный летом 1941 года. Не верьте фильмам, где детские дома 60-70-х сплошь изображаются как колонии с малолетними преступниками. Прекрасные были дети! Хотите верьте, хотите нет: уезжая с мамой в Москву, отец – директор детдома – оставил нас, четверых садиковских малышей, на старенькую бабушку и на двоих старших воспитанников: высокого чернявого Алёшу Пойлова и светловолосого крепыша Гену Коротаева.
Помню рубиновый огонёк в темноте, звяканье ванночек и кислый запах проявителей-закрепителей – печатали фотографии. Ещё помню, крутили диафильмы на простыне: про китайское зёрнышко, про Магуль-Мегери и Ашик-Кериба…
В девяностых годах отца ограбили воспитанники городской школы-интерната, ровесники Алёши и Гены. Они пасли его в сберкассе, проследили, куда положит пенсию. Вели до подъезда и между лестничными пролётами толкнули старика, выдернули сумку, рассыпали крупу, вытащили деньги (один заломил руки, другой шарил в карманах). И умчались с лёгкой добычей, прыгая через три ступени на упругих молодых сильных ногах. Отец сидел в прихожей, оглушённый, раздавленный, рассказывал – и плакал.
Первые школьные влюблённости, которые я поверяю дневнику. Дневник прячу на печке в старом валенке. На каникулы из города приезжает двоюродный брат Вовка, младше меня на четыре года. Обнаруживает дневник, по-обезьяньи гримасничая и показывая язык, убегает и забирается на крышу. Болтает ногами, читает, комментирует и хохочет.
Я до холода в животе боюсь высоты, бегаю вокруг дома и верещу от обиды и бессилия. Пытаюсь выманить сорванца ирисками, стеклянной авторучкой, сборником фантастики. Сулю страшные кары (утащу лестницу, и сиди там до скончания века, нажалуюсь твоей маме, поколочу, убью).
Ничего я не сделала, конечно – а какой смысл? Вовка соскучился, спустился, сунул мне мятый дневник – выхолощенную, осквернённую, поруганную, мёртвую Тайну… Очистить её мог только огонь в печи.
А впереди ждала юность, тягостные сомнения, борьба с прыщами и неприлично быстрый, прямо-таки выстреливший рост (не хочу быть дылдой, отчаянно завидую миниатюрным одноклассницам!) Экзамены, майские жуки на ниточках, сошедшие с ума соловьи за речкой, тяжёлая, тугая мокрая сирень в палисаде (если найти и съесть цветок с пятью лепестками – сдашь всё на «пять»).
Патриотические комсомольские собрания, где мы хихикали и скучали, стыдясь и понимая, что многое из происходящего – враньё и показуха. Со сцены взрослые пламенно скандировали одно, а в жизни происходило совсем другое.
Но всё это далеко впереди. Моё детство продолжается, и ко мне несётся маленький брат. Перепрыгивает через картофельные гряды, размахивает газетой с телепрограммой.
– Надю-юшка! Со следующей недели «Тени исчезают в полдень» показывают!!
– Ура!
Это праздник. И сразу шарик солнца ярче, и небо голубее, и колючий молочай, пачкающий руки липким соком и норовящий зацепиться корнями в земле, пропалывается легче. И пчёлы атакуют не так зло, и противные кролики… Нет, они не противные, а милые, но такие прожорливые. Так трудно каждый день, до крови на руках, рвать для них траву в ближнем леске… Но теперь всё освещено радостным нетерпеливым предвкушением телевизионного праздника – вернее, целых семь (по числу серий) маленьких праздничков каждый вечер!
Такое же приподнятое ожидание творилось во всех домах. По вечерам сельские улицы вымирали… И было нам лет по десять, и нынешние перекормленные компьютерные дети выразительно покрутили бы пальцем у виска. Но такое было время, когда хлеба (пускай и в очередях) хватало, а со зрелищами было негусто.
Вот отец в очередной раз, сев с нами смотреть мультик или детский фильм, строго качает головой: «Ни уму, ни сердцу. Ничему хорошему не научат». И выключает телевизор под наше обиженное жужжание. А «Тени» – уж точно и уму, и сердцу! Телевизор включается заранее, – не дай бог пропустить начало! Усядемся, большие и малые, каждый на любимое «своё» место – целый домашний кинозал.
Только мама время от времени («Сомневаюсь я…») вставит замечание. Нет, вот такого не было, она помнит из дедушкиных рассказов. Не было людей, среди бела дня расхаживающих по селу гуртом с гармошками, и огневые речи с телег так часто не произносились, и на войну не так провожали, и с войны не так возвращались. Уж эта мама, всё ей не так. У вас, может, и не так, а в Сибири так.
– Ма-ам!! Не мешай смотреть!
Это сейчас замечаешь блёклый цвет киноплёнки, так называемый совколор: размытый желтовато-коричневый, как сквозь немытый аквариум. И бросаются в глаза сквозящий во всём лубок, и шитая белыми нитками пропаганда, и наивная прямолинейность – а линия была одна: Правительства и Правящей Партии во главе с Генсеком.
…Но вот же зацепили фильмы тех лет и до сих пор не отпускают. Потому что из детства? Потому что верили?
12 ЧАСИКОВ
Детство – замечательная штука. Хотя бы потому, что целыми днями можешь носиться по улице и не бояться, что облепят веснушки и обгорит нос. И не надо носить шляпы и козырьки, наклеивать на нос наслюнявленный подорожник, мазаться отбеливающим кремом и постоянно заслоняться ладонью от солнца. Потому что начинаешь, к несчастью, понимать, что красный нос, да ещё курносый – ужасно некрасиво.
И не надо помнить о том, как бы сесть на скамейку, не измяв сарафан. И испытывать навязчивый страх, что растолстеешь от сладкого. Как раз только и мечтаешь, чтобы тебе перепало это сладкое, и можешь съесть его сто килограмм, а потом ещё сто килограмм – и всё равно не растолстеешь и останешься худышкой с тоненькими острыми ручками и ножками.
Вообще, детство – самая непосредственная, нелицемерная и неиспорченная пора в жизни человека. Всё остальное ещё предстоит.
Улица, где жила Еленка, была самая тихая и зелёная в деревне, на ней паслись только гуси и козы. Появление грохочущего бульдозера или фырчащего автомобиля было событием. Еленка с друзьями бросали свои игры или работу в огородах и бежали стремглав за машиной, пыля ногами, как ребятишки двадцатых годов прошлого века за первым трактором.
Ещё на Еленкиной улице росло видимо-невидимо черёмух. В пору созревания ягод вся компания забиралась на корявые стволы и наедалась до отвала. У всех рты сначала бурели, потом синели. Языки и нёбо становились шершавыми, будто порастали мохнатой шёрсткой.
В Еленкином детстве было две жгучие мечты, которым не суждено было осуществиться. Первая самая обычная: ей хотелось хоть один раз наесться мороженым, сколько хочешь. И чтобы есть его твёрдым и холодным, а не подтаявшим из блюдечка, как велит мама.
Мороженое привозили из города два раза за лето – это было сенсацией. Еленка с братом торопили маму, которая никак не могла найти мелочь. И когда бежали со всех ног к фургону, Еленка ревела от нетерпения и страха, что мороженое кончится.
Ещё Еленке очень хотелось иметь собственного домашнего ослика. Как бы она с ним дружила! Эта мечта появилась после того, как отец прочитал им с братом книжку Ольги Перовской «Ребятам о зверятах».
ПАПА
Семья уехала из города, когда Еленке было пять лет, а брату Федюшке шёл четвёртый. Папа стал ходить в смешной клетчатой рубашке и приплюснутой кепке с пуговкой. И рубашка, и кепка ему совершенно не шли. Он купил брошюру о ведении приусадебного хозяйства, изучил и стал претворять изученное в жизнь.
Осенью они с мамой чистили двор, таскали на носилках в огород свежий древесный мусор, щепки, стружки, растаскивали их граблями по полю. Еленка с братом тоже бегали взад и вперёд с зажатыми в грязных озябших ручонках прутиками. Отец объяснял маме:
– В результате перепашки к весне всё это превратится в перегной. Таким образом, надобность удобрять огород отпадает.
Впрочем, удобрять огород всё равно было нечем.
Весной, когда сошёл снег, и поле пахали и боронили, мусор, не подумавший за зиму сгнить, мешал и сильно забивал борону. Колхозный конюх ругался, что они испортили землю. Папа покашливал, ходил следом и собирал щепки в ведро. Еленка с Федюшкой бегали взад и вперёд с зажатыми в грязных ручонках прутиками.
Потом папа прочитал из книжки об устройстве погреба-ледника и начал рыть под крыльцом яму и обкладывать её кирпичом. Еленка с братом носили в игрушечных ведёрках мокрую красную глину и вываливали у забора.
Весной за одну ночь яма наполнилась доверху талой водой. Картошка и мясо плавали, мама вылавливала и ругалась.
Прошло некоторое время, и папа задумал поставить во дворе колонку, чтобы была своя вода. Пришли двое хмурых мужиков в рыжих телогрейках. Папа старался выглядеть перед ними «своим», «бывалым». Не снимал, как они, грязные сапоги, пропустил на кухне по маленькой, громко топал ногами.
Мужики долго ковыряли землю штуковиной, похожей на огромное сверло: «искали пласт». Нашли, водрузили колонку с носиком, как у чайника. Взяли деньги, пропустили ещё по маленькой – и ушли, топая ногами, оставляя на полу печатные глиняные квадратики от сапог.
Папа лежал за занавеской: он никогда не пил и чувствовал себя скверно.
Сколько ни подпрыгивали Еленка, Федюшка и мама, сколько ни нажимали на ручку, колонка утробно урчала и неприлично ухала, но выдавила лишь несколько ржавых капель.
О ФЕДЮШКЕ
Федюшке в раннем детстве не везло – жизнь подстраивала ему всякие каверзы.
Как-то папа его фотографировал. На шкаф повесил простыню и придавил сверху литой гирькой от настенных часов, в форме шишки. Федюшка был поставлен у шкафа с наказом стоять не шелохнувшись, смотреть в объектив и не моргать. И если непоседливый Федюшка справится с этой нелёгкой задачей, то на счёт «раз, два, три» – из чёрной блестящей дырочки вылетит птичка. Это пообещал папа, а папа никогда не врал.
Федюшка добросовестно таращил глазёнки. На счёт «раз-два-три» со шкафа сорвалась чугунная шишка и остриём тюкнула его по голове. У него до сих пор осталась вмятинка на затылке. Ещё Федюшку щипал соседкий гусак, кусала за ногу собака, чуть не до смерти жалили колхозные пчёлы…
Теперь Фёдор профессор, преподаёт в большом институте. Когда приезжает в гости к Еленке, она целует его, охватывает седую голову и нащупывает едва заметную неровность. И брат растроганно басит: «Тут, тут моя шишечка, куда денется».
О НОЧНЫХ СТРАХАХ
Еленкины родители работали в школе учителями. Тогда школьников часто отправляли на полевые работы. Иногда мама брала Еленку с собой. Запомнилось: колючие тяжёленькие косички колосьев, обочина дороги, синяя от васильков. Мамины ученицы плетут для Еленки венки, сюсюкают над ней, спорят, кому нести её на руках, когда Еленка устаёт.
Один выдающийся случай, как ни странно, совершенно стёрся из её памяти. Его снова и снова взволнованно рассказывала мама, и Еленка не верила:
– Это, правда, было? И я была там?!
Школьники пололи то ли капусту, то ли свёклу. На соседних лугах паслось стадо коров. Пастух гарцевал на лошади – значит, в стаде был бык. Мальчик-горнист заиграл, созывая детей на обед. С лугов не замедлил раздаться ответный рёв. Мальчик уже нарочно, чтобы подразнить быка, заиграл громче. Утробный рёв приближался. Все кричали горнисту, чтобы он замолчал, а вредный мальчишка продолжал выдувать резкие звуки. А ещё, между прочим, пионер.
Вот уже затрещали деревья.
– Не держитесь в куче! Разбежались – и в лес! Все в лес! – кричала мама, таща Еленку за руку. Разновозрастная разноцветная ватага с плачем и визгом бросилась прочь с поля, крики ещё больше разъярили быка. Догоняя, он не мог наметить жертву: все рассыпались, как велела мама, и огромный красный бык бестолково, с задранным пружиной хвостом, носился то туда, то сюда: тут же его отвлекало другое удирающее яркое пятнышко.
Мама с Еленкой отстали. Ученики уже мелькали между больших деревьев, а они всё бежали в прозрачном мелком березняке и оставались единственной мишенью для быка. Мама, по её словам, уже не соображала, её ли тяжёлое дыхание или шумное сопение быка отдаётся в ушах, от её ли бега или от бычьего топота дрожит земля и оглушительно трещит березняк…
Когда она буквально падала с ног, послышались ругань и хлопки-выстрелы бича: пастух отогнал бычару.
Долго, почти всё детство потом Еленку преследовал страшный сон: она с девочками играет на улице и вдруг в конце улицы появляется большой красный бык. Все куда-то деваются, остаётся одна Еленка. Она бежит по пустынной улице – бык не отстаёт. Вбегает в дом, захлопывает дверь, бык проламывает рогами дверь – и за ней. Еленка прячется в шкафу – бык суёт вслед тупую морду и пытается забраться внутрь. Еленка карабкается на крышу – следом лезет бык… Ужас!
Еленка просыпалась и кричала. Её забирали в родительскую кровать, и папа сонно ворчал на маму: «Вбила ребёнку в голову ужасы. Так и до невроза недалеко…»
Когда в продаже появились сонники, Еленка прочитала: снится красный бык – значит, кто-то очень зол на тебя, ругает. Странно: бык снился, когда ругать-то её маленькую было некому и не за что. А когда выросла, и очень даже появилось, кому и за что ругать – тут и бык перестал сниться.
О ЖИВОТНЫХ
О собачонке. Разумеется, его звали Шариком – тогда по телевизору шёл фильм «Четыре танкиста и собака». Собачонок был беспороден и толст. Когда его ругали за провинность, он наклонял вбок огромную башку и смотрел, моргая умильно и преданно.
Однажды Шарик отважился и затявкал на соседскую девочку Наташку. Еленка с Федюшкой убеждали её, что если Шарик рассердится, запросто может укусить. Наташка презрительно и недоверчиво слушала.
Она вдруг топнула крепкой толстой ногой и побежала прямо на Шарика. Он умолк и помчался с поджатым хвостом прочь. Наташка не отставала, преследовала, пыхтя, толстые щёки у неё тряслись. Шарик дал три позорных круга вокруг поленницы и юркнул под сарай. Федюшка рыдал от стыда и жалости к Шарику.
Шарика могло обидеть любое существо. Даже куры с нахальным «ко-ко-ко» бродили и находили, что клевать именно под его носом.
Особенно терпел Шарик от нашей безымянной кошки: старой, худой и всегда подозрительно глядящей на всех. Если Еленка наливала Шарику супу, кошка спускалась с крыльца и неторопливо шествовала к собачьей миске. Шарик жалобно моргал коричневыми медведиковыми глазками и плёлся под сарай.
На второй год жизни в деревне мама, как все деревенские женщины, стала держать поросят. С каждым поросёнком Еленка с братом дружили, каждому давали смешное имя, рвали за огородом траву и ходили смотреть, как мама его кормит.
В первые ноябрьские праздники пришли соседи Пётр Макарович с женой тётей Галей. Он долго сидел на кухне и точил принесённые с собой узкие и длинные ножи. Тётя Галя объясняла маме, как готовить кровянку, не пересушить жареную печёнку и какие вкуснейшие пирожки можно приготовить из промытых и прочищенных кишок.
Когда взрослые вышли во двор, Еленка стала искать маму. Она обнаружила её спрятавшейся за печкой, с красными глазами, с залитым слезами лицом. Она смущённо объяснила: «Я его вот таким… Вот таким в дом принесла», – и показывала, будто держала в руках закутанного куклёнка.
О СМЕРТИ
Раз в год в погожий летний денёк на пороге Еленкиного дома появлялась крошечная иссохшая старушечка с палочкой, в чёрной юбке до пола. Мамина троюродная прабабушка. Она была такая старая, такая старая… Еленка даже не могла представить, как давно родилась баба Лиза. Возможно, в те ещё времена, где, как на маминой цветной деревянной шкатулке, румяный Иван-Царевич ловит Жар-птицу.
Чем бы мама в это время ни занималась, она тотчас бросала все дела. Удивлённо и радостно всплёскивала руками, спрашивала, как бабушка Лиза до них добралась. Приставляла палочку к стене, вела под руку игрушечную гостью к столу. Заваривала чай, крошила мягкие баранки в блюдо, накладывала варенья и мёд.
И они говорили-говорили-говорили и не могли наговориться досыта. Еленка во все глаза смотрела на гостью с прозрачными ручками, с прозрачным, с копеечку, личиком. Баба Лиза была такая старая, что даже молодая: морщинки у неё давно усохли, втянулись, измельчились и расправились, превратились в едва заметную паутинку. Кожица от старости была как плёночка под яичной скорлупкой.
Ещё у бабы Лизы были серёжки… Ой, какие! Никогда, никогда потом в жизни Еленка не видела таких ярких пронзительно-синих прозрачных камушков. Хрустально-чистые, рассыпающие искры, горящие сгустками небесной синевы огоньки…
Конечно, в дешёвенькие медные оправы были вдеты не сапфиры, не бирюза и вообще никакие не драгоценности. Это было старинное цветное стекло, секрет производства которого растаял тысячу лет назад, когда баба Лиза была молодой. Еленка бережно трогала синие капелюшечки, гладила безжизненные истончившиеся уши бабы Лизы. Если бы она догадалась, как хочется Еленке поносить такие серёжки… Ну, или хотя бы только чтобы вынула из ушек и дала поиграть.
– Вросли в мяско, – шамкала старушка. – Как дедушко вдел – так не снимала. Ни в роды, ни в баню…
Мама с гостьей разговаривали о неинтересном: кто умер, кто болеет, кто женился. Только однажды баба Лиза поведала жуткую историю. Гладя Еленку по волосам невесомой ручкой, шелестела:
– Вот такая же девочка беленька у нас жила… Люба. Ён жила-жила, и померла.
– Как померла?! – мама суеверно вытащила Еленку из-под старушечьей лапки, прижала к себе.
– А кто ён знает. Померла. Гробик поставили в церкву. Утром звонарь восходит в церкву. Крышка у гробика прибрана, а Люба у двери лежит, личиком вниз. Ён ожила ночью и возилась, стучала, выйти хотела. Поп рядом жил. Услыхал возню, взошёл. Любу задушил.
Брат Федюшка в ужасе хлопал ресницами. Интересовался, посадили ли попа в тюрьму и сколько лет он там просидел. Баба Лиза слабо пугалась, отмахивалась:
– Что ты, что ты. Не Любу ведь он задушил – сотону.
А у Еленки на долгие годы остался страх: вдруг она, как бедняжка Люба, уснёт летаргическим сном? Ночью залезала под одеяло и воображала, что это её заживо закопали. Задыхалась, взбрыкивала, судорожно путаясь, отбрасывала как назло цепляющееся душное одеяло – и долго лежала с бьющимся сердцем.
Наутро на всякий случай написала на бумажке: «Не хороните меня, пожалуйста. Это я только заснула летаргическим сном». Бумажку свернула трубочкой, вдела в нитку. Федюшка, встав на цыпочки, подвесил ей на шею этот «медальон», провисевший ровно до первой бани. А потом и страхи забылись.
Однажды мама надолго ушла куда-то. Вернувшись, сказала: «Умерла бабушка Лиза».
– Её закопали?
– Конечно.
Еленка долго ходила, сдвинув бровки, раздумывала. Уточнила:
– А серёжки сняли?
– Нет, конечно!
Ужас! Еленка представила картину: глубоко-глубоко под землёй во тьме, в наглухо заколоченном ящике невидимо, неугасимо горят, сами в себе, живые синие огоньки…
ОБ ИГРАХ
Ну что ещё было… Пионерские лагеря, где Еленка, тоскуя по дому, по маме с папой, рыдала первые дни заезда. Потом выяснялось, что ничего, жить можно.
Были девчачьи альбомы-песенники, которые путешествовали по подружкам («Лети с приветом, вернись с ответом»). И возвращались с непременным: «Ветка сирени упала на грудь, милая Лена, меня не забудь!» Ещё: «Умри, но не дай поцелуя без любви!» Или: «Любовь – это зубная боль в сердце!» Или ещё с чем-нибудь таким же волнующим и мудрым.
Были «секретики» и «обманчики». Допустим, страница в альбоме хитроумно свёрнута в конверт, на котором начертано: «Мой друг, сюда нельзя!» Естественно, разворачиваешь его, а внутри конверт поменьше: «Сюда ни в коем случае нельзя!!»
И, как матрёшки, следом ещё раскрываются многочисленные накрученные конвертики с зазывным: «Нельзя!!» «Мой друг, сюда нельзя!!!» «Ай-яй-яй!!!!» Чем больше восклицательных знаков, тем нетерпеливее, разрывая конверты, трепещут пальчики в ожидании тайного, запретного, сладкого. И в конце – как щелчок по носу, торжествующая, жирно накорябанная начинка на дне «секретика»:
«Мой друг, какая ты свинья! Ведь было сказано: нельзя!»В альбомы полагалось наклеивать вырезанных красивых тётенек из журналов «Крестьянка», «Работница» и «Здоровье» (снова от мамы влетит!) В «Работнице», кажется, Еленка позже прочитает, что девчачьи альбомы – рассадник пошлости и безвкусицы. Какие советские жёны и матери вырастут из этих маленьких мещанок, возмущался журнал.
Интересно, что бы сказала журнал об игре «12 часиков» – вот уж где девчонки вовсю раскрывались как отъявленные барахольщицы и тряпичницы – куда до них нынешним обладательницам Барби с их шопингами и гардеробами!
Вообще, игры были самые разные: вышибалы, цепи кованые, прятки, жмурки, «свеча» (что-то вроде казаков-разбойников). Прыганье в «классики», толкание ножкой вазелиновой коробочки, туго набитой песком.
Но «12 часиков» – сугубо девчоночья незамысловатая игра. На каждой улице обязательно имелось отполированное от частого сидения удобное брёвнышко. Две «водящие» отходят и шёпотом задумывают число от «1» до «12». Девочки по очереди отгадывают – мимо, мимо. И вот звучит заветная цифра, допустим, «четыре». Водящие хором: «Один часик, два часика, три часика, четыре часика!» – причём тараторят очень быстро.
Ошарашенная отгадчица до того, как «пробьёт» последний четвёртый час, должна назвать часть гардероба. Сначала, конечно, идёт купальник – ведь участницы игры сидят совершенно, неприлично «раздетые»!
Каждая водящая придумывает и предлагает свой вариант («Голубой купальник с розочкой и каёмками вот тут и тут» – или «Чёрный, с белой чайкой на груди, как у Аньки» – «Конечно, как у Аньки!») Девочка, «продавшая» купальник с чайкой, и счастливая покупательница уходят загадывать следующее число.
Потом пойдут платья (серебряное, в кружевах, до полу), туфли (золотые), пальто… И вот уже кто-то сидит упакованная от и до, кто-то совершенно голенькая – кому как везёт. Всё как в жизни.
Отгорает летний закат, темнеет. Уютно зажигаются фонари и окна домов. Всё чаще слышны размазывающие комаров звонкие шлепки по исцарапанным рукам и ногам… А фантазии всё неистощимей и невероятней, и нет сил прервать этот чудесный бал одёжек, о которых мечтают девчонки в выгоревших застиранных ситцевых сарафанчиках и стоптанных сандаликах…
Вот и мама вышла, зовёт спать. Едва Еленкина голова коснётся подушки, пёстрым вихрем закрутятся в ней бидоны с нагретой земляникой, омут с бьющими со дна ледяными родниками, Наташка, смутные очертания тупой бычьей морды (снова не догнал!), туфельки, купальник…
Чайка на купальнике гортанно расхохоталась: «Цепи кованые, разомкнитесь!» Сильные Колькины руки, прерывающие Еленкин бег: «Попалась!» – «Пусти, дурак!» Сладкой зубной болью кольнуло сердце… И снова туфельки, туфельки, серебряные платья – и стремительно истекающий волшебный двенадцатый часик.
МОЯ МАЛЕНЬКАЯ МАМА
Каждый день я прохожу под бетонным козырьком над подъездом, на котором растет…деревце. Из каких трещинок с набившейся в них городской пылью берет оно соки, как его живые обнаженные корни не разрывает в бетоне лютый мороз? Это для меня неразрешимая загадка. Весной деревце зеленеет не сразу, и когда уже совсем перестаю надеяться, вдруг застенчиво выбрасывает клейкие листочки: живое! Никогда не знавшее (и не суждено ему узнать) жирной ухоженной, питательной почвы, никнущее от зноя и оживающее под скупым дождиком. Неприхотливое, хрупкое, сильное, как наши мамы…
Когда она ковыляла по улице на еще неокрепших толстеньких ножках, односельчане шутливо вопрошали ее: «Да чья это такая, не цыганочка ли?» Она счастливо и бойко лепетала на удмуртском, как ее научили дома: «Черная дочь черного Петра».
Отец среди рыжеволосых, с тонкими лицами односельчан выделялся смуглостью, черными пронзительными глазами, крупными чертами лица. Как полагается каждому уважающему себя роду, из поколения в поколение бережно передавалась легенда.
Когда-то по Сибирскому тракту гнали каторжан. Они заночевали в избе моих прапрабабушки и прапрадедушки. Прапрадедушка нёс службу в царской армии – а служили тогда 25 лет. Утром каторжан подняли и погнали дальше. Среди них был один: забубенная головушка, бойкий, кудрявый, пронзительно черноглазый. Уходя в колонне, она часто оглядывался на стоящую в калитке солдатку – за что, вероятно, схлопотал удар оружейным прикладом по шее.
Через девять месяцев солдатка разрешилась черноглазой смуглянкой. Девочка была ещё мала, когда прапрадедушка, отставной служака, переступил порог родной избы. Сельчане гадали: выкатит ли он неверную жёнку ногами за порог и вдоволь на ней напляшется коваными солдатскими каблуками? Или просто выставит с младенцем за порог и запьёт горе кумышкой?
Напрасно топтались любопытные: дверь избы так и не распахнулась. По преданию, прапрадедушка произнёс слова, столь с почтительно передаваемые из поколения в поколение. «25 лет я без жены жил – всякое бывало. 25 лет жена меня ждала – камень бы не выдержал, а она живой человек». И ещё: «Я бы и камень на дороге подобрал, не выбросил. Неужели живого человека выброшу?» Отсюда будто бы замешалась в нашем роду смуглость, чёрные волосы и тёмные глаза. Самое интересное, что внука назвали Пётр – в переводе «камень».
Тридцатые годы прошлого века. Не было в те годы массовиков-затейников. А веселиться деревенский народ умел самозабвенно, от души. Мазали лицо сажей – вот тебе леший. Выворачивали наизнанку шубу – медведь. Наверчивали на шею тряпье – петух.
Светит ясный месяц, идут по деревне девки, поют песни. А навстречу – сани. Без лошади, без седока. Катятся сами по себе ровно, тихо – жуть! Девки визжат, разбегаются и того не замечают: за невидимые в темноте веревки, прячась за сугробы, сани тащат бравые ребята.
Мамина тетя из-за собственной свадьбы три дня не выходила на колхозные работы. Наказали всю семью – конфисковали конную молотилку, зерно, раскатали по бревнышку двухэтажный амбар. Не оставили даже лукошка с яйцами и бабушкиной шубы.
Если бы не односельчане, семья умерла бы с голоду. Мамина сестренка Анюта нянчилась с соседским дитем, ее за это сажали за хозяйский стол. Когда она возвращалась, маленькая мама пристально, светящимися от худобы глазами всматривалась в ее лицо:
– Ты сегодня кушала? Да?
Сестренка, стыдясь, шептала: «Да».
– Мы собрали большой бидон ягод, – рассказывала мама, – понесли в Глазов и обменяли у рабочего на буханку хлеба. Несем домой, жарко, руки красные от сока, даже хлеб пропах ягодами.
Не зря бытовала пословица: «Земляника – деликатес для богачей и пища для бедняков». Мне, маленькой, такой обмен казался чудовищным. Противный дядька-рабочий, говорила я. Поползай-ка, собирая землянику, под палящим солнцем, под тучами комаров и променяй ее на какую-то буханку?! Не понимаю. И мой сын, которому я в детстве рассказывала про бабушкин обмен, этого не понимал. Дай Бог, чтоб и дальше дети считали: хлеб – это нечто само собой разумеющееся. Вечное как воздух, вода, солнце.
Война. Мама заканчивает педучилище. Когда проходит мимо городской пекарни, каждый раз замедляет шаг, опирается о низкий заборчик и стоит так некоторое время. Не затем, чтобы насладиться запахом горячего хлеба, а чтобы унять головокружение и не упасть в обморок.
Случались маленькие радости: раз в месяц бегали с подругой Марией на базар, покупали деревенское сало. Дома растапливали на сковороде – получались шкварки, хрустящие, золотистые. Их макали в соль, ели с картошкой.
… Морозным зимним вечером, рассказывала мама, – шли с Марией (тогда уже молоденькие учительницы) из деревни в Глазов. Под мышкой – сшитые из старых газет тетради. Из-за сугробов тяжело и мягко попрыгали волки. Окружали, подходили боком, как больные собаки, искоса поглядывая. Тетрадки полетели в воздухе. Мама – тоже. Даром что небольшого росточка – только морозный ветер засвистел, отдувая шерстяную шаль. Бежала и кричала, как заведенная, на одной отчаянной ноте:
– Мария, Мария, Мария, Мария!
Мария была взрослой здоровой женщиной и, едва различимая, убегала по дороге далеко впереди. Маму спасло то, что на дорогу с поля выехало несколько колхозных подвод с сеном.
Замужество. Она родила одного за другим четверых – двух мальчиков и двух девочек. Тогда в декрете сидели не три года, а три дня. И никаких поблажек роженице: участвуй в самодеятельности, как все, ходи с лекциями в отдаленные деревни, работай с учениками в поле. А дети с кем? А с кем хочешь.
В соседях у нас жили доярка и тракторист, было у них шестеро детей. Родители целый день на работе. Самых маленьких, грудничков – близняшек, нянчили старшие, наши сверстники, и привлекали для помощи всю уличную ребятню. Мы, особенно девочки, привлекались с удовольствием: близняшки были для нас как большие куклы. Или как котята. Заворачивали в тряпки, таскали, силенок не хватало: нянькам самим едва исполнилось пять-шесть лет.
Как-то старший из соседских детей с таинственным видом пообещал нам показать «сокровище». Где хранят сокровища пацаны? Конечно, под подушкой. Отогнул ее, а там! Перекатывается десяток драгоценных серебряных шариков! Мы пытались их поймать, но живые шарики под нашим пальчиками растекались, убегали или, наоборот, собирались в один крупный дрожащий переливающийся шар.
– Откуда?!
– А градусник разбился, мамка велела веником собрать.
– Леш, меняемся, на что хочешь?!
Леша бережно опустил подушку: среди наших жалких игрушек эквивалента его сокровищу не было, и быть не могло.
Дисциплину на уроках мама держала отменную. Голоса никогда не повышала, только сверкнет отцовскими карими глазами – мертвая тишина. На протяжении многих лет ей приходили письма и открытки с Дальнего Востока от бывшего ученика по имени Леонид.
– А знаешь, – говорила она, – ведь Леня не отличался ни учебой, ни примерным поведением. Почему-то из двоечников люди получаются душевнее, сердечнее, что ли. Среди отличников, наоборот, больше таких, кто проходит и делает вид, что незнаком.
Вторую половину дома, где жили мама и папа, занимала семья военного. Как-то утром он вышел на работу, когда мама только подступалась к горе наколотых папой желтых пахучих дров. Вечером он вернулся, а у дома возвышалась длиннющая, высоченная, идеально выложенная красавица-поленница. Военный постоял, подивился. И, встав навытяжку, серьезно и строго сказал маме:
– Вас орденом можно наградить.
Итак, нас было четверо. Только в баню сносить четыре закутанные в шали и пальтишки чурочки, обмыть, обстирать, корзины с бельем перетаскать на ключ… Индезитов и Занусси тогда в помине не было. Однажды на моих глазах мама опрокинула на ноги ведерную кастрюлю с кипятком. Закричала: «Ой, ой, ой!»
Мне показалось, она так шутит, и я захохотала. И тут увидела, как ее маленькие ноги наливаются на глазах огромными прозрачными пузырями…
А еще были большой, 14 соток, огород, приготовление обедов и ужинов, скотина (кролики, гуси, куры, поросёнок, пчёлы). А еще работа, общественные нагрузки. Она закончила заочно институт, получила значок «Отличник народного просвещения» и массу грамот.
Суббота. Пельмени, крутим мясо. Кто-то читает книгу, «Охотники на мамонтов». Кто-то режет на кусочки мороженое розовое мясо. Кто-то – самое противное занятие – чистит лук. Мама готовит тесто. Потом мужчины идут в баню, мы, девочки, лепим с мамой пельмени. Лепим и поём песни. Один за другим противни уносятся в чулан на мороз.
Воскресенье – обязательно с утра разжигалась русская печь. Пеклись блины. С растопленным маслом, с яйцом, с рыжиками и луком, со сметаной. Потом угли сгребались, и русская печь становилась духовкой. Пироги: рыбный, сладкий, ватрушки. Для мамы, выросшей в голоде – это праздник, богатый стол. Для меня воскресенье, запомнилось голодным днём, когда нечего есть. Не привыкла обедать и ужинать пирогами.
Самое гадкое – очереди. Вся жизнь тогда проходила под знаком Очереди. Очереди за чем угодно: за ситцем, рыбой, мылом, крупой, школьными принадлежностями, сметаной, ботинками, зубной пастой, чаем, за молоком, яблоками, мебелью, сахаром, стиральным порошком. И конечно, за хлебом. Овощи, яйца и мясо у нас были свои.
Однажды ко мне на улице, подошла соседская девушка с тетрадкой и ручкой и спросила, сколько у нас кур и кроликов.
Я не знала и побежала к маме узнать.
– Зачем тебе?
– Просто так, – неизвестно почему соврала я.
Потом мне от мамы влетело: это шла перепись домашних животных, их тогда обкладывали налогом. Партия и правительство поставили задачу вытащить советское село из навоза, отвлечь от отсталых частнособственнических интересов, чтобы сельчане ходили бы в кинотеатры, библиотеки, чтобы заботились не о том, как набить собственный желудок, а питались бы исключительно духовной пищей.
Но это сейчас можно ерничать про партию и правительство. Наши отцы и матери не позволяли себе шутить такими серьезными вещами. Отец – историк, обществовед, пропагандист – слушал по телевизору дистиллированный вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»:
– Вся жизнь впереди, Надейся и жди!Неодобрительно качал головой:
– Идеологически вредная песня. Не учит активной жизненной позиции. Что значит: надейся и жди? Девиз буржуазного загнивающего общества. Бороться за счастье надо, бороться.
Мама согласно кивала головой:
– Так, так.
Для окрестных деревень Глазов был такой же универсальной продовольственно-промышленной базой, каковой являлась Москва для ближнего и дальнего Подмосковья. И тут и там по известным магазинным маршрутам сновали по-деревенски окающие люди в телогрейках и сапогах, обвешанные авоськами и рюкзаками, спешащие на последний автобус. И мы не исключение. В ГУМ – за клеенкой, в «Юбилейный» – за апельсинами и колбасой, в тридцать третий на улице Революции – за сметаной.
Вот мама оставляет меня стеречь сумки и становится в очередь к кассе. За ней усатая городская тетка, глянцевые кудряшки на голове подняты скрученной косынкой. На брезгливом лице читается: все магазины оккупировала вонючая деревня. Одна теткина бело-розовая рука толще всей моей мамы. Господи, какая она у меня маленькая, темненькая, деревенская в своем пиджачке и платке, и почему она так заискивающе заговаривает с противной глянцевой теткой?
А ведь юная мама, пока мы не родились, была щеголиха каких поискать, мастерица. Я убеждалась в этом, исследуя содержимое большого фанерного ящика в чулане. Там были аккуратно сложены платья, сшитые и обметанные вручную – без машинки! Каждое само по себе невесомое крепдешиновое чудо с какими-то планочками и вставочками, с особенными пуговицами. Тут же жакеты и роскошные пальто – такие я разве только в кино на артистках видела.
Вслед за платьями на белый свет является рыжая муфта из мутона, со скользкой подкладкой, внутри прячутся кармашки для дамских пустячков – в Москве на премию покупала, еще Сталин был жив. Плюшевая задорная шляпа – «таблетка» с крупной янтарной булавкой и резинкой под подбородок. И туфли, и башмаки в бантиках и пряжках, на немыслимых шпильках, и резиновые ботики с полыми каблучками, отлитые нарочно для таких туфель. Жалко, что ножки у мамы, как у Золушки, а мои-то как у мачехиной дочки. Туфельки полезут разве что на кончики пальцев.
На елку мы, все четверо, не ходили без маскарадных костюмов. Когда она все успевала? А ночь-то на что? Конечно, мы и клеили, раскрашивали, но главной костюмершей была все-таки мама.
Кроила фартук для Красной Шапочки, пришивала бусы к тюбетейке Узбечки, мастерила прозрачные крылышки Стрекозе, украшала, за неимением блесток, стекляшками от битых елочных игрушек корону Золушки – это только мои наряды.
Как часто мы, современные матери, отмахиваемся от единственного ребенка:
– Какой еще костюм? Не приставай с чепухой, некогда…
Пока она не слегла, всё ее руки что-то штопали, мыли, перебирали, стряпали. Шел ее любимый бразильский сериал, а она вдруг, всмотревшись под ноги, опускалась на коленки и начинала быстро-быстро убирать с ковра невидимые соринки. Днем приклоняла голову на подушку и через пять минут вскакивала: столько дел, а я валяюсь!
Попадая в больницу (в последнее время все чаще), брала с собой ворох шитья и штопки: не понимала, как это можно праздно сидеть и болтать с соседками. Ее очень огорчало, что я высмеиваю бразильские сериалы. «Может, они и наивные, и затянутые, но в них есть главное. Они учат любить и не скрывать своей любви».
Чем больше узнаю мир, тем мельче он оказывается. Давно ли, в детстве, даже не возникал (ввиду полной несуразности) вопрос: сколько я буду жить? Конечно, вечно!
Жизнь сжимается шагреневой кожей, сужается до одного дня, до часа, до черного секундного штришка на циферблате. Произнеся или просто подумав «мама», мы все, даже самые солидные люди, на миг возвращаемся в детство. Становимся юными, а значит вечными. Вот и все, что осталось в мире по-настоящему устойчивым: мама.
МАЛИННАЯ ЛИХОРАДКА
Вот скажите, что хуже? Есть вредную еду, жмурясь от удовольствия – или полезную, давясь от отвращения? Когда малокалорийное тошнотворное нечто, приготовленное на воде без соли, организм отторгает, желудок корчится в спазмах, вопит: «SOS!» и вообще всячески сигнализирует: «НЕ ХОЧУ!» Неужели природа такая глупая, а врачи такие умные? Женщины и сторонники здорового питания, поймут, о чём я.
И всё-таки один раз в году жизнь благоволит, милостиво снисходит к нам. Ненадолго, недельки на три-четыре, когда созревает Её Высочество Клубника. Вкусная-превкусная, полезная-преполезная, кладезь витаминов и микроэлементов. Царица ягод, впитавшая в себя тепло солнца, энергию ветра, сладость воды и соки земли.
Я плотно сажусь на завтраки, обеды и ужины из клубники, молока и белого хлеба. Я не знаю, каким чудом меня обходят стороной аллергия и диарея. Отдуваюсь, отодвигаю пустое блюдо в душистых розовых подтёках, с горой зелёных клубничных хвостиков.
– Всё, – обещаю я себе каждый раз. – Всё, на этот сезон я точно наелась.
И отхожу от стола, покачивая животом, беременным клубникой месяцев на пять. Но через день, стоит мне увидеть или вдохнуть вздрагивающими ноздрями волшебный наркотический, непередаваемый аромат… Я за ним готова идти на край света, как крыса за дудочкой.
В одной ну очень стрессовой ситуации меня спасла клубника. Ситуация случилась в июне. За считанные дни я скинула 10 кило: весила 55, стала 45. Не успевала ушивать юбки и брюки. Аппетит отбило напрочь: вся еда казалась на вкус и на консистенцию как вата.
Но тут подоспела клубника, и во мне проснулся основной инстинкт. Я съела, давясь, одну клубничину. Потом вторую. А потом ела, ела, ела, пачкалась в соке, жалела себя и обливалась розовыми сладкими слезами, впервые за последнее время. Меня будто прорвало.
В одной известной пьесе главная героиня презрительно говорит другой, рыдающей: «И это напрасно. Слезами – портянку и ту не вымоешь». А вот не права Васса Борисовна, любой психолог вам скажет. Портянку, может, и не вымоешь, а душу мощно промоешь, облегчишь, очистишь. После умоешься, посмотришь на себя в зеркало («Господи, что за крокодил?!»), попудришься, глубоко вздохнёшь – и можно жить дальше.
Нынче сам юг пожаловал в наши северные широты. Теплынь, в меру дожди и много солнца. Раньше у нас как? Пройдёт ливень – и на долгие недели природа погружается в холод и мрак. Нынче тучки разбегутся – снова жара, солнышко посверкивает в благодарной мокрой, свежей зелени.
Золотисто посмуглели даже самые бледнолицые граждане. И все ягоды созрели почти на месяц раньше. В вишнях стрекочут сороки, упруго подпрыгивают на ветках, как на «тарзанках». Из малинника порскают тучи дроздов, атакующих в огороде всё мало-мальски красного цвета. Их не отпугивают чучела, фольговые вертушки, трещотки, шуршащие занавески из магнитофонной ленты и прочие чудеса людской изобретательности. Кто-то раскладывает в грядках крашенные в красный цвет камушки. Дескать, долбанёт со всей дури дрозд – и клюв набок. Не помогает.
Но вот скользит по земле большая крестообразная тень ястреба-тетеревятника в низко бреющем полёте. Он, как угрюмый пастух, хозяйски облетает свои владения. Вот только его подопечные совсем не рады такому вниманию, притаились, враз наступила мёртвая тишина. Даже сороки попрятались в застрехах. Идёт игра в «Умри-замри-воскресни».
…Малины хватает всем: людям, дроздам, горячему белому ветру, после которого землю под кустами устилает ковёр из крупитчатых волосатых, пузатеньких ягод. Шлёп, шлёп.
Малину в таких количествах, как клубнику, не съешь. Я её замораживаю в контейнерах. Зимой бросаю в блендер, туда же отправляю парочку бананов, туда же кружку молока. Не знаю, как назвать смесь: коктейль? смузи? мусс? На вкус вроде магазинного йогурта, только гораздо полезнее, дешевле и вкуснее. Очень, очень рекомендую.
Собирать малину и ухаживать за ней – одно удовольствие. Сорняки выпалывать не нужно: малина сама кого хочешь сожрёт. Осенью, когда уже прихватило морозцем, вырезаешь старые прутья. Только что малинник стоял запутанный, неопрятный, полёгший – и вот он же: выпрямившийся, чистенький, прозрачный, зеленеет крепкими молодыми побегами.
– Видите, а хныкали, что рано разбудили. Вон сколько народу нас опередило, лежебоки.
Действительно, вдоль песчаной дорожки, сворачивающей с большого тракта, уже валяются велосипеды, притулились мотоциклы с колясками и без, и даже отдельно и гордо стоят несколько разноцветных «москвичей» и «лад».
И пока мы ехали, по обочине бесконечно тянулся безлошадный люд с корзинками, бидонами, вёдрами. Настоящая малинная лихорадка!
Вот нас обгоняет мотик, увешанный гроздьями людей. В коляске сидят две хохочущие женщины, одна на коленях у другой. На самом мотоцикле уместилось пять человек(!). Считайте: водитель, пассажир на заднем сиденье, ещё щуплый гражданин ухитрился втиснуться между задним и водительским креслами. На баке сидит девочка, моя ровесница, вцепившись в основание руля. А сбоку на подножке непонятно вообще на чём стоит и за что держится парень-акробат с развевающимися на ветру длинными, по моде, волосами, и что-то кричит в ухо водителю.
Весёлый мотоцикл, приседая под тяжестью, обдаёт нас клубами пыли и скрывается. У гиббд-шника бы при этом зрелище случился инфаркт.
Малины хватало всем, обирали – только белые сосочки в листве торчат – а наутро снова красным красно! Рядом находился леспромхоз, на сотни километров тянулись заросшие малинником вырубки. Люди бродили как в гигантском зелёном лабиринте, перекликались, аукая, чтобы не потеряться.
Через несколько лет нас, школьников, будут привозить сюда сажать сосенки: чахлые жёсткие травинки, больше похожие на хвощи. Разбивали на пары: мальчики со всей силы вонзали заступы с острыми узкими штыками в хлюпающую водой весеннюю землю и раскачивали. Девочки в образовавшуюся щель быстро совали саженец. Ещё меткий удар заступа – сосенка надёжно зажата в земле. В общем, довольно опасная работа, представляю, какой шум бы подняли нынешние родители: одно неверное движение, и можно остаться без руки. А у нас как-то обходилось: мы были деревенские дети.
И однажды мне в пару попадётся двоечник и хулиган Сашка. Ладно бы он был симпатичный двоечник, а то маленький, худенький. Фу-ты, не повезло! Но не молчать же целый день. Мы заговорим, представьте себе, о книгах. И выяснится: Сашка запойно читает! Я ему признаюсь, что не люблю Горького: мне он кажется нудным и тяжёлым человеком.
– А ты заметила, у него слишком много знаков препинания? Пожалуй, даже избыток. Тире, точки с запятыми, многоточия… Очень утяжеляет текст, – небрежно скажет Сашка, этот двоечник и хулиган, у которого по русскому и литературе слабенькая, с натяжкой, троечка.
Увы, Сашка из запойного читателя превратился в запойного пьяницу. Не разглядела учительница литературного таланта: а может, в нём погиб великий критик.
Собирать малину приятно, если она крупная и её много. Да вот беда: ягода быстро оседает, какие-то бездонные банки, никак их не наберёшь. Мы с братом хитрили: прижимали отверстия банок к чистому большому лопуху, хорошенько встряхивали – и бегом к папе, пока ягоды снова не уплотнились: высыпать в десятилитровое пластиковое ведро, которое он носит на широкой перевязи на шее. Ну и шея у папы, крепкая, красная, а мы-то носим на верёвочках литровые банки – и то тяжело. Получим свою порцию похвалы – и снова на малинную охоту.
Филонили иногда, растянувшись на траве. Подслушивали, как красивые акающие городские тётеньки разговаривают между собой.
– Представьте, как деревня изменилась! Свекровь рассказывает: раньше уйдёт, дверь прутиком подопрёт – никто не зайдёт. Ни-кто! На калитку верёвочную петельку закинет – и всё. А сейчас засовы, замки… У свекрови старый чайник из стайки украли, представляете?
– Да, да, ужас!
– А молоко? Раньше соседка корову держала. Свекровь ей пустую банку на столбик поставит, рублёвку ею прижмёт. Хоть весь день рублёвка пролежит – никто не возьмёт. Ни-кто! А нынче попробуй оставь. Молоко не выпьют, так деньги унесут.
– Ужас, ужас, и не говорите!
Бывает ли когда-нибудь время, которым довольны граждане?
А к вечеру какое наслаждение сесть под кустами, скинуть растоптанные башмаки, вытянуть истомившиеся ноги. Потихоньку смолкает оркестр усталых солистов-кузнечиков, оглушительно, сухо и звонко стрекотавших весь день: будто песок с шорохом неутомимо сыплется из гигантской воронки.
Солнце дымным красным угольком катится к западу, а запах! Как если бы в воздухе разлили тягучее сладчайшее малиновое варенье. Так пахнет, когда мама ставит в остывающую русскую печь противни с малиной – сушиться. Вот и все мы будто сидим в огромной, дышащей жаром духовке, старательно пропекаемся вместе с малиной.
Можно влезть на высокий пень, чтобы поискать мамин жёлтый платок и папину синюю кепку. На сколько глаз хватает, тонут, дрожат в белой знойной дымке заросли малинника и розово-лилового кипрея.
Я наломала целые кипрейные охапки: дома высушу, зимой будем лечиться от кашля. После того, как мне в руки попалась книга «Лекарственные растения нашего края», я готова лечить даже наших собаку и кошку. Стены и потолок в сенях увешаны пучками трав. Душица, мята, подорожник, аптечная ромашка, зверобой. Кошачья лапка – лечить мамину поджелудку, клевер – для папы, у него побаливает сердце…
В гости приезжает тётя, мамина сестра, и я слышу, как они хвалят меня в два голоса: «Молодец, врач в семье растёт». От удовольствия у меня горят уши.
А пока мы вениками из кипрея обмахиваемся от комаров. Вкусно пахнет бензиновыми дымками от отъезжающих с треском, один за другим, мотоциклов. Взметнётся белая тёплая мягкая пыль – и тихо осядет. Один за другим неслышно исчезают велосипедисты, прочно приладив на багажниках бидоны.
Городские готовятся к ночёвке, чтобы не гонять туда-сюда больше сотни километров. Завтра встанут затемно, намалинничаются ещё досыта – и скорее домой перерабатывать малину, чтобы не прокисла. Морозильников-то ещё нет.
А пока они сооружают шалашики, ставят в тенёчек тяжёлые эмалированные и пластиковые вёдра, заботливо завязанные марлей в кровавых пятнах. Женщины перекрикиваются, хлопают крышками багажников, достают снедь. Мужчины несут воду из студёного ручья, разводят костёрчик. Огня почти не видно в плавящемся от жары воздухе.
– Мама, а давайте тоже переночуем здесь! – осеняет меня.
– Здравствуйте, вот новости, мы рядом живём. Завтра приедем.
– Завтра, ты обещала, будем отдыха-ать! Опя-ать противная малина! Обма-анщица!
Усталые мужики окунулись в ручей, крякают, фыркают, оживлённо побрякивают стеклянными посудинками, предусмотрительно охлаждёнными в том же ручье. Папа покашливает, косится и торопит нас домой.
Не знаю, что папа предвкушает, а мы предвкушаем, как сейчас приедем, поедим малины с молоком и побежим купаться на омут, где вода тёплая и белая, как парное молоко.
А пока делимся дневными впечатлениями. Кто-то нашёл ягодное место. «Мишка, – кричу, – Мишка, тут ягод красно, иди ко мне!» А вместо Мишки являются две городские тётеньки и быстро обирают ягоду. Так нечестно! С другой стороны, чего обижаться: малинник-то не купленный, общий. Всем хватит!
Кто-то рассказывает, как «зашла далеко и чуть не заблудилась, кричу-кричу, ну, думаю, всё». И «как рядом что-то зашумит, загрохочет, ветки ломаются, качаются – и что-то бурое убежало». – «Точно, медведь. Или кабан. Они ведь тоже любят малину».
Привираем, конечно, но в этот момент искренно верим, что так оно и было: и медведь был, и кабан.
А родители обязательно вставят прибаутку. Брат уронил одну ягодку, стал подбирать – и всю банку просыпал! Собрал – а малина с травой, с песком, в кисель мятая. «За копейкой нагнулся – рубль потерял!» – это подтрунивает мама.
Я жалуюсь, что напала на особенно сладкую малину – а она, как назло, вся в колючках. Руки в кровь оцарапала, пока продиралась. «А сладкое – оно всегда колючее. Чем слаще, тем колючее», – говорит папа и хитренько смотрит на маму.
Сейчас не нужно ездить далеко на тряском «Иже»: вот она, садовая малина, по периметру участка. Но никакого сравнения с той дикой, лесной, из детства: и по сладости, и по радости.
А впереди ещё ждали грибы. Их сбор (кроме рыжиков) папа считал баловством, поэтому мы ходили за грибами пешком. Однажды начался тихий моросящий дождь и шёл всё время, пока мы бродили по лесу. И когда я сняла шерстяной платок в рыжую и зелёную клетку, все расхохотались. Лоб и даже щёки оказались в ярких рыжих и зелёных клетчатых разводах: платок полинял.
Я сначала смеялась вместе со всеми, а потом обиделась, прямо слёзы брызнули. На носу первое сентября: что, если линька не сойдёт, мне так и ходить клетчатой?! Какая жестокая, жестокая, бессердечная у нас семья, какие злые в ней дети!
Сорвалась и побежала прочь, куда глаза глядят. Ах, так?! Вот потеряюсь, заблужусь и умру в лесу, и смейтесь тогда. Я действительно убежала далеко и уже не слышала криков вслед. Брела, размазывая рыжие дождинки и зелёные слёзы по лицу.
Шла, шла, и вдруг передо мной открылась круглая полянка, усеянная бурыми жухлыми листьями. При ближайшем рассмотрении листья оказались шляпками боровиков – сколько их тут было! Огромные, в мушкетёрских заломленных шляпах, с бархатной рытой подбивкой, средненькие крепенькие и совсем крошечные, толстопятые, в плотно нахлобученных чепчиках. Я в пять минут набила корзинку, потом расстелила злополучный платок и стала собирать в него.
Грибы росли в траве кольцами, свивались восьмёрками и спиралями, я ползала и кружила, не поднимая головы, а грибов становилось всё больше.
И вдруг мне стало не по себе оттого, что на меня СМОТРЕЛО. Ни слева, ни справа, ниоткуда, ни зло, ни приветливо, ни насторожённо – никак. Просто ПРИСТАЛЬНО СМОТРЕЛО. Жуть. Потом я узнала, что это чувство знакомо оказавшимся одним в глухом лесу.
Меня спасло, что идя по высокой мокрой траве, я слегка приминала её, оставляла цепочку следов. По ним меня и нашли.
А ещё после школьных занятий ездили за рябиной, набивали гроздьями старые наволочки. Вокруг горел, полыхал холодным предзимним огнём лес. Стояло такое великолепие, что словами не передать. Да и зачем: молчи и смотри, красота сама на всю жизнь ляжет на сердце.
Как любит земля всё растущее на ней! Бурые мишки, кабаны и дрозды, клубника и малина, рябина и грибы, да хоть сорняки – для земли все родные дети. Только не мешайте, дайте ей кормить всех нас своей грудью. Всем хватит.
Кстати о сорняках – вот рецепт салатика из той же бережно хранимой, потрёпанной книги «Лекарственные растения». Собираем нежные побеги сныти или мокрицы. Крошим вместе с ними укропчик, зелёный лучок, чесночок, яички вкрутую, огурчики (хочешь свежие, хочешь малосольные). Заправляем это дело сметаной… Вкуснотища! Говорят, полезно для женщин. Ещё говорят, здорово чистит сосуды… Ведь в них заложена мощная упрямая, всё пробивающая сорняковая сила.
Приятного аппетита!
БОЛЬШАЯ СТИРКА: ВОСЕМЬ УРОВНЕЙ
Если бы Еленка не работала тем, кем работает, непременно пошла бы в собиратели старины, в экскурсоводы музея бытовых деревянных предметов. Именно деревянных: тёплых, живых. С возрастом они приобретают благородную седину, драгоценный серебряный налёт. Притягивают, впитывают положительную энергетику и отталкивают отрицательную. Помнят добро и отторгают зло. Положите руку на дерево – убедитесь сами.
Что хранилось бы в Еленкином музее? Обязательно на постаменте в центре зала – телега о четырёх деревянных колёсах. Дуга, тёмная от лошадиного пота. Тяжёлые гнутые салазки. Кошёвка – маленькую Еленку из роддома в такой привезли. Оконный наличник, тонко и затейливо вырезанный топором, на зависть вологодским кружевницам.
Тёмный буфет в завитушках. Лавка, отполированная крепкими мужицкими задами до зеркального блеска. Домашняя утварь на грубо сколоченном столе: солонка, миска, плошки-чашки, ложки: круглые, щербатые, истончившиеся, съеденные с краёв. Большие и малые доски для раскатки теста. Корытце для рубки мяса, яиц и лука. Треснутые бадейки, бочонки, ковшики в форме утиц.
На гвозде тяжёленькие деревянные крашеные бусы. Трудяга коромысло, на весь угол повисло, перетаскавшее на своём горбу тысячи вёдер. Почернелый от огня и дыма рогатый ухват. Прялка. Почётное место занял бы ткацкий стан, на котором бабушка, уютно постукивая бердом, ткала половики.
У дверей лопаты, грабли, вилы. Да, вилы тоже были деревянные: острозубое, надёжное, смертельное оружие. Это вам не игрушечные, притворяющиеся железными «made in Chine» Они заполонили хозяйственные магазины, позорно гнутся вкривь и вкось при первом соприкосновении с мягкой землёй. Раньше деревянными вилами кидали навоз, копнили сено, с ними ходили на медведя. На них же, было дело, в «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», поднимали неугодного барина: это к сведению новых русских. Те тоже надеялись, что удерут за бугор.
Но экспонатом номер один в Еленкином музее была бы древняя, изъеденная глубокими морщинами колода. В неё бил ключ, отворяющий в этом месте землю. Будь Еленкина воля, такую бы древнюю дородную красавицу в стеклянный саркофаг заключить!
Она обнаружила таковую в родном селе, куда недавно ездила, ну и заглянула на ключ. Там, как и прежде, даже в самый зной тенисто, свежо и прохладно. Как будто кто-то ладонями бережно огораживает это место от шумного мира.
Вдруг вспомнилось: чтобы поставить игристые квас или бражку, замешать особенно пышное тесто, да хоть заварить душистый чай для желанных гостей – воду брали (в селе принято говорить «цедили») только из ключа. Из колонки – жёсткая, из колодца – невкусная. Со словами: «Тётя Катя с дядей Ваней едут, бегом на ключ», – маленькой Еленке всучивался бидончик. Значит, будет чаепитие с пирогами, замешанными на ключевой воде.
И что за беспокойная натура у Еленки? Что за человек: не умеет предаваться сиюминутным радостям. Несколько раз она бывала в южных краях. Буйство режущих глаз люминесцентных красок, обилие жирной растительности, приторного, пропитанного запахом цветов и фруктов воздуха. От этой экзотики, кажется, должно не выдержать и лопнуть сердце. А Еленку среди броского туристического веселья, говора, смеха, музыки – среди этого праздника жизни временами будто «выключало». Глохла и слепла, впору головой потрясти.
Оглядывалась отрешённо и затравленно, с мучительно надломленными бровями: как её занесло сюда? Чужие красивые люди, бирюзовый бассейн с шоколадными телами… Слишком много неба, слишком много солнца. Без защитных очков всё слишком бело, ослепительно и не настояще. Ощущение огромного аквариума: то ли вокруг люди-рыбы с беззвучно разевающимися ртами, то ли сама Еленка – недоумевающая рыбина за толстым стеклом…
И здесь нужно прожить двадцать дней?! Да она с ума сойдёт!
…А сердце затрепетало и едва не лопнуло, когда увидела село на взгорке, застывший тёмным зеркальцем пруд, плотик на цепи, неумолчный говорок ключа под горой…
В стародавние, ещё Доеленкины времена, по рассказам бабушки, ключ считался если не сердцем, то главной артерией села – точно. Возле уютного шустрого родника вытаптывался пятачок земли под игрища, гуляния. Взопреет народ, выкрикивая частушки, водя хороводы, отплясывая кадриль или «коробочку» – тут же и охладит в ледяной воде разгорячённые лица, шеи.
Свадьба после венчания отправлялась на ключ: а куда ещё? Далеко впереди – возложение цветов к Вечному огню, к памятнику Неизвестному солдату – те солдаты и не родились ещё… Ещё дальше до украшений ленточками деревцев, символического запирания замков на мостах и выкидывания ключиков в реку. До осыпания жениха и невесты лепестками роз, серебряной мелочью, зерном.
В бедном дореволюционном, затем довоенном, а затем и послевоенном селе столько зерна и серебра было не набрать. Щедро, со смехом и добрыми напутствиями, а то и с солёными шутками, орошали, «осыпали» жениха и невесту урожайным серебром и жемчугом водяных капель. Молодых «на счастье» проводили сквозь радугу от мелких водяных брызг. Для создания семицветной, самоцветной дуги умельцы скрещивали особым образом вальки в хрустальных струях.
Был обряд: испить из одного на двоих ковша ледяную, до ломоты в зубах, ключевую воду. Теперь у молодых будет всё на двоих: вода, хлеб с лебедой в неурожай, хлеб без лебеды в богатый год. На двоих радость и горе, детки, крыша над головой. До гробовой доски жизнь на двоих.
Женщины пели о чистоте родниковой воды, о непорочности невесты. Невеста, под придирчивыми взглядами жениховой родни, проходила испытание: мелко семеня, несла на коромысле полнёхонькие до краёв вёдра. Если плывёт павой, ведром не качнёт, капли не уронит – хорошая хозяйка: добро рукавом не расплещет, дом будет полная чаша.
И на следующий день свадьба заглядывала на ключ. Мужики умывались, фыркали как кони, изгоняя остатки хмеля. Хватит, погуляли: ждёт земля, ждёт соха.
Однажды был случай, о нём долго рассказывали. Жених – то есть уже молодой муж, после брачной ночи, разделся до исподнего и сиганул в пруд. Доплыл до середины, вдруг выскочил из воды как рыбой укушенный. Выкрикнул что-то – и ушёл в воду с головой. Выловили тело только к вечеру.
Старые люди объясняли: мол, пригожего парня утянули на дно игривые девки-водяницы. Всем же известно: в местах, где ключи впадают в пруд, любят гнездиться водяницы. А сельский учитель сказал, что водяницы – это предрассудки и суеверие. Что там, где бьют ключи – нагретая и ледяная подземная вода не успевают смешиваться. Вот от разницы температур у бедняги и свело ноги судорогой.
А ещё шёпотом рассказывали, что любимая невеста оказалась неверна своему суженому – и жить с этой мыслью ему показалось невыносимым…
Вот она, лежащая ниц, вся в рубцах величественная старая колода, перевидавшая на своём веку столько свадеб, игрищ и… полосканий. В ней Еленка вот этими самыми руками, только маленькими и в цыпках, возила, плюхала тяжёлое бельё. Уже тогда колода имела весьма почтенный возраст. Сколько же ей сегодня лет?!
Давно-давно унесло ветром лиственничное семечко, проклюнулся росток. Наливался соками, тянулся к солнцу и не ведал, какая судьба ему уготована. Дерево выросло, возмужало, его срубили. Безымянный мастер вырубил, выдолбил из могучего ствола длинное глубокое корытино. У лиственницы удивительное свойство: чем больше соприкасается с водой, тем твёрже и прочнее становится. Железное дерево, и огонь его не возьмёт.
К счастью, окрестные музейщики-краеведы пока не прознали о наличии под боком такого раритетного сокровища. Иначе давно бы умыкнули и сделали истинным украшением своих музейных залов. А Еленка им ничего и не скажет.
…Сегодня здесь тишина. Селянки изредка придут, расстелют синтетические ковры и дорожки, потюкают дощечкой (вальки уже не сохранились), пошоркают щётками в воде.
Да ещё местные алчущие души устроили подальше от нескромных взглядов тихий приют. В торце колоды народный натюрморт: огрызок огурца, скорлупа от облупленных крутых яиц, пустой аптечный пузырёк с этикеткой «Этиловый спирт 80-процентный». Удобно: разлили, разбавили студёной водицей, прикорнули в прохладе.
Раньше жизнь у ключа била ключом. На полоскание выстраивалась очередь – это был своеобразный женский клуб.
Это нынче: покидал три кг сухого белья в «Индезит» или «Занусси», захлопнул окошко-иллюминатор. Оно там крутится-вертится. Спросит муж:
– Чего делаешь?
А ты, лёжа на диване, оскорблённо:
– Разве не видишь? Стираю.
Через два часа вынимаешь всё чистое и сухое.
А тогда… О, это было целое искусство, трудоёмкий, почти ритуальный процесс омовения белья. Семье Еленки повезло: у них была редкая по тем временам стиральная машинка. При включении она скакала как мустанг и плевалась из-под крышки горячей пеной.
Вот, скажем, одна такая большая стирка, обычно на другой день после банного. Сначала отбиралось белое: простыни, пододеяльники, наволочки, перед праздниками – тюлевые занавески. Потом цветное: платья, рубашки, халаты, полотенца. В последнюю очередь чёрное: штаны, носки, куртки. Мама сортировала кучи, замачивала во всех имевшихся в доме корытах и тазах. Всю ночь это добро мокло в скользкой мыльной воде.
Утром его, разопревшее, по очереди закладывали в машину. Маленькие братишки вставали на табуреты и на цыпочки и, держась за вздрагивающие края, наблюдали, как, всплёскивая, бешено крутится бельё в горячей воде.
В печи гудела, дымилась вёдерная кастрюля: по мере стирки добавлять кипяточку. К машине прилагались специальные деревянные щипцы: чтобы не ошпарить рук, поправляя, распутывая горячее бельё, вызволяя мелочь, забившуюся в пододеяльник.
Однажды мама опрокинула себе на ногу кастрюлю, всю кухню заволокло паром. Мама запричитала и заплакала от боли.
А Еленке показалось – она так смеётся. Засмеялась тоже, но увидела искажённое, залитое слезами мамино лицо… Вздувавшиеся на глазах пузыри на маминой ноге – без перехода заревела басом как гудок. Мама потом месяц лежала в больнице.
Постиранное бельё пропускали сквозь тугие резиновые валики. Братья крутили ручку, старшая дочь и мамина помощница Еленка закладывала вещи. Тут главное, чтобы пальцы не утянуло между валиков: мгновенно косточки расплющит.
Обратно в бак устремлялись потоки серой мутной воды, а бельишко лентой выползало с другой стороны и шмякалось в подставленную крышку: плоское, почти насухо выжатое. Зато Еленка и братья после этой процедуры были в воде с головы до ног: самих хоть пропускай через валики. А-а, а говорят, ужастиков тогда не было.
Постельное бельё загружалось в выварку. Кипятилось, ходило в котле, чмокая, вздуваясь белыми клокочущими пузырями в клубах пара. Мама храбро помешивала пышное белое варево деревянной палкой: эта операция Еленке пока не доверялась. Затем оно на часок-другой погружалось в воду с синькой или разведёнными чернилами.
Наверно, можно было выполоскать в той же стиральной машинке – кстати, так некоторые хозяйки и поступали. Но как тогда оно приобретёт свежесть и ослепительную белизну, которые получаются только от ключевой воды?
Да и откуда напасти столько воды? Притащить десятки вёдер колодезной, после выплеснуть столько же грязной… Канализация-то была только в сельской школе.
Даже в садике малыши ходили в обычный нужник с выгребной ямой, только тёплый. Три отверстия в полу с деревянными круглыми крышками-затычками. В крышках ручки (кстати, в Еленкином будущем музее такие тоже неплохо бы иметь для прикола).
Однажды мальчики-озорники из старшей группы взяли и перевернули крышки ручками вниз! Шуму было! Взрослые дознавались, кто нахулиганил. А у мальчишек было просто развито чувство юмора.
Мама с Еленкой ходили на ключ под гору, это в километре от села. Папа подтаскивал на коромысле тяжёлые корзины с постиранным бельём и уносил с выполосканным. Нередко приходилось стоять в долгой очереди: не они одни такие на селе чистюли, не одна их семья многодетная. Оставляли корзины и смело уходили домой часа на два-три. Братишки бегали и смотрели: не подошёл ли их черёд.
Бельё расстилали в прозрачнейшей стеклянной воде, в нашей старой знакомой колоде, заросшей по наружным краям изумрудной зеленью. Чтобы изгнать остатки ядовитого порошка, Еленка усердно ворочала и тюкала бельё деревянным вальком. Шлёп-шлёп, тюк-тюк.
Тут важно, чтобы поселившаяся на бортиках обманчиво нежная зелёная слизь не коснулась белого белья. Тогда всё, тогда в жизнь эту зелень не выведешь.
В дне колоды было прорублено сливное отверстие. Оно неплотно затыкалось деревяшкой, выточенной в форме бутылки или колотушки, от воды приобретающей мраморные разводы. Тоже, кстати, достойнейший предмет для музея. Мастер-виртуоз так приспосабливал затычку, чтобы вода всегда была проточной. Чтобы наполняла колоду, но не перетекала через край.
Мелочь вроде носового платка или носка норовила прошмыгнуть в щель с мощным потоком воды – и ищи-свищи потом пропажу в пруду.
Мама решительно натягивала сначала тонкие шерстяные перчатки, поверх – резиновые.
Принято посмеиваться над советским качеством – а те резиновые перчатки служили годами. Это нынче китайские одноразовые, по цене вовсе не одноразовой – надел, поработал и сразу выбрасывай. Если из космоса смотреть на Россию – она, наверно, окажется жёлто-оранжевого резинового. Пустыни ни при чём – это обширные свалки расцвечены яркой резиновой, перчаточной рваниной.
Сельские женщины презрительно посматривали на это добротное, двойное тёплое облачение маминых рук. Наверно, мама в их глазах была «интеллигенцией» и «барыней». Они-то полоскали голыми руками даже зимой, когда ключ тонул в морозном тумане. На их разбухшие, задубелые красные руки было страшно смотреть.
– Сначала будто огнём или крапивой жгёт, – простодушно признавались они. – А потом ничо-о, терпко.
В смысле, терпеть можно.
Мама, сторонясь обжигающих хуже кипятка брызг, щепотью ухватывала простыню или наволочку, или кофточку, и ловко и сильно плескала туда-сюда, рассекала воду. Потом резко, энергично закручивала в бурлящей воде тугую спираль из белья так, что у неё выворачивались локтями наружу руки. Крепко встряхивала и швыряла в корзину – готово! Ох, как трудно давалась чистота!
Перед развешиванием Еленка касалась носом холодного свежего белья, которое хранило дивный, неповторимый запах ключевой воды. И если погода выдавалась солнечная и ветреная, Еленкино сердце радовалось. Собирая потом в охапку сухие звенящие простыни и пододеяльники, снова утыкалась в них носом – они пахли солнцем и ветром!
Ну вот, позади, ни много ни мало, семь стирально-полоскательных этапов. Семь уровней, сказали бы современные продвинутые дети. Сортировка, замачивание, стирка, отжим, кипячение, полоскание, сушка.
На последнем, восьмом «уровне» бельё попадало под тяжёлый старый жёлтый утюг. И вот постепенно выстраивались стопки каменно твёрдых, отливающих синевой квадратиков. Особенно старательно Еленка утюжила бельё на сгибах.
Остаётся разместить стопки в шифоньере, переложить кусками душистого земляничного мыла… И как здорово потом развернуть и встряхнуть, и вдосталь налюбоваться тугими складками: свидетельством их с мамой большого труда.
– Смотрите, в какие чистые постельки вы ляжете, – говорила Еленка младшим братьям. – Помойте ножки как следует. И чтобы мне не писать!
СТАРОВЕРЫ
Жаркий полдень. Город с миллионным населением, изнывающим от июльского зноя. Центральная улица, запруженная раскалёнными машинами и ленивыми толпами отдыхающих горожан.
Дебелые разморённые женщины. Туго обтянутые груди, животы и бёдра. Крупные янтарные, коралловые, стеклянные шары, колышущиеся в ушах и глубоких вырезах платьев.
Обмахиваясь платками, газетками и веерами, обладательницы массивных бус и серёг с облегчением спускаются в спасительную прохладу тёмных подвалов кинотеатров. С удовольствием помещают распаренные тела в кресла, чтобы на полтора часа укрыться от палящего солнца.
На рекламных плакатах красотки, в чём мать родила, с немо, как у рыбок, разинутыми ротиками: пить, пить! Им тоже жарко! В сквере разместился заезжий луна-парк. Под полосатым тентом у автомата, несмотря на жару, толпятся зеваки. За десятирублёвую монетку они видят в глазочек такое, что заставляет их спины конвульсивно дёргаться, а затылки и шеи – багроветь от смеха.
Молоденькие продавщицы в ларьках – с разморёнными розовыми лицами, в сарафанах, голоплечие и соблазнительные. Очереди, очереди к продавцам морсом, квасом, пепси и ледяной газировкой, очереди к лоткам с мороженым. Тонны мороженого, тонны литров жидкости – чтобы утолить жажду, охладить миллионный город.
К городскому пляжу плывёт человеческая пёстрая река. Разноцветные очки: круглые, овальные, в пятиугольных оправах, чёрные, зелёные, розовые, зеркальные. Панамы, соломенные шляпы, козырьки, яркие пляжные сумки, влажные полотенца. Мелькают голые смуглые ноги, худые и толстые, уродливые и точёные.
В пропитанном духами, пивом, дезодорантами, потом, колой, леденцами и музыкой потоке людей – три держащиеся вместе фигурки. Они резко выделяются в толпе. Они приехали в город за сто с лишним километров из посёлка, с давних времён сохранившего советское название Рыбсовхоз. Неофициально его называют Староверские Озерки.
Там ещё сохранились чистые реки и озёра, в которых водятся хариусы, стерлядки. Правда, к посёлку всё ближе подвигаются со своей безжалостной громоздкой техникой нефтяники. Всюду, где они появляются, исчезает птица, зверь, рыба. И здесь она скоро исчезнет – и посёлок, занимавшийся рыболовством без малого триста лет, останется без работы.
Быстро шагает, по-солдатски размахивая руками, маленькая прямая, тёмная от солнца женщина в полосатом пиджачке, сборчатой чёрной юбке и нарядном цветастом платке. Она по-солдатски размахивает большими, расплющенными работой кистями. За нею спешат мальчик и девочка лет семи-восьми. У них такие же, как у матери, тёмные скуластенькие лица.
Мальчик одет в новый, на вырост, костюм, в котором 1 сентября он пойдёт в поселковую школу. В новых кожаных башмаках его ногам жарко и тесно. У девочки худые голенастые, как у гусёнка, ноги в больших остроносых лакированных туфлях – скорее всего, из сундука, не выхоженных матерью в молодости. Длинная юбка мешает ей идти, забиваясь между худых колен. Чудесные каштановые косички спрятаны под платок, такой же, как у матери плотный и цветистый.
Троица нагружена покупками. Мальчик с девочкой, запыхаясь, едва поспевают за матерью. Балансируя свободными ручками, вдвоём тащат авоську, доверху набитыми вонючими кусками хозяйственного мыла и прессованной соды. Мать несёт в одной руке сумку, туго набитую пакетами с рисом, по бокам в пазухах натолканы катушки разноцветных ниток. Через плечо, крест – на – крест, перекинуты мотки капроновых сетей.
(В посёлке кое-что из этого можно купить, но хозяин передвижного ларька заламывает такие цены, что дешевле несколько раз в году вырваться в город).
Лицо у женщины сосредоточенное, отрешённое, замкнутое, полное решимости преодолеть этот трудный день. Она широко шагает, не оглядываясь на детей, не глядя по сторонам. Слава Богу, не первый раз в городе, не такие чудеса видывала.
Правда, её изумляет чудовищное количество собранных вместе и одновременно ничего не делающих людей – абсолютно здоровых, сильных, нестарых. Это кажется ей противоестественным. Её деятельную, злую на работу натуру это возмущает. Пройдись кто праздно, разряженный, полуголый по посёлку в разгар дня – его заплюют люди. Такую девушку не возьмут замуж, а кто захочет выйти за порченого парня-лодыря?!
После того как её муж утонул, она сама многое бы дала, чтобы в её семье появилась лишняя пара рук. Ещё её простодушно удивляет, как их посёлок, в котором преобладают старые женщины, способен круглый год кормить вкусной белой рыбой этих здоровых, по всему видно, потребляющих много хорошей пищи людей…
Ведь точно такие же усталые немолодые женщины работают на полях в соседних деревнях, выращивают картошку, хлеб…
Но особо размышлять и дивиться некогда – ей нужно успеть в центральный Универмаг, где есть отличный отдел. Там продаются хорошие рыболовные снасти – не то, что гнильё и ржавчина, которые пытается всучить хозяин приезжей лавочки.
Потом – в скобяную лавку. И нужно успеть к автобусу – билеты на обратный рейс лежат у неё в нагрудном кармане, надёжно заколотые булавкой.
Другое дело – дети. Правда, они уже устали оглядываться вокруг и тайно восхищаться крутящимися зеркальными дверями, манекенами в витринах – совсем как живые люди. Девочка, увидев их впервые в жизни, вскрикнула от неожиданности…
Ещё её привлекают лотки с нарядными яркими блестящими фруктами. Как они, должно быть, сказочно вкусны и сочны! Только однажды, на её памяти, вернувшись из города, мать привезла детям лакомство. Девочка раздёрнула «молнию» на кирзовой сумке и разочарованно вздохнула: сумка была до краёв полна мелкими сморщенными, как на посадку, картошками.
– Мама, зачем ты привезла из города столько мелкой картошки?
– Это не картошка, дочь, а грецкие орехи.
Целых два месяца они с братом лакомились сытными маслянистыми ядрышками: каждому по три штучки в день. Мать попробовала и помотала головой:
– Не, невкусно! Ешьте сами.
Но девочка видела, как мать, прищурившись от удовольствия, долго катала во рту сладкие ореховые внутренности…
Детей поражает великолепная и бесстыдная одежда прохожих, их красивый выговор, странное непринуждённое поведение. Дети устали, они мокрые как мышата, дышат открытыми ртами. Им жарко, тесно и неудобно в той одежде, в которую вырядила их мать, желая одеть богато и прилично, на зависть всем.
Мальчик старше. Ему стыдно за глупый неуместный школьный костюм в такую жару, за ботинки, за короткие мятые брюки, за красные носки на ногах. Он идёт быстро, стиснув зубы и глядя под ноги. Девочка тоже страдает в тесных туфлях, ей неудобно в колючей шерстяной кофте с мокрыми от пота подмышками.
Мальчику кажется, что все встречные шарахаются, стараются брезгливо не задеть их. Ему стыдно за мать, такую маленькую и стремительно бегущую, что, кажется, она вот-вот врежется в живот прохожего. Стыдно за старую скукожившуюся сумку с рисом, за выглядывающие из карманов катушки, за авоську с вонючим мылом.
Какая-то добрая пожилая женщина участливо объясняет, что до Универмага гораздо быстрее добраться на метро, но мать боится метро.
Наконец, они в Универмаге. В отделе с рыболовными снастями не протолкнуться. Мать оставляет детей у прохладной гладкой белой колонны. Наказывает: «Стерегите хорошенько, не своровали бы». Она выходит через полчаса с пылающим от волнения лицом, донельзя довольная. Улыбается, утирает концом платка лицо, в руках несёт пакеты и коробочки.
И в другом отделе она оставляет их у кассы с тем же наказом. Её надежды оправдались: здесь есть всё, что ей нужно, и по очень дешёвой цене. Она возбуждена.
Мальчик с девочкой, переминаясь, тоскливо исподлобья поглядывают на очередь. Они видят большую тётку с глянцевыми, мелко вьющимися, как в срамных местах, волосами, поднятыми скрученной косынкой, с усиками над губой, с толстыми жабьими бело-розовыми руками, на которых у подмышек от тугих вырезов образовались жирные трясучие, как студень, складки. Тётка вдруг оборачивается и грозно кричит на мать. Дети с ужасом и невыносимой болью видят, как их всегда гордая прямая мать виновато съёживается, становится суше и меньше одной моложавой тёткиной руки.
Дети готовы провалиться сквозь мраморный пол. Им кажется, все вокруг знают, что безответная смуглая женщина – их мать. И знают, с каким наказом она их здесь оставила. Хотя все оставляют в белых шкафчиках свои нарядные сумки, разбирают проволочные корзинки и тележки. А мать трясётся над старой кирзовой сумкой.
Дети боятся взглянуть в сторону кассирши. Им кажется, что она тоже посматривает на них подозрительно, что они стоят в неположенном месте, и вот-вот прогонит их.
Почему так съёжилась и состарилась мать, думает мальчик. Почему её обычно спокойное маловыразительное широкое лицо сморщено противно, как у китайца? Почему знакомый пиджак в полоску, который мать надевает в праздники и прикалывает медаль, здесь кажется таким бедным и старым?
Почему она совсем не похожа на ту, привычную, строгую невозмутимую женщину, всеми уважаемую в Озерках, которой уважительно кланяются, к которой приходят за советом? У неё сильные твёрдые мужские руки. Вздуваясь жилами, они вытаскивают сети с бьющимися серебряными рыбами. Они не узнают матери.
Покупки сделаны, все идут дальше. Дети хотят пить – жара точно с ума сошла. Мать решается дать им по сморщенному кислому домашнему яблочку. Поглядывая из-под ладони на солнце, уговаривает: «Погодите, вот сейчас дойдём».
Наконец, она облюбовывает газончик за автовокзалом, у плетёной алюминиевой оградки. Расстилает в тени газетку, вынимает взятые из дому хлеб, бутылку молока, вяленую рыбу, яйца. Двуперстно крестится, шепчет молитву.
Мальчик хмуро отодвигает хлеб и рыбу. Ему снова кажется, что все проходящие оглядываются на них и насмешливо улыбаются. Неужели мать не видит, что на них смотрит человек с метлой, что в любую минуту их может прогнать полицейский?
Мать не понимает состояния сына. Добродушно удивляется: «Ты что, не проголодался?» Запрокинув голову, спокойными крупными глотками пьёт молоко, утирает губы. «На, Лидка», – протягивает девочке. Облупливает яйцо, отделяет мякоть рыбы от костей, невозмутимо ест. Свободной рукой раскладывает на траве покупки и подсчитывает вслух расходы.
Мальчик сидит, угрюмо отвернувшись. В эту минуту ему не хочется видеть мать. Но, наконец, и эта пытка кончена. Мать начинает собираться. В это время к ним подходит дворник. Но он не бранится и не гонит их, а лишь предупреждает, чтобы женщина с детьми поторапливалась. Может подойти дежурный по автовокзалу и оштрафовать их.
Они внутри вокзала. Рядом с ними в красных пластиковых креслах сидят молодая женщина с девочкой лет пяти. На девочке белые шортики и красная маечка, в руке большой очищенный апельсин. Подбородок её залит жёлтым сладким соком. Девочка не ест, а играет: пускает пузыри, перекатывает во рту измученную раздавленную дольку, выплёвывает:
– Не хочу-у…
Она сама не знает, чего хочет. Её белокурая мама отлично это понимает и не шевельнётся, запрокинув голову и закрыв лицо пилоткой. Пилотка падает с её красивого лица. Она открывает глаза и видит рядом смуглое цветастое, похожее на цыганское семейство, от которого к тому же пахнет рыбой. Она легонько шлёпает девочку, заставляя её подняться, и уходит в другое кресло. Девочка визжит и напоследок, изловчившись, плюёт пачкающейся апельсиновой слюнкой на сумку с рисом.
Как хочется мальчику с девочкой прочь из этого утомительного непонятного города, который сначала ошеломил и очаровал их, а потом измучил, изжевал и выплюнул, как изнывающая девочка – апельсиновую дольку.
Скорее в посёлок, откуда они выходили сегодня ранним прохладным утром к остановке на шоссе, ведущее в Большой Город. Тогда от великанш елей ложились на землю косые тени, и из-за заборов на них с завистью глядели тихие деревенские ребятишки. Они воображали, какое неотразимое впечатление произведут на горожан прекрасный парадный костюм и негнущиеся ботинки на мальчике, и туфли и синтетические гольфы на девочке, и цветастые платки с искрой на ней и матери…
А мальчик и девочка чинно шагали по прибитой росой пыли, не оглядываясь, боясь нечаянно уронить себя в глазах провожавших их друзей. Они были так горды: они уговорили мать взять их с собой в Большой Город!
А теперь желали одного: скорее отсюда в тихий озёрный посёлок, к друзьям, к большой воде, которая у берегов подёрнута нежной изумрудной ряской, а в серёдке синя и неподвижна, как зеркало. И с тяжёлой грацией скользят, разрезая зеркало, лодки рыбаков.
СОЛОВЬИНАЯ РОЩА
В детстве я приставала к взрослым: как поёт соловей да как поёт соловей? И когда мне однажды сказали: «Слышишь? Вот это и есть соловей» – я была страшно разочарована. Жиденькое, жалкое щёлк-щёлк. Цвирк-цвирк-цвирк. Тр-р-р. Фьюить-фьюить! И вот этот примитив восхваляют люди, этому набору бесхитростных звуков посвящают поэмы, стихи, сказки?!
Один только соловей Андерсена чего стоит, заставивший китайского императора плакать, поднявший его со смертного одра. Я-то ожидала божественной, ритмичной, стройной, разрывающей душу мелодии, какого-нибудь концерта виолончели с оркестром.
А тут урлюлю. Тыр-тыр-тыр.
Так было до восьмого класса.
Я готовилась к экзаменам. Ах, первые экзамены, майские жуки на ниточках, тяжёлая, тугая сирень в палисаде (если найти и съесть цветок с пятью лепестками – сдашь всё на «пятёрки»).
Первые школьные влюблённости в учителей. В математика, в преподавателя военного дела, в студента-практиканта…
Любовные тайны поверяла дневнику. Дневник прятала на печке в старом валенке. На каникулы из города приехал двоюродный брат Вовка. Украл дневник, по-обезьяньи гримасничая и показывая язык, вскарабкался на крышу. Комментировал и хохотал.
Я до холода в животе боялась высоты, бегала вокруг дома и верещала от обиды и бессилия. Пыталась выманить сорванца ирисками, стеклянной авторучкой, сборником фантастики. Сулила страшные кары (утащу лестницу, и сиди там до скончания века, нажалуюсь твоей маме, поколочу, убью).
Вовка соскучился. Спустился, сунул мне мятый дневник – выхолощенную, осквернённую, поруганную мёртвую Тайну… Очистить её могло только пламя в печи.
Но я отвлеклась от соловьёв. И вот, значит, все спят. Я потушила лампу, захлопнула учебник, сладко потянулась. Распахнула окно. Огромная ночь дышала талыми водами, влажной землёй, горьковатой черёмуховой свежестью.
Представляете: на сорок километров вокруг ни одного дымящего завода, всё леса, леса. Мы принимали это как должное, дышали чистейшим воздухом, не понимая своего счастья, своего богатства, которое не купим потом в городах ни за какие деньги.
А дом у нас стоял внизу села, в самом конце улицы, у лога. За логом речка, за речкой сосновая, с вкраплениями осин и берёз, рощица.
И вот эта серебряная лунная роща… Она такое вытворяла! Она жила своей бурной ночной жизнью. Со всех сторон одновременно звенела сотнями, а может, тысячами крошечных нежных мощных голосков. Голоски самозабвенно, ликующе заливались, надрывались, щёлкали, трещали, улюлюкали, свистели. Каждый их обладатель старался перещеголять сам себя. И впрямь шальные соловьи: сошли с ума!
Висел туман, было влажно, заречные соловьиные рулады висели точно над самым ухом. Насидевшись у окошка в полном смятении чувств, я легла, но что толку.
Сколько раз я вскакивала, металась по комнатке. Прижимая руки к груди беспомощно и растерянно, не понимая, что делается со мной и вообще на белом свете. Бормотала: «Господи, да что же такое?!»
Снова высовывалась в окошко, тщетно всматривалась во тьму. И снова всплёскивала руками… И не было рядом наперсницы Сони, чтобы эгоистично будить её, как Наташе Ростовой в Отрадном, и делиться сладкой невыносимой мукой, которая, того и гляди, разорвёт заблудшее бедное четырнадцатилетнее сердце.
В общем, ни черта я в ту ночь не выспалась и весь день ходила как пьяная. Так вот что с людьми на всю жизнь делают эти маленькие колдуны.
Сейчас возле нашего городского дома тоже селится пара-тройка соловьёв: как раз наступают черёмуховые холода. Почти снеговой, пронизывающий ветер гнёт у речки деревья. Ледяной дождь барабанит по стеклу. А соловьи самоотверженно и упрямо щёлкают, ведут свою брачную песню.
Ну, соловьи. Ну, щёлкают. И что? Повернёшься в мягкой постели, закутаешься в тёплое одеяло. Охо-хо-нюшки, и охота же кому-то в такую погоду заниматься любовями. Против природы не попрёшь. Как их, малышей, ветром-то не сдует.
Недавно иду в парке, а там у канавки столпотворение. Девчушки с ранцами заворожённо замерли у ливневой решётки. Разглядывают, как невидаль, ручей, падающий в гулкое подземное коммунальное хозяйство. Бросают щепочки, болтают в мутной водичке резиновыми сапогами. «Ух ты, здорово!»
Взять бы учителям и свозить их в весенний лес, показать настоящее половодье с водопадами. Вот честное слово, стоит нескольких уроков литературы и патриотического воспитания. Знаете, что вспоминает моя уехавшая за границу подруга? Русскую бурную, грозную и грязную, безбашенную весну. Там, говорит, и весна какая-то ненастоящая, чистенькая, игрушечная, скороспелка. Ляжешь вечером: зима, откроешь глаза утром: лето.
– А у нас, забыла, весной ступить некуда, – подкалываю я. – Чего только не вытаивает: собачьи какашки, окурки, бутылки, пластик, презервативы и прочие отходы жизнедеятельности человека разумного. А миргородская лужа возле твоего дома? Ливнёвка забита – целый океан, пройти невозможно, ты чертыхалась, каждую весну в ЖЭК писала.
– Ага! – мечтательно, влюблённо подхватывает она. – А утром та лужа замерзала… Идёшь, бывало – ледок под ногами хрустит. И невидимая синичка: «Пинь-пинь!» А заря – как девчонка разалевшаяся. – В трубке всхлипы и сморкание, телефон отключается. И никогда не назовёт она ту, чикагскую зарю, разалевшейся девчонкой.
А у нас на полях ещё лежит могучий и обречённый, насыщенный, пропитанный водой апрельский снег. И вдруг однажды просыпаешься от непрестанного ровного, мощного гула, усиливающегося с каждым часом. Большая вода пошла!
После уроков прыг в сапоги – и с подружками на берег, усыпанный сухими жёлтыми пуговичками мать-и-мачехи. Там с каждой горы несутся, скачут, крутятся в бешеных пенных заторах бурные речки: каждая что твой Терек. Грохот такой, что собственного голоса не слышно. Первая ночная вода уже унесла муть, сломанные ветки, грязную жёлтую пену – и сейчас прозрачна, как после многоступенчатой очистки.
Через неделю большая вода схлынет, оставив полёгшие, как бурые водоросли, травы и множество чистейших лужиц, полных изумрудными комками крупной лягушачьей икры. Вылупятся из мамкиного гнезда колонии лягушат и резво поскачут к речке.
Никакой химии тогда на личных участках хозяева не признавали: лягушки были бессменными санитарами огородов. Сейчас той икрой и головастиками лакомятся прожорливые горластые чайки.
Давятся, не могут проглотить, из хищных крючковатых пастей свисают лохмотья живой зелёной слизи. А маленькие злобные глазки уже высматривают следующую порцию. Ужасно вредная, мерзкая, сварливая, хабалистая, помоечная птица. Совершенно не вписывается в тихие серенькие среднерусские пейзажи.
Кстати, в наших местах чаек, как и колорадских жуков, отродясь не водилось. Как ни странно, их полчища появились аккурат вместе с перестройкой. Такие, знаете, прилетели и приползли гонцы грядущих перемен.
…А вот с этих спящих, толсто укутанных в снежные одеяла гор мы катались всего-то месяц назад. Был морозец, я разгорячилась, мне было весело и тепло. А у брата-близнеца Серёжки, нырнувшего с лыжами в сугроб, зуб не попадал на зуб.
И тогда я решительно стянула с его закоченевших рук варежки и дала взамен свои: мягкие, нагретые, дышащие теплом. Во что были превращены Серёжкины рукавицы! Заскорузлые, насквозь промокшие и схваченные льдом, жестяные – хоть молотком отбивай. С трудом втиснула туда свои пальцы, вмиг окоченевшие…
Но как же мне было славно и хорошо! Я представляла, как у Серёжки отогреваются руки, как им мягко и уютно в моих горячих рукавичках. И всё забегала вперёд, то с одной стороны, то с другой. Приседала как собачка, заглядывала в его лицо и счастливо повторяла:
– Тебе, правда, тепло? Ты ведь согрелся?
Совершенно не замечая, что сама не чувствую своих рук. Он, дурачок, отворачивался, и от серых глаз к носу у него вдруг протянулась дорожка из слёз. «Ты чего, Серёжка?!» И сама вдруг хлюпнула носом, из глаз брызнули сладкие слёзы…
В общем, когда я читала толстовского «Хозяина и работника», я очень хорошо понимала хозяина. Который своим телом укрыл работника и, замерзая и умирая, был восторжен и счастлив.
Когда сырым апрельским днём Запахнет в воздухе весною, Когда на вербах бугорки Глазочки серые откроют. Когда хрусталь сосулек враз Заплачет звонкою капелью, Когда поймаешь на себе Ладошки тёплые апреля. Когда горластые ручьи В безмолвье снежное ворвутся, И сотни этих ручейков В один большой поток вольются, Когда весь этот шум и гам Ворвётся в день твой, пусть ненастный, Ты вдруг, зажмурившись, поймёшь, Поймёшь, как жизнь твоя…– Ужасна!
– Опасна!
– Колбасна! Гы-ы! – глумливо подсказывают, соревнуются в рифмоплётстве двоечники с задних парт. Художника обидеть может каждый. Особенно если художнику девять лет и его безжалостно выставили перед классом читать свои стихи.
А почему бы, когда подсохнут дороги, не закатиться по местам детства? Не за тысячи километров живём – почти рядом. Ох, и окунусь, ох и очищусь душой, и поностальгирую досыта. В дороге извертелась, мухой прожужжала мужу уши: «А вот здесь мы…» «А если сюда свернуть…» «А вон там, представляешь…»
Вот и родные ложбинки, и наслаивающиеся друг на друга пирожками холмы. Там мы вволю нагуляемся, и я вдоволь пожужжу как муха.
При въезде в село нас гостеприимно встречают… выстрелы. На солнечном пригорке, как цыплята, расположилась кучка мужиков за скатертью-самобранкой. Среди бела дня, здоровые молодые мужики.
Вахтовики, наверно, – нынче это самая престижная работа в деревне. Это не коровам хвосты крутить, не в навозе за копейки рыться. Слетали на прииски, покачали из матушки-Земли природные ископаемые, срубили бабла – и месяц расслабляйся.
Вот и расслабляются. Пристреливают ружьишки. Браконьерство – второе престижное, почти аристократическое занятие в деревне.
В десятках метрах от стрелков катятся редкие машины. Идёт бабушка с сумкой, две молодые мамы катят коляски. За мостом больница, дорога довольно оживлённая.
Мужики ржут, громко перекидываются ёмким словцом. Лениво пуляют куда придётся: в деревья, в небо, в кусты. В лесок, где мы собираемся бродить, ностальгировать и испытывать катарсис. Как-то не хочется вступать в диалог с вооружёнными поддатыми людьми: «Мужики, вы поаккуратнее тут». Вряд ли он получится миролюбивым, диалог.
И я стучу самым обыкновенным образом: набираю 112. Сообщаю координаты. Там слегка удивлены, и обещают прислать людей.
А пока мы на глазок прикидываем расстояние, где, по нашим расчётам, не послужим живыми мишенями, и углубляемся в соловьиную рощу.
Хотя рощей это назвать трудно. Поваленные рыжие, мёртвые, изъеденные жучком остовы елей. Непролазные кучи веток, сорванных ещё в летние бури. Стихийные свалки: строительный мусор, склянки, рваный полиэтилен. Разросшиеся неопрятные вербы и ольхи норовят выколоть глаз. И это не дремучий лес – окраина села.
А ведь здесь, честное слово, в моё детство был кусочек швейцарских Альп. Зимой вился укатанный до блеска серпантин лыжни между пушистыми, как игрушечки, сосенками. Несёшься со свистом, только успевай увёртываться от встречных лыжников и палками регулируй крутые виражи.
Летом было ухоженно и чистенько, трава как подметённая. Будто лесник самолично каждое утро прохаживался метлой. Вдоль дорог тянулись хвойно-берёзовые аллейки, нога скользила по паркету из еловых иголок. В логу повсюду бойко тянулись истоптанные тропки – сейчас ложок заболочен.
Но мой любимый омут-то жив, я надеюсь? Когда после сбора ягод, распаренные зноем, неслись купаться, а на западе собиралась грозовая туча, и погромыхивало. Вода в омуте была молочно-белая: видно, в верховьях уже прошёл ливень. И такая тёплая, будто её для нас специально долго и заботливо грели кипятильниками.
Омут есть… Кажется. Но к нему не пробиться из-за трёхметровых будыльев борщевика. Прямо борщевичные джунгли. Заденешь громадные зонты: обильным дождём за воротник, на землю сыплются семена, как мифические зубья дракона… Кстати, до перестройки нашествия этого злостного сорняка тоже что-то не замечалось.
А вот мимо этого холма мы спешили прошмыгнуть, воровато отводя глаза и фыркая в ладошку. Здесь на ярком полотенчике частенько лежала «стройная фигурка цвета шоколада»: загорала наша химичка, попой кверху.
Горы были пострижены так ровно, будто здесь потрудились английские газонокосилки. Этими газонокосилками была деревенская ребятня. Своими маленькими руками неутомимо щипали траву для кроликов и цыплят: незаметно целые мешки набирали.
Шустро и неустанно работали не только руки, но и языки. Устанем, сядем, сбросим растоптанные как блинчики сандалики. Вытянем чёрные как у негритят, исцарапанные ноги…
И начинаем фантазировать: как образовались вокруг села многочисленные холмы и лога такой причудливой, странной формы. Возможно, миллионы лет назад здесь, где мы сидим, текла пузырчатая огненная лава, извергались вулканы. Землетрясение взметнуло, выбросило, выпятило части суши… А может, это застыли языки ползущей магмы?
А может, это высохшее русло древней реки, где плавали гигантские рыбины? Или просто здесь когда-то намечался здоровенный овраг. Он разрастался, размывал дно, обрушивал стенки, а вешние воды вытачивали боковые ответвления? Потом овраг милостиво передумал расти, округлился и мирно зарос лесочком и травой? Может, может…
Опаньки! А по холмам-то и не пройти. По самое не могу огорожены заборами. За одним пасётся лошадь, за другим лепятся страшненькие хозпостройки. Частная территория! Пробраться можно, лишь цепляясь за изгородь и узко, как канатоходцам, перебирая ногами, чтобы не свалиться в болотце. Напомню, всё происходит под аккомпанемент выстрелов.
А вот и полицейский внедорожник подъехал. А муж говорил: «Не приедут, не приедут». Моя полиция да меня не сбережёт?
Бравый служивый в форме подходит к мужикам. Те азартно машут руками. Пора и нам выступить в роли свидетелей. Мы выбираемся из «швейцарских Альп»: вернее, из того, что от них осталось. Подснежники и Иван-да-Марья растут из валяющихся там и сям пузырьков от боярышника и перцовой настойки…
Вдруг встречный треск валежника, как будто ломится медведь. Перед нами вырастает бравый представитель власти. Вежливо просит показать документы, удостоверяющие личность. Ну, вот как-то мы не сообразили, что, отправляясь в лес, нужно брать с собой паспорта.
Голубой взгляд местного шерифа становится стальным. Приехала парочка из города, подозрительно углубилась в лес… Захотели пройтись по местам детства? Или кое-чем другим заняться? Странное желание.
Тут, понимаешь, граждане на пригорке в свой законный выходной культурно отдыхают, и вдруг, понимаешь, – выстрелы. С нашей стороны. То есть это мы, оказывается, приехали пострелять и насмерть перепугали мужиков. Эту версию блюстителю правопорядка и рассказали эмоционально, возмущённо мужики. Естественно, у него не было повода не доверять их убедительным показаниям. А что перегаром несёт… Что ж. В законный законе никто не запрещает…
Если бы у него был прокурорский ордер, он бы нас с удовольствием обыскал на предмет обладания незарегистрированным огнестрельным оружием. А так ограничился тем, что окинул нас холодным взглядом и посоветовал не гулять по здешним местам. Не заниматься подозрительным занятием под названием «встреча с детством». Или как там у городских называется тайная любовь под кустами.
Полицейская машина отчалила. В ту же минуту канонада возобновилась с удесятерённой частотой. Прямо пальба прямой наводкой. А что прикажете делать оскорблённым до глубины души мужикам с приезжими подлыми стукачами?
Муж как-то вдруг резко заскучал, забеспокоился насчёт целостности новеньких покрышек у машины. Продырявят (нечаянно, разумеется), потом на палочке верхом в город прикажете добираться? Или на эвакуаторе за круглую сумму?
И мы скомкали встречу с детством. Как зайцы, как партизаны, старясь не выдать себя, не треснуть веточкой, кругами-кругами, крадучись добрались до собственной машины. Сели и с облегчением дали по газам. Уф!
Я успела кинуть прощальный взгляд. До свидания, больничка, лесок, ложбинки и холмы, дорога, по которой меня везли из роддома! До свидания, соловьиная роща и детство! Надеюсь, в следующий раз наша встреча состоится, как это пишут в дипломатических пресс-релизах, в более тесной, тёплой и дружественной обстановке.
АБИТУРИЕНТОЧКА КАК СВЕЖЕПРОСОЛЁННЫЙ ОГУРЧИК
Конец августа. Юные Ломоносовы доказали свою состоятельность (слава ЕГЭ и репетиторам!) и зачислены в студенты. Готовы окунуться в новую интересную жизнь, вгрызться молодыми крепкими зубами в гранит науки, покорить блистающие вершины знаний.
Вижу я в котомке книжку: Так, учиться ты идёшь. Знаю: батька на сынишку издержал последний грош.Ну, последний не последний. Но, по нынешним расценкам, на приличное среднее образование батьке пришлось крупно раскошелиться. Не говоря о предстоящих расходах на высшее.
Родители повально пишут заявления, берут отпуска за свой счёт, ломают свои и коллективные планы, плюют на угрозу увольнения. Хотя начальство к родительскому рвению относится с пониманием: у самих дети и внуки. Самим такое предстоит пройти (или сами уже прошли).
Если в эти дни с высоты птичьего полёта взглянуть на автострады страны – они напоминают дорожки растревоженного гигантского муравейника. А если снизу вверх: осенние клинья перелётных птиц.
Подобная миграция, сопровождаемая заботливо-журавлиным родительским курлыканьем, наблюдается второй раз в сезон. В начале лета стаи абитуриентов и любящих родителей атаковали и оккупировали города и альма-матер нашей Родины.
У знакомой растёт дочка. Всё ради дочки, всё к её ногам, её слово – непререкаемо. Она – принцесса, свет в окошке, Звезда по имени Солнце. Вокруг неё вращаются малозначительные жиденькие планетки: мама, папа, тётя, два сводных брата.
В скобках: очень, очень милая девочка, но не завидую её будущему мужу. Это только в сказках легко и приятно быть мужем принцессы.
Знакомая призналась: когда дочурка впервые надела рюкзачок, пышные банты и белый передничек – она (знакомая) сказала себе: «С Богом!» – и тоже пошла в школу.
Не в прямом смысле, конечно. «Села» за парту, прилежно прошла все забытые предметы от первого класса до одиннадцатого. От таблицы умножения до формулы Ньютона-Лейбница. От «мама мыла раму» до непротивления злу насилием.
Дочка, отсидев в школе шесть уроков, усваивала их повторно дома с мамой: как бы проходила ещё один фильтр. Для страховки. Такая вторая домашняя смена. Это не считая репетиторов по всем предметам, кроме физкультуры. Физкультуру подтягивал папа. «Сейчас все так делают, если хотят хоть какого-то будущего ребёнку».
Когда дочка выберет вуз – начнётся такое же великое – пускай всего на неделю – переселение народов.
Ах, как больно перегрызать пуповину! Как не хочется выпускать из-под крыла любовно выпаренного, пригретого – снаружи рослого, а внутри слабенького и не приспособленного к жизни – птенца.
Мама с папой с озабоченными лицами будут бегать по гулким коридорам учебных корпусов и общежитий. Будут волноваться, заискивающе заглядывать в глаза кураторам и деканам, сходить с ума, скандалить, совать шоколадки вахтёршам и кастеляншам.
Устроить, убедиться, что с документами порядок, что в дУше горячая вода без перебоев, что столовая в шаговой доступности и еда там не смертельно опасна. Проследить, чтобы не обидели, чтобы не дуло, чтобы соседки не шумные, чтобы подружки не испорченные.
Традиция провожаний появилась не так давно. Как и роскошные выпускные вечера, с яселек и до одиннадцатого класса.
Детям эти дорогостоящие забавы не очень нужны. Это надо папам и мамам. Это их последняя игрушка, отними её у них – они заплачут.
Какой родительницей была я? Ужжжасной, безобразной, отвратительной! Не в смысле суперопеки – наоборот. Сын у меня рос как придорожная травка, как сорнячок – непонятно как вырос.
Я была вся в себе и в своей работе: только устроилась в республиканскую газету. Ничего, пробьёмся: у нас в роду дураков не было. Эгоистично не заглядывала в тетрадки сына, чтобы не расстраиваться. Не видеть ягодно- красных россыпей замечаний, размашистых и сердитых «См», тонких учительских шпилек в адрес родителей – лодырей и недотёп. Вот, мол, в кого такой сыночек.
Я не сидела над его душой, не ставила в угол, не орала, не отвешивала подзатыльники, не уговаривала, не пила сердечные, не плакала вместе с ним, не выводила его дрожащей ручонкой палочки, кружочки и крючки.
На собраниях классная руководительница округляла глаза: «Вы не помогаете ребёнку делать домашние задания?!». Законопослушные родители смотрели на меня с состраданием и ужасом, как на конченую, на зачумлённую. Отодвигались подальше, чтобы не заразиться опасным родительским пофигизмом.
Но он у меня знал буквы к двум годам, бегло читал – к четырём. Едва пошёл ножками, на прогулках мы уныло бубнили, как герои «Джентльменов удачи».
– Девочка?
– Гёрл.
– Небо?
– Скай.
– Прекрасный?
– Бьютифул.
– Нос?
– Сноу!
– Башку включи! Сноу – снег, – демонстрировала я скудные школьные познания.
Когда стал постарше, я открывала толстый словарь иностранных слов и произвольно расставляла галочки. И, приезжая из командировки, нещадно гоняла по отмеченным словам и страницам.
Значения слов от «А» до «Я» назубок. «Абордаж», «абориген», «абразивный», «абракадабра», «аббревиатура», «абрис». Это ничего, что пытливый вьюноша заодно познавал значение слова «аборт». И с похвальной любознательностью немедленно скакал искать в недрах словаря слова-спутники «менструация» и «овуляция» (сейчас он в медицинском).
Да, ещё каюсь в родительской несостоятельности: я приучила его читать за едой – и это на всю жизнь. Как он говорит, при этом книжка кажется вкусней, а суп – интересней.
Уже с его годовалого возраста усаживала его на колени, пристраивала за тарелкой книжку-раскладушку, и – понеслись, родимые! Только успевала забрасывать кашу в широко открытый, как у галчонка, рот и ловить ручку, в восторге лупящую по книжным волкам, поросятам, Красным Шапочкам и Бармалеям.
Отчего я не бдела с сыном над домашними заданиями? А потому что со мной родители тоже не бдели.
Правда, раз в месяц (обычно, когда у отца было дурное настроение) он устраивал на кухне маленький Страшный Суд. Садился за стол, вызывал детей по одному (нас было четверо) и просматривал дневник.
Листал, упирался хмурым взглядом в «нехорошую» оценку. Значительно постукивая по ней пальцем, вскидывал грозный взор, как Пётр Первый на понурого царевича Алексея. Молчаливо пронзал им несчастного… Мало кто мог выдержать тот взгляд.
Даже мама предпочитала не вмешиваться в процесс, уходила куда-нибудь в магазин от греха подальше. Эх, не было художника Ге, чтобы живописать картину «Воскресное утро. Проверка строгим родителем уроков у нерадивых чад. Холст, масло».
Наказанием троечникам было решение головоломных задач из старого, времён отцовой молодости, арифметического сборника. Пока не решим – из-за стола не встанем.
Из кухни мы вываливались как из бани: красными, распаренными. Но – чувствовавшими себя победителями. Заслужившими скупой благосклонный взгляд отца, морально очищенными, почти перенёсшими катарсис.
Думаете, я пишу о родителях с обидой? Нет, с глубокой любовью и печалью. Если бы можно было всё вернуть…
В десятом классе отец принёс толстый справочник «Высшие учебные заведения СССР». И сказал: «На этот год это ваша настольная книга». Брат-близнец решил поступать в авиационный. Я хотела стать журналистом. Писала в стол толстые романы и мечтала о славе.
Всем хочется быть знаменитыми, Испробовать каждому б это. Я тоже хотела прославиться Недавно, ещё прошлым летом. Чтоб имя моё прогремело звеня, Прославив мои рекорды. Чтоб звали в Америку бы меня — А я б отказалась гордо. Чтоб знали меня вся страна, весь мир. Везде – интервью, репортёры. Фотографы, крики, букеты цветов, Открыток и писем – горы. Своя секретарша, гостиничный «люкс», К подъезду – блестящая «волга»…На этом мои представления о славе исчёрпывались и захлёбывались в восторженных слюнях.
Бог знает через кого – наверно, через ученицу, работавшую в универмаге, – мама купила нам перед абитурой мягкие чемоданы из красного дерматина. Через год они позорно вытянулись, деформировались, потрескались и обвисли кошёлками.
Но это через год – а сейчас они были прекрасны! Я надела в дорогу зелёное платье сестры, совершенно мне не идущее: у нас и размер, и рост были разные.
Дело в том, что у меня отроду не было своей одежды. Я всё донашивала за сестрой. Мама с папой считали это совершенно нормальным: в своё время они тоже донашивали за старшими братьями и сёстрами. Помню, однажды в классе пятом мама прибежала и шёпотом торжествующе скомандовала:
– Скорее! В уценённом завоз! Только никому не слова!
И мы побежали, пригнувшись, как шпионки. На вопросы любопытных соседок мама краснела и смущённо, неопределённо махала сумкой: «В хлебный. Хлеб, вроде, завезли».
В магазине «Уценённые товары» тоже работала мамина ученица. На двери висел листочек: «Закрыто. Приём товара».
На тайный условный стук и пароль («Зина, это мы!») – нам отперли дверь. Затхлый товар грудами высился на полках и на полу. Мама ахнула и погрузила руки в сокровища Али-Бабы.
Не помню, какую одежду выбрали для прочих членов семьи. А для меня – рыжую вигоневую кофту, твёрдые тупоносые туфли, коричневый колючий шерстяной сарафанчик («Чистый кашемир, 100 %!»). Я в нём ходила в школу три года. А ещё выпросила «баловство»: пластмассовые бусики.
– Ну, ожили! – счастливая румяная, возбуждённая мама прятала покупки в сумки, маскируя сверху буханками хлеба.
Старшая сестра моя была миниатюрной красоткой. Умела наряжаться, а ещё больше умела вытягивать из родителей деньги на модные наряды. Она была первенец и потому, наверно, более любимая. Пишу это без обиды: просто мы были очень разные, чего обижаться-то.
Я не интересовалась тряпками. И окончательно и бесповоротно поставила на себе крест в пятом классе, когда вернулась из лагеря и увидела себя в зеркале.
За летнюю смену я стремительно вымахала в росте, обогнав на голову сестричку. Кости пошли в ширину, длиннющие руки и ноги казались лапами. Их, рук и ног, было явно раза в три больше, чем положено. Казалось, конечности торчали отовсюду, неприкаянно болтались, цеплялись за всё и мешали всему.
Особенно удручали плечи – просто косая сажень. Я казалась себе уродиной, которую не украсит ни одно платье, нечего и стараться. До восьмидесятых, с их модой на огромные, гренадёрские накладные плечи, было ещё далеко.
В моём детстве ценились статуэточные обтекаемые силуэты, Золушкин ростик, хрупкие косточки, плавные котиковые плечики. Не домашних котиков, а которые морские. Не руки – а ручки, не ноги – а ножки, не пальцы – а пальчики.
Мужчины цокали с завистью, умилённо: «Твою-то Дюймовочку можно на ладошку усадить!». И, напротив, насмешливо присвистывали: «Вот это лошадь! А ноги-то, ноги – ходули, оглобли! Чисто цапля!».
Ох, тяжко приходилось первым акселераткам.
Тогда же я выплеснула наболевшее в толстую тетрадь:
Моя сестра красавица, А я вот некрасивая. Умом сестрёнка славится, В учёбе ж я ленивая. И ладная, и милая Сестра моя Тамарочка, А я же неуклюжая И личико с помарочкой. Бывало, пишет Томочка Домашнее задание — И вдруг со смехом вытащит Любовное послание. Тут и стихи альбомные, И клятвы, обожания: «Ах, Тома, я люблю тебя, И в семь ноль-ноль свидание!» И, даже не читая их, Записки рвёт Тамарочка — У ней в портфеле без того Полно таких подарочков. А мне бы хоть записочку, Хоть слова три – не более. Её бы под подушкою Хранила я подолее…Итак, за спиной десятый класс. Нас с братом, от роду не выезжавших дальше соседнего района, провожают в Большой Город. На остановке неловко обняли и похлопали по спине (отец), чмокнули в щёки (мама). Не в привычке было им принародно показывать, тыкать в чужой нос любовью.
Посадили в рейсовый автобус и отправили в городок в сорока километрах, на железнодорожный вокзал.
Больше всего мы боялись, что нам не достанутся билеты, что прозеваем поезд, что перепутаем или не успеем добежать до вагона. Стоянка нашего поезда была по расписанию полторы минуты.
Голос диктора под сводами вокзала отдавал раскатистым эхом. В микрофон пробулькали:
– Ква-ква-блю-блю-уа-уа-уа!
Это объявили наш поезд.
И вот мы сидим в вагоне, унимая дыхание. Нумерация вагонов начиналась с хвоста поезда, и нам пришлось выдать вдоль состава двойной кросс с тяжёлыми чемоданами.
За окном уплывает перрон. Наши места в отсеке на верхних полках. Берём со столика стопки тяжёлого сырого белья, застилаем и укладываемся солдатиками.
Пропажу обнаружили вернувшиеся из тамбура пассажиры.
– Кто лёг на наши постели?! – возмущаются муж и жена голосами Михал Потапыча и Марьи Тимофеевны, и таких же габаритов.
– А мы думали… А наше бельё где?
– Купите у проводницы. Комплект – рубль.
Представьте себе, мы, деревенские ребята с натруженными, как у взрослых, руками, не знали цену деньгам. Все денежные операции вела мама. Отправляя в магазин, давала чёткие распоряжения: три литра молока – столько-то, кило сахару – столько-то, кило перловки – столько-то. Сдачи дадут рупь двадцать, пересчитайте внимательно.
Рубль – это много или мало? Хватит ли нам прожить на ту сумму, которую мама зашила обоим в трусики на полтора месяца? Решаем: одну ночь проедем и без простыни-пододеяльника-наволочки. И без чая. Не полезешь же при всех под юбку за деньгами.
– Матрасом и подушкой без постельного белья пользоваться нельзя, – проходя, равнодушно кинула проводница.
Ну, нельзя так нельзя. Ночью, правда, потихоньку развернули нечистые, пахучие серые валики и кое-как поспали.
Засыпая, думаю: «Ах, как необычно, красиво и мелодично все вокруг разговаривают! Не то что мы, по-деревенски… Ну ничего, мы тоже так научимся».
На привокзальной площади прощаемся с братом, нам в разные стороны.
– Как добраться до университета?
Мне ласково объясняет бабушка-татарка в платке, повязанном четырёхугольничком вокруг сморщенного личика:
– Три остановки на троллейбусе, потом пересядешь на трамвай, доченька. Потом пешком налево и вверх.
Я боюсь гладких запутанных рельсов, боюсь звенящих и дребезжащих трамваев. Вообще, боюсь городского транспорта. Ну его, ещё заблужусь. Лучше пойду пешком.
Пот льёт с меня в три ручья, мне мучительно жарко в зелёном колючем платье. Руку оттягивает тяжёлый чемодан: половину в нём занимают книги. А вторую половину мама забила огурцами и варёными яйцами. И дорога всё вверх, вверх.
Уточняю у какого-то парня, верной ли дорогой иду, товарищ? На свою беду, он опрометчиво проговаривается, что идёт в ту же сторону. Я стараюсь не отставать, не терять его из виду: он для меня путеводный маячок.
Я вижу только его спину, а лицо, должно быть, досадливо морщится. Тогда ещё нормой считалось, что парни должны защищать девушек, пропускать их вперёд и помогать нести тяжёлые вещи.
Это если бы ему попалась миниатюрная, хорошенькая, нарядная девушка, как моя сестра. Тогда можно было и чемодан подхватить, и пококетничать, и адресок выпросить.
А тут сзади пыхтит и волочит чемодан малосимпатичная, курносая, плохо одетая, распаренная, явно деревенского вида деваха. И, главное, прёт танком, не отстаёт. Он шагу прибавляет – а она ещё шибче наддаёт. Привязалась, деревня.
У развилки парень с облегчением и лёгким отвращением сообщил, что ему, слава Богу, налево. А мне, стало быть, прямо.
Прохладный громадный вестибюль. Всюду на стенах стрелочки для таких, как я, тупых абитуриенток. Даже в буфет и в туалет стрелочки.
В комнатке, где расположилась приёмная комиссия, знакомлюсь с Ленкой из Ульяновска. Она тоже поступает на журналистику. Вот уж кому бросился бы поднести чемодан не только тот парень – все мужчины-пешеходы на улочке. Ослепительная Снегурочка, чью белизну не в силах растопить солнце!
Ленка-Снегурочка тут же снисходительно берёт надо мной шефство, и я, как телок, счастливо и влюблённо ей подчиняюсь.
– Возьмём частника, – командует Ленка. Притормаживает первая же машина. Захоти Ленка – она мановением пальчика остановила бы все мчащиеся легковые авто и весь вместе взятый городской трамвайно-троллейбусный парк. Да только пожелай – парализовала бы движение всей улицы, всего города и Земного Шара!
Итак, мы загружаемся в «москвич» к совершенно незнакомому дядьке, в совершенно незнакомом городе. На заметочку, именно в те годы и по близости от тех мест начал шуровать и входить во вкус Чикатило.
Правда, он в основном промышлял по электричкам. Но хватало других маньяков, о которых государство благоразумно помалкивало. К чему возбуждать панические настроения и отвлекать советских граждан и гражданок от строительства светлого будущего?
Кроме того, мы молоды, мы веселы, мы беспечны – и такие же молодые игривые ангелы держат над нами зонтик от жизненных невзгод. Поэтому дядька нас не завёз в лес, не изнасиловал, не прикончил с особой жестокостью, не расчленил… А благополучно доставил в конечную точку назначения: общежитие № 4.
И содрал с носа по 3 рубля. «Это ещё по-божески», – важно и авторитетно сказала Ленка. Я не знаю цену деньгам и верю ей. На трамвае мы добрались бы за 4 копейки.
В комнате нас четыре девочки. И только одну сопровождала мама. Они вошли, мама строго огляделась.
– Так, – сказала она, мгновенно вычислив самую восторженную и простую. – Ты, пожалуйста, освободи Фирочке койку у окна, – и она уже деловито вынимала мои вещи из тумбочки и переносила на кровать у двери и раковины. – Фирочка близорукая, ей нужен свет. И, пожалуйста, подними из вестибюля Фирочкин чемодан – она слабенькая, ей нельзя поднимать тяжести.
Если бы моя мама знала, что за всё время подготовительных курсов я даже не открою учебника… Она бы отказалась от плохой идеи послать меня в университет за месяц до экзамена.
Деревенская девчонка впервые в большом городе! Мы катались в трамваях и троллейбусах, шатались по городу, по музеям и магазинам, крутились до одури на каруселях в парке.
Я сразу купила себе дешёвое медное колечко с большой зелёной стекляшкой и важно носила пальцы веером, чтобы всем было видно. Я пребывала в уверенности, что все принимают камень за изумруд, а меня – за великосветскую барышню.
Я впервые ела политые клубничным сиропом твёрдые шарики мороженого из ледяной жестяной креманки. Блинные, пельменные, баня с автоматами, с апельсиновой газировкой… Ночная болтовня до утра. Какие экзамены!
И – первый в моей жизни комплимент! Заглянувший по ошибке в нашу комнату старшекурсник:
– Ух ты, вот это глазки! Девушка, вашей маме зять не нужен?
Тогда только начала входить в обиход эта пошлейшая фраза. Старшекурсник был поддатый, бухнулся на мою койку и сообщнически подмигнул:
– А абитуриенточки очень милы! Похожи на свежепросолённый огурчик: пахнут, знаете ли, парником…
– Да, да, но содержит уже немножко соли и укропа, – я нетерпеливо сбросила бесцеремонную руку с плеча. – Только Чехов имел в виду другое.
– Хм… А раньше срабатывало, – разочарованно почесал затылок парень. – Какие нынче абитуриенточки начитанные пошли…
Потом была первая влюблённость в тридцатишестилетнего Диму. «Вечный студент» собирался получать третье высшее образование и, говорят, бывал за границей! Тогда это звучало как «бывал в космосе».
У Димы была ухоженная, хрустально-прозрачная золотая борода и невиданные тонкие, тоже, наверно, золотые очки. Я счастливо прорыдала всю ночь от Диминой записки. В ней он признавался в пылкой любви и приглашал меня на свидание.
И горько прорыдала всю следующую ночь, потому что оказалось, что это девчонки подшутили надо мной, нацарапав записку от имени Димы.
Какие там, говорю, экзамены… Ветер в голове и заливистая пионерская зорька в попе.
И всё-таки они наступили. Экзамены. Творческий конкурс я сдала лучше всех.
Мама сделала на дорогу много напутствий. Кроме одного, самого главного: как вести себя на экзамене, если тебя топят. В прямом смысле топят.
Не преподаватель, а абитуриент, сидящий сзади и не знающий ни бум-бум. Не только из билета – вообще из предмета «история» ничегошеньки не знающий.
Вот только что в коридоре он прохаживался и поглядывал на всех сверху вниз. И вдруг его стало не узнать: отчаянный взгляд, суетливые дёрганья, паника.
Он привставал, трогал и дёргал меня за косички и платье, тянулся к моему уху, отчаянно шептал, заглядывал и хватался за мой листок, стучал и даже барабанил по моей спине. У него были круглые, выпученные от ужаса глаза.
Сначала я ему по доброте душевной даже что-то подсказала (Ведь «сам погибай – а товарища выручай»). И сразу заслужила неодобрительный взгляд преподавателя: «Прекратите переговариваться!»
Повторяю, парень тонул в прямом смысле слова и вёл себя, как тонущий человек, от смертного ужаса потерявший человеческий облик. Барахтался, лихорадочно цеплялся за всё, что попадалось ему под руки – а попалась я. Карабкался и громоздился на мои плечи, тащил вместе с собой камнем на дно, лихорадочно и безумно бился в губительной, дышащей смертным холодом воронке.
Я подняла руку и сказала:
– Можно я пересяду? Он мне мешает.
– Это она мне мешает! – взвизгнул парень.
– Если вы оба сейчас же не прекратите, я вас обоих выведу вон, – холодно процедил преподаватель.
Когда меня вызвали, я бойко отвечала по билету, и мне казалось, что историк спит и не слушает меня.
– Так, – сказал вдруг историк, просыпаясь и открывая глаза. – Первого вопроса вы совершенно не знаете. Приступим ко второму.
Я смешалась, замямлила что-то дрожащим голосом. Историк, морщась и не спрашивая по третьему вопросу, аккуратно поставил в ведомости «удовлетворительно», уже забывая обо мне и заглядывая в список, чтобы вызвать следующего.
Каково же было моё удивление, когда в списках поступивших я не увидела своей фамилии, зато увидела фамилию «утопленника». Были зачислены так же два паренька – моих земляка. Они едва говорили по-русски, но у них были справки, что республика нуждается в национальных журналистских кадрах.
Партия, комсомол и родители учили искать причины промахов и неудач исключительно в себе. И я никого не винила. Нечего было кататься на каруселях и есть шарики мороженого! И влюбляться в золотобородых Дим!
Вот какой пласт воспоминаний всколыхнула во мне картинка, которую я наблюдаю сейчас из окна. Соседи, муж с женой, загружают багажник сзади, багажник сверху, забивают кладью заднее сиденье. Бабушка с дедушкой вышли, плачут.
Вот и сама виновница торжества: красавица, умница, аттестат светится круглыми, как солнышки, пятёрками. ЕГЭ 97 баллов.
Вчера она ещё, просто девчонка, визжала и бултыхалась в надувном бассейне с младшим братом. А сейчас уже студентка, немножко смущается, робеет и важничает.
Я машу ей в окно рукой. Всё у тебя будет хорошо, журавлёнок! У всех вас всё будет хорошо, журавлята 2017 года выпуска!
МОИМ ПЕРВЫМ КРИТИКОМ БЫЛ ПУШКИН
Набирается курс Школы литературного мастерства. Стоимость десятидневного обучения – 1200 евро. Само собой, не считая проезда, проживания, питания.
Это уже вторая школа, первая обошлась студентам дешевле: в 50 тысяч рублей. Но ведь и и антураж, и декорации были другие: тягостные зимние сумерки, вязнущая в грязной снежной каше Москва. А тут время и место проведения – весна, Прага в цвету!
Вот называю суммы – а чувство, будто шарю в чужом кармане. Будто вот-вот схватят мою ручонку и высоко её задерут, с прилипшими купюрами, на всеобщее обозрение.
…Я влюбилась в Толстую с первого рассказа, напечатанного ещё в советском журнале. Она классик, и читаю её как классика: перевернул последнюю страницу – и хоть снова открывай книгу. Это во-первых.
Во-вторых: если писатель объявляет платный учебный курс и к нему выстраивается очередь – этот писатель дорогого стоит.
Откровенного графомана и за 10 тысяч розовых не возьмут – таких на дальних подступах отсеивает конкурс «Хороший текст». Зато будь ты хоть Бунин, но без копейки в кармане – тебя не возьмут тоже. Даже не прочитают, если захочет примазаться тихой сапой к домашним заданиям для студентов. Видимо, подобные подлые поползновения предпринимались: про Бунина сама Татьяна Никитична строго предупредила.
Жаль. Жаль, что вот, может, родился где-то на просторах России новый Бунин, а никто о нём никогда не узнает. Проторчит в какой-нибудь «Пятёрочке» унылым охранником, мужем беременной жены и отцом троих золотушных детей. Обшаривая покупательские корзинки, будет сочинять про себя на фиг никому не нужные «Тёмные аллеи» и «Лёгкое дыхание». И, не выдержав груза гениальности, сопьётся или руки на себя наложит.
Нету, нету нынче стариков Державиных, которые юных гениев заметили бы и, в гроб сходя, благословили. Не простирается над молодой творческой порослью трясущаяся длань престарелого слезливого, восторженного пиита. Время нынче другое: жёсткое, расчётливое, с калькулятором в руках. Каждый выживает как может. Некогда нынче играть в меценатство, разводить сантименты, ля-ля тополя.
Чёртик любопытства дёргает и меня: высылаю пару-тройку текстов. Вечером следующего дня – вот она, волшебная сила рыночных отношений! – получаю благосклонный ответ: «Ваши тексты нас порадовали…»
Первая мысль (о женщины, Легкомыслие и Ветреность вам имя!): что надеть в Прагу? Два жакета, лёгкий и потеплее, свитер, блузку, брюки, удобную плоскую обувь (чтобы ходить на экскурсии, не проваливаясь каблуками в средневековый булыжник). Вообще, какая в столице Чехии погода в конце апреля – начале мая? Не забыть посмотреть в Интернете.
«Настоящий туристический сезон начинается на майские праздники, когда в Праге яблоку негде упасть. А вообще май – это лучший месяц для путешествия в Чехию, так как изнурительной летней жары ещё нет, дожди бывают редко, а гулять по-летнему комфортно и тепло!»
И вот уже зашевелился гадкий червячок сомнения – или та самая жаба, которая душит? Порадовали устроителей семинара мои тексты – или всё-таки мои 1200 еврошечек?
И не глупо ли ехать в Прагу, чтобы десять дней маяться в душных классах, с тоской посматривая за солнечное окно, в которое скребётся ветка цветущей сакуры? Думать: господи, скорей бы кончились унылые лекции, семинары, дурацкие обсуждения…
И это в драгоценные часы, когда можно бродить по игрушечной, карликовой Златой Улочке, сидеть в уютной кафешке на берегу величавой Влтавы? Прихлебывая душистый глинтвейн, рассматривать безмятежные лица туристов и пражан. Любоваться фонтанами, замками, галереями… Фоткать позеленевший старинный Карлов Мост, томно и бесстыдно изогнувшийся в танго знаменитый Танцующий Дом…
Те же самые плохо скрываемые нетерпение и досада будут написаны на лицах именитых педагогов. Типа, чёрт бы побрал вас: купивших наше дорогое время за свои жалкие 1200 евро, бездарей и непризнанных неудачников! Удачливые и признанные по платным семинарам не ездят. А Бунины, заметим в скобках, остались дома.
За 1200-то евро я вполне и сама прекрасно наберусь впечатлений. «Прага – это музей под открытым небом. Туристическая жемчужина, Мекка для фанатов средневековья, где каждый камень дышит, источает и пр…» Тур в Прагу – сам по себе – толчок… Озарение… Вдохновение… Новые герои… Свежие сюжеты и всё такое.
Молоденьким – да, должно быть, интересно потусоваться в компании, мелькнуть звёздочкой, запомниться мэтрам дерзким бойким словцом. А если совсем повезёт – то завести более плотные литературные связи.
Я начисто лишена этого полезного качества: завязывать нужные отношения. Я вздыхаю и мысленно разбираю чемодан. Раскладываю по полочкам не пригодившиеся вещи, развешиваю на плечиках жакеты, которые только распрямили, выпятили, вздёрнули плечи и спинки, возмечтали о Европах… Обойдётесь, мои милые, не вышли рылом.
Почему я заговорила на тему творчества? Мне кажется, она близка читательницам «Моей семьи». Мне кажется, читательницы «Моей семьи» – непонятные и непонятые, немножечко странные женщины. Потому что есть – не правда ли? – некая прелестная тайна в хорошенькой женщине, читающей газету, эдак важно водящей носиком по строчкам – когда даже мужики изменили своему извечному диванному занятию и уткнулись в телеящик.
Читательницы и сами творили бы не хуже авторов, да, да! – но мешают нехватка времени, уверенности, первая неудача – да мало ли чего. Насмешки мужа («писа-ательница выискалась! Лучше бы котлет накрутила»), запропастившаяся в нужный момент ручка, как назло побежавший на плите суп, заплакавший в неподходящий момент ребёнок, которому пора менять памперсы… А муза, она дамочка капризная: взмахнула стрекозиными крылами – и была такова. Я сама долгие десять лет не бралась за перо, решив посвятить себя ребёнку, семье, уюту в доме.
Мы Литературных институтов не кончали. Это я не с пролетарской напыщенностью говорю, а с глубоким вздохом сожаления. Я даже не пыталась туда поступить, в эту обитель небожителей, как мне казалось.
Зато у меня была первая любимая учительница Галина Макаровна. В нашем классе часто проводились открытые уроки. Съезжались педагоги со всего района, бывало республиканское телевидение.
Галина Макаровна задавала вопрос – и весь класс подскакивал за партами как мячики и умоляюще тянул руки: «Я! Я! Я!» Видно было, что Галине Макаровне неудобно: не сочтут ли гости это оживление показушным? Как объяснишь, что уроки русского и литературы были для нас каждый раз – как праздник?
Она первая заметила и поддержала во мне тягу к сочинительству. Я брала учебник, как будто делала домашнее задание, и прятала под ним преступную тетрадку. Прятала от мамы: она считала, что моё увлечение мешает успеваемости – и была права.
Начинала я с толстых романов. События в них, независимо от меня, стремительно развивались и разрастались, сюжет быстро выбивался из-под моего контроля и прихотливо, сам по себе, разветвлялся, герои плодились в геометрической прогрессии, как кролики. Я не поспевала за их действиями, диалогами, за ходом собственных мыслей, запутывалась, плюхалась… И, в конце концов, с досадой зашвыривала пронумерованные общие тетради на дальнюю полку. И тот час алчно принималась за новый роман.
Писала про рыцарей и прекрасных вассалок, про школьную любовь и тесную дружбу двух учениц: двоечницы Кати и отличницы Светы (это не то, что вы подумали, бессовестные) – и ещё много, много чего.
Потом перешла на детские сказки. К семнадцати годам написала целую папку. Подумала, сунула ещё пару рассказов, в виде балласта – чтобы папка казалась толще, солиднее – и пошла. Куда пошла? Ясен пень, в большое издательство в большом городе, где только начала учиться и самостоятельно жить.
Шла и воображала, как редактор в вольтеровском кресле, ероша седую гриву, будет вдумчиво читать мои рукописи и бормотать: «Ах, чёрт возьми, а ведь любопытно! Просто ге-ни-аль-но!» Потом откинется и будет созерцать меня, как редкое химическое соединение.
Потом снимет трубку. «Алё, Петруша. Открыл тут, гм, своеобразный талант. Писательница осьмнадцати лет объявилась… Писательница, говорю! Брось, какие шутки. Прочитал, понимаешь, мощно написано, громадное впечатление, сильнейшая вещь и т. д.»
Из кабинетов сбегаются люди. Восклицания, изумлённые аханья, поздравленья…
Директора издательства на месте не оказалось: «В командировке в Дели». Я ахнула про себя: вот она, жизнь-то настоящая! Секретарша насмешливо окинула взглядом мою юбчонку выше пупа и пообещала передать опусы по назначению.
И вот через две недели топчусь под дверями с табличкой «Литературный консультант Паушкин (инициалы забыла)». За столом сидит худощавый, с головой в ореоле белых и лёгких как пух волос, пожилой человек: после тридцати пяти все люди пожилые. Он возвращает папку со словами: «Банально, подражательно, слащаво…»
Я убита. Только что во мне убили великую сказочницу.
– А вот над рассказами я бы на вашем месте поработал, – увлечённо продолжает человек-одуванчик. – Откуда берёте сюжеты? Что вы сами пережили из написанного?
На прощание он грустно говорит: «А ведь моя настоящая фамилия Пушкин. Да, да. Но вы представляете себе современного литературного консультанта Пушкина? Вот, пришлось добавить в паспорте лишнюю букву».
Потом было крупное литературное объединение. Помню, несусь по улицам – а только что прошёл весенний дождик, – разбрызгивая лужицы. «Плевать на всё! Ах, вот бы попасть под троллейбус – и умереть! Или угодить под кусок лепнины вот с этого накренившегося старинного балкона – и умереть тоже! Иначе у меня сию минуту лопнет сердце, я не выдержу этого счастья! Ах, как я бесстыдно, юно, ослепительно счастлива, счастлива, счастлива! – после слов, которые мне только что сказал сам Д. В.!»
Ещё был работник издательства А., который говорил: «Ты мой писатель – я твой читатель. Можешь считать меня читателем № 1» – и ещё разные приятные вещи, щекочущие и почёсывающее за ушами авторское самолюбие. – «Ну, так помоги мне!» – подсказывала я. – «Должность не дотягивает», – вздыхал он.
И вот долгожданная должность получена и дотягивает до уровня. На двери А. красуется солидная персональная табличка. Но он возвращает мне мои рассказы: «Ты же понимаешь, это никто не пропустит». Ну и зачем, спрашивается, было крутить девушке динамо?!
…Редактор литературной страницы читает мои тексты и сокрушается:
– Вам бы попасть в обойму. Вас бы печатали, если бы у вас было имя…
– Откуда взяться имени, если меня не печатают? – недоумеваю я.
В этот замкнутый круг попадают многие авторы.
Куда же обращаться мне, восемнадцатилетней, как не в журнал «Юность»? Представьте себе, приходит очень тёплое, благожелательное развёрнутое письмо-рецензия. Что вот тут и тут не мешало бы подправить. А в целом очень даже ничего, вы должны и дальше писать… Но. «Ваша аудитория – скорее, взрослая, женская(!) Обратитесь в «Крестьянку» либо в «Работницу».
Что ж. Посылаю в один из вышеуказанных журналов, и приходит ответ. В нём, похвалив присланные работы, меня отсылают… в журнал «Юность».
Спустя длительное время, другой журнал, толстый, столичный. «К сожалению, в настоящий момент редакция не находит возможности…»
Ещё известный журнал. «Сожалеем, но наш портфель заказов сформирован на пять-семь лет вперёд…»
Ещё журнал, «Москва». «Просим срочно выслать своё фото и краткую автобиографию». Ура, вот она, капля, которая точит камень! Но вмешиваются таинственные высшие силы, и ликующий редакторский голос в телефоне приобретает кислые нотки. «Ваши рассказы, скорее, «новомировские»… – «?!» – «Ну, подходят по духу для журнала «Новый мир».
Журнал «Новый мир», как и положено, отвечает солидным молчанием. Я кажусь себе летучей мышью из притчи про войну птиц с лесными зверями. Мечусь между теми и этими, я ни шерстяное, ни пернатое. Отовсюду меня выдавливают, как чужеродное тело. Никто меня не хочет признавать за свою. Как холодно!
А до большой журнальной эпопеи была Вологодская студия телевидения. Туда, ввиду отсутствия вакансий, я устроилась временно секретарём-машинисткой.
Именно в те годы там работал Л. Парфёнов. Студийная молодёжь называла его «лучом света в тёмном царстве». Я, к стыду своему, не интересовалась его телешедеврами. Ибо на первом месте для меня были рассказы и на втором – рассказы, и на третьем, и на четвёртом – тоже рассказы.
А уже где-то в хвосте болталась унылая журналистика. Унылая – потому что тогда можно было писать только то, что прикажут сверху. Я явно не была лучом света.
Должность секретаря-машинистки меня очень даже устраивала. Я с треском колошматила на мощной электрической «Ятрани», как заяц на барабане. Печатала между директорскими приказами и распоряжениями собственные тексты. Директор не одобрял посторонних дел на рабочем месте. Он, как и моя мама, считал, что литература мешает исполнению моих прямых обязанностей – и был, безусловно, прав.
Редактор отдела партийной жизни Е. Ш. узнаёт, что я пишу «в стол». Просит показать. Я несу последний рассказ: свежеиспечённый, ещё тёпленький. Он листает и неожиданно взрывается:
– Что за чушь! У вас старых коров везут на бойню. А вы пишете, что они из грузовика с любопытством тянут головы, как молодые телята, подпрыгивают, радуются солнцу, таращатся на людей, машины, трамваи. И восторженно думают, что их ждёт новая необыкновенная жизнь. Да лжёте вы! – загремел он.
Я так и присела, ожидая, что в мою голову полетят рассыпавшиеся листы. Но редактор, уже успокаиваясь, продолжал:
– Старые коровы, которых везут на бойню, мочатся от страха. Они грузно приседают, путаются рогами в верёвках и с трудом удерживаются и падают друг на друга, потому что избитые, стёртые копыта скользят и разъезжаются в моче… Вы меня поняли?!
– Да, – пролепетала я. – В моче… Разъезжаются.
Живя в Вологодской области, я не могла не знать, что рядом творит Василий Иванович Белов. Моя подружка и наперсница, ассистент режиссёра Светка принимает живейшее участие в моей тайной творческой жизни. Однажды она подсказывает: «А покажи свои рассказы Белову».
Я сажусь в электричку в обнимку с папкой. Вот сейчас доеду до нужной станции. Благодарные беловские земляки укажут мне дорогу. Я сброшу туфли и благоговейно пойду по тропке в ржаном поле, срывая васильки и ромашки, бороздя босыми ногами тёплую велюровую пыль.
Вот и берёзки-невестушки, и патриархальная деревенька Тимониха в десяток изб. А там в ограде известный деревенщик с берендеевской бородкой рубит дрова, выкладывает поленничку, отирая пот рукавом белой рубахи…
Плутовато блеснёт маленькими небесно-голубыми глазами, поставит самовар… Поговорим за жизнь, попьём чайку с шоколадно-ореховыми конфетами «Белочка» (Светка расстаралась, достала через папу, а он через профсоюз). Жаль, кулёк раскис и слипся на жаре.
Дальше я не успела дофантазировать. Прибыла на станцию, кажется, Харовск. Человек в железнодорожной форме объяснил, что мне нужно добираться 60 километров автобусом до деревни Ш. Но автобус ушёл, а следующий будет только завтра.
В Тимониху транспорт не ходит, так что от деревни Ш. придётся топать ещё километров 10–15 – и не ржаным полем с васильками и ромашками, а глухим лесом. С картой и компасом в руке, потому что попутчиков до Тимонихи не найти, а дорожные указатели встречаются редко. Если вообще встречаются.
Ну, я с горя выковыряла и съела конфеты, на жаре окончательно превратившиеся в грильяж, и уехала обратной электричкой. Решила поступить просто и современно: послать рассказы Белову по почте, с просьбой дать свою оценку. Только оценку – ничего более.
Через месяц увесистый пакет вернулся обратно, с убийственной припиской сухим, убористым почерком: «Я в литературу пробивал дорогу сам и ничьей помощи не искал!»
Сейчас я понимаю сердитость большого писателя. Какая-то возомнившая о себе девица имела наглость прислать свои девчачьи опусы!
А тогда я, раздосадованная, выбросила записку. Ну и дура, сегодня у меня библиотеки и музеи с руками бы её оторвали да – под стекло, на бархат: сам Белов! Рука самого Белова! Того, что дружил с Шукшиным, Астафьевым, Распутиным!
Ещё случай. Редактор журнала берёт мою повесть, листает, заглядывает в конец. Там стоит дата написания: «Июнь-август 198… года».
– Вы действительно написали повесть за полтора месяца? – хмурится он. – И считаете это достоинством? Хорошую повесть за два месяца не напишешь, – и демонстрирует свой новенький, только вышедший роман: он писал его долгих семь лет.
Щёлк по носу. Ещё щёлк – от другого редактора:
– Я увидел в третьем абзаце слово «койка» – и мне, простите, стало скучно. Вы пишете о тюрьме: какая койка?! Шконка! Изучите для начала феню, по которой ботают уголовники. Кстати, и в армии никто не говорит «койка»… И мой вам совет: никогда не пишите того, чего сами не пережили.
Жизнь ни на минуту не прекращает свои уроки, большие и маленькие. Причём от тех, от кого их совершенно не ждёшь. Например, от участниц форума «Моя семья» – они тоже мои учителя.
Помню, писала о скворцах, поселившихся на берёзе в моём огороде. Радовалась за них, как хорошо они устроились: грядки с жирными червяками, рядом речка, откуда в знойный день в клювиках можно принести воду для птенцов… Бдительные форумчанки тут же заметили: птенцам вполне хватает влаги в пище, которую приносят родители. Воды «в клювиках» им никто специально не доставляет.
С одной стороны, невозможно предусмотреть все тонкости, я же не орнитолог. А с другой: не уверена – не пиши. Ишь, трогательности захотелось: скворчата, водица в клювиках…
Многие нынче задаются вопросом: отчего, когда объявили свободу, в стране не выросли великие творцы? Писатели, композиторы, художники. Кажется, я знаю ответ.
Представьте картину: пришёл поступать во ВГИК Василий Шукшин в линялой гимнастёрке и стоптанных сапогах. А Ромм ему говорит: «Позвольте, голубчик, вы не сын (сват, брат) знаменитого (и называет фамилию примелькавшейся кинозвезды)? Жаль, голубчик, тогда вам не попасть на мой курс. Разве что заплатите кругленькую сумму в у. е. (характерное потирание пальчиками, пересчитывающими воображаемые купюры)».
Интересно, узнала бы страна режиссёра Шукшина?
Как вытоптано в стране поле политическое, так вытоптано и поле творческое. Там вытоптано страхом, здесь – деньгами и шустростью. Что может вырасти на таком поле? Только сорняки.
Татьяна Толстая и её команда, как садовники, пытаются приживить, культивировать на бесплодной потрескавшейся почве нежные растения. Дорогие: каждое ценой в 1200 евро, почти сто тысяч рублей.
Кто-то из семинаристов работал год, чтобы их накопить. Кто-то выпросил у мамы с папой. И каждый замирает в душе: а вдруг произойдёт чудо, и его заметят? «Господа, новый Бунин родился!» Впрочем, предупредили же честно: новых Буниных не ожидается.
– Вот плюнула ты в колодец, написала нелицеприятно о литературной школе, – подкалывает коллега. – А ведь Прага, действительно, могла стать трамплином, знаешь ли, своеобразным лифтом… Чем чёрт не шутит. И не такие взлетали счастья баловни безродные…
– Взлёты и прыжки, – отшучиваюсь, – это уже не для меня. Лифты, трамплины и прочие прыгательные и подъёмные устройства – это для семнадцатилетних. Всех нас и так стремительно (мелькающие дни, как вёрсты, не успеваешь считать) несёт и тащит в одну-единственную сторону, в одном направлении, в один пункт конечного назначения.
Для кого-то это точка зияющей, пугающей черноты. Для кого-то: блаженного неземного сияния. Там иные измерения, ценности и идеалы. Там потуги земной славы – ничто, тщета, прах, тлен.
Но семнадцатилетним: юным и доверчивым, тугим, прыскающим соком, – рано знать такие вещи. Они жаждут всего сразу и много: всемирной славы, денег, путешествий, любви девушек. Смело стучатся во все двери, берут с боем, набиваются гурьбой в весёлый тесный лифт. Лифт тревожно мигает красной кнопкой: номинальная грузоподъёмность кабины превышена!
Лишних бесцеремонно выдавливают и выпихивают. Лифт облегчённо взмывает. Не везунчики больно падают, поднимаются, почёсывая ушибленные места и шишки. Ничего, вот сейчас подъедет следующий лифт, и уж тогда…
ПРАКТИКАНТКА
Часть 1. ОФИГЕНИЯ В ОБИДЕ
– Боже, какая прелесть!
Старенький дребезжащий автобус вёз Аню и пассажиров по белой пыльной дороге. Мимо окошек мелькали седые от пыли придорожные берёзы и ёлки.
А на одном повороте неожиданно выплыла, ослепила глаза дородная, кружевная, нарядная как невеста, церковь. Здесь шофёр подсадил группку малышей, во главе с пожилой женщиной. Деревенский детский садик. Мальчики в картузиках, девочки в беленьких платочках.
Женщина-воспитательница протянула водителю полную пригоршню мелочи. Пожилой шофёр махнул крупной коричневой ладонью:
– Чего там! Ехайте.
У Ани и так настроение было приподнятое, каникулярное. А при этой домашней сценке на сердце стало ещё уютнее. На следующей развилке малыши посыпались из автобуса, как горох. Аня насчитала их числом шестнадцать. Выпрыгивая, каждый мужичок (и бабёночка) с ноготок пищали:
– СпащибО! – именно через «щ» и с ударением на последнем слоге.
16 горошинок – 16 очаровательных «спащибО». Ехавшая впереди городская дама бурно умилялась:
– Боже, какая прелесть! Как маленькие французики! Откуда такой забавный акцент?
Аня думала: «Откуда, откуда. Шепелявость – это они переняли от бабушек, милые повторяшки и попугайчики. А беззубость – бич всей деревни. Раньше не было врачей, сейчас – нет денег на врачей».
Аня сама была из этих мест и обиделась за «забавный акцент».
По закону подлости, в первый же день практики она жестоко простыла и месяц провалялась с бронхитом. Теперь нужно было отрабатывать, на выбор: в городской лаборатории мыть пузырьки или санитаркой – в сельской больнице. Ну конечно, лето в деревне – что может быть лучше!
Она и не подозревала, что остались такие больницы: окружённые стеной вековых елей, тёмные, деревянные. Построенные в середине прошлого года, ещё с печным отоплением.
В уборную в конце коридора Аня шагнула с опаской, памятуя о городских общественных туалетах. Но здесь на половицах сияла свежая масляная краска, на окошке полоскалась под ветерком подсинённая марлечка. На полочке рулон туалетной бумаги и баллончик с освежителем воздуха. На стене листок: «Товарищи пациенты, уважайте труд санитарок!»
Больница отживала последние дни: на краю посёлка стояла готовая к сдаче новая кирпичная, двухэтажная.
Главврач Валентина Ивановна провела Аню по кабинетам и палатам. Представила везде, как важную персону:
– Наша новая санитарочка! Прошу любить и жаловать.
Все доброжелательно кивали, улыбались и дружно выражали сожаление, что Аня поработает только полтора месяца. Особенно мужская палата сожалела.
Мужская здесь была одна: травматологическая. «Сельские мужики болеть не любят. Если только совсем прижмёт, или ЧП», – объяснила Валентина Ивановна. Аня, проходя мимо курилки, слышала вслед восхищённый присвист:
– Офигенная девушка!
– И прикид такой… Ничего.
Аня ещё не успела переоблачиться в белый халат. На ней была низко срезанная полупрозрачная блузка, тугие голубые джинсы.
– Слышь, как раз книжку читаю: «Ифигения в Авлиде». А у нас теперь своя Офигения в прикиде!
Дневная смена – от заката до рассвета, 12 часов. Ночная – день через два: отсыпной, выходной. Чем хороша работа санитарки – смена пролетает как одна минута. Не успеешь заступить – уже вечер. Или утро. «Аня, заработалась?! Домой пора».
Горшки, судна, утки. Смена белья. Умывание-подмывание, кормление лежачих. Еду нужно нести на коромысле из пищеблока. Два десятилитровых ведра: в одном огнедышащий рассольник, в другом гора котлет с гарниром. Потом за компотом.
Судна, горшки, утки. Мытьё посуды – трижды в день. Влажная уборка палат и коридоров – утром и вечером. Операционных – по мере надобности. Утки, судна, горшки. И всегда на подхвате у докторов, сестричек и больных: «Анечка, принеси». «Анечка, подай».
В первый день старшая медсестра схватила Анину руку холодными, сухими до мороза по коже, пальцами:
– С ума сошли?! В стерильном отделении! Немедленно остричь ногти!
Зато и втройне приятно было через неделю услышать за спиной её негромкое:
– Молодец, грязной работы не чурается. Я думала, эта фифа от нас через два дня сбежит.
Среди Аниных обязанностей была даже такая, уютно-домашняя: выпекание картофеля для сердечников. Природный источник калия. Мыла, резала на кружочки, обязательно с кожурой. Переворачивала ножом на раскалённой плите золотистые ароматные дольки. Можете представить такое в городской больнице?!
Когда на улице было дождливо и холодно – топили большую печь в приёмном покое. Колка дров – тоже обязанность санитарки. Ну, тут не было отбоя от скачущей как кузнечики травматологии. Лишь бы целые руки: соскучились по мужицкой работе. Бахвалились, приседали, крякали, ухали. Раскалывали чурки «как сахарок»: с первого раза. Рисовались друг перед дружкой силой и меткостью ударов. Сложили поленницу на загляденье.
Напарница Люда не зло подколола-позавидовала:
– Небось, мне так прытко не помогают. То ли дело, молоденькой да хорошенькой.
Для Ани Люда стала маяком, путеводной звездой. Ангелом-хранителем и опытным вперёдсмотрящим в её первых санитарских шагах.
Вот стремительно прошёл мимо молодой, воображающий о себе хирург. Он всегда ходил быстро, так что полы халата разлетались и овевало ветром лицо. Сухо, неприязненно бросил на ходу:
– Почему больная П. до сих пор не помочилась?
– Я не…
– Чтобы через полчаса больная П. помочилась.
Больная П. – очень корпулентная женщина. Её кровать округло возвышалась посреди прочих коек как большой холм. У Ани до сих пор болела спина, после перекладывания больной П. с каталки на кровать. Она вокруг неё только что в шаманской пляске не кружилась, в бубен не била. Беспомощно умоляла:
– Ну, миленькая, поднатужьтесь! Пожалуйста, пописайте!
Люда посмотрела-посмотрела на её мучения. Принесла кухонный чайник, соблазнительно зажурчала между мощных чресел тонкой струйкой в судно. Ласково, как маленькой, зазывно пела-приговаривала: «Пись-пись-пись!»
Через минуту больная П., опорожнившись, сладостно охала и стонала. Аня, боясь расплескать, несла тяжёлое тёплое судно в уборную – как драгоценность, как живое существо.
В ту же ночь привезли парня, воющего от боли. Кровь из него хлестала, будто из резаного поросёнка, залила весь пол в приёмном покое. Парню в пьяной драке ножом полоснули лицо. Щека висела на лоскуте, расползались разорванные губы.
Призванный на помощь сторож ухватил разбрасываемые в воздухе ноги. Они с Людой навалились с двух сторон на бьющегося парня.
– Убью! Лекарь, сука, что ж ты на живую шьёшь, гад… Твою так и эдак в душу!
Хирург невозмутимо работал тонкими, как у пианиста, резиновыми пальцами. Кривая иголка с кетгутом ловко сновала туда-сюда. Холодно вскинул серые глаза поверх голубой маски-лепестка:
– Тебя наркоз не возьмёт, только добро переводить. Ты же насквозь проспиртован. Впредь башкой соображать будешь…
Утром буян едва шевелил вздутыми, в запёкшихся швах, губами. Пряча глаза, невнятно извинялся и благодарил. У хирурга глаза усмехнулись поверх маски. Хлопнул парня по плечу: «Поправляйся», – и полетел дальше на развевающихся полах халата.
В санитарской Люда, причёсываясь перед зеркальцем, строго посмотрела на синие тени под Аниными глазами:
– Ты хоть два часа поспала? Старайся этих золотых двух часов при любом раскладе ухватить, урвать. Покемаришь – и ночь выстоишь.
И она же, как орлица, налетела на тихонького, похожего на блаженного старичка. Аня измучилась с ним. Прибегала десять раз по его несмелому зову. Растерянно снова и снова поправляла совершенно сухой подгузник. Отводила глаза от бесстыдно выставленного поверх одеяла старческого сморщенного синеватого «хозяйства». А старичку всё было не так, всё робко хныкал, всё ему что-то кололо и жало.
Аня не понимала хихиканья и фырканья мужиков на соседских койках. Тут-то и налетела Люда. Мокрым, пахнущим хлоркой кухонным полотенцем хлестнула старичка. Тот заслонился ладошками.
– Опять, эксбиционист чёртов, за старое взялся?! – кричала Люда. – Лопнуло моё терпение! Ведь в больницу нарочно ложишься: перед женщинами своим одрябшим добром трясти! Скажу твоей старухе, она те задаст. И Олегу Павловичу докладную напишу – выставит в два счёта! Лежит в чистоте, на всём дармовом – нужно ещё похоть свою почесать! Э-эх, дедушка, ведь седой уже весь!
И, обернувшись, – набросилась на мужиков:
– А вы чего гогочете?! Старый похабник над девчонкой изгиляется, а вам бесплатное кино. Цирк устроили! Всех на выписку! Олегу Павловичу так и скажу: здоровы эти жеребцы, пахать можно!
На кричащую, разрумянившуюся как булочку Люду, мужикам смотреть было приятно. Что они и делали с большим удовольствием.
Что касается хирурга Олега Павловича, у Ани с ним с самого начала выстроились непростые отношения. Взять хоть последний случай.
Девчонку-первородку из дальней деревни не успели довезти в район до роддома. Перепуганная и худенькая, она не переставала гудеть басом, как сирена. Люда и Аня, закутанные в стерильное, похожие на зелёных снеговичков, над ней хлопотали. Уговаривали потерпеть:
– Ну, матушка, ласточка, потерпи, сейчас всё будет хорошо!
Просили правильно дышать. Люда, давая пример, сама то пыхтела как паровоз, то дышала мелко как собачка, выпучивая глаза.
Стремительно вошёл Олег Павлович в клеёнчатом фартуке. Заглянул между напряжённых тощеньких, красных голых ножек в длинных бахилах. Девчонка набрала воздуху и завопила пронзительнее.
– А ну, заткнулась! Рот – закрыла! – и, так как девчонка прибавила громкости – слегка шлёпнул её по щеке! Это роженицу-то!
Девчонка, видимо, так удивилась, что сразу отключила звуковое сопровождение. Начала старательно дышать и тужиться. Роды были стремительные – через полтора часа Люда мыла, обмеряла, взвешивала и пеленала мяукавшего ребёнка. А тут и неотложка подоспела. Девчонку с новорождённым мальчиком увезли в район.
Аня прибирала смотровую. И, пока прибирала, копила в себе гнев. Придумывала тираду, которую, войдя в ординаторскую, выскажет хирургу. В городе бы на него давно в суд подали. Распоясался в своей вотчине, при всеобщем молчании и попустительстве. А она, Аня, молчать не собирается.
– Вообще-то у нас пока больница, а не концлагерь! И в ней работают не фашисты, а врачи. И гитлеровские методы недопустимы! – и дальше, и дальше: о милосердии, о лечении словом, о великом предназначении быть женщиной-матерью, о таинстве рождения ребёнка…
Люда и присутствующая врачиха чуть не поперхнулись чаем. Олег Павлович кинул в рот шоколадную конфету, вкусно прихлебнул чёрный, крепчайший чай. Приподняв бровь, невозмутимо слушал Аню.
– Всё сказали? Я устал и хочу спать. Поэтому вкратце, – и пошёл негромко чеканить: – Я с первой секунды вижу, кричит человек от боли или играет в боль. Наша юная родильница в боль играла, как большинство рожающих. Насмотрелись тупых фильмов. Им вбили в голову стереотип, запрограммировали: раз женщина рожает – непременно должна орать во всю глотку. Режиссёру – колоритный кадр и Оскара – а акушерам после них расхлёбывай.
Ей, дурёхе, всего-то нужно помочь ребёнку и врачу. Так ведь нет! Ей нужно играть главную роль в мелодраме под названием: «Мои роды!». Они потом перед мужьями и на мамочкиных форумах друг перед дружкой хвастаются, восторгаются: кто громче орал. Она орёт в своё удовольствие, а о ребёнке думает? Каково ему задыхаться в родовых путях, пока она тут спектакль разыгрывает? Зрителей, блин, нашла. Увольте меня от бесплатного выслушивания воплей.
А также увольте от истерик младшего медицинского персонала. Вы ведь практикантка мединститута, кажется? Мой вам совет: идите… в фармацевты. Или в хоспис, что ли. Утешать, слёзы и сопли утирать – отличная из вас сестра милосердия получится.
Аню начало потряхивать:
– Вы-то сами испытывали такую боль?! Поставьте себя на её место!
– Не собираюсь ставить себя на место больных. А если соберусь – в тот же день распишусь в непрофессионализме и подам заявление об уходе, – он глядел мимо Ани, будто она была пустое место. – …С вашего позволения. Если удастся, сосну минуток двести, – он откланялся, легко вскочил… Будто не было за плечами двух дневных плановых операций и экстренных родов.
– Тебя какая муха укусила? – полюбопытствовала Люда, ставя остывшую чашку. – Да мы на Олега Павловича тут молимся. Трясёмся, как бы в область не переманили. Да он диагност от Бога! Гений! Бог! С ним по скайпу консультируются! Из соседних регионов едут! Он, вот только взглянет на человека – и сразу выдаёт диагноз. Живой рентген, УЗИ и томограф, вместе взятые. Тем более, у нас диагностическая аппаратура хромает.
Потом они с Людой расстилали свои кушетки в сестринской. Та шёпотом призналась:
– Я, как его увидела в первый раз, по уши втюрилась. Ей Богу! У меня муж и дети, а я бы с ним переспала! – с хрустом, вкусно потянулась: – Охохонюшки, как бы я с ним переспала! Такоооой мужчина!
И, заметив вытаращенный Анин взгляд, засмеялась:
– Да шучу я. Спи давай, ребёнок! Ой, Анька, какой же ты ещё ребёнок!
– Люд, – в темноте прошептала Аня, – а ты… Когда рожала – тоже грамотно, по науке? Дышала там, тужилась?
– Со вторым точно умнее была. А с первым в последнюю схватку так взревела – муж в приёмном покое в обморок упал. С нашатырём откачивали. Олега Павловича на меня, дурочку, тогда не было… А ведь та девчонка успела на Олега Павловича сегодня в суд накатать. Вернее, мамаша её.
– За что?!
– За пощёчину. За моральное унижение.
И – вялым, сонным голосом:
– Вот ты говоришь: Олег Павлович с больными груб. А был случай: с хутора привезли женщину. Уже в годах, с угрозой выкидыша. Ребёнок желанный. И при этом – полный тупизм и дремучая безграмотность! Неделю у неё не было стула! То есть вообще в туалет по большому не ходила – и не чесалась.
И запустила, и нарастила, прости господи, шар величиной с… Даже не скажу, а то кушать не сможешь. Это уже в прямой кишке закаменело. Ужасная безответственность. Оправдывалась: скотина, сенокос, пасека: как раз пчёлы роятся…
Что прикажете делать? Слабительное ей нельзя, клизмы нельзя, микроклизмы не помогают. И Олег Павлович велел Свете (санитарка из другой смены) отложить все дела. Сесть и выковыривать этот кусок метеорита. Потихоньку, пальчиком – в перчатке, разумеется.
Света выковыряла кое-как полкамня, несколько раз зажимала рот и убегала. Потом расплакалась. Расстегнула халат, бросила на пол. Сказала, что пускай её увольняют, но она больше этого делать не будет.
– И что?!
– Ничего. Олег Павлович засучил рукава и доделал за неё работу. Никто Свету, конечно, не уволил, – она сладко зевнула. – Спи давай.
Спасибо, Людочка, удружила. Уснёшь теперь…
Наутро – Аня уже сдала смену – привезли маленькую девочку прямо из детского садика. Возможно, одну из милых «горошинок», которых видела в автобусе Аня. Острый аппендицит. И что-то в операционной у старого хирурга с ассистентом пошло не так.
Санитарочка, сломя голову бежала за Олегом Павловичем. Он тоже собирался домой: в светлом элегантном костюме, в мягкой шляпе и с тросточкой (мягкую шляпу и тросточку Аня мстительно придумала в воображении). Но, встревожившись, без слов пошёл в душевую: намываться и облачаться в операционный костюм.
Аня шла сосновым бором в посёлок, где квартировала. Вдруг поймала себя на мысли, что совершенно спокойна за девочку-горошинку. Потому сейчас её маленькую жизнь в руках держал этот противный хирург, этот гадкий Олег Павлович.
Часть 2. ГРАНАТОВЫЙ БАГЕТ
В тихий час в санитарскую к Ане заглянула Люда с таинственным, девчоночьим выражением:
– В седьмой женщина умирает! Хочешь посмотреть?
Седьмая палата – и не палата вовсе, а огорожённый простынёй конец коридора, на две коечки. За глаза её звали «мертвецкой». На одной койке лежала ничейная старушка, а на другую клали умирающих.
На цыпочках, как преступницы, прокрались в «мертвецкую». Ничейной старушки не было, а на другой вытянулась женщина – плоско, будто тело вовсе отсутствовало. С белой наволочкой пронзительно контрастировало ярко-жёлтое лицо. Жёлтый цвет – жизнеутверждающий, самый тёплый, весёлый и любимый Аней. Только не в этом случае. К желтизне прибавилась налившаяся тяжёлая, с зеленью, бронза.
– Гепатит С, – прошептала Люда.
Женщина смотрела в потолок круглыми белыми глазами-пуговицами. Через равные промежутки времени стонала на одной ноте. Будто баюкала сама себя, но жуткое было это баюканье.
Вошла старшая медсестра, хмурясь, пощупала пульс. Поправила капельницу.
– Это чтобы она быстрее уснула? Чтобы не мучилась? – прошелестела Аня из угла.
Старшая уничтожающе взглянула на глупую Аню:
– Она и так уже ничего не чувствует. Мы просто поддерживаем сердечную деятельность.
– Зачем?!!
– Затем, что не знаю как нынче у молодых, – неопределённый, неодобрительный кивок в сторону ординаторской. – А мы давали клятву до последнего дыхания бороться за жизнь пациента! И (язвительно) у нас что, уже все дела переделаны? Развлечение себе устроили. Бесплатный цирк.
Последние слова прозвучали точь-в-точь как те, что Люда как-то кричала в адрес «жеребцов» из мужской палаты, потешающейся над Аней. Они с Аней переглянулись, фыркнули и, толкаясь и путаясь в складках простыни, рванули на свет. Легкомысленная Жизнь, стуча каблучками (Люда) и хлопая тапочками (Аня), бежала прочь. А Смерть, вытянувшись на коечке, с величайшим напряжением, терпением и мудростью смотрела в потолок: «Бегите, бегите, дурочки. Далеко ли убежите?».
По дороге чуть не сшибли у окна ничейную старушку. Аня давно приметила: та вместе со стулом и книжкой, как подсолнушек, как часовая стрелка, перемещалась в течение дня вслед за солнцем. Ане, угорело бегающей туда-сюда, старушка мешала. И она вежливо спрашивала: «Вера Сергеевна, вас тут не заденут?» или: «Вера Сергеевна, вас здесь не просквозит?»
Старушка отрывала от книги голову, стриженную как у мальчика. Короткие мягкие волосики отливали то голубым, то розовым оттенком. Похожа на состарившуюся Мальвину после тифа. Вскидывала добрые блёклые глазки. С наслаждением жмурилась в ослепительно бьющем из окна снопе золотого света.
– Деточка, так не хочется, чтобы пропал хотя бы один солнечный лучик. Я за солнышком охочусь. Караулю.
Иногда они с Людой, распаренные от беготни, садились рядом со старушкой, вытягивая усталые ноги. Люда громко жаловалась и кляла свою работу. Голубая, розовая старушка дрожащим прозрачным пальцем, с просвечивающей скрюченной косточкой, закладывала страницу. Мечтательно говорила:
– Ах, деточки! Когда-нибудь вы будете вспоминать это время как самое лучезарное в своей жизни. Передвигаться самим на молодых сильных, быстрых ногах… Ах, это такое счастье!
– Ну да… Счастье упахиваться за восемь тыщ, – ворчала под нос Люда.
Когда Аня впервые увидела старушку – подумала, что та беременна. Громадный живот едва не касался пола. Старушка едва ходила, откинувшись для равновесия, придерживая его рукой.
– Запущенная киста, – объяснила Люда. – Наша бабуля отказалась от операции, а сейчас уж поздно. Ей девяносто пять. Но какая выправка! Ты видела, как она ест?
Аня за обедом присмотрелась. Все, как один, утыкались носами в тарелки, низко кланялись при каждом хлебке, по-гусиному ныряя шеями. Вера Сергеевна сидела прямо. Она не роняла своё достоинство, тянясь к тарелке. Ложка бесшумно зачёрпывала суп и, не теряя ни капли, сама высоко подымалась к сухим втянутым губам. Ни на миллиметр голова не соизволила опуститься, поклониться навстречу ложке.
Это было так красиво и необычно на фоне тычущихся в тарелки голов, хлюпающих, с шумом втягивающих жидкость губ… Аня стала подражать, пустой больничный перловый суп ела как королева.
– А уж следит за собой! – шумно восторгалась Люда. – С такой хворью, да и возраст…
Это Люда давала ей: то пакетик с синькой, то щепотку марганцовки. Вера Сергеевна споласкивала свой седой ёжик – вот откуда этот лёгкий голубой или розовый оттенок.
Всегда в чистеньком халате в кружевцах, больше похожем на пеньюар. На шее воздушный лоскуток. И никогда от неё не пахло старушечьим, затхлым. Дождавшись, когда в палатах погасят свет, старушка тихонько шаркала в женский санузел. В руках несла красный пластмассовый тазик, полотенчико и стопку чистого бельеца.
Ванна, по Людиному пышному выражению, стояла для «блезиру». Эмаль давно покрылась трещинами и ржавыми потёками. В ванне женщины подмывались, туда плевали, чистя зубы. Если уборная была занята, самые нетерпеливые справляли малую нужду. Курящие исподтишка стряхивали пепел и окурки, туда же выбрасывались тампоны, бумажки, мусор.
Если не успевали убраться санитарки, старушка вынимала мусор, кряхтя, тщательно мыла ванну. С удивительным проворством залезала внутрь по приставному деревянному ящику. Усаживалась, макала в ведро с горячей водой губку, выжимала на себя. Долго не спеша, с наслаждением обмывалась: каждую частичку старого тела, каждую дряблую складочку.
– Дорогие женщины! – объявила, краснея, Аня после обхода. – Пожалуйста, имейте совесть. Не мочитесь, не плюйте в ванну: там моется пожилая женщина. Вас каждую неделю отпускают домой в баню. А у человека дома нет.
Дорогие женщины задвигались на своих койках, зашушукались и захихикали. Аня для них не была авторитетом. Тогда из-за её спины выступила Люда:
– Не дай Бог кого замечу, будете иметь дело со мной. Ясно? – и для наглядности показал розовый, с крупное яблоко, кулак.
Аня уже знала, что старушка отдала свою городскую квартиру больнице. Взамен ей обещали коечку, лекарства, уход. Люда нехотя рассказала: сначала старушке действительно выделили койку в двухместном «люксе» для заслуженных. Потом перевели в общую. А потом и вовсе – в палату интенсивной терапии. Если человеку после операции потребуется помощь – старушка всегда тихонько доплетётся до поста, позовёт дежурную сестру или доктора. Звонок вызова давно сломался, а у старушки всё равно бессонница.
Но Аня-то видела привычное и терпеливое страдание в сонно моргающих глазах разбуженной старушки. Посреди ночи в палате внезапно включали яркую голую электрическую лампочку, с грохотом ввозили каталку с больным, бегали туда-сюда до утра. А если тяжёлых больных оказывалось двое – старушку вообще отправляли в покойницкую в конце коридора.
И ни упрёка, ни жалобы. «Гордая. Аристократка», – то ли с осуждением, то ли с одобрением объясняла Люда. Старушка, действительно, была из «старорежимных», с какими-то фрейлинскими корнями.
Однажды из книжки, которую читала Вера Сергеевна, под ноги Ане выпала старая фотография. Девушка-стебелёк: стебельковая талия, перехваченная атласным кушаком. Шейка как стебелёк. Голые ручки – тонюсенькие, ломкие. И только перекинутая, как у простолюдинки, через плечо коса, которую девушка рассеянно ощипывала прозрачными пальчиками… Только коса была мощная, толстая, тяжёлая, деревенская – казалась стволом, вокруг которого доверчиво обвилась девушка.
Фотография была овально вырезана и характерно загнута по краям. Так бывает, когда карточку долго держали в рамке.
– Был багет, – подтвердила старушка. – Весь в красных камушках. Подарил один гимназист в мой шестнадцатый день ангела. Шестнадцать лет – шестнадцать камушков.
– Рубины?!
– Что вы, голубчик! Простенькие красные гранаты. Откуда у гимназиста средства? Помните «Поединок», про поручика Ромашова? «Детство Тёмы»? Петю Ростова? Николеньку Иртеньева? Да хотя бы «Детство Тёмы» читали? Вот этих мальчиков и убивали.
– А до революции было лучше? – спрашивала Аня.
– Конечно, лучше, – улыбалась старушка. – У нас в гимназии училась девочка Женя из крестьянской семьи. В каникулы косила, гребла. Руки чёрные, тяжёлые, мужицкие. Так к ней директриса и классная дама, и преподаватели обращались только на «вы»: «Вы, госпожа Дерендяева». Так было принято. Человек – господин…
А нынче кричат: «мужчина», «женщина»… До сих пор не могу привыкнуть и вздрагиваю, когда слышу. В глубокую старину, потехи ради, устраивались общие бани: вперемешку мужчины, женщины… Вот такое ощущение…
– Ах ты, падла, шалашовка!
Аня работала почти сутки, подменяя санитарку. Всё утро готовила пациента к операции: клизма, обривание, обмывание. Только что он вытянулся под простынкой, смиренно сложил ручки на животе, устремил в потолок умильный, благостный взгляд.
И вот в дверях сорвал простыню, соскочил с каталки, будто его кипятком сплеснули. Голый, скакал как чёрт, потрясал волосатыми кулаками над Аней.
Люда увещевала мужика, заново укладывала, разворачивала каталку. Объясняла Ане:
– Ты его вперёд ногами повезла – на операцию-то…
Мужик всё не мог успокоиться, скрипел зубами, пытался выбросить из-под простыни кулак под нос отшатывающейся Ани… Тут-то его за волосатое запястье крепко ухватила рука в белом манжете:
– А ну-ка извинись перед девушкой! Вперёд ногами его повезли, фон барона! Какие мы нежные! Да с твоей тухлой печенью тебя вперёд ногами можно уже десять лет смело возить. Вёдрами незамерзайку хлестать – это мы не суеверные… Немедленно извинись перед девушкой – иначе отменю операцию.
Молодой хирург Олег Павлович, с которым Аня была в контрах по принципиальным медицинским вопросам. И – Ане, приказным тоном:
– На вас лица нет. Зайдите в ординаторскую, там чай горячий… Ну нельзя же так, в самом деле…Вы уж определитесь: медицина или институт благородных девиц.
Аня, поднимаясь по крылечку, почувствовала боль в низу живота. Смотрел её Олег Павлович. Аня лежала перед ним в кресле, зажмурившись и затаив дыхание от стыда. Стыд сильнее боли. Аня читала про женщин, которых заставляли раздеваться перед расстрелом догола. Уже стоя над ямой с трупами, они инстинктивно прикрывали наготу. Стояли в стыдливой и нежной позе Венеры Милосской. Это перед смертью.
Господи, чего только не лезет в голову. Аня отвлекала себя от боли. Олег Павлович поднял на неё серые глаза:
– Что же вы не предупредили? Ещё минута, и я лишил бы вас девственности. Вот этой холодной железной гинекологической ложкой, пошло и вульгарно. И оправдывались бы потом перед мужем в первую брачную ночь. А он бы говорил: «Умнее ничего выдумать не могла?»
Он тоже отвлекал Аню от боли. Серые глаза улыбались. Сейчас, вблизи было видно, что они окружены ломкими сухими лучиками: белыми на фоне загара.
Всё обошлось: боль была вызвана спазмом.
…– На мальчишнике расскажу, что будущая жена добровольно раскинула передо мной ножки, будучи весьма слабо знакома со мной. И с её прелестной розовой раковинкой я познакомился раньше, чем предложил первое свидание.
Да, неразборчивая. Да, уступчивая. Пусть шутит на эту тему, сколько хочет. А она любит, любит, любит его. Как отца, которого уже нет в живых. Как старшего брата, которого у неё никогда не было. Как первого в жизни мужчину. Просто удивительно, что столько любви помещается в таком узком, восхитительно маленьком теле. Это уже его слова, которые он произносит, благодарно ловя её губы.
Он пружинисто откидывается на сильных руках, закуривает. В темноте малиново светится тёплый огонёк. С ним можно разговаривать обо всём, что взбредёт в голову.
Не надо заготавливать в уме фразу и мысленно прокатывать её в мыслях. Так было с Аниным бой-френдом. Ничего у них не было, а он уже страшно ревновал её к встречному и поперечному. Устраивал скандалы, шпионил, крал телефон. Ужас.
Подружки Ане завидовали: только приехала в город, такого мажора отхватила, с тачкой. Но последний случай, разлучивший их…
Ехали в этой самой тачке. Аня поправляла на голове новую фетровую шапочку-таблетку с вуалькой. Это была первая в её жизни настоящая дорогая дамская вещь, с мамой выбирали.
Аню затошнило от быстрой езды. «Только не в салоне!» – в панике завопил бой-френд. И Аня – тоже в панике – заметалась, зажимая рот руками. Бой-френд, не оставляя руля, сорвал с её головы шапочку, сунул ей… И Аня – не могла потом себе простить – туда… Бой-френд потом обрывал телефон, объяснял, что запах из замшевых салонов почти невозможно выветрить… Вычеркнула из телефона, из головы, из жизни.
С Олегом она будто расслаблено плыла в тёплой реке. Так мать рожает дитя в воде, и оно погружается в привычную среду. Аня вернулась в среду Любви, где и должен, по задумке Бога, находиться человек. А люди сами устраивают себе ад, вот как Аня с бой-фрэндом.
Аня рассказывала, как решила стать врачом. В десятом классе их погнали на прививки. Как стадо погнали: весёлое, топочущее, прикалывающееся, несмотря на строгие взгляды классной.
Был февраль, но погода совершенно весенняя: солнце, голубые лужи, птичий гомон, взбитые как сливочный крем облака. Аня заметила на крыльце паренька: совсем юного, их ровесника. У него не было сил, он прислонился к стеночке.
Почему заметила – он выбивался из общей суматошной весенней картинки. И не серым обесцвеченным лицом и слабой позой. Чем-то другим. Будто природа безжалостно, равнодушно, резко очертила, вычеркнула его из себя. Поставила на нём крест.
Природа вообще безжалостна и равнодушна. Её интересуют только здоровые особи. Паренька для неё уже не существовало. Он был, но его уже как бы не было. Только глаза на впалом лице ещё жили, тоскливо и жадно следили за перемещением и суетой вокруг себя.
Было 14 февраля. У Ани звякал целый карман разномастных сердечек, надаренных мальчишками. Она нащупала самое большое гранёное сердечко и вложила в неприятно вялую влажную руку паренька. Он с трудом повернул голову и улыбнулся – если можно назвать улыбкой плоско растянутые серые губы.
Подошло такси. Аня видела, как он садился, как при этом бессильно разжалась его ладонь. Не нарочно: он выронил сердечко и не заметил, и наступил на него. Кто сказал, что любовь сильнее смерти? Смерть показательно, на примере пластмассового сердечка, попрала любовь на Аниных глазах. Дескать, видела? Не рыпайся.
…А Олег рассказывал, что хотел стать астрономом. Его поражали вселенские головокружительные массы, скорости, температуры небесных монстров, огненных и ледяных. А потом неожиданно увлёкся анатомией и психологией, природой человека. Человек ведь тоже Вселенная наоборот: сколько ни изучай, распахиваются новые глубины.
Открылась бездна звёзд полна. Звездам числа нет, бездне – дна. Это можно сказать о человеке. О его физиологии, и о мыслях, и о душе, в которой и звёзды, и бездна подлости. Что ещё раз доказывает борьбу Бога и Дьявола. Но люди, до кончика ногтей, состоят из звёздной пыли… Человек – звёздное вещество, пришелец со Звезды.
– Выключи, пожалуйста, Малахова, – просила Аня. – Там твои звёздные пришельцы плюются, матерятся и дерут друг у друга волосы…
Олег вскакивает. Голый, голубоватый от телевизионного свечения, с совершенной, божественной фигурой… Наглядное доказательство того, что человек сошёл со Звезды.
На стене, на старинных зелёно-золотых, в ромбах, обоях висела журнальная картинка с обнажённой женщиной. Она была снята в пол оборота со спины. Отвернувшееся лицо спрятано под гривой волос: спутанных, буйных, вздыбленных. Соблазнительно закинутые на затылок полные руки. Мощно раздвоенный круп, как у молодой кобылицы.
Пока Ани здесь не было, Олег курил и смотрел на эту женщину.
Картинка была вставлена в овальный багет. Аня приподнялась на локте, чтобы рассмотреть ближе. Шестнадцать гнёздышек с грубо развёрстыми лапками-зажимами. Когда-то в них были шестнадцать камушков: как брызги, как капельки крови гимназиста.
– Олег, откуда эта рамка? И чья это квартира?
– Рамка осталась от прежней хозяйки. А квартира, слава Богу и главврачу Валентине Ивановне, теперь моя, – он с удовольствием рассмеялся. Какие у него были крепкие, белые замечательные зубы. – Отбарабаню ещё пять лет, и – прощай, деревня моя, деревянная, дальняя. В Москву, в Москву! Ты готова жить в Москве? Как раз кончишь институт. Здесь всё отремонтирую, продам. У меня оперировался с мениском один молдаванин, прораб. Сделает конфетку, а не квартиру. Думаю, за неё хорошо дадут: трёхкомнатная сталинка в центре.
На пустой койке был свёрнут валиком готовый для дезинфекции матрасик. Под койкой стоял пластмассовый красный тазик. Над ним Аня в последний раз умывала Веру Сергеевну. Старушка уже несколько дней не вставала, и как раз в эти дни Ани не было. И никто – безобразие, Люда-то куда смотрела?! – не помогал старушке совершать утренний туалет.
Вообще санитарки умывали лежачих больных в грубых резиновых перчатках до локтей. В таких обмывают покойников в моргах. Аня лила из кувшина в тёплую ладонь струю осторожно, чтобы не брызнуть. Тщательно промывала глаза, высокий лоб, виски, каждую морщинку. Старушка, упёршись руками в края койки, сидела, вытаращившись, как ребёнок. Хлопала мокрыми светлыми, съеденными ресницами. Смаргивала капли воды, будто слёзы.
– Вера Сергеевна, вам плохо?!
– Мне хорошо, голубчик! Вы не представляете, какое это лучезарное счастье: вот так плеснуть в лицо холодной свежей водой!
«Что ж, – сказала главврач Валентина Ивановна. – Мы не ведём по каждому врачу статистику по спасению пациентов. Но, навскидку, за те годы, что Олег Павлович у нас работает… Грубо говоря, он вытащил с того света не меньше тысячи человек. Если бы не квартира – он бы от нас уехал в область. Это было его условие: квартира.
А Вера Сергеевна… Дай Бог, как говорится, нам до таких лет… Вот я давеча бельё замочила простирнуть – и такая одышка, такое теснение, спёртость в груди. Стенокардия. А ведь мне и пятидесяти нету».
…– Все б так умирали. В полдник, смотрим, у неё молоко не тронутое, – Люда стояла над пустой койкой, сложив на груди полные руки. Она чувствовала себя виноватой, что старушка умерла в её, Людину смену. – Говорят, святые так умирают – во сне. Ведь и боли адские терпела, и мы покоя ей не давали: с койки на койку дёргали… Ни ропота, ни жалобы. Что говорить – воспитание. Аристократка.
Аня подхватила тазик, понесла в ванную. Из головы не выходило привязавшееся: «Какое это лучезарное счастье, голубчик. Ах, какое это лучезарное счастье».
Был последний день практики.
ЛЁГКАЯ ПАЛАТА
… Я уже начала забывать четырехэтажную серую больницу на окраине Кисловодска, в которой мне пришлось пролежать полгода.
Как я здесь оказалась. Муж поступил в Кисловодское медицинское училище. Вместе мы жили третий год и не могли представить, как это: он там, а я здесь. Знакомые поддержали: куда иголка, туда и нитка. «Надюш, люди специально путевки по бешеной цене покупают, а ты два года будешь прохлаждаться, как в санатории. Нарзан трёхлитровыми банками пить, по лермонтовским местам гулять…»
Мы уезжали, увозя с собой Большую Тайну. Моя первая беременность закончилась кровью, болью, слезами и большим сомнением врачей в том, что у меня будет ребенок. Практически, был вынесен вердикт о бездетности. Для мужа это не представлялось большой трагедией, а вот для меня… Разве может быть семья из двух человек? Так, недосемья какая- то.
Был выработан следующий план. По прибытии в Кисловодск я сообщаю в письме родным, что произошло невероятное: мы ждём малыша. Ну, там смена климата повлияла, нарзанные ванны помогли… Через положенные девять месяцев усыновляю ребенка (девочку). Пишу домой, чтобы ждали с внучкой. И, благополучно «разрешившись», являюсь со свёртком, перевязанным розовой ленточкой.
В Кисловодском роддоме высокий пожилой главврач быстро вернул меня с небес на землю. Матери-кукушки, сказал он, отказываются, как правило, от очень-очень больных детей. А за здоровенькими такая очередь из местных, что мне, приезжей и без прописки, и соваться нечего. И вообще, такие вопросы решает не он, а городской отдел народного образования.
Кисловодское гороно располагалось (а может, и сейчас располагается) недалеко от универмага «Эльбрус».
На втором этаже в нужном кабинете сидела заведующая отделом опеки и попечительства, приятная полненькая женщина, по имени Мария Петровна.
Она участливо выслушала о моём горе. И забросала совершенно неожиданными вопросами:
– Вы печатать на машинке умеете? Куда думаете устраиваться на работу? Давайте к нам: у нас свободно место секретаря – делопроизводителя. Бумажный завал, мы просто задыхаемся. А с нашей стороны: в течение года мы подбираем вам прехорошенького ребеночка. Хотите смугленького, в маму – пожалуйста. Или чтобы на папу – голубоглазого блондина – был похож? Нет проблем.
Не передать словами, как я обрадовалась.
– К которому часу мне завтра подойти?
– Почему завтра?! Сегодня, сейчас, сию минуту приступайте!!!
«Бумажные завалы» – это было очень скромно сказано. У меня не разгибались онемевшие спина, шея и руки. А обрадованные сотрудники несли и несли кипы планов, смет, схем, отчетов, докладов, распоряжений. Всем, разумеется, нужно было отпечатать в первую очередь.
Кроме этого, в мои обязанности входило отвечать на звонки, регистрировать шквал входящих-исходящих писем, вывешивать на доску объявлений приказы, следить за деловыми передвижениями моего шефа Сан Саныча Чепусова…
Какой нарзан, какие горные красоты и прогулки по лермонтовским местам… Домой (мы сняли частный домик на улице Умара Алиева, недалеко от училища) плелась на полусогнутых. Душу согревала мечта о том, что скоро я стану мамой. Я завела календарик, где очертила в кружок заветную дату «рождения» моего малыша, и вычеркивала до неё день за днем.
Прошел месяц моих вычёркиваний. Однажды утром, как обычно, я встала умываться и… Меня едва не вывернуло, когда я засунула зубную щётку в рот. Через несколько дней осторожных наблюдений (боялась сглазить) призналась мужу.
Красивая пышноволосая врач-гинеколог поставила мне восьминедельную беременность. И сразу выдала направление в больницу:
– Сохраняться, сохраняться и сохраняться! Это чудо при вашем диагнозе.
Она рассказала, что это не первый случай в её практике. У бездетных женщин, собирающихся усыновить малютку, очень часто у самих под сердцем начинает биться крохотное сердечко. Врачи видят причину этого феномена в глубоких психологических и гормональных изменениях женского организма. Верующие люди объясняют божьим промыслом.
Номер нашей палаты – четвёртый. Её в больнице почему-то называют лёгкой. Мы все неуклюжи, как медвежата, в своих платьях-распашонках. Каждая из нас ждёт ребенка, а все мы вместе сохраняемся. Нянька ворчит: – Гнилые вы какие-то все пошли, девки. Ох, парим мы ваших деточек, ох, парим. Я на восьмом месяце трехпудовые кульки с мукой ворочала.
Само собой, долгими больничными вечерами разговариваем о маленьких существах, которые незримо живут среди нас. У кого куда бьет ножками, как переворачивается. Только у одной из нас ультразвук определил пол ребенка. Прочие гадают: по лунным месяцам, по «крови», по мудреной японской системе, просто крутят нитку с иголкой…
Сегодня на освободившуюся койку положили Катю. Из-за сильного токсикоза, что редкость во второй половине беременности, она истощена, лицо голубоватое. В рот крошки не может брать. Видя, как мы пьем чай, зажимает рот и корчится в рвотных позывах: а рвать-то нечем. Наши чаепития переносятся в буфет.
К Кате каждый день приходит свекровь с кружкой овсяного киселя, кормит сноху с десертной ложечки. Кате назначили питательные уколы, глюкозу, успокоительное.
Тема разговоров, само собой, переходит на токсикозы. Одна мясо на дух не переносила. Другая молока в рот не брала. А у третьей была аллергия на… собственного мужа. Ну, вот как придет муж с работы, она только посмотрит на него – и готово, зажав рот, несется в ванную. Муж обижался, свекровь поджимала губы. А спустя некоторое время как рукой сняло. Бывает же такое.
Кормили здесь ровно столько, чтобы не протянуть ноги от голода. В этом отношении глазовские больницы от южных отличались примерно как рестораны от комплексных столовок… То есть, конечно, если попросишь, разбитная громкоголосая, из благодарненских казачек, буфетчица Маша набухает полную тарелку водянистого творога, серой перловки или красивых хлебных котлет…
«Фу, девочки, меня сейчас стошнит…»
В соседней двухместной палате лежат черкешенки. Каждый вечер их навещает многочисленная шумная родня. Громко переговариваясь и смеясь, топают по коридору: несут кастрюли, термосы. Из палаты плывут умопомрачительные запахи.
Когда становится совсем невмоготу (что муж-студент, при пустых полках в магазинах, принесёт в передаче?), можно заглянуть как бы невзначай: «Медсестра не у вас?» Они, чернявые, полные, с поясницами, туго обвязанными пуховыми шалями, внимательно смотрят на мой живот. Приглашают:
– Садись с нами.
– Ну что, вы, нет, нет.
– Не отказывайся. Не ты хочешь – ребенок. Вон какая худая. Как рожать будешь?
В кастрюле – обжигающе горячие шашлыки, заправленные чудовищным количеством домашней аджики, зелени, пряностей.
– Ты не любишь киндзу? Ты ничего не понимаешь. Вот так сверни в пучок, обмакни в соль. Ребенку полезно, витамины. Мальчика хочешь?
– Девочку.
Смотрят недоверчиво, даже – презрительно. Как это можно хотеть девочку? Говорят, в тамошних роддомах традиция: когда женщина-мусульманка родила, нянечка спешит в вестибюль к родне. Если приносит весть, что родился мальчик, ей дарят 50 рублей (старыми, доперестроечными деньгами). Если девочка – хватит и 25.
В одной из палат лежит восьмидесятилетняя бабушка, кабардинка, с кистой. У неё что-то с ногами, не встаёт. Вечером каждую пятницу приезжают два её сына на шикарной иномарке (по тем временам воспринималось, как нынче космическую ракету в личном пользовании иметь). Сцепляют руки «стульчиком» и сверхбережно несут к выходу. Что-то ласково ей приговаривают, укутывают, усаживают на заднее сидение. В понедельник утром возвращают.
Не знаю как сейчас, а тогда в местных вузах, особенно медицинских, свирепствовал блат. Учились не самые умные, а самые богатые. По этой причине все старались лечиться и рожать только в «русских» больницах. Из аулов привозили под двери роддома рожениц буквально в последний момент, «когда головка пошла» – чтобы, не приведи бог, не развернули обратно к акушерским нацкадрам. Знали: у русских докторов не только светлые головы и золотые руки, но и отзывчивые души – не откажут.
У нас в палате самая молоденькая, почти ребёнок – армянка Сусанна. У неё милое, пушистое имя Шушаник. Но быть Сусанной нравится больше. Она из карабахской деревни, сирота, родителей убили. Я с недоверием смотрю на эту смуглую прелестную девочку: неужели она видела, как у людей выкалывали глаза, сжигали живьем?.. Рассказывают, в ту зиму, когда произошло землетрясение, в Азербайджане по этому случаю объявили народные гулянья. Неужели и это правда?
Соотечественники не оставили Сусанну. Вывезли сюда, в Кисловодск, выдали замуж за хорошего парня – армянина, разумеется. Устроили на приличную работу. Ну почему, если с русским случается беда, он всегда остаётся с ней один на один?
Моя соседка по койке, прозрачная длинноножка Ленка, еще настолько юна и наивна, что с трогательной доверчивостью выдает четвёртой палате страшную тайну: у неё муж-дезертир. Дал взятку и по уговору с военкоматом должен исчезнуть из города на два года, чтобы ни одна живая душа не видела.
Целые дни он проводит в душной полуподвальной комнате, согнувшись над вязальной машинкой. Вяжет цветные хлопчатобумажные и шерстяные колготки, они среди курортных дам нарасхват.
Погулять во дворик выходит ночью. Единственное развлечение – видики да молодая жена.
– Доразвлекались, – хлопает себя по круглому животику Ленка.
Больница расположена на горе. Рядом через ложбину – карачаевский посёлок. Добротные двух- и трёхэтажные каменные дома, высокие ограды из булыжника. Еще нет шести утра, мы с украинкой Людой стоим у окна.
Мне не спится из-за хронического сосущего чувства голода, а у нее почки, колют пенициллин. Нам хорошо видно, что происходит в ближнем дворе. Мечется черноволосая женщина в платке, телогрейке, татарских галошах на босу ногу. Вот выпускает в загон целое стадо блеющих баранов и двух ослиц. Так вот кто не даёт спать нам по утрам своими мерзкими криками!
Тем временем женщина вилами надергала из стога сено. Схватила вёдра и скрывается с ними, то под навесом, то в подвале. На полчаса двор пустеет.
Затем из подземного гаража выкатывается лакированная «девятка». В неё величаво садится дама в элегантном кожаном пальто, с высокой прической. Трудно узнать в ней ту мечущуюся женщину с испачканными в навозе ногами.
– Молодцы, люблю, – уважительно говорит Люда, сама очень домовитая и чистоплотная. – А то есть такие: до полудня дрыхнут, а потом шипят, соседи, мол, с ног до головы в золоте ходят.
Окна заменяют нам телевизор. Одно выходит во двор перед роддомом. Наблюдаем, как многочисленное местное семейство на нескольких машинах почтительно встречает молодую женщину с младенцем.
– Вот приедет она домой, – комментирует кто-то, – и всё почтение к мамочке ку-ку. Разом впряжётся в обыденные дела, а их без неё накопился воз и маленькая тележка. Никаких нежностей, никаких поблажек. Врачи говорят, что молодой матери нужно больше отдыхать, спать. Как бы не так.
Дом должен быть в чистоте, скотина ухоженная. Муж обстиран-накормлен – ублажён. А как ты с ребёнком управляешься и спишь по десять минут, привалившись в сарае к боку коровы, – это никого не касается. Для местных мамочек неделя после родов – величайший подарок судьбы. Отсыпаются за всю жизнь. Своими ушами слышала, как одна уговаривала врача подольше не выписывать…
К нам кладут высокую худощавую кабардинку Мадину. Она из Нальчика, ждёт первенца. Приехала погостить к тётке, упала. Начали отходить воды, а срок всего пять месяцев. Привезли в неотложке.
Шансов спасти ребенка почти никаких. Но врачи надеются, запретили ей вставать. Мы кормим её, следим за капельницей, выносим судно. Мадина в сотый раз рассказывает, как у нее на лестнице закружилась голова… Очнулась на земле.
– Сглазили, – уверенно заключает Люда. – Сглазили тебя, девушка, ясно, как день. От сглаза нужно лицо вот так три раза обмахнуть тыльной стороной ладони, будто пот утираешь. Подолом с исподу – тоже помогает. Хорошо шесть булавок в кофту втыкать кверху головками. Или в кармане носить зеркальце – блестящей стороной наружу.
– Вот так или вот так лучше? – мусульманка Мадина, с недоверчивой улыбкой, шаловливо воспроизводит эти чисто русские способы уберечься от порчи. Потом испуганно отмахивается, закрывает глаза и шепчет. Наверно, просит прощения у Аллаха за шалость.
Наши койки стоят рядом, и мы с ней часто шепчемся. Она спрашивает, видела ли я когда-либо кавказские свадьбы?
– Ай, если бы только это видела. Гул, стон до неба стоит. Вот ты стояла рядом… – она с трудом подыскивает сравнение, – рядом с несущимся грузовым поездом? Страшно, да, земля качается? Вот и здесь так. Земля трясется от могучего топота мужских ног, а ведь обуты они в мягкие сапоги без каблуков. Мужчины пляшут неистово, по многу часов. Иногда сутки подряд, а никто из них не пьян. Дрожь берет тех, кто видит эту пляску. Ай, если бы ты видела наши свадьбы!
А у Мадины дела все хуже. Её кладут в отдельную палату. Ставят стимулирующую капельницу: она будет рожать. Так получилось, что мы с Мадиной сошлись ближе всех: она приезжая, я тоже. И она умоляюще стискивает мне руку своей смуглой сухой горячей рукой. Она так боится остаться одна! Честно говоря, я сама трясусь, как овечий хвост. Мне никогда не приходилось присутствовать при этом. Мадина начинает кричать: «Больно!» Входят врачи и, слава богу, прогоняют меня.
… -Ой, да не вечер, да не вечер, – уютно мурлычет Люда, копошась в тумбочке. Выкладывает свои вещи: завтра её выписывают.
– Люда, пой громче!
– … Мне малым- мало спалось, Ой, да во сне привиделось…На Людин приятный голос заглянула женщина в больничном халате, присела на краешек Ленкиной койки. Перевязанные пуховыми шалями черкешенки встали в дверях, сложив руки под грудью. Лица непроницаемые, задумчивые.
– Будто конь мой вороной Разыгрался, расплясался…И вот уже знакомый мотив подхватила вся палата. Песня разбивается на несколько голосов: низкие грудные и высокие серебряные. Рвётся из палаты, становится слаженной, набирает вольность и трагическую силу.
– Ой, налетели ветры злые…
Всё еще впереди. Злые ветры, раздувшие пожар внутри страны, раздел Союза. Взрывы жилых домов в Буйнакске и Волгодонске, захват родильного дома в Будённовске. Теракты, пущенные под откос пассажирские поезда, призывы к великой священной войне…
Ничего этого пока нет. Разрумянившиеся, с блестящими глазами, мы переглядываемся, невольно улыбаясь друг другу, звонко, беззаботно выводим:
– Ой, да сорвали чёрну шапку С моей буйной головы…РОЗОВОЕ ЯБЛОКО
К Вареньке всегда очередь. Варя торгует в палатке на мини-рынке фруктами. Фрукты у неё: что в витрине, что в ящиках – на подбор, крупные, без червоточин. Как в рекламе: радуга фруктовых ароматов.
Красные, с кулак, гранаты, янтарная оранжевая хурма, желтовато- зелёные яблоки, дымчатые голубые сливы, синий виноград, фиолетово-сизые баклажаны. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», – напевает Варя на придуманный ею мотивчик и хохочет.
Хозяин палатки Алик очень доволен Варей и всегда ставит ее в пример другим девчатам-продавщицам.
Работает она расторопно, весело, с шутками-прибаутками. Но вот досадливо нахмурились тонкие брови, сердитый румянец залил лицо. А все из-за того, что старушка из очереди попросила взвесить одно яблоко. Ну, одно и одно, подумаешь: может, в больницу кому. Но, скорее, гостинец внучонку в деревню.
Низенькая такая, славная деревенская старушечка в телогрейке, в обрезанных резиновых калошах на шерстяной носок, за спиной закорузлый брезентовый рюкзачок. Улыбается Варе, смущённо прикрывая ладошкой беззубый рот, и просит взвесить ей яблоко. На удмуртском языке просит!! Вот Варенька и вспыхнула, как огонь.
Так удачно все в ее жизни сложилось: из деревни, с фермы, от навоза и коровьих хвостов вырвалась. В городе пятый год, с подружкой снимают частный дом.
Уж вроде Варенька все деревенское из себя безжалостно вытравила. Акцент ужасный сорнячный, деревенский, окающий, певучий – с болью, с мясом выдрала. Теперь говорит исключительно: «ПА-Ажалуйста, кА-Анечно, пА-Акупайте». Это раз.
Второе: довела войну с веснушками, выдающими её местное происхождение, до победного конца. То есть они остались чуть-чуть вокруг носика, но такие расплывчатые, бледные, их под кремом и незаметно вовсе. Не зря Варя косметичке Жанке нет-нет, да и позвонит:
– Сливы завезли сладкие, крупные – тебе по дороге не забросить?
Или:
– У нас уценка на апельсины, я тебе килограммчик отложила.
Глаза вот у Вари подкачали: узкие, длинные, раскосые, как у лисички, так ведь нынче такие в самой моде. А за огненный цвет волос, как у Вареньки, женщины вообще бешеные деньги в парикмахерских выкладывают. Ну, скулы сильно выдаются, ну и что из этого? Да и скулы нынче, говорят: последний писк.
Фигурка у Вари похожа на Барби. Между прочим, Барби – сокращённо от Барбары. От Варвары, то есть. На Варе-Барби прозрачный розовый фартучек. В пышных волосах – розовая кружевная наколка.
Но как все эти старушки в телогрейках, с мудрыми детскими глазками, вечно угадывают в Варе «свою» и на улицах спрашивают у нее по-удмуртски:
– Нылы (доченька), где тут ближе к вокзалу пройти?
Ясновидящие они, что ли?! Вон и эта туда же, и прямо при очереди! Варя отчеканила холодно, строго:
– Я вас не понимаю. По-русски, пАжалуйста, повторите.
– Ой, мака-мака, не сердись. Думала, нашенская ты, извини. Яблочко, говорю, купить хочу. Больше бы яблок купила, да деньги кончились, на билет только осталось.
Господи, откуда у них в деревне еще хоть какие-то деньги есть?! В деревне есть шелестящая, осыпающая палисадник горькими цветками черемуха, есть древняя черная банька, осевшая по крышу в смородиновых кустах. Там, не дождавшись ночи, щелкает соловей. А ниже есть изгородь, а еще ниже пруд, блестящий как рыбья чешуя. А за прудом на вырубках нагретые земляничные поляны… Все, все есть в деревне, только денег нету…
Наклонилась Варя над ящиком с розовыми яблоками. Так и называется сорт: «розовый жемчуг».
– Девушка, уснула там, что ли?! – кричат из очереди. А она ищет-ищет-ищет самое большое, самое сияющее яблоко, алое, как утренняя деревенская зорька. Чтобы такого ни у кого не было, чтобы бабкин внучек удивился и засмеялся таким же, как у бабки, беззубым ротиком.
Не хватит денег у старушки? А Варя бесплатно даст, она это может себе позволить, все-таки пятый год в городе. А что очередь возмущается, так не зря же она пятый год в городе, знает, как отшить: и тех, кто возмущается, и тех, кто затребует себе непременно такое же розовое чудо-яблоко, да не одно, а больше, больше…
Жаль только, что пока Варя яблоко искала, старушка не дождалась, понурилась, повернулась и тихонечко ушла.
Тихо отложила Варя розовое яблоко в сторонку. Господи, как осточертели ей нитратные помидоры, деревянные аргентинские яблоки, мороженая сопливая хурма. Как достали ее капризные городские покупательницы, брезгливо копающиеся в ящиках с фруктами. Копаются как паршивый поросёнок в корыте. Все фрукты перероют, изомнут, продырявят острыми ногтями – а Варе потом порчу товара из своего кармана плати: не уследила.
Надоела алчная Жанка, дружащая по принципу: ты мне, я тебе. Опротивел хозяин с собачьим именем Алик, от потных рук которого Варенька устала отбиваться в бытовке…
Скорее замкнуть палатку, схватить розовое жемчужное яблоко и, не обращая внимания на гневную очередь, бежать на автовокзал, догнать старушку. Ничего не объясняя ей, изумленно лепечущей на милом, милом языке, чмокнуть морщинистую щеку, сунуть яблоко в руки.
И долго-долго махать вслед старенькому дребезжащему автобусу, который – счастливец! – через несколько часов пропылит по сельской гравийке мимо пруда, мимо палисадника с черемухой, мимо ушедшей в землю закопченной баньки, мимо милого родительского дома…
Смахнув ладошкой слезы, Варя поворачивается к нетерпеливому покупателю.
– Так что вы прА-Асили? ВинА-Аграду?
Чему-чему, а скрывать чувства она научилась. Все-таки пятый год в городе.
ИЗ ГОРОДА Г. В ГОРОД С.
В середине неблизкого пути обнаруживаю, что оставила дома паспорт. На душе скребут кошки: пропустят – не пропустят? Едем не к тёще на блины – в режимное учреждение.
В дороге меня окончательно добивает ещё известие. Оказывается, мы едем в колонию для несовершеннолетних мальчиков. Это им я везу свои девчачьи сказки и женские истории! А то ведь мальчишки прямо глаза проглядели в окошко, извелись там без малышовских сказок, без тётенькиных любовей и страданий. Ну да не обратно же поворачивать.
Когда входим в клуб, колонисты вскакивают, чеканно и оглушительно выкрикивают: «Здравия желаем!» Это они приветствуют незрячего поэта Леонида Фёдоровича Смелкова.
А жизнь брала своё – прозрело сердце, Искал себя и в деле находил, Срывался, падал, вновь вставал и жил…В юности потерянное зрение из-за разорвавшейся в руке гранаты. Три высших образования. Восемь сборников стихов. Руководство обществом слепых и промышленным предприятием. Если у вас дома есть итальянская стиральная машинка «Канди», выпуска 2003–2009 года – знайте: электрожгуты в ней изготовлены при генеральном директоре Смелкове.
До него и сейчас трудно дозвониться: то он в командировке по делам общества слепых, то на творческой встрече, то на даче, которую построил своими руками. На этот раз он организовал конкурс сочинений среди несовершеннолетних колонистов, на тему «Мы все твои, Россия, дети».
Я наблюдаю за мальчишками. Какие красивые, одухотворённые, открытые лица! Я не оговорилась: красивые и открытые. Когда человека стригут под машинку, у него странным образом открывается, яснеет и делается беззащитным лицо, будто с него сдёргивают покров фальши. С волосами можно производить разные манипуляции: взбить так и эдак, кучеряво уложить. А лицо – вот оно лицо, какое есть.
Когда-то я спросила знакомую евангелистку: «Отчего в тюрьмах встречается так много сильных и красивых, просто ангельски красивых людей? А потом узнаёшь, что этот ангел вырезал целую семью».
– А ты думаешь, дьявол явится людям мохнатым, с рогами и копытами, каким его изображают на картинках? – ответила она вопросом на вопрос. – У него будет прекрасный, светлый, неслыханной прелести лик…
* * *
Зрители расселись в клубе следующим образом: на первых скамьях самые крупные, плечистые подростки. Чем дальше от сцены – пацаны мельче и хилее. И уже за их спинами торчат ушки и макушки самых бледных, заморённых. Даже с моего места видны их вялые лица с красными, подпухшими от недосыпа (или слёз?) глазами.
Всё правильно. Вернее, всё неправильно, и так быть не должно. Но всякое замкнутое пространство, будь то армия, тюрьма, колония или остров Любви в «Доме-2» – есть срез общества, где отношения между людьми утрированы, доведены до гротеска. Очищены от всяких условностей.
Если разобраться, и на воле бывают плачущие, обиженные «терпилы». Есть нейтральные «мужики» – и есть паханы и лизуны, обхаживающие их шестёрки. Просто эти границы не бросаются в глаза.
– В колониях, особенно детских, без подобной иерархии не обойтись. Иначе – забудь о дисциплине. Анархия, бунт, – признался (не для печати) офицер-воспитатель, когда мы ехали обратно. В салоне вспыхнула маленькая дискуссия.
– А как же Макаренко?
– Сравнили. Тогда дети были другие. Мягкий и благодарный, как пластилин, материал. Внутри – не вытравленный ещё стерженёк патриархальности. Вера в Бога, в справедливость, в идеалы…»
Если бы мы, не приведи Бог, оказались за решёткой, я бы была «шнырём» (немного утешает, что интеллигентный Басилашвили из «Вокзала для двоих», на зоне тоже угодил в «шныри», то есть уборщицы). А вот Смелков, несомненно, стал бы авторитетом. Но справедливым и мудрым авторитетом. Шевельнул бы грозно бровью – урки бы сидели на своих шконках тихо как мыши.
Администрация колонии старается. Каждый день здесь проходят мероприятия. Театральные постановки, встречи с интересными людьми, вот писатели приехали.
Многие здесь впервые увидели котлеты. Откормятся, подкачаются на тренажерах, усвоят уголовную грамоту – и на свободу. Где мамка пьет, папки нет, работы и жилья тоже нет. Зато вокруг соблазны и страсть к свободной весёлой жизни.
* * *
Безо всякой надежды я предлагаю ребятам несколько привезённых книг:
– Подарите на свидании своим мамам, сестричкам. А может, у кого и девушки есть.
К моему удивлению, меня вмиг окружает толпа. Мальчишки, торопясь, перескакивают через скамейки. Со всех сторон:
– Я, я! Пожалуйста, дайте мне!
Интересно, если бы я раздавала таблицы умножения – хватали бы с таким же энтузиазмом? Дают – бери, бьют – беги?
А может, я ошибаюсь. Каждому мальчишке, даже самому забитому и жалкому, хочется выглядеть крутым. Круто же: пришла мама на свидание – а он ей подарок: новенькую, пахнущую типографской краской, золотистую книжку. Из-за решётки, из неволи. Маленький мужчина, добытчик.
В человеке первично Добро. Если бы в стране за труд платили достойные деньги, а не жалкие подачки – сколько бы родителей не спилось, сколько детских судеб не было бы искорёжено. По этому поводу в машине снова вспыхивает ожесточённый спор.
– Не путай тёплое с мягким. Вон, китайцы за кусок хлеба ломят – мировую державу отгрохали.
– То китайцы. А русскому человеку вынь да положи справедливость. Без неё, справедливости, ему и жизнь не жизнь, и сахар горек.
Я заметила: в основном книги достались плечистым крепышам с ближней скамьи. Последний сборник я протягиваю ушастенькому замухрышке. Он берёт с оглядкой, робко, недоверчиво и обречённо: отберут за первым углом.
Впрочем, воспитатель отбирает книги у всех: подарки подарками, а инструкция инструкцией. Книги он должен просмотреть: не пронесла ли я в них чего запретного. Наркотики или маляву. И самому ознакомиться с содержанием: нет ли там нецензурных мыслей и выражений. И раздаст он их, в отличие от меня, справедливо. Самым достойным: за хорошее поведение и за учёбу, победителям конкурса.
* * *
Нынче трудно добровольно заставить читать книги малоизвестного автора. Да чего там – просто заставить читать.
Человека нужно отодрать от телевизора и надеть наручники, арестовать. Надёжно изолировать от общества, посадить в четыре стены за толстую решётку (не вырвешься, голубчик!), замкнуть на ключ, окружить колючей проволокой и злыми собаками – и может, для надёжности, даже заковать в кандалы. Попался! Чтобы уж никуда не делся и читал как миленький.
* * *
С самого начала наш маршрут определён следующим образом: следственный изолятор в Глазове – женская колония общего режима в городе Сарапуле – воспитательная колония для несовершеннолетних в городе И.
По задумке, кольцо – только не золотое, а железное, из колючей проволоки – замкнёт мужская ИК строгого режима в Ягуле.
От сумы и тюрьмы не зарекайся. Не приведи Бог, окажешься за решёткой – и так это скромненько, как бы между прочим, обронишь: «А тут у вас в тюремной библиотечке мои книжечки лежат…».
Глядишь, гражданин начальничек – ключик-чайничек подобреет, распорядится перевести в камеру суше, теплее. Лишнюю передачку разрешит, свиданку с родными или ещё какую поблажку.
Это мы шутки шутим, нервно похохатываем, перетаптываясь у ворот следственного изолятора. Хотели попасть за решётку? Да без проблем. Не забыли прихватить кружку, ложку и пару белья?
Ещё подшучивали насчёт захвата заложников. Но нам это точно не грозило. Нашими зрителями был немногочисленный, человек двадцать, хозяйственный отряд: осуждённые на небольшие сроки за нетяжкие преступления. Уборщики, кухонные работники, ещё что-то по мелочи.
В этот раз к нашему творческому десанту присоединились работники культуры: Вадим, Ольга и Маша, неизменные палочки-выручалочки. У Вадима тембр и сила голоса как у Левитана. Оля и Маша – очень артистичные, хорошенькие девушки, которые украсили бы собой любую сцену.
В обычной жизни им не грех подчеркнуть стройность талии и ножек. Но сегодня они причесались и оделись очень строго: минимум косметики, никаких фривольных локонов, юбки ниже колен. Красавица Оля даже водрузила на точёный носик очки и стала похожа на учительницу.
Зря волновались. Зрители сидели, целомудренно уперев глаза в пол, старательно разглядывая носы обуви. Впрочем, изредка жарко, исподлобья взглядывали на сцену.
Леонид Фёдорович разрядил обстановку. Прочитал «соколикам» десяток стихов: зажигательных, подбадривающих, с добрым юморком. Военных, с горчинкой. Лирических: о босоногом детстве, любви к родным берёзкам, к матери, к женщине…
У каждого свой дом, А в нём – очаг. Мой дом – в твоих, любимая, очах. Ресницы – вместо стен, А крышей – синь…Через два часа мы возвращались в обратном порядке. На контроле послушно поворачивались, как ваньки-встаньки, растопыривали руки, делали «ласточку», задирая подошвы туфель. Снова нас сопровождали лупоглазые голубые прожекторы, пристальные глазки видеокамер, лязг толстых железных дверей и густой басистый лай овчарок. Вышли за высокую и толстую кирпичную изгородь. И кто-то сказал с наслаждением:
– Вы чувствуете? Чувствуете?! Ах, какой необыкновенный, сладкий…
– Да что сладкий?
– Воздух свободы!
Хотя воздух в тюремном дворике и на улице, где бегут машины и торопятся прохожие, по химическому составу ну совершенно одинаковый.
А из изолятора нам ещё дважды звонили и передавали убедительную просьбу заключённых. Выступление им так понравилось, что они ещё хотели бы с нами встретиться.
Недавно я шла мимо ворот тюрьмы. Там махала мётлами группка мужчин в чёрных телогрейках.
Один парень отскочил, давая дорогу, молодцевато вытянулся во фрунт и шутливо откозырял.
– Здравствуйте! А вы у нас вечер проводили!
И, хоть получил втык от конвойного («Р-разговорчики!») – весь светился, будто родного человечка встретил.
* * *
Когда я обговаривала детали нашего выступления в женской ИК общего режима, на глазах незаметно превращалась в старуху из «Золотой рыбки».
Сначала заверила, что встреча не потребует от работников колонии никаких специальных приготовлений. Потом выяснилось, что мне нужен ноутбук с хорошими колонками: не тащить же с собой свой, за 300 километров. Потом – что никак не обойтись без проектора и большого экрана для показа видеоролика. Потом понадобился специалист, который бы всей этой техникой руководил. Потом я запросила зал просторнее, чтобы была акустика. Потом, раз помещение большое, – микрофоны для выступающих…
– Будут вам микрофоны, – заверили меня. – Только не волнуйтесь: у нас во время таких мероприятий муха пролетит – слышно бывает. Недавно бурановские бабушки выступали…
Мы приехали весёлым июньским днём. Ослепительное солнце, лёгкие облачка, пронзительно-синее небо. Сквозь колючую проволоку зеленеет короткая травка.
Жизнь здесь бедна событиями и зрелищами, и колонистки высыпали на огороженную территорию целыми отрядами. Переговариваются, подталкивают друг друга локтями. Любопытно тянут шеи и закрываются ладошками от солнца. Беленькие платочки. Голые, женственно-розовые ноги в ботинках на беленький же носочек. Довольно стильные, подогнанные по фигуркам халатики в клеточку, похожие на модные удлинённые и приталенные мужские рубашки.
Нам приветливо машут и с нами здороваются. Здесь отбывают срок женщины из разных концов страны.
А вокруг раскинулись живописные просторы.
– Есть ли у колонии своё подсобное хозяйство? – интересуюсь я рачительно, как сельская уроженка. – Огороды, теплицы, фермы?
Про себя рассуждаю: здорово же: сади цветы, овощи, зелень. Разводи коров, кроликов, кур. От работы на тёплой земле, с живыми ростками, с доверчивыми ласковыми животными – разомнутся руки, оттают сердца, отогреются души… На столах, с довольно однообразным меню, появятся свои мясо, молоко, яички. А излишки можно продавать – на эти деньги обустраивать быт колонии…
Снова вспоминаю Макаренко: у него колонисты так ухайдокивались на полях и в мастерских – не то, что безобразничать и играть в тюремные иерархии – еле до постели добирались.
Выяснилось: земля вокруг колонии – муниципальная. Хоть и зарастает бурьяном – трогать не моги. Послушайте, как же это всё ужасно не продумано!
У меня дома хранятся давнишние подарки из колоний. Крошечные глянцевые записные книжечки. Букет из переплетённых цветной электропроводкой шариковых ручек: на кончиках пружинятся крученые искусные ромашки, розочки, колокольчики. На стене висит панно: в толстом стекле спит как живая рябиновая кисть. Поблёкшие, тронутые желтизной резные листья, кое-где ягодки пожухли…
Лишь при тщательном рассмотрении видно, что ягоды, веточки и листья не настоящие: сделаны из пластилина. И видно, с какой любовью, с жадной тоской трудились истосковавшиеся руки, что душа в эти безделушки вложена…
«Люди эти… запирались в тюрьмы, этапы, каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне условий естественной и нравственной жизни человеческой…
Насильственно соединялись с развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех ещё не вполне развращённых людей».
Более ста лет прошло с написания толстовского «Воскресения» – ничего не изменилось. Тюрьмы, как ни старайся – остались кузницами кадров для преступного мира.
* * *
Собрались в столовой. И сразу бросилась в глаза разница между мужской и женской зоной. Между мужчинами и женщинами. Женщины более строптивы, непосредственны, независимы и вообще себе на уме.
Они демонстративно пофыркивают на замечания или добродушно не замечают их. Даже на зоне кокетливо чувствуют свою женскую исключительность и пользуются ею, как охранной грамотой (попробовали бы так мужчины).
Если мужчины даже во время самых смешных сцен считают ниже своего достоинства усмехнуться, дёрнуть уголком губ – у женщин все эмоции наружу. Покатываются, хохочут до слёз, как дети. Восторженно топочут ногами, аплодируя, вскидывают вверх руки и раскачиваются, как деревца на ветру… Когда Леонид Фёдорович читал:
Если хочешь женщину понять, Сыном любящим взгляни на мать. На жену и дочь, коль есть они, Мужем верным и отцом взгляни… Среди бела дня или ночИ Не спеши судьёй быть – помолчи. Помолчи, хоть не привык молчать, Если хочешь женщину понять,– зал дружно промокал покрасневшие глаза концами платков, всхлипывал и шмыгал носами. Кто-то откровенно рыдал.
За стеклянной дверью томился охранник: щуплый, с азиатским жёлтым личиком. Ему там ничего не было слышно, и паренёк скучал. Подпирая косяк спиной, переминаясь, он поскользнулся, потерял равновесие и с шумом съехал на пол, а кепка – на нос. В ту же секунду грохнул такой искренний женский хохот – стены задрожали. Видно, паренёк этот был давним предметом шуток и подтруниваний. Строгие взгляды охранниц и призывы к тишине мало действовали. И снова я подумала: на мужской зоне такое трудно представить…
Одна полненькая, смешливая, добродушная женщина особенно энергично махала руками. Аплодировала артистам громче всех, звонко хохотала, вскакивала и посылала воздушные поцелуи, так что её урезонивали охранницы. Жизнь из неё била ключом. Лицо такое славное, круглое, простое, крестьянское.
И срок небольшой, и статья не тяжёлая. Часть 1, статья 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения… На Пасху затопила печь, заперла избу и ушла к подружке праздновать. Из печки выскочил уголёк. Пятеро детей: от двух месяцев до девяти лет – сгорели заживо.
* * *
Некоторые рассказы складываются из деталей, как кубики «лего». Вот и я хотела собрать впечатления-кубики и объединить их сюжетом. Скажем, завязка такова: когда я прохожу близко от заключённых, к моим ногам незаметно от охраны, падает бумажный шарик. Я сообщнически наступаю ногой, поднимаю, разворачиваю. Записка.
И сразу взглядом нахожу автора: огромные страдающие, умоляющие глаза: не выдайте! Что будет в той записке, как развернутся события дальше – дело времени и фантазии.
Скажете, избито, банально, надумано, так в жизни не бывает? Через две недели звонят из редакции:
– Тебя настойчиво разыскивает мужчина, читатель. Можно дать твой номер?
– Ну, пожалуй… – отвечаю я, утомлённо вздыхая. Вроде, достали уже поклонники моего творчества.
В трубке приятный уверенный баритон. Неторопливая, грамотная, убедительная речь. Каждое слово взвешено и тщательно продумано. Видно, что мой телефонный визави основательно подготовился к разговору.
Вначале пара дежурных комплиментов (меня читают, мои творения нравятся). Потом вкратце о посещении женской ИК (самые уважительные отзывы). Теперь суть просьбы. В колонии находится знакомая моего собеседника. Круглая сирота.
Очень, очень нелёгкая судьба. А сама удивительно лёгкий, светлый человечек. Таких называют «солнечными». Не в смысле Даун, а что от таких исходит солнечное тепло. Споткнулась, бывает. Кто без греха, бросьте камень… Да, отбывает срок, статья тяжёлая. Нет, её не было тогда среди зрительниц: приболела.
Она вообще часто болеющая. Такая нежная, хрупкая, миниатюрная. Росточек 150 сантиметров, много ли ей надо. Дюймовочка. Климат суровый, северный. Так получилось, атмосфера вокруг сложилась тяжёлая… Она не выживет в таких условиях.
От меня требуется самая малость: выйти на начальника колонии (очень отзывчивый понимающий человек) и попросить о переводе Дюймовочки в южную область. Приходской батюшка (добрый, славный человек) в курсе этой истории и всячески поддерживает…
А после позвонить и сообщить о результатах переговоров… Но уже во время разговора я дала понять, что результатов не будет, просто не может быть.
Как мой собеседник себе это представляет? Начальник берёт трубку и выслушивает от незнакомого человека – то есть меня, что вот на днях я выступала у них в колонии и прошу за одну заключённую. Я её в глаза не видела, но из совершенно точных источников и интуитивным чутьём знаю, что она исключительно честный, вставший на путь исправления человек. На основании чего прошу перевести в южную колонию. Начальник колонии, путаясь в телефонном проводе, кидается исполнять мою просьбу… Детский сад какой-то.
То есть, тридцать с хвостиком лет назад, будучи глупой восторженной девчонкой, я действительно кидалась очертя головы: кого-то спасать, кого-то топить. Расставляла акценты, решала кто прав, кто виноват, возомнив себя господом Богом с диктофоном и шариковой ручкой наперевес.
Потом часто выяснялось, что топила тех, кого надо спасать, а спасала тех, кого надо топить. Вернее, топить вообще никого никогда не надо.
Со временем, чем больше писала на криминальные темы, тем больше убеждалась в народной мудрости: «Не та боль, что кричит – а та, что молчит». Молчали жертвы – потому что были мертвы. Молчали их родные, потому что, хоть закричись, – не вернёшь…
И снова и снова поражалась удивительному сходству преступников с маленькими детьми. Сломают игрушку, с любопытством оторвут у куклы голову, руки и ноги: а что будет? Как маленьким детям, им не свойственны СОпереживание, СОчувствие. Им не понять: жертва испытывает такие же ужас, отчаяние и боль.
Многие любят только себя и до седых волос верят в чудо, в рождественскую сказку. В Деда Мороза, который прилетит в голубом вертолёте и вытащит из мешка подарок. Например, внезапный оправдательный приговор. Или чудесное освобождение по УДО.
А то, что замученные и убитые жертвы уже не встанут из могил – так батюшка отпустил грехи и утешил, и свечки в приходском храме поставлены. И пущена слеза: не потому что жалко убиенную жизнь, а из-за минутного сентиментального порыва. Вы думаете, отчего так надрывен тюремный шансон?
Вот песня про дом, про мечту о доме – её самозабвенно распевает в застолье, в караоке вся страна. Из динамиков проникновенно плывёт, плещется, тоскует бархатный голос героя. У него, дело понятное, «пока ни кола, ни двора и ни сада». А хочется и двор, и сад, и нехилый домишко в Подмосковье с прудом, лебедями и звёздами.
Надо всего-то: угадать пять номеров из шести. Сама понимаешь, милая, «мало шансов у нас. Но мужик барабанщик, что кидает шары, управляя лото, мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом».
Выпадет, ясно? Дома у нас с неба падают – а вы как думали? Что их покупают на заработанные деньги или строят своими руками? Х-эх, лошары!
Да чего там. Многие, не только за решёткой, верят в халяву, в чудо. В Золотую рыбку и щучье веление, в Гордона и Малахова… В кого и чего угодно – только не в себя самого.
Главное, чтоб свезло. Чтобы мужик, падла, кинул нужный шар, как договаривались, по понятиям. И тогда примчатся губернатор и комиссия, и тебе подарят квартиру, сделают операцию, ввинтят лампочку, поправят забор, оплатят билет в оба конца, депутат лично возьмёт под свой контроль…
* * *
Вот в какие дебри размышлений завела меня жизнь. А ведь чуть было не получился выдуманный рассказ: хорошенький, аккуратный такой, гладенький. Как кубик «лего».
Да, а замкнуть «железное кольцо» в Ягуле у нас не получилось. В мужской колонии разобран клуб, обещают сделать после Нового года. Вот тогда, сказали, и приезжайте, ждём…



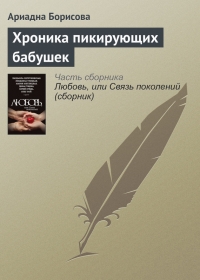



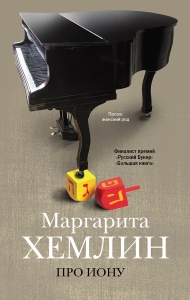

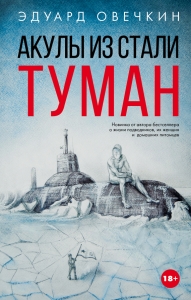

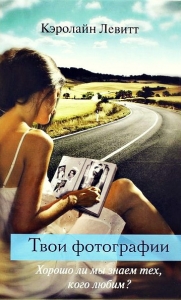
Комментарии к книге «12 часиков», Надежда Георгиевна Нелидова
Всего 0 комментариев