Надежда Нелидова Бандит, батрак
Ты – мне, я – тебе
– Ой, ноженьки мои, ноженьки! К концу смены гудом гудут, ноем ноют. Только и дашь поблажку на конечной остановке. Забросишь их, опухшие, распаренные, на соседнее сиденье, скинув сланцы. А чаще и не скинув.
Народ – свиньи. («Швиньи», – шамкает одна бабушка-дачница, берущая штурмом, дерущаяся за свободное место). Бросают на сиденья запачканные сумки, шмякаются грязными огородными задами. И насрать, что после них чистая публика сядет…
Ноги мои, ноженьки, ластоньки мои бескрылые! Плотные аптечные чулки для вас – как мёртвому припарки. В других городах, ведаешь: пассажиры сами к кондуктору подходят, оплачивают проезд. Чудеса в решете! Потому понимают: кондуктор за смену натопчет километров тридцать. Для него каждый шаг как чугунный. А им, в свежинку, в прохладцу, в охотку – чего пару шагов не ступить?
Только не верю я. Вот ехал бы в автобусе нашем губернатор или мэр, или знаменитый артист… Все бы повскакали: «Ах, ох! Автограф пожалте». А что им наш брат кондуктор… Не велика птица: обслуга, чего изволите, пшёл вон…
Вон компания подростков ввалилась: гомонят, гогочут. Протопали мимо меня берцами в самый конец автобуса, развалились, дурные журавлиные ноги в проходе раскидали. Руки бы у них отсохли, мимо проходя, расплатиться?
Нет, тётка, тащись через весь автобус, обслуживай. Они сидят – ты стой, переминайся, как лакей. Жди, когда они нарочно неспешно по карманам шарят, копеечки выуживают. А ничего, что тётка за смену курсирует за смену раз триста туда-сюда?
Раньше-то я на стройке ломила, штукатуром-маляром. Работка ничего, прибыльная. Когда красочку там, лак, клей импортный налево толкнёшь. Прораб: «Р-р-ры!» – а я ему: «Что я, жру твой лак?!»
Но двадцать лет назад врачи грыжу нашли, посоветовали лёгкий труд. Пришлось распрощаться и со штукатурами, и с малярами. Взяла газетку вакансий. Меня одно объявление в газете завлекло, чисто стихи. Видно, поэта для рекламы привлекли:
«Ты должна прекрасно выглядеть!
Ты должна быть «железной леди»: улыбаться, даже когда хочется кричать и плакать!
Ты должна быть выносливой как гранитный камушек. В самые свирепые эпидемии оставаться неуязвимой, находясь в крохотном замкнутом пространстве мчащейся «капсулы»!
У тебя должна быть великолепная зрительная память: запоминать с первого взгляда проходящих мимо сотни людей!
Ты должна быть кристально честной, так как будешь иметь дело с материальными ценностями.
Ты должна ослепительно выглядеть! Впрочем, полгода работы у нас сделают тебя стройной как чинара!»
Молодая была, заинтриговало то поэтическое объявление. Кого, думаю, набирают? Космонавтов? Резидентов, Штирлицев? Служащих в банковские ячейки? Стюардесс?
Оказалось, господи прости, кондукторов на внутригородские рейсы. А материальные ценности – это засаленная кожаная сумочка с пятаками. А мчащаяся замкнутая капсула – раздрызганный маршрутный автобус.
– А вы и есть стюардессы! – с жаром принялась меня вербовать женщина из отдела кадров АТП. – Только те в небе, а вы на земле. Мы вам и униформу пошьём: голубенькую, с серебряными крылышками.
– Тогда уж с серебряными шинами шейте, – говорю.
В ту пору, в девяностые, это дело новое было. Ну, как новое: в середине прошлого века катались в общественном транспорте кондукторши.
Потом их контролёры заменили, хватали «зайчиков» тёпленькими на выходе. Водитель сам продавал книжечки такие, по двадцать талончиков. Много продаст – премию получит. В автобусах зубастенькие железные коробочки развесили: компостеры. Отсюда выражение появилось: «Ах, не компостируйте мне мозги».
Смех и грех, меня больше соблазнило обещание про стройность и чинару. Я уже тогда аппетитный поросёночек была. А чем чёрт не шутит: возьму и похудею. Даже модные журналы советовали: «Ваши походка и осанка станут грациозными и изящными, если в автобусе во время поездки вы постараетесь удерживать равновесие, не хватаясь за поручень». А тут не одна поездочка, а десять кругов каждый день придётся наматывать.
Правда, не помогла мне эта гимнастика. Вишь, как разнесло. Но приноровилась, просачиваюсь, протекаю ртутной капелькой в проходе. Стиснутые пассажиры только охают, попискивают и возмущаются, что таких толстух набирают в кондукторы. Уволить, мол, меня надо за профнепригодность.
Какие мы нежные. Ничо-о, не в международном самолёте летите, потерпите. Не нравится – ездите в такси.
М-да… Вот он, лёгкий труд. Спящего на заднем сиденье здоровенного бомжа растолкала и еле выпроводила – теперь из салона кислую вонь за всю смену не выветришь.
Пока с ним возилась, одна старая клюшка кассету с яйцами на сиденье опрокинула. Нашкодила – и бочком, бочком к выходу. Я её перехватила в дверках – она двинула локтём в мой больной пах – и выкатилась горошком. Вон они какие, тренированные, нынешние пенсионерки.
Я-то до пенсии точно не доживу. Вся на нервах, работа пёсья. И в паху ноет и ноет – надо бы до больницы добраться, да всё некогда. Время летнее, отпускное, некого на подмену поставить.
Из салона несёт адским пеклом, как из раскалённой духовки. Кажется, брызни дождик – обшивка зашипит. Но дождика нет – и места свободного в автобусе нету. Народу битком – а бабкино сиденье пустует. Понятное дело, никто на растёкшиеся желтки садиться не хочет.
– Кондуктор, почему у вас кресло грязное? Почему в автобусе вонь, как в бомжатнике? Ваша прямая обязанность – поддерживать в салоне чистоту и порядок!
– А ваша обязанность, – огрызаюсь на шибко грамотных пассажиров, – соблюдать в салоне чистоту и порядок. Я, что ли, насвинячила? Ваш же брат пассажир. Мне бы зайцев успеть обилетить.
О, зайцы, это отдельная поэма! Мальчишечка один, школяр, пристрастился бесплатно ездить. На свой страх и риск пару раз закрыла на него глаза. На третий легонько к выходу подтолкнула: «Кто за тебя, Филиппок, платить будет? Дядя Ваня Мичурин?»
Так весь автобус на меня набросился. Господи, господи: их бы воля – живьём сожрали. Ох, зол человек пошёл. Ей Богу, будто моих пассажиров в целях эксперимента год держали в клетке и озверином кололи. А потом тот опытный загон отомкнули и всем скопом – в мой автобус.
Да как я посмела на маленького, да небось верзилу бы не вышвырнула, да только и умеете с о старыми да малыми воевать. Да вон у него какой огромный рюкзак: бедняжечку за ним не видно. Да протащить эту кондукторшу в газете, да в интернет её на всеобщий позор, да распни, ату её!
Тут я крепко испугалась, потому что у нас в АТП инциденты были. Напарница Вера отправила одну безбилетную молодайку пройти остановку пешочком. А молодайка и окажись беременной: под шубой-то не видно!
А на улице, как на грех, минус восемнадцать. Так эту историю месяц на первых телеканалах во всей эРФэ тёрли-обсасывали. Как будто других новостей у нас уже и нету, кроме этой новости № 1, и во всём остальном сплошной рай и коммунизм.
На все телешоу подряд вызывали и молодайку, и Веру эту несчастную. Один старик из зрителей затрясся, клюкой замахнулся и ей в лицо плюнул. И вся студия – ну аплодировать стоя, прямо овация. Прославили бедную Веру на всю страну. Нашли овцу отпущения.
Вера на первом этаже живёт, так какая-то молодёжь, активисты, у неё окна камнями перебили. Всю ночь скандировали:
– Фа-шист-ка! Фа-шист-ка!
А она, между прочим, одна троих детей поднимает. И обнаружь контролёры в её автобусе «зайца» – вычли бы из Вериной зарплаты штраф, как у миленькой. Как хочешь, так и мечись между двумя огнями.
Начальство вызвало и сказало:
– Всё понимаем, Вера, но увольняйся. Нам такая слава не нужна.
Именно после Веры у нас в АТП штатный психолог появился. И вот, как тот психолог учил, я разумно и вежливо говорю:
– Граждане и гражданочки, рыбы мои, ведь меня за этого ребёнка оштрафуют, мама не горюй.
Так один молодой человек по карманам начал шарить – долго так, с издёвкой, показательно шарил, чтобы все видели. Наскрёб мелочь – и мне с размаху в лицо: «Подавись, мол». До сих пор в глаз левомицетин капаю – пятирублёвиком попало, краснеет и слезится. М-да, народ – швиньи.
Говорят, жульничает, мухлюет с билетами наш брат кондуктор… А я так скажу: это разве жульничество? Да по сравнению с тем, как наверху воруют – это ж мы сявки жалкие. Это нам как молоко за вредность.
Скрывай – не скрывай – а все кондукторы уж с утра знают, на какой линии и в какие часы будет лютовать контроль. Сарафанное радио донесло: до обеда на маршруте чисто.
На животе у меня рулончики билетов. Я делаю вид, что отрываю от рулончика, а сама с треском рву припасённый в рукаве угол газеты и выдаю пассажиру использованный билет. Этих билетов полная железная урночка при выходе – пригоршней черпай. Ещё немного – и смене благополучный конец.
Успела, а то со встречного маршрута Валентина сигнализирует: контролёрши поменяли дислокацию, перебежали на мой маршрут. Без рабочей солидарности в нашем деле никак.
Ох, кормилицы, ноги мои, ноженьки! Опять на обед заработали. А я вас за это дома прохладную ванночку наведу, ментоловой мазью намажу, в капустные листья обверну. Заброшу на валик дивана, на подушки – и сериал включить: лучшее снотворное.
Но это вечером, а сейчас на конечной остановке – сделаю массажик. Шофёр Коля из кабинки высунул смеющееся потное лицо, нос картошкой:
– Давай тебе профессиональный массаж сделаю! Гарантирую: понравится!
Я ему устало кулаком погрозила:
– Много вас, охотников! У тебя жена есть – ей делай!
Хороший он водитель, Коля. И человек хороший, лёгкий. От того, с кем работаешь, очень настроение зависит. И психолог говорит:
– У вас работа публичная. За окном может быть пасмурно и холодно. А у вас в салоне чтобы всегда солнышко светило. И солнышко это – вы.
Ещё бы нормальной зарплатой то солнышко подзарядить. Одна ядовитая дамочка ткнула тощим, острым наманикюренным пальцем в мою грудь, уязвила:
– Ваша профессия жалкая и унизительная, – говорит. – Всю жизнь с протянутой рукой.
Я не обиделась, легко согласилась:
– Да, матушка, с протянутой. Но ведь для вас же, не себе в карман.
Взрослые – они как дети, только взрослые. Чуть что, капризничают, топают ножками, всяко обзываются. Обманывают наивно, по-детски.
Вон тощая пассажирка, моя ровесница, зыркнула цыганистым глазом. Отвернулась к окошку, бросила сквозь губу:
– Льготный проездной.
Я культурно попросила её предъявить пенсионное удостоверение. Снизошла, показала высунутый из кармана уголок книжицы. Я – хвать книжицу. И что?! Старый комсомольский билет! От шкрыдла!
Пассажирка, сверкая дегтярными глазами, оправдывалась, мол, кошелёк дома забыла. Что, дескать, развалится автобус, если её три остановки провезёт?
Не развалится, матушка. Ну, да и ты не развалишься, если ножками эти три остановки протопаешь. Ну, люди! Разве придёт им в голову зайти в магазин и цопнуть буханку хлеба даром? На том веском основании, что кошелёк забыли, а магазин без одной буханки не развалится и не обеднеет?
И опять весь автобус против меня взбунтовался. Тоже пассажирская солидарность. Чего только в свой адрес не услышала. И что зверствуем, что только и знаем цены на проезд поднимать, а по маршруту бегают древние развалюшки. Ладно, Коля в микрофон пригрозил тормознуть. Дескать, с места не сдвинется до тех пор, пока буча не прекратится.
А пенсионерка, ссаживаясь, обозвала меня напоследок жабой, жирной пучеглазой. Так и живём.
На крылечке Любу уже ждали приблудные кошки. Встали, нервно, волнами подёргивая спинками и хвостами (драгоценные шкурки переливались), тёрлись о Любины ноги. Ждали завтрака: копчёных обрезков, колбасных хвостиков, лужицы молока из прорванного пакета.
На каком бы месте ни устраивалась Люба – о том тут же прознавали все местные бродячие кошки. Глядь: опять у неё сытенько нежатся под прилавком, пузами кверху.
Сколько Люба через них получала нагоняев и даже штрафов от санитарной службы. А как их выгонишь?! Живые ж души! Вот у тех, кто кошек заводит и потом выбрасывает – души чёрные, как дёготь. И бродить им на том свете вечно бездомными кошачьими тенями.
Если бы Любу спросили, что в человеке первично: корысть и зло – или доброта, щедрость и совесть (слова «альтруизм» она не знала) – она бы ни на минуту не усомнилась. Конечно, добро и совесть.
Человек изначально рождается абсолютно, кристально честным и совестливым. Это уже потом нарастает всякая накипь, плесень.
Иначе почему, если человек нечаянно оставит на прилавке покупку или кошелёк – первым Любиным непроизвольным, автоматическим, инстинктивным порывом бывает крикнуть:
– Гражданин рассеянный, ничего не забыли?
– А?! Что?! – испуганно дёргается гражданин.
Тут ему и снисходительно вручается находка. Хотя свидетелей нет: можно равнодушно смахнуть в карман – и морду валенком: поди докажи. Видеокамеры нет, не додумались ещё, слава Богу. А ведь не раз и суммы солидные в разбухшем от купюр кошельке оставлялись, и серёжки золотые падали. Но срабатывает природная честность.
Обвесы, обмеры, обсчёты – это не в счёт, это другое. Это испокон веку заведено, вроде игры между продавцом и покупателем. А не будь лапшой, держи ухо востро!
И то, когда юная Любаша пришла в торговлю – первым-то жестом было сдачу вернуть сполна, товар взвесить до грамма. Понадобилось время, чтобы заматереть, попривыкнуть, усыпить в себе её, непрошенную честность. Перебороть, перешагнуть через себя, сломать, совершить над собой насилие, сердцу обрасти шерстью. Густой и чёрной, как на хозяине фруктовой палатки Алике.
Но ведь эта-то ломка как раз доказывает, что в человеке изначально заложено хорошее, честное. Портят его жестокие обстоятельства. В Любином случае обстоятельством был хозяин фруктовой палатки Алик. На вопрос молоденькой продавщицы о зарплате гортанно рассмеялся: «А сколько за дэнь свэрху сдэлаэшь – всё твоё».
После Аликовой фруктовой палатки Люба много где работала в системе торговли. Условия там были не такие дикие и средневековые. Соглашалась только на белую зарплату и полный соцпакет. Жила, училась, познавала маленькие профессиональные лукавства.
Допустим, на развесе, прежде чем паковать сахар-песок в мелкую тару, оставляла рядом с раскрытым мешком ведро воды. Через сутки ведро было сухим – а сахар значительно влажнел и тяжелел. Потому – продукт ги-гро-ско-пич-ный! Химию надо в школе учить, граждане!
Или просроченные ценники перепишет – это само собой, классика жанра. Или срежет со списанного сыра пушистую зелёную плесень – и обратно его на прилавок.
В кулинарном магазине, грешна, мухлевала с одноразовой посудой. Выбирала из корзины немятые использованные пластиковые тарелочки и стаканчики, не сломанные ложечки и вилочки. Споласкивала под краном – а чаще и не споласкивала – и снова в дело.
Спасибо Митрию Анатоличу, родимому. За его «хватить кошмарить бизнес» – торговля, общепит и разная прочая фармация – должны ему из золота памятник в полный рост отлить.
Ему что: сказал, как в лужу дунул. А сколько народу было, есть и будет одурачено, облапошено и потравлено, когда и насмерть… Это ли Любе не знать. И-и-и, кто его считал, обиженный народ-то.
А самый-то главный двигатель торговли, не только торговли – прогресса! столп мироздания! – это свято соблюдаемый принцип: «Ты – мне, я – тебе». Делиться надо уметь, граждане: с кем надо, когда надо и сколько надо, засеките себе на носу. И тогда всё будет в шоколаде.
Люба всегда имела в день рублей триста-пятьсот притошки. Иначе и день прожит зря. А всё ради кого? Всё ради света в окошке, исключительно ради любимой и единственной внучки Анечки, худенькой черноглазки, в бабушку. Вместо папки в свидетельстве о рождении прочерк. Мамка усвистала с кавалером. А Анечка выросла устойчивая, строгая и ответственная, в бабушку.
По бабкиным торговым стопам не пошла. Выбрала работу хлопотную и безденежную: медсестрой в хирургии. Глаза вечно красные, воспалённые, не выспавшиеся, под ними тёмные полукружья.
В первое время страдала, убивалась, плакала втихомолку, с каждым пациентом болела и умирала. Потом вроде попривыкла. Люба сделала вывод: чтобы стать профессионалом с большой буквы – всегда нужно перешагнуть через себя, зачерстветь, ожесточиться. Немножко дать коже – задубеть, сердцу – обрасти шерстью.
Анечка простодушно радовалась золотым серёжкам, новому пальто и красивым дорогим сапожкам. А откуда бабка берёт деньги – ни к чему ей знать, пачкаться в эту грязь.
Не от мира сего: вся в работе, в своей больнице, в своих стационарных пациентах. Читает толстые книжки – собирается поступать в медицинскую академию. Хочет стать хирургом, как Сергей Ильич. Он для неё первый кумир и авторитет на свете. Дома только и щебечет: «Сергей Ильич пожурил…» «Сергей Ильич в пример всем поставил…»
Оперяйся скорей, ластучушка, и лети навстречу своему счастью. Всё ради тебя, милая. Вот неужели Люба не заработала себе на такси, чтобы проехаться с ветерком в прохладе? Но она садится в раскалённый, битком набитый автобус, а если повезёт – и задаром прокатится. Копеечка к копеечке – рубль: Анечке на будущую учёбу.
Ехать на работу три долгих остановки. Чаще удавалось прошмыгнуть зайчиком: Люба маленькая, худенькая, в невзрачном платьице. Сразу ныряла на свободное место, прикрывалась журнальчиком или отворачивалась к окошку.
Сегодня кондукторша попалась вредная, пристала как банный лист. Сама толстая, глаза пустые, выпуклые, стеклянные. Жаба. У такой проси – не проси, на коленки становись – не сморгнёт. Для этих случаев Люба имела в кармане комсомольский билет, где на фото она сама: ещё девчонкой с озорными косицами.
Люба уже на пенсии, дважды в месяц густо чернит седину. А вышвырнули из автобуса с позором, на виду у добрых людей, как ту девчонку с комсомольской фотокарточки.
Так вдруг стало обидно. Кто она, кошка безродная, что жизнь пинает и пинает её под задницу? Очень, очень обидно.
По ту сторону прилавка замаячил, завихлялся очередной тип. Намётанным взглядом видно: трубы горят. А сам, видно, блатной, только из отсидки. Лоб страдальчески сморщен мелкой гармошкой. Лицо обтянуто синюшной кожей. Глаза круглые, вытаращенные, испуганно-отчаянные. Как будто увесистый кабачок в задницу с размаху вогнали, а обратно вытащить забыли.
Вот сейчас надрывно рванёт пиджак: «И-эх, ды скока я порезал, скока перерезал. Ды скока душ погубил…». Рот беззубый, проваленный, как у старика – а сам молоденький.
Анькин ровесник, поди. Только девчонка вкалывает сутками – а этот шпендрик синий от татушек. Приплясывает, пританцовывает от нетерпения, только что чечётку не бьёт. Ишь, приспичило.
Круглые блёклые глаза стреляют туда-сюда, в поисках чего стырить. Люба, на всякий случай, глубже задвинула ящичек в кассе. Водку ему подавай. Счас, разбежался.
– После десяти не отвариваем.
Шпендрик завибрировал, задохнулся от возмущения:
– Дык, ещё три минуты до десяти! Быстрей, а, тётенька?!
– Паспорт.
– Бли-ин, тётенька, да мне двадцатник стукнул.
– Паспорт.
Шпендрик тоненько завыл: «Уй-ю-юй! Без ножа режешь, тётенька».
Племянничек выискался. Люба листала занюханный паспорт (потом не забыть руки помыть, ещё лобковую вошь или какую другую пакость подцепишь). Делала вид, что вчитывалась в потрёпанные страницы. Как кондукторша сегодня – в Любин комсомольский билет.
Краем глаза наблюдала за настенными большими круглыми часами. И когда долгая стрелка подползла и вздрогнула на 12, удовлетворённо захлопнула паспорт:
– После десяти не отовариваем.
Ныка (откинувшийся со срока на днях) вразвалочку шагал по центральной аллее парка и энергично общался с дружбаном по мобиле. В разговоре Ныка использовал ненормативную лексику привычно, как междометия, для связки слов.
Конец мая, деревья в болотно-зелёной жиденькой плесени, пахнет сладкой гнилью… Июнь, а уж жарко. Ныка расстегнул курточку: хороша свобода-сука! Вот и корешка по телефону нашёл, а с ним хату и хавчик.
Общаясь, Ныка не без удовольствия заметил, что вокруг него образовался вакуум, пустое пространство. Гуляющие под ручку пенсионерки, молодые девчонки с колясками – торопливо, кто испуганно, кто брезгливо, обегали и объезжали его. Его конкретно боялись.
Это Ныке понравилось. Он прибавил звук на полную мощность. Сыпал срамными словами уже весело, беззубо щерясь, оглядываясь и отмечая реакцию окружающих.
Там, на зоне, не было существа забитее и пуганее Ныки. Питался на полу у двери. Столом служила полусгнивший, воняющий мочой деревянный круг. Каждый раз после обеда он его оттаскивал в уборную и закрывал им унитаз, как крышкой.
Вместо полотенца – половая тряпка из мешковины. Ложка чудная – деревянная штуковина, на одном конце выдолблена выемка-черпачок. Им Ныка зачёрпывал суп и кашу. Туда любой мог плюнуть, сморкнуться или ещё чем похуже опростаться. Другой, толстый округлый конец был скользок от вазелина. Как Ныка его ни отмывал под краном, вонял калом. Для разработки.
За что сокамерники столь жестоко обошлись с Ныкой, за какие дела он вообще загремел на зону – не играет значения и не имеет роли. Совать нос в чужие дела, знаете… Ныка сам пострадал за любопытство: кончик носа у него был срезан бритвой по касательной, розовел молодым нежным шрамом.
Даже отрядная любимица, пушистая кошка шарахалась и брезгливо огибала Ныку за метр: иначе последует жестокая порка за уши.
Ныка шёл по пустой аллее, кум королю. Понтово выбрасывал кривоватые тощие коленца в фасонистых брючках, лыбился голыми розовыми дёснами, матерно шамкал в трубку, распугивая народ. Он, жалкий Ныка, был хозяином аллеи. А раз аллея центральная в городе, то и, считай, хозяином города!
Хорошо! Улица – моя, дома – мои!
Навстречу шла молодая семья: спортивный парень, молодая жена, совсем соплюха зелёная, ковылял на толстеньких ножках ребёнок лет трёх.
Все трое омерзительно чистенькие, по-летнему в светлых футболках, в кипенно-белых шортах. Видно, что жизни не нюхали.
Ныка поддал в голос громкости, блудливо скользнул глазом по гладкому розовому бедру девчонки. В тему выхаркнул в мобильник особенно грязное словцо. Типа, шалашовка отпадная мимо шлёндрает… Жопка ништяковая, кругленькая… Отыметь бы её… В жопку-то круглую.
Краем глаза видел, как сжались кулаки у парня, как он шагнул к нему… Вот, ей Богу, чуть не обделался Ныка со страху слабым испаханным, уработанным кишечником. Но девчонка повисла на локте парня: «Гриш, не связывайся! У таких всегда нож за пазухой…» Он и сник, опустил глаза. Ссыкло.
Ножа у Ныки не было: он что, совсем ушлёпок? При первом шмоне за ношение холодного оружия навесят то, чего было и не было… Но он, довольно осклабившись голыми дёснами, сунул худую слабую руку глубоко в карман и даже оттопырил: будто там и в самом деле чего водилось. Навёл палец на малыша: «Пу!»
Эх, видел бы кто в этот момент Ныку! Он, не глядя, брякнулся на скамью, вертя головой на тощей жилистой шее: кого ещё поддеть. Аллея испугалась Ныки – и опустела, вымерла.
– Кого я ви-ижу! Ныка своей персоной! – ласково пропел знакомый голос. На скамейке, хозяйски разбросав горилльи лапы, широко расставив ножищи, сидел вонючий бомжара.
Типун на язык Ныке! Это с точки зрения окружающих тот был бомж – а в бараке носил крепкое, покойное, нейтральное звание «мужик». И кличку имел подходящую, достойную: Земеля.
Сегодня утром Ныка оказался с ним в одном автобусе. Там, как того требовал уголовный этикет, работая локтями, он должен был со скоростью пули пробиться в другой конец салона и панически выпрыгнуть на первой остановке.
Чего не сделал, а, вопреки иерархической лестнице, передал через него кондукторше горсть чьих-то пассажирских пятаков. Коснулся мужика неприкасаемой осквернённой рукой. Да нечаянно он, святой истинный крест! Не видал, не видал он Земелю!
Хмельной воздух свободы сыграл с Ныкой, как с профессором Плейшнером, злую шутку. И теперь, вскочив со скамьи как ужаленный, разом съёжив плечи, слишком узкие для пиджака, покорно ждал своей участи.
– Не парься, Ныка, – великодушно снизошёл знакомец. – Моли боженьку, чтоб никто из наших твоего косяка не видел. А я – могила. Швейцарский банк. С тебя причитается. Давай дуй за водярой, пока тикает.
Ныка полетел к винно-водочному магазину, что называется, впереди собственного изображения. Пиджачишко, как парус, надувало ветром.
… Как славно начинался день и как паршиво для Ныки кончился. Пацан, с кем перетёр насчёт ночлега – внезапно и безнадёжно исчез из зоны доступа. И эта роковая встреча с Земелей в автобусе, потом на скамейке – ни к чему хорошему не приведёт… У зэков своё государство в государстве. И ещё неизвестно, чьё крепше – так-то вот. Весточки, особо такого щекотливого, деликатного свойства, типа Ныкиной оплошности, разлетаются быстрее шуганных воробьёв.
Особенно бесила чернявая прошмандовка в винно-водочном, отказавшая продать водку. Подбоче-енилась стоит. По морде видно: доставляет удовольствие издеваться над Ныкой.
И мучило недоумение: зачем она так?! Ведь выгодно ей, старой манде: наоборот, прибыль. В данном вопросе у продавцов что-то вроде солидарности со страждущими. А этой – то ли вожжа под хвост, то ли моча в голову. Коза крашеная. Старая шкрыдла. Мужики мало дерут, небось, не хватает – вот и бесится.
Сейчас продавщица, небось, дрыхнет сладким предрассветным сном. В этом многоэтажном доме… Или в том. А Ныка плетётся, как бездомная собачонка. На автостоянке плотными рядами стояли понтовые навороченные авто. Не, ну почему одним всё, а другим вазелиновый член в задницу?! Взял и двинул ботинком по лаковой автомобильной дверце.
– Тиу-тиу-тиу! – с готовностью пронзительно завопила сигнализация. Получай, продавщица хренова! Ныка залез под грибок на песочнице, затаился – наслаждаться звуками.
Никто не выскочил с проклятиями на балконы и лоджии – высотный дом мёртво молчал. Терпилы, ссыклы.
Но Ныка знал: это дом снаружи молчит. Там, внутри, в недрах тёплых сонных зашторенных спален, где-то заплакал разбуженный ребёнок. Взметнулась растрёпанная чувырла, продавщица. Какой-нибудь задохлик-пенс схватился за сердце и окочурился. Что, гады, вставил вам Ныка по это самое?
Через минуту автомобильные вопли заткнулись: хозяин отключил сигнализацию с пульта. Решил, что кошка. Ныка ещё посидел. Пускай законопослушные граждане задремлют, потеряют бдительность. И, уходя, подпрыгнул не хуже Джеки Чана, злорадно шарахнул ногой по стеклу другого автомобиля. И второго. И третьего.
– Яу-яу-яу!
– Ква-ква-ква!
– Плю-плю-плю! – разнообразно, заполошно заверещали машины.
Теперь можно тикать в кусты. Славная музычка, концерт для фортепиано с оркестром, век бы слушал. Хорошо! Улица – моя, дома – мои!
Уже были пройдены все стадии бессонницы. Сначала зевота и недоумение («Что-то сегодня не выспался»). Потом хроническая тяжесть, отрешённость и мучительное желание рухнуть и уснуть на месте. И, наконец, тупое лошадиное смирение и приспосабливание: жить и работать на автомате. Засыпать в ту же минуту, где присел и прилёг, и даже стоя – тоже как лошадь. Эти несколько перехваченных минут дрёмы были для Сергея Ильича равносильны тому, что для других часы полноценного сна.
Если бы существовал детектор бессонницы – подсоединённый к Сергею Ильичу, он бы издал дурной вой, замигал всеми разноцветными лампочками, задымился штекерами и проводками – и погас, умер.
Это при том, что работа Сергея Ильича требовала ясной головы и строгих и точных, как ход часовых стрелок, движений пальцев.
Он работал хирургом на две ставки. Ночные дежурства, экстренные операции – а таковых оказывалось больше, чем плановых, бесконечные подмены… В последнее время хирургия всё больше приобретала женское лицо. А женщины – это декреты, дамские недуги, вечные бюллетени по уходу за детьми. Сергей Ильич хорошо понимал коллег: у самого росли дочки-близняшки.
Конечно, была дача, поездки в деревню к тёще. Но уверовавшие в золотые, волшебные руки молодого хирурга, родственники больных звонили в ночь-полночь. Вылавливали на даче, в деревне, из гостей в соседнем городе, со дна морского… Мужчины падали на колени, женщины рыдали: «Спасите доченьку (сынка, отца, мужа, брата)! Только вы, только вам…».
Нужно было не дёргать, избавить жену и тёщу от драматических, душераздирающих сцен коленопреклонения и лобызания. И Сергей Ильич на отдыхе потихоньку превратился в домоседа. Отправлял семью, сам оставался домовничать.
Выдавшуюся нежданно-негаданно ночь полноценного сна он воспринял как дар судьбы. Позволил себе неслыханную, непростительную вольность: отключил телефон. Если что-то из ряда вон, экстраординарное, за ним пришлют неотложку.
Он уже забыл, когда видел сны. Всегда просто проваливался, как в чёрный картофельный подвал. А сегодня приснилась девушка: худенькая, милая, робко влюблённая. Она шла впереди, оборачивалась и улыбалась. Не порочно, не зазывно – просто ласково улыбалась.
Она будто с собой несла свечку, горящую ровным тихим, не колеблющимся огоньком, как в церкви. Она сама была той свечкой, тем огоньком. Сергей Ильич заворожённо, как маленький мальчик, шёл за ней.
– Вау-вау-вау!
Плоские, мерзкие звуки выдернули Сергея Ильича из нежного туманного небытия. Колотилось сердце – с недавних пор он его начал чувствовать. Как будто кто-то вкрадчиво, мягко, настойчиво затягивал на нём, на сердце, узелок. Сергей Ильич кидал в рот таблетку, потирал грудь – узелок ослаблялся, развязывался до поры, до времени. Но не до конца.
По многолетней выработанной привычке, бросил взгляд на часы. Рано ещё. Закрыл глаза и стал досматривать сон ровно с того места, где прервался. Девушка робко, с надеждой, снизу вверх, взглянула на него. Затрепетала, как огонёк на сквозняке…
– Яу-яу-яу!
– Ква-ква!
– Плю-плю-плю!
На этот раз сигнализация вопила долго. И когда Сергей Ильич, поворочавшись – до звонка будильника оставалось полтора часа – уснул – просто на эти полтора часа провалился в пыльный картофельный подвал.
Сразу по разрезу коагулирующего, слегка дымящегося скальпеля анестезиолог Алёша ввёл дозу местного обезболивающего. Обильно пропитал, накачал новокаином ткани под грыжевым мешком. Пациентка, пожилая полная женщина ничего, терпела. Но жаловалась, что «ох, тянет, будто аборт, только внутри живота».
Сергей Ильич осторожно, чтобы не задеть сосуды, иссёк плёнчатые оболочки мешка. Ввёл палец, ощупал изнутри содержимое. Вскрыл, осушил салфетками жидкость: чистая, без примесей и специфического запаха. Сальник и скользкие, неподатливые петли кишок вывел наружу. Алёша ещё впрыснул в брыжейку новокаин.
Теперь тщательно осмотреть место ущемления. Та-ак, ладушки: серозный покров кишки блестящий, упругий, кишочки пульсируют…
– Анечка, в прошлый раз вы к чаю пирожки с ливером приносили – объедение. Рецептик для жены не подбросите?
– Я ещё принесу. Это бабушка у меня мастерица, – расцвела, засветилась от удовольствия Анечка. Под маской – а видно, что засветилась. Что хирург на неё внимание обратил. Какая она ещё девочка.
– Главное, потроха и кишки хорошенько промыть. И жареного луку больше класть, – ревниво блеснула кулинарными познаниями вторая сестра. – И свиного жира кусочками, а то сухо получится.
…И тут, как всегда внезапно, сердце скрутил не узелок, а целый морской узлище. Вот ещё новости. Не хватало грохнуться с инфарктом в операционной над развёрстым живым телом. Напарник Ахмедзянов в соседнем «чистом» зале оперирует привезённую на скорой внематочную. Молоденький ассистент (первая операция), конечно, попробует заменить… Но вот именно: попробует.
Так. Преодолеть страх тугого узла, вдохнуть ровно и глубоко. Отвлечься мыслями. Между бровей выступила испарина, скопилась в крупную каплю на складке переносицы. Медсестра Анечка промокнула тампоном.
Близко над маской сияющие, страдающие за него огромные кофейные глаза. Восточные мужчины знали, что делали, когда прикрывали лицо женщины чадрой, оставляя мерцать прекрасные глаза.
Девушка из сна – это Аня. Влюблена в него отчаянно, до слёз – а думает, никто не догадывается. А глаза всё выдают.
Алеет, как зоренька, дрожит как деревцо, задыхается от волнения, когда остаются наедине. Глупенькая моя. Но как славно приходить в отделение и знать, что снова встретят распахнутые бездонные тёмные озёрца глаз этой девочки.
«Только утро любви хорошо… Поцелуй – первый шаг к охлаждению».
Вот что им не грозит: поцелуй и охлаждение. Сергею Ильичу в голову бы не пришло изменить жене, тем паче – уйти из семьи. Дикость какая. Это как, допустим, растущий у них на даче дубок подобрался бы, выдернул из земли корни и перебрался в другое место. Как в песне: к тыну, к тонкой рябине.
Сергей Ильич был глубоко порядочным, прочным, матёрым, закоренелым, застарелым, ответственным мужем и отцом, семьянином. Ему было 28 лет.
– Сергей Ильич, вам лучше? Больная…
Узел ослаб – будто сердце обволокло тёплым молоком. А слабость – она преодолима. И – пациентке:
– Ну, молодцом. Всё у нас идёт замечательно. Будете как новенькая.
Операция завершена. Только почему-то пациентка всё время постанывала:
– Ноженьки мои, ноженьки. Ластоньки мои бескрылые!
С тревогой склонился:
– Ноги тянет?
– Не, это я так. Не обращайте внимания. Привычка у меня.
А вообще, наркоз на больных по-разному действует. Одна учительница словесности, например, во время удаления аппендикса пела романсы: очень приятным грудным голосом. И рассказывала, что в полусне к ней приходил то ли Онегин, то ли Печорин. Одним словом, лишний человек.
Нынче лишних людей нет. Каждый человек при своём месте.
Бандит, батрак
В тот зимний вечер многие из стоявших на площади, и Ляля в том числе, заметили длинного сутулого парня, переминавшегося в ожидании автобуса нетерпеливее всех. И не мудрено: на нём не было обуви. То есть совсем ничего не было, даже носков.
Мороз стоял градусов тридцать и выше. Парень приплясывал, поджимая огромные посинелые ступни. Окружающие реагировали, как у нас принято, сдержанно. Исподтишка показывали на него пальцами, качали головами, перешёптывались. Только одна общительная бабушка настойчиво советовала парню зайти в ларёк погреться.
Ляле на ум пришёл детский стишок:
Косой, косой, Не ходи босой. А ходи обутый, Лапочки закутай.Раньше она работала воспитателем в садике. Тут подошёл автобус, пассажиры хлынули в салон. Ляля тоже впрыгнула. И парень загремел босыми чугунными ступнями на заднюю заиндевевшую площадку. Впрочем, температура в автобусе немногим превышала уличную.
Пассажиры на время забыли о странном разутом человеке. Он выскочил на Лялиной остановке и припустил кенгурячьими прыжками к коттеджному посёлку, где она жила. Скрылся в строящемся кирпичном доме по соседству. Там, надо полагать, над ним поахали, обогрели, растёрли ноги и немедленно выдали шерстяные носки.
Спросите, как Ляля, садиковский воспитатель со смешной зарплатой, оказалась в коттедже? Время было такое: девяностые. Кто смел, тот и съел. Под лежачий камень вода не течёт. Не хлопай ушами. Не будь лапшой – это из садиковского фольклора. Имениннику понарошку трепали уши и приговаривали: «Расти большой, не будь лапшой».
Вообще-то Ляля по жизни была именно лапшой. И муж Юра рос тихоней. Рассказывал, как одноклассники подлавливали и впихивали его то в девчачью раздевалку, то в девчачий туалет.
Потом Юра ушёл в армию, где его на первом году службы деды тоже беспощадно буцкали. Ну а на второй год он сам полноправно буцкал салаг. Вернулся домой другим человеком, будто подменили парня.
– Ого, – говорили однокашники, кто не уехал из города, и пытались мять каменные мускулы под футболкой.
– Того, – подтверждал он и вдруг резко сбрасывал бесцеремонную руку. Заламывал её за спину и держал так некоторое время. Шутя, понарошку – но чувствительно. Оставались чёрные синяки.
Сержант-землячок, с которым скорешились в армии, устроил Юру водителем к новому русскому. Юра тут же оказался втянут в хозяйские разборки. А там обвыкся, огляделся, надел малиновую водолазку, чёрную кожаную куртку и пошёл в бандиты. В киллеры. Время, повторяю, было простое, прямое, суровое: девяностые.
Молодое зарождающееся капиталистическое общество, как молодую неустойчивую планету Земля, потрясали катаклизмы. Вскипали океаны, воздвигались и рушились материки, извергались вулканы, вздыбливались горы. Готовилась колыбель для будущего поколения. Которое, если верить плакатам и учебнику истории, должно было жить при коммунизме. Но вот так всё повернулось…
Устояли на крепко расставленных ногах единицы. Ну, десятки, ну сотни, в том числе Юра. Сжав тяжёлые рукоятки холодного и огнестрельного, сказали про горы и моря, леса и недра, про заводы и фабрики, магазины и хлебопекарни: «Это моё». Как точку пулей поставили. «Кто-то что-то имеет против?» Против не имел никто.
Юра с Лялей познакомились на улице. Она цокала на сбитых каблучках на работу. Он медленно катил на диковинном в то время, заграничном длинном лаковом авто.
– Красуля, подвезти?
– С незнакомыми в машины не сажусь.
Вечером она сдала с рук на руки припозднившейся мамочке последнего малыша. Вышла за низенькую лилипутскую калиточку – а там Юра с миллионом алых роз. Ладно, не с миллионом, но с сотней точно.
– Будем знакомы. Юра, 27 марта 1967 года рождения. Место проживания улица Заводская, 23–99. Время рождения ноль часов 30 минут, роддом № 2. Могу предъявить соответствующую ламинированную бирку. Теперь можно вас подвезти?
Ляля расхохоталась, тряхнула упругими пружинками локонов. Имя полностью оправдывало её кукольную внешность. Или наоборот. Кудряшки, тугие целлулоидные щёчки, нежный круглый румянчик. Ресницы, будто купленные в круглой прозрачной коробочке в отеле косметики. Не девушка, а мечта бандита.
Об их свадьбе долго говорили. Мальчишник отметился тяжкими телесными. Мероприятие закатили в самом дорогом ресторане на пятьсот человек. Свадебный подарок оригинальный.
Двадцать три машины с гостями, привлекая внимание всех прохожих, оглушительно сигналя, подъехали к коттеджному посёлку. Ляля в воздушном платье, под цвет рдеющих щёчек, подобрав невесомое облако фаты, вышла и увидела…
Обвёрнутую в целлофан, перевязанную многометровой атласной лентой двухэтажную кирпичную коробку, с кокетливо взбитым гигантским бантом на макушке, на крыше… Рулон целлофана и полтора километра ленточки ушло на подарочную упаковку.
Лялина деревенская мама, учительница, не столько обрадовалась, сколько испугалась такого подарка. И жениха тоже. Прижимала пальцы к разгоревшимся щекам: «Ах, доченька, тут нужно десять раз подумать». Думать было поздно.
В ресторане она забилась-спряталась за колонну, так что Юре пришлось её вытаскивать. Дыша водкой, и селёдкой под луковой шубой, бормотал: «Обижаете, тёща. Что вы как неродная. Так сказать – почёт и уважение. Как вы есть мамаша…»
Юра самолично забрал Лялины документы из отдела кадров гороно: будешь сидеть дома. Единственное, что вытребовала Ляля: что она сама полностью займётся домом и участком. Она была куклой-куклой, но с деревенскими корнями. И, при хрупкости плеч и талии, ручки и ножки у неё были крепкие, полненькие, плотные, твёрдо стоявшие на земле.
– Твоё дело. Чем бы дитя ни тешилось, – сказал рассеянно Юра. Он шёл на поводу капризов любимой молодой жёнушки. Предупредил: – Но, когда родишь наследника – сразу найму няньку и домработницу.
Он всегда был чуть задумчив, отрешён, отстранён. Вроде здесь, разговаривает с тобой, а сам мыслями далеко-далеко. И поперечная угрюмая складка на переносице не разглаживается, с которой ещё из армии пришёл…
Вообще, молодожёны редко пересекались. Работа у него была ответственная и опасная – дважды с огнестрельными лежал в больнице. Ляля ему таскала кастрюльки с протёртым супчиком с зеленью, с витаминными салатиками – всё с собственных грядок.
– Юр, тут у соседей парень батрачит. Найму его землю раскидать?
– Блин, да хоть бригаду нанимай, – психовал Юра. – Чего ерунду-то спрашиваешь?
Специфика работы не могла не сказаться на характере Юры: он стал портиться. Тогда говорили: быкует парень. Нередко, когда он звонил, в мембране слышались матерная брань, женские взвизги и смех. Ляля старалась не брать близко к сердцу. Любит ведь: даёт деньги, дом полная чаша.
На звонки не отвечал сутками. Ляле было не привыкать: бывало, что не давал о себе знать и по месяцу. От дурных мыслей отвлекала возня по хозяйству.
Но в любой момент за кирпичной оградой могли мягко прошуршать шины. Из машины вылезал Юра: с букетом цветов, бутылкой коллекционного, с мятыми коробочками с бриллиантовыми серёжками, колечками, колье. А чаще и коробочек не было: наморщив лоб, небрежно копался, выуживал из кармана, сдувал табачные крошки.
Ляля равнодушно складывала драгоценности в сервант: в кольцах с бриллиантами не больно поковыряешься в земле.
Раньше у Юры всегда в багажнике бултыхались канистры и фляги для воды. Централизованного водопровода в посёлке не было, каждый выкручивался, как мог. Когда пробурили скважину, вода пошла глинистая, мутная: то белая, то коричневая.
– Нужно выждать, сама себя прочистит, – пообещал мастер, пряча в карман крупную сумму: тогда бурение было делом экзотическим, дорогим.
Однако время шло, а вода густела и, в конце концов, забила насос.
– А я что, ясновидящий? Насквозь землю вижу? – огрызнулся бурильщик. – Не в тот пласт попал. Тут ведь как повезёт. Как пальцем в небо: попадёшь – не попадёшь. У нас было чего по договору? По договору было, что я сверлю на семь метров. Я просверлил, чего ещё надо-то?
– Тот или не тот пласт – это ваши проблемы, – чуть не плача, настаивала Ляля. – По конечному пункту договора, мы должны остаться с водой…
– Хотите быть с водой – пробурю. Но за каждый метр доплачивайте по прейскуранту.
– Не буду! Ваши геодезисты ошиблись в расчётах, а я плати…
Бурильщик отматерил Лялю и бросил трубку. Как раз в тот вечер приехал Юра: усталый, обугленный лицом. По собственному признанию, выжатый как бочковый мартовский огурец.
Ляля нажаловалась. Юра слушал, молча хлебал суп. Не доев, рывком отодвинул тарелку, встал – тоже молча. Взял у Ляли адрес «деятеля». Вернулся за полночь и, ничего не объяснив, свалился и уснул мёртвым сном.
На следующий день спозаранок прибыла целая бригада бурильщиков под руководством «деятеля». Тот вибрировал, нервничал, прятал от Ляли глаза. Бур ушёл в землю на семнадцать метров, как в масло.
Долго пропускали воду, и мастер – так же трусливо и злобно отводя глаза – протянул Ляле банку с чистейшей хрустальной, голубоватой водой. Даже отпил и льстиво причмокнул: «Ах, вкусна, зараза! Сок Земли!»
– Будет знать, – кратко резюмировал Юра, когда Ляля ему пересказала события утра и вскипятила чайник с действительно удивительной, вкусной водой. – Думаешь, он по своей воле прискакал? Вчера вечерком вывезли в лес на пару часиков. Всучили лопату, велели копать ямку метр на два. Подержали над ней на коленках под травматом… Живо шёлковый сделался. Все деньги вернул как миленький – впредь будет наука. У меня время дорогое.
– Юра! – в ужасе закричала Ляля. – Это же преступление! А если бы он с утра не к нам, а к прокурору поехал? Ведь тебя бы посадили!
– К прокурору? Да он в штаны наложил, это ссыкло.
Повторяю, шли девяностые годы. Проблемы решались споро и честно. Вор? Да, вор. Убийца? Да, убийца. Время было откровенное.
Не такое лживое, как нынче. Когда по телевизору пиджак рвут, на амбразуру телекамер бросаются, брызжа кислотной слюной и божась в любви к Родине. А денюжку и детишек – всё за грани-ицу, за грани-ицу.
Даже киллеры нынче работают по-другому. Пиф-паф, ой-ой-ой отошли в прошлое, это позавчерашний день. Нынче убирают скучно, безопасно, с подстраховкой. Устраивают, допустим, несчастный случай, смерть по неосторожности.
Идёт ничего не подозревающий человек по тротуару – а на него автомобиль вылетает и вмазывает в стену. Человек, естественно, всмятку. Не нарочно: дамочка-блондинка за рулём, или знак «новичок».
Или идёт человек к подъезду – а ему на голову падает трёхлитровая банка с огурцами. Не будут же судить бабку-раззяву, с чьего балкона рухнула банка.
Или, там, курил мужик, потягивал коньячок, виски, пивко. Кайфовал. Уснул – устроил пожар, сгорел. Предупреждают же пожарные: «Избегайте курения в постели в нетрезвом виде». «Непотушенный окурок может стать причиной возгорания». Чего с него взять, с окурка?
Да тысяча и один способ существует, как практически бескровно и безопасно убрать «мишень». И следователям работы меньше.
– Грубый век! Грубые нравы! Романтизьму нету, – вздохнул бы сокрушённо герой Вицина.
Тогда, в девяностые, не маскировались, не прятали истинных намерений. Сразу видно было: кто есть кто, кто в чьём окопе. Убивали и говорили: «Ну да, убиваю. И что дальше?» Грабили – «Да, граблю. Кто-то что-то имеет против?» И поигрывали стрелковым оружием.
Против не имел никто.
Летом случай свёл Лялю и соседского парня-батрака ближе. Серёга – так звали парня – признался, что босиком в тридцатиградусный мороз чесал именно он. Новенькие ботинки с него сняли урки, «зажав» за кинотеатром. Окружающие наблюдали за ограблением посреди бела дня, как у нас принято, сдержанно: то есть никак.
«Случаем» же, познакомившим их, были громадные, вываленные КРАЗом у Лялиной изгороди кучи торфа и перегноя. Ими она собиралась облагородить огород.
Собственно, огорода ещё не было. Были семь соток вывороченной глубинной глины, тут и там пронизанной чудовищным переплетением ржавой арматуры. Даже бурьян решительно отказывался здесь расти.
Ляля суетилась с тележкой у этих куч, как лилипут у подножия египетских пирамид. Юра в больнице, раненный в плечо. Вот тогда она заикнулась:
– Юр, у соседа парень батрачит…
Серёга за несколько вечеров после работы, играючи разбросал эти кучи. Будто их не бывало – по КРАЗу за вечер.
Он оказался парнем не сильно разговорчивым, не избалованным особым вниманием к своей персоне. Лишь очередная настрелянная дорогая сигарета (Юрин ящик был забит заграничными блоками) ненадолго развязывала ему язык.
Ляля выяснила, что Серёге двадцать шесть лет. За плечами строительное училище, есть права на трактор. Второй год квартирует у соседей. Те купили недостроенный дом, и работы в нём было выше крыши.
Спал на полке в недостроенной баньке. Вкалывал по двенадцать часов и больше. В выходные скидывал грязную рвань, переодевался в чистое: свитер, кроссовки, модная замшевая куртка. И, преображённый, забрав заработанный за неделю капитал, отправлялся в город: всегда пешком, чтобы не тратиться на автобус.
На Лялин вопрос:
– Девушке на мороженое, Серёж? – краснел:
– Не. К сестре иду.
– Ты сам не местный?
– Из района.
– А где до этого работал?
– На птицефабрике. Уволили, потом обратно взяли. Потом опять уволили.
– Ты что, пил? За что уволили-то?
– Я не балуюсь этим.
Он ухмылялся во весь рот, показывая крепкие крупные жёлтые зубы. Их можно было бы назвать великолепными, если бы не отсутствие двух передних резцов. Выбили урки, когда он защищал свои ботинки.
Серёга снова спокойно брался за лопату, вилы и тележку. Благо, заказов с Лялиной стороны не убывало. Нужно было утеплять чердак, копать дренажную канаву, ставить столбы для собачьего вольера, натягивать сетку.
Постепенно Серёга перестал выкладываться на соседской работе. Хозяин же, бывший военный, человек в этом отношении был консервативным. Требовал дисциплины, как на советском заводе. Серёгин напарник шваркнул бейсболкой о землю и ушёл, произнеся страстный монолог на тему: «Будь проклята эксплуатация трудящихся!». Двое других спешно нанятых рабочих не проработали и недели.
Серёгин работодатель понял, что дешёвая рабсила вот-вот уплывёт в руки другого покупателя, то есть Ляли. Обещал накинуть полтинник в день. Но вкусивший сладость вольных хлебов Серёга от него ушел.
На Лялин вопрос, где же он собирается жить, беспечно махнул рукой:
– У друга на птицефабрике. Когда и сестра пустит ночевать.
Однажды этот двадцатишестилетний дяденька с обвисшими тяжёлыми руками, краснея и смущаясь, попросил разрешения иногда играть на Лялином компьютере. Открылась, наконец, одна, но пламенная страсть, сжигавшая невеликий Серёгин капитал.
Стало понятно, отчего у него вечно втянуты под скулы худые щеки, почему он никогда не откажется от стакана чая и куска хлеба с колбасой. И почему голодный блеск в глазах тушит ежечасно стреляемыми сигаретками.
В начале прошлого века наёмный работник, чтобы забыться от беспросветной жизни, тащил нажитое в кабак. В конце двадцатого века батрак прожигал деньги в компьютерных играх.
Он с закрытыми глазами мог найти любой игровой салон. Знал где дешевле, у кого чаще обновляется игротека, чьи игры круче. И на целую ночь уходил из постылой реальности в захватывающий, яростный и сладкий виртуальный мир.
Так вот отчего на заработки Серёга являлся к часу дня с подпухшими от недосыпания глазами. Вот отчего на птицефабрике ему дважды указывали на дверь.
– Жену бы с жильём тебе, Серёжа, найти.
Он смущённо обнажал в улыбке частично выбитые лошадиные зубы:
– Мне все так говорят.
Ляля вспомнила одноклассницу: та перенесла в детстве полиомиелит, и у неё были проблемы с ногами. Но на лицо она была просто писаная красавица: вылитая «Незнакомка» Крамского. Брюнетка, надменный профиль, сросшиеся брови. И при этом хромоножка – бывает.
Но ведь и Серёга был не без физического дефекта. Дефект становился виден тогда, когда он скидывал рубаху и загорал: два симметричных небольших горбика на спине и груди. Но всё равно в своей замшевой куртке он становился первым парнем на деревне. А сутулость при хорошем росте и широких плечах даже придавала ему некий шарм. Так что пара из них получилась бы хоть куда.
Ну вот, эта самая одноклассница Ляле давно уши прожужжала, почему никто в городе не поднимает тему о досуге инвалидов. О вечерах, где бы люди с физическими недостатками не сидели в четырёх стенах, а встречались и устраивали свои судьбы.
Вот Ляля и предложила ей Серёгину кандидатуру. Ведь никто не заставляет их сразу расписываться. Пусть поживут, присмотрятся друг к другу. Зато он из её любимого огорода сделает игрушечку, загляденье. А то, что мужчина по уму большой ребёнок, так это, наоборот, плюс, любая жена скажет. Лялина знакомая думала неделю, извелась, похудела даже – и отказалась.
Никто не любит однообразную, тяжёлую и грязную работу. Никогда Ляля не видала, чтобы труженики лопаты и вил, метлы и совка, мастерка и отбойного молота – приступали к работе с огоньком, с шутками-прибаутками, с энтузиазмом.
Наоборот, люди в спецовках и фуфайках перед работой всегда точно впадали в оцепенение, в летаргический сон. Зябко поёживались, долго с опаской переминались, хмуро сунув руки в карманы, нерешительно перекуривали, похаживали вокруг да около.…
А Серёгу точно в розетку включали: это был вечный двигатель, оживший робот. Безотказная машина по копке, разгрузке, переноске, распиловке и прочему немудрёному труду, работающая неустанно, мощно и ровно.
Ляля задумывалась. А ведь родись Серёга немногим раньше – и всё обстояло бы иначе.
Родная страна заключила бы его с рождения в горячие железобетонные объятия – захочешь, да не вырвешься. Суровый, но справедливый седоусый наставник у станка. Пионерия, комсомол, местком, профком, партком.
Если б вдруг мозги взболтало и вынесло – быстро вправили бы пропесочивание на активе, товарищеский суд. Доска позора, презрение коллектива, общественное порицание. Было ещё очень эффективное средство: принудительное лечение в ЛТП (лечебно-трудовое предприятие).
Но было и гарантированное место на ударной стройке, и койка в рабочем общежитии. Выполненные и перевыполненные соцобязательства, призовые места в конкурсах профессионального мастерства.
А там, при Серёгиных-то трудолюбии, исполнительности, безответности, пролетарском происхождении и детдомовском прошлом – и до партбилета недалеко.
А там – чем чёрт не шутит – сидел бы Серёга, простите, Сергей Петрович в красном (нынче жёлтом) депутатском кресле в Москве. Принимал законы, по которым жила страна, жили бы Юра с Лялей. И кем бы они были, Юра с Лялей, если бы не перестройка?
Перевернули ли девяностые жизнь с ног на голову? Или расставили по своим местам? Кто знает.
Очень скоро Серёга переделал по хозяйству всю неподъёмную работу. Остальное Ляле самой было под силу. Пора было подумывать о расставании.
Не тут-то было. Кроме Ляли, никого у Серёги в городе не было. А от таинственной сестры толку было мало. Его долговязая фигура то и дело возникала за калиткой:
– Хозяйка, не нужно чего сделать?
А так как он в любую погоду из города до коттеджей добирался пешком – то не развернёшь же его, да ещё голодного. Приходилось выдумывать работу по мелочи, куда деваться. Как ни крути, но по Лялиной вине Серёга лишился соседского куска хлеба и крова.
Ляля выписывала из газет номера организаций, куда требовались рабочие руки, подсовывала ему их. Серёга отмалчивался, беззубо улыбался. А назавтра снова горбился за калиткой:
– Хозяйка, работа есть?
Выяснилась причина Серёгиного постоянства и унылой привязанности к Лялиному дому: у него не было не только жилья, но и прописки тоже. Без чего его, естественно, никто не брал на работу.
– Паспорт-то у тебя хоть есть? – с отчаянием спрашивала Ляля.
– У друга где-то должен быть.
Нет, какое поразительное легкомыслие! Вопрос о жилье приобретал остроту с каждым днем. Мать друга в фабричном посёлке ругалась и гнала Серёгу. К сеструхе в комнату не пускали соседи, угрожая вызвать милицию.
Ляля через Юру обращалась к знакомому мебельщику, к строителю. Не найдётся ли у них местечка сторожа и по совместительству работящего, изумительного, редкого по нынешним временам работяги? Но предпринимателям очень не нравилось отсутствие прописки у Лялиного протеже.
И вдруг Юра, по обыкновению стариковски морща лоб, сам предложил:
– Это… У меня командировки затяжные ожидаются. В Среднюю Азию. Давай твоего батрака в сторожа. Клетушка в подуподвале у нас пустует. Всё не одна будешь, не так страшно.
– Этот батрак такой же мой, как твой, – обиделась Ляля. А сама передохнула с облегчением.
Как всё началось.
Ляля выписывала через Интернет-магазин редкий сорт пиона, когда компьютер начал глючить, подличать и вредничать. Это уже не впервые было. В прошлые разы она вызывала Серёгу: тот, оказывается, соображал в «железе».
Выглянула со второго этажа в окно: Серёга любовно укладывал из разноцветных камней-голышей затейливую дорожку.
– Серёж!
Был июль, жара несусветная. Юра обещал кондиционер, но всё ему было некогда. А пока она сидела, разомлевшая, в сарафане, одно название. Кусочек ситчика, ямочки-шнурки сползают с плеч. Влажные ноги, закинутые друг на друга, скользят.
Ляля заметила: жара оказывает на человека странное, гипнотическое влияние. Именно знойными сонными днями обволакивает истома. Сам собою, как у птенчика, открывается ротик и дышит прерывисто.
Ах, всё-таки нужно было чердак выстилать, как в деревенских избах, песком, а не опилками и дорогущим керамзитом. И тепло пропускают, и опасно, в смысле пожара.
Вошёл по пояс голый Серёга, блестел от пота, будто смазанный маслом. Жилистый, сильный – его бы на плакат: «Лучший тренажёр – это физический труд». Горбы… Ну, что горбы. Их и не заметно почти под буграми мускулов.
Она хотела встать и уступить Серёге стул – он слегка подавил ей на плечо: мол, не надо, я быстро. Склонился, его лицо почти касалось Лялиного лица. Пахло от него не кислым потом, как от Юры, а… ничем не пахло.
Хотелось бы сказать: ветром и солнцем, но ветер и солнце не имеют запаха. Их губы были слишком близки, чтобы не соединиться. Ляля сделала открытие: поцелуй – это маленький, вполне себе полноценный половой акт, только через рот.
Юра не любил целоваться. Чмоки-чмоки вытянутыми трубочками губами. Он у Ляли был первым и единственным, ей до этого не с чем было сравнивать.
Постель с Юрой – это был как прогноз погоды в программе «Время». Душ, подмывание, целомудренно и предсказуемо животик на животик.
Лялины руки охватывают Юрину спину, глаза привычно находят знакомые разводы на деревянном потолке, в форме Домовёнка Кузи. Кузя раскачивается в такт быстрым мелким толчкам. Всё-таки лучше было натяжные потолки: дерево простовато и старомодно. Вот шторы удачные: скользкие, тяжёлые, хорошо драпируются. И плотные, не пропускают свет: Юра не любит заниматься сексом при свете.
Вот через три минуты раскачивания прекратились: можно по секундомеру отслеживать. Юра беспорядочно дёргается, сотрясается мелко, как кролик. Замирает, падает на Лялю, отдувается. Всё. Душ, подмывание, чистое бельё. Когда Ляля возвращается, Юра спит там, где упал: головой на её подушке.
С Серёгой, оказалось, мука только начиналась. У него, как обычно, даже в самые-самые моменты сохранялось бесстрастное, ничего не выражающее лошадиное лицо. И «работал» он с Лялей, как работал с землёй, с дровами, с камнем. Как включённая машина: бездушно, неутомимо, мощно, ровно, без сбоев. Поначалу даже стало страшно.
Откуда, из каких потайных уголков он узнал Лялины преступные, бесстыдные, ужасные мысли, которые она не осмеливалась озвучивать даже наедине с собой? Он легко, играючи вертел её на ковре так и эдак, кувыркал, выламывал, укладывал, переворачивал, приспосабливал, как вещь. Ляля не подозревала в своём теле таких пластических способностей… Не знала, что можно терять реальность, взмывать, взрываться и извергаться бессчётное количество раз.
Вскрики, стоны, мычанье и прочее звуковое сопровождение – это для новичков, слабаков и актёров порнофильмов. Проникая, сливаясь тысячей и одним способом, они только тяжело, загнанно дышали. И не отрывали друг от друга полузакрытых глаз.
Животы похожи на белые купола церкви, перевёрнутые книзу. Макушки куполов наливалась тяжестью, горели огнём. Казалось, вся кровь устремлялась туда, скапливалась, концентрировалась, пульсировала там. На пике страсти он вдруг рывком выходил из пылающей, изнемогающей Ляли, валился отдыхать на ковре, раскинув руки.
Целомудренная Ляля бесстыдно, возмущённо накидывалась на него, тормошила, даже била кулачками. Заползала на него как таракашка, лихорадочно целуя и ощупывая, обшаривая язычком на его теле всё, что попадалось на пути. Наконец достигала цели: ахнув, увенчивала собою его купол.
Врастали друг в друга сокровенные точки, скользкие и горячие от сока, набухшие жаркой кровью сердцевины…
Застукал их Юра банально, по-дурацки, как герой литературной классики. Нашёлся Яго из числа дружков или телохранителей. Как в тупом анекдоте: возвращается, значит, муж из командировки…
Возвращается, открывает дверь спальни. А там в медленном, сладострастном темпе вздымаются, запрокидываются, опадают молочно, тепло белеющие в полутьме голые тела. Ляля застонала и открыла глаза. В дверном проёме стоял Юра.
Вообще, Юра был хоть накачанный, но аккуратненький, небольшого роста. Но Ляле в тот момент показалось: он заполнил весь проём, не помещаясь, раздвигая головой и плечами дверные косяки. Каменный гость, статуя Командора.
Потом острая боль в виске, белая вспышка в глазах – и чёрный провал.
Очнулась от бешеной тряски и качки: уткнувшейся носом в засаленную велюровую обивку сидений, почему-то запачканной свежей кровью. Всхлипнула носом, до краёв полным тёплой густоватой жидкостью, и поняла: её кровью. Сиденье пахло нечистыми мужскими задами, автомобильным освежителем, табаком.
– Ожила, сучонка.
Её больно схватили за волосы: они слиплись и присохли в комок на виске. Приподняли голову, заломив шею так, что ещё миллиметр – хрустнула бы и сломалась.
Белые бешеные Юрины глаза. Процедил на ухо с болью, чтобы слышала только она:
– Чего тебе не хватало, тварь? Чего тебе ещё не хватало?!
– Оставь её, Юрок, не пачкайся. Мы тебе давно намекали…
– Хлебала заткнули. Не ваше пёсье дело.
Снова удар, белая вспышка и провал. Потом невыносимый, сотрясающий тело до последней клеточки холод. Сырая, осыпающаяся комочками земля вокруг. Обрубленные крупные и мелкие корни деревьев торчат перед глазами из земли.
Они с Серёгой, голые, связанные, тесно, почти друг на друге, лежат в глинистой ледяной воде. Вверху в четырёхугольном отверстии качаются ели, сыплют в яму хвоинки и колючий осенний дождь.
– У-тю-тю. Как шпротики улеглись. Юзайтесь там досыта. А сверху камнем придавим: «Даже смерть не разлучила нас». Хых.
– Заткнись, – это Юрин голос вверху.
Ляля смотрела много иностранных фильмов и читал романы про любовь и смерть. Там любовники бы на прощание слились в страстном поцелуе. Предварительно бы плюнув в лица убийц кровью и сказав им гордо: «Фак ю». Или умоляли бы убить: он – себя, и она – себя. Только пощадите её (его).
Всё было по-другому. Ляля бы отдала всё на свете, чтобы её вытащили из ямы, чтобы ей – жить, жить… Отдавать было нечего. Всхлипывала:
– Юра, опомнись, никогда… прошу, умоляю. Только тебя…
– Заткнись.
– Молилась ли ты на ночь, Дездемона? – это кто-то из Юриных дружков проявил начитанность.
– Ах, гад!
Наверху послышались звуки драки: Юра бросился на шибко умного остряка и знатока Шекспира.
– Брось, хозяин. Давайте кончать, светает. Ещё забрасывать.
Первый же шлепок мокрой рассыпчатой глины упал на лицо. Тлела в Ляле крохотная надежда на то, что их просто пугают, как бурильщика. Что вот сейчас харкнут на них сверху слюной и словами, и раздастся шум отъезжающих машин. Пускай даже верёвки не распутают: сами как-нибудь освободятся, выкарабкаются.
Глина посыпалась чаще, полными щедрыми лопатами. Ляля уже не дрожала, её колотило и подбрасывало. Зубы то выбивали дробь, то скрипели, сжимались чуть не в крошево.
– Скажи, что беременна.
Это Серёгины ледяные, твёрдые губы пошевелились в Лялино ухо. Только дыхание было горячим. «Скажи ему. Что в тебе ребёнок. Ребёнок. В тебе. От него».
До Ляли дошло.
– Юра! Я беременна! От тебя! Юрааа!!
– Б-дь, ещё она… Не слушай её, Юрок. На понт давит. В хайло ей земельки сыпани, чтоб не брехала.
Земля летит, сыплется чаще: видимо, помогают ногами. Снова наверху Юрин рык. Спрыгивает прямо на Серёгу. И топчется на Серёге, на его ломающемся, хрупающем лице, на сворачиваемых набок хрящах носа. И режет злобно, рывками, ножом верёвки на Лялиных закоченевших, занемевших руках и ногах. Матерясь, помогает ей подняться.
Она не стоит на ногах, и он толкает её, пинает везде. Но старается не попасть в живот. Он якобы брезгует (на самом деле держит лицо перед корешами) и, чтобы не касаться Ляли, тащит её за волосы.
Она запачкает салон машины, и Юра раскрывает багажник. Там на дне резиновые коврики, тряпки, кусок полиэтилена. Толкает её в багажник, забрасывает тряпками. Ляля сворачивается и замирает, как в самой мягкой в мире колыбели.
Последнее, что она видит: усердно, споро, суетливо склоняющиеся и разгибающиеся мультяшные фигуры с лопатами. Хлопают плашмя, тщательно затаптывают, подпрыгивают. Кто-то ногами сгребает охапки мёртвых листьев и забрасывает бывшую яму.
– Я ведь вызнаю, кто отец. Сейчас ведь даже по ногтю, по волосу можно узнать. Так что моли своего бабского Бога, чтобы мой был. Если не от меня обрюхатела – сюда же обоих из роддома привезу. К папашке этому, батраку. Втроём как голубки будете лежать. Поняла?
«Поняла, Юрочка, поняла». Ей кажется, она кричит, но губы только беззвучно шевелятся. С силой, так что машина сотрясается, хлопает крышка багажника. Она проваливается в блаженное небытие.
Юра никогда не узнал, его или не его ребёнок. Как и то, что ребёнок был выдуман, и Лялин живот, по-девичьи плоский и втянутый, был пуст. Через день Юру убили на стрелке. Всех троих убили, которые участвовали в Лялиной и Серёгиной казни. Время было, повторяю, простое и суровое, без трындежа: лихие девяностые.
Так что никто Ляле, как неверной жене, претензий не предъявлял. Дома и драгоценностей в пользу общака не отбирал. Ляля осталась владелицей огромного – тогда других не строили – особняка.
В Юру выстрелили и снесли половину лица, так что гроб не открывали. Ляля не могла избавиться от воспоминаний, от жуткого хруста Серёгиного сворачиваемого набок носа, скул под тяжёлыми Юриными берцами. Подумала, что возмездие существует.
У самой Ляли мелко трясётся голова – это очень старит её. И волосы приходится красить часто, очень часто. Месяца не проходит – белоснежно высвечивается седая полоса на проборе.
Дети (она вернулась в садик) внимательно, пристально смотрят на её подрагивающее лицо и ничего не говорят. Сейчас дети другие, вежливые и всё понимают. А волосы на корнях трогают пальчиками: «Ой, Елена Евгеньевна, какие у вас красивые блестящие беленькие волосики!»
Пыталась ли она найти Серёгину могилу? Зачем, господи? Однажды ездили коллективом за грибами: автобус выделил гороно. Все рассыпались по лесу, а Ляля продолжала идти по тракту.
Вправо уходили едва заметные колеи: сквозь примятую прошлогоднюю жухлую травку пробивалась высокая сочная тёмно-зелёная трава. По ней удобно идти и высматривать грибы под елями. Корзинка быстро наполнялась.
Чем дальше, тем глубже становились колеи. В них зябко, ярко, как стёклышки, синела осенняя вода. И вдруг колеи оборвались. Открылась опушка, маленькая такая поляночка. Вытоптанный глинистый пятачок с тёмной, сильно просевшей ямой посередине. Долго она стояла над той провалившейся ямой…
Поискала глазами: ни одного даже чахлого цветка поблизости. Откуда, в глуши-то. Два и осень. Наломала еловых лап и уложила в просевшую яму. Вывалила грибы и пошла к автобусу.
Зять – что с него взять
Дочка Леночка, 27 лет, учительница музыки в школе, убила своего отца. Без ножа зарезала, без топора зарубила. Произошло всё очень обыденно. За завтраком, заалевшись и опустив глазки, Леночка объявила, что выходит замуж.
Василий Лукич с женой и обрадовались, и обиделись: что дочь вот так, не посоветовавшись, поставила перед фактом. Если честно, обрадовались больше. Всё-таки 27 лет, по вечеринкам не ходит, всё дома: читает или музицирует в своей девичьей светёлке. Ещё немного – превратится в сухарь, в синий чулок, в старую деву.
Тем больнее было услышать от дочери известие, после которого жена охнула, а Василий Лукич пролил суп, сжав ложку так, что косточки побелели.
– Мама-папа. Сегодня вечером Шурик придёт знакомиться. Не удивляйтесь: он меня старше. Нынче это в порядке вещей.
– На сколько?
– Это у вашего поколения устарелые взгляды, а нынче это абсолютно нормальное явление…
– На сколько старше? – встревоженно настаивал почуявший неладное Василий Лукич.
– Ш-шестьдесят… Шестьдесят один. (После выяснилось, соврала. 63). Мама-папа, всё уже решено, – демонстративно заткнула розовыми пальчиками уши. – И зал в ресторане заказан. От Шурика сорок человек приглашены. Теперь нужно с нашей стороны.
Так. Мало позора, нужно ещё растрезвонить на весь свет. Жена тихо запричитала в фартук.
– Мама-папа, – строго, как учительница расшалившимся детям, сказала Леночка. – Если вы будете себя безобразно вести, когда придёт Шурик, я… Не знаю что. Я соберу чемодан и уйду.
Леночка была девочка с характером, в Василия Лукича.
– Он, если хотите, ветеран, афганец. Вот. У него орден за мужество.
Как ни странно, данный факт немного успокоил Василия Лукича. Он всегда очень уважал военных людей. Сейчас вообразил худощавого, не утратившего офицерской выправки героя. Прямой взор, орлиный нос, немного выдающиеся бронзовые скулы. Сухое, жёсткое, резко очерченное мужественное лицо. Состарившийся Андрей Болконский. Волосы – соль с перцем. Возможно, в шрамах, возможно даже, в инвалидной коляске.
Невеста Леночка будет рядом вся в белом, как ангел, как сестра милосердия. Как птичка на дубе и нежный цветок, прильнувший к израненной, иссечённой каменной груди ветерана. Гости будут почтительно подходить, склоняться. Друзья-однополчане выпьют и под гитару негромко станут исполнять песни из репертуара «Любэ».
Всё же Василий Лукич ворчливо попенял:
– Небось, и жена была, и внуки есть. Чего разошёлся-то?
– Какой ты странный, папа. Когда придёт, не вздумай задавать ему эти вопросы. Это просто неприлично.
Пришёл. Лучше бы был в инвалидной коляске. Огромная жирная гора забила собою крохотную «хрущёвскую» прихожую. Сразу уверенно взял инициативу в свои руки. Сунул Василию Лукичу пакет с глухо стеклянно побрякивающим, постукивающим, шуршащим, пахнущим пряным мясом содержимым.
Поздоровались: рука у него оказалась громадная, сдобная и гладкая, как у бабы. Сухонькая мозолистая ручка Василия Лукича утонула в ней как в поролоне…
Зубы слишком ровные, явно вставные, и говорит прищёлкивая. Венчик белых волосиков вокруг розовой плеши. Плечи под футболкой с Микки Маусом тоже по-бабьи округлые, пухлые. Груди висят – хоть лифчик покупай, размером больше скромного Леночкиного. И сразу:
– Тёщенька, где тут у нас ватерклозет?
Ну да, 63 года же. Простата, кишечник, возрастные геморроидальные шишки. Василий Лукич внутренне застонал.
Весь вечер за столом солировал Шурик. Голос у него оказался породистый, томный, ленивый, как у… Василий Лукич вспомнил: как у лабуха, ресторанного пианиста из «Вокзала для двоих», его Ширвиндт играет. Тоже по совпадению Шурик.
Жена как приклеила на лицо улыбку, так и просидела, будто дура неживая. Василий Лукич злился на вторую половину. Винил её и за неуместную улыбку, и за то, что единственную дочку не сумела воспитать.
Дочь засиделась в девках, рада за чёрта лысого выскочить. Результат: влюбилась в старика!
То, что влюбилась, видно было невооружённым взглядом. За столом на отца и мать ноль внимания, один Шурик. Как, как она не видит толстого беременного пуза, месяцев на восемь, уложенного на коленях?!
Подкладывала ему, щебетала, бесстыдница, не отрывала восхищённых блестящих глаз, когда он сыпал афганскими историями. Все истории начинались одинаково: «Сидим мы, значит, в палатке с Лёнчиком (Колюней, Димоном), глушим неразведённый спирт, закусываем урюком. Медсестрички, само собой, с нами…»
Василий Лукич видел, как под свисающей клеёнкой, под столом жирная багровая рука мяла, месила, терзала Леночкину капроновую коленку… Опрокинул рюмочку, обвёл маленькое напряжённое застолье мутными склеротическими глазами. Вопросил:
– Что-то, хозяева, водка рот дерёт?
Дура жена проблеяла:
– Горько…
Шурик запрокинул Леночку и всосался в её рот. Залез с чмокающим звуком вантуза, ярко-красными, мокрыми, сочными губами старого сладострастника, распухшим как у утопленника, языком…
Василий Лукич почернел лицом. На слабых ногах выбрался из-за стола, почти по стенке добрался до кухни – и там без сил опустился на стул.
Дочка, дочка, что же ты наделала, выкинула?! Ну, возраст, ну, семьи хочется – так роди малышонка, утеху родителям на старости лет. Мысль о внебрачном ребёнке ещё вчера показалась бы Василию Лукичу, с его пуританскими взглядами, возмутительной и непереносимой. Но сегодня, на фоне Шурика, казалась почти идеальным вариантом. А что, многие молодые женщины так делают.
Ах, доча, что же ты натворила, как жить теперь? Поскрёбышек, первое и последнее дитя в семье, когда уж и ждать перестали. Дохнуть боялись: кровинка, слабенькая, болезненная, маленькая. Маленькая для отца-матери на всю жизнь.
У всех кофточек для неё слишком длинные рукава, из них трогательно, сиротливо высовываются бледные прозрачные пальчики. Хочется такую взять, обогреть… Вот этой воздушностью, детскостью, фарфоровостью своей Леночка привлекла престарелого грязного сладострастника, почти педофила. Она же во внучки ему… Во внучки!
Вдруг вспомнилось, как в деревне у тёщи второклашка Леночка помогала взрослым в огороде. Стряхивала с картофельной ботвы в банку красные, как ягоды, личинки колорадского жука. Она, вообще, с детства росла ответственной, серьёзной, трудолюбивой девочкой.
Вдруг вскрикнула, бросила банку и заплакала. Оказалось, одна особенно крупная личинка решила защитить свою жизнь. Угрожающе встала «на дыбы», надулась как кобра, перепугала девочку.
Все засмеялись, принялись вышучивать:
– Леночку личинка чуть не сожрала!
– Леночка, ну-ка вызови личинку на поединок: кто кого?
Идиоты великовозрастные. Она обиделась, разрыдалась и бросилась в лес, который рос сразу за плетнём. Искали три часа, уже в милицию сообщили. А Леночка спряталась под крыльцом. От переживаний уснула на сухой тёплой, в курином помёте, земле…
Вот такое вспомнилось Василию Лукичу.
В довершение позора и муки, Шурик напился и остался ночевать. Жена, не переставая дурацки улыбаться, постелила негнущимися руками в гостиной на диване молодым.
Василий Лукич познал, что такое ад. Стенка тонкая, из гипсокартона. Как назло, диван старый, скрипучий. Каждый скрип, каждый ох и вздох пружин вонзался в его сердце острыми ржавыми железными спиралями.
Всю ночь он вставал то в кухню воды попить, то в туалет. При беспощадном медицинском, ослепительном свете вдруг проявил брезгливый интерес к своей лиловатой сморщенной, жалкой плоти… С омерзением, с ужасом невольно представлял, как в эту самую минуту такая же (на пять лет морщинистей, чем у Василия Лукича!) старческая нечистая сарделька… Которая в каких только, простигосподи, не побывала… Судя по порочным-то чёрным Шуриковым подглазьям.
Василий Лукич бурно ворочался, заматываясь в кокон из пододеяльника, с треском рвя постельную бязь. Вскакивал, выпутываясь, бежал в гостиную, с волочившимся шлейфом простыни.
В белом нижнем белье, худой и страшный, как Кентервильское привидение в саване, вырастал в дверях.
– Вон отсюда! Оба!! Вооооон!!!
Топал жилистыми петушиными ногами, трясся и тыкал в испуганную парочку пальцем:
– Вон из моего дома, осквернители! Немедленно! Чтобы духу..!
И просыпался в ледяном липком поту, отбрасывал одеяло, поглаживал грудь, из которой выпрыгивало сердце.
– Что ты, Вася? – беспокоилась разбуженная жена. Она ещё могла спать! Дура. Раньше надо было беспокоиться.
Когда Леночка собиралась на дискотеку, кудахтала: «Ах наркотики, ах разврат, ах поздно!» Ну и докудахталась: у Леночки нет друзей-ровесников. Из дома в школу, из школы домой. Лучшие друзья – фортепиано, книжки да телевизор.
Свадьба запомнилась тем, что… Да ничем не запомнилась, как дурной сон. На церемонии бракосочетания на шёлковое платье жены выплеснулось шампанское: на животе образовалось большое пятно. В уголках глаз у неё (отвыкла краситься) с утра присохли комочки туши – не замечала, так и заполошно пробегала.
В ресторане Шурик громогласно объявил, что сейчас подадут коллекционное вино 1956 года, что ли, с Цимлянских виноградников.
Официант, под крики гостей, вынес и продемонстрировал горизонтально уложенные в деревянных подставках, седые от пыли бутылки. А Василию Лукичу с бутылки под нос упал комочек волос. Он сидел и думал, что официант-жулик договорился с Шуриком. На задворках кухни напудрили, натрясли на бутылки из пылесосного мешка сора и пыли. И всё, всё ложь и фальшивка: и вино, и Шурик, и свадьба эта, и Леночкина любовь.
Этим и запомнилось: мусором из пылесоса, пятном на туго обтянутом животе жены и неопрятными присохшими точками туши в уголках её глаз.
Ладно бы, дочка за богатством и известностью погналась – такое нынче часто по телевизору показывают. Какой-то телевизионный клоун-психоаналитик на полном серьёзе важно объяснял: «Мол, мезальянсы, неравные браки завязались ещё с первобытных времён.
Дескать, кого выбирала девушка, кого хотела видеть зятем её мать? Молодого здорового юношу: в кармане вошь на аркане, с голой задницей – или старого мудрого вождя, у которого и шкуры, и мамонт, и тёплое место у очага? Конечно, богатого старика! С этих времён-де и повелось…» Василий Лукич плевался.
Ладно, с богатством было бы хоть дико, но объяснимо: артисты-знаменитости, золото – бриллианты, яхты, острова.
А то снимают с Шуриком апартаменты. Звучит пышно – а на деле малюсенькая студия. Своя квартира у Шурика есть, и не одна. Но в них живут его дети. Только законных у него пятеро, остальных, рассыпанных по стране, никто не считал. Леночка, Леночка, в какую же грязь ты окунула мать с отцом. Да с головой, да в дерьмо.
Вот чему научил телевизор. Леночка любила его смотреть, забравшись с ногами на диванчик, зябко укрывшись пушистым пледом.
Однажды вместе смотрели документальный фильм про знаменитого режиссёра. Тоже, павлин, бросил старую жену, детей, ушёл к молодой посикушке. Нет бы, пристыдили: мол, предатель, подлец, на передок слаб. А то: «Нашёл мужество не цепляться за прошлое». О как исхитрились, вывернули! С ног на голову поставили, чёрное белым объявили.
Ох, этот совратитель телевизор. Чего греха таить, Василий Лукич иногда посматривал передачки после работы (работал токарем на заводе), после ужина. Хорошая программа – снотворное, плохая – желчегонное. И в том, и в другом случае не в накладе. Бесплатная аптека на дому. Хороших, если честно, программ и не было. Шелуха одна.
Вот раньше фильмы были, одни названия в трепет вгоняли. «Вечный зов» – каково, а? «Угрюм-река», «Тени исчезают в полдень». Глыбы!
Ну и советские: «Дни Журбиных», «Мачеха», «Доживём до понедельника». Что нынче, ляп-тяп, на дурашные, дармовые, дурные деньги стряпали киношники? В лучшем случае, «Доползём до понедельника». Эх, какую страну просрали!
Василий Лукич возмущённо ёрзал, откидывался в своём стареньком продавленном кресле. Что творится! На одном канале горько повествуют, как в чеченскую войну женщина выкупила тело сына, чтобы по-человечески похоронить. А у тела головы нет, отрезана!
Как эта женщина по крохам, по грошику собирала деньги, чтобы выторговать голову сына… А рядом, кнопку переключи, гоношатся мордатые большеротые девки. Страусиные ноги, лошадиные лица, козлиные голоса. Ржут, жрут, неутомимо совокупляются. Тьфу!
Вот как же это рядышком, по соседству-то в телевизоре уживается? На глазах шла ожесточённая борьба: зла с добром, души с плотью, Тьмы со Светом, Бога с Дьяволом. Дьявол уверенно побеждал.
Василий Лукич сокрушённо ворочался в кресле. Потревоженная кошка спрыгивала с колен, укоризненно взглядывала на хозяина. Взгляд женский, загадочный, порочный. Похотливый. И эта туда же… Брысь, пшла вон!
И снова на экране крупным планом – туго обтянутые мясистые ляжки, ягодицы…
Рядом на диване пил пиво Шурик. С удовольствием, масляно, как кот на сметану, жмурился на экран. «Зятёк», как ядовито называл его не примирившийся Василий Лукич. Зять старше тестя на три года, хэх!
– Фактурные девочки, – очень одобрительно, плотоядно чмокал Шурик. В трезвом-то виде он бы себе такое не позволил. А тут с пива развезло. – А всё-таки согласитесь, Василий Лукич, человеческая, женская порода улучшается. В наше время у наших жён не на что было глянуть. Как доски, ни талии, ни зада.
– Тебе видней. Опыт, видать, богатый, – недружелюбно буркнул Василий Лукич.
– Отсталый вы человек, тесть, и дремучий… Ах, что вытворяют. Есть в них, знаете, чертовщинка… Злоебучинка эдакая, – он прищёлкнул толстыми пальцами. Прищёлкнул – и завалился набок, захрипел, наливаясь чернильной синевой.
Это на него ловко, как кошка, набросился бедный Василий Лукич, терпение которого лопнуло. Пальцы не смыкались на мягких складках, он давил костяшками сбоку на горло, на сонную артерию. Шурик толстый-толстый – а сумел вывернуться. Навалился, погрёб Василия Лукича под своей тушей. Масса, в полтора центнера, одного – против жилистости и вёрткости другого.
Соперники свалились с дивана на ковёр и покатились, пыхтя. Драка шла с переменным успехом: то один одолевал противника, то наоборот. Шурик подло, по-бабьи вцепился пластмассовыми зубами в руку Василия Лукича. Челюсть хрупнула и выпала на ковёр.
Разняла их жена.
Шурик, отплёвываясь от попавших в рот волосков, потопал умываться в ванну, бережно нёс сломанный розовый протез. Жена увела сильно помятого Василия Лукича в кухню. Там он, отфыркиваясь, сунул лицо под струю. Вода окрасилась в розовый цвет: носом шла кровь.
– Совсем сдурел, старый? Леночка занемогла, в спальне спит, а вы…
– Что с Леночкой? – буркнул Василий Лукич. Ещё минуту назад думал о ней с ненавистью. Ненависть была пропитана любовью и жалостью.
– Ребёночка ждёт, а ты и не замечаешь. Третий месяц у неё. Плохо переносит беременность, голова кружится. Ну да, даст Бог, внучок у нас будет, Вася. Считай, дедушка ты… А ты – драться надумал. Чего уж тут теперь, – жена промокнула глаза углом халата.
До последнего времени самому себе не хотел признаться Василий Лукич, что ждёт: вот-вот Леночка проснётся, избавится от злых Шуриковых чар. Тряхнёт головой, звонко расхохочется:
– Пап, ты что, думал, это серьёзно?! Что у меня по-настоящему с этим…
Тут Василий Лукич давал волю злым, оскорбительным эпитетам, какие только мог придумать. Накопилось.
А теперь всё, ребёнок. Теперь ничего не изменишь. И навалился сонм других, беспорядочных новых мыслей и чувств. Внезапная робость перед Леночкой-женщиной, которая зачала и носила новую жизнь. Изумление, остолбенение перед самым обыкновенным жизненным чудом. Животный страх за дочь: да пусть хоть с чёртом лысым спит, лишь бы живая, здоровая.
Василий Лукич сердито заметил, что плачет. Новая, неизведанная роль деда…. Нежность к ещё не родившемуся птенчику, мальчику – только мальчику, хватит с нас бабских выкрутасов! Василий Лукич воспитает его настоящим мужчиной, мужиком.
Всё отошло на второй план, измельчало, померкло, казалось ничтожным. Чего уж тут теперь.
Уютный домашний взрыв
Вот как сейчас помню: осень, девяностые. По телевизору показывают фильм-катастрофу, тогда ещё в диковинку. У самолёта срывает обшивку, ветер швыряет горошинами пассажиров и стюардесс…
И тут я ощущаю реальную опасность, которая здесь, рядом. Запах газа из вентиляции. Вентиляция давно плотно заткнута тряпками от соседских тараканов и табачного дыма. Но даже сквозь тряпки несёт кислым, едким запахом.
За стеной живёт маргинальный поэт. Ему единственному, первый и последний раз в истории нашего города, мэр подарил жильё за поэтический талант. Однажды он пытался свести счёты с жизнью посредством отравления газом. Не получилось. Жильцы хотели помочь ему претворить в жизнь задуманное, посредством мордобития – но поэта вовремя увезла скорая.
В соседней комнате живёт 78-летняя бабушка с атеросклерозом. Она ещё ничего, бойкая. Сама себя обслуживает: ходит в магазин, варит суп, ставит чайник. При этом постоянно забывает зажечь под чайником огонь. В таких случаях я бегу в соседний подъезд, звоню, мы с бабушкой устремляемся на кухню. Она каждый раз страшно изумляется, охает, бьёт себя по тощеньким бёдрам…
А сегодня дверь никто не открывает. Поэт в поисках пития и музы исчез месяц назад. Выглядывают соседи, охают, ахают. Мы звоним газовикам. Десять минут, пятнадцать, двадцать. Мне кажется, я уже не только чувствую газ, но вижу, как он тяжёлыми синими слоями плавает в моей кухне.
А глаза не в силах оторваться от экрана: вот она, волшебная сила искусства! Фильм-катастрофа закончился. Так, документы, наличные деньги при мне… Я выбегаю во двор, куда уже эвакуировалась часть жильцов с ценными вещами.
Ровно через пять минут приезжают газовики. Такое ощущение, что они тоже не могли оторваться от захватывающего фильма. Звонки на «04» бывают каждый день и предсказуемы. А здесь: откуда и когда узнаешь конец фильма…
Крутят в подъезде носами: «Да, прилично тянет газком». Я тянусь к кнопке звонка – меня перехватывает сильная рука. «Звонок электрический, можно только стучать».
Когда дверь начинают взламывать, выглядывает всклокоченная бабушка в мятой ситцевой рубашке: спала. На кухне привычная картина: свистит выкипающий чайник, залив плиту водой, свистит газ из конфорки. Погрозив бабушке пальцем: «А-та-та!» – газовики собираются удалиться. Жильцы берут их в кольцо:
– Послушайте, так же нельзя оставлять. Живём как на пороховой бочке.
– А что мы можем сделать? Инструктаж провели, не выселять же бабушку из дома. Да и нет такого закона.
– Выселять! – настаивают злые жильцы.
– Куда: в дом престарелых? И вам её не жалко? Возьмите над ней шефство, наконец.
Человеконенавистнические соседи переглядываются. Человеколюбивые газовики уезжают. Пятиэтажный дом остаётся один на один с забывчивой бабушкой и маргинальным соседом.
До сих пор помню письмо супружеской пары, пенсионеров из пригорода. Помню тон письма: тихий, привычно-обречённый… В одном рассказе есть сравнение: как если бы человек долго кричал, звал на помощь на берегу реки, сорвал голос. И устало, негромко, без боли сказал сам себе: «Не слышат…» Так и здесь.
Много лет эти пожилые муж и жена жили в своём доме, и много лет жаловались: в доме пахнет газом. Приезжали специалисты, обследовали котельную, ничего не находили и уезжали. А пенсионеры снова писали: «Пахнет же, пахнет газом! Постоянно болит голова. Слабость, одышка, обострились болезни». Жаловались безнадёжно, горько, устало. И, вздохнув, сказали сами себе: «Не слышат»… В одном кабинете им даже посоветовали обратиться к психиатрам: мол, не паранойя ли у вас?
И тут, то ли среди газовиков-ремонтников специалисты поменялись, то ли ещё что – обнаружилась утечка! Слава Богу, в подвале была хорошая вентиляция. И вот тогда пенсионеры описали этот случай в письме в редакцию.
Кто оценит их моральные страдания, потерю здоровья? Кто поверит их утверждениям, что той утечке много-много лет? На чью сторону встаёт наш суд, когда простой гражданин пытается вчинить иск могущественному монополисту?
И вообще, спасибо бы сказали, что легко отделались.
Наша улица ждала газа в дома, как манны небесной. Попробуй нагрей такие домины дровами и углём. Вставать приходилось в пять утра, постоянным истопником дежурить у котла. И к утру всё равно сосулькой замерзал торчащий из одеял кончик носа.
Тысячелетиями добивались проекта, столетиями его утрясали. Это при том, что улица тянула газопровод за свой счёт! Ввод в дом газа – отдельная статья, отдельные деньги, десятки тысяч. Потом мучительно ждали, когда рабочие освободятся с предыдущего объекта. Когда они освободились, мы поняли, почему так долго пришлось ждать.
Рабочий день в горгазе начинается в восемь утра. Рабочих и строительный вагончик-бытовку привезли к десяти. Те сразу сломали соседский забор, соорудили костерок. Погревшись, стали рыть ямы под опоры. Один копает – трое обступили его, зябко сунув руки в карманы, бьют как балерины ножкой об ножку: не месяц май на дворе. А тут и «газелька» подскакивает: обед.
И остальную часть дня рабочие двигались еле-еле. У бытовой техники есть разные режимы: интенсивный, обычный, деликатный. Наши рабочие трудились в суперделикатном, нежнейшем, бережном режиме, то и дело переходящем в режим ожидания и экономии. Они очень берегли себя и экономили свои силы.
Я смотрела из окна, и так хотелось выйти и хорошенько поддать, придать ускорение пятым точкам, ниже красивых бронзовых букв на спине спецовок: «Служба Горгаза». В полпятого спящих красавиц в тёплых куртках и штанах уже снова ждал микроавтобус.
И так день за днём. Задушевные, с матерком, беседы, бесконечные перекуры, перегревы у костерка. Увлечённые поиски топлива, так как соседский забор закончился.
Наши мужики вышли, побалакали. На прямой вопрос: «Вам самим-то, ребята, не тошно? То, что можно играючи сделать за два часа, вы уже неделю как кота тянете за… за эти самые. Закончили бы участок, принялись за новый, премию огребли». Ребята хитренько рассмеялись: «Дурных нема».
Работают по нормативу: от сих до сих. Если превысят норму выработки, набегут инженеры с калькуляторами. Нормативы пересмотрят в сторону повышения. А деньги те же самые. Оно им надо? А премию и так дадут. Даду-ут, никуда не денутся.
Сразу оговорюсь: речь идёт о начале двухтысячных, возможно, сегодня всё по-другому. Ну ладно, не будем придираться. Главное, вот он, лапушка, живой голубой венчик трепещет на конфорке. Голубыми гладиолусами расцвели трубки в котле.
С газом – слава Богу и национальному (если верить рекламе) достоянию «Газпром» – я живу уже много лет. Греет, кормит. Хотя, опять же, не обходилось без больших и малых неприятных приключений. Газ – штука коварная.
Когда нам устанавливали новый импортный котёл – вышла история: не то анекдотическая, не то трагическая. Хоть смейся, хоть плачь. Включили котёл, пламя мощно и ровно загудело, батареи ожили. Ну, с Богом!
Я повела носом и говорю мужу: «Пахнет газом». – «Да ну, не выдумывай». Я не поленилась, залезла на стремянку под потолок (там шла труба). «Вот здесь». Взяла мыльницу с губкой (старый добрый способ проверить утечку). Вот они, пузыри, надуваются, радужно переливаются, лопаются в месте сварки!
Рабочие ещё не успели уехать. Вернулись, недовольно и недоверчиво поводили тестером вдоль трубы. Чисто, ничего не показывает! А я им – мыльную пену с пузырями! Пока они доставали сварочный аппарат, я методом нюха и мыла обнаружила ещё две утечки!
Ведь вот читаете и не верите, думаете: байку травлю. Главное, не докажешь теперь ничего. Мне очень жаль, что я не догадалась заснять происходящее на камеру происходящее. Пристыженное, сердитое, красное лицо сварщика…
Всё это было бы смешно, но наутро последовало продолжение. Когда выветрились остатки ацетилена, машинного масла и специфического мужичьего запаха – снова насторожилась: пахнет! Снова мыльная пена – снова пузыри! Да твою в душеньку!
В интересах горе-сварщика, которому я позвонила, было не поднимать шума и по-быстрому устранить свои косяки – что он, тихонько матерясь, и сделал. На прощание я со своим уникальным обонянием попросилась в горгаз штатным нюхачом на полставки.
Ещё случай. Проходя в огороде мимо бочки с дождевой водой, слышу знакомый запах. Приникаю к стене, обнюхивая там и сям. Со стороны посмотреть: прильнула в страстном объятии к трубе. Вот он, запашок, крутится на резьбе, вырывается из-под гайки.
«04» прибывает сразу. Обнаруживает причину утечки и даже причину: грунт подвижный – опору шевельнуло – трубу подняло – винт сошёл с резьбы. Тут же его ключом и подтянули – минутное дело.
Дальше начинается интересное. Меня приглашают в машину и ставят перед дилеммой. Либо я плачу деньги за работу (по-моему, что-то четыреста рублей), так как труба хозяйская и идёт по хозяйской стене, а услуги нынче платные.
Либо подписываюсь под ложным вызовом. Вроде, мне показалось, а газовой утечки-то и не было. Может, им не хотелось возиться с бумагами, протоколами. Может, я портила им статистику. Может, они лишались из-за меня премии (речь идёт также о двухтысячных годах).
Я взвешиваю на внутренних весах 400 рублей и соучастие в обмане. 400 рублей перевешивают. «В конце концов, – мысленно оправдываюсь я, – проблема моя и участок тоже мой, и труба моя личная, и газ мой».
Да не может быть газ моим! Газ – это огромная разветвлённая система и единое целое. И мой маленький обман – звено в общей цепи обмана. Осознав и устыдившись, я пишу об инциденте письмо в горгаз.
Мою тесную котельную набивает толпа: комиссия по расследованию моего письма. Придираются к какой-то неисправности в котле (вот только прошло ТО – и неполадок не было). Снимают пару маленьких деталей и засовывают в карман. В свой, естественно.
Дают предписание, чтобы я устранила неполадок в такой-то срок. Что, случись форс-мажорные обстоятельства, вся ответственность ляжет на хозяина, то есть на меня. В случае самоуправства и неисполнения грозят поставить заглушку и перекрыть газ.
В магазинах деталей – крошечных таких, размером с копеечку – днём с огнём не сыскать. Отечественное машиностроение дало дуба, в магазинах сплошной импорт. И вот из-за этих копеечных деталей нужно покупать новый котёл, заказывать новый проект – а это долгое время, большие деньги. Ты остаёшься один на один с бедой, бейся о землю, хоть закричись… «Не слышат».
Не боюсь я ребят И ни ночи, ни дня. Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, А при них словно вдруг Подменяют меня.Про них – это про ребят-газовиков. Будь вы владельцами автономных газовых котельных – и вам был бы знаком животный страх: куковать без отопления в своём доме посреди зимы. Суровой, северной. Мы у них все вот где, на коротком поводке. Случись что – разговор тоже суровый и короткий.
Случайно не окажется хозяина дома во время планового ТО – отключим газ. Образовался копеечный долг – отключим газ. Истёк срок эксплуатации котла – отключим газ. Не забалуешь при таких драконовских мерах, при железной дициплинке.
Но вот что любопытно. Есть целые южные республики-неплательщики. Плевать хотели на законы, проекты и планы. Дерзко врезаются в трубопроводы, тянут в свои дома газовые трубы и шланги как бог на душу положит. Устраивают самопальные котельные. За газ не платят, про техобслуживание сетей слыхом не слыхали – и никаких тебе ЧП. А у нас проверяльщик на проверяльщике сидит, только успевай платить – а дома взрываются, люди гибнут.
Почему, если дом взлетит в воздух из-за тротила и гексогена – это экстремизм и терроризм, и ФСБ на ушах стоит? А если дом взорвётся из-за туповатых коммунальщиков, из-за пьющего соседа или склеротичной бабушки – это несчастный случай? Нашли уютное такое, домашнее, умиротворяющее определение: «взрыв бытового газа». Быт он и есть быт, всякое бывает.
И люди продолжают жить, куда деваться. Жалуйся, зови на помощь, кричи – не кричи… Не слышат.
Подкоп
Об этой страстной, неземной, бунтарской любви мужа-зэка и жены-«вольняшки» тюремные барды наверняка напишут стихи и положат на душещипательную надрывную мелодию. С кем только их не сравнивали. Его – с графом Монте-Кристо, их обоих – с Ромео и Джульеттой. История обрастала красивыми подробностями и становилась легендой, передающейся из уст в уста. Заиметь такую легенду втайне мечтает каждый заключённый, который, как известно, имеет глубоко внутри ранимую сентиментальную душу. По крайней мере, в этом нас пытается убедить тюремный шансон.
Александр Девятов – тридцатилетний деревенский сильный, жилистый парень. Светлана оправдывала своё имя: блондинка в льняных локонах, с нежным кукольным личиком. Вместе Девятовы прожили десять лет. Сыграть бы розовую свадьбу: муж с букетом розовых роз, жена вся в нежно-розовом… Но обоим перед самым юбилеем дали срок – ему реальный, ей условный.
Она, как верная жена, навещала мужа в колонии. В последнее июньское длительное свидание Девятов предложил жене сделать подкоп из комнаты свиданий на волю. Собственно, план побега он вынашивал с первого дня заключения. Светлана с готовностью поддержала и предложила помощь. Известно, муж-иголка, жена-нитка. Куцда иголочка – туда и ниточка. Супруги попросили продлить свидание на два дня, их просьбу удовлетворили.
Когда соседи по гостинице уснули, деревянный пол был взломан, доски вынуты – и работа закипела. Поняв, что до рассвета прокопаться не удастся, Александр уложил доски на место, отложил работу до ночи.
Провели день, с нетерпением ждали, когда гостиница утихнет. Александр попеременно орудовал алюминиевой ложкой, ножом, крышкой от кастрюли. Света вынимала землю. Они прокопали два метра и поняли, что не рассчитали сил. Земля была тяжёлая, глинистая, забита щебнём, обломками кирпича, бетонными кусками. В конце концов, туннель упёрся в бетонный фундамент гостиницы.
Что делать? Следы преступления скрыть не удастся. Что их ждёт? Александра – суровое ужесточение наказания. Светлане, как соучастнице побега – реальный срок. И они решают уйти из жизни в один день и в один час. А перед смертью шикарно скоротать последний вечерок.
Времени было около пяти утра. Девятов выскользнул из комнаты, столовым ножом вскрыл гостиничный бар. Взял с прилавка пачку «Мальборо», две плитки шоколада «Ромео» и два батончика «Марс». Кутить, так кутить: прихватил и магнитофон.
В собственный номер возвращаться не хотелось: грязь, земля, отодранные доски. Девятовы самовольно заняли соседнюю пустовавшую комнату № 11. Чтобы никто не вошёл, подпёрли дверь найденными металлическими подпорками.
Пили чай со сладостями, слушали музыку. Рассвело. Светлана сняла колготки, сделала петлю и вытянулась на кровати. Он не отпускал скользкую, гибкую удавку на её шее пять минут. («Она сама просила»). Теперь предстояло покончить с собой. («Для себя решил: до суда не доживу, уйду любым способом»). Попробовал задушиться магнитофонным проводом – не получилось. Огляделся, решил поджечь комнату. Порвал матрац, вынул вату, раскидал по комнате и поджёг.
Как раз охранники хватились пропавшего магнитофона – в это время из-под двери комнаты № 11 повалил удушливый дым. Когда взломали дверь, Девятов лежал на кровати, держал в зубах оголённый провод – другой конец воткнут в розетку. Кричал, чтобы не подходили…
Не правда ли, чем не сюжет для очередного слезоточивого документального фильма из жизни заключённых, коими забиты сегодня экраны? Однако следователи – народ тёртый, и в красивые байки не поверил. Заметьте, всё вышеизложенное было записано со слов оставшегося в живых Девятова. Жена лежала в гробу, пухленькая, кудрявая, как кукла в коробке, и не могла рассказать об истинной причине своей смерти.
Вновь поднятое девятовское уголовное дело хранило совсем иные свидетельства. Что жила Светлана с трижды судимым мужем плохо, оба пили, вечно скандалили. Он ревновал хорошенькую жену. После последнего приговора так вообще обещал прикончить её за то, что пошла на сделку со следствием, дала показания против него. Практически купила себе свободу за счёт Александра. А ведь воровали оба, наравне – обидно.
Падкие на клубничку телевизионщики расписали деревенскую парочку как чрезвычайно опасную, опытную банду неуловимых налётчиков, совершавших громкие дерзкие ограбления.
На самом деле среди наворованного числились: ириски, фломастеры, рис и перловка, тушёнка, кисель, школьные тетрадки да дневники (!?) А что ещё украдёшь в деревне, в маленьком райповском магазине? Но обо всём по порядку.
После армии Девятов вернулся домой, устроился колхозным сторожем. Прослужил недолго, уволился по собственному желанию. Вернее, попросили с работы после того, как в его дежурство странным образом пропало 100 гусей. Больше он не работал нигде и никогда. Дважды был судим за воровство, и жену склонил заниматься этим необременительным романтичным занятием. Украл – выпил – в тюрьму.
Итак, вот подвиги гремевшей на весь край банды. Для начала супруги стащили из сеней у соседки стиральную машинку «Фея» и в тот же день загнали её матери одного знакомого за 150 рублей. Потом из соседского сарая угнали велосипед «Урал». Потом из телятника колхоза «Путь к коммунизму» увели телёнка и зарезали на берегу реки. Спустя месяц проникли в загон летнего лагеря того же колхоза – печальная участь постигла очередного телёночка. Как и в первый раз, мясо разделали, Света носила из речки воду в ведре, мыла свежатину. Часть зажарили и съели под водочку, часть продали собутыльникам по дешёвке. Остальное, закопанное в мешках в землю, протухло.
Через неделю Девятовы пошли на новое дело. Топором перерубили сигнализацию в магазине райпо. Украли: хлеб, шоколад, жевательные резинки, сигареты, печенье, карамель, макароны, консервы, ириски, какао… Хватали подряд что попадётся под руку: от стамесок до шторной тесьмы, от горчицы – до мыла и шампуня.
Понравилось. Спустя месяц в соседнем районе вскрыли другой магазин райпо. Унесли: сапоги, цветную бумагу, школьные альбомы, тетрадки, сахарный песок, шоколадные батончики, шариковые ручки – описание украденного не умещается на двух листах протокола.
Неуловимую банду быстро разоблачили. Светлана охотно дала показания на мужа. Разлука, свидания… Что же в действительности произошло между ними в последний вечер, когда туннель закончился бетонным тупиком? Пообещала ли Светлана в сердцах, что всю вину свалит на него: мол, сам кашу заварил, сам и расхлёбывай – и жестоко за это поплатилась? Или согласилась жертвенно лечь и умереть от рук любимого, как того требует жанр тюремного шансона (от милой руки и смерть сладка)? Сейчас уже не узнать.
Жаль погибшую молодую красивую женщину. А ещё более жаль деревню: тихую, милую, воспетую в стихах и песнях. Это уже не та деревенька, «под лёгким платочком июльского облака, в веснушках черёмух»… Которую мы помним по советским фильмам: «Мачеха», «Белые росы», «Дело было в Пенькове», про участкового Анискина…
Исчезли стада тучных коров на рассвете, не услышишь рожка пастуха, стрёкота комбайнов, одинокой гармони за околицей. Всё чаще деревни – это разорённые фермы, заколоченные избы, кучки неистребимых алкашей у привозного фургончика с водкой.
Города, худо-бедно, самоочищаются, вытесняют «уголовный элемент». Жильё и земля в городах дороги, опять же полиция близко. Одна за другой – от непотушенной сигареты или от преднамеренных поджогов – сгорают на городских окраинах избушки – притоны воровской «малины». И сбившийся с панталыку народ, оказавшись без крыши, перетекает в деревни. Занимает пустые избы, безнаказанно буянит и безобразничает, грабит сельпо, держит в страхе пожилых сельчан, отнимает у них пенсии.
Вот что на самом деле печально, а не неудавшийся подкоп.
Александр получил 13 лет строгого режима за умышленное убийство, попытку побега, поджог и кражу из бара.
…Теляток жалко.
Погребённые заживо
Саша и Саша. Два Саши, учащиеся колледжа культуры. Оба талантливые музыканты: пели, играли на музыкальных инструментах. Оба первокурсники, в городе первый месяц. Но уже записались в студенческий ансамбль, успели выступить в первом большом концерте, посвящённом Дню пожилого человека. Оба сельские, работящие парни, знающие цену трудовой копейке. На стипендию не разживёшься, но тянуть деньги из худого родительского кармана – последнее дело. Деревня сама перебивается из кулька в рогожку.
Еды хватает – и ладно. Пожаришь деревенской картошечки на домашнем сале – объедение. Кончится картошка – заваришь китайскую лапшу, заправишь специями – запах на весь этаж. Правда, через месяц с этого запаха воротит – ничего, дело молодое. И руки тоже молодые, сильные. Можно подзаработать – на пиццу, допустим, или – бери выше – на ноутбук, на мобильник.
Где заработать? Да на стройке, после лекций. Иногда с 5, иногда с 8 до 11 вечера. Очень удобно, расчёт тут же на руки: сколько наработал – столько получил. Никаких заморочек с разрешениями, справками. Главное, не забыть принести с собой старенькие куртчонку, свитер, штаны какие не жалко – и вперёд. То есть не вперёд, а вниз, в узкую траншею глубиной 2, 5 метра.
В ней к новому семнадцатиэтажному дому прокладывают водоотводную трубу. Через десять дней дом ждёт новосёлов, надо торопиться. Экскаватор работает грубо, начерно: вычерпывает ковшом тонны мокрой глины. А они, два Саши, можно сказать, выполняют ювелирную, тонкую работу: подчищают лопатами осыпающуюся, остающуюся на дне дренажной траншеи землю, до которой не добраться ковшу.
Это они так подшучивают, подбадривают друг друга, насчёт ювелирной работы. Если не подбадривать – тяжело. Грудь ходит ходуном, по лицу течёт пот вперемешку с дождевыми каплями. Измазались в скользкой глине, как чумички. Под промокшими сапогами хлюпает ледяная жижа. Не посачкуешь: работа почасовая, сразу видно: филонил или выкладывался на полную катушку. Штык лопаты приходится постоянно чистить от липкой, как пластилин, глины – иначе лопата становится неподъёмной.
Начальник ушёл в конце рабочего дня в шесть часов, бросив на прощание: «Давайте осторожнее тут…» Это была инструкция по технике безопасности.
Стояло самое начало октября, ночью обещали заморозки. Я испугалась за не выкопанные георгины, вышла затемно, часов в семь. Но смогла выкопать и очистить лишь один корень с клубнями: земля буквально дышала зимой, руки мгновенно сковало холодом сквозь двойные перчатки. Температура ноль, с неба льёт дождь, сменяющийся колючей, больно секущей лицо крупой, хлещет ветер. В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит.
Именно в это время и в такую погоду два студента копошились в дышащей зимним, могильным холодом яме, в полной тьме. (Жильцы соседних домов негодовали и удивлялись, почему на стройке не было фонарей: электричество экономили, что ли?)
Дальнейшее свидетели-землекопы описывают по-разному. Одни говорят, что сначала оползнем осыпалась земля и, потеряв поддержку, рухнула в траншею плита – пандус входной группы (крыльца подъезда). Другие видели, будто экскаватор задел плиту, а уж она, падая, спровоцировала лавину из мокрой земли и кирпичей.
Вызвали спасателей. Первого Сашу откопали минут через 10–15. Он был ещё жив, но дыхательные пути были забиты землёй. Врачи приехали через считанные минуты после того, как перестало биться его сердце. Второго Сашу откопали через час на самом дне – он сидел на корточках, обняв голову руками – пытался защититься от многотонного земляного оползня.
Рабочие знали, что первый – точно студент, видно же: мальчишка, и по документам, найденным в кармане – 17 лет. А второй парень, говорили, не такой молодой, на вид лет 26, а то и старше. Оказалось: всего восемнадцать. Качали головой: «Тут за секунды стариком станешь… Знать бы, где упасть – соломки постлать. Несчастный случай».
– Не несчастный случай – а криминал в чистом виде, – строго поправили в Инспекции государственного строительного надзора при Минстрое. – Опасные земляные работы проводились в тёмное время суток, на глубине, под дождём. Должны были учитываться требования: наряд – допуск, присутствие прораба, освещение, укреплённые стенки дренажа, средства защиты, каски, спецодежда. Не говоря о заключении трудового соглашения. (Хорошие, правильные слова – но где же вы были со своей инспекцией и надзором раньше?!)
И эмоционально воскликнули:
– Да за такое бы расстреляли в советское время!
Это в советское время. А нынче попробуй найти концы. За семнадцатиэтажный дом отвечает компания «Титан» – она заключила договор с застройщиком ООО «Росстрой». То препоручило работы субподрядчику ООО «Крепь». Которое, в свою очередь, наняло частное лицо «Ш. Е. В.» Вот это частное лицо и привлекало дешёвую неквалифицированную рабочую силу в лице гастарбайтеров, мужиков, зарабатывающих на бутылку, студентов, зарабатывающих на мобильник. (Частник, скорее всего, и будет объявлен стрелочником и козлом отпущения).
Просто дом, который построил Джек. А вы думали, отчего в России цены на жильё зашкаливает все мыслимые пределы? Чем запутаннее схема, чем длиннее цепочка таких «ШарашМонтажКонтор» – тем дороже квадратный метр и тем – на другом конце цепочки – дешевле копеечный труд шабашников.
Если бы в России такие цепочки опутывали только жилищный бизнес! Коммунальные услуги, продукты, лекарства, даже заказы на крупных заводах (у меня муж заводчанин – знает) – пока они покувыркаются в сотнях липких ручонок и дойдут до потребителя – конечная цена взлетает в десятки, в сотни раз.
Надо же кормить армию присосавшихся с десяти сторон дармоедов. Какое им дело, что в самом низу пирамиды мальчишка, вчерашний ребёнок, студент культпросветучилища вышел на работу, не имея ни малейшего представления о технике безопасности. Быстрее (за счёт качества), дешевле (за счёт кармана работника), прибыльнее (для своего кармана) – три кита дикого российского капитализма.
И попробуй кто выскочи из заколдованной замкнутой цепи, осмелься наладить контакты напрямую, в обход посредников – тебя тут же жёстко вышибут как лишнее звено. Всё схвачено на самом верху – там тоже кормятся с той цепочки.
…Рабочие жали плечами, дескать: «Гибли люди на стройках – и будут гибнуть. Сыпалась земля – и будет сыпаться. В России же живём». Появившийся на строительной площадке человек (не в рабочей одежде) бросил корреспондентам: «Всё руководство на планёрке. И вообще, прекратили расспросы, а то вызову охрану».
Как всегда, информация просачивается струйкой. Даже родственники (я имею в виду не данный случай, но приходилось сталкиваться) в подобных ситуациях стараются избегать общения с журналистами. Ну, растрезвонит о ЧП газета – люди прочитают и забудут. В обмен же на молчание им обещают скупые отступные: хотя бы плохонький памятник поставить. Искать правду бесполезно: в итоге ни памятника, ни правды.
Корреспондентов спугивают и гонят, как назойливых воробьёв. И везде отвечают: «Идёт следствие, пока рано говорить о случившемся». А по мне, так неисправимо поздно. Отношение к наёмным работникам в России XXI века, по уровню скотства, скатилось на несколько веков назад.
…Спустя два дня студенты колледжа собрались у морга, куда приехали за телами родственники. Двух Саш, таких ярко начинавших артистов, проводили в последний путь аплодисментами.
Да, а будущие жильцы многоэтажки, что вполне объяснимо, очень переживают, волнуются, тревожатся, у них просто изболелось сердце. Существует ли после обвала угроза дому? Не появится ли в стенах трещина? Не повлияет ли, не дай бог, случившееся на сроки ввода дома в эксплуатацию?!
– Не повлияет, – успокоила строительная компания нервных новосёлов. – Заселение произойдёт ровно в назначенное время. С 10 октября планируется начать приглашать дольщиков для приёмки квартир. Никакой угрозы дому нет. Несущие конструкции не пострадали.
Так что инцидент исчерпан, практически удалось избежать досадных издержек. Не считая досадной издержки в виде двух юных жизней.
А-а-а, или конец света
– Скоро конец света, а мы совершенно не готовы, – упрекнула за завтраком хирурга, ныне пенсионера Коновалова, его жена. – Вечно тебя приходится просить, сам ни за что не догадаешься. Все приличные люди давно приняли меры, одни мы как не знаю кто… Вон, Парамоновы в болоте всё лето рыли землянку. И на огородик торф бесплатный, и после конца света отсидятся – не охнут.
Козюковы купили снегоход «Буран» – с чего бы? Тоже, небось, есть домик – сам чёрт не сыщет. Синицыны каждый день в багажнике продукты возят: интересно куда? И берут всё консервированное, не скоропортящееся, всё ящиками да коробками, да упаковками. Мне Дуся из супермаркета говорила.
– Беда с этим концом света, – кряхтя, размышлял хирург-пенсионер Коновалов. – Все как с ума сошли. Вон, в нашем роддоме решили извлечь из надвигающейся катастрофы практическую пользу. В предродовых палатах есть женщины, которые неделями перехаживают и не могут разродиться. Так специально для них включают телевизоры, канал ТВ-3. «Апокалипсис» с ведущим Марамышкиным.
Женщины как посмотрят – так: «А-а-а!» – и готовы. В тот же момент благополучно распечатываются. Младенцы сыплются горохом, только успевай подхватывать. Никаких капельниц, никакой стимуляции.
Минздрав предлагает взять положительный пример на вооружение. Акушеры из соседних областей ездят перенимать опыт. Даже заграница интерес проявила, на днях прилетает делегация.
Коновалов тяжело вздохнул. Он любил после смены (подрабатывал на полставке) поваляться на диване, пошевеливая свободными от носков пальцами. Потрястись в мелком жирном смешке над «Интернами».
А тут под неумолчное жужжание супруги придётся влезать в телогрейку и сапоги, разогревать машину… Переться к чёрту на кулички в холодный чёрный лес, что-то заготавливать…
Но раз жене в голову втемяшилось – попробуй пикни слово против. Последуют разрушительные тайфун, торнадо и землетрясение в одном флаконе – никакому апокалипсису не сравниться.
В начале зимы в укромном местечке (не скажем где), подальше от любопытных глаз, у Коноваловых была готова сторожка с глубоким погребом. Рядом желтела и источала древесный аромат свежая поленничка.
В радиусе километра были устроены тайники. В них канистры с бензином и соляркой, спички, свечи, минеральная вода, тушёнка, рыбные консервы, медицинский спирт, цибики чая в термической плёнке и прочее.
Супруга Коновалова просматривала газеты в поисках объявления о продаже подержанного снегохода по сходной цене. И тут в квартиру ввалился обезумевший, весь в снегу, Коновалов – он раз в неделю ездил навещать избушку.
– А-а-а! Всё к чёрту, к чёрту! Сколько времени, сколько сил! Труд трёх месяцев! Медведи проклятые! – он рвал лохматую шапку, раздирал на груди дублёнку, ревел и сам был похож на медведя.
– Боже, что такое?!
– Схроны! Учуяли животные… Медведи или росомахи… Всё разорено, всё пропало! Консервы пришлёпнуты лапой, всё выдавлено, съедено, утащено… Испоганено!
– А-а-а! – в унисон заголосила жена…
Студент Кошкодавов написал заявление об освобождении от занятий с 19 по 21 декабря 2012 года. Указал причину – грядущий конец света.
В деканате поперёк заявления цинично черкнули: «Отказать. Причина неубедительная».
Кошкодавов сбегал в поликлинику, пожаловался на остеохондроз – дали больничный. В деканате причину нашли убедительной.
Бизнесмен Безденежных набрал безумных кредитов (всё равно не возвращать) и выполнил давнишнюю мечту: поехал с дорогущими худыми моделями в загородную гостиничку.
Разочаровался и махнул рукой: «А-а», ещё раз убедившись, что лучше его удобной, мягкой и упругой, как перина, принявшей формы его тела жены, ему не сыскать.
21 декабря часы показывали без чего-то двенадцать ночи. Журналистка Левоногова строчила хронику: «Последние часы перед концом света». Потом задумалась:
– А для кого это, интересно, я пишу? Читать-то будет некому.
Стенка рядом осыпалась штукатуркой, шевелилась и трещала как живая. В неё ритмично торкалась двуспальная койка. Это в соседней квартире юная пара Кошкодавовых три дня никуда не выходила и занималась бурным сексом. Напоследок перед концом света.
Левоногова вздохнула и плеснула в бокал остатки шампанского. Она решила, что запечатает хронику в пустую бутылку. Через миллионы лет её отыщут, поместят в музей и будут расшифровывать осьминогие головоногие археологи.
И вдохновенно строчила, аж клавиатура трещала. «Человечество доигра-а-А-А!..»
Страшный грохот на улице перепугал квартал. Началась паника, вопли, кто-то пытался выброситься с балкона. Вереница закутанных в простыни сектантов с ангельским сладкоголосым пением прошествовала в сторону кладбища.
Оказалось, ничего страшного. Это бомж Бухалов по пустынной улице с грохотом тащил золотой унитаз. Он его выковырял в брошенной квартире бизнесмена Безденежных. На стук бомжа в «Приём цветмета» – весёлый пьяненький женский голос крикнул за закрытым окошком:
– Приёма нету! Чиво, совсем народ рехнулся, чиво ли? Конец света, а они тащут и тащут, тащут и тащут.
Голос сильно напоминал подружкин Полькин. Рядом с ней за закрытым окошком раздалось мерзкое мужское гоготанье.
С горя Бухалов спустился в родной люк теплотрассы. Там, по-королевски воссев на золотой унитаз, он вынул увесистую бутыль медицинского спирта. А также с глухим стуком высыпал из мешка банки с тушёнкой и рыбными консервами.
Не далее как неделю назад, ходя за мороженой клюквой, он провалился в яму. Яма оказалась битком набита консервами.
Открывалки, само собой, у Бухалова не было, а нож он нечаянно потерял в сугробе. Трясущимися с похмелья и голодухи руками он долго лупил камнем-голышом по банке. Она сплющилась и выдавила немного мясинок и мутного сока.
В пять заходов, в течение пяти дней, содержимое этой и близлежащих продуктовых ям-тайников переместилось под бухаловскую теплотрассу.
Всю ночь Бухалов пировал, урча от удовольствия, как медведь. Для полного счастья только не хватало рядом толстой, чумазой и горячей, как печка, Польки.
Утром он проснулся от сильной жажды и выполз наверх. Горстями сгребал пушистые, как пирожные «зефир», снежки и кидал в мохнатый рот.
Начинался новый день. Вставало зимнее солнышко – румяное, умытое и хитрое – как девчоночья физиономия, как у Польки сорок лет назад.
Прокладывало в пухлых снегах ровную розовую дорожку из пыхающих огоньков, искорок – будто толсто посыпали битыми стекляшками. Будто тыщи всяких бутылок: красных пивных, белых водочных, зелёных шампанских, синих из-под портвейна (его уважала Полька) – не жалея расколотили и искрошили меленько, в сверкающую пыль.
Стояла такая тишина, что в морозном фиалковом воздухе слышно было хрупкое потрескивание ломающихся и осыпающихся игл у редких невесомых снежинок. Деревья замерли в голубых, лиловых, серебристых меховых шубках.
Полька не могла на такие шубки наглядеться. Вечно тянула Бухалова к витринам, откуда их неизменно с руганью прогоняли охранники. Эх, Полька, изменщица Полька!
…Деревца замерли, боясь шевельнуться, стряхнуть с себя эфирный наряд. Измученный ночными переживаниями, город спал и не видел этой фантастической неземной, девственной, первозданной, новорождённой красоты.



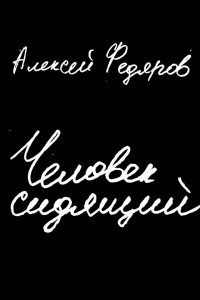










Комментарии к книге «Бандит, батрак», Надежда Георгиевна Нелидова
Всего 0 комментариев