Михаил Стрельцов Храм превращается в плацебо
Боб
Восьмилетний Боб был старше на два года. И по собачьим меркам я мог считаться его внуком. Потому играл, слегка дурачась, в половинку силы: хватал конец палки цепкой челюстью – и тянул, присев на задние лапы, делая вид, что твёрдо намерен вырвать. Мелкие ровные зубки и вогнутые крючки клыков – белоснежные, словно чистил пастой! В доброжелательных сливах зрачков внезапно проскальзывала почти человеческая ехидинка, прямо перед тем, как внезапно разжимал пасть. Отчего я, тянувший с другого конца, должен был хлопнуться в траву. И тогда, победоносно тявкнув, пёс оказывался подле, взгромождал на плечи лапки с чёрными пружинками подушечек, и принимался приветливо облизывать лоб. Было щекотно и слюняво. Тем не менее, я наловчился улавливать ехидный миг в зрачках, и старался отпустить палку первым. И тогда Боб недоуменно приседал, притворялся побежденным, игриво заваливаясь на бок, а я начинал чесать ему холку и за ушами. Пёс медленно, неуклюже даже переваливался на спину, подставляя мускулистый тёплый животик, чтоб его и там почесали.
Вероятно, вначале его назвали Бобиком, но, вымахав, заставил прежних хозяев вызвать к себе уважение и изменить имя на солидное. В действительности: захоти он, то отобрал бы у меня махом ту палку. Помимо куцей бульдожьей челюсти имел и другие признаки боксёра: сильные плечи, упругий и гладкий торс, уверенно стоящий на лапах, словно выросших не под телом, а вдоль него. Ушки торчком и объёмные глубокие глаза, в которых, не было породистой надменности. Они были светлыми, где-то даже зелёными, будто только что вымытые летним дождём. Крупная дворняга, одним из предков которой, вероятно, был колли, проглядывала в Бобе не только тёмно-рыжим окрасом, но и в шее с царской горбинкой, и, конечно же, в совершенно не куцем, а прямо глядящем пятаке носопырки. И уже – само собой – характером псина задалась не в благородного дона, а в беспородных папашу своего или мамашу. Пёс действительно напоминал боб: упругий, покатый, продолговатый, твёрдый и юркий, мог выскочить из скорлупы будки с такой резвостью, что осмелившийся оказаться в пределах досягаемости чужак вряд ли бы успел отскочить.
И хотя свою службу на цепи пёс нёс исправно, я бы не сказал, что был он прямо-таки вундеркиндом, скорее наоборот – приветливым, как большинство деревенских дурачков. Иные собаки переставали брехать, когда ты ещё только подходил к калитке, узнавая твой запах из-за забора и приветствовали затем с видом преисполненной достоинства стражи у княжьего крыльца. Боб же надрывался в ошейнике – даже когда уже окажешься во дворе, попадая в пределы видимости. И только несколько шагов спустя, пёс тебя признавал, начинал виновато суетится, переминаясь лапами, а прут хвоста дребезжал и вихлялся по немыслимым траекториям.
Вообще-то подобным породам, как и их незадачливым отпрыскам, хвосты при рождении принято купировать. На нашей же городской окраине никто подобной ерундой себя не беспокоил: что вышло, то вышло – лишь бы дом охранял, да где попало не гадил. К тому же единственное ветеринарное заведение находилось, как чёрт закинул: не знаешь, так и не найдешь. Оттого Боб напоминал несуразного маленького львёнка, потому как кончик его голого рыжего прутика заканчивался небольшой волосяной кисточкой. Да ещё и достался бабушке уже взрослым, с таким вот хвостом.
Раньше баба жила в другом конце города, деда умер два года назад, и избушка совсем покосилась и захирела. Мы же и Рыжиковы – две семьи – обосновались в пригородном посёлке Шоферском, название которого говорило само за себя. Неподалеку завод керамзитного гравия, автобаза городских мусоровозов да глиняный разрез кирпичного завода. И всё же дома здесь поновее, построенные не более двадцати лет назад. Вот дочки и присмотрели матери домишко подле себя, перевезли мою бабушку, как та ни упиралась, а соседи по какой-то причине и псом одарили, взяв себе собаку помоложе.
Полагаю, не оттого, что я оказался у неё одиннадцатым и самым младшим внуком, а в силу прескверного характера баба Наташа нисколечко не походила на тех шаблонных бабушек, что сверх меры потчуют пирогами и коровьим молоком. Никогда и никого баба не усаживала за стол, реагируя на твоё появление как на досадные заботы: словно муха в дом залетела либо комар. В доме имелось две небольшие комнаты, пройти в которые можно было только через кухню с финской печью. Стол всегда чистый: ни ложек, ни крошек. В зальной комнате стол под кружевной скатёркой с пустой вазой и фотографией деда в рамочке. Окна постоянно плотно задёрнуты шторами, а на комодах – горшочки с алоэ.
В левом дальнем углу горела лампадка под иконой, изображавшей женщину с младенцем. Немногословная, бабуля порой громко отрыгивала икоту, при этом крестила рот, приговаривая: «господипростисогрешила» скороговоркой. Всегда в валенках, опоясанная шерстяным платком вокруг поясницы, в заношенной жёлто-зелёной кофте с пуговицами со свиной пятак величиной, маленькая, грузноватая, постоянно бродила из комнаты в комнату, прихрамывая на правую ногу, и отрывисто приказывала: это не трогай, туда не лезь. В своём вечном кирпичного цвета платке и мужских тесных очках на резиночках, с тяжёло опавшими уголками губ она напоминала неопрятного смотрителя в деревенском музее, куда заходят лишь затем, чтоб переждать жару или дождик. Телевизора баба не имела из принципа, и даже оставшийся от их с дедом совместной жизни подарила на свадьбу Ленке Рыжиковой. Была чуть глуховата, оттого радио в доме трещало громко, и не переставая: от гимна до гимна.
Оттого, приходя к бабуле, в доме я не задерживался подолгу: здоровался, обозначая своё присутствие, спрашивал про самочувствие, как просила мама; несколько минут стоя, ибо присесть не предлагалось, выслушивал её ворчание по поводу того или иного родственника – тот напился, а этот живёт с кем попало. А поскольку из пятерых её детей в живых осталось три дочери, а две оказались поблизости, больше всех доставалось старшенькой, Хвидоре, и её соответствующим фамилии рыжеватым и огрублённым – словно неряшливо натёсанным – сыновьям, Тольке и Сашке. Надо сказать, что повод они давали. Ещё не закончивший школу сухопарый конопатец Саша уже обклеил двери в своей комнате этикетками от выпитых им портвейнов, а готовящийся к армии Толя предпочитал водочку, после которой с наслаждением поколачивал свою беременную жену либо гонялся с топором за отчимом по огороду.
Перехватив бабулю на паузе, говорил, что пойду во двор поиграть с Бобом, и на час-полтора она забывала о моём присутствии. Затем, словно спохватившись, выхрамывала на крыльцо и начинала мной распоряжаться. Некоторые хлопоты я не понимал. Известно, зачем нужно натаскать в баню дров и воды, мы сами приходили к бабушке в баню, поскольку свою перестраивали. Ясно, для чего нужно было слазить в пахнущий плесенью погреб – бабуле захотелось солёненького, особо предпочитала квашеную капусту с редькой. Но зачем нужно было переставлять инвентарь в сарае с места на место? Сама бабуля огородом не занималась, мы ей и копали, и садили, и снимали урожай; скотины, кроме кур, не держала, и я был уверен – в сарай не захаживала с момента переезда. Но сколько вил, тяпок, лопат на месте, не пропало ли чего – ей обязательно надо было знать.
Пока я возился и склонялся к мысли, что пора бы и линять по направлению к домашним, где чего-то можно и пожамкать, покачаться в гамаке и дожидаться с работы маму, Боб изредка поскуливал, перебирая передними лапами; принимался грызть кость с оглядкой в мою сторону, недоумевая – отчего я законопатился в стайку для бесполезных занятий вместо того, чтобы играть с ним…
Последнее длинное предшкольное лето на Шоферском тянулось бесконечно: я шатался с утра до вечера где желал, предоставленный сам себе, бездельничал и только позже понял: то было самое что ни на есть счастье – уютное тёплое и безразмерное. Но оно было скучным. Телевизор быстро надоедал, картинки в книжках не изменялись, как мультики; родители с утра уходили на работу и меня с собой не брали, как ни просился. Однажды отец, устав от канючек, взял всё же, но там было ещё скучнее. Экскаватор просто копал глину и вонял мазутом. Вокруг было грязно, муторно, запустело, и даже местные – разреза – прикормленные собаки со мной не играли, а уныло валялись в тени, зевая и сонно выгрызая из шерсти репей. Детей на нашей улице было немного, и почти все куда-то на лето подевались. Кроме вертлявой Паулины в самом первом доме у трассы в город. Но родители похвастаться передо мной коллекцией фантиков от конфет её без присмотра отпускали ненадолго, а ещё они держали гусей. И когда те выходили на прогулку, я спешно ретировался, потому что самый главный гусь меня не любил. Завидев, начинал хлопать себя крыльями по бокам, изгибать шею, словно подкрадываясь и намереваясь цапнуть за пятку. Оттого, кроме Боба, друзей тем летом у меня не оказалось. И у него, помимо бабули, выносящей ему в миске месиво из невкусных каш и хлеба, знакомых не наблюдалось. Неудивительно, что он радовался моим посещениям, и, отбросив свои собачьи дела – грызть кость, гавкать и дрыхнуть в будке, – увлеченно следовал всем моим ребячьим придумкам.
С нетерпением я ожидал выходных, когда мама не ходит на работу и варит супы с мясом либо печёт блины. Я умолял её положить в борщ именно кость, чтобы затем вместе с другими объедками отнести бабушкиной собачке. Не отказывался Боб и от позавчерашних блинов, заглатывая их с достоинством. Мама же сердилась, когда сообщал, что пошёл не к бабушке, а поиграть с Бобкой. Но зря: я не отводил бабушке вторую роль. В моём представлении они вместе, и Боб, и бабуля, являли картину целого, неизменного, словно так и появились на свет, друг от друга неразделённые. К ним прилагались и домотканые половики в доме, и высокое зелёное крыльцо, и финская печь без дверцы и поддувала. Баня всегда была с ними, огород, погреб, стайка, летняя кухня, где мама с бабулей шинковали и засаливали капусту по осени тазами и стоял маленький, глубокий и пропахший пылью диван, где я иногда дремал в жару. И вытоптанный у будки грязноватый пятак среди лужайки, где после дождя собиралась лужа и марала Бобу лапы и хвост, – также был сопричастен общей картине.
Доставшуюся ему нелепую кисточку Боб использовал умело: свернувшись подремать, отгонял ею мелких мушек, липнущих на уголки глаз. А когда она огрязнялась и засыхала коркой, расчёсывал мелкими, частыми, чуть ленивыми покусываниями. И однажды, не рассчитав, взял да и откусил. Другое его наследие – ровные острые зубки с косыми клыками, никогда никого не укусившими, – сыграло злую шутку. Мне очень жаль было той забавной кисточки, утешало только, что этого никто не заметил: ни мама, ни бабушка, ни Рыжиковы, да и самому Бобу, казалось, всё равно – есть у него кисточка на хвосте или нет её.
Случилось то после дождей в конце июля, а в начале августа солнце, спохватившись, начало одаривать полноценным летом. Толька Рыжиков поехал на рыбалку, задремал сидя и дефилировал ныне с полосатым животом, где полоска белой кожи чередовалась с полоской загара. Подсолнухи в огороде распрямились, налились, растопырили яркожёлтые ободки, предвещая скорое семя. Комары спрятались и оживилась мошка. Она липла на подживающую коросту кончика хвоста изнывающего от зноя Боба. Тот раздраженно тыкал в неё носом, облизывал и покусывал, расцарапывая. Ранка щипала, начинала отвлекать. Порой, во время обычных наших игр, он на несколько секунд переставал меня замечать, разворачивал изогнутую, но куцую шею, рассматривая маятник хвоста, и прыгал за ним. Хвост, конечно же, прыгал вслед за Бобом, прятался под задние лапы, и пёс о нём забывал. Тем более, если предстояло со мной играть: тянуть палку, гоняться за мячом…
В какой-то из дней так же начал следить за хвостом своим, изготовясь к прыжку, а я, нетерпеливый, потянул к себе за шею, привычно сгребая в горсть тёплые складки под ухом, намереваясь ласкать, чесать, как он любит. Но собака внезапно отхлынула, огрызнулась, хватая зубами воздух, где только что болталась моя ладонь. Испугаться я не успел, решил, что это какая-то очередная игра, потому как Боб в следующую секунду вновь стал жизнерадостным и льнул ко мне, подставляя бок и виновато облизывая запястье.
Так получилось, что через пару дней я на недельку уехал. Папа пошёл в отпуск и, решив навестить свою сестру в Канске, взял меня с собой. Это был новый город с кучей впечатлений, с огромным кинотеатром и светофорами. Деревянные дома вековой давности казались необычными и рассказывали, что не всё так просто и поверхностно в жизни, как нам объясняли в детском саду. До революции была ещё какая-то жизнь – основательная, не без изяществ, а не так, как выходило по этим рассказам: динозавры, запустение и сразу хоп – светлая эра социализма. Под впечатлениями я совершенно забыл про Боба. И только на обратном пути, в поезде, представил, как он мне обрадуется. Как я буду почёсывать, гладить его и рассказывать о том, что нового увидел, о чём думал; о том, как охранял вещи на вокзалах, пока папа стоял за билетами в кассу; о том ещё, как в электричке было разбито окно и сильно дуло. Я всегда рассказывал Бобу о своих делах, в том числе и о злом главном гусе, и мелкой Паулине с фантиками. Но мама сказала, что Боб заболел, и когда пойду к бабе, просила, чтобы я к нему не подходил. Это было странным, поскольку взрослые всегда говорят много странного и ни к чему не обязывающего. И, конечно же, я бы даже не подумал прислушиваться к маме. Мне рвалось, не терпелось увидеть дружочка и отнести ему косточек, поскольку к нашему приезду мама сварила лапшу с курицей.
Не насторожился и когда не услышал привычного лая, открывая калитку. Боб лежал в будке и никак не отреагировал на моё появление. Выложив кости в миску, принялся его звать, протягивал косточку, он словно не слышал. Расстроенным зашёл к бабушке, надеясь хоть ей рассказать, как съездил в Канск. Бабуля немного послушала и начала ругать Ленку Рыжикову, которая недавно родила и целыми днями только и делает, что катает по Шоферскому коляску с ребенком, не стирает, не готовит, а трещит с подружками. Насчёт Боба сказало только: «К собаке сегодня не ходи!». Не знаю почему, но бабушка никогда не звала Боба по имени, а только «собака». Давно закрадывалось подозрение, что она его просто забыла.
И только выйдя во двор с нашим слегка пожёванным мячиком в руках, что подобрал в сенях, я увидел пса. Боб играл, кружась, притопывая, вокруг своей оси, повизгивая и изредка лая. Он по-прежнему не замечал меня, и хотелось уже побежать, обнять, повалить, потискать, рассказать, как внутри образовался ровный сгусток спокойствия, а нисколечко не страха, когда два здоровенных парня на вокзале принялись оттирать от вещей. О том, как, набычившись, вцепился в ручку тяжеленной сумки и сказал им, чтобы уходили, а то позову папу. И кивнул на какого-то незнакомого огромного мужика сидящего на скамейке неподалёку, совсем не похожего на моего тщедушного и сухопарого папулю в очках, стоящего за билетами где-то в другом зале. Как те парни стушевались и мигом исчезли. Я никому не рассказывал про эту мою внезапную находчивость, которую считал чуть ли не геройством, даже отцу. Я хотел рассказать о ней Бобу, ведь он же сторож, он должен был понять и оценить.
Но, спустившись с крыльца, внезапно почувствовал именно такой же сгусток спокойствия, стирающего холодком все эмоции, словно хороший ластик карандашную линию. Не знаю как, но понял, что Боб вовсе не играет. В нём всё стало неправильным. Он должен был уже унюхать, засеменить навстречу, подтявкивая и припадая на лапы от нетерпения. Но этого не происходило, собака, как прежде, отрешённо кружилась на месте, никого не замечая. Но ещё более неправильным был в запёкшихся красных укусах огрызок хвоста. Больше не напоминающий гибкий прутик. Нарост размером с большой палец, разбухший от воспалений, неприятно и ало смотрелся на заду собаки, словно выглядывающий обломок кости из мяса на рыночном прилавке. Постепенно, день за днём, час за часом, стараясь унять жжение заживающей раны, Боб откусывал свой хвост маленькими кусочками до тех пор, пока уже не смог дотянуться до его остатка. И недосягаемость, невозможность повлиять на причину боли возмущенным раздражением пробегала по его рыжеватому тельцу, от мощных плеч до нетерпеливо подрагивающих коготочков. Было в этом даже чуточку комичного, мультяшного. Но только до тех пор, пока пёс не повернулся в мою сторону.
Бросился не сразу. И это спасло. Потому что словно лом к земле приковал. Вкопанным – не узнавал его взгляд. Некогда улыбчивые зеленоватые зрачки потеряли осмысленность и утонули в красноте. От напряженной, выматывающей погони за фантомом хвоста – в глазах полопались сосуды, избороздившие пространство их молниями. Сквозь сетки трещин ещё проглядывало нечто знакомое, мимолётное узнавание меня, мольба о помощи. Первые прыжки Боб совершил именно как к спасителю. Тому, кто если не избавит от страданий, то хотя бы пожалеет. Но за миг фигура подобралась, словно волна пробежала по мускулам: я чуть ли не в действительности разглядел несуществующую гигантскую руку, которая сама по себе в воздухе погладила моего пса, проводя чёрной ладонью от макушки до огрызка. И неслось уже незнакомое чудовище на цепи. С безумным взглядом и хрипло лающее. И если бы я оторопело не отступил на пару шагов, вывернутая к земле, приплюснутая голова с поджатыми ушками, напоминающая главного гуся, врезалась бы мне в колени, повалила с ног… Брызгая слюной, выплёвывая лай, Боб ненавидяще тянул пасть из ошейника, задыхаясь, но не отступая. Мячик из рук выпал сам по себе, и пёс моментально вгрызся в него, прижимая лапами, кусая и мотая во все стороны. В другой ситуации это могло выглядеть игриво и забавно. Но тут я заревел.
Завыл белугой, слёзы противно рванулись по щекам. При этом не было никакой обиды, страха, а нечто большее, невероятно неисправимое сжало изнутри и давило глаза, как сок из лимона. Я уже чётко знал порядок мироустроения: если заплакать, то родители исправят то, что мне не понравилось. Но тут плакал, скорее, от бессилия. А ещё – глубоко – от чувства вины. Подумалось вдруг, что если бы не уехал, если бы не гулял с папой по Канску, ничего бы не произошло: я как-то, наверное, мог бы повлиять, чтобы дружочек мой не изменился на ненавидящее всех существо. На крыльце образовалась бабуля с костыльком, который брала с собой всегда, когда выходила из дома. Она подняла его и замахала в никуда, в воздух, но выглядело грозно.
– Ишь ты! Ну, на место! Дрянь такая! На ребенка кидается ещё! – сварливо, почти безэмоционально выкрикнула, но пёс отчего-то послушался и стремительно заскочил в будку. Будто и не было ничего, и только чуть сплющенный мячик у тротуара напоминал о кошмаре.
Мне показалось, что нашёлся тот, кто смог бы понять мою вину, мои сожаления, моё горе. Шмыгая, взобрался на крыльцо и уткнулся в бабушку, ожидая, что она погладит по голове, пожалеет. Но попал лбом в эту огромную пуговицу её, едва не оцарапавшись. А баба принялась отчитывать:
– А ты чего ревёшь? Сказано тебе было: к собаке не ходить?! Взбесилась скотина.
– Я не ходил… Мячик… – я возненавидел своё бесполезное блеяние, поэтому, наверное, беспрекословно подчинился самому из необычных бабушкиных распоряжений.
– Ты сейчас иди в стайку, – вытирая лицо мне краем грязного кирпичного платка, отрывисто приказывала. – Посмотри тяпки. Выбери самую гнилую. Выдергу возьми. Ржавые гвозди выдерни, а черенок вытащи. В банке там из-под селедки новые гвоздики лежат. Вбей их по краям палки. Друг напротив друга. Только не в гнилой конец бей! В целый. И мне принеси.
Это оказалось самым сложным поручением из всех, что мне доводилось от бабушки. Нет, тяпки я знал, можно сказать, в лицо. Потому сразу взял ту, что давно взбугрилась ржавчиной настолько, что потеряла одно из своих крайних заострений, а гвозди, крепившие её к палке, такие же обмусоленные красноватой пылью, разболтались наполовину. Раскачивая, их можно было выдернуть и голыми руками. А вот новые вбить, когда палка крутится и норовит выскользнуть из-под прижимающего её колена, – упарился, и даже дважды съездил себе молотком по пальцу. Боб наблюдал за мной от лужайки, словно в «старые времена», интересуясь, чем я таким интересным занят, что не соизволю с ним поиграть. Но Бобу я больше не доверял. Потому как наблюдал он молчком, без дружелюбных повизгиваний. Лежал, выставив лапы перед собой. Внезапно вскакивал, пару минут кружился, всё же пытаясь поймать уже несуществующий хвост, затем вновь укладывался в вытоптанное у будки, вывалив язык набок и тяжело дыша.
Ещё более необычно вела себя бабушка. Она пряла. Я и не знал, что у неё в доме есть такая старая и красивая вещь. Подсунув под себя гладкую полукруглую дощечку, из месива шерсти, привязанной к другой, изрезанной раскрашенными узорами в форме петушиных голов, она вытягивала толстую нить, вокруг которой по полу бегал тюрёчек – также ярко разукрашенный, с гладкими выемками для нити. И он был прекрасен! Красивее всех магазинных волчков и почти как самостоятельно выбирающий направление. Однако было в нём, привязанном к нити, и нечто бессмысленное, как крутящийся за собственным хвостом пёс во дворе. Оттого я принялся рассматривать петухов на макушке доски. Пока не понял, что и они меня пугают. Красно-каштанового цвета, безучастно взирали мелкими ладными дырочками вместо глаз; в некоторые отверстия были просунуты верёвочки, прижимавшие шерсть к доске, и петухи, раскрыв полированные клювы, словно вопили от боли.
Осмотрев принесенную палку с гвоздями, похожую теперь на неряшливую антенну, бабуля замечаний не высказала, наоборот, похвалила:
– Вот и сладно, – сказала, вновь взявшись за толстую нить, примеряя, повесив её петлёй. – Сегодня Сашка с Толькой зайти обещали. Они его и отведут.
– К врачу? – как о само собой подразумевающемся спросил, всё ещё любуясь скольжением тюрёчка по половику.
– К врачу, – согласилась бабушка. – К собачьему доктору.
И дёрнула нитку сильнее обычного, так что вёревочка в глазнице петуха натянулась. Она сделала долгую паузу перед тем, как согласиться, оттого я внезапно потерял интерес к старинной прялке и уставился на бабулю, впервые осознавая, что взрослые могут врать. Вот так: в лицо и не скрывая удивления в интонации. И бабушка, видимо, поняла, что я ей не поверил. Строго выпучившись за очками, сказала, чтобы не мешал и шёл домой. Как отрезала.
Будто только того и ожидая, Боб вновь кинулся на меня. Прижимаясь плечом к стене дома, держась поодаль от края тротуара, куда цепь не пускала пса, осыпаемый лаем, сжавшись и покачиваясь, еле добрался до калитки, внезапно ощущая некую запредельную усталость. Больше всего мне хотелось сейчас действительно оказаться дома, лечь в гамак во дворе и смотреть в раскачивающееся голубое небо, стараясь угадать, на кого похоже то или вон то облако. Но не мог, погружаясь в то тяжёлое марево, которое наступает перед глубоким сном. Внезапно Боб с сожалением взвизгнул вслед, как он всегда делал, прощаясь. Повернулся к нему, подпирая калитку спиной, и мы стали смотреть друг на друга. Поджимая ушки, припадая на лапы, пёсик вновь казался тем дружочком, которого я знал. Шагнуть к нему, погладить сейчас – казалось самым разумным. Возможно, это вылечит его: вернёт глазам прежний свет, успокоит рану от хвоста.
Но так и не сделал. По той же причине, что не пошёл домой. Ноги не слушались, наполнились ватой, и показалось, что даже начал понимать почему. Воздух во дворе бабушки стал иным. Лето, закатав подол, уже перешагивало ручеёк, оставляя нас до следующего года. От его сарафана ещё веяло теплом и сверкало подсолнухами, но и те уже склонили головы под тяжестью вызревшего груза. Берёза за оградой аккуратно перебирала резными листочками, как тётя Хвидора, работавшая бухгалтером, костяшками счёт. Но здесь, во дворе, ни ветерка, меж приятно вдыхаемого и знакомого вкуса вились немного другие, горьковатые и серые струи, оплетая пространство. Превращая нависшую над лужайкой атмосферу в утяжеленный мутноватый столб. Как будто гигантский невидимый слон опускал над нами ножищу, придавливая и затемняя обзор.
Крохотным существом своим ощущал я, что в бабушкином дворе поселилось новое, непонятное, способное из ниоткуда вытащить чёрную, огромную ладонь и в любой момент погладить несчастного Бобку. Именно такое, чего бы я не хотел знать и видеть. И когда из-за ограды раздались бойкие матерки и сверкнули подпалины макушек братьев, цепкость чьего-то присутствия ослабела. Где-то внутри обрадовался, вновь ощущая способность шевелиться, но, с другой стороны, стало ещё страшнее. Я знал, что Рыжиковы идут к бабе, и та расскажет им, как поступить с Бобом. Но боялся даже уже не за собаку. Мне становилось страшно за них, шагающих в этот двор, где сквозит могилой.
И за себя немножко, потому как Толя общался со мной исключительно при помощи подзатыльников. И что бы там ни было, лишний раз попадаться ему на глаза желания не возникало. Притом я пребывал в уверенности, что взрослые люди всегда знают, как поступать, что правильно, что нет; у них в обиходе больше слов, они больше видели, многое знают, потому могут договариваться и переубеждать друг друга. Во мне же ощущения никак не оформлялись в подходящие слова, от них чаще всего отмахивались, подзатыльниками от братьев в том числе, и не припомнил момента, когда бы мог кого-то из них в чём-то переубедить. А порой из меня вылетало, неслось впереди мысли. И только произнеся, мог приурочить слова к тому, что чувствовал. И выходило совсем не про то. А тут – тем более. У меня не было пока решения, я не знал, чем помочь Бобу. Ожившие ноги думали за меня, и, не покидая ограды, проскользнул между грядок с засыхающими кустиками виктории, и спрятался за дом.
Там был небольшой заброшенный участок, на котором ничего не сажали. Когда-то там, видимо, было небольшое строение, от которого остался только заросший осотом фундамент. Прямо надо мной теперь приятной тенью сгустилась кроной берёза, резные листочки продолжали отчитывать время на счётах. Усевшись на землю, спиной к стене дома, вначале пытался расслышать, о чём в нём бубнят, но не разобрал ни слова. Сквозь штакетник можно было видеть клюющих траву бабушкиных кур, неспешно прогуливающихся по бровке. За небольшой канавкой – пустынную дорогу Шоферского, где люди проходили настолько редко, что вызывали своим появлением удивление. Одинокий вялый комар попытался укусить в колено, я прихлопнул его мимоходом. Но, разглядывая изогнутый червячок его тельца на ладони, представляя, что потом бы нога чесалась, вспомнил внезапно, как она чесалась прошлым летом, когда упал на щебенку и расцарапал коленку. Мама тогда помазала её зеленкой, под которой наросли зудящиеся коросты, и чтобы я их не расчёсывал, сверху наклеила лейкопластырь.
Время от времени с обратной стороны дома доносилось шебуршание цепи, глуховатые рыки-взлаи собачки, и я понял, что нужно сделать. Бобке надо смазать хвост зелёнкой и обмотать лейкопластырем! Но как только об этом подумал, на крыльце зашумел хрипловатый старший из Рыжиковых:
– А чего здесь – нельзя? Вон за домом, где пороси воняли – и зарыть.
– Заразу хочешь оставить? – как каркнула бабушка. – Ведите в лес, давайте!
– Ну не знаю, – почти незнакомый мягко в нос голос. Сашка слыл молчуном, разговаривал редко, только с прищуром улыбался холодновато, отчего его рыжеватые, вступающие в силу усишки удлинялись по-тараканьи. – Стрёмно как-то. Я их не давил никогда.
– Вчера курицу задушил. Сегодня на дитё кинулся. Это как? – заметил, что за бабой всегда оставалось последнее слово.
Потянуло дымком, братья закуривали, и вроде даже продолжали с ней спорить, но уже не было слышно: Боб внезапно облаял, загремел цепью, а потом… взвизгнул от боли.
– Да не пинай ты его! – внезапно заорал Толька. – Держи лучше! Я отцеплю.
И тут я понял, что тёмно-червивый воздух никуда не исчез. Он притаился на крыше и теперь падает на меня, похожий на сугроб вперемешку с угольной пылью. Внезапно захотелось вскочить, побежать, раскидать их – чувствовал, что могу, что настолько стал сильным. Затем схватить Бобку и бежать с ним по пустой улице, унося подальше, вздымая над головой, предлагая дышать новым, свежим пространством. Картинка настолько отчётливо и пугающе пронеслась в голове, что обмер внутри, стал пустым на секунду. Из этой пустоты стремительно росли досада пополам с растерянностью. И только когда сквозь штакетник замаячили плотные фигуры, как-то странно толкавшие, почти волочившие что-то, я спохватился и выбежал за калитку.
Боба вели при помощи того самого черенка, что я выдернул из старой тяпки, на гвоздях крепилась плотная петля, не позволявшая ему отказываться от движения и приближаться к ногам. Вначале упираясь, пёс, похоже, смирился, что надо идти. Засеменил, свесив язык, норовя свернуть с дороги на бровку, где удивлённо таращились на него куры. Обхватив палку двумя руками, цыкая ругательства, Толя пихал собаку перед собой, а Сашка, как обычно, вяловато и чуть покачиваясь под матроса вышагивал следом. Припустив за ними, я закричал:
– Куда вы его тащите! Не надо! Нужно зелёнкой помазать!
Толя обернулся, свернув физиономию в брезгливость со словами: «Этот ещё откуда?». А я бежал и вопил:
– Не убивайте его! Пожалуйста! Ведь вы не его, вы себя убьёте. Его вылечить можно!
И так удивился тому, что выкрикнул, что нисколько не сопротивлялся, когда сильные руки Сашки поймали за плечи. Я не знаю, почему решил, что так и будет. Но что так и будет – знал чётко, как и то, что зимой снег, а летом – тепло. Нависая усишками, Сашка спросил:
– А у тебя зелёнка есть? Ну, так неси!
Уставившись на его пахнущее портвейном лицо, я понял, как брат прав. У мамы же в шкафчике стоит зелёнка, и если я её принесу, то Бобу помажут, и всё закончится.
– Да! Я сейчас! Вы подождите. Сейчас! – развернулся и понёсся по направлению к дому.
Я бежал, как никогда не бегал. Грунтовка больно отдавалась в пятки и отсчитывала ритм в голове: «Спасти Боба, спасти Боба…». И только когда в боку закололо, обернулся и понял, что был обманут. Рыжиковы еле различимыми спичками фигур уже маячили у дома Паулины, где, должно быть, главный гусь провожал их, любопытно хлопая крыльями по бокам. За трассой, где на небольшой полянке, скованные бетоном по ногам, были распяты на проводах гигантские звёзды с разноцветными шишками на лучах, виднелся край леса, куда папа водил меня как-то по грибы. Там видел большой и красивый мухомор: точно такой, каким рисуют в книжках.
Уже знал, что если потом спрошу у братьев про Боба, они, честно глядя в глаза, скажут, что тот вырвался и куда-то убежал. И никогда о том, что случилось на самом деле. Я не понял, отчего реву больше: от жалости к пёсику или от такого наглого обмана. Плёлся домой, вытирая рукавом сопли, и взывал к пустой дороге. Ни души. Никто не выскочил, не спросил, что случилось, не догнал Рыжиковых, не остановил их… Было больно. Не знал почему, но было. Маме, как смог, пытался рассказывать, навзрыд трясясь, что Боба убьют, а надо было – зелёнкой. Она налила мне чаю и дала кусок рафинада, что делала только по праздникам. Облизывая его, посасывая, успокаиваясь, лёг в гамак и не заметил, как уснул.
На следующий день родители повели меня в город, в магазин, где покупали портфель, школьную форму и тетрадки. Оказывается, папа ещё в Канске купил необычный пенал – таких не было в нашем магазине. Помимо ручек разных цветов, в нём была строгалка, круглый ластик, маленькие ножницы и даже указочка для чтения. Перебирая внезапно свалившееся богатство, выводя на листочке то красной, то зелёной, почувствовал себя настолько взрослым, что понял: наверное, так было и надо. Боб бы содрал зубами лейкопластырь и не испугался бы кусать раскрашенный обрубок. Собаки не различают цвета – так сказала мама. Но к бабушке больше заходить не хотел. Только когда пришло время копать картошку, пришёл к ней вместе с родителями и, проходя, мимо пустой будки, чувствовал, как сердце начинает колотиться часто и тяжело. Бабушка огорошила нас новостью, что Сашка Рыжиков ушёл из дома и теперь живёт на соседней улице с Маринкой, что намного его старше. Её муж в армии, и Сашка чинит его старый, давно не ездивший «Жигулёнок».
В последние дни лета я заболел. И пропустил первые дни в школе. Вначале большим и указательным пальцами правой руки стало к чему-либо больно прикасаться, а как-то наутро они перестали болеть, но стали зёлеными. Мама ужаснулась и повела в больницу, где две тётеньки в белых халатах держали меня и руку, а третья резала по моим пальцам острым ножиком, выпуская тёмную, почти чёрную кровь ручейками. Я, конечно, дико орал, но больше от непонятности происходящего, чем от боли, потому что пальцы, перед тем, как позеленеть, ничего не чувствовали. А потом на левой коленке выступил огромнейший чирей, и меня опять повели в больницу. Разглядывая замусоленные бинты на руке и ноге, подумал, что этими пальцами держал молоток, а коленкой прижимал черенок от тяпки, когда вбивал в него гвозди. Хотел рассказать об этому кому-нибудь, но промолчал, потому что следующий чиряк вылез около паха и спутал все карты.
К нам зачастила тётя Хвидора. Держась особняком, чуть надменно – бухгалтер всё-таки, – ранее заходила редко и только по делу. Они что-то обсуждали с матерью: про засолы, толковали бабушкины сны, которыми та делилась с каждым, кто приходил. А затем, отведя меня в сторону, тётка сунула в руку деньги и попросила отнести Сашке. Из взрослых пересудов я уже слышал, что Саша разругался с родными, и они наобещали друг друга не видеть. Дом Маринки я знал, потому тут же направился к ним, найдя брата в гараже, с перемазанным липко-чёрным лицом. Тот выбрался из-под машины, подмигнул и заулыбался, шевеля усиками. Деньги попросил занести в дом, отдать Марине, потому что руки грязные. Тогда я не знал, что видел его в последний раз.
Как ни просился, меня отправили в школу. Я сидел на уроках, когда его хоронили. Не прошло и недели, как заходил к ним с деньгами. Они решили опробовать «Жигули», что-то там не получилось с тормозами. Машину занесло на железнодорожную насыпь и несколько раз перевернуло. На Маринке, что сидела позади, ни царапины, а Сашку выкинуло через стекло.
Зимой нам дали квартиру, и через какое-то время мы забрали бабушку к себе. Оказалось, что она болеет раком лёгких. Иногда бабуля видела галлюцинации: убеждала, что в шкафу у неё Толька Рыжиков, а за окном пролетал зелёный телёнок. Порой начинала задыхаться, вставала на четвереньки, в таком виде кружилась по полу и выползала на лестничную площадку. С криками: «Они меня травят!» стучалась к соседям. Когда же чувствовала себя хорошо, поставив перед собой табурет с широким сиденьем, раскладывала на нём карты. Мне нравилось, когда она гадала, потому что тогда она не несла чепухи, не вопила, а была спокойной и умиротворенной. Бабуля гадала на всех родных по очереди, приговаривая, бормоча. А однажды рассердилась на карты, посреди гадания грубо сложила в стопочку, упала на кровать и заплакала.
Толю нашли повешенным в казарме, где он проходил службу, где-то в Тюменской области. Бабушка умерла в апреле. Она лежала, изогнувшись, грудь к потолку, откинув голову и широко раскрыв рот. Я и не подозревал, что у неё настолько длинные волосы. Всегда уложенные под платок, на этот раз они разметались по подушке, свисая с неё на удивление чёрными прядями с небольшими и красивыми ручейками седины.
Мне досталась её комната, но жить и расти там было не страшно. А когда со мной случалось что-то плохое, болезненное, неприятное, говорил себе: «В конце концов, я ведь тоже делал эту палку!».
По встречке
Седина
Новую фамилию я получил вместе с паспортом. Вначале, как все, дождавшись шестнадцати, законопослушно решил сфотографироваться для документа. Или классный руководитель объяснил, или одноклассники, что уже гордились красной гербовой книжечкой, подсказали – с собой свидетельство о рождении и четыре фотографии. На вопрос – каких? – пояснили, мол, скажешь в фотосалоне, что на паспорт, они сами знают, какие.
Костюм и галстук я не надевал давно. Они мне казались пережитком моего комсомольского начала двухлетней давности. Ныне мы в школу носили кожанки в металлических напайках, волосы дыбом и крестик в мочке уха. Девчонки что-то такое делали с волосами, что постоянно присутствовал эффект мокрой чёлки. Иногда под чёлочку они надевали яркие повязки, словно перед занятиями ходили на аэробику и забыли снять. В дальнейшем, годы спустя, я отказывался некоторых из них узнавать без этих чёлок и повязок. Просто не ассоциировал таких серьезных и чуток раздобревших тётенек с одноклассницами. Кульминаций разъяснения недоразумений было предъявление ими паспорта, где они ещё – такие: с челочками и в синих школьных пиджачках с широкими лацканами. И тогда мы хохотали над нами же, молоденькими и модными.
И я было собрался на фотографию с волосами торчком, благодаря их намыленности, в кожанке, которая отличалась от прочих тем, что вместо напаек – лацканы, и меж пуговиц сплошь переливалось значками с изображением Ленина. В классе третьем ещё, после принятия в пионеры, раздавали поручения. Классуха считала, что каждый член коллектива обязан что-то делать для победы коммунизма. И мне приказали собирать значки с Лениным. Вероятно, это приближало коммунизм. Мы переходили из класса в класс, я уже вступил в комсомол, классухи менялись чуть ли не ежегодно, но никто из них того пионерского поручения не отменял. А я все эти годы честно выпрашивал у матери денег, если в киосках Союзпечать появлялся значок, которого в моей коллекции не было. Скопилось несколько десятков различных Ленинов – от октябрятской звёздочки до значка участника XXVI съезда КПСС, что я выпросил у Наташки Ершовой, отец которой когда-то ездил на съезд, видел Брежнева, а потом несколько лет был нашим главой города. Не совсем удобно говорить, на что я выменял значок.
После «Маленькой Веры» и всяких газетных статеек, видимо, по итогам родительского собрания в школе, матушка внезапно озаботилась моим половым воспитанием. Делала это очень мягко, внятно, не подозревая, что я давно стащил у неё медицинский справочник по венерическим заболеваниям и внимательно изучил. В том числе и картинки. Мне было где-то тринадцать, пацаны вокруг заговорили о странных вещах, с которыми я был в корне не согласен, потому что ещё в детсадовском возрасте мама уверенно объяснила, что ребенок в женщине образуется сам по себе, как только она выходит замуж. А на мой вопрос про дочку соседей, которая родила без мужа, ещё более честно сообщила, что клеточка, из которой происходит ребёнок, сама чувствует, когда ей надо начинать расти. И что бы мне затем и после ни объясняли, как ни убеждали, ни показывали, я до сих пор уверен в этом. Сама чувствует – и всё. Ей Бог говорит – пора. Независимо ни от чего.
Зная, что я уже второй год общаюсь с одной и той же девочкой, тем более что её фотка висела у меня на стенке между Тальковым и дуэтом «Модерн токинг», мама завершила процедуру воспитания, подарив мне три презерватива с пояснением, как ими пользоваться. Всё-таки она долго проработала в медицине, и были связи – их достать. За что я ей всерьёз признателен. Поскольку презервативы видел впервые в жизни. И это по тем временам было – сокровище. Когда я ими не интересовался, в аптеках лежали, но не для детей, а затем – исчезли вовсе. И для нас, старшеклассников, обладание этими штуками было суперважно. Не потому, что мы бежали их использовать сразу же. Просто знали, что рано или поздно они должны будут пригодиться, а кому-то – уже необходимы. Презервативы – были самой дорогой валютой, на них было можно выменять что угодно. Так и Натаха из параллельного, уже обладавшая хроническим советским сознанием, что всё нужно иметь про запас, без тени смущения спёрла у бати значок, а резиночку в непрозрачной упаковке спрятала в сумочку.
Её значок разместился у меня где-то выше всех на лацкане кожанки, поскольку коллекцию никто с меня не требовал, и не хотелось себе сознаваться, что собирал я её, собственно, зря. Пусть пригодиться – решил, чем с напайками возиться – куртку портить. Учителя мне за Ленина ничего не говорили, и одноклассники не язвили, поскольку на этот счёт была шикарная отмазка – я входил в комитет комсомола школы. Да-да, вот таким: волосы дыбом, крестик в ухе, весь в Ленине – и входил. Забавной была эта середина 80-х. С ощущением полной и неограниченной свободы!
Отговорила меня мудрая матушка. Я и сам чувствовал, что так не бывает, свобода не длится долго, как и мода. Поэтому принарядился так, чтобы меня узнавали до 25 лет, в галстуке, в пиджачке – побрёл в фотосалон. Не описать разочарование, когда оказалось, что он закрыт на ремонт. Пару дней выяснял, что делать? Пока не объяснили, что в нашем городишке есть два фотосалона, и оставшийся – по такому-то адресу на другом конце города. Ехать туда было далековато и опасно. Если к нам, в центр, вечером попадал районный, мы его тупо били, чтобы неповадно. Так же там поступали и с нами. Каждый «не из своего района» считался потенциальным претендентом на твою девчонку.
Тем не менее – что делать?! – поехал. Промозглым мартовским вечером после занятий в школе. Непонятно зачем повалил новогодний снежок. Из окна автобуса я любовался его порывистым пушистым десантом, автоматически слагая в голове стихотворные строчки под настроение. Время от времени на меня такое находило. И в местной газете, где я проговорился об этом, с меня попросили что-то из поэзии – им нечем было заполнить какую-то полосу.
С газетой я начал сотрудничать случайно. У нашего подъезда постоянно находилась огромная лужа, и годами люди вынуждены были ходить по газону под окнами. Матушка-медик, обожающая цветоводство, ежегодно высаживала на клумбе тигровые лилии и пионы, и их ежегодно затаптывали, не давая расцвести. Мама переживала. И я написал в газету. Ехидно. В духе перестройки и гласности. Письмо неожиданно опубликовали, а мне пришло уведомление из ЖЭКа, что проблема скоро решится. И вправду – для лужи под пешеходной дорожкой проложили сток, и она исчезла. Газету побаивались. Недавно там появилась статья, что глава города, тов. Ершов, имеет три квартиры, а его жена – кооперативное кафе, и Натахиного батю взяли и сняли. Так что, думаю, потеря депутатского значка стала меньшой из его проблем.
А год назад на комитете комсомола мы обсуждали план мероприятий по поводу отмечания дня рождения Олега Киригешева, портрет которого в траурной рамке висел в зале боевой славы. Олег был сыном бывшего директора школы, ушёл в армию и погиб в Афганистане. И нам, комсомольцам, было указано чтить его память. За годом год в начале марта мы ездили активом школы на кладбище, стояли у мрачного обелиска, думали про Афганистан. Но недолго, потому как на кладбище было зябко. А в этом году зима всерьёз задержалась, и ехать не хотелось. Поэтому я внезапно обозлился, обвиняя родной комитет комсомола в формализме при почитании памяти. На что замдиректора, куратор наш, обозлилась не меньше и сказала холодно:
– Женя, а ты что сам можешь предложить?
Я осёкся, но во мне бродил смелый дух середины 80-х, поэтому выпалил:
– А давайте улицу, где он жил, переименуем?!
Внезапно меня поддержали все, включая куратора. Мы тут же составили письмо в горком комсомола, и тут же его возбужденно отнесли. Михал Сергеевич Задворкин, секретарь горкома, поджарый, с залысинами дяденька также взбудоражился:
– Какая прекрасная идея к вам, ребята, пришла! Действительно! Что за улица такая – Западная?! Ни туда – ни сюда! Пусть будет – имени Киригешева!
Надо, наверное, пояснить, что мой городок располагался в Горной Шории, и фамилии с окончанием на «ешев», «ашев» и «чаков» там вполне распространённые. Об этом я впервые подумал, выполняя комсомольское поручение. Дело в том, что Михал Сергеевич тут же распределил между нами пятиэтажки Западной и попросил собрать подписи жильцов в поддержку. Я лично за два дня обошёл два дома. На третий вернулся в те квартиры, где ранее не открывали. Мне исписали в поддержку всю тетрадку в 40 страниц. Даже предложили поставить Олегу бюст во дворе.
А на днях, в день рождения погибшего «афганца», торжественно состоялось открытие мемориальной таблички на доме, где он когда-то жил. Новый глава города – почему-то Михал Сергеевич Задворкин – объявил, что отныне улица изменила своё название. Наш военрук командовал залпами из автоматов. Однако таблички на домах остались старые – «Западная». Или это, или то, что все сразу и навсегда забыли, кому изначально в голову пришла такая идея, сподвигло написать заметку в газету, рассказывающую, как, собственно, всё происходило, как собирались подписи, что наш комитет комсомола оказался в этой истории как бы задвинут в дальний угол. И вообще – как можно объявить о переименовании, не сменив таблички? Заметку я отнёс лично, благо уже был знаком с некоторыми из сотрудников редакции. Пару лет назад, в преддверие городской комсомольской конференции, меня вызвали с урока к директору, в кабинете которого седел дыдловатый здоровяк, похожий на Дитера Болена.
– Ты заметку про лужу написал? – с ходу спросил он.
И когда я сознался, почему-то покраснев, внезапно попросил меня написать – с чем комсомольцы нашей школы готовы выйти на конференцию, и какие мои соображения по поводу уменьшения роли комсомола в воспитании молодёжи. Ещё в коридоре, провожая корреспондента, я признался, что считаю единственным способом выживания для комсомола – отделиться от партии, иначе он загнётся вместе с ней. На что журналист побледнел и попросил меня вот именно об этом не писать и больше никому не говорить…
Ему я отнес материал о «переименовании». Грустно вздохнув, «Дитер Болен» отсёк от моей заметки окончание про «задвинутых в угол» и про таблички, сообщив, что остальное – просто гениально. На попытки возразить, что убрали самое главное, что именно для этого и писалось, он внезапно спросил ни к селу, ни к городу:
– Хочешь поехать на слёт РБС? В Орлёнок? В этом году летом там областные журналисты будут проводить занятия с начинающими и одарёнными.
«Орленок» в нашей области считался тем же самым, что «Артек» для всей страны. Я отвесил челюсть и сказал, что конечно хочу. Ошарашенный, совсем забыл, о чем спорили. И только уже в дверях вспомнил и сказал:
– Ну ладно, отсекайте. Я тогда в стихах про это напишу.
– А ты ещё и стихи пишешь?! Да с такой фамилией?! Принеси мне в пятницу свою поэзию. У нас полполосы не хватает…
Покинув автобус, оказался внутри снегопада и пожалел, что слагал про него такую красоту, поскольку он был навязчивый, мокрый и липкий. Я брёл, ничего не различая в двух шагах от себя, и как спасение принял огромную вывеску «Фотосалон». Ввалился, отряхивая шапку, перчатками обмахивая пальто. В нашем, центральном салоне всегда была очередь. Ждёшь – минимум час. Потому я не стремился в другой район, и вообще не стремился фотографироваться. И если бы не закон, обязывающий в месячный срок получить паспорт, не ввязался бы во всю эту историю. В этом же салоне – никого не было. Я оказался единственным клиентом. Снегопад ли этому поспособствовал, или у них всегда так, разбираться не было времени, поскольку быстро вызнав, чего я припёрся, какая-то женщина тут же потащила под объектив. Пытался возражать, мол, не успел расчесаться, предъявляя извлеченную из кармана расческу. На что ответили: «И так красавец», усадили, покомандовали наклоном головы и, спрятавшись под чёрный чехол, демонстративно сняли крышечку с объектива. Даже щелчка не было. «Готово!» – сказали.
Через два дня вновь поехал на край города. Забирать фотографии. На них я был солидный, подтянутый, серьёзный и вдумчивый. Открытый лоб, галстук и пробившиеся усики придавали сходство с одним из поэтов, Андреем Белым, кажется. Насторожило одно. Нависающая пышная чёлка была как бы с седой прядкой. Ежедневно наблюдая себя в зеркало, подобного ранее не замечал. Посмотрелся тут же, в салоне – всё нормально. Выдав мне фотки, шустрая тётка куда-то уже смылась, и спросить – почему так – стало не у кого. На обратной дороге вспоминал тот день и прикинул, что шапку-то стряхнул, а на чубе так и остался пушиться снег. Поскольку всё происходило быстро – он не успел растаять, одарив меня благородной седой прядкой. Красивой, надо сказать. Возможно, таким я и буду как раз к древним 25-ти годам, когда вновь придётся менять паспорт.
Документ мне выдали в начале апреля. Красное советское удостоверение гражданина. С тремя страницами для фотографий. По идее, моя рожица должна была красоваться на первой странице, но её почему-то наклеили на вторую, словно мне уже 25 лет и всё такое. Собственно, оно и не насторожило вначале. Только потом, рассматривая паспорта одноклассников, которые принялись получать их один за другим, сообразил, что у меня документ немного неправильный.
Как раз вышла моя статья про улицу Киригешева, и в том же номере – первая моя публикация стихотворений! После памятной поездки в фотосалон я принёс «Болену» стихи, аккуратно переписанные в тетрадку, включая и совсем новое, где
…А снег устало падал врачевать И укрывать собой земные раны: Из нищеты творил он благодать И умирал в земле обетованной…Газетка пришла по подписке, я несколько раз перечитывал стихи, несправедливо игнорируя статью про улицу, не веря своим глазам. Это было какое-то новое ощущение. Типа первого поцелуя, обладания значка участника съезда КПСС и Нового года – одновременно. Мне захотелось, чтобы таких необычных газет у меня было больше, поэтому пошёл в редакцию – попросить ещё. А попутно, раз рядом, заглянул в паспортный стол, спросив, почему не там наклеена фотография? Отправили к начальнику паспортного стола, что меня испугало. Ни разу в жизни не был ни у каких начальников. Натахин папа – не считается, я его с детского сада помню, и в квартире у них бывал. А вот в кабинете у кого-либо – впервые.
Начальник оказалась женщиной. Долго разглядывала мой паспорт, хмыкала, мол, такой седой – ну кто бы мог подумать, что 16 лет! До возмущения спокойно отправила вновь фотографироваться. Сама бы помоталась на другой конец города! Недовольный, я промялся ещё какое-то время. Раздражение усугублялось ещё и тем, что в школе меня начали дразнить «поэтом». Своеобразно причём. Подходили и говорили – а спой вот это! Или, мол, какие ещё Его стихи за свои выдашь? Не надо долго думать – всё дело было как раз в фамилии. Уже был такой певец и поэт, даже выступал в нашем городе. Недавно он умер и стал как никогда популярен. Его фото рядом со Сталиным красовалось у всех водителей автобусов над лобовым стеклом. Через какое-то время я понял, что бесполезно доказывать, что стихи я написал сам, а не спёр у Него.
Фамилия не устраивала ещё по одной причине. Она была – папина. А папа нас бросил. Его просто не было. И уже не помню, как он выглядел. Возможно, как этот курящий мужик над лобовым стеклом.
В очередной раз поехав фотографироваться, я всё думал, как бы избавиться от фамилии? Чтобы мои стихи – были только моими, и не приписывались алкоголикам-алиментщикам. Донельзя сердитый, заявился в фотосалон и предъявил шустрой тёте за косяки. Мол, из-за неё мне паспорт менять, из-за неё на фотки у мамки денег просить, из-за неё – да, да! – возможно, из-за неё папка нас бросил!
Я не заметил, что кричу сквозь слёзы, пока из ноздри не надулся пузырь из сопли. Я не заметил, что моя голова прижата к её груди, а она гладит по моему – совсем не седому – чубу и что-то шепчет, успокаивающее и складное. Под предлогом – умыться, чтобы получился на фотографии, увела в подсобку, где, шмыгая носом, умывался над раковиной. Затем предложила попить чай, что-то спрашивала. И, не знаю почему, я выложил ей всю фигню про значки, презервативы, стихи в газете, одноклассников. Про то, что ненавижу свою фамилию.
Двумя руками придерживая чашку, она внезапно спросила:
– Знаешь, какая у меня была фамилия? Козюлькина! Как только не дразнили! А потом вышла замуж и сменила. Стала – Курочкина.
– Правда? – вырвалось глупое, потому что я внезапно загоготал, не мог сдержаться, понимал, что могу обидеть, но почему-то стало смешно.
Но она не обиделась:
– По-моему, Курочкина лучше, чем Козюлькина? Как ты считаешь?
И мне показалась, что она абсолютно права. Отпив чай, фотограф продолжила:
– И ты, когда женишься, можешь взять фамилию жены. Если не передумаешь.
Для меня это стало огорошивающим открытием. Поэтому взахлеб принялся рассуждать:
– Нет… что-то мне её фамилия… какая-то не та… Кем я буду – Чердояков? Я же – русский.
– А ты на ней хочешь жениться? – лукаво прихлебывала чай женщина.
– Если честно, мне больше Натаха нравится, – сказал, и не поверил, что признался, но отступать было поздно. – Но её фамилию тоже не хочу. Скажут ещё, что у «Конька-горбунка» спёр. А сейчас можно фамилию поменять? Я же паспорт получаю.
– Сейчас только на материну можно изменить, – кивнула женщина. – Её фамилия тебе нравится?
Матушка моя была наполовину румынкой, и всю дорогу домой я размышлял, пытаясь привыкнуть. Поэт Евгений Стеклински – звучит или нет? Мне показалось, что звучит. Но сомневался. Промаялся пару дней. И новые фотки уже были на руках, а в комнату к матери зайти стеснялся. Как-то так повелось, что в её комнату я никогда не входил без приглашения. Впрочем, как и она в мою. Будничные дела и попрошайство денег всегда решалось на кухне, за едой. И если кто из нас просился в комнату к другому, то причина должна быть весьма серьёзной. А необходимость вновь нести в паспортный стол свидетельство о рождении – чем не причина? Так подумал, постучавшись к матери. К тому времени я нашёл на карте Румынию, вспомнил, что она, как и мы, социалистическая, освежил о ней из учебника географии в школьной библиотеке. Смущала фигура Дракулы, но и у нас хватало персонажей…
С мамой мы говорили об её предках, об её отце-коммунисте, почему-то сосланном в Сибирь. Говорили долго. Коснулись темы и моего отца. На вопрос «Можно ли мне взять её фамилию?», потупясь, ответила:
– Я тебе не запрещаю. Ты вырос.
Как-то странно сказала. Не разрешила. Но не запретила. Чтобы это могло значить? Всё ещё раздумывая, перешагнул кабинет начальника, не приняв решения. И если бы она тихо и спокойно забрала бы мои документы, то, наверное, ждал бы женитьбы. Но она подсунула на подпись какой-то акт об уничтожении и со словами:
– Подписал? Ну вот и всё! – взяла и разорвала мой паспорт.
Мелькнул край фото с благородной сединой, и показалось, что разорвали меня. Отчего-то в виски прихлынула кровь, набычившись, сказал:
– Нет не всё. Я ещё хочу фамилию поменять…
Меня отговаривали, но кровь в висках мешала слушать. Только тряс головой, отказываясь. Подсунули лист бумаги, и под диктовку я написал заявление.
В середине мая получил новёхонький паспорт. Тут же пробежал глазами – фотка на месте. Шагал домой и разглядывал. Всё равно что-то смущало. Приглядевшись – понял. Они вставили лишнюю «р» в мою фамилию. И дописали «й».
Однако больше я в паспортный стол не пошёл. Менялись законы, менялась страна, менялись документы и правила, как классухи когда-то. Ровно настолько, насколько никто не интересовался моей коллекцией значков с Лениным, никто не поинтересовался происхождением моей фамилии, выдавая всё новые и новые паспорта, требуя ксерокопии с них… Жалея, что не записался Снеговым или Седовым, Белым наконец, размышлял – почему я тогда не пошёл ещё раз. Понял – надо было вновь фотографироваться. И не хотел встречаться с той женщиной. Курочкиной. Мне было стыдно её видеть. Как стыдно видеть тех, кому нагрубишь, а они тебя пожалеют и научат, как жить дальше.
По пути в Овсянку
«У меня нет особенных талантов. Я просто слишком любопытен. Мне всегда было любопытно, почему один добивается успеха, а другой топчется на месте. Вот почему я потратил годы на то, чтобы понять, что такое успех. Удовлетворить своё любопытство – вот настоящий секрет успеха»
А. ЭйнштейнКогда мне было под тридцать, увидела свет первая книжка стихов. Пусть тоненькая, но как всякое начало – опрятна и придавала уверенности. Чему несказанно был рад, что удалось издать её до дефолта, когда деньги вдруг обесценились, фирма моя, до того – успешная, почти разорилась и, мягко говоря, попросили. В неоплачиваемый отпуск. И стало не до стихов. К зиме – еле подвязался торговым представителем, с водителем Саней возили молочную продукцию из Томска. Спешно, чтобы не прокисли йогурты разные, мотались между областями без сна и отдыха. А в апреле 99-го, словно не пуганое кризисом, начальство решило «развиваться», и выпала мне дорога аж в Красноярский край, где отродясь не бывал.
В райцентре – Балахта – производили отличный и дешёвый сыр, и надо было прикинуть, выгодно ли его доставлять к нам, почитай за 800 км. Директора расстояние не пугало, он словно мантру твердил «Ассортимент! Ассортимент! Конкуренция!», поторапливал. Однако, уже наученный опытом, как правило, отрицательным, я оттягивал поездку насколько можно, прекрасно понимая, что если товар в дороге испортится, платить за него нам с Саней из своего карманчика. А кило 200 сыра с каждого из нас на полквартиры потянет. Да и глупо было наобум ехать. Вначале по телефону договориться надо, все бумаги оформить, а то не хватит какой-нибудь, и – бензин за пустой прогон также по карманчику вдарит. Построили, блин, рабовладельческий капитализм!
И даже когда всё было почти решено, не хотел я ехать! Увольняться подумывал. Устал, честно говоря, по колдобинам мотаться. Да и бумажки всякие, фактуры, отношения, когда каждый друг друга обмануть норовит, – не по мне это как-то. Убедили же меня совсем ни к чему не обязывающие слова поэта Аркадьева, с коим пересеклись мы случайно и по глупейшему поводу. Давно не виделись, а тут погодка самой настоящей весной шибанула. Пересеклись на аллейке и решили по бутылочке пива выпить. Туда-сюда мотнулись, а молодёжь все скамеечки оккупировала. Зашли во двор, а там – штук десять пустых стоит. Только на каждой надпись «Осторожно окрашено». А на одной надписи не было. Мы седушки потрогали – не липнет, и присели. Потягивали пиво, наслаждались теплом, беседовали за стихи. Поделился я, что когда после сокращения три месяца не работал – повестушку накатал, рассказов несколько. И на книжку хватит. Он же про своё неизданное начал…
Словом, когда пивко закончилось, бабулька нашлась, что пустые бутылки собирает, она-то, наклонившись за ними, и сообщила загадочное: «Что, попались, ребятки?» Переглянулись мы озадаченно, и дошло, как холодной водой окатило. Сиденье-то мы пощупали, а спинку-то нет! И стали со спины зебрами в жирную синюю полоску. Думал, такое только в плохих комедиях случается. Костя же Аркадьев выразился от всей души:
– Вот те, мля, и поэзия, и проза!
Выглядел он обиженно и растерянно, я – не лучше. Сейчас Кости – годков семь-девять как нет, и вспоминая его, вижу глубоко разочарованные глазёнки, шевелящиеся от возмущения усишки, и представляю, как мы стояли друг напротив другу не в силах что-либо ещё произнести по поводу случившегося. И никогда не забуду, как в его глазах забрезжила искорка, в секунду она вспыхнула уверенным озорным огоньком:
– Женька! У меня керосин дома есть! Авиационный! Знаешь, как им хорошо оттирается! Только пузырька два с тебя. Портвечика. Ты же у нас – коммерсант!
До этого случая я слабо представлял себе, что такое керосин. И как он пахнет. Когда пьянющий ехал в троллейбусе домой от Аркадьева, все входящие говорили: «Фу! Краской воняет!», а кондукторша до-колупалась до паренька рядом со мной, мол, кепку сними, токсикоман, посмотрим, что там у тебя. Но пешком бы я не дошёл – далеко, потому сжался, будто нет меня, испытывая чувство вины и думая об Астафьеве. Куртка затем ещё пару месяцев выветривалась на балконе, а я поехал-таки в Красноярский край. Поскольку, попивая портвейн и оттирая краску со спины, мы внезапно решили, что сдружились как никогда и завели разговоры не за прозу с поэзией, а, как водится, за жизнь проклятущую: кто чем на хлеб зарабатывает, кто про что думает. И брякнул я Косте, что не хочу в Балахту за сыром. А он мне:
– О! Да ты мимо Овсянки поедешь! Там же Астафьев! Да я сам тебе пузырь поставлю, если ему мою книгу завезёшь!
Костя никогда не поставит мне пузырь, погиб несколько лет спустя в дорожной аварии, но когда я вёз его книгу Астафьеву, был ещё жив, бодр и многословен. Вскоре многие наши поэты-писателя узнали, что «Жэка едет мимо Астафьева». А на все сомнения, мол, не пустит к себе Виктор Петрович такого разгильдяя, иные отвечали: «Это Стреклинского-то и не пустит?! Да тот с самим Фёдоровым водку пил!».
Поэтому вёз я Виктору Петровичу целую стопку. С автографами. Из всех разговоров представлял я Астафьева неким небожителем. К нему в деревню и Ельцин приезжал, за советом вроде – как Россию обустроить. И с Носовом дружен. И актёры именитые у него бывают, мол. Виталий Соломин несколько дней на диване в кабинете почивал. И Никита Михалков кино там снимал. И писательские слёты Астафьев, как отец-объединитель, в Овсянке проводит. И церковь там построил. И библиотеку. Да и гений он, чего скрывать, русский писатель – от соприкосновения с которым сам станешь прославленным и успешным.
И понятно почему, подъезжая к Овсянке, я замандражировал. Заранее. Памятуя о мандраже на пороге дома в Марьевке, в гостях ещё у одного классика.
Случилось давно, в советские времена. Пописывал я в местную газету статейки и удостоился чудесной поездки в областной лагерь комсомольских активистов «Орлёнок», где соседом по комнате выпал мне меланхоличный Виталик. На встречах с журналистами областных газет, где нас учили писать о борьбе с алкоголем, поскольку мы на него дружно страной напали, Виталик задумчиво надувал щеки, не зная, куда деть сонные глаза. К выходным он внезапно ожил и предложил смотаться с ним недалече – в поселок Кедровский, откуда он родом. Та ещё была история!
А в конце сезона для практической работы распределили нас с Виталиком к одному журналисту по фамилии Кердаш. С ним мы должны были съездить в настоящую журналистскую командировку и под его патронажам описать свои впечатления. Приехали мы в посёлок со смешным названием Яя, где Кердаш моментально набрался, договорился с каким-то другом и потащил нас, не успевших ничего толком написать, на попутке в Марьевку. «Матушку повидать» – приговаривал в пути, пуская горючую слезу на щетину. Доставал из-под ног трёхлитровую банку браги, отхлёбывал из неё и передавал нам, на заднее сиденье. Мы с Виталиком девственников из себя не строили и тоже прикладывались, прыская в кулак, когда Кердаш внезапно бил кулаком по приборной панели, изображая Шукшина в «Калине красной», выкрикивая «Ведь это моя мать!».
Матушка у него и вправду была замечательная, постелила нам на огромной деревенской кровати с мягчайшей периной, в которую проваливаешься чуть ли не всем телом. По пути мы останавливались, водитель где-то раздобыл ещё браги, поэтому они с Кердашем засели надолго, не забывая и нас, практикантов, приобщать к напитку, с которым недалече как позавчера в «Орлёнке» все, включая Кердаша, активно боролись. Когда их разговоры начали петлять и тускнеть, Виталик предложил прогуляться по Марьевке. Пацаном он был фактически деревенским, сухопарым, длинноруким, вполне бесстрашным, и в его компании, особенно после Кедровского посёлка, мне в незнакомом месте, казалось, – ничего не грозило. Тем паче мы были изрядно навеселе, именно в том состоянии, когда море по колено, а приключений ещё охота.
Марьевка представляла собой набор частных домиков, с оградками, деревцами, лающими откуда-то собаками. Мы бродили кругами, но неизменно возвращались к асфальтированному шоссе, поскольку вышагивать по нему было удобнее.
– Где-то здесь Фёдоров живёт! – внезапно сообщил Виталик. – Нас к нему пионерами ещё привозили.
– А кто такой Фёдоров? – стало мне интересно.
– Поэт известный. Как Евтушенко. Только он наш, тутошний. В Москве живёт, а летом сюда отдыхать приезжает. В школе недавно про какой-то его «Дон Жуан» рассказывали. В общем – серьезная шишка. Вот бы тебе с ним познакомиться! Ты же тоже стихи пишешь.
Поскольку родная местная газета продолжала меня, дарование этакое, постоянно публиковать, надобности в Фёдорове я не видел. Если только…
– А здорово было бы у него интервью взять!? – навроде как спросил у Виталика.
– Точно! Нам же практическую работу сдавать! А с этим, – кивнул он неопределённо, – наставничком хрена с два чего напишешь.
И мы принялись искать дом Фёдорова. Вернее, Виталик искал, вспоминая. А я тупо плёлся за ним. Спросить было не у кого, стемнело, и вообще людей в Марьевке мало. В итоге – свернули куда-то по отдельной дорожке и вышли к забору, огораживающему участок с домишечкой вдали и кряжистой стайкой по курсу. Прошли в «усадьбу» чуть в горку, меня стразу насторожило, что над крыльцом горит красная лампочка сигнализации. Но Виталик уже нашарил звонок в резко подступающей темноте, но звук не раздался, и было непонятно, откроют нам или нет. Поэтому постучал. В тиши и сумерках звук вышел не то чтобы громким – неуместным каким-то, и стало не по себе, неловко и робко. Внезапно я пожалел, что мы сюда пришли. Ну что мы можем спросить у знаменитого поэта? О творческих планах? Я у него вообще ничего не читал. Свои стишки ему с порога прогундеть? Будто он стихов не слышал! Спросить, как он стал знаменитым? Так он и ответил! Если бы все знали, то уже бы…
Виталик повторил стук, предварительно спросив у меня: «Может, он в Москве?», очевидно также сомневаясь в совершаемом. Не мог же он полагать, что я действительно знаю, где находится человек, о котором и услышал-то впервые с полчаса назад. Поэтому я промолчал, борясь с желанием – убежать немедленно, а то вдруг и вправду откроют. Но и отступать было уже как-то некрасиво. Заявились, может – разбудили, и в кусты? Наконец, и Виталик обратил внимание на красную лампочку. Но расставаться с желаемым не хотел. Зачем-то постучал в дверь ногой и тут же отошёл к изгороди. И если бы сейчас дверь открылась – вот был бы номер! Словно это я долбил. Поэтому так же бочком ретировался, поглядывая всё же – а вдруг! Но лампочка безучастно взирала на нас красным глазом. Дверь так и не открылась. И от этого стало легче. Тем более и так было чем полюбоваться.
Этот Фёдоров был действительно знаменит, иначе не объяснишь, как ему удалось построить дом на берегу такой красоты! За изгородью взгляд ухался в овраг, по которому тихонечко журчала вода среди какой-то растительности, что уже скрывал полумрак, но открывшееся пространство подсвечивалось отражаемыми блесками с небес, словно крохотными плывущими фонариками. Звёзды высыпали так рясно, так огромно, что я уловил очертания созвездий, как их рисуют в книжках. Месяц светил нам в спину, и яркие точки протягивали друг другу свет, словно паучок плёл меж ними невесомую паутинку. До этого я, конечно, видел и звёздное небо, и смотрел на землю с возвышенности, но то было как-то привычно, на своей географической территории. И стало вдруг понятно, почему Фёдоров стал известным поэтом. Родившись в сочетании двух просторов: земного и звездного – по-другому и быть не могло. И мне показалось, что получил ответ на вопросы не взятого нами интервью. Отчего-то сразу сделалось грустно – рождённому в зажатом сопками городишке, без возможности сызмальства охватывать взглядом просторы, стать ли мне настоящим поэтом? И вообще – кем я собираюсь стать? Неужели – областным-местным журналистом? Зачем? Чтобы пить с сопляками брагу, как Кердаш?
Мысли настолько тоскливо-возвышенные облепили, словно комары, что по дороге к домику, где предстояло ночевать, мы с Виталиком молчали. Возможно, и он думал о чём-то своём. О дяде Саше, к примеру. Стать ли Витале таким – как его дядя? Отчего-то я сомневался. Слишком легкомысленно, по-моему, он относился к своему родственнику: что есть он, что нет. Вот зачем нам тогда, в Кедровском, надо было непременно идти на рыбалку, когда, в кои веки, дядя Саша приехал? Но рыбалка для Виталика – святое. Именно удочки не хватало ему в Орлёнке, поэтому в первые же выходные он сблатовал меня на поездку домой, обещая показать места, где лещи ну во-о-от такие! Так ни одного и не поймали: плотва да окуньки. Проторчали весь день на жаре вместо того, чтобы слушать интересные истории от столичного гостя. Позже, когда Абдулов по телевизору рассказывал какие-либо актёрские байки, мне было интересно – рассказывал ли он их тогда, в Кедровском, пока мы с его племянником жарились на гальке на бережку?
Посёлок удивил меня невообразимым многолюдьем, причём Виталик удивился не меньше. Образованный вокруг шахт Кедровский в день нашего приезда всем своим населением сместился к окраине, где величественно и безобразно восседали навалы разрытой земли, чёрной от угольной пыли. Дом Виталика как раз стоял на окраине, проходя мимо толпы, мы с удивлением отмечали высоченные прожектора, сгрудившиеся маленькие агрегаты, похожие на краны, поднимающие площадки с кинокамерами. Я и кинокамеры-то впервые видел, поэтому, разинув рот, долго пытался разгадать предназначение того или иного оборудования. Отвлёк нас некий шкет, солидно поручкавшийся с Виталиком и ответивший на непроизнесенный нами вопрос:
– Кино снимают. Как дракона убивать будут. Натурально пришьют. Там какой-то мужик лысый так и сказал: «Натура – что надо» Аполитоксичная – вроде как – сказал. Или – аполитичная, я не въехал.
Виталик нас познакомил, но узнав, что шкет сегодня на рыбалку не собирается, потерял к нему интерес и повёл меня домой, приговаривая: «Дядька навёл, наверное. Приехал, кажись. Лет пять его не видел». В доме было не менее многолюдно – собралась вся родня с соседями. Несмотря на пресловутый «сухой закон», стол ломился от браги и самогона, а перед гостем, вяло восседавшим чуть с краю от главы стола, высилась узенькая бутылка коньяка. Стол – не так сказано. По-деревенски сдвинутые столы с рядами жаренного и салатов, вдоль которых на широких досках, возложенных на табуреты и прикрытых половиками, разместились гости, пришедшие отметить приезд Виталиного родственника. Со словами «Как хорошо, что и ты приехал!» к нам подскочила женщина – мама моего товарища, и чмокнула его в лоб, не обратив на меня никакого внимания.
Застолье, собственно, ничем не отличалось от нашего, когда кто-либо из далёкой родни вдруг наведывался в гости, а Виталик, отметим, ни словом, ни намеком не дал мне понять, чей он племенник. Ну, дядька и дядька. Ну, приехал и приехал. Так он к этому относился. Поэтому когда подвёл к рыжебородому мужику, которого я не узнал, видимо, из-за этой огромной бороды и стал знакомить, я втиснул свою ладонь скоромно и вяло, совершенно не представляя себе, с кем меня знакомят. Рыжебородый же, быстро и крепко сжав мою ладошку, тут же повернулся к восседавшему во главе стола горбоносому мужику, похожему на пианиста Оганезова из телека, и сообщил, указывая на Виталика:
– Марк, смотри – как мой племяш вырос!
Подошла какая-то женщина и отвела меня к другому краю стола к тарелкам с рыбой и толчёной картошкой. Браги взрослые нам не наливали, самогон – тоже. Поэтому, наевшись, Виталя потащил меня в стайку, где мы отлили себе из фляги в кастрюлю – другой посуды он не нашёл, подхватили удочки и побрели к реке таким макаром: он нёс удочки на плече и лопату, а я – двумя руками – прижимал к пузу заветную кастрюлю с бражкой. Выпили её часа за два, разомлевшие, неохотно следили за поплавками. Товарищ мой, ворча про непоклёв, время от времени отходил копать червей, матерясь, если попадали жирные, а не худенькие. И так и не обмолвился про родственника, а мне связать в голове рыжебородого с кинокамерами у карьера – тяма не хватило.
Всё в голове сложилось позже, на следующее утро, когда гости уже уехали, провожаемые роднёй. Проспав до обеда и не найдя в доме никого, мы молчком принялись выбирать с неразобранного с вечера стола самые вкусное: маринованные грибочки, подтаявший холодец, жареную рыбку. Нашли и самогон на донышке бутылки, хватило по полстопки. Попробовали. Нашли ещё. Это потом я понял, что Виталик раньше крепкого не пивал. Поскольку, ранее молчаливый до угрюмости, внезапно разговорился, и я нечаянно узнал, с кем он целовался, и кого собирается «притянуть». Информация была абсолютно бесполезной, поскольку названные девчоночьи имена внешне никаких ассоциаций у меня не вызывали. Я и в «Орленке» ещё не со всеми познакомился, а в Кедровском был впервые в жизни. Та же мысль посетила и Виталика, поэтому он решил устранить этот пробел в моём мироощущение методом показывания семейного альбома, где время от времени мелькали его одноклассницы.
– Стоп! – внезапно мелькнувшая фотография вызвала оторопь. Я вернул страницу, где невинно уставился на меня актёр из намельтешившей в телеке сказки – Это же… Абдулов?
Несколько секунд у меня было, чтобы сомневаться, поскольку – была такая мода – люди вклеивали в альбомы фотки с известными киноактёрами.
– Ну, – кивнул Виталик – Мамкин брат. Мы же вчера же с ним… пили, – последнее слово не соответствовало истине, однако я не стал спорить, листая альбом к началу, где Абдулов был всё моложе и моложе, и из моего ровесника постепенно превращался в глазастого малыша на плохих, потрескавшихся снимках.
Я смотрел альбом и сожалел, что поплёлся вчера на рыбалку, а не послушал, о чём рассказывает артист. С другой стороны, что я хотел? Что позовёт сниматься в кино? Или расскажет, как стал знаменитым? Тем не менее, хотелось почему-то наблюдать знаменитость воочию и сравнивать потом с изображением в телевизоре. И я эту возможность упустил. Из-за странного Виталика, не понимающего, что есть люди, владеющие если и не секретом, то опытом. Которые могли бы подсказать – как быть в этой жизни: что в ней, действительно важно, а чему не стоит предавать значения.
Вот и с Фёдоровым не удалось пообщаться. Размышляя о том, что так и не понял, не разобрался, для чего живу, и не встретил ещё человека, мне это объяснившего, я уснул, почти целиком провалившись в перину в доме матери пьяного наставника. Кердаш наутро спросил, где мы вчера шарились, и я искренне посетовал, что хотели, мол, взять у Фёдорова интервью, да не вышло – никто не открыл. Постепенно объяснение превращалось в заикание, я уже сам не соображал, что мямлю, поскольку глаза Кердаша до ужаса расширялись, словно он признал во мне полного дауна или – в лучшем случае – инопланетянина.
– Ты чего, сынок? – внезапно просипел он. – Фёдоров года два как умер.
Но, опохмелившись, на обратной дороге журналист завёлся, видимо, от нашего идиотизма.
– И чего попёрлись? На что рассчитывали? Думаете, дал бы вам интервью? – повернувшись, Кердаш выстроил мне – поскольку был к нему ближе – из пальцев кукиш. Против всех известных физиологических законов неестественно длинный большой палец с черным ободком под ногтём активно шевелился, что навевало мысли о кобрах и о журналистике, к которой мой интерес резко пропадал. – Даже мне не дал, – наставник обиженно спрятал фигу и почему-то обратился к водителю. – По заданию газеты, через райком, представляешь? А едва порог переступил, он мне – «Тебе, парень, заняться, что ли, нечем? Садись лучше за стол». И жене: «Неси бутылку! Нашлось с кем выпить!».
– Так вы с ним бухали? – внезапно журналист проснулся в Виталике.
– А то! Вместо интервью. Ему-то что – пару бутылок? Огромный мужик был, в рубахе русской за деревянным столом. А я – еле уполз. Выговор получил. Строгий. Но это – фигня. Страшно мне с ним было – вот ведь как. Словно в клетке со львом побывал… А вас, молокососов, он бы одним взглядом опустил…
Внезапно я понял, что нужно сделать. Как выполнить задание и получать благословение наставника.
– Получается: вы с Федоровым встречались, так?
Кердаш задумался:
– Вроде как бы оно и так, но ведь и парой фраз не обменялись. Молчком пили. С полчаса где-то. Он только подливал. Из закуски – капуста квашеная…
– Выходит – встречались с ныне умершим классиком? – утвердительно и азартно, памятуя гибкую фигу, гнул я свою линию.
Виталик – недаром пару недель в унисон дышали – тут же подхватил:
– Так мы у вас интервью про Фёдорова и возьмём! Вот и материал – по заданию!
Кердаш не отвечал долго, минут двадцать, пока не показался какой-то посёлок. Подъехали к магазину. Через часочек на опушке у обочины, подгребая с расстеленной на траве газеты кружочки колбасы, отламывая плавленый сырок, чтобы сгладить горько-приторный вкус портвейна, мы брали у Кердаша «интервью». К окончанию второй бутылки получалось, что Фёдоров с ящиком водки чуть ли не ждал его у крыльца райкома. Однако через несколько дней, редактируя нашу писанину в «Орлёнке», наставник заискивающе предложил:
– А давайте – это вы будете? Типа это вы пришли, он вас усадил и молчком наливал?
– Так он же умер?! – удивился я.
– Какая разница? – в свою очередь удивился Кердаш. – Думаете, это кто-то напечатает? А деталей я вам нарисую: про рубаху, про мебель, про жену…
Материал за нашими с Виталиком подписями опубликовали в областной комсомольской газете в числе лучших работ одарённых воспитанников «Орлёнка». Читая его – уже в родном городке – пунцовый от стыда, я пытался представить себе: какие же тогда – худшие…
А через пару лет, переступив порог областной литстудии студентом – и думать забывшем о том материале, услышал первую реакцию на мою фамилию: «А не тот ли Стреклинский, что написал, как с Фёдоровым выпивал?». Какое-то время я пытался оправдываться, но потом просто привык к байке, благо она почему-то приносила неплохие дивиденды в плане публикаций. Мои стишки брали охотней, чем у ровесников, хотя, на мой взгляд, мной написанное – явно смотрелось проигрышней. Постепенно со мной выпили все местные «классики», и к тридцати годам вышла книжка.
А теперь я вёз её Астафьеву. Как и книгу Аркадьева. Как и стопу «нетленок» этих классиков, с которыми за годы, бутылка за бутылкой, как-то, притёршись, сдружился. И вспоминал Кердыша, это его «словно со львом в клетке побывал». Я был уверен, что такой «литературный монстр», как Фёдоров, коего ныне я начитался предостаточно, увидел мужичка насквозь и дал ему то, что полагалось. И мне вскоре предстояла подобная встреча – где буду просвечен взглядом-рентгеном. И ныне здравствующий классик сразу поймёт, что имеет дело с шарлатаном, публиковавшимся благодаря совместным возлияниям. Именно так я думал в тот, неудачный для меня, год о своей «литературной карьере». И, что самое странное, меня – правда не пугала. Важно было другое.
Жизнь волокла из школы в институт. Вначале собирался стать медиком, но бывший однокашник Влад соблазнил к себе, на журналистику. По окончанию, в начале 90-х, жутко не везло. В какую бы газету ни устроился, она либо закрывалась, либо не платила. Ради банального выживания я сменил кучу работ – от охранника автостоянки докатился ныне до торгового представителя, мотающегося по колдобинам за йогуртами. Причем сам Влад пошёл по стопам родителей – в зоотехники, торговал шапками оптом и жил припеваючи. Похоже, он был доволен жизнью. Я – нет. Хотя, казалось бы, отбил у него невесту, женился на ней, по уши влюблённый. Родили пару ребятишек. Но всё время казалось – я не там, где должен быть. Всё, что есть – не моё, фальшивое, как та статья Кердыша о Фёдорове. А самое поганое, никто мне не мог сказать – где оно, то место, куда мне надо. Мама, помогая во время учёбы чем могла, по поводу работ моих – только критиковала. «Братья во литературе» радовались моему финансовому взносу «в общее дело» за столом, сами маясь в безденежье и неопределённости. Правительство из телевизора несло какую-то чушь, меняя премьеров как грязные носки. Жена уныло отбывала за гроши часы на кафедре. Появлявшиеся и быстро отлеплявшиеся «друзья» уговаривали то торговать наркотиками, то вложить деньги в МММ. Порой казалось, что встретил человека, которому можно верить, которому можно внимать, пока не понял – никто и сам понятия не имеет, почему именно его выбрала Фортуна. Тот же Влад, за которым я плёлся по жизни с пятого класса и приводил всем в пример, однажды заявился с расспросами «за жизнь», а минут через десять попросил ему подыскать, кого бы чпокнуть из моих знакомых женщин. Сутенёра, как и наркоторговца, не говоря уж о серьезном поэте – из меня не вышло. И мне до жути, до мандража хотелось, чтобы Виктор Петрович, раз умеет видеть насквозь, прочёл бы всё это и словом бы, полусловом бы, намёком хоть – указал направление.
Это было уже какой-то идеей фикс, началом шизофрении, поскольку в соотношении – возможность этой встречи сводилась процентам к десяти. Вопервых, Астафьев и понятия не имел, что к нему едет какой-то неудачник, а во-вторых, я не имел представления, где он живёт. Адрес был один, что дал Костя Аркадьев – деревня Овсянка. И что я поеду мимо неё. Но где эта деревня, где дом Виктора Петровича, и дома ли он, поскольку живёт, в основном, где-то в Академгородке – словно занавес перед театральным действом, на которое не досталось программки…
Десять лет спустя по поручению солидного северостоличного издательства я приехал в Академгородок к Марье Семёновне, чтобы передать ей гонорар и подписать договор на издание «Царь-рыбы» двухтомником. За пару лет до этого я впервые был допущен в их с Виктором Петровичем квартиру, разговор с вдовой писателя происходил в коридоре, при следующей встрече она провела меня в свой кабинет, в следующий раз – в кабинет ушедшего от нас классика. А в тот раз мы сидели на кухне, меня угощали кем-то подаренным «Хеннесси», выдали пригласительный на 90-летие, которое вот-вот должно было состояться. Мария Семёновна подписывала договор левой рукой, поскольку правая не отошла после болезни. При каждой нашей встрече я узнавал какие-то бытовые детали из жизни Астафьева, ошалевший от количества известных имён, побывавших на этой кухоньке до меня. А тут как-то ненароком старушка поинтересовалась: «Женя, а вы-то Виктора Петровича знали?»
– Один раз встречались. Недолго. Я проездом был, – выдавил неохотно, не представляя, как ей передать наш диалог, поскольку – и её краем касался…
Повороты, крутые повороты. Дорога – петля. Саня притормозил у какой-то невзрачной лесенки в горку. «Тут у них – смотровая площадка. Давай поднимемся? Оттуда – сказали – Овсянку видно». Позже – уже облагороженную, с брусчаткой и рыбьим монументом – я посетил эту смотровую площадку бессчётное количество раз, но тогда, на излёте века, неухоженной, она мне ощущалась дороже. Если говорить – потрясён видом – этого будет мало. Широченный Енисей небрежно толкал плечом громады скал, катая на загривке маленькие судёнышки. От высоты кружилась голова и хотелось летать. Планировать на крохотные крыши домишек лежащей на ладони Овсянки. Намного позже я узнал, что Виктор Петрович любил выходить на берег Енисея и наслаждаться природным простором. Но ещё тогда почувствовал некую правильность в том, что он живёт именно здесь. Как Фёдоров приезжал на родные земли наслаждаться их ширью, так и Астафьев мог родиться и встретить мудрую старость именно здесь, где между водой и небом – неприступный забор молодых, вечнозелёных скал, покрытых тайгой. В подобном величии, казалось, не могло происходить ничего мелкого, подлого, суетного… Но первый встреченный в Овсянке мужичонка на вопрос «Как найти дом Астафьева?» внаглую залез в кабину, разя перегаром, бормоча, что он нам покажет дорогу, поскольку – двоюродный брат. А когда Санька посетовал, что наш грузовик не проедет по узенькой асфальтовой дорожке – что оказалась направлением, мужичок высыпал с мешок отборных матов, и, соскакивая на землю, поклялся, что скажет Вите, чтоб он нас не пускал. После чего припустил вдоль домишек к кирпичному особняку. Зачем ему непременно было – доехать, если там – и сотни шагов не будет?
Санька проворчал, что надо найти, где разворачиваться. Словом, за мужиком в распахнутой рубахе – со стопкой книг пришлось идти одному. Рассматривая кирпичный новодел, подумал про себя: «Ничего себе – классики живут!». Однако домишко на Щетинкина выглянул из-за барского здания углом с окошком – словно подмигивая: «Здесь я!». В детстве я частенько бывал под Волгоградом, в селе Моисеево, где всё мне казалось странным. Мы посещали кладбище, где похоронены матушкины родственники. Могилы – без оград, с деревянными крестами. А живые, наоборот, хоронились за высоченными заборами, страшнее которых были только безразмерные чёрные ворота, в которые Санькин грузовик точно бы проехал. Поэтому забор и зелёные ворота с калиткой, преграждающие вход, не показались мне чем-то особенным. Мужичок проскользнул в калитку палисадника и принялся долбить в окно с криками «Витя! Витя! Дай десятку!», совершенно не обращая внимания на моё присутствие и, вероятно, забыв о своём обещании на меня «настучать». Затем он перебежал к другому окну, продолжая стучать и выкрикивать, не меняя экспрессивности.
В подобной ситуации нажимать на звонок над калиткой или каким-то образом пытаться проникнуть во двор с моей стороны показалось чем-то неуместным. Не знаю, как бы поступил в подобной ситуации Виталик из юности, но я просто стоял поодаль, ожидая, чем всё это закончится. Виталику было бы проще – он племянник известного артиста. Я же – выпустил одну книжечку хреновых стихов.
И когда показалось, что, собственно, нечего ждать – пора возвращаться к грузовику, поскольку никто «двоюродному брату» не открывал и, в соответствии с логикой, никого не было дома, калитка внезапно распахнулась, и прежде чем из неё выставились костыль и нога, раздался такой сочный и дребезжащий с хрипотцой мат, что «двоюродный» как-то сник, уменьшился в размере. Вполне разумным существом он подскочил к вышагнувшему из калитки старику в замызганной фуфайке и белой, пенсионерской, кепчонке. Как я понял, всё у него получилось, приняв денежку, спешно ретировался, мимоходом кивнув на меня: «До тебя, Витя, приехали». Перебирая ватными ногами, я засеменил навстречу дедуле, с ощущением полного обмана. Разве мог этот хромой, чуть сгорбившийся старик в фуфайке – несмотря на лето, быть всемирно известным писателем?
В моём голопузом детстве – наш сосед, отсидевший в общей сложности лет 40 до и после войны, в затёртом костюмчике и точно такой же кепочке более походил на писателя, поскольку каждому благообразно кланялся всей головой, здороваясь.
– Ты откуда? – тоном, которым материл родственника, спросил Астафьев. Услышав ответ, спросил спешно: «Витька Баянов жив?».
– Он главный редактор у нас… – замямлил. – Дней пять назад его видел.
– Проходи, – Астафьев развернулся, прихрамывая, исчез за воротами.
Он вообще двигался как-то однобоко, скособочено. Это потом я узнал, что у него не видел один глаз, и сухая рука. А тогда его перемещения по двору мне показались странными и неловкими. Невежливыми даже, потому как, знакомясь, он не подал руки. Выложив на стол, уютно примостившийся между деревьями, подарки со словами «Это вам наши передали», хотел добавить, что там и моя книга есть, но почему-то промолчал.
Прохладно, если не сказать – небрежно, Виктор Петрович, продолжая опираться на костыль, что при его массивной фигуре более напоминал трость, переложил пару-тройку книг, не заглядывая внутрь, где ему исписали пожелания и выражали любовь, и уставился на меня, чуть шевеля губами, словно вспоминая. Видимо – вот он! – ожидаемый рентген, шаманство и мудрость. Внутренне я изготовился, что сейчас меня далеко пошлют или, в лучшем случае, попросят передать привет Баянову. Если на то пошло, я ранее не только не знал, где живёт Астафьев, но и слабо представлял его внешне. Старик передо мной походил на свои фотографии в книгах только паутиной морщин и, словно плохо оттёсанным, гранитным подбородком. «Одним взглядом опустит» – вспомнился Кердаш, и, понимая, что терять более нечего, вперился классику в глаза, где, на удивление, обнаружил абсолютное молодое озорство, слегка подёрнутое лукавинкой.
– Как, ты сказал, тебя зовут? – выдал Астафьев. Следующей фразой, судя по этим глазам, могло быть: «Ну и бабское у тебя имечко!».
– Стреклинский. Женя, – почему-то захотелось ему рассказать, что это не моя настоящая фамилия. Та, настоящая, ещё могла бы произвести впечатление…
– Знаешь, Женя, у меня нога болит, – сквозь зубы, словно извиняясь, выдал классик. – А выпить хочется, пока бабка не видит. Ты бы не мог мне в погреб за помидорами слазить? А то – закусить нечем. Я бы сам, но вот – нога… – и постучал костылем по лавочке.
Райцентровский паренек, я прекрасно представлял себе погреба. И у нас в доме был, и в гараже, и у родственников, поэтому не увидел в просьбе ничего странного.
– Конечно, Виктор Петрович. А где он у вас?
– Пойдём, пойдём, – засуетился Астафьев, и при всей своей однобокости в движениях на удивление шустренько припустил за дом, где оказалось крыльцо.
Миновали тесные сенцы, прямо как у моей бабушки, оказались в доме.
– Вот так тут и живу! – обвёл костылем Астафьев. – Холостякую, можно сказать. Да не разувайся ты! Я уже натоптал.
Краем глаза я ухватил часть комнаты слева, где недавно хозяин принимал Ельцина, а несколько лет спустя – Мария Семёновна примет Путина. Но это будет уже не та комната с половиком, это уже будет – музей. Погреб у Астафьевых оказался неглубоким и тесным, у бабушки моей – и то в два раза шире. Притом – или не было, или Виктор Петрович не побеспокоился про свет – почти тёмным.
– Да с краю где-то были! – возвышаясь надо мной, утекая к потолку, Астафьев указывал костылем.
Чиркая зажигалкой, пригнувшись, я не мог найти банку с помидорами.
– Виктор Петрович – тут только ассорти! С огурцами!
– Ну и давай их! Сойдут. Замариновались.
Уже потихоньку соображая, что имею дело с вполне земным и старым человеком, самостоятельно, без указаний, подхватил открывашку и сдёрнул крышку с трёхлитровой банки. Виктор Петрович уже стоял с ложкой наготове и неожиданно ловко, едва я отступил, принялся вылавливать в тарелку огурцы с помидорами, к которым аппетитно налипали укроп и колечки лука. Дальше – намечался вполне закономерный сценарий. Вот уже и бутылка была вытянута из холодильника. Интересно будет встретить через столько лет Кердыша и сообщить непринуждённо: «Вот ты с Фёдоровым, а я с Астафьевым выпил». Я уже окидывал взглядом кухоньку в поисках рюмок, пока старик приговаривал: «Ох, и спасибо тебе, парень. Помог. Ты так всем помогай, ладно? Прямо как Бог послал…». С полной тарелкой и бутылкой вернулись к столу во дворе. Семенившая впереди спина в фуфайке вдруг как-то замерла, и когда тарелка из моих рук притулилась рядом с книжной стопкой, Виктор Петрович повернулся и как-то неожиданно строго поинтересовался:
– А ты куда едешь-то?
– В Балахту, я в командировке.
– Ну езжай, Женя. Не задерживайся уж. А обратно когда?
– Послезавтра – думаю.
– Вот послезавтра и заезжай. Я как раз твоим – подарочек приготовлю.
Как до утки дошло – ехать мне дальше с Саней трезвым. И почему-то обрадовало. Всё лучше, чем воспоминания Кердыша. Виктор Петрович скучать бы, конечно, не дал, уже ощущалось, что он мог и хотел рассказать кучу всякого забавного и интересного, в усмерть – заговорить, но я всё равно буду лишним за этим столом под кронами, где более желанная компания: водка, закуска и книги. Моментально расползлось чувство обоюдной неловкости, из которой я выпрыгнул через калитку со словами:
– Конечно же – заеду!
Через два дня мы возвращались, но Виктора Петровича дома не оказалось. Какая-то бабуля из соседей сообщила, что он прихворнул и в город уехал.
А тогда, нырнув в кабину, на вопрос Сани: «И чего он тебе сказал?», ответил: «Да ничего особенного». Впереди маячило более ста километров до Балахты, переправа на пароме через Енисей, длинная дорога назад, во время которой я думал, перебирал нашу крохотную встречку, внезапно осознав – он мне сказал если и не всё, то самое главное.
Родина
Года три назад сгорел дом, где я родился. Продали мы его в середине 80-х. Неоднократно перепродавался, уходя из рук одних пьющих людей к другим, более пьющим. В итоге – сгорел. Ещё год назад с асфальтированной трассы улицы Новая можно было заметить его обугленный, без крыши, остов. А этим летом, специально заехав, обнаружил ровнёхонький пустырь. Из былых пяти красавцев кедрача на участке – остался один. Из трёх берёз – ни одной. Ни сарая, ни гаража, ни ели, не углярки. Заросший пустырь.
Соседние дома – стоят целёхонькие. Конечно, преобразились как-то, изменились. И не скажу, что обветшали. Дом Захаровых напротив нашего – даже какой-то модернизированный, с пластиковыми окнами, с параболической антенной. Всё за тем же высоченным забором. Только без Захаровых.
Дядя Дима – как я сейчас прикидываю, и пятидесяти не было – был первым увиденным мной покойником. Высоченный, плечистый. Причина – сказали – на работе надорвался. Крановщиком работал. Поэтому я сразу же решил, что в крановщики не пойду. Это был единственный раз, когда пустили внутрь дома Захаровых – мама привела проститься с дядей Димой. Тот был другом моего отца, которого не стало ещё до того, как я начал осознавать окружающий мир, и тетя Нина Захарова отчего-то всю жизнь мою мать к дяде Диме ревновала. А меня особо не любила – считая побочным сыном своего мужа. Единственным основанием для этого являлось то, что тётю Нину боялись все: и дети, и взрослые. Потому что она была – алкашка. Этот «прозвище» до сих воспринимаю как признак полной неадекватности. Эта маленькая, субтильная женщина в косынке могла пнуть, обматерить любого, кто встретился по дороге. Запустить камнем. И в окно. Приволочь и перекинуть через забор где-либо найденную дохлую собаку.
Жили мы по улице Горной. Более широкой, чем ещё пара улочек от нас до холма, на котором располагалось городское кладбище. Причём улица была ровнёхонькой, без бугорков. Лишь с мостиком через ничтожную речушечку под названием Маральник. Возможно, улицу назвали так потому, что ранее была ближе всех к тому холму, на который попасть хочется в самую последнюю очередь. В середине 70-х автомобиль ещё был особой роскошью. «Городских» хоронили, подвозя гроб на бортовых машинах либо на пассажирских ПАЗиках, куда он входил впритык.
Местные же уносили своих покойников – по шесть мужиков, подставив плечо. И покойники плыли в своих красных лодочках, свысока, над заборами прощаясь с нами, жителями пригорода. Как красноярцы, иронично, с чёрным юморком намекая на свой почтенный возраст и серьёзные заболевания, поговаривают: «На Бадалык пора», так и мои земляки на вопрос о самочувствии отмахивались: «Скоро по Горной пронесут». И их несли.
Тетя Нина Захарова сгорела от водки в конце восьмидесятых. Их с Дмитрием дети, две дочки, давно выросли и разъехались, кто куда.
Рядом с ними, перед мостком, жила супружеская пара. Жилистый невысокий дед Иван и его баба Дуся. Именно её перепалки с тетей Ниной были наиболее слышны окрест. Дело в том, что баба Дуся не могла при появлении тёти Нины быстро скрыться за оградой. Огромное, рыхлое, беспомощное после инсульта тело, на котором метрономно качалась головка в неизменном – белом в горошек – платке, уносилось и приносилось на скамейку подле забора мужем, безумно её любившим. Кроме Дуси, Иван не воспринимал никого. И нас, детей, в ограду и в дом не пускал. Дуся же, загодя прихватив конфет и пряников, нас, шатавшихся по Горной без дела соплюх, привечала, зазывала и угощала. Но мы, похватав вкусности, норовили сразу же убежать. Поскольку её трясущаяся голова была неприятной. Но более всего боялись хмурого, исподлобья взгляда деда Ивана. За всё время я только дважды услышал, как он, кратко выстраивая в предложения слова, разговаривает.
Слева от нас, через мосток, в крохотном, но добротно построенном домишке соседствовала молодая вежливая Зинаида. С искусственным глазом. Зелёным, в отличие от природного голубого. Её взгляд был настолько странным, что, несмотря на приветливый голосок, мы боялись её пуще деда Ивана. Считали ведьмой из мультика. Глаз же Зина потеряла при соприкосновении с пряжкой мужниного ремня; между отсидками этот вихрастый красавец с утерянным в моей памяти именем обожал супругу ревновать и лупцевал по-зоновски: ремнём со свинцом в пряжке.
Находясь на перекрёстке, наш дом другим забором соседствовал только с мелкоогородистым участком другого деда Вани. Их так и различали: один – дед Иван, другой – дед Ваня. Забор у деда Вани был из простого штакетника, с большими зазорами, словно показывал, что скрывать хозяину нечего. Но огромный, прочный кирпичный дом рассказывал, что есть! Дядя Ваня постоянно стоял спиной к крыльцу, облокотившись о калитку, покуривал «Беломор» и каждому проходящему глубоко кланялся головой, снимая пенсионерскую фетровою кепчонку. Затем я неоднократно наблюдал такой поклон-приветствие. В зонах.
На самом деле дядя Ваня убил одну тысячу четырнадцать человек. В пятьдесят первом году. Попав в плен, партизанил. Пускал под откос немецкие поезда. И скольких убил тогда – кто считал? Репрессированный как шпион, в итоге не выдержал уркаганские порядки. С группой товарищей наворовали взрывчатки, под руководством деда Вани однажды ночью обложили барак. В современном кинематографе эта история, вышедшая, видимо, из архивов, репродуцируется из фильма в фильм, если сюжет «лагерный». Но даже киношники не могут себе вообразить истину. Тогда, в 51-м, тысяча четырнадцать зэка не дождались бериевской амнистии. А дядя Ваня дождался. Поскольку пошёл уже не по политической, а по уголовной статье. При том: если не ответишь ему поклоном на приветствие, обязательно приходил в дом и выговаривал матери, что воспитывает хама и невежливого человека. Наверное, у него было на то право – сам ошибся. Его сын сидел. Вышел в начале девяностых. На радостях дед Ваня выпил и тихо отошёл в иной мир. Сынок устроил неделю разгульных поминок. После чего его нашли на крыльце кирпичного дома с отрубленной головой. Говорили, что при «посадке» сдал своих подельников. Кто-то из них также вышел. И отомстил.
Напротив этого кирпичного дома до сих пор стоит дом Кунгурцевых. С резными завихлюшками над окнами, всегда выкрашенными зелёным. И калитка у них была зелёной. Забор – высокий, сплошь. А макушки досок – зелёным. За забором нервная, невидимая, только слышимая собачонка. Их сын Серёга дружил с моим старшим братом и частенько таскал меня на плечах, играл на гитаре, курил «Беломор», щёгольски, по-битловски потряхивая гривой смоляных волос. Чуть позже я разыскал его, с седыми висками, с пегой шевелюрой, в Новокузнецке, где он работал охранником в местной тюрьме. Домашний адрес мне дали его родители: Дуня и Тимофей. Я хотел сделать о нём материал к прекрасной дате – выводу советских войск из Афганистана, поскольку Серёга Кунгурцев оказался в самой первой сотне подле Кабула в 1979-м. Материал предназначался для «Комсомольской правды», но она его не взяла. Не взяли и в местную газету. Черновиков не осталось. Но я помню то – самое первое в моей жизни – интервью. И фамилии первых погибших.
Рядом с ним, напротив нас, через перекрёсток, жил дядя Толя, который разговаривал исключительно матом и исключительно со своей кобылой. С автомобильным транспортом, напомню, ещё было напряженно, и дядя Толя работал, если сказать по-современному, чтобы было понятно, экспедитором. Запрягал с утра лошадь в телегу и ехал в город, где развозил молочную продукцию по магазинам. В треугольных пакетах и стеклянных бутылках. Летом мы вставали пораньше, чтобы застать этот момент, и как только дядя Толя со своим «Но-о, бляха!» выезжал за ворота, подбегали к телеге с выкриками «Покатай, дядя Толя!». На его молчаливое согласие – на ходу запрыгивали на жёсткую телегу и, болтая ногами, ехали… минут пять. До асфальтированной улицы Новая. И мы, и дядя Толя знали, что нам можно «только до дороги». Притормаживая: «Т-тпр-ру, бляха», дядя Толя дожидался, когда мы все спрыгнем, и катил за молоком.
Мы бежали по колдобинам, по грязи, по траве назад, в свои улочки, домики, притулившиеся под кладбищем, и кричали во всё горло это «бляха», чувствуя себя повзрослевшими, русскими и вполне – советскими. Не представляя, что где-то может быть другой мир, другое детство. Нам нашего было вполне достаточно.
Высоцкий
И дома – благоприятствовало: мать в ночную смену, отчим вернётся с работы к двенадцати. Не спалось, вертелся. Из шпионских детективов серии «Подвиг» постоянно крутилось – «продумал всё, до мелочей». За полночь – ясно сложилось: последний автобус от дачного посёлка уходит в десять. Около десяти же Нефёдовы обычно уезжают домой на авто. Половина улицы пустеет. «Подвиг» продолжал обещать – «всё будет сделано чётко и быстро». И никто не услышит. И не узнает.
Форточка осталось на ночь открытой, свежело, и я зябко кутался в одеяло, ещё раз прокручивая в голове процедуру предстоящего преступления. Вероятно именно так – «преступление» – охарактеризуют, если поймают. Но мне тогда предстоящее казалось естественным, как сама справедливость. Поэтому не мешало бы уже и поспать, поскольку завтра встать надо пораньше, чтобы застать Еноху дома. Потом предки угонят его по дачным делам, или сам свистанёт куда – Андрюха Енохин такой: во время летних каникул поймать можно, пока не проснулся.
Жалко, что свой велосипед – как назло! – «приказал долго жить» после недавней поездки к сестре за город. Вначале «восьмёрку» засадил, затем – цепь разболталась… Значит, завтра предстоит договориться с Енохой по поводу велосипеда и зайти к нему около девяти вечера. На велике до дачи – минут сорок. Туда-сюда: ещё 20 минут. Всё сходится. К десяти приеду на дачу. Если кто спросит: чего на ночь глядя, то скажу, что мать попросила посмотреть – высохли ли полы, которые мы покрасили пару дней назад. Тогда, накануне, всё и произошло.
…Дача была маленькой, новой и уютной. Не зря предки раскошелились. Я сразу же принялся за оформление – предназначенной для меня – комнаты на втором этаже. Крохотная – кровать и проход на балкон, но – своя! Стены внутри оббили листами крагиса, обоев не хватило, но, имея планы, я предложил маме не тратиться. Наклеил на них огромные разноцветные афиши любимых кинофильмов и портреты известных актёров. Афиши нам с Енохой задарил какой-то подвыпивший мужик из мастерской у кинотеатра, куда мы, увидев открытую дверь, не преминули залезть. Мне всегда было интересно, откуда они берутся у входа в кинотеатр, и именно об этом спросил у оказавшегося в мастерской мужика. Матерясь и бурча про «ворохи», он выдал нам кипу, которую с Енохой мы чуть ли не до драки затем делили. Со стороны мужика это было весьма умным, поскольку, если бы его в мастерской не было, мы бы их просто стырили. Зачем, собственно, и лезли – чего-либо стырить. Природная наглость помогла нам не только выкрутиться, но и обрести подарки.
Портреты актёров я вырезал из журнала «Советский экран», что выписывала мама. Хотя – не совсем так. Сотрудники почты отчего-то любили писать номер нашей квартиры авторучкой, где им его было виднее. И приходилось – на лбы и щёки любимых артистов. Меня это жутко бесило. И некая мечта – сниматься в кино – постепенно таяла. Зачем быть знаменитым, если тебе на морде пишут номера какие-то тётки? Поэтому я брал «Советский экран» в городской библиотеке, вырезал портреты с обложки, бритвочкой срезал кармашек для формуляра и переклеивал его на наш журнал, испорченный номером. Штампа городской библиотеки у меня не было – и с этим ничего нельзя было поделать. Но пока подмена проходила незаметно.
Прикинув, что если буду лежать на кровати, куда упрётся взгляд – в центральную точку, почти под потолок – приклеил чёрно-белую фотографию Владимира Высоцкого. Маленькую, но – настоящую. В нижнем правом углу шариковой ручкой было набросано три слова: «Высоцкому от Высоцкого». И теперь каждый день артист и певец, которого совсем недавно не стало, улыбался мне еле заметной улыбкой, за которой – виделось – мудрое понимание всего, что со мной случалось и могло случиться. Отчего-то мне хотелось верить, что после смерти он переселился на эту фотографию и теперь всегда будет жить в этой комнате. Высоцкий и Высоцкий.
Не успел налюбоваться работой, как затопало по ступенькам, и в комнате возникла дылдоватая девочка с маленьким ротиком и смешливыми глазами. Поскольку город у нас крошечный, я узнал выделяющуюся невероятной белизной волос ровесницу из шестой школы. Пару раз она мелькала, заметная, на стадионе во время общешкольных соревнований, и единожды наблюдал её в волейболе, когда шестая играла с нашими девчонками. Но кто такая и как звать – до момента, пока она неожиданно не ворвалась в мою жизнь со словами: «Привет! Так вы этот домик купили?», – не интересовало.
Естественно, с такими волосами её могли звать только – Светой. Это я узнал чуть позже, но по всем законам логики она должна была как-то объяснить своё появление. Что она и сделала – тыкнув в окно пальцем:
– А мы ваши соседи! Через дорогу дом видишь? Наискосок. С зелёной крышей. Это наш. Нефёдовых здесь все знают.
Я посмотрел на основательный особняк, рядом с которым стояли «Жигули» редкого оранжевого цвета. Почему-то вспомнил слова мамы: мол, разрешено строить дачные домики не больше четыре на шесть. Потому и хитрили, строили в два этажа. По размеру рассматриваемого дома – предполагалось, что Нефёдовы каким-то образом обошли номенклатурное постановление.
Света же бесцеремонно разглядывала стены:
– Красиво у тебя тут! – прицокнула, рука – в бедро. – Это кто? Штирлиц?
– Тихонов.
– А этот толстый?
– Банионис.
– А это Высоцкий?! Правда? Настоящая фотография? У меня пластинка его есть. Там песня про жирафа, такая комичная.
– Дашь послушать? – я оживился.
– Ну, не знаю… – замялась Света. – Если только не поцарапаешь… А пойдёшь сегодня с нами купаться?
Река была совсем недалеко: преодолеть самодельную насыпную дамбу, полянку и галечный пляж. Когда мне сказали «с нами», я предполагал, что будет какая-то местная компания, с каждым из которой надо будет знакомиться. «Привет! А я Жэка Высоцкий» – «О, Высоцкий!», и какой-нибудь подколупчик навроде «А на гитаре не играешь?». С одной стороны, где-то, конечно, и приятно быть однофамильцем знаменитости, но вот эти всякие новые знакомства всегда оставляют осадок. Потому обрадовался, когда понял, что до реки мы со Светой пойдём вдвоём. Не прошло и часа после знакомства, а мы шуршим галькой под сланцами. У Светы они розовые, с тонкой резиночной, ярко разделяющей большие пальцы ног от остальных. Под цвет купальника. Как я думал – знакомство с её компанией оттягивалось лишь до пляжа, где ребятня и девчата давно плюхаются в воде, ныряя с огромного камня, едва видимого над поверхностью. Там могло одновременно уместиться бок о бок до шести ребятишек.
Так оно и было: с визгом, всплесками, шумно некая группка оседлала камешек, как воробышки у лужицы. Но Света повела вверх по течению, пообещав показать «обалденное». Действительно, галечный пляж – не лучшее место загорать. Под спиной всегда что-то колет, мешается. А тут натаскали крупных плоских камней и соорудили две приличные, обжигающие лежанки. Хотя после недолгого барахтанья в реке нагретые солнцем камни, тепло поглаживая, принимали мокрую спину.
– Как электрофорез, правда? – подмигнула Света.
Пришлось у неё поинтересоваться, о чем она? Как дочь врача, Светланка тут же принялась рассказывать о всевозможных медицинских приборах, которые лечат и то, и это, причем странными способами. Я тут же вообразил её привязанной, не могущей пошевелиться, стянутой туго-накрепко, когда тело щекочет электричество. Прикинул, что в этой ситуации, наверное, запросто можно сдёрнуть с неё купальник и, наконец, посмотреть, чего там у них, у девчат? Тем более, находящееся напротив, правда, в купальнике, было совсем рядом – стоит руку протянуть. Необычная, внезапная мысль о том, что вот так вот, почти с раздетой девчонкой впервые наедине, меня же и смутила. Она трещала про фантастические какие-то солярии в Москве, где недавно была с мамой, а я невольно восхищался длинными ногами, крупной родинкой на лопатке, светлым этим каре, почти как у Алисы Селезнёвой – только белого цвета, и даже – резиночкой от сланцев между пальцами ног. Мокрый купальник увлёк одну из лямок от прятавшейся под ней белой полоски, и я – потерялся в этом мире. Словно зажмурился, тёмный кадр – и вот совсем рядом, прямо над лицом, настолько близким, что оно не помещается в фокус зрения. От внезапности замямлил, что было в голове:
– Можно тебя поцелую?
И тут же пожалел об этом. Потому что стало происходить непонятное. По логике – мне сейчас должны были заехать ладонью по макушке, сказать какое-нибудь обидное слово, оттолкнуть и убежать, хлопая себя сланцами по пяткам. Но Света лишь задрала носик, уводя глаза в просторное, без облачка, небо, отчего её взгляд стал задумчивым, не присутствующим, и медленнее обычного растягивая слова, сообщила:
– Об этом вообще-то не спрашивают… Пока никто не видит, быстренько.
Мне показалось, что коснулся губами солоноватого узелка пионерского галстука, только мягче, даже мягче, чем шёлк… И вот тут она оттолкнула, поднялась, оставив на камнях мокрый контур, и в три прыжка, смеясь, оказалась в реке. Внезапно я почувствовал, что известный мне Жэка куда-то пропал, вместо него, телком, к воде поплёлся некий манекен. Причём ему на этот раз было всё равно: купаться или не купаться. Окунаясь в воду, щурясь от брызг, которыми из ладошек Света на меня плескала, пытался поймать некую ускользающую сферу. Она отделялась от головы, размером с неё, только пустая до прозрачности и, подобно воздушному шарику, юлила над водой в только ей ведомом направлении. А голова при этом стала действительно пустой, напечённая солнцем, не могла выдать ни одной путной мысли, кроме странного: «А дальше-то чего?».
А дальше, устав прыгать с камня, к лежакам потянулась шумная ребятня. Хорошо, что и Светке она была незнакомая, чужая. Потому мы побрели назад к дачам. Мне приспичило взять её за руку, но девчонка почему-то раздражительно вырывалась: «Отстань, увидят!». Хотя я не понимал, что в этом плохого. Ну, увидят! Ну, так мы теперь… как бы это… вместе, что ли. Дружим, наверное. Либо та прозрачная сфера лопнула где-то мыльным пузырьком, либо листва деревьев при дамбе загородила тенью от солнца, потому как почувствовал, что оттолкнулся от важного слова, и понял, как быть дальше.
– А в городе сейчас «Опасные гастроли» идут. С Высоцким. Пацаны говорят – боевик про революцию. Пойдем завтра?
Ещё не услышав ответ, почувствовал, как отхлынула непонятная раздражительность сбоку, заметил, как чуточку ссутуленная при ходьбе спина с родинкой распрямилась… Вечером долго не засыпал, вспоминая солёный узелок галстука, представляя, как пробую его снова и снова, снова и снова.
…Высоцкий прыгал, дрался, стрелял, пел весёлые куплеты, а я держал белобрысую Свету за руку, и это было среди людей спрятано темнотой зала. Иногда поглядывал как бы на её отдалённый профиль, словно из другого мира, где мельтешат пылинки в луче кинопроектора, и понимал, что все мои картинки с актёрами, мечты о ролях в кино должны быть не только моими. Даже не так. Они больше не должны быть моими. А только Светиными.
На дачу не поехал в связи с поздним временем суток, поскольку провожания до дому затянулись – благодаря каким-то немыслимым траекториям перемещения по городу в поисках тёмных парковых мест, где губы настойчиво пытались продолжить изучение влажного бантика. Но постоянно кто-то откуда-то появлялся. То подвыпившие мужики, шумно раздвигая кусты, искали место для отправления нужды и матерились при этом. То внезапно загогочут рядом более старшие парочки: пацаны с усишками, девчонки в чулочках. А то и вовсе, пыхтя и капая слюной, высунется в предел видимости и уставится подозрительно морда кавказкой овчарки, с трудом управляемая тщедушным мужичком. И только в подъезде, прижав к почтовым ящикам, до первого стука открывающейся входной двери наверху удалось дважды её чмокнуть. Дверь спугнула, Света суетливо запрыгала по ступеням, махнула «Пока!» и исчезла, оставив жжение на щеках, лёгкую досаду с привкусом счастья. Тем более, теперь я знал её телефон.
Из дома, не удержавшись, крутанул диск, набрал. Но никто не снял трубку. Минут через десять позвонил ещё раз – с тем же успехом. Мне и в голову не могло прийти, что стал обладателем несуществующего номера…
…А ночью дачу обокрали. Причём унесли – так, по-мелочи. Ножик, ложки, корзинку для рассады. Пару окон разбили, обои отодрали кое-где. Недавно покрашенные полы нарочито облили оконной краской: зелёные пятна на коричневом. Особо мама жалела бабушкино настольное зеркальце, похожее на крупную подкову, говорила – венгерское, по наследству. Но я особо не слушал, с раскрытым от негодования ртом оглядывая разорванного Баниониса, одноглазого Штирлица, смятые куски моих афиш на полу. И выдавил из себя неприятный хлюпающий звук только когда сообразил, что на месте фотографии Высоцкого, потупляясь, словно виноват, сморщился прямоугольник желтоватых обоев с сухими кристалликами клея. Ещё оставалась надежда, что хулиганы просто сорвали фотографию, смяли и кинули на пол вместе с остальными обрывками. Перебрал всё, капая на куски былого богатства невесть откуда взявшимися слезами.
Вышел на балкончик, подставив лицо солнечным лучам, чтобы отупеть, не чувствовать обиды, особо нелепой в прекрасный идеальный по погоде летний день. И вот как потянуло… Будто бы та недавняя сфера-шарик выпрыгнула поплавком и поплыла, приманивая взгляд. В оконной раме дома с зелёной крышей, что наискосок сиротливо торчала знакомая фотография. Не веря удаче, подбежал к соседям – точно! Наверное, хулиганы её обронили впотьмах, а Светка или её родители – нашли!
А тут и она в смешных оранжевых перчатках, с лейкой, с косынкой на голове вышагивает от грядок.
– Свет! Спасибо! Вы нашли мою фотку!
– Какую?
– Высоцкого!
– Ты о чём? Не поняла.
– Да вот у тебя в окне торчит!
– Так это моя. У меня такая же, как у тебя, есть.
– Ну, там же подпись стоит! – догадался, а то уже и сам себя за идиота начал считать.
– Ах, ты не веришь?! – лейка под ногами, руки в резиновых перчатках – в бок. – Ну иди, смотри внимательно. Нет там никакой подписи.
Прошёл в ограду, не отрывая глаз от прямоугольника с изображением Высоцкого. Вблизи уже, у рамы – впился. Уголок фотографии аккуратно обрезан. А артист на ней улыбается уже не загадочно, а ехидно: мол, слабо тебе, Жэка? Попробуй – докажи!
– Вас обокрали, а я крайняя, да? Да это те пацаны с речки, наверное! Чужие. Не подходи ко мне больше! Понял?
…Итак, утром дойду до Енохи, попрошу велосипед. Потом буду ждать вечера. Может быть, к сестре съезжу. А пока спать! Спать и не вспоминать больше тех почти незнакомых пацанов. Я – сумасшедший. Мне только показалось, что я их видел когда-то на общешкольных соревнованиях, болеющих за женскую волейбольную команду шестой школы. Тогда почему, если из одной школы, они не поздоровались со Светой на речке? Почему она сделала вид, что их не знает?
…У сестры сидел как на иголках. Старше меня на двенадцать лет, она недавно вышла замуж и жила теперь на окраине, в частном секторе, водилась с крохотной дочуркой и пекла вкусные сладкие пироги. Не то, что мама, у которой вечно то подгорит, то сахара столько, что в рот не возьмёшь. Возможно, увлёкся поеданием, потому как едва не опоздал на автобус. Задержался-то минут на десять, запыхавшийся от бега – жал кнопку звонка, но никто не открывал. Еноха, сволочь, уже куда-то смотался. А ведь говорил же ему утром, что мне важно. Очень-очень важно одолжить у него на пару часов велосипед. Вот что теперь делать? Вот тебе и «продумал всё до мелочей…»
Побрёл наугад по городу, опустив руки, сжавшись, словно ударили в «солнышко» и ещё не отошло. Ненавистные стрелки часов давно перевалили за девять. На последний автобус до дачи – до автовокзала не дойти уже, поздно. Пешком до посёлка – и говорить нечего! Отчим придёт с работы около двенадцати… У кого же ещё из наших есть велосипед? Перебрал на память всех одноклассников, кто что говорил, кто хвалился. Отбросил Влада, вернулся. Нет, только не Влад…
С ним лишний раз лучше не связываться. Ехидный, болтливый, всегда готовый поднять на смех. Талант – найти больную точку, конопатость, скажем, и подразнивать, капать на нервы. Дрались даже. Давно, правда. Но после – вообще старались друг друга не замечать. А кто-то – Еноха тот же! – на первомайские сказал, что с Владом катафотками обменялся…
Ноги привели сами. Пару лет назад был на дне рождения, вспомнил квартиру. Звонка не было, постучал.
– Знаешь, Жэка, велосипеда я тебе не дам, – с какими-то знакомыми киношными интонациями, но непривычно серьёзно, выслушав мой сбивчивый рассказ, Влад вынес вердикт. – Какой с тебя партизан? Твои конопушки за два километра видно. Точняк – опознают и предкам заложат. Сам поеду. Адрес скажи?
– Нет. Влад. Тут… самому мне надо. Дай велосипед. Просто – дай. Через полтора часа – верну.
– Да и чёрт с тобой, – Влад отмахнулся, словно я был не больше назойливого воробья. – Бери. Змий Упрямыч.
Никогда ещё я так быстро не работал педалями. Часы показывали без четверти десять.
…Нигде я такого больше не видел. Пожалуй, только в кино и хронике про рабочие забастовки первой революции. Толпа надвигается. Стихийно, лавиной. Людей жмёт друг к другу, исчезает меж ними пространство – стеной. И тут оружейные залпы жандармов – и люди врассыпную, отхлынули. И когда я смотрел по телеку про «кровавое воскресенье» и прочие, то невольно возвращался к крошечной своей памяти, не узнавая. Ведь всё было не так!
Самое первое, что я помню в своей жизни – лицо сестры, огромное, склонившее, чуточку страшное, потому что серьёзное. Ей почти пятнадцать, но для меня – взрослый человек, которого надо слушаться. «Опять упал!» – охнула, поднимая меня и укладывая в кроватку. Но я не чувствовал боли. Я спал. И этот миг – встревоженное лицо сестры как бы часть сновидений. Затем – именно воспоминания. Не обрывки ощущений, не связанные меж собой картинки, а логичная цепь. Утром сестра вернувшейся с ночного дежурстве маме рассказывает, что я опять ночью падал. Мама посылает её к соседу дяде Диме спросить струганную доску. А вечером доска, втиснутая меж дужек кровати, отгораживает меня от пола.
Дальше – вновь логика отступает. Я не помню свой трехколёсный детский велосипед – только по фотографиям представляю. Но помню приближение земли к лицу: чётко, покадрово. Кровь на пожелтевшей траве. Разбил лоб и нос. Велосипед просто разломился. Сам по себе. Дядя Дима его сварил аппаратом, но я всё равно больше к нему не подходил – предатель. В зеркале – у меня на лбу короста. Если её чуточку отковырять, то щиплет. С ней я не похож на других людей. Я – урод. А мне говорят, что – нарядный. Мы идём в городской клуб. Там скучно. Какой-то дядька играет на гитаре. Голос неприятный, грубый. О чём поёт – непонятно. А потом вдруг становится смешно, потому что дядька запел весёлую песню про попугая и жирафа.
Когда мы заходили в зал, то люди седели в креслах, никто никому не мешал передвигаться. А тут вдруг все одновременно вскочили, вначале хлопали, а затем от людей стало тесно. И хотя в зале включили свет, я уже не видел ни сестру, ни маму, толпа зажала их, спрятала, потащила к выходу. Я вскочил на сиденье, чтобы их найти и – растерялся. Люди выходили и в те двери, в которые перед концертом входили и мы, и в другие – у сцены. Кто-то раздвинул тёмную штору и открыл ранее невидимый проход. И мне показалось, что мама там, среди выходящих. Упёршись лицом чуть ли не в попу какой-то толстой тётеньки, я семенил за ней. Но оказавшись в коридоре, решил тут и остаться. Мама будет меня искать. И ей проще меня увидеть не в толпе, а стоящим отдельно.
Уже и толстая тётка, и все остальные утекли по темноватому коридору. Он стал пустой и жуткий. За ним как из-под воды бубнили голоса, непохожие на людские, дробящиеся, однотонные. И вздрогнул, и готов был разреветься, когда неподалёку хлопнула дверь, из неё выскочил высокий дяденька и промчался мимо, завернув куда-то за угол, где виднелся краешек лестницы наверх. И я подумал, что у него надо было спросить, как отсюда выйти. Пусть даже к бубнящим, но не одному по гулкому коридору. Неподалёку послышался голос. Почти как у дяди Толи, что материт свою лошадку. Хриплый, в нос. Потянуло папиросой. И я вошёл.
Убежавший дверь не прикрыл, и в комнате, полулёжа на диване, курил дядька, который недавно пел про жирафа и попугая. Он меня увидел и замер от неожиданности, потом резко сел и спросил:
– Ты откуда такой… красивый?
В последнем слове послышалась улыбка. Я потрогал постоянно чешущуюся коросту и сказал:
– Меня Женька Высоцкий зовут.
– Как?! – гоготнул артист и отложил гитару.
– Ягений, – поправился, вспомнилось, что взрослым надо называть полное имя. Правда, оно было сложным и не всегда получалось сказать его правильно.
– Ну ты, малый, даёшь! Так не бывает! – засмеялся артист. – А мамка твоя где?
– Потерялась, – искренне сообщил. – А по коридору один идти боюсь.
Дяденька вроде как не собирался на меня ругаться, потому что, привстав, хлопнул по плечу:
– Ничего, Жентяй, не ссы, прорвёмся. И мамку твою найдем.
Наклонился к столу, давя в пепельнице окурок. И вдруг замер:
– Высоцкий – говоришь? – подмигнул, подхватил авторучку, что-то быстро черканул на бумажке и протянул мне.
Читать я не умел, но на фотографии артиста узнал. Она была не совсем чёткая, сделанная вблизи. Часть причёски и шеи остались за кадром. Чуть отвернувшись, он смотрел как будто вдаль, но и косился на меня.
– Ну, пойдём… тёзка, – взял за руку, и с ним коридор не показался страшным. Нисколечко.
…Путь можно было сократить по берегу вдоль дамбы. Моя гибкая «Кама» легко огибала бугорки и ямки, а на владином «взрослике» пришлось жестковато. Явно не хватало роста, приходилось привставать, давая на педали. Грело только, что при этом ощущал себя ковбоем в вестерне. К тому же, приметив подходящие камни – крупные среди гальки, рассовал парочку по карманам. Отчего те оттопырились и вдавливались под пузо, но терпел. Так должны терпеть ковбои кобуру с пистолетами.
И успел. Прибыл без пяти десять, успев отметить, как приученные к расписанию оранжевые «Жигули» Нефёдовых показали зад вверх по дороге. Соседи справа также вышли, чтобы успеть на последний автобус.
– Женя? Чего здесь так поздно?
– Мама просила воды накачать для поливки. И полы проверить – высохли или нет. Пришлось красить после погрома.
– Так и не нашли, кто это сделал?
– Нет, – потупился.
Моё мнение участковый даже не спросил. Хотя, вряд ли я ему рассказал бы…
– Тетя Шура и другие, что ночуют, говорили, будто в тот вечер подростки на берегу костёр жгли, шумели, вроде как пили даже. И Светку Нефёдову там видели.
– А милиции чего же не сказали?
– Мал ты, Женька, не понимаешь… – соседка перебросила с руки на руку бидон с викторией. – Нефёдовых тронь только… Она главврач, он – в горкоме… Ну, пока, а то опоздаю…
А я поспешил к колонке, воду надо было накачать в бочку ещё днём, а тут как раз – по плану: можно дёргать рычаг и наблюдать, как соседка с бидоном и другие соседи скрываются за перекрёстком, спеша на остановку. На какой-то момент пришлось задуматься – докачать воды или уже к делу? И поплевал даже на ладони, на которые только что давила тугая ручка колонки, как заметил бабу Шуру, что всё лето жила на даче и в город не уезжала. Она шла к реке, волоча под мышкой огромный таз с бельём. Приспичило же постирать на ночь глядя! Вновь ухватился за тугую ручку, носик выплюнул в бочку очередную струю.
– Ты чего поздно так, Женька?! – проходя мимо ограды, поинтересовалась бабуля.
Вот всё им знать надо! Вот любопытные все не к месту! А когда нам стёкла били, носа, поди, никто не высунул.
– Полы проверил – высохли или нет. Сейчас на поливку докачаю и поеду.
– Днём надо было качать! Прошаландался где-то. Мы вот в колхозе: как солнце встало – в поле уже. И помладше тебя были… – ворчала, но уходила. Видимо, в основном ответ её удовлетворил.
Интересно, услышит или нет? От реки далековато. Сколько она там полоскать будет? Некогда рассуждать, получается. Вышел на улицу, осмотрелся. Как написали бы в «Подвиге» – озираясь. Никого поблизости. Засунул руку меж штакетин, отвёл шпингалет, калитку толкнул. Бегом – за угол, к высокому окну. Камень освободил карман – полетел ровнехонько в центр.
Мне представлялось, что как только камень стукнется об стекло, оно с грохотом разлетится на мелкие осколки – как в кино. Но глуховатый звук – бдзынь – оставил небольшую дырку, даже трещинами не пошла, и ещё глуше повторился внутри, на полу. Не достать фотку! Не достать! Так что второй – пригодился.
На этот раз прицельно в верхний угол – бздынь. На цыпочки дотянуться, просунуть руку в отверстие… До этого всё шло ровно, голова и тело выполняли задуманное, подчиняясь. А как коснулся клочка бумаги с изображением артиста, словно отскочил в прошлое, к вискам прильнули волны, наталкиваясь друг на друга.
…В кинохрониках толпа нисколько не напоминала ту, что меня чуточку испугала. Настолько, что потом иногда снилась. Она была неправильной, непривычной. И непривычность, как я потом понял, имело лицо. Не раз до и после приходилось видеть, как люди сбегаются к прилавку, если «выбросили» какой дефицит. Толкаются, теснят, бранятся – каждый за себя, а в целом – безлико. После просторного и пустого коридора она возникла передо мной как-то сразу, стоило артисту толкнуть дверь. Напротив, ближе к входу сидела вахтёрша, и телефон у неё звонил. За ней во всю стену зеркала, под ними – лавки. И люди, получившие одежду, уже в шапках, распахнутых пальто, обматывали шеи шарфами. Гардероб – справа, и там гул. Некий пчелиный улей, где всё логично, одни – ждут, другие отходят, с удовлетворением неся в руках верхнюю одежонку, словно тот упомянутый дефицит, словно – не отдадут, так и выгонят на мороз неодетыми.
И тут, почти одновременно, повернулись отовсюду: от зеркал, от гардероба, и даже вахтёрша выпучилась, подняв трубку, не поднесла её к лицу. Гул стих сам собой, дрожью, электрической цепью пробежало по телам нечто и дёрнуло их к нам. Забыв про шарфы, вещи в руках, люди неосознанно засеменили полукругом, теснясь плечами, в шапках и без, тихо, словно зажмурившиеся. Но как только вахтёрша зачем-то сказало «алло», объединяющий их ток заставил ускориться – они почти уже бежали к нам, они вот-вот втиснули бы нас назад, в коридор, если бы мы отступили. Вернее, это я невольно прижался к ноге дяденьки, стремясь спрятаться за него. Но одна рука прижимала к груди непонятную фотографию с буквами, а другая была втиснута в его ладошку, не особо позволяя маневрировать…
И сейчас мне внезапно захотелось куда-то спрятаться, рука с фотографией задрожала, стала почти чужой, лишней. Как вёревку, как канат на физре, я потянул её на себя прямо по краю получившейся дыры – защипало, на стекло брызнуло красным, и только тогда ощущение себя целого вернулось. Под окном рос ревень, рванув лопух, прижал его к ране, и понял, что времени не осталось. Баба Шура могла услышать, прополоскать, вернуться. А мне ещё закрыть за собой калитку, в свою ограду – выкатить велосипед, и свою калитку закрыть. И непонятным стало, куда деть фотографию. Запихнул, не глядя, в карман, на велосипед – и по дороге до асфальта.
Механически привставал, давя педали, прислушиваясь к себе новому, навсегда потерявшему ту волшебную полую сферу, что крутилась вокруг головы. А без неё хотелось плакать. Над телом, которое оказалось мерзким, противным, измазанным. Решил, что Влад подождёт – мне надо к реке, умыть лицо и руку от крови сполоснуть. Сделал крюк – по какой-то незнакомой улице разогнался до того, что перемахнул через насыпь дамбы прямо на велосипеде. Не совсем удачное место – не раз его проезжал мимо. Здесь никто не купается: берег обрывистый, можно спуститься, лишь держась за корни одинокой облезлой сосны. Но ничего не оставалось.
Руку посёк прилично. Мама всегда заставляла носить с собой носовой платочек, и вот он-то мне как раз сейчас и пригодиться. Но в кармане что-то мешало, было лишним. Вместе с платком из него выудилась помятая, с конопушками крови, фотокарточка. Отчего улыбка артиста стала немного грустной, растерянной. Он как бы хотел сказать:
– Ну как же это, Жэка? Гнилой ты пацан, оказывается. Во мне разве дело-то?
И действительно. Зачем мне такая его фотография? Мятая. Без подписи. Пока перетягивал запястье платком, зубами помогая пальцам завязать, лицо актёра ещё плыло вдоль берега, порой даже поглядывая на меня, если попадало под отражение просыпающихся на небе звёздочек. И когда исчезло совсем, я повернулся к сосне, проверяя, не спёр ли кто прислонённый к ней велосипед, и вздрогнул, когда над ухом гаркнуло:
– Кто ребенка потерял? Чей мальчик?
…И тут ток, гнавший людей на нас, запустился в обратную сторону. Обступившие люди внезапно остановились, на них ещё теснили сзади, но первые ряды стойко держали напор, сами готовые отступить ещё, но не могли и от этого дёргались, крутя головами: «Ребёнок! Ребёнок! Чей мальчик?» И вот это стало моим самым первым воспоминанием: настолько необычно было, как люди, бежавшие на нас, резко подались назад, словно морская волна, занеся пены над берегом, внезапно передумала и опала бессильно. При том – создавая новый рисунок. Портрет человечности. Растерявшись, я поднял голову и увидел снизу лицо артиста. Подняв вверх руку, он не был похож на того, кто рассмешил жирафом, подмигивал мне и дарил фотографию. Губы поджались, уводя вниз уголки рта, ноздри раздуты – почти такой же страшный, как и моя сестра из сна-воспоминания, поднимающая меня с пола и укладывающая в кровать.
Толпа чуть раздвинулась, выдавив из себя маму. Та бежала как прижатая, согнув колени. Она плакала и ничего не сказала артисту, даже «спасибо».
– Твой? – сверху сухо. – Следить надо!
И крепко державшая меня ладонь разжалась. Я обернулся, чувствуя, как мама хватает меня за плечи, но рядом больше никого не было. Потянул было голову, чтобы заглянуть в коридор, но мама уже волокла, тащила к людям, которые продолжали свои дела: воссоздавали очередь у гардероба, запахивали польта. Но по-другому как-то, менее шумно, и – показалось – невесело, похожие на тех, кому не хватило дефицита.
– Ну как? – спросил Влад.
– Нормально. Руку только чутка ободрал. Забирай велик.
– Подожди. Проходи давай, показывай – буквально втащил в квартиру.
Хотел сказать ему, что показывать нечего, фотографию я выбросил.
– Руку показывай – говорю! – он дотянул меня до табурета в прихожей. – Бинт сейчас принесу.
Пока деревянными пальцами пытался развязать узел на пропитанном кровью платке, он уже вернулся из комнаты:
– Давай, горе ты моё…
– Сам я. Спасибо. Пойду уже.
Влад был не таким, как всегда. Пока я ездил, его, наверное, кто-то подменил.
– И куда ты торопишься? Семеро по лавкам? У меня предки в командировке. Всё зверушек отлавливают.
– Отчим скоро придёт. Искать будет. Отругают.
– А к тебе можно? – Влад справился с узлом и смотрел на него любовно, словно Джоконду нарисовал. – В прошлый приезд они мне магнитофон задарили. И кассеты с ним есть…
Раньше я таких записей не слышал. Там артист не просто пел, но ещё, между, говорил с залом. Поскольку Влад пообещал магнитофон на пару дней оставить, я особо и не прислушивался пока. Отчего-то мы с Владом говорили сами. И не могли наговориться. Говорили всю ночь. А в какой-то момент, когда Влад отлучился до туалета, артист на кассете, чувствовалось – улыбаясь, сказал:
– Сейчас будет последняя песня – и мы расстанемся. Вы только детей в зале не забывайте.
– Чей – мальчик? – почему-то спросил я у магнитофона.
Храм превращается в плацебо
Сын
– Папа, я хочу помереть, – постучавшись, он стоял на пороге, в одних плавочках, худенький, с торчком волос на макушке.
Взгляд скользнул по торсу, хотя какой там торс – тельце девятилетнего пацана. Но всё же торс. Так обращаешь внимание, когда из пухлого пузанчика твой ребёнок внезапно формируется в прообраз будущего мужчины. Чуток выпирающие рёбра, мускулистый животик. На этот раз извазюканый дорожками, оставшимися от прикосновения перекладываемых кирпичей. Как подсохшие кровавые рубцы.
Но больше поразило лицо. Небрежно легко можно было бы сказать о нём: обречённая усталость или апатия. Всё не то. Тусклый, но решительный взгляд. Он твёрдо уверен в том, чего хочет. И это дурацкое слово «помереть»! Устаревшее, несовременное. Но сын прав. Он нашёл выход. За всех нас.
И тут я проснулся. То, что чувствовал, иначе как – внутри колотящийся озноб – и не назовёшь. Действительно, если в сон, где ты нервозен от ощущения, что нужно срочно куда-то двигаться, но не получается, вкрадывается тихий стук в дверь; когда ты распахиваешь её с невысказанным, но, скорее всего, застывшим на лице «Ну чего ещё?!», а на пороге твой чумазый малыш, говорящий спокойно, даже сонно: «Папа, я хочу помереть», резко встрепенуться, выпучившись от ужаса, – это нормально.
Основное время нашей жизни мозг скрывает свои возможности, меланхолично пережёвывая впечатления, намекая, как ему надоело сортировать все эти разговоры по поводу перевода кого-либо в другой отдел, насколько ему наплевать на бесконечное ожидание зарплаты, и более того – на твоё необъяснимое желание наконец-то кому-то что-то высказать. Умный мозг тянет спать, обещая показать во сне что-либо забавное, любопытное, где ты можешь, играючись, меняться телами, планетами, временем. К примеру, недавно, без каких-либо причин, я был узником сталинского лагеря: причём то женщиной, то выручающим её мужчиной. Если копнуть – отголосок просмотренного пару недель назад сериала.
Но вдруг, когда наступает это вдруг – в образе мечтающего о смерти сына, мозг перестаёт притворяться и за крохотные доли секунд вываливает на тебя мегатонны информации. Потоки воспоминаний и ощущений сильны настолько, что нет места последовательности и хронологии. Обстоятельства давних лет становятся отчётливо близки, а какой-либо вчерашний разговор покоится «под пылью веков». До омерзения услужливый мозг-официант суетливо подпихивает под нос очередное блюдо: «Это? А может это?».
Я давно сам с собой условился, что сны – просто отзвуки былой информации. Есть сны – сюжеты, есть – возвращения в те или иные сны, что некое подобие компьютерных игр, когда можно изменить выбранное направление и попробовать переиграть. Как правило, это сны – одноразовые, тут же забывающиеся. А есть особенные: всякие такие предсказывающие, вызывающие затем дежа вю, или конкретно «засланные» кем-то…
…Отчим, с которым ранее и парой откровенных слов не перебросились, приснился бледным, небритым, почему-то в зимней одежде. Было холодно. Мы ехали в переполненной электричке. И тогда я впервые увидел человека, заменившего отца, – равным. Обычно родители снились чем-то большим, тёплым, неприступным, безликим, бесполым. Некими всезнающими существами, несмотря на то, что сын их перерос на целую голову, женился и всё такое прочее. В этот раз дядя Миша был таким, какой есть: седым унылым стариком с блёклыми поджатыми губами, морщинами, волосками в ушной раковине. Он повернул непривычно белое лицо и сказал:
– Помнишь, мать отругала тебя за то, что ты якобы украл у неё рубль на кино? Это я взял. Меня попросили занять, я не мог отказать… А потом она так на тебя набросилась! Стало стыдно и как-то поздно сознаваться. Я ей сказал потом…
– Ерунда! – во сне я был весёлым и жизнерадостным.
– Можно курить, сын, жрать водку литрами, кобелевать. Но врать – нельзя. Никому и никогда. Прости. И не ври – прошу тебя… А ты знаешь, что я умер?
– Брось, дядь Миш. Мы же едем куда-то. Кстати, куда?
– Ты сейчас выходишь.
– Какая следующая станция?
– Это неважно. Просто выходи. А я еду дальше. Выходи. Этот поезд без остановок. Ну? Быстрее…
Тогда я проснулся в холодном поту, и крик был готов вылететь из горла. Можно хмыкнуть над штампом. Но когда внезапно, то есть – вдруг, осознаёшь, что холодный пот – не устоявшееся выражение, а реально бывает, причём сейчас и с тобой, страх заковывает ноги в цемент. Подобно шаблонным гангстерам с тазиками и рекой… Не смыкал глаз до утра, но и не мог подняться из постели, чтобы поговорить с отцом, теперь уже именно – отцом! – который спал в соседней комнате. Зачем будить старика из-за приснившейся чепухи?.. Молоденькая врачиха на следующее утро сказала, что смерть наступила в пять утра. Дядя Миша лежал тихий и спокойный, вроде бы даже улыбался, морщины разгладились. Лишь щетина на подбородке, выросшая за ночь, напоминала о сне…
…Ранее, бывая на родине чаще, чем сейчас, обязательно первым делом стремился зайти к брату. Он всегда с юморком как-то умудрялся поставить точку в моём представлении ситуации, когда окончательно запутывался в возникших во время моего отсутствия проблемах между родственниками. Только с ним, старшим братом, я могу непринуждённо, с матами, покуривая за кухонным столом, распить бутылочку и понять, что ничего серьезного не происходит: кругом обычные склоки и тоска провинциального городишки. Чтобы дойти к нужному дому, надо спуститься по лестнице к автовокзалу, стоящему в низине. Летом лестницу незнающему и не найти, настолько она обильно зарастает кустарником. Вот именно у этого кустарника во сне я встречаю Наташку – сухопарую дылду с крупным ртом и очками на пол-лица. Она – жена брата, и у них всю жизнь «нелады».
Причём даже во сне понимаю, что так оно и было. Я шёл к брату, встретил Наташку, спросил, дома ли? Ехидно волоча уголки губ, она отвечает: «Дома, конечно. Куда он денется? Похмеляется – за руль нельзя».
Повторяя всё: лестницу, кусты, погоду, Наташкину кривую усмешку, тем не менее, сон вытаскивает другие слова: «Так он вчера умер. А ты не знал?». Совершенно нелепое сочетание: слышать, что умер брат, и смотреть на самодовольную ухмылку его нелюбимой жены.
Тогда тот же комок ужаса – до озноба, колотящий и душащий, вырывает из сновидения. Промаявшись пару часов, поскольку выходной и мороз на улице, под глупейшим предлогом выползаю из дома, бреду до киоска, покупаю телефонную карту, ищу автомат. Тогда не было сотовой связи. Жму ромбики цифр из записной книжки, предполагая, как обычно, услышать Наташку с её злобным всхлипом «Он на работе!». Но отвечает сам брат, бодрый, по-видимому, раскрасневшийся от каждодневного ритуала – стычки с женой. Азарт ещё дрожит в голосе. И понимаю, что не знаю, как ему сказать… Заикаясь, словно клянча милостыню, после пары общих фраз сообщаю, как можно небрежнее:
– Короче, тут такая фигня. Ты мне сегодня приснился. Знаешь… так плохо приснился. Не совсем хорошо. Побереги себя, ладно.
И брат, сбавив бодрости, подхватив мой тон, переспросил: приснился, мол? Ладно, поберегусь. И вновь с юморочком про «а как вы там?». Сказал, что у него всё в порядке, сегодня после ночной на другую работу – сторожить. Он тогда подрабатывал в магазине. Той же ночью, накурив в комнатке, уснул, отставив форточку открытой. Проснулся в инее и слёг в больницу с двухсторонним воспалением лёгких. «Поберёгся»!
Прошло лет семь, в прошлом – развод с Наташкой. Сейчас у него со здоровьем опять нелады, – так возраст. Живой потому что.
А мой сын хочет «помереть». И мозг услужливо «Не это? Не из серии ли – контакты с близкими?». Нет, говорю ему мысленно. Конечно – мысленно. Я же не псих – вслух разговаривать с мозгом. Хотя если снится перепачканный кирпичной пылью сынишка, которого выгнал из дома, – почему бы и не псих?
Лукавлю. Но, скрывая волнение, встаю из постели. Если бы кто-то заснимал меня на видео, какая-нибудь шпионская организация, то наблюдатель написал бы в своём отчёте: «Проснулся и сразу встал». Фига с два! До момента «сразу встал» официант подсунул под нос столько блюд, переварено столько воспоминаний, что голова трещит и лупает на меня из зеркала. Тело – не торс, а всё это обрюзгшее, помятое тело, – на автомате скоблит щетину, варит кофе, собирается на работу. А в трескотне контактов, не уставая, мозг подсовывает и подсовывает, ищет ответ.
Поскольку, как бы я сам с собой ни договорился, вот эти сны из серии «близкие контакты» да, пожалуй, ещё из серии «закос под дежа вью», в отличие от других – запоминаются навсегда. Входят в тебя, как зубная боль, как метастаза – и ноют, и точат изнутри. Сегодня, и к гадалке ходить не надо, весь день насмарку…
…Когда мне было четырнадцать – приснилось, что болен: очень плохо, муторно, жарко. Лежу на каком-то неудобном и пыльном ложе в незнакомой комнате, по которой, хохоча, бегают голые девки. А парни делают друг другу уколы в руку. Прямо передо мной, ссутулившись, сидит одноклассник Паша с голым торсом, курит. Сигаретный дым щиплет глаза, лезет в ноздри, заставляет задыхаться. Всё. В принципе ничего особенного. Но картина была до предела ясной, чёткой, логичной. И запомнилась из-за всепоглощающего чувства ужаса, испытанного во сне. Необоснованного и поэтому ещё более страшного. 14 лет! Готовлюсь вступить в комсомол, полон мировоззрения, в лексикон которого слово «наркоман» не допускалось. Как и в газеты тех лет. Однако, проснувшись, зачем-то написал карандашом на обоях дату: «7 мая».
Через год, когда у Пашки был день рождения, толпой изрядно нагрузились спиртным и познакомились с какими-то девчонками… В том-то и дело, что шприцев не было. Но была «травка». Девушки не бегали голышом, но непристойно выражались и крепко, взасос целовали, неприятно и вызывающе. Впервые попробовав «травы», я прикорнул на пыльном бабушкином сундуке. Тошнило. Першило. Мутило. А вокруг мчалось веселье. Паша присел рядом и сосредоточено тушил в пепельнице окурок. В комнате становилось душно, и Паша снял рубашку. Его склонившаяся над пепельницей и оттого горбом вздернувшаяся спина внезапно показались сверх-знакомой. В течение нескольких секунд, поражённый сходством реальности и почти позабытого сна, я чувствовал себя парализованным из-за необъяснимого ужаса, заставляющего стучать зубами. Вернувшись домой под утро, сразу приник к обоям и разобрал дату «7 мая». Ровно через год. День в день. Может, оно и к лучшему. По крайней мере, «траву» отбило навсегда. А Пашка, вскоре вовсю «заторчав», сел на восемь лет…
«Не это? Не это?» – «Да отстань! Я на работе». Но и привычные, уже домашние разговорчики про перевод в другой отдел сегодня раздражают больше обычного. Лицо пока деревянное, но за ним уже – словно слой мрамора. А за ним – треск контактов и выгрызающая нутро тоска.
– Что-то случилось? – внезапно интересуется коллега.
Лицо меня выдало. «Случилось? Да, блин, ещё как случилось! Я выгнал сына из дома, и он не хочет жить. Как бы спрашивает разрешение! А может… Он просит меня закончить начатое… Избавить его…» Лучше бы меня не трогали!
– Голова болит просто.
– Дать таблетку? – сердобольная женщина.
Нет, я люблю свой коллектив. Нашли же они тогда валерьянку и отпоили меня, когда действительно – «случилось». Сейчас я вспоминаю тот эпизод, усмехаясь. Даже вывел из него ещё одно доказательство о пользе курения. А дело было так.
По утрам я отводил сына в детский сад, потому что супруга, вставая даже чуть пораньше, начинала «собираться на работу». Когда мы выходили из дома, она обычно приступала к завершению – накладывала макияж. Процесс подходил к финалу, когда я возвращался из детского сада, чтобы хлебнуть кофе, побриться, накинуть шмотки. И на работу мы выходили вместе. Мне не дано понять пристрастия женщин к штукатурке лица, но, на мой взгляд, жена отдавалась этому самозабвению чересчур долго, при условии, что садик за три квартала. Она объясняла это тем, что работает с людьми и должна выглядеть хорошо. Из чего следовало, что я работаю с крокодилами. И сам, собственно, ещё тот крокодил.
Но в тот день я побрился с вечера, кофе не хотелось. Решил рвануть на работу без захода домой. Или проспали. Но помню, что опаздывал. Перед светофором нашего оживлённого перекрестка решил закурить. Ветер нещадно гасил зажигалку, и удалось сделать затяжку, повернувшись спиной к движению машин. Светофор, оказывается, секунд десять давал зелёный. Спохватившись, шагнул по переходу… И глазам не поверил.
Некий джигит, разогнавшись до такой степени, что смена цветового сигнала никак уже не могла повлиять на торможение, решил-таки прибавить скорость и обогнуть выезжающий на перекресток поток машин. И первым делом столкнулся с автобусом. Одно время я маньячил бильярдом, но и предположить не мог, что автомобиль может выступать в роде шара. «Москвичонок» гонщика от удара развернуло на сто восемьдесят, швырнуло краем по светофору, отрикошетило в дерево, а от него – в стену здания, где я как раз и имею честь состоять на службе. Джигит, к слову, оказался жив. Сам видел, как он отряхивал кепочку от осыпавшихся стёкол автомобиля.
Некоторое время, хватившего до непосредственного занятия рабочего места, мне история казалось забавной. Пока не сообразил, что машину болтало по перекрёстку в каких-то десяти шагах от меня. Тех самых шагах, которые я бы совершил, не задержись на несколько секунд, прикуривая. Мысль, что вот только что мог погибнуть, внезапно вызвала глубокую внутреннюю дрожь. Как после дурного сна. Видимо, я так поменялся в лице и не мог отвечать на расспросы, что сердобольные коллеги побежали за валерьянкой, бормоча что-то про сердечные приступы. А я уже знал, что фиг когда брошу курить…
Цитрамон, тем паче, обязывал. Не желая менять подаренную таблетку на рассказы о своих проблемах, нырнул на улицу, в курилку. Где-то в переходике между бесконечными дверьми, невероятно живо и реально, словно за спиной – в ухо жалом, сверлом, ворвалось отчётливо: «Папа, я хочу помереть». Даже обернулся. Курить расхотелось, яма в грудной клетке запульсировала. Яма напоминала сонного котёнка, просыпающегося и вытягивающего коготки. Люди называют её – жалостью.
До боли, до судорог мне вновь стало жалко моего белобрысого сынишку, которого я выставил за дверь. Он похож на меня. Рос, как и я, слегка нелюдимым, спокойным, самодостаточным. В породе, что ли, заложено: случись проблема – не бежим плакаться, не наваливаем её на окружающих. Концентрируемся на ней, отстраняемся, если от тебя пока не зависит. Осваиваемся в ситуации, а лишь затем принимаем взвешенное и самое короткое решение.
После того, как этот шпингалет влез со своим мнением в наш разговор с его матерью, она навскидку выкрикнула: «Раз такой умный, иди на улицу. И живи, как знаешь!». И я почему-то взвился: «Иди давай! И не приходи, пока мы с мамой всё не решим!».
Стояло лето. В одних плавочках сынишка, уверенно развернувшись, вышел за порог, спустился по ступенькам, уселся у груды битого кирпича и сказал:
– Значит, теперь я здесь буду жить.
После чего молчком, не суетясь, принялся перекладывать кирпичи с явным намерением соорудить из них что-то наподобие дома. «Вот-вот, – снисходительно шипела вслед ему жена. – Строй себе будку. И живи, как собака. А мы тебе будем косточки выносить!».
Сын невозмутимо продолжал сооружать на солнцепёке. У него не очень-то получалось. А наш разговор с его матерью быстро стёк на нет. Только что мы орали друг на друга, пытаясь доказать что-то, высказаться, наконец, по полной, а теперь не знали, о чём говорить. Она просто развернулась и ушла наверх, в свою комнату. Но вначале захлопнула входную дверь.
Я куда-то торопился. Но продолжал стоять, соображая, что у меня нет никакого жилища с комнатой наверху. Нет двери из дома и трёх ступенек во двор, жутко напоминающий двор провинциального родного городка. И даже не мой собственный, а чужой. Двор дома, где ещё до моего рождения жили родители. Двор двухэтажного барака с печным отоплением. Поэтому и стоят поодаль стайки с углем и дровами. Поэтому и валяются во дворе битые кирпичи, потому что соседи недавно перекладывали печь.
Я догадался было, что вижу сон. Это во сне мы ругались с женщиной, с которой я и не виделся-то уже года три. Даже по телефону толком не общался. Эх, мама, непутёвые у тебя сыновья! В один год оба развелись.
И когда мой сын был таким, с начинающим формироваться торсом, мы жили в общежитии, на пятом этаже. В комнатке в восемнадцать квадратов. Никаких своих комнат «наверху» и дворов из другого региона. Только свёл в голове концы с концами, а тут стук в дверь. Она распахивается – за ней мой мальчик. Не переступая порога, в перепачканных серых плавках, он говорит…
Закуриваю вторую, дрожь внутри не уходит. На часах – глубоко за «после обеда». Занятия в школе закончились, и мой звонок не помешает ему на уроке. Сотовый телефон. Не надо бегать по морозу: искать карту и автомат. Просто извлечь из памяти аппарата слово «сын» и нажать кнопку. Что сказать? Вряд ли он поймёт мой лепет. Он ещё мал и не классифицировал свои сновидения. А даже если и так, брат же себя не «поберёг»? Хотя, может же отец позвонить сыну? Просто так. Без повода. Среди недели. А не перед выходными, спрашивая: приедет он ко мне или не приедет. Иногда не приезжает. Говорит, мама не пустила. В дневнике замечания по поведению. Я у него вроде кубка. Награда за хорошее поведение. Я для него – наказание. Меня у него отбирают. И тогда внутри мальчонки просыпается свой яма-котёнок. Только сиамский. Люди зовут его – обида. На маму, на меня, на нас. На то, что мы разошлись.
И тогда он находит внутри себя груду битого кирпича и пытается строить собственный уголок, где не настигнут дождь и снег, где он сможет сам решать, чего хочет.
– Папа, а зачем вообще люди живут? Если всё равно умрут – зачем живут? – спросил он у меня на прошлых выходных.
Просто так спросил, мимоходом.
Уф! Сложилось! Ещё до того, как мне ответили, всё стало понятно. На том конце сотовой связи на мои расспросы о школе, о друзьях, о хомяках и велосипеде неохотно и удивлённо отвечал не тот белобрысый мальчик, что сегодня пришёл ко мне во сне. Бася, говорил подросток с прыщиками на лбу, с меня ростом, со стройным, подтянутым торсом. Говорил о компьютерных играх, сыпал терминами, среди которых никак не могло затесаться слово «помереть», если только не с ироническим оттенком. Он предпочитает слова «мочкануть» и «скопытиться».
Подлиза-мозг хохотал надо мной, превратившись в озорного прапора, обожавшего «подставлять» «салаг». На выходных сын задал вопрос, на который я не ответил, сделав вид, что не услышал. Потому что не знал, как на него ответить. Подсознание вышвырнуло в сон ситуацию, разбудило котёнка, позволив половину дня решать его для себя. Искать ответ. И если бы не эта приставка «по», меряющая время от двора, где рос мой старший брат, когда меня не было, до сотовой связи, я бы попался. Так бы и грыз себя ради банального выкрика: «Как жить?! Да так и жить! Жалеть, обижаться! Ошибаться даже. И грусть над ошибками. Пока у меня не было тебя, я тоже маялся: зачем, для чего?! Но когда появляется тот, кто не сможет сам, без тебя, выжить; тот, за кого ты в ответе, вся эта ерунда уходит! Зачем жить? Да затем, чтобы перестать задавать себе этот дурацкий вопрос!».
Возвращаясь на рабочее место, чтобы узнать, кого всё-таки в какой отдел перевели, я ещё раз условился с собой, что сны – просто отзвуки былой информации. Если только не снятся тараканы. Тараканы – это к деньгам. Проверено.
Цыплёнок табака
Ничего с собой не могу поделать – люблю курицу-гриль. Даже не целую, а тощую прожаренную полутушку. Если хотите – самая что ни на есть мужская холостяцкая еда. Гастрономический изыск бюджетника и алиментщика, занятого подработками и общественной деятельностью. Процесс её покупки и поглощения – не таинство, но уже вроде культа, достойного отдельного повествования. Так-то я не лентяй и обожаю готовить. Во времена популярности «ножек Буша» закупал коробку, забивая обе морозильные камеры. И даже когда не было денег на хлеб, всегда было чем накормить семью. Я придумал с десяток вариаций запечённых в духовке окорочков. Помнится, приходит дочь из школы: «Папа, у нас сегодня опять курица?» – «На этот раз в апельсинах!». Ну, это когда после новогодних праздников апельсины оставались…
Сейчас же, после развода, у меня нет духовки, престарелый холодильник дышит на ладан. При наличии денег можно себя и побаловать. С работы – делаю крюк, поскольку поблизости гриль не делают. Несу домой горячую, испускающую запахи, некормленый желудок урчит в предвкушении. Включаю фильм, ем, насыщаюсь. И даже если отрубят свет, что стало привычным, можно, закрыв глаза, размазывая по нёбу хрустящую корочку, видеть собственные фильмы, из памяти…
Когда Ярмольник показал по телевизору пантомиму про цыплёнка табака, а зал передачи «Вокруг смеха», смеясь, аплодировал, я, наделённый нехилым чувством юмора, растерялся. Не мог понять, почему это смешно. А если что-то неясно, то куда? К родителям. Отчим, сквозь газету наблюдавший за телевизором, на мои расспросы попытался объяснить, что цыплёнок табака выглядит так, как показал его Ярмольник. Это-то я сообразил. Поскольку предъявленные актёром спортсмены и предметы были похожи.
Запутался. Знал, что такое – табак. Отчим курил «Беломор», и вокруг пачки на тумбочке всегда скапливались пахучие крошки. Знал, что такое цыплёнок. Но зачем и кому пришло в голову посыпать цыплят табаком? И почему это смешно? Вот этого понять не мог.
Закат брежневской – расцвет черненковской эпохи в ракурсе продуктовых магазинов провинциального городка представлял собой пару сортов варёных колбас, огромный, с бычью голову, лоснящийся и обыденный шмат жёлтого масла в витрине. Сахар и мука в бумажных пакетах. Донельзя разбавленная сметана, булькающая в бидон. Тощие селёдки в банках. Хлипкие до синевы куриные тушки, которые мама варила часа два, чтобы они стали мягкими и съедобными. Варёную курицу я терпеть не мог. Сгущёнку нам посылками слали родственники из Канска. Тушёнку – из Гудермеса. Из фруктов и конфет – что успеешь хапнуть под Новый год, отстояв километры очереди. Из лимонадов – «Буратино». В соседнем большом городе спокойно продавались сладкие кукурузные хлопья, иногда, приезжая к родственникам, я набрасывался на лакомство, пока блюдо не пустело.
После школы мы с пацанами гуляли по городу, по людным местам: базарной площадке, у автовокзала. Порой везло: найдешь одиннадцать копеек. И наградишь себя коржиком и стаканом газировки. А кому очень везло – двадцать копеек, это и беляш, и сок с мякотью.
То есть я просто не мог себе представить, что цыпленок табака – это такая еда. Поэтому пустился на эксперимент. Стащив у отца папиросу, раскрошил её над коробкой с цыплятами, ожидая, что будет смешно. Но ничего весёлого не случилось. Цыплята так же бестолково носились по коробке, думая, что им принесли пожрать.
В конце апреля мама всегда покупал пару десятков цыплят, по 5 копеек за штуку. До середины мая они жили в коробке на балконе. И если принести пшена, то, подскакивая, сбегались в один край коробки, толкая и давя друг друга. Пара-тройка задавленных цыплят – нормальный ежегодный отсев.
Как-то в школе, отвечая на биологии про естественный отбор, я добавил от себя, что Дарвин не совсем прав. Гибнут не только самые больные и слабые, кто не смог пробиться за едой. Но и самые резвые и развитые. И привёл в пример наших цыплят. Чем вызвал дружный смех в классе и заслужил «погоняло» Цыпленок. Но если и вправду так? Пара-тройка задавленных всегда равнялась паре-тройке ретивых. Они первыми пробовали силу крыльев. Не уследишь – и перемахнули через стенку коробки. Пару прыжков – и вниз с балкона, насмерть. Я и сейчас уверен, что был прав. Поскольку самых сильных, самых задиристых однокашников, от которых мне доставалось, которые всегда готовы были поднять на смех или звездануть в ухо, уже нет в живых. А я сижу и ем курицу.
Ближе к концу мая мама перевозила окрепших цыплят на дачу, в специальный загончик, и начинала кормить не только пшеном, но и травой. То ли от перемены места, то ли от изменения в пище, или от болезней каких куриных, но погибало ещё несколько. То есть, миграция – тоже небезопасна. К осени, обычно, от двух первоначальных десятков оставалось восемь-девять голов. Всё лето, оперяясь, они давали яиц, а потом и сами погибали под топором отчима, складируясь в морозилке до Нового года. В тот год, когда этого человека не стало, мне пришлось самому взяться за топор.
Впервые я увидел и попробовал цыплёнка табака в Барнауле, куда мы со старшим братом поехали погостить к родственникам. К слову сказать, из-за того, что у одних дедушки с бабушкой было четверо детей, а у других – шестеро, родственников у меня наблюдалось в бессчётном количестве. Моим преимуществом было то, что я последний, поздний ребенок у самого последнего и позднего из шестерых. Поэтому самый-пресамый младший родственник. Двоюродные сестры и братья – здоровые, состоявшиеся мужики и тётеньки, имели жен и мужей, по несколько детей, которые, несмотря на то, что были моими ровесниками, приходились племянниками.
В Барнауле у нас было два брата, живущих на разных концах города. Мы как раз и поехали, нагостившись у одного, к другому. Сели в трамвай у кинотеатра, заняли свободные места сразу перед открытой задней дверцей и наблюдали, делясь едкими замечаниями, как к трамваю несётся мужчина, будто это последний трамвай в его жизни. Его решительный и стремительный бег, видимо, вызвал уважение у вагоновожатой, потому что трамвай подождал и с шипением закрыл дверцу только когда мужчина вскочил на ступеньки. Он стоял прямо за нами, тяжело дыша несколько секунд. А потом, ни слова не говоря, с силой толкнул наши головы.
От возмущения я задохнулся, побагровел и брат, но, обернувшись – выпучились. В трамвай вбежал ещё один наш двоюродный братка, из Новокузнецка, по папиной ветке. Что Коля делал в Барнауле, я не помню. Очевидно, по каким-то делам приехал. Но, увидев нас, входящих в трамвай, понесся, как чёрт, чтобы не потерять. Он же не знал, куда мы едем. Да и сотовых не было.
Колю я знал плохо. Только в лицо. Видел редко. Но мой брательник с ним одногодка, поэтому им друг с другом жутко интересно, а я остаюсь в стороне. На полпути вышли из трамвая, потому что Коле в ту сторону ехать-то и не надо было. Решили посидеть где-нибудь, поесть. И увидели кафе «Цыплёнок табака». Принесённая курица была жёсткой, перчёной и невкусной. Но братья под водочку уплетали за обе щёки. Говорили и говорили. А я сидел и смотрел в тарелку. На недоеденного цыпленка. Переживал разочарование. Когда с пацанами мы, везунчики, покупали коржик и сок, хвастаясь друг перед другом, кто чего ещё ел повкуснее, я, как правило, проигрывал. Да – я не жевал апельсиновых жвачек, не пробовал морепродуктов и красной рыбы; не видел банан и гранат. Показывали – знал, как выглядит варёная кукуруза. А кукурузными палочками из соседнего большого города – не удивишь. Потому спросил однажды, а пробовал ли кто цыплёнка табака? Никто не пробовал. И я решил, что вырасту, обязательно попробую и всем расскажу.
Но это была невкусная курица. И рассказывать про неё было стыдно.
К слову, мне было четырнадцать, а я и в кафе-то толком не был. Когда проходил под вывеской «Цыплёнок табака», раздевался в гардеробе и, затаив дыхание, чуть ли не цыпочках выдвигался между тёмно-зеленных штор в почти пустую залу, невольно сравнивал ощущения с посещением театра. Так выходила Наташа Ростова на свой первый бал.
С театром, кстати, мне тоже не повезло. С полгода назад активистов от класса наградили билетами, и нас от школы повезли в тот большой город, где в изобилии водились кукурузные палочки. Шефы выделили транспорт. Им оказался оранжевый «Урал», обычно возивший на смену шахтёров. Небольшая коробка с ограниченным количеством мест. Мы с товарищем, с классической фамилией – Кузнецов, заняли, как нам казалось, наиболее выгодные места – боковое сидение над колесом. Хоть ноги можно было свободно вытянуть. Кстати, Кузнецов появился в городе недавно, жили мы по соседству, и частенько просиживали друг у друга за шахматами. Он, в основном, снисходительно выигрывал, владел фотоаппаратом, тощий и высокий настолько, что мне рядом с ним отводилась роль Санчо Пансы.
По случаю выхода в театр мама отгладила мне костюм, перешедший в наследство от брата. Благо, я догонял его в росте, но не в ширину, и пиджак чуток болтался, да и рукава опускались до пальцев. Даже повязали галстук.
Перед тем, как тронуться, водитель предупредил, что если кого затошнит, то надо постучать в дверь и попросить остановиться. Я ухмыльнулся, поскольку никогда не тошнит ни в каком транспорте. Почти всю дорогу мы с Кузнецовым проболтали, не помню о чем. В «Урале» было душновато, я расстегнулся, снял шапку, положил её на колени, а в неё примостили кузнецовский фотоаппарат, который нужно было беречь. В какой-то момент Кузнецов отвернулся к окну, да и я тоже устал говорить, начиная потихоньку скучать в ожидании театра. Внезапно товарищ повернулся – лицо в лицо – замахал рукой в сторону двери, держа другую у рта. Над ней смешно выпучились глаза и раздулись щёки. Он напоминал анекдотичного инопланетянина, и я хотел было ему об этом сообщить. Но в следующую секунду в шапку полился воняющий поток. Но в шапку не попал, поскольку, памятуя о ценности фотоаппарата, я её успел резко отдёрнуть. И принял от него на колени и полы пиджака.
Вокруг почти началась суета, но мы тут же подъехали, и обсуждающая нас ребятня с учительницей во главе двинулась к театру. А мы вдвоём, отчитываемые «шефским» водителем, должны были прибирать за собой. Кузнецов возвышался зелёной каланчой, неспособной к телодвижениям. Он только наблюдал, как я водительской лопатой накидываю в салон снег и выгребаю всё оттуда. При помощи снежка кое-как почистил и себя, но гардеробщица настолько пристально оглядывала мой пошедший пятнами костюм, что стало совсем неуютно. Нашедшая нас учительница показала, где туалет, и я долго отмывал одежду у раковины, а оживший сволочь Кузнецов при этом фотографировал. Через какое-то время он притащил в класс фотоотчет о поездке, притом всё, что снимал из зала, оказалось размытым и тёмным, зато я рядом с умывальником в некрасивых позах получился отменно.
К началу действия мы опоздали, и спектакль совсем не запомнился, поскольку на его протяжении переживал, что сижу с мокрыми штанинами, и жалел костюм брата. А может быть, не из-за этого. Там, в театре, разглядывая фальшивое движение людей на сцене, я впервые начал чувствовать нечто, которое никак не смог сформулировать. Но казалось – приходило понимание чего-то такого важного, от которого не уйти и не спрятаться.
Так и, сидя с братьями в только что загадочном кафе, рассматривая невкусную курицу на тарелке, поймал себя на схожем ощущении. И опять никак не мог его ухватить. Оно ускользало, подобно ящерице, оставляя в ладони холодный и склизкий хвост. Только годы спустя, получив высшие, оставив за спиной две попытки кандидатской, прочитав кое-чего в каком-то количестве, я ухватил, поймал юркую ящерку.
В театре, а затем – в Барнауле, я впервые ощутил превращение храма в плацебо. Причем, самое символичное, что в Барнауле. Не будь этого города, не было бы и меня. Именно здесь почти тридцать лет назад молоденькая ткачиха, недавно приехавшая из алтайской глубинки, и солдат срочной службы, призванный из Сибири, встретились по комсомольской линии. И поженились, когда срок службы отца подошёл к концу. Длинная, сложная и в чём-то романтичная история. С трагическим финалом. Отца не стало, едва мне исполнился год.
Своим же детям я почти не могу рассказать ничего романтичного. С их мамой мы познакомились в библиотеке, куда нагнали старшеклассников из разных школ на встречу с местными поэтами. Мне же было дано особое указание от учительницы – почитать что-то своё, поскольку была в курсе, что кропаю. Оказалась, поэты проводили поиск молодых талантов и из всей шоблы набрали в студию только троих, кто осмелился выступить. Одна девочка затем как-то быстро перестала посещать литпосиделки, а мы заучено встречались на автовокзале, ехали в другой район, затем провожались, знакомились с компаниями друг друга. Вмешался и пресловутый комсомол, организовав фестиваль эстрадных жанров. Мы просиживали вместе репетиции в ожидании своей очереди. И все номера заучили наизусть. Выступали, заняли первые места: я в художественном чтении, она – в бардовской песне. Ещё год я мотался по всяким подобным фестивалям, а она – поступила в институт. Из доказательств романтичного остался пыльный чемодан, полный писем друг к другу.
Отчего-то в литстудии меня считали перспективным и настойчиво советовали съездить в областной центр на семинар. Поскольку моя девушка училась в том самом областном центре, то идея приглянулась. Захотелось не только переписываться, но и увидеться. Посоветовавшись со знакомым организатором эстрадного фестиваля, что ходил в секретарях горкома комсомола, быстро решил финансовый вопрос. От горкома оформили командировку.
Не хочу сказать, что по итогам семинара меня особо зазывали на областное литобъединение, но апробированная схема уже была запущена. Я брал у мамы десять рублей на проезд туда-обратно на поезде, в горкоме – командировочный бланк. Ранним утром на перроне встречала любимая, и если у неё не было в институте занятий, чуток прогулявшись, шли в обком комсомола, где раз в месяц собирались дарования со всей области. Если было холодно, болтали на скамейке в предбаннике пару часов под недовольными взглядами сонной вахтёрши. Перед началом занятия приходила ещё более сонная тётенька и по предъявлению паспорта и командировочного бланка шустро выдавала двадцать рублей всем, у кого такие документы были. Десятку потом я возвращал маме, а другую… Чёрт знает, что придёт на ум с такими деньжищами! Эта заветная для любого школьника бумажка – извините, не коржик за восемь копеек. На неё можно упиться лимонада, сходить на футбол после литературного занятия, при условии, что в тот день идёт матч на близстоящем стадионе. Можно сводить девушку в кинотеатр!..
Как раз в один из таких приездов, наслушавшись находившихся на взлёте популярности Цыганкова с Самойленко, я прямиком по Весенней двинул к политехническому. Ещё с час сидел на скамейке, разглядывая важных голубей у ног. Вероятно, даже сочинял что-то. Про голубей. А когда у неё занятия в институте закончились, долго бродили закоулками между корпусами, поскольку опоздали на запланированный ранее киносеанс в «Космосе». Можно, конечно, было дождаться другого, но тогда я мог не успеть на поезд со всеми этими милыми провожаниями с поцелуями и прохладными ладошками в моих лапищах.
Вынырнув между корпусами общежитий, слегка озябнув, уперлись взглядом через дорогу в павильон «Цыплёнок табака». К слову сказать, снаружи он был точной копией барнаульского. Она как-то быстро сообщила, что девчонки из группы нахваливали это заведение, а я с унылым ворчанием посетовал, что пару лет назад пробовал такого цыплёнка и остался недоволен. Как известно, сытый голодному не товарищ. Имеющий советскую десятку и пропустивший темный зал в кинотеатре, где можно тайком обниматься, вряд ли может понять озябшую и полуголодную студентку со стипешкой сорок рублей в месяц. Но против логики не попрёшь, надо перекантоваться где-то ещё с часок, и желательно – в тепле, пока не настанет время ехать на вокзал. Ещё сомневаясь, оказался у крыльца. Из-за двери потянуло чем-то настолько вкусным, что последняя нерешительность исчезла. Дёрнув массивную ручку, мы вошли… в самое прекрасное место на свете.
Ничего общего с помпезно-ветхим барнаульским кафе. Витражи во все стены. Блеск хромированных перил у раздатки, миниатюрные белые столики и стульчики, благоухание жареного мяса и чего-то ещё – непередаваемого. За раздачей яств полные тётеньки в колпаках. Вроде бы такие, как и везде в общепите, но чуточку другие. Их халаты и колпаки белоснежно сверкают; на лицах вымучено-приветливые улыбки. Обращение вежливое, словно ты для них самый долгожданный клиент. Поэтому не хочется обращать внимание на цены. Как писали в газетах, «кооперативное движение набрало размах», и, наверное, впервые я в чём-то стал согласен с Горбачёвым.
Опять-таки, в отличие от барнаульского, где мы были чуть ли не единственными посетителями, здесь «яблоку негде упасть». Милые улыбчивые женщины с детьми. Солидные подтянутые мужчины в костюмах и галстуках заботливо и солидно обхаживали и женщин, и чад, принося и унося посуду. Находясь в длинной очереди, мы, уже в нетерпении пританцовывая, смущенно оглядывались, выискивая свободный столик. И как только место освободилось, я лаконично предложил девушке его нам занять. А минут через десять, словно рыцарь словно букет, нёс прекрасной даме тяжёлый поднос с двумя тарелками и остро пахнущими пиалами с непонятным содержимым, что подсунули в довесок.
Затем я неоднократно пытался приготовить такой же чесночный соус. И пару раз получилось чуть ли не один в один. Хлопот-то! Пару долек чеснока, соль и тёплая вода. Но всё дело, как обычно, в пропорциях… Вначале мы не понимали, что делать с пиалами, исподтишка поглядывая на нарядных посетителей, каждый из которых казался завсегдатаем. Макать! Конечно же! Маслянистая подсоленная водичка затем несколько часов держит на нёбе вкус курицы, словно поел ну вот только что… Половинки скромной цыплячьей тушки исчезли как-то совсем быстро. Уловив тоскливый взгляд напротив, машинально подсчитывая в уме остаток средств в кармане, сообщил, что сам-то как-то наелся, но ей могу предложить ещё порцию. Купил, вновь отстояв в очереди. И когда повторно нёс блюдо – для неё, темнокудрой прелестницы, сидящей спиной к прозрачному витражу, – на секунду, на долю секунды почувствовал… И слова-то не подобрать – что! Много лет позже подобное волнение ощутил, впервые переступив порог храма. Где всё вроде сложно и непонятно, но в то же время узнаваемо и естественно.
Она кушала и даже что-то пыталась щебетать. А я смотрел над её плечом, над чуточку приподнятым розовым воротником, над склоненными смолёными прядками – туда, через стекло. На мир. Модный дизайн витражей. В тепле, в уюте, в окружении вкусных запахов и завсегдатаев, наверное, представляешься им, людям, шагающим мимо по мартовской слякоти, успешным и жизнерадостным. Это я-то? Полусельский парнишка с нескладными стишочками, за душой – горстка беззлобных амбиций и рубль с мелочью на всё про всё. Да. Это я.
Это я сижу в уютном кооперативном кафе посреди областного центра, угощаю девушку дорогим блюдом своей мечты и разглядываю площадь, памятник, голубей и скамейки, где непонятно кем ютился всего-то пару часов назад. И именно тогда, в те минуты, когда пространство одновременно развернулось за горизонты, при этом чётко и выверено сжавшись, я извлёк имевшийся запас амбиций и послал в него, в мир, как покати-клубочек, и получил ясный ответ. Обо всём. Возможно, таким же прозрачно-чистым возвращаешься к себе после длительного покаяния и исповеди. Не знаю. Пока по части исповедей и покаяний особо не везло, слишком неуклюже выгляжу в церкви, и она отвечает мне тем же, музейными служителями напоминая тот неудачный фальшивый спектакль. Хотя, с другой стороны, церковь без служителя – пуста, словно экскурсионный автобус без гида.
Но когда сплелось, смешалось: легкая сытость, любимая напротив, розовая кофточка, мир нараспашку, – ясно увидел свой путь. Судьбу, если угодно. Знание снизошло из ниоткуда. Не имея никаких на то оснований, я уже был уверен, что проживу здесь, в областном центре, долгие и долгие годы. С этой женщиной напротив. У нас родится двое детей. А большинство из тех поэтов, которым сегодня с утра заглядывал в рот, в итоге будут бегать за водкой для меня. Нет, я, конечно же, не стану большим писателем и выдающимся поэтом. Никто не станет. Но клубочек уже покатился, и остаётся идти за ним, упорно, пробираясь по бурелому, и вскачь – по просторным полянкам. Но, в основном, идти в безвестности, в игнорировании. Просто идти. Нагонять попутчиков и терять их. Терять и эту женщину, и, возможно, наших детей, и других женщин. Но всё равно идти. До своего места. Оно есть. И никуда не денется, пока я не дойду.
Словно что-то приоткрылось, выпрыгнуло пружинкой чёртика из «Бриллиантовой руки» и никак не хотело залезать обратно. Пока я не увидел, что и моя возлюбленная, отодвинув тарелку, тоже смотрит сквозь и над. И стал думать, как глупо мы выглядим, уставившиеся непонятно куда – лучшая реклама этого заведения: наелись до осоловелых грёз. И разорвал непонятное витание в облаках каким-то глупым вопросиком: мол, вкусно было? На что получил странный ответ:
– Знаешь, давно хотела тебе сказать, – она изменилась: передо мной не студентка, строящая из себя серьезного и взрослого человека, а больше этого, больше себя – женщина. – Помнишь, когда мы познакомились в библиотеке… Как только села рядом с тобой, то в голове прозвучал голос: «У вас будет двое детей и вы проживете вместе всю жизнь»… Так странно… И сейчас… Ну что-то типа того же… Что-то почувствовала…
И мы принялись разглядывать друг друга. Как-то по-новому. Понимая, что ничего не изменить, не исправить, и не стоит менять или исправлять.
Если же мне представится случай поведать нашим деткам что-либо из романтического о нас с мамой, то мог бы рассказать именно это. И то, что ответил ей:
– А мне показалось, что мы проживем вместе не одну, а несколько жизней…
Вероятно, я даже поверил в то, что произнёс из меня поэт. Тот, из другой жизни. Который достиг своего места. Но без неё. Немного умудрённый и потому косноязычный до лёгкого лукавства.
Как и сейчас. Была! Была у меня возможность им об этом рассказать. Спрашивали даже про истории нашего знакомства и решение пожениться. И даже заикался о том кафе… Но рассказывал почему-то про другое. Даже не о том, как внезапно начали строить планы над пиалами с чесночным соусом и обглоданными куриными косточками. Какие могли быть планы по поводу семьи у провинциальной безотцовщины?! Какими могли быть мечты в стране, которая готовилась рухнуть в пропасть, что было понятно всем, даже таким оборванцам, как мы? Всем, кроме Горбачёва и K°. Планы свелись к двум вещам: после школы мне надо тоже поступать в институт в этом областном центре, а не в Томске, как собирался, и – желательно приехать на майские, когда её соседки по комнате разъедутся по домам. И был ещё один план: как можно чаще кушать в этом кафе.
Детям же я рассказывал о поварёнке. Почему-то тогда он мне казался важнее всех наших планов, и даже на мгновение приоткрывшегося видения судьбы. Потому что был смешнее. Каланчой возвышаясь за пухлыми, белоснежными и приветливо-суетливыми до пингвиноподобности тётеньками среднего возраста, с непроницаемым вытянутым личиком, он деловито вышагивал, порой пригибаясь над готовящимися цыплятами. А когда распрямлялся, то курносенький носик гордо стремился к потолку, удерживая аккуратные кругленькие очёчки. Как у Знайки на картинках в детской книжке. Высоченный, почти мультяшный колпак делал и без того высокого поварёнка выше всех в этом кафе: и раздатчиц, и завсегдатаев. Важный, священнодействующий, он словно искоса и свысока наблюдал за всеми сразу. С видом, что ему неважно, насколько все ему благодарны за вкусную курицу. Особо контрастировал с другими сотрудницами не только пол повара, но и его возраст. Он был до неприличия молод. А-ля Демьяненко в лучшую пору, снизошедший с экранов и университетов до нас, сирых, чтобы, накормив, облагоденствовать. И был бы действительно комичен, если бы не обыденный факт – это он готовил самую вкусную курицу, что я когда-либо пробовал. А значит, имел полное право выглядеть как угодно.
Было очень неприлично разглядывать работников общепита, но мы с будущей женой, быстро разобравшись с ближайшими планами на жизнь, исподтишка рассматривали этот типаж, почему-то наперебой хихикая. До поезда оставалось всего ничего, но мы не решались покидать кафе с его поварёнком, занимая такой нужный другим людям столик. Да нам уже не надо было куда-то спешить. Судьба заглянула на запах курицы и всё рассказала.
Кроме одного нюанса. Как и в любом храме, здесь присутствовал маленький и приятный обман. Дело в том, что нам не подавали цыплёнка табака. Нас угощали другим, новым блюдом, название которого ещё не было озвучено не только в нашем мировосприятии, но и в доживающей последние месяцы советской стране в целом. Здесь готовили курицу-гриль. После чего, готовую, приплющивали на манер «табака». Естественно, по сравнению с той, барнаульской курицей, да в придачу с находчивым соусом – по вкусу: небо и земля. И мы прощали этот милый обман, поскольку не знали слова «гриль» и влюбились в молодого новатора.
Мы часто даём себе обещания, которые не в силах сдержать. Нет, само собой, как только я приехал поступать в институт, встретившись, сразу же побежали в «наш» «Цыплёнок табака». А потом, ну, как-то с деньгами стало туговато… А потом… снимали утеплённую веранду в частном доме за ж/д вокзалом. Жена растила животик, в магазинах, даже имея талоны, ничего невозможно было купить, в кинотеатры, наводнённые новыми американскими фильмами, – без очереди не попасть. А где ещё коротать зимние вечера не имеющим ни телевизора, ни радио, ни газет? Со стипендии в выходной – в «Цыплёнок табака». Это стало превращаться из ритуала в рутину. Порции уменьшались при попытке удержания цены. Затем заведение плюнуло на тонкости и целиком окунулось в законы рынка. Так что в последний раз мы зашли, посмотрели ценник и грустно вышли. И поваренок у плиты, сам недовольный таким поворотом дел, выглядел виноватым и злорадствующим одновременно.
А вскоре мы переехали на другой конец города в семейное общежитие. И, занимая с шести утра очередь у магазина, чтобы купить по «визиткам» причитающиеся на месяц на человека килограмм сахара и муки, бутылку водки и пять пачек сигарет, я и думать забыл о каких бы то ни было цыплятах, тем более – табака. Года через четыре, оказавшись между корпусами политехнического, где бродили когда-то с озябшей студенткой, а ныне в поисках здания столовой, где, по слухам, по субботам давал представление самодеятельный театр «Ложа», состоявший пока из единственного актера, некоего Гришковца, не удержался – сделал крюк. Открыл вкусно пахнущую дверь, скользнул взглядом по неунывающему поварёнку и порадовался, что есть в мире нечто неизменное. Заходить не стал – денег не было всерьёз, давно и надолго.
А ещё через год, окончив вуз и шныряя по городу в качестве молодого поднеси-подая в коммерческой фирме, безотчётно готового выложить рублики за вожделенную еду, бодренько рванул на себя дверь «Цыплёнка табака». Но дверь была закрытой. Меняя работы, как носки, так или иначе проходя мимо, уже для проформы дергал массивную ручку, пока в витрине не появилась обнадёживающая табличка «Ремонт». Случилось – даже работал чуть ли не напротив, через пару домов, и первое время, выскакивая в поисках перекусить, ещё на что-то надеялся, забегая в переулок между площадью и кинотеатром. Но табличка «Ремонт» угнездилась настолько прочно, что годы спустя казалась неотъемлемым атрибутом окружающей действительности.
Причём, на удивление, – клубочек разматывался по указанной тропинке: у нас родился второй ребёнок, у меня вышла первая книжка, а вызванное чувство ответственности подгребало под себя всё новые и новые работы, переваливая за три-четыре одновременно. А между ними полусонный робот, что я из себя представлял, вваливался в двери уже родного Союза писателей, извлекая из кармана заработанные купюрки. И поскольку этим жестом отличался от большинства имевшихся в многокабинетье писателей и поэтов, они, невзирая на свои заслуги перед читателем и обществом, ретиво скользили к ближайшим ларькам. Отхлебнув сивушного из грязного стакана, побалакав о том, о сём, узнав новости, перекинувшись в шахматишки, я летел на очередную работу. Вскоре обрушившийся дефолт подсократил количество работ и денег, но высвободил массу времени, в которое вмещалось всё больше и больше глотков из знакомого мутного стаканчика.
Дети к тому времени подросли и могли сидеть сами с собой, то есть: старшая с младшим. Жена также принялась зарабатывать самостоятельно, иногда порхая в длительные командировки. И сложилось как-то, что очередной свой день рождения отметил именно в Союзе писателей, с размахом так, активно, словно не будет больше никаких дней рождения. Причем вероятность такого исхода на тот момент мне казалась фактически безусловной. Поскольку чётко начал понимать, что Лермонтова в этом возрасте уже похоронили, а я, так и не выскоблившись из «подающего надежды», превращаюсь в лысеющего пьяницу без какой-либо перспективы не то чтобы на жильё и место в этой жизни, но и даже на публикацию в местном журнале.
И посреди веселья, похлопывания по плечу заслуженных мэтров, пивших за мой счёт, я вновь поймал внутри скользкое, навзрыд прохладное ощущение обмана. Причём нашёл явного виновника, обещавшего де, да надувшего. При этом хихикающего из-за угла. Под предлогом «покурить» вырвался на свежий воздух. Спешно оставляя за спиной могучие двери Союза писателей, прятавшего в своих недрах пьяную мишуру, мельтешение мыльных пузырьков, рванул, не разбирая светофоров, к драмтеатру, вдоль него, по аллее, мимо политехнического… Почему-то казалось, что на этот раз всё получится, совпадёт. Я войду в храм и кину его служке в высоком колпаке «предъяву» за «кидалово по жизни». Видишь ли: как видения о предназначении навеивать, мы тут как тут, а как пустышка выпала – видите ли «Ремонт»!
Не знаю, сколько я стучал ногой в двери и пытался выцарапать сквозь стекло ненавистную табличку. Вероятно, до тех пор, пока не понял, что обессилел. Ноги отказывались двигаться, и, присев на ступеньки, курил, с ужасом осознавая, что не знаю, куда идти и стоит ли вообще идти куда-то. На второй сигарете, почти засыпая, поймал за кончик хвоста чёткую до прозрачности мысль, что надо что-то менять. Но ящерка, как всегда, вырвалась без подсказки.
Это сейчас я прикидываю, что в возрасте убиенного Михаила Юрьевича мог бы спокойно перейти в его местопребывание, закемарив на февральском крыльце закрытого кафе. Хотя кто его знает? Чужд я романтичному. Скорее всего, чуток протрезвев, двинулся бы знакомой дорогой к шабашу Союза, поскольку до дома вряд ли уже ходил какой-либо транспорт. Но случилось обыденное, до предела будничное. Меня «приняли» мимо проезжающие менты. Поэтому я склонен верить как раз во вторую версию своих предполагаемых действий. Потому как в «бобике» сразу сконцентрировался на ситуации, закрутил кубик-рубик имевшихся в памяти телефонов… Длительное проживание в большом городе обязывает к различным знакомствам, среди которых у меня завёлся бывший муж подруги нашей с женой общей подруги. Который не раз в совместных застольях рекомендовал обращаться к нему, не последнему сотруднику районного медвытрезвителя, если даже привезут в медвытрезвитель другого района. Не было тогда сотовых, на память приходилось рассчитывать. Не подвела. Как только привезли, попросил позвонить. Напомнил про свой день рожденья, обещал бутылку коньяка, словом, унижался, пока не разрешили. Бывший муж кого-то там ни с того ни сего оказался на рабочем месте, попросил передать трубку дежурному. После чего меня… отпустили!
Ни туда, ни сюда. Посреди ночного города, между домом и Союзом, где меня, вероятно, ещё ждали, без денег и транспорта я шагал под снегопадом, доверяясь ногам. Пьяненький, довольный благополучному разрешению проблемы и одновременно мучимый мыслью, что придётся ставить «пузырь» этому «бывшему мужу». Отчего-то не захотелось его благодарить. Вообще никого. Я не стал серьезным поэтом. И никто не стал. За что кого-то теперь благодарить? Особенно какого-то там мента из «трезвиловки». И решил его забыть. Но этого мало. Надо было сделать так, чтобы и он меня забыл. Никогда не нашёл…
Умные ноги привели домой. Фактически трезвого и без подарков. Заспанная чернокудрица открыла дверь, чем несказанно удивила. По моим расчётам она ещё дня два должна быть в командировке. Обнимая её, прижимая к себе, хотел жарко шепнуть в ушко: «Давай уедем из этого города? Навсегда». И осёкся, внезапно услышав: «Меня на работу зовут. В Красноярск. Потому пораньше и отпустили, чтобы решить… Поедем?».
Никогда тот мент от меня не получит бутылку.
…Въезжая под утро в подзабытый, но до тоски пропитавший поры городишко, отчего-то вспомнил это её «Поедем?». Ласковое, вопрошающее. Что же должно было произойти, чтобы это же личико перекосилось безобразной гримасой, это стройное тельце взвилось змеёй, исторгая маты и крики? После чего ледяные слова: «Я не хочу больше жить с тобой». Словно имела право решать, словно не было «Цыплёнка табака», очереди по отоварке «визиток», словно не было ничего, и этого, с надеждой, «Поедем?».
Город встретил убогой гостиницей, Союзом с теми же лицами, что и девять лет назад, ощущением – словно не уезжал. Но лукавлю, лукавлю… Я другой, и лица другие. Встречаются незнакомые, молодые. А некоторых уже никогда не встретить. Но отмечаешь, узнаёшь что-то в суете. Программа конференции настолько насыщенно-обременительна, что и перекусить некогда. И в краткий промежуток между заседаниями из здания в здание, чуть ли не умоляя, бросаемся к организаторам: «Где поблизости можно поесть?». Аморфный молодой человек, роясь в памяти, как сплевывает: «Через площадь, направо «Цыплята табака». Боже мой! Теперь я понимаю, что такое девять лет. Как я мог забыть?! Бодро указывая коллегам дорогу, щекочу себя смешком, поскольку мне потом – на вокзал, за билетами. Как когда-то, как в первый раз. Как чёрт его знает сколько лет назад. А со мной уже нет той женщины, и детей вижу от случая к случаю… Клубочек мотает свою предсказанную нить: я вваливаюсь в долгожданно открытое заведение в компании писателей, что утвердились в литературе, когда меня ещё к детскому саду близко не пускали, к которым и сам пару лет назад постеснялся бы подойти, настолько далеки они от полузабытых снисходительных местных «мэтров». Получается, что и я тоже. Я? Полусельский парнишка с умеренным запасом амбиций? Да, это я вхожу в то самое «Цыплёнок табака» наряду с именитыми и известными. Можно было и офигеть, если бы не фокус превращения храма в плацебо.
Мы вошли не в тот «Цыплёнок табака». Мы оказали в том же помещении, при том же расположении стойки с блюдами, хотя и видоизмененной до буфетной. Нас встречала неопрятная тетка, словно подачку вышвыривая на тарелках полусъедобную, побарнаульски жёсткую курицу. Исчезли в небытие радостные белые стульчики, мамы и дети на них, папаши в галстуках. За круглыми деревянными столами, накрытыми кумачовыми салфетками, изображавшими скатерть, среди давно немытых витражей сидели бомжеватого вида типчики. По одному за столиком. Перед каждым стаканчик красно-невразумительного, бережно отпиваемого мелкими глоточками. Без какой-либо закуски. Алкаши не общались друг с другом, смирно отбывая свою дозу. На первый взгляд половина из них уже была бездомной, другая – стремилась к этому.
И мне стало до щемления стыдно, что привел цвет сибирской литературы в эту, с позволения сказать, – «атмосферу». Однако голодному «цвету», кажется, было всё равно. Их обескураживало только отсутствия выбора среди салатов. Курица исчезала. Мы гуртились у единственного свободного столика с краю, насыщаясь и попутно обсуждая тяготы конференции. Коллеги сокрушались по поводу ещё предстоящего плотного графика и в чём-то завидовали мне, вполне законно сматывающемуся с мероприятий за билетами. Но, тем не менее, контрастируя с нынешними завсегдатаями, не складывалось ощущения дружелюбного общения и уюта. Попутно звонили на сотовой организаторы, поторапливая и напоминая, но мне всё больше становилось наплевать. Постепенно ускользали разговоры коллег. Откуда-то выскорлупливалась абсурдная связь между «я не хочу с тобой жить» с недобрым взглядом неряшливой тетки за буфетной стойкой. Словно моя бывшая жена оказалась виноватой в превращении милого кафе в забегаловку. Или, что более вероятно, каким-то образом это я пинал дверь настолько сильно, что вывернул реальность наизнанку. Невольно пытался уловить движение в проёме служебного входа, ожидая, что вынырнет оттуда белоснежный высокий служитель в очёчках, осыплется грязь с витражей, и под крики «Розыгрыш!» ворвутся к нам все, кого я любил. Друзья, жена, молодые, покончившие с собой поэты, дружелюбно похлопывающие по плечу мэтры, любовницы, дочь с сыном, и – пусть – даже знакомец из медвытрезвителя.
Я так был к этому готов, что когда через секунду ничего не произошло, почувствовал, что могу зажать рот и выпучить глаза, как мультяшный инопланетянин Кузнецов из детства. Поэтому, пробурчав что-то про «покурить», покачиваясь направился к выходу. И едва не заверещал, как в фильме ужасов, когда один из алкашей почти нежно придержал за рукав. Худой, небритый, в толстых линзах, он прошептал: «Мужичок, дай сколько не жалко, а?». От отвращения я дёрнул рукой, вырываясь. Даже хотел сказать что-то обидное. Возможно, дать по морде. Возможно, получить. Уже не важно.
Но он привёл свой последний аргумент. От удивления вытаращившись, автоматически выгребая из кармана на стол, что есть: пару десяток с мелочью, я разглядывал его, соображая, что меня изначально взбесило. Прося, он не смотрел на меня. Куда-то мимо. И теперь, шепча: «Благодарю, благодарю», шарил мимо денег, торопливо скользя пальцами, словно старый тополь высохшими ветками. Даже за толстыми линзами сгорбленный, облезлый человечек, сказавший «А я когда-то поваром здесь работал», был почти слепым.
Мне внезапно захотелось расстегнуть новёхонькую дублёнку, залезть во внутренний карман белоснежного отутюженного костюма, достать и отдать ему всё, что было с собой на командировку, но почувствовал спиной, что коллеги и так пристально наблюдают за моими действиями. Или мне показалось. Или тот, кем я стал… кем был всегда… разумно пресёк все действия, позывом тошноты вызывая на воздух… Я обречённо курил на тех же ступеньках, что и девять лет назад. И не хотел ничего менять. А возвращаясь с вокзала в Союз, где после мероприятия ожидался банкет, как обычно опережающий количеством спиртного закуску, купил по дороге курицу-гриль.
Окурок
– Скажите: метр – это много или мало?
Девушка была почти симпатичной, молодой, – не молоденькой, а уже молодой. Я приметил её, подходя к остановке, поскольку становился третьим. По количеству ожидающих можно строить предположения, давно ли ушёл автобус и скоро ли будет следующий. То есть, девушку я приметил не с целью завязать знакомство (хе-хе, не в этот день), а просто как человеческую единицу. Само собой, попутно отметил её молодость и симпатичность по сравнению с полной тётенькой с кудрями и пухлыми пакетами нараспашку. По всему выходило – автобус ушёл недавно.
Между мной и дамами на остановке стояло дерево, вероятно – тополь. Не знаток в породах (тем более – в этот день), просто мимоходом зафиксировал: старое небольшое дерево с искривлением и наклоном в сторону автострады. Собственно и на дерево-то не похоже, так: растёт непонятно что непонятно где. Потому что и остановкой-то назвать было трудно небольшую асфальтовою дорожку в окантовке выемки автомобильного полотна. Ни тебе скамеечки, ни укрытия от дождя. Просто три человека, дерево, а на дереве прибитая табличка с обозначением остановки. И если под такой табличкой собрались трое и стоят, рано или поздно автобус должен здесь оказаться, распахнуть двери, убаюкать на свободных – конечно свободных! в девятом часу-то – сиденьях, отвезти домой, где я мигом, едва раздевшись, рухну спать.
Это был очень длительный и тяжёлый день. Я устал так, что едва стоял на негнущихся ходулях, которые раньше принимал за ноги. До шаблонной буквальности «я их не чувствовал». Так – ощущал, когда передвигались. Ощущение строилось на соприкосновении подошв с асфальтом. Или голова уже отказывалась воспринимать всякую фигню вроде ощущений. Короче говоря, я стоял на незнакомой убогой остановке и «тупил». Помимо резкого желания немедленно спать, было ясное понимание полного безоговорочного счастья. Да, я устал, но так много сделал сегодня! Всё сделал! И трещащее по швам от усталости тело одновременно казалось лёгким, воспаряющим. Несомненно, здесь поспособствовала и бутылочка пива, которая оказалась спасительный в этот ветреный, порывистый, но по-майски тёплый денёк.
Что ни говори, я был осоловело доволен, благодушен и готовился поспать. Как вдруг передо мной возникла эта пигалица и спросила:
– Скажите: метр – это много или мало?
Вообще-то я живу в центре мегаполиса и, передвигаясь, так или иначе попадаю на соцопросы, под объективы телекамер, время от времени выгребаю из карманов скомканные листовки и рекламные проспекты. По роду занятий сталкиваюсь с десятками сумасшедших женского пола, решивших, что пишут стихи. В большинстве случаев они начинают знакомство с нестандартных вопросов, щеголяя знаниями биографии Сурикова и Хабенского, цитируя Бродского и Фёдора Илоева (на этом месте может стоять любая фамилия местного поэта, ранее меня ознакомившегося с творчеством этих дам). И тут, подойди ко мне полная кудрявая женщина с таким вопросом, не задумываясь послал бы… коллеге в литстудию. Поскольку, как правило, литсумасшествие – дело возрастное.
Девчушка с её математическим вопросом никак не могла оказаться узнавшей меня поэтессой. Вероятно – соцопросница, решившая скоротать ожидание дополнительным процентом к рабочему дню. И в любой бы другой день я бы с удовольствием ответил ей, какую марку сигарет предпочитаю, какие магазины посещаю и какие фильмы мечтал бы посмотреть. Но сегодня, включив автоматом чиновничий холодок и поставленный баритон в тоне, не предполагающем дальнейшего диалога, ответил чисто по-одесски:
– А почему вас это интересует?
Но нечаянная собеседница внезапно взбодрилась, словно я показал свою полную несостоятельность отсутствием знания о том, что Хабенский пишет стихи.
– А я решила именно у Вас это спросить!
Озадачившись, я задумался над ответом. Но поскольку устал, как собака, и думалка не работала, ответил как есть:
– Мне кажется: метр – это мало.
– Тогда почему Вы не прошли этот метр и не бросили окурок в урну?
На секунду мне стало стыдно, и даже попытался найти глазами урну, куда я должен был выбросить бычок. Видимо, машинально курил и машинально отщёлкнул. Знаете, в юности у нас было одним из признаков крутизны – отщёлкнуть большим пальцем окурок небрежно и нарочито, причём как можно дальше. Въелось, вросло в привычку.
Но урны не было! Остановка, тётка, девушка напротив, дерево справа. Никаких урн! Наоборот! За спиной девушки порывы ветра мотали по асфальту целлофановые пакеты, обёртки из-под «сникерсов», упаковки из-под семечек, старые листья. Мой окурок в этой вакханалии мусора, пожалуй, был самым смирным и незримым. И я хотел было об этом сказать. Но девчушка опередила, произнеся, гордо отвернувшись:
– Загадили город, – внезапно добавив, – нахер.
Организм вспомнил, что существуют ощущения, но сделал это зря. Ибо ощущение было такое, словно ударили. Если бы не это её «нахер», я бы извинился, поскольку неправ оказался. И если бы она, мило улыбаясь, попросила, поднял бы, не задумываясь, свой «бычок» и бережно водрузил бы туда, куда мне скажут, поскольку был благодушен и до последней секунды – счастлив.
Но в два раза моложе меня девчушка отошла на несколько шагов, словно и не было никакого разговора. И мне внезапно захотелось подойти к ней, попросить прощения, поинтересоваться, откуда у неё возникла тяга к чистоте: с субботника, по работе или просто по жизни? Словом, сделать всё, чтобы умиротворенное настроение вернулось.
Я мог бы ей рассказать о конце 80-х, о захудалом райцентре, где рос среди «гопоты», где умение «щёлкать бычком» выручало от тягучего выяснения «ты чьейных будешь?». Я мог бы рассказать, что после долгожданного телефонного звонка от тёщи в полдвенадцатого ночи выпил рюмку водки и лег спать, заведя будильник на семь утра. О том, что полвторого меня разбудил другой звонок, от жены. Которая слабо прошептала, что лежит в коридоре на сквозняке, и просила ей отдельную палату. О том, как, так и не уснув, я с утра снял деньги и понёсся на другой конец города, муторно и долго выяснял с врачами, что почём, купил палату (в больницах это называют добровольной материальной помощью). С беляшом и пивом дождался во дворе, когда она мне отсигналит по телефону, мол, теперь порядок, но привези мне то, то и то, и поесть чего-нибудь. Как выяснял в приемной, что ей можно, что нельзя. Как съездил домой, собрал, по дороге купил, отвёз. Встретился с тестем, нанял машину, заехали в магазин, загрузив такси под завязку. Как расставляли с ним всё дома. Как тёща сварила, отвёз горячего, а теперь еду домой, вновь через весь город…
Мы уже сидели в автобусе. Мне досталось свободное место – лицом к салону. Сидевшая напротив, чуть поодаль, девушка, смотрела в окно, делая вид, что ни о чем не спрашивала. Или не в её силах более смотреть на козлов, разбрасывающих окурки. А я сожалел, что так и не подошёл к ней на остановке, не сказал самое главное. И вероятно стоило бы сейчас подсесть и сказать просто:
– Девушка, простите меня. Я так сегодня устал, замотался. Но я больше так не буду. Ведь у меня сегодня родился сын. И я счастлив.
И тогда бы она оторвалась от безучастного рассматривания города, повернулась бы ко мне и резюмировала бы:
– А мне похер.
Поэтому я так и сидел на месте – лицом к салону. Девушка вышла минут через пять. Оказавшись дома, я выпил ещё рюмочку. За то, что обошлось. Что мои в отдельной палате и больше не лежат на сквозняке. Что кроватку, ванночку, коляску, распашонки, конверт и кучу другого из заранее составленного списка я купил и привез. Жену накормил… Уже засыпая, нащупал зазвонивший телефон:
– У меня молоко слабо идёт! – чуть ли не плакала. – Привези завтра грецкого ореха и томатного сока, хорошо?
– Да, да, хорошо, конечно.
– Вы всё купили?
– Да, да. Только той синей ванны не было. Зелёную купил. Нечего?
Утром, после посещения роддома, я вновь оказался на остановке с прибитым к дереву её обозначением. Курил. И знаете что? Урна оказалась сразу за деревом.
Переполненная через край.
Тихий глашатай
Серёжку мать не доносила. Лёг снег, растаял, снова лёг, и под приятным и лёгким покровом предательски скрылась ледяная дорожка. Наташка и поскользнись. Упала навзничь. И что сотрясение небольшое – особо не страшно, копчик сломался. И это на седьмом месяце. Уже в «скорой» могла бы и выкинуть, но даже чуточку стужиться при такой травме не дано стало. Сразу в операционную на кесарево. Мать в реанимацию, ребенка – ни туда ни сюда. В городском роддоме, слышали, камера есть для доходяг-то. Так то в городском! Из района как везти? Помрёт по дороге, и под суд.
А тут бабка Марья, Наташкина мать. Дочь попроведать, да как чего понять. Ей и выносят. Серёжка чёрный, как цыганёнок, скукоженный, еле шевелится. Ни кричать, ни соску взять не может. Ему ещё бы внутри мамы месяца с два дооформиться. И на тебе – горе!
Марья его – цап, за пазуху как котёнка, и ходу на свою окраину. Домик крохотный, но с русской печкой. Серёгу – в валенок и под потолок на лежанку. Дня три допаривался первый бабкин внучек. А у Наташи всё – беда. При кесаревом салфетку внутри оставили, вновь операция, чистить. А копчик ещё, не пошевелиться. Так с месяц в полузабытьи в реанимации той. Едва не схоронили. Вышла: тощая, чернущие глаза навыкате, тёмные пряди отросшие – в платок не вмещаются. Без молока. Муж, Сашка, из армии в письмах извёлся весь, даже отпуск выпросил вне срока, и года не отслужив. Приехал на три дня, а чем помочь? Молока не даст. А вот у родителей своих денег занял. Да Марья с книжки сняла страховые. Закрыла книжку. Корову взяли. Тут и отец зятя подмог. Вредный мужик был, всё не по его. Приказывать любил, ворчать. Но стайку накрыть помог, зима на носу – и корове где жить стало. Сена потом ещё привёз. Купил или выменял – кто знает? Сашкина родня скрытная, ссыльных потомки. Не то из татар, не то армяне они.
И рос Серёга с прищуром узковатым, будто высматривает что галчонком из-под густых бровей. И молчаливым. А чего рот раскрывать при такой проблеме-то? Шестимесячным свет увидел, недоделала его природа. И ходить поздно начал, и окружающее называть правильно. Да меж ног совсем срамно – на горшок как девчонка. Возила его Марья по врачам разным. С трёх лет начала. Те его сухую скокоженку и так, и этак пинцетом вертели, направили в областную. Сашка-то из армии Наташке ещё девчонку наделал, куда ей с пузом? Ещё от прошлых родов путём в себя не пришла. Вот Марья – билет на автобус, пацана на коленки, так и тряслась из года в год. Положат Серёгу в больницу, пару месяцев над ним поколдуют. Через полгода опять направление выписывают. И потихоньку, постепенно провели мальцу оба канала. В школу пошёл, стоя мочась, никто не заподозрил, на смех не поднял.
Но семь операций всё-таки. И так-то был особо не говорун и растеряха. А от наркозов мозги-то будто законсервировались. И читать долго учился, и арифметика не давалась. К средним классам определили в другую школу: задержка развития – сказали. А была-то у него всёго-то мелкая приторможенность. Не мог быстро решения принимать. В магазине чего приобрести – выбирал долго, прикидывал, присматривался, и вроде всё нравится, а купить не решался. Скромным его назвать никто бы не подумал. Застенчивым – разве? Бывало: кто из больших олухов со двора пендель отвесит, обернётся Серёга, и в паузе. Соображает: давать сдачи или нет? На обидчика долго смотрит. И будь тот поумней, не ждал бы, нагленько ехидное сплёвывая. Потому как если Серёга решался, то бил от души, не жалеючи, не останавливаясь, если не оттащат его иль не вывернешься. Оттого и погоняло «псих» как-то выветрилось, и врагов поубавилось, но и друзьями не прирастало. Потому тянулся Серёга к сверстникам, кто подобродушней, без хитрецы за душой. И дружил крепко, беззаветно даже, пусть и десятки лет прошли. В «Одноклассниках» шутит, фотки комментирует беззлобно, но с иронией. А если кто спорить пытается, дурачком прикинется, мол, я лох и тормоз с рождения: в спецшколе для придурков учился.
И надо ж получиться так, что ещё до последней, решающей операции, когда всё же мужчиной доделали, отец его, Сашка, взял да и помер. В тридцать два годка. Сына родил, девчонку потом, и словно выключилась его миссия на земле: смотрел телевизор, да и сполз с кресла на пол с сердцем остановившимся. Так что его род через Серёгу того, шестимесячного когда-то, попёр далее. Надо сказать, что расковыряли ту штуку, через которую род продолжается, пацану изрядно. Исполосовали маковку – заросли шрамы, огромной, почти квадратной, как кувалда, получилась. Не оттого ль Ленка, жена его, свекровь махом три раза бабкой сделала? И сестра Серегина, Маринка, двух внучек потом дала, и своих две, так ещё и пацана! Андрюшка стал середним, вырос, вытянулся каланчой. Смуглый, темноволосой, глаза большие, чёрные – в бабку. Фамилию продолжает, в техникуме учится.
Сам-то Сережка со своей спецшколой заведомо от институтов отлучённый. После восьмого в «шарагу» на электрика пошёл. После армии на права сдал. Грузовой транспорт водил. Работы в начале барыгской экономики хватало. А потом, хоть и «тормоз», сообразил, как это он умел, медленно, но точно, что работодатели его ныне не за людей, а за капиталы переживают: по ремонту машин на каждую деталь скупятся. Вначале кумекал, выжимал из желязяк последний запас прочности, а как встанет машинка – сам же и крайний, весь оштрафованный. А тут – маршруточный бизнес поднялся. Сел Серега за баранку и десять лет людей по городу развозил. Дом прикупил. Старый, но в два этажа. С семьёй из общаги, где уже продыху от тесноты нет, переехали. Соединялись этажи те огромным люком с лестницей. Под горку когда-то расстроились, и получилось два входа: на верхний этаж с улицы – прямой, а с нижнего, что под горой – во двор к бане и стайкам. И снаружи лесенку проложили. Как по кругу ходи. По ступенькам снаружи к бане, сквозь веранду и кухню просторную в люк наверх подняться, и опять – у калитки.
Кто сейчас про шестимесячность, спецшколу помнит? Про операции в детстве? К сорока годам – огроменный мужик. Седина сквозь чёрный волос лезет, пузень нарастает. Сахар вот скаканул, сняли с водителей-то. Так пригодилась самовольность по слесарному делу! Серёга теперь междугородние автобусы чинит. Залезет с утра в яму, к вечеру – весь в соляре – вылезет, и мчат людей во все края тяжёлые и скорые машины! И не скажешь ведь, глядя на пролетария, что книжек прочёл много, что в театре играл.
То в училище случилось. Сокурсницы в народный театр бегали, и Серёгу зазвали. А через год он чуть ли не примой стал. Стеснительным и скромнягой отродясь не был, не боялся публики, веселился на сцене. И бандитов играл с таким-то взглядом из-под косматых бровей! И комиком получалось: детишки в новогодних сказках от его наказанных злодеев в восторге и смехе заходились. Там-то, в театре, и с Ленкой познакомился. Как за девушками ухаживать, так и не додумался, решительности в нём было мало. Потому это она уцепилась, в инициативе вся. Нацеловались вначале, а как чуть дальше, он с ходу ей про операции-то и выложил. Был бзик у Серёжки. Простительный, надо сказать. Не то врачи в детстве брякнули, не то сам так решил: мол, писать-то научился, а вот детей от него не получится. И ну они проверять!
А так хорошо дело наладилось, что к девятнадцати годам, когда Ленка на пятый месяц перешла, уже и свадьбу отыграли. А следом – и Андрюшка. И тут бы притормозить, так нет! Продержались лет шесть, а там и Лерочка появилась. Прямо в канун нового века.
Взяла от бабы Наташи её смоль глазищ – темнущих до непроглядности, от пробабки Марии – волнистую кучерявость. А что у Серегиных детей все черноголовые – и так уже ясно. И от предков его вся смуглость дочке досталась. Испанка какая-то, а не девчонка! Кармен с маминым личиком! Шустрая, хулиганистая и бойкая. И голосок с детства как в театре поставленный: ровный, громкий до басовитости, прямо до дрожи в душу влезает. Серега в шутку её не «ребёнок», а «ведьмёнок» называл.
А к шести годам вышел с дочкой казус. Встала ночью и пошла к люку. Спустилась вдоль кухни и на веранду. Только дверь хлопнула. Проснулась Ленка, и за ней – куда, мол, на улицу в четыре утра! А Леры во дворе и нету! Поднялась неспешно по железной лестнице вдоль дома, вошла в сени, и вновь – к люку. Серёга из спальни высунулся, а у дочки глаза-то закрыты. Спит. И в люк опять. Мимо матери. Та удержать хотела, не смогла. Как груз кирпича – тяжёлая напролом. Спит и идёт. Вновь вдоль дома в горку, по дому – к люку. Трижды обошла, к спаленке развернулась, в кроватку, и как ни в чём не бывало.
– Лунатит, – Ленка шёпотом, укладываясь к мужу.
Тот, как только он может, минут через десять, когда уже засыпала, ответил. Ну что тут сделаешь – Серёга долго решает, проблема выбора у него, с детства такой.
– Нет. Я в книжках читал, что лунатики перед собой руки вытягивают. Так и ходят. А эта… – кивнул в темноте на детскую, хотя кивка никто и не видит, – …просто так ходила, без рук.
Утром Леру расспрашивать, та – в ужимки, и глаза навыкат, вы чего, мол, родители, обалдели? Ничего не помнила такого. Спала да и всё. Ленка тоже после училища, хоть и в театр ходила выступать, особо собой не занималась. Контролёром на вагоноремонтном служит. К бабам в цех: такое вот и как теперь? А бабы чего? Плечами пожали. К психиатру – говорят – надо. Собралась Ленка в поликлинику, на приём записалась, привела девчонку. «Бывает», – им говорят. Детская психика, мол. Штука хрупкая, непредсказуемая. На том и успокоили.
А тут бабка Марья возьми да помри. Не до психик стало. Хоронили, дом потом её, что с печкой русской, продавали, да делили промеж родни. Много её стало, родни-то. Сестра Маринка с мужем нерасписанные и двумя дочками. Ленкина сестра с четырьмя отпрысками. Да баба Наташа, чуть за тридцать овдовев, года через четыре опору себе нашла. Леха, хоть и сидевший, но токарь отменный: с головой не всегда, а с руками дружит. Ещё одного сотворили – Сашку, в память о первом муже. И он уже под-женился.
Время-то несётся, вот и Лерка в школу пошла. Переволновалась, видимо, в первые дни учёбы, и вновь в лунатки подалась. Встала себе ночью, да и бродит с закрытыми глазами. И не вокруг дома, как в прошлом году, а из детской в коридорчик, потом обратно – вышагивает. Андрюха поднялся, усишки уже у парня проклюнулись, и матом на неё – спать приказывает. А та – и ухом не ведёт. Родители в ночную были, а старшая сестра, Настей назвали, к тому времени к парню из дома уже выпорхнула на пожить.
Лера – недолго теперь. Минутки три погуляла всего, и – в кроватку. Отец, когда с работы утром, Андрюха ему – сразу про то. Серёга гоготнул, по-хряпал, что с вечера в холодильнике, и на боковую с ночи. Хотел Ленке потом рассказать, да тут Настя разбудила. У парня её – брат. Да из таких братьев, что чем реже видишь, тем лучше. И вот с дозой не рассчитал. Хоть чужой человек навроде, а похоронить помочь надо.
А потом весной началось. Поднялась Лера и опять маячить. Не разбудить, хоть закричись, не остановить – прёт, как не чует рук на себе. Из комнаты – к люку. Спустится, тут же поднимется, до кровати. И ещё разок.
Звонок потом. У Серёгиного отца был, оказывается, двоюродный брат. Приезжал из Днепропетровска на похороны один раз, когда Серёга мальцом был. Более и не виделись. Жена его всю родню известила – третьего инфаркта не пережил.
И Лера опять встаёт. Спит и ходит по дому. Да долго, с полчаса где-то, кругами. Тут и у Лены маму – раковая была – через пару дней хоронить надо.
Андрюшка, ни слова не говоря, из детской в зал жить перешёл. Разложил свои гаджеты, сигареты смело вытащил. Курит и в ноут шпилится.
В следующий раз Лера вновь вокруг дома пошла. Пять кругов на этот раз сделала. В конце июня дело было, не холодно. Распределились родители с братом. Один следит, чтоб в люк не свалилась, другой – чтобы с лестницы у дома не навернулась. Мать на веранде сторожит.
– Близкий кто-то, – подошла потом к мужу. – Долго ходит. Ты сахар свой давно проверял?
– Ага. Трёхлитровую банку отнёс, – без шутки в голосе, зевнул. – Надо же, какого-то ведьмёнка народили!
– Телефон зарядил? Не выключай на работе завтра.
Но назавтра ничего не случилось. Случилось на второй день. Отчим позвал картошку окучивать. Стоял Серёга на остановке, покуривал и автобуса ждал. Жарень парила на чём свет. И клял он всё подряд. Автобусы, мол, чинит, а тут битый час – ни одного. Плюнул в сердцах, матери отзвонился, мол, в гробу я эту вашу дачу видел, и домой. Ну та сама и поехала. Нашла Лёху с тяпкой среди ботвы. Не дышал уже. И хоть медсестрой всю жизнь, и массаж сердца – на наколки под рубахой – не впервой. А там ведь было – тромб оторвался. Секундное дело.
Пришла баба Наташа в себя, глаза проплакала, тут Серёга к ней. Отец же перед телевизором… Малый совсем – тогда не думал. Родителей его вообще не помнит. Кто такие, мама, не знаешь ли? Шаманы, может, в роду, цыгане? Вон все какие: смуглые, да чернявые выходят! Не знает баба Наташа, не приняла её когда-то семья его, брак не одобрила. Потомки ссыльных откуда-то. Так и ушёл ни с чем. Живёт себе. Автобусы чинит, жена – контролёром на вагоноремонтном, Андрюха техникум заканчивает, в армию собирается, жениться не думает. Настя на стороне где-то жизнь устраивает, да всё не ладится. Лера в третий класс перешла. Иногда ночью лунатит. И если не долго, не далеко от кровати дошла, значит – кто-то из дальней родни. Если из дома не выходит, то кто-то поближе. Вот и Маринкин, сестры, мужик, гнал, только права получив, пешехода насмерть и сам за бордюр в стену. Вот и сестры Ленкиной муж купаться пошёл, да потонул. Нырнул, да и всплыл погодя на рукаве поотдаль.
А Лерка мультики любит, критикует смешариков. Они для детей, мол. А она взрослая! В четвёртый класс скоро, пора учебники готовить. Звонко ругается с Андрюхой, если тот опять в зале накурил. Просится за его компьютер, вконтакте полазить. Голос басовитый, уверенный, как отказать?
– Может, вырастет, и пройдёт? – ни с того ни сего, выпив на майские, за семейным столом – жене.
Ленке не нужно пояснять, о чём он. Долго Серёжка думает. Есть проблема, если решить не знает как, может и полчаса пройти, и месяц, и годы – спросит внезапно.
– А помнишь: совсем крохой была – двое суток проревела? Не знали, как остановить. Спит и ревёт. Ест и ревёт. Играет, а слёзы текут.
– Ну это ей года три или четыре было. В конце лета… что ли, – припомнил Серёга, закивал. Андрюху окрикнул. – Сигареты подай, усатик!
Парень, хоть с девушкой в онлайне, принёс, положил, и обратно за комп. Сам не знал почему, но отца уважал. Хоть тот его и подковыривает, и по матери чуть ли не каждый день. И спецшкола у него, операции, шестимесячный. А вот уважал – и всё. Покурил Серёжка. Ещё замахнул. Ложку крабового салата в рот отправил. Хорошо ему на кухне под горой в своём доме-то. Стена как фундамент заливалась, летом от неё прохладно… И как только это он, приторможенный, умеет, после большой паузы выдал:
– Беслан тогда был, Ленка.





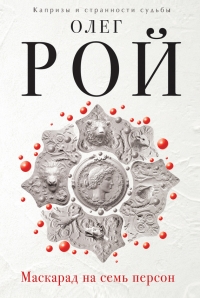
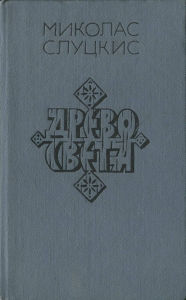


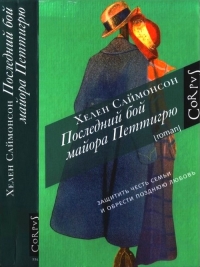


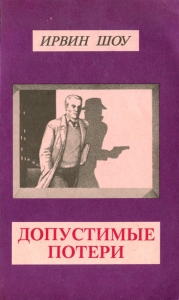
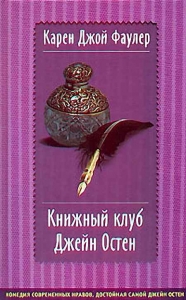
Комментарии к книге «Храм превращается в плацебо», Михаил Михайлович Стрельцов
Всего 0 комментариев