Юлия Лавряшина Простить нельзя помиловать
© Лавряшина Ю., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Темное эхо роман
Глава 1
– А можно устроить на Новый год факельное шествие!
Перед глазами заколыхалось огненное марево, и Мишка едва не зажмурился. Его воображение создавало другую реальность мгновенно, на время вытесняя знакомый мир и вырисовывая ее многообразием ярких красок. Мальчик даже не догадывался, что другие люди не умеют видеть так. Сотни нетерпеливо подрагивающих, рвущихся куда-то огоньков вытянулись неровной цепью, высвечивая в домах, знакомых уже двенадцатый год, новые черты.
Увиделось, как криво ухмыляются окна, за которыми, казалось, прячется что-то страшное… Как металлические морды подъездов холодно скалятся, заманивая в темноту, что была их сущностью… А растопыренные мерзлые ветки тянутся прямо к огненным глазам окон, не боясь опалить себя…
– Нет, вообще-то лучше без факелов, – пробормотал он, не решившись поднять глаза на Стаса.
Тот, может, и не разглядел всей жути этой ночи, зато всегда замечал, когда с Мишкой что-то не так…
– Конечно, не надо, – снисходительно заметил брат. – А то папа тебе голову оторвет, если пожар устроишь!
– Папа не оторвет!
Стас нехотя согласился:
– Ну, не оторвет. Он этого и не умеет, добрый слишком… Таким всегда не везет. Запомни!
Мишка оглянулся, хотя отца не было дома, и спросил шепотом:
– Она не звонила?
– Я с ней и разговаривать бы не стал, – отрезал Стас. Глаза у него стали похожи на стеклянные шарики. – Ушла и ушла. Нечего к нам лезть.
– Она не ушла, а уехала, – зачем-то сказал Мишка, хотя и сам понимал, что это ничего не меняет.
Старший брат посмотрел с той насмешливой снисходительностью, от которой внутри у Мишки все вскипало, как в серебристом высоком чайнике, что появился у них после маминого отъезда. Отец всеми способами пытался отвлечь сыновей от происходящего в семье, как сорок отвлекают ярко-блестящей штуковиной…
– Без разницы!
Лицо у Стаса сделалось грустным и длинным – так случалось всякий раз, когда разговор касался их матери. Правда, перемена приходила не в первый же миг, когда он ощетинивался со всей непреклонностью семнадцати лет, а спустя минуту, позволявшую больше никому не доказывать, как же он презирает эту… Ее…
«Они в жизни ее не простят». Мишка попытался сглотнуть эту мысль, но она так и застряла в горле. Он испугался, что сейчас брат спросит о чем-то таком, на что он не сможет дать ответ.
Но Стас лишь небрежно бросил:
– Ну, ладно…
Не продолжая разговора, он быстро ушел в свою комнату. Мишка же остался в своей, отыскивая, чем бы заняться. Побродив из угла в угол несколько минут, взял недочитанную книгу Крапивина, чтобы спокойно поразмышлять, делая вид, будто читает, и никого не беспокоя тем состоянием оцепенения, в которое так хотелось погрузиться. Он не часто позволял себе думать о маме, потому что мысли эти были острыми, от них в груди все болел…
…В тот вечер родители заперлись на кухне, а Мишка подслушивал их разговор из своей комнаты, приставив к стене банку. Обычно он подобного не делал, но на этот раз глаза у мамы стали словно чужие, и он сжался от страха перед неожиданно поселившимся в ней новым чувством. Видимо, оно и ей самой казалось настолько ужасным, что им с братом нельзя было об этом знать.
Поначалу разговор между родителями, голоса которых шелестели, как бумага, показался ему самым обычным – о новой работе, которую маме предлагали. Чего в этом страшного? Но следом Мишка понял: речь идет о переезде в другой город. Только он и сам не понял – испугался этого или нет.
«Зато директором на местном телевидении назначат – это же здорово!» Он все силился понять, отчего в голосах обоих родителей появились нотки непереносимой муки?
А потом было произнесено имя какого-то Матвея, который займется маминым будущим, и Мишке сразу все стало ясно. Ладони увлажнились, и банка, через которую он слушал разговор, опасно заскользила, норовя грохнуться на пол. Тут же промелькнула мысль: «А током не шарахнет?» И понял, что нарочно отвлекает себя этой глупостью от чего-то уже непоправимого, выпущенного родителями наружу. Только много дней спустя Мишка задумался над тем, каково же им обоим было жить с осознанием неизбежной разлуки.
«С какой стати мальчики должны ехать с тобой? Их дом, почва здесь, незачем вырывать их с корнем из родной земли!» – голос у отца стал скрипучим, как у старика. Мишке захотелось крикнуть, что не таким он должен быть, когда нужно уговорить родного человека остаться рядом! Неужели папа не помнит, он сам учил его, Мишку, этому? И вдруг понял: уговаривать никого не приходится, мама даже не протестует. Это просто игра в слова. Отец вынужден был озвучить то, что ей было не по силам самой сказать вслух.
Мишка поставил банку на пол и забрался в постель. Потом залез под одеяло с головой и часто задышал, но все равно не смог согреться. Наверное, потому, что в сентябре отопление в квартире еще не подключили. Но с тех пор прошло уже больше двух месяцев, а он все так и не согрелся.
Строчки в книге Крапивина плясали перед глазами. С этим Мишка уже сталкивался: буквы внезапно становились жидкими, как медузы, и начинали ползать по странице, налезая друг на друга. Удерживаясь, чтобы не шмыгнуть носом, ведь брат тут же услышит, Мишка быстро вытер глаза и мысленно отругал себя басом: «Здоровый пацан! А нюни развел, как маленький». Почему-то, пытаясь кого-то укорить, всегда напрашивается сравнение с кем-то более слабым…
Ему вспомнилось, как папа сказал по телефону: «Ради бога, не изображай Анну Каренину!», и Мишка понял, что звонит мама. Хотя кто такая Анна Каренина, он знал только понаслышке, ведь этот роман был о любви, а ему такие книжки казались скучными. Мама, правда, говорила, что там есть глава о лошадиных скачках, но не будешь ведь читать целую книгу ради одной главы! Зато он слышал, чем закончилась эта история, даже анекдоты на эту тему бытовали, поэтому он сразу испугался за маму.
Мальчику захотелось перезвонить ей тайком и запретить даже думать об Анне Карениной и сравнивать себя с ней. Но в тот день Мишка так и не остался дома один, а еще через день уже побоялся напомнить матери о том, что может случиться что-то настолько страшное, как в романе Толстого. Может, она уже и вовсе забыла о разговоре с отцом…
Иногда она успевала позвонить, когда Мишка возвращался из школы раньше Стаса. Но если брат уже оказывался дома, то приходилось просто молча отключать трубку, и мама не перезванивала. А в этом месяце не звонила вообще, хотя целую неделю Мишка просидел дома с простудой и мог бы разговаривать с ней хоть целый час, не опасаясь, что кто-то об этом узнает и осудит его.
У мальчишки, о котором писал Крапивин, мама как раз была, а вот отец погиб. Мишка подумал, что это ничуть не лучше. И еще – с горечью – о том, что мир устроен как-то однобоко: всегда чего-то ты оказываешься лишен. Если родители на месте, так болячка какая-нибудь прицепится или в школе зашпыняют…
Он закрыл книгу, на чтении которой все равно никак не мог сосредоточиться, и, повернув голову, посмотрел в окно. Уже начался декабрь, но снега еще было мало, и папа все откладывал обещанную прогулку на лыжах. Не бороздить же ими по земле, в самом деле! Правда, сегодня с утра разошлась метель, и когда Мишка возвращался из школы, ему кололо щеки холодом.
Эти самые щеки его просто бесили! Они до сих пор были пухлыми, как у младенца, и сколько бы Мишка ни поднимал гантели и ни подтягивался на турнике, установленном в коридоре, на них это никак не сказывалось. Мама говорила, что, увидев его в первый раз, он сразу же показался ей похожим на игрушечного медвежонка из ее детства, поэтому она и назвала его Мишкой.
– А Стасик был похож на таракана, – ехидно добавлял он, если брата не было поблизости.
– Не болтай! – пресекала его мама. – Стас у нас просто красавец… А ты – мое теплое солнышко. Самое яркое и светлое.
«Я не скучаю по ней, – упрямо сказал себе Мишка, наблюдая, как ветер подхватывает с земли едва осевший снег, не давая ему возможности слежаться как следует. – Чего мне скучать? У меня вон и папа, и Стас рядом… А у нее один этот Матвей. Пусть они купаются себе в своих деньгах, хоть захлебнутся ими!»
На самом деле он, конечно, этого не желал. И если бы мама на его глазах действительно попала в беду, Мишка сделал бы все возможное, чтобы ей помочь. Но она, видимо, больше доверяла этому Матвею… Говорили, будто он так богат, что купил для мамы телевидение, но Мишке не очень-то в это верилось. Неужели у человека действительно может быть столько денег?
Однажды он сделал для себя неприятное открытие: если взять первые слоги от имени Матвей и от ее – Мария, то как раз и получится «МАМА». А с папиным именем, Аркадий, составлялось что-то пугающее, звучащее по-военному. Может, поэтому у них и не сложилось?
– Не болтай! – строго сказал он себе маминым голосом. – Придумал же…
Вытащив из ящика стола заготовки для картонного самолета, Мишка принялся вырезать оставшиеся детали, нашептывая, что это будет настоящая военная техника. Надо только покрасить его поярче, а то он какого-то непримечательного болотного цвета. Может, так и лучше для маскировки, но зато некрасиво…
«Если она приедет на Новый год, я подарю самолет ей! – эта мысль успела обжечь радостью прежде, чем он придушил ее на корню. – Очень он ей нужен… Она его и домой потом не довезет даже, помнет весь в дороге. Лучше Стасу… А еще лучше – себе оставлю. Стасу все равно уже игрушки не интересны».
– А папа когда придет? – спросил он громко, чтобы брат услышал его вопрос из своей комнаты.
Тот отозвался недовольным голосом:
– Не знаю. А чего тебе? Есть, что ли, хочешь?
– Да нет. Я так…
– Придет и придет. У него встреча со спонсором. Если их лаборатории дадут деньги, он свою новую работу сможет закончить.
В отличие от брата, Мишка не слишком хорошо разбирался в том, чем именно занимается отец. Но большой машиностроительный завод разработками папиной лаборатории очень даже интересовался, и время от времени отец получал от них суммы, казавшиеся Мишке гигантскими. Только их почему-то все равно ни на что не хватало… Отец говорил про свои заработки, что они вымазаны в машинном масле, поэтому прямо-таки выскальзывают из рук.
«А у Матвея, видно, не выскальзывают. Интересно, в чем вымазаны они?» – противно было то, что мысли постоянно возвращаются к этому человеку, которого Мишка даже ни разу не видел. По какому-то неведомому праву тот вошел в их жизнь и развел их с мамой по разным городам… Мишка и представить себе не мог, как теперь собрать всех воедино, хотя с младенчества поражал всех способностью справляться с любым, даже самым сложным, конструктором. Только в воссоединении семьи эти навыки были бесполезны.
Он повторял себе вновь и вновь: «У меня есть папа и Стас», но одиночество, которому Мишка не мог дать определения, заливало его изнутри, будто он был пустотелым шоколадным человечком, который никому не в радость.
Ножницы непослушно вихлялись в руке, норовя разрезать важную деталь фюзеляжа поперек. Ее, конечно, можно было потом склеить, но Мишка выходил из себя, когда что-то получалось не так, из-за этого мог бросить полностью всю затею. Практически все у него всегда получалось так, как надо, и это уже стало вполне естественным. Только в последнее время удача от него отвернулась.
Глава 2
«Выключить свет? – подумал Аркадий, даже не тронувшись с места. – Может, розоватые лучи утреннего солнца уже достаточно набрались силы, чтобы можно было разглядеть на бумаге эти странные, придуманные каким-то арабом значки? Он сам назвал их цифрами? Почему он нарисовал каждую так, а не иначе? И почему все человечество подчинилось его прихоти? Кроме римлян, пожалуй, но и они сдались… Вот оно – арабское владычество в действии! Господи, какая ерунда лезет в голову…»
Не шевелясь, Аркадий смотрел на чайно-золотистую портьеру, которую надо было отодвинуть, чтобы впустить в комнату утро, еще пока не разбудившее сыновей. Проснувшись, он всегда передвигался по квартире тише кошки, половицы от шагов которой вечно скрипели, хотя она весила всего кило девятьсот. Аркадий знал это наверняка, ведь на днях мальчишки снова затолкали Нюську на кухонные весы. Взглянув на них, Стас деловито подытожил:
– Да еще минусуем около ста граммов какашек, она еще на горшок не ходила.
Нюська мрачно смотрела на них с пластикового поддона весов глазами убийцы, вдруг почувствовавшего тягу к своему поприщу, и все сильнее прижимала уши, становясь похожей на затаившуюся в листве рысь. Морда у нее была такой узкой и вытянутой, что казалось, будто кошка постоянно к чему-то принюхивается. Аркадий незаметно для ребят загородил собой младшего сына, ведь если б Нюська вздумала броситься на одного из них, то, конечно, жертвой выбрала бы Мишку. Его самого, как отца семейства и главного в доме, она очень любила, а Стаса побаивалась – он мог свернуть ей шею одним ударом, и кошка хорошо это понимала. Такое чутье свойственно всему женскому полу.
– Во всех нормальных семьях отцы уходят, а не матери, – однажды в разговоре с братом бросил Стас, уверенный, что папа не слышит. – У нас все не как у людей!
Однако, поразмыслив, добавил: «Ну и ладно, лучше быть не как все». После этого случая Аркадий так и не смог отделаться от мысли: сыновья предпочли бы, чтобы в этом их семья не отличалась от остальных.
Заметив, что Аркадий не занят работой, Нюська легко вспрыгнула ему на колени и вопросительно муркнула. Они часто разговаривали так – каждый на своем языке, но обоим эти беседы доставляли удовольствие.
– Что, малышка, не спится? – он медленно провел рукой по гладкой, скользкой шерсти. – Ты ведь у меня сытенькая, только спать да спать… За окном столько снега навалило – тебя бы с ушами скрыло. Всю зиму его почти не было, а тут словно весь разом выпал! Тебе на улицу не стоит выходить, и дома хорошо, правда?
Кошка согласно зажмурилась и задрала слегка выпяченный подбородок, чтобы он его легонько почесал. Аркадий потеребил короткую шерстку пальцем.
– Вот ты от меня не уйдешь… Я даже не спрашиваю, ты заметила? Самоуверенность просто дьявольская. А ведь стоит забрести сюда какому-нибудь паршивому коту с его могучим зовом природы…
Это было не совсем справедливо по отношению к бывшей супруге и ее новому возлюбленному, ведь даже у него самого сложилось впечатление, что Матвей ее действительно любит. Однако «бывшую» пока только на словах – никто из них до сих пор не подал заявление на развод. Впрочем, Аркадий сделал бы это уже давно, если бы не полное отсутствие времени и отвращение к бумажной волоките. Он по сей день с ужасом вспоминал, как они приватизировали квартиру…
С Матвеем виделся всего раз. Больше и не надо, одного взгляда достаточно. Он выглядел настолько молодым, что Аркадий даже растерялся.
– Ты его усыновляешь? – он тут же понял, что со злости сказал пошлость, но извиняться не стал. Подавить непривычную для него злость Аркадий даже не пытался. Она спасала его от боли.
Маша виновато улыбнулась – эта привычка у нее появилась в последнее время – и проговорила совсем тихо, чтобы Матвей, задержавшийся у своего огромного джипа, не расслышал:
– Я и сама понимаю, что это безумие. Но я… Видишь ли… Я ничего не могу с собой поделать…
– Зачем было рожать детей, если ты, оказывается, так и не научилась держать себя в руках? – на смену пошлости пришла банальность, но Аркадий не мог себя контролировать.
Маша не ответила. Если бы она уже нашла те необходимые слова, подобрать которые практически невозможно, что могли оправдать ее, то уж наверняка произнесла бы их вслух. Но их просто не было. Любовь? Когда-то они с мужем сходились в мнении о том, что, если страдают дети, любовь не может служить оправданием.
– А у него?
Аркадий не уточнил, что именно имеет в виду, но она поняла все без слов, как и всегда, тотчас догадывалась обо всем, что он и додумать еще не успел.
– Нет, – она нервно улыбнулась Матвею, который был уже близко. – Хотя он был женат. Но детей нет.
У Аркадия вырвалось нелепое:
– Прекрасно!
– Что – прекрасно? – Матвей заинтересованно и с одинаковым дружелюбием посмотрел на обоих. Словно и не он, внезапно появившись в их жизни, растоптал то, что выстраивалось ими чуть ли не двадцать лет.
Маша противилась, когда Аркадий так сильно округлял количество лет, прожитых в браке. «Всего семнадцать! – уточняла она. – Ты же математик, должен бережно обращаться с цифрами».
– Прекрасно то, что вы будете жить в пяти часах езды отсюда, – сказал Аркадий. И хотя секунду назад речь шла о другом, это тоже было правдой.
– Я думаю! – откликнулся Матвей и весело тряхнул светлыми, ровно остриженными чуть ниже уха волосами. – А то торчали бы у вас перед глазами!
Но взгляд у него оставался настороженным и, как показалось Аркадию, чуточку умоляющим. Было понятно, о чем он безмолвно просит, только Аркадий и без того не собирался ни проклинать их, ни устраивать скандала. Не то чтобы потрясение прошло, а обида уже улеглась, просто он отлично знал: времени упиться своим горем будет достаточно. Уже потом, когда эти двое наконец уедут…
Матвей перестал улыбаться. Похоже, это давалось ему нелегко. Он оглянулся на засыпанные желтыми листьями столики летнего кафе. Их до сих пор не убрали, хотя желающих выпить «Пепси», сидя на свежем воздухе в такую погоду, уже не было. Аркадию показалось, что столы усеяны скомканными носовыми платочками, и подумал, что, должно быть, это кафе видело много расставаний…
– Давайте сядем, – вполне предсказуемо предложил Матвей и отодвинул для Маши стул.
Теперь, когда он ссутулился и перестал встряхивать волосами, почти невозможно было поверить в то, что этот человек так богат, как о нем говорили. Разве зажиточные люди ходят в самых обычных свитерах и джинсах?
Усаживаясь, Аркадий несколько раз пристально взглянул ему в лицо. Оно было крупным, но не полным, скуластым, и желваки ходили так заметно, что на мгновенье Аркадию стало его жаль. Это чувство было столь же нелепым, как и предстоящий разговор, каким бы он в итоге ни вышел. Впрочем, как и вся их история, если ее поведать в двух словах: сорокалетняя женщина (ну, почти сорокалетняя!), мать двоих детей, уходит к тридцатилетнему… или сколько там ему… парню и при этом не устает твердить, что на деньги ей плевать.
Это лицо… Аркадий цепко взглянул на него еще раз. Что в нем такого, перед чем невозможно устоять? Маша была далеко не из тех, кому незнакомо слово «ответственность». Сыновьям она отдавала полностью всю себя, другая с такой отдачей уже давно перестала бы следить за собой, а у Маши только черты лица стали чуточку острее за эти годы. Почему же они, все трое, внезапно растворились в тени этого Матвея, словно за ним тянулась полоска кислоты, все за собой разъедающая?
– Как же нам быть с мальчишками? – спросил Матвей, пристально глядя на искореженный старостью лист, который отрывисто трогал пальцем, будто пытаясь дозвониться до осени. Может, просил послать дождь, чтобы этот мучительный для всех разговор можно было прервать…
Аркадий с трудом принял то, что он так запросто назвал его сыновей «мальчишками». Хотя это было вполне справедливо, как еще можно было о них сказать? Дети? Да ребята бы убили новоявленного «папу» за такие слова даже не задумываясь. Особенно Стас.
– А что вас волнует? – Аркадий смотрел на него холодно, но без той злости, которая сама собой приливала к глазам, стоило только взглянуть на Машу.
Матвей несколько раз кивнул, хотя вопрос не предполагал согласия или отрицания. Прядь волос упала ему на глаза, и он отбросил ее раздраженным жестом.
«Он сердится на себя за то, что моложе меня и носит модную стрижку, а я лысею. А еще за то, что ездит на джипе, – насмешливо подумал Аркадий. – Он решил, будто я ненавижу его за все это».
– Вы не хотите их отпускать?
– А вы хотите попытаться забрать их?
– Не я… Почему я? Но это же Машины дети.
«Вот за это Стас бы его точно убил», – отметил про себя Аркадий и, стараясь говорить спокойно, пояснил:
– Маша меняет свою жизнь. Кто может ей запретить? Но почему по ее прихоти мальчики должны отказываться от привычного хода их жизни? Этого хочется ей, а не им. Они здесь выросли, тут их друзья, школа…
– Школа-то заурядная, – заметил Матвей. – Терять особо нечего. Я, например, сменил пять школ.
– Меня не интересует, как было у вас.
– Ну, понятно!
– А вы смышленый! Тогда вам не составит труда понять все, что я могу сказать, но предпочту этого все-таки не озвучивать.
Бросив на Машу тревожный взгляд, Матвей выложил последний козырь:
– Я мог бы организовать им обучение за границей. В Англии, например. Легко!
«Организатор хренов! – едва не вырвалось у Аркадия. – Массовик-затейник!»
– Вы не поверите, – отозвался он церемонно, – но я сторонник российской системы обучения…
– В МГУ хотите?
– Я ничего не хочу. Я уже отучился, слава богу!
У него мелькнуло язвительное: «У этого типа хоть образование-то есть? Или начальной школы хватает, чтобы деньги считать?»
Он посмотрел на Машу, еще полгода назад (или когда там у них началось?) считавшую себя духовной гурманкой. Трудно было поверить, что Матвей обворожил ее, читая Бродского… На какой-то миг ему показалось, что Маша их даже не слушает, так увлеченно она гоняла по десятисантиметровому квадрату оставленную кем-то пивную пробку. Этот кто-то и не подозревал, в каком разговоре примет свое молчаливое участие не выброшенная им пробка…
«Да что с тобой! – Аркадий еле удержался, чтобы не отбросить от нее Машину руку. – Ты же брезглива, как черт знает кто! Что с тобой происходит?»
Почувствовав на себе его взгляд, она подняла глаза, и Аркадий вновь увидел то, что месяц назад заставило его оцепенеть: Маша смотрела словно сквозь него. Для нее он будто растворился в пространстве, и это ее ничуть не расстраивало. Ему стало страшно случайно перехватить ее взгляд, устремленный на Матвея…
– Так что обсуждаем? – заторопился он, боясь отпустить ее невидящие глаза. – Все предельно просто и ясно. Мальчики остаются со мной. А вы живите, как хочется, никто вам не указ.
– Я могу… – первые слова дались Маше с трудом. – Я могу приезжать?
– Ну разумеется!
Аркадию показалось, что он говорит голосом героя какого-то семейного фильма о правильном поведении при разводе.
– А ты будешь отпускать мальчиков к нам? Ко мне, – быстро поправилась она.
Аркадий неожиданно для самого себя сорвал с лица невидимую маску:
– Я думал, ты жить без них не можешь! А ты оговариваешь часы свиданий!
– Я не могу! – голос у нее взлетел и тут же смешно сорвался. – Действительно не могу! Но ты же не хочешь меня понять…
– Я еще помню, как ты брезгливо кривилась, когда одна певичка ушла от мужа к стриптизеру, – выпалил он, отлично понимая, что это – вызов.
У Матвея помертвело лицо.
– Я вам не стриптизер, – его голос прозвучал совсем низко.
Аркадий без особой радости отметил: задел как следует. Следовало бы остановиться на этом, но он язвительно добавил:
– И вы, конечно, будете любить ее до конца дней своих! Пока смерть не разлучит вас…
– Я вам шею сверну, если вы попытаетесь ее обидеть!
«А вот это моя реплика, – ревниво отметил Аркадий. – Он нарушает правила игры. Может, он просто не знает их? Классику не читал?»
– Не надо…
Произнесенные шепотом, Машины слова отозвались новой болью: она допускала демонстрацию интимности со своим новым возлюбленным прямо при нем. И в том, как были взъерошены ее короткие черные волосы, тоже проглядывал элемент их близости, словно Маша только что выбралась из постели…
– Это уж ни в какие ворота – заверять, что я буду любить Машу вечно, – заговорил Матвей почти спокойно, только под кожей щеки что-то нервно подрагивало. – Никто не может знать, сколько это продлится. И вы, в свое время, не знали. Маша не знает… Но сейчас… Маша, закрой уши! – повеселев, прикрикнул он. – Сейчас я готов землю прогрызть, чтобы она была счастлива!
– Зачем грызть землю? – бесстрастно поинтересовался Аркадий. – До Австралии вы и на самолете сможете добраться. А сейчас садитесь в свой джип и уезжайте навстречу счастью. Никто у вас на дороге не встанет.
Смахнув со стола горсть листьев, Матвей выкрикнул, подавшись вперед:
– Да вы еще как стоите! И уходить не желаете.
– А вам надо, чтобы я застрелился? Или чемоданы помог донести?
– Я… Мы хотим быть уверены, что вы не станете настраивать мальчишек против Маши.
– Больше, чем она сама против себя настроила? Не стану, будьте спокойны.
С сомнением дернув сломанной посередине бровью, Матвей пробормотал:
– Будешь тут спокоен…
– А как же ваше «легко»? Я думал вам все – легко!
– Не все, как видите, – он вдруг улыбнулся. – Но я уж постараюсь, чтобы нам всем стало легче. Разве такое не возможно?
Глава 3
«Однажды из твоей комнаты исчезнут игрушки… Как это происходит? Их собирают в мешок и выносят на свалку? Или они и вправду сами уходят по ночам на цыпочках, как представлялось мне в детстве? По очереди: солдат за роботом, медвежонок за лошадкой с безумным взглядом… Так незаметней. Детство уходит именно так. По капле. Незаметно.
Со Стасом мы такого не пережили, его игрушки просто перекочевали в твою комнату. Сколько им осталось жить там? Тебе скоро двенадцать. Когда заходят девочки, ты уже стесняешься своих молчаливых друзей, и твои все еще нежные ушки начинают гореть и светиться красным. На их глубоких ободках чуть заметные серебристые волоски, которых я уже много лет не касалась губами, ведь это ласка женская, не материнская.
Я лишила себя возможности быть с тобой рядом, когда ты будешь прощаться с детством… Ах, какое торжественное словосочетание! А ведь на самом деле никакого прощания не бывает, потому что никому не дано угадать тот ускользающий миг, когда растает последний луч этого долгого солнечного дня.
Впрочем, я говорю глупости. Это солнце – твое детство – может остаться в тебе навсегда, как навечно поселилось оно в Матвее. Это теплое свечение притянуло меня и погрузило в себя так глубоко, что уже и не выбраться. Жаль, что вы не познакомились, он понравился бы тебе. Как и ты, он видит в этом мире столько красок, что их веселый вихрь заставляет его сердце колотиться вдвое быстрее, чем у обычного человека.
Его детская непоседливость иногда пугает, он не может надолго успокоиться чем-то. И его капризное: «Хочу немедленно!» – тоже пугает… Трудно представить, чтоб он не добился того, чего по-настоящему желает.
Но эти мелочи не заслоняют от меня главного: его способности изумляться Красоте, упиваться ею. Влажные ложбинки на утренних листьях сирени, и вельможное покачивание папоротника, вспышки летящей паутины – все эти волшебные мгновения он замечает и дарит мне. Он первым слышит новые интонации в возгласе птицы, почуявшей весну. И до сих пор чувствует трепетный запах этой поры, когда мне самой кажется, что весной давно уже не пахнет.
Я могла бы сказать, что мой мир расцвел с появлением Матвея, если б не видела, как непоправимо померк он без тебя. Без вас со Стасом…»
– Ты молчишь уже третий час, – Матвей смотрел на влажно темнеющую среди белесых от снега полей дорогу, летевшую под колеса их автомобиля, но страх в его взгляде отразился от лобового стекла, и Маша успела его поймать.
– Мне есть о чем подумать, – заметила она.
– И это, понимаешь, правильно, – сказал он голосом Ельцина.
Маша бы рассмеялась, ведь обычно это ее смешило. Но только не в этот раз.
– Не смешно, да? – Матвей мельком взглянул на нее, но тот самый страх, поселившийся в его взгляде, успел холодом скользнуть по ее щеке.
– Смешно. Мне просто немного беспокойно. В последнюю встречу он вел себя, можно сказать, по-рыцарски, после чего я всю неделю была какая-то опустошенная. Наверное, было бы легче, если бы он орал…
– Тогда я тоже начал бы орать, – сообщил Матвей. – Мы подрались бы. Я, конечно, убил бы его одним ударом. Легко! И на целую вечность сел бы в тюрьму. Тогда бы тебе было легче?
– Это было бы прикольно.
Маша знала, что он не любит, когда она начинает говорить языком своих детей. Но ей казалось, что если такие словечки забудутся совсем, это будет предательством с ее стороны. И тут же подумала: больше того предательства, которое она уже совершила, вряд ли могло что-то быть…
– У твоего мужа, если честно, следует брать уроки выдержки. Но мне как-то не хочется… А у него, между прочим, хорошее лицо.
– Ты говоришь о нем, как о собаке.
Ей было известно, что Матвей любил собак. Только почему-то так и не завел ни одной. Поколебавшись, Маша спросила об этом сейчас. Он взглянул удивленно, смущенно усмехнулся, потом все же выдавил:
– Понимаешь, они все такие чудесные, одна лучше другой. Вот так возьмешь одну, а потом другая понравится еще больше. Разве я смогу себе отказать? А с первой что делать? Не питомник же открывать…
Ответ не требовался, и Матвей опять заговорил о ее муже. Было похоже, что он наслаждается, истязая себя.
– А глаза у него всегда были такими… усталыми? Или это мы его так выпотрошили?
– Усталыми? Мне они казались просто серьезными. Умными.
Он скосил заблестевший усмешкой взгляд:
– После него приятно влюбиться в круглого дурака! Почему это он в тот раз сравнил меня со стриптизером? Я только сейчас вспомнил.
Маша прорычала ему в ухо:
– У тебя роскошное тело!
– Щекотно! – Матвей потерся ухом о плечо. – Я в самом деле похож на дурака или это он со злости?
– А ты как думаешь? – она с облегчением обнаружила, что тяжесть, совсем захватившая ее за три часа пути, понемногу стекает на дорогу.
Он вдруг сказал:
– Не волнуйся. Пацаны ждут тебя. Все-таки Новый год. Семейный праздник… Я испарюсь. Пережду в каком-нибудь клубе. Надеюсь, они у вас есть?
– Ты сейчас – моя семья, – Маша поморщилась, потому что в ее словах прозвучало название одного из телевизионных ток-шоу, от которых уже подташнивало.
– Но меня-то, признаем, там никто не ждет!
– А меня? Стас бросает трубку…
– Ну, так! В семнадцать лет я был еще той сволочью!
Она возмутилась:
– Хочешь сказать, что мой сын – сволочь?
– Да нет, нет! Он – ангел во плоти. Только ведет себя по-сволочному…
– Я заслужила.
Было необходимо, чтобы Матвей тотчас же начал ее разубеждать, но он на секунду замешкался. «Он тоже считает, что заслужила, – Маша успела понять это и замерла, как от удара исподтишка. – Он, конечно, рад, что я так сделала, но и ему это кажется предательством. А как еще это можно назвать?»
Злость сдавила ей горло, отдаваясь в нем фразами, в которых было столько банальности, что самой стало противно: «Я всем пожертвовала ради него! И он еще смеет… Какая же я…»
– Мы на твоей земле, – сказал Матвей так весело, будто они шутили все это время.
– Что? – она еще не пришла в себя от обиды.
– Неприступная граница осталась позади. Это уже ваша область.
– Чья это – ваша? – горло не отпускало, и Маше хотелось, чтобы он тоже ощутил хоть отголосок ее боли. – Я здесь больше не живу, если помнишь!
Просевшие от холодного груза лапы елей мчались на нее лопастями гигантской мельницы, готовой измельчить в труху все, что составляло сейчас Машин мир. Ведь все это было ничтожно, ничтожно…
Матвей быстро взглянул на нее и воскликнул, пытаясь удержать тот же беспечный тон:
– Так это ты живешь со мной? А я-то голову ломаю: где я тебя видел?
«Не смешно. Он ребячится, потому что не может иначе или чтобы я поменьше тосковала о мальчиках? В любом случае ему не удастся заменить их… Если бы мне нужен был еще один ребенок, я родила бы его, вот и все». Маша отклонила голову к стеклу. В машине было тепло, и она сняла вязаную шапку, которую носила зимой. Ей вспомнилось: «Мишка хотел сестренку. Он посмотрел «Корпорацию монстров», и ему захотелось, чтобы по нашему дому тоже бегала маленькая хохотушка, которая нежно говорила бы Нюське: «Кися…» Надо было родить и сидеть дома. И не было бы никакого Матвея…»
– Останови машину!
Она выкрикнула это, и Матвей резко нажал на тормоз. Обоих швырнуло вперед, и он будто окунулся во что-то белое – так побледнело его лицо.
– Ничего, – выдохнула Маша прежде, чем он спросил. – Я хотела сказать, что люблю тебя. Но это нельзя говорить на ходу.
– Я очень боюсь этой поездки, – тихо признался он, не отводя от нее глаз, и ей подумалось: это лучшее из всего, что он мог ответить.
– Бояться нечего. Тебе-то уж точно. Все уже разорвано. И все уже пережили это…
– Так, может… – Матвей оборвал себя и мотнул головой. – Нет. Нет, конечно!
– Лучше и не ездить? – она сама столько раз спрашивала себя об этом, но сейчас у нее онемели губы.
Он молча заставил машину тронуться.
– Я хочу их увидеть, – сказала Маша через силу. – Это будет не радостная встреча, я знаю. Но если я не приеду, они решат, что я совсем отреклась от них. Ведь Новый год… О господи!
В груди у нее все разрывалось от боли – впору было кричать, а она лишь прижала к глазам стиснутые кулаки. Пальцы были ледяными, а лицо горячим. Маша подумала, что вся ее жизнь из таких противоречий и состоит, и разозлилась на себя за эту непреходящую способность к мышлению. Кого она сделала счастливым?
Тормоза горестно вздохнули, и рука Матвея, теплая и тяжелая, легла на ее волосы.
– Попробую поговорить с ним еще раз, – сказал он, не призывая Машу успокоиться. – Может, он уже вымотался за эти месяцы?
Она опустила руки, а Матвей убрал свою и отвел глаза, чтобы не раздражать ее состраданием.
– Дело ведь не в том, что Аркадий не хочет их отпускать. Они сами не хотят ко мне. И знаешь что? Если бы все это происходило не с нами, я была бы на их стороне. Я всю жизнь презирала Анну Каренину! Со школьных лет. Когда он по телефону сравнил нас, меня так и прошибло. Мне-то всегда казалось, что со мной такого просто не может случиться! Скажи мне, как это произошло, что я не могу жить без тебя?!
Она прокричала это, уже не пытаясь скрыть упрек, почти ненависть к тому необъяснимому магнитизму Матвея, перед которым она не могла устоять. Он притянул ее так мощно, что освободиться и при этом остаться в живых было уже невозможно. И все же, если бы Маша позволила вырваться тому, что жгло горло: «Ты лишил меня счастья!», это было бы правдой. Счастливой она себя не чувствовала.
– Мне нужно было испариться еще тогда… Весной. Когда было не поздно.
– А ты смог бы? – Маша напомнила себе любую из миллионов женщин, ищущих подтверждения необратимости любви, охватившей их. Она поежилась.
Матвей смотрел на застывшую перед ними дорогу.
– Не знаю. Как узнать, если я уже поступил по-другому?
– Действительно…
– Я стараюсь быть честным.
– Мы живем в грехе, а ты говоришь о честности?
– Я считал, что мы живем в любви… Стой! – он приказал это будто себе самому и повернул к ней лицо, готовое к смеху. – Я придумал! Раз наступает год Лошади, мы должны подарить им лошадь!
Его фантазии Машу уже не поражали, именно они сделали их телевидение популярным у зрителей. Она лишь уточнила:
– Живую?
– Ну, не смердящий же труп!
– Идея грандиозная. Только сначала придется подарить им усадьбу с конюшней.
Матвей разочарованно пробормотал:
– Да, действительно. Это мне сейчас не по карману…
«Слишком много затрат в последнее время», – она опять подумала о телевидении. Маша прекрасно знала, все вокруг считали, будто она задурила голову богатому парню только ради своей карьеры. И было бесполезно объяснять каждому, что любимому человеку хочется подарить все самое лучшее. К тому же тогда следовало бы добавить: на самом деле Матвей ошибся…
Ее вдруг осенило:
– А что, если нам с тобой купить лошадь?
– Легко! И задобрить их этой скотиной? – сразу сообразил Матвей.
– Мелко, я знаю. – Маша почувствовала, как улыбка становится заискивающей.
Он заговорил виновато, быстро поглядывая на нее:
– Не в этом дело. Понимаешь, пока не видишь, не можешь и хотеть этого… чего-то… так сильно, чтобы переступить через себя. Мечту тоже можно видеть, как вживую. Только разве твои пацаны мечтают о лошади?
Маша тронула руль:
– Поехали. Ты прав. Они не хотят лошадь.
– А чего они хотят? Каждый из них. Ты знаешь? Ну, вспомни! Мы купим.
У нее вырвался недобрый смех.
– Они хотят вернуться в прошлое, – сказала она уверенно, потому что временами сама нестерпимо этого хотела. – На год назад. Тогда был веселый декабрь…
Несколько минут Матвей молчал, а когда она уже далеко ушла в мыслях от последних слов, вдруг сказал:
– Где-то он должен быть, этот ход в прошлое. С чего бы столько писали о перемещениях во времени, если бы на самом деле его не существовало?
– О скатерти-самобранке тоже писали…
Он тут же отвлекся и пожаловался:
– Есть хочется!
– Ты опустишься до придорожной забегаловки?
– Легко! Нам еще час ехать, не меньше. Мой желудок уже сожрет сам себя.
«Сердце тоже может сожрать себя. Раньше я этого не знала». Маша отвернулась к окну, но быстро устала от того, как взгляд перескакивает с устрашающе торчавших веток голого куста на озябшую березу, потом на брошенную покрышку, потом…
– У тебя такое лицо, что впору сказать: «Лучше бы мы не встретились», – Матвей пытался улыбаться, ведь это звучало слишком страшно. – Так могло быть… Ты не приехала бы на тот телефестиваль. Послали бы кого-то другого…
– Это был мой материал, кого еще могли послать? – вяло возразила она.
– Да могли бы! Уж ты-то знаешь… Да и я мог заняться не телевидением, а…
– Металлорежущими станками, – Маша сказала наобум, а получилось – напомнила себе о муже.
Ему тоже вспомнился Аркадий:
– Или стриптизом.
– Да-да, – ей не хотелось шутить. И откликаться на шутки тоже не хотелось.
Он спросил:
– Помолчим?
Маша не ответила. Ее память, как в игральном автомате, вдруг выбросила тот день, когда она угодила в поток энергии, который несся вслед за Матвеем. На том фестивале работали мастер-классы, и в одной из студий снимали короткометражку для новой региональной передачи, в которой зрителям предлагалось выбрать финал истории. Предусматривался интерактивный опрос и дискуссии в студиях областных центров, и все это могло вылиться во что-то интересное. По крайней мере, так показалось Маше, которая осталась на съемку, пожертвовав очередным просмотром конкурсных работ. Легко! К тому моменту она видела Матвея только издали (разве можно его не заметить!), а тут решила, что он – режиссер, потому что все в студии слушали только его. Потом уже выяснилось, что он из тех продюсеров, которые на самом деле и определяют судьбу фильма.
– Я хочу, чтобы этот план ты слегка завалил, получится динамика, – убеждал он оператора, все показывая руками. – Крупняки потом снимем, сейчас давай диалоги.
Пока работали артисты и операторы, Матвей стоял у одного из них за спиной и чуть ли не обнимал его, воздев руки, так ему хотелось управлять и камерой тоже. Игнорируя настоящего режиссера, маленького, похожего на обиженного хомячка, он обращался к актрисе, классически красивой, как отметила про себя Маша:
– Я попросил бы вас, когда будем снимать крупным планом, сделайте движение бровями. Да, вот так! Наезд на зеркало! Вот, план сразу ожил. Еще раз. Все, пишем.
От напряжения, которое возникло в ней в какой-то момент и так и задержалось, Маша вытянула шею, следя не только за тем, как Матвей работает, но и ловя каждый его жест и интонацию: как он морщит большой, выпуклый лоб, взмахивает длинными руками, ничего не замечая в своей увлеченности происходящим, как всем лицом откликается на игру актеров. Вдруг их взгляды встретились, и он ей улыбнулся. Если бы он этого не сделал, Маша бережно унесла бы из студии лишь восхищение его профессионализмом, но Матвей покорил ее этой улыбкой, посланной поверх голов десятка присутствующих в студии людей. Она так растерялась, что не сообразила улыбнуться в ответ.
Даже обманчивый свет жарких софитов не смог скрыть от нее зеленый цвет его глаз. Как у той беды, про которую они пели с девчонками в школе. Правда, эти были почти бирюзовые. Таких глаз она еще не видела. И ей вдруг показалось, что всю свою жизнь она искала именно эти глаза. Их неземной свет, который способен перенести в другую реальность.
«Я нагнетаю, придумываю, – пыталась она убедить себя в те безумные дни, когда рыскала взглядом по залу, по коридорам с единственной мыслью: «Где он? Где?» – У меня ведь все уже сложилось, этим нельзя рисковать. Менять я ничего не собираюсь. Мне просто понравились эти ощущения… Эти замирания в груди… в животе… Эти сны, в которых я все время плачу и говорю ему почему-то по-английски: «Ты – моя мечта… Моя мечта». Но я ведь прекрасно знаю, что мечты никогда не сбываются. Я уже выросла из этих детских стремлений к мечте».
Она действительно верила в это…
В придорожном кафе со смешным названием «Остановись-ка!» пахло жареной курицей в чесночном соусе, и Маше тоже захотелось поесть, хотя минуту назад она об этом и не думала. Матвей уже скользил между столиками, изображая услужливого официанта. На каждом шагу он оборачивался, и Маша читала по губам: «Айн момент, айн момент!»
На него уже посматривали окружающие, но ему не было дела до чужих взглядов. Это тоже было одним из тех многочисленных потрясений, которые она пережила с ним. Ее-то саму телевидение приучило помнить, что на нее смотрят постоянно.
«Оказывается, это и есть жизнь, – отвращение опять подступило к горлу. – Нажраться курицы, развалиться в громадной машине, поболтать по крутому мобильнику… Мне этого не хватало? Вот, получи! Расплатись своими детьми».
Она знала, что Матвей видит ее лицо, которое лучше бы сейчас не показывать. Ему даже не приходилось надевать контактные линзы. У него было хорошее зрение, хорошая голова, хороший характер, хорошая улыбка… Разве она могла не влюбиться в такого мужчину?
«Могла, – Маша отвернулась к окну и встретилась взглядом с собакой, которая сразу встрепенулась и неуверенно вильнула хвостом. – Вот у кого ничего нет. А у меня действительно все было. Но… Но! Каких-то пять лет, и мальчики ушли бы сами, так уж заведено. А Матвей уже был бы потерян. Я украла у них пять лет детства, чтобы выгадать себе пять лет молодости. Я не чувствовала себя молодой с Аркадием. Потому что он сам внутри давно постарел».
Ее муж даже в двадцать лет был тихой водой. Не тихим омутом, а спокойной рекой, в которой глубина – не обманная, а вот движения почти нет. Против него Матвей казался горным потоком, обжигающим, не допускающим сопротивления. Он все время куда-то бежал, размахивал руками, фантазировал, всех вокруг увлекая в свой мир. Беспрестанно звонил телефон, двигатель машины не оставался выключенным ни на миг, даже телевизор, когда его смотрел Матвей, перескакивал с канала на канал.
Иногда Маше казалось, что ее начинает утомлять такой темп. Может быть, она действительно была стара для него… С Аркадием она не ощущала усталости, ведь и уставать-то было не от чего. У них никогда не случалось ничего плохого, никаких бед, которые могли бы встряхнуть обоих. Этому можно было только радоваться, но теперь Маша подумывала, что им с мужем пошло бы на пользу, если бы хоть однажды их как следует шарахнуло о подводный камень…
– Купи что-нибудь для той собаки, – попросила она, когда Матвей вернулся. – Смотри, какая несчастная!
– Мы ей кости отдадим.
– Ты жадничаешь? – изумилась Маша.
До сих пор она не замечала в нем этого. Чаще Матвея приходилось хватать за руку, чтоб он не источал золотой дождь.
Он обиделся:
– Почему это? Собаки же любят кости!
– Глупый. Собак нельзя кормить куриными костями. Они острые, могут вонзиться в горло.
– Серьезно? – прижав руку к груди, будто у него схватило сердце, протянул Матвей преувеличенно-потрясенным тоном. – Ладно, куплю ей бутерброд. Она не поперхнется хлебными крошками?
Маша сказала ему вслед:
– Я сама отнесу ей.
Она почувствовала себя отчаявшейся грешницей, пытающейся задобрить Бога через подаяние нищему.
Глава 4
Если бы она не приехала, вполне возможно, он встретил бы Новый год, чувствуя себя почти человеком. Аркадий и раньше знал: никто не страдает из-за предательства вечно. «И это пройдет…» Вот только когда пройдет, не смог бы сказать ни один из мудрецов.
Ему претило думать, будто он страдает из-за любви, это было совсем не то. Его любовь к жене не являлась ни безответной, ни осмеянной. Они прожили в счастье так долго, что грешно жаловаться на судьбу. Предательство – вот что мучительно. В том числе и предательство Машей самой себя. Ведь та Маша, которую он знал почти двадцать лет, была человеком надежным. Не способным бросить своих детей.
То, как они с Матвеем без предупреждения возникли на пороге ее бывшей квартиры в последний день уходящего года, было похоже на вероломную атаку. Именно тридцать первого декабря всеми овладевает сентиментальное настроение, похожее на ностальгию по собственным детским ожиданиям то ли чуда, то ли подарка, и все равно, как оно (он) проникнет в вашу жизнь – через трубу, или возникнет под елкой на куске ваты, изображающей снег, или появится в почтовом ящике. Это день, когда ничего не стоит справиться даже с самым несговорчивым упрямцем.
Аркадий таким не был. Та злость, которая жила внутри его в сентябре, когда Маша уезжала, давно испарилась, ничего не оставив себе взамен. Пустота позванивала в нем ночами, когда стихали другие звуки. Широкая для одного кровать обманывала: Аркадию мерещилось, что стоит неосторожно повернуться, и его поглотит пропасть, образовавшаяся с того края, где раньше спала жена.
Он лежал, вытянувшись вдоль кровати, и, не отрываясь, смотрел в потолок, которого, казалось, тоже не было – только чернота, не имеющая дна. А пустота все звенела, разлетаясь по миру и суля обманную легкость тем, кто доверял голосам ночи. Если бы Маша явилась в полночь, кажется, он бы даже не удивился…
Но эти двое прибыли в полдень, это значило, что выехали – ни свет ни заря.
«Выгадали время на случай, если я выставлю их за порог и придется искать пристанище, где встретить Новый год… Хотя чего опасаться с его деньгами?» Забыв вдохнуть, Аркадий следил, как они идут от своей до неприличия большой машины к ободранной двери их подъезда, и пытался выудить из памяти причину, побудившую его подойти окну. Разве раньше у него была такая привычка? Но жар, хлынувший к голове от всполошившегося сердца, был нестерпим настолько, что предыдущие мысли и предчувствия обратились в прах.
«Хорошо, что мальчишек нет дома». он засуетился, пытаясь вернуть хладнокровие, чтобы встретить Машу с каменным лицом. Матвей не поднимется, в этом можно не сомневаться, несмотря на то что тот и направлялся к подъезду.
«Чтобы открыть перед ней дверь». Аркадий подумал об этом с досадой, хотя и сам всегда открывал ее перед женой. Но сейчас, когда злости больше не было, казалось, будто он тоже виноват в случившемся. От чего-то же возникла в Машиной душе та брешь, в которую проворно втиснулся Матвей. Может, именно в тот день, когда она уезжала на этот чертов фестиваль, Аркадий забыл поцеловать ее на прощание? Или просто оказался рассеян и ляпнул: «Да-да…» вместо: «Счастливо!», как иногда с ним случалось?
Обычно Маша посмеивалась над этим: ученый и должен быть Рассеянным с улицы Бассейной… А в тот день ей, видимо, стало не смешно, а обидно. Хотя, может, причина и не в этом. Теперь уже ни его, ни ее память не могла восстановить: в каком месте находился тот первый камень, который они обошли с разных сторон, забыв, что по примете это приводит к ссоре. А изводить себя догадками тоже не имело смысла. Каждая из них являлась очередной жердочкой навесного мостика, который уже давно должен был рассыпаться, чтобы освободить их с Машей друг от друга.
– Рубашку!
Аркадий метнулся в спальню, на ходу стягивая домашнюю майку, о которую минуты три назад, забывшись, вытер замасленную руку, и темные, глубокие на вид пятна отчетливо проступали на синем трикотаже. Выдернув из шкафа совсем новую рубашку с короткими рукавами («Она должна увидеть, что я – другой… Что жизнь продолжается и без нее…»), Аркадий, продолжая суетиться, застегнул пуговицы и уже на последней от облегчения обмяк – успел.
Но еще нужно было вонзить расческу в седеющие волосы, уже не такие густые, как раньше, но сегодня особенно спутавшиеся. И перед зеркалом натянуть маску безразличия к происходящему. И, конечно, не сразу отозваться на звонок в дверь.
– Ого! Какими судьбами?
Это прозвучало достаточно равнодушно. По крайней мере, ничуть не взволнованно. Машино же лицо в волнении заметно подергивалось…
– Я… Можно мне войти?
– Отчего же нет? – Аркадий еще раз похвалил себя за выдержку и тут же устало подумал: «Какое ребячество… Неужели нелюбовью можно гордиться? Глупая, глупейшая игра…»
Не предложив Маше раздеться, он долго рассматривал ее испуганное, с умоляющими глазами лицо, потом спохватился:
– Снимай шубу. Это и есть норка?
– Это и есть… А почему ты спрашиваешь? У тебя же была норковая шапка.
– Здесь ее много, – он усмехнулся. – Смотрится иначе.
– Детей нет? – боязливо спросила Маша, назвав их так, как только она себе позволяла, и они нисколько не обижались. Когда-то не обижались…
Аркадий подхватил невесомую шубку: «Хорошая выделка». Мех воротника ласково прильнул к его ладоням, и ему захотелось швырнуть норку на пол, усеянный мокрыми пятнами от растаявшего снега, чтобы не поддаться этому обману.
– У них елка в школе, – сдержанно пояснил он. – Так теперь, правда, не называют. Новогодний вечер. С двенадцати часов дня! – усмешки выскакивали одна за другой, Аркадию уже казалось, что они выдают его истинные чувства. – По-моему, это чистое безумие – устраивать школьный праздник именно тридцать первого…
Маша прижалась спиной к своей шубе, обвисшей на крючке:
– Наверное, мне лучше повидаться с ними в школе? Ждать, наверное, долго… У тебя, наверное, дела.
– Наверное, – повторил он слово, которое выскакивало из Маши, как из него самого эти глупые смешки.
– Я… Да. Как ты?
В ее голосе прозвучала неподдельная боль, и Аркадия передернуло, будто иглой ткнули в нерв.
– Вполне, – он снова взял шубу и подал ей. – У меня новый контракт. Со дня на день стану миллионером.
Маша нервно улыбнулась, и он подумал, что иначе как шутку она и не могла воспринять его слова. Отодвинув засов на двери, он лениво бросил:
– Ну, пока. Да! С наступающим тебя…
«Наверняка она даже не заметила мою рубашку… Ребячество. Сплошное ребячество». Аркадий проводил взглядом джип, спрашивая себя, что же осталось в этой роскошной женщине от той чуткой и бескорыстной умницы, с которой он жил? Знакомые шептались о том, что Маше несказанно повезло с этим Матвеем. В ее-то возрасте да с таким приданым… Даже если он не женится на ней и спустя год бросит, через суд запросто можно будет оттяпать столько, что хватит на безбедную старость. Совместное проживание.
«Она получила то, что внезапно стало и русской мечтой тоже… Как это случилось с нами? Слезинка ребенка больше не имеет значения?» Аркадий попытался закурить, но в руках еще сохранялась та сила напряжения, от которой трясло.
Швырнув пачку на пол, он раздавил ее ногой. Представилось бурое сыпучее месиво, образовавшееся внутри ее. Сейчас он и сам был похож на эту растерзанную пачку: тряхни посильнее, и все из него высыпется, осквернит дом…
Аркадий засмеялся: идиотское сравнение! И тут же еще раз посмотрел в окно – двор как двор. Здесь уместно смотрятся «Жигули» и «Москвичи». Она не должна была приезжать сюда. Не должна была приезжать вообще.
У него протяжно заныло сердце. Сейчас она уже в школе, с его сыновьями. Ее право называть их своими – формально она отказалась от него. Конечно, никто не может запретить ей этого, но… Аркадий бросился в свою комнату, рывком вытащил свитер и натянул поверх рубашки. Сменил джинсы, хотя очень торопился. Но появляться в школе в таком виде… Перед ней… Перед ним…
Не дожидаясь лифта, Аркадий сбежал по лестнице, и давно забытые прыжки через ступеньки всколыхнули в нем энергию его юности. Вот что притянуло ее в этом Матвее – кипучая радость от того, что просто живешь и впереди еще так много прекрасного. Когда же он сам перестал верить, будто впереди еще что-то есть? Наверное, в тот момент Маша и поняла: у них нет будущего.
Будущее и будни – созвучны лишь на словах, на деле же значение совершенно разное. Аркадий мог предложить ей только будни. Ему они нравились. Он считал себя счастливым человеком и был уверен, что Маша живет с тем же ощущением…
«Все опять уперлось в мешок с деньгами, – Аркадий быстро шагал к школе, перепрыгивая через невысокие гряды счищенного с дороги снега. – Он может подарить ей мир и целый ворох впечатлений, ведь у него есть для этого все средства. Откуда у него деньги? Еще молоко на губах не обсохло… Папаша хапнул где-то и поделился с малышом. Так это происходит? Я не знаю. Никогда не был на короткой ноге с богатыми людьми. И думал, что не буду. А теперь мы почти родня!»
Ему нужно было взбодриться, а для этого следовало разозлить себя. Но школа была слишком близко, Аркадий боялся, что ему не хватит времени. Ведь за последние три месяца он разучился жить в ненависти, которая и захватила-то его ненадолго. А в груди уже болело так нестерпимо, что становилось боязно: не дойти…
Он спрашивал себя, зачем вообще идет туда, если сам сказал Маше, где мальчики, тем самым устроив их свидание. Но что-то вело его, какой-то безумный страх, как будто Маша была способна выкрасть его детей, заманить их в свою безразмерную машину и увезти на край света, где Матвей уже приготовил тайное убежище. Впрочем, теперь он не мог сказать наверняка, на что она способна.
Аркадий на ходу взглянул на часы. Эти двое уже четверть часа как в школе. Если у них и впрямь был какой-то гнусный замысел, все уже случилось.
«Что ж я копался? – он побежал, неловко поскальзываясь на укрытых снегом пятнах льда. – Надо было бросить все… штаны эти… и мчаться за ней следом. Зачем я вообще сказал ей, где они?!»
Красная стена школы уже вспыхнула впереди тревожным сигналом. Аркадий видел ее сотни раз, но сейчас сердце его словно провалилось. Ему вспомнилось, разглядеть он еще не мог, что на торце школы кто-то, пребывающий в мрачном расположении духа, написал по-английски: «Добро пожаловать в ад!»
Остановившись, потому что по ногам предательски растеклась слабость, он глотнул жгучего воздуха и сжал кулаки. Нужно было хотя бы дойти…
Глава 5
Стас услышал, как кто-то из одноклассников восхищенно протянул:
– Вау! Неслабая тачка!
Яростно пробившись к окну, он увидел именно то, что уже успел представить: его мать в незнакомой шубе и с непокрытой головой выбралась из джипа и пристально оглядела школьные окна, хотя был день и она не могла увидеть лиц тех, кто находился внутри. И все равно Стас отшатнулся и попятился.
Никто из ребят не узнал ее, ведь ей и раньше некогда было ходить в школу, а местное телевидение его друзья не смотрели. С учителями же она просто созванивалась, хотя знала, как злились на это некоторые из них. Но в школе установилось негласное правило: полезно иметь своего человека на телевидении. Поэтому братьев Кольцовых особо не трогали.
Стас никому не говорил, что случилось в их семье, ощущая противный стыд за женщину, которую еще полгода назад считал лучшей в мире. Теперь он предугадывал, как передернется от омерзения, если мать хотя бы вскользь коснется его. Он никогда не был «лизунчиком» вроде Мишки, но раньше ему не было противно, если она его обнимала.
Он выскочил из кабинета и бросился к актовому залу, где веселились средние классы. Но еще не добежав до двери, схватил знакомого мальчишку:
– Мишка там?
– Они в классе, – пацан независимо дернул плечом, освобождаясь. – На третьем.
«Я успею?» Расталкивая всех подряд, Стас помчался к лестнице и взлетел на два пролета. Ему чудилось, будто сзади уже нагоняет острый стук каблуков. Хотелось выгнуться, чтобы этот звук не вонзился в него… А еще больше хотелось крикнуть всем тем, кто ходил у него в приятелях: «Задержите ее! Подставьте подножку, встаньте «стенкой», что угодно!» Но добровольный обет молчания обручем стискивал его горло.
Рванув на себя белую дверь, Стас тут же увидел брата: Мишка забрался на парту и пытался снять красный шарик, привязанный к лампе. В конце кабинета мелькнула девчоночья фигура, и в другое время Стас ничего не сказал бы при ней, но сейчас было некогда.
– Мишка! – выдохнул он и, привалившись к стене, судорожно вобрал воздух, чтобы договорить. – Она приехала. Она уже здесь, в школе.
Карие, как у отца, глаза просияли радостью, которой Стас увидеть не ожидал. Нет, он подозревал ее в брате, но был слишком уверен в ее недопустимости…
Мишка энергично взмахнул кулаком:
– Да! Я знал, что она приедет!
Восторг взметнул его тело, заставил оторваться от стола, полететь вверх и вперед, чтобы приземлиться у самой двери – ближе к маме! Стас даже не сразу понял, что произошло. Отчего вдруг Мишка рухнул на пол и застыл, будто его сковало льдом. Воздух для него тоже будто смерзся, потому и не удавалось вдохнуть как следует.
«Выступ на потолке. Он ударился головой». Стаса придавило этой мыслью так, будто этот самый потолок опустился на него. Рука сама провела над макушкой…
– Больно, – выдавил Мишка глухим, пунктирным голосом. – Дышать…
То, как он очутился возле младшего брата, каким-то образом ускользнуло из внимания. Стас поймал себя на том, что пытается поднять его, но руки, как анархисты, действуют, не признавая власти мозга. Когда они машинально отдернулись, он подумал: «А вдруг…» И сердце заныло так, будто уже знало что-то, не доступное пока никому.
– Лежи, слышишь? – Стасу хотелось бы говорить спокойно и уверенно, но в горле мешался горячий комок. – Не шевелись. Я сейчас… Я «Скорую»… Да у тебя кровь на голове! Ты следи, чтоб никто к нему не приближался! – крикнул он девочке, уже ненавидя ее за этот шарик, наверняка понадобившийся в виде украшения на потолке именно ей. Правда, и в эту секунду Стас помнил, что главная вина лежит вовсе не на этой девчонке…
Он толкнул дверь всем телом и едва не уткнулся в мать. Ее лицо вспыхнуло горячей радостью, напомнившей Мишкину, и Стас едва удержался, чтобы не загасить ее ладонью.
– Чего притащилась? – прошипел он, наступая на нее и вытесняя в коридор. – Из-за тебя все… Может, у него сотрясение… Или перелом…
Испуганная растерянность в синих глазах сменилась тревогой. Молча отодвинув старшего сына, Маша подбежала к младшему и, не жалея шубы, опустилась на колени.
– Маленький мой, что с тобой? Ты ударился?
– Упал, – Мишка по-прежнему выталкивал слова по одному. – Больно. Встать… не могу.
– Вызови «Скорую»! – крикнула она через плечо.
Стас огрызнулся:
– Сам знаю.
Но не тронулся с места, не решаясь оставить их вдвоем, хотя знал, что она не причинит Мишке зла. Не причинит? А что же тогда она уже сделала с ними?
Коротко рыкнув, он все же сорвался с места и, расталкивая всех подряд, домчался до учительской, где, не объясняясь с завучем, сорвал трубку телефона. Это было проще, чем попробовать мобильником поймать в школе связь.
Стас пытался говорить тихо, но ему казалось, что разговор слышит вся школа.
– ЧП! – лицо у завуча пошло пятнами. – Где их классный руководитель?
«Да пошла ты!» – про себя буркнул Стас и бегом пустился назад.
Мысль об отце, которому тоже следовало позвонить, настигла его на лестнице. К тому времени у него почти не осталось сил удерживаться на границе двух реальностей, в одной из которых происходили невозможные, страшные вещи, и он даже не удивился тому, что отец, о котором всего мгновение назад подумал, тотчас возник перед ним, как сказочный добрый молодец. Запыхавшийся добрый молодец, с не по-сказочному несчастными глазами.
– Как ты узнал? – вырвалось у Стаса.
Он упустил из внимания, что собирался скрывать ото всех все, связанное с их семьей, и громко выкрикнул эти слова.
– Да я сам ее сюда и направил, – отец отвел взгляд. – А потом покаялся…
– Ее? Да я не про нее. Тут… – он запнулся, внезапно сообразив, что отец, конечно же, ничего не знает. Откуда? И сейчас ему, Стасу, придется все рассказать …Но как?
У Аркадия вытянулось лицо:
– Что? Мишка?
– Он упал, – заученно повторил Стас. – Ему дышать больно. Может, просто от удара? Я на всякий случай вызвал «Скорую».
– Где он?
Стас почувствовал, как внутри отцовского тела все рванулось вперед и сжалось болью от того, что направление было еще не ясно. Схватив его за руку, чего не делал уже лет пять, Стас побежал наверх, ненавидя эти лестницы, которые приходилось преодолевать десятый раз за день.
Когда они ворвались в класс, Аркадий почти отшвырнул бывшую жену в сторону, и Стас задохнулся от злорадного удовольствия: «Так ей и надо!»
– Папа, – только и сказал Мишка.
– Тихо, заяц, лежи, пожалуйста, – голос Аркадия прозвучал именно так, как несколько минут назад хотелось говорить самому Стасу, чтобы брат не запаниковал. Мальчику не было слышно, как шумит у отца в ушах.
Между лопатками покалывало, но Стас боролся с собой и не оборачивался, иначе он не удержался бы и наговорил матери гадостей, которых больше чем достаточно накопилось за эти месяцы, и они так и рвались наружу. А это расстроило бы Мишку…
«Все из-за нее, – ненависть мешала ему дышать полной грудью, как брату – боль. – Мишка такой спокойный, он в жизни так не прыгнул бы, если б не она…»
За этими словами маячил темным упрек самому себе: «Не надо было сообщать ему, пока он стоял на парте…» Но Стас гнал эту мысль. Она была слишком невыносима…
– У вас есть школьный врач? – отрывисто спросил Аркадий, осматривая Мишкину голову. – Надо смазать рану зеленкой.
– У нас в машине аптечка, – откликнулась Маша.
Никто не ответил ей и не отошел, чтобы пропустить к выходу, и она стала пробираться между партами, неудобно скрючившись и согнув колени. Длинная шуба волочилась по грязному полу. Скосив глаза, Стас наблюдал за ней, неслышно усмехаясь. Ему было стыдно не за эту усмешку, а за ту непрошеную жалость, что толкалась в сердце. Разве предателей жалеют?
– Надо встретить «Скорую», – заметил Аркадий недовольным тоном, понимая, что отправляет сына следом за Машей.
– Ладно, – тускло отозвался Стас и, подавшись к отцу, тихо добавил: – Она все равно сейчас вернется сюда. Мишка, ты терпи, они уже едут.
Тот подал голос:
– А я уже дышу. Можно, я встану? У меня ничего не болит! Ну, правда!
– Давай все же дождемся врачей, – мягко предложил отец. – Они разберутся, можно тебе вставать или нет. Если даже недолго было больно дышать, это, знаешь, не очень-то хорошо. Тебя не тошнит?
В кабинет то и дело заскакивали то мальчишки, то учителя, в нелепых позах застывая на пороге, Аркадий же гнал всех с несвойственной ему непоколебимостью. У него мелькнула мысль, что, может, потом ему станет неловко, по крайней мере, перед взрослыми, но сейчас было не время для церемоний.
Когда вбежала Маша с автомобильной аптечкой в руках, а следом появился Матвей, он едва не крикнул и им тоже: «Уйдите отсюда! Закройте дверь».
– Я помогу, – быстро сказал Матвей, с ходу расшифровав его взгляд. – Я слегка медик. Учился один…
Аркадий прервал его:
– Мне не интересно. («Ребячество!») Открывайте зеленку, раз уж…
Прижав кусок ваты с изумрудным пятном к ране на голове мальчика, Аркадий прошептал, наклонившись почти вплотную:
– Потерпи, заяц, немножко пощиплет, ты знаешь. Но без этого не обойтись.
– Я думал, ты одна приехала, – вдруг сказал Мишка, глядя в ту сторону, где стояла мать.
У Аркадия так и свело сердце: «Дурачок, он все еще надеялся…»
– Я буду с тобой, если это… серьезно. Если понадобится, – голос у Маши был таким, словно она никак не могла откашляться.
– Это не… – начал было Аркадий, но тут влетел Стас, похожий на задыхающегося гонца, примчавшегося с вестью об отряде неприятеля:
– Приехали! Идут!
– Разойдитесь, – приказал Аркадий и сам, поднявшись, заставил себя отойти от сына.
Он слушал вопросы тяжеловесной врачихи, руками которой впору было не лечить, а ломать, и старался обходить взглядом Машу, потому что, взглянув раз, понял, как ей больно. Так не сыграешь, хотя она и привыкла к камере. Когда прозвучали слова «подозрение на компрессионный перелом», они оба содрогнулись.
– Позвоночника? – почти не слыша себя, спросил Аркадий. – Вы хотите сказать, что у него перелом позвоночника?
– Отвезем его в больничный травмпункт, – прогудела врач, с интересом осматривая всех присутствующих. – Вы – отец? Можете поехать с нами. После рентгена все ясно станет. Если подтвердится, там его и оставят.
– А я? – выкрикнул Стас. – Мне можно?
Аркадий вскинул руку, одновременно запрещая это и отмахиваясь от врача, которая, конечно, ошибалась. Не могло это быть правдой…
– Ты иди домой, – запинаясь, сказал он сыну. – Я позвоню. Вдруг что-то понадобится… Я позвоню.
Маша решительно шагнула вперед, толкнув плечом Матвея. В ее лице просвечивала отчаянная одержимость приговоренной.
– Мы поедем следом. Стас, ты можешь с нами.
Метнув в нее разъяренный взгляд, Стас прошипел:
– Нет уж. Я лучше домой.
Повернувшись к нему, Аркадий шепнул:
– На всякий случай собери его бельишко. Щетку, пасту… Вдруг его положат? Книжек возьми. Не знаю, что еще. Поесть что-нибудь.
– Ты думаешь… – Стас громко глотнул.
Аркадий только дернул бровями, запрещая расспросы. Врач уже требовала, чтобы они с Матвеем спустились за носилками. Аркадия бросило в жар от унизительности этой ситуации, но других мужчин здесь не оказалось. Стасу было бы тяжело снести Мишку с третьего этажа. Но оставаться с матерью ему было невмоготу, и он увязался за отцом.
Уже на лестнице Аркадий хмуро спросил:
– Как это произошло?
Не стесняясь Матвея, спускавшегося впереди, Стас бросил:
– Из-за нее все. Приперлась… Мишка сдуру обрадовался. Ты же понял, он решил, что она насовсем… Ну, и прыгнул с парты, чтобы к ней поскорее. А там выступ на потолке, он не заметил… Ударился головой и на пол рухнул. Все.
Аркадий подумал, глядя на желтоватую макушку Матвея, который ни разу не обернулся: «Он все слышит. Если он не полная скотина, ему сейчас должно быть хреново… Она могла полюбить полную скотину?»
Ответ он знал, но сейчас это и не утешало, и не злило. Сердило то, что эти люди, по сути уже чужие, непричастные к их жизни, отвлекают на себя его мысли, рассеивают боль, которая должна быть сосредоточена на ребенке. Ведь в ней тоже есть сила, есть энергия, значит, она способна помочь. Хоть чем-то…
Аркадий отлично знал, что такое компрессия, поэтому не слушал объяснений врача. К тому моменту он уже успел представить, как позвонок («Один? Или несколько?») сплющился во время удара головой. Позвоночник резко просел и…
Молча взявшись за носилки с двух сторон, они пошли обратно, Аркадий только крикнул сыну:
– Ступай прямо домой. Я позвоню.
Он тут же подумал, что это лишнее: Стас и не мог сейчас заняться чем-то, не имеющим отношения к брату. По лестнице Аркадий пошел впереди, руководя их действиями. Он смотрел на ступени, стертые детскими ногами, и с ужасом гнал мысль о том, что Мишка никогда здесь больше не пробежит… Нет! Этого быть не может.
Голос Матвея догнал его у второго этажа:
– Я чувствую себя убийцей…
«Так и есть, – холодно подумал Аркадий. – И не жди, что тебе отпустят грехи». Его молчание говорило само за себя, но Матвей не угомонился:
– Вы можете во всем рассчитывать на меня. Машина, деньги, грубая мужская сила… Легко!
Последнее словечко впилось, как удар хлыста. Резко остановившись на подъеме, Аркадий обернулся, стараясь не замечать того, как все трясется вокруг рта:
– Слушай, ты! Для меня ты – дерьмо собачье, и больше никто! Убийца. Вор. Все в одном лице. Неужели ты думаешь, что я попрошу у тебя помощи?
«Но он уже мне помогает!» – это заставило его передернуться, и Аркадий едва не заскрипел зубами. Нужно было запрячь Стаса, позвать еще кого-то из школьников, только не допускать к носилкам этого… Боль как бы сняла запрет на грубость, от которой Аркадий удерживался все эти месяцы, и он убедился, что брошенными словами пробил броню этого «легко!». У него мелькнуло сомнение в том, честно ли это с его стороны, ведь в такой ситуации Матвей не мог дать сдачи. Но следом Аркадий сообразил: тот первым нанес удар… Сейчас просто получает по заслугам.
Дернув носилки, он стал быстро подниматься, уверенный, что Матвей замолчал, если не навсегда, то надолго, но тот опять проявил себя:
– Вы же сами когда-то влюбились в нее. Уж вам ли не понять…
– Вот это да! – вырвалось у Аркадия. Не останавливаясь, он оглянулся через плечо. – Как это можно сравнивать? Она была свободна и…
– А вы сразу проверили паспорт? Когда я увидел ее, тоже не знал, замужем она или нет.
– И вспыхнула непобедимая страсть! – Аркадий пытался насмешничать, хотя больше всего ему хотелось толкнуть носилки, чтобы этот юный красавец слетел с лестницы и тоже сломал себе что-нибудь.
Несколько вопросительным тоном Матвей процитировал:
– «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!»
– Булгакова теперь декламируют, как «Идет бычок, качается…». Затаскали… Мне даже жаль его. Все, пришли. Разговор окончен.
Положив под голову сына полу своей шубы, Маша опять стояла возле него на коленях, и эта поза, молящая о прощении, вызвала у Аркадия очередной приступ ярости. Как она смела просить о чем-то ребенка, столько выстрадавшего из-за нее?! Ему стало не по себе оттого, что она сжимает Мишкину руку, а тот не протестует.
– Отойди, – сказал Аркадий сквозь зубы. – Не мешай.
Никому не позволив до него дотронуться, он сам переложил мальчика на носилки. Матвей молча взялся с другой стороны, и они пошли напролом через столпившихся школьников, с одинаково любопытными и делано сочувственными лицами. Незнакомая Аркадию женщина, должно быть директор, пристроившись с ним рядом, жалобно лепетала о том, что мальчик сам виноват и невозможно уследить за всеми, классная руководительница была в зале с остальными детьми, зачем он ото всех отделился? Аркадий подумал: слава богу, что руки заняты, не то он не справился бы с искушением оттолкнуть ее, как незадолго до этого хотелось поступить с Матвеем.
Свернув на лестницу, где ей уже было не протиснуться, он с усилием поднял руки, чтобы Мишкина голова не оказалась внизу. Нести по-другому Аркадий отказался сразу же.
На улице он заторопился: «Не простудился бы!», и крикнул Матвею:
– Быстрей.
В голову лезли мысли, казавшиеся сейчас посторонними: о Мишкиной куртке, которую надо забрать из гардероба, чтобы не потерялась, о номерке, наверное, спрятанном в кармане, о пакете со сменной обувью… Аркадий чуть не ежился: «Как я могу сейчас думать об этом?»
– Я поеду с тобой, – он улыбнулся сыну, когда носилки устроили в машине.
– Пап, это не перелом, вот увидишь, у меня же не болит ничего, – умоляюще проговорил Мишка. Ему было страшно подумать, что отец тоже винит его, ведь он и в самом деле виноват.
Усевшись рядом, Аркадий взял его теплую, совсем здоровую руку:
– Будем надеяться, что нет. Но даже если… Ты ведь взрослый парень, правда? Ты справишься.
И подумал с тоской: «Какая чушь! Как он может справиться с этим? Маленький…»
Глава 6
Теперь нужно было как-то сжиться с этими холодными словами «компрессионный перелом». Мишка запомнил их сразу, хотя, в отличие от отца, еще не знал, что такое компрессия. Но он всегда жадно впитывал новое и откладывал в памяти даже незнакомое, чтобы потом посмотреть в энциклопедическом словаре. Интернету отец его учил не доверять…
Правда, в этот раз словарь не понадобился, потому что доктор в травмпункте все подробно объяснил. И еще сказал вещь настолько страшную, что у Мишки все свело в животе: нужно будет целый месяц лежать в больнице, не вставая и даже не садясь в постели. Лежать и лежать на твердом щите… Он взглянул на потолок, чтобы ни с кем не встречаться взглядом, и задержал дыхание, пытаясь справиться с тем, как предательски защипало в носу: смотреть на него целых тридцать дней…
– Ты одни только несчастья приносишь!
Сперва Мишка подумал, что отец сказал это ему, и весь съежился от чувства вины, которое на этот раз было ледяным и пробивало насквозь. Когда он понял, что эти слова предназначались матери, то тоже не испытал облегчения – так глубоко проник холод. Если б Мишка не онемел от него, то сказал бы, как отец несправедлив, ведь мама столько лет приносила им счастье. Зачем же говорить так, будто ничего хорошего совсем не было?
– Она же и тебя бросила, – как-то упрекнул его Стас. – На мужика променяла… Хоть бы он ее тоже бросил, чтобы она узнала!
Украдкой Мишка уже рассмотрел Матвея и пожалел, что ему это удалось, ведь раньше этот человек был абстрактным «мужиком», и воображение могло изгаляться над ним как угодно. А теперь уже никуда не денешься оттого, что у Матвея такие забавные, желтоватые волосы, и немного странные зеленые глаза, такие обычно ведьмам рисуют, и стрижка, словно у какого-нибудь певца, и улыбка, от которой тоже тянет улыбнуться.
Мишка старался не смотреть ему в глаза, чтобы Матвей не проник еще глубже. Туда, где теперь никому не должно было найтись места, кроме папы и брата. Ни тому, ни другому не нужно было знать, что там, рядом с ними, еще и мама…
Она хотела остаться с ним в палате, но отец отослал ее за вещами, которые Стас уже должен был собрать. Не стесняясь бывшего мужа, Маша несколько раз поцеловала Мишкину ладошку, и он едва не расплакался от страха: значит, у него и впрямь совсем плохи дела, если она позволила себе такое при других мальчишках. Двое из них были, как и он, «позвоночные», а остальные щеголяли гипсом на руках и ногах. Один из тех, кого тоже приговорили к месяцу неподвижности, все время садился на кровати, и Мишке было слышно, как медсестра посулила ему большущий горб.
– Я не буду вставать, – ужаснувшись, шепнул Мишка отцу. – Буду лежать, даже не пошевелюсь. Только… забери меня домой! Я правда-правда буду лежать!
Глаза жгло все сильнее, ведь они уже видели, как отец тоже уходит, и Мишка на целую вечность остается один на жестком щите. И уснет один, и проснется, и никто не поможет достать «утку» из-под кровати, нянечек не докричишься, об этом мальчишки уже предупредили. И как вообще справляться с этой дурацкой «уткой»?!
Отец заговорил таким мягким голосом, от которого глаза стало жечь уже совсем нестерпимо:
– Тебя же здесь лечить будут, глупыш. Доктор сказал: и лазерная терапия будет, и физио, и массаж… Ну, массажистку я мог бы нанять, а остальное? Надо вылечиться, заяц, чтобы всю жизнь со спиной не мучиться. Сравни: всего месяц или целая жизнь?
– А ты не можешь остаться со мной? – Мишка шептал совсем тихо, чтобы никто в палате не услышал. – Вдруг у них есть лишние кровати? Хотя ты… Тебе работать нужно, да? А может, тогда мама?
– Нет! – отрезал Аркадий, потом спохватился и заговорил прежним тоном: – Ты ведь большой парень, только с малышами мамам разрешают лежать вместе. Такой закон.
– Дурацкий закон! Кто его придумал? – в горле кипели злые слезы, и Мишка судорожно глотал их, понимая, что отец все замечает.
– Не знаю. У этого человека, наверное, не было своих детей.
– Тебя сейчас уже выгонят? Они говорят: тихий час.
– Не выгонят, а попросят уйти. Думаешь, тут злодеи какие-то? Вечером еще пускают, я приду.
Мишка сразу оживился:
– Ладно! А Стас придет?
– От него тебе тоже не удастся отдохнуть. Что тебе принести? Что-нибудь из игрушек?
Пугливо скосив глаза, мальчик зашептал:
– Ну что ты, пап, они же засмеют! Скажут: вот деточка, все еще в игрушечки играет!
– Но ты ведь играешь! Чего тут стесняться?
– Нет, пап, не надо. Они… Они сломают все.
Аркадий нашелся:
– Тогда мы с тобой в «Морской бой» сыграем, когда я приду. Пойдет?
Несмотря на то что отец еще был тут, Мишка уже затосковал по тому времени, когда тот вернется с листочками и карандашами и они сразятся на равных, не волнуясь о том, что папе нужно работать, а ему – делать уроки. Его фантазия уже рисовала отрывистыми мазками вскипающие серые волны, черный и белый глянец больших крейсеров, неустойчивую верткость шлюпок…
Мишке никогда не хотелось стать моряком, но нравилось читать о море, которого он никогда не видел вживую. И даже когда лечащий врач, сухощавый и седой, больше похожий на полковника в отставке, обмолвился о том, что после выписки надо будет плавать, чтобы укреплять мышцы спины, сразу представилась настоящая, бескрайняя вода, не рассеченная пенопластовыми линиями и не скованная прямыми бортиками.
А следом Мишка вспомнил, что о море не может быть и речи, ведь это стоит «сумасшедших денег», как говорил отец. Мальчик еще размышлял над тем, что это сумасшествие, видимо, заразно, если люди, гоняющиеся за такими деньгами, тоже теряют разум…
Однажды Мишка услышал, как соседки то же самое говорили о его маме, и сегодня, в тот момент, когда наконец сумел продохнуть, он всмотрелся в ее лицо со страхом. Но признаков безумия, как он их себе представлял, заметно не было. Ни блуждающего взгляда, ни отвисшей челюсти… Она была все такая же красивая, только очень испуганная и с виновным видом.
Когда она вернулась с целым пакетом вещей, будто Мишка собирался вести в больнице светскую жизнь, Аркадий подавил естественное желание уступить ей место возле сына. Маша протиснулась между соседней кроватью и напрягшимися коленями Аркадия и возле тумбочки присела на корточках.
– Она открывается наоборот, – сказал Мишка о тумбочке. – И как из нее вещи доставать?
– В нашей медицине многое наоборот.
В голосе отца больше не было мягкости. Он не был ни холодным, ни злым, скорее, неприятным, как пенопласт. Маша посмотрела на него снизу вверх.
– Скажи мне, прошу тебя, может, надо за что-нибудь заплатить? Разреши мне!
Он заставил себя признаться:
– За лазерную терапию надо… Если, конечно, у тебя есть с собой наличные. Я потом верну, само собой. И еще… Десять сеансов массажа делают бесплатно. А если мы хотим еще десять…
– Хотим! Я сейчас, – она легко поднялась и улыбнулась сыну. – Я еще вернусь!
Но ее пустили только на минутку – проститься, потому что тихий час был в разгаре, а взрослые якобы мешали детям спать, хотя Мишке сразу стало ясно – спать никто и не собирается. Он вцепился было в горячую отцовскую руку, но тут же разжал пальцы и сурово сказал:
– Ты не беспокойся, я не буду хныкать. И домой проситься больше не буду. Я отлежу здесь сколько надо.
– Ты у меня совсем взрослый парень, – серьезно отозвался отец, понизив голос. – Я знаю, что ты выдержишь.
Когда родители уходили, вновь вместе, будто и не расставались, при этом то и дело оглядываясь на него, Мишка подумал: они, наверное, догадываются, как у него что-то словно разрывается и болит в груди. И оттого у них сейчас такие одинаковые, хоть и разные по цвету глаза. Мишке хотелось усмехнуться над тем, что вот у них опять нашлось нечто общее, но губы уже стали непослушными, и он даже пытаться не стал. Только сжал их поплотнее.
Он вдруг обнаружил: все в палате и в самом деле затихли. Может, потому, что грубоватая медсестра, которую все звали «лупоглазой», включив в коридоре кварц, распахнула дверь и велела им набросить на «мордахи» полотенца. Иногда Мишка приоткрывал глаза, любуясь голубоватым светом, проникающим под ткань. И слушал, как по больничным коридорам прогуливается эхо. Оно было совсем не похоже на то, которое на днях они слушали с папой, когда в первый раз выбрались на лыжную прогулку. Мишка увидел этот день так отчетливо, будто в память впечатался цветной снимок. И ему стало еще горше, чем было до сих пор, ведь такое уже не могло повториться. По крайней мере, не в этом году…
Он весь был хрустящий и ослепительный, этот день, хотя мороз был не сильным, иначе отец не взял бы его с собой. За их домом на окраине открывались дали, от шири и глубины которых захватывало дух. И перелески – недвижные, похожие на тонкую цветную гравюру. И холмы, и золотистые по осени поля… Когда-то мама говорила: «На это можно смотреть часами…» Только у нее никогда не выдавалось этих часов…
Просто смотреть Мишке, пожалуй, наскучило бы, а вот пробежаться наперегонки со Стасом по свежему, искристому снегу на лыжах… Он старался изо всех сил, и у него неплохо получалось, если только они хвалили его не из жалости, как самого маленького. Но Мишка верил им, ведь сам чувствовал, как слаженно работают руки, и лыжи не проскальзывают, отчего обычно выбиваешься из сил. На нем была легкая куртка и тоненькая спортивная шапочка с модной «косичкой» на макушке, но все равно довольно быстро стало жарко. Его переполняла радость оттого, что они все вместе и папа совсем не «замороженный», как сказал о нем Стас после того, как мама… В этот день у отца весело светились глаза, и от этого Мишке хотелось смеяться и болтать глупости.
Все вокруг вызывало восторг: и то, что березы будто обернулись фольгой, и острые гребни снежных волн, и солнечная прозрачность воздуха. Незнакомые мальчишки на грохочущих кусках фанеры скатывались с выстроенных природой горок и что-то орали друг другу. А Мишка испытал жаркий прилив гордости за то, что не барахтается в снегу, как маленький, а идет на лыжах вместе со взрослыми. Ведь издали Стас выглядел совсем большим…
Они прошли поверху крутого склона, приглядывая, где лучше спуститься. Мишка заметил, что кроны деревьев внизу похожи на паутину, сплетенную из снежной нити. Ему представился гигантский, неугомонный паук, который сновал в низине и опутывал деревья до тех пор, пока его собственный глаз не застывал в восхищении от увиденного.
Небо над ними пыталось соперничать по красоте с землей, и хотя было лишено ее разноликости, все равно заставляло вдохнуть поглубже, чтобы восхищение вошло и осталось в груди светящимся комочком. Он может согреть, если опять вспомнится: глаза у мамы такого же цвета… Мишка отогнал мысль о том, что, наверное, это она следит за ними издалека, и от радости, как у них все хорошо, это небо так и сияет.
А потом он помчался с горы вслед за папой, который, правда, упал внизу, но махнул им рукой: давайте сюда! Потом выяснилось, что отец пытался предупредить, что там опасно, и потому махал, но Мишка уже успел слететь вниз, задохнувшись от восторга и пронзительного страха, и провалиться в какую-то яму, а очнуться уже по уши в снегу. Он сразу вскочил, чтобы отец не подумал, будто ему больно или он напуган, и радостно выкрикнул:
– Ну что, поехали?
– Куда поехали? – отец ткнул палкой в его сломанную лыжу. – Похоже, мы свое откатали.
Но никто не ругал Мишку, и это было естественным продолжением такого чудного дня, в котором были еще и прихваченные морозом ягоды рябины, терпко-горьковатые на вкус, заставляющие морщиться; и сумятица звериных следов, которые они вместе пытались распутать; и эхо, отзывавшееся на их голоса…
Больничное эхо было жалким подобием того, что обитало на природе. Мишка с силой зажмурился: слушать этот звук целый месяц… И дышать этим спертым воздухом – трое лежачих в одной палате. Не видеть своих игрушек. И все время лежать и лежать…
Глава 7
Раньше он думал, что самое мучительное время суток – это ночь, когда никаким делом не отгородишься от своих страхов, сожалений, воспоминаний. Теперь выяснилось, что ни одна из проведенных в одиночестве ночей не может сравниться в невыносимой тоскливости с теми солнечными утренними часами рождественских каникул, которые с его сыном проводила Маша. А ему самому приходилось сидеть в лаборатории, пригвожденному к рабочему столу несокрушимыми словами «срочный заказ».
Аркадий не мог позволить себе забыть, что от его головы зависят все ребята, проработавшие с ним десяток, а то и больше лет, поэтому выжимал из нее все возможное. Но мысли о сыне, которого по утрам приходилось доверять Маше, без труда пробивали брешь в любой из его стройных теорий. Тонкая, с выступающей на запястье косточкой и длинными пальцами рука мальчика виделась ему зажатой в Машиных ладонях… Ее губы вжимались в его трогательно пухлую щеку – чем потом свести этот след? Ее истории, которые не дано услышать Аркадию, оседают в памяти ребенка, едва заметно и вместе с тем навсегда меняя его…
«Что я делаю? Зачем я на это пошел? – Аркадий ломал одну шариковую ручку за другой, но никак не мог с собой справиться. – Как потом ее вытравить из его сердца? Гнать надо было сразу… По утрам мог бы дежурить Стас… Ничего, проснулся бы, несмотря на то, что каникулы. Как, в какой момент ей удалось уломать меня?»
И вспомнил: в новогоднюю ночь. Казалось безнадежным уговорить врачей пустить его в палату на ночь, и Аркадий уже готов был сдаться. Тем более с ним не было даже Стаса, его пригласили встречать праздник в компании друзей, и отец отпустил, даже настоял, чтобы хоть у одного из них получилось как следует встретить Новый год. Тогда и возник этот Матвей со своей туго набитой мошной, и все неправдоподобно быстро уладилось. Стиснув зубы, Аркадий позволил ему притащить крошечную елочку – мрачный дежурный врач разрешил при условии, что к утру и духу ее здесь не будет.
«Только ради Мишки», – убеждал себя Аркадий, но не мог отделаться от ощущения, что его, веселясь, унижают на глазах у ребенка, а он это допускает.
То, что он совсем не знает Матвея («А откуда?»), стало ясно уже через полчаса. Аркадий и раньше встречал людей, которым жизненно необходимо было блистать везде, в любой компании, даже почти незнакомой, но Матвей напоминал безумный фейерверк. Установив елку, он исчез, предоставив им наряжать ее тем, что попадется под руку, и Аркадий уже с облегчением решил: у этого парня хватило такта избавить их от своего общества. Но не тут-то было!
Не успели они с Машей, не встречаясь взглядами и разговаривая только с сияющим от счастья Мишкой, нарядить елочку фантиками от конфет, авторучками и флакончиками, как Матвей явился вновь. Аркадий разве что рот не раскрыл, увидев его в костюме пирата и в косматом парике цвета хвоста гнедой лошади, поверх которого пламенела бандана. Глаз у него был перевязан черной тряпкой.
– Здорово, салаги! – прорычал он не своим голосом, и мальчишки, как детсадовцы, завизжали от восторга.
Матвей грозно прикрикнул:
– Цыц! Отставить писк! Я набираю команду морских волков, а не новорожденных кутят. Кто не сачканет отправиться со мной за настоящими новогодними сокровищами?
«Ходячие» тотчас вскочили с коек, и Аркадий успел заметить, как на Мишкином лице, похожая на театр теней, разыгралась драма отчаяния. Но в этот момент пират рявкнул:
– Лежать! Тот, кто оторвет задницу от своей кровати, отправляется на берег. И держитесь покрепче!
Аркадию пришлось отвернуться, чтобы не видеть, как счастливо прыснул его сын на «неприличном» слове… Как просияли Машины глаза: «Ты видишь? Ты понял? Как можно не влюбиться в него?!»
«Да ведь мы сами придумывали такие же корабли! Мы с тобой, – ему захотелось тряхнуть ее хорошенько, чтобы очнулась. – И сокровища у нас были не хуже, чем у него. Мы были счастливы… Наверное, просто слишком привыкли к своему счастью».
Он ничего не сказал ей, успев понять, что она попросту не расслышит, ведь Маша верила в волны, расходившиеся от пиратского корвета, а они так шумели…
Теребя елку, Аркадий прислушивался к тому, как ребята громким шепотом (так приказал пират!) то разгадывают ребусы, накаляканные им на листочках, то распевают морские песни. Когда они ломали голову, вспоминая, как же настоящие моряки называют кухню и туалет, Аркадий все вспомнил первым, но не стал вступать в игру Матвея. Тот раз или два вопросительно на него взглянул, но трогать все же не стал.
– Он ведь телевизионщик, – сказала Маша вполголоса, пытаясь поддержать бывшего мужа. Но эта попытка рационально объяснить происхождение волшебства только вызвала у него раздражение.
– Меня это не интересует, – огрызнулся Аркадий и тут же вспомнил, что произносил эти слова всякий раз, когда разговор заходил о Матвее. Из этого как бы само собой выходило, что Матвей интересует его болезненно, нестерпимо. Ведь нужно было понять, какой мир перетянул к себе Машу…
Труднее всего оказалось принять тот огонек, похожий на язычок свечи, который сейчас светился в Мишкиных глазах. Следовало бы радоваться, что в сыне снова заиграл праздник, который обычно возникал и без привязки к каким-то особенным датам, вот только в последнее время все реже. Но Аркадию не удавалось смириться с тем, что не он устроил все это действо. Конечно, он был оглушен всем случившимся сегодня, и вряд ли в Мишкиной душе может вызреть тот же упрек, но разве трудно было соорудить пиратский костюм и нарисовать морскую карту? Во всем этом не было ничего нового… Почему же он не додумался до этого?
«Может, она тоже ждала, когда я наконец подарю ей веселье и радость жизни? Все ждала и ждала… И поняла, что может не дождаться… А тут подвернулся настоящий Ходячий Праздник!» Все в Аркадии сжималось сильнее и сильнее от мысли: ведь и Мишка сейчас сравнивает его с этим Матвеем, пока, конечно, подсознательно, только где уверенность, что детская привязанность к отцу перевесит восторг перед яркими красками волшебства?
Почему-то думалось лишь о привязанности, будто Машино присутствие обескровило само понятие любви, и это не нравилось Аркадию. Он твердил про себя, что сыновья сами выбрали его, а это что-нибудь да значит! Если только… Если это был не обычный детский страх перед неизвестным и пока незнакомым отчимом. Вот теперь, когда Мишка увидел этого самого «добряка» своими глазами… Что теперь?
Тем временем сокровища были найдены и поделены поровну. Заваленный целой горой конфет и шоколадными яйцами с сюрпризами внутри, Мишка выглядел умиротворенным и полностью принявшим свое положение, в котором тоже, как выяснилось, есть плюсы.
Аркадию тотчас увиделось, как десять лет назад они с Машей подложили в кроватку спящему сыну подарок от Деда Мороза. А утром их разбудило таинственное шуршание. На цыпочках они подобрались к детской и заглянули в приоткрытую дверь – одна голова сверху, другая чуть ниже. Мишка сидел с полным ртом конфет, весь облепленный фантиками, а в пушистых волосах у него залипла ириска. Они хохотали так, что сразу поверилось: год пройдет замечательно!
Так и прошло много лет, вплоть до этого, уже уходящего года…
Когда Матвей, переодевшись в привычную одежду, вернулся, Аркадий заставил себя сказать:
– Спасибо. Было очень весело.
– Только не вам, – быстро ответил тот и улыбнулся, давая понять, что не обижается.
– Мне как-то не до игр сейчас…
– Почему? – с жестоким простодушием ребенка удивился Матвей. – То, что случилось, уже случилось! Теперь надо, чтоб Мишка продержался. Обремененный тоской, он быстрее не поправится.
Аркадий холодно посоветовал:
– Не надо учить меня, как обращаться с детьми. У вас есть свои?
Скосив глаза на Машу, уже устроившуюся рядом с жующим сладости сыном, Матвей шепнул:
– Вроде бы нет.
– Сейчас модно говорить: как бы. Как бы нет детей, так чего о них думать?
– Может, мне уйти? – спокойно предложил Матвей. – Я уже выложил все, что придумал. Если мое присутствие бесит вас так, как мне кажется… Я и в машине могу новогоднюю ночь провести. Легко! У меня есть радио и сигареты, это не мало, правда?
– Да вы – оптимист.
– Точно! Это плохо? – он склонил голову, и светлые волосы образовали завесу. – Мне нравится жить. Это весело. И увлекательно.
Аркадию стал надоедать этот разговор.
– Возможно, – произнес он отрывисто. – В вашем мире.
– В каком это – моем? Мир един. И достаточно прост, если не усложнять его. В нем все принадлежит каждому, нужно только не бояться взять это.
«Философия фашизма», – подумал Аркадий, но не высказал этого вслух, не желая довести дело до драки. Маша и так уже оглядывалась на них с беспокойством, и он все время пытался закончить этот глупый спор, но почему-то непроизвольно его продолжал.
– Этот мир можно моделировать, – не унимался Матвей. Ему, видно, нравилась эта тема. – Пелевин прав, когда говорит, что делает в романе хороший финал, чтобы привнести в жизнь позитив.
Аркадий не заметил, как его лоб пошел складками:
– Мир моделируется Пелевиным?!
– Да любым из нас, если в нем достаточно энергии! Я, между прочим, по специальности организатор досуга…
– Тоже один курс закончили?
– Нет, все! – Матвей беззлобно рассмеялся. – По большому счету, это очень точное название. Я и сейчас организую досуг, только на другом уровне.
– Телевизионный уровень, конечно, кажется вам более высоким?
– А то нет! Телевидение сейчас единственное, что интересует абсолютно всех. Одних – ток-шоу уровня амеб, других – канал «Культура». Но все это телевидение! В провинции оно вообще – монополист интересов. Здесь не читают книги в транспорте, и дома, по-моему, тоже. И в кино не ходят, потому что мороз собачий большую часть года. А у себя на диване – совсем другое дело! Я не говорю, что это хорошо, – вскинув руки, предупредил Матвей. – Но так обстоят дела. И благодаря этому я могу войти в дом к любому. К каждому. Легко! Машу ввести. Ну, не все, конечно, смотрят региональное телевидение, это я преувеличил, но все-таки…
Аркадий устало ответил:
– Я почти не смотрю телевизор.
У него возникло неприятное ощущение, будто он – ребенок, разговаривающий со взрослым человеком, занимающимся важным делом. А он пытается выдать себя за большого и потому говорит серьезным тоном и делает умное лицо. Но вся его хитрость шита белыми нитками…
Не услышав его, Матвей озабоченно проговорил:
– Надо принести Мишке маленький телевизор. А то ведь тут одуреешь от скуки.
– Не надо! – резко сказал Аркадий.
– Почему? Ночной канал им не разрешат смотреть. Вы же сами видели, здесь просто копы, а не медсестры!
– Не в этом дело, – Аркадий лихорадочно соображал: «А в чем? В чем?» И нашелся: – Мальчишки начнут лезть, переключать каналы, а Мишка очень переживает за чужие вещи. Он только изведется с вашим телевизором.
Но Матвей и не думал сдаваться:
– Тогда, может, перевести его в одноместную палату? Здесь есть такие?
Аркадий сказал наобум:
– Нет. А если б и была… Тут хоть рядом с ним есть «ходячие», если что нянечку позовут, а там ему и не поможет никто.
Тогда Аркадий даже не подозревал о том, чем сын поделился с ним через пару дней.
– Я посплю, пока ты здесь, ладно? – попросил Мишка, тараща осоловелые глаза. – А то я жду-жду, пока все уснут, и никак не высыпаюсь.
– А зачем ждешь? – не понял Аркадий.
Сын посмотрел на него с упреком:
– Ну, пап… Знаешь, тут как: кто первым уснет, тому по губам водят… Ну, понимаешь чем!
Его так и бросило в жар:
– Кто?! Да я его кастрирую, паршивца!
– Да все, – со смиренным безразличием отозвался Мишка. – Кто угодно может. Даже из других палат заходят. Ты же всех не кастрируешь…
«Какие-то тюремные порядки! – сын уже тихо дремал, а он все еще не мог успокоиться и с отвращением вглядывался в лица окружающих. – Откуда они родом – эти дети? В новогоднюю ночь играли, и все были просто пацанами, а потом… Мои мальчишки и не сталкивались с таким. Для Мишки этот месяц – испытание по всем статьям».
Он смотрел на казавшееся во сне младенческим лицо своего мальчика, которому за что-то было послано свыше это время страданий. Его нельзя было сократить, чтоб избежать хотя бы части испытаний, нужно было все изведать сполна. И его сын был готов к этому: «Пап, я настроился на месяц. Я выдержу!»
У Аркадия то и дело спазмом перехватывало дыхание: «Родной ты мой, мальчишка мой! Как хорошо все было накануне того дня… Зачем ты так обрадовался ей, мой не таящий ни на кого зла детенок? Разве тебе не хватало моего тепла? Разве мы не играли по вечерам в шахматы и не катались на лыжах? Ведь все было здорово, просто замечательно! А ты, только услышав о ней, возликовал так, что почувствовал за спиной крылья. Она заставила тебя поверить в эту иллюзию и опять обманула. Ты рухнул вниз, как Икар… Получается, тебе еще повезло в сравнении с ним. Но как оно мрачно – это везение…»
Глава 8
Ее жизнь стала словно казенной: гостиница – больница. Своего дома не было. Сны возвращали Машу в ту квартиру, где она жила со своей семьей, а не в их с Матвеем дом. Хотя он был красивым, теплым, весь в деревянных прожилках, отчего казалось, что он живой и эти прожилки – его сосуды, просвечивающие сквозь кожу. Тонкую, как у ребенка. Она тосковала: этот дом действительно мог стать живым, если б в нем появились дети. Ее дети.
Матвей о ребенке даже не заговаривал, и она стала подозревать, что он отчасти разделяет всеобщее заблуждение насчет ее маниакальной страсти к карьере. Убедить его в обратном Маша не торопилась. Она боялась напугать его до смерти той силой любви к нему, о которой знала только она.
Эти чувства тоже были замешены на страхе. Клейкими нитями он опутывал то, что росло в ней, и мешал вырваться на свет, полностью затопив его той нежностью, от которой временами становилось трудно дышать. Испуг родился в первую же минуту их встречи, как тень от той неожиданной улыбки Матвея: а если он подойдет, о чем говорить? Маша считалась на своем телевидении лучшим интервьюером, но до сих пор ей приходилось вызывать на разговор людей, которые не были для нее жизненно важны. С Матвеем они еще не познакомились, а она уже боялась, что не удержит его, если нить беседы окажется ненадежной, не заинтересует тем, какой она являлась.
Даже то, что Матвей остался тогда рядом на весь день, не убедило ее в его симпатии. Сначала он с необъяснимой робостью, хотя командовал всеми, поглядывал на нее исподлобья, но не заговаривал. Потом, кивнув на экран, отрывисто спросил: «Как вам?» Она ответила. Они вместе отсматривали программы, вместе обедали, обсуждали и спорили, но каждую секунду Маша ждала, что сейчас он скажет со свойственной ему легкостью: «Ну, мне пора! Приятно было познакомиться». Теперь выдавались минуты, когда она жалела, что Матвей так тогда не поступил. В тот день у нее еще хватило бы сил расстаться с ним.
Он смешил ее. В памяти сохранились те мгновения, когда она смеялась сутки напролет, даже оказавшись с Матвеем в постели, чего никак от себя не ожидала. Наверное, это была в большей степени истерика, слишком уж напряжены были нервы – до боли, и в каждом из них звенело паническое: «Что я делаю?! Зачем мне это?»
Это действительно было ни к чему. Еще накануне знакомства с Матвеем Маша была убеждена, что совершенно непозволительно счастлива вместе со своим супругом и сыновьями. Конечно, это счастье стало привычным, будничным, но тут ничего не поделаешь. Так всегда и у всех.
И все-таки именно это было настоящим волшебством – ощущение гармонии. Не холодной и правильной, выстроенной разумом, а теплой, изменчивой («Иногда же ссорились!»), созданной душевной энергией всех четверых членов семьи. С Матвеем ничего этого не было. Один только страх. Почти животный ужас, что он вдруг исчезнет из ее жизни.
Может, предчувствуя все будущие сомнения, Маша так сопротивлялась вспыхнувшим чувствам. Она избегала встреч, просила его не приходить (но для Матвея в любом телецентре были открыты двери!), и двадцать раз на дню сообщала о своем возрасте и двоих сыновьях.
Она всеми силами не давала себя приручить, но так или иначе это случилось. Первый мгновенный страх вошел и растворился в ее крови, стал частью ее существа, уже не самостоятельного, как раньше, а зависимого и уязвимого. Совсем недавно Маше показалось бы надуманным то, что сейчас творилось в ее сердце. Как это оно может разрываться на части? А в те первые дни обмана приходилось стискивать зубы, лишь бы не застонать, настолько было невмоготу. Но еще нестерпимей мучило осознание того, что она могла лишиться своих детей.
Мужу пришлось наплести что-то насчет грандиозного будущего, которое Матвей мог ей обеспечить. Это Аркадию было легче перенести, успокоившись презрением к ней. Следом Маша провела себя через Чистилище – объяснение с сыновьями, и тут же поняла: счастья ей уже не видать. Для этого необходимо забыть глаза детей в тот момент, когда она рассказала им о своем решении. Как такое можно стереть из памяти?
Она почти ненавидела Матвея, когда остановилась на пороге своей квартиры, опустив тяжелую спортивную сумку с вещами. Ее неподдельно трясло: «Куда я ухожу? Я с ума сошла?!» И это действительно походило на безумие, на одержимость человеком, не пожалевшим ее жизни. Зачем она понадобилась ему?! Сыновья даже не вышли проститься с ней. Дверь закрыл Аркадий, и резкий щелчок замка прозвучал как выстрел, который невозможно забрать назад. Он никогда ей не откроет…
Маша помнила, как села в машину, стоявшую у подъезда, посмотрела на Матвея и не почувствовала ничего. Рядом сидел чужой, ничего не значащий для нее человек. Был момент, когда она хотела его так, что готова была бежать за его джипом по бездорожью, но вот Матвей принадлежит ей, по крайней мере, уверял, будто его душа и тело полностью в ее власти, тем временем ее собственная душа никак на это не откликалась.
Ее взгляд остекленел, Маша и сама ощутила это. Где-то внутри отстраненно родилось и тут же угасло удивление: «Почему только мужчин обвиняют в том, что они охладевают к объекту страсти, добившись своего? Вот же оно…»
Почему же она все-таки уехала с ним тогда, хотя ничто не предвещало возрождения этой теплой любовной муки? Наверное, было просто стыдно вернуться и посмотреть в те глаза, в которых она уже никогда не увидит прощения. Необратимость ее поступка и теперь читалась во взгляде Аркадия…
– Мне придется уехать, – сказал Матвей, когда будильник вырвал Машу из сна о своем доме и забросил в гостиницу. – Хотя бы на день. У меня вечером встреча, ты же помнишь?
Она не помнила, ведь вместе с Мишкиными позвонками сплющились и растворились из памяти все дела, помимо тех, что касались здоровья сына. Тем не менее она моментально кивнула.
– Конечно, поезжай. Тебе ведь не обязательно находиться здесь постоянно.
– Ты… – начал Матвей и запнулся. Нужно было приготовиться, чтобы спросить о том, о чем они даже не заговаривали. – Ты планируешь… Хочешь остаться здесь до его выписки?
Изумление сделало ее синие глаза холодными. Небо даже зимой выглядит теплее.
– А как же иначе? – тихо спросила она.
Сев на постели, Матвей растопыренными пальцами зачесал назад свалявшиеся волосы.
– Я так и думал, – он постарался, чтобы это не прозвучало укором. – Я вернусь завтра же и буду с тобой.
– Это совсем не обязательно, – повторила Маша.
– Ты не хочешь этого, что ли?! – теперь уже он сам был обижен.
Она улыбнулась и погладила его руку.
– Хочу, конечно. Только…
– Их бесит мое присутствие?
– Не бесит… Но Стас очень нервничает, когда встречает тебя в больнице.
– Аркадий еще больше. Все, я понял!
У Маши опять закровоточило внутри: «Что я делаю? У меня хватит сил уходить от Мишки, если Матвея не будет рядом? Я и не знала раньше, что самое мучительное – уходить. Весь этот год – один сплошной уход».
– Разве тебе не спокойней, если я верчусь где-то рядом?
– Спокойней? О чем ты? Ты – мой непокой.
– Ах, вот как? Ладно, я уеду. Легко!
«Страх потерять его, и страх стать обузой – который из них, в конце концов, победит? Дело не в семи годах разницы в возрасте… Он – свободный человек. По сути своей – свободный. Как он поведет себя, если почувствует холодок оков?»
Контрастный душ заставил вскипеть ее кровь, и Машу было уже не удержать. Она выскочила из ванной босиком и начала собираться так поспешно, что это ошеломило даже Матвея. Он ухватил ее на лету:
– Ты куда, безумная комета? Я могу пристроиться у тебя на хвосте?
– Уже половина девятого, – выпалила она и умоляюще улыбнулась. – Отпусти. Мы еще должны перекусить. И купить свежих фруктов.
– У него скоро понос начнется от твоих фруктов!
– Ну, что-нибудь.
Расстегнув сумку, Матвей извлек толстую книгу:
– Смотри! Тут всякие головоломки, кроссворды… Это ему на неделю как минимум.
– Ой, молодец! Это он любит. – Ее внезапно прошило: «А что, если уже не любит? То, что случилось… То, что я сделала с ними, могло все в них перевернуть. Разве я знаю наверняка – какой он теперь?»
Поспешно отогнав новый страх, Маша спросила как бы вскользь:
– Ты не заглянешь к нему?
– Лучше уж я сразу поеду, – хмуро отозвался Матвей. – Если я опять напорюсь на твоего Стаса, он уложит меня на соседнюю койку.
– Стас может злиться. Грубить может. Но вреда он не причинит.
Когда голос у Маши становился таким ровным, это значило, что внутри клокочет ярость. Ее серая пена оседала на щеках, они бледнели и втягивались. Матвей успел это усвоить. На телевидении, где Маша руководила всего три месяца, все подчинялись этому тону беспрекословно. Иначе следовало увольнение…
Он отступил:
– Да я просто треплюсь, не бери в голову! Я сам знаю, что Стас – отличный парень.
– Что значит – отличный? Человек не может быть отличным. Это значило бы, что он – плоский, картонный. А в каждом из нас столько эмоций и чувств как положительных, так и не очень… И в моих детях тоже, я не слепая. – помолчав, она улыбнулась: – Но хороших все же больше.
«Мне нравится, когда она поучает меня, или нет? – Матвей пытался думать об этом между болтовней за завтраком и потом в машине, подвозя Машу до больницы. – Она даже не пытается делать вид, будто этих семи лет между нами нет. Внутренне чувствует себя более зрелой и хочет, чтоб я об этом не забывал. Чтобы знал о ней все. Так и должно быть. Никакого лицемерия, игры, если это – настоящие чувства и отношения. Иллюзион – только работа…»
Остановившись у высокого крыльца, увешанного тонкой бахромой сосулек, Матвей попросил:
– Передай Мишке привет. Зачем тут столько ступенек? Здесь ведь и травмпункт тоже. Как сюда забраться со сломанной ногой?
– Строителей это заботило меньше всего, пандус есть, и то слава богу! – рассеянно отозвалась Маша и без видимой связи добавила: – Мишке потом полгода нельзя будет сидеть.
– Я знаю, – удивленно отозвался Матвей.
Ему стало нехорошо: может, по-настоящему она и не замечала, что он все эти дни был рядом? Ей не хотелось близости, это понятно, он и не настаивал, но разве его присутствие никак не ощущалось?
Она пробормотала, явно рассуждая вслух:
– Придется переводить его на домашнее обучение. – и вдруг резко повернулась к Матвею: – Я должна остаться здесь на эти полгода.
Он ужаснулся:
– Ты с ума сошла!
– Если считаешь нужным взять другого директора – дело твое.
– Да при чем тут это?! Нет, это, конечно, тоже, ты ведь не можешь руководить по телефону… А я-то как?
– Ты ведь здоров, – напомнила Маша, улыбнувшись одним ртом.
Эта улыбка его ужаснула. Так бросают огрызок бродячей собаке, чтобы поскорее отвязалась. Услышав свой дрожащий голос, Матвей ужаснулся еще больше:
– Для тебя это пустяк, что ли, расстаться на полгода? Пустячок такой, да? Может, я вообще ничего для тебя не значу? И все эти сплетники правы?
– Правы? В чем?
Он пробормотал, уже пожалев о том, что затеял этот разговор:
– В том, что тебя волнует только твоя собственная значимость…
Ничуть не изменившись в лице, Маша вдруг сказала:
– Знаешь, а Мишка говорит, что ты – ничего.
И Матвей сразу смутился от удовольствия, будто от этого ребенка еще что-то зависело. Словно не его желания они растоптали полгода назад…
– Правда? Когда он это сказал?
– Еще в новогоднюю ночь.
– И ты молчала?!
Маша пожала плечами:
– Забыла как-то… Вернее, я думала, что уже сказала тебе. Столько всего…
На самом деле она этого не забывала. Конечно, не думала об этих словах сына постоянно, и все же где-то у сердца, не утихая, тепло копошилось осознание того, что малыш смог ее понять. Не одобрил, но понял. Разве он мог одобрить? Так не бывает.
Матвей спросил напрямик:
– Ты решила держать меня на коротком поводке?
– Что-о? Глупости какие… Почему ты…
– Нет, это ты скажи: почему? – взметнувшаяся обида жаром прилила к щекам и заставила его стукнуть ладонью по рулю. – Почему ты мне сразу не передала Мишкины слова? Ты что, не понимаешь, как для меня это важно? А ты припрятала их, как леденец! Ждала, когда я совсем раскисну, чтобы сунуть как утешение? Что происходит? Я понимаю, ситуация с Мишкой – это катастрофа… Но почему она так отразилась на нас с тобой?
– Потому что это я виновата в том, что с ним сейчас происходит. – Маша смотрела на него огромными ледяными глазами, и голос ее становился все ниже. – Ты не обязан отвечать за происходящее в душе у моих детей. А я знала, что с ними будет… Что это в любом случае будет катастрофой. И упал он тоже из-за меня… Стас так и сказал.
Чувствуя свою неубедительность, Матвей все же проговорил:
– Это он от беспомощности. Надо же свалить всю вину на кого-то! Так легче.
– Но если б я не появилась так внезапно… Если б я вообще не уезжала…
Откинув голову на спинку сиденья, он сосредоточенно вгляделся в лобовое стекло. Робкая снежинка медленно опустилась на прозрачную, но чужеродную гладь. За ней другая…
– Я так и думал, – сказал Матвей. – Рано или поздно ты должна была пожалеть. Слишком большая жертва ради меня одного.
Она сердито прервала:
– Я вовсе не жалею. Не накручивай того, чего и в помине нет! Но я чувствую себя кругом виноватой. Думаешь, легко с этим жить?
– Ты несчастлива? – он опустил глаза, чтобы не выдать своего отчаяния, когда прозвучит уже известный ему ответ.
И она подтвердила:
– Я не чувствую себя счастливой, это правда. Нужно лишиться сердца, чтобы в такой ситуации, как у нас, испытывать счастье.
– Ого! Какой пафос… Чем же тогда чувствовать счастье, если лишить себя сердца?
«Чем? Чем?» – бессмысленно повторяла она про себя, уже простившись с Матвеем, которому так и не ответила, поднимаясь по бесконечной крутой лестнице на четвертый этаж. Эти ступени были последней преградой, не дающей увидеть сына, хотелось проскочить их на одном вдохе, но каждый раз это давалось Маше с большим трудом – ноги тряслись…
Она успела подумать: «Можно ли вообще чувствовать то, чего не бывает? Это даже менее вероятно, чем ощущать ампутированную ногу… Она, по крайней мере, когда-то была. Мозг помнит о ней. А счастье если и было, то никак не с Матвеем. Даже помнить не о чем. Ради чего же я ушла к нему?»
Тяжело дыша, она остановилась у стеклянной двери в первую палату и с тоской посмотрела на своего мальчика. Он не выглядел убитым горем, даже больным не казался. Мишка лежал на спине, закинув босую ногу на другую, согнутую в колене, и играл с гаджетом. Голая, длинненькая ступня то покачивалась, то дергалась, в зависимости от того, что происходило на экранчике.
Маша улыбнулась этой ступне: губы до сих пор сохранили ощущения ее пухлости в младенчестве и подвижную упругость пальчиков-«грибочков». Ей вдруг пришло в голову, будто тот ребенок, которым Мишка был десять лет назад, тоже в свое время ушел от нее, хотя она неистово его любила. Но это не стало для нее трагедией. Люди расстаются, чтобы открыть для себя других людей и другие чувства.
Глава 9
Кажется, он сказал себе: «Эта женщина будет моей» сразу, как только увидел ее. И получил ее, как всегда в последние годы получал то, чего желал по-настоящему. Другого Матвей и не допускал. С недавнего времени, которое, правда, почти вытеснило пропитанное бедностью прошлое из его памяти, он относил себя к тем исключительным людям, которым все удается. Сегодня Маша заставила его усомниться в этом.
Почему она стала так необходима ему? Она была умнее. Она была старше. Она была красивее. Она была счастлива. Словом, Маша превосходила его во всем. Матвей просто не мог позволить ей пройти мимо него…
Без нее этот город, родной для Маши, был просто скопищем по-зимнему слепых домов, медленных автобусов, новеньких урн для мусора. Матвей никого не знал здесь, кроме семьи Кольцовых, частью которой фактически оставалась и Маша, как бы все в нем ни бунтовало против этого.
И Маша цеплялась за свою семью, Матвей вынужден был признать это, иначе почему же разговора о разводе даже не возникало? Он мог бы сказать: «Все или ничего». Мог бы, если б не боялся, что она выберет «ничего» и тотчас исчезнет, освобожденная его непомерной требовательностью от негласных обязательств любви.
А вместе с ней исчезнут и незнакомое до нее тепло утренних поцелуев, пахнущих кофе, и звонки без повода: «Привет? Как жизнь?», и яблочный холодок ее щеки, когда она садится в машину с мороза… Все эти мелочи были похожи на елочные игрушки, которые и создают ощущение праздника, хотя ель и сама по себе хороша.
Матвей, до сих пор боготворивший импрессионистов, внезапно понял, что Машин портрет не доверил бы писать ни одному из них, ведь в ней важны были все детали. От невозможно прекрасной формы коротко остриженной головы, облепленной черными волосами, до коротких по нынешним меркам ногтей, которые Маша и не думала наращивать. Все противоестественное отторгалось ею как невозможное.
Поняв это, Матвей осознал и то, почему она решилась уйти к нему, хотя знала, конечно, знала, как опустошит ее эта беда – о счастье и речи не было… Но оставаться с человеком, которого не любишь, было для нее противоестественно. Растить детей в атмосфере притворства – тоже. Это казалось Маше преступлением перед детством, которое инстинктивно чурается всякой фальши.
«Стас ненавидит меня сейчас, – у нее бессильно клонилась шея, когда она говорила о старшем сыне. Подбитая птица. – Но если б я осталась с ними и продолжала встречаться с тобой, а он случайно узнал об этом, то возненавидел бы меня еще больше. Надеюсь, что больше – есть куда…»
В этом признании для Матвея таилось облегчение: она и мысли не допускает, что могла бы полностью от него отказаться. Ни тогда, ни сейчас.
И вот теперь он уезжал, а Маша оставалась с сыном. В этом не было ничего неправильного, только так она и могла поступить. Может быть, он и сам решил бы точно так же, будь Мишка его малышом… Но Матвея начинало корежить, как подожженную бумагу, стоило ему подумать о тех шести месяцах, которые им предстояло провести на расстоянии трехсот километров друг от друга.
Этот срок в два раза превышал тот, что составлял их сегодняшнюю совместную жизнь, и казался гигантским, не подвластным пониманию. Матвей не представлял, чем можно заполнить эти полгода, хотя до встречи с Машей полагал, будто устроил себе насыщенную и нескучную жизнь. Сейчас он видел впереди только бесконечные скитания между тем городом, где жили они с Машей, и этим – совсем для него чужим.
Улицы этого городка оживали, только если Машины воспоминания их по-особому высвечивали: «Слушай, а здесь мы с девчонками…» Все это были забавные, но простенькие истории, у каждого навалом таких, и все же Матвей заслушивался каждой. Их живая нить вела в глубь Машиного прошлого, туда, где его не было, впрочем, как и Аркадия, что представлялось особенно приятным.
Ему нравилось рассматривать фотографии, на которых растрепанная школьница то хохотала во весь рот, не замечая того, что выскочила на мороз в одной форме, то взмахивала ракеткой, а волан летел к ней крошечным межпланетным кораблем. Матвей отчетливо слышал звук тугого удара о сетку, и продолжение этой сценки отчетливо рисовалось в его воображении: смазала, по-детски чертыхнулась, подтянула гольфы, тряхнула пушистыми волосами… Когда они стали гладкими, отчего?
Там, внутри снимков, под тонюсенькой пленкой глянца, пахло теплыми соснами, принявшими солнечную пыльцу. Верхняя треть ствола была окрашена ею, и это всегда так нравилось Матвею! В детстве (чуть отставшем от ее детства – Маша была резвее…) он думал: волшебная палочка должна выглядеть как ствол маленькой сосны, подсвеченной солнцем.
Чудо произошло с ним безо всякой волшебной палочки, когда отец, которого Матвей привык считать обычным инженером-нефтяником, без долгого перехода по карьерной лестнице стал одним из совладельцев компании. С матерью Матвея он давно был в разводе, но почему-то больше так и не женился, не обзавелся другими наследниками и охотно поделился с единственным сыном своим состоянием. Чаще Матвей раздумывал не над тем, почему у отца так и не родились другие дети, а пытался понять, что же стало причиной разлуки его родителей, так и оставшихся одинокими, невеселыми людьми.
И только встретив Машу, понял: эта особенность его сердца – наполниться раз и, как ему казалось, навсегда – передалась от обоих родителей, а значит, усилилась вдвойне.
Следовало выехать на трассу, ведущую за город, но Матвей свернул к старому мосту, о котором Маша рассказывала со слов ее родителей, что в конце шестидесятых он дал трещину от мороза и люди ходили по льду с одного берега на другой. Она сама родилась на правом, Аркадий же увез ее на левый, и Маша, немного смущаясь этого, говорила, что так и не прижилась на другом берегу. За двадцать лет не прижилась. Ну, или почти двадцать…
Она сердилась на себя и смеялась: «Какие-то кошачьи повадки! Я так привыкаю к месту, что не сгонишь. Если только у самой желание возникнет…»
Матвею не давала покоя мысль: «Что она скажет еще через двадцать лет? Я лишил ее не просто берега, а целого города. Десятков людей, которым она могла улыбнуться и без церемоний сказать: «Привет!» Не говоря уже о…»
Машина пошла вверх, будто по дну огромного оврага с крутыми высокими стенами. Маша так волновалась, когда неделю назад они этой же дорогой пытались вернуться в ее прошлое, что Матвею стало смешно смотреть на нее. В себе он не находил щемящей тяги к северному городку, где родился. И когда мать увезла его сначала на Урал, где жила ее сестра, а потом в Сибирь – ни к кому, в неизвестность, он воспринял эти перемены, не протестуя и не сожалея. Хоть и радости тоже не было, ведь мать очень нервничала, собирая вещи, и кричала, именно его обвиняя во всем, о чем Матвей тогда и понятия не имел.
Трамвайная линия пунктирными, солнечными вспышками указывала путь, Матвей то и дело косился на нее, вспоминая, как Маша рассказывала: они с друзьями ходили по этой линии на речку… Может быть, вон та черная шпала где-то в глубинах прочной, деревянной памяти хранила след той девочки с пушистой головой, которая временами становилась особенно заметна. Все эти измышления были надуманны и сентиментальны, но самого себя Матвей не стыдился, а делиться ими не собирался ни с кем.
Мысль о ком-то, от кого следует по-тютчевски таиться, казалось, только мелькнула в сознании, но в ту же секунду материализовалась: он увидел Стаса, откровенно мерзнущего на остановке. Мальчик возник в поле зрения так неожиданно, что Матвей не успел среагировать и пролетел мимо. Притормозив, он развернулся, ведь Стас намеревался ехать в обратном направлении.
– Эй, привет! Садись.
От неожиданности Стас узнал машину не сразу, потом, наклонившись, заглянул в распахнутую дверцу:
– Это вы?
– Садись, – нетерпеливо позвал Матвей.
С улицы тянуло таким холодом, что даже самый упрямый мальчишка не смог бы отказаться от помощи. Зима вымораживает гордость, этот закон Матвей вынес из своего северного детства.
– Ну ладно. – Стас забрался в машину, не забыв придать лицу независимый вид, но в тепле по-детски влажно втянул носом.
Матвей улыбнулся, не глядя на него:
– Тебе домой? Ты как здесь оказался?
– Я у бабушки ночевал, – Стас заметно смутился, сказав так, ему показалось, что это прозвучало как-то по-детсадовски. И пренебрежительно добавил: – Надо же кому-то ее проведать. Мишка не может.
«Маша не познакомила меня с матерью?!» – это ударило так, что Матвей едва не выпустил из рук руль. Через несколько секунд отпустило, и он додумался спросить:
– А эта бабушка… Чья она мама?
– Папина, конечно, – сквозь зубы отозвался Стас, откровенно не расположенный к беседе. – Мамина же во Владике.
И все тут же сложилось в картинку настолько ясную, что было непонятно, как Матвей мог забыть Машины переживания о том, как родители переехали поближе к ее младшему брату, чтобы помогать его семье, пока он в плавании.
«Надо будет свозить ее к ним, – сделал он зарубку в памяти. – Вот это будет подарок!»
Но уже вспомнилось про полгода отсрочки от всего, полгода тоски, от которой нельзя было отказаться, чтобы не разочаровать Машу. Ей-то и в голову не пришло бы отказаться ото всего ради него. Хотя, подумалось ему, раз уж отказалась от них один раз…
– Она вам ничего о нас не рассказывала?
Матвей не понял, чего больше было в голосе мальчика: злорадства или отчаяния? Если Маша не делилась чем-то, значит, хотела оставить это себе. Или не вспоминала потому, что это больше не имело для нее значения?
– Рассказывала, – возразил Матвей, так и не поняв: обидит этим Стаса или обрадует. – Но я ведь сам не видел твоих дедушек-бабушек, они для меня… несколько абстрактны, понимаешь? Поэтому я в них путаюсь. Если тебе перескажут… – он сделал скидку на возраст, – «Трех мушкетеров», разве ты запомнишь, кто из них казнил Миледи?
– «Трех мушкетеров» я еще классе в шестом прочитал, – губы у Стаса отогрелись еще не настолько, чтобы выразить презрение полноценно, как ему хотелось.
– Я промахнулся. А что читают в семнадцать лет?
– «Камасутру».
– Вредоносная книга! – Матвей раскатисто рыкнул и с опаской подумал, что переигрывает. – Душит собственную фантазию на корню.
Стаса слегка перекосило:
– Только не вздумайте делиться со мной своим опытом! А то опять сейчас скажете: легко! Ненавижу это словечко, теперь все так говорят.
– Это защитное слово. На самом деле все сейчас чертовски трудно.
– Вам, что ли, трудно?
– А я что, киборг какой-то?
Презрение на лице мальчика наконец вырисовалось во всех деталях. Его реплику Матвей услышал еще до того, как отогревшиеся губы шевельнулись. И предупредил ее:
– Только о моих деньгах не говори.
Стас подавился смешком:
– Больная тема, что ли?
– Скучная. Они есть пока, спасибо папе… И бог с ними!
– Жить-то с ними не скучно.
– С ними свободней. Если проголодаешься, заезжаешь в то кафе или ресторан, что оказываются ближе, а не ищешь забегаловку подешевле. Ты, кстати, есть хочешь?
Мальчик бесстрастно заметил:
– У вас, похоже, бабушки не было. Она голодным не отпустит.
– А я хочу, – вздохнул Матвей. – У вас рядом с домом найдется какая-нибудь забегаловка?
– Пиццерия есть, – буркнул Стас и отвернулся к окну.
«А ему хочется в «Пиццерию», аж сил нет!» Матвей куснул губу, чтобы не усмехнуться, и небрежно предложил:
– Пойдем?
– С вами?
Повернувшись, Стас смерил его взглядом:
– Да я б и в машину к вам не сел, если б на улице хоть чуть-чуть теплее было.
– Спасибо на добром слове! Ты любезен, как всегда… Да ладно, я не настаиваю. Мне и без компании кусок в горло полезет. Легко! – Матвей широко зевнул, а сам подумал, что проиграл этот раунд. Из-за этой чертовой пиццы, которую Стас никак не мог принять, пацан возненавидит его еще больше.
Прижавшись к дверце, мальчик вдруг выкрикнул:
– Знаете что! Вы сделали из нее шлюху! Она была нормальной. И с отцом у них все было хорошо. Зачем вы влезли? Незамужних мало, что ли?
«Если врезать ему за «шлюху», он этого не забудет. И найдет способ сообщить Маше». Матвей заставил себя загнать ярость поглубже внутрь, как сглатывают подступившую тошноту.
И отозвался без видимого раздражения:
– Никогда не хотел прослыть «нормальным». Разве это не скучно? Твоя мама не была нормальной. Это почти то же, что быть заурядной.
– Нет!
– Да. Ты сам ненормальный. Хотя бы потому, что так сражаешься за свою семью.
«Черт бы тебя побрал!» – добавил он про себя.
Взгляд Стаса резко изменился. Что-то в нем дрогнуло: то ли зародилась улыбка, то ли раскалилась ярость. Это тайное движение тут же исчезло, но Матвей успел его заметить. Вот только не понял значения этой мимолетной перемены…
– А вы-то что здесь делали? – помолчав, спросил Стас.
Подозрительность сделала его голос неприятно скрипучим. Казалось, будто на соседнем сиденье старик-попутчик сетует на жизнь. Такой голос в новогоднюю ночь был у Аркадия. Это было смешно.
Матвей отозвался с юношеской пронзительностью, а потом подумал, что это прозвучало еще смешнее:
– Я-то? Изучал ваш древний город. Я ведь жутко любознательный, чтоб ты знал!
– Нечего смеяться над нашим городом, – сурово пресек Стас. – Ваш тоже не намного древнее!
Не колеблясь, Матвей отрекся:
– А тот тоже не мой. Моя малая родина затерялась в бескрайних северных снегах.
– Так вы – чукча? – оживился мальчик.
Ударив себя в грудь, Матвей произнес с гордостью:
– Угадал, однако! Мы, чукчи, однако, все светловолосые и зеленоглазые!
Но Стас не унимался:
– Вы жили в юрте?
– В чуме. Строганину ели, однако. И мылись целых два раза: при рождении и после смерти.
Не удержавшись, Стас тихо фыркнул, тут же разозлившись на себя за это.
– Думаете, с нами ей не было весело?
– Нет, с вами не соскучишься, это я уже понял.
– Так что вы делали в этом районе? – нотки юного помощника полиции позвякивали в голосе подростка.
Скосив глаза, Матвей усомнился, может ли говорить с ним всерьез, и все же ответил правдой:
– Я пытался поймать тень ее детства.
– Маминого?
– Когда узнаешь о детстве человека, начинаешь лучше его чувствовать…
Мальчик процедил:
– Зачем? Все говорят, что вы все равно ее бросите.
Не удивившись, Матвей продолжил:
– Потому что я моложе, богаче… И потом, один развод у меня уже имеется на совести.
– С мамой у вас не может быть развода, – сухо напомнил Стас. – Вы не женаты. По-моему, она и не собирается разводиться с папой…
«Бьет по самому больному, – затаив дыхание, Матвей переждал. – Ай да боец!»
– Если она к нам вернется, то даже менять ничего не придется.
– А ты надеешься, что она вернется?
Ему хотелось продеть вопрос нитью иронии, но глаза Стаса не смеялись, и это сбило его с толку. Минуту назад Матвей знал наверняка, что надежда мальчика не более реальна, чем ребристый след от самолета, видневшийся в углу лобового стекла. Но во взгляде Машиного сына была такая мрачная уверенность, что ему стало не по себе.
– Я даже не сомневаюсь, – сказал Стас.
Глава 10
Он спросил со всей суровостью, на которую способен старший брат, пытающийся наставить младшего на путь истинный:
– Так она была сегодня?
Мишка умело сделал виноватые глаза, хотя знал о своей безнаказанности: если уж отец разрешил ей приходить… Стас отказывался понимать: почему? Неужели они бы без нее не справились? Полный междометий рассказ брата о новогодней ночи привел его в бешенство – еще и этот Матвей вмешивается в их жизнь!
Стас никогда не верил, что нынешние и бывшие мужья и жены могут общаться по-человечески. На фронте, во время войны, предателей расстреливали… Так что если бы отец их обоих спустил с лестницы, он, Стас, ему бы поаплодировал. Даже в том случае, если бы мать тоже себе что-нибудь сломала…
Он и сам не мог понять, как его память в одночасье смогла очиститься от воспоминаний о том, как он любил ее раньше. Или этого не было? Теперь ему казалось, что он ненавидел мать с рождения и всегда ждал от нее подвоха. Разум возражал: не могло быть такого! Ведь сохранилась целая куча фотографий… И на них она то возится с ним, то целует, то кормит грудью. Он опомнился: «Почему же я до сих пор не порвал их?»
Его соседка по парте, беленькая Дюймовочка с песенным именем Лайма, однажды невзначай обмолвилась о том, что ее родители в разводе. И когда Стас, слегка устыдившись возникшего жгучего интереса, спросил, видится ли она с отцом, девочка ответила как о чем-то естественном:
– Ой, ну конечно! Папа у меня классный!
– Классный? – не поверил Стас, не сумев скрыть удивления. – Он же бросил тебя!
Лайма посмотрела на него с той взрослой снисходительностью, которая его всегда бесила в девчонках:
– Он же взрослый человек. Полюбил другую. Но я-то при чем? Когда у тебя брат родился, родители же не разлюбили тебя! Любить можно многих сразу.
Стаса покоробила эта сомнительная философия. Чтобы его окаменевшее презрение к матери не рассыпалось в прах, подточенное сомнением, он убедил себя в том, что Лайма просто защищается этой показной понятливостью взрослых отношений, лишь бы не выдать, как ей больно на самом деле. И перестал о ней думать…
Этот разговор вспомнился в тот день, когда мать снова возникла в его жизни. Совершенно непрошено. Вернее, был уже вечер, когда они с отцом, подавленные тем, что стряслось с Мишкой, кое-как отужинали и разбрелись по своим комнатам. Едва Стас включил настольную лампу, на свет из углов так и полезли обрывки ярости, которую он слегка подрастерял за день: «Зачем явилась… Если б не она… Если бы…»
Тут-то в памяти и всплыли странные слова Лаймы о любви, омывающей не одно сердце, но Стас категорично отмел их в сторону. Но тут же на одну секунду задумался, что, возможно, в них есть доля правды… Не доля даже, а миллионная часть доли… Однако наготове давно был непрошибаемый аргумент: «Если бы любила – не бросила бы!» Но на этот раз Стас промедлил и не сразу разнес в прах свои сомнения. Впрочем, это были не сомнения даже, а только их отголоски…
Тем не менее его раздражало то, что с каждым днем они звучат все отчетливее, отзываясь на скупые, похожие на военные доклады, сообщения брата: мама опять была у него. Говорить подробнее Мишка боялся, ведь у Стаса от этих новостей гневно раздувались ноздри, и если бы вулкан его эмоций прорвался, не спасла бы даже больничная койка.
– Она грехи свои замолить пытается, – говорил Стас с презрением, сердясь на то, что Мишка не понимает очевидного.
Тот, как правило, осторожно отмалчивался, но однажды сказал:
– Она ведь звала нас с собой. Могли бы поехать.
– К этому? – взвился Стас и, вскочив с краешка кровати, горячо зашептал: – Сдурел, что ли?! С отчимом захотелось пожить? Не слышал никогда, как они издеваются над усыновленными детьми? У тебя мозги, похоже, тоже сплющило!
Мишка отвел глаза. Когда приходил брат, за окном уже появлялось чернильное марево, сгущавшееся черной портьерой перед вечером, надвигающимся на город с неумолимостью Князя Тьмы. Мама же приносила с собой солнце, даже если утро выдавалось пасмурным…
– А если папа женится? – тихо спросил он. – Мачеха еще хуже, чем отчим. По-моему, так.
Стас опешил:
– На ком это он женится? У него и нет никого.
– Откуда ты знаешь? Про маму тоже никто из нас не знал, пока…
– Так ей нужно было скрывать, а папе теперь чего прятаться?
Мишкин рот выгнулся подковкой:
– Не знаю. Может, чтоб мы не обиделись. Он же нас жалеет, наверное.
«Жалеет» – это прозвучало оскорбительно. Стас не находил повода жалеть себя. Другое дело – Мишку. Ему и самому то и дело становилось жаль брата до того, что перехватывало горло. Тот хоть и крепился и даже пытался острить (папа восхищался: «Растет пацан!»), но лицо у него стало каким-то желтеньким, а ноги сделались совсем тонкими. Больничная массажистка сказала: «Мышцы тают» и научила его специальным упражнениям, которые можно было выполнять, не вставая с кровати. Мишка старательно делал их два раза в день, но мышцы все равно потихоньку ослабевали. Это было не так уж страшно, стоит только начать ходить, и они восстановятся, но смотреть на эти тонкие ножки было не просто…
– Хочешь сказать, что отец оставил нас у себя из жалости? А не жалел бы, так Матвею отдал? – Стас специально произнес это зловещим шепотом, чтобы брат устрашился такой перспективы.
– Да нет же, – беспомощно протянул Мишка. – Я просто говорю о том, что, может, у него тоже есть… кто-нибудь. Вон медсестра с массажисткой только и говорят, что мужиков не хватает, и все такое.
– Знаю, что не хватает. Ну и что? Его одного все равно на всех не хватит.
Стас понимал, какую ерунду несет… И вообще-то Мишка прав. Конечно, все возможно, и отец может от них что-то скрывать. Но ему была так противна сама мысль о том, что в их жизнь может войти еще одно предательство, что гнал ее прочь. Если это случится с отцом, мать уже точно к ним не вернется, а ведь он только утром убедил (или нет?) Матвея в своей уверенности в обратном. Пока ничто даже не наводило на мысль об этом, или, как говорила их историчка, не было никаких предпосылок, но каким-то образом в душе у Стаса поселилось и пустило корни предчувствие: все будет именно так. Только он не знал – хочет этого или нет?
Поэтому ничего не предпринимал для того, чтобы это сбылось. Как только мать делала едва уловимое движение к нему, он ее отталкивал – взглядом, словом, ухмылкой. Она отступала, принимая свою зависимость от него, и Стас упивался своим превосходством, ведь по своему нраву его мать покорной не была. С самого детства он краем уха слышал разговоры о том, как она опять показала характер кому-то из телевизионного начальства, и из-за этого ее передачу едва не закрыли. У нее всегда были сложности с этим неведомым начальством, которое тасовало имена, не меняя отношения к строптивой журналистке.
Когда Стас подрос, он стал втайне гордиться тем, что она никому не стремится угодить. А его учителя еще пытались жаловаться ей по телефону на неуживчивый характер ее старшего сына! Как будто мать можно было этим удивить…
В тот вечер Стас ушел из больницы, не дождавшись отца, который прибегал к Мишке после работы. Его подстегивала мысль, что Матвея нет в городе, и она… мать сейчас одна. Можно было бы добавить: «Совсем одна», если б, с одной стороны, это не было фразой из анекдота, а с другой – не звучало так тоскливо.
Эта мысль вела его, подталкивала… Разбегаясь, Стас скользил по глянцевой змейке льда, перебегал дорогу перед машинами, выбирая джипы, обгонял прохожих. Зачем он шел к ней, если с первой секунды решил не показываться ей на глаза? Подслушивать ее разговоры, стоя под дверью? Подглядеть в замочную скважину? Что он надеялся увидеть?
Ее не оказалось в номере. Стас не стал допрашивать портье: не ошибся ли тот. Выглядеть несчастным, покинутым ребенком? Нет уж… Она сдала ключ и ушла. Куда, интересно?
Стас вышел на крыльцо и огляделся, чувствуя себя затравленным дикарем, оказавшимся в городе. Здесь между собой переплетались сотни улиц, где можно было укрыться от его взгляда. Любой подъезд, незнакомая ему квартира могли поглотить ее запах, попробуй найди!
К вечеру неожиданно потеплело, и в больнице все разом заговорили о гриппе, точно его вирус до этого находился в замороженном состоянии. Готовое разразиться снегопадом небо тяжело осело прямо на крыши домов, и Стас чувствовал, что оно словно давит на затылок. Белые, ватные с утра деревья стали бурыми, крючковатыми, будто состарились за день.
Стас задумался: «Интересно, они знают, что впереди их ждет весна? Что снова проклюнутся листья? А если они не умеют ни помнить, ни думать, как можно считать их живыми? Сказано же: мыслю, значит, существую. Одно противоречит другому. Каждый великий человек изобретает свою формулу жизни, а мы должны разбираться, как они сочетаются между собой!»
Теперь, когда на пути его плана встала случайность, ему уже казалась нелепой идея найти свою мать. Оббежать полгорода, чтобы потом даже не подойти к ней? Она могла отправиться на телевидение, к старым друзьям, чтобы подбросить тем пищи для разговоров – надо же им чем-то жить! Могла пойти в театр, который по-настоящему любила и с раздражением пресекала все разговоры о его провинциализме как о слабости постановок. Наверное, потому, что сама была провинциальной журналисткой, но никогда не считала себя менее профессиональной столичных.
Потом вспомнилась случайная утренняя встреча с Матвеем, и Стас догадался: она может совершать паломничество по местам своего детства, о котором всегда обожала рассказывать. Стаса бесило, когда матерью овладевала жажда поделиться с кем-нибудь подробностями их с Мишкой младенчества. Никому, кроме нее самой, это не было интересно, а им обоим становилось неловко за тех себя – маленьких, глупых до невозможности, неуклюжих… И за что только она их тогда любила?
Стас поймал маршрутку и поехал назад той дорогой, которой утром вез его Матвей. Забившись на заднее сиденье, он стал представлять Мишку, который наверняка не понял, почему брат вдруг его покинул. И ощутил досаду: мать-то сидела у его постели до тех пор, пока ее не начинали выгонять санитарки или медсестры…
«Грехи отмаливает», – он привычно выдернул эту фразу из нескольких других, живших в подсознании и более правдивых. Стас уже знал: правда – это такая штука, на которую не обопрешься, когда ноги подкашиваются. И сейчас охотно обманывал себя, воображая, что мысли о Мишке как бы приближают к нему самому, а значит, он не весь ушел или же забрал частицу брата с собой. Незримый слепок, фантом, который всегда может быть с ним рядом…
То же самое можно было проделать и с матерью. Убедить себя в этом. Человек способен убедить себя в самом неправдоподобном, если иначе ему не выжить. Из этого вытекал несколько противоречивый вывод: Стас мог выжить без матери, поэтому она была нужна ему реальной, а не бликом памяти.
Стас ткнулся головой в трясущееся оконное стекло: «И что из этого? Скорее всего, я смогу найти ее старый дом, хоть и не был там сто лет… Может, даже ее саму увижу. А дальше? Разве она вернется к нам, что бы я ей ни сказал? Действие? Какое? Связать ее и утащить домой? Этот Матвей и дверь взломать способен. Если не сам, так наймет каких-нибудь громил… Силой с ним не справишься».
Преступная мысль прошила голову, Стас даже мгновенно выпрямился. Все могло бы получиться, если б этого Матвея вдруг не стало… Он тут же отшатнулся от самого себя: как можно даже думать о таком?!
Но мысль уже зародилась, и хотя Стас не хотел ее продолжения, в голове так же торопливо, воровски проскользнули жутковатые в своей привлекательности варианты исчезновения Матвея. Тормоза на джипе – это было самым реальным из всего, что Стас придумал наспех.
Кусая губы, он пытался занять голову смазанными картинками, возникающими за окном. Названия магазинов были уже не теми, что еще полгода назад, и Стас понимал: один владелец прогорел, теперь пытается выжить другой… За обычной сменой вывесок стояли человеческие трагедии, но сострадания Стас не испытывал. Он не верил, что может найтись история трагичней, чем у их семьи, ведь ее он чувствовал всем нутром…
Едва не пропустив нужную остановку, он выскочил из маршрутного такси и оглядел хмурые ряды серых пятиэтажек. Прочным забором они укрывали огрызок частного сектора, который еще лет десять назад занимал половину района. Тогда дома были крепкими и оттого, казалось, выглядели жутко самодовольными, но время потрудилось над ними, как гусеница над листом.
Стас ясно представлял себе тот дом, в котором жили его ныне владивостокские бабушка с дедушкой и где его мама, еще девочкой, прямо в огороде кормила кукол обедом. Впрочем, нет! Никаких обедов не было, она же рассказывала. Ее игры всегда были историями: коричневый медведь с большой головой и шершавыми подошвами лап, за неимением кукол-мальчиков, превращался в загорелого до черноты ковбоя. У него, правда, не было лошади, зато ноги были кривыми, как у настоящего наездника. Его врагом или другом, в зависимости от сегодняшнего сюжета, был желтый лохматый медведь с прозрачными медовыми глазами. На нем был клетчатый комбинезончик, как у городского мальчика, и он умел грозно реветь, если его поворочать туда-сюда, из бока в бок…
Зачем он помнил все это? Ему-то что до этих пыльных медведей, которых тоже потащили на Дальний Восток, как будто его двоюродным сестрам могли понравиться эти старые игрушки. Наверняка девчонки выкинули их в первый же вечер. И правильно сделали! Нечего навязывать людям модель чужого детства.
Эта мысль Стасу понравилась. Она показалась ему вполне взрослой и даже научной. Такими фразами говорила их учительница литературы. После того как мама услышала ее на родительском собрании, она больше не удивлялась тому, что Стас ненавидит литературу как предмет, хотя и читает запоем.
Вспомнив это, он улыбнулся как раз в тот момент, когда вышел на тихую улочку, пахнущую печным дымом и присыпанную золой сумерек. И увидел мать. Она шла навстречу, еще не замечая его, а Стас растерялся до того, что забыл убрать с лица улыбку. Он смотрел на нее и улыбался вслед уже уплывшим мыслям, она же, подняв голову, просияла в ответ, не поняв этого.
Резко повернувшись, Стас бросился бежать, проклиная и свою глупость («зачем я поперся сюда?!»), и подлость случая… Он твердил про себя то, в чем для него не было никакого противоречия: «Ненавижу ее! Я заставлю ее вернуться!»
Глава 11
Тяжелее всего было уходить. Не подозревая, что и Машу мучает то же самое, Аркадий уговаривал себя: это самое трудное, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались. Но если люди необходимы друг другу, чем облегчить расставание?
То, что через такое же испытание уже прошли миллионы семейных пар, не делало боль в груди хоть чуточку слабее. Аркадий тащил в груди свое разбухшее от боли сердце, направляясь к остановке прочь от больницы, с трудом дыша жгучим, морозным воздухом, в холодном автобусе усаживался у окна и, как беспокойного младенца, пытался хоть на какое-то время отвлечь его иными впечатлениями. Но оно все плакало и плакало так же горько и безутешно, как умеют лишь беспомощные и уязвимые новорожденные.
Дома на него наваливалась тишина опустевших комнат: Стас тоже где-то пропадал. Наверное, страшился оставаться в этой квартире, лишившейся Мишкиного топота, каждый раз затихающего у входной двери, и неизменного вопроса «Кто там?», когда в нее кто-то звонил, как и тихих звуков ребяческих игр, разворачивающихся на ковре в гостиной или комнате, частого шелеста страниц…
Аркадий вошел в комнату младшего сына и остановился на пороге, хотя его детям никогда не пришло бы в голову орать, как подросткам из американских фильмов: «Не входи в мою комнату без разрешения! Это моя собственность!» Письменный стол и сейчас был завален всякой всячиной, крайне необходимой Мишке. Перед тем как начать пылесосить, Аркадий обычно пристально оглядывал ковер: не затаилась ли в его узорах рука робота или маленький, размером не больше скрепки, автомат. Однажды тупой пылесос сожрал детальку конструктора, и Мишка заставил переворошить весь пылесборный мешок.
«Машу заставил», – вспомнилось ему. Тогда еще Машу. Она и не подумала спорить и доказывать, что, мол, обойдешься и без него, а, весело переговариваясь с сыном, утащила пылесос в ванную, чтобы произвести вскрытие без ущерба для квартиры…
«Головоломка, которую мне не решить никогда, – подумал Аркадий, разглядывая светло-коричневый ковер, который теперь чистил сам. – Она ведь была хорошей матерью. Души в мальчишках не чаяла. Что же произошло?»
– Надо сделать у него ремонт.
Аркадий произнес это вслух и сам удивился, услышав свой голос, ведь мысли его были заняты совершенно другим. Возлежавшая на диване Нюська нехотя подняла голову и уставилась на хозяина с холодным изумлением: «Что, старый, совсем из ума выжил? Уже сам с собой разговариваешь?»
– Это я тебе говорю! – оправдался Аркадий. – Помогать будешь? Ни черта ведь не делаешь в доме, могла бы хоть раз лапой шевельнуть! Надо сменить обои и плитки наклеить на потолок… Будет красиво. Он обрадуется, когда вернется. Давай? Ты будешь мазать стены и потолок клеем с помощью своего хвоста, а я приклеивать.
Не проявив интереса, кошка зевнула, показав маленькое розовое нёбо. Аркадий махнул на нее рукой и медленно обошел комнату, стараясь не наступать на игрушки, все еще группками лежавшие на ковре, – в ходе последних событий их даже некогда было убрать. Взял картонный истребитель, который Мишка доклеил накануне травмы, погладил крылья… На пальцах осталась зеленая полоска.
У Аркадия перехватило дыхание: краска еще не успела высохнуть, а в их жизни уже перевернулось. Они больше не спорят из-за штор, которые Мишка задергивал даже днем. Ему казалось, что из окна напротив его комната отлично просматривается.
«Надо купить жалюзи! – осенило Аркадия. – Он вернется, а они уже висят. Почему я раньше не додумался?»
Сев рядом с кошкой, он взял не дочитанную Мишкой книгу. Она была библиотечной, захватанной десятками других детей, а ему почудилось, будто страницы пропитались запахом его сына. И опять что-то взорвалось в сердце, и стало так больно, что, казалось, уже и не продохнуть. Аркадий осторожно положил книгу, не закрыв ее, и вышел из комнаты.
Он направился на кухню, пытаясь вспомнить: есть ли в холодильнике что-нибудь из остатков еды. Готовить ему не хотелось, не хотелось вообще ничего. Он чувствовал себя устрицей, из которой высосали содержимое. Внешне все оставалось по-прежнему, даже седины не прибавилось, а внутри была абсолютная пустота. Из нее надо было извлекать какие-то мысли, ведь работа не могла ждать. И ребята из лаборатории, несмотря на свое сочувствие к нему, тоже ждать не могут. Детей ведь растит не только он…
Звонок раздался в тот момент, когда Аркадий открыл холодильник, свирепо загремевший полками и стеклянной крышкой масленки. Он прислушался: почудилось? Закрыв дверцу, Аркадий подождал, и звонок повторился.
«Не Стас», – решил он. В их семье все звонили три раза, а то и больше.
Открыв дверь, Аркадий не смог скрыть нелепого удивления: «Почему она звонит не по-нашему?» Исключая друг друга, возникли две догадки: Маша не осмелилась самовольно воспользоваться их тайным кодом; или – она отреклась от всего, что когда-то составляло их семейный уклад. Первое предположение сразу спасовало перед тем фактом, что каждое утро Маша проводила у сына, хотя ей давно пора было уезжать. И как бы ни был Аркадий сердит на нее, он не позволил бы себе обвинить ее в том, что это – показуха.
– Привет, – сказал он, приказав себе ничему не удивляться и не злиться. – Проходи.
Машин взгляд метнулся к знакомой вешалке, похожей на черное дерево с крюкообразными ветками:
– Можно раздеться?
– А Матвей не закиснет в машине?
Она посмотрела с удивлением:
– Он же уехал. Вообще из города. По делам.
– А я должен был это знать?
– Я думала…
– Нет. Мишка мне не говорил.
У него опять начало разбухать сердце: «Маленький мой… Сам лежит переломанный, а меня оберегает».
– Тогда раздевайся, – он принял злосчастную шубу, на этот раз обвисшую в руках тяжестью укора: «Матвей сделал из нее принцессу, а ты не смог!»
– Я принесла копченую курицу, – сказала Маша полувопросительно. – Вроде бы свежая… Ты еще не успел поужинать?
Он решил не ломать комедию.
– Доставай. Надеюсь, она не совсем окоченела на морозе?
– Там потеплело. А Стаса нет? – она заглянула в комнату старшего сына, пугающую тем уровнем беспорядка, который был удобен ее хозяину. Машины губы дрогнули: здесь ничто не изменилось.
Аркадий подтвердил:
– Вечный хаос. Да будет так! Хоть в чем-то же должно быть постоянство.
Этот упрек вырвался против воли. Уж слишком много эмоций ей в последнее время приходилось сдерживать. Ничего на это не ответив, Маша осторожно шагнула по направлению к Мишкиной комнате и остановилась на пороге. Точно так же, как он сам пять минут назад. Приподняв голову, Нюська с неподражаемым безразличием оглядела любимую хозяйку и только дернула хвостом.
– Она меня не узнала…
Даже не заглядывая ей в лицо, Аркадий почувствовал, как оно дрогнуло. Такое тонкое и правильное, что, не будь Маша грешницей, с нее впору было бы писать икону. Короткие волосы не закрывали длинную шею, нежность которой плавно переходила в плечи. Сейчас они были закрыты кофтой, но Аркадий помнил их. Он смотрел сзади на ее шею и думал о том, как же это странно, что он не вправе теперь прижаться к ней ладонью, губами, щекой… Не то чтобы ему очень этого хотелось, но сама невозможность казалась неправильной.
В их бывшую спальню Маша не зашла, но в этой нарочитой осторожности ему опять увиделась бестактность, как та, которую она допустила, явившись к нему в этой норковой шубе… И Аркадий позвал грубее, чем намеревался:
– Так ты распрощаешься со своей курицей или нет?
Она заторопилась, улыбаясь жалобно, не похоже на себя. Выбираясь из не подходящего для нее пакетика «Ив Роше», курица зацепила его культей и порвала. У Аркадия только мелькнула мысль: «Жалко. Красивый пакетик», а Маша уже бросила его в мусорное ведро.
– Я руки помою…
Это опять прозвучало вопросом, и оттого, что теперь Маша спрашивала разрешения на каждую мелочь, ему стало не по себе, хотя Аркадий понимал: не он виноват в этом. Или он? Если она влюбилась в другого, значит, он выпустил ее любовь, не удержал, не уберег… Любовь представилась ему глотком воды, которую держат в пригоршне. Пока все пальцы руки тесно прижаты друг к другу, вода не вытечет. В какой момент они слегка отстранились и позволили просочиться первой капле? Он даже не заметил…
Не дожидаясь, пока Маша вернется из ванной, он нарезал хлеба и водрузил курицу на большое блюдо. Она выглядела глуповато, но разве может быть иначе, если тебя обескровили и лишили головы? Ему вспомнилось, что в последний раз они баловали себя такой курицей летом прошлого года, когда делали ремонт в комнате Стаса и готовить ужин ни у кого уже не было сил. Секунду поколебавшись, он напомнил об этом Маше. Когда она неуверенно, как незваная гостья, присела к столу, Аркадий сказал:
– Я собираюсь заняться ремонтом Мишкиной комнаты, пока он в больнице. А то он все обижался. Только ты не проговорись, это будет сюрприз.
У нее вмиг прояснились глаза. Все такие же синие, хотя в последнее время такое сияние озаряло их все реже. Аркадию подумалось, что тоска всегда затягивает взгляд подобием серой дымки.
– Можно я тебе помогу? Ты же не справишься один! – взмолилась Маша.
Ее рука двинулась к нему по столу, потом замерла, подалась назад и снова начала свое беспорядочное движение вперед.
– У меня есть Стас.
Аркадий сам заметил, что это прозвучало утверждением, что в отличие от него у нее Стаса больше нет.
– Стас и ремонт? – Маша дернула плечом. – Две вещи несовместные…
– А ты и ремонт? Из норкового манто в робу?
– Ну и что?
– Ничего, да? – Аркадий с наслаждением рванул куриную ногу, втянув пряный запах. – Держи. Только не вздумай сказать, что притащишь и этого своего… Легкача… Что вы, мол, вдвоем возьмете на себя заботу обо мне. Это уже «Покровские ворота», ей-богу!
Маша охотно рассмеялась, даже чересчур легко. Но куриная нога желтела в ее руке сигнальным флажком, призывающим быть настороже.
«Да я и так не расслабляюсь, – заметил Аркадий про себя. – Как расценивать этот смех? Теперь очередь Матвея быть преданным ею? Склонность к предательству – хроническая болезнь?»
– Я же сказала, что Матвей уехал. А когда вернется… Он найдет, чем себя занять.
Внезапно Маша поняла, что это прозвучало пренебрежительно, и заторопилась затушевать это нечаянное впечатление.
– Если бы вы встретились с ним при других обстоятельствах… Теперь это невозможно, конечно, я понимаю… Но будь все по-другому, знаешь, он понравился бы тебе. Ты ведь любишь увлеченных людей.
– Увлеченных чем?
У него едва не вырвалось: «Тобой?» Но это прозвучало бы вульгарно. Хотя, если он допускал эту вульгарность в мыслях, то какая, в сущности, разница…
Но Маша его мыслей не услышала. Раньше ей это удавалось всегда, и ни одного из них не удивляло, что так происходит. Разве это не естественно для мужа и жены? Они были как два сообщающихся сосуда, их чувства, их мысли перетекали из одного в другой, наполняя обоих. Теперь между ними появилась перемычка.
– Он увлечен жизнью, понимаешь? Ему до всего есть дело. Он мог бы не появляться на телевидении неделями, деньги-то его работают и сами по себе, но ему это интересно! Как готовится передача, как снимается… Освещение, угол съемки, все приемы интервьюирования – ему во все хочется вникнуть.
«Талантливый дилетант», – подумал Аркадий, но не сказал этого вслух. Вовсе не ради того, чтоб она не заподозрила в нем зависти. Просто в горле возникла странная горечь… Не от курицы, она была отменной и действительно свежей. Дело было скорее в том, что в Машиных глазах опять возник тот живой блеск, наводящий на мысль о солнечном небе, который, как ему показалось, ими уже утрачен…
Рванув кусок мякоти, Аркадий ровным тоном заметил:
– Если ты надеешься подружить нас, то это абсолютно безнадежное предприятие.
– Я… – взгляд ее погас. – Нет, я не надеюсь, конечно. Что ты…
– Думаю, он тоже не очень-то к этому стремится. При всей его любвеобильности… Не ставь, пожалуйста, ни его, ни меня в дурацкое положение.
– Да я не…
– Сама подумай, кто пойдет в гости к разбойнику, отнявшему дом? Может, мне еще порадоваться, что он там так удобно устроился, когда я сам остался во дворе?
Маша тихо добавила:
– Но с детьми.
Ее блестящие от куриного жира пальцы теперь скользили по ободку тарелки. Потом нашли кусок хлеба, отщипнули мякоть и принялись лепить из нее шарик. Аркадий вспомнил, что у нее была привычка складывать кораблики из любой бумажки – из конфетного фантика, из автобусного билета… Куда они звали ее, эти кораблики?
Но на его памяти Маша никогда не лепила хлебные шарики. Ему вдруг открылось, что она меняется. У нее появляются новые привычки, возможно, изменялись взгляды, требования к жизни. Может, уже сейчас она и помнить не помнила те кораблики, которые теперь остались в прошлом… Лет через пять Аркадий мог и не узнать в ней ту девочку, которая бежала после института к нему в общежитие и, налетая вихрем, забрасывала обе руки ему на шею. Машины руки и сейчас были тонкими, как тогда, только в те годы ногти были длиннее, ведь ей не приходилось стирать детские вещи.
Он с недоверием уставился на ее пальцы. Сейчас ведь ей тоже не приходилось стирать…
– Ты не наращиваешь? – он кивнул на ее ногти. – Так это называется?
Маша с безразличием их осмотрела:
– А… Неудобно с длинными. Я привыкла так. Маникюр делаю, конечно.
– А как же светские рауты? – ему внезапно захотелось, чтобы она сказала, что не посещает их.
Но бывшая супруга усмехнулась:
– Там все как одна – длинноволосые, длинноногие и с длинными ногтями. Я же не как все.
«Разве?» – едва не вырвалось у него. Перешагнуть через детей, мешающих побыстрее добраться до вершины карьеры и красивой жизни, это как раз становилось нормой.
Кажется, она угадала его мысль, все-таки время еще не совсем развело их по разным дорогам. И отпрянула от Аркадия.
– Я знаю, о чем ты подумал!
– И что? – не смутившись, спросил он.
Ему хотелось хоть как-то отплатить за свою слабость, допустившую, чтобы Маша купила копченой курицей его расположение пускай даже на эти десять минут.
– Зря я пришла.
Аркадий заинтересовался:
– А, кстати, зачем ты пришла? Поесть не с кем было? Богатые не умеют просто есть, им непременно нужно продемонстрировать, что они едят.
В ее глазах опять появился блеск, но уже совсем другой, Аркадий это понял.
– Это всего лишь курица, – сказала она.
– Ну да. Ты же не могла притащить в наш дом омаров или еще что-нибудь из вашей жрачки! Но ты ведь знала, что я и копченую курицу редко могу себе позволить.
– Ты зациклился на своей бедности.
– Зациклился? Это одно из его словечек? – больше всего Аркадия задело сочувствие в ее голосе.
– Стас тоже так говорит.
– Стас еще ребенок, если помнишь. Ты решила помолодеть настолько?
Маша откликнулась, почти не задумавшись:
– Молодости не бывает слишком много.
Еще не договорив, она уже поняла, какая это глупость. И Аркадий, конечно, это понял, но промолчал. Пощадил. Как и в тот день, когда в Машином теле всё дрожало в предчувствии разговора, уже ставшего неизбежным… И все же он казался ей той чертой, за которой ждет только смерть. Разве нет? Ведь той жизни, в которую она вросла за двадцать лет, там не будет. А что будет?
Тогда Маша еще не знала этого. Ее тошнило от страха, и так давило на уши, будто сама атмосфера менялась. Глаза ее детей, неестественная улыбка Аркадия – вот что витало в воздухе. А еще несчастный взгляд Матвея из вероятного будущего, в котором она не решилась бы на тот разговор…
«И что было бы сейчас?» Маша украдкой всматривалась в лицо Аркадия, в новые морщинки у краешков его глаз, которых он, может быть, и не замечал.
В воспоминаниях о юности эти глаза запомнились широко раскрытыми, бездонными, но со временем они как-то уменьшились и стали похожими на неправильные треугольники, в грани которых были заключены живые темно-серые шарики. Ей стало бы куда легче, если бы это лицо вызывало у нее отвращение, но его-то Маша как раз не испытывала. У нее все так же сжималось сердце, когда она смотрела в его печальные глаза, как это происходило и двадцать лет назад. За последние месяцы Маша убедила себя: муж стал ей чужим, и очередная встреча никак ее не взволнует. Но сейчас она отчетливо ощущала, что страдает не только из-за Мишки.
– Скажи, ты не опаздываешь на работу? – тихо спросила она, внезапно почувствовав, что губы у нее измазаны куриным жиром. – Это не дело, что ты мчишься в больницу к восьми утра, чтобы перекладывать Мишку на каталку. Давай я поговорю с врачом? Пускай передвинут кровати, раз у них каталки не проходят между их рядов!
– Они не сделают этого, – Аркадий встал и нашел в столовом ящике салфетки.
Маша благодарно улыбнулась, с некоторым страхом отметив, что он все так же угадывает ее мысли.
– Мишка говорил, других мальчишек медсестры заставляют вставать и самим выходить к каталке. Один даже бегает… Разве сестры не знают, что с переломом позвоночника запрещено вставать? Им плевать на все! Они прикрываются своей мизерной зарплатой, чтобы ничего не делать. Сердце зря не напрягать… Лучше я буду ездить каждый день к восьми утра и возить Мишку на эту лазерную терапию, чем на них надеяться.
– Ты – молодец, – проговорила Маша и поняла, как мало сказано в сравнении с тем, что она чувствовала.
Отведя взгляд, он спросил:
– Ты пробудешь здесь весь месяц?
Ей вдруг захотелось набрать в легкие побольше воздуха, как перед погружением на глубину.
– Я собираюсь остаться на полгода. Пока Мишка будет на домашнем обучении, – она испуганно замолчала, ожидая, что ответит Аркадий.
В его взгляде читалась одна усталость.
– Это было бы хорошо, – наконец сказал он. – А как с работой?
– Я придумаю.
Как бы рассуждая вслух, Аркадий заметил:
– Кто-то должен оставаться с ним днем. Встречать учителей. Если они, конечно, будут приходить…
– Как это – если? Они обязаны!
– Кормить его, наконец… Матвей тоже переедет сюда?
Маша неловко призналась:
– Не знаю. Мы пока еще не разобрались с этим.
– Не думаю, что он будет рад…
– Нам всем нечему радоваться!
Она вдруг поняла, что лжет: эти полгода с сыном, которые выгадала ей болезнь, были радостью. Но Маша, конечно же, отказалась бы от нее, не задумываясь, если б это могло вернуть Мишке здоровый позвоночник.
– Что ты так смотришь? – она начинала нервничать, когда глаза Аркадия становились всепрощающими.
В минуты, подобные этой, Маша чувствовала себя безрассудной, не особенно умной девчонкой, хотя они были с Аркадием почти ровесниками. Однажды стало ясно, что молодость Матвея окрылила ее: хоть он сможет воспринимать ее всерьез. В семье к ней так не относились даже сыновья.
Аркадий опять отвел глаза:
– Чаю хочешь?
– Да. Конечно! Надо запить горячим, а то… – она вдруг осознала, что плачет, но не поняла причины.
Словно на его глазах совершалось нечто непристойное, за чем совестно было подглядывать, Аркадий отвернулся и включил чайник. Не обернувшись, он отчетливо произнес, чтобы отвлечь ее:
– У меня только пакетики. Ребятам с ними проще, чем рассыпной заваривать. Ты не против?
– Нет, – она шмыгнула носом и промокнула лицо салфеткой. – Давай пакетики.
– Если это осложнит… твою жизнь, ты можешь и не задерживаться на полгода. Мы выкрутимся. Мама будет приезжать.
Маша оторопела: «Какая еще мама?! Я – их мама!» Но вовремя сообразила, что Аркадий говорит о своей.
– О чем ты? – пробормотала она. – Я останусь… Не могу отказаться еще и от этого.
Глава 12
– Ты не спишь? Я уже звонил, но тебя еще не было. Я уж думал, без меня ты и заночуешь в этой больнице! Ты – безумная мать.
– Я… – Маша запнулась и наспех решила, что Матвею не нужно знать о ее встрече с Аркадием. – Я навещала свой старый дом. Тот, в котором жила в детстве. Помнишь, я показывала тебе?
Пауза удивила ее.
– Алло! Ты здесь?
– Ничего себе совпадение! – наконец проговорил Матвей совсем тихо. – Не поверишь, но я тоже перед тем, как уехать из города, пытался отыскать твой бывший дом.
– Серьезно? Я не спрашиваю: зачем?
– Я и сам не знаю. Странно, да?
– Ничего странного. Движения душ вообще плохо поддаются объяснению.
– Какая ты умная, – насмешливо заметил он. – Ты – ночная птица-философ.
– Птица бывает только секретарем.
– Она выучилась, поумнела и стала философом. А как выглядит птица-секретарь?
Маша улыбнулась в полумрак:
– Тебе и это интересно? Надо спросить у Мишки. Он перечитал все энциклопедии.
– Я приеду завтра в полдень.
– В полдень? – она встрепенулась, и впрямь напомнив себе птицу. – Но я еще буду в больнице! До часа, ты же знаешь.
– А ты не можешь сбежать пораньше? Ради меня!
У нее дрогнула трубка:
– Что?
– Я шучу, – быстро сказал Матвей. – Я сам заявлюсь туда. Я купил Мишке книжку про оригами и три набора бумаги, пусть мастерит в неприемные часы. Между прочим, я уже соорудил жирафа. Хочешь, привезу?
Ей стало страшновато:
– Ты приедешь к нему?
– А это запрещено? Аркадий издал указ? Я замаскируюсь под врача, на случай, если он нагрянет. Или того хуже появится Свирепый Стас.
– Не говори о них так, прошу тебя.
Он замолчал, обжегшись о ее холодность. Потом заговорил изменившимся тоном:
– Ты сегодня другая. Стоило мне уехать…
– И что? Ничего не произошло. Просто это моя… – Маша едва не сказала: «семья», но вовремя спохватилась и исключила Аркадия: – Мои дети. Я не хочу, чтоб ты над ними смеялся.
– Я не смеюсь. Это они будут ржать до икоты, когда я упакуюсь в белый халат и натяну шапочку до бровей. Включительно.
– Твое лицо невозможно не узнать…
Матвей охотно пошел на мировую:
– Мою шишку вместо носа? Ее ни с чем не спутаешь… Так как насчет жирафа?
– Какого жирафа? – не поняла Маша.
Он обиделся:
– Я же три секунды назад говорил, что сделал жирафа из бумаги! Привезти?
– Вези! – она расхохоталась в трубку. – Пусть живет с нами. Только не знаю, чем его кормить.
Удивив ее непоследовательностью, Матвей вдруг вспомнил:
– Кстати, я перед отъездом подвозил Стаса. Он трясся на остановке, как бездомный щенок, а тут я, как Санта-Клаус, почти что на санях! Даже лучше – на машине! В санях-то небось не очень-то тепло…
– У Санты волшебные сани… Вы хоть разговаривали по дороге?
– Нет, песни пели! Время от времени твой сын пытался меня задушить, но я же скользкий тип, ты знаешь.
Маша наспех опровергла:
– Никакой ты не скользкий, не говори о себе так!
– Ты все время меня учишь! Я не вхожу в число твоих многочисленных детей, ты помнишь?
– Он грубил тебе? Ты не сердись на него.
– Думаешь, я сержусь? Если я на что и сержусь, так это на то, что у меня нет личного самолета, чтобы добраться до тебя за час. И взять тебя сонной, тепленькой, прямо в постели… Придется выехать утром.
– Не торопись. Выспись как следует.
– Не торопись?! Выспись? Ты издеваешься? Не хочешь меня видеть?
– Хочу. Хочу-хочу-хочу.
«Я хочу больше, чем могу получить», – это Маша сказала себе уже после того, как двадцать раз повторила в трубку «целую тебя» и закончила разговор с Матвеем. Вытянувшись на постели, она обвела взглядом гостиничный номер, не совсем такой, как в фильмах, но – люкс: «Этого мне не хватало?» Память, быстро тасуя их между собой, напомнила обстановки тех «командировочных» номеров, где она останавливалась пять, десять лет назад. Они были гораздо хуже. Только тогда Маша этого не понимала. И совсем по этой причине не страдала, уж это бы она точно запомнила.
Но деньги Матвея не были ненужными. Они дали ей главное, чего всегда не хватало: время. Они освободили от приготовления обедов и стирки, от уборки и ожидания автобусов на вечно продуваемых остановках. Теперь Маша могла отдавать ненасытному телевидению весь свой день, не страдая от того, что кто-то по ее вине останется голодным или не получит чистых носков. Только вот освободиться от этой тревоги как раз и не получилось…
Ее мыслям не было дела до расстояния между городами, и они суетливо метались туда-сюда: «У Стаса ведь сломался зонт, как он пойдет под таким дождем?! Осенью Мишку надо было показать стоматологу… Позвонить? Аркадий не вспомнит. А Мишка и не заикнется… Они хоть изредка купают Нюську?»
К ее удивлению, эти заботы стали еще обременительней, оттого что она не могла решить ни одну из тех проблем, которые оставила своей семье. Они висели на ее шее чугунным хомутом, и Маша чувствовала, что однажды рухнет под этим грузом, который никто на нее и не навешивал…
Ей опять вспомнилась странная встреча со старшим сыном в переулке ее детства… Первым позывом было броситься за ним, догнать, прижать к сердцу и выговориться. Рассказать о том, как без них прошли все эти месяцы, каждый день облечь в слова и передать Стасу, чтобы он вошел в то время – без него – и удержал своим притяжением. Можно было опустить некоторые действия: проснулась, выпила кофе, приняла душ, поехала на работу… Кому это интересно?! Она поделилась бы с сыном своей тоской о нем, своем первенце, совсем взрослом, уже почти мужчине.
Ей не терпелось, чтобы Стас стал выше ее и они вместе прошли по родному городу, а их горделивые тени скользили бы по машинам, по лицам, чужим домам, в которых живут не такие счастливые люди, как они… Но это случилось без нее. За эти месяцы сын вымахал, будто тянулся за ней, и стал выше сантиметров на десять. Но Маша уже не могла мечтать не то что прогуляться с ним, но даже приблизиться к своему мальчику.
В переулке он метнулся от нее прочь, пригвоздив Машу взглядом к месту, где она стояла и в котором она не увидела ничего, кроме отвращения. Будто ему встретилась прокаженная, и Стас бежал в ужасе, надеясь спастись. Маша не бросилась следом, почувствовав, как неподдельно в нем то чувство, что погнало его прочь. Да и как она могла оправдаться перед ним, даже если бы догнала? Все его черные мысли о ней, в сущности, были правдой…
Вспомнив, как глупо, непозволительно откровенно расплакалась перед Аркадием, она застонала от стыда, и, путаясь в пододеяльнике, полезла под одеяло. Маше всегда было необходимо чуть ли не с головой укрыться теплым тяжелым пледом, иначе сон не находил ее, словно реагировал только на определенную температуру тела…
Мишке надо спать на спине или на животе, вспомнилось ей, но разве медсестры будут следить за ним ночью, как она просила? В этой больнице Маша столкнулась с бессилием денег перед равнодушием. Тайком от Аркадия она совала купюры, но требовать ничего не могла. От денег никто не отказался, но Мишка не мог вспомнить, чтобы кто-нибудь подходил к нему ночью или хотя бы днем…
Только услышав шаги, Маша поняла, что уснула, и сквозь еще не рассеявшийся сон угадала – это Матвей. Она знала, как он ходит: по бесконечным коридорам телецентра стремительно, здороваясь на лету, а по дому ступает так, будто с каждым шагом уходит в себя все глубже. Эти задумчивые звуки прокрались в ее сон, и когда Маша поняла их значение, тотчас проснулась.
– Матвей?
Рука уже нашла кнопку, и бра слегка осветило все вокруг желтым светом. Сев на постели, Маша, помаргивая, оглядела комнату. Потом, вскочив, заглянула в смежную, проверила ванную… Обрывки народных примет, всегда суливших недоброе, шурша, тянулись за ней, и, хотя Маша понимала, что это шумит в ушах от обычного ночного волнения в одиночестве, ей все же стало страшно.
Схватив трубку, она быстро набрала длинный номер его мобильного: «Только бы… Только бы…» Ей не удавалось даже мысленно закончить фразу. Но Маша знала, о чем молилась, и этого было достаточно.
– Ты! Спишь? Прости! – бессвязно выкрикнула она, когда Матвей отозвался. – Мне просто почудилось что-то… Нехорошее.
Он уже проснулся:
– Что случилось?!
– Ничего. Да ничего, правда. Просто… Мне приснились твои шаги.
– А говоришь: ничего… Я шел к тебе, вот ты и услышала. Честно!
– Во сне шел?
– И постепенно перешел в твой сон. Разве так не бывает?
– Со мной еще не бывало. Может, я потихоньку схожу с ума?
– Ты просто впадаешь в мое сумасшествие.
– У тебя ничего не болит? К чему был этот сон? Ради бога, не гони завтра машину на всей скорости, ладно?
– А может, мне выехать прямо сейчас? Все равно я уже проснулся.
Маша закричала:
– Даже не думай! Еще уснешь за рулем. Помнишь, как это было с Цоем?
– О! – печально отозвался Матвей. – Если я умру, как Цой, считай, уже прожил жизнь не зря.
– Перестань. Ты должен выспаться. Ты слышишь?
– Я даже вижу, как ты подпрыгиваешь на постели.
Она осела:
– Я не подпрыгиваю.
– Это сейчас. Я же все вижу!
– Признайся, это ты ходил по комнате, да? Ты ведь здесь? Прячешься где-то и врешь мне, что находишься за тридевять земель…
Раздался протяжный вздох:
– Угадала… Приготовься, я выхожу.
Маша понимала, что это всего лишь игра, и все же быстро пошарила взглядом по комнате.
– Видишь меня? – спросил Матвей.
– Я всегда вижу тебя.
– Почему же не веришь, что я вижу, как ты подпрыгиваешь?
– Я верю. Я тебе верю.
«О счастье только мечтается, но оно никогда не сбывается». Маша, лежа на кровати без сна и выключив свет, смотрела в темную зыбкую неизвестность, что на самом деле была белым, твердым потолком. Этот разговор мог стать счастьем, если б не мальчишеские тени, которые всегда были рядом, даже если Маша оставалась в одиночестве. В свою очередь, сыновья могли составить счастье всей ее жизни без остатка, если б Матвей не приехал на тот фестиваль…
Она решила, не жалея себя: «С Аркадием – вот было счастье. Никаких горьких теней, ничего тягостного. Жизнь была длиннющей нитью янтарных бус, в которой каждый день как солнечная капля. Но разве я хоть когда-нибудь бредила звуком его шагов?»
Не так давно она услышала песню, название которой переводилось с английского как «Любовь – это катастрофа». И подумала, что это о ней, хотя весь текст перевести не успела. Некогда было вслушаться. Но боль, от которой голос певца подрагивал, осталась в ней и еще несколько дней откликалась: катастрофа… После нее – руины и морщины. Что с ней будет, если Матвей и в самом деле однажды исчезнет, как сулят ей взгляды всех знакомых и малознакомых людей?
Утреннее небо было хмурым. Это значило, что на улице тепло, но радостнее от этого не становилось. Правда, на востоке, куда выходило одно из окон, сливались светлые стрелы. Бирюзовая легко наслаивалась на стальную, а голубая раздваивалась, позволяя проникнуть в свою сердцевину.
«Может, завтра будет ясно? – подумала Маша. – Но изменится ли что-то в ее жизни? Мишка в больнице, Стас ненавидит меня, Аркадий крепится, чтобы не назвать меня ничтожеством… А Матвей вообще пропадает неизвестно где!»
Она прекрасно понимала, что он сейчас дома, в кровати, но тоска, нахлынувшая внезапно, легко меняет восприятие настоящего положения вещей. Тяжелому небу не составит труда раздавить ростки радости в душе, особенно если они так слабы.
«А какие вообще у меня радости в жизни? – Маша попятилась от окна, вздрогнув от острого желания рвануть раму и шагнуть за ее пределы. – Вот же дура! Девять из десяти женщин позавидуют мне. А та одна… Она поежится, посмотрит с состраданием: «Как же ты живешь без своих мальчиков? Как? Как я живу?!»
Забыв о завтраке, Маша выскочила из гостиницы и погнала подвернувшееся такси к больнице. Город бросал ей подробности прошлого: «Помнишь? Помнишь?» Она закрыла глаза.
На высокое крыльцо больницы она взбежала с девчоночьей прытью. Прыгая то на одной, то на другой ноге, переобулась на лестнице и побежала наверх. Знакомые лица врачей, медсестер подавали сигнал: «Надо поздороваться!» Маша бросала приветствия, как монеты для подкупа: «Пропустите! Только пропустите!» Еще не было положенных для посещения больных десяти часов, и кто-нибудь действительно мог задержать ее, бывают такие тупые формалисты. Но ей повезло: это утро оказалось от них свободно.
Она ворвалась в Мишкину палату и остолбенела, увидев Стаса. Маша даже не вспомнила, что каникулы закончились и теперь он мог приходить в больницу только по утрам, потому что учился во вторую смену. Его взгляд исподлобья был острым: «Ну? Что скажешь?»
Выдергивая ноги из мгновенно возникшего страха, Маша подошла к сыновьям и решительно взяла за руки обоих:
– Мальчишки мои… Я так соскучилась. Так соскучилась…
Мишкина ладошка была теплой и мягкой, а Стас, видно, только пришел. Резко отняв руку, он процедил:
– Что это вдруг?
– Не вдруг. Почему – вдруг?
Она услышала свой беспомощный голос и поняла, что навсегда останется для них парией, которой можно отвечать грубостью или не разговаривать вовсе. Если до сих пор Мишка не понял этого, то уж сейчас…
– Садись, мам, – Мишка приподнял голову, отыскивая взглядом стул, и Маша опять засуетилась:
– Лежи, лежи!
«Мне тошно себя слышать!»
Она посмотрела Стасу в глаза, готовая обжечься о злорадство, и содрогнулась. Ей показалось, словно это Аркадий печально и всепрощающе, как умел только он, смотрит на нее.
Она просительно улыбнулась Стасу, чтобы всем добрым чувствам, унаследованным им от отца, стало легче прорваться наружу. Но сын отвернулся. Маша подумала: «Вот это мое. Так отвернулась бы только я…»
Глава 13
Фанерная Снегурочка исступленно билась головой о раму, но этого никто не замечал, ведь она делала это тихо, постукивая мелкой сбивчивой дробью, рожденной ошалелым ветром, пробивающимся даже через стекло окна. Стас следил за плоской девушкой, принципиально не глядя на сцену. Его угнетали такие сборища в актовом зале, когда все обязаны были веселиться по команде и аплодировать, делая радостными лица, потому что за этим строго следили. Когда они изучали историю СССР, ему вспоминалось обязательное для всех веселье на школьных праздниках.
Стасу же было тошно сегодня и не хотелось притворяться даже ради юбилея школы, с которым как раз сейчас ее, то есть самих себя, поздравляли первоклассники. Один за другим, как будто это было заранее подготовлено, они забывали свои слова, ойкали, выпучив глаза, шарили по лицам в зрительном зале, потом лезли в карман за смятыми бумажками, на которых были записаны подсказки. Вот это было по-настоящему смешно, поэтому Стас и не смотрел на сцену, чтобы не выйти из того состояния тяжелой угрюмости, которое, как ему казалось, только и могло помочь в принятии какого-либо решения.
Стас понимал, что слегка запоздал с ним, ведь их семья уже распалась, надо было раньше искать ту волшебную нить, которая могла залатать уродливую прореху. Но тогда он растерялся. «Маленькие мои, я должна вам что-то сказать… Я уезжаю, вы будете жить с папой». Разве это можно понять? Внезапность происходящего парализовала его волю, и все, на что он был способен в те дни, это извиваться от боли, будучи пришпиленным ею как иглой.
Еще и на следующий день, и через неделю Стас никак не мог поверить, что это случилось. Она и вправду уехала. Не в командировку, как это бывало раньше. И не вернется с какой-нибудь ерундой в подарок – шоколадкой, игрушкой, которые почему-то всегда радовали. Только то, как отец отводил глаза, словно это он подвел их, вынуждало Стаса поверить в свершившееся.
Тогда его поразило – почему это Мишка не плачет? У малыша ведь мгновенно краснели глаза, стоило только крикнуть громче обычного или послать его подальше, если пристает со своими играми. А тут он даже ни разу не скуксился, но при этом как-то затих и уже молча возился со своими роботами и гоблинами. Из его комнаты не доносилось ни звука, и Стасу начинало казаться, что малыш только делает вид, будто играет, чтобы к нему не лезли, а сам просто сидит, оцепенев в своем горе, и смотрит в одну точку. В ту самую, в которой можно разглядеть целую жизнь. Но когда Стас подкрадывался, Мишка уже успевал повернуться к дверному проему, спрятав свою тайну за внимательным взглядом.
«Я должен вернуть ее ради него, – думал Стас, упорно не аплодируя первоклассникам, уже убегавшим со сцены, толкая друг друга. – И ради отца. Он тоже не может без нее… А мне она на фиг не нужна! Почему они оба так тоскуют по ней? Она врала им, делала вид, что любит…»
– Ты придешь сегодня на дискотеку? Здесь будет проходить.
Стас едва зубами не скрипнул: какая еще дискотека?! Не обернувшись, потому что отлично знал этот шепот, он ответил с язвительной вежливостью:
– Нет, Нина, я не приду на дискотеку. Разве я не говорил тебе полтора миллиона раз, что у меня отсутствует чувство ритма?
Ее торопливый шепот обжег ему ухо:
– Я узнавала, его можно выработать.
От изумления Стас даже оглянулся. Эта девочка, о которой его мать когда-то сказала, что у нее лицо еще не выросшей Весны Боттичелли, вращалась на его орбите чуть ли не с первого класса. Школьные годы были потрачены Ниной Савельевой не только на то, чтобы выковать золотую медаль по окончании школы, которая была практически готова, но и на то, чтобы укрепить свою младенческую привязанность к Стасу Кольцову до прочности стального каната.
Сам он считал, будто вообще никак не поощряет ее чувства, и обвинить его в том, что он «приручил» ее, невозможно. Все-таки было бы неприятно услышать в свой адрес, якобы он подал девочке надежду, а потом ее обманул. Это значило бы, что он идет тропой своей матери. Стасу было противно даже думать о таком.
«А ведь она красивая, – бесстрастно признал он, рассматривая сияющее свежестью лицо Нины. – Интересно, такой удалось бы соблазнить Матвея? Хорошо бы! Хотя это так избито… Да и подрезанные тормоза его машины – тоже. Я даже понятия не имею, где они находятся… А если начну выяснять, это обязательно всплывет потом. Такие мелочи всегда и портят все дело».
– Это если хочешь выработать, – ответил он Нине насчет чувства ритма и с удовлетворением отметил, что сияние ее глаз несколько померкло.
Отвернувшись, он сразу же о ней забыл. Темная, нетерпеливая жажда поглотить Матвея, заставить его исчезнуть не оставляла Стаса в покое с той самой минуты, как Мишка совершил свой катастрофический прыжок. И продемонстрировал всему миру, как ему нужна эта женщина, которую Стас уже мысленно проклял.
Его ненависть, от которой начинало время от времени шуметь в голове, была обращена к ней, и Матвея касалась лишь косвенно. Беда была в том, что, пока существовал этот Матвей, брат с отцом не могли быть счастливы. А Стас больше не мог видеть, как они тихо тают, пожираемые изнутри болью.
Первоклассников уже сменил седьмой «А», посуливший, что их спектакль погрузит зрителей в пучину средневековья, и тут же зазвучал вальс, написанный веке в девятнадцатом. Усмехнувшись, Стас еще раз подумал о мелочах, которые нарушают целостность картины.
На своем небольшом веку он посмотрел уже сотню фильмов с детективным сюжетом, но ему не подходил сценарий ни одного из них. У Стаса не было ни пистолета с глушителем, ни даже без него, ни яда, ни денег, чтобы нанять киллера. И он сильно сомневался, что решится собственноручно всадить нож Матвею в спину.
И вообще ему не хотелось его убивать. Хотя само по себе убийство не вызывало у него ужаса: «Это же происходит сплошь и рядом!» Но после того, как Матвей подвез его, спасая от обморожения, Стас уже не находил в себе сил желать ему смерти.
«Посадить его? – гадал он, рассеянно всматриваясь во вдохновенно пылающее лицо маленькой Жанны д’Арк, появившейся на сцене. – Но как? Я изнанки его дел не знаю. Наркотики подбросить? А где их взять? На какие шиши? И потом, где гарантия, что мать не вобьет себе в голову, что должна дождаться его из тюрьмы? Наркотики любая простит… Нужно что-то, чтоб ее затошнило от него… Изнасилование! Мальчика. Или малолетней. Вот тогда она очнулась бы! Где только взять эту малолетнюю? Проститутку подговорить, так ей тоже платить надо… – Стас еще раз вгляделся в лицо семиклассницы. – Вот такую бы. Фанатичку. Чтоб на суде у нее глаза горели праведным гневом».
Прыснув, он в первый раз похлопал девочке, с таким недетским достоинством отвечавшей инквизиции. За его спиной тотчас усилились и зачастили аплодисменты. Стас оглянулся. И быстро отвернулся, чтобы Нина не заметила, как у него вспыхнуло лицо.
«Она? Не такая маленькая, конечно, но тоже ведь – несовершеннолетняя. И тоже играет в школьном театре, значит, может изобразить праведный гнев… Нет, это уж слишком! – осадил он себя. – Хотя почему? Сводить ее к Мишке, рассказать все со слезами на глазах, надавить на жалость… Мерзко. Она тоже скажет, что это мерзко».
Стас живо вообразил лицо брата на фоне сероватой больничной простыни – подушка ему не разрешалась. «Нет, увидит Мишку, не скажет. Если я смогу убедить ее, что это ложь во спасение. Слезинка ребенка, и так далее… Достоевского она любит. А как с «Анной Карениной»? Что она там говорила на уроке? Я не слушал ее, как всегда… Еще вообразит, что это будет преступление против любви. Так надо убедить ее, что во имя! Ради меня. Потерплю ее до конца года, если потребуется. А там уж как-нибудь избавлюсь…»
Еще не веря до конца, что решился на это, Стас опять повернул голову, встретил золотистый Нинин взгляд и улыбнулся. У нее дрогнуло лицо. Это была его первая, обращенная к ней улыбка за все десять лет. Нет, он, конечно, смеялся над анекдотами, если она рассказывала. Или иронично кривил губы, когда они цитировали некоторых полуграмотных учителей. Но вот так, без видимой причины, Стас Кольцов ей еще не улыбался.
Ему показалось, что его лопатки улавливают пульсацию ее сердца: так у Нины оно заколотилось от волнения. Стас, конечно, не слышал его, хотя ей самой казалось, будто оно грохочет на весь зал. Но в маленьком пространстве между ними возникло нечто новое, заволновалось, ожило, толкая в спину, и Стасу уже требовалось усилие, чтобы не оглянуться вновь. Он задумался о дискотеке, но его отвращение к танцам не могло пересилить даже маниакальное желание осчастливить отца с Мишкой.
«Лучше погулять… В мороз-то? Пойти в кафе? Попросить у отца денег: «Пап, я тут решил упечь Матвея в тюрьму. Проспонсируешь?» Может, позвать ее к нам? Или заявиться к ней? И чем заниматься? Нельзя ведь сразу все ей выложить. Нужно… приручить ее», – его так и перекосило от того, что он все же решился на то, в чем до сих пор считал себя чистым.
Наверное, Нина воображает его совсем не таким, каким он знает себя, все принимая и ничему не ужасаясь. Она потратила на его портрет десять лет, прорисовывая те черточки, которых на самом деле и не было. Но ей так хотелось, чтоб они были… Стасу представилось, как Нина стирает с его лица неверные мазки, подобно тому, как женщины дышат на зеркало, протирая его тряпкой. И внезапно ему стало жаль этого чистого лика, который он собирался осквернить…
Одиннадцатые классы тоже выступили, поздравив школу с юбилеем, и Нина, вся светясь от ожидания радости еще большей, чем уже случилась, преподнесла директору что-то упакованное в блестящую бумагу.
«А что купили-то?» Стас лишь сейчас сообразил, что выпал из школьных дел и даже не знает, на каком подарке в итоге остановился выбор, хотя сдал на него деньги. Собирали понемногу, но Стас испытал неловкость, обращаясь к отцу даже за такой малостью. Ведь еще нужно было платить за подготовительные курсы, если он действительно собирался поступать на архитектурно-строительный, как говорил об этом последние два года. И выпускной впереди… А времени заработать самому не хватало, особенно теперь, когда нужно было бегать к Мишке в больницу. Не то чтобы нужно… Хотелось. Стас сам удивился, как затосковал по брату, которого столько раз выставлял из своей комнаты, когда тот был дома.
Он ухватился за Мишку, как за соломинку. Слегка надтреснутую («Нет, компрессия – это сжатие!»), но все еще способную удержать на плаву в такую минуту, как эта: когда Нина осталась рядом, хотя все понеслись в гардероб. Тогда Стас и сказал, глянув на часы:
– Черт! Уже опоздал…
Она немедленно откликнулась, обратив к нему свое сияние:
– Куда?
– Брат в больнице, – ответил он как бы нехотя. – Позвоночник сломал.
– Мишка? – ужаснулась Нина. – Да он же…
– Да-да-да! Спокойный, разумный мальчик. Он просто голову дома забыл в тот день. А ты разве не слышала? Это перед самым Новым годом было. Здесь, в школе.
И, еще не договорив, вспомнил, что Нины не было в тот день, она свалилась то ли с ангиной, то ли с гриппом.
– Тебе не рассказывали? Тогда вся школа сбежалась, врачи со «Скорой» еле к нему протолкнулись.
– Ко мне никто и не приходил, – спокойно пояснила Нина и улыбнулась, чтоб он не подумал, будто ей обидно. – Я ведь живу почти у моста, кто туда пойдет в такой морозище? У нас там и связь телефонная почти не ловит…
Решив, что она уклоняется от темы «Слезинка ребенка», Стас опять посмотрел на часы, наспех усомнившись, что играет достоверно.
– Ладно, с утра схожу…
Но Нина попалась на крючок быстрее, чем можно было ожидать. Вернее, он ожидал именно этого, но сейчас как-то обмяк от разочарования.
– Можно со мной, – безразлично отозвался он, опасаясь спугнуть ее неоправданной расположенностью, которой никогда не проявлял.
И это опять сработало.
Он выскочил из дома в восемь утра, чтобы все успеть до положенных десяти, когда разрешали посещения больных. Отцу Стас не очень убедительно («Библиотеки-то еще закрыты!») соврал про доклад, на который нужно уйму времени, и тот поверил. Как верил всегда и всем.
Сменив два автобуса, Стас добрался до той гостиницы, где уже побывал, только на этот раз поднялся на пятый этаж. «Номер люкс! Пожалуйте!» – его разбирал смех и душила злоба. Одновременно справляться и с тем, и с другим было не так-то просто. Но к тому моменту, как открылась дверь номера, он успел натянуть на лицо индейскую маску. И вспомнил, что Мишка уже не играет в индейцев…
Матвей с ходу бросил, даже не попытавшись прикинуться неудивленным:
– Привет! Проходи.
– Не разбудил? – вежливо поинтересовался Стас. А внутри уже вскипело ликование: «Не разбудил! Они одеты, значит, все убрано… Значит…»
Проглотив ставшее привычным «она», Стас поинтересовался:
– А мама? Еще здесь?
– Маша! – крикнул Матвей вместо ответа. – Иди сюда. Утренний птиц прилетел.
«Хоть не сказал «незваный гость», – отметил Стас и попытался улыбнуться матери.
Она выскочила из смежной комнаты, на ходу поправляя тонкий свитер, просияла и сама испугалась этого, вспомнив, что вчера в больнице эта радость дорого ей обошлась. Стасу стало весело: «Она боится меня!» Но по дороге сюда он вспомнил, каким строптивым в прежние времена был ее характер, и заговорил достаточно мягко, чтобы ей не захотелось протестовать.
– Я хотел тебя попросить… Ты можешь сегодня прийти к Мишке после одиннадцати?
– Конечно, – не задумавшись согласилась Маша, потом опомнилась: – А почему?
Стас вдруг и вправду покраснел и обрадовался, почувствовав это, потому что сыграть так он бы не смог:
– Я… Я приду к нему с одной девчонкой. Если ты будешь там… В общем, она ничего не знает. Что ты уехала, и вообще. Мы же не сможем вести себя так, будто ничего не случилось!
Поочередно поглядев на обоих, Матвей сокрушенно подтвердил:
– Не сможете.
– Ну вот. Лучше нам не встречаться там… До одиннадцати я ее уведу. Тебе хватит времени до часа.
По глазам матери он понял, что времени ей не хватит, сколько бы его ни было, но она улыбнулась:
– Я ее знаю?
– Какая разница? – холодно проронил Стас. В этой сцене тоже важно было не переиграть, эти двое – не дураки.
На миг опустив голову, Маша согласилась:
– Ладно, я приду в одиннадцать. Если увижу вас на лестнице… или на улице… Я сверну куда-нибудь, ты не беспокойся.
Уже усевшийся в большое синее кресло Матвей радостно воскликнул:
– Авантюрное кино! Я просто вне себя от восторга!
Обернувшись, Стас посмотрел в точку, где сходились его широко расставленные ноги, и мысленно ответил: «Что вы! Кино еще только начинается».
Ему опять вспомнился Мишка, совсем маленький, четырехлетний, еще не умеющий читать. Он любил тогда сказку про Муху-Цокотуху, потому что в ней были меч и храбрость, сражение и любовь, – настоящая рыцарская легенда из жизни насекомых. Мишка помнил всю историю наизусть и по вечерам принимался рассказывать ее вслух, радостно улыбаясь живым картинкам своего воображения. Когда дело доходило до истязания мухи пауком, Мишка останавливался, делал «страшные» глаза и завороженно произносил:
– Ой, сейчас такой узас будет!
«Будет вам ужас, – мрачно подумал Стас. – Неужели она не помнит того Мишку? Она ведь и от него тоже ушла. А этот теперешний Мишка… Такой классный пацан! Как она могла…»
Он церемонно спросил:
– Я могу воспользоваться вашей уборной?
– Ну что ты спрашиваешь! – улыбка у матери вышла болезненной, будто она лишь сейчас поняла, что в этих интимных делах больше не «своя» для сына.
Он язвительно спросил на ходу:
– Унитаз не с программным управлением? А то еще зависнет от ввода незнакомого продукта!
Матвей расхохотался ему вслед. У Стаса тягуче заныло сердце: «Неужели я уже делаю это с ним? Мишка. Только ради Мишки».
Запершись в ванной, он извлек из кармана джинсов (в куртку не стал прятать на случай, если уговорят раздеться) прозрачную перчатку и пакетик. Прислушавшись к голосам в комнате, Стас натянул перчатку на руку, потом набрал воздуха, чтобы подольше не дышать, и, открыв ведерко возле унитаза, переворошил бумажки. Он нашел то, что надеялся найти.
Встряхнув пакетик, приготовленный заранее, Стас опустил в него обнаруженный презерватив: «Не вылилась бы… Хотя все равно для анализа сгодится. Его отпечатки тут точно есть. Все же лучше, чем ничего. Сперма-то уж наверняка его».
Презерватива могло и не оказаться. Не в эту ночь. Или они могли пользоваться другими средствами, Стас же не знал наверняка. Ему просто повезло. Спрятав свою находку в карман куртки, он подумал, что сперму лучше хранить в холоде, хотя и в этом тоже не был уверен. В другой пакетик он положил использованную перчатку, побоявшись оставить ее здесь: «Никаких улик!» Переведя дух, он спустил воду и вышел.
В тот самый момент Матвей крикнул его матери:
– Слушай! Название – «Скоморошка-холдинг»! Просто класс. На здоровую голову не придумаешь!
«Он всегда находит над чем повеселиться», – отметил Стас и ощутил болезненное сожаление о том, что придется прервать это веселье. Но иначе не получалось.
Глава 14
Теперь у Мишки появилась новая забота: рассказывать мальчишкам о Нине Савельевой, которую он и сам-то еле знал. Так, видел в школе… Ее трудно уж совсем не заметить.
То, что она пришла к нему вместе с братом, поразило Мишку. От смущения он вел себя как дурак и мысленно клялся отомстить Стасу. Так опозорить его! Продемонстрировать первой красавице школы, как он лежит бревно бревном, а под кроватью – «утка» и пластиковая бутылка. Может, Нина, конечно, и не догадалась, для чего она…
Мишка изнемогал от бессильной жажды мести еще долго после их ухода, а самый маленький пациент в палате, семилетний Степа, в это время писал Нине письмо, почти целиком состоящее из повторяющегося слова «люблю» и восклицательных знаков. Он разрешил Мишке прочесть его, чтобы тот с высоты своего возраста смог оценить и, конечно же, передать потом девушке через Стаса. На случай, на тот несчастный случай, если Нина не придет больше… Какую роль играл при ней Стас, интересовало их меньше всего.
Сам Мишка мог сейчас всерьез думать лишь о том, как бы поскорее вернуться домой. Хотя было уже не так невыносимо, как в первый день, когда от него отвернулся весь мир, отторг его, заключил в эту ободранную палату, где всегда был спертый воздух. Постепенно Мишка привык и к этому запаху, и к пошлым, несмешным анекдотам, над которыми все почему-то хохотали, и к ночным «мужским» разговорам, из которых он узнал много неожиданного. Не во все поверил, чересчур уж это было отвратительно. Разве можно было представить, что его мама с этим Матвеем… Фу! Мальчика даже передергивало от омерзения.
Ведь именно теперь Мишка понял, как любит свою маму… Стоило только подумать о том, что вскоре она опять уедет, как все его тело окатывало холодом. Еще не сейчас. Обещала: через полгода. Но ведь это не так уж и много…
Мишка понял, что ничего не умеет скрывать, когда Стас, наклонившись, спросил перед уходом:
– Мамочку не можешь дождаться? Только на дверь и смотришь!
В этот момент Нина уже вышла из палаты, а он задержался под предлогом попрощаться. Хотя чего было стесняться, они же не целовались, расставаясь… Когда брат спросил о матери, Мишка растерялся, от него Стас не скрывал, что больше не считает ее… Никем вообще. Мишка виновато улыбнулся и перевел взгляд на потолок, ожидая обычных упреков в бесхребетности (теперь это звучало издевкой!) и мягкотелости.
Но Стас почему-то лишь усмехнулся. И произнес загадочно, как золотая рыбка:
– Будет тебе мамочка.
И она действительно пришла, он прождал совсем немного. Стремительно, как всегда, приблизилась к кровати, сжала теплыми (в машине ехала!) ладонями его щеки, несколько раз быстро поцеловала:
– Привет, солнышко! Как ты?
«Уже хорошо, – блаженно улыбаясь, ответил он про себя. – Уже совсем хорошо…»
– Ты придешь в следующий вторник к девяти? – спросил Мишка с беспокойством. – Прямо к девяти, попроси их, чтобы пропустили! Я посчитал, и, согласно положенному времени, мне в этот день разрешат встать.
Она вскрикнула от радости:
– Правда? Я уточню у врача. Ваш Дмитрий Петрович все еще на больничном?
– Ты напомни этому, который его заменяет… Он вечно всех нас путает! Ты скажи ему, что я точно посчитал. Знаешь, мальчишки говорят, тут один «позвоночный» встал, а ходить не может. Представляешь? Ноги разучились.
Она потрогала его голую икру:
– Ты сможешь. Ты ведь все упражнения делаешь! Мы будем учиться потихоньку, я тебя подержу для начала.
– Тапки надо! – спохватился мальчик. – Я же здесь без тапок!
Ее взгляд ускользнул.
– Это ты папе скажи.
Мишка все вспомнил.
– Ну да…
– Или хочешь, я тебе новые куплю? Какого цвета предпочитаешь?
– Не знаю. Да зачем мне новые? У меня еще те ничего, я же дома босиком хожу. Только из ванной до комнаты дойти… А ты правда останешься еще на полгода? А как я буду уроки делать, если сидеть нельзя будет?
– Лежа, – удивилась она. – Мы же сейчас играем в «слова» и кроссворды отгадываем. Так же, положив тетрадь на живот, и будешь писать.
Мишку скривило:
– У меня и так почерк кривой… А если лежа писать, вообще ни один учитель не прочитает.
– Прочитают! Я им объясню, в каких условиях тебе приходится работать над выполнением заданий. Неужели не поймут?
– Думаешь, их волнует, как я пишу? – с сомнением заметил Мишка. – Им ведь только чтоб красиво было!
– Да перестань! Что ж они, совсем звери?
– Ты, мам, давно в школе не училась…
Ему самому уже надоело говорить об этом, и, немного поколебавшись, он рассказал ей, что Стас приходил к нему с девочкой из их школы.
– Красивая? – она опять, едва прикасаясь, провела пальцами по его щеке. Она часто так делала.
– Ничего, – небрежно отозвался Мишка. – Золотистая. Вроде бы даже не дура.
Мама рассмеялась:
– Разве Стас бы выбрал дуру?
– Ой, можно подумать, он очень умный! – Мишку всегда задевало, что Стас, не задумываясь, решает задачи, над которыми он бьется целыми вечерами.
– Наш Стас действительно умный, – строго сказала она и задумалась так глубоко, что мальчику показалось: она опять о нем забыла.
Сидевшее на оконной раме солнце сделало ее волосы похожими на рыжеватые цветочные усики. Мишка подумал, что, если приблизить к ним лицо, можно уловить живой аромат, такой же тонкий и загадочный, но вместе с тем и естественный, как у цветов. Только Мишка был уже слишком взрослым, чтобы жаться к матери на глазах у мальчишек. Вот если она не обманет, останется после его выписки, и они опять будут дома вдвоем, как часто случалось раньше…
Мишка вздохнул:
– Классно я провел каникулы! Пацаны говорят, что мы будем весь год болеть, раз встретили его в больнице. Примета такая.
Говоря это, он ожидал, что его тут же разубедят, и она действительно горячо возразила:
– Глупости какие! Прошлый год мы встречали…
И не договорила.
«Дома. Все вместе», – закончил Мишка за нее. От этих слов у него так заныло в груди, будто он только что бежал к пушистой елке в разноцветных шарах, пускающих звездные искры, и уже видел подарки, заманчиво мерцающие упаковками, как вдруг понял, что все это – декорация, муляж… Нет никакой радости.
Он изо всех сил стиснул углы пододеяльника, потому что ему захотелось крикнуть на всю палату: «Почему ты ушла от нас?!» И ударить эту смуглую руку, опять потянувшуюся к его щеке. И, может, если б они были одни, Мишка не смог бы удержаться… А сейчас он только дернул головой, увернувшись от ее прикосновения, и острее, чем за все эти три недели, ощутил свою беспомощность: она все равно сможет погладить его, если захочет. Ему ведь ни вскочить, ни убежать…
– Еще несколько лет, и у вас будет своя жизнь, – проговорила она с беспомощным видом, не сразу убрав зависшую в воздухе руку.
Мишку это не тронуло.
– Ну и что?
– Вы бы ушли. Уехали. А я осталась бы с вашим папой. Но я… не люблю его больше, понимаешь?
Маша сама услышала, как неубедительны эти слова о любви и нелюбви, как ничтожны они в сравнении с горем ребенка, лишившегося мира, в котором был счастлив. Он разбился, этот мир, разлетелся на сотню бесполезных осколков… Ей хотелось вскрикнуть: «Что я наделала?!» Но этим сожалением, высказанным вслух, она предала бы Матвея. И это тоже было неправильно. Невозможно. Все было неправильно.
Убежать бы от этих несчастных глаз ребенка, так страдающего из-за нее… Она сломала ему не только позвоночник. Разве от этого чувства вины можно сбежать до того, как разорвется сердце? Разве эти глаза отпустят?
– Не плачь, – испуганно зашептал Мишка, скосив глаза на соседа с загипсованной до плеча рукой.
Бесшумно втянув воздух, она загнала слезы назад.
– Все-все…
– Раз ты не можешь жить с нами… Ладно…
– Не с вами! – Маша припала к сыну, опять забыв о мальчишке на соседней койке. – Я без Матвея не могу. И без вас не могу! Поедем со мной, солнышко мое! Ну, пожалуйста! И будем вместе. Всегда-всегда!
Мишка отстранился и посмотрел ей в глаза:
– А папа?
– Да. Папа. А я?
– У тебя же есть Матвей, – теперь взгляд у него стал жестким, как у мужчины, не желающего ломать себя из-за женщины.
Она покорно кивнула:
– Да… Но, Мишка…
– Ты ведь уже уехала.
В этих словах, как под присягой, не было ничего, кроме правды, но Маше они показались безжалостными.
Ей вдруг пришло в голову, что сегодня Мишка так холоден с ней из-за девочки, которую привел Стас, продемонстрировав, что заполнил брешь, оставленную матерью. И у Мишки теперь оставался один отец, который слишком занят и слишком несчастен, чтобы вернуть в его жизнь солнце…
– С папой остался бы Стас, – Маша попробовала шагнуть чуть-чуть назад.
И следом ужаснулась тому, что, оказывается, способна сделать этот невозможный выбор между двумя сыновьями. Да что там… Она им обоим предпочла другого мальчика, сумевшего разведать тропинку в мир, свободный от кухни и стирки. Может, она и рванулась за ним только из лени. И еще, чтобы убежать от шепота, становившегося все различимей: «Ты стареешь… стареешь…»
Сын посмотрел на нее с упреком, который Маша сразу поняла: «Ты хочешь отобрать у меня еще и брата?» Ей показалось, будто он думает: нет никакой уверенности, что при таком обмене ему достанется мать. Ведь Матвей оставался при любом раскладе, а она уже сделала выбор…
Они обменялись взглядами, и Мишка отвел глаза. У нее покраснели веки и кончик носа, как у клоуна. Если кто-нибудь зайдет, сразу увидит, что она плакала. Было неловко, ведь это он довел ее до слез, но под этой неловкостью ощутимо зашевелилась постыдная радость: наконец-то и она плачет! Не могла же она не понимать, что они плакали, когда остались без нее…
Размягченный ее слезами, Мишка спросил:
– Ты можешь купить мне подарок взаймы?
Она несколько раз шмыгнула:
– Как это взаймы?
– Для Стаса. Я накопил ему на подарок на день рождения, но деньги остались дома. И потом, как я смогу купить? Я еще здесь буду. А я тебе верну потом! Купишь?
Она согласно улыбнулась:
– Конечно. А что он хочет, не знаешь?
– Стас в жизни не скажет, что хочет! Может, он ничего не хочет? Но что-то ведь надо подарить.
– Я посмотрю, – пообещала Маша. – Выберу что-нибудь. Книгу? Или перчатки? Он ходит в старых, они уже ни на что не похожи.
Мишка с подозрением уточнил:
– А это не слишком дорого? Вдруг у меня не хватит…
– Конечно, хватит.
– Ну, тогда ладно.
– Он собирается отмечать день рождения?
В голосе мальчика послышалось страдание:
– Он сказал, что пойдет с этой девчонкой в «Фаст-фуд». Я уже выпишусь, но меня он все равно с собой не возьмет.
Маша догадалась:
– А хочешь, я куплю тебе пиццу?
– Она ведь дорогая, – у него ожили глаза.
– Это ты – мой дорогой. Хочешь, я прямо сейчас сбегаю? И тебе не придется есть то, что принесут на обед.
– А ты успеешь?
Мишке не верилось, что буквально пару минут назад ему хотелось ударить ее по руке и довести до слез. Зачем все это, если мама так хорошо все понимает? Всегда понимала…
И когда она встала со словами: «Сейчас, я мигом!», Мишка едва удержался, чтоб не вцепиться в ее руку.
Глава 15
Теперь уже у Стаса, кажется, впервые в жизни, сердце колотилось так, что Нина не могла не ощутить его толчки. Ведь они прижимались друг к другу теснее некуда, и между ними не было ни клочка одежды, способного создать хотя бы малейшее препятствие.
Его изумленный взгляд обжегся о кровь, вытекшую на простынку из раны, которую нанесла Нине та оглушающая, ослепляющая страсть, которой Стас в себе до этого момента и не подозревал. Как это случилось? Вырвалось – откуда? Значит, все это время он хранил в себе некий тайник эмоций и даже не догадывался об этом…
– Я этого так ждала, – прошептала девочка и совершенно женским, не раз виденным им в кино жестом прижала его голову к своей груди.
Почти не дыша, Стас прислушивался к тому, как все его тело заполняется смесью благодарности и стыда. Он ведь знал, что причинил ей боль, успел заметить на ее лице гримасу почти детской обиды: «За что?!» Так морщился, кривя губы, Мишка, когда старший брат, толкая в спину, выпроваживал его из комнаты. И то, что в этот момент Нина в сознании Стаса слилась по родству чувств с братом и растворилась в той любви, которая была направлена на Мишку, внезапно сделало ее родной, необходимой настолько, что нужно было цепляться за нее обеими руками. А о боли она забыла сразу же, хотя и пяти минут не прошло…
Однако стыд был связан с другим. Этой девочке удавалось держаться так (природа подсказывала?), что все, чего Стас боялся и по чему так томился, само собой сложилось естественно и хорошо. Каждую секунду он чувствовал, что поступает правильно и происходящее никому не во вред. Но где-то позади, на расстоянии, все же маячила еле различимая мысль о грехе и обмане, которых он не хотел знать. И Нина помогала ему: эти опасения мельчали и мельчали, точно крошились от ее мягких прикосновений.
Он только спросил, опасаясь вполне предсказуемых последствий:
– А если ты…
В ее улыбке проступило что-то взрослое, недоступное Стасу:
– Тебе ни за что не придется отвечать. Я ведь сама хотела этого… Но я думаю, что сегодня – не опасно.
И эта мнимая безопасность, ощущение безнаказанности окрылили его. Теперь Стас чувствовал, что впереди его ждет лишь хорошее, и беспокоиться, а значит, лишать себя уверенности в обратном, так нужной сейчас, не о чем. Он, конечно, слышал о парнях, которые попадались на эту удочку безмятежного удовольствия, а потом оказывались в ЗАГСе или в тюрьме, но Стас знал Нину не первый день, даже не первый год, и не помнил за ней ни одной подлости, каких уже целый воз был за плечами других отличниц.
Теперь ему было не совсем понятно, чему он сопротивлялся столько лет, если эта нежность, эти мягкость и тепло всегда были в Нине и могли войти в его жизнь гораздо раньше. И вместе с тем что-то подсказывало Стасу: если б он поторопился, шагнул ей навстречу до того, как все в нем до боли оголилось от желания вернуться в мир счастливых людей, то сейчас не испытал бы такого состояния переполненности тем радостным и живым, что, наверное, и называется любовью.
Впервые за последние месяцы Стас не обнаруживал в душе той озлобленности, что уже стала привычной и которую он стал считать главной в своем характере. Только вот стыд никуда не ушел… Крошечным осколком он блуждал по венам, то и дело напоминая о себе острой болью. Как ни старался, Стас не мог забыть того плана, который заставил его привести Нину в свою комнату, где поджидало то, о чем боязно было и думать всерьез.
Разве он мог представить, что в этой девушке – ее душевности, в ее теле, можно обрести все то, ради чего он уже готов был отказаться от всех планов на свете? Больше всего Стасу хотелось добежать до холодильника и выбросить к чертям то, что он, полагаясь на рассеянность отца, замаскировал, положив в баночку и обернув газетой. То самое, украденное у Матвея.
И он уже совсем было собрался это сделать, когда раздался звонок в дверь. Они подскочили и уставились друг на друга круглыми кошачьими глазами, хотя оба уже успели одеться, и пугаться-то было нечего. Громко, неудачно сглотнув, отчего заболело в горле, Стас просипел:
– Посиди здесь…
Пятнадцать шагов – пятнадцать секунд на аутотренинг: «Я спокоен. Я абсолютно спокоен. Ничего не произошло».
Дверь и рот Стас открыл одновременно. Матвей широко улыбнулся, сразу же заметив его замешательство:
– Не ждали? Картина Репина.
Это была несмешная шутка времен его школьной юности, Стас не мог ее знать. Матвей был без шапки, в одной флисовой куртке, ясно, что только из машины. Еще никогда он не казался Стасу таким красивым…
– Ты сегодня записался в прогульщики?
Стас быстро взглянул на часы в коридоре: шел уже второй урок их смены в школе. Интересно, как они смогут объяснить учителям свое отсутствие на занятиях? Забежали после больницы погреться и вдруг всей кожей ощутили то, что называется «наедине». И тут же возникло притяжение, от которого заволновалась во всем теле кровь. И руки сами потянулись к ней, он не планировал этого заранее, в то время как навстречу ему уже тянулись еще чужие, но уже необходимые. Сейчас, в эту секунду, или навсегда? Об этом Стас пока не задумывался.
Да если б и успел подумать, разве существует ответ, который безоговорочно можно признать верным? Силу желания, помноженную на время, называют любовь только в том случае, если второй из множителей исчисляется годами. Но в тот, первый момент как определить? Ведь время еще равно нулю…
– У нас в школе бомбу ищут, – соврал Стас наспех, хотя и не был обязан оправдываться перед Матвеем. Да тот и спрашивал не всерьез.
– Новая народная игра: найди бомбу? Слышал, слышал… Ты меня впустишь или как?
Подавив желание спросить: «А что вам здесь надо?», Стас нехотя отступил:
– Проходите.
– Вот спасибо! – насмешливо отозвался Матвей и с порога задергал крупным носом: – Ты не один?
«Как это он унюхал? Чем пахнет?» – испугался Стас.
И небрежно, как ему показалось, заметил:
– Да мы тут целой толпой ко мне зашли. Не все еще разбежались.
Рот Матвея смешливо искривился, но Стас сделал вид, что не заметил этого. Иначе нужно было как-то отреагировать, запретить ему эту усмешку, а сейчас Стас не находил в себе ничего жесткого, хлесткого.
До него внезапно дошла комичность ситуации: он еще только собирался подстроить Матвею ловушку, а тот уже явился сам. И если сейчас Нина выйдет к ним, не усидит в одиночестве…
«Она же такая красивая! – Стаса почему-то бросило в жар, и пришлось отступить, чтобы Матвей не ощутил его. – А если он и вправду… Да я не пущу ее к нему!»
– Что вы хотели? – резко спросил он.
Едва наметившееся соперничество разом оживило способность к драке. Стас уже переминался с ноги на ногу, с трудом сдерживая желание вытолкать гостя за дверь. Кто знает, может, подпитываемый злостью, он с ним и справился бы…
– Маша… Твоя мама сказала, что в Мишкиной комнате нужно сделать ремонт, – заговорил Матвей уже другим, деловым тоном. – Я забежал прикинуть, во сколько это обойдется. Что-то подсказало мне, что я застану тебя дома… Судьба?
Стас зло прищурился:
– Я не понял, а вам-то какое дело до того, во сколько нам обойдется ремонт?
– Я могу найти хорошую бригаду, они сделают все за пару дней.
В голове жарко зашумело: «Ах ты сволочь! Да как ты смеешь?» Та мимолетная симпатия к Матвею и слабенькая жалость, которая заставляла Стаса сомневаться в выполнимости его плана, мгновенно расплавились в этой горячей ненависти. Если б Нина так неожиданно не перестала быть для него чужим человеком, он, пожалуй, смог бы довести дело до конца.
– Мы с отцом сами в состоянии сделать ремонт, – в своем голосе он услышал скрежет, который вряд ли мог напугать Матвея. Скорее, насмешить.
– Когда? Аркадий же работает целыми днями. Вы перестанете ходить в больницу?
– У нас еще вечера есть!
– О да! А ты держишь в памяти, что Мишку скоро выписывают? Вы просто-напросто не успеете.
– Я могу помочь!
Прыжком обернувшись на голос Нины, Стас едва не закричал: «Уйди! Спрячься! Он не должен тебя видеть. Такую…»
Какую? Что-то изменилось в ней, это было заметно даже в полутемном коридоре. Какое-то загадочное сияние в Нине было всегда, но сейчас она вся просто светилась, излучая свое счастье и охотно делясь им с окружающими, так же, как своей красотой, и юностью, и любовью к этому миру, создавшему Стаса…
Он уже приготовился услышать от Матвея что-нибудь язвительное насчет бомбы и остатков компании, но тот почему-то промолчал.
– Здравствуйте, – сказала Нина, которая, конечно, понятия не имела, кто этот мужчина.
– Я не вовремя, – удивив, растерянно произнес Матвей и отступил к двери.
– Мне вообще-то пора, – она вопросительно взглянула на Стаса.
Наверное, следовало удержать ее, придумать невинный предлог, но ему вдруг захотелось остаться одному. При ней не удастся погрузиться в те, едва отошедшие в прошлое полчаса, когда он узнал так много, что, похоже, потребуются годы, чтобы вспомнить и прочувствовать заново все детали. Насладиться памятью о них, которая умеет так ярко обострять уже пережитую радость, хотя это кажется невозможным.
– Ладно, – вяло согласился Стас. – Давай.
Его слегка разозлило, что Нина выбрала для прощания этот момент, когда Матвей здесь и нет возможности даже поцеловать ее. Она быстро натянула меховые ботинки и накинула куртку, даже шапку не надела, и уже шагнула к двери, точно бежала и боялась, что ее остановят. Стас шагнул следом. Но что ей можно было сказать при этом человеке, не просто чужом, а враждебном всему, что раньше и сейчас составляло мир этого дома?
– Пока?
Рыжеватые волосы рассыпались по светлой куртке и лучились теплом. «Волосы не могут быть теплыми». Стас пошевелил пальцами:
– Ну, пока!
Он не ожидал, что и Матвей выйдет за ней следом, ведь их разговор насчет ремонта был едва начат. Зачем же он тогда приходил? Или уже отступился от своего предложения? Он тоже способен менять планы на ходу?
Растерянно скользнув взглядом по светлому огню ее волос, уже улетающему вниз по подъездной лестнице, Стас запер дверь и осел прямо в коридоре. Сполз по стенке и застыл на корточках. «Ушла, как будто ничего и не было. «Пока!» Что это значит? Но я ведь… Я ведь первый у нее…» – в его перегруженной всякой всячиной памяти промелькнуло что-то неприятное, подзабытый слух об операциях, восстанавливающих девственность. А вдруг?
«Да нет! – Стас поднялся, опять пробороздив лопатками по стене. – Зачем ей это? Да и денег у них в семье вечно не хватает. Телефон и тот не могут купить. Да и у родителей разве попросишь на такое?»
Не подозревая, что пробирается извечным мужским путем подозрений и оправданий, Стас промучился так до прихода отца. Он то падал на тот самый диван, казавшийся еще теплым, то порывался бежать за Ниной следом, не сомневаясь, что найдет, чтобы схватить ее за плечи, притиснуть к стене, пачкая известкой куртку, и криком, угрозами вырвать из нее признание. В чем? Не важно… Почему она вдруг ушла? Как она могла уйти?!
Он уже не помнил, как сам хотел этого, и не задумывался над тем, что, может быть, Нине тоже хотелось поскорей уединиться с тем драгоценным, долгожданным, обретенным так неожиданно чувством, которое страшно было потерять. Испортить одной минутой, оказавшейся лишней… Уже начиная одеваться, Стас приходил в себя, обескураженно смотрел в зеркало шкафа: «Что это со мной творится?» Он медленно стягивал одежду, пытаясь отделаться от ощущения, будто попал не в свою жизнь, ведь с ним никогда ничего похожего не происходило…
Лишь когда вернулся отец, Стас вспомнил, что собирался упиться этим временем одиночества, выжимая толику наслаждения из каждого оставшегося в памяти движения Нины, вздоха, бормотания… Он упустил все это, а теперь уже надо было думать о другом: говорить или нет отцу о непонятном визите Матвея. Он решил, что лучше не стоит, не то отец заведет с телевизионщиком об этом разговор, а тот еще сболтнет о Нине, и начнется следствие.
«Хотя что, я не могу привести домой девчонку? – Стас спорил с собой так яростно, будто его уже обвиняли бог знает в чем. – Это же еще не значит, что мы с ней… Ну да, школу мы прогуляли. А ты сам никогда не прогуливал?»
– Что это ты ходишь кругами? – отец вдруг заметил его. – Пару схлопотал?
– Человека могут волновать не только оценки, – гордо отозвался Стас и подумал: «Знал бы ты!»
У отца весело заблестели глаза.
– Безусловно. И чем же этот человек озабочен?
– Созданием ядерной бомбы нового поколения, – огрызнулся Стас.
Его раздражало, когда отец начинал тоном намекать на его незрелый возраст. Потом Стас вспомнил, что эта пресловутая бомба всплывает в его разговоре второй раз за день, и чуть не рассмеялся. Но смех этот пришлось бы объяснять, придумывать ложь, а этого сейчас не хотелось.
Выверенным движением Аркадий вывалил макароны в дуршлаг и отшатнулся от взметнувшегося от них пара. Затем невозмутимо спросил:
– И кого же ты собираешься взорвать?
– Все человечество!
– Мелочным тебя не назовешь… Мишка сказал, что ты приходил к нему утром с какой-то красавицей.
– Я так и знал, что он проболтается!
Вообще-то Стас не разозлился. Ему даже стало приятно, что отец узнал об этом со стороны, как настоящую историю такого рода, которая передается из уст в уста. И рассказывают их только о взрослых.
Продолжая встряхивать макароны, отец посмотрел на него через плечо. Глаза его смеялись уже вовсю.
– Мишка просто не понял, что это настоящая военная тайна, – Аркадий подмигнул. – Вы ведь с ней бомбу изобретаете, верно? Представляю, что будет, когда она рванет…
Глава 16
Песок был преувеличенно-желтым, как в голливудском клипе какой-нибудь жизнерадостной попсовой песенки. Он заставлял щуриться, и Матвей брел почти вслепую, различая слева шум волн, который не приближался и не удалялся. Значит, он шел по прямой.
На самом деле моря не было, его скрывала непрозрачная пелена, восходившая от кромки воды. Недвижная красота песка ревниво отгораживалась от изменчивой красоты стихии, и это наводило на мысль, что необходимо выбирать одну из них. И служить ей. Служить, пока хватит сил вдыхать этот раскаленный воздух.
– Золото, чистое золото, – бормотал он, пересыпая ускользающие струйки из ладони в ладонь.
Кожа стала сухой, казалось, вот-вот она пойдет трещинами, как та земля, которую покрывал сияющий песок, скрывая ее уродство.
– Уродство…
Матвей повторил это вслух, думая уже не о земле, погибшей от несбывшегося желания влаги. Вернее, не только о ней. Но о земле тоже, ведь и она принадлежала его миру, который как раз и был – сплошное уродство. Только потому, что Красота, которую Матвей внезапно открыл для себя, существовала вне этого мира.
Огонь и кротость, юность и женственность, та самая Вечная, принести на алтарь которой свою жизнь – счастье. «Я увидел ее», – его слезы просачивались в ту реальность, что ждала его за пределами сна, но сейчас Матвей еще не осознавал этого и плакал так горестно, как не доводилось с самого детства.
Он увидел Ее, но Она не вошла в его мир. Только мельком осветила всю убогость его бытия, заурядность, обделенность небесным светом.
– Божественное лицо, – шептал он, все еще пребывая в своем жарком, изнуряющем сне. – Рафаэль… Боттичелли… Лучше! Это сияние… эта стыдливость… Ремедиос Прекрасная. Лучше! Никаких слов не хватит, красок таких не бывает…
Он не ощущал в себе суетливо копошащегося Гумберта, ведь эта девочка была почти взрослой: несколько месяцев – и уже студентка. Никто не осудит за любовь к студентке… Каникулы затягивают жаром зыбучих песков… Они тонут вместе, погружаясь на глубину так медленно, что проходит вечность, но не гибнут. Он припадет к этому несравненному телу и вытянет его на поверхность силой своего желания. Нет ничего более могучего и непобедимого, это он чувствует даже сквозь сон. Он спасет ее. Это сияющее лицо, подобно солнцу, взойдет над его миром!
– Что-то случилось?
Маша лежала рядом, поддерживая голову согнутой рукой, и смотрела на него без улыбки. Так они еще не просыпались – не улыбаясь друг другу.
– А что могло случиться? – Матвей выдавил из себя безмятежность и всем телом, каждой клеточкой мозга ощутил: вот оно – уродство. Эта ложь, эта привычка изворачиваться… Они и составляют сейчас его жизнь. Такую не жаль похоронить в песке.
– У тебя слезы лились рекой. Я еще ни разу не видела, чтобы спящий человек так плакал, – она говорила отстраненно, будто уже наверняка знала, что его ночное горе не имеет к ней отношения.
Он напомнил:
– Как же? А в том рассказе Казакова, который ты так любишь? Забыла?
– Там плакал ребенок. Он прощался с бессознательной порой детства.
«Она все время что-то мне объясняет, – он едва не поморщился. – Таким… учительским тоном. Но вчера утром меня это не раздражало… Или уже?»
– А ты с чем прощался?
Маша смотрела на него в упор. Оттого, что она лежала спиной к окну, ее глаза казались почти черными, они держали его в своих оковах, и не было возможности увернуться.
Но оставались еще слова.
– Наверное, с жизнью, – сказал Матвей. – Мне снилась пустыня с бесконечными песками. Они затягивали. Я знал, что мне не выбраться.
Это было правдой. Не полной, и все же он мог считать, что не обманул Машу.
Но ее глаза не приняли эту правду.
– Было страшно? – спокойно спросила она.
– А ты как думаешь, раз я плакал?!
– От страха не плачут. Когда гибнут, не плачут, а пытаются выбраться.
– Ты все знаешь! Ты гибла, что ли?
– Да, – только и сказала она.
В другой день Матвей тут же почувствовал бы ее боль и прижал Машу к себе, чтобы забрать на себя хотя бы ее часть. Но сейчас он был слишком напуган и зол, чтобы заботиться еще о ком-то, кроме себя. И произнес непростительно резко, надеясь слегка напугать ее:
– Что еще за допрос с утра пораньше? Ты как будто в чем-то обвиняешь меня!
– Тебя выдали.
Слабость разлилась вниз от сердца. Матвею почудилось, будто у него отнялись ноги.
– Кто? – глухо спросил он, выдав себя еще больше и сразу поняв это.
– Глаза.
– Что?!
– У тебя другие глаза. Со вчерашнего дня. Что произошло? Только не ври мне. Врут тому, кого считают неспособным к прощению. Ты так думаешь обо мне?
Он вскочил, отбросив одеяло на нее:
– Маша, ради бога! Что ты придумываешь?
Сев на постели, она выпрямилась и молча ждала, и Матвей неожиданно смешкался перед этой требовательной тишиной. И пробормотал так неуверенно, что самому сделалось неловко:
– Да ничего не произошло…
Она ждала. Так и не сумев улыбнуться, Матвей предположил:
– Наверное, это оскорбленное самолюбие жжется. Твой Стас вчера выставил меня из дома. Я сунулся к нему с этим ремонтом, о котором ты говорила, а он чуть ли не послал меня.
Ее веки несколько раз быстро сошлись, а когда глаза снова распахнулись, сомнения в них уже не было. У Матвея дрогнуло под коленями: «Поверила…» И следом спросил себя: зачем ему она, ее вера? Если то, божественное, все еще в нем…
– Прости меня, – сказала Маша и начала кутаться в одеяло. – Я ведь давала себе слово, чтобы никогда даже никаких намеков на ревность! Я знала, что она хуже кислоты – разъедает отношения мгновенно. Как же это получилось? Сама не понимаю.
Вот такую – беспомощную, не способную напасть, – Матвей мог пожалеть. По-мальчишески забравшись коленями на смятое одеяло, он прижал ее голову к себе и поцеловал волосы, запах которых так любил. Конечно, любил.
Чтобы отвоевать себе эту женщину, он разрушил до основания весь ее мир. Матвей помнил, как собирался создать для нее другой, выстроив его из миллиона мелочей: тех, что стремился узнать о ней, и тех, которые готов был придумать сам. Как получилось, что один шаг в сторону открыл ему: этот грядущий мир – всего лишь маленькая муравьиная куча в сравнении с тем огромным, что существует за его пределами? Там жили люди.
– Тебе сейчас нелегко приходится, – прошептал он. – Столько больных мужиков вокруг… В основном на голову…
– Потрясающе! Значит, у меня единственная светлая голова в этой компании? В этой противоестественной компании: здравомыслящая женщина, ее номинально действующий, а фактически бывший муж, ее сыновья, ее любовник… Теперь добавилась еще девочка Стаса.
У Матвея пересохла гортань.
– Кто? – спросил он не сразу.
– Пухленькая, рыженькая девочка. Нина Савельева. Помнишь, он говорил, что придет с ней к Мишке?
– Пухленькая?
– По крайней мере, в седьмом классе она была в теле… С тех пор я ее не видела.
– Я видел, – сознался Матвей, рассудив, что это все равно в дальнейшем может всплыть. – Я не назвал бы ее пухленькой. Если это, конечно, она.
У Маша задрожали брови.
– Ты? Где ты ее видел?
– Она была у Стаса в гостях, когда я заходил поговорить насчет ремонта.
– А-а, – неопределенно отозвалась Маша. – Хотела бы я знать, как далеко у них зашло?
Матвей замер: «Этот щенок посмел вонзить свой жалкий кинжал в Мадонну?!»
– Ты думаешь… – начал он и замолчал. Как говорить об этом?!
Машины слова показались ему верхом обывательского бесстыдства:
– Надеюсь, он предохраняется. Никогда не угадаешь, что за плечами у нынешних девочек…
Он едва не оттолкнул ее: «Да как ты смеешь?!»
– Надеюсь, до этого вообще не дошло, – через силу выдавил Матвей и спокойно подумал: «Кажется, я схожу с ума… Какое мне дело до этих детских игр? Никакого. Но если Маша скажет о ней еще одно дурное слово…»
Из него как-то само собой вылилось тоскливое:
– Давай уедем…
Сам он услышал в этой фразе: «Спаси меня! Ты же можешь… Только ты на это и способна». Но Маша посмотрела на него слепым взглядом:
– Куда? О чем ты говоришь? Тебе скучно? Но здесь ведь тоже можно найти развлечения…
– Да при чем здесь – скучно?!
– Мне пора собираться в больницу, – озабоченно проговорила она и скрылась в ванной, оставив его на постели, как сброшенное ночное наваждение.
Матвей впервые почувствовал себя именно таким – бестелесным существом, не имеющим права рассчитывать на поддержку близкого человека только потому, что существуют они в разных мирах. Как проникнуть в чужое для тебя пространство, даже если хочешь помочь? Ее, Машин, мир здесь обрел реальность, дающую явственное ощущение жизни, которая всегда одолеет мечту, какой бы притягательной она ни казалась еще вчера. Теперь он стал для нее ушедшим днем, воспоминанием, которое еще остается в сердце, но не мешает жить дальше. Если бы они не приехали сюда, этого бы не произошло. Как и всего, что последовало далее.
С вечера он неутолимо искал успокоения в Машином теле, все еще волновавшем его, как в первые дни, но уже до мелочей знакомом. Не способном потрясти, но способном вернуть к той реальности, которая ускользнула, когда перед ним вспыхнула золотая дымка волос. Потом Матвей снял пару этих тончайших нитей с сиденья своей машины…
…Девочка села в его иномарку без малейшего страха и уговоров.
«Вас подвезти?» – спросил он.
«А вы поедете через старый мост?» – ответила она, уже взявшись за ручку дверцы.
Такое явное отсутствие хоть малейшего смущения должно было насторожить: так свободно не чувствуют себя с людьми, которые пробуждают в тебе интерес. Только сам он был слишком взволнован, чтобы отметить это.
Одним взглядом Матвей вобрал ее всю: по-детски не ухоженные руки в зимних цыпках, трещинку на губе, белое пятнышко на черных брючках… Без этих маленьких земных примет Нина не могла быть настоящей, и он жадно искал и запоминал все новые детали, чтобы она осталась в его памяти не картонной красавицей, а…
«Господи! – взмолился Матвей. – Зачем мне все это нужно?!»
Между ними проскакивали заряды, укусы которых чувствовал, похоже, только он. Чуть отвернувшись к окну, Нина чему-то улыбалась – Матвею был виден самый краешек этой улыбки. Ему хотелось спросить: «Что ты сейчас видишь? Скажи, ты хоть замечаешь, что я рядом?»
Но эти вопросы были невозможными, и он спросил что-то о городе. Незначительное настолько, что сам забыл об этом мгновенно. Но голос ее слушал с жадностью, отслеживая построение фраз: «Неужели она еще и неглупа?» В его жизни уже была умная и красивая женщина, но в тот момент Матвей о ней не помнил…
«Вы хорошо знаете свой город… Он вам нравится?»
Она улыбнулась без сожаления: «Вы не поверите, но я больше нигде не бывала. Как родилась здесь, так и живу. Это совсем даже не плохо!»
«Я и не говорю, что плохо!»
«Зато я хорошо знаю его, вы сами заметили. Это ведь здорово, когда человек хорошо знает хотя бы что-то одно, правда?»
Он подумал о себе: «А что я знаю хорошо? Все по верхам…»
Но горевать о себе было не время, ведь Нина продолжала говорить с той же неназойливой веселостью, которая казалась ему солнечной. И Матвей заслушался, погрузился в эти ласкающие звуки.
«А вы – родственник Стаса?» – она заставила его вынырнуть из пучин своего голоса.
Матвей смешался: «Да… Можно сказать и так. А ты… вы не знакомы с его родственниками?»
Ее ответ относился бы сразу ко всем вопросам: насколько они близки? Как давно вместе? И вместе ли вообще? Или вся эта нелепая фантасмагория с бомбой – чистая правда? В сегодняшней жизни и не такие нелепицы случаются…
«Нет, я знаю только его родителей, – не заподозрив подводных камней, ответила Нина. – Другие родственники ведь в школу не ходят».
«А у них дома? Ты… Вы…»
«Можно на «ты»! Ничего страшного».
«Да? Так ты не знакомилась с другими родственниками, когда приходила к Стасу в гости?» – это уже походило на допрос, но Матвею необходимо было все выяснить.
Чуть опустив голову, она улыбнулась, как ему показалось, со значением и ответила совсем тихо: «Я сегодня впервые была у него…»
Матвей подумал, что должен бы испытать облегчение, но его не последовало. Как-то уж очень внушительно произнесла Нина эти слова.
«Всё, я приехала. Спасибо!» – встрепенулась она.
У него сжалось сердце, когда Нина показала дом, в котором живет: черный бревенчатый сруб совсем просел в землю, безжизненный огородик вокруг чем-то напоминал погост… Ее почти библейская неприхотливость и радостное приятие этого нищего мира, которого она ничуть не стеснялась, потрясли его.
Он едва успел крикнуть, опустив стекло: «А хотите… хочешь пообедать?»
Уже перебежав дорогу, Нина весело отозвалась: «Я как раз и собираюсь готовить. Мне на всех нужно».
Перекошенная калитка пробороздила по снегу… Несколько шагов по мокрым доскам… Девочка неслышно потопала на крыльце, стряхнув с обуви снег, нашла глазами его джип и помахала. Губы ее шевельнулись… Спасибо? Прощайте?
…У той девочки губы шевелились так же беззвучно, он так никогда и не услышал ее голоса. И не узнал имени. Она вся была – фантазией его четырнадцатилетнего возраста, рыжеволосый отблеск того детства, которое истаяло тем летом, когда, приехав в спортивный лагерь, Матвей в первый же вечер на озере увидел девочку, катавшуюся на лодке с мужчиной. Кем был тот человек? Тогда мальчик был уверен, что это ее отец. Теперь Матвей допускал: могло быть иначе…
Эта похожая на видение пара на лодке появлялась на озере каждый вечер, но никто из лагерных так и не познакомился с ними, даже не приблизился. Это казалось невозможным. Разве удавалось кому-то поймать мираж? Говорили, что это – дачники, и в этом слове слышался отзвук другой жизни… Изо дня в день Матвей следил за той девочкой сквозь мокрые ресницы, и в них вспыхивали, растягивались гирляндами капли, окрашенные цветом ее волос.
Та его любовь была сплошной иллюзией, но сколько в ней было жизни! Он пережил с той девочкой такое, чего потом никогда не случалось в реальности. Даже похожего. Может, потому, что уже не хотелось с другой… Самые трепетные признания, первые и последние стихи, конечно, – ужасные, самые мучительные и сладкие ночи остались на берегу того озера, название которого он забыл. Зато отлично помнил ее плавные движения…
– Сокровище, – прошептал Матвей, не находя сил покинуть постель, над которой еще витали жаркие, солнечные сны. – Я не могу упустить ее во второй раз.
Его вдруг осенило: сейчас Нина должна быть дома, занятия в школе начинаются во вторую смену. И бодрость сразу взбурлила в нем! Он забегал, одеваясь на ходу, что-то заталкивая в рот, разыскивая ключи от машины, которые всегда бросал где попало. Прорвавшись после Маши в ванную («Кто она такая?» – на миг возникла нелепая мысль), Матвей окунул лицо в пригоршню ледяной воды. Посмотрел в зеркало: «Остынь. Выдашь себя в два счета. Уже почти выдал».
– Ты не зайдешь со мной к Мишке? – Машин взгляд опять показался ему настороженным.
Матвей нашелся:
– Нет уж! А вдруг там Стас. Я дважды не наступаю на одни и те же грабли.
– Я поговорю с ним…
– Не надо. О чем? «Надо любить Матвея, потому что я его люблю»?
Его самого обожгло, будто это открылось лишь сейчас: «Любит. Всю свою жизнь бросила к моим ногам. Так обычно говорят про мужчин, только я-то как раз ничем не пожертвовал…»
Эта разрушенная, переломанная при его же участии жизнь так весомо навалилась на него, что Матвей опять сел на неубранную кровать. В пятнадцати минутах езды отсюда, на другой кровати, железной, с панцирной сеткой, на которую был положен деревянный щит («Спина должна быть прямой!»), лежал Машин ребенок, тоже искалечившийся из-за них, если быть честными. У него таяли мышцы и падало зрение оттого, что он читал лежа. А если не читать, то за месяц можно и озвереть…
Глубокие Мишкины глаза глянули изнутри его самого, и Матвей непроизвольно мотнул головой: нет, этот не озвереет. Такой мальчишка… Весь в отца – благословит и отпустит. Сам скрючится от боли, задохнется, но отпустит, не заставит страдать.
«А если б Аркадий был другим, ушла бы? – он безотчетно проследил за Машей, собиравшей сумку с «передачкой». – Если б знала, что получит не пряник, а кнут? Я знаю, что тогда было бы: на той конференции она только посмотрела бы на меня чуть дольше, чем на других, и уехала домой. Всё. И сейчас я был бы свободен».
– А знаешь, что я вчера видел? – вспомнил Матвей без видимой связи. – Набор всяких волшебных причиндалов Гарри Поттера. Давай купим Мишке? Он его любит? Почему я сразу не взял? Там есть даже музыкальная волшебная палочка…
Маша улыбнулась, держа в руке три мандаринки, будто собиралась жонглировать ими.
– Настоящая? – спросила она.
– Поиграй с ним. Хочешь, чтоб позвонки стали здоровыми? Легко! Наколдуем. А ноги сразу начнут ходить. И вообще, пусть все будет классно!
– Все? – отозвалась Маша с сомнением и погрустнела. Потом взяла себя в руки: – Почему бы тебе самому не наколдовать? У тебя лучше получится.
– В том смысле, что я сам еще ребенок?
– А разве нет? Шучу. Ты лучше входишь в образ. Хоть и не артист… Или артист?
Он постарался перевести разговор в другое русло:
– Мне к Мишке не прорваться. С утра там Стас, вечером Аркадий. Оба будут просто счастливы меня видеть!
Заметив мандарины, Маша наклонилась над сумкой, и голос ее прозвучал сдавленно:
– Не знаю. По-моему, Аркадию уже безразлично все, что касается меня. Он перегорел.
– Ты, – Матвей запнулся, – ты хочешь, чтоб я переубедил тебя?
Она посмотрела тем долгим взглядом, какой он только что представлял, вспоминая конференцию. Потом зачем-то встряхнув сумку, распорядилась:
– Поехали за волшебной палочкой. Где она? В тридесятом царстве?
Едва высадив Машу возле больницы, Матвей позволил золотистому облаку воспоминаний юношества просочиться сквозь стекло и вновь опуститься на переднее сиденье его машины. В этом прекрасном видении начали проступать детали: крошечные дырочки в мочках ушей, а серег нету («Холодно? Или продали в голодный год?»); набухший порез на пальце; крошечная капля на оттаявших ресницах, темных безо всякой туши. А глаза светятся: «У нас красивый район, правда? В центре его считают захолустьем, а мне нравится. Вы в нашем бору еще не были? Там сейчас столько снега, он волнами лежит, сходите!»
Он заговорил о том, что было ближе ему: «Не хочешь работать на телевидении? У тебя потрясающие внешние данные. Сейчас много молодежных программ, я мог бы договориться».
Нина отозвалась без восторга: «Нет, спасибо! Я хочу стать врачом. Педиатром. Я люблю маленьких… В институт сразу вряд ли поступлю, хоть и с медалью, пойду сначала в училище».
«Зачем же в училище? – опешил Матвей. – Уйму времени терять! Это неразумно, что ты!»
Это ее задело: «Почему же – терять? Там ведь азам учат, это все пригодится».
«Ну да, да», – согласился он с неохотой. Учеба как бы откладывала ее взросление.
Нина рассудительно заметила: «Все говорят, что в институт без денег не поступишь. Стас тоже боится не попасть».
Пропустив мимо ушей то, что касалось Стаса, он едва не выкрикнул: «Я дам тебе денег! Я дам тебе все, что захочешь! Только не лишай меня того, что я искал всю жизнь, – своей чистоты и красоты…»
Но что-то его удержало.
Теперь он пытался разглядеть в себе прошлом, в том, кем являлся еще позавчера, подтверждение тому, что действительно нуждался в происходящем. Или такая уверенность тоже может возникнуть с ходу и мгновенно налиться прочностью прожитых лет? Значит, нет в мире ничего постоянного, если все может настолько измениться в одну минуту, отвергнув вчерашнюю жизнь, вчерашнюю любовь, как сдувшийся шарик, который невозможно вновь накачать чувствами?
Он с тоской думал о Маше, не мог не думать, ведь из памяти не стерлось то, как он желал ее и не боялся вступить в бой ради этой женщины, с которой теперь было связано одно лишь тягостное чувство вины. Матвей ожидал найти в ней радость, а обрел уныние. И ему не терпелось избавиться от него…
Перелетев на своей иномарке через старый, но подлатанный мост, Матвей поднялся на гору, поросшую соснами, и остановился возле знакомого дома, похожего на убогую, лишенную блеска раковину, в которой таилась настоящая жемчужина. В голове промелькнула мысль, что если Нина оказалась в этот момент вблизи от окна, то уже увидела его. Теперь вопрос в том, откроет ли она дверь…
Не совсем понимая, зачем идет к ней, Матвей запер машину и перепрыгнул через канаву, заваленную грязным придорожным снегом. Калитка со скрипом прочертила на белом снегу дугу. Матвей протиснулся в образовавшуюся щель и взбежал на крыльцо. Ему даже не пришлось ждать, Нина открыла сразу. И он также сразу увидел: в ее глазах не вспыхнуло даже намека на радость.
– Здравствуйте, – устремив на него пытливый взгляд, произнесла она с вежливой настороженностью.
В коротеньком, свободном платьице лимонного цвета она была похожа на июньскую бабочку. А волосы также искрились душистой пыльцой…
– Можно войти? – спросил Матвей, не представляя, что еще сказать.
Нина оглянулась, и на лице ее возникло выражение пугливой беспомощности.
– У нас… – она оборвала себя и решительно закончила: – Ладно, проходите.
Посмотрев на серый половичок, лежавший у порога комнаты, Матвей с трудом заставил себя разуться. Перед ним возникли синие тапки.
– Они новые, – сказала Нина. – Я купила папе на день рождения, а он не дожил. Вы не суеверны?
Матвей посмотрел на ее гладкие коленки, которые были совсем близко, и мысленно губами ощутил их мягкость. Через силу отведя взгляд, он попытался заговорить, но голос постыдно сел, и пришлось откашляться.
– Когда как. Кошек черных обхожу… А что случилось с твоим отцом?
– В шахте завалило. Вы не слышали? Хотя, конечно… Весной был взрыв метана. Это часто бывает.
Выпрямившись, он спросил с опаской:
– А твоя мама?
– Думаете, она тоже шахтер? – Нина усмехнулась. – Мама воспитателем работает, в садике. Тут, рядом…
Она первой вошла в комнату, сделав ему неуверенный жест. Матвей шагнул следом и чуть не наступил на валявшегося на полу Бэтмена.
– У тебя есть брат? – он поднял игрушку.
– И сестра, – добавила Нина. – Они в первую смену учатся.
– Ты – старшая? Говорят, старшие дети более самостоятельные. Потом, во взрослой жизни.
– Посмотрим, – ее взгляд все еще был настороженным, она ждала, когда же Матвей объяснится.
Он подавил вздох: «Вблизи от такого солнца мозг плавится».
Одним взглядом Матвей осмотрел комнату: такие сервант и кровати, такой стол он видел в старых советских фильмах. Если б не игрушки, сваленные у комода, можно было подумать, будто время здесь остановилось.
Очнувшись, он спросил:
– Вчера ты отказалась со мной пообедать, а как сегодня? Давай съездим куда-нибудь?
Ее влажные губы дрогнули. «Ее не волнует, что я здесь? – подумал он со страхом. – Если б волновалась, губы пересохли бы». Он не знал наверняка, так ли это, и теперь ему трудно было избавиться от этой мысли.
– Я вам кажусь изголодавшейся? Почему вам так хочется меня накормить?
– Не накормить, – свой голос он уже слышал как через вату. – Побыть с тобой. Поговорить.
К ее лицу прихлынула кровь. Нина отступила, но Матвей подался к ней:
– Не бойся! Зла я тебе не причиню… Не знаю, поймешь ли ты… Ты можешь представить, что чувствует человек, когда вдруг сбывается его мечта?
У него опять промелькнула мысль, что он лукавит. Не было у него такой мечты. Ничего похожего… Он только вчера убедил себя, будто она была.
Нина почему-то покраснела еще больше:
– Да. Могу.
– Я увидел тебя и понял, что всю жизнь пытался найти такую красоту, – заговорил он, приблизившись к действительности. – Ты необыкновенно красивая, ты знаешь об этом?
– Я…
– И жизнь у тебя должна быть необыкновенная! Не здесь, – он с отвращением оглядел мертвую комнату, где Нина казалась плененной царевной.
Теперь ее голос стал сердитым:
– Вам не кажется, что это не очень-то вежливо: приходить к кому-то в гости и ругать его дом? Я здесь выросла. Я каждую вещь тут люблю. Каждая связана с дорогими для меня воспоминаниями. Разве этого мало?
– Да-да, я понимаю… Конечно, любишь. Но ты не обязана здесь жить!
– Не обязана. Я просто хочу этого! Я же вчера говорила вам о городе, это то же самое…
Лицо ее горело, и Матвея уже ломало от этого ощутимого жара. Почти не видя ничего перед собой, он протянул руку к теплу, прижал его к себе, впился губами…
Острая боль прорезала наслаждение, которое еще только начало нарастать. Он вскрикнул и скорчился, отпустив Нину. Отскочив, она выкрикнула:
– Уходите отсюда! Как вы можете? Я ведь знаю, что вы живете с матерью Стаса. Вы их семью разрушили, это так… отвратительно! А теперь хотите и мне все испортить? Ничего у вас не выйдет!
– Что испортить? – пробормотал Матвей, с трудом опомнившись. В мыслях у него почему-то мелькнуло: «Муравей способен понять человека?» – Что я могу испортить? У тебя ведь нет ни мужа, ни детей.
– У меня есть Стас, – теперь она глядела на него уже с жалостью.
– Стас, – бессмысленно повторил он сочетание звуков. – Ну что – Стас?
Она произнесла с той твердостью, которая способна убить:
– Стас мне как муж.
– Что?! – Матвей задохнулся и пошел на нее, как в бреду. – Что ты сказала? Он… Он посмел? Тронул тебя?
Обогнув круглый стол, покрытый зеленой шелковой скатертью, Нина тихо напомнила:
– Вы говорили о мечте, которая вдруг сбывается. Стас и есть моя мечта. Был и остается. Я с первого класса о нем мечтала! Потом уже о том, чтобы мы стали близки. Поэтому и скрывать не собираюсь. И я никогда от него не отступлюсь, слышите? Даже если он… он сам…
– Когда он… ты… давно? – выдохнул Матвей и сел на деревянный стул с кожаным, ободранным по краям сиденьем.
И она улыбнулась так, как виделось ему во сне:
– Вчера. Вы появились как раз после этого…
Глава 17
– Давай знаешь что? Да выключи ты телевизор, у них все в порядке и без нас! Слушай меня. Хочешь снова набросить на Стаса аркан? Легко!
– Что ты имеешь в виду под арканом?
Отложив пульт, Маша повернулась к нему. К вечеру ее лицо становилось будто прозрачным, и накопившаяся за день усталость проступала морщинками. Матвей впервые отстраненно подумал: «Через несколько лет всем сразу будет бросаться в глаза, что она старше». Раньше, когда он пытался представить это, ему не было неприятно. Ее теплое покровительство даже нравилось ему, по крайней мере, оно не казалось унизительным, ведь деньги-то были его!
Матвей вовсе не был начисто лишен в детстве материнской ласки, как предположил бы любой психоаналитик. Правда, лаской и теплом его мать тоже не баловала. Слишком уж много в ней жило страдания от разлуки с его отцом, для любви к сыну просто не оставалось места. И Матвей достаточно рано перестал ждать от нее проявления заботы и тепла, как не вынуждают спеть серенаду человека без музыкального слуха. Какая от этого может быть радость?
Ему самому казалось более правдоподобным другое объяснение его интереса к Маше: слишком привык распоряжаться всеми и всем. Ему понравилось, что кто-то взялся поучать его. Он не догадывался, как быстро это приедается…
– Я имею в виду такую невидимую веревку, которую ты накинешь своему мальчику на шею и притянешь к себе. Ее можно сплести из подарков и сюрпризов. Такие «оковы» оказываются особенно крепкими.
– Выясняется, что ты – циник. Ты предлагаешь подкуп? – она смотрела хмуро и говорила низким, ничего не выражающим голосом.
Оттого, что Маша сидела на кровати, по-турецки скрестив ноги и сгорбившись, она показалась Матвею маленькой горбуньей, порабощенной каким-то злым циркачом, поэтому на ней надет такой пестрый лилово-желтый наряд.
Его мысли теперь занимала совсем другая желтизна – светлая, с легкой горчинкой, если так можно сказать о цвете. Под ней нежно струилось тело, совсем не похожее на это… Оно было, как луч, – легким, длинным, светлым. Луч, который нельзя взять руками, но можно греться его теплом.
Он весело сказал:
– Я предлагаю вот что: заштопать вашу духовную связь.
– Что-что?
– Давай затащим его в ресторан! Мальчишки обожают такие заведения. Дети ведь по кабакам не ходят… Пусть возьмет свою девочку, я всех прокормлю. Сам же он ее в жизни в дорогое заведение не сводит! От хорошей еды быстро язык развязывается. Может, и винца им уже можно… Поболтаете с ним ни о чем, потом легче будет серьезные разговоры разговаривать. Я не буду мешать, еще и девочку его отвлеку, чтоб не лезла…
Маша беспокойно завозилась на постели. Ее короткие взгляды навели на мысль о хищнике, который собирается напасть исподтишка, но не хочет спугнуть жертву раньше времени. И вдруг Матвею стало до того стыдно от этой мысли, что сами собой заломились пальцы. Это ведь он был хищником, уже разорившим гнездо и теперь собиравшимся добить всех его обитателей поодиночке.
«Добить? – кольнуло в виске и отдалось в затылке. Матвей выпрямился, осторожно покачал головой. – Если только себя самого… Никто из них и не подозревает того, что творится у меня внутри».
Но вдогонку уже неслось: девочка знает о его влечении и помыслах! Эта светлая, чистая струя несет в себе знание. И запросто может оросить им тех, кто окажется поблизости. Неосторожно с его стороны сводить их вместе – Машу и Нину. Меньше всего он думал про Стаса. Осквернитель святыни не может рассчитывать на сострадание… В мыслях Матвея этот мальчишка, который внезапно стал ему отвратителен, проскакивал похотливым, скользким самцом и вновь оказывался в темноте безразличия.
– Я не уверена, что Стас согласится пойти с нами, – не сразу ответила Маша.
Запустив руку в короткие волосы, она перебирала их пальцами, возможно, вонзала ногти в кожу, пытаясь пробудить мозг, а со стороны Матвею показалось, будто Маша выскребает перхотистые корочки, и это показалось ему мерзким. Только гораздо позже он понял, что это была первая за их совместную жизнь минута отвращения к ней. И именно ею она и закончилась…
Он перевел взгляд на безжизненный экран телевизора – идола, поработившего обоих. Главному делу их жизни мог положить конец любой дурак, просто нажав кнопку на пульте… И что после этого оставалось? Ничего. Темная пустота плоской поверхности. Это настолько ничтожно по сравнению с тем, чтобы спасать жизни детей…
– Можно пригласить и Аркадия, – он понял, что готов на все, лишь бы затянуть в свою несостоявшуюся жизнь летний свет.
У Маша надломились брови:
– Аркадия? Ты всерьез? Странная будет компания, тебе не кажется?
– Многие бывшие супруги встречаются и обедают вместе, – Матвея уже не могло остановить то, что она явно поняла: он лжет, он вовсе не считает это правильным, сам никогда не звонит бывшей жене…
Но Машу позабавило другое:
– Обедают вместе? У тебя несколько искаженные представления о России. Кто это у нас обедает в ресторане? До тебя я не бывала там лет двадцать. Ну, может, пятнадцать…
– Я все оплачу, естественно, – он достал сигарету и выждал: иногда Маша просила не курить в номере. На этот раз она промолчала.
Матвей подумал, что его настойчивость уже становится подозрительной, но необходимо было дожать… Убедить сперва Машу, затем остальных. Он почти не сомневался, что сумеет это сделать.
– Ладно, – проронила Маша с безразличным видом, мгновенно остудив его охотничий пыл. – Я позвоню Стасу. Если он захочет, чтобы пошел и отец, значит, так тому и быть. А девочку брать не обязательно, она еще не член семьи.
Матвей подавился дымом. Не возмущение схватило его за горло, а смех. Плеснув в стакан воду из тонкого стеклянного графина, он ее выпил залпом и перевел дыхание. Отведя сигарету, Матвей проговорил с укоризной, как ему самому показалось, плохо сыгранной:
– Эх, мать! Не знаешь ты пацановской психологии. Думаешь, только ради нас с тобой Стас согласится пойти? Это же тысяча ежей, а не ребенок! А девчонке ему, конечно, захочется пустить пыль в глаза.
«Это тебе хочется», – подумал он равнодушно, уже смирившись с тем, что не может справиться с непобедимым мальчишеством, которое так и бурлило в нем. Оно заставляло вновь и вновь выпячиваться грудь: «Да я! Да у меня!»; оттопыривало нежно шелестящий карман и рвалось сцепиться с другим мальчишкой, нахально покусившимся на облюбованный им плод.
Маша проговорила с тем хорошо знакомым Матвею оттенком презрения, которое слышали ее провинившиеся сотрудники:
– Я вообще удивлена, что Нина Савельева как-то проявилась в его жизни. Насколько я помню, она обхаживала Стаса чуть ли не с пеленок. У них это называется «бегала за ним».
– У нас это называлось так же. Не помнишь? Бегала, ухлестывала, сохла… Нет, «сохла» мы уже не говорили, это наши родители сохли…
Она обратила к нему тот пристальный, проникающий в душу взгляд, который всегда пугал Матвея. В такие минуты он чувствовал себя безродным шутом, которого ради смеха заставили раздеться перед королевой, а прикрыться нечем.
– Да ты провел целое лингвистическое исследование… Волнующая тема?
– Ты же знаешь, – начал он, хотя ничего такого она знать не могла, – иногда я зацикливаюсь на какой-нибудь чепухе и обсасываю ее.
Матвею показалось, что ее глаза подтвердили: «Я даже знаю, на чем ты зациклился сейчас».
Он вспомнил эти слова по дороге в ресторан, когда они, захватив Стаса (Аркадий, конечно, отказался пойти), заехали в ту самую, погибающую от времени часть района, где Матвей уже успел побывать. У него едва не вырвалось: «Я знаю», – когда Стас, как всегда недовольным тоном, будто таксисту, сказал где остановиться. И сделалось ясно, что ему ничего не стало известно от Нины, и от этого Матвей ощутил прилив легкости, позволявшей на всех смотреть свысока, ведь ты приподнимаешься на дыхании своего счастья.
«У нас появился общий секрет! Это уже много, – возликовал он, и, уловив сумасшедшие удары сердца, подумал с удивлением: – А я действительно зациклился на ней…»
Он осознал, что не столько красота этой девочки пленила его, как дикого янычара, сколько ее неподатливость, не наигранное равнодушие, нежелание сделать навстречу ни шага. Ей не приходилось бороться с собой, Матвей просто не интересовал ее. Вот только ему трудно было признать, что кого-то он может не заинтересовать.
Долгие годы (еще до брака, а после – в особенности) он прожил в уверенности, что ни одна женщина не откажется от возможности хоть в чем-то облегчить себе жизнь. Разве Машу в свое время не привлекла перспектива освободиться от тяготы домашних хлопот? Нина же не хотела даже этого. Ее слова звучали не для того, чтобы пробудить в нем интерес и азарт, она действительно не хотела ничего менять, Матвей видел это. В ее взгляде отчетливо читался звучавший внутри вздох: «Опять он! Как от него избавиться?»
Два дня подряд Матвей дожидался ее у школы, уже выяснив, что они со Стасом выходят по отдельности, неумело оберегая от насмешек то, к чему и сами-то не успели привыкнуть, и предлагал подвезти. Нина отказывалась с той легкой вежливостью, которая подчеркивает, насколько незначительна предлагаемая услуга, как и человек, способный ее оказать. И оттого ему становилось особенно обидно…
Не сдаваясь, Матвей ехал за ней вдоль тротуара, но на остановке Нина впрыгивала в автобус, как назло ходивший по расписанию, которое она хорошо знала, и ему оставалось недоуменно чертыхаться.
«Что за идиотское упрямство!» – рычал он, понимая, насколько неверна эта формулировка. Упрямство предполагает возможность поражения… Она не упрямилась.
Выскочив из машины, угрюмо промолчавший всю дорогу Стас подбежал к крыльцу старого дома, но не успел даже подняться по лестнице, как Нина уже выскочила к нему навстречу. У Матвея заныло в груди: «Не хочет терять ни секунды». На какой-то миг эти двое застыли, вбирая друг друга взглядами: она – наверху, он – внизу. И эта случайно разыгранная сцена – Джульетта на балконе – отозвалась в Матвее еще большей тоской: «Неужели это то самое? Неужели мне действительно нечего тут делать?»
Он отвернулся и опять встретил испытующий Машин взгляд.
– Первая любовь, – сказал он, попытавшись придать голосу ностальгическую грусть.
– Не думаю, – с легкой гримаской отвращения отозвалась Маша.
– Чем тебе так не нравится эта девочка?
Ребята уже перебегали дорогу, обмениваясь неслышными словами, и Маша ответила наспех:
– Навязчива слишком. Не люблю таких.
«Навязчива! – едва не застонал Матвей. – Да знала бы ты…»
– Здравствуйте! – Нина уже забралась на заднее сиденье, и Маша улыбнулась ей через плечо.
«Сплюнула улыбку», – подумал Матвей.
Он смотрел в маленькое зеркало заднего вида на восходящее за спиной сияние, и в нем нарастала не столько тоска художника, осознавшего, что ему никогда не создать Джоконду, сколько мучительная неудовлетворенность коллекционера, которого равнодушная к его жажде жизнь заставляет смириться с тем, что есть красота, которую, оказывается, невозможно приобрести за деньги. Смириться с этим Матвей не мог…
– Мы едем в «Багамы», – по его сведениям, это было самое стоящее заведение в этом городе.
– А почему не на Багамы? – съехидничал Стас.
Матвей взглянул в зеркало:
– Хотите на Багамы? Легко!
Но лицо Нины все время было обращено к нему профилем, ее взгляд не отрывался от Стаса.
– Давайте пока ограничимся рестораном, – предложила Маша, даже не пытаясь поймать взгляд сына.
Матвей злорадно подумал о нем: «Купился все-таки… Захотелось повыпендриваться перед девочкой. На что же может купиться она?»
Продолжая вычислять это «что-то», он, то и дело упуская нить, подхватывал бессвязный дорожный разговор, искал парковку, придерживал дверь ресторана… Искусственная зелень лезла в глаза, плоды из папье-маше дразнили, искушая попробовать настоящих экзотических фруктов. Матвей заказал всего побольше, чтобы девочка упилась чуждой для этого города сладостью жизни и богатства. Его подкосило, что Нина сразу отказалась от вина, на помощь которого он очень рассчитывал.
– Почему? – допытывался Матвей, наливая остальным. – Это очень хорошее вино, поверь мне.
– Я верю, – она все так же светло улыбалась, но отказывалась, как и от всего остального.
– Ты впервые в таком ресторане? – он надеялся, что Нина угадает подтекст: «Не забудь, что это я подарил тебе этот вечер!»
– Не только в таком, – отозвалась Нина без восторженного придыхания. – Я вообще не бывала раньше в ресторанах.
В это было трудно поверить, ведь она поглядывала по сторонам без любопытства.
– Бедненькая! – воскликнул Матвей как бы в шутку.
Нина отозвалась с тем равнодушием, от которого у него уже все коченело внутри:
– Да я как-то не страдаю от этого.
– А от чего ты страдаешь?
Это прозвучало слишком в открытую, и быстрый Машин взгляд прошелся по нему пунктиром, выделяющим эту фразу. Но Матвею так нужно было это знать, что он пошел напролом.
Нина отшвырнула его одной фразой:
– Теперь я уже ни от чего не страдаю.
Они оба посмотрели на Стаса: она с нежностью, Матвей – с трудом скрывая бешенство. Тонкое, похожее на материнское лицо мальчика выражало явное удовольствие. Он тоже понял, о чем говорила Нина.
Матвей наклонился к Маше:
– Я предоставлю тебе уникальную возможность пообщаться с сыном наедине.
Она улыбнулась в ответ, но как-то не слишком радостно. Матвей легко уговорил себя думать, что она просто побаивается своего старшенького…
«Дрянной оркестр!» – отметил он, прислушавшись, но выбирать было не из чего – это ведь лучшее, что можно найти в этой дыре… Его раздражало, что плохая музыка звучит слишком громко и не слышно, о чем говорит Нина. Пускай она и обращалась не к нему, но что с того?
Машин голос тоже прозвучал недовольно:
– Нужно было сесть подальше, мы совсем не слышим друг друга.
– Легко! – Матвей вскочил. – Узнаю, нет ли отдельного кабинета…
Обходя Нину, он как бы невзначай взялся за ее узкое плечо. Оно дернулось в его ладони и стало твердым. Матвей внезапно задохнулся желанием сжать его посильнее так, чтобы кость надломилась от боли, раскрошилась совсем…
Убрав руку, он отыскал взглядом метрдотеля и пошел к нему, с каждым шагом все явственнее ощущая, как в голове нарастает шум жаркого моря. «Багамы, – пустая мысль пульсировала, обжигая глаза. – Багамы…»
Внезапно Матвей понял, что нужно сделать: сгрести эту девчонку в охапку, затолкать в машину, домчаться до аэропорта… Обнаженная роскошь невиданных островов обольстит ее, разнежит, заставит раскрыться. Она истечет сладким соком… И он будет рядом, когда это произойдет. Он напьется ею…
Забыв, куда направлялся, Матвей повернул назад, слепо ведомый медленным танцем, и склонил перед Ниной, которой он все так же был безразличен, голову:
– Разрешите?
Она взглянула на него с досадой: «Вечно он мешает!», потом посмотрела на Стаса. Тот лишь дернул плечом, а Маша бесстрастно заметила:
– Удачная мысль. Потанцуйте.
«Ей лишь бы остаться с ним наедине, ради этого она и мной готова пожертвовать», – Матвей поймал себя на том, что это первая мысль о Маше за последние полчаса. Но и она тут же провалилась в небытие…
Заметно подавив вздох, Нина подала ему руку. Тонкую, обветренную ручку с неумело накрашенными ногтями. Матвей подхватил ее, беспомощную, сжал и повел Нину к тому обетованному месту, где можно было обняться, никого этим не оскорбив. Он припал к ней так жадно, что девочка уперлась руками ему в грудь.
– Тише, тише, – зашептал он, дурея от запаха ее светло-рыжих волос, от теплой мягкости живота, к которому прижался. – Не отталкивай меня. Это же только танец. Это ничего не значит, все так танцуют. Позволь мне хотя бы это…
– Зачем вы это делаете? – жалобно спросила она, слегка ослабив усилие, с которым пыталась высвободиться.
Он почти судорожно схватился за едва наметившуюся слабость:
– Чтобы сделать тебя счастливой. Только для этого. И мне это под силу! Я подарю тебе мир, хочешь? Это не громкие слова. Он, – Матвей кивнул в сторону их столика, – ничего хорошего для тебя сделать не сможет. Багамы, Париж, Лондон, Лас-Вегас… – откуда-то опять непрошено возник образ копошащейся муравьиной кучи. – Что хочешь?
Нина произнесла отчетливо, но не зло, будто бы даже соболезнуя ему:
– Я хочу Стаса. Почему вы не хотите поверить, я ведь уже сто раз говорила? Неужели вы сами никого так не любили? Хотя бы когда вам было семнадцать… Не знаю, может, взрослые не способны полюбить? Хотя мои родители… – у нее дернулось горло, к которому Матвею хотелось то прижаться щекой, то впиться зубами. – Знаете… Стас – вот мой мир. Всегда так было, всю мою жизнь, честное слово! Я даже и не помню другого. Разве ваши деньги могут это изменить? Любые деньги… Мне никогда особенно не хотелось ни в Париж, ни в Лас-Вегас, даже в Москву. Если бы вы пригласили сюда меня одну, я не пошла бы.
– А если б я утащил тебя за руку? – отчаяние сделало его голос жестким.
Она отклонилась, в лице ее проступило совсем взрослое высокомерие:
– Что?! Вы хотите сказать, могли бы заставить меня? Неужели вам это было бы в радость? Нет! Вы же не можете быть… таким… если она вас выбрала…
Матвей пробормотал:
– Многим женщинам… может, всем… нравится небольшое насилие.
– Что значит – небольшое насилие?
Ее тело скользило в его руках, дразня и возбуждая до такой степени, что все мысли растворялись. С усилием собрав остатки воли, Матвей прошептал:
– Не знаешь? Хочешь попробовать?
– По-моему, вы – сумасшедший, – шепнула Нина, даже не испугавшись. И посмотрела на оставленный ими столик: – Ее вы хлещете плеткой? Она для этого ушла к вам от них? Не может быть…
– А ты знаешь о плетках?
– Видела в каком-то фильме, – серьезно ответила она, рассмешив его.
Удержав улыбку, Матвей спросил:
– Боишься плетки?
Теперь она рассмеялась:
– Это какой-то бред – все, что вы говорите. Это не из моей жизни.
– Из твоей. Уже из твоей, – выдохнул Матвей, едва удержавшись, чтобы не укусить ее в шею. – Ты еще просто не знаешь себя. Никто не раскрыл тебя.
Нина поморщилась, отклонившись. Его это напугало: «Неужели от меня воняет?»
– Вам хочется найти во мне плохое? Конечно, оно есть. Во всех есть, – она добавила, как бы оправдываясь: – Я люблю Достоевского… Только разве человек не должен бороться с этим?
– Зачем? Зачем же бороться? Иногда плохое… Нет, не плохое, но немножко грешное добавляет жизни остроты. Или тебе нравится безвкусная, пресная жизнь?
– Мне нравится человеческая жизнь, – сухо отозвалась Нина. – Как у моих родителей. Они всегда улыбались, когда видели друг друга. Всегда.
На ее лице улыбки не было. Матвею захотелось добиться хотя бы гримасы, раз уж от другого ее губы отказываются. Теперь ему зверски хотелось причинить Нине боль. Настоящую, проникающую вглубь, до самого нутра. И остающуюся там навсегда. Чтобы запомнила…
Он начинал думать, что у него нет другого выхода.
Глава 18
Раньше она и вообразить не могла, что можно чувствовать себя настолько счастливой оттого, что тебя позвали клеить обои. Размашисто водя кистью, Маша намазывала полосы клеем и выносила их в коридор, чтобы полежали и хорошенько пропитались. Затем, подоспевшие, подавала их Аркадию.
– Низ держи, – напоминал он. – Прилипнет раньше времени… Теперь прижимай.
Маша осторожно надавливала тряпкой на кораблики с солнечными парусами и думала, что Аркадий выбрал хороший рисунок: пусть детство побудет с Мишкой подольше, пусть его отзывчивые к ветру паруса не обвиснут. Это случается, когда у человека истощается способность мечтать…
– О чем он мечтает сейчас? – она снизу заглянула мужу в лицо.
За последние недели оно отяжелело усталостью, а непокой в душе серой пылью проступил на коже. Когда она уезжала, Аркадий выглядел моложе… Но почему-то именно сейчас Маше мучительно хотелось прижать это лицо к груди, погладить колючую щеку, вытянуть рукой то страдание, о котором Аркадий никогда не скажет, но глаза его так и кричат о нем…
– Мишка? – он быстро взглянул на нее и снова прищурился на стык между обоями. – Сейчас, по-моему, только об одном… Неси следующую.
Сбегав в коридор, Маша подала липкое полотнище и уже хотела спросить: «О чем же? О чем?», но Аркадий договорил сам:
– Ему сейчас ничего не хочется, кроме того, чтобы ты вернулась. Мне, конечно, неприятно это признавать… Да и тебе знать ни к чему, но раз уж ты спросила…
– Ты… – начала она и не смогла продолжить.
– Ничего, он уже большой мальчик, пора ему узнать, что мечты, как правило, не сбываются.
– Некоторые сбываются…
Обида искрой сверкнула в его глазах:
– Так ты всегда мечтала о молодом зеленоглазом блондине? Я не знал.
– Нет, что ты! – растерялась Маша. – Я вовсе не это имела в виду.
– Ты мечтаешь еще о ком-то? – съязвил Аркадий.
– Да нет же!
– Тогда о чем ты говоришь? Чья мечта сбылась? Приведи хоть один пример.
Маша выпалила первое, что пришло ей в голову. Это было несвойственно ей, привыкшей профессионально взвешивать каждое слово.
– А Нина Савельева?
– Нина? – он не притворялся, а действительно не мог вспомнить, кто это такая.
Ее на миг захлестнула гордость: «А от меня Стас не утаил!» И следом вспомнились остекленевшие от злобы глаза сына, следившего за Матвеем, уводившим девочку танцевать.
– А ты и не знал, что вся школьная жизнь Нины Савельевой прошла под девизом «Стас Кольцов – единственно возможная мечта!» – Маша начала насмешничать, чтобы заглушить возникшее тоскливое беспокойство.
– Неужели? – равнодушно отозвался Аркадий.
– И она добилась своего. Ее мечта сбылась, вот тебе пример.
– В каком смысле добилась?
Замерев с тряпкой в руке, Аркадий изумленно взирал сверху, похожий на простодушного Гулливера, открывшего для себя, что маленькие человечки внизу тоже подвержены большим страстям.
– Они встречаются, – уклончиво ответила Маша.
Наверняка она и сама еще не знала, как можно назвать эти отношения, но некоторые детали: то, как они смело прижимались друг к другу, разговаривая, как смотрели друг на друга, – наводили на мысль, что близость уже состоялась. Машу и пугала такая уверенность, и волновала… Поговорить об этом она могла только с Аркадием.
Он вдруг рассмеялся:
– Даже их классный руководитель не говорит: встречаются. Тот с той, а та с этим. Все упростилось до невозможности…
– Неправда, – Маше опять увиделось перекошенное лицо сына. – Все как всегда мучительно и сложно.
– Ты недолго мучилась, – отвернувшись, Аркадий сошел с табурета. – Перекур. Кофе хочешь? Или ты теперь не пьешь растворимый?
– Что значит твое «недолго мучилась»?
– То и значит… Пойдем на кухню. Ты быстро все решила, разве не так?
– А нужно было тянуть эту двусмыслицу годами? А как же тогда «жить не по лжи»?
– Эти слова не об этом, – холодно напомнил он. – И не говори, что тебя твоя правдивость подтолкнула…
Маша перетерпела желание ответить ему фразой порезче. В конце концов, Аркадий имел право на эту маленькую словесную месть…
– Давай не будем сейчас выяснять отношения, – предложила она миролюбиво. – Это может кончиться тем, что обои останутся ненаклеенными.
Включив чайник, Аркадий сел к столу и посмотрел на нее тем понимающим взглядом, который всегда заставлял Машу извиваться от стыда.
– Он не обижает тебя?
– Матвей? Нет, что ты!
Маша ответила мгновенно, чтобы не поддаться желанию поделиться с ним тоской последних вечеров. Они были заполнены прислушиванием к шагам в коридоре, выстраиванием следственных версий и боязнью задать хоть один из тех вопросов, которых к возвращению Матвея накапливался целый пуд.
Он больше не видел ее. Говорил ласково и любил ночью, даже как-то особенно жадно. Но не видел. Внезапная слепота должна была иметь причину, только Маше не удавалось ее найти. Вернее, находила-то она множество причин, но не хотела принять ни одну.
– Ты выглядишь не слишком счастливой, – заметил Аркадий на правах старого друга, который может позволить себе бестактность.
«У меня земля уходит из-под ног! – хотелось крикнуть Маше. – Я бросила свой мир, а у него пропало желание создать для меня новый. Ему ведь хотелось этого, я знаю! Что же случилось? Что-то ведь поменяло его отношение… Другой темп жизни? Он уже пережил все, что мог чувствовать ко мне? И что же теперь?»
– Мишка в больнице, как я могу чувствовать себя счастливой? – ответила она, и это тоже было правдой.
Аркадий поднялся выключить чайник.
– Ты ведь могла и не узнать об этом…
– Что? – Маша замерла, потянувшись за чашками. – Ты мог не сообщить мне?
– Зачем? Ты от них отказалась… Не официально, конечно, но фактически…
– Я от них не отказывалась! – все же закричала она, потому что эта боль была не менее сильной. – Ты сам настоял, чтобы мальчики не трогались с места!
– Поставь чашки, – сказал Аркадий. – Разобьешь.
Она задыхалась:
– Как ты можешь быть таким…
И поняла, что не может назвать его ни жестоким, ни безжалостным. Это она была таковой, если позволила себе наполовину осиротить своих детей ради другого ребенка, который только кажется взрослым, а сам лишь тем и занимается, что потакает своим капризам и меняет одну игрушку на другую.
«Да что это со мной?! – ужаснулась она. – Это же Матвей! Мой зеленоглазый принц… Разве я смогу жить без этого изумрудного света? Чем вообще жить, если воздух любви заражен равнодушием? Чем живет Аркадий?» Маша будто заново увидела мужа – человека, научившегося существовать в безвоздушном пространстве.
– Как ты… – начала она с того же, хотя уже забыла, какие слова только что собиралась бросить ему в лицо. – Как ты… вообще? Справляешься?
Его усмешка горько обозначилась на лице.
– Стадию сосисок мы уже прошли. Потихоньку учусь готовить. Если ты об этом…
– Я не об этом.
– В остальном все нормально, – Аркадий насыпал в чашки кофе и залил кипятком. – Не у них, у меня.
Он посмотрел в чашку и с сожалением пробормотал:
– Надо было наоборот сделать, сначала кипяток… Так вкуснее. Ты заболтала меня.
Осторожно шагнув к нему, Маша напомнила:
– Раньше ты учил меня, что нужно уметь прощать. Я не желала, чтоб меня учили, поэтому и не умела не держать зла. А у тебя всегда получалось… Помнишь?
– Разве похоже, что я до сих пор не простил тебя? Сахара добавить?
– Конечно, – она разочарованно отодвинулась. – Как всегда.
– Вкусы меняются. Стоит лишь взглянуть на меня и на Матвея, как убедишься в этом.
Маша сделала еще шаг назад:
– Ты не хочешь иметь с ним ничего общего?
Покопавшись в ящике, Аркадий извлек ложку и тогда обернулся:
– А что у нас общего? Я ведь не оспариваю никаких прав на тебя.
– А почему? – выкрикнула Маша, вцепившись в край стола. – Почему ты даже не захотел бороться за меня?!
Собрав в ладонь просыпавшийся сахар, он стряхнул его в раковину и сполоснул руки.
– Мне кажется это унизительным, – ответил он как-то задумчиво.
Машин гнев сразу сменился горечью:
– Твоя гордость управляет тобой.
У него вырвался едкий смешок:
– Не хочу даже намекать, что в таком случае управляет тобой. Пей свой кофе, он остывает, пока ты кипятишься.
Маша послушно сделала несколько глотков, коротко взглядывая на него поверх чашки. Проследив за ней, Аркадий спросил:
– К чему этот разговор? У меня такое недоброе предчувствие, будто ты готовишь очередную операцию вторжения. Теперь уже в нашу семью.
Она ахнула:
– В вашу?! А я к ней не имею отношения?
– А разве имеешь? Он теперь твоя семья.
Машу на мгновенье отбросило во времени. В тот самый день перед Новым годом, когда они с Матвеем еще только ехали сюда. Тогда она произнесла те же слова: «Ты теперь моя семья». И услышала в них потайную фальшь.
– Ты не пустишь меня назад, я знаю. Даже если я буду очень об этом просить…
Вцепившись в чашку, Маша ждала: послышится ли в его ответе хоть отзвук спасительной для нее надежды? Но Аркадий проговорил почти безразлично и по-простецки, будто вовсе не женщина стояла перед ним, поскреб подбородок:
– Чего уж скрывать, были ночи, когда я твердил, как умалишенный: «Вернись ко мне! Вернись же…» Если б ты появилась тогда… Тебе даже просить не нужно было бы. А потом… Усталость накопилась, что ли. Работы много было, и с домашними делами с непривычки долго возился. В общем, я стал засыпать мгновенно. Одеяло не успевал натянуть. И стало как-то все равно, понимаешь? Как принято говорить, жизнь пошла своим чередом. А тебе, конечно, хотелось, чтобы я страдал вечно?
– Я вообще не хотела, чтоб ты страдал, – Маша устремила взгляд на чашку с коричневыми подтеками, лишь бы он не уловил, как все в ней застонало: «Да, я хотела этого! Какой женщине этого не хочется?»
Он улыбнулся:
– Тогда ты должна быть довольна.
– Это ужасно! – вырвалось у нее. – То, как мы сейчас разговариваем.
– Что же в этом ужасного? Вот если б мы орали друг на друга…
– Это было бы лучше! А так мы словно чужие.
Аркадий спокойно заметил:
– А мы и есть чужие. Если ты надеялась завести мужской гарем…
«Конечно! Именно на это я втайне и надеялась!»
– …то тебе это не удалось.
Маша толкнула чашку. Тяжело скользнув по столу, та замерла далеко от края.
– Разобьешь еще и ее…
– Я ничего не хотела разбивать! Я влюбилась, ты можешь это понять?
– Могу, – сказал он. – Понять могу. Но помочь тебе в этом – нет. Да ты и сама не знаешь, чего хочешь.
Не слушая его, Маша заговорила взахлеб, одновременно стараясь давить едкие слезы, которые могли оскорбить Аркадия:
– Но мне так и не удалось создать другой мир. Новый дом. У меня нет дома! Семьи нет. То есть другой нет, кроме тебя, Мишки, Стаса…
– Маша! – произнес он громко, точно призывая жену очнуться.
– Ну, что? Что?
– Пошли работать.
Глаза у Аркадия потускнели, отчего ей стало не по себе. Маше показалось, что этот разговор состарил его еще больше…
Глава 19
– Ничего, ничего, пусть поспит! Мы виделись утром, он не слишком расстроится, что прозевал встречу со мной.
– Ты еще ни разу не приходила вечером…
Аркадий выжидательно замолчал, и ей пришлось ответить:
– Мне, знаешь, как-то некуда деть себя. Больше некуда. Ты не против, что я побуду с вами? У Матвея все время какие-то дела… Хотя какие у него могут быть дела в этом городе?
Это прозвучало так, словно Маша пыталась его разжалобить, и ей самой не понравился свой тоненький, совсем чужой голос. Но Аркадий ничем не выдал недовольства, если оно вообще в нем было. Иногда Машу начинало не на шутку беспокоить подозрение: а что, если он сам однажды пережил подобную тихую смерть без кого-то нужного, отсюда в нем эта готовность понять ее. Она ничего не знала об этом, ведь если его сердце и разрывалось, Аркадий не издал ни звука.
«Почему бы не поговорить об этом теперь?» – думала Маша, сидя рядом с мужем у Мишкиной постели. Из-под одеяла высунулась голая нога спящего сына, и Машу вдруг поразило, какими крупными стали его пальцы: «Он уже совсем вырос… Скоро перестанет нуждаться во мне. Как Стас».
Ее охватил страх, от которого бросило в жар: что, если, решив выгадать пять лет молодости с Матвеем, она потеряла последние пять лет счастья? Его мог дать ей этот ребенок. Уже почти выросший…
Где оно, это пресловутое счастье, за которым она погналась? Где ощущение молодости? Каждое юное лицо беззвучно кричит ей: «Старуха!» – и заставляет трястись от ревности, ведь Матвей тоже его видит. И, возможно, слышит этот оскорбительный крик.
А ведь каких-то полгода назад она действительно чувствовала себя молодой. Была ею. Потому что выступала в своей возрастной категории и выглядела здесь лучше многих…
Когда Матвей тащил ее в ночной клуб или в пивной бар, где собирались подростки, Маша кожей ощущала на себе недоуменные взгляды и понимала, что она для них – чудаковатая тетка, которая притащилась сюда, чтобы народ смешить. Конечно, ей и в голову не приходило сказать об этом Матвею, а то и он увидел бы за ее плечами призрак старости. Порой, когда он откровенно маялся бездельем, у Маши вырывалось: «Ну, иди поиграй!» Она имела в виду казино и подобные ему «взрослые» игры, а он на днях взорвался:
– Не смей говорить со мной как с ребенком! Я тебе не заменитель сыновей!
В тот момент Маша даже не нашлась что ему ответить, так точно он угадал то, в чем она сама себе боялась признаться.
– Скажи, у тебя был с кем-нибудь роман, пока мы жили вместе? – спросила она шепотом, пытаясь отделаться от мыслей, выступающих на лице новыми морщинами.
Оторвавшись от детектива Акунина, Аркадий посмотрел на нее без удивления:
– Тебе станет легче? Хорошо. Был.
«Почему так больно? – оцепенев, Маша прислушалась, как тупо ударило в сердце это слово «был». – Разве сейчас это может что-то значить? Разве от уязвленного самолюбия болит так сильно?»
– Скорее, не роман, – раздумывая, добавил Аркадий. – Прелюдия к нему. Настроение. А действия не было.
– Из-за нее или из-за тебя?
– Из-за тебя, – он улыбнулся ей, как ребенку.
Продолжая прислушиваться к себе, Маша уловила: «А теперь с чего вдруг все так радостно встрепенулось? Инстинкт собственницы, и только? Неужели я так примитивна?»
– Знаешь, я рада это слышать, – призналась она и поглядела на его руки – тяжелые, спокойные. Мальчишки всегда хорошо засыпали у него на руках. На указательном пальце сейчас был несвежий лейкопластырь. – Ты где порезался?
Аркадий спрятал палец под черно-белую книгу:
– Да так, ерунда. Вчера мы со Стаськой жалюзи крепили в Мишкиной комнате, – он прислушался к дыханию сына. – Ему не нравится, что его комната просматривается из чужих окон… Кому это понравится?
– Какого они цвета? – Маша напомнила себе ослика Иа-иа, лишившегося лучших подарков, и не могла понять, какая из эмоций ей сейчас ближе: смех или слезы.
– Они полосатые, – он улыбнулся, представив. – Одна полоска белая, другая кремовая. Или светло-кофейная, не знаю, как будет точнее.
– А потолок? Надо сделать навесной потолок!
У него сморщился лоб:
– Плитками обойдемся. Правда, я не купил пока.
«Денег нет», – сообразила Маша. Ее охватила совсем забытая радость созидания. Она возбужденно зашептала, подавшись к нему:
– Давай после больницы зайдем в хозяйственный магазин, посмотрим! Тут в двух шагах. Мы успеем, они до восьми работают.
Аркадий удивился:
– Откуда ты знаешь?
– Я помню, – теперь ей действительно хотелось плакать. – Я ведь все помню.
Помолчав немного, Аркадий спросил, разглядывая обложку книги, оформленную в сдержанных тонах:
– Что-то все же не клеится?
На секунду Маша затаила дыхание: говорить с ним о Матвее – это ведь жестоко. Бестактно. И хотя она уже не раз делала это, чувство неловкости ее не покидало. С другой стороны, Аркадий сам спросил, значит, хочет знать, значит, ему небезразлично…
– В нем появилось что-то новое, – проговорила она, рассматривая пушинку, прилипшую к брюкам, и не догадываясь ее снять. – Агрессивное что-то… Я пыталась понять, что именно, но никак не могу. Думала, что он бесится от безделья, он ведь по своей натуре очень деятельный человек.
– Ты говорила, – спокойно напомнил Аркадий.
– Да? Я предлагала ему вернуться домой, к делам… Но уезжать он тоже не хочет. А чего хочет, совершенно не понятно. Я даже не знаю, чем он занимается целыми днями… Раньше он ждал моего возвращения из больницы, а теперь я прихожу – его нет. До позднего вечера. Мне уже в голову лезет всякий бред! – Маша судорожно втянула воздух. – Ты видел вчера фейерверк где-то возле моста? Роскошный! А ведь не было никакого праздника… Почему-то первое, что пришло мне в голову: это Матвей придумал! Это похоже на него… И он может себе позволить. Но когда он вернулся, то был таким мрачным, что я даже не осмелилась спросить, в чем дело. Понимаешь, он взглядом пресекает все расспросы. Значит, есть что скрывать?
Она не могла рассказать Аркадию еще и о том, что пугало ее сильнее всего: больше не было ночей любви, случались лишь короткие нападения с его стороны, скорее похожие на изнасилования. А когда Маша спрашивала: «Почему – так?», Матвей выкрикивал: «Чем ты еще недовольна? Скажи «спасибо» и за это!» И отворачивался.
Маше оставалось полночи смотреть в темноту, прислушиваясь к тому, как ноет растерзанное тело, и к странным вскрикам и стонам Матвея. Что-то настигало его во сне, его личные демоны, которые были опасны для них обоих. Маша предполагала, что он пытается избавиться от чего-то страшного. Нападая на нее, возможно, он ошибочно подозревал, будто это «что-то» таится в ней. Но они оба уже поняли, что эти истязания ее плоти не помогают, ведь кошмары продолжали преследовать Матвея из ночи в ночь. И Маша уже не представляла, чем может ему помочь…
– Я лишь понаслышке знаю тот круг, в котором он вращается, – сказал Аркадий. – Но, судя по всему, законы там волчьи… Может, кто-то давит на него? Ну, я не знаю! Вымогательство, шантаж…
– Почему же он мне не скажет?
Аркадий напомнил, не пожалев ее:
– Разница в возрасте. Возможно, он боится, что ты сочтешь его сопляком, мальчишкой, не умеющим самостоятельно справляться с проблемами. Что-то в этом роде…
У Маши вырвалось:
– Я думала, что с ним я почувствую себя гораздо моложе… А теперь вот вынуждена нянчиться с ним и терпеть его бесконечные капризы. А он еще и скрывает от меня все! Все!
Она едва не зажала себе рот, ужаснувшись этим признаниям, высказав которые предавала Матвея. И тому, что за ними, особенно не скрываясь, маячила мольба, обращенная к бывшему мужу: «Когда ты нянчился со мной, было куда лучше…»
– Я старше тебя, он моложе. Но разве в этом дело?
Маша тускло согласилась:
– Скорее всего, не в этом. А в чем?
Потрогав лейкопластырь на пальце, Аркадий заметил:
– Кажется, это называют «кризисом середины жизни». Или «кризисом сорокалетних». Ты знаешь об этом не хуже меня. Возникает страх, что не будет уже ничего нового. Что все твои мечты, казавшиеся перелетными, осели на берегу и вросли в него…
Маша подалась к нему, жадно вглядываясь в знакомое, мягкое лицо:
– Ты тоже прошел через подобное? И каково это? Почему я ничего не знала?
– Тебе это еще только предстояло. Зачем было заставлять тебя страдать дважды?
– Напрасно. Может, я сумела бы подготовиться через тебя…
– Это вряд ли, – бесстрастно заметил Аркадий. – У нас это протекало по-разному: мне хотелось повеситься, тебе – убежать. Ты это сделала, я – нет.
Она воскликнула шепотом:
– И слава богу!
– Если б я повесился тогда, тебе не пришлось бы разрываться полгода назад, – он улыбнулся, но Маше это шуткой не показалось.
Ее шепот немногим уступал крику:
– Не смей так говорить! Мне и так тошно, а ты еще пытаешься оскорбить меня?
Аркадий сделал удивленные глаза:
– Тебе тошно? Ладно, извини.
– Как ты можешь? – у нее беспомощно затряслись губы. – Ладно, он… Но ты! Ты же все понимаешь!
– Мама?
Маша подавилась своим горьким гневом и уставилась на Мишку:
– Ты уже проснулся?
– Вы что – ругаетесь?
– Как раз нет, – заверил Аркадий и похлопал по одеялу, сразу отложив книгу. – У нас тут маленький диспут о смысле жизни.
Мишка заинтересовался:
– О чем?
– Это такая штука, вроде Атлантиды. Может, когда-то она и существовала, но давно уже исчезла. А все зачем-то пытаются ее отыскать.
– Чтобы выяснить, станут ли они счастливее с этим знанием, – пояснила Маша.
То ли плохо соображая после сна, то ли мгновенно пропитавшись родительской нервозностью, мальчик заспорил:
– А зачем становиться счастливее? Разве так, как есть, – плохо?
Она поняла, что хотел сказать сын: вот так, как сейчас, когда вы оба рядом, – разве не замечательно? Что может быть лучше? Об этом Маша спросила уже себя и с ненавистью бросила в ответ: «Сволочь бессердечная! Чего ты добилась? Сделала несчастными троих самых лучших людей ради того, чтоб сравняться в положении со стареющей шлюхой, которая обязана стерпеть что угодно, потому что все оплачено деньгами… На месте Аркадия выкинула бы себя отсюда! Из их жизни вообще…»
– Так – хорошо, – сказала Маша, взяв горячую после сна руку сына. – Только иногда это поздно понимаешь.
– Маша, тебе не пора? Ты ведь, кажется, торопилась куда-то?
Этот оклик Аркадия обжег ее. Она обернулась в изумлении и увидела в его обычно спокойных глазах холодную ярость: «Ты что делаешь? Ты ведь даешь ему надежду на то, что вернешься. Но ведь ты не вернешься… Ты бросаешь его сейчас во второй раз».
У Маши в горле так и вскипело: «А ты примешь меня назад?!»
Аркадий отвел глаза.
– Мне действительно пора, – проговорила она потерянно. – Я еще хотела…
Мишка забеспокоился:
– А ты что, утром не придешь? Завтра же вторник, ты помнишь?
– Конечно, приду! – Маша мужественно продолжила: – Я хотела бы приходить и вечером… Если папа не против, конечно.
– Да меня ведь выпишут скоро! Может, уже послезавтра? Если ходить получится… А давайте в слова сыграем! – мальчик попытался приподняться, но родители разом прижали его к кровати.
У Маши промелькнула мысль: «Мы снова сыграли в четыре руки…» Сын цепко схватил ее:
– Или ты торопишься?
Она с легкостью открестилась от не до конца продуманной причины своего ухода:
– Никуда я не тороплюсь! Эти дела могут подождать. Они вообще – необязательны.
Ловко перевернувшись на живот, Мишка полез в тумбочку:
– Где-то у меня тут листочки…
Не говоря ни слова, Маша умоляюще посмотрела на Аркадия: «Можно я останусь?» Не ответив, он дернул «молнию» на сумке:
– Две ручки у меня есть. Где твой карандаш?
«Стас и раньше не всегда играл с нами… А так, будто мы и не расставались». Она вдруг заметила, что у нее дрожит рука, и подумала, что уход от страсти к покою – такому вот, желанному, как никогда, – тоже может волновать.
У Мишки светились глаза:
– Какое слово возьмем?
«Телевизионщик», – ее мозг обожгла неуместная здесь тень Матвея, и она с ужасом подумала, что он всегда будет возникать в ее мыслях в самый неподходящий момент и, как сейчас, лишать сил.
– Электрокардиограмма, – предложил Аркадий.
Наморщив лоб, Мишка быстро нашел изъян:
– «Н» нету. Ну, и ладно! Давайте!
Маша потянулась к его листку, как делала всегда:
– Давай напишу тебе слово…
– Зачем? – остановил ее Аркадий. – Он давно уже научился делать это сам.
– Давно? – машинально переспросила она и подумала: «Он не пустит меня в их жизнь. Ни за что не пустит. Он больше не верит мне».
Но, быстро записывая столбцами коротенькие слова, вычлененные из одного, длинного, Маша вновь почувствовала успокоение, которое обволакивало ее теплом. Как будто именно сейчас та страшная драма, в которую все они были втянуты, могла наконец закончиться. И они, как выдохшиеся после спектакля актеры, отправились бы домой. Только все вместе и в один дом.
«Почему – нельзя?» – ныло в ней.
И тут опять в мысли вернулся Матвей, с его непонятной, пугающей бедой, уже озлобившей его до того предела, когда он переставал быть собой. Он больше не смеялся и не фантанировал идеями… Если только тот фейерверк… Но наверняка Маша не знала, его ли это рук дело. Ей опять стало холодно: как можно бросить его в таком состоянии?
Спохватившись, она перестала записывать новые слова, чтобы Мишка не проиграл, ведь Аркадий наверняка придумает больше. Если меньше слов окажется у него, сын заподозрит неладное, ведь такого еще не бывало. А Маша действительно иногда проигрывала. Особенно в те месяцы, когда в мыслях у нее был Матвей, только Матвей, и ничего, кроме Матвея…
«Тогда я точно знала, что умру без него, – вспомнилось ей. – А сейчас уже готова оставить его умирать в одиночку. Великая любовь длиной в полгода! Но ведь не из-за меня же! Из-за кого-то или чего-то мне даже неизвестного… Или известного?»
Когда они вместе вышли из больницы, немного стесняясь этого, как школьники, Аркадий заметил первым:
– А вот и он. Его джипище… Не беспокойся, я в состоянии выбрать плитки для потолка. Тем более…
Не договорив, он быстро пошел вперед, вскинув голову и даже не кивнув в сторону машины, ведь Матвей тоже не вышел к ним навстречу. Маша закончила за мужа: «Тем более ты все равно не увидишь этот потолок. Потому что я на порог тебя больше не пущу!»
Конечно, она переборщила с категоричностью, так Аркадий бы никогда не сказал. Но ей нужна была инъекция злости перед разговором с Матвеем, от которого Маша уже не ждала ничего хорошего.
Но она не представляла, что все может быть настолько плохо. Матвея колотило до того, что зубы стучали.
«Наркотики?» – подумала она с ужасом.
Ей захотелось выскочить из машины в темноту, догнать Аркадия, вцепиться в его локоть, упросить взять с собой… Но Маша тут же решила, что не могла не заметить следы от уколов. Их не было. Его тело она хорошо знала.
Матвей то хватался за руль, то отталкивал его. Маша ясно увидела спокойные руки Аркадия, и опять захотелось, чтобы он избавил ее от того страшного, к чему она опять вернулась.
– Что происходит? Ты можешь объяснить? – спросила Маша, стараясь говорить мягко, чтобы не вывести Матвея из себя.
Еще месяц назад, ей и представить было трудно, чтобы он кричал на нее.
– Почему ты ушла из гостиницы? Ты же никогда не ходила в больницу по вечерам!
Он задыхался, но это была не злость. Маше показалось – его душит хорошо знакомый ей ужас.
– Не ходила. Но тебя ведь тоже не было. Я не обязана сидеть в номере целыми днями.
– Почему ты ушла?! – взвыл Матвей, запрокинув голову. – Ничего не случилось бы, если б ты не ушла! Ты должна была быть со мной!
У нее остановилось сердце:
– А что случилось?
Его швырнуло вперед, потом снова отбросило обратно на спинку сиденья.
– Если б ты была там… Я остался бы с тобой, слышишь?! Как ты могла уйти?
– Я же не знала, когда ты вернешься! Что ты натворил?
– Да замолчи ты! – заорал он.
Удар пришелся Маше в солнечное сплетение. Сдавленно охнув, она скрючилась, хватая ртом воздух, а в мыслях мелькнуло: «Вот оно! Дождалась…» Темнота выпустила фиолетово-оранжевые круги, они нанизывались на шею, не давали продохнуть.
Не обращая на нее внимания, Матвей процедил:
– Я уезжаю. Прямо сейчас. Я мог бы уехать сразу, но не смог сделать этого, не увидев тебя. Я ведь тебя любил! – его голос сорвался от ненависти. – Но я выпал из твоего мира! Ты только сделала вид, что перешла в мой… – Матвей вдруг подавился смехом, который пугал еще больше ненависти, – муравейник… Копошились бы себе, карьеру делали… Но тебя потянуло назад! К людям… Черт! Так страшно тянет к людям, с этим не справиться! Я и не знал… А те, другие из этой кучи… Они скажут, что этого и следовало ожидать. Типа они именно это и предсказывали… Я подтвердил все возможные муравьиные стереотипы… Чушь! Всего этого могло и не быть.
Она выдавила в ответ, про себя удивившись: «О каких муравьях он бормочет? Что это за навязчивый образ?»
– Ты кого-то убил?
– Нет, – отрезал он. Помолчал и добавил: – Но я был близок к этому. Потому что ничего не помогает. Ничего. Я сошел бы с ума, если б не… О-о… – его ладони вжались в лицо, мяли его, словно пытаясь слепить заново. – Что я наделал… Что мне делать теперь?!
– Ты уезжаешь… от меня?
Маша прислушалась к себе, но отчаяния не было. Если б Матвей сказал это хотя бы неделю назад, она взвыла бы еще громче его…
Подергивающееся лицо, с прилипшими ко лбу серыми волосами надвинулось, обдав Машу все той же ненавистью, кроме которой в нем, казалось, ничего не осталось:
– Я ото всех уезжаю. А ты можешь оставаться здесь, тебе же этого хочется! Погуляла на воле, пора в норку, к детенышам.
«Не возражай! – приказала Маша себе. – А то он и меня… А что, если он и вправду кого-то убил? Готова ли я была хоть когда-то умереть с ним вместе?»
Она решилась спросить:
– Почему все так изменилось?
– Почему? – смех Матвея показался ей страшным. – Твое проклятое чувство вины задушило нас обоих! Если б ты не стала рваться домой, я тоже не крутился бы возле вашей норы, и тогда я не…
Он опять успел вовремя поймать самые важные слова, прежде чем произнес их вслух:
– Тебя будут искать? Что я должна говорить? Меня ведь спросят, если это… Это преступление?
Маша была вынуждена тыкаться вслепую, не понимая, по-настоящему ли страшно то, что происходит. И если речь о прощании, то разве так в последний раз говорят люди, еще несколько дней назад составлявшие друг для друга целый мир? Ведь это же было… Никогда еще жизнь не демонстрировала свою скоротечность с такой беспощадностью.
Матвей угрюмо сказал:
– Меня не найдут.
– Понятно. Значит, я тоже могу не искать?
– Ты? – у него опять затряслось все лицо. – Ты не станешь меня искать. Завтра… Да, наверное, уже завтра ты будешь думать обо мне с отвращением. Кривиться будешь: «Фи! Как я могла спать с этим животным!»
У нее вспыхнуло лицо, и, хотя он не мог этого разглядеть, Маша прижала руки к щекам:
– Зачем ты так говоришь?
Потянувшись через нее, Матвей открыл дверц, и лишь тогда переспросил:
– Зачем? Да потому что так оно и есть… Ты ведь и влюбилась в молодое сильное животное. Умный и человечный у тебя уже был.
Глава 20
– Сначала вставай на колени, а потом медленно сползай, – Маша следила за собой, чтобы не слишком впиваться в руку сына, а пальцы сжимались вокруг нее сами собой.
Им предстояло сделать первые шаги, и сейчас было куда страшнее, чем когда они проходили через это спустя одиннадцать месяцев со дня рождения сына. Но Мишка решил показать характер: оторвавшись от материнской руки, он сразу пошел к двери, и Маша поняла, как не терпится ему хоть ненадолго вырваться из больничного заключения.
Она рванулась за ним следом, с болью наблюдая за тем, с каким мучительным усилием сын передвигает ноги, точно больной ДЦП. За пять минут до этого врач заверил, что дня за три мышцы оживут и перестанут болеть. Он был слишком молодым, этот доктор… Считаные дни обернулись двумя неделями, но сейчас они еще не подозревали об этом.
У Маши пронзительно щемило в груди, ведь это только казалось, будто сын уходит от нее. На самом деле Мишка шел к ней, к той их жизни, которую они чуть не потеряли… Сейчас необъяснимое бегство Матвея, из-за которого она промучилась всю ночь, уже казалось Маше избавлением. Не столько от него, сколько от того неудержимого в ней самой, что взбунтовалось с его появлением. Теперь оно казалось Маше темным и разрушительным, и было странно, почему раньше, совсем недавно, она воспринимала то же самое чувство как прорыв к свободе. Путь к свету.
Потихоньку прошаркав по коридору, они выбрались в полутемный, прохладный холл, в котором ничто не располагало к свиданиям. Не было ни скамеек, ни лимонов или пальм в горшках, которыми гордились другие больницы. Хотя в этой лежали дети, которым в радость было бы увидеть цветы или хоть что-то, напоминающее свободу…
– Мишка… Идет… – прошептала Маша, бережно баюкая в себе это новое чудо.
– Давай спустимся вниз! – его умоляющие глаза могли уговорить кого угодно.
Но спуститься они не успели.
Оттого, что Аркадий не просто бежал по лестнице к ним навстречу, а словно ломился сквозь воздушную стену, всем корпусом устремившись вперед, у Маши сразу упало сердце: «Что еще?!» Ей как-то удалось пережить сегодняшнюю ночь, такую черную, что уже с трудом верилось в наступление утра. Но Аркадий нес в себе еще большую черноту, она почуяла это, как звери чуют приближение катастрофы.
– Папа! – завопил Мишка, всем своим существом ликуя оттого, что отец видит его на ногах, уже снова – равного среди равных.
Маша едва не крикнула: «Обрадуйся! Потом… Потом ты перевалишь на меня свою ношу. Я приму ее. Но сейчас – обрадуйся!»
Однако Аркадия не нужно было учить быть отцом. Мгновенно отрешившись от всего, с чем бежал сюда, он победно вскинул руки и потряс сжатыми кулаками, как постаревший, но все еще сильный вождь племени:
– Мы победили!
Боясь неосторожно тряхнуть сына, он только прижал его успевшую обрасти волосами голову к груди и припал губами к макушке. Он еще не оторвался от мальчика, но уже поднял глаза на Машу, и она попятилась под этим мрачным взглядом.
– Не устал? – он улыбнулся Мишке. – Вот молодчина какой! Я знал, что ты сразу сможешь ходить. У кого-то не получилось, а ты сможешь!
«Чуть-чуть переигрывает, – заметила Маша. – Но сейчас такой момент… Фонтан эмоций. Можно и пережать немножко».
Ей вдруг захотелось броситься по лестнице вниз, убежать от того страшного, чем Аркадий еще не поделился с ней, а значит, ничего этого как бы и не было. Но Маша только незаметно придвинулась к сыну, прячась за его слабеньким телом.
– Я хочу сходить на первый этаж! – счастливо сияя глазами, заявил Мишка. – Не берите меня за руки, я сам, ладно? Я буду держаться за перила.
Смирившись с необходимостью удержать все в себе еще на четверть часа, Аркадий пристроился рядом с сыном. Маше пришлось спускаться позади, сравнивая их затылки и плечи. Ей хотелось, чтобы в Мишке было побольше отцовского…
Иногда Аркадий оборачивался, и взгляд его не сулил ничего хорошего.
«Не со Стасом, – уговаривала она себя. – Это он не смог бы скрывать так долго. С мамой? С отцом? Телеграмма? Нет, из-за них он так не мчался бы… Да они и не написали бы мне по старому адресу. Они знают».
Ее кольнула вспомнившаяся строчка из отцовского письма: «Вот уж не думал, что вырастил вертихвостку. Ты, дочь, еще сама не понимаешь, что потеряла. Локотки кусать будешь». Она и не рассчитывала особенно, что родителей обрадуют перемены в ее жизни, но такая злорадная холодность расстроила Машу. Чтобы ответить им, она собиралась с духом несколько недель…
На площадке второго этажа Мишка остановился и, быстро взглянув на отца, виновато вздохнул:
– Я, наверное, рано обрадовался…
– Что? Больно? – всполошилась Маша.
Аркадий заслонил сына:
– Давай отнесу тебя назад.
– Ну, вот еще! – от возмущения Мишкины щеки стали багровыми. – Я сам поднимусь. Просто до первого этажа сегодня не дойдем.
Дотащив непослушные ноги до своей кровати, мальчик вытянулся на животе, совсем по-детски скрестив обутые в носочки ступни. Маше захотелось подержаться за его пяточку, как она делала десять лет назад, но Мишка смертельно обиделся бы, если б она так опозорила его перед мальчишками.
Аркадий провел ладонью по его спине:
– Отдохни пока… Теперь самое страшное позади, теперь будем ходить. А сейчас полежи, нам с твоей мамой поговорить надо.
«Надо?» – жалобно пискнуло у нее внутри, но ослушаться Маша не посмела.
Не взглянув на нее, Аркадий вышел из палаты, уверенный, что она последует за ним. У Маши заколотилось сердце и ослабели ноги, но хватило сил подмигнуть сыну и выйти в коридор.
Едва не прищемив ее юбку, Аркадий резко закрыл дверь в палату. Лицо у него перекосилось от ярости, которую больше не нужно было сдерживать. Таким Маша видела его только в тот день перед Новым годом, когда упал Мишка. Из-за нее.
– Что случилось? – выдохнула она, погружаясь в холодную дрожь.
– А ты не знаешь? Действительно не знаешь? Похоже, что нет… Он изнасиловал эту девочку Нину. Или как ее зовут? Да ты помнишь!
– Стас?! – вскрикнула она и ударилась спиной о стену, оказавшуюся совсем близко.
Аркадий прошипел:
– С ума сошла?! Твой Матвей это сделал. Где эта сволочь?
– Он… уехал, – Маша плохо понимала, что говорит. – Вчера. Господи… Подожди, я что-то…
Большие пальцы вдавились в виски. Вот оно что. Вот отчего он бежал… Не вчера. Столько дней пытался убежать… Не удалось. Нина? Почему – Нина?! Господи… Как же это случилось?
Не пытаясь помочь ей, Аркадий резко бросил:
– Она в больнице. Он сам довез ее до больницы, представляешь? Как это назвать? Отрезвление? Или дьявольская хладнокровность? Изнасилование может сочетаться с хладнокровностью? Избил ведь до этого… Я не видел ее, но, говорят, изуродовал. Бедная девочка… За что? Из-за Стаса? Не до конца еще уничтожил нашу семью? Наш с ума сходит, – он тоже устало привалился к стене. – Почему-то Стас все кричал: «Но я ведь только подумал! Только подумал!» О чем подумал? Или это просто шок?
Маша опустила руки. Внутри было пусто… Выжжено до черноты…
– Я не пустил его к тебе, – угрюмо заметил Аркадий. – Он мог бы тоже натворить что-нибудь…
– Что? – безразлично спросила она.
– Не знаю. Ударить тебя мог.
– Меня?
– А кого же еще? Он считает именно тебя виновной во всем. И в том, что случилось с Мишкой. И с Ниной тоже… Ты притащила сюда это…
Кажется, он хотел сказать «чудовище», но у Маши уже вырвалось:
– Животное. Молодое, сильное животное. Он сам так сказал о себе. Вчера.
У Аркадия опять дернулось лицо:
– Знаешь, меня как-то не трогает, что он это понимает…
– Он ненавидит себя.
Маше было все труднее говорить, рыдания душили спазмами, но их приходилось сдерживать. Она вытолкнула из горла:
– Мне уехать?
– А Мишка? – зло бросил Аркадий. – Ты уже успела влюбить его в себя! Страшно и представить, что с ним будет, когда ты уедешь…
– Что же…
– Делать? Откуда мне знать? Стас не простит тебе этого. По крайней мере, не скоро.
Она уцепилась неприятно влажными ладонями за крашеную стену:
– А ты?
Откинув голову, Аркадий прижался затылком к плакату: «Осторожно, грипп!» Зловещего вида зеленый вирус с выпученными глазами тянулся к его виску. Маше захотелось закрыть его рукой, чтобы тот его не тронул.
– Я не знаю, как быть, – признался он. – Чтобы не уподобляться тебе и думать в первую очередь не о себе самом, я должен бы сказать: «Оставайся!» Ты действительно нужна Мишке. Но я сейчас не чувствую ничего, кроме… отвращения. И к тебе, уж извини, и ко всей этой истории в целом. Может быть, это пройдет. Может, мы переболеем этим…
– Как гриппом, – тупо глядя на буквы поверх его головы, подсказала Маша.
– Так? Ну, может быть. Грипп тоже не подарок. Ломает всего. Тебя не ломает?
– Я уже сломалась…
– Еще нет, – заверил Аркадий. – Сейчас у тебя есть за кого держаться. Мишка – святое существо. Ему и в голову не приходит, что это по твоей милости он провалялся здесь целый месяц.
– Ты думаешь, он не понимает?
– Ладно, не будем об этом, – Аркадий вяло махнул рукой. – Оставайся с ним, а я поеду к Стасу… А он, оказывается, настоящий мужик, не отшатнулся… Он с ней сейчас. Тоже в больнице. На другом конце города. Весело мы встретили Новый год…
Маше зачем-то вспомнилось:
– Лошади.
– Что? Ну да… Очень какая-то буйная лошадь. Бешеная просто. Ох, – он провел рукой по лицу, словно пытался стереть наваждение. – Это все – правда?
Она промолчала. Ей еще предстояло поверить в то, что произошло. Сейчас были потрясение, боль, но настоящая чернота пока только виднелась вдали…
– А ведь он не показался мне зверем, – задумчиво сказал Аркадий. – Матвей. Он устроил мальчишкам праздник… Я, конечно, бесился, когда видел его…
– Ты? Бесился?
– Но на это были причины, правда?
Нужно было хотя бы кивнуть в ответ. Хоть как-то подтвердить, что она расслышала последние слова. Но Машу все сильнее сковывало неживое оцепенение, будто это она умирала оттого, что надругались над ее телом.
«Над душой», – она подумала об этом с той отстраненностью, которая свойственна тяжелобольным и непонятна всем остальным.
Аркадий заглянул ей в лицо:
– Ты жива?
– Я жива, – ответила она.
– Придется жить, жена, – он попытался усмехнуться, потом мотнул головой. – Мерзко все. Кроме одного… Я зайду, поговорю с ним, постой пока здесь. А потом останешься с ним.
– Всегда? – спросила она шепотом, но Аркадий уже не услышал вопроса.
Когда он вошел в палату, Маша обнаружила, что осталась одна в полутемном, слишком мрачном для детского отделения коридоре. Не было видно ни больных, ни медсестер. Это значило, что наступило время «тихого часа», а ей подумалось: пришла пора длинного туннеля. В конце которого не каждого ждет свет… Но что преподнесет тебе жизнь, никогда не знаешь заранее.
Звезды, шары и молнии… повесть
Посвящаю Евгении Роот, племяннице великого Альфреда Шнитке, осветившей и мою жизнь тоже…
* * *
Из больничного окна мир кажется до тошноты красивой иллюстрацией, даже если на улице идет дождь. Все глянцевое, выпуклое, текучее… Так нарисуешь на альбомном листе – покажется примитивной фотографией. А природа самой себя не стесняется, это лишь человеку свойственно. Можно подумать, мы в силе передать сущность задуманного Богом, исказив при этом его творение до неузнаваемости. А если не пытаешься выразить задумку всевышнего, то зачем вообще браться за карандаш?
«Больше и не возьмусь», – Дина отвернулась от окна, хотя с постели ей и видно-то было одни ветки. Влажные, яркие листья, откровенно подрагивающие от прикосновений летнего дождя… Тошно смотреть.
Все живое – там, за окном. Среди свежих деревьев с оживленно шепчущейся листвой, под тихим дождем. И туда нет хода, словно ты уже вычеркнут из списка живущих. «Я – в чистилище», – поняла она еще месяц назад. Здесь другие звуки и запахи, и глаза у людей не такие, как у тех, что на свободе. У людей? Все-таки – да.
Дождь незаметно ускользнул, время и его сглотнуло, как всю ее жизнь до сегодняшнего дня. И вот уже солнце откровенно издевается, заглядывая в окна, отблескивая в ложке, торчащей в мутном стакане, разрисовывая бесцветные стены. Раздражает. Но для того, чтобы задернуть шторы, нужно встать и сделать несколько шагов. Невозможно…
– Ну и что мы лежим, Шувалова? – опять заглянула медсестра. – Тебе же доктор еще утром разрешил вставать. Если через пять минут не поднимешься, позову Игоря Андреевича, так и знай!
Вволю построжившись, она с легкостью сменила маску эмоций на лице и звонко затараторила, обращаясь ко всем сразу, а в общем-то ни к кому:
– Ой, слушайте, сейчас в травму одного бомжа привезли, да еще не русского какого-то… Он, естественно, весь грязный, как черт! Чуть ли не в коросте… Девчонки его в ванну положили отмокать, а он там, видать, ногой двинул, и пробка выскочила. Санитарка заходит, а он в пустой ванне лежит! Она спрашивает: «А вода-то где?» А он себя по пузу хлопает: «Вся впиталя…»
«Очень смешно! – Дина отвернулась, чтобы не видеть этот яркий, смеющийся рот. – По весне этих бомжей уже мертвыми из люка канализации, что за нашим домом, десятками вытаскивают. Просто ухохочешься!»
Всех сестер в ортопедии, где Дина оказалась потому, что в соседней травматологии было забито под завязку, зовут одинаково – Машами. Специально, что ли, их так подбирали, чтобы и без того сбитые с толку больные еще больше не путались? Иначе их и не отличишь: все как одна громкоголосые, легконогие и одинаково хорошенькие. Слепки этого чертова шоу-бизнеса, который Дина всегда презирала. Рок – другое дело, не стыдно слушать. Даже если это русский рок. А может, особенно, когда русский…
«Господи, при чем тут рок?!» – очнулась девушка.
Хоть заслушайся сейчас – не поможет. Мысли путаются… А собирать их воедино она разучилась. Незачем. О медсестрах ведь думала. О том, что руки помощи эти Машки не подадут – сама, все сама! Большая девочка… Разве они в состоянии понять, как это страшно – опять встать на ноги? Повторить свой первый шаг спустя семнадцать лет… Нет, скорее, шестнадцать, не с рождения же Дина научилась ходить.
Сколько ей было тогда? Год? Десять месяцев? Никто в мире этого не помнит. Потому что только она из всей семьи и выжила после той аварии, когда в их «реношку» врезался джип какого-то известного, как говорили в больнице, адвоката, вылетевшего за сплошную линию. Куда он так торопился, сволочь? Очередного вора спасать от тюрьмы? Сам жив остался, а Дина в одиночестве угодила в это чистилище. Он оплатил операцию и лечение, похоронил ее семью. Откупился. Снял грех с души. Его даже не судили, естественно… Второй месяц с тех пор пошел, она уже перестала выть в подушку.
Вот только думать об этом без того, чтобы голову не сжимало тисками, пока не получается… Неужели и этому можно научиться, как, например, заново ходить? Однажды ведь уже получилось, справилась с непослушными ногами и языком. Как это было? Почему она не расспросила о своем растворившемся в памяти детстве, когда родители и старшая сестра были рядом? Но так всегда: новый день кажется очередным звеном, если не бесконечной, то длиннющей цепи. Такой прочной на вид, что мы смело полагаем, что все еще успеется.
Теперь жизнь стала сиюминутной. Впереди – не путь в бесконечность, как представлялось еще в начале лета, а беговая дорожка: один шаг – и лента кончилась. Лучше закрыть на все глаза и не видеть собственных шагов на одном месте. Сейчас нужно встать, а о том, что будет завтра, лучше и не думать. Жаль, что садиться врачи еще долго не разрешат, хотя насколько проще было бы сперва сесть на постели, свесив ноги на пол, скользнуть пальцами по нагретому солнцем линолеуму, попробовать его всей ступней – не так ли зыбок, как кажется? Ступишь – и нога того и гляди уйдет вглубь по колено, аж сердце замирает!
Но медсестре до этого нет дела, у нее под ногами твердь земная. И воображение нормального человека, которому не мерещится каждую секунду, что едва сросшийся позвоночник от любого неловкого движения осыплется серой трухой.
Дина повернулась на бок, стараясь не смотреть на старуху напротив, которая из-за своего мениска стонала днями и ночами на все отделение. Одна из Маш даже презрительно фыркнула, не скрываясь:
– Да не так уж вам и больно, бабушка! Прямо потерпеть маленько не можете… Вон у нас во второй палате женщина, так у нее тринадцатая операция, а никого не достает со своими жалобами.
Дина ужаснулась, услышав это. Тринадцатая операция! И так можно жить? Это уже не чистилище даже, а самая тьма, где поселился ужас. Не дай бог туда попасть!
И тут же мысленно дала себе слово: «Когда начну ходить, вторую палату буду обходить за версту!» Правда, сначала нужно просто встать… Ничего себе – просто!
Дина перевернулась с бока на живот, попыталась встать на колени, а ноги – словно чужие, еле слушаются, дрожат, хотя она уже давно по ночам, когда никто не видел, прямо в постели занималась гимнастикой. Неужели от страха онемели? Бабка напротив даже стонать перестала, уставилась на нее, еще бы – такое шоу! Телевизора-то в палате нет. Это вам не люкс. И слава богу, а то Дину уже истерзали бы сериалами, которые все тетки по непонятной причине так любят.
Ей захотелось буркнуть что-нибудь такое, чтобы у соседки отпала жажда до зрелища. Даже больше – произнести отчетливо, как в детстве на занятии у логопеда, чтобы старуха не посмела не отвернуться. Но ни та, ни другая на выписку пока не собираются, как потом жить в одной палате, если с ними рассориться? И так-то почти с ней не разговаривают, да и о чем? Остальные четверо женщин меняются так быстро, будто им кровати особые достались. Оздоровительные. Дина даже подумывала: может, перелечь? Если научится ходить, то и спальное место сама поменять сможет. Неужели откажут?
«Да при чем тут эта кровать чертова? – остановила она саму себя. – Можно подумать, мне так не терпится выздороветь… У меня сейчас, как у чемпионов бывает – мотивации нет. На фига мне выходить отсюда? Куда торопиться? В пустую квартиру, что ли?!»
Руки подкосились в локтях, Дина ткнулась лицом в подушку и зубами стиснула пропахшую немытыми волосами наволочку, чтобы не взвыть в голос. Казалось, уже научилась думать о своем сиротстве спокойно, но куда там! Читала же, что люди годами этому учатся, и некоторым так и не удается смириться с одиночеством. И все эти «надо» не помогают, потому что они не имеют смысла… Кому надо? Только не ей…
Дина вытянулась на животе, повернулась лицом к стене, чтобы не видеть соседей. Особенно эту вечно стонущую старуху, которой собственная боль кажется самой нестерпимой. Всем так. И плевать ей, что у девчонки на соседней койке ноги подгибаются… Если какая-нибудь из Машек сейчас это увидит, сразу начнет нудеть: «А вот надо было делать упражнения, говорили же тебе! Доктор тебя предупреждал, что ходить не сможешь, если мышцы истают!» Того, что Дина ночами занималась, никто не видел, на это и рассчитывала. Противно было афишировать, что в ней столько малодушия и она собирается вернуться к жизни. Ей самой это казалось предательством по отношению к погибшим родным.
С кровати девушка сползла только после того, как медсестра во второй раз пригрозила позвать доктора. Не то чтобы Дине не хотелось его видеть… Но вынуждать Игоря Андреевича делать ей дурацкое внушение, которое он просто обязан будет сделать… Его жалко, он на два отделения пашет, травматолог-ортопед, лучший хирург, как все говорят. Только что очередная операция закончилась, и, как всегда после этого, у него такая усталость в глазах, что стыдно добавлять человеку проблем.
А порадовать особенно нечем. Цветочек ему нарисовать, как дети делают? Аленький… Только чудовище – это она, Дина. Или стишок сочинить? Глупость какая… Если он увидит, как Дина, обходясь без помощи, идет по коридору, может, хоть тогда улыбнется? Хорошая у него улыбка… Правда, Дина видела ее, кажется, всего пару раз.
Ей явственно вспомнилась она сама – скрюченная от страха, в жутком сером халате, слипшиеся черными сосульками волосы, а морда белая, как у мертвеца… Есть чему радоваться! Особенно Игорю Андреевичу с его внешностью киноактера: каштановые волны волос расходятся над высоким лбом, смешливый рот, нос крупноватый, про такой в книжках пишут – породистый, а глаза… Все-таки чаще они усталые, эти глаза. И зачем он стал хирургом? С такой-то внешностью…
Дина выждала, пока соседка забудет о ней, опять запричитает и с головой окунется в свою боль. Тогда, продолжая лежать на животе, тихонько спустила ногу, ткнулась босой ступней в теплый пол, уперлась. Вроде получилось. Стиснув зубы, приподнялась на руках и подтащила вторую ногу. Теперь оторваться от кровати, выпрямиться. Бабка даже не заметила, ни до кого ей дела нет, когда прихватывает. А это через каждые две минуты происходит, с ума можно сойти…
Остальные интереса не проявили. Одну тетку, с именем под стать месяцу за окном – Августа, только вечером положили, к операции готовят, она, пришибленная страхом, и внимания не обратила, что Дина – «лежачая». Другая бабулька, Татьяна Ивановна, курить убежала. Эта – шустрая, рыжая, весь день по другим палатам шляется или сканворды отгадывает, а ночами кашляет так, что кажется, душа сейчас отлетит, но курить ее тянет через каждые десять минут. У нее в плече травма, бегать туда-обратно она ей не мешает.
«Дома, – говорит, – сигарету из рук вообще не выпускаю».
А Дина здесь уже отвыкла и от этого, хотя в школе тоже прятались с девчонками в туалете, а вечерами – по чужим подъездам, чтобы покурить. Но сюда не просочилось ничего из ее прежней жизни. Сама не захотела.
Говорят, бывшие одноклассники приходили проведать, но Дина сразу предупредила медсестер, чтоб никого не пускали. Школа кончилась, все! Детство с его пупсиками и леденцами, с ревом из-за двоек и побегами с уроков в тот мир, где так заманчиво хрустит сентябрьская листва, осталось в прошлом… Больше ничего этого не будет. Даже прогулка в парке по сухим листьям теперь в голову не придет. Так взрослые не делают. То ли некогда, то ли уже неинтересно. И какая глупость все эти встречи выпускников, представляющих карикатуры на самих себя в прошлом, старающиеся прикинуться детьми, какими запомнились друг другу со школьных времен… Не получится. Только тошнотворный стыд останется оттого, что так не смешно кривлялись, выставляя себя дураками. Поэтому Дина и не захотела видеть тех, вчерашних, друзей…
Ну, следователь к ней, само собой, прорвался. Не отводя оловянного взгляда, объявил, что это ее отец превысил скорость, выехал на встречную, чуть ли не пьяный… И попробуй теперь докажи обратное! Родители всегда твердили, что законники – это особая мафия, с ними лучше не связываться. Дина и не собиралась. Да и как это сделать из замкнутого стенами мира, пропахшего лекарствами и хлоркой, с которой моют туалеты? Она еще ни разу не была ни в одном из них, но запах проникает и в палату. В каждого, кто здесь лежит.
Еще две тетки – Даша и Наташа – шепчутся на дальних койках, так совпали друг с другом, даже именами, что им ни до Дины, ни до кого дела нет. Вот и хорошо, она потихоньку прошаркала мимо них – те даже головы не повернули.
Даша эта, когда из-под наркоза выходила, в их отделении как раз единственный медбрат появился. Она уставилась на него, еще плохо соображая, и говорит: «Сестра… А где сестра?» А он ей так бодренько: «Я сегодня ваша сестра». Дина тогда рассмеялась впервые за все время, что здесь провела. Потом того мальчишку в травму перевели, там всегда народа не хватает…
Что ноги так подволакивать придется, Дина не ожидала, хотя и понимала, как нелегко будет. Ощущение возникло, будто в чужое тело угодила, а управляться им еще не научилась. Пришлось заставить себя разозлиться как следует, чтобы духу хватило в коридор выйти.
«Только бы на Машку не натолкнуться», – подумала она о любой из них. Начнет притворно хвалить, подбадривать, хотя на самом-то деле ей наплевать. И Дину от этого бездарного зрелища стошнит прямо на ее голубую униформу, на которой обычно ни одного пятнышка. Порхают по отделению этакие длинноногие Голубые Феи… Только ведь Дина их ни о чем не просила, ни о каких чудесах. Вытаскивать ее к жизни не просила, какого черта полезли спасать?! Что ей теперь делать одной на этом свете?
Но в коридоре вместо медсестры ее смутило другое… Взрыв хохота оглушил, чуть не снес волной, она и так еле держалась на ногах. Дина невольно оглянулась: у кого бы спросить, что там происходит? Врачи отрываются? Так ведь ординаторская в другой стороне, это она, даже не выходя из палаты, выяснила… Татьяна Ивановна поскорей бы накурилась, уж она-то все запросто разнюхает, не постесняется.
«Это, – говорит, – вам, девкам, стесняться надо, а мне-то чего уж комедию ломать?»
Однако старушка все не появлялась, не стоять же столбом, дожидаясь ее! И Дина побрела вдоль стены, стараясь пореже хвататься за нее рукой, хотя в голове шумело так, будто она оказалась на чужой планете с совершенно другим составом воздуха. То ли больше кислорода, то ли меньше… А в позвоночнике – вот что странно! – никаких болей, будто и не ломался, и не вставляли ей туда пластину какую-то. Поверить этому страшно, ведь получается, что все в порядке, мышцы на ногах скоро оживут, это ей Игорь Андреевич Костальский пообещал, а ему можно верить. Он – профи, все Машки об этом твердят без умолку, взахлеб. Наверное, каждая только и прикидывает, как бы заполучить его в мужья, ведь Игорь Андреевич, говорят, не женат. Это странно, уже не в первый раз отметила про себя Дина. Не потому, что Костальский – красивый мужик, и все такое, но что-то отцовское звучит в его голосе, будто он точно по собственному опыту знает, как разговаривают со своими детьми. Динкин отец тоже так с ней разговаривал…
«Каждому, – говорит Игорь Андреевич, – свой срок на восстановление мышечной активности нужен, но ты ведь совсем девочка, ты быстро бегать начнешь».
Вот только – зачем, этого, пожалуй, и он не знает…
Приглушенный разнобой голосов подступал все ближе, будто навстречу скользил по стенке, как солнечные полосы в палате. И еще не дойдя до двери, за которой так по-детски пытались скрыть веселье, Дина поняла то, чего не могла знать наверняка: звук идет из второй палаты, от той самой, миллион раз прооперированной женщины. Кажется, Машка не называла ее имени.
«А знала бы, можно подумать, в гости пошла бы!» Дина остановилась и повернула обратно. Не потому, что устала, хотя ноги уже болели нестерпимо, и хотелось сесть прямо на пол. (Плевать, что нельзя сидеть!) Но обида в тот момент пересилила боль: они там ржут как кони, а я тут…
И Дине уже не хотелось помнить того, что и к ней приходили подруги, но она сама никого не захотела видеть. Зачем? Чтобы они хихикали, рассказывая свои идиотские, так называемые девичьи секреты, потом спохватывались и делали сочувственные гримасы? Лучше уж вообще никого не видеть, чем терпеть их притворство. Неужели два месяца назад она сама была такой же пустоголовой пичугой, захлебывающейся собственным щебетом? Крохи, которые случайно рассыпала перед ней судьба, казались счастьем. Впрочем, вернуть бы сейчас эти крохи…
Коридор вытягивался с каждой секундой, не пускал ее к кровати, уже отлежанной Динкиным телом. Ноги приходилось передвигать рывками, преодолевая боль. А коридоры здесь длинные, отдаленно похожие на дворцовые, скорее из хозяйственной его части, но с арками и всякими архитектурными финтифлюшками. До революции строили, сразу видно… В некоторых палатах – французские окна предлагают шагнуть в сад, только их никогда не открывают. А если попробовать?
* * *
Игорь Андреевич, конечно, заметил девочку из пятой палаты, что встретилась ему в коридоре. Он даже машинально кивнул, уловив ее вопросительную, жалобную улыбку, но это лишь на мгновение скользнуло по краю сознания, даже не задержавшись, потому что в тот момент разум был заполнен другими мыслями, от переизбытка эмоций он скрежетал зубами – главный звук бессилия.
«Чертова клятва Гиппократа! – чуть не стонал он, сжимая кулаки в заметно оттянутых вниз карманах халата. – Зачем я давал ее? Чтобы ставить на ноги таких вот ублюдков?! За что это мне?»
Ни к одному из своих больных Костальский за двадцать лет практики не испытывал даже подобия той ненависти, что сейчас клокотала и в сердце, и в горле, даже пальцы крючило от нее, как при подагре. Этот Босяков, полчаса назад доставленный в травму… Игорь Андреевич узнал его сразу, оцепенев от такого удара наотмашь и даже не успев прочитать запоминающуюся фамилию на только что заведенной карте. И это несмотря на то, что Босяков здорово изменился за прошедшие годы. Но разве возможно стереть из памяти лицо смерти, если увидел его однажды? Забыв о присутствии медсестры, Костальский сломился под тяжестью обрушившейся на него несправедливости: «За что мне такое? Лечить этого урода, убившего мою дочь?!»
Ему не нужно было напоминать, что Босяков отсидел присужденный срок, а значит, как бы искупил свою вину. Игорь Андреевич и сам это знал. Но и того, что восьмилетней девочки со светлым взглядом-улыбкой и зеленоватыми русалочьими волосами больше нет на свете и уже никогда не будет, даже спустя двенадцать лет забыть невозможно.
Конечно, он не думал об этом неотступно все эти годы, иногда подолгу не вспоминал о Ляльке, замордованный потоком операций и тихими войнами с бывшей супругой, которая не могла простить ему ни того, что когда-то была его женой, ни нового (хотя уже и не такого нового!) статуса «бывшей». Но боль оставалась внутри ледяной крупинкой, которая – стоит лишь тронуть – способна затопить тоской всю душу. Это случалось время от времени, и тогда Игорь Андреевич прятался ото всех, как подстреленный волк, и беззвучно выл, до того напрягая горло, что жилы вздувались, как у Высоцкого во время выступления на сцене. Если бы лопнули, он испытал бы только облегчение…
Бросив медицинскую карту на тумбочку, Костальский вслепую вышел из палаты, не услышав удивленного оклика медсестры:
– Игорь Андреевич, его готовить к операции?
«Зарезать? – кольнуло в виске. – Ну посадят, и черт с ним! Зато эта сволочь больше никого не тронет! Лялька отомщена будет… Девочка моя маленькая…»
Свернув в ортопедию, он едва не натолкнулся на Шувалову, кажется, впервые поднявшуюся на ноги, прошел мимо, едва кивнув и, конечно, не улыбнувшись, потом оглянулся: «Надо же было…»
И тут же забыл, о чем пожалел, внезапно поняв, что его дочь была бы сейчас ровесницей этой девочки, наказанной той же высшей несправедливостью. Даже чуть старше, если он не ошибается с годом рождения… Дины? Или как ее там? То, что имя вдруг вылетело из головы, добавилось еще одной досадной мелочью, ведь Костальский славился и тем, что всех своих больных узнавал даже через несколько лет. Как же это событие с Босяковым выбило его из колеи…
Быстро миновав дверь в ординаторскую, где невозможно было укрыться, Игорь Андреевич вышел на лестничную площадку и достал сигареты. Успокоиться? Еще раз отрешиться от своего прошлого, от себя самого, носившего на сгибе руки свою Ляльку, вдыхавшего запах ее лепестковой щеки, длинных прямых волос, щекотавших его плечо? Сделать вид, что этого не было, что этот мерзавец у него ничего не отобрал, не растоптал его жизнь, глумливо похохатывая? Или все же решиться на месть? Воздать по заслугам… Нет, по заслугам – это не просто вонзить скальпель в это уже при жизни мертвое сердце, а своими руками раскромсать этого урода на куски!
Костальский затянулся со страстью, но никотин не подействовал, злость кипела в нем с прежней силой, даже в ушах зазвенело. Давление, что ли?
– Ты чего здесь?
Он слегка вздрогнул, но не обернулся, узнав голос. Жизнерадостный голос женщины, которая с одинаковой энергией принимала роды и занималась с ним любовью, когда у них совпадали ночные дежурства. Только бы ей не пришло в голову обрадоваться этому нечаянному уединению, этой возможности…
Щелкнув зажигалкой, Надя, Надежда Владимировна, встала рядом, свободно касаясь его бедром. Коротко глянула сбоку:
– Кого зарезал?
– Пока никого. Но собираюсь, – честно признался Костальский. – Вернее, подумываю.
Она не особенно удивилась:
– Мне тоже иногда до смерти хочется. Когда шлюха какая-нибудь притащится рожать, а у самой все вены аж черные от уколов. Так и тянет ей матку вырвать, чтоб больше никому жизнь не калечила!
– И многим вырвала?
– Да пока никому. В том-то и трагедия. Мы с тобой призваны исключительно спасать, а не карать. Как бы ни тошнило от этого…
Игорь припомнил:
– Ни разу не тошнило. Даже отдаленно ничего такого не было. Сегодня впервые.
– И кто ж так допек?
– Он. Понимаешь?
На самом деле, трудно было рассчитывать, что она сразу поймет, о ком речь, ведь Костальский рассказал ей о смерти дочери лишь однажды, но Надины чуть выпуклые карие глаза внезапно расширились еще больше:
– Тот самый? О господи… А ты не ошибся? Лет-то ведь немерено прошло…
Игорь только покачал головой. Но ей и не требовалось, чтобы он называл фамилию и бил себя в грудь. Она знала: в таких делах не ошибаются.
– И тебе его резать надо? Даже не думай! Позвони Владику, пусть приедет, сделает. Не берись сам, как брата прошу! Хочешь, я ему позвоню?
– Не надо, я справлюсь, – ему не хотелось, чтобы Надя прочувствовала всю глубину охватившей его слабости. Ведь обычно он демонстрировал ей силу…
Она приподняла спрятанные под халатом округлые, мягкие плечи, которые так сладко было целовать. Правда, сейчас этого не хотелось.
– Тебе виднее. Только обязательно позвони…
Как-то порывисто затянувшись, хотя обычно делала это красиво, Надя заговорила так оживленно, что Костальскому захотелось зажать ей рот:
– А к нам в гинекологию только что бомжиху привезли с маточным кровотечением… Сверху вся плесенью покрылась, девки мои еле отмыли ее. А там все чистенько, представляешь? Еще год назад была нормальной бабой, жила себе где-то в Клину, что ли. Москвич ее сюда привез, уговорил там квартиру продать, а здесь ее свекровь не прописала, и документы каким-то образом пропали, не говоря уж о деньгах. И баба сломалась, понимаешь? Даже не пыталась бороться с ними, отстаивать свое. Оказалась на улице и враз опустилась. Но никакой заразы не подцепила, вот что поразительно!
Погасив сигарету, Игорь Андреевич бросил окурок в коробку, стоявшую в углу:
– Не стоит меня отвлекать. Хотя рассказ крайне поучительный! Благодарю.
Надежда крикнула ему в спину:
– Не смей даже думать об этом! Натворишь бед, кто вместо тебя народ спасать будет? Не будь эгоистом. Ты же хирург – один на миллион!
– Я своего ребенка не спас, – ответил он через плечо. – На черта тогда весь мой паскудный талант?!
В ординаторской всегда сумрачно – единственное окно выходит на северную сторону, солнце сюда не заглядывает, а зимой батарея еле теплится, поэтому чайник кипятят каждые полчаса. Некоторые доктора до сих пор возмущаются: «Чем думали, когда сюда нас определяли? И так без сил тащишься после операции, а тут еще как в могиле…» Может, от этого и разговоры все нерадостные – о деньгах и вредности некоторых больных.
Игорь Андреевич прислушался: нет, сейчас вроде о другом, но тоже…
– Забежала вчера к маме, а у нее ветеринар сидит. Кошка ее за ушами чесать стала, она объявление на каком-то столбе сорвала. И этот коновал – соответствует его уровню! Самого словно только со столба сняли… Халат такой, будто им пол помыли и на ржавой батарее высушили. В руках колотун еще, наверное, с майских праздников… Как таким только лицензию дают? И сидит, мерзавец, байки ей травит про всяких котов кастрированных. А мамочка моя бедная только головой кивает…
«Что это? – поверхностно удивился Игорь Андреевич. – Всем больным косточки перемыли, на своих переключились? Впрочем, почему бы и нет…»
– Как Владику позвонить? – спросил он, не заметив, что перебил Оксану Витальевну, и без того вечно обиженную на жизнь, даже рот сложился перевернутой подковкой.
Когда-то Игорь Андреевич тоже пополнил ее копилку обид: уклонился от намеков на сближение ради Надежды Курановой. Но рассказывать об этом своим товаркам Оксане было не с руки. Зато теперь появилась возможность при каждом удобном случае упоминать, что Костальский – хам, воспитан не лучше сапожника, целой династии за ним нет, это сразу видно. Такое он уже слышал и о Владиславе, и о других докторах. Что ж, пришел его черед. Невелика беда. Никто из них вообще не знает, что такое – беда.
Оксана Витальевна сердито стрельнула узкими, восточного рисунка глазами – обожгла черным:
– Список под стеклом. Вы, между прочим, его сами туда и положили, Игорь Андреевич.
– Действительно, – опомнился он. – Извините. Склероз в действии.
Она присмотрелась повнимательнее:
– Кофейку не желаете? Что-то вы, Игорь Андреевич, неважно выглядите.
– Спасибо на добром слове. Кофе не надо.
Сняв трубку, Костальский на секунду затосковал: «Как же я буду объясняться при них? И сотовый, как назло, разрядился… Надо было позвонить с Надиного. Так ведь номер не помню! Или – плевать на всех? Так и сказать во весь голос: до того, мол, хочется убить человека, что руки трясутся, как у того ветеринара… Чтобы Владик примчался в свой выходной, надо сказать открытым текстом, что я не могу оперировать человека, изнасиловавшего и убившего мою маленькую дочь. Ляльку мою… Все разорвал, изуродовал, измучил…»
Не обращая внимания на гудки, призывно несущиеся следом из брошенной на стол трубки, Игорь Андреевич быстро вышел из ординаторской, сбежал по лестнице к служебному выходу и вырвался в сад, окружавший их старую больницу. В позапрошлом веке посадили эти дубы… Полтора столетия боли впитали их корни.
Капли утреннего дождя сорвались с дерева и оросили его лицо прежде, чем Костальский позволил слезам вырваться наружу. Хрипло застонав, Игорь Андреевич схватился рукой за ствол и скорчился, придавленный тяжестью ноши, кем-то опрометчиво названной святым долгом.
– Будь ты проклят… Будь проклят…
Скамья тоже оказалась мокрой, но он заметил это не сразу, потом пришлось сушить халат. Сжав руками голову, Игорь Андреевич плакал беззвучно и долго, с каждой минутой ощущая все явственнее, что время не вылечило его, не способно вылечить. С женой расстались через два дня после похорон единственной дочери, одновременно осознав, что видеть друг друга – мука, которой не вынести. А всю жизнь прятаться по разным комнатам…
Квартиру даже не делили: Игорь Андреевич ушел на съемную, остатками чувств пожалев Галю. Еще и это пережить – кому под силу? Так он с тех пор и жил по чужим углам, оставив жене и Лялькины альбомы с наклейками, и шкатулку со значками, и конвертики с первыми прядками, и разноцветные школьные тетрадки, и белые носочки, и туфельки со сбитыми носками…
Сквозь время Ему отчетливо увиделась солнечная (обои – и те желтенькие)детская, куда он непременно заглядывал перед работой, даже если Лялька еще спала, младенчески раскинувшись в своей розовой фланелевой пижамке. С нее и вправду можно было писать принцессу подводного царства – легкие волосы на свету отливали зеленью. А пахли цветущей яблоней…
Зная, что не разбудит, Игорь Андреевич на цыпочках подходил к ее кроватке и целовал воздух: «Спи, моя радость… Единственная моя…» Ее узкие ступни с ровненькими пальчиками с каждым годом вытягивались, коленки становились все мягче, коротенькие волоски на голени золотились, притягивая его ладонь… Погладить позволял себе – над, по воздуху, чтобы не разбудить, не испугать. Хотя мог и прикрикнуть, если (редко-редко!) начинала упрямиться, капризничать. Теперь, когда вспоминал это, бросало в жар: как он мог? Зачем срывал на девочке свою родительскую беспомощность? Кто вырос, не показывая характер? Вырос… Ей этого было не суждено.
Ему часто виделся некий абстрактный первый бал, куда он однажды повезет Ляльку на шикарном лимузине, уж на аренду сможет заработать. И она вся в капроне и кружевах, легка, полувоздушна… Его тихая, застенчивая девочка, готовая просидеть с книжкой все лето. Она ведь и в тот день пошла в библиотеку…
Кажется, он вздрогнул, выдал себя, когда больная из второй палаты Лилита Винтерголлер сказала, что заведует детской библиотекой. Игорь Андреевич тут же взял себя в руки: «Она-то при чем? Это же в другом конце Москвы…» Но душу саднило весь день. Теперь же этот штрих и вовсе кажется предвестником появления Босякова… Хотя Лилита, конечно, ни при чем, нельзя позволить черной тени упасть на нее. Она – светлая женщина, поразительная: ни жалоб, ни нытья, ни цепляний за его халат, хотя от нее-то как раз стерпел бы с удовольствием…
Одна из медсестер про Лилиту сказала на своем жаргоне: «Натерпелась, как Гагарин!»
Костальский тогда, помнится, подумал про себя: «Да больше, больше… Что там – один полет на сорок минут? Вот сорок лет муки – это да…»
Кого этой женщине обвинять в своей растянувшейся на годы боли? Кому мстить?
Игорь Андреевич тяжело поднялся, цепляясь за тот же клен, с которым так доверчиво поделился своими слезами. Больного нужно готовить к операции… И так уже прошли все допустимые сроки.
* * *
Ту женщину из второй палаты Дина увидела в свою следующую ходку – перед сном. Санитарка вышла с ведром и шваброй, а дверь не прикрыла, может, решила проветрить на ночь. Окна сегодня еще не открывали – дождь опять хлестал прямо по стеклам, залило бы весь подоконник. А Дине вдруг так нестерпимо захотелось выйти в пропахший влажной листвой больничный двор и промокнуть как следует, до последней нитки, кожей впитав теплый небесный поток, что она опять сползла с кровати и принялась мучить тренировкой ноги.
Нужно было вернуть им резвость и силу, чтобы не составило труда убегать от соболезнований, которые могут поджидать на каждом углу. А те немногие, которые пощадят и не станут твердить, как им жаль (может, и не притворно, конечно!), не будут знать, о чем вообще говорить с этой угрюмой девочкой с землистого цвета лицом. Что ее может заинтересовать в мире живых людей?
Дина и сама не могла придумать такого. Разве что запах дождя… Ощущение скользящих по коже тонких струй…
«Еще несколько дней, – задала она себе срок. – Эти чертовы мышцы должны ожить! И тогда… Нас не догонят!» Завершила мысль строчкой из песни, которую вообще-то не любила. Но сейчас почему-то вырвалось именно это… Вот только никаких «нас» в ее жизни больше не было, и об этом не нужно было себе напоминать.
В коридоре, как всегда, сумрачно, уже снова попахивает хлоркой, но здесь видишь перспективу, которой палата лишена. Пока не выходишь из нее, жизнь не имеет продолжения. А здесь ведь полно лежачих… Интересно, все так чувствуют или только она одна?
Невольно остановившись перед раскрытой дверью второй палаты, Дина заглянула, чуть вытянув шею, и, еще ничего не разглядев, кроме странной конструкции из веревок, крюков и противовесов, среди которых торчала босая ступня, услышала:
– Заходите, я одна! Меня ото всех подальше спрятали, чтоб народ не пугала.
Она оглянулась, потом неуверенно уточнила:
– Вы мне?
– Да, конечно! Я ваше отражение в стекле вижу. Нет, серьезно! Заходите, поболтаем.
– О чем? – не торопясь сделать шаг, буркнула Дина, осознавая, что грубит человеку, у которого, похоже, могла найтись тема для разговора с ней, чем не могло похвастаться остальное человечество.
Чуть подавшись вперед, она увидела светлые волосы на подушке, маленькие отражения бра в больших линзах очков…
– Расскажете мне о своих болячках, – голос зазвучал насмешливо.
– Терпеть не могу об этом говорить!
– Ой, ну слава богу! А то все только об этом и рассказывают.
Дина сделала еще пару шагов:
– А зачем вы их слушаете, если неинтересно?
– Кто-то же должен слушать… Раз они приходят ко мне, значит, не нашли никого другого.
– А у вас самые большие уши?
– А это даже оттуда заметно?
Дина не выдержала, фыркнула. Маска отчужденности соскользнула, и не то чтобы затерялась, но возиться с ней было лень, снова лепить к лицу…
Подтащила свои непослушные ноги к самой кровати. Быстрым взглядом человека, пристрастившегося к рисованию, выхватила: лицо широкое в скулах, к подбородку резко сходится, рот подвижный, тонкий, готовый к улыбке, нос длинноват, пожалуй… А глаза мешает разглядеть это дурацкое бра, что отражается в линзах очков. Вот что надо увидеть – глаза! Иначе как понять человека, который хохочет после тринадцатой операции?
– Ну, здрасте! – поприветствовали ее. – Меня зовут Лиля. Лилита, если быть точной. Но тут как раз точность не так уж важна. А вы…
– Дина. Даже полностью и то Дина. А что это за фиг… за сооружение такое? – она осторожно коснулась пальцем подвешенной гири.
– Это мне ногу пытаются вытянуть, – охотно пояснила Лиля. – Протез сустава тазобедренного поставили, но кое-что подчистить пришлось, и чтобы ноги были вровень, эту приходится растягивать.
Дина усомнилась:
– Разве это возможно?
– Еще как возможно! А вы не слышали? Сюда в клинику даже здоровые девчонки ложатся, чтобы ноги удлинить аппаратом Елизарова. Это денег стоит, конечно… Дина, можно на «ты»?
– Сколько угодно… И вы все время лежите с этой штукой?
Лиля улыбнулась, показав позолоченные коронки в уголках рта:
– Третью неделю.
– О-о! – вырвалось у Дины. – Я без такой дуры со своим позвоночником и то еле вылежала…
– Да это все ерунда, я даже присаживаться с ней могу. Ненадолго, правда, чтобы не навредить. И только под тупым углом. Совсем таким тупым-тупым… Чуть тебе сесть не предложила… Нельзя ведь? А лечь больше некуда. Постоишь немножко? Ну, рассказывай, кто там в вашей палате имеется?
Дина поморщилась:
– Тетки. Старухи. Одна бабка ничего…
– Понятно, – протянула Лиля. – Чаю хочешь? У меня чайник есть, и всякой всячины девчонки натащили.
– Я слышала сегодня…
– А! – она опять рассмеялась, только на этот раз негромко. – Это я им про операцию рассказывала.
– А что в этом смешного?
Лиля устрашающе расширила глаза:
– Мне делали тринадцатую операцию тринадцатого числа в пятницу!
– Да фигня это все!
– На это и надеюсь. Но когда меня черт дернул хирургической сестре сказать, что это еще и тринадцатая операция, она сразу снесла собственным тазом стерилизатор с йодом. И все разлилось. Они еще переглянулись: «Так, начинается…»
Дина поморщилась: «Очень смешно! Лишь бы над чем-нибудь поржать, что ли?»
– Я во всю эту чушь не верю. Ничего же с вами не произошло!
Поджав губы, та проговорила как-то боязливо:
– Пока вроде нет. Так что, чайку дрябнем?
– Как-нибудь потом, – решила Дина, чувствуя, что ноги уже подкашиваются. – Мне бы сейчас назад дотащиться.
Лиля помахала пальцами:
– Ну, давай! Возьми шоколадку, а? Мне толстеть запретили, чтобы бедный сустав меня выдержал, а тут натащили столько… И смотри, приходи завтра! А то скучно здесь, озвереть можно.
«Скучно ей, – с досадой подумала Дина, выбравшись из палаты с плиткой шоколада в кармане. – Лежит в люксе с телевизором, с холодильником, и скучно! В общую ложилась бы, если поболтать любит, а я бы лучше вообще никого не видела…»
Из соседней палаты выскользнула медсестра, так же вскользь похвалила:
– Ну, молодец, Шувалова, ходишь! Не перестарайся только… Ты из второй вышла? Никого там? – и, юркнув к Лиле, зазвенела голосом, словно бубенчиком: – Так я вам недорассказала! Представляете, она ж подала на нас в суд, мол, мы ей несвоевременно помощь оказали. И я, типа, бутылку пива выпила прямо возле ее каталки! Я ж вообще не пью, вы же знаете, у меня спортивный режим. Да и она сама-то на тот момент в коме лежала, как в таком состоянии могла что-то увидеть?! Это ей примерещилось черт знает что, а теперь в суд подавать собралась!
– Маш, да ты не кипятись, – донесся Лилин голос. – Воспринимай все это как анекдот. Смешная же ситуация! Судья ведь не идиот…
– Вы думаете?
На этот раз – не взрыв хохота, лишь легкий всплеск, все-таки почти ночь, некоторые из больных уже забылись снами, в которых пока только и могут побежать навстречу ветру под летним, таким приятным, дождем. Как те, что снаружи… Негуманно разбивать смехом это непрочное счастье. Оно и так, словно у вампиров, – до рассвета.
«И с Машкой общая тема для разговора и для смеха нашлась, – отметила Дина с ревностью, показавшейся нелепой даже ей самой. – Ну, просто человек такой… разговорчивый… Да плевать! Пусть ржут хоть до восхода солнца. Мне бы вот до кровати доползти…»
Постель встретила незнакомым запахом. Оказалось, санитарка сменила белье, пока Дина шастала по коридорам. Ей даже почудилось, что вернулась в уже другой мир, хотя звуки – легкое посапывание и болезненные стоны соседок – остались все те же. Татьяна Ивановна даже похрапывала, но трогать ее Дина не стала, хотя, говорят, достаточно повернуть человека на бок…
«Отец никогда не храпел», – вспомнила она, скользя взглядом по линиям света от фонаря, уходившим по стене на три метра в высоту.
Ее отец был молодым, веселым, черноглазым, с примесью даже ему самому неведомой кавказской крови, проступающей смуглостью кожи, неправдоподобной белизной улыбки, редкими взрывами гнева, который никого не пугал. Динка походила на него больше, чем сестра, и потому в глубине души ревновала до слез: ей казалось, что отец больше любит «своих блондиночек». Обе походили на эльфов – такие же прозрачные от худобы, светленькие, волосы вокруг головы пушились легким дымком. А у Дины – череп плотно облепили черные завитки…
«С твоей головы картины писать надо», – однажды заметил отец, да так серьезно, что Дина смутилась. И тут же с сожалением добавил: «Не дано мне».
Надо было тогда сказать ему, что зато дано многое другое, и он – самый красивый, самый талантливый, самый остроумный… Что за идиотская неловкость мешает произносить слова восхищения любимым людям? Может быть, ему хотелось услышать, что жизнь не потеряна от того, что из него не получилось художника? Он ведь как раз не был неудачником! Год назад они с матерью открыли свое риелторское агентство. Все только начиналось…
Но заплакала она сейчас именно о матери, хотя думалось чаще об отце. Вот это дрожание света на стене… Оно почему-то напомнило касания ее пальцев, всегда вскользь, наспех, потому что Дина не давала приласкать себя, уворачивалась, а матери, видно, нестерпимо хотелось поделиться своей нежностью, раз не могла удержаться… И почему вырывалась, дура?! Ведь не было же ни противно, ни стыдно! Одна сплошная глупость: я уже взрослая, а она лезет как к маленькой.
Попытки казаться взрослой оттого и появлялись, что действительно была еще совсем безмозглой девчонкой. Теперь это так очевидно, когда осталась совсем одна и нет плеча, на которое можно положиться.
Накрывшись с головой одеялом, захлебываясь, простонала: «Сволочь! Урод!», – опять вспомнив того ни разу не показавшегося ей на глаза адвоката-убийцу. Но где-то на краешке сознания, причиняя такую боль, от которой хоть в крик, неприятно закопошилось понимание того, что Дининой-то любви этот человек ее родителей не лишал. Она сама делала это, пока они были рядом, по собственной воле. И проживи они еще хоть сто лет…
* * *
Как получилось, что она выплеснула все эти чувства на Лилю? После даже не могла вспомнить, как добрела темным коридором, разбудила и, стоя на коленях возле кровати (а как иначе, чтобы не орать на все отделение?!), выпустила на волю рвущую нутро боль. Поделилась ею (совсем отдать невозможно!) с совершенно незнакомой женщиной, которая и не предлагала ей исповедоваться… Как же это вышло?
Та прижимала ее голову к груди, принимая и слезы, и слюни, которые текли, как у безутешно плачущего ребенка. И нашептывала тоже, как совсем еще девочке: «Ну, маленькая, ну-ну…»
Но, даже понимая это, Дина не дернулась, не вывернулась из-под мягкой руки, гладившей по голове, только взвыла с отчаянием: «Почему же я маме ни разу не позволила вот так меня приласкать?!»
– Солнышко, я уверена: мама прекрасно понимала, что ребята твоего возраста не умеют говорить родителям о любви. И ласкаться не позволяют. Не одна ты такая… Я не думаю, что она обижалась, ведь родила тебя, чтобы самой любить, наслаждаясь и этим чувством, и тем, что ты каждый день рядом. Это такое счастье… Поверь мне.
И неожиданно уверенность в этом теплой слабостью разлилось по телу… А потом как-то само собой получилось, что она из последних сил забралась на кровать к стенке и уснула возле Лили, уткнувшись лбом в ее плечо. И ничего не снилось, больше не мучило. Уставшие тело и сознание вдруг растворились в темноте…
…Утром же ее разбудил шепот:
– Маша, ну не кипятись! Мне ночью поплохело, а тебя как прикажешь дозваться? Орать, что ли? Так я ж не умею, ты знаешь. Кнопку вызова надо делать, девушка! Хорошо, что Дина мимо проходила. Это я уговорила ее остаться.
– А что случилось-то? – голос медсестры прозвучал недоверчиво. – Болело что?
– Да все болело! – с легкостью солгала Лиля. – Дина мне и спину массировала, и руку. Да так и уснула.
– Вижу, что уснула. Будите ее, Лилита Викторовна, а то обход скоро, тогда уж всем влетит.
Но Дина сама открыла глаза, как только медсестра вышла, оставив градусник. Поморгала, осваиваясь с непривычной реальностью.
– Да я уже не сплю.
– Доброе утро! Кофе хочешь?
Это прозвучало совсем по-домашнему, Дина уже и забыла, что бывают в мире такие слова, от которых исходит тепло и даже как будто вкусный запах.
– А у вас есть? – пробормотала она смущенно.
Вспоминать ночную истерику было неловко. И выбираться из чужой постели тоже. Дина даже в детстве у подруг не ночевала. Не любила чужие дома.
Лиля вытянула шею:
– Вон баночка, на подносе. Мне сделаешь? Только без сахара, ладно? Толстеть доктор запретил. А кофе ох как хочется! Поможешь старой, больной тетке?
– Вы не тетка! – вырвалось у Дины.
Может, сперва следовало опровергнуть «старую», но ее слух царапнуло именно это слово, которое никак не подходило Лиле, а ею самой использовалось как ругательное. Вот соседкам по палате оно подходило в самый раз… Интересно, они хоть заметили ее отсутствие? Дина отвернулась, чтобы включить чайник. Ну, и вообще…
– Конечно, конечно. Я – девушка, – усмехнулась Лиля. – Девушка с ребенком.
Дина покосилась на ее подвешенную ногу:
– У вас есть ребенок?
– Девочка. Моя девочка. Таня.
Вот теперь, когда солнце освещает комнату и Лилины очки лежат на тумбочке, можно рассмотреть ее глаза. От того, что речь зашла о дочери, они ярко засветились, словно небесная синева, впитавшая солнце. Или до этого тоже были такими глубокими и веселыми? Только непонятно, чему радоваться-то при такой жизни? Тринадцать операций…
А у Лили рот так и расплывается в улыбке:
– Она у моей сестры в деревне живет, пока я тут валяюсь. В субботу должны приехать, так что увидишь мою Татьяну. Не поверишь, ей здесь нравится! Говорит: «Мам, у тебя тут так интересно, трубочки всякие, надписи непонятные». Это она про капельницу.
– Сколько ей? – спросила Дина только потому, что всегда об этом спрашивают и надо же как-то поддержать разговор.
– Самой не верится, но уже семь! Уму непостижимо, как столько лет пролетело? В сентябре в школу пойдет. Так что мне нужно срочно выбираться отсюда.
О том, что было более интересно, чем возраст девочки, спрашивать неловко. Да, собственно, и так ясно, что никакого мужа у Лили не было и быть не могло. Ее, Дину, тоже теперь никто не возьмет замуж. Кому она нужна, вся искалеченная? Да и ладно, ей и самой не очень-то хотелось замуж, если честно! Таких родителей, как у нее, все равно ни у кого в мире больше быть не может… И какой тогда смысл?
Перемешивая кофе, она с такой силой зазвенела ложкой, что это напомнило звук приближающегося трамвая. Только уехать на нем подальше от этой клиники было невозможно, даже если бы она решилась бежать. Некуда.
Лиля наблюдала за ней, не пряча улыбки:
– Да ты спрашивай, вижу ведь, что распирает! Муж у меня был. Ничего такой муж…
Дина прекратила звон:
– И куда же он делся?
– А, я его выгнала! – беспечный взмах руки.
– Как это – выгнала?
Разве можно в это поверить? Она ведь – инвалид, эта Лилита, если уж начистоту. Разве такие бросаются мужиками? Наоборот, руками и ногами держаться должны!
– Да так, выгнал, и все. И даже не потому, что он спиртным увлекался, пока я Танюшку в деревне растила. Такое с каждым может случиться, это можно было простить. Если бы хотелось… Но мы уже к тому времени стали чужими. Я не чувствовала в нем родного человека, понимаешь? Такого, без которого ни дня не прожить.
– И куда же он делся?
Лиля опять несколько раз махнула рукой, словно заново провожала его подальше:
– Вернулся в свою Белорусскую пущу. Зубр. Роман такой был, не читала?
– При чем тут роман-то?
– Ни при чем, просто вспомнилось. А Володя даже не вспоминается. Вот так.
Продолжая держать в руках ее чашку, Дина с недоверием спросила:
– Но ведь вы же любили его, наверное, если женили на себе?
– Я? Женила?! – вместо гнева в ее глазах показался смех. – Еще чего! Ты так решила только потому, что у меня нога больная? Нет, девушка, ошибаетесь. Это он всю дорогу от Москвы до Красноярска уговаривал меня выйти за него. Уговорил. Долго ехали, видимо!
Она рассмеялась уже вслух, жестом показав, чтобы Дина отдала кофе, и приподнялась на локтях:
– Подними, пожалуйста, чуть повыше… Вот так. Отлично! Давай чашку.
– А как вы будете пить, прольется же!
– Воображая, как будто это коктейль, – через соломинку. Каприз старой аристократки… Подай, пожалуйста, она где-то на тумбочке валяется.
– Здесь много чего валяется… – разгребая вещи пальцем, заметила Дина и с удивлением услышала, словно со стороны, как ворчливо это вышло, будто она была из них двоих старшей и выговаривала безалаберной девчонке за ее неряшливость.
Лиля издала прерывистый вздох, в который не очень-то верилось:
– Ну, аккуратность никогда не была моей сильной стороной…
Вытащив из-под косметички толстую полосатую соломинку, Дина сполоснула ее под краном, опустила в чашку с кофе и осторожно поставила Лиле на грудь. Потом тронула один из висевших на крючках мешочков, в нем прощупывалось что-то твердое.
– Там гирька, – пояснила Лиля. – Сначала так висели, а потом решили спрятать, чтобы народ не пугать. Хотя теперь эти мешочки так интригуют! Всех так и тянет их потрогать.
– А вам долго еще так лежать?
– В понедельник эту бандуру уберут и будут наблюдать за моим самочувствием. Как за белой мышью в лаборатории…
Разводя кофе и для себя, Дина покосилась на собеседницу с недоумением:
– Как вы пьете без сахара? Гадость же! Может, вам тогда и кофе не обязательно добавлять?
– Ага! Скоро буду, как в войну, кипяточком все запивать… Я и так, совсем как ветеран, все детство в госпитале провела.
– Почему – в госпитале? Там же… Вы что, воевали где-то?
– Преимущественно с нянечками. Вы что, девушка, думаете, мне примерно одинаково…
– Да нет, что вы, – неубедительно возразила Дина. – Вы хотели мне про свои госпитали рассказать…
– Разве хотела? – у нее весело заблестели глаза. – Кстати, он был один. Здесь, в Москве. В основном в нем действительно ветераны лечились, еще ребят из Афгана привозили… Ну, и детское отделение там было. Для таких, как я. Слушай, а у тебя вкусный кофе получился! Ни у кого еще так не получалось.
Дина осторожно поинтересовалась:
– А что с вами произошло?
– Врожденный подвывих обоих тазобедренных суставов, – радостно пояснила Лиля. – В младенчестве это можно было вылечить, но я в такой глуши родилась… В деревне для ссыльных немцев в Красноярском крае.
– В Сибири, что ли? – ужаснулась Дина.
– Это пугает?
– Н-не знаю… Так вы – немка?
Лиля кивнула:
– Наполовину. Мама у меня латышка. Ее родителей тоже туда отправили, она уже в Сибири родилась. «Долгую дорогу в дюнах» смотрела?
Дина попыталась вспомнить:
– Кажется, нет. Это фильм такой?
– Теперь его, пожалуй, назвали бы сериалом… Так вот, когда поставили диагноз, врачи в Канске решили: надо оперировать, но там таких специалистов не было. И сослали меня в Москву…
– Ничего себе – сослали!
– Ну, когда тебе всего девять лет…
Дверь распахнулась, и густой голос санитарки заполнил палату:
– Ага, они тут кофеи гоняют с утра пораньше! Температуру мерили, кумушки?
– Конечно, Виктория Ильинична. Как у пионеров – тридцать шесть и шесть, – отрапортовала Лиля, даже не притронувшаяся к градуснику.
Дина удивилась: «Откуда она знает, как эту бабку зовут? Я даже не спрашивала…»
– Я пойду, – почувствовав себя неловко, сказала она. – Спасибо за кофе.
– Это тебе – спасибо! Заходи после процедур, ладно? Обязательно!
– Да к вам, наверное, придет кто-нибудь…
Едва не задев тряпкой Динину ногу, санитарка беззлобно проворчала:
– Придет, придет. Целые дни тут сидят, гогочут. Тунеядки какие-то твои подружки-то! Никто не работает, только по больницам и шляются.
Лиля подмигнула:
– Они – свободные художники.
– Оно и видно! Никакой серьезности. И сама такая же…
Рассмеявшись, Лиля напомнила:
– Самые большие глупости на земле совершаются с серьезным выражением лица.
– Да что ты говоришь! – возмутилась Виктория Ильинична. – Умница какая!
– Это не я говорю. Это барон Мюнхгаузен.
«Еще один немец, – почему-то подумала Дина уже в коридоре. – Но разве не они больше всего глупостей и наделали?»
Ей тут же стало стыдно за эту попытку как-то принизить, уличить в заурядности человека, который помог ей больше других за последнее время, ведь главная боль гнездилась не в переломанном теле, а в душе. И Лиля если и не совсем сняла ее, – это ведь невозможно, будь хоть трижды экстрасенсом! – то хотя бы облегчила.
Лилита. Ей еще не встречались женщины с такими именами. С детства по госпиталям… Лежит, улыбается…
«Я, наверное, озверела бы от такой жизни, – Дина остановилась у окна, дала ногам передохнуть. – Кидалась бы на всех, как собака. Я и сейчас не лучше…»
Мелкий слепой дождь, не замечавший медленно поднимавшегося солнца, покрывал стекло выпуклыми, искрящимися каплями, похожими на те, что остаются на коже, когда в жаркий день выходишь из воды. В этом году не удалось искупаться, июнь выдался прохладным, а июля для нее и вовсе не было. Прошлым же летом отец отправил их с мамой в Турцию, пока сестра очередную сессию сдавала, чтобы Дина не мешала ей своим «Рамштайном». Вот откуда запомнились эти капли на смуглой коже… Тогда Дина откровенно наслаждалась тем, что мужчины на пляже поглядывают на нее, а не на располневшую с годами мать. И даже не скрывая от нее, тщательно собирала их взгляды, чтобы тайком ото всех перебирать зимой, когда ничем другим не согреешься.
Она стиснула кулаки так, что суставы болезненно хрустнули. Стыдно. Как же стыдно… Оказывается, мелкая душа у нее, недобрая. Мама-то радовалась, что Динкой любуются, называла ее своей красавицей. Почему же она сама уродилась такой, что все – под себя?! Гребет и гребет. Ну вот, получила. Радуйся. Все твое.
В свою палату возвращаться не хотелось, от одного несвежего воздуха тошнить начинает, а бабки проветрить не дают. Да и чем там занять себя? Книг никто не приносит. Некому. Опять прислушиваться, как шепчутся о каких-то глупостях (что у них может быть важного в жизни?!) Даша с Наташей? Как Татьяна Ивановна надрывно кашляет, а старуха напротив стонет, проклиная весь белый свет? Только это и умеет, хотя что она-то знает о настоящей боли? Или это знание, к тому же прочувствованное до самого нутра, каждой косточкой, и делает человека таким, каким и задумывал его Господь? Нет, усомнилась Дина, далеко не каждого человека. Иначе среди инвалидов были бы сплошь святые…
До обхода еще оставалось время, а завтракать не хотелось, после кофе стало хорошо. Кровь как-то веселее побежала, еще самой бы также пуститься вприпрыжку… Дина побрела к выходу из отделения, потом решила, что останавливаться не стоит, тренироваться надо, и прошла всю кардиологию. Никто не остановил ее, даже внимания не обратили. Если бы Игорь Андреевич встретился, то, может быть, и спросил бы, куда она направляется… Хотя, возможно, и он различал своих больных только в определенном месте – на койке в палате. А так… Ну, тащится по коридору какая-то девчонка в жутком халате… Один раз уже прошел мимо, машинально кивнул, но Дина сразу угадала: не узнал. Не выделилась из общей массы. Ничем не зацепила…
«Неужели можно чувствовать себя женщиной и после тринадцати операций? – ей опять вспомнилась Лилита. – Не хвататься за мужика, чтоб хоть кто-то был рядом… Она уважает себя. Достоинство в ней есть, вот что! Поэтому тот Зубр и уговаривал ее всю дорогу до Красноярска, почуял ее внутреннюю силу… И потом, она ведь симпатичная, если от больничной койки и всех этих гирек-трубок отделить. Попробовать бы. Хотя бы на листе. Глаза у нее вон какие выразительные…»
Продолжая свои беспредметные поиски, Дина вышла в маленький коридорчик, спрятавшийся за кардиологией, и остолбенела, увидев два трупа, лежавших на каталках. Один, покороче, явно женский – ножки виднелись совсем маленькие, – с головой был закрыт простыней, лицо другого почему-то не спрятали, и из черной ямы рта разило таким холодом, что Дина ощутила, как разом сковало все ее члены. По коже колюче пробежали мурашки, и даже волосы, как ей показалось, шевельнулись, задетые волной страха. И без того слабые ноги совсем обмякли, и она едва не села на пол, забыв о запрете. Однако мысль о том, что можно провести какое-то время рядом с жутью, поселившейся в этих бывших людях, испугала Дину. Чуть ли не бегом она вернулась в отделение, еще не скоро усмирив шаг.
«Слава богу, что я не видела их такими, – со странным облегчением подумалось о семье. – Не смогла пойти на похороны… И хорошо».
До этой минуты ее мучила вина, что проститься не удалось. Казалось, родители и сестра тоже хотели этого, ждали ее до последней секунды… Теперь Дина не сомневалась: в том, что предстояло похоронить, нет никакого ожидания. Сожаления нет. Один черный холод, уходящий в ту глубину, куда невозможно заглянуть. Ей вдруг вспомнился закон физики: тепло поднимается кверху. Вот куда оно ушло из них, нечего и голову ломать. Все там сейчас…
* * *
Лапароскопию в гинекологии делала только Надежда Владимировна Куранова, и потому операции ей доставались дорогостоящие и трудные. Она стонала от усталости и про себя, и вслух, но не настаивала, чтобы приняли еще одного специалиста, потому что ее сыну хотелось поступить в институт (до сих пор не решено было – в какой именно!) и поселиться отдельно от родителей.
Последнее, как Надя догадывалась, было для него самым важным, самым желанным, она же даже вообразить не могла, как для них с мужем обернется жизнь, когда они останутся вдвоем. Надя подозревала, что в доме нечем станет дышать, ведь кислород для ее легких, вопреки всем законам природы, выделял только сын. И следовало бы держать его при себе, чтобы просто не погибнуть. Но трудность была в том, что она привыкла спасать других, не себя, а ведь в этом случае речь тоже шла о жизни. О том, что ее Петька считал жизненно необходимым…
На исполнение и того, и другого желания мальчика нужны были немалые деньги, способности-то его до сих пор не раскрылись, и Надя терпела, работая одновременно и на гинекологическое отделение, и на родильное, где частенько встречала тех, кого сама же лечила или оперировала за год или два до этого. Она так радовалась за своих рожениц, будто была причастна к зачатию. Отчасти это так и было, не случайно же они напоминали о себе и своих болячках, если Надежда Владимировна узнавала их не сразу.
Но сейчас, отходя после тяжелого трудового дня в кресле с чашкой не очень хорошего растворимого кофе и коробкой шоколадных конфет (пациенты поставляли их без перерыва!), Надя не испытывала обычной радости, от которой так и тянет помурлыкать вполголоса. И дело было не только в том, что накануне сын в пылу дурацкой бытовой ссоры из-за грязной посуды хлестнул ее упреком: «Да кто ты вообще такая? Чего ты хоть добилась? На метро на работу ездишь! Шубы приличной и то нет». Эти слезы она выплакала еще ночью… Но сегодняшнее утро повергло ее в уныние еще большее: Игорь все-таки сам прооперировал того мерзавца. И все сделал как положено.
Почему это известие так придавило, чуть ли не расплющило ее? Ведь по-хорошему гордиться нужно своим старым другом – преодолел естественное желание отомстить, настоящим мужиком оказался, христианином… А Наде было тошно, ведь она знала, что сама на подобное не способна. Не доросла. Главной вершины не достигла. Значит, прав сын: ничего не добилась в жизни. Хотя Петька-то имел в виду только деньги.
И все внезапно увиделось с уровня Голгофы: беру от больных взятки подарками, прелюбодействую, предаюсь чревоугодию и злословию. Даже приближаться к Игорю ей должно быть совестно, не то что заниматься с ним любовью. Тоже воровски, ночью в ординаторской, прислушиваясь к шагам в коридоре, при тусклом освещении, похожем на зловещий переход в иной мир… Да и Игоря она тоже вводит в грех, ведь получается, что он возжелал чужую жену и даже, как говорится, глаз себе не вырвал.
Хотя, если разобраться, это, скорее, она его соблазнила. Уже лет пять назад, когда только пришла сюда после ординатуры… Как удержаться было? Мужчина мечты буквально в двух шагах… Словно заколдованная, она искала его взглядом в больничных коридорах, наведываясь в ординаторскую ортопедии чаще, чем в свою, и все это после того, как единожды увидела его в переходе между корпусами.
Костальский тогда не скрыл улыбки – наверное, Надя показалась ему смешной. Еще бы – молоденький доктор на шпильках с огромными перепуганными глазами, руки в карманы халата сунула, чтобы не видно было, как трясутся… Ей же, как бы она ни ослепла от страха, увиделся совсем не врач. Хотя как о докторе – профессионале своего дела, все в клинике говорили об Игоре, заканчивая фразы восхищения восклицаниями.
– По наследству передаются не только гены, но и чебурашки, – радостно возвестила их ординатор, возникнув на пороге.
С трудом оторвавшись от мыслей о том пасмурном дне пятилетней давности, в котором сегодняшняя мука только вызревала, Надя заставила себя вернуться к реальности. Для этого потребовалось напрячься так, что заломило в затылке. Она медленно покрутила шеей. Не помогло.
– Это ты к чему?
– Папу одного новорожденного ушастика увидела – ну, вылитый!
– Слава богу, папа! Было бы хуже, если б у них сосед лопоухим оказался.
«Ну, и зачем я выдала эту пошлость? – спросила Надя себя и, неловко стукнув, поставила чашку на стол. – Лишь бы разговор поддержать? А стоит ли поддерживать такой разговор? Условности делают нас полными идиотами, но как раз этого мы не боимся… А чего боимся? Показать себя настоящую? Подойти сейчас к нему на глазах у всех и пожать руку… Он поймет, что это значит. Не поцеловать, не обнять, все это я уже успела опошлить, а именно пожать руку. Слабо?»
Ничего не объясняя (не обязана отчитываться перед ординатором!), Надежда Владимировна рывком поднялась, хотя силы к ней еще не вернулись, а от боли в затылке уже резало глаза, и быстро вышла в коридор, больше похожий на зимний сад. Это было правильно с точки зрения психологии: женщины, ложившиеся к ним на сохранение, должны были видеть кипение жизни хотя бы в таком виде. И верить, что в них она ни в коем случае не погибнет. Некоторым удавалось проникнуться…
Надежда чуть замедлила шаг возле третьей палаты: заглянуть к Селиверстовой? Услышать от нее в очередной раз, что все будет хорошо? Поверить в это… В чем эта беременная женщина черпала достаточно силы, чтобы не сдаться, седьмой месяц почти не вставая с постели? Только поднималась, чтобы добраться до душевой, и опять начиналось кровотечение, грозившее выкидышем. Надежда Владимировна снова укладывала ее, а та улыбалась в ответ: «Возни вам со мной… Поздно я первого рожать собралась, надо было раньше. Или это просто я такая? Ничего, все будет хорошо. Я это знаю».
Зубы неровные, а улыбка выходила милой. Может, еще и оттого, что темные глаза так и светились радостью потаенного знания, недоступного Наде. Приходилось улыбаться в ответ и кивать, не особенно веря, но заставляя себя быть убедительной: «Нам с вами, главное, до семи месяцев продержаться, а там и рожать можно!» Еще недели три оставалось.
Решив, что не поздно будет зайти к ней и на обратном пути, Надя вышла на лестницу и спустилась к переходу в шестой корпус. Туда она всегда словно летела – пандус вел вниз, хотелось скинуть туфли и прокатиться по гладкому линолеуму, напоминающему молочную реку. А справа вместо кисельного берега, вдоль окон, – старая дубовая аллея, памятная им с Игорем… Как-то он нашел там маленький мокрый желудь и преподнес ей с таким торжественным видом, что Наде стало смешно. А следом захотелось плакать, потому что никто никогда не дарил ей желудей. Муж точно не дарил…
Цветов приносили много, главным образом подлечившиеся больные и молодые папы. В глазах некоторых из них она замечала отблеск того кобелиного азарта, который уже грозил их новорожденным малышам полусиротством. Каждому из таких Наде хотелось со всей силы сжать руку, протягивающую розы, чтобы шипы поглубже впились в ладонь… Но она так же, как Игорь, свято следовала установке: не навреди. Вот только если б речь шла о ее сыне… Нет! Невмоготу даже в мыслях допустить такое!
– Игоря Андреевича нет, – только подняв голову, сказала медсестра ортопедического отделения, кажется, ее зовут Маша. – Он сегодня целый день в травме будет, там у них с множественной аварии кучу народа привезли. Зайдите туда, может, свободен…
«Даже не спросила, кто мне нужен, – Надежда Владимировна поблагодарила кивком и быстро пошла прочь. – Все уже о нас знают. Еще бы… Такое шило ни один мешок не скроет».
Едва не задев плечом еле ползущую вдоль стены девочку, она машинально извинилась и прошла мимо. Потом оглянулась, вспомнив, что это про нее Игорь рассказывал страшное: вся семья погибла в автомобильной аварии, а младшая выжила, он ее собрал по косточкам. Но еще неизвестно, можно ли назвать это везением, если никто даже не встретит девочку на пороге больницы…
«Догнать ее? – мелькнула мысль. – Поговорить… Но о чем? Что тут скажешь?» Она торопливо отвернулась, чтобы Дина не заметила, как доктор смотрит ей вслед.
В травматологию Надя заходить не стала, не до того Игорю, и так ясно. Руку можно пожать и позднее. Если, конечно, потом решится, это сейчас так себя раззадорила… Увидятся ли вообще? Найдет он для нее минутку? Впрочем, он никогда не заходит сам, ей приходится ловить его между двумя отделениями, где Игорь Андреевич и без нее нарасхват. Там доктор Костальский нужнее. Кто кроме него соберет людей, буквально разломанных на части?
Опять очутившись в переходе, она остановилась у окна, не обратив внимания на то, какое оно мутное: «А я разве не такая же развалина, пока его нет рядом? Не физически, конечно. Попробовала бы я выстоять операцию, если б тело распадалось на куски… Ради этого и шейпинг, и бассейн. Но внутри я – не цельная. Давно уже. И он не хочет лечить меня… Просто не его профиль…»
Аккуратно вырезанные неведомым художником дубовые листья начали сползаться в одно зеленое месиво, подрагивающее и расплывающееся. Надины пальцы впились в чуть теплую батарею, нащупали пыльные неровности краски. Только бы никто не подошел сейчас, не заглянул в лицо: «Доктор, что с вами? Вы больны?»
Осторожно, чтобы не всхлипнуть, втянула воздух и так же медленно выпустила – продохнула: «Да что это с тобой, подруга? Вы ведь оба медики, а значит – циники. Разве циники плачут? Они даже не смеются, только посмеиваются. Ничего святого… А вот это – неправда, – обида за себя, доктора, пробилась сквозь обиду, нанесенную женщине. – Каждый из младенчиков в послеродовом – святое существо. Еще не заразился нашей проказой… Лена Селиверстова – святая. На все готова, лишь бы выносить своего малыша, дать ему жизнь. Девочка у нее будет, если верить УЗИ. Это здорово!»
Так и не объяснив себе, почему же это так здорово, Надежда Владимировна опустила голову и направилась к гинекологическому корпусу, все ускоряя шаг. Ей нестерпимо хотелось услышать, что все будет хорошо…
* * *
– Ну что, Лилита, половина города сегодня посетила вас или чуть больше?
– Да меньше, меньше, Игорь Андреевич! Не преувеличивайте значимость моей скромной персоны.
– А вы – скромница, Лилита?
Ему нравилась веселая дробь, которую отбивал кончик языка, произнося ее имя. Иногда Костальский произносил его едва слышно, чтобы просто взбодриться, поднять боевой дух, расправить плечи. И неизменно вспоминал Гумберта, смакующего похожее имя… Это смешило, хотя неизменно возникала горчинка, ведь сам роман Игорь Андреевич с некоторых пор ненавидел. И страсть, которой он был напоен, понять отказывался.
Но с Лилей об этом лучше не заговаривать, может, она – поклонница Набокова, как все вокруг, даже если кроме «Лолиты» ничего и не читали. А чтобы свое отношение к этой книге объяснить, пришлось бы рассказать о другой маленькой девочке, обо всем, что с ней случилось… Но Игорь Андреевич гнал даже мысли о дочке, чтобы продержаться, закончить очередной день. Дома, перед сном, он откроет своей Ляльке и мысли, и сердце… А пока лучше думать о Лилите, ее солнечной силой заряжаться.
Так, повторяя ее имя, словно магическое заклинание, Игорь Андреевич и выходил из операционной, где в полном порядке оставил Босякова. Наверняка не читавшего проклятого Костальским романа…
И отдышавшись, напившись кофе (хотя лучше бы водки, и от души!), Костальский, как на реабилитацию, пошел во вторую палату, куда без стука не входил. Как-то раз Надя Куранова появилась именно в тот момент, когда он постучал, и не смогла скрыть изумления:
– С каких это пор врачи спрашивают разрешения войти в палату к больному?
Как-то Игорь отбрехался тогда, уже и забылось, а вот то, что про себя подумал, помнилось до сих пор: «Она не больная. Она – женщина. По крайней мере, для меня – так». Но Надежде он этого не мог сказать, у нее и без того обиженно дрогнул маленький подбородок, ведь не трудно было догадаться – в чем причина. Разубеждать ее Костальский тоже не стал…
Сегодня он Надю не видел, да и желания не было, хотя ничто в ней не отталкивало, скорее влекло, как и прежде: эти ее смуглые точеные ключицы и мягкие плечи, шея длинная, юная, ловкие, тонкие пальцы… Не мучительно, не подавляюще влекло, а мягко, приятно, и это его всегда устраивало. Сейчас от встречи удерживало только то, что пришлось бы объясняться с ней, почему он все же решил сам оперировать Босякова, хотя она отговаривала, и… Да как такое объяснишь?!
Поэтому Костальский укрылся во второй палате, сюда Надежда Владимировна не заглянет. Ведь нельзя сказать, что она его преследует, осложняя и без того не сладкую жизнь. Просто ищет по больничным коридорам, а он ничего против не имеет. Сам иногда не находит себе места, когда Надя не появляется слишком долго, ведь из них двоих как раз она была более защищенной, у нее в любом случае оставались муж и сын. Они каждый день ждали ее дома.
…От усталости веки так и норовят опуститься, хотя в палате солнечно, несмотря на вечер, – окно выходит на запад. Приходится следить за собой: стоит Лиле заметить его полусонное состояние, обидится ведь. Задремать в обществе молодой женщины – это хамство, такое и врачу не прощают. Или она и это способна понять?
– Так что, Лилита? Рассказывайте, почему вы сами не захотели стать врачом? Психотерапевтом, например. Все равно примерно этим и занимаетесь, только бесплатно. Вы такая бескорыстная?
– Такая вот бескорыстная! – она с притворной беспомощностью развела руками. – Нет, если честно, меня к медицине и близко нельзя подпускать, я ведь крайне несерьезный человек.
– Да что вы?
– А вы не заметили?
Костальский сел не у самой ее постели, чуть поодаль, возле столика, и, пообещав возместить, о чем успешно забыл, уже выйдя из палаты, потягивал гранатовый сок, который принес Лиле кто-то из друзей. Себя он сейчас ощущал столь же не способным на что-то серьезное, даже на разговор. Вот такая вялая словесная игра – единственное, что под силу после операции. И вовсе не в ее сложности дело…
«Что-то произошло, – Лиля почувствовала это, как только он появился. – Маша ничего не говорила… Даже она не знает? Но ведь это четко видно по его глазам… И речь не о том, что усталые, такое часто бывает. Сегодня что-то другое… Отчаяние? Опустошенность какая-то, хотя и пытается веселиться… Это не связано с больницей? А что в этом удивительного? Разве его жизнь ограничивается этими стенами? Другое дело, что мне о той ее стороне ничего не известно. Ну, почти ничего…»
Надеясь без насилия подтолкнуть Игоря Андреевича к откровенности, она заговорила о себе, положившись на то, что доверие порождает себе подобное:
– Знаете, у меня ведь отец был врачом, сельским доктором, этакий земский врач, последователь Чехова. Так что я всегда слишком хорошо представляла себе эту работу, чтобы на такое решиться: в любое время суток бежать по вызову… В грязь, в мороз. Куда мне с моей ногой?
Уже не скрываясь, Костальский прикрыл глаза и проговорил почти неразборчиво:
– Врач, который не может спасти даже собственную дочь…
– У нас в Канске никто не делал таких операций, не говоря уж о деревне, – ей стало обидно за своего старенького, полуслепого отца, которого Лиля любила до того, что даже во снах чаще всего встречалась именно с ним. – Но папа сумел добиться того, чтобы меня положили в московский госпиталь.
Игорь Андреевич открыл глаза – вернулся к ней, она физически ощутила это:
– И вас там резали-резали…
Лиля улыбнулась:
– На кусочки не раскромсали, и то спасибо! Нет, если честно, я это время как лучшее в жизни вспоминаю.
– Неужели? – он заерзал, приходя в себя.
– А то! Это же, Игорь Андреевич, и первая любовь, и подруги на всю жизнь, и дядя ко мне приходил…
Костальский вопросительно улыбнулся:
– Что за дядя? Лилита, не пугайте меня намеками на свою подростковую распущенность!
– Да бог с вами! Настоящий дядя. Вы, между прочим, его знаете.
– Я?! Ну-ка, ну-ка…
– Его все знают.
И Лиля назвала такое имя, что Игорь Андреевич вздрогнул:
– Тот самый? Композитор? Не может быть… И он – ваш дядя?
– Двоюродный. Но он относился ко мне как к родной племяннице.
– Почему вы никогда не говорили о нем?
Лиля засмеялась:
– Игорь Андреевич! А я, по-вашему, должна была с порога объявить всем, что я – племянница такого-то? Чтоб в медицинскую карту записали? Разговор не заходил, вот и не говорила.
– Ну вы даете… Другая именно с порога и объявила бы! Это ведь… Не знаю. Человек-легенда. Не человек даже, а настоящая легенда… Мне теперь и сидеть с вами рядом страшновато!
– Расслабьтесь, доктор! – ее рука сделала царственно-повелительный жест. – Хотя, если честно, он действительно всех в трепет повергал, когда приходил ко мне в госпиталь в таком длинном черном пальто, с повязанным поверх белым шарфом, развевающимся по воздуху, а его темные волосы…
– Демоническая, однако, внешность…
Лилита рассмеялась, словно увидев явление дяди в больницу вновь во всей красе:
– Медсестра, помнится, прибежала в полуобморочном состоянии: «Лилька, там к тебе такой мужчина пришел!» Они тайком из-за всех углов за ним следили.
Одним глотком допив сок, похожий на темную кровь, Игорь Андреевич спросил:
– Почему вы не напишете о нем воспоминания? Кроме того, что это безумно интересно, на этом и заработать можно!
Она виновато поджала губы:
– Не могу. Просто не получается. У меня бабушка такая же была: рассказывала что-то целые дни напролет, я, маленькая, только слушала, раскрыв рот. А записывать она не умела. Все выходило блеклым, плоским. А я вообще терпеть не могу писать! Даже когда девчонкам с сочинениями помогаю, то наговорю им, наговорю, а повторить уже не получается. И записать тоже.
– Каким девчонкам? – не понял он.
– Читательницам моим.
– Вы за них сочинения пишете?
– Сочинения! Да я уже с двумя заочно выучилась в разных вузах. И контрольные им делала, и дипломы писала. Это интересно.
– Они хоть платили вам?
Лиля тряхнула головой:
– Не-а!
И засмеялась, как бы признавая себя простофилей. Он в изнеможении простонал:
– Лиля, да вы что?! Другие этим на жизнь зарабатывают! И неплохо!
– Но это же мои девчонки! Как я могу брать с них деньги?!
Вздохнув, Костальский махнул рукой:
– Ладно, проехали. Вы неисправимы… Значит, не собираетесь писать о вашем дяде? А мне хотелось бы почитать. Или так расскажете?
– Да я не так уж много и общалась с ним… Как можно общаться с гением? Я даже тогда понимала, что он в другом измерении находится, даже если делает вид, что пьет с нами чай. Вот честное слово, никогда не могла понять, как он пишет свою музыку! Это просто выше моего понимания! Наверное, выше понимания любого обыкновенного человека.
Отставив стакан, Костальский поднялся, сунув руки в карманы халата, подошел поближе к кровати и остановился над собеседницей, рассматривая сверху.
– А себя вы всерьез считаете обыкновенным человеком?
– Нет, я, конечно, уникальна! – подхватила Лиля. – С точки зрения ортопеда…
Он дернул подбородком, как будто она чем-то его обидела:
– Да бросьте вы! К обыкновенным людям другие так не тянутся. Я ведь вижу, что в отделении творится: наши медсестры от вас часами не выходят, иногда даже гонять приходится, больные к вам то и дело шастают, посетителей толпа… Даже этого волчонка – Дину Шувалову – вы и то как-то приручили…
– Да ее просто надо было кому-то выслушать! Как и всех остальных… Но вам ведь некогда, а у меня времени – навалом. Чего-чего, а уж времени… Только читаю и слушаю исповеди.
Костальский сделал строгое лицо:
– А упражнения делаете?
– А то как же! Но сутки от этого короче не становятся.
Тут у него, неожиданно для самого себя, вырвалось потаенное:
– Жизнь вообще слишком длинная…
Лиля перестала улыбаться:
– Вам тоже так кажется?
– И вам? – удивился он.
С ее-то жизнерадостностью грезить об уходе…
– Я гоню эту мысль. Но иногда размечтаешься: а вдруг в следующей жизни мне достанется лучшее тело? За что-то меня наказали этим…
– Тогда за эту жизнь вам должно достаться тело Мэрилин Монро, – пошутил он, пытаясь вернуться к тому легкому тону, с которого они начали разговор.
И она поддержала:
– Я согласилась бы и на Софи Лорен!
– О! Тоже неплохо. Роскошная грудь у этой женщины. Недавно показывали ее визит в Москву: постарела, конечно, но все еще хороша. Так что если вы станете похожей на нее…
– Вы в меня влюбитесь!
Это должно было прозвучать шуткой, но у обоих отчего-то съежились улыбки, как будто они заглянули в окно и увидели чужую любовь. И стало неловко до того, что Лиля пробормотала:
– Такие вот дела…
А Костальский оглянулся на столик:
– Сока не хотите? А то я тут все выдул у вас…
– Нет, не хочется.
– Я вас утомил, похоже, а вам нужно набираться сил. Может, поспите?
Она покорно согласилась:
– Наверное, нужно поспать. Время быстрей пройдет.
– Вы так торопитесь покинуть меня?
– Но вы же не станете меня удерживать?
Так он и ушел, унося не высказанным ответ, который еще в нем не сформировался, не оформился ни в слова, ни в желание. Да и стоило ли что-то отвечать, она сама все понимает…
В любом случае у них остается их будущая жизнь.
* * *
– Можно я вас нарисую?
– Меня? – Лиля изумилась совершенно искренне. Никто никогда не предлагал ей этого. – А поинтересней лица здесь разве нету? Нашла на кого бумагу тратить…
Дина упрямо нахмурилась и стала похожа на обиженного бычка с крутым и смуглым от природы лбом. Забавная такая девочка. Даже представлять не хочется, каково ей одной в целом мире… Так Лиля сама жила до своей Танюшки. Нет, у нее все-таки были и родители, и сестра, и даже муж какое-то время. И все же только когда маленькое, еще не виданное, не названное шевельнулось в ней, быстрым пузырьком пробежало по низу живота, она почувствовала, как ощущение одиночества осыпается с души бесцветной пыльцой.
Если слабая память не изменяет, усмехнулась Лиля про себя, впервые она осознала одиночество, когда ее везли в госпиталь. Знать бы сразу, как там будет весело и скольких она обретет друзей, может, и не крючило бы так всю дорогу. Правда, и там иногда все же прихватывало и тянуло погрузиться в одиночество еще большее, лишенное детских голосов и беззлобных окриков нянечек. Чтобы изведать в полной мере и освободиться. Но как спрятаться от других, если загипсованная лежишь на кровати?
Дина, насупившись, продолжала настаивать:
– А мне хочется вас нарисовать.
– Ну, если так хочется… – не чувствуя желания продолжать борьбу, сдалась Лиля. – Не могу вам отказать, девушка! А мой изящный носик можешь подкоротить на портрете? Ну, хоть чуть-чуть!
– Да нормальный у вас нос, что вы к нему прицепились?!
– Я – к нему? Я всегда думала, что это он ко мне…
Дина деловито распорядилась:
– Лежите-ка и не шевелитесь.
– Господи, да я только этим и занимаюсь! Яки чурка с глазами… Такие вот дела, – так она говорила, когда разговор не клеился и следовало заполнить паузу.
Смешная девочка. Высунула кончик языка – так старается. Как может ребенок нарисовать портрет? Для этого нужно влезть в шкуру того, кто перед тобой, презрев его естественное желание покрасоваться перед будущей публикой. Разве это под силу семнадцатилетней, еще ничего толком в этой жизни не пережившей? Хотя как раз этой девочке может открыться большее, чем любой из ее сверстниц. Вот только Дина с радостью отказалась бы от этого страшного дара, можно не сомневаться…
Как Игорь Андреевич, не колеблясь, отрекся бы от таланта хирурга, лишь вернуть свою маленькую дочь… После их странного разговора Лиля ночью расспросила о Костальском медсестру, и вновь открывшееся об этом человеке то, чего она не знала до сих пор, словно высветило его особым, всепроникающим лучом, а ее сердце обволокло жалостью. И сразу стало понятно, почему он назвал свою жизнь невыносимо долгой… А она еще смела удивиться, к счастью, не высказав этого вслух, на что ему-то в этой жизни жаловаться?! Известный хирург, красивый мужчина, любимец больных и персонала. Бедный, бедный…
Лиле представились его безрадостные возвращения домой: никто не ждет, никто не бросится на шею, даже не крикнет: «Привет!» из соседней комнаты в том случае, если подойти лень… Сразу включается телевизор, и чайник, и микроволновка – побольше шумов, чтобы уши не закладывало от тишины. Но это все – мертвые звуки, только подчеркивающие отсутствие живых голосов. Хотя бы одного голоска… Как же это страшно, господи!
– Ну, что там получается? – вспомнила она о девочке. – Не очень жутко?
– Просто коленки трясутся, – хмыкнула Дина.
Она работала, положив на спинку стула (сидеть-то все еще нельзя!) обнаружившийся у Лили толстый журнал с расстеленным сверху листом. Обычный, А4, не слишком хорош для рисования, но выбирать не приходится. Спасибо уже на том, что и таким одна из Маш поделилась, и то лишь потому, что Лиля попросила. Ей никто не отказывает.
«Вот бы передать то, почему к ней все исповедоваться бегают, – вздохнула Дина, – даже Игорь Андреевич по полчаса торчит у нее в палате, хотя его ждут пациенты и коллеги. На худой конец, часовня же есть при клинике! А они сюда идут потоком… Хотя она даже к религии отношения не имеет, библиотекой заведует. Маленькая иконка на тумбочке, но у кого ее нет в этой больнице? А Бога в ней чувствую… Свет Его. Как это получается? Это все потому, что Лиля никого не осуждает, никому не завидует. За эту неделю я ни разу не видела, чтобы она рассердилась на кого или просто буркнула что-нибудь со злостью. И ни о ком еще дурного слова не сказала… Хотя этих медсестер и санитарок сроду не дозовешься, когда надо…»
– Как раз в августе я в Строгановское поступать собиралась, – сказала Дина, не отрывая глаз от листа.
Очень надо видеть чужое сочувствие!
– В следующем году поступишь, – спокойно отозвалась Лиля. – Если, конечно, не передумаешь за это время. Не тебе же рассказывать, что всерьез быть художником – это еще то испытание! Не только в наше время, хотя обычно именно на него ссылаются, винят… Всегда так было.
«При чем тут это? – Дина нахмурилась, но перебить не решилась. – Она что, не понимает, что теперь мне плевать на то, кем я буду? Кому это надо? Кто поздравит меня, если я поступлю? А не поступлю, тоже никто не заплачет… Ну и ради чего тогда лезть из кожи вон?»
– Я буду ругать тебя во время экзаменов на чем свет стоит!
– Вы?!
– А ты думала, что мы выпишемся, разбежимся в разные концы города, и все? Нет уж, девушка, мы теперь с тобой повязаны! С девчонками из госпиталя до сих пор дружим.
У Дины едва не вырвалось: «А вы считаете меня другом?» Но спрашивать о таком было неловко, все равно что просить человека показать протез. Она отметила: раньше такое сравнение даже не пришло бы в голову, а здесь на все начинаешь смотреть по-другому.
– И вы придете ко мне в гости?
В лице, которое еще больше побледнело за последнюю неделю, что-то дрогнуло, Дина успела это уловить.
– Надеюсь, приду. Если смогу, конечно.
– А что… А может, и… – у нее так и не получилось закончить фразу.
– Вот завтра освободят меня от этих вериг, – Лиля подбородком указала на свою подвешенную ногу. – Швы уже сняли… Да ты знаешь! И буду потихоньку учиться ходить. Потихоньку-помаленьку… Пусть только попробует подвести меня этот швейцарский сустав!
Дина поспешила заверить:
– Швейцарское все качественное!
– На это и рассчитываем! – откликнулась она уже бодро. – Мы еще станцуем в честь твоего поступления.
– А почему раньше-то не поставили этот сустав? Вам ведь уже…
– Как черепахе Тортилле, – оживленно закивала Лиля. – Я в курсе.
– Да нет же! Вечно вы… Я просто хотела узнать, почему так затянули с этим?
Она усмехнулась:
– Ну, ты даешь, девушка! Ты хоть представляешь, сколько это удовольствие стоит вместе с операцией? Мне с моей зарплатой и соваться не стоило… Слава богу, городские власти помогают оплатить, но очередь-то просто бесконечная! Вот, дождалась. Хорошо, еще друзья помогли, немного вперед в списке продвинули, а то еще лет пять как минимум ждать бы пришлось. А мой родной сустав тем временем уже прахом обернулся.
Дина опешила:
– В каком смысле?
– В самом прямом. Стерся в пыль.
Задержав карандаш, она осторожно спросила:
– А вы ходить-то вообще могли?
– Теоретически – нет, – заявила Лиля. – На комиссии по назначению инвалидности, когда снимки смотрели, спросили: «Как же вы сюда пришли? Вы ведь ходить не можете!» Но мне приходилось. Иначе как работать? Танюшку кормить… Да если б ее и не было, я, знаешь, без библиотеки своей помру сразу.
– Кто это тут говорит о смерти?
Голос Игоря Андреевича никогда еще не звучал так грозно, Дина даже карандаш выронила. Рев Громовержца… А в глаза заглянула – и уже не страшно. Между ресницами усмешка подрагивает, где именно, непонятно, то ли в зрачках, то ли узоры роговицы от тепла плавятся… Как бы удержать это, случайно пойманное, перенести на лист и оставить себе на память. Или лучше Лиле отдать? Он ведь только к ней заходит вот так, без дела, ни к кому больше. Это значит что-нибудь особенное или просто доктора тоже тянет к свету?
Дина наклонилась за карандашом и снизу посмотрела Лиле в лицо: «А ей самой, интересно, мы не кажемся назойливыми мошками, которые так и лезут, так и надоедают? Почему-то не верится, что она может так о нас думать. Обо мне. О нем».
– У нас отвлеченный философский диспут, – храбро солгала Лиля, глядя доктору прямо в лицо. – Ни о чьей конкретной смерти речь не идет. Присоединяйтесь, Игорь Андреевич!
– Вот спасибо! А то я боялся, что мне не стать членом клуба, – отозвался Костальский насмешливо.
– Нет, что вы, что вы! Мы принимаем всех заинтересованных.
Дине показалось, что это прозвучало чересчур нахально, не отрывая карандаша от бумаги, она даже покосилась на Игоря Андреевича с опаской, но хирург только хмыкнул и проверил Лилину капельницу.
– Ну что, Лилита, вы готовы расстаться со своей дыбой? Завтра снимаем.
Она перестала улыбаться:
– Я, наверное, и не усну сегодня.
– Это вы бросьте! Еще не хватало, чтоб вы от слабости не смогли на ноги подняться.
– А подниматься… сразу?
– В ту же секунду, – пошутил он мрачно. – Всему свое время, моя дорогая пациентка. Я сам поставлю вас на ноги.
Не спрашивая разрешения, Игорь Андреевич подцепил двумя пальцами лист, на котором только проступало знакомое лицо, и несколько секунд молча рассматривал набросок. Потом коротко сказал:
– Заканчивайте.
И вышел из палаты быстрее, чем Дина успела спросить, показать ли ему рисунок, когда он будет готов. Она уже хотела продолжить работу, но Лилино лицо теперь было обращено к стене.
– Что вы? – спросила Дина испуганно, решив, что та плачет. Невиданное и неслыханное дело… От того, что он так быстро ушел? Или не в нем дело?
Но в голосе слез не оказалось.
– Страшно. Ты ведь понимаешь, как страшно… У тебя ведь он только что был…
Дина не поняла: «Что значит – он был у меня?»
– Кто – он?
– Первый шаг. Самый страшный. А вдруг его просто не будет? Не смогу…
– Почему это не сможете? – возмутилась Дина. – Вы да не сможете?! Что это у вас – первая операция?
– В том-то и дело. Вдруг – не последняя? Вдруг все без толку?
– Это же швейцарский сустав!
– Швейцарские часы тоже ломаются…
Дина стиснула карандаш, словно копье, и ринулась в атаку:
– С чего это вы взяли? Как будто у вас когда-то были швейцарские часы! Да вы же их в глаза не видели!
Чуть повернув голову, Лиля улыбнулась:
– Это точно. Куда нам, люмпенам…
Спрашивать, что такое «люмпен», показалось неловким, вроде бы что-то из школьного курса, должна бы знать. Мама исторический закончила, уж она сразу бы подсказала. И еще много чего, если б только Дина спросила… Пока было у кого, она не спрашивала, по дурости фасон держала, а теперь предстояло жить, как единственному ученику в классе – без подсказок. Сейчас еще есть к кому обратиться: хоть к Игорю Андреевичу, хоть к Лиле… Даже к Машке какой-нибудь на крайний случай. Только что может оказаться более крайним, чем то, что она уже пережила?
– Извини, что-то я струхнула малость!
В Лилином голосе заиграла прежняя солнечная энергия. Дина взглянула на нее вприщур, с недоверием: уже взяла себя в руки? И вдруг поняла: «Это только из-за меня. Она почувствовала, что я тоже готова раскваситься… Вот еще, стараться ради этого!»
– Пойду лягу, – пробормотала она, возвращая журнал на место. – Спина уже отваливается.
– Ты хоть покажи, что получилось!
– Ничего еще не получилось. Я наброски никогда не показываю. Вы же его не просили разбудить вас в середине операции, правда?
Она хихикнула, как девочка:
– Я сама проснулась. Им меня снова глушить пришлось. Такого быка пока с ног свалишь…
– Это вы про себя, что ли? Тоже мне, бык нашелся…
Они продолжали что-то говорить друг другу в том же духе, раздували веселую перебранку, но Дина с трудом улавливала, что именно произносит, думая лишь о том, правильно ли поступает, оставляя сейчас Лилю одну. Это ей самой хотелось бы накануне такого дня уйти в себя, отгородиться ото всех своим страхом, которого никто разделить не может. Но Лиле, может, этого вовсе не хочется…
И она спросила напрямик:
– Как вам лучше: чтобы я ушла или осталась?
– Отдохни, Динка, – улыбнулась она. – Я не говорила тебе, что так называется моя любимая книга? «Динка». Осеева написала.
– Я про такую книжку и не слышала. Ну, я пошла?
Лиля вдруг выкрикнула:
– Дина! Ты придешь завтра? Приходи, ладно? Я буду ждать тебя, солнышко…
* * *
Игорь Андреевич сам высвободил ее ногу, затем осторожно, как младенца (чтобы не разбудить!), положил на постель, откатил установку в угол. На миг ему стало страшно: повернешься – увидишь глаза Лилиты, в которых слез ни разу не замечал, но лучше бы их разглядеть, чем эту доверчивую радость, которую страшно обмануть, не оправдать, ведь все может быть…
«А вот об этом и мысли допускать нельзя! – оборвал он себя и обернулся, встретил ее взгляд. – Она и заподозрить не должна, что я сомневаюсь…»
– Пока полежите, – заметив ее движение, остановил Игорь Андреевич. – Вы уже сразу бежать собрались? И желательно подальше. Я понимаю, Лилита, что вам тут осточертело… Но придется еще немного потерпеть наше скучное общество.
– Ваше общество, доктор, я готова терпеть вечно!
Лиля произнесла это весело, чтобы он не подумал, будто это всерьез. Не шарахнулся от нее. Подал руку, не сомневаясь, что она воспримет это только как жест поддержки, а не притянет к этой руке еще и сердце…
Костальский отозвался в том же тоне:
– Вот спасибо! Но я вовсе не так жесток, чтобы запереть вас в этой мрачной палате до конца жизни…
– Вовсе она не мрачная!
– …и тайком навещать по утрам. Если все пойдет как надо, то дней через десять…
– Через недельку, – заныла она. – У меня же дочка в первый класс идет!
– Вот так! Вы ее провожать собрались?!
– Да уж куда мне… Но я хотя бы встречу ее дома! Если можно… Тортик, шары и все такое…
– Поглядим, – пробормотал он, осматривая костыли. – Не высоковаты?
Лиля демонстративно задрала подбородок:
– Да я не такая уж и маленькая. Вы меня просто не помните в положении стоя.
Усмехнувшись, Игорь Андреевич пристроил костыли к кровати.
– Пусть пока они постоят, а вы еще полежите. Попривыкните. Я осчастливлю своим появлением других больных и вернусь к вам, договорились? Только лежите смирно, а то я вас знаю!
Ее синие глаза невинно округлились:
– Да я тише воды!
«Почему они у нее такие синие? – задумался он, уже выйдя из палаты. – Не видел таких, честное слово… Даже у Ляльки не такие яркие были. Даже у Ляльки…»
И опять захотелось выскочить на лестницу, затянуться горьким дымом, почувствовать легкую Надину руку на плече. Большего от этой женщины и не требуется: изредка поделиться крупицей тепла, воскресить его на четверть часа, позволить вспомнить, каково это быть живым, и опять отступить в тень, которая зовется ее семейной жизнью. Не разглядеть, что в этом смутном омуте…
Но сейчас Игорь Андреевич не мог позволить себе даже этой малости, утренний обход – святое, больные ждут.
«Чего ждут? – спросил он себя с раздражением, которым обычно сменялась сосущая под сердцем пустота, возникающая при мысли о Ляльке. – Чуда ждут? Да если б я был на него способен, то первым делом воскресил бы ее… Маленькую мою…»
В носу защипало, в уголках глаз проступили слезы. Пришлось остановиться перед дверью в палату и переждать.
А когда все-таки открыл дверь, то опять увидел ту девочку, в судьбе которой его горе отразилось зеркально. Дина, теперь он точно помнил ее имя. Дина Шувалова. Семнадцать лет. Множественные переломы, черепно-мозговая травма средней тяжести, две операции, недельная кома. Бледненькая, осунувшаяся, под глазами синеватые круги. Пора ее выписывать, пока совсем не зачахла без воздуха…
«А как рисует! – внезапно вспомнилось ему, сгустилось в воздухе теплым маревом. – Ведь не глазами увидела Лилиту… Душой? Не знаю, как это бывает у художников… Но это чувствовалось даже в незаконченном рисунке. Кто теперь позаботится о том, чтобы она развила свой талант? Чтобы искала себя, а не что-то вовне… Ведь загубит себя девчонка с тоски».
И нарушив давно установленный порядок, вместо того чтобы войти в душную палату, Костальский поманил девочку:
– Дина, подойдите, пожалуйста.
Машинально отметил: «Ходит уже хорошо, быстро мышцы ожили. Девчонка!»
В мгновенно округлившихся глазах – тревога и ожидание, накатывают волнами, сменяя друг друга. От врача не знаешь, чего и ждать…
– Пойдемте со мной. Нам направо.
Чтобы не заставлять ее бежать за ним (привычка метаться между двумя отделениями!), Костальский пропустил девочку, пристроился чуть позади. И впервые увидел трогательную тоненькую шею, не прикрытую волосами, а в ложбинке – родинка. Известно ли ей самой об этой родинке? Вот парадокс: в самом знакомом нам теле что-то все же остается неузнанным…
«Почему она не спрашивает, куда я ее веду? Полная покорность воле врача… Безусловное доверие или просто безволие? Лилита уже потребовала бы объяснений. Но в своем положении больной беззащитен перед врачом. Все ли из нас выдерживают это испытание властью?» Шагнув вперед, Игорь Андреевич распахнул перед ней дверь служебного выхода, и Дина остановилась, застигнутая врасплох сбивчивым говором старого сада, молодеющего каждым летним утром. И хотя она еще не успела выйти за порог, игра света и тени так явственно отразилась на ее бледном личике, что у Костальского сжалось сердце: «Как боязно и радостно…»
– Вам, Дина, нужно немного свежим воздухом подышать, а то давление низковато. И гемоглобин не помешает повысить.
Это были не те слова, которые ему хотелось произнести, но Игорь Андреевич боялся напугать девочку, которой теперь во всем могла мерещиться опасность. И потому он заговорил хорошо знакомым ей «врачебным» тоном, более подходившим к их отношениям. Дина послушно шагнула в мир, который выбросил ее так грубо, что искалечил и тело, и душу.
Костальский хорошо понимал, чего ей стоил этот шаг. Он помнил, как не мог заставить себя выйти во двор, полный солнца, птичьего щебета и голосов детей, среди которых больше не было его Ляльки. Зачем он вообще вернулся в мир, где ее больше не было?!
«Чтобы спасти вот эту девочку». Больно прикусив верхнюю губу, Игорь Андреевич проследил, как Дина осторожно, будто по воде ступая, направляется к дубовой аллее, в которой он сам то и дело скрывался наедине со своей болью. Но этот довод не убедил его сердце, ведь Костальский знал, что, будь у него выбор, он пожертвовал бы этой несчастной девочкой ради воскрешения своей дочери. Это было не по-христиански, он понимал, и вопреки законам медицинской этики, но что можно поделать со своим обезумевшим сердцем?
Дина вдруг оглянулась:
– А вы… Вам некогда, да?
– Ты хочешь, чтобы я прогулялся с тобой? – спросил он, не заметив, что перешел на «ты».
– Если у вас есть время…
Удивившись самому себе: «Из-за обхода я не позволил себе остаться у Лилиты и поддержать ее, а сам отправляюсь на прогулку с этой девочкой», Игорь Андреевич легко догнал ее и улыбнулся:
– Голова не кружится?
– Немножко. Как будто пива выпила. Но это даже классно! – Дина посмотрела на него без улыбки, глаза пытливые, настороженные. – Сегодня день больших перемен, да? Еще и Лилита встанет на ноги…
– Если только к вечеру…
– Вы – настоящий врач, – произнесла она убежденно. – Таких, наверное, больше и нет.
– Ты других и не видела. И не дай бог!
– Все равно я знаю, что другие так, как вы, со своими больными не возятся. Все наши тетки так говорят. Вы должны знать, что вас все любят.
Он растерянно пожал плечами:
– Что тут скажешь… Спасибо.
Зачем-то подняв резной лист клена, занесенный сюда ветром со стороны терапевтического корпуса, Игорь Андреевич протянул его девочке. Она, не удивившись, приняла опавший кусочек лета и положила его в карман халата.
«А Лялька посмотрела бы сквозь него на солнце, чтобы увидеть все прожилки». Ему стало и горько, и совестно за то, что он каждую девочку и женщину, и юную, и взрослую, сравнивает со своей дочерью. И все как одна уступают его восьмилетней любимице, еще верившей в волшебство, и в Деда Мороза, и в то, что папа все может…
– Извини, – он остановился, пряча глаза. – Я совсем забыл, что…
Не договорив, Костальский пошел назад так быстро, что со стороны это, наверное, было похоже на бегство. Только вряд ли посторонний мог понять, что этот человек пытается убежать от самого себя…
* * *
«Не была бы бездарностью, написала бы о ней поэму, времени-то навалом… Если б умела не просто рифмовать для всяких библиотечных мероприятий, а по-настоящему слагать из слов музыку. Воспела бы каждую ее черточку, каждый тонкий волосок, ускользающие улыбки, безотчетные касания пальчиков, двигающихся до тех пор, пока она не уснет. Когда были вместе, она упиралась в мой бок ножками, – так противилась сну, только он всегда сильнее, этот старый бог Морфей. Зову его каждую ночь, чтобы поскорее отправиться в странствие сквозь расстояние и время, найти, прижать к себе мою детоньку… Не смогла приехать ко мне, солнышко мое, горлышко заболело, и мамы нет рядом, чтобы пожалеть…»
Ночные слезы – дозволены, их никто не видит. Лилита не отирает их, какой в этом толк? Когда все эмоции выплеснутся, рука легко нащупает в темноте салфетку, целая упаковка всегда наготове – лежит на тумбочке. Она уже обустроила тут свой быт, продумав его до мелочей, чтобы никому не докучать просьбами: подай, принеси… Время от времени все равно приходится, но хотя бы не так часто. Люди лучше относятся к тем, кому не надо помогать. И к тем, кто не ноет, это она давно усвоила, и обо всех своих больничных мучениях вслух отзывается, посмеиваясь: «А, ерунда!» Многим кажется, что ерунда и есть…
Впрочем, Лиля говорила бы так, даже чувствуя недоверие со стороны окружающих, ведь ей самой легче держать на засове ту дверцу в душе, за которой скрывается бездна тоски. У каждого есть потайной коридор, который может увести в кромешный мрак, только зачем туда лишний раз заглядывать? Потом обратно можно и не вернуться. А у нее – Танюшка и сестра, которая уже продает дом в деревне, чтобы денег хватило на первое время, когда она тоже переберется в Москву – помогать ей, Лиле, и племяннице.
А еще есть любимые маленькие читатели, которые приходят в библиотеку потому, что это единственное место в мире, где их понимают. Где можно просто поговорить по душам, и даже не обязательно о книгах, а если не тянет на разговоры, можно и молча посидеть с каким-нибудь журналом… В этом они признаются ей в своих записках. Одна из ее библиотекарей никак не может поверить, что Лиле действительно интересно и весело с ними, не понимает, зачем каждый день проводить беседы и конкурсы, за которые никто не заплатит дополнительно, пускай, мол, берут книжки и идут себе, своими делами занимаются. Тем более с Лилиной-то ногой так выкладываться… Лиля уже перестала с ней спорить и говорить, что нужно было выбрать другую профессию, если не любишь ни детей, ни литературу, ни жизнь вообще и хочешь только, чтобы тебя не трогали, не прикасались к твоей костенеющей от старости скорлупе.
Слезы сами собой высохли, когда она вспомнила о своей библиотеке, где никогда не бывает тихо, ведь и сама Лиля – громкоголосая, разговорчивая, чего уж греха таить! Солнце светит во все окна; дети впархивают стайками, с порога выкрикивая названия книг, которые им понадобились; почти не умолкая, звонит телефон, – она всем нужна, ведь в их библиотечной системе несколько десятков женщин, и у каждой то и дело что-то случается. Почему со своими бедами и радостями они обращаются именно к ней, Лиля не допытывается. Так уж сложилось, и эта потребность в ней окружающих уже стала как наркотик – взвоешь от боли, если его лишишься.
Даже навещая Лилю в больнице, некоторые только наспех интересуются ее делами, а потом быстренько сводят разговор к собственным проблемам. Она ведь не жалуется, о чем и говорить? Признаться, Лилю это даже радует. Действительно, что толку перемывать ее бедные косточки? Пусть уж лучше этим Игорь Андреевич занимается, это его руки называют «золотыми». Говорят, он даже из Кремля кого-то оперировал, и не раз…
Ей было не особенно интересно, кого именно. Лиле всегда казалось нелепым тянуться к человеку лишь на том основании, что и в его организме произошел похожий сбой. И она никогда не чуралась людей здоровых, помня о том, что ее особенность замечают только первые секунд десять, а потом разговор или захватывает, или нет, но это уже от здоровья ее суставов не зависит. И с мужчинами всегда было так же…
Вечером Костальский опять зашел к ней, усталый, неразговорчивый, остановился у окна и какое-то время смотрел в столь же молчаливый сад, будто и не замечая Лили, сжавшейся в ожидании на своей кровати. Повернулся к ней уже совсем другим – улыбка во весь рот, от глаз – веселые морщинки:
– Ну что, готова?
И протянул костыли, сиротливо притулившиеся к стеночке.
У Лили оглушительно забухало сердце: «Неужели сейчас? Неужели встану?!»
В палату, как обещала, заглянула Дина, но, увидев врача, смутилась и быстро закрыла дверь. Словно не заметив ее, хотя взглянул в упор – приказал взглядом выйти, Игорь Андреевич продолжил руководить Лилиными действиями:
– Не садимся, сползайте бочком. Вот так.
Осторожно подхватив ее руками, помог спуститься с кровати и встать на пол. Все произошло так быстро, что Лиля едва сорочку под распахнувшимся халатом успела одернуть. Даже охнуть некогда было.
Костальский распорядился:
– Только на правую опираемся. Вот хорошо. Держитесь? Костыли вроде по росту. Давайте я завяжу вам пояс, а то еще рухнете сейчас, занимаясь своим нарядом. Ну, Лилита, вперед!
– Я иду! Ура! – пискнула она, переместив тело вслед за костылями.
– Это, конечно, громко сказано, – отозвался он скептически. – Но вы, несомненно, двигаетесь. Можете слегка опираться левой ногой, не надо ее задирать, балерина вы наша… С каждым днем нагрузку будем увеличивать, пусть сустав учится работать. Так, теперь назад и – в койку. Хватит на сегодня.
Лиля разочарованно простонала:
– И это все?
– А вы в Большой театр собирались сходить? Еще успеете. Вы диету соблюдаете? – Костальский без церемоний оглядел ее. – Мне кажется, еще килограмм пять вам нужно сбросить.
– Я – толстая, по-вашему?!
Проигнорировав ее вопль, Игорь Андреевич сделал вслух заметку для себя:
– Попрошу массажистку, чтоб еще и талией вашей занялась. Не садитесь! Сразу на бок. Вы же знаете, какой угол допустим, если хочется присесть, а вы уже на девяносто замахнулись.
– Прокрустово ложе, – пробормотала она, откинувшись на подушки.
Игорь Андреевич обиделся:
– Некоторым в травме даже кроватей не хватает, на каталках в коридоре лежат. Могли бы и не капризничать.
– А они капризничают?
– Не прикидывайтесь, я вас имею в виду!
Натянув одеяло, Лиля сказала потолку:
– Как бы хотелось сразу после операции встать и пойти, безо всяких там костылей…
– Мечтательница! – огрызнулся хирург. – Хотя, может, когда-нибудь медицина и дойдет до этого. Только мы с вами не доживем.
– Если только в следующей жизни…
Он снова отвернулся к окну:
– Вы опять об этом? Не верю я в следующую жизнь.
– Почему? – вырвалось у нее. Лиля приподнялась на локте, взглядом умоляя Костальского обернуться. – Разве это не обнадеживает?
– Потому что… – его руки сошлись за спиной, сцепились в замок. – Впрочем, неважно. Я – материалист, Лиля. Мой отец пережил клиническую смерть и не увидел ни света, ни длинного коридора. Ничего. Сплошная тьма. Человек умирает, и все.
Иначе…
Не договорив, Игорь Андреевич быстро прошел к двери, и Лиля уже решила, что сейчас он так и уйдет, не попрощавшись и не поздравив ее с первым шагом, но с порога донеслось то, что ей долго предстояло бы разгадывать, если бы накануне в полночь к ней в палату не заглянула Маша:
– Иначе она уже вернулась бы ко мне.
…Она так плакала о своей девочке не потому, что узнала от медсестры о погибшей дочери Костальского, просто истосковалась уже до того, что ногти грызть начала. Но и его в нескольких словах прорвавшаяся боль тоже прошлась по сердцу, заставила замереть от ужаса: «Как же он, бедный…» И теперь все в нем, даже каждая улыбка, виделось по-новому: «Это ведь ежедневное преодоление боли, похлеще моего будет… Вот чего не дай бог! Только не это!»
Тревожные мысли подвижной ртутью перетекали от Костальского к собственной дочери, потом к брошенным на произвол других библиотекарей читателям и опять возвращались к хирургу, на расстоянии обволакивая его сочувствием. И он будто почувствовал то тепло, которое Лиля старалась передать ему, чтобы чуточку согреть, хоть частично воскресить его душу, как Игорь Андреевич, в свою очередь, пытался вернуть свободу жизни ее телу.
Когда дверь в палату приоткрылась, Лилита даже не удивилась.
– Я не сплю, – сказала она шепотом. – Заходите, Игорь Андреевич.
Он сделал несколько шагов, неуверенно остановился, потом, словно решившись на что-то, придвинул к кровати стул и сел рядом. Сквозь темноту попытался поймать ее взгляд:
– Все нормально? Нога не болит?
– Нисколько! Я не знала, что вы сегодня дежурите.
– Виталия Сергеевича подменяю. У него… Впрочем, неважно.
Радостно согласившись, потому что все остальное действительно не было важно, Лиля тихо спросила:
– Вы вообще не спите во время дежурств?
На его губах угадывалась усмешка – увидеть ее в темноте было непросто:
– Ну, не воображайте меня таким уж героем! Сплю, конечно, если все тихо. А сейчас только что с мальчишкой одним разобрался. Лихачил на мотоцикле, теперь трещина в шейном отделе…
– Я бы тоже гоняла, если бы мотоцикл был. Обожаю скорость, – призналась Лиля.
– Кто бы сомневался… Будь сустав на месте, вы бы, наверное, и с парашютом сиганули?
– Ой, хотелось бы! А еще погрузиться на дно морское. Это ведь можно?
Игорь Андреевич не ответил, и она напряглась, сразу уловив тяжесть этого молчания. Вонзив ногти в ладони, Лиля наспех пыталась понять: чем напомнила? Его девочка любила плавать? Господи, как же говорить с ним, ведь что угодно может отозваться этой болью…
– У нее волосы отливали на солнце зеленью, как у морской царевны, – наконец, произнес Костальский и откашлялся, пытаясь освободиться от комка в горле. – Вы ведь знаете, о ком я?
– Я узнала это несколько часов назад…
– Вот как… Значит, я рисковал проболтаться.
– Что плохого, чтобы поделиться с кем-то…
Он оборвал ее:
– Этого не разделишь! Вы не понимаете, Лиля, и слава богу! Мы даже с женой не могли разговаривать об этом.
– Потому что вам обоим хотелось вопить от боли, – подхватила она. – Разве не так? Друг для друга вы были в то время самыми… неподходящими собеседниками.
– Мне вообще ни с кем не хотелось говорить.
– Вам казалось, что это только ваше. И что будет предательством открыть самое глубинное постороннему.
Остановив ее резким, нетерпеливым жестом, Костальский заметил:
– Но сейчас у меня нет ощущения, будто я предаю Ляльку. Вот странно… Может, потому, что у вас имена так похожи…
– А это неважно – почему! Всегда интуитивно угадываешь, кому можно довериться. Тут дело не во мне вовсе и не в моем имени.
Он подался вперед, пристально вгляделся в едва угадываемое лицо:
– Хотите сказать, что вы тут совсем ни при чем? Не выйдет, Лилита.
От того, что Игорь наклонился, а темнота мгновенно создала иллюзию еще большей близости, у Лили опять заколотилось сердце, будто тот самый первый шаг, которого она так ждала и боялась, до сих пор не был сделан, и только сейчас предстояло решиться на него. Костальский не мог разглядеть, как вспыхнуло ее лицо, но он и не пытался, она поняла это в ту же минуту, ощутив прикосновение его пальцев к своей щеке. Мелькнуло паническое: «Теперь он все знает обо мне! Но разве ему может быть не все равно? Он же резал меня…»
Его рука впитывала ее волнение всего несколько секунд, потом Игорь Андреевич выпрямился и сухо проговорил:
– Извините, Лиля. Я на мгновение забыл о таком понятии, как врачебная этика.
У нее едва не вырвалось: «При чем тут этика?! Ты просто неожиданно вспомнил, чем я отличаюсь от большинства женщин…»
Выждав, когда сердце разочарованно вернется к обычному ритму, Лиля заставила себя проговорить:
– Вашим больным повезло… Нам повезло, что вы не из тех людей, кто совершает глупости.
– Думаете, не способен? – проговорил он задумчиво, чуть отвернув лицо, словно всматриваясь во что-то невидимое Лиле.
«Не возражает», – она удержала вздох, который Костальский без труда разгадал бы.
– Конечно. Иначе я не доверила бы вам свою драгоценную персону.
Игорь Андреевич снова посмотрел на нее:
– Не доверили бы? Это интересно!
– А то вдруг вам во время операции вздумалось бы выкинуть что-нибудь этакое?
– Что именно?
– Ну, не знаю! – у Лили уже не было сил поддерживать этот бессмысленный разговор, но она крепилась, как всегда. – Например, подменить швейцарский сустав какой-нибудь сантехнической штуковиной…
Негромко рассмеявшись, Игорь Андреевич вынужденно признал:
– На такое я действительно не способен.
– На это я и надеялась…
Он поднялся и, уже отойдя к двери, спросил:
– Именно на это?
* * *
Дине показалось, что, поставив термометр, она снова забылась сном, и ей привиделась Лиля, наклонившаяся над ее кроватью. Светлые струи волос льются прямо на лицо, не достигая его, словно тая в воздухе. Спросонья Дина заслонилась ладонью, потом быстро убрала руку, сообразив, что этим движением рискует обидеть сновидение, и тогда оно больше не явится. Сейчас-то ладно, и наяву можно увидеть Лилю, а вот потом, дома…
– Доброе утро!
«Да ведь это на самом деле! Она – здесь!» – едва не подскочив, но вовремя вспомнив о своем позвоночнике, Дина только приподнялась на локтях и часто заморгала, пытаясь окончательно проснуться:
– Вы… Вы откуда тут взялись?
– Пришла, – стоя на одной ноге, Лиля потрясла костылями. – Ты видишь? Я же хожу! И даже наступаю на левую. Только вот что-то…
– Что? – Дина свесилась с кровати. – Где мои тапки? Вы их не запнули куда?
Лиля отмахнулась:
– Да ладно, это ерунда, пройдет. Доброе утро, Прасковья Павловна! А мне через пару дней уже с палочкой разрешат ходить.
– Супер! Дайте-ка я встану…
Перекатившись через бок, Дина поднялась на ноги и, запустив в волосы растопыренные пальцы, слегка «взбодрила» их. Затем поковыряла пальцем в уголках глаз, сунула в рот обнаруженную в кармане жвачку и решила, что умываться уже не обязательно. Никто ей не выговорит за неряшливость… Затянув вконец истрепавшийся поясок халата, Дина мотнула головой:
– Ну, пошли.
– Куда? – весело поинтересовалась Лиля, поворачиваясь к двери.
– Да хоть куда… Подальше.
Но выйти из палаты им удалось не скоро, потому что Лиля углядела подрагивающие плечи Августы и не смогла пройти мимо ее кровати. Дина только зубами скрипнула: «Ну, начинается! Сейчас эта тощая клушка прилипнет к Лиле насмерть, и пока все свои язвы ей не распечатает…»
– Я подожду в коридоре, – буркнула Дина, проходя мимо. – В туалет пока схожу.
На выходе ее чуть не сбила с ног Машка – самая шустрая, веснушчатая, как деревенская девчонка из любой детской книжки, передвигающаяся, Дине на зависть, только бегом. Обдав смешком и свежим, не больничным запахом, она спросила на ходу:
– Сколько? Нормально?
Дина кивнула прежде, чем догадалась, что речь о температуре. Градусник она уже давно не ставила по утрам. А зачем? Все у нее в порядке. Обернувшись, медсестра, не останавливаясь, попятилась, быстро семеня ногами и роняя слова горошинками:
– Игорь Андреевич велел к выписке тебя готовить. Ходишь нормально! Он в ночь дежурил, уже ушел, но мы и без него контрольный снимочек сделаем. И все – гуляй, Вася! Ну, ты рада?
Ответ ее не интересовал, она успела бы убежать, даже если б Дина нашла в себе силы что-нибудь выговорить. Но их не было. Под ногами пол пошел трещинами глубиной с километр, с огненной сердцевиной, и страшно было шевельнуться, чтобы не провалиться в бездну…
Она медленно повернула голову, уже готовая взмолиться о помощи, но Лиля все еще оставалась в палате. И Дина поняла, что так будет всегда: как бы ни было жутко и плохо, не за кого будет зацепиться даже взглядом… Как с этим жить?
Только теперь она осознала: выписка и возвращение домой все это время казались ей чем-то не более реальным, чем второе пришествие. Дина понимала, что рано или поздно это произойдет, но в голове такое не укладывалось. Сможет ли она даже просто войти в их квартиру, лишенную жизни? А тем более одной остаться на ночь… На тысячи ночей…
Больно закусив палец, она побрела к туалету, но там толпились какие-то старухи, которые кряхтели на разные голоса и жаловались друг другу, слушая при этом только самих себя. Пришлось выйти и в коридоре дождаться, пока они облегчатся во всех смыслах и уступят ей место. К тому времени, когда Дина оказалась в кабинке, слезы уже отступили и тяжестью осели на сердце. Что поделаешь…
Кто-то стукнул в дверь, и Дина едва не выругалась, но тут же донесся Лилин оклик:
– Динка, ты здесь?
– Сейчас, – отозвалась она холодно, хотя и понимала, что глупо злиться на то, о чем Лиля даже не подозревала. Но ее не оказалось рядом, когда она была так нужна. Она променяла ее на эту Августу… Как можно жить с таким идиотским именем?!
Лиля выпалила поспешно, словно тоже чувствовала свою вину:
– У Августы собака умерла вчера, представляешь? Внезапно, даже не болела. Сосед ее нашел уже мертвой, когда пришел выгулять.
– Ну и что? Подумаешь! – Дина прошла мимо, заставив Лилю гнаться за ней.
– Надо же было поговорить с человеком… Они вдвоем жили с этой собакой, никого больше. Четырнадцать лет вместе, в браке редко столько проживают… Она уже стала для нее больше, чем собакой.
«Да понимаю я все!» – хотелось крикнуть Динке, но вместо этого она бросила:
– Собака есть собака.
И даже не замедлила шаг, хотя прекрасно слышала тяжелое Лилино дыхание, когда та возразила:
– Ни один собачник с тобой не согласится.
Но Дина тут же отрезала, пристально глядя в сумрачную даль коридора, по которому, казалось, можно было убегать и убегать:
– Это их проблемы. Незачем так привязываться. Цепляться за кого-то. Дурь это! Все равно все кончится… Всегда кончается.
– Динка, да что с тобой? Погоди же ты! – наконец взмолилась Лиля, выбившись из сил.
Взглянув через плечо в ее расстроенное, покрасневшее от усилий лицо, Дина процедила:
– А вы и не бегите за мной, раз не можете. Я – сама по себе, вы – сами по себе…
И, ускорив шаг, чуть ли не бегом скрылась за вовремя подвернувшимся поворотом. И только тогда вспомнила: здесь находится спасительная дверца, ведущая в сад. Сегодня ей никто не разрешал выходить, и что с того? Ее доктор отдыхает, кому до нее есть дело? Сегодня все равно выпишут, она уже одной ногой на воле. Разве плохо? И Дина, насколько хватило легких, вобрала в них теплый, наполненный запахом травы и листьев воздух. Ведь здорово же! Можно дышать и греться на солнце, болтаться целыми днями по улицам и жевать что попало, разве это не счастье?!
Она заревела, уткнувшись лбом в ствол старого дуба, возле которого Игорь Андреевич в прошлый раз догнал ее. А листок подарил кленовый, принесенный откуда-то ветром, будто специально для нее. Впрочем, она и дубовый бы также спрятала в журнале, который ей оставила одна из выписавшихся теток.
«Ни одного имени не помню, – почему-то пришло ей в голову. – А Лиля только вставать начала, а уже всех в отделении по именам знает. Бабку эту с мениском, оказывается, вроде Прасковьей зовут… Я и сейчас не запомнила. Вот поэтому я – одна, а возле Лили вечно народ толпится! Ну, и плевать! Плевать на всех!»
Оторвавшись от дерева, Дина побрела по аллее, с удивлением отмечая возникшие за ночь сухие листья, которые ветер уже сорвал и, скомкав, разбросал по земле. Когда осень опустится на все деревья, в этой клинике никто уже и не вспомнит о Дине Шуваловой, девочке без будущего. Зачем ее оперировали и лечили, столько сил на нее потратили? Зачем вытянули из комы? Ради чего? В том небытии, по крайней мере, не было ни боли, ни страха, ни обиды на всех и вся. Там не было ни хорошо, ни плохо. Никак. Пусто. Разве это не лучше этой еще только подступающей тоски?
«Ему даже не пришло в голову проститься со мной! – вспомнила она о Костальском, сама подсыпая соли на рану. – Велел выписать по-быстрому, пока его нет… Конечно, кто я такая? У него таких два отделения на шее, со всеми не поговоришь. Да и ладно! Если ему плевать, тогда и мне тоже».
С трудом пробивавшееся сквозь плотную листву утреннее солнце было мягким, ласково уговаривающим не злиться, улыбнуться хотя бы этим дубам, повидавшим на своем веку столько несчастных девочек, что ей и не снилось…
«По одной на каждом дубу повесить, – мрачно представила Дина, – так деревьев не хватит! Зато для меня одной хватило бы…»
Ее воображение легко нарисовало черную каплю ее тела, висевшую на толстом суку. Вот была бы месть Костальскому! В жизни бы не забыл. И в эту дубовую аллею больше сроду не вышел…
Дина ухмыльнулась, насладившись этими мыслями. Не полезет она, конечно, с веревкой на дерево, что за дурь?! Но это видение было настолько реалистичным, что, значит, отчасти осуществилось, может, не в этом мире, но в каком-то другом – то ли воображаемом, то ли действительно существующем…
Как бы то ни было, а ей чуть-чуть полегчало. И уже не захотелось угрюмо фантазировать о том, что ту самую веревку можно приладить и дома к люстре. Ну да, и висеть там неделю, пока сосед какой-нибудь не обнаружит ее, как ту сдохшую собаку…
«Лиля сказала бы: умершую. Хотя она тоже может что-нибудь такое брякнуть! Но когда говорит о… о настоящем, она всегда находит самые нужные слова», – Дина мотнула головой: чуть не забыла, что убежала от нее, вся дрожа от ревности… И сама удивилась – разве это ревность? До сих пор она думала, что ревновать можно только мужчин. Отца, например…
Она продолжала разносить свою обиду по саду так долго, что ноги опять начали заплетаться. Бороздя дорогу носками больничных тапок, которые были велики ей размера на два, Дина с передышками дотащилась до отделения и воровато огляделась: никто не хватился? Но в коридоре прогуливался один лишь примеченный ею еще раньше высокий горбоносый старик с загипсованной от плеча рукой. Болтали, будто это его сын постарался… За что – Дина не интересовалась.
Старика почему-то было жаль. Она помнила, как что-то екнуло в груди, когда они повстречались в этом же коридоре в первый раз, но ее храбрости только на то и хватило, чтобы опустить глаза и постараться разминуться с ним как можно скорее. А сейчас то же самое, непонятное «что-то», наоборот, заставило всмотреться в мужчину повнимательнее. Она увидела знакомые черты: он же похож на деда! На папиного отца, которому Дина еще ползком притаскивала домашние тапки, когда он возвращался с работы, и который, что-то рассказывая, часами гулял с ней по набережной. Ей запомнился только голос, а сами истории по той реке так и уплыли осыпавшимися лепестками. Он был высоким, статным, держался прямо, а седые волосы, придерживаясь старой моды, откидывал со лба назад.
Если, конечно, память ее не подводит, ведь Динке было всего девять, когда ее дед не проснулся однажды утром. Все вокруг твердили, как помешанные: «Какая хорошая смерть!» А Дина, забившаяся в угол за большим старым шкафом, чтобы родители не заставили подойти к гробу, с ужасом прислушивалась к вдруг переставшим быть знакомыми голосам: «Как это смерть может быть хорошей! Она же дедушку забрала! Никто больше не будет со мной в шашки играть…» Почему-то именно от этого хотелось плакать. Хотя тогда она еще не понимала, что дед поддавался, проигрывая ей партию за партией…
С трудом отведя взгляд от незнакомого старика, внешне похожего на ее деда, Дина направилась к себе, но у двери в Лилину палату остановилась и прислушалась. Заглядывать не стала: «Ей и без меня хорошо! Она теперь на ногах. Небось всю больницу уже оббежала…»
– Ее еще не вернули…
Резко обернувшись, Дина уставилась на подавшего голос старика. И про себя подумала о том, что уже забыла голос своего дедушки, хотя тот чаще других читал ей… Нет, не сказки. Она любила «Денискины рассказы». Потому что в них все было, как в жизни – и смешно, и грустно. А Лиле, оказывается, нравилась какая-то «Динка»…
– Кого не вернули?
С подкупающей ласковостью в голосе, но оттого не менее жесткими словами, которые ничем не смягчишь, он пояснил:
– Подруженьку вашу. Только с полчаса как операция началась.
Холодная волна мурашек окатила голову и спину, заставила передернуться.
– Ка… Какая операция?!
– Уж извините, подробности мне неизвестны, – седая голова церемонно склонилась в поклоне. – Знаю только, что Игоря Андреевича вызвали экстренным образом.
Рывком открыв дверь в палату, Дина скользнула взглядом по пустой кровати и так быстро, как позволили измученные ею же самой ноги, побежала к посту медсестры, находившемуся за поворотом длинного коридора. Но там оказалось пусто, только неосторожно брошенный на журнале термометр цеплял взгляд. Уставившись на него, Дина замерла в растерянности, не зная, к кому обратиться, не в ординаторскую же стучаться – кто ей там станет объяснять? Недолго думая, бросилась в свою палату.
– Татьяна Ивановна, вы не знаете…
Живо обернувшись на постели, старушка бойко перебила ее:
– Срочная операция, говорят. Некроз тканей у нее начался, гной потек из ранки.
– Некроз?! – Дина уже слышала это слово. Здесь ей много нового довелось узнать из того, о чем лучше и не догадываться…
А Татьяна Ивановна продолжала, чуть задыхаясь от возбуждения:
– Девчонки сразу доктору позвонили, он велел рентген сделать, пока сам в больницу едет. А снимок-то и показал, что немедля надо сустав этот удалять. Маша сказала, что это какая-то застарелая инфекция дала о себе знать. Занесли, мол, во время одной из прошлых операций, их же у нее тьма-тьмущая была! Сама, поди, знаешь…
– Тринадцать…
Цепляясь за спинки кроватей, Дина добралась до своей и вытянулась на животе, пробормотав в подушку: «Проклятое число! Сыграло все-таки…»
Сама не замечая того и впервые не думая о том, что подумают о ней окружающие, она комкала простыню и корчилась, пытаясь увернуться от легко настигающего стыда: «А я еще заставила ее сегодня бежать за мной… Сука такая! Она же с самого начала пыталась что-то сказать мне, наверное, как раз о гное, что потек, а я эти дурацкие тапки искать начала, сбила ее… Она и так никогда не жалуется, тут, может, в кои века решилась… А потом еще Августу эту выслушивала, хотя у самой такое… Что же теперь? Уберут сустав, а дальше? Как без него?»
Время не текло, оно отяжелело холодным студнем, навалилось сзади, мешая дышать. Уже в груди стало больно и горячо, именно так, как описывала одна из старушек, которой сперва прооперировали позвоночную грыжу, а потом увезли в кардиологию. Дину вдруг как обожгло: не она ли тогда лежала на каталке, укрытая с головой? Никто не говорил, что именно та старушка умерла, но Дина ведь и не спрашивала. А ножки из-под простыни торчали маленькие… И бабушка была крошечная. Все такие же мизерные сухарики в чае размачивала. Ни разу не поговорили даже, пока она здесь лежала…
Дина с трудом перевернулась на спину и обнаружила, что в палате включили свет. Наступил вечер, а она и не заметила, хотя минуты считала, часы…
«Вот так и время проходит, и люди – мимо, в никуда, – она думала об этом, оцепенев от горести нового для нее откровения. – Не вернешь ни утро сегодняшнее, ни тех людей на каталках, ни моих родных… Я сестре так и не передала, что ей Витька звонил. Наверное, прощения хотел попросить, и она ведь ждала этого. А я забыла. Потом вспомнила, но ее не было дома, я решила, что успею еще. И снова забыла. Так она и не узнала…»
– Сколько времени? – спросила она вслух.
Отозвалась Татьяна Ивановна:
– Да уж, считай, девять. Закончили, поди. Да что-то Маша не заходит…
Дина начала подниматься: «Не могу больше. Надо проверить, вдруг ее привезли уже, а я тут торчу».
– Сходи, сходи, – напутствовала ее неунывающая соседка. – Может, там помочь надо. После операции же человек… И как только сердце выдерживает у горемычной столько наркоза-то?
Дина обернулась в дверях:
– У нее особое сердце.
* * *
Когда уходишь в наркоз, сначала исчезает все, что воспринимаешь глазами, затем постепенно теряешь ощущения, тело твое растворяется в бесчувствии, а звуки вокруг на какое-то время, наоборот, делаются отчетливее и ярче. Потом гаснут и они, и ты теряешь и себя, и весь мир. А возвращаясь к нему, сперва слышишь металлическое лязганье инструментов и раздражающе громкие голоса, которые говорят будто бы о ком-то постороннем, но чуть позже понимаешь, что речь, конечно же, шла о тебе. Начинаешь чувствовать, как тебя покалывают, зашивая, но это не больно, просто – ощутимо. Затем и глаза начинают распознавать фигуры в белых халатах…
Сегодня радости возвращения не было. Но Лиля заставляла свои губы улыбаться, чтобы никому из медиков и в голову не пришло, что в случившемся с ней есть доля и их вины, не только тех госпитальных врачей из детства. Хотя, может, она и есть… Но какая теперь разница? Протезирование на этой ноге невозможно даже в перспективе. Просто бесполезно. Хотя, говорят, в Германии ортопеды творят чудеса…
Лиля ужаснулась себе: какая же неисправимая оптимистка! Ничто не берет… Только проревелась, отойдя от наркоза, и вот уже, пожалуйста… Какая еще Германия?! Откуда такие деньги? Даже если продать квартиру и дом сестры, это составит только от силы сотую часть нужной суммы. Лучше и не мечтать об этом. Один раз уже домечталась. Единственное, о чем она спросила перед операцией, когда Игорь Андреевич, осунувшийся и хмурый, просматривал рентгеновские снимки:
– Я смогу ходить?
– Не хуже, чем раньше, – ответил он с такой убежденностью, что Лиля безоговорочно поверила.
И улыбнулась ему:
– Уже хорошо!
Костальский уверенно добавил:
– Скорее всего, даже лучше, потому что мы подчистим ткани, отполируем ваши косточки…
– В каком смысле?!
Опустив снимки, он улыбнулся ее ужасу и покрутил рукой, показывая, как будет делать:
– Обточим их так, чтобы они по возможности обходились без сустава. Это его, конечно, не заменит в полной мере, но…
Лиля кивнула:
– Голь на выдумки хитра. Я понимаю.
– Ну, что-то вроде этого…
– Тогда я готова, Игорь Андреевич, – сказала она и улыбнулась, чтобы он сам перестал волноваться. – Эта операция – четырнадцатая, ее можно не бояться.
После операции Костальский запретил пускать к ней кого бы то ни было, даже Дину, зато сам просидел у ее постели часа два, не меньше. Но пришел не сразу, дал ей время проплакаться, понимал, как это необходимо, а при нем Лиля опять сдержалась бы, загнав отчаяние внутрь. Лучше выпускать его, избавляться…
Потом он поил Лилю чаем с молочным шоколадом, разрешенным им же самим только на этот день, и травил больничные байки, часть из которых она уже слышала от медсестер, но все равно смеялась над каждой.
А уходя, проговорил торопливо, будто внезапно решившись:
– Мне так жаль, что это произошло именно с вами. Вы ведь заслуживаете совсем другой жизни.
– Вы ведь сами говорили, что не верите в другую жизнь, – напомнила она.
Игорь Андреевич чуть приподнял брови:
– Неужели? Кажется, уже верю.
Лиля так и не узнала, что, выйдя из ее палаты, он столкнулся с Надеждой Владимировной и впервые внутренне отпрянул. Он и сам поразился этому внезапному отторжению к женщине, обычная тяга к которой легко побеждала усталость и желание просто вздремнуть, пока никуда не зовут.
Надя, прищурившись, смерила его быстрым взглядом:
– Что-то вы зачастили в эту палату, доктор.
– Это моя работа, коллега, – отозвался Костальский тем же тоном и машинально взглянул на часы.
Это был невежливый жест, он и сам это понял уже секунду спустя. И с тем же безразличием отметил, что халат надо бы постирать.
– А что у вас тут – тяжелый больной?
– Скорее, случай тяжелый. А больная относится ко всему с легкостью, вызывающей благоговение…
– Как в старину юродивые?
Он поразился:
– О! Такое сравнение мне даже в голову не приходило. Нет, Наденька, не клевещи напрасно. Она умница, каких поискать. Только не из тех интеллектуалок, от которых мухи дохнут… Но ты ведь тоже не из таких.
Игорь Андреевич улыбнулся, не угадав, с какой жадностью Надя поймала этот живой проблеск света, который так любила в нем и который делал его ни на кого не похожим. Что привело Надежду Владимировну в их отделение среди бела дня, Костальский не спросил. Это было бы еще более оскорбительно, чем взглянуть на часы в первую же минуту встречи.
Надежда Владимировна тоже ничем не выдала того, о чем думала, когда тоска погнала ее обманно солнечным переходом в этот корпус: «Почему я вышла замуж раньше, чем встретила его?» Она помнила, конечно, что Костальский тогда тоже был женат, но ведь можно было дождаться…
Ее обдало ознобом: чего дождаться? Той чудовищной трагедии с его дочерью, после которой ни Игорь, ни его жена так и не смогли вернуться к жизни. Разве он стал свободен от этого? Нет. Одиноким.
К тому времени у Нади с мужем уже образовалось прошлое, опутавшее обоих прочнее пресловутых цепей Гименея. И сын, и воспоминания, и могилы – его матери, и Надиного отца, которому вместо традиционного памятника она хотела бы (но не решилась!) поставить черный камень с неровной надписью белым: «Типичный советский ученый». Он распознавался в отце с первого взгляда: маленький, вечно всклокоченный очкарик, странноватый, плохо выбритый и в неопрятном костюме. Алкоголик. Гений.
После него остался целый шкаф неопубликованных трудов, которые уже на поминках растащили те, кто брезговал давать ему на опохмелку при жизни. Может, стоило выгнать их всех к чертовой матери и, споря с Воландом, сжечь рукописи? Но тогда Надя подумала: «Пускай хоть его идеи останутся в этом мире…»
Почему об отце вспомнилось именно сейчас, когда она провожала взглядом Игоря Костальского, уже чуть не падавшего с ног от усталости? Внешне они совершенно не были похожи. Что в нем вызывает в ее душе ту же пронизывающую до слез жалость, которую она испытывала еще разве что к своему сыну, как бы тот ни пытался испортить их отношения?
«Я люблю его, вот в чем дело, – она вдруг почувствовала усталость не меньшую, чем та, что уносил в себе Игорь. – Ни одного мужчину до сих пор не любила, даже не понимала, что это такое. Думала, все это фикция сплошная, а оказалось…»
Это открытие было из тех, что не вызывают ликования. Их запрещают самим себе и прячут подальше. Настолько глубоко, чтобы никогда не найти, потому что подобные озарения переворачивают жизнь… Разве можно вернуться в свой дом как ни в чем не бывало, уже познав нежеланное откровение: «Я люблю Игоря»? Как с этим готовить ужин, стирать мужу носки, выговаривать сыну за учуянный ею запах табака? Ложиться в постель, наконец…
Она вышла на лестничную площадку, где они время от времени уединялись с Костальским, достала сигареты и впервые не ощутила желания закурить. Ничего не хотелось. Потому что она сама – ничто, и у нее не может быть желаний. Игорь даже не увидел ее сейчас, у него в глазах сохранялось отражение другой женщины. Что сделать, чтобы оно исчезло?
«Ничего тут не поделаешь. – Надя скомкала недавно открытую пачку и швырнула в переполненную урну. Ее комок завис на самом краю, и она подумала, что надо бы кому-то сказать, чтоб вынесли, но тут же забыла об этом. – Драться за него, уничтожать эту Винтерголлер из второй палаты? Нет уж. Это не для меня. Если я нужна ему… А я не нужна».
Она сделала глубокий вдох: так, теперь главное – не думать о нем вообще. Гнать любое подобие мысли. Иначе скальпель будет трястись в руках, пальцы онемеют… Вот это будет по-настоящему страшно, ведь тогда можно хоть и непреднамеренно, а все же нарушить однажды данную клятву. Ту самую, которую Игорь уже готов был нарушить, но не смог. И она не посмеет. Надо просто напомнить себе ту важную истину, которой ее когда-то учили, а она ее чуть не забыла. Что же это? Ах да… Все будет хорошо.
…Когда Дина все-таки прорвалась в запретную вторую палату перед самым отбоем, Лиля заговорила так, будто продолжила прерванный разговор:
– А знаешь, однажды под наркозом мне настоящее чудо привиделось. Обычно ничего не видишь, проваливаешься, и все. А тут передо мной засияли настоящие звезды и возникли гигантские светящиеся шары. В них ударяли молнии, вызывая вспышки, похожие на фейерверк, и это была такая красота, просто беспредельный восторг! До слез. Лет пятнадцать прошло, не меньше, а я все помню в деталях… И я вот думаю: может, стоило лечь под нож, чтобы это увидеть?
Осторожно подобравшись к ее постели, Дина, как в первый день, встала рядом на колени, стараясь не задеть капельницу, вернувшуюся на место, и робко заглянула в лицо, которое уже так хорошо знала. Слишком хорошо, чтобы спрашивать:
– Вы на меня не сердитесь?
Лилины пальцы вплелись в ее волосы:
– Да что ты, дурочка…
– Вы ни на кого не сердитесь…
– А на кого мне сердиться?
У Дины вырвалось:
– Я так и знала, что вы это скажете! Но ведь у них… у него же ничего не вышло! Он все вам испортил…
Резко сведя брови, Лиля мотнула головой:
– Ничего он не испортил! Даже не думай так. Он сделал все, что мог…
– Врачи вечно этим отговариваются! Если б все правильно сделал, не пришлось бы убирать этот сустав. Он же швейцарский, не мог быть плохим!
Улыбнувшись, Лиля снова потрепала ее макушку, но осторожно, едва двигая рукой, чтобы не сместить иглу, запущенную в вену:
– Протез был что надо! Это я до него не дотянула по качеству. Нахватала инфекций всяких…
Дина сразу сникла, вспомнив, что уже слышала об этой скрытой инфекции.
– И что теперь будет?
– То же, что и раньше. Никакой трагедии не произошло, Динка. Надо было раньше догадаться, что в такой деревенской девушке, как я, всяким импортным штучкам не прижиться. Несовместимость. Мой глубинный патриотизм отторгает их еще на уровне скелета.
– Очень смешно!
– Ну, я уже поплакала немножко, хватит.
Отклонившись, Дина осмотрела ее с недоверием:
– Вы плакали?
– А ты думала! Не такая уж я железная леди… От слез не заржавею.
– Он хоть извинился?
Лиля сделала строгие глаза:
– Девушка, вы мне бросьте на доктора нападать! Ему сейчас, может, еще хуже, чем мне. Знаешь, как обидно, когда хочешь помочь человеку и понимаешь, что ничего не можешь сделать!
– Не знаю. Мне в жизни никому не хотелось помочь. Ну, не то чтобы совсем, но вот так, чтобы прямо обидно было. Разве что вот сейчас…
Дине вдруг вспомнилось:
– Он ведь меня выписать хочет! Прямо сегодня хотел. Может… Может, вы его попросите, чтоб оставил меня тут, пока вас не выпустят?
– У них, наверное, коек не хватает, это же вечная больничная история…
Лилин голос прозвучал виновато, и Дине вдруг вспомнилось, как мама сказала по уже забывшемуся поводу, что интеллигентный человек чувствует свою вину за все, что происходит в мире не так. Она называла это сопричастностью. Дина тогда подумала: «Вот еще, дурость какая! Почему это я должна быть виновата за то, что какой-нибудь идиот, похожий на тупую обезьяну, творит на другом материке?» Но в случае с Лилей это, похоже, проходило. В глазах – просьба не держать зла на тех, кто уже устал ощущать себя виноватым.
– Тем более, солнышко, ты же в травме должна лежать. Но я спрошу у Игоря Андреевича. Может, все не так плохо.
– Сколько они еще вас продержат?
Ее взгляд ускользнул:
– Даже не знаю. Об этом мы пока не говорили. Думаю, пока швы не снимут. Что им потом со мной делать?
Протяжно вздохнув, Дина насупилась:
– А если попросить мне тут у вас какую-нибудь раскладушку поставить? Если им действительно койка так нужна…
– С твоим-то позвоночником на раскладушке? На это Игорь Андреевич в жизни не согласится.
У Дины нервно дернулась, поджалась верхняя губа. Ей самой будто со стороны увиделось, как она оскалилась, защищаясь.
– А ему-то какое дело? Пусть считает, что выписал меня. Он же не будет проверять, на чем я дома сплю!
– Это другое дело, пока ты здесь, он несет за тебя ответственность.
Лиле трудно было удерживать взгляд, так хотелось перевести его на темное окно, за которым, кажется, уже и нет ничего, ведь невозможно было отделаться от омерзительного ощущения, что это она не позволяет девочке остаться. Ей и самой хотелось, чтобы это строптивое и несчастное существо просто возилось рядом, бормотало что угодно, рисовало. Помогать не обязательно, на это больничный персонал есть! И хотя с ними тоже и разговоры за полночь, и секреты, но все же это совсем не то, что с Динкой.
И так трудно теперь разорвать ту невидимую другим связь, что возникла между ней и девочкой за время изоляции от мира. Может, потому, что по возрасту Динка могла быть ее дочерью, и Лиля неожиданно ощутила, как не хватает ей именно таких отношений… А может, совсем не поэтому. И рисунок не закончен, и так много еще не сказано… Даже не успели смоделировать ту жизнь, что ждет Дину за порогом больницы, а ведь это так важно для девочки. Как она сможет шагнуть в неизвестность, не преодолев страх?
– Вообще-то у меня были некоторые планы на твое время после выписки. Ты не смогла бы пройтись по школьным базарам, прикупить моей Татьянке всякие ручки-тетрадки? Деньги у меня есть. Боюсь, что они из деревни приедут только к сентябрю, у Танюшки же ангина, когда успеем приготовиться? А ведь первый класс – это ужасно серьезно, правда? Не хотелось бы наспех… Это не очень тебя напряжет?
– Да ну! Вообще не напряжет!
Лиля солгала. Этих планов у нее не было, только сейчас, минуту назад, осенило, чем занять Дину, чтобы ощущение ненужности не удушило ее в первый же вечер. А приготовление к новому учебному году – это почти так же радостно, как в декабре, когда опускается уточнение «учебному»… Пусть память поманит девочку картинками десятилетней давности, шорохом разноцветных листьев, запахом новых учебников, капроновой пеной бантов. Веселые воспоминания вызовут не только слезы, от которых еще долго не избавиться, но и улыбку, пускай она вновь войдет в Динкину жизнь и останется в ней после того, как девчонке наскучит навещать свою невезучую больничную знакомую… От этого ведь не уйти.
«Ага, перспектива проступила! Глаз заблестел», – отметила она с облегчением, увидев, как оживилась Дина, только представив ту праздничную суету, что предложила ей Лиля. А что будет, когда это все из будущего станет сегодняшним: два шага – и ты уже в нем!
И когда девочка распрощалась с ней почти весело и отправилась в свою палату, за которую уже не собиралась цепляться, Лиля увидела, что Динка совсем по-другому держит спину: не ожидая очередного удара сзади.
* * *
– Я почувствовала, что найду тебя здесь!
Румянец под смуглой кожей угадывается, как сдерживаемая страсть. Игорю Андреевичу нравилось видеть Надю разгоряченной, чуть запыхавшейся и все равно пахнущей свежестью, какой она, собственно, всегда прибегала из своего корпуса. Сейчас Костальский не ждал ее, просто вышел покурить под защитой старых дубов, глянуть, не позолотил ли начавшийся сентябрь их волнистую листву?
Но увидев Надю, неожиданно для себя обрадовался: она не приходила к нему после того не слишком приятного для обоих разговора возле второй палаты. Вчера опустевшей Лилиной палаты.
– А я бросила, – Надя глазами указала на его сигарету. – Вдруг расхотелось, и все.
Затянувшись, Игорь бросил окурок в урну, чтобы не травить ее:
– Расстаешься со старыми привычками?
– Только с дурными.
– Я – твоя дурная привычка…
– Но не самая!
Она засмеялась, кожа вокруг рта сошлась тонкими складочками, но это, как ни странно, ее не старило. Может, потому, что взгляд был таким живым, блестящим. И каштановые вьющиеся волосы собраны в «хвост», как у школьницы.
Вспомнив по ассоциации, он сказал:
– Сегодня все дети отправились в школу.
– Мой тоже, – она перестала улыбаться. – Ох, я уже чувствую, что нахлебаюсь с ним по полной в этом году! Представляешь, утром заявил мне, что собирается стать хирургом, как его дед. А чуть ли не вчера хотел выучиться на программиста. Еще до этого – об Олимпиаде грезил. Твердил, что в нем скрывается великий спринтер! А чего скрывается, спрашивается? Так что у нас такое разнообразие пристрастий – голова кругом!
Привычно сунув руки в карманы халата, Игорь оглядел непроницаемые больничные окна. Там его ждали. Только там. Зато всегда.
– А ты с детства хотела стать врачом?
– Можно сказать, с младенчества, – ответила Надя так уверенно, что ему сразу увиделось: пухленькая кудрявая малышка сидит на ковре с пластмассовым фонендоскопом и с самым серьезным видом слушает своих кукол. У пупсика опять хрипы в груди… А плюшевый Мишка пошел на поправку. Вот только уши ему надо промыть…
Улыбнувшись, он бесстрашно («А пускай смотрят!») погладил ее горячую щеку тыльной стороной ладони. Нелегкую жизнь выбрала себе эта девочка. Лучше бы ее куклы ходили по ресторанам…
– Если это не покажется тебе неловким, приведи Петьку ко мне. Продемонстрирую пацану будни простого советского хирурга. Может, после этого будет обходить нашу клинику за километр.
Она впилась в его лицо взглядом, даже ноздри мелко задрожали от волнения:
– Правда, можно? Вот спасибо! Я и не думала, что ты согласишься…
– Почему? – это действительно показалось Костальскому странным. – Мы ведь не чужие люди.
– Опять не чужие? – выпалила она и быстро пошла прочь, громко стуча каблуками по разбитому асфальту. Потом обернулась и, отступая, крикнула: – Я уже знаю, что ее выписали! Ты бы навестил, узнал, как она там. Может, необходима помощь… Она все правильно поймет.
– Откуда ты знаешь, что поймет? – ничего не отрицая, громко спросил Костальский.
– Она ведь умница, ты сам говорил!
«Она – умница», – несколько раз повторил он про себя, словно слегка побаюкав эти слова. И позволил себе вспомнить, как накануне, когда Лилю выписывали, она протиснулась на костылях в ординаторскую и положила перед ним на столе листок. Игорь не обратил внимания, когда она вошла, – сидел спиной к двери, и Лилино лицо увидел сперва нарисованным, потом уже поднял голову. Задержав дыхание…
– Это вам на память не только обо мне, а обо всех, кто вас любит, – она улыбнулась так, что любовь сразу представилась ему более христианской, чем женской. И от этого стало и легко, и немного горько, будто прохладного вермута пригубил.
Он поднялся:
– Спасибо. Он всегда будет со мной… Вы уже забрали выписку? Группу инвалидности…
– Менять не будем, – перебила Лиля. – А то меня еще с работы попросят.
– Неужели ваше начальство может воспользоваться этой формальностью?
– О, запросто! Как раз начальство меня не очень любит, я же вечно лезу куда не надо со своими поисками правды. Сейчас, правда, мы добились смены руководства. Может, меня и не тронут…
Ему стало весело:
– Так вы еще и бунтарка? Ну, Лилита, вы как Атлантический океан, никак до дна не доберешься… Кто отвезет вас домой?
Движением плеч она продемонстрировала полное незнание:
– Дина кого-то прислала. Мне сказали, что машина уже ждет. Ей-то самой все еще нельзя сидеть, она дома осталась. Да, я забыла вам сказать! Она пока поживет у меня, так что если что-нибудь понадобится…
– То есть как это – у вас? Вы же говорили, что у вас дочь? Сколько ей?
Лилины глаза весело заискрились огромными голубыми топазами. Почему-то Костальскому сразу вспомнилось, что утром кто-то в ординаторской рассуждал о том, что эти камни притягивают успех.
– Семь. Она же завтра первый раз в школу идет, поэтому я так и рвалась домой.
– Семь? – Игорю Андреевичу пришлось переждать, пока солнечные «зайчики» воспоминаний о другой семилетней девочке не перестанут метаться перед глазами. – Берегите ее, Лиля…
Она кивнула:
– А вы себя берегите, доктор. Таких, как вы, больше нет. Не одна я так считаю… И знаете что, Игорь Андреевич… Женитесь, пока не поздно!
У него даже щека дернулась:
– Что?! Жениться?
– Конечно, жениться. И как можно скорее родить ребенка. Только вы, пожалуйста, не забывайте, Игорь Андреевич, что это будет совсем другой ребенок. Не сравнивайте. Это вас всех сделает несчастными…
Отвернувшись, Костальский медленно прошелся по ординаторской, остановился поодаль, исподлобья глядя на державшуюся за костыли Лилю.
– Кстати, от кого вы узнали?
Ей действительно стало неловко, будто она без разрешения прочла его дневник. Игорь Андреевич видел, что это непритворно.
– Одна девочка рассказала.
– Девочка… – ворчливо повторил он. – Как вы-то решились родить вашу девочку с вашим-то диагнозом?
Лиля с облегчением рассмеялась – позволил ей всеведение.
– Вопреки всему и всем! Врачи, естественно, хором запрещали.
– Ну, естественно!
– Но я решила: один раз я должна это сделать.
– Один раз…
– Больше я, конечно, на такой подвиг не решусь, – она посмотрела ему в глаза, но Игорь Андреевич не выдержал, отвел взгляд и поменял тему:
– Значит, вы еще и Дину Шувалову пригрели… Немного легкомысленно, вам не кажется?
– Еще как легкомысленно! Я вообще очень легкомысленная особа.
Костальского рассмешило это признание. «И это говорит человек, силе духа которого впору памятник ставить! Что за женщина, боже мой!» Он вдруг вспомнил, что ни разу не прикоснулся к ее лицу, хотя так любил проводить пальцами по гладким женским щекам. У Нади кожа как бархат… Раньше это сравнение казалось ему не очень удачным литературным приемом.
Он вернулся к прежнему разговору:
– И сестра у вас, кажется, есть?
– А как же! Они с Танюшкой вчера наконец-то из деревни приехали. Так что теперь все будет отлично!
– Отлично? – повторил Костальский с недоверием. – В одной комнате? Или у вас…
– Нет, одна, – подтвердила она таким беззаботным тоном, будто речь шла об одной вилле.
– И вы туда всех впихнуть собрались? С ума сойти… Я, кажется, догадываюсь, какая сказка в детстве была вашей любимой…
– И совсем даже не «Теремок»! – У нее чуть заметно дрогнули тонкие губы. – «Русалочка».
На этом слове его сердце вновь провалилось в воспоминание о прошлом, но Игорь Андреевич смолчал.
– Причем, скорее наш фильм, чем оригинал Андерсена.
– Почему? – тупо спросил Костальский.
Он не помнил ни ту, ни другую версию. У него когда-то была своя Русалочка…
Лиля засмеялась:
– Сразу видно, что вы в свое время не рыдали над этой историей, как мы с сестрой. Той Русалочке каждый шаг давался с болью. Потому что это не просто – научиться ходить, если от природы тебе дан хвост…
Поднявшись в ортопедию, Игорь Андреевич подошел к дежурной медсестре:
– Дина Шувалова забыла забрать выписку. Насколько я знаю, она собиралась пожить у Лилиты Винтерголлер… Найдите мне ее адрес, я завезу по дороге домой.
– Сейчас, Игорь Андреевич, – отозвалась Маша удивленно. – Я запишу вам.
– Уж будьте любезны, – он насмешливо подмигнул и подумал, что как раз этого делать не следовало. Про него и так черт-те что болтают… Интересно, почему?
Уже направившись в соседнее отделение, Костальский спохватился и крикнул сестре:
– Я буду в травме!
Она кивнула. Всем казалось вполне нормальным, что он разрывается на два отделения. Если не он, то кто же?!
Усмехнувшись, Игорь Андреевич стиснул лежавшую в кармане ручку и зашел в девятую палату. Как он и надеялся, Босяков, один изо всех, не спал. Сидел на кровати, сгорбившись, и разглядывал свои желтые, лопатами, ногти. Морда испитая, небритая, татуировки даже на шее…
– Завтра вас выписывают, – проговорил Игорь Андреевич тем ровным тоном, каким всегда обращался к этому больному. – У вас есть кому позвонить? Лучше бы приехали на машине. С вашей ногой трудно будет спуститься в метро.
Тот откашлялся с туберкулезным надрывом:
– Доктор, я это…
– Вас заберут?
– Ну, само собой. Я братану звякну.
– Хорошо. Выписку заберете у дежурной сестры, я завтра отдыхаю.
– Лады. Это… Доктор!
Костальский обернулся в дверях:
– Ну, что еще?
Стрельнув глазами по сторонам, Босяков понизил голос:
– Доктор, а ведь я ж вас узнал…
«Сволочь! – чуть не взвыл Костальский. – Еще смеет заводить со мной разговоры!»
Он вышел, неосторожно стукнув дверью, но Босяков выскочил за ним следом, неловко подтаскивая больную ногу.
– Доктор, я ж это… Простите вы меня, Христа ради!
Остановившись, Игорь Андреевич повернулся к нему не сразу: «А вдруг он ухмыляется?» Потом решился и увидел, что Босяков весь затрясся от беззвучного плача.
– Гадом буду, не признал сначала-то… Все мозгами ворочал: где этого доктора видал? А этой ночью как шарахнуло! Я прям бежать хотел к вам, да не решился, ага… Христа ради, доктор! Вы ж меня еще и лечили… Святой вы человек, вот – святой! Я таких в жизни своей не видал… Я за вас сотню свечей поставлю, как на волю выйду! Вот насколько денег хватит…
Чтобы удержать слезы, которые сейчас были совсем ни к чему, Игорь Андреевич так свел брови, что аж заломило во лбу:
– Лучше за нее поставь. За упокой ее души.
– Вечно за вас буду Бога молить, доктор! И за душу невинно загубленную тоже!
Босяков кричал еще что-то, но Костальский больше не мог слушать, хотя сейчас уже не чувствовал ни ненависти, ни желания отомстить. Поутихшие за эти недели, они были запечатаны, как сургучом, этим воплем: «Христа ради!» Кончено. Не забыто, но кончено.
Наспех посмотрев в окно, он вдруг опять увидел Надю, провожавшую кого-то на пороге роддома. Молодые родители с легоньким белоснежным свертком, опутанным розовой лентой, уже садились в машину, а Надежда Владимировна с розами в руках махала им вслед и кричала что-то, красиво, белозубо смеясь. Клен возле крыльца уже примерял любимые Надины цвета – желтый и красный. Ее время наступало…
Достав телефон, Костальский набрал один из немногих запрограммированных номеров:
– Кого родила?
Она завертела головой, отыскивая его, пришлось махнуть ей рукой. Заметив его в окне, Надя почему-то засмеялась:
– Девочку! Как мне и хотелось!
«Ей хотелось!» – Игорь Андреевич усмехнулся этому почти детскому капризу.
– На этот раз даже УЗИ не оплошало, как ни странно… Это Селиверстова родила, моя ровесница, между прочим! Помнишь, всю беременность у меня на сохранении лежала? Я тебе рассказывала… Кровила не переставая, но все время твердила, что все будет хорошо.
Костальскому припомнилось, хотя он редко смотрел телевизор – постоянно включенный в доме, но совершенно его не интересующий.
– Фильм такой был. Некоторые люди запоминают фильмы на всю жизнь.
– А ты – нет?
Он покачал головой, хотя Надя не могла этого разглядеть:
– Я – нет. У меня не случилось в жизни одного-единственного любимого фильма.
– А может, твой фильм еще впереди?
– Поздновато мне становиться киногероем…
И вдруг он увидел свое отражение в стекле, которого на самом деле не было: каштановая шевелюра, лишенная седины – на удивление, крупный нос, подвижный рот, в рисунке которого нет ничего старческого… Почему – поздновато?
У нее слегка изменился голос:
– Глупый. Ты даже не понимаешь, какой же ты глупый…
– Это тоже звучит репликой из какого-то фильма, – усмехнулся Костальский, все еще пытаясь защититься от того непрошеного волнения, что ожило в груди.
Надежда храбро шагнула дальше:
– А что, если я уже начала входить в роль?
– Намекаешь, что не отказалась бы выступить со мной в дуэте?
И увидел, как она переложила трубку в другую руку. Так Надя делала, когда начинала нервничать. Не дав ей ответить, он быстро спросил:
– А как же твой муж?
– А как же я сама? Как же мы с тобой? Если ты, конечно, говоришь о нас с тобой… Ты ведь…
– Стой там! – перебил Игорь. – Ты меня слышишь? Никуда не уходи. Я иду.
Поравнявшись с Машей, протягивающей ему записанный адрес, Игорь Андреевич сунул его в карман, и только на лестнице, так и не прочитав, скомкал листок, мысленно пообещав: «В следующей жизни…»




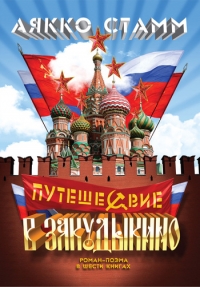
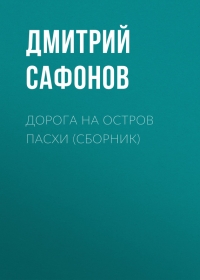






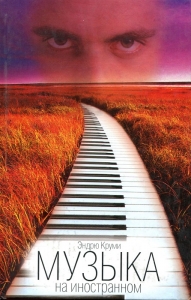

Комментарии к книге «Простить нельзя помиловать», Юлия Александровна Лавряшина
Всего 0 комментариев