Андре Стиль ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА Роман
Эта книга, как все прежние и
все последующие, посвящается Мун
От издательства
Роман «Последние четверть часа» входит в прозаический цикл Андре Стиля «Поставлен вопрос о счастье» — серию романов и новелл, объединенных общим названием и темой.
В чем истинное счастье человека? Можно ли считать себя счастливым и свободным от всяких проблем, если рядом льется кровь, если люди, рядом с тобой живущие, задыхаются от бесправия и нищеты? Герои Стиля отвечают на этот вопрос по-разному, но всем им свойственно глубоко гражданственное, гуманистическое понимание счастья.
Как и в более ранних своих произведениях, Стиль в новом романе обращается к людям труда. Роман посвящен жизни рабочих большого металлургического завода; в центре внимания автора взаимоотношения рабочих — алжирцев и французов, которые работают на одном заводе, испытывают одни и те же трудности, но живут совершенно обособленно. Шовинизм, старательно разжигавшийся буржуазией многие годы, пустил настолько глубокие корни, что все попытки рабочего Шарлеманя найти взаимопонимание с алжирцами терпят неудачу.
Роман «Последние четверть часа» написан в 1962 году, но тема солидарности и духовного единства рабочих неиссякаема и проблемы, поставленные в романе, живы и по сей день.
I
Эти первые четверть часа, проведенные Шарлеманем в фургоне Саида, были исполнены для него особого смысла.
Случается иногда, что краткие мгновения вдруг ускоряют ход времени. Время ползет, как говорится, тянется нескончаемый месяц, и внезапно несколько минут меняют все. Время вдруг захлебывается, словно втягивается в воронку, бешено крутясь вокруг самого себя. И происходящее придает задним числом смысл и цену незаметно протекшим часам и вызывает в памяти как будто бесследно ускользнувшие и незначительные мгновения. Единый миг связывает в тугой сноп все остальные, бесцветные и бесформенные минуты, пропуская их сквозь узкую щель страха, радости или нежданного озарения. И из всего беспорядочного потока на сите времени задерживается лишь зерно.
Каждый из трех последних месяцев в жизни Шарлеманя был отмечен резким взлетом, крутым пиком, с высоты которого он мог окинуть себя взглядом, точно просторную равнину, и видел, как сквозь облачную дымку будней проступает, обретая форму, подлинная жизнь.
И все три раза это было связано с Саидом.
Время вспыхивает то тут, то там, словно кустики земляники на ровной поляне. И может быть, не упустить эти сгустки времени и значит жить по-настоящему, цель же писателя в том, чтобы нащупать их. Однако как это сделать? Может быть, черный силуэт фургона, где протекли эти первые четверть часа, обведет жирной чертой весь первый месяц, незаметно приведший сюда Шарлеманя? Этот фургон точно бочка, охваченная железными обручами, вместит в себе таинственную смесь двух разных характеров и мироощущений… Словом, приступим, а дальше будет видно.
Итак, однажды днем Шарлемань как будто бесцельно сходит в Понпон-Финет. Откуда-то до него доносится:
— Привет!
Это Саид. С порога своего жилища он улыбается так, как улыбался при их первой встрече. Как будто ничего не произошло между ними.
Неужели, думает Шарлемань, я пришел сюда, втайне надеясь на это? Разве что сам того не сознавая…
— Зайдешь? Хочешь посмотреть, как мы живем?
— Ах это ты, Саид! — откликается Шарлемань.
Впервые он называет его по имени.
Отказаться? Саид может обидеться.
Фургон стоит не на самой земле. Колес у него, конечно, уже нет, но под четырьмя его углами — большие камни, врытые в землю, на них просмоленные бревна из шахты.
У входа ступенька.
Пол почти не прогибается под ногами.
Едва ступив в фургон, Шарлемань уже знает, что это начало каких-то событий. Почему? Может быть, потому, что просьба зайти исходит от Саида, от «них»…
Так или иначе, с этого момента все определяется для него тем смутным побуждением, которое заставило его безотчетно направиться в Понпон-Финет; и он мысленно возвращается к другой такой же прогулке, совершенной им месяц назад.
Примечательно, что в бедняцких поселках названия улиц всегда выдают тягу к природе, к зелени. Там всегда найдется улица Малиновок, улица Фиалок, переулок Маргариток. И часто свалку зовут лесом. Ведь многие из таких поселков ютятся на окраинах городов, там, где совершались прогулки во времена, когда еще не было машин и только появлялись велосипеды. Там город смыкался с живой природой, с берегами рек, которые давно уже стиснуты, одеты камнем, превращены в набережные и причалы и безнадежно осквернены. Вот, например, «Песня жаворонка» — это просто трамвайная остановка у шоссе близ чугунного моста, громыхающего колесами вагонеток над заводским депо.
Название Понпон-Финет идет из далеких времен. Оно отдавало стариной даже для наших дедов. Уже тогда рассказывали легенду о том, как однажды вечером юноша Понпон и девушка Финет были пойманы в кустах… С перепугу они согрешили. Имена их достались местечку. И не только ему. К фамилиям многих здешних семей издавна добавлялись Понпон или Финет, и трудно было угадать, кто и впрямь ведет свой род от них, а кто состоит в свойстве. Были Лебуа-Понпон и Понпон-Бриду, были Финет-Малезье и Лонгваль-Финет.
Радио в бараках иногда доносит песенку «В том краю, чье имя так прелестно…»
Понпон-Финет стоит на самом краю города, точно последняя каменная ступенька старого дома, глядящего на Шельду, низкая ступенька, вдавленная в землю среди травы.
Вечерами переменчивый ветер разносит голос кукушки во все стороны до самого закатного горизонта.
Много звуков раздается здесь по вечерам: соловьиные трели и пение кукушек — их тут особенно много, — шелест ветра в серебристо-белой листве тополей сливается с унылыми, зловещими звуками, тяжким скрежетом ржавого металла, лязгом гусениц землечерпалки, поворотного круга подъемного крана, чьи вялые, словно намокшие цепи болтаются над баржами, и с тяжелым грохотом бесчисленных подъемных мостов.
Детям запрещают играть на городских свалках, на крутых берегах пруда и напротив островка у старицы Шельды, которая скоро будет засыпана заводскими отходами и шлаком.
Вся грязь и гниль города скопились на этой стороне. Чахлые остатки растительности покрываются пылью. На кудрявой листве ломоносов осел густой слой извести, угля и ржавчины.
Время от времени в Понпон-Финет заносит и французов. В тридцать третьем, тридцать четвертом годах появились первые «кроличьи садки». В тридцать шестом и тридцать седьмом они опустели. Один из бараков, стоящий в тростнике у пруда, превратился в охотничий домик. Прочие растащили потихоньку, по одной доске. Здесь ничто не пропадает зря. Миски вылизываются до дыр. Вылизывается, обгладывается все подчистую. Однако лишь в войну после бомбежек сорокового и сорок четвертого Понпон-Финет действительно начал заселяться. Люди бежали из города, страшась обвалов в каменных домах, тут уж было не до капризов в выборе жилья. И воздух здесь, за городом, был не так плох. Кстати, можно найти на месте все необходимое, чтобы своими руками и ничего не умея построить себе жилище. Повсюду валялись кирпичи, почти целые черепицы, листы железа, иногда пробитые осколками, доски, куски балок…
Здесь-то и был впоследствии построен временный поселок из этернита, гладкого для стен, гофрированного для крыш, и даже с кирпичным или бетонным фундаментом. Туда вселили тех, кто остался без крова, и тотчас с лихорадочным нетерпением, едва дождавшись выезда жильцов, снесли прежние лачуги. Постепенно год от года жизнь в поселке наладилась, как, в общем, все в конце концов налаживается- Когда крыши временных построек стали протекать, французы один за другим перебрались обратно в город и хорошо сделали, иначе не известно, как смогли бы разместиться остальные.
Тут подоспело и еще одно обстоятельство. В свое время немцы возвели деревянные бараки для русских пленных, работавших на шахтах. Затем в них жили пленные немцы, которых использовали таким же образом. А теперь эти бараки стояли пустые. В них поселили шахтеров из Северной Африки, по нескольку человек в комнату; к счастью, они были несемейные. Бараки окрестили «Лагерем холостяков». Во главе этого лагеря, имевшего свой режим и порядок, стоял бывший капитан жандармерии, вдовец и бездетный. Половина «холостяков» имели и жен и детей за морем, но это уже было вне компетенции начальства и городских властей. Впрочем, муниципалитет был бдителен и готов вмешаться в случае необходимости. И когда после войны (увы, не последней) стали приезжать семьи алжирцев, а было их в то время не больше десятка, то, следуя старинной пословице: по одежке протягивай ножки, — Временный поселок радушно принял их под свои дырявые крыши.
Словом, в то утро, месяц назад… Шарлемань стал замечать, что стареет. Он понял это по множеству примет. Не то чтобы он сравнивал себя с Иеремией, нет, но он невольно обращается к нему мыслью, к старому Иеремии, который любит одинокие прогулки и пользуется для этого любыми предлогами — то травы нужно нарезать для кроликов, то собрать хворосту или ранние нежно-белые одуванчики… Конечно, Шарлеманю еще далеко до этого, но и его стало тянуть к тишине и созерцательности. Близость старости он видел еще и в том, что все чаще предается размышлениям и ловит себя на этом. Вернее сказать, прежде он думал только о конкретных вещах. Ему случалось часами ломать себе голову в одиночестве или с товарищами над различными «проблемами». А теперь его мысли все чаще принимают расплывчатый, общий характер. Он вспоминает свою молодость.
Думает о Робере. Словом, бог знает какие только мысли ни приходят ему в голову.
Его не тянет «на травку», как Иеремию, но, когда выпадает свободная минута, а погода, вот как сегодня, стоит хорошая, он проходит через свой сад и спускается в Понпон-Финет. Шарлемань живет не в Понпон-Финет. Между городом и склоном, на котором расположился поселок, пролегает граница, резкая, точно отвесный уступ. А дом Шарлеманя, последний на краю города, напоминает нижнюю ступеньку лестницы. Если смотреть поверх кустарников Понпон-Финет, особенно в лунную ночь, то из двора Шарлеманя можно видеть кусочек Шельды и уголок пруда между деревьями.
Приближение старости Шарлемань ощущает и в том, что он стал проявлять интерес к незначительным мелочам, правда пока это еще, слава богу, не так уж часто случается. В жару в поле он присаживается на корточки в высокой траве, звенящей от стрекота кузнечиков. Вот один из них сидит во мху под кустиком дикой петрушки и судорожно борется с порывом ветерка. У кузнечика подвижная головка, длинные сложенные лапки и гибкое тельце. Вот она, молодость. А между тем в самом себе Шарлемань обнаруживает такое же любопытство, как у этого насекомого. Правда, оно вспыхивает мимолетно, на краткий миг. Он поднимается, делает несколько шагов, размышляя. Так что же такое возраст? Мысленно он обращается к старику. Что такое возраст, Иеремия? Как ты думаешь? Что ты можешь сказать мне об этом, старина?
Прямо удивительно, на какую тонкую работу способна зима. Зима с ее долгими ветрами, тяжкими оковами мороза, с ее ледяными ливнями и мучительным оцепенением. Шарлемань снова остановился и поднял иссохший, прозрачный, как кружево, лист. Их много кругом, но этот листик безупречен в своем совершенстве. Причем он упал не откуда-нибудь, а с остролиста, чья зелень прочна и жестка и дольше всех сопротивляется времени, обращающему все в тонкую паутину жилок. Сколько понадобилось зим, чтобы теперь жаркое лето застало его в таком виде? И что такое в сущности зима, и к чему можно приравнять ее в жизни человека? Во всяком случае, не к старости. Может быть, к войне? К тюрьме? К грядущей атомной войне? Напряженной борьбе? Шарлемань снова встает во весь рост, возвращается в свой сад. Он вдыхает воздух широкой грудью. Вся его молодость поднимается в нем, вся его жизнь. Что касается борьбы, то он вдосталь поборолся в своей жизни! А теперь? Вот уже несколько лет, как здесь спокойно. Иногда говорят, будто теперь борьба идет где-то далеко, на другом конце света, а у нас с этим покончено… Что ж, если когда-нибудь она снова придет сюда, то не только сам Шарлемань, но и все вокруг станут уже глубокими стариками. Шарлемань останавливается в задумчивости.
Между пальцами он зажал мягкий шарик, сорванный им по рассеянности. Это бутон мака. Дети играют, во всяком случае прежде играли, в петушка и курочку. Говоришь — петушок? Открываем бутон, и если завязь внутри уже красная, ты выиграл. Если же она только розовеет, значит, курочка, и ты проиграл. Но он уже вырос и не гадает больше. И все же большим пальцем, твердым и любопытным, он надавливает на бутон. Покрытые тонким пушком светло-зеленые лепестки покорно раздвигаются, словно только этого и ждали. Цветок розовый. Шарлемань испытывает смутное ощущение неловкости, и все же его пальцы продолжают терзать юные лепестки, распрямлять и разглаживать их. Бледный, хилый, мятый цветок. Ему кажется, будто цветок пристально смотрит на него из высоких трав. Он отбрасывает его в сторону, испытывая легкое волнение. Он вспомнил о Берте, когда она была совсем юной. И о Берте сегодняшней. Впрочем, не так уж оба они стары. Им еще предстоять жить. Пальцы его чуть влажны от смятого цветка. Он подносит их к носу. Неприятный дурманящий запах, немного похожий на аромат больших спелых маков, нагоняющих сон. Он недоволен собой, словно что-то разрушил, испортил…
Но жизнь не кончается: Шарлемань не бросил прозрачный листок остролиста. Он возьмет его и покажет Берте. Он поднимает его к глазам и смотрит на солнце сквозь тонкую сеть жилок. Как раз в той стороне Временный поселок и лагерь. Говоря по правде, обычно видишь то, что хочешь видеть. Человек в своих действиях непроизвольно подчиняется ходу своих мыслей. И он смотрит в сторону бараков на тот склон, по которому «Алжир» поднимается к предместью. Его обитатели снова живут семьями, поселками, и за последние несколько месяцев вдоль Семейного поселка, как теперь окрестили Временный, выросло четыре или пять новых бараков. Что ж, конец приходит всему, даже «временному». Здесь тоже, по традиции, доски, толь, листовое железо — словом, все как полагается. Новички только что приехали из Африки, а некоторые из них до недавних пор ютились в городе по ночлежкам и дешевым гостиницам. И все это лишь начало. Дома снова поползут вверх к предместью вдоль обмелевшей речки. До войны жизнь здесь замирала с последним шахтерским поселком, чьи домики тянулись вдоль Шельды, а сады спускались к самой воде. Сначала здесь возник польский городок, потом еще ближе к городу — два французских поселка, где жили и поляки и итальянцы, но в основном французы. Второй из этих шахтерских поселков доходил до границы Понпон-Финет и имел тоже по-своему красивое название — Нумея. Понпон-Финет начинался Лагерем холостяков. Дальше шел Временный поселок. Еще дальше выросли новые линии бараков. Теперь граница обозначена речкой, которая течет из запруды позади дома юродивой Полины. Речка, когда она не пересыхает, что случается нередко, быстрым потоком сбегает к Шельде, огибает Временный поселок, затем ныряет под совершенно ненужный кирпичный мостик и поворачивает к дому Макрот. Левый ее крутой берег, по которому тянутся Временный поселок и Нумея, до сих пор хранит следы снарядов четырнадцатого года. Справа от речки — низина, излюбленное место Иеремии. Сквозь кружево листка Шарлемань рассматривает бараки. Обычно он смотрел на них, стоя спиной к солнцу; теперь он повернулся к нему лицом, и его охватило знакомое ощущение, словно он смотрит на огонь заводской печи сквозь синий козырек. Завод, к которому он сейчас стоит спиной, тоже теснит Понпон-Финет своими бульдозерами, они месяцами грохочут внизу, засыпая шлаком заболоченную старицу. Сверху подступают первые дома новостройки. Дни Понпон-Финет уже сочтены… Вся его территория по эту сторону речки принадлежит заводу. Даже островки зелени. Легкий поворот руки, и весь Понпон-Финет умещается в засохшем кружеве листа, чуть поблекший за дымкой его прожилок; видны желтые цветы на тусклой зелени, водяные ирисы, лютики, чахлые одуванчики и другие невзрачные цветы — увядающие маки, васильки и куколь, растущие, вероятно, на месте прежних посевов пшеницы, ибо, по слухам, эти склоны когда-то распахивались. Весь Понпон-Финет лежит как на ладони: ольха и камыши, ежевика и плющ, обвивающий тополя доверху, и особенно ломоносы, заглушающие все другие растения, лягушки и стоячие воды, глухая крапива и кучи золы. Вниз по склону каждый местный житель отвозит тачками мусор и сбрасывает его, правда не всегда там, где положено… да ладно, все равно это место обречено… Все здесь будет выровнено. Ну конечно, думает Шарлемань, только тот, кто отдается стариковским настроениям, как я сейчас, может грустить об этом. Потерянное время. Впрочем, это и есть настоящая старость — когда время уходит зря.
Шарлемань возвращается домой. Назло надвигающейся старости он несет Берте украшение: сухой листик, легче филигранного серебра и дешевле, кстати. Берта прикрепит его к сумочке для газет с красной вышивкой или к календарю рядом с другими безделицами в том же духе, приколотыми там с незапамятных времен. Могучие плечи, подпирающие вот уже лет тридцать один из самых крупных заводов Франции, руки устрашающей силы, рост чуть не до потолка — тут дело не в ремесле, это семейное, все Валлесы такие, и отец его, и брат, горный мастер, — все это никогда не мешало ему делать трогательные подарки Берте. И не возраст виноват в недоразумениях, которые иногда возникают между ними. Просто нельзя начинать жизнь заново каждые пятнадцать лет. Это удается лишь раз… После его возвращения из плена они пережили новую весну, словно медовый месяц вернулся к ним. Конечно, тут и долгие холода сыграли свою роль. А теперь, когда Робер ушел от них, они опять остались вдвоем, точно молодожены в пятьдесят лет. У Робера началась своя жизнь, он учительствует, обзавелся своим домом неподалеку от них; и, хотя забот у них стало меньше, все же в их буднях словно дыра появилась. Вновь приходится начинать сначала. А может, это как раз и есть старость, когда нет забот о ребенке, его уроках, экзаменах, здоровье?.. Начинать сначала… Шарлемань вспоминает как однажды в первые годы после войны, в праздничный вечер четырнадцатого июля, он поехал с Бертой на маленьком мотоцикле по окрестным деревням. Повсюду на площадях гремели танцы. Они не стали танцевать, для них это все-таки уже было позади… Но самый воздух наполнял их радостью. Вот в такие-то ночи чаще всего происходят счастливые встречи. Слепой случай в эти ночи светлого праздничного веселья не столь уж слеп и не так случаен, и люди, танцующие на освещенных площадях и перекрестках, словно вслушиваются в окружающую их темноту. Их плечи и обнаженные руки блестят от дождя, ибо в этих местах четырнадцатого июля нередко идут дожди, короткие теплые Грозовые ливни, которые налетают ненадолго и как бы не всерьез. Люди вслушиваются в ночь, словно зная, что настоящий праздник не здесь, а где-то в ином месте. Но хотя в темноте ничего не видно и не слышно, она опьяняет каждого скрытой своей тайной. Около двух часов ночи — Шарлемань и Берта запомнили это и не раз потом вспоминали — они заметили на уединенной скамье, в стороне от танцующих, мужчину и Женщину лет семидесяти, которые сидели рядом, держась за руки. Праздничная сутолока издали отражалась в их влажных глазах. Шарлеманю и Берте не было в ту пору и сорока, и семидесятилетие казалось им еще далеким. Эта встреча и опечалила и тронула их. В эту ночь их влекло друг к другу сильнее, чем обычно, и они невольно думали и о грустных ласковых стариках, и о всех молодых парах, обнимавшихся на разогретой июлем земле…
Ждать осталось не так уж долго. С тех пор чувстве их почти не изменилось. Нужно только набраться сил и начать все сначала.
Как было бы пусто в доме и в жизни, если не уметь в нужный момент все начать снова, эта способность не раз выручала их… Как много людей не успевают спохватиться вовремя на жизненном повороте и упускают момент… Они чем-то увлекаются, чем-то заполняют свой досуг, не понимая, что все это лишь возмещение за утраченное. У каждого из друзей и товарищей Шарлеманя есть излюбленное занятие. Гаит занят своим садом и цветами, Норбер, хотя ему под тридцать, разводит голубей. У Марселя волкодав, правда, жена его очень уж неласкова…
Шарлемань снова останавливается посреди сада. Он смотрит на свои старые часы. Прогулка в Понпон-Финет заняла у него не больше пяти минут. Прежде чем уйти, он бросает взгляд на поселок со смутным чувством, словно ему впервые в жизни чего-то или кого-то недостает.
— Осторожно, нагни голову! — сказал Саид.
Шарлемань ожидал, что в бараке будет темно. И все же он удивлен: в бараке не темно, но он черный. Освещение делает его еще чернее, стены покрыты варом, свет мерцает на его затвердевших потеках и застывших каплях, на мягких стыках и узких бороздках между досками. Словом, помещение неприглядное, но чистое, хотя барак построен давно. Можно без опаски прислониться к стене. Даже капли вара давно уже засохли…
Примерно с месяц назад, дня за два до прогулки, между Шарлеманем и Марселем Менаром произошла беседа, с которой, кажется, все и началось.
— Не пойму, что с ними творится, — сказал Марсель. — С ними просто невозможно стало разговаривать!..
— По моим незаметно, — ответил Шарлемань. — Они по-прежнему здороваются.
— Да, приветливых лиц и «здравствуйте» сколько хочешь, а попробуй заговорить о чем-либо, кроме заводских дел, они тут же замыкаются на ключ!
— Иногда все дело в том, кто ими верховодит. Попадаются хорошие люди, но бывают и неважные, которые обо всех нас судят огулом.
— И тон у них стал прямо вызывающий, — говорит Марсель. — Можно подумать, будто они нарочно нарываются на неприятности! Уж ты мне поверь, они нас провоцируют!
— Надо и их понять, представь себя на их месте.
— А ну, иди-ка сюда, — спохватился Марсель. — Взгляни, что поймал мой бандит!..
Так он называет волкодава, своего любимца… Сколько ему нужно мяса каждый день! Куда больше, чем хозяину! Пусть обрезки, но обязательно свежие, понимаешь! Если мясо чуть попахивает, он морщит нос, идет на свое место и ложится. Да нет, он не злой, этого нельзя сказать. Конечно, он бросается на незнакомых и может укусить… Но у него это больше от избытка силы. Когда он кладет свои лапы на плечи ребятишкам — это он так играет, — те падают. Дети пугаются, а для него это игра…
— …Знаешь, какую крысу он поймал! Прямо целый кролик!
— В низине? — спросил Шарлемань.
— В том-то и дело, что не в низине, а у поворота речки. Вечером я вожу пса гулять туда вниз, где нет никого, где некого кусать. Ну, там уж он носится как бешеный, приходи как-нибудь посмотреть! Прыгает в кустах как сумасшедший. Представляешь, на цепи сидеть день-деньской! Он лезет в воду по самое пузо и, как увидит свое отражение, пугается и удирает, как будто сам от себя убегает… Так и бегает без конца, пока я ему не свистну. Но по приказу сразу возвращается.
Они добрались уже до двора Марселя в центре предместья. Крыса подвешена за лапы: она слегка раскачивается на жалобно визжащей проволоке, выглядывая из-за фланелевой рубашки, которая сохнет и надувается на ветру.
— А ну замолчи, брат! — приказывает Марсель.
Собака лает не на Шарлеманя, его она знает хорошо. Она лает из-за крысы, своей крысы, которую люди у нее отобрали. Марсель не дал псу никакой клички и большей частью говорит ему «брат». Когда-то Марсель воевал в Испании, и в этом есть что-то от испанской манеры обращения hombre.
Да, Марсель не соврал, крыса огромная, даже не верится, что такие существуют. Чтобы поверить, надо увидеть. Грязно-бурая, мокрая, со слипшейся шерстью, на шее кровь или, скорее, лиловатый кровоподтек.
— Она наверняка из Шельды, — заметил Шарлемань. — Я слыхал, что в реке водятся чудовищные черные крысы!.. Старик Иеремия однажды…
— Да, он мне рассказывал тоже. Правда, дохлые, они пухнут в воде и судить уже трудно. У плотины Четырех Львов попадаются дохлые псы величиной с теленка!
— Ты отдашь ее собаке?
— Ты что, рехнулся? Соседский мальчишка хочет отнести ее учителю в школу. Это все-таки диковина. Кроме того, она наверняка уже протухла. Знаешь, крыса защищалась, и они долго боролись в речке. Я не знал, в чем дело, иначе отогнал бы пса. Я даже боялся, как бы эта гадина его не укусила, потом могло быть худо. У этих чертей зубы ядовитые! Я всю собаку осмотрел: если бы ты ее видел: вся мокрая, в глине и в крысиной крови до самого носа! Но я все внимательно проверил, и морду и лапы, но не нашел ни единой царапины, верно, браток?
Он протягивает к собаке руку, чтобы погладить ее, но не достает до нее. Собака тоже потянулась к ласке, натягивая цепь…
— И действительно, страшно прикоснуться, — бормочет Шарлемань, пытаясь разжать зубы крысы обломком прищепки для белья, какие валяются во всех дворах.
— И знаешь, это было как раз за их бараками, — говорит Марсель.
…Шарлемань чувствует у себя на боку пальцы Саида, который слегка подталкивает его, как бы помогая пройти в фургон. Саид следует за ним по пятам и уже стоит на ступеньке…
История с крысой Марселя не обошлась без осложнений.
Учитель не захотел взять ее. Он сказал, что в начале учебного года он еще мог бы, ну допустим, положить ее в спирт или прокипятить и приклеить шкуру к скелету, повозиться с кишками, но сейчас, когда каникулы на носу…
Мальчишка принес ее домой, а отец его, Марселен Биро, не выспался в эту ночь и поднял крик:
— На черта мне эта мерзость! Чтобы духу ее не было в доме! Унеси эту заразу откуда взял!..
Мальчишка так и сделал. Марсель был уязвлен и тем, что учитель не оценил это редкое явление, и тем, как повел себя сосед. И, увидев его во дворе, он, не очень стесняясь в выражениях, высказал ему, что он о нем думает. Марселен не полез за словом в карман. Марсель тоже не остался в долгу. Они оба хороши, чуть что — переходят на ругань. Дальше дело не пойдет и через два дня они уже забудут про ссору, но все же без перебранки не обошлось.
Облегчив душу, Марсель в сопровождении мальчишек отправился зарывать крысу в землю. Не прошли они и десяти шагов по Понпон-Финет, как навстречу им идет снизу ватага ребят.
— Это кто-то нарочно делает! Валентин Корнет только что тоже крысу закопал!
— Крысу? — переспросил Марсель. — Не может быть! Наверно, кролика?
— Нет, нет, крысу! Мы тоже сначала так решили! Он недавно выбросил в ручей крольчонка, а сегодня мы побежали поглядеть, что там, и оказалось, крыса!
— Ничего не понимаю в ваших баснях, мелкота! — сказал Марсель. — Это был кролик или крыса?
— Крыса!
— Но в речке-то был крольчонок!
— Это в тот раз, а сегодня была крыса.
— Когда он начал копать яму, мы решили, что на его кроликов напал мор и он хочет скрыть это от всех!
— Вот мы и разрыли яму!
— Смотрим, а там крыса!
— Ну и что же вы с ней сделали? — спросил Марсель.
— А мы испугались!
— И бросили ее сразу обратно. И землей засыпали.
— А ну пошли, покажите мне все это! — велел Марсель.
Мальчишки резвятся, словно каникулы уже наступили. Они носятся сломя голову, и всюду суют свой нос. У них это получается как-то непроизвольно… Просто все происходящее вызывает их страстное любопытство. Стоит им что-либо заметить, они тут как тут, из пустяка раздувают целое дело, шепчутся, точно заговорщики.
Компания подошла к яме с крысой.
Да уж, видно, они здорово перепугались!.. Труп животного ясно обозначается под тонким слоем земли и золы.
— Это у вас называется закопать? Хорошо, что. я прихватил с собой мотыгу, нужно же зарыть ее как следует, — ворчал Марсель, скрывая любопытство.
Животное оказалось крысой, хотя и намного меньше той, что выловил он сам.
Марсель не стал входить в объяснения. У него было свое на уме. Он швырнул и свою крысу в яму, вырытую Валентином Корнетом, и ушел домой, оставив на улице озадаченных мальчишек. Он дождался, пока они разошлись, и потом прямиком отправился к Валентину.
— Хорошие ты штучки устраиваешь, Корнет! Теперь понятно, почему мой бандюга выуживает эту заразу так высоко в речке!.. Оказывается, это ты выдумал забаву швырять туда падаль!..
— Да что ты! — слабо протестует Валентин. — Я бросил туда всего-навсего одного несчастного крольчонка! Мне недосуг было тащиться с ним вниз, вот я его и спустил… А вообще-то я никогда этого не делаю!
— Слава богу! А где, интересно, ты крысу прикончил, о которой ты никому и не заикнулся?
— У себя в саду, — пристыженно краснея, отвечает Валентин.
— Ну, знаешь, это уж бог знает что! — взрывается Марсель. — Здесь, наверху? Мою я все-таки нашел на сто метров ниже, правда моя была крупнее. Теперь ты понимаешь, что ты натворил?
— Погоди, погоди! Согласен, может, эта крыса почуяла крольчонка и забралась сюда… Ну, а твоя откуда же? Крольчонка я кинул вчера днем. А та, что ты выудил…
— …Та попалась позавчера вечером. А ты не врешь?
Валентин не обижается, он доволен, что разговор принимает благополучный оборот. Здесь люди привыкли выражаться крепко и знают цену слову.
— Час от часу не легче, — размышляет вслух Марсель. — Я не припомню, чтобы кто-нибудь видел крыс у нас здесь, наверху. Разве что лет двадцать пять — тридцать назад, во время больших наводнений.
— Но сейчас вода стоит низко.
— Вот именно, — возражает Марсель, который хочет оставить за собой последнее слово. — Тем более нечего баловаться и бросать в речку всякую падаль! Воды мало, все застрянет на дне. Пойдет зараза по всему поселку, особенно по жаре! Ну ладно, я пошел!
Он добавляет:
— Имей в виду, у меня есть свои соображения насчет того, откуда все это идет!
— У меня тоже, представь себе! — отвечает Валентин.
Так и быть, доставлю ему удовольствие, подумал Марселен, просыпаясь после обеденного перерыва. Он взял корзину из-под салата и подошел к вишне, чтобы набрать ягод. Погода хорошая. Приятно проснуться на свежем воздухе, а потом размять кости, собирая ягоды.
— На, угощайся, горлодер! Принес вот тебе, знай наших.
Марсель подвинул ему стул.
— Это ты грубиян! Ведь твой пацан сам попросил у меня эту падаль. Я ему и дал. А ты вместо благодарности скандал закатываешь!
— Попробуй: они хоть и поздние, но в поселке ни у кого таких нет.
— Кисловаты, — говорит Эрмина, жена Марселя, с гримасой сплевывая косточку в угольный ящик.
— А я как раз такие люблю, — заметил Марсель, — с коротким черенком.
— Мальчишки — это просто чума, — говорит Марселен. — Через неделю увидишь, как запоют бабы… Ох уж эти мне каникулы! Когда они сидят в школе, еще можно жить!.. А уж мой-то — самый отпетый!
— Тебе хорошо говорить, у тебя есть ребята, — отвечает Марсель, не глядя в сторону Эрмины. — Твоего малого в школе хвалят.
В эту минуту в дверь заглядывает Шарлемань:
— У меня к тебе два слова, Марсель, перед тем как уйдешь на работу… Как дела, Марселен?
— Ничего.
Марселен ждет, пока Шарлемань заговорит о деле, но тот молчит.
— Мы рассуждали о моем пацане, — продолжает Марселен. — Дня не проходит, чтобы он не приволок домой какую-нибудь тухлятину. Особенно когда меня нет. Мать просто больна от этого. Оттого-то я так и разорался…
Шарлемань и Марсель не поддерживают разговора.
— …Вот позавчера он, знаешь, что притащил? Рентгеновский снимок. Понимаешь, ну легкие или там рак какой-то! Это будто бы у них по всем углам валяется. И вот в сарайчике, где я пристроил прачечную, есть оконце. Парень мой надумал приладить эту мерзость на стекло, чтобы разглядывать через нее солнце!..
Марсель пожимает плечами. Шарлемань покачивает головой, словно говоря: ишь ведь… Но оба по-прежнему молчат.
— …Ты бы только видел, на что у нас прачечная стала похожа! Темно стало, ни дать ни взять ярмарочный поезд с ужасами, так и чудится, будто по лицу у тебя ползет паутина!
Шарлемань вспоминает листик остролиста, через который вчера он разглядывал затененный пейзаж. Берта поступила с ним еще лучше, чем он ожидал. Она приколола листик к своему переднику. В любом возрасте можно быть молодым…
— Ну, я тут разболтался! Мне пора, а вы оставайтесь, секретничайте! — сказал Марселен, слегка задетый. — До скорого!
— Спасибо за вишни, — ответил Марсель. — Но в другой раз попридержи свой язык, чтоб не трепался зря, как мочалка! Уж больно ты его распустил! Даже у моего пса, когда он от жары свесит язык на сторону, он и то короче!..
— Хватит, заткнись! — кричит Марселен уже от садовой калитки и, смеясь, отмахивается от назиданий.
— Ладно, ладно, проваливай, трепло! — кричит ему вслед Марсель с порога.
А день действительно хорош. Кто-то выпустил в небо своих голубей, должно быть Леон Авриль.
— Отец велел мне выкинуть этот снимок. Ты бы поглядел, как через него…
— Да я уж видел, прямо как в кино!
— Пойдем? Там их полно валяется в Семейном!
— Там у всех ребят таких полно!
— А что можно с ними делать?
— Это здорово! Смотришь на свет и видишь то, что не полагается!
— Да ведь там все черное!
— Ясно, потому что ведь изнутри смотришь!
— Можно так и своего отца увидеть…
— И учителя…
— И кюре?..
— Бог ты мой! Да разве можно?..
— Это самое что ни на есть запрещенное!
— А что ты уже видел?
— Не то, что ты думаешь! И все равно очень здорово!
— А почему у нас таких снимков нет?
— Потому что наши их прячут, понимаешь?
— У нас дома валяется такой снимок на шкафу. Там полно пыли. Такой большой конверт со всякими номерами и написано: «Желудок».
— Это отца твоего или матери?
— Смотрите, ребята, он краснеет!
— Он боится сказать!
— Потому что это его матери!
— Да нет, просто они чаще стали ходить к доктору…
— Фу, гадость! Неужели ты решишься взять это в руки?
— Бр-р-р! Эти штуки заразные! Тронешь и заболеешь!
— А главное, сколько человек потом это щупали!
— Да нет, оно моется, я пробовал!
— С них ничего не стирается?
— А с тебя что-нибудь стирается, когда ты моешься?
— А они ничего не говорят тебе, когда ты это трогаешь?
— Они даже внимания не обращают!
— Наверное, берегут эту штуку на память…
— Это действительно похоже на кино?
— Ну как застывшее кино. И хоть черное, а насквозь видно…
— Да идем, сам посмотришь!
— Он не пойдет. Он матери боится.
— А моя тоже дает жизни, когда я туда хожу!
— Эх ты, маменькин сынок…
— …Смотри, не наябедничай!
— Если не проболтаешься, мы принесем тебе одну штуку!
— Хоть маленькую!
— Ну и выдал — «маленькую»! Смеешься?
— А что, подумаешь, бывают и маленькие!
Господи, сколько мух!
Черт бы их всех побрал!
Андре Биро помалкивает, и неспроста — мать и так уже поглядывает на него. Он старательно жует сухой хлеб. Именно сухой, ибо свой стакан пива он проглотил сразу, в самом начале ужина. Жюльетта так и держит руку на бутылке, добрых минут десять прождешь, пока получишь второй стакан. Старшая сестра Жильберта тоже не спускает с него глаз.
Когда отца нет дома, с ужином справляются быстро. И тем лучше. Потому что за Андре следят обе, и мать, и сестра. Братишка Рене не в счет, ему всего восемь лет.
По вечерам едят «что бог послал», остатки от обеда, плавленый сыр, один треугольничек, и много хлеба, или вонючий сыр, вот как сегодня, или что-нибудь из сада, вишни, например. Когда отца нет в обед и он только ужинает дома, тогда все наоборот: в полдень едят «что бог послал». Вся жизнь в доме зависит от отцовской смены.
Еще хорошо, что есть этот сыр, он отведет подозрение. Бывают вонючие сыры, но этот перешиб все. Для большей верности Андре подвинул его к себе поближе. Сыр лежит не на тарелке, а прямо в обертке, с рыжими пятнами от размокшей корки. Андре отрезал себе кусок побольше — так по крайней мере ничего нельзя будет учуять. Пускай их кружат вокруг него сколько влезет.
С тех пор как он пришел домой, мать с него глаз не спускает. Он это чувствует. До этого он и сам ничего не замечал. Правда, мухи надоедали больше обычного, но мухи всегда липнут с наступлением жары. Однако дома сразу стало ясно, что они предпочитают его другим членам семьи. Они так и роились над ним. Андре охотно подошел бы к кому-нибудь, чтобы мушиное предпочтение было менее явным, но опасался привлечь внимание и вызвать бурю. При каждом удобном случае он подсаживался к Рене, безответной жертве. Тем более что вечером осоловелый Рене чуть не спал на ходу и можно было свалить на него что угодно.
— Как они пристают сегодня! — несколько раз произнесла мать.
Мухи кружились вовсю вокруг мальчиков. Вернее вокруг Андре, чуть только Рене приходило в голову отойти от брата и подсесть к сестре или матери.
А ведь Жюльетта не бьет своих ребят, и Андре старается держаться от нее подальше вовсе не из-за этого. Вот у Жоффруа на другом конце улицы порядки иные. Там мать раздаст оплеухи, причем настоящие. Правда, ей приходится напастись на семерых.
Сам же Констан Жоффруа кроток, как овца. Марселен тоже не драчун, но что нужно, то нужно. Жюльетта сдерживается, она, видимо, считает, что Марселен управляется с этим делом достаточно хорошо и без нее.
Олимпия Жоффруа иной раз походит на адскую фурию, когда носится за ребятами по двору и по саду… На борту паника, визг, вопли. Соседи давно привыкли и даже не оборачиваются. Знают, что тяжелых жертв не бывает. Но те, кому случится проезжать здесь в воскресенье или зайти поесть куда-нибудь поблизости, и просто прохожие на Третьей аллее… Бывает, у ее дома машины даже тормозят и люди спрашивают, что случилось…
У Жюльетты такого не бывает. Но зато она гонит своих спать засветло. И вот пока ты вертишься и не можешь заснуть, перед твоими глазами торчит большое плетеное кресло. Когда-то Жюльетта одолжила его Фернану, когда из больницы Сен-Венсен вернулась Полина, бледная, негнущаяся, как статуя, лицо блаженное, и почти бессловесная — словом, не в своем уме. Говорят, она понемножку приходит в себя. Год спустя Фернан купил шезлонг, нечто вроде раскладушки, и вернул кресло Жюльетте. За это время у Биро успели от него отвыкнуть и теперь смотрели на него с суеверным страхом. Его уже не поставили, как прежде, на кухню, где Марселен любил иногда посидеть минутку до еды или после. Его водворили в большую комнату, которая называется столовой и где ставни всегда закрыты, дабы вещи не выгорали зря. Андре и Рене спят в этой комнате вместе на диване. В потемках желтое кресло выделяется светлым пятном, когда гасят свет и глаза привыкают к темноте, чудится, будто отчетливо видишь это кресло. Рене-то хорошо, он ничего еще не знает и засыпает себе, как король. Несмотря на соблазн, Андре так и не рассказал ему историю кресла. Он ни разу не разбудил братишку среди ночи со страху… Не то что сегодня с мухами… Андре мерещилось, будто в кресле таится нечто от безумия Полины, тихого и безобидного, это правда, но пугающего своей сонливой вялостью и неподвижностью… Это кресло досталось Жюльетте от стариков. Своего деда Андре почти не помнит. Но бабка умерла в той постели, где Жильберта спит теперь одна. Это Андре помнит… Чтобы челюсть не отвисла, покойнице повязали вокруг головы большой клетчатый платок, словно у нее болели зубы; на макушке торчал смешной узелок, который был весь на виду, поскольку волос у нее уже почти не было. А платок был серый, и от него так и несло шкафом. В такие платки бабка заблаговременно на случай смерти разложила «доли» своим наследникам и относила их по одному в день; просунув пальцы под два узелка, точно такие же, как тот, что был у нее потом на голове. А когда она была жива, то именно она, а не Марселен, усаживалась в это кресло и просиживала в нем часы и дни. Оно принадлежало ей. Оно хранило в себе нечто не только от Полины, но и от покойников. Во мраке ночи как бы двоились тьма безумия и тьма смерти… И как странно: ивовые прутья, из которых сплетено кресло, еще живые. Иногда ни с того ни с сего они начинают поскрипывать на разные голоса. Можно часами слушать этот скрип в темноте, ничего необычного не замечая, и вдруг раздается треск, а за ним еще какие-то странные звуки… Словно кто-то, легкий, как сами прутья, садится на кресло или встает с него… Может, это сама ива? Так и подмывает протянуть руку, чтобы проверить…
С наказаниями Андре везет, просто конца им нет. Жюльетта даже не подозревает обо всех его страхах. Она вовсе и не собирается так уж сильно наказать Андре или Рене, когда отсылает их спать раньше времени в эту комнату, где даже днем царит тьма. Почему Андре ни разу не признался в своих страхах ни ей, ни отцу? И с какой стати он выложил все Шарлеманю после одной такой ночи, однажды в воскресное утро, когда они остались одни и следили за полетом голубей?..
Какая уйма мух, господи!.. Да еще кусаются вдобавок!
Откуда они берутся? Они явились с одним наказанием, а теперь, того и гляди, накличут на него другое. В школе Андре — ученик особенный. По успеваемости он неизменно на первом или втором месте, но поведение «безобразное», как отмечается в его табеле. Его оставляют в классе после занятий чаще, чем других учеников. Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, мсье Ренар и мсье Монье занимаются по вечерам с рабочими-алжирцами. В такие дни наказанный Андре сидит в том же классе на одной из задних парт. И вот… мальчик видит, как шесть-семь взрослых мужчин с трудом втискиваются за парту, он слышит, как они хором повторяют гласные, как он сам когда-то в младшем классе у мадам Монсо. Взрослые мужчины с черной щетиной на щеках, пропахшие табаком, обращаются к мсье Ренару на ты…
И вот как-то раз, объяснив смысл слова, мсье Ренар сказал одному из них:
— Назови мне насекомое.
— Муха! — сказал алжирец. Он произнес «мюха».
Мсье Ренар слегка улыбнулся, взглянув в сторону Андре, и сказал:
— Назови еще одно насекомое.
— Еще одна мюха!
Тут мсье Ренар засмеялся открыто и прошел по проходу в глубь класса, прямо к Андре, как бы призывая его в свидетели. В свидетели чего? Мальчику казалось, что алжирец смеется над учителем. Добродушно, разумеется, он ведь понимает, что мсье Ренар оказывает им услугу, стараясь обучить их французскому языку, но, однако… как бы это выразить? Уж слишком у него был учительский снисходительный и уверенный тон, и вопросы он задавал слишком уж детские… должно быть потому, что он привык иметь дело с детьми. Так или иначе, мальчик тоже сидел за партой, как и те взрослые люди. Он опустил глаза и не ответил на подмигивание мсье Ренара.
Впрочем, подобное ощущение возникло у него не впервые.
А неделю назад, когда мальчик также в наказание был оставлен в классе, тот же алжирец Саади из Холостяцкого лагеря, всего несколько месяцев назад приехавший во Францию, и, по мнению мсье Ренара, один из самых сметливых, заговорил о «грохоте», раскатисто, не по-французски произнося «р». Андре сразу сообразил, о чем шла речь, мсье Ренар не понял или сделал вид, что не понял. Он спросил, подражая выговору Саади:
— А что это за «грохот»?
— «Грохот» — это когда дырки привязаны проволокой! — ответил Саади.
Андре чуть не прыснул, он готов был побиться об заклад, что алжирец насмехается… А мсье Ренар, как примерный учитель, отметил что-то в своей книжечке.
Но особенно мальчику понравились «мюхи». Он рассказал про них всем, в первую очередь ватаге своих дружков, которые вечно повсюду рыщут, пиратствуют, нападают, захватывают, баламутят, переворачивают все вверх дном и потешают Понпон-Финет. Мухам теперь конец. Остались одни «мюхи». Зато уж их-то хватает с избытком. И особенно у алжирцев. Саади недалеко было ходить за насекомым… Больше всего их было в Семейном поселке, вокруг ребятишек, сидевших на земле. Они так и кишели, рожки с молоком и соски чернели и казались живыми от мух, они облепляли края пиал, кастрюль и чашек, назойливые и неотвязные как нигде… Видно, в голове у этих мух не совсем пусто, раз они тянулись за Андре до самого дома.
Но зловреднее девчонок нет никого на свете. Они хуже мух. Можно подумать, будто Жильберта что-то пронюхала. Андре сказал: «Передай мне пиво!»
Она положила руку на бутылку, когда он потянулся за ней. Он любит пиво, но не меньше ему нравится откупоривать бутылку, оттягивать резинку прохладной фаянсовой пробки. Если всунуть в резиновое колечко палец, он становится белым, как сама пробка… Но Жильберта говорит:
— А ты передай мне сыр!..
Она берет себе вонючего сыру и оставляет его около себя. На другом конце стола.
После недолгого колебания верные мухи продолжают осаждать Андре.
— Ты не слышишь запаха, мам? — с невинным видом говорит Жильберта.
Гадюка. И неправда, ничем от него не пахнет, раз мать показала взглядом на сыр. Но Жильберта — интересно, что плохого он ей сделал, — добивает его одним махом:
— Мам, мухи! Не видишь разве?
И тогда Жюльетта поднимается, велит Андре встать и обыскивает его.
— Опять притащил какую-нибудь гадость!
Она залезает к нему в карман и обнаруживает что-то завернутое в кусок промокшей и подозрительно розовой бумаги. Андре чувствует, что и карман его тоже промок. В газете толстый мягкий шар — овечий глаз.
— Я хотел показать его учителю!
— Ну что за паршивый мальчишка! — кричит Жюльетта. — Черт бы тебя побрал! Он меня в могилу загонит!
— Еще слишком светло и спать совсем не хочется!
— Я думал о том, что ты мне сказал, — промолвил Шарлемань, как только Марселен ушел. — Что-то происходит или готовится, это факт. Ты не заметил вчера, что они соорудили два новых барака пониже, почти на том же месте, где стояли бараки до войны.
— Точно. Но откуда эти люди берутся?
— Надо думать, перебираются из ночлежек, уж хуже, чем там, им не будет.
— Их же собратья и держат эти ночлежки, — вставила Эрмина. — Там, где можно драть шкуру с алжирца, они всегда сами первые. Это уж известно!
У Эрмины всегда все известно.
— Но больше всего меня удивляет, — продолжает Шарлемань, — что им никто не препятствует.
Марсель. Ведь они оседают на государственных землях. Раньше эти места принадлежали компании, а теперь все угольные шахты государственные.
Шарлемань. Может быть, эти земли относятся к Лесному ведомству, но тогда они опять-таки государственные.
Марсель. Похоже, власти не возражают против того, что они здесь селятся все одной кучей, а не распыляются по разным гостиницам. Нашему участку легче наблюдать за ними.
Шарлемань. Вот люди и говорят: раньше было хоть одно спокойное местечко — Понпон-Финет. А теперь по их милости полиция и сюда стала заглядывать! Подумать только: учредили особый участок в нашем Понпон-Финет!
Вот уже год, как здесь появилось новое отделение полицейского комиссариата. Оно расположилось в переулочке Буайе, перегороженном с одного конца. Здание выходит прямым углом на шоссе, которое спускается с железного моста через Гро-Кайю к шахтерским поселкам мимо Понпон-Финет, мимо Семейного поселка и Холостяцкого лагеря. И уж конечно, полиция не бездействует, все идет как положено: обыски, проверка документов, облавы, и все это началось даже раньше, чем появились новые бараки… Завелся у них и толмач-алжирец, который разгуливает в полувоенной форме. Вот уж кому несдобровать в один прекрасный день, как бы он ни остерегался…
Марсель. Да, так говорят. В общем, все эти удовольствия свалились на нас из-за них.
Шарлемань. Так или иначе, нужно как-то выяснить, я ради этого и пришел к тебе. Не наведаешься ли ты к Тайебу…
— Вен Тиди? — восклицает Марсель. — Да ведь он давным-давно уехал!
Шарлемань. Да Что ты! Вот досада! С ним хоть можно было разговаривать.
Марсель. Верно! Тайеб был славный парень. Прожил здесь лет десять и стал почти настоящим французом! Ты знаешь, какие у меня в литейном лихие ребята? Им на зуб лучше не попадайся. Так вот они прозвали его Туди[1]. Тайеб Бен Туди! — со смехом добавляет Марсель.
— Ну уж это нарочно, чтобы досадить женщинам! — говорит Эрмина.
— А он не злился? — спрашивает Шарлемань, словно не слыша ее слов.
— Ну что ты! Он смеялся вместе со всеми… Наоборот, это ему вроде польстило. Но раз его нет, найдутся же на заводе и другие парни?
Шарлемань. У меня на мартене только молодежь. Трудно сразу разобраться, с кем имеешь дело.
Марсель. Да они, может, и не знают ничего.
Шарлемань. Ну нет, я уверен, что, когда с ними ведут разговоры, они перед своими вожаками отчитываются. Так что не стоит их расспрашивать, они этого не любят. Ни к чему их дразнить.
— Что ж, дело хозяйское, — вздыхает Марсель.
Эрмина больше не вмешивается в беседу, мужчины продолжают разговор так, словно ее нет.
— Понимаешь, можно было бы как-то помочь этим ребятам, если бы знать, — говорит Шарлемань.
— Больно уж они подозрительны.
— Кстати говоря, куда он уехал, твой Бен Тиди?
— Понятия не имею. С ними никогда ничего не знаешь…
— Не может быть, чтобы его…
— Все может быть. Не такая уж это редкость.
— Неужели можно было кого-то арестовать из литейного так, что ты ничего не знал бы об этом?
— Видишь ли, ходят слухи, будто его взяли вовсе не в литейном, а в городе, там, где он ночует, или еще где-то, почем мне знать? Остальные ничего мне не говорят… Я делегат не от города, мне и в литейном по горло дел хватает. Мне даже думается, что он тайком укатил восвояси или еще куда-нибудь!
— Короче говоря, мы ничего не знаем. Может, он сидит в тюрьме, а людям и дела нет! Человек исчезает чуть не у всех на глазах, а мы…
— Я пробовал расспросить кое-кого, но знаешь, мне тоже ни к Чему очень-то высовываться. И им это не по нраву…
— Да, никуда от этого не уйдешь: между нами и ими есть какая-то проклятая трещина!
— Это понятно, — отвечает Марсель.
— Понимать еще мало…
Все это мелькает в голове не воспоминаниями — на это нет времени, — а словно неяркими пятнами, ибо краски скудны в этом краю. Эти смутные пятна-картины не имеют отчетливой связи с мыслями, образами, цвет в них не совпадает с контуром, они расползаются, перекрывают друг друга, как на полотне Фернана Леже — серый фон, чуть-чуть оживленный то зеленью Понпон-Финет, то красным маком или пурпурными вишнями Марселя и легкой желтизной солнечных бликов, рассыпанных там и сям…
Заходя в фургон, Шарлемань успевает только наклонить голову; черный сводчатый потолок не так уж низок, но что-то задевает за его фуражку. Впрочем, он и на этом не успевает остановиться мыслью, ибо все его внимание поглощено совсем иным.
В фургоне есть еще кто-то.
В глубине фургона у глухой стенки укреплены одна над другой две железные койки, когда-то покрашенные в серо-голубой цвет. На нижней постелен тонкий тюфяк, без матраца, у изголовья сложены вчетверо два одеяла защитного цвета. На верхней лежит человек, и, когда он шевелится, железная сетка скрипит. Человек раздет, насколько можно судить, и лежит без простыней, прямо на одеяле, прикрывшись другим.
Шарлемань словно собственной кожей ощутил грубую шерсть этого одеяла.
Человек спит, повернувшись к стене, лица его не видно. Видны только курчавые черные волосы и голое плечо.
Шарлемань старается ступать как можно легче. Но фургон содрогается от каждого шага, особенно когда вслед за Шарлеманем входит Саид, прикрывая за собой створки застекленной двери. А ведь он-то, Шарлемань, весит наверняка вдвое больше, чем Саид. Он знает, что такое сон рабочего человека… Саид церемонится гораздо меньше, Шарлемань чувствует, как его тяжелые подкованные башмаки прямо вгрызаются в пол. У входа к полу прибит кусочек линолеума, видимо, чтобы прикрыть дырку, и, когда Саид притворяет дверь, она царапает линолеум и стекло звенит.
Однако спящий не шевелится. Правда, когда в одной комнате живет шесть человек и все время кто-то ходит взад-вперед, поневоле приучаешься спать при шуме.
— Это мой товарищ, — говорит Саид.
И товарищ сразу оборачивается. Он проснулся не от шума, а от голоса Саида, заговорившего по-французски.
— Здравствуйте! — говорит Шарлемань и быстро добавляет: — Отдыхайте, отдыхайте! Я сейчас уйду!
Лежащий махнул рукой, словно говоря: «Пустяки! Не в этом дело…»
Вот поди же… «Отдыхайте!» Никогда сроду он не сказал бы другому рабочему «вы». Должно быть, это неспроста…
— Он еще не понимает по-французски, — говорит Саид. — Он только что приехал.
Обнаженная рука лежит на одеяле. Это рука старого человека, мускулистая, но слишком худая и жилистая, заросшая черной шерстью, на ней заметны не то голубые разводы вен, не то следы старой татуировки… Черные небольшие усы, осунувшееся лицо, кожа покрыта невероятными морщинами, словно иссушена неумолимым солнцем. Или огнем, почем знать?
— Он тоже работает на заводе?
Саид кивает головой.
— Мы мешаем ему спать?
— Он не спал, — отвечает Саид. — Присаживайся.
И указал на пустую койку. Подавив секундное колебание, Шарлемань опускается на самый край, чувствуя железный борт кровати через тощий пыльный тюфяк, набитый морской травой. Саид говорит:
— Не бойся, насекомых нет!
Окинув взглядом помещение, он добавляет:
— Видишь, как тут у нас…
Что ответить Саиду? И что у него на уме? Доволен ли он своим жильем, ибо это все же жилье? Или он жалуется на бедность? Или то и другое одновременно?
Шарлемань не отвечает и осматривается.
— А ты неплохо говоришь по-французски! — Все-таки он нашел что сказать и даже не слишком замешкался… — А по-местному умеешь?
— Чуть-чуть! — смеясь отвечает Саид.
Выйдя от Марселя, Шарлемань отправился к «своему» торговцу велосипедами за тросиком для тормоза. Есть лавки и ближе, но ведь именно здесь отец купил ему его первый велосипед, когда он получил свидетельство об окончании школы. От этого и пошла традиция… Здесь же сам Шарлемань присмотрел для себя, когда ему уже было лет двадцать пять, второй велосипед, тот самый, что служил ему до прошлого года. Потом ему достался велосипед Робера, также купленный здесь, в те годы, когда Робер получал стипендию. Этот, надо полагать, будет и последним, если удастся дотянуть его до конца. Маленький мотоцикл тоже когда-то был куплен здесь, но он уже давно вышел в тираж… Здесь же Робер приобрел новый гоночный велосипед, на который ушла его первая учительская получка. Это была единственная получка, принесенная им домой, ибо месяц спустя он женился. Не известно, как хозяину лавки в его восемьдесят лет удается заработать на жизнь. Он носит старинное редкое имя Клодомир, а его брата, умершего в прошлом году, звали Кловис, — как первого французского короля; у обоих были усы, как у древних франков, у Клодомира уже изрядно поредевшие, седые, с ржавчиной на кончиках. Хотя Клодомир знает, что ничего существенного Шарлемань у него больше не купит, но девять шансов из десяти, что на его вопрос: «Сколько я вам должен, Клодомир?» — торговец ответит: «Не буду ж я, в самом деле, брать с тебя деньги за кусок проволоки! Есть о чем говорить: свои люди — сочтемся!»
Дорогой Шарлемань замечает: смотри-ка, Рафаэлю Варлоо надоели пожары!.. Шутка сказать, за два года два пожара, один ночью, другой днем. Ничего страшного не произошло, но поднялся шум и паника, примчалась красная пожарная машина и устроила форменное наводнение! А пламени никто и не видел, так, немного черного дыма из трубы. Но говорят, будто на кухне на расстоянии метра ничего не было видно, а наутро оказалось, что все в доме покрыто густой сажей!..
«Добравшись до пенсии», Рафаэль Варлоо решил, так сказать, оперировать свой дом, и шрам виден до сих пор. Дом уж не молод. Он достался Рафаэлю по наследству от родственников жены. В свое время фасад был оштукатурен, но теперь он так грязен, словно никто и никогда к нему не притрагивался. Лет тридцать или сорок угольная пыль оседала на нем. Кстати и сам Рафаэль был шахтером. Сбоку дом не был оштукатурен, кирпичи давно выцвели, но оставшаяся после перекладки печи длинная зигзагообразная полоса, прорезавшая стену, словно омолодила их. Новый, свежий кирпич ярко выделяется на старой стене и виден издали… Кажется, работа окончена. Под стеной валяются обломки кирпича и засохший цемент.
Хозяин стоит во дворе. Шарлемань тормозит ногой о тротуар и останавливается. Действует только ручной тормоз, он слабоват на спуске, и Шарлемань старается его щадить…
— Ты дома, Рафаэль? Здорово тебе стену разукрасили!..
— Как видишь, — отвечает Рафаэль. — Это влетело мне в копеечку, но, коли нужно, приходится раскошеливаться, ничего не поделаешь!..
Жаловаться на дороговизну — общая мода, но в голосе Рафаэля чувствуется легкая гордость оттого, что у него все же нашлись деньжонки, пусть не слишком большие, но все-таки на эту затею их хватило.
Намек не ускользает от внимания Шарлеманя.
Люди скажут, что у тебя в кубышке припрятаны денежки!
— Ну, на сегодняшний день я пока еще купонов не стригу! — отвечает Рафаэль.
Рассеянно переговариваясь с подошедшим Рафаэлем, Шарлемань старается понять, о чем напомнила ему эта заплата из свежих кирпичей. Нечто подобное он где-то видел позавчера, и помнится, это его почему-то удивило.
Полузабытое оживает в памяти, чуть только он, простившись с Рафаэлем, снова нажимает на педали велосипеда… Так бывает, когда голова неотступно занята одной мыслью.
Это было в самом низу Понпон-Финет, ниже шахтерского поселка, недалеко от пересохшей старицы Шельды. Вода в этом месте — просто угольная жижа, точно расплавленный уголь. Из воды торчат два странных черных остова, похожие на скелеты в пустыне. Это и в самом деле скелеты двух барж, которые попали под бомбежку, загорелись и пошли ко дну. По другую сторону узкого шоссе, некогда окаймлявшего причал, а теперь на три четверти засыпанного землей, тянется бесконечный забор, ограждающий территорию шахты. Он сбит не из досок, а из шпал и повторяет изгиб ребер затонувших барж. На протяжении десяти метров забор лежит, затем приподнимается, толстые шпалы топорщатся, точно веер со странным изогнутым контуром, напоминая борт судна или сломанный детский ксилофон. И все это высится среди пышных трав и цветов, которые с такой обманчивой силой разрастаются на отбросах. Шарлемань не знает более унылого, мрачного, богом забытого места на земле. Все железные части съедены ржавчиной, деревянные или обуглены, или поблескивают старым варом.
Прежде здесь стояло три одиноких дома. Два из них были уничтожены бомбежкой. Третий остался стоять с почти целой крышей и оконными проемами, но пустой и обгоревший внутри. Так простоял он больше пятнадцати лет, открытый всем ветрам. Но вот позавчера Шарлемань, проходя мимо, заметил, что дверные и оконные проемы заложены свежим кирпичом… Вероятно, владелец дома или управление угольных шахт взяли на себя расходы… Шарлемань не понял в тот момент, зачем это могло понадобиться.
Теперь он, пожалуй, понимает… Правда, селиться в этой развалине не слишком соблазнительно. Кроме того, вряд ли их так уж тянет в самую низину. Если бы можно было, они стали бы строиться как можно выше по склону, поближе к Понпон-Финет. Там, где посуше.
Смотри-ка, вон там опять какой-то ремонт! Да еще у пенсионера. Правда, здесь молодость недолго держится. Впрочем, молодых и не увидишь: они или работают, или спят. И днем можно встретить только женщин да стариков. Бывший железнодорожник Октав Милькан, балагур, живущий метрах в пятидесяти пониже Рафаэля, красит желтоватой известью стену в своем саду, крепкую, длинную стену.
— Весь квартал вокруг тебя засияет, Октав! — кричит Шарлемань.
Октав любит все светлое. Проезжая на велосипеде, видишь, сверху через стену плодовый сад со стволами, побеленными известкой. Кирпичи, окаймляющие дорожки, тоже побелены. И даже подпорки для помидоров — вероятно, на это дошли уже остатки известки, чтобы не пропадала. На деревьях, особенно вдоль стен, на каждый плод надет прозрачный мешочек.
— Так кажется чище, — отвечает Октав, не опуская кисти.
— Почему же ты не занялся этим весной? Проспал?
— Не всегда делаешь, что хочется! — кричит Октав.
Не слишком-то он сегодня разговорчив!
Интересно, в чем дело, думает Шарлемань, которой на этот раз не стал тормозить… Прямо у самой старицы… Чей же это был дом?..
За домом Полины, который долгое время именовался домом Фернана, а затем, по мере того как разум постепенно возвращался к хозяйке, снова обрел прежнее название, хотя и стоял большей частью с закрытыми ставнями, так вот за этим домом находилась запруда — истинное благословение для всех соседей.
Запруда прекрасная. В разгар сезона, когда идет кресс-салат, да и теперь, между двумя урожаями, просто удовольствие смотреть, как еда появляется сама собой, без труда. Можно прийти и набрать себе салату, конечно, не каждый день и понемногу, чтобы и другим хватило, надо только следить, чтобы не заходили чужие. А корешки бросают обратно в воду. Просто удивительно, как быстро они принимаются снова.
Ну а чужим считается любой, кто не живет в ближайших двух-трех домах у запруды. Два-три — это только так говорится, а на самом деле в шести-семи соседних домах. Критерий «своих» зависит от урожая, от веса, густоты салата и так далее. Словом, запруда снабжает в хорошие годы десяток, а то и дюжину домов. Впрочем, запрет для чужих не так уж строг, родник-то ведь ничей. Ничего им не скажешь, разве что выйдешь на порог своего дома с осуждающим видом. Но вообще-то люди уважают собственность. Изредка только налетят ночью какие-нибудь бедняки и оборвут весь салат. Такое случается. Все случается.
Однако сейчас все изменилось. Кто-то сказал, словно невзначай:
— Ну, теперь вряд ли кто явится за салатом.
Это уж слишком.
— Думаешь, и сюда доберется?
До самого родника…
Однако брошенное слово идет своей дорожкой.
— Да не о крысе речь, а о заразе… Ведь вода — она вода и есть.
Зараза может идти только вниз по течению!
— А почему же, по-твоему, крысы все же поднимаются вверх?
— А когда вообще нет течения?
— Да, когда вода стоит в ямах?
— Всегда хоть тонюсенький ручеек, а все-таки бежит…
— Ну и ладно, пусть кто хочет берет салат, а я…
А в оклеветанной запруде вода в этом году как назло чище, чем когда-либо. На дне светится песок, как догадка в ясных глазах. И вода струится так быстро, что не успевает замутиться.
Отчасти виноват тут Корнет, который заварил кашу со своей бараньей головой.
— А у головы этой был только один глаз! — сказал Марселен. — Второй-то мой пацан утащил!
— Ничего подобного, — возразил Корнет. — У моей головы было два глаза, это я знаю точно. Даю руку на отсечение!
— Ну значит, где-нибудь валяется еще одна баранья голова, — согласился Марселен. — Что они там все обалдели, что ли?
Дело оборачивалось совсем удачно для Корнета. Может быть, и не без его стараний. Теперь с него не спросят, почему крысы оказались наверху. В ста метрах ниже его дома, близ последних бараков, в ручье гнила баранья голова, вся обсиженная зелеными мухами. И действительно, Андре вынул глаз совсем из другой головы и сделал это, кстати, очень осторожно, чтобы не испортить его. Завернутый в бумагу, глаз выглядел уже не так красиво, хотя Андре проделал все в точности, как показывал учитель. Лезвием таким же, как у них дома, учитель тщательно отделил коровий глаз. Андре сделал это ничуть не хуже. Первую баранью голову не бросили в ручей. Соседские ребята дали возможность Андре произвести свой опыт спокойно, не торопясь и не прячась… Да и голова была тогда совсем свежая, хоть вари ее…
Однако Корнет отправился прямо к Марселю. Он хотел повести его к своей бараньей голове, чтобы оправдаться совсем. Но Марсель не пошел.
— Не стоит дразнить их и показывать им нарочно, что мы следим за ними. И так хватает неприятностей! Давай не будем хоть мы добавлять их.
— Ну пускай тогда плывет к нам всякая падаль! — торжествующе заявил Корнет.
— Да брось ты эти громкие слова, — сказал Марсель.
Корнет, которого в поселке прозвали Корню[2], даже не подозревает, сколько неприятностей он наживет себе из-за этой бараньей головы. Пройдет немного времени, и на него посыплются насмешки и подшучивания. Сам, можно сказать, на них напрашивается.
Ну а пока за все отдувается Шарлемань. Уж так давно повелось: люди идут к нему со своими заботами по любому поводу, и не только заводские. Идут из предместья и ив поселка. К нему приходят жаловаться, просить совета. Не далее как вчера утром явилась молоденькая вдова, та, что живет между Рафаэлем Варлоо и Октавом Мильканом. Она была женой Жерара Байе, рабочего с их завода, которого убило в цехе лет пять Назад. Раскаленный стальной брус сорвался с транспортера, пронзил беднягу насквозь и отлетел чуть не под крышу цеха. Пришла она с жалобой, что у нее украли курицу.
— Ну, это уж все-таки не по моей части! — заявил Шарлемань, не слишком вникая в дело.
— Как же мне…
Он не выставил ее из уважения к памяти Байе, которому было всего двадцать пять, когда он попал на раскаленный вертел. Шарлемань внезапно понял, почему именно к нему пришла она со своей жалобой по поводу украденной курицы, понял ее невысказанные подозрения.
Но случались вещи и почище. Как сияла свежей краской стена у Октава! Только она успела подсохнуть за две ночи, как кто-то, не побоявшись ни бога, ни черта, здесь, прямо у дороги… Словом, проснувшись на третий день, Октав увидел на стене огромную шестиметровую надпись крупными черными буквами по желтому, сделанную чисто, почти без подтеков:
ДАЛОЙ КАЛОНИАЛИЗМ!
…Услышав тихий смех над головой, Шарлемань, выворачивая шею, посмотрел на человека, лежащего на верхней койке. То ли смех Шарлеманя и Саида был заразителен, то ли он понимает язык лучше, чем уверяет Саид?..
Прошло две недели. В саду у Октава созрели плоды. Кое-где он уже снял с груш полиэтиленовые мешочки. Год бежит быстро.
И вот однажды в воскресенье утром — новое событие. На правом берегу речки, в каких-нибудь ста метрах от Шарлеманя, затевается строительство барака. Весь материал свален грудой, доставили его сюда, как видно, ночью. Но как? Грузовику, даже полутонке, сюда не добраться. На земле лежат черные доски и щиты, блестящие от дождя.
А дождь льет и льет без передышки.
Вскоре снизу являются пятеро алжирцев и начинают собирать дом. Один сдирает сапкой траву на месте будущего дома. Другой роет мотыгой четыре ямы — но четырем углам. Остальные устанавливают столбы. Ветер мешает им, работают без курток: все равно промокнешь.
Дождь портит воскресный день. В парк не пойдешь. В Клермоне назначены состязания голубей, но брюссельское радио только что объявило об их отмене из-за плохой погоды. А Норбер-то поменялся сменами с Леонсом ради того, чтобы сегодня утром посмотреть на голубей… У его дома собираются чаще всего: он живет на краю площади, недалеко от Спортивного клуба. Люди садятся на корточки вдоль стены, на солнышке… Предместье расположено на холме, и издали видно, как голуби приближаются. И вот все это отложено. Утро пропало, а может быть, и целый день. Прямо не знаешь, куда податься, мечешься в четырех стенах.
Шарлемань то и дело вынимает часы.
— Значит, завод не возражает, — говорит он Берте. — Ведь они здесь на территории завода. И уж будь спокойна, охрана наверняка все знает. Они все узнают в ту же минуту.
А вот и Марсель. Может быть, подойдут и другие.
Марсель согласен с Шарлеманем.
— Сначала шахты, теперь завод. — Он подмигнул. — А корысть у них вот какая: полиции нужно, чтобы они всегда были на виду. Я уж тебе говорил.
— Но почему же они-то сами лезут прямо в волчью пасть? — спрашивает Шарлемань.
— Неплохо бы подсобить им, — замечает Марсель, — погода, конечно, паршивая, но…
— Тут не знаешь, как лучше…
— И всегда найдутся злые языки, — вставляет Берта.
— Дело не в этом, — возражает Шарлемань. — Ты их знаешь, этих? Ведь не известно, на что нарвешься. А вдруг они из НДА[3]?..
— Вряд ли, таких что-то в наших местах не видно, — говорит Марсель.
— А может, они из новоприбывших, кто знает? Вот и нарвешься на какую-нибудь провокацию.
— Один из них кого-то мне напоминает, — говорит Марсель, — но за этим дождем разве разглядишь! Слишком далеко.
— Не все так считают, — возражает Берта.
— Что именно?
— Да что это слишком далеко.
— Я знаю, что говорю, — говорит Марсель, отдергивая занавеску и протирая пальцами стекло, запотевшее от сырости.
— Да и вообще, — продолжает Шарлемань, — работают они споро, и наша помощь им ни к чему. Они и без нас прекрасно обойдутся.
— Когда хоть один знает, что и как делать, работа идет, — добавляет Марсель.
Слышен стук деревянных сабо по камню. Это Эктор Морель.
Эктор без дела не придет, да и он нечастый гость в этом доме. Он начинает прямо с порога:
— Видал работу? Там один из моих ребят.
— Вот видишь, — вставляет Марсель, — я же говорил тебе. Я не понял, кто это, но я его уже где-то видел.
Эктор работает в томасовском цехе, он не несет никакой общественной нагрузки, профсоюзной или еще какой-либо. Он старший сталевар, вот и все. Поэтому он с полным правом говорит «мои ребята», так же как Марсель зовет рабочих литейного, а Шарлемань — рабочих мартена № 1.
— Что за человек? — спрашивает Шарлемань.
— Да не хуже других, — отвечает Эктор, — но ты же знаешь, что это за народ!
Эктор уходит, и Марсель разражается смехом:
— Ну и ты хорош, нечего сказать!.. Нашел, кого спрашивать!
— Да, это я ляпнул не подумав, — смеясь отвечает Шарлемань.
— А вдруг он бы тебе ответил: парень подходящий! Вот ты бы и стал ломать голову, как это понимать и кто для Эктора считается подходящим.
Так или иначе, они узнали, что тот парень работает по очистке печей от томасшлака. Во Франции он уже лет девять, прежде чем поступить на завод, он лет пять-шесть проработал на предприятиях «Шельда и Самбра». Зовут его Саид. Фамилию его Эктор никогда не слышал.
— Если он здесь поселится, мы, может быть, от него узнаем, что все это означает, — продолжал Шарлемань. — По-соседски…
После ухода Марселя он идет к окну столовой, обращенному на запад, чтобы посмотреть, не проясняется ли хоть немножко. И тут его ждет сюрприз, возможно, уже со вчерашнего дня: на круглом столе стоит ваза, полная веток с удивительными, прозрачными, как кружево, листьями. Впрочем, кажется, это вовсе не остролист.
— Берта, что это такое?
— Это чертополох, — отвечает Берта. — Но тоже очень красиво, правда?
Это ответный подарок Берты на принесенный им тонкий, как паутинка, листочек. Можно тридцать лет прожить вместе, и все равно остается такое, для чего не нужны слова… Ткань листьев — точно замерзший тюль, изысканное плетение природы с врозь торчащими кончиками, похожими на отставленные мизинцы тонких рук. Веточки прозрачны, но попробуй просунуть между ними палец… И колючие они только на вид. Вся их масса так легка, Что стоит задеть один шип, и весь букет сдвигается в вазе. Они хрупки, точно сделаны из песка, и касаться их надо бережно. А над букетом колышутся несколько тонких стеблей дикого овса. Их всунула в вазу Берта, сама по-девичьи стройная и хрупкая, как эти колосья.
В воскресенье к вечеру дождь наконец утихает. Шарлемань идет в ночную смену. И этот парень Саид тоже.
Берта не ложилась, она провожает Шарлеманя до калитки сада, до того места, где он всегда достает свои часы, будь то день или ночь.
Когда стоишь у калитки, кажется, что завод простирается у ног. Из низины доносится причудливая смесь далеких жалобных звуков, словно тысячи колодезных цепей скрипят на ветру и медленно колышутся, как сонные змеи, как угри в ржавой тине… За мертвыми паузами следуют внезапные гулкие удары по металлической обшивке, точно грезит вслух гигантский железный остов, пронизанный со всех сторон сквозняками и лучами прожекторов.
В окне нового барака мерцает неровный свет.
— Электричества у них еще нет, конечно, — говорит Шарлемань. Он крепко целует жену и вскакивает на велосипед.
Берта не успела вернуться в дом, как потух свет в бледном окне нового барака, в ста метрах от ее двери. Из него выходит Саид и идет к заводу напрямик, по высокой мокрой траве.
Во время первого перерыва, загрузив «свои» печи и поставив на место разгрузочную машину, Шарлемань вышел из мартеновского и направился в томасовский цех.
У Саида работа в разгаре. Надо переждать, пусть закончит.
Шарлемань подошел к Эктору, который издали присматривает за своим раскаленным варевом, и спросил:
— Который?
— Вон тот, — показал Эктор жестом, так как слова тонули, словно в шуме ветра. Ветра тут не чувствуешь, только слышишь его гудение. И нигде неизбежное сочетание ветра и расплавленного металла не поражает так сильно, как здесь. Таково по крайней мере ощущение Шарлеманя, привыкшего к своему мартеновскому цеху. Даже сама домна огромная, с мощной водяной рубашкой и тоннами скрытого в ней металла не производит такого сильного впечатления… Даже ураган в море не так страшен. Шквал, который обрывает дыхание, загоняет обратно в легкие ледяной влажный воздух — все ничто в сравнении с этим цехом… И тот, кому это не знакомо, тот чужой в цехе, пришлый турист, от которого скрыто главное… он не знает, что над каждой из этих шести трубок-фурм тридцать тонн огня, висящего в воздухе, мощный воздушный напор поддерживает их; эти тонны огня как бы плавают в воздухе над дырявым днищем. Ветер неумолчно гудит в ушах, и кажется, будто он пронизывает вас с головы до ног, впиваясь в вашу плоть, учащая ваш пульс, усиливая жар в крови и окрашивая ее в более темный цвет. Здесь все дрожит, как же не дрожать и вам? Вибрируют железные балки, рельсы, металлические колонны, пятиметровые печи, перекрытия и дырявая прогоревшая крыша. И отдельно вибрирует все покрывающая пыль. Дрожит кровь в ваших венах, не от страха, конечно, просто и ее захватывает ритм непрерывной восьмичасовой вибраций… Бывает, что человека преследуют какие-то мелочи, дурацкая песенка или просто случайный мотив… И сейчас в гудении стремительно рвущегося воздуха Шарлеманю чудился хриплый и грубый женский голос, напевающий по-немецки: «Ветер… поет мне песню…» Прямо смешно… да, видно, ты стареешь, Шарлемань… Но и в самом деле хаос сливался в какую-то фантастическую мелодию.
Невыносимый свет бьет прямо в глаза, ослепляя как солнце, этот страшный свет заливает все кругом, и окружающие предметы выступают с поразительной четкостью — заклепки, звенья, цепи… Несмотря на ночное время, можно пересчитать и разглядеть каждую заклепку на поясе, охватывающем выпуклую печь, точно поводья, которые надели на нее, точно намордник, отчетливо видны бесконечные ряды выступов на ферме, поддерживающей крышу, и у каждого из них своя игра света и тени, ясно видна и побелевшая полоса железа возле самого огня, у защитных решеток. Ослепленный взгляд, стараясь избежать нестерпимо яркого света, невольно цепляется за стальные выпуклости, ощупывает, подобно пальцам слепого, шесть конвертеров, которые всегда находятся в разных положениях — один опустил зев к самой земле, другой задрал его вверх, точно мортиру, выпуская сноп огня на уровне лица. Они напоминают качели на ярмарке: одни в воздухе, другие внизу, третьи только поднимаются, а четвертые уже тормозят на спуске. Словом, все они качаются, вращаются на своих осях, подобно старинным маслодельным бочкам, и в конце концов, в момент выпуска плавки, опускаются глоткой вниз, к земле.
Саид чистит первую печь слева. Печь наклонена, словно зверь, опустившийся на согнутые передние лапы. В ее разверстую пасть человек мог бы войти в полный рост, если бы огонь не стерег входа. Невозможно стоять ближе чем в двух метрах. Саид шурует издалека чем-то вроде тонкой паяльной трубки, прикрепленной к гибкому трехметровому шлангу, который вьется между рельсами. Он словно сражается огнем против огня — подрубает, ломает, отдирает, отгрызает клочья, пласты и нависшие глыбы багрового шлака. Он выскребает лаву из кратера, словно вырывает клыки у дракона. Саид работает. На нем рукавицы и истрепанная фетровая шляпа, на глазах — большой козырек, полупрозрачный, точно выжженные морозом листья остролиста или чертополоха, он в жестком, как рыцарские доспехи, и длинном до полу асбестовом фартуке, в рваных синих эспадрилях, из которых то показывается, то юрко, словно рыбка между скал, прячется большой палец, темно-рыжий, как железная обшивка пола. Он выбирает удобное положение и нападает, ожесточенно набрасывается или отступает, отходит вбок и снова нападает справа или слева, не спрашивая ничьего совета; он явно знает свое дело. За его спиной стоит старший мастер Майяр; все помнят, как в 1947 году на него и на инженера набросились женщины и чуть но спустили с обоих штаны. Майяр явился на ночную смену в сером свитере и кожаном жилете, застегнутом по-воскресному на все пуговицы, в скромной, но приличной фетровой шляпе и серых гетрах, закрывающих башмаки. Замечаний у него нет и не может быть, он чуть-чуть улыбается, любуясь четкой работой. Он вынимает свой механический портсигар, открывает, закрывает и снова открывает его, и сигарета скручивается сама. Затем он просит у Шарлеманя огоньку.
«Он хочет показать мне, что он меня здесь видел», — думает Шарлемань, роясь по карманам, хорошо зная, что спичек у него, некурящего, нет. Их и в самом деле нет, он бы не отказал. Да и кто отказал бы дать огоньку.
— Ладно, бывает, — говорит Майяр. — Спасибо за труды.
Он берет маленькую лопатку, стоящую возле опоры, подбирает немного окалины близ печи и прикуривает.
Затем он возвращается к Шарлеманю и говорит, выпуская первый клуб дыма:
— А вот тут и спасибо не надо говорить.
В нескольких метрах от них наклоняется третья печь, выбрасывая сноп искр, но не праздничным фейерверком, а так, немного огня и брызг, словно кашляет в ладонь. Между тем в двадцати километрах отсюда дети, лежа в своих кроватках, перед тем как заснуть, видят отражение этого огня на стенах комнаты. Около томасовских печей ты никогда не одинок, даже ночью. На тебя смотрит вся округа, тебя видят тысячи глаз. Тут и господь бог не нужен. «Вот и видно сразу, какой невежа этот Майяр», — ворчит про себя Шарлемань.
Саид кончил работать. Шарлемань оставляет Майяра и подходит к Саиду.
— Здорово, товарищ! Можно потолковать с тобой?
Саид с удивлением оборачивается, затем широкая улыбка освещает его лицо. Он поднимает с глаз защитный козырек.
— Привет!
— Может, ты слыхал обо мне, я…
— Слыхал ли я о тебе, мсье Шарлемань?.. Да я только о тебе и слышу! Ты делегат на мартеновском. У тебя ко мне дело?
Саид снимает рукавицу и, засунув под мышку свою шляпу, протягивает руку Шарлеманю.
Лицо его в поту. Кажется, будто у вас на глазах пот выделяется крупными каплями, прозрачными и темными. Они стекают ручейками и в ослепительном свете кажутся такими же четкими и твердыми, как металл в желобах. Несколько ручейков сбегают по складкам лица к подбородку и повисают крупными, чистыми каплями. Одна падает.
— Ну вот, а теперь мы вдобавок и соседи! — говорит Шарлемань, радуясь удачному началу разговора.
Пожав ему руку, Саид достает из кармана лиловую тряпку и утирает лицо.
— Вот как? — говорит он. — Ты, значит, живешь в предместье?
— На самом краю. Около тебя теперь. Я как раз из-за этого и…
Под ярким светом кожа на щеках Саида напоминает апельсин, и цветом и набухшими влажными порами. Пот продолжает выступать на его лице. Когда же они отходят в глубину цеха и Саид поворачивается спиной к огню печи, все меняется.
Теперь на его щеке виден небольшой шрам. На коже француза он был бы, наверно, розовым, но у Саида он серый и морщинистый и напоминает мертвую гусеницу.
— Вон что, — говорит Саид, и улыбка его тускнеет. Он, видимо, думал, что Шарлемань заговорит о работе или зарплате.
— Да, объясни мне, что это там у вас строится?
Улыбка Саида гаснет. Он пожимает плечами, словно с недоумением.
— Я могу только про себя говорить. А про других я ничего не знаю!..
— Ладно, скажи про себя! Хочется знать, что у вас там затевается.
— Про себя? А тебе непременно нужно это знать, мсье Шарлемань?
Он наклоняется и поднимает с земли бутылку, накрытую перевернутым стаканом.
— Хочешь?
— Нет, спасибо.
Это молоко. В томасовском цехе рабочие получают литр молока в день. Это результат боя, который был дан несколько лет назад. Хорошо, что он отказался, он не любит молока. По бутылке, да и по пробке, он решил было, что это пиво.
— Гостиница была мне не по карману, — продолжает Саид. — Ну вот я и решил купить эту лачугу.
— Так тебе пришлось за нее заплатить, — сказал Шарлемань, — кому?
— Лавочнику, который жил в этом бараке.
— А как начальство на это смотрит? — Шарлемань пытается подойти с другой стороны. — Вам пришлось просить разрешение?
— А на что оно мне? Я его и не добивался. Я вообще ничего ни у кого не прошу. Люди устраиваются, вот и я хочу.
— Но ведь здесь оба лагеря сошлись вплотную и тут же полицейский участок, вы у них всегда на виду.
— Знаешь, мсье Шарлемань, мы повсюду у них на виду. Думаешь, в гостинице лучше? Только мне наплевать. Он спрашивает у меня документы, обыскивает меня, ну и пусть: ведь у меня все в порядке. Он свою работу делает, я — свою.
— Он свою работу делает? — переспрашивает Шарлемань, прищурив глаза, точно смотрит на огонь, и не сводит взгляда с лица алжирца. На губах его чуть вызывающая усмешка.
— А что, это его работа! У меня к нему претензий нет. Он следит, контролирует, проверяет посты. Раз у меня все как положено — ему не к чему придраться.
Ну вот я тебя и поймал, браток. Видно, зря я прогулялся. Ты меня принимаешь за дурачка. И Шарлемань говорит с досадой:
— Ладно! Коли так, хватит болтать! Спасибо и на этом.
И Шарлемань замечает, уходя, что он повторил слова Майяра.
Почему же так получилось? Ведь разговор так удачно начался… а потом, слово за слово, и все сошло на нет… Почему? У каждого свои тайные мысли, свои дела и секреты… Я только собирался ему сказать: «Да не зови ты меня „мсье“. Какой я тебе мсье, я просто Шарлемань…» А он вдруг начинает нести какой-то вздор про полицию, которая всего-навсего выполняет свои обязанности… Да ведь ни один из них так не думает! Руку даю на отсечение! Значит, этот малый надо мной смеется или попросту врет. Он от меня таится. Все допускаю — недоверчивость, осторожность, но за кого же ты меня принимаешь? За шпика? Меня зовут Шарлемань Валлес, и ты это знаешь, ты же сам сказал! Коммунист, да еще с немалым стажем работы в этих местах! Так что уж позволь, пожалуйста… Для твоего Алжира я, может быть, сделал больше, чем тебе когда-либо придется сделать!.. Ты, может, еще соску сосал, когда я…
Иногда сущая мелочь может успокоить человека. Шарлемань быстро шагал к мартеновскому цеху, все больше распаляясь гневом. Вдруг улыбка тронула его губы, и он невольно замедлил шаг. Он подумал: да есть ли вообще у них соски?
Что мне известно о них? Я не знаю не только про соски, но и про многое другое. Мало ли какие у него могли быть причины…
Так или иначе, ругает он себя, ты опять вспылил… Как видно, и ты не ангел! А ну-ка, докажи обратное?..
Опять этот внутренний голос, темный двойник, который только спрашивает, ничего никогда не утверждая, и перекладывает всю ответственность на светлого двойника.
И светлый двойник отвечает:
— Прекрати эти глупости! Если так рассуждать, любого можно заподозрить в расизме! Любого!..
Он снова распаляется:
— …И ты туда же, за кого же ты меня принимаешь!
— …Сам знаешь, каково в гостиницах. Уж хуже некуда. Дерут уйму денег, да еще к тому же набивают нас там как сельдей в бочку.
Саид словно продолжает разговор, начатый неделю назад. Шарлемань, приподнявшись, разглядывает лежащего, затем усаживается поглубже на нижнюю койку.
Он решил высказаться откровенно:
— Просто гнусно, в каких условиях вам приходится жить у нас! Мы просто…
И он заканчивает фразу жестом, словно отгоняет муху, и бьет себя по колену. Его широкая рука остается на колене, потирая его и стараясь унять легкую дрожь.
Так или иначе, он заговорил первым. И теперь он ждет:
— Главная беда — начальство! — отвечает Саид. — А вообще-то народ здесь ничего, хотя…
— Конечно, случаются недоразумения, но это не со зла…
Над Шарлеманем скрипит койка. То ли в ответ на его слова, то ли просто человек пошевелился. Шарлемань снова выворачивает шею, чтобы увидеть лежащего, и чуть не сталкивается с ним лицом к лицу. Поди узнай, что он думает…
— Будешь кофе пить? — спрашивает Саид.
Как бы снова не получилась неловкость, как вначале, — он садился на койку так, словно боялся блох… Должно быть, воду они держат в ведре или в кастрюле, где-нибудь здесь, в углу… Пил же он воду в армии из кружек сомнительной чистоты… Интересно, где они все-таки берут воду? Наверное, далеко… Из колонки около клуба? Что-то об этом я ничего не слыхал. Или где-то есть другая колонка или колодец? Ведь не берут же они воду из речки!.. Хороша там вода, сейчас особенно. Даже если вскипятить… А может быть, они ходят в Семейный?..
— Ну что ж, давай с удовольствием, — отвечает Шарлемань, пожалуй, слишком уж бодрым и простецким тоном: — Видно, ты уже привык к нашим обычаям! Даже кофе пьешь!
— Да нет! — ответил Саид суховато. — У нас, в Алжире, его пьют, наверно, больше, чем здесь!
— Да ну? — с недоумением спросил Шарлемань. — Удивительно! Ведь мы, кажется, побили все рекорды!
— Готов поспорить, — смеясь отвечает Саид, — хотя в драку ради этого не полезу.
Но улыбка его скоро гаснет, как в день их первого разговора возле томасовских печей. Шарлемань тоже не находит о чем говорить.
Сайд обращается по-арабски к лежащему товарищу, должно быть, предлагает кофе. Тот отвечает несколько дольше, чем нужно, чтобы ответить на этот вопрос.
Этого только не хватало, думает Шарлемань, они переговариваются, словно меня тут нет.
Снова несколько фраз по-арабски. Оба смеются. Шарлемань напрасно ждет, что Саид переведет ему разговор.
Где же у него кофейник? Слева от входной двери стол, покрытый куском зеленого в крапинку линолеума. Уголок его загнулся, видна черная, пропитанная жиром изнанка. На столе большой белый эмалированный кофейник со следами копоти и черным, обгоревшим дном… На чем, кстати, они готовят? Под столом не видно баллона с газом, на столе тоже. Кусок линолеума, прибитый гвоздями у порога, совсем другого цвета: блекло-коричневый в клетку…
— Нас трое… — говорит Саид.
Вот и все. Он запустил руку в большую картонную коробку, рваную и засаленную, на которой крупными буквами написано: «Кондитерская фабрика Беген, Тюмери», и вытащил из нее три белые пиалы.
Придется пить кофе из пиал, как за завтраком, думает Шарлемань. Но он уже не рискует сказать: «Вот как, у вас, значит, пьют кофе из пиал», опасаясь получить сухой ответ: «У нас другой посуды нет».
Надо все же прервать молчание.
— Ну, а когда идет дождь, как у вас тут? — Он указывает на потолок.
— С этим как раз благополучно, — отвечает Саид. — Крыша прочная.
Он ставит на стол три пиалы в ряд. Он отворяет дверь, выходит, возвращается с ведром воды и зачерпывает немного алюминиевым ковшом на деревянной ручке. Ковш в потеках старого кофе. Впрочем, в ведре вода всегда кажется черной. Интересно, неужели оно так и стояло без крышки? Саид наливает немного воды в пиалы. Может быть, у них так варят кофе? Нет, он просто хочет вымыть их. Саид полощет каждую пиалу и выплескивает воду в приоткрытую дверь. Он не спешит. Потом снимает тряпку с гвоздя… Ну что ж, тряпка всюду тряпка…
Ужасно, думает Шарлемань, я слишком внимательно присматриваюсь к мелочам. Еще немного, и у меня зарябит в глазах. Что это, простое любопытство? А что, если бы вот так же глазели на все у тебя дома? Да, но у Берты поди придерись…
— Он мне родня, — говорит Саид. — Он многое понимает, но говорить еще не может. Ну ничего, научится! Ты не знаешь Рамдана Мебарки? Это его брат.
— Так он брат Рамдама? Вон что…
Шарлемань снова запрокидывает голову, чтобы взглянуть на человека, лежащего наверху. Ведь «Рамдам», чье имя он неумышленно исказил, — его старый знакомый. Это мирный отец семейства, чернорабочий, который успел уже поработать во многих цехах завода. Сейчас он в доломитовом цехе. Его семья — жена и пятеро младших детей — живет в Алжире, здесь с ним только старший сын, который уже несколько лет учится в одном классе с сыном Марселена. По слухам, мальчишка способный — голова! Марселен всегда говорит: если бы не этот парнишка, то мой был бы первым! Но этого не обгонишь! Ничего не поделаешь!
— А что, у Рамдама так же плохо с жильем? Он по-прежнему живет в домике у шоссе на втором этаже?
Лежащий кивает головой.
— Он не понял, — говорит Саид. — Рамдан тоже перебрался сюда, в тот барак, что пониже.
— Со своим парнишкой? Почему?
Саид пожимает плечами:
— Откуда я знаю? О себе я могу тебе сказать, а в чужие дела не лезу.
Саид разогревает кофе. Кофе был сварен раньше в этом же алюминиевом ковше, на спиртовке, которую он вытащил из картонной коробки. Спиртовка крохотная. Вряд ли на ней много приготовишь…
Саид и его товарищ снова говорят о чем-то по-арабски.
Шарлемань переводит взгляд с одного на другого. Хорошее настроение еще не вполне угасло, но он уже явственно ощущает досаду. Если бы все неприятности ограничивались тем, что он свернул себе до боли шею. Но раз этот человек его понимает, почему хотя бы Саид не продолжает беседу по-французски?
Шарлемань не выдерживает и решительно, точно головой бросается в омут, вторгается в их разговор. Он говорит, не раздумывая, как бы непроизвольно:
— Да, вот что: раз уж мы заговорили о знакомых, не знал ли ты случайно Бен Тиди, Тайеба Бен Тиди? Тебе не известно, куда он девался?
— Да, я его знаю, — отвечает Саид. — Но понятия не имею, где он!
Саид наклонился над спиртовкой и стоит спиной к собеседникам. Вот он оборачивается, но не к Шарлеманю, а к своему родичу и продолжает с ним беседу. Шарлемань различает имя Бен Тиди, значит, речь идет о нем. Однако другой отвечает резким тоном.
Тут я иностранец, а не они. Непонятный разговор становится все более возбужденным. Спорят?
Кажется, будто один из них готов говорить со мной про Бен Тиди, но поди узнай который…
Шарлемань вытаскивает часы, но не смотрит на них.
Не уходить же опять, как в прошлый раз, чтобы потом ругать себя? У них свои дела, которые меня не касаются. Они могли бы быть поучтивее, говоришь? А война учтива? Ведь идет война. И пока он говорит, у меня в голове тоже бродят свои мысли… Я не только смотрю на них, я и думаю о них что-то… Вот уже месяц я таскаю с собой целый ворох мыслей о наших повседневных делах… Ведь я тоже как будто веду за их спиной тайную беседу с самим собой…
— Мальчишку Рамдана, — вдруг странным голосом говорит Саид, — отправляют на летние месяцы в профилакторий — так, что ли, это называется?
— Вот как? — отвечает Шарлемань. — У него что-нибудь серьезное?
— Еще бы не серьезно, — произносит Саид.
А директор школы, господин Ренар, рассказал вот что:
— Знаешь, Шарлемань, явился ко мне Рамдан в своей неизменной темно-коричневой вельветовой куртке. Когда я вышел из кабинета, я сразу узнал его по этой куртке, даже не взглянув в лицо. Он смирно сидел на скамейке в коридоре. (Этот темно-зеленый коридор, выложенный черными плитами, ничуть не изменился с тех пор, как Шарлемань пришел сюда перед выпускными экзаменами Робера, когда решался вопрос о его стипендии, с того самого дня, он еще забыл часы и боялся, что потерял их…) Словом, он ждал меня, не попросив доложить о себе, — не желал меня беспокоить. Я тотчас пригласил его в кабинет. В руках он вертел и мял свой берет…
Какой-то пустяковый инцидент произошел у нас с его сыном Мезианом, за что-то его наказали, я уж и сам теперь не помню. Отец прибежал взволнованный. Отцы у них очень суровы к детям, особенно к сыновьям. Дочери их меньше заботят. Но насчет мальчишек, будь уверен… К образованию сыновей они относятся всерьез!.. Понимаешь, для них это что-то новое… И сказать по правде, меня это радует, словно награда за мои труды. А нашим родителям все равно, учатся их пацаны или лоботрясничают.
Ну вот, он сел и молчит. Ждет, чтобы я заговорил, хотя он сам ко мне пришел. Это форма вежливости. Как ни странно, но они по-своему уважительны. Я что-то говорю, чтоб его успокоить.
И тогда он вдруг взрывается. Говорит очень быстро, машет руками, вскакивает, снова садится. В поведении сына он видит что-то постыдное для себя. А может быть, и для меня. Видит какую-то вину и хочет ее исправить. И вдруг… я говорю тебе, они суровы, но в то же время… словом, сам увидишь… Он сует руку во внутренний карман своей вельветовой куртки и вынимает оттуда бумажник.
— Вот смотри, мсье Ренар, они тут все у меня!
Уверяю тебя, я уже тридцать лет учительствую, но такое видел впервые… Он вытащил грамоты Мезиана, знаешь, грамоты, которые вешает на почетную доску. Подумай только, сам Рамдан читать не умеет, но постоянно носит их при себе…
Он как будто понял мои мысли и приложил руку к сердцу.
— Да, я ношу их тут!
Славный человек этот Ренар. И хотя в его голове застряло еще немало нелепых понятий, он все же очень неплохой человек… Теперь он рассказывает уже с чужих слов. Со слов мадемуазель Гужон, старой карги, типичной учительницы из школы для мальчиков, которая вечно ходит в черном, а зимой укутывается до самых бровей в черный шерстяной шарф, весь пропахший зелеными пилюлями от гриппа.
— Понимаешь, Шарлемань, если бы речь шла о заведомом озорнике, лоботрясе, я бы счел это серьезным проступком… А дело было вот в чем. Мадемуазель Гужон замещала меня два дня, пока я принимал экзамены. Она не знает этих ребят, не знает их жизни. Она явилась к ним, словно с луны свалившись. Посреди урока она обратилась к Мезиану и велела ему принести большую географическую карту из соседнего класса. Он холодно отказался. Или, вернее, просто не ответил, пожал плечами и не двинулся с места. Она ничего не поняла и хотела затеять целое дело. К счастью, она их побаивается, поэтому не стала наслаивать и решила дождаться моего возвращения. Но я-то ведь понимаю. Ее тон был слишком повелительным… Ей не понять, что он старший сын в семье и что для него подчиниться женщине…
Директор школы любит похвастаться тем, как хорошо он понимает обстановку. Но тут он прав: эти люди и в самом деле приглядываются, прислушиваются и размышляют и даже иногда задают вопросы.
А вот еще история, которую Ренар знает уже из третьих рук. Мать одного школьника рассказала ее мадемуазель Гужон, а та передала Ренару. Жизнь вообще сложная штука, а когда хочешь докопаться до сути, обнаруживаешь, что она глубже и многообразнее, чем кажется.
Так вот и получается, что даже такой сухарь, как мадемуазель Гужон, у которой первое столкновение с ними не вызвало ничего, кроме возмущения, теперь полна любопытства и желания их понять…
— Стоит представить себе, — добавляет Ренар, — кем станут эти мальчишки лет через десять и даже через пять…
Так вот эта женщина каждый день наблюдала, как мимо ее дома из Семейного поселка проходят брат и сестра. Девочке было лет одиннадцать, а мальчик выглядел на год младше. Девочка всегда шла впереди и несла два ранца, а мальчик шел налегке, играя на ходу.
Однажды женщина не стерпела и окликнула мальчика:
— И не стыдно тебе, что сестра таскает твою сумку? Такой большой парень!
Дети ничего не ответили и после минутного замешательства пошли своим путем. Девочка по-прежнему несла обе сумки, а мальчик плелся за ней с пустыми руками.
Женщина смотрела им вслед. Она увидела, как Мезиан сказал что-то мальчику, и тот взял у сестры ранец и понес его сам. Он явно не понимал, зачем это нужно, но все же понес его.
Понимаешь, надо представить себе, что происходит в голове такого парня — я имею в виду Мезиана… Ведь он и раньше видел, как девочка несет оба ранца, и не обращал на это внимания. Но вот он заметил неодобрительный взгляд. Потом кто-то из французов сделал замечание, и мальчик задумывается о том, как следует себя вести. Он уже ощущает какую-то ответственность за других, ты согласен? Ведь такого мальчика, как Мезиан, сами условия вынуждают развиваться быстрее, чем наши дети. Он один в семье грамотный, он сам расписывается в своем дневнике, сам пишет от имени отца записку учителю, когда не может прийти в школу… Ведь у них отец в доме хозяин в гораздо большей степени, чем в наших семьях, и все же мало-помалу это меняется, видишь? Ну, а кроме того, когда отец работает, парень подолгу остается один то днем, то ночью. Иногда утром они с отцом подходят к школе за час до начала занятий, потому что отцу надо быть на заводе в шесть утра. И поскольку зимой нельзя держать ребят на улице, школа открыта спозаранку, точно церковь… Да и все остальное влияет на них — аресты, ночные и дневные обыски. Рамдан, вероятно, в стороне от всего этого, он просто добродушный отец семейства, и тем не менее и его дети все знают и боятся так же, как взрослые… Им приходится все переживать вместе со взрослыми. Пожалуй, за всю мою жизнь у меня не было лучшего ученика, чем Мезиан, понимаешь? И когда я пытаюсь представить себе, каким он будет через два-три года, я вижу в этом мальчике будущего вожака…
…Шарлемань вспоминает, что при этих словах он поморщился. Лучший ученик… Выходит, лучше, чем был его сын Робер.
— Это очень хорошо, — говорит Саид, — потому что там он хоть подкормится! Такой способный мальчишка!
В эту минуту Шарлемань разглядел то, за что он, входя, зацепился фуражкой, и понял, почему он должен был нагнуть голову, словно задел паутину. Он услышал слабый вибрирующий звук и увидел натянутую наискось под сводчатым потолком свернутую спиралью антенну. Он скользнул взглядом от антенны по проводу, который спускался с потолка по стене к новенькому приемнику на этажерке. Рядом с ним отвертка, кусок тонкой медной спирали… Куда ни глянь, всюду провода: один идет от антенны, другой от приемника к патрону-жулику; с потолка свисает еще один патрон, прикрытый эмалированным абажуром. Патрон пуст, лампы в нем нет, как странно… Еще один провод идет вдоль потолка, кое-где замотанный старой изоляционной лентой, и уходит в дыру под крышей…
— У вас ведь нет электричества? — спрашивает Шарлемань.
— Нет, — усмехается Саид, — но мы как-нибудь устроимся через предместье.
Шарлемань прикусывает язык. Известно ли им, что это запрещено?.. Но ведь им так много запрещено… Ему не хочется быть заодно с теми, кто запрещает… И Шарлемань миролюбиво смеется вместе с Саидом.
— Знаешь, в Холостяцком тоже один счетчик на все бараки. Как-то они устраиваются.
— Вот именно, — отвечает Саид.
Словно угадывая мысли Шарлеманя, он добавляет:
— Сам видишь, закон всегда обходит нас… Вот получается, что и нам приходится его обходить.
Фургон прежде уже служил кому-то жильем, это заметно по многим признакам.
— Значит, проводка пока бездействует?
В общем, не так уж много здесь проводов. Они просто бросаются в глаза, потому что натянуты без изоляции прямо по стенам… и этот пустой патрон…
— Да, — отвечает Саид, — пока все это еще мертвое.
Его глаза следуют за взглядом Шарлеманя. И странно — гудрон на стенах кажется вдруг еще чернее. Терпеливое ожидание света, безмолвный приемник… Внезапно Шарлеманя охватывает ощущение, будто все это происходит где-то очень далеко или было очень давно…
— Временное, — странным тоном произносит Саид.
Чернота особенно бросается в глаза на выбеленных известью стенах. Это копоть от дыма, заводов, поездов, угольной пыли, которая сыплется с неба на дома и людей. Почернел даже дом молоденькой Байе, в котором уже нет больше мужчины и некому побелить его. По низу тянется темная полоса гудрона, она покрыта трещинами и отстает, обнажая старый кирпич. Но особенно досадно видеть почерневшие стены.
Позавчера, когда он ехал мимо, Одетта Байе подметала тротуар перед своим порогом. Он крикнул ей: «Здравствуйте!»
— Остановитесь на два слова, Шарлемань! — отозвалась она.
Он соскочил с велосипеда. У женщины был смущенный вид, она не знала, с чего начать. Он смотрел в ее светлые, как белая смородина, глаза и видел в них нерешительность. Они наполнили ему глаза Полины. Бедняжка, такая молоденькая, осталась одна… Наконец она решилась:
— Знаете, Шарлемань, я нашла свою курицу. Она просто сдохла, забилась за ворох бобовой ботвы у самой решетки в глубине сада. Какой-то зверек уже обглодал ее кое-где, но понимаете…
Она говорила извиняющимся тоном, словно оправдываясь перед ним. Или перед другими в его лице.
— Вот видишь, — сказал Шарлемань. — Мы всегда торопимся с обвинениями…
Он с удовольствием расцеловал бы ее. Ничто не вынуждало Одетту объяснять ему все это… Просто честность. Шарлемань потрепал ее по плечу. Она, должно быть, не старше Робера, а жизнь ее уже надломлена…
— Временное… — сказал Саид, словно не договаривая чего-то.
Шарлемань ждет. Что-то здесь должно произойти. Его беседа с Саидом то и дело прерывается непонятным разговором по-арабски; вопросы, теснящиеся в его голове, требуют ответа…
Шарлемань решается пойти в наступление:
— Послушай-ка, Саид, теперь, когда мы с тобой уже знаем друг друга…
Он, кажется, слишком торопится. Но он не забыл их первой встречи на заводе…
— …теперь-то ты можешь признать, что морочил мне голову в тот раз, когда говорил, будто шпики, мол, должны делать свое дело…
— Да разве ты не видел, Шарлемань, как Майяр таращил на нас глаза, когда ты подошел ко мне?
— Я, дурак, только потом догадался! — с безмерным облегчением вздохнул Шарлемань.
Это правда… им приходится быть все время начеку. Когда была война, нам тоже приходилось думать об осторожности, но мы были дома и нас окружали свои… А они, что там говорить, чувствуют себя здесь в чужой стране.
— А иногда, — усмехается Саид, — приходится прикидываться дураком.
— Уах хаб икуль «дураком»?
— Бхим.
— Ну сейчас я, кажется, понял, — вслух сказал Шарлемань, как бы упрекая Саида за все эти непонятные ему разговоры по-арабски.
Саид продолжает, словно не слыша:
— И вот, когда прикидываешься дураком…
Родственник Саида снова обращается к нему по-арабски. Саид что-то объясняет ему.
Наконец Саид переходит на французский:
— Когда мы прикидываемся дураками, некоторых это вполне устраивает…
Из «бассейна» раздается громкий крик.
Кричит мужчина, в его голосе звучит бешенство, а может, и страх.
В первый момент показалось, что произошел несчастный случай. Но тут же послышались смех, возня и беготня.
Тут уже незачем и обходить печь, и так понятно, в чем дело. Опять Норе Руффен сыграл какую-нибудь шутку над своим дружком Мулудом. Мулуд гоняется за ним, и, если ему удается настичь Норе, он тузит его кулаками, сначала всерьез и со злостью, а потом, по мере того как утихает его гнев, все слабее и слабее.
— Да брось, черт тебя дери! Я же пошутил! — кричит Норе.
Он втрое сильнее Мулуда и позволяет ему колотить себя. Он втягивает голову в плечи, пока тот барабанит кулаками по его спине, и хохочет до слез, довольный собой, своей силой и тем, как ловко он подшутил над дружком…
— Да брось же, образина алжирская!
Их водой не разольешь, Норе — мастер-плакировщик в так называемом «бассейне» — в нижней части мартеновского цеха, а Мулуд — чернорабочий по очистке металла от окалины в первом мартеновском, там, где работает Шарлемань. В один прекрасный день Мулуд нашел в кармане своего комбинезона кусок свиной шкуры. А в другой раз в бистро Норе схватил его сзади и сунул ему в лицо бутерброд с ветчиной.
Может быть, Мулуд тоже иногда прикидывается дурачком?
— Да ну тебя со всеми громкими словами, подумаешь, расизм и всякая там чепуха, — защищается иногда Норе, когда его упрекают товарищи. — Как раз наоборот! Мы ведь друзья, вот я и подшучиваю над ним! Мы шуток не боимся, верно, Мулуд?
Но Мулуд не отвечает вовсе или бормочет в сторону:
— Ты просто болван! Другого такого не сыщешь!
…Интересно, произойдет ли что-нибудь между ними? И кто начнет? Саид или тот, с верхней койки?
На деревянной стене фургона висит, привлекая взгляд, портрет женщины в необычной рамке. Рамка вырезана из посеребренного ажурного картона, зеленые полумесяцы, точно рожки, выступают по бокам портрета и над ним. Серебро рамки ярко сияет на черном гудроне стены, но зеленый не гармонирует с серебром. Впрочем, это на наш вкус, а им, наверно, это кажется красивым!..
По углам рамки прикреплены маленькие, смутно различимые фотографии. Некоторые покоробились, скрутились и заслоняют края большой фотографии, на которой изображена молодая женщина или девушка. Округлое, смуглое, нежное лицо. Я видел ее, я где-то определенно ее видел…
— Это наша семья, — говорит Саид, показывая пальцем на маленькие фотографии. — Мать, отец, а это еще один брат Рамдана…
Он прекрасно видит, что я больше всего смотрю на портрет женщины, но словно забывает упомянуть о ней. Спросить о ней я не решаюсь.
Чуть повыше фотографии на нитке, зацепленной за кнопку с зеленой шляпкой, висит странный предмет. Десятка два сухих колосьев сплетены и. образуют подобие герба. Наверно, просто украшение, безделушка. Золотистые стебли говорят о хлебе, а выпуклые плотные колосья жмутся друг к другу, точно человечки. А мой остролист… и чертополох Берты… Не так уж все это отличается одно от другого… Видно, не только у нас, стариков, бывают причуды…
— Смотри-ка, из-за них не только крысы к нам лезут, но и эти святоши! — закричал Марселен, подходя к заводу.
Вчера они встретили двух мужчин, должно быть скаутов, в коротких штанах, в грубых подкованных бутсах, в толстых шерстяных носках с голыми коленями и бородами миссионеров. Да, такого в этих краях еще не видели.
На груди у них болтались на веревке лакированные деревянные кресты наподобие раскрытых ножниц на шее у портнихи.
Один был весь рыжий: шевелюра и борода и густая шерсть на ногах и на груди.
— Чуть только где случится беда, они налетают, как воронье!
— Словом, священники в штатском!
— Ты уверен, что это священники?
— Похоже, что так!
Пятеро или шестеро скаутов расположились на краю Семейного поселка, вбили толстые колья, деревянные, как и их кресты, натянули веревки в палец толщиной и поставили огромную грязно-зеленую американскую палатку военного образца.
— Какие-то филантропы вроде аббата Пьера.
Их появление послужило поводом для шуток перед началом смены.
…На полу лежит овечья шкура, пыльная, как все овечьи шкуры. Двадцать, двадцать пять лет назад их можно было увидеть в этих местах не так уж редко. Их клали вместо коврика у кровати и подстилали малышам. Теперь овец здесь не увидишь. Они почти исчезли. За последнее время алжирцы начали разводить их вновь. Вот откуда взялись в речке бараньи головы… А недавно чья-то овца общипала всю душистую траву, что Аньес Обри выращивает для приправы.
Да вот еще что: на крохотном столике с выгнутыми ножками, словно сделанном специально для этой цели, стоит аравийская роза.
— Ты давно не ездил к себе… домой? — спрашивает Шарлемань.
— Я ни разу туда не ездил, — отвечает Саид.
— Сколько лет уже прошло? Сколько лет?
— Девять лет, — раздался сверху голос лежащего. После недавних заверений Саида Шарлеманя удивил этот резкий звучный голос, говорящий по-французски. А сам Саид колебался, должно быть высчитывая годы.
— Ну он-то был молод, — ответил Шарлемань лежащему, кивая на Саида. — А вы, наверно, были женаты?
Человек кивнул головой: да, разумеется.
— Даже дважды, — добавляет Саид. — И дети есть.
Он круто поворачивается спиной к Шарлеманю и с преувеличенным вниманием складывает и убирает спиртовку. Кофе готов, даже немного перекипел. Он все еще бурлит в кастрюльке с неровным дном, которую Саид поставил на вздутый линолеум стола. Ну и кофе будет после этого кипячения… А у спиртовки, оказывается, складные ножки.
— А вообще не стоит об этом разговаривать, — говорит Саид, по-прежнему стоя к нему спиной.
Человек наверху, на которого взглянул Шарлемань, делает ему знак рукой, как бы советуя: оставь, не стоит говорить об этом.
— С печкой у вас неважно… — произносит Шарлемань, меняя тему.
— Купить мы не можем, — тотчас охотно откликается Саид, — ведь для нас кредита не существует.
— Да, правда, — соглашается Шарлемань, который, впрочем, и не подозревал об этом.
— Если ты итальянец, например, и хочешь купить мотоцикл, ты идешь в гараж к Мартинесу, и он продает тебе в кредит, и сделал бы то же, даже если бы он сам не был испанцем. У меня в городе есть родич, и вот они с одним парнем сложились вместе, чтобы купить в кредит мотоцикл. А Мартинес этот и говорит им: «Не могу». Так и сказал: «Не могу». Для такого случая мы не французы…
— А к старику Клодомиру они не ходили? — невольно вырвалось у Шарлеманя, и он тут же пожалел, что подвел старика.
Но Саид пожимает плечами и говорит со вздохом:
— Видишь ли, Шарлемань…
Ни разу сегодня он не назвал его «мсье Шарлемань», как тогда в цехе. Зато, здороваясь с ним возле фургона, он приложил руку к сердцу с легким поклоном, на заводе он этого не делал.
— Если зимой тебе понадобится…
Шарлемань мысленно заглянул в старый курятник в глубине своего сада. Там у него стоит что-то вроде печурки, еще с давних времен. Это просто массивный чугунный таган на треножнике, и сверху решетка, вот и все. Не печка, а скорее жаровня, годится, чтобы стряпать во дворе. Она проржавела и от воздуха, и от дождей, и от долгого употребления…
— …у меня есть одна штука, хотя…
— Нет, нет, не стоит! — отвечает Саид. — Да и до зимы еще далеко!
Он остановился и на этот раз прямо взглянул в лицо Шарлеманю. Что за мысли возникли в этот момент у него в голове, что он хотел сказать?..
Разве можно дарить старье? Но ведь все же лучше иметь такую печку, чем ничего. Ведь сами-то они покупают старье, когда нужно…
По утрам в воскресенье на маленькой площади у клуба они устраивают мелкую торговлю и обмениваются подержанными вещами. Пока их собирается немного, но со временем здесь наверняка будет барахолка. Приходит торговец со складным столиком, достает из ободранного чемодана разную мелочь, пользующуюся у них спросом, и особенно свежую огородную мяту, сейчас как раз сезон. Если у них есть клочок земли, они сеют почти одну только эту мяту… Когда разотрешь ее пальцами, она хорошо пахнет. Совсем не так, как та головка мака, которую он мял в руках в тот раз… Вот разложен товар: мята, маленькие картонные коробки с арабскими надписями и этикетками, на которых изображены женщины в покрывалах с огромными загадочными глазами. У арабских женщин только и видишь, что глаза. Но зато эти глаза… Словом, и тут повсюду реклама, все приукрашено. У нас для любой рекламы, будь то пиво или покрышки для грузовика, предпочитают голые ноги и красивые плечи. У них реклама не столь изысканна, и, вероятно, эти коробки годами стояли на полках бакалейных лавок, а может, и под палящим солнцем: краски выгорели, по уголкам виднеются сырые пятна с желтыми разводами. А что внутри? Такая же тайна, как чужие души. Но и в этих бедных картонных коробках целый мир… В них порошок, которым они натирают ладони и ногти, как соком жевательного табака, и которым посыпают волосы… Там и различные пряности, приправа для их скудной пищи, разного сорта перец, пакетики с крупой, розовый и белый рахат-лукум, горшочки с красным перцем в масле или с оливками. Желтые и зеленые стаканчики, украшенные полумесяцами… Норбер уже жалуется на эти сборища. Он говорит, что шум распугивает голубей, мешает состязаниям. Голуби кружат над голубятней, не решаясь сесть. А когда сядут, то не сразу идут в свое окошечко, а подолгу топчутся на крыше. Однажды чей-то крик так вспугнул его знаменитого белого голубя, когда тот уже пробирался в голубятню, что он снова взлетел в небо. Такого еще не случалось. И теперь перед возвращением голубей приходится подходить к толпе, шикать и просить: «Тише, друзья!» К счастью, они пока еще считаются с такими просьбами.
В ожидании голубей мы прислушиваемся к их говору… Для нас что арабский язык, что древнееврейский — одно и то же. Но иногда то тут, то там в их речи слышатся знакомые слова и обрывки фраз.
— …Если уж ты попал на завод, то мыкайся, как я, например, на цинковальном… Мне-то наплевать… А капитан так и не позволил ей, моей жене, приехать сюда… Если пойдешь к бакалейщику… вздумаешь купить кусок мяса… Жилье у меня ни к черту, ну просто ни к черту не годится! Раньше там был хлев, настоящий хлев!.. Стираю сам, жены нет… Когда я вернусь в Алжир, я буду работать от зари до зари, но уж стирать не стану!..
Посмеяться немного не грех, что тут такого? А если охота, послушай, как говорят наши:
— Поди сюда, милок, присядь-ка на тротуар… Погода ни к черту… Глянь-ка, что они делают! Им, видно, невтерпеж, у них одно на уме: забраться в стог сена да потискаться!.. Катитесь-ка вы все к чертовой бабушке!.. Его как швырнет прямо на трамвай, колесо велосипеда проехалось по рельсам, а сам он плюхнулся в канаву и заляпал грязью всех прохожих, слышал бы ты, как они раскудахтались… Вот и суди, как хочешь!..
Так что если уж смеяться, то посмейтесь и тут…
— Оставь, я сам, — говорит Шарлемань вставая.
На столе стоит пиала с горячим кофе. Он вспоминает о том, как странно отвернулся от него Саид в тот момент, когда он уже готов был сказать ему: «Ну, а тебя я даже не спрашиваю. Девять лет назад ты был слишком молод, чтобы жениться».
— Оставь, я сам возьму, — говорит Шарлемань.
Его слова относятся только к кофе: оставь, мол, я могу сам себя обслужить… и на ходу он кладет широкую руку на плечо Саида и треплет его, словно желая утешить или подбодрить.
С чашкой в руках он садится, ибо каждому известно, что пить стоя — дурная примета и предвестник ссоры.
Но Саид этого не знает и пьет свой кофе стоя, прислонившись плечом к верхней койке.
У каждого народа свои поверья. Они так же не известны постороннему, как содержимое этих коробок. Вот почему они так интригуют взгляд… Пока все непонятно… Сначала открывается лишь то, что снаружи. Что, например, у Саида на ногах? Голубые кеды с грязными резиновыми кружками на лодыжках. А где вязаный шлем, в котором Шарлемань встретил его в разгар лета на заводе, правда шлем был подвернут в виде фуражки, но все же?.. Конечно, на заводе вечные сквозняки, и все же чудно… А вот и он, висит на гвозде над койкой… вязаный шлем защитного цвета… Когда перед тобой француз, то любое, самое неприметное его движение тебе понятно, и ты в точности знаешь, что за ним кроется. Ты обращаешь внимание не столько на самый жест, сколько на смысл этого жеста. А здесь ты, знакомясь с человеком, чувствуешь себя, словно в начальной школе, повторяешь «а», «б». Ты приглядываешься к окружающим вещам и явлениям, даже к этим крысам и баранам, потом подходишь ближе, разглядываешь одежду, черты лица… И все. Кончено.
Перед тобой лишь внешние предметы, а за ними глухая стена. Сюда не войдешь. Это и называется быть иноземцем.
Внешние признаки… По выходным дням молодежь в ослепительных сорочках именно выходит, ибо как раз в тот момент, когда парни выходят из своих бараков, контраст особенно бросается в глаза. Белые новые рубахи, без пятнышка, без морщинки. Из тени убогих лачуг выходит и сияет на летнем солнце вся эта белизна. С закрытым воротом и часто при галстуке. Кроме того, у них пристрастие к запонкам. Они выглядят немного мешковатыми и даже чопорными, когда идут, застегнувшись на все пуговицы. В этом чувствуется что-то демонстративное…
Светлые рубахи охотно собираются вместе. С тех пор как их появилось много в Понпон-Финет, они стали собираться здесь на углу клубной площади. Как раз напротив того места, где мы усаживаемся на корточки у стены в воскресенье утром и смотрим на голубей Норбера. Мы выбрали это место по тем же причинам, что и они. Высоко, не слишком застроено, с одной стороны домов нет совсем, а впереди открывается красивый вид на Шельду и поля за нею. Здесь много воздуха. Кроме того, никогда небо не кажется таким высоким, как в те минуты, когда ждешь голубей. А когда опускаешься на корточки — небо кажется бездонным. Даже чудится, что здесь больше воздуху.
— …Еще сахару? — спрашивает Саид с усмешкой, как всегда, когда он произносит слова с местным акцентом.
Лежащий что-то отвечает со вздохом и протягивает Саиду пустую пиалу.
— Он и впрямь придает силы! — вставляет Шарлемань, чтобы показать, что он понял.
По сути дела, различие в языке — это ерунда.
— Тем более что он… — И Саид снова не договаривает фразу.
— Что он?
И когда Саид смотрит на своего родича, Шарлеманя вдруг охватывает уверенность, без всякого, впрочем, повода, что именно сейчас и произойдет то, что он давно предчувствовал и ждал.
— Он сегодня но работает, — договорил Саид.
— Ага, значит, он отдыхает!..
И тут же Шарлемань чувствует, что сморозил очередную глупость.
— Он ложится и отказывается от еды, — продолжает Саид.
— Да ну?
— Говорит, что раз он не работает, то и есть не будет.
Саид ставит все три пиалы одна на другую — все одинаковые. Поди теперь разберись, которая моя…
— …Ты же знаешь, мы стараемся послать домой как можно больше, а кроме того…
Кроме того, мысленно продолжает Шарлемань, они собирают деньги, делают взносы. Это уж наверняка. Что же им остается на жизнь?
Человек резким движением сел на койке и, придерживая одеяло над голым животом, заговорил по-арабски. Он был явно рассержен на Саида.
— Он считает, что стыдно рассказывать об этом, — проговорил Саид. — А мне ничуть не стыдно, наоборот.
Шарлемань не находит слов, он чувствует себя очень далеким от их жизни.
— Да, мы живем грязно и бедно! — говорит Саид, распаляясь, словно вторя своему товарищу. — Но я думаю, что такой бедностью мы можем гордиться!
Ответить? Но что? И как? Со снисходительным видом буркнуть: «Нужно все-таки есть хоть немного…» Но это просто нелепо. А главное — Шарлемань чувствует, что не имеет права давать советы.
— …Все это временно! — заканчивает Саид.
На этот раз наступило настоящее молчание.
Наконец Шарлемань вытаскивает часы, как всегда в минуты замешательства… Удивительно, что со времени прихода в фургон прошло всего пятнадцать минут.
— Ладно! Мне пора… Ну, мы теперь знакомы.
II
Вторые четверть часа — месяц спустя — это рассказ о пытках в Понпон-Финет.
— Если говорить правду, то мы их сообщники!..
Он вспоминает, как на том собрании людям изменила их обычная сдержанность. Шарлемань явился как раз, когда Кристиана начала говорить. Он торопливо пробрался на пустое место слева от нее. И сразу заметил, какие у всех бледные лица, особенно у Роберты Сюрмон. Кристиана тоже была бледна, а те, кто близко знал ее, почувствовали чуть заметную дрожь в ее голосе.
— Что случилось? — спросил он шепотом, нагнувшись к своей соседке слева, Клементине Ваткан.
— Ничего, — удивленно ответила она. — Почему ты спрашиваешь?
Он не мог понять. Он пропустил начало собрания, когда Кристиана, вероятно, спросила: «Начинаем?», затем прошло несколько секунд, прежде чем она заговорила, дожидаясь, пока все усядутся и шум затихнет… В эти несколько волнующих секунд лица вокруг замирают в ожидании, точно холмики удобрения на весеннем поле… все зависит от погоды… Поднимется ветер и принесет с собой ночной дождь. Тогда не придется их раскидывать, они растекутся сами ровным слоем по всей почве… Вот еще, не хватало только сравнить людей с навозом!.. Но удобрения не навоз, это вещь чистая. Они только и ждут, как бы раствориться в воздухе, в воде.
Кроме этой неприметной дрожи, в выступлений Кристианы не было ничего необычного. Правда, вот еще что: в зале собралось не меньше тридцати человек. Многие из них очень редко приходят на собрания. Шарлемань скоро нашел этому объяснение: по крайней мере четверть присутствующих живет на улице Буайе. Иной раз достаточно одного энергичного человека, чтобы увлечь за собой всех остальных… Но что-то он не припомнит таких активистов на этой улице!..
Само слово Алжир всегда связано с бедствием. Раз десять здесь, в подсобном зале при кабачке Занта, пытались организовать собрание жителей квартала. Один раз народу собралось больше, чем сегодня, вдвое или втрое больше, главным образом коммунисты. А то бывали случаи, когда почти никто не являлся. Стояла зима, пронизывающий холод… Так и расходились ни с чем.
Впрочем, назвать этот сарай подсобным залом при кафе — явное преувеличение. Летом еще туда-сюда, но вообще-то это просто прачечная. Старый сарай со стенами из неоштукатуренного камня и потолком из изореля. По стенам на гвоздях висят связки сухих стручков, пучки лука-шарлота, сухие апельсиновые корки, нанизанные четками, вывернутая и набитая соломой кроличья шкурка. Когда-то здесь устраивались петушиные бои. Деревянные скамьи, на которых сейчас сидят, служили тогда трибунами для болельщиков. Если поискать, то, по всей вероятности, можно найти давние следы крови. От этих петушиных боев в памяти остается больше всего именно кровь. Раскормленные петухи плюются кровью, смачные, прямо мужские плевки шлепаются на цементный пол. И не поймешь, то ли багровые перья летят во все стороны, то ли алые брызги. Бывают петухи с перьями дивной раскраски, рослые и настоящие храбрецы. Даже сидя в мешках, подвешенных на спинки стульев, они горланят на весь кабачок так, что рюмки дребезжат на подносе…
…Ну а теперь это всего лишь прачечная. Слева от двери за спинами посетителей находится большая цементная раковина с длинным резиновым шлангом, надетым на кран, чтобы не было брызг. Внизу, под раковиной, вдоль стены пробит желоб, в котором постоянно стоит затхлая вода со следами синьки. В правом заднем углу опрокинута большая деревянная лохань с остатками стирального мыла, черного, точно смазочное масло. Рядом с ней сидит старик Дескоден и непрерывно жует табак. Сколько раз его просили хоть во время собраний быть поаккуратнее, но ничего не поделаешь: уж кто жует табак, тот плюет… У Занта хорошо знают: старик обязательно будет плевать. Ему, как видно, нравится вызывать у людей чувство брезгливости. Цементный пол вокруг него весь покрыт рыжеватыми сгустками… Можно подумать, будто у него кровохарканье. Точно перезрелые сливы, которые осыпались вокруг дерева и треснули, падая на землю. И зря старается Зант, подвигая прямо к самым сабо старика плевательницу, полную свежих опилок. В кафе рядом с ним обычно никто не садится. Но здесь отодвинуться некуда: слишком тесно. Сидя за своим столом, Шарлемань мог бы, слегка привстав, пожать руку входящему. Впрочем, хоть это и возможно, никто этого не делает. И без того каждый опоздавший привлекает всеобщее внимание, щеколда застревает и хлопает, дверь шаркает о цемент пола, стекла в окнах звенят, все оборачиваются. Ради большего спокойствия на двери и на окнах висят на белых шнурах белые занавески в ржавых пятнах от железных колец. Словом, обстановка привычная, и только лица необычно бледны.
И слова Кристианы были вполне будничными, как показалось Шарлеманю. До той минуты, когда она сказала:
— Ну вот, а теперь поговорим о том, что сообщили нам наши друзья с улицы Буайе, они сейчас сами нам расскажут об этом.
Едва она закончила фразу, как поднялась Роберта Сюрмон, служащая отдела общественной помощи. Бледная как полотно, с перекошенным лицом, она стала швырять в лица сидящих отрывистые фразы:
— …Да, если говорить правду, то мы все их сообщники! Немцы хотя бы не знали! Не знали о концлагерях! Они же первые в них и погибали! А мы-то знаем, что на другом конце улицы пытают людей, прекрасно знаем, и…
Роберта Сюрмон упала на скамью. Продолжать она не могла от подступивших к горлу рыданий…
Сообщники… Немцы…
В эту минуту Шарлемань не узнает больше своих товарищей. Какие чувства охватили их — гнев или страх? Теперь он понимает, почему пришли жители с улицы Буайе. Ведь как раз на улице Буайе расположен филиал полицейского участка… И хотя Роберта Сюрмон не живет там, но понятно, что… Со всех сторон раздаются голоса, поднимается шум.
— Прошу извинить меня, — сказал Шарлемань своим сильным голосом, — я опоздал к началу собрания. Что случилось?
Минуты, наполненные огнем и кровью. Все выступает на поверхность: все крайности, которые обычно жизнь топит своей плотной массой, заглушает, скрывает, раскидывает меж повседневных мелочей, разбивая связь событий, все жестокости последнего месяца и другие, прежние, о которых он знал, и те, что внезапно открылись ему сегодня, — все они обступают его, сталкиваются друг с другом, молниеносно спаиваются воедино в ярком свете невидимого паяльника, в свете сердца, раскаленного добела. Его лицо, как и все другие лица, покрывается бледностью, отсветом уродливой действительности, сведенной к самой своей сути, к трагедии… В его мозгу проносится огненная вереница пожаров…
Сообщники… Немцы…
Через два-три дня после прихода Шарлеманя в фургон произошел ночной пожар.
Так всегда бывает, когда проблема настоятельно требует внимания. Все как будто разрозненные случайности вовлекаются в ее русло.
Валентин Корнет вернулся с завода. Дома у него все спали. Через полуоткрытую дверь кухни доносилось дыхание спящей дочери. Губы ее то слипались, то размыкались во сне, как у ребенка. Ему померещился внизу какой-то необычный свет. Сначала он подумал было, что в оконном стекле отражаются заводские огни. Он только что ушел от них, разбитый после ночной смены. Он был сыт ими до отвала. Однако он знал, что не заснет при всей усталости, если ляжет сразу. Нужно немного подождать, пока кровь утихнет, посидеть тихо и неподвижно на стуле в кухне или же постоять в саду, глядя на небо… Он не сразу сообразил, что это за огонь, но затем услышал крики, доносящиеся оттуда, снизу…
Он еще подумал, как бы разбудить своих, не перепугав их. У него хватило выдержки войти в дом и осторожно разбудить всех. Потом он выскочил на улицу и заорал благим матом:
— На помощь! На помощь!
Он не стал никого дожидаться. Он помчался через рытвины и ухабы по склону, поросшему высокими травами. Он опрометью несся, не переставая вопить:
— Пожар! Горим!
С размаху он перепрыгнул через речку, почти неразличимую во тьме и заметную только там, где в воде отражался слепящий свет завода, всю ночь пылающий в гранатово-розовом небе, словно закат накануне ветреного дня… Корнет свалился по другую сторону речки в густую траву между ям и кочек, под каблуком хрустнул осколок стекла, хорошо еще, что не сломал ногу, а ведь ему не двадцать лет… Он помчался дальше, спотыкаясь и вытянув перед собой руки, затем упал ничком на землю, на камни, на разбитые бутылки, на крышки консервных банок, на ржавую проволоку, которые валялись повсюду. Сам не зная как, он неожиданно встал на ноги, почувствовав резкую боль в пояснице, словно что-то там надорвалось, он невольно схватился за это место рукой, но и не подумал остановиться, довольный, что стоит на ногах. Куда труднее было бы карабкаться по этому склону вверх, а ведь он и на спуске задохнулся… Позади него наверху уже раздавались возбужденные голоса, а впереди отчетливо виднелось пламя. Оно быстро разрасталось, и не только потому, что он подходил ближе. Оно все равно казалось ничтожным по сравнению с обычным ночным заревом завода, уже давно и равномерно охватившим весь небосклон. Но на это зарево никто не обращал внимания, все к нему привыкли, а здесь, внизу, может быть, горели живые люди…
Сверху с края предместья слышались крики:
— В Семейном пожар!
— Внизу горит!
Открывались окна, двери, в домах зажигался свет…
Вблизи огонь пожара был все-таки ярче, чем огни завода. За какие-нибудь несколько минут воздух раскалился донельзя. Горели два стоящих рядом барака, где жили четыре семьи, крыши уже обвалились, вынести ничего не удастся. Через пять минут все станет уже не красным, а черным.
Вспыхнуло в один миг, как солома. Теперь уже не поможешь, только бы спасти соседние бараки. К счастью, нет ветра. Огонь устрашающе гудит, так и кажется, будто это шум урагана, который невольно заставляет вздрогнуть. Горячий воздух тянет, как в печной трубе…
Сообщники…
А люди? Все успели выйти из бараков. Второпях забыли трехлетнюю девочку. Она спала и ничего не слышала. Мать бросилась за ней и вынесла ее на руках, и тотчас за ее спиной рухнула крыша. У огня свои причуды.
Здесь огнем никого не удивишь… Но на заводе он укрощен и почти никогда не выходит из повиновения, он заперт, заключен в искусственное русло. Здесь же от него можно ждать чего угодно.
Все выстраиваются в цепочку, ведер не хватает. Воду качают из маленьких кухонных колонок. Если быстро качать, вода идет равномерно и сильно. Но известную скорость перейти все же нельзя. Кому-то пришло в голову облить стены барака, ближайшего к пожару и еще не тронутого. Выплескивают ведро за ведром. Вода сверкает и струится в багровом свете пламени. Словно густая алая кровь стекает до крыше и стенам…
Наконец прибывают пожарники. Оказывается, здесь никогда не было противопожарной колонки. Сколько они провозятся, пока найдут в темноте тропу, ведущую к Шельде, пока развернут рукав, да и хватит ли его длины?..
Последнее слово осталось все-таки за пожарниками. Прямо детская игра! Огонь был потушен мгновенно, так же быстро, как занялись эти карточные домики, так же быстро, как сгорает папиросная бумага, взлетающая вверх в собственном пламени.
— Задержись вы еще немного, и, пожалуй, было бы слишком поздно!
От залитых углей и дымящегося гудрона несет тяжелым запахом. Еще тлеют два багровых очага, бросая отблески на лбы, глаза, скулы, подбородки, изредка выхватывая из тьмы все лицо целиком, и все же можно узнать друг друга.
Немцы…
Все здесь, все прибежали вслед за Корнетом. Нет только тех, кто работает в ночную смену, — Шарлеманя, Норбера, Эме. Но Биро, Марсель, Леонс Обри здесь. В основном пришли мужчины. Даже Фернан оставил свою слабоумную в одиночестве и примчался. Со стороны шоссе пришли Рафаэль, Октав, Зант, издалека явились старый Иеремия, Жан Девошель, Клодомир, Байе, Мар-со Байе, брат погибшего… Кое-кто, трое или четверо, пришли с женами. Можно ссориться, можно недолюбливать соседа, но, когда случится беда, все бегут… Сломя голову, задыхаясь… В незастегнутых рубахах… Рафаэль не успел даже засунуть ее в брюки, кое-кто прибежал в трусах и майке, а кто и полуголый, с блестящим от пота телом… Многие бежали по шоссе босиком или в сабо на босу ногу.
— Если бы горели французы, они бы приехали быстрее!
— Кто это сказал?
— В темноте все храбрые!
Ругают пожарников, как всегда.
— Когда у меня сажа загорелась в трубе, они нам устроили настоящий потоп!
— Да уж, недели две понадобилось, чтобы выплыть на поверхность!
— Не годится так говорить!
— Плохо вы о нас судите! Стоит надеть форму, и каждый про тебя несет все что в голову взбредет!
— Ведь дома эти на деревянных столбах, перегородки тоже деревянные! Вспыхнули как порох.
— Да и внутри-то пусто! У них же ничего нет!
Четверо мужчин из этих бараков были, в ночной смене. Остались четыре молодые женщины и старуха. Им принесли одеяла укутаться. Детей оказалось четырнадцать на четырех матерей — не шуточное дело. Самому старшему мальчугану десять лет. Вначале насчитали тринадцать. Кто-то заметил, что это число приносит несчастье. Тут-то и спохватились, что забыли в доме девочку… Вот и не будь суеверным после этого! Из соседних бараков высыпали женщины в розовых и голубых нейлоновых рубашках, с распущенными, шоколадного цвета волосами, на каждой поблескивает ожерелье из медалей, позолоченных или золотых, хотя вряд ли…
А мужчины?.. Их и не видно. Правда, они были здесь, когда горело, передавали ведра по конвейеру. Пришли они и из ближних бараков, и из Холостяцкого лагеря, и какие-то неизвестные, живущие, должно быть, в лачугах… Как только опасность миновала, они исчезли. В ночной темноте стояла странная компания — французы-мужчины и алжирские женщины. Женщины понемногу расходятся в свои освещенные дома с открытыми окнами. Мужчины не смеют следовать за ними и топчутся в нерешительности, стоя в жидкой грязи.
Потом раздаются окрики, возгласы возмущения. Все тянутся туда, откуда доносятся громкие голоса. Оказалось, что два жандарма подъехали на велосипедах, быстро осмотрелись и тут же потребовали документы у одного из алжирцев. Говорят, он протестовал.
— Быстро же они примчались, быстрее, чем пожарники! — говорит Октав.
— Но у меня-то есть право с ними говорить, со шпиками! — вставляет Марселен. — Мой парень как раз сейчас воюет в Алжире!
Но говорить с ними ему не пришлось. Они отдали документы алжирцу, оглянулись кругом, чтобы убедиться, что подозрительных лиц нет, и, успокоенные, направились в бараки, где разместились погорельцы, пересчитали их…
Пожарники собирают кишку, лестницы, не понадобившиеся им носилки и прочий реквизит, гасят прожекторы и включают фары своих длинных красных автомобилей, которые, с трудом маневрируя, разворачиваются в узких закоулках. Как после больших банкетов остаются горы немытой посуды, так и здесь осталось немало грязи, которую развезли пожарные… Жандармы управились раньше и, допросив кого надо для отчета, спокойно убрались восвояси.
Приходится скрепя сердце последовать их примеру. Здесь больше делать нечего. Так или иначе, ночь пропала, заснуть уже не удастся. Участвуешь ли ты в общем разговоре или лежишь один в темноте, ты слишком взбудоражен пережитым волнением и сон не идет. Стоит вспомнить бешеный бег в темноте вслепую по траве и через кустарник и лихорадочные движения рук, передающих ведра с водой, и сердце снова начинает учащенно биться и дыхание замирает в груди…
Назавтра Клементина Ваткан и Серж Бургиньон уже с утра явились на место… И прежде, когда она работала ткачихой, Клементина ради такого случая пропустила бы свою смену. А сейчас и подавно, ведь теперь она просто домохозяйка, как она говорит, подтрунивая над самой собой. А он, священник-расстрига, живет с ней. Нельзя сказать, что его сманили любовные утехи, как легко подумать о расстриге, не такой уж он охотник до женщин. Он сошелся с ней по сердечному влечению и от духовной близости. Разумеется, у него не было никакого ремесла, он не был приспособлен к работе, но он проявил мужество и пошел чернорабочим в доменный цех. Конечно, не ради проповедей, к этому он теперь равнодушен. Это не значит, что в нем не сохранилось ничего от времен его молодости, его черной молодости — как ни странно это может показаться, но именно такова она была. А теперь он служит, все-таки у него есть образование. Ходит он, как и раньше, в берете, одет большей частью в серое, и руки его по-прежнему выразительно движутся… Иногда Клементина бьет его по пальцам, то добродушно, то сердито — в зависимости от настроения. Он тотчас убирает их, продолжая говорить, потому что говорить он мастак… С Клементиной у них нескончаемый спор. Они беспрерывно обвиняют друг друга: он считает, что она видит в работе отдела содействия только политическое содержание, она же утверждает, что его интересует одна лишь филантропия. Впрочем, они прекрасно уживаются… Клементине было уже лет тридцать, когда они познакомились, она считалась безнадежной старой девой. Ему было двадцать восемь. Сейчас им обоим под сорок. В этой чете мужчина явно она. Что ж, им повезло на свой лад не меньше, чем другим, скорее даже больше, чем многим. Они живут наполненной жизнью… У них все начистоту, они люди цельные, способные отдать последнее. Потому-то они и стали активистами отдела содействия. Они все еще надеются иметь ребенка и считают, что вовсе не так стары для этого. И так каждый месяц вот уже десять лет. Их товарищи знают об этом и надеются вместе с ними. А уж сбудется это или нет… С тех пор как они вместе, что бы ни случилось, лица их озарены светом, словно незнойным июньским солнцем, запоздалая весна молодит их. Они появляются неизменно вдвоем; она маленькая, деятельная, воинственная, приходит в отчаяние, если приходится говорить не на местном наречии; он худой и долговязый, слегка сутулый, он не из этих мест, судя по выговору, из Парижа, человек он медлительный и мягкий… Оба они немного в стороне от больших проблем… не в плохом смысле этого слова. Для себя лично они ничего не требуют от жизни, и она к ним снисходительна… Они романтики общественной работы, трудятся на самом незаметном ее участке — в отделе народного содействия, чьим символом должна была бы быть скромная фиалка.
Когда они приходят в семьи рабочих, слово берет Клементина, у более зажиточных говорит Серж. По дороге из одного дома в другой они препираются.
— Ты просто вырываешь вещи у них из рук, говорю тебе! Ты заставляешь людей отдавать то, что им самим необходимо!
— Ну и сварлив же ты!
— Или же они отдают не от чистого сердца, просто не решаются тебе отказать. И дают тогда что попало, всякий хлам!
— Ну и что ж, негодное мы выбросим! Неужели ты не понимаешь? Тот, кто хоть раз отдал другому даже самую нестоящую тряпку, чувствует какую-то близость к тем, с кем он поделился своим добром…
— Если от чистого сердца, согласен, но если…
И вот уже десять, целых десять лет Клементина еле сдерживается, чтобы не сказать на местном наречии:
— Да уж ладно тебе, святоша!
Но за целых десять лет она ни разу не поддалась соблазну! Не плохо бы господу богу вознаградить ее и дать ей наконец желанного ребенка.
Немцы…
Свой обход они начали с шоссе, затем пошли в предместье. К четырем часам в ящике, который они везли на ручной тележке, было уже много детской одежды, одно или два одеяла, новая, но слишком короткая простыня… Но ведь не известно, какие у них постели… Сейчас-то у них и вовсе нет постелей… А вот это красивое платье еще вполне годится, его нужно только выстирать… «Я ведь домохозяйка!» — говорит Клементина. В списке коммунистов на муниципальных выборах против ее фамилии так и стоит: домохозяйка, ткачиха. Может быть, если эти слова поставить в обратном порядке, они показались бы еще более странными. Она никогда не соглашалась, чтобы ее называли бывшей ткачихой. А вдруг придется вернуться на работу, и тогда — я тут как тут!
Серж не прав. В основном почти все собранные вещи пригодны и в хорошем состоянии. Нужно только зайти домой, чтобы разобрать их и привести в порядок. Кроме того, оба они с утра ходят без остановки и давно проголодались.
Однако самое трудное ожидает их позднее, в Семейном поселке. На месте двух сгоревших бараков высятся две черные кучи на бетонном основании… Из жилых бараков никто не выходит, можно подумать, будто люди прячутся, боятся чего-то. Они стучат в одну из дверей… Ждут… Стучат снова. Дверь приоткрывается. Появляется женское лицо с голубой татуировкой на лбу, в бледно-зеленой кофте. Они объясняют ей…
Женщина делает знак, что не говорит по-французски.
Но понимает ли она их? Хоть немного?
Женщина утвердительно кивает. Она кивает снова, когда смотрит на ручную тележку, на которую ей пальцем показывает Клементина.
Может быть, она знает кого-нибудь, кто говорит по-французски?
Женщина показывает жестами, что не знает.
— А здесь? — спрашивает Клементина, показывая на соседнюю дверь.
Она не знает.
Клементина стучит в эту дверь. Выходит молодая красивая женщина с выразительным лицом и блестящими глазами.
— Ну, говори лучше ты, — шепчет Клементина Сержу. — Пусть это хоть будет на чистом французском языке… может быть, так мы легче договоримся…
Молодая женщина улыбается.
По-французски? Она говорит плохо, но все понимает.
Погорельцы? Она широко распахивает дверь; в задней комнате живет семья, которую она приютила.
— Можно войти?
Алжирка пожимает плечами, словно говоря: ну, если вам это нужно…
Серж пытается удержать жену за локоть, может быть, их присутствие стеснит этих людей… Но она уже вошла, здоровается и пускается в объяснения. Две другие женщины, старая и молодая, стоят и слушают, словно понимают, особенно молодая. Они даже ответили на приветствие. Правда, это ровно ничего не доказывает.
— Одежда! Для детей!.. Пожар, огонь!..
И тут же Клементина ловит себя на мысли: ты говоришь с ними на ломаном языке, думаешь, так они лучше тебя поймут, а ведь это нехорошо…
Она исправляет свою ошибку:
— Вы меня поняли?
Она выделяет слово «поняли».
— …Хорошо поняли?
Женщины усиленно кивают головой, да, да, чтобы заверить ее окончательно. Что тут еще придумаешь?
Серж снимает ящик с тележки. Они оставят его здесь, перед домом.
— Понятно? На всех! Разделить!
Да, да, конечно.
Если бы не тележка, которую надо толкать, у Сержа и Клементины было бы такое ощущение, словно они уходят, пятясь задом, точно виноватые. Женщины по-прежнему стоят у своих дверей, даже та, к которой они постучались сначала. Но другая, молодая и красивая, машет им издали рукой и улыбается. А в остальных бараках, одинаковых, черно-серых, так и не открылись двери и занавески на окнах даже не шелохнулись.
Ничто не шевельнулось и в ящике. Ни вечером, ни ночью.
Детская одежда так же лежит в нем, как ее аккуратно уложила бездетная мать Клементина.
В этом первой убедилась Одетта Байе, молоденькая вдова, которая живет по другую сторону шоссе. Она дала детский розовый лифчик и белое шерстяное пальтишко с капюшоном, которые и послужить-то почти не успели, как это обычно бывает с одеждой малышей. Дочери ее пошел шестой год, вторую в своем вдовьем положении она не ждет. Даже если когда-нибудь ей придется еще раз выйти замуж… Ей было жаль расстаться с этими почти новыми, но бесполезными вещами только из-за воспоминаний, с которыми они были связаны… Их подарила ей свекровь. Жерар сам принес их в родильный дом и положил к ней на постель в этих же коробках, правда тогда вещи были переложены тонкой бумагой и перевязаны шелковой лентой. Жерар гордился материнской щедростью — не одна вещь, а целых две, и главное, купленные, а не домашней вязки… Для него все было праздником. Шесть месяцев спустя его не стало.
На следующее утро пошел дождь. Он шел весь день и всю ночь, так же настойчиво, как ходили из дома в дом Серж и Клементина накануне.
Немцы, по крайней мере…
У каждого так и стоит перед глазами отвергнутый ящик с «их» одеждой, мокнущей под дождем. Одетта видит его из своего окна, стоя с девочкой на руках.
Идет дождь.
Об этом говорят во всех домах от шоссе до самого предместья. Объяснять нечего… Комментарии, как сказал бы Марсель, излишни. И так все ясно.
Года два назад тоже горело, но смотреть на этот огонь было даже приятно.
Такие вещи забываешь!.. И вдруг они искрой вспыхивают в памяти.
В тот год Комитету удалось добиться передачи одного из трех новых домов завода, за клубом, двум алжирским семьям, одной семье первый этаж, другой — второй. Барак, где они жили до этого, грозил вот-вот обвалиться… Два других дома достались Норберу и Нелло Лоренти в награду за его изобретение.
Когда переезжал тот алжирец, который вселялся на второй этаж, то разыгрался прямо фильм с приключениями!.. Он притащил два соломенных тюфяка, один побольше, на котором спал он сам с женой, а другой поменьше, детский. Он положил оба тюфяка на землю перед домом на углу площади. У него было еще два чемодана — все его имущество, если не считать старого ящика с посудой, портретов и горшка с геранью. Он открыл оба чемодана и высыпал содержимое на тюфяки. А затем он поджег всю кучу.
Сообщники…
Куча загоралась медленно, больше дымила, чем горела, к счастью, ветер отгонял гарь к Понпон-Финет. А в это время алжирец схватил свой ящик и понес его, прижимая к животу, взгромоздив сверху портрет брата и горшок с геранью, и с королевским достоинством вошел в свое новое жилище; за ним следовала его жена и оба мальчика. Потом с улицы увидели, как он распахнул широкое окно в новой квартире, где еще пахло свежим деревом и опилками, и стал сверху смотреть на площадь, на завод и на всю округу.
Когда через несколько часов огонь потух, он аккуратно подмел золу, собрал все на большой лист упаковочной бумаги и отнес на свалку.
На следующий день он купил детский тюфяк. Дней десять спустя, после получки, он купил еще один, большой. Когда он нес домой детский серый в полоску тюфяк, даже не запакованный в бумагу, он сказал мимоходом Норберу, который нежился на солнце возле своей двери:
— Вот теперь можно и новое купить!
Понемногу все забывается. Однако что-то от этого костра на углу площади сохранилось в памяти соседей. В памяти тех, кто проходит мимо, кто встречает алжирца, его жену, детей…
Вспышка памяти освещает еще один пожар. Впрочем, тут не было ничего особенного… Притом это было так давно… Сколько же прошло, лет десять?.. Шарлемань еще ездил тогда на своем маленьком мотоцикле, он возвращался темной ночью с собрания в отдаленной деревне. И вдруг сверху, со склона, он увидел языки пламени посреди жнивья, огонь одиноко полыхал в ночи. Страшно было видеть огонь без людей… ведь огонь редко бывает один… Обычно он собирает около себя много народу, люди греются, либо заставляют его служить себе, либо воюют с ним. Но тогда, безлюдной ночью, Шарлемань оказался наедине с огнем. Не удержавшись, Шарлемань притормозил на минуту и, не сходя с мотоцикла, смотрел с дороги на пламя, дело было уже за полночь…
Он помнит, как, когда он был мальчишкой, жгли ботву в поле после сбора картошки; ее собрали в кучу и подожгли, а потом пекли в золе картошку… Никогда больше не казалась она ему такой вкусной… Должно быть оттого, что она пеклась в костре из своей же ботвы… пф-ф, пф-ф… шипели картофелины, когда их, точно прицелившись, швыряли прямо в середину кучи еще багровой золы…
— Пф-ф! Пф-ф!
Вспоминается и еще один случай. Смешной и вместе с тем отвратительный, впрочем, довольно пустячный…
«Бабушки»!.. Прежде на масленицу, когда ходили ряженые, некоторые франтили, надевали домино с крупными пуговицами или белый балахон Пьеро и узкую полумаску, за которой легко было узнать человека… Но были и другие «бабушки»… Эти напяливали на себя мешковину, старые черные кофты, капоры, солдатские шинели, сабо и уродливые картонные маски. Они старательно прятали все — волосы, рот, часто даже руки. В них словно сам черт вселялся. Они нарочно лезли на скандал. Когда они вваливались в кабачки, все шарахались, потому что от таких добра не жди, того и гляди затеют драку. Они шли танцевать только для того, чтобы распихивать других танцующих, а если и пели, то лишь ради того, чтобы перекричать остальных.
Немцы.
Однажды поздно вечером здесь, у Занта, за тремя столиками шла картежная игра, места в кафе больше почти не оставалось. У печки сидел одинокий бедный старик по прозвищу Швейцарец, предмет частых шуток. После двух-трех конов он задремал, протянув ноги к очагу, как обычно по воскресеньям, он ничего не пил, кроме рюмки можжевеловой настойки. Здесь все давно привыкли к нему и к его сну, рядом с ним можно было шуметь сколько угодно… Один глаз Швейцарца ничего не видел — след минувшей войны. Он всегда носил очки в железной оправе и под правое стекло подкладывал клочок ваты. По воскресеньям и по праздникам он менял вату. Под ней, открытый или закрытый, постоянно гноился невидящий глаз. Из очага торчали длинные лучинки, которыми раскуривали трубку. И вот один из «бабушек» взял лучину и подпалил вату под очками Швейцарца.
Тот с воплем вскочил, не соображая, что с ним происходит, и стал отшвыривать горящую вату.
— Пф-ф! Пф-ф!
Сообщники…
Несмотря на жалость к бедняге, все так и покатились со смеху, правда, ряженых тотчас выкинули вон, одному из них ударом кулака раскроили бровь, да так, что на каменный пол брызнула кровь и пришлось замывать. Они пригрозили, что вернутся и не с пустыми руками. Их ждали, женщины тряслись от страха, Швейцарцу принесли чистой ваты… Зант всегда был настоящим мужчиной и умел навести порядок в своем кабачке. У него обычно собирались игроки в клюшку. Чуть подальше на шоссе, за железным мостом находилось поле для игры, которое исстари называли «Песня жаворонка». Однажды вечером в кабачке передрались игроки двух команд. В ход пошли клюшки. До сих пор около горки со стаканами виден след железной клюшки, уже давно сменили обои, но вмятина все равно осталась на стене на уровне головы… Этот удар, которым можно было убить человека, пришелся по стене в двух дюймах от головы Одноглазого, капитана одной из враждующих команд, и был нанесен Гастоном Дериком, капитаном другой команды. И что же: Зант схватил их обоих за шиворот, не обращая внимания на клюшки, и, приподняв их над полом, легонько стукнул о стенку, и ни один из них не посмел даже пикнуть, пусть бы только попробовали!.. То было доброе время, вспоминает иногда Зант, время старика Виктора, сапожника, который потом повесился, ведь это его однажды Одноглазый увез на своей бешеной двуколке… то было время Ти Синего Чулка, время Иеремии, этот, впрочем, жив еще… Только вот руки у Занта стали уже не те… А в ту ночь «бабушки» так и не вернулись.
Последний раз огонь вспыхнул недавно, недели две назад…
Откуда у Соланж Морель такой страх перед парнями?.. Правда, мать ее, недавно умершая, была богомольной. А отец Соланж — Эктор — человек пугливый, робкий. При жизни жены не он был главой семьи. Он женился на женщине богаче себя, и не случайно: его с детства укоряли в том, что он вечно старается выше себя прыгнуть. В общем, Эктор постарался воспитать дочь по собственному вкусу. Сразу после смерти жены он забрал дочь из школы, надо же кому-то хозяйничать… Как и все другие, он указывал дочери на несчастную юродивую Полину: вот видишь, что получается, когда делают глупости… И особенно часто он твердил дочери про дурное поведение Жильберты…
Если кузнечик скачет при сильном ветре, то его относит в десять раз дальше, чем длина его прыжка. Когда Соланж и Жильберта Биро учились в школе, они были закадычными подругами. Дружба похожа на сон и может на несколько лет отстать от жизни… Вам снится, будто вы добиваетесь любви женщины, она готова полюбить вас, вот-вот вы в первый раз поцелуете ее… А эта самая женщина мирно спит рядом с вами, и, может быть, ей снится то же самое, а она уже много лет ваша жена… В глубине души Соланж по-прежнему считает Жильберту подругой. А между тем за последние четыре года они стали совсем чужими.
Кузнечика здесь называют другим словом, живым, как сам кузнечик. Его называют «августовским попрыгунчиком»… В глазах Соланж Жильберта, несмотря на все дурное, что говорят о ней, остается всего лишь «августовским попрыгунчиком». И возможно, первая взбучка, которой встретил ее отец, была как раз тем ветром, что занес ее так далеко… Правда, взбучка была основательная.
Здесь все знают друг о друге. И в первую очередь все слышат.
Марселен не грубый человек. Но в тот раз он завел дочь в комнату и запер дверь. Она кричала, звала на помощь. Брат ее Андре убежал из дому, заткнув уши… Жюльетта рвалась защитить дочь, стучала кулаком в двери, крича:
— Эй, Марселен! Держи себя в руках!
Жильберте было всего пятнадцать лет. И она уже согрешила. И не шутя, не со сверстником, а с негодяем, парнем лет двадцати, который соблазнил ее перед тем, как идти в солдаты…
Но после отцовского урока Жильберта уперлась, показала характер. Можно подумать, будто она делала все назло. По вечерам ее часто стали видеть внизу, с ухажерами, если можно так выразиться. Мальчишки, которые вертятся повсюду, и в первую очередь ее брат, называют ее потаскушкой. Мать жалуется, что она позорит семью, но время от времени она ласкает ее и целует, как маленькую… Старухи, которые никому ничего не прощают, ворчат:
— Негодная девка, шлюха. Помани медведя медом…
Соланж больше не встречается с Жильбертой. Вначале она неохотно уступила требованию отца. Но потом мало-помалу свыклась. Так или иначе, теперь, в девятнадцать лет, она боится парней. Это не безумный страх, а просто страх, достаточный для того, чтобы ни одного из них не подпускать к себе близко. В кино она ходит чаще всего в субботу вечером с Клотильдой, старшей дочерью Корнета, которая на год моложе ее. Клотильда некрасива, Соланж, кстати говоря, не слишком ее любит, но и к ней она привыкла. Она привязана к дому, любит возиться по хозяйству и иногда садится шить у окна на втором этаже, которое выходит на улицу. Она устраивается там не для того, чтобы показать себя, она садится, просто чтобы подышать свежим воздухом.
Этот страх — лучший сторож. И к счастью, потому что она хороша собой, и охотников нашлось бы немало. Иногда любители поболтаться по предместью кружат возле ее дома, точно гончие. Они ездят на велосипедах взад и вперед, не решаясь откровенно глазеть на окно, ездят с безразличным видом, но довольно скоро, обескураженные, исчезают. Если Эктор дома, он, завидев их, выходит на порог и останавливается, словно невзначай, засунув руки за ремень. Соланж гораздо красивее Жильберты. Жильберта худая и плоская, в мать, волосы у нее прямые, она смахивает на мальчишку и привлекает только своей молодостью. У Соланж округлые и женственные линии. Она блондинка, и не столько цвет ее волос обращает на себя внимание, сколько прозрачная кожа. Ее кожа нежна и как бы беззащитна, к ней боязно прикоснуться, ее хочется спрятать в тонкую папиросную бумагу, защитить целлофаном… Одета она всегда мило и со вкусом, а вкус у нее есть, она сама себе шьет легкие платьица и на зиму и на лето. В доме уютно, опрятно, Эктор не прогадал: его бутерброды и фляжка всегда приготовлены вовремя, полы чисто вымыты, так что я враг, что ли, сам себе, думает он, зачем мне жениться снова…
Как-то раз в виде исключения Соланж отправилась в кино одна, и, когда она возвращалась, какая-то тень следовала за ней от трамвайной остановки Гро-Кайю до самого предместья. Она чуть не умерла со страху. Эктор был на заводе. Она зажгла все лампы в доме, которые так и горели всю ночь, даже те, что на улице перед входной дверью и у садовой калитки за домом.
Так или иначе, однажды вечером сидит она одна дома, ждет Эктора и жарит ему картошку. Лето, еще совсем светло… В собственных стенах ей не от кого прятаться, на ней розовое в цветах нейлоновое облегающее платье с большим вырезом. И нейлоновый фартучек, прелестная дешевая вещица, какие сегодня продают повсюду. Их плиту давно пора сменить.
Одна из чугунных конфорок разбита, и приходится следить, чтобы жаровня с кипящей в масле картошкой не опрокинулась прямо в очаг.
И вот происходит неизбежное. Жир выплескивается в огонь, вспыхивает фартучек и платье, девушка превращается в горящий факел, пламя мгновенно взлетает до самого потолка… Она выскакивает на порог с душераздирающим воплем. Ее дикий нечеловеческий крик сливается с грохотом завода, со скрежетом жерновов.
Налево у своего дома стоит Корнет. Напротив у порога сидит старая Зея. Справа, по другой стороне улицы, идет алжирец. На крики девушки он оборачивается. Корнет делает шаг вперед, Зея вскакивает, алжирец бежит к Соланж, которая смотрит на него, подняв руки, как бы защищая их от огня, но пламя охватило ее своими огромными лапами до кончиков пальцев…
Немцы…
Но когда алжирец, раскинув руки, почти добегает до нее, он вдруг колеблется, смотрит на Корнета, на Зею, на соседние дома… А Соланж, словно вспомнив о чем-то, поворачивается и бежит к Зее, ее горящие волосы развеваются по ветру. Зея протягивает ей синий фартук, все, что она может сделать. Соланж несется дальше, пересекает улицу, подбегает к Корнету, который кидается почему-то к себе в дом. Испугался ли он, или, посмотрев на фартук Зеи, бросился за одеялом? И Соланж останавливается перед клумбами у двери Корнета! Она оглядывается. Алжирец бежит к девушке, и наконец она кидается к нему, вытянув руки.
Тогда он делает то, что хотел сделать сразу. Он распахивает полы пиджака, крепко обхватывает Соланж руками, ногами, падает вместе с ней на тротуар, в канаву, где, как назло, ни капли воды, катается по земле, натыкаясь на железную ограду палисадника Корнета, кричит вместе с нею, не отпуская ее. Прибегает растерянный Корнет, который сначала пытается оторвать их друг от друга, потом закутывает обоих в старое пожелтевшее пикейное покрывало…
Он как можно туже стягивает на них одеяло и катает их по земле. Наконец сбегаются со всех сторон люди на помощь…
Нейлон плавится, потрескивая, и прилипает к коже, как репей, как смола, он вонзается в тело, словно проволочная сетка в ствол дерева; можно подумать, будто огонь и черно-рыжий расплавленный нейлон вгрызаются в вены, проникают в кровь. Такова современная жизнь. Чем красивее, тем порочнее.
Этот алжирец был Мулуд.
Его приятель Норе одним из первых навестил его в больнице Сен-Венсен.
— Попросись у старого швейцара, — посоветовал ему Фернан, — я его знаю, он тебя пропустит.
Соланж тоже лежит в Сен-Венсене, в женском отделении.
— Ты понимаешь, — говорит Мулуд, пытаясь приподняться на кровати. — Я ведь хотел…
— Все прекрасно поняли, — отвечает Норе, — лежи спокойно.
Он протянул руку, чтобы подтолкнуть Мулуда обратно на подушку, но не прикоснулся к нему. Ожоги, даже под бинтами, как бы удерживают чужие руки на расстоянии, но и на расстоянии чувствуешь, как содрогается обожженная плоть и нервы от одной возможности прикосновения.
Сообщник и…
Все прекрасно поняли, что и Мулуд и Соланж не обгорели бы так сильно, если бы в воздухе не носился этот яд: бесконечные разговоры об алжирцах и о женщинах. Именно это заставило Мулуда заколебаться на мгновение. Именно это заставило Соланж бежать от него. Драгоценное время было потеряно.
Норе хорошо знает своего Мулуда. Он не раз дразнил его.
— Ты просто мальчишка! Боишься баб? Потому и не решаешься жениться…
Как-то раз они ехали вместе на площадке переполненного трамвая. Люди стояли в невероятной тесноте, прижавшись друг к другу. Застань их в этом положении какой-нибудь катаклизм, вроде последнего дня Помпеи, то через тысячу лет ни за что бы не понять, чем они тут занимались. Переплетенные, перепутанные руки, скрещенные, скрюченные ноги… Не говоря уже о тех, кто и вправду пользуется случаем. Мулуд стоял, плотно прижатый к какой-то женщине. Сначала Норе исподтишка посмеивался, глядя на товарища. Мулуд пытался отстраниться хоть немного, но в такой давке лучше было бы стоять тихо. Вскоре и женщина заметила, кто стоит позади нее. Как бы поняв его мысли, она тоже попыталась отодвинуться. Однако все усилия были тщетны, они были просто вдавлены один в другого… Через несколько минут какой-то тип в серой шляпе, пристроившийся на буфере вагона и потому слегка возвышавшийся над другими пассажирами, стал через головы приглядываться к тому, что происходило между женщиной и Мулудом… Вот тут Норе перестал смеяться. Он смотрел уже не на Мулуда, а на этого типа в шляпе. А на Мулуда хоть и не гляди: с их цветом кожи никогда не разберешь, краснеет человек или бледнеет… К счастью, женщина сошла через три остановки. Сразу стало легче дышать.
В другой раз, когда Норе кто-то задержал после смены, он сказал Мулуду: «Подожди меня на углу, я сейчас…» И вот когда он пришел на условленное место, он увидел, что Мулуд ждет его гораздо дальше, за поворотом. Дело в том, что на углу была баскетбольная площадка, где девчонки лет пятнадцати-шестнадцати играли на солнце. Голоногие, в красных и белых майках, с полосками кожи, проглядывавшими между шортами и майками, шумные, смеющиеся. Если бы нашелся предлог, Норе нарочно прогулялся бы с Мулудом обратно к площадке, чтобы посмотреть на его физиономию…
Но Мулуд понял. Когда они успели уже порядочно отойти, он сказал неожиданно, без всякой видимой связи с девчонками:
— Француз смотрит. С алжирцем же все наоборот: на него смотрят.
Происшествий Норе с Мулудом хватило бы на целый журнал. Вот еще одно: как-то сидит Норе в маленьком кабачке у входа на завод, у Мерлена. Входит Мулуд, по лицу видно, что ему не по себе.
— Вид у тебя — краше в гроб кладут! — говорит Норе. — Живот, что ли, болит?
— Отстань, Оноре, — ответил Мулуд.
— Ну, уж раз он меня величает полным именем, дело серьезное! Ну, что у тебя стряслось?
Мулуд не хотел говорить. Но потом все выяснилось. Когда Мулуд проезжал через проходную завода, ему навстречу выехали двое на велосипедах. Мулуд не мог посторониться в узком проходе, да и по всем правилам они должны были бы уступить ему дорогу. Оба типа разорались. А когда Мулуд был уже далеко, они вдогонку обозвали его цветным.
— Разве это мужчины, — сказал Мулуд, — ведь знают, что я не могу ничем ответить…
— А кто такие? — спросил Норе.
— Высокого я не знаю, — сказал свидетель, — а другой — Ти Моризе.
— Да, на Моризе это похоже! — говорит Эдуард Гаит, наливая себе джина в кофе и делая знак Мерлену, чтобы тот наполнил его рюмку — Моризе!.. Уж беднее его не найдется, ходит оборванный! И вместо того, чтобы обвинять тех, кто стоит выше его, он ищет виноватых среди тех, кто еще более обездолен, чем он сам! Но найти такого трудно! И он воображает, будто ему прибавится чести, если он кого-нибудь обругает!
Повернувшись к Мулуду, Гаит добавил:
— Тебя или кого другого, ему все равно, кто под руку попадется.
— Не стоит обращать на него внимание, — сказал Норе. — Такое ничтожество! Он и сам не соображает, что делает.
Да, уж если бы за него взялся Норе… Только пальцем бы тронул, и от того мокрое место осталось бы.
Назавтра Норе выяснил, кто был второй. Он оказался не чернорабочим, как Моризе, а слесарем-инструментальщиком. Самый обыкновенный парень. Еще не зная, что он за человек и в каком профсоюзе состоит, Норе отправился искать его.
— Послушай-ка! Твое счастье, что при моих кулаках я не стану с тобой связываться, но ты возьмешь свои слова обратно. Те, что ты сказал моему товарищу…
Он вспомнил, как Пьер Вандам умудрился сломать мизинец Раулю Пету, когда давал ему подзатыльник. Он задел мизинец рукавом. Тяжба тянулась три года и стоила Пьеру бешеных денег.
Парень решил было отшутиться и увильнуть, но Норе спокойно и осторожно сгреб его за шиворот и пригнул его голову книзу.
На шпале между рельсами лежал похожий на черное мыло кусок тавота, величиной с кулак.
— Возьмешь свои слова обратно, или я ткну тебя туда носом! — И Норе добавил: — Как кошку! В ее же дерьмо!
Кто-то хотел вступиться, но ему сказали:
— Не лезь, они мужчины, сами разберутся!
— Никому не советую вмешиваться! — сквозь зубы процедил Норе. — Ну, ты! Гадюка!
— Я беру свои слова обратно! — просипел тот, когда нос его был уже в двух дюймах от шпалы.
— Скажи: больше этого говорить не буду!
Норе помолодел на двадцать лет, ему кажется, будто он все еще школьник и наводит в классе свои порядки.
— Больше этого говорить не буду!
— Ладно! — сказал Норе, делая вид, что отпускает его. — И все-таки ты у меня свое получишь, трепло!
Он вдавливает его лицо в тавот и несколько раз тычет его носом в жирную темную массу.
— А теперь катись!
Все же ему не удалось сдержаться до конца. Вместо того чтобы просто отпустить парня, когда тот, слегка пошатываясь, выпрямился, Норе резким пинком в зад сбил его с ног. К счастью, кто-то стоял рядом и подхватил парня, не дав ему удариться головой. На мгновение Норе испугался, чувствуя, что пересолил. Но тут же забыл об этом, взглянув на перепачканное лицо своей жертвы с жирной каплей на носу.
— Ты где пропадал? — спросил Мулуд, когда Норе вернулся.
— Тебя не касается! — ответил Норе. — Каждый пасет своих коров.
Немцы…
Эктор тоже зашел к Мулуду, после того как проведал дочь. А уж об алжирцах и говорить нечего, идут один за другим, скоро выстроится очередь у дверей… «Ты знал, что я обязательно приду?» — спрашивает Норе. Эктор сказал, что Соланж еще сильнее обожжена, чем Мулуд. Она чуть не умерла. К счастью, лицо не тронуто. А у Мулуда наоборот: пострадало больше всего лицо и левая рука, которая лежит теперь поверх одеяла с той стороны, где сидит Норе.
Усталость, или кровь прилила к голове?.. Они не проговорили и десяти минут… Алжирцы, друзья Мулуда, ждали за дверью, чтобы не мешать им… Норе увидел, что Мулуд засыпает. В дверях показался один из алжирцев. Норе знаком велел ему молчать, а посетителей, пришедших к остальным трем больным, попросил говорить потише. Когда Мулуд задремал, он нечаянно положил обожженную руку на руку Норе. Норе повернул ладонь кверху и осторожно поддерживал забинтованную бесформенную руку Мулуда. Мулуд проспал десять минут, десять бесконечных минут. Ну и что ж, подумал Норе, все-таки повидались. Дело-то ведь не в словах…
Но тем временем он все осмотрел в палате, даже истертый линолеум перед дверью, с плешиной не в середине, а сбоку, в том месте, где обычно топчутся, прежде чем переступить порог; на ночных столиках стаканы, а в них кожура от апельсинов, бумажки от конфет, он заметил даже тонкую белую резиновую трубку в ноздре одного из больных, словом, отметил все…
Когда Мулуд проснулся, не известно, о чем он подумал… Да и трудно угадать мысли человека, у которого забинтовано все лицо, кроме рта и глаз.
Там, где пахнет скандалом, всегда замешаны мальчишки.
Сын Олимпии, Анри, вошел, утирая нос правым рукавом и держась левой рукой за ухо, словно его кто-то ударил.
Олимпия стирала, ее руки покраснели, набрякли и сморщились от воды. Она вытерла их о хлорвиниловый передник, совершенно мокрый и сверкающий радужными пузырями пены.
— Ну, что ты опять натворил, исчадие ада?
— Меня одна тетка стукнула!
Вот вам! Олимпия, словно предчувствовала это, когда вытирала руки…
— Вот тебе еще, дьяволенок! Не будешь в другой раз лезть к людям!
Она продолжала вытирать руки, но уже об юбку на заду. Хлорвинил ведь не впитывает воду. От удара на ладони, словно из губки, снова появилась влага.
— А все же скажи, кто тебя стукнул? Еще придется с людьми ссорится из-за тебя! Так кто же? — продолжала Олимпия.
— Сам не знаю, какая-то из Семейного. Высокая такая… — отвечает Анри.
Это великолепная женщина, если не обращать внимания на татуировку. Что-то вроде синего шва проходит посередине ее подбородка. Другой такой же шов виднеется на лбу, под блестящими иссиня-черными волосами, но этот потоньше, и на концах его звездочки из точек. Если бы не это, то баба прямо на диво! Так и пышет здоровьем. Она уже не первой молодости, лет сорока — сорока пяти, как говорится, в самом соку. Мы, мужчины, не осмеливаемся разглядывать алжирских женщин по многим причинам, хотя бы из-за их странной привычки носить несколько прозрачных вещей одну на другой… Вот хотя бы эта. Между темно-красными бретельками фартука, под голубоватой в желтенький цветочек блузкой из жатой материи видно еще какое-то одеяние из бледно-зеленого шелка, а сквозь него проглядывает обыкновенная розовая комбинация, непрозрачная на этот раз. Открытых воротов они не признают, и нельзя понять, какая у них кожа… В результате толком не видишь ничего, но глаза смущены и взволнованы, проникая вглубь, слой за слоем… Грудь у нее тяжеловата, все-таки шестеро детей, шутка сказать… Шестеро, о которых мы знаем… Муж не достает ей до плеча, но он живой и вертлявый, точно штопор. Она чересчур высока для женщины. Мужчинам не по себе, когда им приходится задирать голову, чтобы полюбоваться красивым лицом. Они предпочитают смотреть сверху вниз…
Кроме того, она ни слова не говорит по-французски. И когда с ней встречаешься на улице, нечего сказать ей, даже если ты знаком с ее мужем. Даже поздороваться нельзя. Кивнешь ей, не разжимая губ, и она отвечает тем же. Так мужчина и женщина расходятся в разные стороны молча, словно четвероногие… Не будь она так маняще красива, это бы еще ничего, а тут чувствуешь себя неловко…
Сообщник и…
И может быть, именно поэтому ее вечно задирают мальчишки. До сих пор они никогда не приставали к алжиркам. Впрочем, это понятно. Дело тут вовсе не в расе. Просто француженки могут защитить себя. Они тотчас разузнают, чей мальчишка их задел обидным словом, пожалуются родителям, и тогда берегись! Иногда мальчишки смелеют и кричат проезжающей на велосипеде девушке что-нибудь — ничего страшного, так, чепуху, просто чтобы заставить ее покраснеть, но стоит ей затормозить и соскочить на землю, как вся ватага улепетывает… Но на сей раз они спрятались в канаву возле изгороди Эрнеста Бурдона, на краю поселка, и кричали этой женщине всякие мерзости. А так как она их не понимала, они могли выкладывать все свои познания, выхваляясь друг перед другом… так что в конце концов им самим стало совестно… Они удивлялись и своим запасам и тому, что осмелились выложить их вслух среди бела дня… Особенно отличился Камбье, единственный, кого она разглядела, потому что он подошел к ней почти вплотную.
Она ездила на велосипеде за провизией, с двух сторон свисали туго набитые сумки, руки у нее были заняты рулем.
Назавтра, выходя из своего барака, она вдруг наткнулась на Анри. Она кинулась за ним вдогонку, и все ее прозрачные розово-голубые одежды развевались на бегу… Сначала он смеялся. Потом, увидев, что она вот-вот его догонит, он чуть не умер со страху и даже напустил в штаны. Здорово потом щипало между ног, где у него вечно раздражена кожа. Женщина влепила ему хорошую затрещину, правда только одну — люди видели издали, — и потом стала кричать что-то по-арабски, тряся его за плечи.
И вот Олимпия отправляется в поселок, таща своего мучителя за руку. Она хочет очной ставки.
— Покажи, который дом?
Она пришла как была, в мокром переднике, с засученными рукавами и красными от стирки руками. Одетта Байе, предчувствуя грозу, выходит на порог. Она видит, что Олимпия ошиблась домом, и пользуется этим предлогом, чтобы подойти поближе. Из двери, куда по ошибке постучалась Олимпия, выходит хозяйка, молодая итальянка. Алжирка живет рядом.
Дверь ее дома открывается раньше, чем Олимпия постучалась. Олимпии это не нравится. Ей чудится какая-то угроза, и она сразу повышает голос:
— Что он вам сделал?
Она хотела задать вопрос, а получился упрек.
Женщина отвечает по-арабски, Олимпия этого не ожидала. Значит, придется объясняться жестами. Однако Олимпия говорит не останавливаясь, не оставаться же ей в долгу, хотя слова ее понятны только Одетте и итальянке. А алжирка и вовсе говорит в пустоту. Она указывает пальцем на себя, потом на Анри, потом снова на себя, изображает на лице гримасу отвращения, потом вытягивает руку по направлению к дому Эрнеста Бурдона. Олимпия качает головой, мол, нет, это не Анри, это, наверно, мальчишка Камбье, который живет на том краю! Обе ожесточенно жестикулируют, в разгаре спора одна из них нечаянно задевает другую пальцем…
— Не смей меня трогать!..
Олимпия перешла на «ты» и пытается схватить чужую руку… Она вдвое ниже и слабее алжирки и к тому же худа как спичка, но храбрости ей не занимать… Дальнейшее происходит в полутемном коридоре барака, куда алжирка отступила от удивления или страха или для того, чтобы заставить Олимпию войти в дом. Одетта Байе и итальянка тщетно пытаются протиснуться за ними. Издали нельзя понять, что мешает им войти, затем показывается спина Олимпии, которую алжирка выпихивает из своего дома.
Хоть бы они обе вышли оттуда, легче было бы их разнять! Но вот обе женщины вылетают из двери барака, словно их, как сухой лист, вымело ветром, они вцепились одна другой в волосы, платья на них трещат, они даже не замечают двух деревянных ступенек порога. Олимпия вся серая, в блеклом клетчатом платье, только руки у нее красные. Алжирка в пунцовой вязаной кофте поверх тонкого лилового платья, может быть ночной рубашки, босая, в красных с золотом домашних туфлях. Одетта и итальянка, обе маленькие, пытаются разнять их, протискиваются между ними, тащат изо всех сил в разные стороны, упираются коленями, ногами, руками, кажется, будто и они тоже ввязались в драку. В конце концов им удается невероятным усилием и с помощью подоспевших соседей растащить дерущихся…
Уж если женщины сцепятся, то они хуже мужчин… Ну а мужчин тут не оказалось, они в это время работают, скажем прямо: к счастью…. Зато женщин сбежалось немало, три или четыре француженки схватили Олимпию, столько же алжирок держали свою товарку, и надо сказать, обе стороны еле-еле справлялись. То и дело соперницы, стряхнув с себя живую гроздь, снова устремлялись в бой, тянули друг другу обнаженные дрожащие руки и через головы разнимающих старались добраться до врага. Обе вопили, должно быть одно и то же, одна по-арабски, другая по-французски… Наконец удалось схватить их за руки, они продолжают рваться друг к другу с искаженными от ярости лицами, словно готовые кусаться. И вдруг что-то изменилось… Может быть, глаза их нечаянно встретились, а может, они наконец разглядели то, что надо было видеть с самого начала…
Вмиг вопли прекратились…
Алжирка произносит что-то более спокойным голосом. Олимпия с трудом выдирается из чужих рук с таким видом, словно говорит: отпустите, ладно, хватит!..
— Надо же… — ворчит она и, резко высвобождая правую руку, добавляет: —…сцепились, точно две дикарки!
Немцы…
У соперницы происходит то же. Алжирка потихоньку пятится к своему дому.
— Да отвяжитесь, черт побери! — говорит Олимпия. — Терпеть не могу, когда меня держат!
Ее отпустили, и она разрыдалась, правда, слезы ее были недолгими. Нервная реакция. Потом она говорит, тряся головой:
— Главное, она ошиблась, это был вовсе не мой!
— Они же плохо понимают, — отвечает Одетта. — Языка-то они не знают, вот и объясняйся с ними…
— Они бы лучше своих собственных ребят приструнили, — добавляет другая.
— Конечно, — говорит Олимпия, все еще дрожа, — но дело не в этом. Каждая воспитывает как хочет. Но поднимать руку на чужого!..
— Тебе еще хорошо, Олимпия, ты тут не живешь! Их мальчишки бегают до полуночи. У них ложатся поздно!
— А в прежние годы, когда они справляли свой рамадан, всю ночь били в кастрюли и плясали… Иной раз кажется, будто их ребята нарочно шумят и не дают нам спать.
— Что ж, у каждого свои обычаи, — возражает Олимпия, постепенно успокаиваясь, — вопрос-то не в этом…
— А все-таки ваш чертенок был среди них, я его видела! — сказала жена Эрнеста Бурдона.
Олимпия обернулась к сыну:
— Ты был там?
— Я был, но за изгородью! Она меня не видела!
Анри отступил и на всякий случай выставил локоть.
Но Олимпия уже подскочила к нему:
— Вот тебе! Будешь знать! Сколько раз я говорила, что из-за тебя не оберешься сраму!
Когда с год назад эта женщина приехала в наши края, у нее был грудной ребенок. Она явилась, можно сказать, из самых недр Алжира, почти из пустыни.
Роберте Сюрмон поручили установить с ней контакт, но она наткнулась на замок.
Неделю спустя к Роберте пришла соседка этой женщины, тоже алжирка. Новорожденный заболел.
И Роберта Сюрмон снова стучится в дверь. Дверь не открывается, но на этот раз она уже заперта изнутри. Сюрмон чувствует, что за ней следят из-за занавески. Ждут ли ее, не известно. Во всяком случае, ее приход уже не вызывает протеста.
Но ведь и с теми, кого она знает уже и год и два, Роберте Сюрмон не всегда удается столковаться.
Алжирским женщинам свойственно чувство юмора, пожалуй даже больше, чем мужчинам, глаза их выразительнее, чем уста. Разговор завязывается осторожно:
— Здравствуйте, мадам Амзиан.
— Добрый день, мадам Сюрмон.
— Как дела?
— Все в порядке.
— Малыши здоровы?
— Да. А твои, мадам Сюрмон?
Вопросы, которые им задают по долгу службы, настораживают алжирских женщин. И тем не менее Роберта Сюрмон уже завоевала у них доверие. И дело тут совсем не в той помощи, которую она им могла оказать, да и не так уж она велика. Гораздо больше расположило их ее старание, ее стремление помочь… Часто ее усилия оказываются тщетными, и потому иной раз — удивительное дело — в самом убогом бараке ее встречают с легкой усмешкой, иногда даже покровительственной.
— Все бегаешь, мадам Сюрмон?
Главное для них то, что она против этой войны, и все это знают.
Политикой она интересуется только от случая к случаю. Но уж если она занимается какой-либо работой, она бросается, точно головой в омут, вот как сегодня, и большей частью чутье ее не обманывает. Она не похожа на своего мужа, преподавателя английского языка, который лет на пять старше ее и облысел уже к тридцати годам. Многим кажется, что брак ее неудачен. Ее муж держится претенциозно, разговаривая, нелепо жестикулирует… И говорит-то он жеманно… Впрочем, человек он порядочный и вполне прогрессивный по своим убеждениям. Роберта же совсем иная натура, иногда она вызывает улыбку алжирских женщин, особенно когда они видят ее слишком простецкие, почти мужские ухватки. Лицом она не хуже многих, а стрижется «под мальчика», не завивается и непрестанно курит, ее грубые вельветовые зеленые брюки вечно засыпаны пеплом. Правда, к своим алжиркам она никогда не приходит в брюках, для этих визитов она надевает платье. Она одна из тех редких женщин, к которым невольно обращаешься по фамилии, а не по имени. Она ничего не делает хладнокровно. Должно быть, муж оказывает на нее кое-какое влияние, но все равно голова у нее разумнее и сердце добрее, чем у него. Есть у них прелестный малыш. Но можно сказать, что в этой семье она — отец и глава.
Итак, на этот раз она тихонько отворила дверь. В первой комнате вопреки ее ожиданиям было пусто. Но из дальней комнаты, где ставни были наполовину прикрыты, доносилось тихое пение, женщина напевала колыбельную не произнося слов. Роберта осторожно пошла по коридору.
— Мадам Бен-Шейх…
Женщина подошла к порогу своей комнаты и перестала петь, продолжая укачивать больного малыша…
Она позволила Сюрмон подойти и даже откинуть простынку с личика ребенка.
Сюрмон сразу увидела, что дело серьезное.
Она направила ребенка в больницу.
Менингит, вернее, начало менингита.
Ребенка удалось спасти.
А накануне визита Роберты Сюрмон, когда муж и другие дети уже давно спали, женщина всю ночь напролет качала больного малыша. Что еще могла она для него сделать. Ребенок уже не шевелился и не открывал глаза…
Когда Шарлеманю рассказали об этом, он вспомнил другой эпизод. Однажды на таком же вот собрании один молодой понтонер, племянник Гаита, недавно вернувшийся из Алжира, поднялся из третьего ряда, где он сидел со своей невестой. Все время, пока он говорил, она крепко держала его за руку… Он рассказал о женщине там, в Алжире, которая несколько дней шагала взад и вперед по комнате, укачивая мертвого ребенка, и не хотела расстаться с ним.
Это мы виноваты в их невежестве, в их недоверии.
Нужно прямо признать: наша вина. Даже если мы, коммунисты, или лично я, Шарлемань, здесь ни при чем… Ведь Франция — это наша страна, и мы — часть ее. Исправить ее ошибки — дело нашей чести. Чей удел исправлять чужие ошибки? В первую очередь наш. И уже сейчас, кто берет это на себя? Это трудно и даже не очень справедливо, но не чувствуешь себя настоящим мужчиной, если не умеешь признать, что это «мы». Сам я ничего плохого тебе не сделал, брат мой, но моя душа полна желания хотя бы сердцем искупить все зло, нанесенное тебе моей страной.
Сообщники…
Но вернемся к Саиду.
Шарлемань больше не являлся в фургон, и Саид не приходил к Шарлеманю и ничего не сделал, чтобы продолжить завязавшиеся отношения. Но Шарлемань готов был дать руку на отсечение, что рано или поздно они встретятся. Между настоящими людьми ничто не решается случаем. Одна-единственная встреча иногда определяет: все или ничего. Бывает, люди, никогда до этого не видевшиеся, сразу узнают друг друга и становятся друзьями или врагами.
За последний месяц их пути несколько раз скрестились, и одну из этих встреч Шарлемань не забудет. Хотя почти ничего не было сказано.
Как-то около полудня Шарлемань возвращался с обводного канала. Ведь французам доводится иногда ходить на рыбалку; это случается подчас и с вполне приличными людьми. И ничего в том плохого нет, это просто отдых, необходимая разрядка. Однако трудно вообразить кого-либо из алжирцев за рыбной ловлей или за каким-нибудь подобным занятием. Беда, большая или маленькая, тут в том, что время их забито до отказа, без единого просвета, без единой минуты досуга… В полдень Шарлемань оставляет в воде свои удочки, закрывает банки, чтобы в них не забралась какая-нибудь живность, крысы или утки, просит соседа, если таковой имеется, присмотреть за его хозяйством и идет домой перекусить. Так бывает обычно летом. Вообще-то Шарлемань предпочитает зимнюю ловлю. Его страсть — крупная щука. В осенние месяцы, с октября по январь, он лучше пожертвует завтраком, но ни за что не оставит наживку без присмотра.
Он идет вдоль проволочной ограды пастбища и выходит на тропинку, по которой Саид возвращается с завода. В Понпон-Финет по сей день существуют два луга, усеянных толстыми лепешками коровьего навоза, похожими на блюдо шпината — из сочной травы выглядывают одуванчики. Сокращая дорогу, Саид идет напрямик через пастбище.
Между Шарлеманем и Саидом проволочная ограда. Оба стоят, прислонившись к ней, — Саид у изъеденного червями столба, из которого выполз и греется на солнце паук. Колючая проволока проржавела насквозь. Оба почти одновременно обратили на нее внимание. Может быть, из-за нее беседа получилась такой короткой.
Шарлемань вспоминает другое заграждение из колючей проволоки, виденное им недавно… Год назад он вместе с другими бывшими узниками ездил в Бухенвальд; их делегацию сопровождал молоденький журналист из Парижа, который хотел непременно увезти с собой что-нибудь на память. Справа от входа в крематорий валялись на земле куски старой колючей проволоки, еще более ржавой, чем эта. Журналист подобрал два куска. Шарлеманю и его спутникам и в голову не пришло бы поднять их, но для молодого человека эти обрывки были реликвией. Потом, опасаясь, как видно, порвать карман, а может, наоборот, из уважения к реликвии, он держал их все время в руке, зажав между ручкой и записной книжкой, хотя это мешало ему писать.
— Дай, я подержу, — пожав плечами, сказал Шарлемань. Впрочем, он понимал, какие чувства тот испытывал.
И он засунул оба обрывка в карман своего старого пальто, которому уже не страшны были дыры. Он машинально трогал их, стоя перед памятником Кремера, таким подчеркнуто немецким, с флагами на ветру, который постоянно дует на вершине холма и готов, кажется, разорвать вас на части… Он перебирал их пальцами на вокзале в Веймаре; спускаясь по подземному переходу и снова поднимаясь, он спрашивал себя: ну как, узнаешь дорогу, узнаешь знакомые места?.. Подъезжая к Веймару, журналист твердил: «Здесь жил Гете… Гете и еще кто-то…» Шарлеманю же вспоминалась работа на путях, вот тут, под окнами того самого отеля, где они жили теперь как туристы, где спали на чистых простынях, в комнатах с неровным полом, наклоненным к улице и вокзалу, и он спрашивал себя, неужели те же хозяева владеют гостиницей… все: стены, ограды, земля — были черны, почти как и в его родных краях… Он продолжал теребить куски проволоки в кармане, подкладка уже порвалась немного. На следующий день их повели в Дрезденский музей, хотели смягчить впечатления предыдущего дня; это было очень кстати, приятно было отдохнуть душой в просторных, спокойных залитых светом залах с чудесной живописью… Во Франции Шарлемань отроду не ходил по музеям. Стоило тащиться так далеко ради музея… Да еще в виде добавления к Бухенвальду… Что это? Награда? Компенсация? «А может быть, это действительно входит в счет репараций?» — сказал кто-то вполголоса, чтобы не услышали немецкие товарищи… Так или иначе, Шарлемань решил полностью использовать это посещение и внимательно смотрел на картины вблизи и издали, стараясь понять, как они сделаны. Его поразил контраст между техническими приемами и эффектом, который они создают. Можно подумать, что у художников две пары совсем разных глаз, одни для работы, чтобы видеть вблизи, другие — чтобы смотреть издали, как это делают зрители… Иногда он разглядывал холст совсем вплотную, чуть ли не прижимаясь к нему носом, и ему казалось, будто художник забавлялся… В одном из залов висела картина, изображающая женщину у окна с письмом в руке. Шарлемань никак не мог от нее оторваться, чувствуя что-то знакомое и близкое в зеленоватом свете, исходившем от этого фламандского или голландского полотна. Он отошел, только когда его позвали, — ведь если все будут так долго разглядывать, то экскурсию не удается закончить вовремя. Отходя от холста, он сказал себе: «Так далеко!.. Вряд ли доведется увидеть ее еще раз…» А в следующем зале в углу была картина Рембрандта, гид переводил слова экскурсовода, произнося имена в точности как он. Он назвал изображенную на картине женщину Саскией. Вот в нее-то и уткнулся носом Шарлемань и заметил на кончике ее носа белую точку. Крохотную точку… с булавочную головку… Что это, фантазия, прихоть художника?.. Ну-ка, приглядись повнимательнее… Никто ее не заметил. Но если отойти и представить себе это лицо без точки, то чего-то будет не хватать, лицо потеряет половину света, который сияет на нем. Вея прелесть картины в этом крошечном блике. «Не забыть бы, — подумал Шарлемань, — отдать парню его железяки…» К несчастью, когда вечером в гостинице он вынул их из кармана, оказалось, что они совсем рассыпались.
Парень огорчился, попытался кое-как соединить распавшуюся проволоку.
— Ну, знаешь, — проворчал Шарлемань, — я их таскал для тебя столько времени, а ты еще в претензии!..
Молодой человек поспешил сгладить неловкость:
— Хочешь, возьми одну? Одна останется у тебя, другая у меня…
Он протянул Шарлеманю два куска проволоки, еще сохранившей изгибы, которыми они обвивались, их еще можно было сплести вновь. Почему же все-таки Шарлемань взял их? Вовсе не потому, что хотел увезти что-нибудь на память… Но в глазах юноши оставшийся у него обрывок стал дороже оттого, что Шарлемань увез с собой другой такой же. Он уехал в свой Париж, и Шарлемань никогда больше не слыхал о нем. Вряд ли он когда-нибудь снова его увидит… Как и картину с зеленоватым светом… Но он сохранил ржавый виток, напоминающий фигурку в стиле Пикассо или какого-нибудь иного современного художника, — они делают теперь такие, ни на что не похожие, изогнутые, вытянутые фигурки; когда вертишь их в пальцах, получаются два изуродованных, искривленных тела, сплетенных, словно в танце… Теперь этот виток лежит в большом блюде для закусок на кухонном буфете вместе с другими безделушками… Есть нечто общее между ним и листком чертополоха и остролиста: и тут и там колючки. У каждого человека есть свои маленькие странности…
Эта проволока напоминает Шарлеманю и еще кое о чем… То, как он держался во время этой поездки с немецкими товарищами… Он то был слишком сердечен, то слишком сух. Хотя он твердил себе: это же товарищи… это ведь не та, это хорошая, справедливая Германия… И все же он не мог отделаться от чувства горечи и от неприятных мыслей… И тот, что заговорил о репарациях, наверно, испытывал то же самое. При прощании обнимались с ними с большим жаром, чем если бы они были бельгийцами, чехами или поляками, а причина была все в том же…
Сообщник и…
Пальцы Саида тоже касаются ржавого заграждения между двумя опорными столбиками. И расстояние между ними кажется здесь почему-то большим, чем в Германии…
А до этого произошла история с родственником Саида. Рассказывать о ней недолго, хотя тянулась она целый месяц.
Еще до прихода Шарлеманя в фургон родственник Саида послал домой посылку, в которой были почти одни только детские вещи. Вскоре он получил письмо от семьи. Посылка не дошла. Еще неделя проходит. И писем нет. На этот раз Саид пошел к Шарлеманю в мартеновский цех. Шарлемань предпринял что полагается. Написал запрос и жалобу. Дней через десять посылка возвратилась в порванной упаковке, проткнутая во многих местах штыком. Никаких объяснений. На родственника Саида все это подействовало так, словно штыками изранили его детей. А потом вернулось одно из его писем, затем перевод. Почему их вернули, неизвестно.
Самое важное о Саиде Шарлемань узнал не от него самого, а от Рамдана.
Случилось это год назад, но такие вещи нескоро забываются. В тот день, в фургоне Саид не захотел об этом говорить. Может быть, поэтому Саид так резко отвернулся, когда речь зашла о семье его родича…
Год назад Саид узнал, что казнен его младший брат. Когда он уехал из Алжира, брату было всего девять лет. Поскольку Саид ни разу больше не был на родине, брат по-прежнему оставался в его памяти ребенком. И ребенком он представляется Саиду, когда он думает о том, как брата арестовали, как нашли на нем оружие, посадили в тюрьму и гильотинировали…
Саид еще немало пережил, добавил тогда Рамдан… Но об этом ничего толком не известно.
Через день или два после того, как вернулась продырявленная посылка, Шарлемань встречает Саида и его родича на улице у своего дома. У самого дома — он даже подумал: не к нему ли они пришли.
— Нет, мы не к тебе… — сказал Саид, переглянувшись со своим спутником. — И все же я рад, что тебя встретил: я хотел…
И он рассказал о посылке и о том, как потрясла их эта история.
— Хорошо, что мы встретились, я хотел поблагодарить тебя. Тебе пришлось столько из-за нас хлопотать.
Родственник Саида кивнул головой и гневно произнес несколько фраз.
— Он говорит, — сказал Саид, — что прошлой ночью полиция явилась с обыском в Семейный и там тоже протыкали ножом тюфяки, даже тот, на котором спал маленький ребенок…
После минутного колебания от добавил:
— Он сказал: даже детский матрац!
Шарлемань отметил, что на этот раз Саид перевел ему арабскую речь.
Что им за дело до маленького ребенка…
— Господи Иисусе! — говорит в таких случаях старая Зея. Это ее любимое присловье.
Старой Зее никогда не сидится на месте. В ту ночь, когда вспыхнул пожар, можно было поручиться, что она побредет туда, где все. Она никогда не поспевает вовремя, по все-таки потащится вслед за всеми. Так всегда и бывает. Она знает, что придет слишком поздно, и все же идет к месту происшествия. Ей хочется по-прежнему принимать участие во всех событиях. И она ковыляет на своих старых ногах… Где только ее не увидишь! Кстати, это она разносит извещения о смерти.
Алжирские женщины почти не выходят из дому. Мадам Бен-Шейх — исключение. Провизию покупают мужчины. Когда арестовали шахтера Брагима, жена его знала дорогу только к отделу общественной помощи и в больницу. Она беременна, и Сюрмон уговорила ее пройти профилактический курс обезболивания родов.
И все же жена Брагима вышла из дому. Она отправилась на поиски мужа. Ей указали улицу Буайе. Она совсем неграмотная. И вот она идет, выставив вперед живот, в бледно-зеленом платье, в розовом цветастом шарфе, обмотанном вокруг головы, в серебряных сандалиях на босу ногу. Два араба в черной полицейской форме стоят у дверей — их теперь четверо, они сменяются дважды в сутки. Увидев ее, они толкают друг друга локтем и говорят:
— Его только что отвели в комиссариат.
Она отправляется туда. Она спрашивает дорогу, сбивается с пути, спрашивает снова и снова идет. Вот тут-то она впервые встречает Зею, которая ее сразу заметила, ведь «они» всегда заметны.
В комиссариате ей сказали:
— Тебя тут ждали. Нам позвонили. К сожалению, его только что увели в мэрию. Спроси там жандарма Коруайе, он дежурит.
Мэрия недалеко. У почты женщина снова встречается с Зеей.
— Да, верно! — смеется Коруайе. — Только они там ошиблись, в комиссариате. Он сидит в жандармерии.
А казарма жандармов находится в противоположном направлении, за Понпон-Финет.
Женщина добралась и туда, но ничего не добилась. Должно быть, его сразу увезли в Дуэ или в Лоос. Возвращаясь из жандармерии, она в третий раз встретила Зею. Зея сидит на полуразрушенной каменной стене, заботливо разложив вокруг себя широкую юбку из черной саржи; одуванчик и мелкий молодил растут в трещинах и меж камнями стены, разбитой еще в первую мировую войну. Запачкать исподнее — это ерунда, Зея бережет юбку. Издалека она наблюдает, как идет в ее сторону женщина, бледная как смерть. Если бы она шла но другой стороне улицы, Зея не окликнула бы ее, но женщина была совсем рядом и почти коснулась колен старухи…
— Господи Иисусе, доченька! — говорит Зея. — С таким животом… как же это ты шатаешься так долго взад-вперед по улицам, ноги у тебя, верно, совсем распухли… Посиди малость…
Женщина опустилась на камни, не заботясь о платье. Но она ничего не рассказала Зее. Только позднее, сопоставив обстоятельства, все узнали, как над ней издевались.
Немцы…
— Понюшку табаку хочешь?
Зея начинает говорить что-то. Женщина не отвечает, и старуха продолжает разговор одна, указывая на остаток стены, на котором они уселись:
— Представляешь себе, здесь до той мировой войны была главная контора… Правда, ты еще молода и не можешь этого помнить…
— Господи Иисусе, — приговаривает старая Зея. Между тем в бога она верит не больше, чем другие. В церковь ходит только по случаю похорон, да и то из уважения к собственной должности: ведь она разносит извещения о смерти… Детский тюфяк, в который тыкали ножом… Шарлеманю вспомнилась история кюре из восточного района, он, кстати, вообще не любит тамошний черствый народ. Этот кюре вспорол живот своей любовнице, которая ждала от него ребенка… Все газеты писали об этом…
Обыски, облавы производятся чаще всего ночью. Но однажды, недели три назад, всем показалось, что назревает что-то особенное. Они явились к концу смены, среди бела дня пропустили всех сквозь сито, задерживая алжирцев, как камешки в песке, и приказали им подняв руки вверх, выстроиться вдоль ограды завода, лицом к решетке; так они стояли спиной к улице, дожидаясь, пока старший из местного отделения полиции и алжирец-переводчик удосужатся ими заняться. Пока жандармы осматривали выходящих, эти двое обыскивали алжирцев, допрашивали и проверяли документы.
Сообщники…
И среди рабочих бывают разные люди. Для некоторых полицейская облава — тяжелое переживание; как только их проверят и отпустят, они с чувством облегчения и избавления от тревоги, которой вряд ли будут с кем-либо делиться, счастливые, что их не задержали, быстро забывают все пережитое, громко смеясь, вскакивают на велосипеды и поскорее уезжают прочь. Однако на этот раз было несколько иначе. Рабочие ставили велосипеды вдоль стен или клали их прямо на землю, колесо долго крутилось в воздухе, чиркая о камни. Не все спешили умыть руки и поскорее убраться восвояси. Нашлись такие, которые спрашивали: «А почему не нас?» Конечно, они не протестовали громко, но все же это было лучше, чем ничего. И кроме того, решетка ведь не стена — те, кто шел по заводскому двору, направляясь к проходной, видели происходящее. Кое-кто советовал: «Не будь дураком! Смывайся отсюда!» Кто-то останавливался на ходу, делая знак алжирцам, чтобы они шли к заднему выходу… Это была тоже своеобразная сортировка… Некоторые бегом возвращались обратно в цех, чтобы предупредить товарищей… При этом они ничего не опасались и не прятались: им-то уж нечего бояться шпиков.
Жандармы не учли главного: стена и решетка — разные вещи. Когда перед тобой выстроят мужчин с поднятыми руками и они смотрят тебе в лицо, это совсем не то, что видеть их спины. Тут уж смотришь друг другу прямо в глаза.
— Среди них был один, — говорил потом Роже Турнон, — я, кажется, не забуду его до конца моих дней. Приземистый такой, он даже и не с завода. Он строитель, работает на ремонте крыши в доломитовом цехе. Он был одет в белое, как маляры, а на голове драная фетровая шляпа, вся в известке. И больше всего меня поразило: его белый комбинезон, лицо и руки были исчерчены тенью от решетки, знаешь, ромбики! — Он показал пальцами. — Черным по белому. Да, погода стояла прекрасная, солнце светило ярко, нет, никогда не забуду!..
Он добавил:
— Я шел у самой ограды, на всякий случай — а вдруг кто-нибудь из них просунет что-либо сквозь решетку…
— Молчи! — отвечает Марсель. — Есть вещи, которые ты можешь делать, если хочешь, но трепаться об этом нечего.
В тот день все обошлось. Жандармы увидели, что алжирцы больше не выходят. Они сняли засаду, расселись по грузовикам, не забрав никого, и, обогнув территорию завода, подъехали к задним воротам, чтобы попытать счастья там. Но новость бежала напрямик через завод и поспела раньше них. Здесь действовал свой арабский телефон! Сердце разрывается, когда подумаешь, как мало мы можем для них сделать. Зло засело глубже, чем кажется. Может быть, все произошло так, потому что облава застигла нас врасплох?.. Теперь мы ученые, и, если это представление повторится, мы будем действовать иначе. Отделять камешки от песка — это одно. Но люди должны защищаться, они не должны позволять, чтобы их пропускали сквозь сито, сквозь решето и веялку, чтобы их просевали, сортировали…
Во время уборки урожая с ферм доносятся трагические стоны веялки… Помнится, как в детские годы мы прислушивались к ним, выходя из школы… Циркулярная пила издает дикие вопли, напоминающие о живодерне, о средневековых пытках, четвертовании, колесовании… А веялка жалобно стонет. Сначала ее стоны похожи на тонкий скрип разводных мостов, напоминающий зов оленя в лесной чаще, потом они усиливаются, вырастают в пронзительный вой сирены.
По четвергам в полдень сирены устраивают генеральную репетицию. Они взвывают все разом, то выше, то ниже — как прежде во время воздушных налетов.
В начале пятидесятых годов люди еще пугались. Свежа была память военных тревог. Теперь никто не обращает на них внимания. Кроме собак.
Каждый четверг в полдень, чуть только раздается звук сирен, собаки дружно начинают им вторить. Сперва они глухо ворчат и отчетливо слышны — хоть считай — колебания связок в глубине их гортани, затем они завывают, приноравливаясь к тону самой близкой и сильной сирены. Здоровенная овчарка Марселя Менара старается больше всех, ее вой покрывает весь собачий хор… Когда сирены затихают, собаки продолжают выть еще несколько секунд, наводя тоску на всю округу…
Но, несмотря ни на что, люди смеются, вот недавно в самый разгар такого концерта просто надорвали животики…
— Иди погляди, какая буря пронеслась! — говорит Марсель соседу Биро.
Оба встают и выглядывают наружу, и далеко, через сады, они кричат Шарлеманю:
— Ты видел разгром?
Накануне вечером эти странные священники в гражданской одежде ушли неизвестно куда. Когда в полночь они вернулись, их знаменитая палатка валялась на земле, все веревки были перерезаны бритвой. Они ушли ночевать в город. Вернулись они только к одиннадцати утра и стали осматривать разоренную палатку.
— Еще хорошо, что у них отрезали только веревки! — говорит Марсель.
Сообщники…
Половину вещей выкинули в речку. От брюк оторвали все пуговицы. Вот увидишь, если эти люди когда-нибудь достигнут благополучия, от них еще и не таких проделок дождешься. Посмотри только, как во время разговора у них в глазах сверкают лукавые искорки… Распластанная на земле палатка казалась еще больше, чем когда была натянута. Один из колышков продолжал косо торчать в земле, и конец серо-зеленого полотнища сморщился на нем, по выражению Марселя, словно пустое вымя. С крюка треножника свисал до земли полупустой резиновый мешок для воды. Под палаткой лежала церковная утварь, надувные матрацы, портативная печка с экранами, газовая лампа, походный погребок, грязная пластмассовая посуда, спальные мешки, все это барахло пропахло мужчинами и немытыми ногами… Они погрузили свои пожитки на ручную тележку наподобие той, что у Клементины и Сержа Бургиньона, и ушли, не прощаясь. Большие лакированные кресты раскачивались на их шеях… Больше их никто не видел. Словом, нет предела человеческой неблагодарности.
Только один раз удалось устроить забастовку в защиту их прав. Это случилось два года назад, в 1958 году. Работу приостановили на один час. Всего один час за пять лет… А между тем сделать это тогда было много труднее, чем сейчас. Но тогда причиной забастовки была гибель человека…
Так никогда и не выяснилось доподлинно, что произошло, но восстановить события не составляло большого труда. Это случилось ночью. Был разгар предвыборной кампании. У стен, где расклеивали афиши, толпились люди двух сортов: мальчишки, даже не студенты, а просто лицеисты, те, что обычно сидят в кафе «Жан». Они торчали на улице весь вечер, собираясь группами то тут, то там. Уходя, обрывали наши плакаты и разбредались по домам, дрожа как осиновый лист… Они с охотой вернулись бы в кафе «Жан» выпить чего-нибудь для бодрости, но там было уже закрыто. На улице стало совсем темно. Этих и бить-то не хотелось. Стоило появиться хотя бы одному мужчине, они тут же бросались врассыпную. Они что-то выкрикивали, швыряли камешки и всякую дрянь, но все же отступали. Зато другие — это было что-то новое, таких у нас с самой войны не видели. Они приезжали группами из Лилля, Рубэ, Туркуэна или из Дуэ на машинах, человек по пять в каждой, и таких машин появлялось четыре или пять за ночь. В карманах и в машинах у них было все необходимое. Они заклеивали наши афиши своими, писали огромными буквами «да» на тротуаре, искали стычек с местными. Вначале наши растерялись. Эти молодчики сбили с ног дубинкой долговязого Брутена и бросили его на тротуаре… Брутен дотащился до ближайшей двери, постучался и минут пятнадцать пролежал без сознания на кафельном полу кухни, куда его втащили. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. С того дня он только и думает, как бы с ними расквитаться за все… Тентену Руссэ достался только один удар, но зато — кастетом в переносицу, он две недели провалялся в больнице. В эти дни жандармы будто случайно не интересовались нами. Но скоро наши организовали оборону и дали этим приезжим отпор. По ночам местные жители не раз слышали топот погони. Но наши теперь чаще бывали охотниками, чем дичью. Раз или два приезжие молодчики выхватывали револьверы, но стрелять не посмели и удирали со своими револьверами. Раз или два в таких случаях нашим удалось завладеть их машиной, — в залог… Так нам стало известно, что они являются издалека. Но наши были великодушны и ограничивались тем, что портили что-нибудь в моторе, обрывали провода, разоряли приборный щиток… Ломали дворники, протыкали шины и все. Мы предпочитали гоняться за ними, а не за их машинами… Погоня возвращала нам молодость, впрочем, мы не так уж стремились их поймать, просто хотели очистить от них территорию. Чтобы ночью иметь возможность сказать: «Эти стены наши. Мы здесь хозяева». И тот, кто никогда не испытывал это ощущение в прохладные предрассветные часы, тот много потерял.
Немцы…
Дело было как раз на исходе одной из таких ночей. Они попытались высадить десант довольно рано, около десяти часов. Однако одержать верх они не сумели. К полуночи территорию удалось очистить, и их машин уже не было слышно в городе. Надо полагать, они ринулись в ближние деревни. Около двух часов ночи мы сняли патрули, а в три часа они потихоньку вернулись обратно, рассчитывая главным образом напасть на одиночек. И вот тут-то им попался молодой парень Ахмед. Так и осталось тайной, что он делал на улице в такое время да еще после потасовки в темноте. Впоследствии, опросив всех, кто слышал или заметил что-нибудь, удалось восстановить, как развернулись события. Дело началось на шоссе. Они явились на трех машинах. Должно быть, заметив его, они преградили ему путь к предместью, и Ахмед вернулся в город. Двое или трое пустились за ним вдогонку, а машины шли по пятам. Ахмед не кричал. Никто не слышал его криков. Может быть, самое страшное именно в том, что он не звал на помощь, как видно, он не надеялся и не ждал помощи от жителей домов, мимо которых бежал. Конечно, такие мысли — его личное дело, но факт остается фактом — он так подумал. И как это ни ужасно, но, возможно, закричи он, нашлись бы люди, которые скорее поддержали бы его преследователей. Кто-то слышал, как он бежал по улице Рампар, потом по улице Дезан-друэн, мимо бань. На площади Амура он чуть было не ускользнул от них. Там, между домами, свалена целая груда решеток и парниковых рам. Ахмед перемахнул через них, но преследователи обежали вокруг и настигли его за домом. Они били его на огородах, это видно было по следам на земле, одна из циновок оказалась оторванной, кто-то разбил ногой стекло парниковой рамы. Затем погоня продолжалась. Топот ног раздался вначале на улице Клебер, потом на улице Фруассар, на улице Маскре… И здесь Ахмед решил защищаться. Он прижался к стене дома. Старая женщина, хозяйка этого дома, слышала, как тяжело он дышал. Но что она могла сделать? Она встала с постели, приоткрыла окно и забарабанила в ставню, словно отгоняя шалых котов. Она услышала, как, отбиваясь, Ахмед что-то произнес. Нет, он не кричал, не звал на помощь, может быть, он ругал своих врагов или просто пробормотал что-то вслух… Нападавшие, как видно, сменились: те, что вышли из машин, напали на него со свежими силами, а те, что бежали за ним, заняли их место. И погоня возобновилась, шум ее слышали даже в Зеленой аллее, хотя это довольно далеко… Они обежали четверть города, не по самому центру, правда, но все же по цивилизованному городу, и никто, ничто не положило этому конец. Конечно, никто не мог предугадать их намерения. Люди предпочитают не думать о зле. Да и сам Ахмед, наверно, ни о чем не догадывался. Потому он и не кричал. Все его знали, он уже четыре года был чернорабочим на прокатном стане. Должно быть, он надеялся убежать от них или полагал, что в худшем случае они изобьют его, как Брутена или Руссэ. Конечно, он испугался. Случись это у него на родине, он крикнул бы, выбежали бы люди и он был бы спасен. Но Зеленая аллея, как указывает само название, — это уже не город, домов там мало, кругом строительство, и вот тут он оказался в тупике: он попал в котлован между двумя домами и высокой насыпью. Он хотел пробраться оттуда к пустырям, ускользнуть от преследователей и скрыться в темноте. Но, задохнувшись от долгого бега, он не сумел взобраться по отвесной песчаной стене котлована. Один из домов был заколочен. В другом жил служащий из управления шахты Тафен, он рассказывал потом, что все произошло слишком быстро. Он тоже обратил внимание на то, как Ахмед тяжело дышал. Когда он спустился со второго этажа, из своей комнаты, машины уже разворачивались и отъезжали. Он услышал, как стонет мужчина. Он окликнул его с порога, не выходя на темную улицу, удивился, не получив ответа, принес из сарая фонарь, зажег его и осторожно двинулся на стоны. И тут увидел Ахмеда с ножом в спине. Позднее были обнаружены еще две ножевые раны — в плечо и в живот. Ахмед еще дышал. На песке ночью кровь не слишком заметна. Тафен отправился за помощью, и, когда он вернулся, Ахмед был уже мертв.
Газеты постарались затушить этот случай, объяснив, что это было сведение счетов между «единоверцами». Пустили также слух, что, скорей всего, Ахмед сам напал на своих дружков, а те отняли у него нож, защищаясь. Ну, а что до следствия…
Сюрмон снова встала, она рассказала еще одну историю. Жители улицы Буайе то и дело прерывали ее, говорили все разом. Они говорили о том, что по ночам они слышат странные звуки, наводящие на них ужас. Владелица дома, стоящего по соседству с филиалом полицейского участка на улице Буайе, переселилась в другое место, Шарлемань с виду знает эту женщину. Какие-то фразы и особенно жесты, выразительные и ожесточенные, мгновенно соединяются в его сознании, словно лоскуты одежды Арлекина, и восстанавливается картина, окрашенная его личным восприятием и его собственным ощущением, у него смутное чувство, будто Саид все еще стоит за его спиной, подталкивая его в фургон двумя пальцами.
— Она переехала, потому что просто заболела от постоянных воплей!..
Придет день, и один из этих домов рухнет сам собой. Эти дома не такие уж ветхие, но земля под ними оседает и, того и гляди, обвалится из-за галерей, пролегающих глубоко под домами. Подземные взрывы тоже не проходят даром. Из-за этого и улицу загородили. А вдоль старых канализационных труб то и дело проступает трещина, ее заделывают, но вскоре она появляется снова. Фасады домов очень узки и тесно примыкают один к другому, разделенные лишь тонкой стеной — ну прямо сиамские близнецы. Каждый дом имеет три этажа и вдобавок чердак, при узком фасаде они выглядят какими-то долговязыми и худосочными. В одном из них жила мадемуазель Кашё — ее зовут Мадемуазель шутки ради — внешне она чем-то походит на свой дом. Большая щель в стене наискось пересекает раму правого окна на втором этаже и поднимается до чердачного фонаря. Сама хозяйка не сказать, чтобы тронутая, а так, чудная с виду, она словно слегка косит и глазами, и головой, и всеми своими повадками, так что ее считают малость не в себе. Один глаз у нее чуть прикрыт. Она не пропускает ни одной воскресной вечерни. Все горе в том, что она никогда не была замужем. Лет до сорока пяти — сорока семи, еще года два назад казалось, что она вполне свыклась с одинокой жизнью и даже полюбила ее, но вдруг она стала обращать на себя внимание соседей. Она перекрасила волосы, стала ходить без шляпы, завивается допотопными щипцами, от которых на ее шевелюре остаются не волны, а какие-то углы и зигзаги. Она теперь носит туфли на высоких каблуках, в ее-то возрасте, да еще по булыжнику. Ходить к вечерне — главное ее развлечение. Раньше она редко появлялась в церкви. Можно подумать, у нее вспыхнула последняя надежда, что пока еще не все потеряно…
Такие женщины обычно чутко спят по ночам. Однажды она проснулась от стонов, которые раздавались как будто в самом ее доме, где-то в стенах. Она подумала, что это ей померещилось, но все же прислушалась. Тишина. Встревоженная, она задремала только на заре и не решилась поделиться с кем-нибудь. К тому же живет она очень замкнуто. На ее лице так и написано, что больше всего на свете она боится, как бы о ней не подумали дурно, и всеми способами она старается приукрасить себя, это в ее-то возрасте. Она даже прямо в глаза никому не смотрит: ни женщинам, ни мужчинам, и всегда идет посередине тротуара торопливо, словно опасаясь самих домов…
Дней десять спустя ее снова разбудили те же звуки. Она больше не сомневалась: откуда-то доносились уже не стоны, а вопли. И на этот раз они не прекращались, сколько она ни прислушивалась. Они поднимались словно из-под земли, из-под этой растрескавшейся земли под растрескавшимися домами. Она начинает теряться в догадках, предполагая все что угодно, кроме истины. Скорее всего, это шахтеры, думает она. Она не знает, как устроена шахта под землей, не знает, что галереи проходят очень глубоко… Потом она начинает понимать, что кто-то кричит от боли. Точно ребенок, она забивается под одеяло, словно оно может защитить ее. Она не смеет встать с кровати. Теперь она уверена, что крики доносятся из-под ее собственного дома, из-под пола, а вовсе не сквозь стены и не из филиала полицейского участка, как она сначала было подумала и как любой подумал бы на ее месте… и не из соседнего дома. И вскоре она пришла к убеждению, что крики раздаются из подвала ее дома…
На следующий день она наконец все поняла. Часам к двум ночи крики утихли… Когда уже совсем рассвело, она решилась спуститься на кухню и в подвал. Никто не входил туда. Доски, которыми был заколочен проход из ее подвала, оставались на месте.
Прежде дом, занятый сейчас полицейским участком, был обыкновенным жилым домом. Перед войной и в первые послевоенные годы здесь жила молодая чета с ребенком. Во время воздушных налетов они отсиживались в своем подвале, а Мадемуазель в одиночестве тряслась в своем. Однажды сосед пришел к ней. Он где-то вычитал, что всегда лучше иметь два выхода из убежища, его жена до смерти боится, особенно теперь, когда в семье есть малыш, вдруг рухнет дом и они не смогут выйти… Так не позволит ли Мадемуазель, чтобы он сделал проход между их подвалами, тогда в случае несчастья лестницы ее дома и их дома будут служить двумя выходами, для нее ведь тоже так безопаснее. И она подумала о том, как страшно сидеть в подвале одной во время тревоги… Стена между ними оказалась толще, чем можно было ожидать. Они полагали, что в подвальном этаже она такая же, как наверху, в один кирпич, не больше. Однако пришлось пробивать стенку в целый метр, должно быть, дома были построены на фундаментах старинных укреплений, воздвигнутых Вобаном. Две недели подряд, ежедневно после смены, сосед подвешивал над головой лампочку на проводе, брал лом и молот и работал, волосы его и даже ресницы были в известке, пыли и белой паутине. Жена помогала ему выносить обломки кирпича и куски штукатурки, таская ведро за ведром по лестнице и вываливая их в старую бадью, а на следующее утро рабочие, вывозившие мусор, поднимали крик на всю улицу. Сама мадемуазель Кашё ни к чему ни прикоснулась, ее дело было дать согласие, грязь по ее лестнице не таскали, так что до конца работы у нее в доме было чисто. Время от времени она спускалась посмотреть, как идут дела, и подбодрить соседа. На десятый день она сказала то, что мать, может быть, не решалась выговорить. Мадемуазель была, очевидно, не так уж несообразительна, как казалось:
— Ну теперь ребенка-то, уж во всяком случае, можно сюда просунуть…
Но когда война кончилась, огромную дыру так и не заделали. Ссоры между соседями — дело обычное. Мадемуазель Каше позвала Тиса Дерика, который помогает ей обрабатывать огород, и велела ему забить проход досками наискосок. Соседи сделали то же со своей стороны. Но в один прекрасный день — может быть, им надоели бесконечные препирательства с мадемуазель Кашё, а может быть, потому, что жена соседа, родив второго ребенка, стала раздражительной — так или иначе, они съехали. Дом пустовал год. А затем появился новый сосед, полицейский участок, которому было мало дело до никому не нужных подвала и лаза. Вот оттуда-то и неслись крики, проникавшие в спальню мадемуазель Каше. Значит, соседнему подвалу нашли применение.
Он служил не тюрьмой. Между допросами заключенных, должно быть, уводили обратно в одно из помещений первого этажа, где на окнах, кроме запертых на замок ставней, были еще мощные решетки. Так что днем можно было сколько угодно прислушиваться у дощатой перегородки в подвале — ни один звук не проникал оттуда.
Сообщники…
Такие вещи делаются ночью. По ночам полицейские закрытые машины привозят и увозят людей. Мадемуазель Кашё уже не единственная, кто слышал какой-то подозрительный шум. Но к ней в комнату он доносится яснее, чем куда-либо. Ей чудилось, будто все это происходит прямо в ее доме и с ней самой. Полицейские принесли радиоприемник, и теперь раз или два в неделю они включают звук на полную мощность. Чаще всего гремит музыка, во всяком случае до полуночи, когда передается программа для дорожных рабочих. Иногда в более ранний час можно услышать арабские мелодии. И теперь, стоит им включить приемник, Мадемуазель уже знает, что Это означает.
И вот на прошлой неделе она сложила свои пожитки и перебралась к родственникам, фермерам в Эскаршене.
Вдруг раздается голос Аройо. Он говорит, не поднимаясь с места, совсем о другом… Однако все слушают, повернувшись в его сторону, словно его слова тоже относятся к событиям на улице Буайе.
Может, причина тут в том, что в глазах у него стоят слезы.
Он не плачет. Просто у него постоянно слезятся глаза. Как у всех, кто пьет. Пьет он не больше других. И возраст тут ни при чем. Для плотника шестьдесят лет еще не старость… Чаще всего влага выступает на его глазах даже не от волнения, а просто потому, что ему трудно выразить свои чувства словами. Или трудно их скрыть, кто тут разберется. Он так и не привык к французской речи и до сих пор говорит наполовину по-испански. Может быть, эта слеза выдает напряжение, скорее бессилие выразить свою мысль, чем печаль. Даже в будни, не отмеченные для него ни особыми горестями, ни жаждой поделиться ими, в глазах его стоят эти слезы изгнанника. Изморось чужбины.
— Мы тут уже почти не иностранцы, — говорит Аройо. — Теперь уж ничего не поделаешь, но, видно, тут нам и помирать, и мне, и моему брату, и нашим женам. Дети? Испанец ведь не то, что алжирец, верно? Вот, когда дочка брата выходила замуж за алжирца, мне говорили: «Как же это брат твой допустил такое?» Некоторые еще добавляли: «А ведь казалось, она приличная девушка, разумная». Один даже обругал ее, не при нас, но мне рассказали, — назвал подстилкой для цветных. А когда у нее родился малыш, то соседка, славная такая старуха, посмотрела на него в качке и, не имея в виду ничего плохого, сказала: «Вот чудно, дите-то получилось хорошее!» Когда мать пошла регистрировать его в мэрию и назвала его имя — Насреддин, — ей ответили, и, уж конечно, на «ты», без церемоний: «Египтянина из него делаешь, это не к добру! Ты стала такая же фанатичка, как и они». Где нм знать, что к Насеру это имя не имеет никакого отношения. Насреддин означает, как мне объяснили «цветы Ислама». Для них дети — это всегда цветы. Есть такая арабская поговорка: «Дети — цветы в доме…»
— Во всяком случае, — господин Ренар, несмотря на всю свою воспитанность, вмешивается в разговор и говорит без всякой видимой связи… (можно подумать, что какое-то душевное потрясение заставляет каждого из них говорить о своем), — уж если вспомнили о цветах, не примите в укор, но никто не приносит столько полевых цветов в школу, как алжирские мальчики! Просто удивительно после всего, что эти люди от нас натерпелись… И главное, не только девочки, но и мальчики!.. Пусть это не имеет отношения к делу, но все-таки… Извините меня, Аройо, но вы упомянули о цветах…
— Ничего, — отвечает Аройо. — Даже когда люди хотят сказать что-то приятное, у них получается наоборот. «Смотрите, а он чисто одевается!», «Он работящий хотя бы», — вот как о них говорят. У брата двое зятьев, но этого он любит больше. В доме у него всего вдоволь, что может иметь рабочий человек, семья сыта, одета…
Он умолк. Его речь имела к пыткам не больше отношения, чем цветы господина Ренара к его, Аройо, словам… И опять эти непросыхающие слезы в глазах. Все не столько слушали его, сколько пристально смотрели на него. Его глаза говорили с другими глазами, в которых тоже сиял влажный отблеск, точно рассыпанные блики утренней росы… Словами всего не выразишь! И зачастую главное таится не в них.
— Да! — начал Норе, вставая…
И снова течет рассказ.
Когда Норе впервые услышал то, о чем он сегодня стал рассказывать, он сразу вспомнил те десять минут, показавшиеся ему целой вечностью, когда он держал в своей руке забинтованную руку Мулуда. Мулуд все еще в больнице, но он уже идет на поправку и послезавтра выписывается.
Недавно перед вечерней сменой Норе заглянул в кабачок напротив завода. Был четверг, он хорошо это запомнил, потому что дети были не в школе и играли на улице, и тут же он подумал: вот дурак, забыл, что сейчас каникулы… Словом, это было в прошлый четверг, он хорошо это помнит.
Он надеялся разузнать что-нибудь о пытках. Когда он вышел из дому, он увидел, как мальчишки гоняют на велосипедах по поселку. Погода стояла прекрасная. Позади всех, отставая метров на пятьдесят, ехал на большом черном велосипеде самый младший из мальчиков — лет девяти или десяти. Он был слишком мал и не доставал до педалей, поэтому он ехал, примостившись сбоку, просунув правую ногу в металлический треугольник рамы. Он не мог дотянуться до правой ручки руля и держался за него слева и посередине, то поднимаясь, то опускаясь вместе с педалями. Он торопился, стараясь не отставать от других. По цементной велосипедной дорожке ехать было легко. Дорожка была ровная и к тому же шла под уклон к железному мосту.
Но он был слишком мал, и Норе с тревогой следил за ним. Всей своей плотью он ощущал, как надвигается беда. Точно такое же чувство он испытывал, когда касался рукой бесформенных перевязок Мулуда.
Внезапно одна из ног мальчугана соскользнула с педали. Он упал, вернее, его протащило добрых десять метров лицом по цементу, он не мог высвободить руки и ноги из велосипеда. А цемент здесь не гладкий, он весь корявый, как морская скала, как терка для моркови, как наждачная бумага… На мальчике были только короткие штаны и рубашонка.
Норе бросился к нему. Словно рубанок прошелся по правой стороне лица ребенка и сорвал кожу от скулы до подбородка. И локоть ободран. И все правое бедро до самого колена. Словом, картина ужасная. «Несите его сюда», — сказала какая-то женщина. Кто-то подобрал велосипед, старую железную рухлядь. Крышечки на звонке не было, и звонок-то весь проржавел. Провод ручного тормоза оборван, рукоятка щелкает под рулем, как клюв. Одного взгляда на велосипед было достаточно, чтобы понять, что произошло. Правой педали почти что и не было — одна ось, блестящая и стертая от долгого употребления. Руль тоже проехался по цементу, и его словно отшлифовало с одной стороны. Седло в лохмотьях. Что же говорить о детской коже…
— Сколько раз я твердила, чтобы они были осторожнее! — говорит какая-то женщина.
У мальчика не видно переломов, но повсюду, где кожа прошлась по цементу, сочится кровь. На ногу льют перекись водорода, понемногу, прямо из бутылки. Раны белеют, водород слегка шипит, появляется розовая пена. Лицо осторожно промывают влажной ватой. Мальчик не кричит. Он все еще не оправился от испуга.
— Прямо голое мясо! — говорит женщина, прикладывая тампоны.
— Больно ему будет завтра! — добавляет кто-то из мужчин.
Обнаруживаются все новые ссадины, словно напильником содрало кожу. На ладони, на щиколотке, столь чувствительной к боли — мальчик был в башмаках на босу ногу… Зубец шестеренки впился ему в икру и из синей ранки сочится кровь, но это пустяки по сравнению с остальным.
Когда Норе подходит к кабачку, он все еще взбудоражен и словно покрыт гусиной кожей, невидимой для глаз. Он внутренне содрогается, как тогда, когда видел перевязки Мулуда. Человеческая плоть наделена таинственной способностью взаимопонимания, не зависящей от общности идей и чувств; существует некий флюид, который передается от одного к другому, даже без соприкосновения, если плоть испытывает страдание.
Когда ему рассказывают об окровавленном человеке, Норе не нужно большого усилия, чтобы представить себе его… Из местного полицейского участка убежал алжирец. Точно никто не знает, как это произошло, но слух об этом разнесся быстро. Накануне вечером его привели и заперли в комнату со ставнями на засовах, он хорошо слышал под собою крики из подвала. Потом дверь внезапно открылась, вспыхнул свет. Рядом с ним бросили другого алжирца без сознания, окровавленного, с изувеченной правой рукой и размозженными пальцами, с выдавленным правым глазом. Это все, что он успел увидеть. Тотчас же свет погас и дверь захлопнулась. Всю ночь, ожидая ежеминутно, что его самого отведут в подвал, узник просидел подле товарища, держа его за здоровую руку. Он держал ее еще и для того, чтобы помешать несчастному хватать себя за лицо, ощупывать вырванный глаз, что он пытался сделать, чуть только приходил в себя… Он держал эту руку всю ночь напролет, чтобы хоть немного согреть его и поддержать. Временами рука пылала, временами была ледяной.
— Нет, мы им не сообщники, — говорит Шарлемань.
Но это слово, брошенное Сюрмон, и слово «немцы» продолжают трепетать в его сознании, словно петушиные перья, которые разлетались повсюду, и каждый боялся, как бы они не коснулись рук или одежды и не запачкали их кровью…
И, следуя резкому повороту в ходе мыслей, он продолжает:
— Это правда, здесь происходят вещи, неслыханные даже во времена оккупации. Находятся люди, готовые утверждать, что алжирцы сами виноваты и что из-за них поднялась вся эта кутерьма, в которой перепадает и нам…
Он повышает голос, чтобы предупредить возражения Сюрмон, которая встала с протестующим жестом:
— Знаю хорошо, что это вещи несравнимые! Но так же как алжирцы не виноваты во всех неприятностях, которые сваливаются нам на голову… даже тогда, когда в нашу воду попадают крысы или бараньи головы и прочие сюрпризы… так и нас нельзя винить всех огулом.
Он одобрительно кивает головой Сюрмон, которая не пытается больше его прерывать и тихонько садится на свое место.
— Я вовсе не хочу сказать о немцах хуже, чем они заслуживают, но зачем обвинять тех, кто стоит на страже нашей чести. Сообщники?.. Да, среди французов есть их сообщники. И все же, когда волнуешься, Сюрмон, нужно особенно следить за своими выражениями. Нам не в чем себя упрекнуть. Кто с самого начала делал все возможное и невозможное, чтобы создать движение протеста? Зачем принижать значение того, что нами сделано? Нужно делать еще больше — вот это правда. Итак, каковы наши задачи сегодня? Действовать всем заодно? И что мы должны делать? Вот о чем нужно договориться…
Пока, сдерживая волнение, он говорит о самом главном, взгляд его ловит мгновенные и легкие, как перья, детали, те повседневные мелочи, что окружают его. Вот рука старика Дескодена, опирающаяся на спинку стула, сморщенная, как лапа петуха. Старик Дескоден чувствует взгляд и подмигивает Шарлемань). И, словно в знак дружелюбия и согласия, он пускает струю коричневой слюны вниз, на стену. Что ж, одним плевком больше… А вот Абель Грар. Должно быть, никакие кровопролития не помешают ему курить размеренно, в неизменном ритме, сначала он делает затяжку, потом открывает рот и вдыхает воздух, ибо он астматик, черная сигарета свешивается с нижней губы, и наконец он как бы с облегчением выпускает дым. Стол под руками Шарлеманя покрыт истрепанной розовой бумагой, прикрепленной ржавыми кнопками. Края листов закрутились и пожелтели, розовая бумага всегда желтеет. Рука Кристианы тоже лежит на столе, кончики ее пальцев касаются какой-то вмятины, давнего пятна от воды… А может быть, это пятно от белого вина после какого-нибудь чествования. Или это жена Занта брызнула на стол мыльной пеной. Стол покрыт старыми перевернутыми афишами. Что за афиши? Откуда они? Здесь тесно, но человеку в себе самом, пожалуй, еще теснее. А как много заключает он в себе!.. И хотя Саид ниже ростом, чем Шарлемань…
Шарлемань умолкает. Он сказал лишь несколько слов, выступил наравне с другими. Собрание только начинается. Выводами и предложениями займется Кристиана. Не до всех еще дошло, но сразу видно, что люди глубоко взволнованы.
III
Последние четверть часа были решающими. Только тут Шарлеманю все стало ясно.
Вначале он действовал не рассуждая. Как только он увидел, что Саид бежит, он тоже пустился бежать… А когда по заводу бежит человек, и особенно алжирец… Однажды, проезжая на велосипеде проселочной дорогой, Шарлемань увидел, как из кустарника выскочил молодой крестьянин с вилами в руке, спрыгнул с высокой насыпи, пересек дорогу и скрылся среди деревьев на противоположной стороне. Может быть, он бежал без причины, удовольствия ради… Если и была причина, Шарлемань никогда ее не узнает… Но тогда он подумал: если бы так бежал алжирец, даже и без вил, то немедленно жандармы и нежандармы ринулись бы ему вдогонку. Итак, когда Шарлемань увидел, как Саид вернулся через проходную во двор завода и куда-то помчался, он, Шарлемань, еще не зная, в чем дело и от кого Саид удирает, тоже пустился вслед за ним.
Погода стояла плохая. Солнце показывалось на миг и тотчас исчезало… Серое небо с жадностью поглощало солнечный свет, как старая штукатурка впитывает первые капли дождя.
Шарлемань бежит, в его голове происходит нечто подобное тому, что не раз доводилось ему наблюдать на рыночной площади в ветреную погоду. Обрывки бумаги, крупные, как газетные листы, высоко взмывают над машинами, переворачиваются, планируя в воздухе, белые, бесцветные, красные, зеленые, желтые, прилипают к ветровому стеклу, путаются в электрических проводах.
А завод поистине малоподходящее место для бега. Ведь повсюду огонь. Это все равно что бегать по саду, стараясь не наступать на клумбы. По двору еще куда ни шло. Но Саид явно избегал открытых мест. Выскочив из томасовского цеха, он, спотыкаясь, пробежал по шпалам между рельсами, по которым идут вагонетки с литьем. Едва успев взобраться на асфальтированную дорогу, которая змеею вьется по территории завода, он тотчас бросился к мартеновскому цеху, взлетел прямо на второй этаж, вскарабкавшись по наружной лестнице, новой железной лестнице, покрытой суриком. Продолжая бежать, Шарлемань на миг потерял его из виду… В мартеновском цехе тоже хватает огня и жара, куда можно, ненароком оступившись, попасть ногой или свалиться…
В голове Шарлеманя бьется одна мысль: «На заводе им его не поймать». Все остальные мысли сейчас — точно обрывки бумаги, что взлетают над рыночной площадью. Его сознание сейчас сосредоточено на нескольких разрозненных словах, на одном имени: «Саид… На заводе… не поймают…» За месяц, прошедший с того собрания у Занта, он ближе узнал Саида. И как когда-то метались в воздухе петушиные перья, в голове задыхающегося от бега Шарлеманя мелькает одно слово: ГЕРАНЬ.
Герань… Листья герани, особенно засохшие, противны на вид. В кухне у Берты на подоконнике стоит горшок с геранью. Если сесть поблизости при закрытом окне, то, даже повернувшись спиной, ощущаешь мерзкий запах. Это цветок для старух, скорее даже для старых дев. Увядшие листья сморщиваются, становятся неприятно легкими и вялыми, падают на сырую землю в горшке или на блюдце с водой под ним. Потом они высыхают и становятся пятнистыми, напоминая цветом недокуренную, плохо скрученную, как у Абеля Грара, сигарету, готовую разлететься от первого дуновения… Берта знает, что Шарлемань терпеть не может этот цветок, но герань ей подарила родственница, которая иногда навещает их, и было бы неловко перед ней, если бы цветок исчез или увял…
Собрание у Занта имело свои последствия. Вскоре после него Саид навестил Шарлеманя. Такие визиты — редкая вещь. Впрочем, это был не просто визит. Дело было так: воскресным утром Саид подошел и заглянул в сад Шарлеманя. Шарлемань сидел на кухне и беседовал с Гаитом; заметив Саида, он вышел:
— Эй, Саид, здорово! Твоя очередь! Зайди познакомься с моей женой!
Саид зашел, пожал всем руки и сел, не зная, как и хозяева, с чего начать разговор. Он смотрел на герань.
Цветы — конек Гаита. У него удивительный сад, и, где бы он ни был, он только о нем и толкует. Какие дивные сады вырастил бы он, да климат не позволяет.
— На цветы смотришь, — сказал он. — Это герань. Ты к нашим цветам, наверно, не привык… Знаешь, в нашей местности крупные цветы не растут, но если потрудиться… Ты прежде не видал герани?
— Да нет, наоборот, — ответил Саид. — Этот цветок совсем пустяковый рядом с теми, что растут в наших краях. — Широким жестом он как бы охватывает всю окрестность с домами и садами. — У нас от них кругом все красно, во всех окнах.
— Вот и я так же влип с кофе в тот раз! — отозвался Шарлемань, довольный, что этот маленький секрет между ним и Саидом позволяет ему как бы взять верх над Гаитом.
Саид смеется.
Но разве Гаит упустит такой прекрасный случай щегольнуть своими научными познаниями? Он продолжает:
— Да что ты? А я и не знал. Но у вас растут еще и…
Не дожидаясь, пока он закончит фразу, Саид закивал головой.
— …У вас растут, постой-ка, алоэ, апельсины, инжир, кипарисы, грудная ягода и, кроме того, араукария, я ее видел однажды, она похожа на елку, с хвоей, как у кипариса, но ветки кривые, как у оливкового дерева, только она огромная, прямо гигант, верно?
— Да, еще пальмы, — добавляет Саид, — смоковницы, рожковое дерево… А роз сколько! — И он повторяет свой широкий жест: —…Очень много роз!.. И дерево, про которое ты говоришь, тоже у нас растет, ветви у него тянутся над крышами, точно руки, как-то ты назвал его по-ученому…
— И вьюнки тоже, — продолжает Гаит, — и лилии-асфоделы, да? И кактусы… Цветов у вас много…
— У нас вообще много ярких красок, — говорит Саид, опять тем же жестом охватывая пространство.
Утро стоит ясное, солнечное.
— Знаешь, — начинает Саид, — приятно быть в таком доме, где вот так говорят об Алжире: и то, мол, у вас есть, и другое…
Гаит глотает слюну и, взглянув на Шарлеманя, отвечает:
— А как же иначе, мальчик, раз мы так думаем…
Однако Гаита не так-то просто выбить из колеи; он тотчас опять принимается за свое:
— Ты обязательно приходи, посмотришь на мой сад, у меня там есть прелюбопытные вещи… А уж в теплице найдется чем тебя удивить.
Первые прикосновения всегда целомудренны. Не нужно торопить человека, когда он уже готов открыться. Напротив, стараешься чуть-чуть отдалить момент откровенности. Да и сам высказываешься скупо, гораздо меньше, чем хочется. Сначала идешь ощупью, ищешь естественный тон и тему, и чем они обыкновеннее и проще, тем лучше. Потом, когда языки развяжутся и скованность исчезнет, упущенное время можно легко наверстать…
— Может быть, когда-нибудь и вам доведется приехать и посмотреть… — говорит Саид, и глаза у него становятся влажными.
— Красиво у вас? — спрашивает Берта.
— Очень красиво, — отвечает Саид, слово «очень» он произносит громче, а «красиво» почти неслышно, словно красота его родины — нечто само собой разумеющееся.
Но ведь дело не в этом, думает Шарлемань. И тут же слышит собственные слова:
— Да, и в этом тоже.
Он ответил вслух на свои мысли.
— Здесь у нас жизнь только временная, — говорит Саид. И добавляет — Ты понимаешь?
Шарлемань уже второй раз слышит от него эти слова.
— Да, здесь мы временно, — продолжает Саид. — О том, чтобы остаться здесь навсегда, не может быть и речи. Так что…
Без всякой связи он указывает на герань.
— …Так что все равно! Я хочу сказать: хозяева обирают нас еще больше, чем вас… Мы возмущаемся… Но вообще-то мы с радостью послали бы домой чуть ли не весь заработок. Попадаются среди наших и такие, которые считают, что чем меньше у них остается денег, тем лучше. Они видят в этом свое достоинство…
Он поднимает руки, словно собираясь хлопнуть в ладоши. Это слово, прозвучавшее торжественно, удивляет Шарлеманя и Эдуара, и еще больше — жест Саида.
— …У нас достоинство понимают иногда совсем не так, как у вас. Вы ведь сочли бы невозможным жить в фургоне, в лачуге из досок, верно?.. Для вас ничего хуже быть не может. А вот для нас чуть ли не наоборот. Потому что главное для нас находится не здесь.
— Мы тоже смотрим на все эти вещи как на временное явление, — вставляет Шарлемань, — но все же не в такой степени, как вы.
— Настоящая жизнь — в будущем, — добавляет Гаит.
— Когда человеку плохо, — говорит Саид, — то надо выбирать одно из двух: либо быть просто безответной жертвой, либо сознательно избрать путь самоотречения. Но быть и тем и другим вместе можно очень недолго.
— В жизни общества, — вставляет Гаит, — сорняки не могут до конца заглушить полезные растения, со временем те всегда одерживают верх.
— Знаешь, Саид, — сказал Шарлемань, — кажется, мы понимаем друг друга с полуслова. У тебя украли родину. Но ведь мы-то рабочие.
— Я тоже рабочий, — ответил Саид.
Шарлемань громко рассмеялся, сдаваясь:
— Ну, я вижу, ты решил ни в чем нам не уступать!
Саид и Гаит не вполне поняли его слова. Полчаса спустя, когда Саид ушел, Шарлемань сказал Гаиту:
— Не знаю, как ты, но я никак не мог найти верный тон. Вначале я собирался ему посочувствовать, а потом — ты видел? Какое уж тут сочувствие!
— Он его не принимает. Каких-нибудь два-три года назад они держали себя как рабы, но прошло совсем немного времени и…
— Правда ведь? Ты тоже растерялся, как и я? Всякий раз, когда собираешься говорить с ним, как с товарищем, который все-таки стоит на ступень ниже, чем ты сам, с удивлением убеждаешься, что он стоит на той же ступени, что и ты. Я не говорю, что он опередил и поджидает там тебя, но он не отстает ни на шаг.
— А я все наблюдала за его глазами! — заметила Берта.
— Как ты думаешь, они все такие, как он? — спросил Гаит.
Шарлемань не ответил.
— Как, по-твоему, придет он посмотреть на мой сад? — спросил Гаит.
— Сомневаюсь! — ответил Шарлемань. — У него есть заботы поважнее.
Когда ушел и Гаит, Шарлемань взял в руки Бертин горшок с геранью и повертел его со всех сторон перед окном.
— Послушай-ка, Берта! Иногда внушишь себе какую-нибудь чепуху. А в общем, этот цветок не так уж плох…
…в сознании всплывают слова: собака Марселя.
После этого события пошли ускоренным темпом.
Два дня спустя Саид явился к Марселю, просто так, почти без всякого повода.
Одно обстоятельство удивило Марселя больше даже, чем само посещение, и он не устает рассказывать об этом. Когда Саид постучался в застекленную дверь кухни, Марсель, не успев поздороваться, выскочил во двор с криком:
— А где же пес?.. Он что, не лаял на тебя?
— Нет, — ответил Саид. — Я сам подошел к нему, мы уже с ним поговорили. Твой пес не злой, я погладил его…
— Он-то не злой? Да ты и не представляешь, что могло случиться! Да тем более с… иностранцем, ты уж извини. Обычно он как бешеный кидается на людей. Так и кажется: или стену проломит, или цепь порвет! Спроси у соседей, что делается, когда мимо нас проходит скупщик заячьих шкурок со своей трубой или когда какой-нибудь бродячий торговец вздумает сунуть нос ко мне во двор!..
— Ну, что за небылицы, — шутит Саид. — Вот смотри сам…
Он подходит к овчарке, которая рвется на цепи, и собака встает на задние лапы, тянется к Саиду за лаской, старается лизнуть его руку.
— Вот это номер!..
— Этот парень, — рассказывает Марсель, — не скажу, что он какой-то блаженный, но знаешь, животные чувствуют то, чего человеку не дано понять… У них ведь чутье, а у нас его нет. Собака чует хорошего человека и доверяет ему. Подумать только: пес понимает с первого взгляда…
— Ну и коммунист, нечего сказать, — смеется Шарлемань. — Верит таким бредням!
— А может, он просто стар становится и уже ни на что не годен, — замечает кто-то. — Вот недавно мы собрались как-то человек пять или шесть у Мерлена, так он готов был каждому пятки лизать!
— Это кто же, я, что ли?
— Да не ты, а твой пес…
— Ах так, а ну-ка попробуй сунься к моему леопарду, посмотришь как он тебя разукрасит!..
…а вот другие слова: в саду Гаита…
Шарлемань ошибся.
В следующее же воскресенье днем Саид пришел полюбоваться садом Гаита.
Гаит живет все в том же белом домике с голубыми глазами. Единственное, что изменилось с весны, — забор и боковые ворота покрашены зеленой краской под цвет листвы в саду. Саид стучит с парадного входа. Никто не отзывается. Он идет вдоль забора и подходит к воротам. Они никогда не запираются. Одна из створок — чуть дотронешься — сама отворяется с певучим скрипом. Саид колеблется: войти или нет… Собаки не видно. Постучать ногой о решетку?.. Саид хотел было уже подать голос, но на скрип ворот выглядывает Арманс. Она никогда не видела Саида.
— Дома Эдуар?
— Нет, — кратко отвечает Арманс.
— Он на работе?
— Нет, но…
Саид ждет.
— …но нельзя же вот так заходить в дом.
— Калитка сама распахнулась… — объяснил Саид. — Ну что ж. Извините, мадам.
Он пятится назад, прикрывая за собой певучую створку.
К счастью, не прошел он и ста шагов, как встретил Гаита, тот, веселый и возбужденный, возвращался со стадиона. Футбол — любимое его развлечение по воскресным дням… Он идет пешком за два километра, чтобы посмотреть матч, и столько же обратно. А еще говорят, что болельщики не спортсмены… Изредка он слушает трансляцию матча по радио. Но он предпочитает увидеть своими глазами даже неинтересный матч, чем прослушать серьезную беседу. Стоит ему увидеть цветные футболки, когда игроки выходят на поле, и его охватывает возбуждение.
Он ведет Саида к себе.
Он толкает створки ворот — одну направо, другую налево, каждая поет свою песню, и, едва войдя во двор, кричит жене:
— Наши победили. Арманс! 4:2! С тех пор как Рэмон вернулся в команду…
И добавляет:
— Напрасно ты его не впустила. Ты же знаешь, я всегда в это время возвращаюсь. Это о нем я тебе рассказывал.
— Да, но я же не знала… — отвечает Арманс.
— Ну, что ты скажешь о моем любимце, я вижу, ты его разглядываешь? — кричит Эдуар. — Смотри, как он вьется по стене!..
Ползучие ветви огромного растения раскинулись по деревянной галерее, обвились вокруг водосточной трубы на углу дома, подступили к краю крыши, прицепились к засохшему плющу на глухой стене большого соседского сарая, протянулись по проволоке, веером расходящейся от угла дома к крюкам, вбитым в стену сарая, плотно вплелись в решетчатую загородку курятника, все покрыв огромными сердцевидными листьями.
— Иди сюда! — говорит Гаит. — Вот здесь самый крупный лист! Каждый год вырастает на том же самом месте! Здоровенный, прямо как противень! Я очень люблю это растение. Оно высоко взбирается, такое красивое и сильное, хотя и скромное. В мае, когда оно распускается, цветы у него совсем зеленые, такие же, как листья, представь себе. Если не знаешь, что это цветы, то и не догадаешься. Они похожи на маленькие баварские трубки. А главное, это на редкость сообразительное растение! Вот посмотри на эти веточки, они ищут… чуть только они к чему-либо прикоснутся, они тут же цепляются и обвиваются. А если ни на что не наткнутся, возвращаются обратно к стене. Вот погляди, эта ветка повисла без опоры, что она теперь сделает? Она изогнулась, словно подтягивается на руках, и ползет обратно по себе самой, — ну сущая змея!.. В свои владения это растение никого не допускает! От года к году оно вырастает ненамного, но своего места не уступит. Вон там повыше оно вступило в борьбу с виноградом, и что же— винограда почти уж и не видно, того и гляди, оно его совсем задушит. Нужно уничтожить или одно, или другое, но трудно выбрать. Правда, этот виноград почти не дает ягод — такой черенок попался… Ты обратил внимание, как он растет? Это двойной черенок, он посажен внизу в теплице. Один стебель вышел наружу, а другой остался внутри. И вот внутри он дает настоящие плоды, крупный черный виноград, правда кисловатый, но… Ты знаешь такое место — Алюэн? Нет? Недалеко от Туркуэна. Так вот я вычитал, что раньше это слово означало «винный рынок». Стало быть, прежде виноград рос и в наших краях, хотя Север вечно бранят… Но видишь ли, может быть, его вытеснил хмель, пиво, словом, хмель ведь тоже ползучее растение, как и это. Но если ты хочешь видеть настоящего захватчика, то иди сюда, посмотри на эту заразу — вот ломонос!.. Соседи попадаются всякие, бывают и хорошие и плохие. Этот позволил мне вбить крюки в стену его сарая. Но зато с другой стороны у меня сосед неуживчивый. В его саду прямо у стены растет ломонос, и, бьюсь об заклад, сосед оставляет его нарочно. Ломонос пускает ростки на моей стороне. Стоит на пять минут оставить его в покое, как он перемахивает через стену и глушит все подряд. Однажды, на нашу беду, мы уехали в отпуск на две недели в конце августа. Так веришь ли, когда мы вернулись, весь этот угол сада превратился в сплошные заросли! А цветы противные, ну точно грязный хлопок. Знаешь это место на Шельде, куда выбрасывают отходы из больницы? Там все водоросли обвиты клочьями ваты. Вот и эти цветы такие же. А главное, они убивают все. Говорю тебе, они все душат!
— В Понпон-Финет полно ломоноса! — говорит Саид.
— Вот видишь, даже растения бывают такие, что только и смотрят, как бы навредить. Особенно уродливые, заметь…
Они прошлись по саду. Продолжая говорить, Гаит по дороге все время что-то делает: то обломит сухую веточку, то оторвет и скомкает увядший лист, то выпрямит поникший стебель и подвяжет потуже бечевку, то мимоходом ласково коснется цветка или подобьет ногой осыпавшуюся землю… Арманс, слушая его, тоже все время что-то подправляет. Саид смотрит молча, и в глазах у него отражается зелень. Он тоже отдыхает в это воскресенье.
— Ну, а здесь, — по дороге к дому говорит Гаит, показывая на теплицу, — здесь у нас сад и в зимнее время.
И вдруг замолкает и торопливо идет по садовой дорожке впереди Саида, Арманс идет сзади. И только когда они все трое уселись на кухне, Гаит спросил:
— Наверно, нелегко вам тут у нас?
Саид усмехнулся и пожал плечами.
— А футбол ты не любишь? — спросил Гаит.
— Я и сам играл в команде! — ответил Саид. — Да! Да!
— Но ты никогда не ходишь на стадион…
Кухня у Арманс тоже настоящая оранжерея, словно зимний сад летом с открытым настежь окном. Тут растет аквилегия, и Гаит собрался было отпустить по этому поводу шутку, но вспомнил, что Саид недостаточно свободно владеет французским, и не решился. В горшках растут крупные лилии, фикус, большой филодендрон, такова уж мода, затем плющ, вьющийся по раме, роскошный аспарагус, всевозможные кактусы, на одном из них распустился крупный цветок, один-единственный, — хрупкое сооружение необычного розового оттенка.
— Он у меня уже лет десять, — сказала Арманс, — и вот впервые решился зацвести. Сегодня утром я встала и вижу на нем уже совсем раскрывшийся цветок… Говорят, к вечеру он завянет, и цветов уже никогда больше не будет. Вы как раз удачно попали.
— …Тебя нигде что-то не видно: ни в кино, ни в других местах.
— Когда гибнут братья, в кино не тянет, — ответил Саид.
— Да в самом деле никто из вас никогда не бывает на стадионе, например, — продолжал Гаит. — Вам это запрещено? Или вы сами не хотите?
— Ни к чему и запрещать, — ответил Саид, — просто не то на уме.
Так они потолковали минут десять, выпили кофе, осмотрели теплицу, и, когда Саид собрался уже уходить, Гаит вдруг положил руку на его плечо:
— Слушай, парень. Я очень рад, что ты зашел. Видишь ли, мой сад — это лучшее из всего, что я могу предложить, друзьям…
Снова дважды пропела створка ворот. Она всегда поет так: чуть веселее, когда открывается, чуть печальней, когда закрывается. Ее голос трепещет, и кажется, будто и в тебе что-то трепещет в ответ.
— Придется все-таки смазать ее маслом, — сказал Гаит.
— А зачем? — отозвался Саид. — По-моему, она неплохо поет.
…слово: мир…
В воскресенье вечером ни малейшего дуновения ветра.
Шарлемань и Берта вытащили стулья и уселись на тротуаре перед домом, слева от двери, там, куда еще попадают бледные мягкие лучи закатного солнца. Стена за спиной все еще хранит тепло, как те кирпичи, что кладут зимой в постель вместо грелок. Солнце будто отдыхает, как и все вокруг… Перед их домом небольшой палисадник, ухоженный не хуже, чем у других, за ним шоссе, а если встать или выпрямиться на стуле, то отсюда виден и завод, лежащий в низине. Если же сесть, откинувшись на спинку, то видны лишь несколько крыш, верхние части доменных печей и серебристая поверхность газгольдера. А Шарлемань сидит на стуле плотно, спинка стула наклонена назад и упирается в стену, он ушел, словно тесто, в соломенное сиденье, ноги его не достают до земли. Стул поскрипывает под ним, но стоит устойчиво, ножки его упираются в желобок между цементными плитами тротуара. Это давняя привычка. Сидя в такой позе, Шарлемань погружается в свои мысли, впечатления детских лет всплывают в памяти. Когда-то летними вечерами отец, мать, брат Оскар (который еще в ту пору предсказал, что он станет горным мастером…) и сам он — это вошло в привычку у здешних жителей — усаживались на улице перед домом. Тротуар был такой же, из темно-желтых плиток с острыми краями, в глубокие бороздки между ними упирались ножки стульев, а спинки наклонялись и опирались о стену. Верхний край спинки стула приходился как раз в щель между кирпичами. «Вот увидишь, в один прекрасный день сломаешь себе позвоночник, если будешь так сидеть!» — грозился отец, сам не веря своим словам. Не следовало только вертеться на стуле, и можно было не бояться, что упадешь, разве что одна или две перекладины или сама спинка стула расшатывались, и тогда весь он распадался на части. Нужно было то и дело поглядывать, хорошо ли стоят ножки, упирающиеся в ложбинку. От долгого глядения тротуар начинал походить на плитку шоколада с квадратиками и бороздками. Частенько от этой позы и покачивания клонило ко сну и отец говорил: «Вот видишь, ты чуть не свалился, хорошо, что я подхватил тебя!..» Он, может, и так не упал бы, но отцу хотелось пошутить: забавно наблюдать выражение лица человека, когда он встрепенется от легкого прикосновения во время дремоты. К тому же спать на солнце вредно. Вот и сегодня Шарлемань смотрит вниз, и снова, как в детстве, тротуар кажется ему похожим на шоколад. Он равнодушен к шоколаду, однако, когда он вот так сидит, отдыхая, и смотрит на тротуар, у него текут слюнки. И как прежде, солнце нагоняет на него дремоту. Пока Берта не подтолкнет его локтем:
— Ты опять расшатаешь мне стул!.. Пойду-ка я лучше приготовлю ужин, а то и меня совсем разморило.
— Знаешь, я совсем не голоден, — говорит Шарлемань, — дай салату и если с обеда осталось немного вареного мяса, ну и хватит. В воскресенье обед всегда бывает слишком сытный, так что ужинать неохота.
Он остается один. Конечно, кусочек шоколаду он бы охотно съел, но дома его наверняка не найдется, да и вообще это детская причуда. Ни к чему и говорить о ней, даже с Бертой. Сколько людей в этом предместье и в других местах сидят, как он, переговариваясь от порога к порогу, не вставая со стульев, перекликаются, даже не повышая голоса. Вокруг тишина и покой, звуки разносятся далеко, словно на воде. Даже стены отзываются эхом.
И вот в это время мимо по шоссе тихонько проходит Саид, возвращаясь от Гаита. Как видно, он идет не домой, иначе он прошел бы по тропинке вдоль сада Шарлеманя и через луга. Однако он идет по шоссе, замедляет шаг перед калиткой и здоровается.
— Берта! — кричит Шарлемань. — Я пройдусь немного, чтобы размяться, пока ты готовишь!..
— Ладно! — отвечает из кухни Берта. — Деньги у тебя есть?
— Не нужно! — отвечает Шарлемань.
Саид идет в Семейный. Шарлемань провожает его и слушает его рассказ о саде Гаита. Они неторопливо и спокойно шагают рядом, им не хочется много говорить, просто им приятно идти вместе. Они проходят мимо людей, сидящих у порога, у стены дома или в палисаднике, и кивают им головой. «Привет, добрый вечер!» — говорил бы Шарлемань всем встречным, будь он один. Но поскольку он идет с Саидом, приходится разнообразить приветствия: «Как дела?», «Привет честной компании!», «Погодка хороша, правда?» Впрочем, это не требует больших усилий. На углу у железного моста, подальше от грохота трамваев находится «Сенат» — каменная скамья около железной ограды, окружающей склады завода; здесь всегда встречаются старики. Вот и сейчас все они тут. При виде Шарлеманя и Саида они умолкают, оборачиваются, провожая их взглядами. Но Саид и Шарлемань слишком далеко, чтобы здороваться. Один или двое делают знак рукой, кто-то взмахнул палкой. Слова их не слышны. Шарлемань и Саид отвечают на приветствия. Старики, быть может, ожидали, что они свернут и подойдут потолковать с ними. Но оба они чувствуют, что их словно увлекает уклон дороги, который начинается за поворотом возле дома Констана Жофруа. Хочешь не хочешь, а сегодня воскресенье, и трудно представить себе, что где-то сейчас идет война. Кое у кого гости в саду — мужчины в белых рубашках с манишками, рукава подтянуты резинками, чтобы не пачкались манжеты. Около кабачка Занта в полном разгаре игра в шары, три партии одновременно. Метров за двести слышно, как Норбер скребет железной щеткой пол в голубятне. Он единственный в предместье работает в этот час. Да, трудно поверить, что в это время где-то идет война.
У Семейного поселка Шарлемань замедлил было шаг, потом сказал:
— Ну ладно! Провожу тебя до места, раз уж мы пришли.
— Я иду к одному из братьев Рамдана, это здесь, близко.
Подходя к Семейному, Шарлемань ожидал увидеть что-то совсем чужое, непривычное. Но все оказалось очень похожим. Те же стулья у порога. Правда, видно меньше женщин, они сидят по домам. Тот же мирный теплый вечер, такие же рубашки на мужчинах, отдыхающих на солнышке. Сады здесь совсем не похожи на сады: кроме картофеля и мяты, здесь почти ничего не сажают. По, как и мы, они любят жить на открытом воздухе.
Недалеко от входа в поселок стоит группа молодых людей, они спорят и жестикулируют, но они ничем не похожи на «Сенат». Кроме того, они обычно настороже. Чуть только покажется полицейская машина — новость тотчас передается из дома в дом. В отличие от стариков из «Сената» они сами подходят к Шарлеманю и Саиду, окружают их, у некоторых мелькает та характерная усмешка, которая всегда появляется на лицах у алжирцев при разговоре с французом, и Шарлемань не исключение — он хорошо понимает это. Разговора никто не затевает. Никто не спрашивает, куда они держат путь. Они идут слишком медленно, стало быть, без определенной целя, просто гуляют — это ясно… Ведь и тут тоже воскресный вечер.
— Нет, к сожалению, не могу! — говорит Шарлемань Рамдану, который вышел из дому и взял его под руку, как только Шарлемань подошел к крыльцу его брата.
— Нет, право, я не могу зайти, жена ждет! (Им, пожалуй, покажется, что я слишком ношусь со своей женой. У них это не принято. Что ж, себя не переделаешь!..) Жена задаст мне, если я опоздаю к ужину!
— На одну минуту!
— Я как раз это и сказал ей десять минут назад! Нет, лучше в другой раз! Я даже не стану возвращаться кружной дорогой, а пойду напрямик через Понпон-Финет!
Здесь еще тише. Вот только от речки нестерпимо несет тиной по вечерам. Подумать только, у каждого запаха свои особые часы… Но вот в тишине лощины дрозд запел свою нескончаемую песню. Он считает, что вечер принадлежит ему одному.
…в сознании возникает слово: помощь… Шарлемань уже теряет дыхание. Он бежит, не останавливаясь и не сводя глаз со входа в томасовский цех. Странно, Саида больше не видно. В десяти метрах — железная лестница, но ней только что взлетел наверх Саид, за ним гонятся двое в черной форме, пока они еще довольно далеко. Шарлемань решил тоже лезть по этой лестнице…
…слово: помощь…
До сих пор Шарлемань и Саид, по существу, еще ни разу не говорили на чисто политические темы… Ни тот ни другой не торопились… Оба понимали, что разговор этот неизбежен и что лучше подождать, когда он окончательно назреет. Но их тянуло друг к другу. А когда люди тянутся друг к другу, случай может подвернуться в любую минуту. Человек часто не сознает своей власти: случай ожидает знака от человека.
В понедельник в полдень Марсель, как это часто бывало, зашел за Шарлеманем, и вот они катят рядом по велосипедной дорожке.
— Не знаю, что с моим велосипедом, — говорит Шарлемань. — По-моему, передняя шина спускает.
— Тебе не кажется, — говорит Марсель, — что в последнее время этот Саид старается сблизиться с нами? Прежде я этого не замечал.
— Может быть.
— Мне сдается, он что-то задумал, хочет просить нас о чем-то.
— Вовсе не обязательно… Просто мы постепенно знакомимся… До завода я не доеду. Когда мы едем по булыжнику, я так и чувствую каждый камень на дороге, прямо не знаю, что с ним стряслось.
— У меня есть насос, — говорит Марсель. — Если хочешь, я накачаю тебе шину…
Метров через десять они нагнали Саида, который шел к заводу.
— Ну вот, она совсем спустила! — ворчит Шарлемань. — Ладно, придется и мне идти пешком. Вон смотри, Эме нагоняет нас, он и составит тебе компанию.
За последние дни Шарлемань часто думал об Эме и Кристиане… Если они увидят меня с Саидом, они скажут, может быть, что я тяну время или боюсь невесть чего… У них-то самих есть связи и почище, — хотя они не кричат о них на всех перекрестках — небось из партийных комитетов или, как у Бертрана, из местных союзов… Здесь, на заводе, алжирцев-коммунистов совсем не было. Поэтому, когда знакомишься с алжирцем, хотя уже и знаешь его, все же не решаешься говорить с ним прямо, так вот и щупаем друг друга и кружимся вдвоем вокруг одного горшка… То цветы, то птички… А может, этот Саид такой же коммунист, как я, почем знать!
— Ну что, пойдем вместе, Саид? Мой конь захромал на передние ноги, не знаю, как с ним быть…
— Всегда лучше идти вдвоем, — отвечает Саид.
Какие оба они мастаки протягивать друг другу шест, и куда что девается, когда надо ухватиться за протянутый конец. Мы живем в мире, где все прячутся друг от друга. Но здесь уже так подперло, что дольше прятаться нельзя. Кстати, на местном наречии прятаться и искать друг друга — одно и то же слово, лучше не придумаешь.
— А мне как раз сдается, что нам по пути, как ты думаешь? — говорит Шарлемань, останавливаясь и глядя Саиду прямо в лицо.
— Да, похоже, что так.
Они пошли дальше.
— Понимаешь, хотя мы мало что делаем, но…
— Думаешь, я не знаю, что вы делаете? Не все это признают, но я-то понимаю… Что ни день у вас собрание, то там, то тут…
Шарлемань не ожидал такого четкого ответа. И ведь правда, все это стало таким привычным, что уже и не замечаешь. Взять хотя бы совещания цехового актива…
Вот говорят: «Партийная жизнь…» Когда видишь эти слова в газете, они кажутся сухими. Но если вдуматься в них, взглянуть свежими утренними глазами… Жизнь. Жизнь партии. В этих двух словах заключена вся поэзия. А если ты в силу привычки уже не замечаешь этой поэзии, это не значит, что она исчезла, нет, она существует и другие чувствуют ее все больше и больше. И для них это действительно утро.
И понятно, что этих алжирцев интересует каждый наш шаг.
— Мы это хорошо знаем, — говорит Саид.
— Да! Возможно, нам следовало бы делать еще многое другое, но…
Шарлемань ведет велосипед и перед каждым камнем или краем тротуара приподнимает переднее колесо с совсем уже опавшей шиной.
— Это правда, — отвечает Саид, — делать надо гораздо больше. Вы знаете лучше нас, что вам нужно делать. Каждому — свое…
— Есть люди, которые твердят, что они готовы носить ваши чемоданы… — решительно произносит Шарлемань, усмехаясь. Он замедлил шаг, его не удивило бы, если бы Саид пожал плечами. Но Саид не делает этого, он останавливается и оглядывается — не слышит ли их кто-нибудь.
— Ну, это уж наша забота. Но, сказать по правде, — смеется он в свою очередь, — если бы среди вас оказалось много охотников носить наши чемоданы, вряд ли всем бы нашлась работа. Чемоданов у нас раз-два и обчелся.
И он первым шагает дальше.
— Но вы — целый народ, — продолжает он, — а это уже серьезно.
— Зато и ноша у нас тяжелей, — замечает Шарлемань.
— Мы и это понимаем, поверь. Однако, — и странно звучат торжественные слова в его неуверенной французской речи, можно подумать, что у этих слов какой-то иной, новый смысл, словно впервые слышишь их, — однако нет ничего более значительного, чем народ. И для вас это значительное здесь, а для нас — там, далеко, где весь наш народ. Здесь мы всегда были иностранцами. И всегда ими останемся. Особенно теперь, понимаешь?
— Так вот, слушай, товарищ, — снова останавливается Шарлемань, — я уже третий раз от тебя слышу, что здесь для тебя все временное, и работа и все прочее… Я слушаю и не обижаюсь, ведь существуют вещи, которые не знают границ. Но ты слишком любишь свою страну, и не может быть, чтобы ты не сочувствовал коммунистам.
— Знаешь, для нас не так уж важно, кто коммунист, а кто член Фронта национального освобождения или еще какого-нибудь союза. Мы, алжирцы, все заодно. И поскольку ФНО борется за единство…
— Но ведь существует алжирская компартия, — говорит Шарлемань, — они наши товарищи…
— Я хорошо это знаю, — говорит Саид, — но у нас все заодно, когда речь идет о нашей революции и независимости!..
Он сплетает пальцы и тянет их в разные стороны, чтобы показать, как крепка связь.
— …знаешь, мы, алжирцы, не слишком-то вникаем во всякие тонкости, когда речь идет о французах. И если кто-то из работающих на заводе не расист, то для нас он все равно что коммунист.
— А по сути так оно в конце концов и будет, — замечает Шарлемань, — даже тот, кто не согласен теперь с нами, если только он настоящий человек, рано или поздно присоединится к нам.
— Мы научились жить будущим. Человек вовсе не таков, каким мы видим его теперь, в нужде и беде. Завтра в Алжире он будет иным. Мы постоянно твердим: этот будет там-то, тот станет тем-то… Вот, к примеру, я чернорабочий. А я знаю дело достаточно, чтобы быть литейщиком пли мастером, а то и выше… или вот, например, вчера в Семейном я встретил Мустафу, он электрик, это он обучил всех французов в цехе. Все они давно его опередили, получили повышения, а он по-прежнему чернорабочий. А наша молодежь, алжирцы, никогда они так не тянулись к ученью, к настоящей профессии — неужто ради того только, чтобы стать тут чернорабочими? Они все живут завтрашним днем. И все у нас здесь живут будущим.
— Да, это бросается в глаза, но, знаешь, и мы испытываем то же самое, — ответил Шарлемань, — как, наверно, и все обездоленные, мы как раз на днях толковали об этом с Гаитом…
— Коммунисты… — продолжал Саид. — Если ты зайдешь ко мне, взгляни на приемник. Электричества у нас еще не провели, но приемник уже настроен на волну Москвы, они там ведут передачи и на французском и на арабском. Я даже знаю наизусть часы этих передач. Я хочу слушать и Каир и Прагу… Что тут говорить. Всякому, даже и некоммунисту, ясно, что, не было бы помощи, нам давно бы крышка. Только слепой этого не видит… А кто дерется не на жизнь, а на смерть, не может быть слепым…
— Никогда мы с тобой так откровенно не говорили, верно? Может быть оттого, что дорогой оно как-то легче? Ну вот, мы и пришли.
Шарлемань поднимает велосипед, ставит раму себе на плечо. Перед маленьким кафе Мерлена ремонтируется участок шоссе. Приходится шагать через груды щебенки и большие белые камни, которыми будут мостить тротуар.
— У тебя не будет времени заклеить мне камеру? — спросил Шарлемань у Мерлена, подходя к стойке.
— Ладно, постараюсь, оставь велосипед у меня. Что будешь пить? Ты-то я уж знаю, что пьешь, — сказал он Саиду и потянулся к полке, где стояли бутылки с мятной настойкой.
— Она полезна для желудка? — спросил Шарлемань. — Дай-ка я тоже попробую.
— Она для всего полезна, — заметил Саид.
— Смотри, не скажи этого при моей жене, — вполголоса сказал Мерлен, — не то она посадит меня на одну мяту!
— Ты почему не пьешь ни вина, ни спиртного? — спросил Шарлемань. — Религия запрещает?
— Я давно уже не верю в бога, — ответил Саид. — Сам не знаю, привычка, как у всех.
— Поставь велосипед во дворе за домом, — сказал Мерлен. — Ты понял, куда?..
…слова: танец Долговязого.
— Камера у тебя никуда не годится! — заявил Мерлен, когда Шарлемань после смены вернулся в кафе… — Точно моль ее проела. Одна спица погнулась и клюет в нее!..
— Ну, старик! Я вижу, дела у тебя идут! — сказал Шарлемань, указывая на три сдвинутых вместе столика, на которых стояли еще не убранные стаканы и рюмки с остатками сухого вина, можжевеловой водки и пива.
— В томасовском цехе свадьба. Дюжарден воспользовался свободным днем — у них ведь престольный праздник — и справил дочке свадьбу. Если бы ты пришел чуть пораньше… Он просил тебе передать, что они все отправились к Занту. И чтобы ты предупредил Марселя, если сумеешь.
— У Марселя такой нюх на выпивку, что, бьюсь об заклад, он явится туда без всяких предупреждений!
— Ведь Зант Дюжардену свояк, — продолжал Мерлен, объясняя, почему торжество перенесли в другое место. — Кстати, оттуда Дюжардену ближе к дому. Сегодня понедельник да и, по правде говоря, праздник уже не тот, что в добрые старые времена. Словом, они будут там со своей компанией. Хочешь, возьми до завтра мой велосипед.
Шарлемань ехал на велосипеде Мерлена с ощущением неудобства, все было непривычно. Колесо закреплено туже, чем на его машине. Тормоз ножной — приходится крутить педаль в обратную сторону, седло слишком низкое, правда не у всех такие длинные ноги, как у Шарлеманя, к тому же уже совсем темно и плохо видно… Дорогой он размышляет о двух вещах.
Во-первых, подъехав к своему дому и увидев закрытые ставни, он заколебался, будить ли Берту или не стоит, но тогда она встревожится, если проснется в одиночестве. Он решает проехать мимо дома, и если бы он мог приподнять под собой велосипед, чтобы шины не скрипели по гравию, он бы это сделал!.. Вряд ли он просидит там долго… Ведь он, Шарлемань, не такой уж любитель выпивки…
Во-вторых: пригласили ли они Саида, или из их бригады будут только французы?..
Толкнув дверь в кабачок, он сразу увидел, что Саида нет. Марсель, разумеется, явился. С порога не видно, что происходит в бывшей прачечной. С улицы Шарлемань слышал, как поют и в такт хлопают в ладоши. Посреди зала, где несколько дней назад было собрание, трое мужчин дурачатся и кружатся в каком-то подобии танца — долговязый Брутен и двое незнакомых, один из них алжирец. Для них нарочно зажгли свет; остальные сидят за столиками в кабачке и смотрят на них через дверь, покатываясь со смеху. В распоряжении танцующих все помещение прачечной.
— Давай! Давай! — кричит Брутен.
Все трое совершенно пьяны.
— Давай нам хорошего игристого, Зант! — кричит Фред Дюжарден, гордый тем, что он угощает. — Подай еще стаканы для этих!
«Эти» не с завода. Как видно, они явились прямо с праздника.
— Эй, Долговязый! — кричит Фред. — Пусть он снова спляшет! Для Шарлеманя!
— Да, только принесите ему ковер! — кричит Брутен. Он бросается в кабачок, расталкивая всех, влетает в столовую Занта и начинает вытаскивать ковер из-под круглого обеденного стола.
— Да остановись ты, черт тебя дери! — кричит Зант. Слава богу, что Эстель уже легла и не видит!
— Раз он просит ковер, значит, надо дать ему ковер! — кричит разошедшийся Брутен, таща ковер вместе со столом через весь зал кабачка между столиками.
— Дурак несчастный! — вопит Зант. — Ты что, решил все разорить в доме! Несколько лет назад ты бы не был таким храбрым! Я бы вздул тебя хорошенько!
— То время далеко! — кричит Брутен. — Я сам утащу ковер на место. А хочешь, я заплачу тебе за Него, и тогда он мой, понятно? Ну, согласен? И отстань от меня!
Он растянул ковер посреди прачечной.
— Ну, давай, Лаид! Теперь у тебя есть вое, что нужно! Повтори для них танец Магомета!
Алжирец поднимает руку в знак того, что это имя не следует произносить, это богохульство, затем опускается на колени, принимает молитвенную позу и поет какую-то молитву или пародию на нее.
— Видишь? Он повернулся, как надо! — говорит Брутен, указывая на стену прачечной перед алжирцем… — В той стороне Мекка! Мекка!
Он и сам впал в какой-то транс, кажется, будто, указывая пальцем на кроличью шкурку и пучки бобов и лука, висящие под потолком, он видит за ними весь Восток…
Алжирец выпрямляется, утвердительно кивает, широко разводит руки и начинает снова свой танец.
— Давай! Алла-аллах! Давай! — кричит Брутен, прихлопывая в ладоши, пускается в пляс вокруг алжирца, увлекая за собой и незнакомого француза.
Он оборачивается к сидящим, знаком предлагает им хлопать в такт вместе с ним, и те охотно присоединяются, затем Брутен подходит к двери зала и обращается к собравшимся. Он говорит с многозначительным видом и как бы извиняясь:
— Они сами за мной увязались, когда в «Новом Свете» стали закрывать! И вот этот, здоровенный, почти что ничего не пил, а потом оказалось: капля спиртного — и они готовы!..
«А в общем, — размышляет Шарлемань, — может быть, и лучше, что они не пригласили моего Саида…» Что-то удерживает Шарлеманя, и он не хлопает в такт вместе со всеми, а лишь улыбается, чтобы не нарушать общего веселья…
В это время открывается дверь и входит Сезар Лелё.
— Ага, пешеходы! — кричит Дюжарден. — А мы уже собирались приступить без вас!..
Веселье в прачечной не утихает.
— Еще бы, ты на велосипеде, не так уж трудно было обогнать нас!
За Сезаром входит Орельен Луа.
Вслед за ними появляется Саид.
Не успел он сделать и двух шагов, как что-то его настораживает, хотя ему еще не видна сцена в прачечной, но в общем шуме он слышит голос поющего.
Вокруг посетители кабачка смеются, хлопают в такт…
Но Саид словно перестает их видеть. Он направляется прямо к двери прачечной. И вмиг замирают и хлопки и смех…
Алжирец продолжает петь еще несколько мгновений, но потом он чувствует, что что-то случилось.
Он поднимает голову, оглядывается… И вдруг, мгновенно протрезвев, вскакивает на ноги.
Помедлив минуту, Саид вполголоса говорит несколько фраз по-арабски, гости в кабачке за его спиной почти ничего не слышат. Потом речь его становится все громче и возбужденнее… Лаид пытается прервать его, объяснить что-то. Но Саид продолжает говорить, не слушая его оправданий… Никто не понимает его слов, но все догадываются, о чем идет речь. Его движения резки, он точно швыряет слова в лицо своему соплеменнику. Да и слова ли это? Они больше похожи на плевки, чем на слова… Не нужно смотреть в лицо Саиду, чтобы представить себе его выражение.
Француз, который танцевал вместе с Брутеном, стоит рядом с алжирцем. Желая вступиться за него, он подходит к Саиду. Тогда между дверной притолокой и Саидом протискивается верзила Брутен.
— Брось, парень! — обращается он к французу. — Не суйся не в свое дело!
И Брутен, тоже почти отрезвевший, искоса с удивлением поглядывает на Саида.
В эту минуту Шарлеманю вспомнился рассказ господина Ренара о ранце и о том, как сын Рамдана упрекал товарища.
Саид оборачивается. Он смотрит присутствующим прямо в глаза. Все понятно без слов.
— Да брось, Саид, в самом деле!..
— Не. делай из мухи слона!
Саид идет к двери, которую позабыли прикрыть.
Но не для того, чтобы затворить ее и потом, вернувшись, обругать всех. Он выходит и исчезает в темноте.
Ну, а праздничный ужин после этого, сами понимаете…
…слова: сплетенные колоски.
— Ты и на нас в обиде, раз ушел вчера?..
На следующее же утро Шарлемань сделал первый шаг — явился в фургон Саида.
— Вы — другое дело! Ведь вам я ничего не сказал?..
— Может быть, лучше было сказать. Ведь мы достаточно знаем друг друга. Лучше бы уж ты накричал и на нас…
— К чему? Люди понимают друг друга или не понимают, словами ничего не изменишь!..
— Ты по-прежнему считаешь, что события у вас на родине должны изменить и нас?
— Да… немного и вас, — ответил Саид.
— Ну и суров же ты, Саид.
Саид молчит.
— Так, значит, ты валишь нас в одну кучу с…
— Нет, — сказал Саид. — Эти времена позади! И все же вчера вечером я учуял какой-то скверный душок…
— Я знаю, что тебе пришло в голову, — промолвил Шарлемань, — думаешь, тебя нарочно позвали, чтобы посмеяться над тобой?
— Этого еще не хватало! — Саид поднял голову и выражение его лица стало жестким.
— Но мы тут, поверь, ни при чем, — медленно проговорил Шарлемань. — Хочешь верь, хочешь не верь, но говорю тебе: мы и понятия не имели. Брутен привел их с праздника, а мы нарвались на это так же неожиданно, как ты.
— Правда? — спросил Саид.
Пока они говорили, в глубине фургона молча одевался родственник Саида. Когда Шарлемань заглянул в дверь со словами: «Здравствуйте, можно к вам?» — он стоял в белье защитного цвета, купленном, должно быть, в армейской лавке. В ответ он промычал что-то неопределенное, а Саид крикнул:
— Входи, конечно. Здравствуй!
Когда Саид проговорил: «Словами ничего не изменишь!..» — его родственник гневно махнул рукой, словно говоря: брось ты все это!.. Однако не произнес ни слова. Теперь он сидит на табуретке около кровати и натягивает башмак. Когда Саид спросил: «Это правда?» — он бросил взгляд на Саида и пожал плечами, по-прежнему молча.
— Уверяю тебя, Саид, — сказал Шарлемань.
— Так или иначе, не в этом суть. Присаживайся, — ответил Саид.
— Сюда, — вмешался его родич, вставая и указывая Шарлеманю на табуретку. — Я ухожу.
— Смотри-ка, он уже говорит по-французски, — удивился Шарлемань.
— Да, я здесь уже три месяца! — угрюмо ответил тот.
— Не на завод же в такой час? — спрашивает Шарлемань, не зная, говорить ли ему «ты» или «вы», и не решаясь спросить: «Надеюсь, вы не из-за меня уходите?»
— Он подрабатывает, — сказал Саид, — возит уголь для одного старика.
— Вот как! — восклицает Шарлемань и тут же спохватывается, но уже поздно. Мало того, он ловит себя на том, что подмигивает человеку и, смеясь, трет большим пальцем об указательный — мол, зарабатываешь денежки… Он хотел шуткой разрядить атмосферу, но шутка эта прозвучала фальшиво…
Алжирец рассмеялся.
— Он смеется, потому что старик сказал ему: я тебя отпущу на воскресенье… — объяснил Саид. Словно ребенку.
— Кто же это такой? — спросил Шарлемань.
— Мсье Милькан, знаешь, где длинная светлая стена?
— Для стариков, — сказал Шарлемань, — все люди — дети. Он, может быть, даст тебе груш.
— Он уже дал их как аванс, падалицы, — сказал Саид.
Когда родственник ушел, Шарлемань уселся и сразу почувствовал себя вольготнее.
— Хочешь, я вскипячу чай? — предложил Саид, перестав улыбаться.
— Знаешь, я понимаю тебя лучше, чем ты думаешь! — произнес Шарлемань, когда Саид вытащил из картонной коробки два зеленых стаканчика и медный поднос. — Вчера ты сказал: я давно уже не верю в бога…
— Это правда, — прерывает его Саид.
— Нет, ты послушай, мои ребята… — Шарлемань подумал, что «мои» — это слишком громко сказано, и все же повторил: — Мои ребята, и даже Брутен, совсем не такие, как тебе кажется. Для них все эти церковные штуки кюре, молитвы — это только повод позубоскалить, тут уж они не упустят случая… И когда вчера они валяли дурака и хлопали в ладоши, у них в мыслях не было ничего дурного…
— Но в Алжире много верующих. Разница между нами в том, что нам, хоть мы сами верим не больше вашего, еще предстоит завоевать для них право на веру. Я лично неверующий. Но в моей стране есть религия, пусть люди верят, как им хочется. Эту религию надо уважать, какой бы она ни была. А вообще…
Он взял из коробки щепоть свежей мяты для чая и поднес ее к носу Шарлеманя:
— Понюхай!
Листья совсем еще зеленые, словно припудренные, чуть сжались и сморщились, подсыхая…
— Ее нужно мять пальцами, вот так, — показывает Саид, скатывая лист трубочкой.
— Она здесь хорошо растет?
— Да, растет, но здесь она не такая пахучая, как у нас.
Он бросает мяту в чайник, заливает ее водой, которую вскипятил в котелке на спиртовке со складными ножками.
Запах мяты наполняет фургон.
Даже жалко, когда Саид приоткрывает дверь и часть аромата уходит на улицу. Он снова льет кипяток в чайник.
— А первую воду ты сливаешь? — спрашивает Шарлемань.
— Ну да. Ею только смывается пыль.
— А я думал, что первая вода самая лучшая, — заметил Шарлемань.
— Я хотел у тебя спросить: положа руку на сердце, так ли уж ты уверен, что у твоих товарищей не было ничего плохого на уме? Это вчерашнее кривлянье…
— Уже если говорить совсем откровенно, может, ты и прав… — соглашается Шарлемань. — Нам всем нужно еще много потрудиться, чтобы выкорчевать все это! И все же ни к чему, по-моему, раздувать эту историю и приравнивать ее к…
Высоко подняв чайник, Саид тонкой струйкой наливает в один из стаканчиков чай, словно цедит по капле, потом поднимает стаканчик и проверяет прозрачность напитка на свет. Чуть поколебавшись, он выливает его обратно в чайник. А стаканчики, оказывается, вовсе не зеленые, а из обычного светлого стекла. Вот полумесяцы, которыми они украшены, действительно зеленые; в каплях чая, упавших на медный поднос, дрожит и дробится их зеленое отражение.
— Чай должен настояться, — говорит Саид.
Шарлемань спрашивает себя, не забавляется ли Саид, священнодействуя над чаем и слушая его рассуждения. Юмор у них проявляется не так, как у нас. Чтобы его уловить и понять, нужна привычка. И тем более чтобы на него не обижаться, когда он направлен против вас.
— Да нет, — сказал наконец Саид. — Я вчера обозлился, но словно бы… на своих. Лет пять назад мы и в самом деле валили вас всех в одну кучу. Рабочих, правительство… Тогда в нас говорило только возмущение… Весь народ страдал, точно с нас заживо содрали кожу! Ну а потом восстание научило разбираться кое в чем. Важно начать. Но сейчас… Когда бьют свои, то еще больнее. Вот и все!
«Вот и все» относится уже к чаю. Саид приподнял крышку чайника и зачем-то заглянул внутрь. Он встает и снова, высоко подняв руку с чайником, льет тонкой струйкой чай, который пенится в стакане.
— Ты всегда так чай готовишь? — спросил Шарлемань.
— Все так делают… Чай должен пениться. Когда пена доходит до края стакана, ты перестаешь лить и никогда не перельешь через верх…
— Ты мне кое-что напомнил. У меня в Марселе есть товарищ. Пожалуй, это мой самый лучший друг. Жаль, что он живет так далеко. Мы видимся с ним на всех профсоюзных съездах металлургов. Ты бы видел, как он разбавляет водой анис в таких же стаканчиках, как твои, только там их называют стопками. Он так же, как и ты, высоко поднимает руку и добавляет воду по капле.
— В жарких странах к воде относятся бережно! — говорит Саид с легким марсельским акцентом, который смешит Шарлеманя. — У меня тоже там есть приятели.
— Французы?
— И те и другие. Я жил там год. Там я и выучился говорить. Это было до…
— До войны?
Саид кивнул головой:
— До революции.
Он протянул Шарлеманю стакан.
— Чай пить всегда хорошо. Если ты голоден, он перебивает голод. Перед едой он возбуждает аппетит. А после еды помогает пищеварению.
— Какой чудной вкус у мяты. Да, пожалуй, приятный.
Шарлемань поставил на пол около своей табуретки обжигающий пальцы стакан и продолжал:
— А кто он такой, вчерашний парень?..
— Жалкий тип, — ответил Саид.
— Скажи, не наживет он себе неприятностей из-за нас, словом… из-за Брутена?
Саид смеется:
— Неприятности? Еще бы!
Рукой он делает жест, словно говоря: его уничтожат, казнят!
— Ты смеешься, — сказал Шарлемань, — я не это имел в виду.
— Да, к счастью. Хочешь держать пари? Сегодня же утром, чуть только он протрезвится, он явится сам сюда или в другое место, словом, сделает все как надо.
— А что «надо»?
На этот раз Саид, смеясь повторяет жест Шарлеманя и трет большим пальцем об указательный. Деньги!
— Ну и ну! — восклицает Шарлемань. — Здорово у вас получается! Так вот откуда вы берете средства!
— Не забывай про чай… — говорит Саид, — видишь, есть еще кое-что, о чем ты не знаешь! Ты говоришь о сборах. Ты имеешь в виду партийные взносы. Но ведь мы уже государство, у нас есть правительственные органы…
Саид всматривается в лицо Шарлеманя, словно соразмеряя силы перед прыжком.
— …Даже здесь, во Франции.
— И этот парень заплатит штраф, что ли? — говорит Шарлемань.
— Вот именно.
— Хорошо еще, что вдобавок его не зацапала наша полиция. Я говорю: «наша», хотя она и нас прижимает, словом, тут запутаешься.
— Путаться тут нечего, — произносит Саид. — Если не считать случаев, когда кого-либо из наших арестуют, ни один из алжирцев никогда не станет обращаться с жалобой во французскую полицию. Сам знаешь, прежде на нас здесь смотрели как на жалкий сброд, годный только на то, чтоб тянуть лямку. Лучшие из французов просто жалели нас. И в самом деле многие из нас были забиты, сломлены и беззащитны. А потом наступало пробуждение. Теперь часто те же самые люди боятся нас. Они считают, что мы не способны стать революционерами, что мы можем быть только убийцами. Что мы способны свергнуть… уничтожить систему гнета, но что в первую очередь мы будем уничтожать людей… а вовсе не строить новое, свое общество. Однако они не видят, что это общество уже существует и развивается… У нас уже есть своя законность, и она крепнет. Знаешь, деньги дают не только коммунисты, но и просто граждане. Очень возможно, что и в Советском Союзе не всем нравится платить налоги. Это не значит, что они мечтают вернуться к прежней жизни.
Саид говорил неторопливо, с расстановкой. Не прекращая разговаривать, он встал, взял чайник, налил оба стакана, и снова повеяло мятой. Шарлемань не произносил ни слова.
— …Так вот, ты спрашиваешь: «А не наживет ли он неприятностей?» Во-первых, он сознает, что провинился, а это уже само по себе неприятно. Кроме того, если он чувствует себя алжирцем — а этот, несомненно, чувствует, — ему хочется как-то загладить свой проступок…
— Особенно, — осторожно вставляет Шарлемань, — потому что он сознает, что над ним занесен дамоклов меч… Потому что знает, что с вами шутки плохи!..
— Ну что ж, война есть война. — Саид не ответил на улыбку. — Наше правосудие теперь строже, чем в мирное время. А государство жестче, оттого что несвободно. Вот если бы вам пришлось завоевывать диктатуру пролетариата в условиях войны, под перекрестным огнем врага, хоть и на собственной земле, то поглядел бы я…
Снова на Шарлеманя сильно пахнуло мятой…
— Как? Ты и это знаешь?.. — не удержался он, — …ты изучал?..
— Я сидел в тюрьме, — ответил Саид.
— Ты мне этого не рассказывал…
Саид пожал плечами и усмехнулся:
— Я еще многого тебе не рассказывал.
— Да, мы только-только начинаем узнавать друг друга… — произнес Шарлемань.
— Раньше, когда мы жили все скопом в ночлежках, мы постоянно были у них на глазах. Здесь мы немного на отшибе, и они, кажется, обо мне забыли… Или потеряли из виду… Выпей еще стакан… Чай нужно допить…
— От него как будто пьянеешь без привычки.
Второй раз Саид лил чай, не так высоко поднимая чайник. А сейчас он держит чайник прямо над стаканом, как мы. Словно чай теряет свою крепость. Но вот Саид говорит:
— Последки самые крепкие, конечно. Ну так вернемся к нашему разговору…
Он ставит пустой чайник, который слегка звенит, разбухшие листья мяты шуршат, касаясь алюминиевых стенок…
— …Это, конечно, неправда, будто мы казним тех, кто отказывается платить налоги. Смертью караются только тяжкие преступления! Мы казним только изменников, тех, кто предает своих братьев, по чьей вине гибнут наши товарищи. Это враги толкают людей на предательство. Словом, мы казним только предателей, да и то…
Он берет пустой чайник, запускает в него руку и достает со дна пригоршню мокрой мяты, словно рыбак охапку водорослей. Капли падают на стол и на пол.
— Она уже больше ни на что не годится? — спрашивает Шарлемань.
— Нет! — отвечает Саид. — Она даже не пахнет!
Он выбрасывает мяту за дверь, точно траву курам, и ветер тотчас подхватывает ее и раскидывает в разные стороны.
— …И с изменниками дело обстоит не так просто. Тут действует правосудие. Существует особый комитет из выборных лиц. Они собирают доказательства, свидетельства, и вовсе не от кого попало. Комитет остерегается доносов из личной мести… Кроме того, тот, кто приводит приговор в исполнение, всегда знает, кого он казнит и за что. Он имеет право отказаться, если ему не объяснят…
— И все же, — сказал Шарлемань, — иногда возможны ошибки. Которые оборачиваются против… против вас… Да, и против нас тоже.
— Не всегда получается так, как задумал, — ответил Саид. — Кроме того, люди иногда действуют в порыве гнева. Послушай, что я тебе расскажу. Представь себе молодого алжирца, который только месяц как приехал, работы еще нет. И вот приходит первая весть из дому: все его родные перебиты. Нам пришлось запереть его. Запереть! Он сидел в комнате, один на один с товарищем, который трое суток сторожил его днем и ночью. Если бы он вырвался, он натворил бы бог знает что. В слепом гневе. А чья тут вина?.. И это не такой уж редкий случай, — продолжает Саид. — Вот что я еще тебе скажу. Если они будут и дальше хватать наших руководителей, как сейчас, то есть забирать лучших, останется неорганизованная молодежь, предоставленная самой себе, положение станет еще хуже. Можно подумать, что ваши… нарочно стремятся вызвать ненависть. Но ты не знаешь силу нашего гнева. У нас даже шестилетний ребенок, когда ему говорят: ты француз, отвечает «нет»… хоть стреляй в него.
— Три месяца!.. — говорит Шарлемань. — Целых три месяца мы ходили вокруг да около. Но теперь, когда мы заговорили об этом, трудно остановиться, правда?
— Да, все или ничего, — ответил Саид. — Либо доверие, либо полное недоверие. Вам, французам, даже не понять, какую роль вы сыграли для нас не только в политике… Чувство унижения, стыда, неуверенности в себе и даже презрения к самим себе — все это принесли нам вы. Во всяком случае, все это появилось на ваших глазах. И вот теперь, когда мы стали совсем другими, нам в первую очередь хочется доказать это вам. Доказать оружием тем, кто не понимает иного языка. И убедить тех, кто способен понять. Когда алжирцу удается доказать французу свою правоту, а тем более правоту своего народа, то для него это куда важнее, чем убедить англичанина, американца или даже русского. Тут самая трудная победа. Это расплата добром… — и он тихо добавляет: —…за все зло, которое мы перенесли.
— Мне ты это уже доказал, — проговорил Шарлемань.
— Несмотря ни на что, для нас Франция вроде зеркала, в нем мы видим, как меняется лицо нашего Алжира.
— Вот мы сейчас с тобой оказались лицом к лицу… — начинает Шарлемань.
— В общем, раз уж я заговорил об этом… — прервал его Саид. — Здесь, во Франции, наше государство представлено разрозненными комитетами — правосудия, помощи больным, безработным, есть у нас даже и пресса, если хочешь знать… а завтра все это объединится в самом Алжире. Сейчас алжирцу, который с родины является во Францию, требуется два пропуска — во-первых, от вашей администрации, во-вторых, от нашего правительства… Когда государство, которое издавна существует, борется против посягательства на его свободу, как советские партизаны в тылу врага, — это замечательно… Но государство, которого не было вовсе и которое создается под носом и в тылу…
— Можешь говорить «врага», — быстро подсказывает Шарлемань. — Это слово всегда имело одинаковый смысл. Я не приму его на свой счет…
— Так вот, ты представляешь себе, какую силу приобретет тогда это государство, как глубоко уйдут его корни в народную почву?.. Несколько миллионов алжирцев заставили отступить самую сильную армию в Европе. Ты понимаешь, как гордимся мы той ролью, которую сыграли, и тем, что в освободительной борьбе мы заняли одно из первых мест. Независимость Черной Африки, Туниса, Марокко завоевана и в нашей борьбе. Хотя многие забывают об этом… Ты понимаешь, почему я тебе об этом говорю… И почему вчера я вышел из себя?… Вот мы с тобой говорим, Шарлемань… Что я могу тебе сказать о себе? Я говорю правду о моей стране, это самое большее, что я могу о себе сказать…
— Мне ты уже все доказал, Саид! — повторил Шарлемань. — Мы с тобой пока еще исключение, но… — Он набирает в легкие воздух и не сразу выпускает его, чтобы не показалось, будто он жалуется и вздыхает.
— Ведь даже ты, — промолвил Саид, — даже ты думал о нас совсем не то, что мы есть на самом деле.
Шарлемань порывисто вскочил и выпрямился во весь свой большой рост, он собирался было ответить, но задел стену плечом, и что-то с легким шорохом упало на линолеум.
— Ох, опять, — сказал Саид, вставая, — куда ни повесь, все равно падает. Очень уж тут тесно…
У самых ног Шарлеманя он поднял с пола плетенный жгут из колосьев, на который Шарлемань обратил внимание еще в первый свой приход.
— …Ужасно жаль, она осыпается.
— Прости меня, — ответил Шарлемань. — Что это такое?
Саид посмотрел ему прямо в глаза.
— Об этом я тоже не мог бы сказать тебе прежде. Саид положил соломенную косичку на ладонь и стал осторожно разглаживать колосья.
— Это плетут наши товарищи в тюрьме, там, дома…
— Ты уж извини, старина, если бы я знал… Кнопка с зеленой головкой торчала в стене на уровне плеча Шарлеманя, хорошо еще, что она не зацепилась за его старый серый свитер. Шарлемань протянул Саиду свою большую ладонь, чтобы тот положил на нее соломенную косичку, и повесил ее на место.
Она была почти невесомой…
…слово: Науара.
Это была тайна Саида.
Так она и осталась тайной. Но теперь Шарлемань знает, что она существует.
Он узнал об этом не от Саида.
Не так давно Сюрмон пришла в Семейный поселок. Двери широко распахнуты, окна тоже настежь. В кухнях громко разговаривают и смеются. Женщины здесь живут сообща, гораздо теснее, чем наши. Управившись с хозяйственными заботами, они собираются в одном из домов.
Сюрмон стучится в открытую дверь. Когда она входит, она видит пять-шесть женщин, сидящих на полу, что кажется странным в обычном доме, похожем на наши. Они сидят и пьют чай вокруг низенького столика. Столик совсем простой, из неструганых досок, сколочен, как видно, недавно, но уже запачкан. На столе чайник и стакан. Остальные стаканы либо на полу, либо в руках.
— Здравствуйте, — говорит Сюрмон. — Лабес?
— Лабес! Гуляешь, мадам Сюрмон?
Из пятерых только одна или две немного понимают по-французски. «Они смеются надо мной — думает Сюрмон, — хотя и беззлобно». Арабский язык позволяет им держаться в отдалении и настороже, они переговариваются на глазах у Сюрмон, переглядываются, перемигиваются, словно намекая на что-то, говорившееся о Сюрмон до ее прихода. Глаза их, откровенные даже в насмешке, выглядывают из тайника, точно из-под покрывала. Может быть, это привычка к покрывалу? Они его уже не носят, но оно как бы оставило след на лицах, придав особую выразительность глазам… Прямо противоположное мы видим у людей, привыкших к очкам: стоит им снять очки, и взгляд делается пустым и неопределенным…
— Как дела, мадам Гасми? Безула?
Сюрмон обратилась к совсем молоденькой женщине, уроженке южного Алжира, она была одета в английский костюм и сидела на полу, как и все остальные. На лбу у нее довольно большая татуировка, странно напоминающая лотарингский крест, другая красуется на подбородке. Она жует мсоик — пасту из зеленой ореховой кожуры, — для укрепления десен, как они объясняют. Перед ней, между ее коленями и столом в ивовой плетеной корзине лежит совсем крошечный ребенок. Видны только его лицо и руки, ладони окрашены хной, — это тоже якобы полезно для здоровья. Хна на крохотных ладонях и почти невидимых ноготках похожа на темно-рыжий сок во рту матери. Как у старика Дескодена, когда он жует свой табак, в уголках ее рта и между губами темнеет коричневая полоска. И татуировка тоже похожа на голубоватую слюну.
— Безула! — отвечает она с гордостью.
— Нлиббезула? — спрашивает Сюрмон.
Женщина кивает головой, поднимая руки к груди, и видно, что ее запястья, унизанные узкими золотыми браслетами, тоже покрыты тонкой татуировкой.
— Очень хорошо! — говорит Сюрмон, обращаясь к остальным. — Мадам Гасми, безула! Безеф! Мадам Брагим, вы знаете? — Она делает гримасу. — Макаш безула, мадам Брагим!..
«Мадам», добавляемое почти к каждому слову, как бы восполняет скудость словаря…
Сюрмон запомнила на слух десяток арабских слов, не больше, и пользуется ими главным образом в диспансере, когда ей приходится расспрашивать их или когда она сама, как сегодня, навещает их. Она знает, что безеф означает «очень», макаш — «нет», лабес? — «как дела?», безула? — «хватает ли молока?».
— К врачу?.. Мадам Гасми… вы пойдете на прием альзуже? (К двум часам?)
Молодая алжирка отрицательно качает головой.
— Рхадуа? (Завтра?) — приглашает Сюрмон.
— Лармис! (В четверг!) — говорит мадам Гасми и знаком предлагает Сюрмон подойти к младенцу.
Мать приподнимает одеяльце, и Сюрмон сразу замечает окрашенные хной ступни ребенка. Наклонившись ближе, она видит голубые глаза и голубую вязаную распашонку, из колыбели словно исходит голубое сияние.
— Кох! (Он кашляет!) — тихонько говорит мать.
— Безеф? — спрашивает Сюрмон.
«Нет! Нет!» — энергично замотали головой все женщины.
— А он какает безеф?
«Да-да», — кивает мать, а за нею и все остальные. И все женщины вместе с Сюрмон смеются.
Слова их беседы не имеют значения. Важно то, что стоит за ними. Иногда чем беднее и скуднее диалог, тем яснее за его прозрачностью выступает его подлинное содержание. Важнее всего жизнь этого маленького существа, ему всего месяц или два от роду, и оно кашляет. Впрочем, об этом говорят больше как о первом испытании, чем как об опасности. Важно, будут ли у этого человечка твердые ногти, крепкие ноги, чтобы ходить босиком по песку и скалам, гибкое тельце, которое чудесно растет и развивается, и животик у него работает безеф…
Платья женщин, яркие и прозрачные, под стать разговору. На мадам Гасми нейлоновая серо-голубая жатая кофточка, под ней видно розовое белье. Напротив нее сидит хозяйка дома, женщина лет сорока, с открытым и веселым лицом, на котором уже заметны морщинки, у нее не хватает двух передних зубов. Она лучше всех говорит по-французски и держится с Сюрмон свободнее, чем другие. На ней платье с крупными, как на обоях, цветами, из плохонькой материи, которую производят здесь для продажи в Алжире, но ценной для нее именно тем, что она куплена там, дома. В ушах у нее висячие золотые серьги. Справа от нее ее молоденькая дочь, единственная, кто, кроме нее, говорит немного по-французски. Она толчет тмин в черной каменной ступке, которая стоит рядом на полу, на одном из ее худых пальцев массивное золотое кольцо, а в вырезе лилового платья, на плоской груди с торчащими ключицами, поблескивает ожерелье с талисманом — золотая рука Фатьмы, украшенная гранатом. У девушки длинные иссиня-черные волосы, гладко зачесанные назад; когда она смеется, видны два золотых зуба. Слева от хозяйки дома сидит мадам Фарида, глубокая старуха, которую здесь все знают, хотя она приехала всего лишь год назад. Все сразу обратили внимание на ее покрывало, которое она в первое время еще носила, на широченные шаровары, стянутые внизу и открытые с боков, и большую накидку с капюшоном на застежке-«молнии». Не в пример другим она не боялась выходить из дому в своем вызывающем наряде. Соседи-французы прозвали ее «зуавшей», вполне, впрочем, добродушно, из-за этих ее бело-кремовых штанов. Эти белые шаровары постепенно изгнали из их воображения красные шаровары настоящего зуава, однако никто не решился бы назвать так старуху в лицо… Она внушала почтение — иного слова не подберешь — своей неторопливой походкой, высоко поднятой головой и гордой осанкой, и всякий встречный мог, если желал, поклониться ей или проводить ее насмешливой улыбкой, а старуха спокойно отвечала на приветствие или взглядом гасила дерзкие улыбки… От ее взгляда мороз по коже пробирал любого, кто осмелился бы над ней посмеяться, даже детей… Постепенно те, кто принял ее за бродячую цыганку, за полунищую гадалку, убеждались в своем полнейшем заблуждении. Она одевалась с подчеркнутой опрятностью и следила за собой несравненно больше местных старых женщин. Лицо ее казалось выхоленным, она предпочитала белые ткани цветным… Вот и сегодня, как и обычно, на ее шее, покрытой бесчисленными мелкими морщинками, красуется тройное ожерелье из золотых монет. Подбородок ее оброс волосами. Она не вступает в разговор, не произносит ни слова ни по-французски, ни по-арабски. С первого дня она отказалась выучить хотя бы одно французское слово… Однако лицо ее приветливо, а при появлении Сюрмон она даже улыбнулась, а улыбки ее не так-то легко удостоиться… И еще одна женщина сидит между мадам Фаридой и девушкой. Она тоже молчит и не улыбается, она застенчива и женственна. У нее бледное лицо, ее блекло-зеленое платье кажется почти серым рядом с яркой одеждой других женщин, крохотная татуировка под ее правым глазом — а может быть, давнишний шрам? — напоминает голубоватую слезу…
Сюрмон в виде исключения явилась сегодня в своих зеленоватых вельветовых брюках, чересчур обтягивающих ее узкие бедра, и в светло-коричневой рубашке. В одежде, движениях, манере смеяться между всеми этими женщинами и Сюрмон столько же различия и сходства, сколько и в беспорядочной полуфранцузской, полуарабской беседе. Этот скудный и удивительный разговор между ними вполне под стать смешению убожества и золота на полу этой комнаты, хне на руках младенца, мсоику, который жует его мать, сияющей голубизне его рубашечки и глаз.
— А кожа у вас стала лучше, мадам Гасми! — говорит Сюрмон, показывая пальцем и почти прикасаясь к красноватым пятнам на подбородке и скулах молодой женщины.
Женщина, смеясь, пожала плечами. Это пустяки.
Она приехала сюда совсем недавно, на сносях, с огромным животом, утомленная и измученная путешествием на пароходе и в поездах, не говоря уж обо всем прочем… Здесь она сняла покрывало, как и все ее товарки. Но первое время вода или малейший ветерок — все раздражало слишком нежную и до сих пор всегда защищенную кожу ее лица.
— Знаешь, мадам Сюрмон! — говорит хозяйка дома, подбородком указывая на мадам Гасми, — она рассказывает нам о том, что сейчас творится в наших местах… Беда!..
Она говорит что-то мадам Гасми, и молодая женщина повторяет по-арабски для Сюрмон то, что она уже сотни раз рассказывала со дня приезда…
— Знаешь, мадам Сюрмон, она говорит: по вечерам женщины остаются в домах одни… Они боятся… Приходят солдаты, кричат на улице… швыряют камни… колотят ногами в дверь.
Молодая женщина продолжает.
Хозяйка знаком останавливает ее: она знает все и сама расскажет мадам Сюрмон.
— Женам горцев и детям… приходится спасаться и бежать в города или в лес. Они ночуют под деревьями… Питаются отбросами…
Мадам Гасми продолжает, Сюрмон вслушивается в ее речь, словно понимая.
— Она говорит, что женщины покидают селения и с детьми уходят на время в лес, чтобы спрятаться от солдат… Это с детьми-то и без всякой пищи…
Лицо старухи… Сейчас это почти лицо мужчины. И когда оно не улыбается, кажется, будто на нем меньше морщин.
— Знаешь, мадам Сюрмон, это ужасно, — говорит хозяйка дома уже от себя, — но бывает и хуже… Знаешь Арезки в Семейном, так вот его жену убили. А у Саида Хамади, который живет в бараке наверху, жена совсем молоденькая, моложе его. Так вот в прошлом году они увели ее на три дня. Она вернулась обратно, — при этих словах хозяйка сжала ладонями виски, широко раскрыв глаза, — …помешанная! У них еще не было детей… и теперь она уже не сможет родить… А ведь у нас, если женщина не рожает…
— Знаю, — говорит Сюрмон.
— А мадам Халиму ты помнишь? У нее была сестра…
— Да, она мне рассказывала про это, — говорит Сюрмон.
Сюрмон едва знакома с Саидом. Случайно упомянув о Саиде как о соседе, она передала Шарлеманю этот разговор только сейчас — добрый месяц спустя после своего визита в Семейный…
Шарлемань внимательно выслушал ее рассказ, но в ответ сказал сдержанно:
— Вот видите, а я и не знал, что у него была жена.
А вокруг царят тишина и покой. С самого воскресного вечера. Слегка парит, как перед близкой грозой, в теплом воздухе ни ветерка…
…слово: поруганные.
Тишину нарушила весть: вчера утром арестован родич Саида, его забрали из фургона, где он находился в тот момент один.
Из осторожности Саид не вернулся домой в перерыв. После обеда он работал, как обычно. Шарлемань нашел его и предупредил, что возле фургона дежурит полицейский и что дверь открыта настежь. Саид ушел ночевать в другое место.
А сегодня утром он сам явился к Шарлеманю, но не через Понпон-Финет, что было бы рискованно, а кружным путем. Накануне ночью они явились к добродушному работяге Рамдану и арестовали и его. Говорят, что он оказался крупной дичью.
— Сегодня с утра никого там не видно, — сказал Шарлемань. — Подожди здесь, я схожу, узнаю. Меня они не тронут.
— Так или иначе, я не собираюсь там оставаться, — сказал Саид. — Я только хочу забрать вещи, которые они не взяли. Если все спокойно, подай знак, и я сразу подойду.
Все было спокойно. Если не считать того, что в фургоне после обыска царил полный разгром. Продырявленная коробка из-под печенья, стаканы, тарелки, письма — все валялось в беспорядке на полу, это было видно с порога, ибо дверь была распахнута настежь, и любое животное могло спокойно забрести туда ночью и рыскать… Но полицейского больше не было.
Сайд подошел к фургону следом за Шарлеманем, слегка пригибаясь в высокой траве.
Сейчас, когда стены голые, фургон поражает пустотой.
На полу — рамка с зелеными полумесяцами. На ней следы подбитых гвоздями подошв. Вокруг разбросаны обрывки фотографий, кусочки лиц, снизу глядят глаза…
Соседи уже все знали… Когда арестованного уводили на улицу Буайе, совсем неподалеку, люди слышали, как он кричал, используя все немногие известные ему французские слова:
— Они разорвали моих братьев, моего отца, мою мать! Они видели их имена на обороте и все-таки все изорвали!
— Это не в первый раз, — говорит Саид. — Он-то столкнулся с этим впервые, но когда они являлись ко мне в гостиницу, они всегда так делали… Им это доставляет удовольствие.
Саид собрал все, что мог, в одеяло и связал его в узел. Он сложил в бумажник обрывки фотографий, кроме портрета женщины, лицо которой показалось Шарлеманю знакомым, когда он пришел сюда в первый раз. Он подумал, что Саид забыл.
— А это ты разве не берешь?
— Я вырезал ее из журнала, — сказал Саид. — Я найду другую. Тут уж они мне не помешают.
Позавчера Шарлемань решил было, что это фотография жены Саида, и теперь он терялся в догадках. Ему не пришло в голову, что он мог увидеть это нежное смуглое лицо в иллюстрированном журнале, где среди фотографий принцесс и кинозвезд изредка можно найти и портреты народных героинь.
Уходя, Шарлемань заметил вдруг на стене жгут из сплетенных колосьев.
Для полицейских он ровно ничего не означал, и они его не тронули.
Даже не спрашивая, Шарлемань протянул руку, чтобы снять его со стены и передать Саиду. Но нечаянно он выпустил ниточку, и жгут с легким шорохом упал, как и в первый раз, в щель между деревянной стеной и зеленым линолеумом на столе.
Шарлемань опустился на колено и поднял его. Колосья обились, когда падали, и два пшеничных зернышка упали на пол. Он хотел было оставить их лежать, но у него защемило сердце, не хотелось бросать их здесь. Он подобрал их и, поднимаясь на ноги, протянул Саиду:
— Просто беда, у меня сегодня дырявые руки! Все валится.
Саид развязал два угла одеяла, вытащил квадратную жестяную коробку. Яркие этикетки давно отклеились от нее, стенки заржавели. Он положил туда соломенный жгутик поверх всего, что он успел наспех собрать.
Саид взглянул на пшеничные зерна на ладони Шарлеманя. Он взял только одно, а может быть он одно лишь и увидел, и положил в карман. Шарлемань как будто непроизвольно не выбросил другое, а сунул тоже себе в карман.
У него в карманах брюк вечно полно всякой всячины, прямо-таки целые закрома: табаку там не бывает, он не курит, но вот крошки хлеба, какие-то бумажки, остатки от наживки, сунешь в карман пакетик, а он рвется… шелуха от конопляного семени, отруби, засохшие травинки, нитки от подкладки — все это перетерлось, не раз мокло от дождей и пота, и, когда суешь руку в карман, вся эта труха забивается под ногти… И если бы зернышку пришла фантазия пустить росток, оно нашло бы для себя там все необходимое…
Только вечером Шарлемань вспомнил о нем, вынул его и, подцепив ногтем большого пальца, спрятал в надежное место — в футляр от часов.
…Красная железная лестница. Шарлемань наконец добежал до нее, чтобы влезть наверх. Ни Саид, ни его преследователи больше в поле его зрения не появлялись. В сталелитейном или позади него раздаются крики. Дыхание перехватывает, он уже не в состоянии думать связно, не может даже удержать в памяти разрозненные слова. А главное, на это уже нет времени. То, что должно случиться, уже слишком близко, вот здесь, за этой стеной, за дверью на верху лестницы.
На втором этаже сталелитейного у самых пастей конвертеров стоят рабочие, они еще взволнованы только что промчавшейся погоней. Никто не работает. Все столпились у открытой двери на другом конце цеха. Шарлемань бежит туда, и его подкованные башмаки звенят о плохо пригнанные стальные листы пола, этот звон снова будоражит людей, начавших было успокаиваться. Все оборачиваются и смотрят, как он задыхаясь бежит среди пышущих жаром бессемеровских печей… Что еще случилось?
Печи, предоставленные самим себе, продолжают работать без присмотра, кроме двух, которые только что прочистили и у которых такой вид, точно они вот-вот проглотят пол своими зияющими пастями высотой в человеческий рост, и если ты споткнешься или покачнешься возле них, то упадешь прямо в пекло, словно в «каменный мешок»…
В дверях Шарлемань молча расталкивает замешкавшихся товарищей. Он выскакивает наружу на верхнюю площадку другой железной лестницы, черной и ржавой, и одним взглядом охватывает происходящее.
Между томасовским цехом и доменным, там, где строится большой бункер, полицейским было труднее пробраться, чем Саиду. Все мешало им — рвы, куча глины, незнание местности, страх и скопление рабочих, в частности алжирцев… Здесь Саиду удалось оторваться от погони. Он обогнул доменный цех и, видимо, решил пробраться наискосок к литейному. Шарлемань бежит наперерез, стараясь, впрочем без особой надежды, обойти полицейских и очутиться между ними и Саидом… И Саиду удается проникнуть в литейный.
На заводе они его не поймают, думает Шарлемань. Но бежать по литейному — сущее безумие. Все равно что для мухи ползать по паутине! Повсюду расплавленный металл и огонь. Огонь здесь словно мохнатый, он окутан дымом и пылью, летящей от литейных форм, языки пламени обведены синей и зеленой каймой, в середине они болезненно багровые и напоминают цветом губы женщины, харкающей кровью. И носиться зигзагами среди изложниц, даже когда смерть преследует тебя по пятам…
К счастью, Шарлемань примчался слишком поздно, вслед за тремя полицейскими. Это позволило ему выиграть время, ибо Саид выскочил с другого конца литейного цеха, почти сразу после того, как в нем появились полицейские. Он тут же пустился назад к домнам. Так, может быть, они потеряют его след.
Но нет. То ли какое-то препятствие или человек преградили им путь, то ли они сразу увидели, что Саида нет в цехе, но полицейские тут же повернули обратно. Они вышли через ту же дверь. Теперь Шарлемань бежит между ними и Саидом, метрах в двадцати позади Саида, опережая полицейских метров на пять. Может быть, поэтому он немного меньше боится за Саида. Только бы тот не оступился и не угодил в огонь.
Похоже, Саид нарочно завлекает погоню в самые труднодоступные места, в знакомую ему заводскую чащу. В момент пуска плавки из домны огонь бежит по желобам, как ручейки в дождливый день, он бросается вам под ноги, точно свора орущих котов с выпущенными когтями, он кусает и гложет низ брюк и кожу башмаков. Если случайно человек ступит ногой в такой ручеек, он рухнет в него с высоты своего роста, подобно песчаной дюне, подмытой морскими волнами. А промежутки между двумя плавками еще опаснее, потому что они обманчивы. Раскаленный металл, оставшийся в желобах, лежит притаившись, как крот, не видимый в своем подземном коридоре. Он покрывается безобидной на вид коркой, по которой, кажется, можно бегать, как по льду в оттепель… Стена этой части цеха с солнечной стороны сложена не сплошной, а ажурной, надо думать ради вентиляции, и пол представляет собой ослепительную шахматную доску чередующихся теней и света, как бы огромные соты; когда бежишь, то со страху путаешься среди этих пятен, среди огненных канав и ячеек и просто солнечных бликов и инстинктивно перепрыгиваешь через них, как косуля через плетень… А если вдруг откатится, подскакивая, камешек, то с полу, словно багряный осенний куст, взлетает сноп искр и хлещет вас по рукам и по ногам…
Шарлемань остановился в дверях цеха, полицейские тяжело дышали ему в спину, все четверо смотрели на Саида, затем все снова побежали, огибая домну. И снова началась погоня, теперь Шарлемань был позади, а полицейские между ним и Саидом, только Саид уже далеко, так далеко, что он уже не бежит, а шагом входит в прокатный цех стана 250.
Нет, на заводе они не поймают его, разве что он сам погибнет, попав в огонь. Там, на стане 250, рабочие быстро вращают вокруг себя раскаленные докрасна стальные заготовки, как лассо. Эти брусья выходят из прокатного стана, как густая краска из тюбика, они ползут, извиваясь по земле, словно змеи, преследующие жертву. Но, быть может, Саиду, который уже не так спешит, удастся перескочить через них и наикратчайшим путем пересечь цех? А куда двинется он оттуда? В мартеновский? Бежать вдоль канавы с изложницами, как по доске над огненным разливом, словно ребенок, который, балансируя по краю тротуара, старается подольше сохранить равновесие? На заводе они его не поймают. Они уже и так много выиграли от того, что все развернулось так быстро и рабочие спохватились слишком поздно, когда погоня уже пересекла цех и умчалась далеко. Может случиться, что дело в конце концов обернется против преследователей… Неплохо бы их проучить, пусть знают, каково иметь дело с огнем…
Ну а что же с Саидом? Шарлемань перестал бежать, и полицейские тоже пошли шагом впереди него, может быть, боясь оступиться. А в это время вместо того, чтобы воспользоваться тем, что он ушел далеко от них, и юркнуть в другой цех, растворившись в его массе, Саид повернул от прокатного цеха к заднему запасному выходу с завода… Шарлемань собирает последние силы, снова пускается бежать и обходит полицейских, которые совсем останавливаются… Как же Саид не подумал о том, что там он может наткнуться на другую и притом совсем свежую команду? Шарлемань бежит сломя голову, сердце колотится в груди, в правом боку так колет, что хочется согнуться в три погибели, он бежит и сдавливает рукой нижние ребра, стараясь унять боль. Но вот Шарлемань слышит, как заскрипела дверь, грузно поворачиваясь на петлях, и как она с шумом захлопнулась за Саидом; кажется, будто от ее тяжести содрогнулась кирпичная стена, содрогнулось само солнце, отражающееся в бутылочных осколках, вмазанных по всей длине стены… Когда Шарлемань в свою очередь проскочил под скрип двери, которая с тем же гулким звуком захлопнулась за ним, он убедился, что не ошибся: там, за пределами завода, началась новая погоня. Он видит, как Саид мчится в надвигающихся сумерках по высоким травам Понпон-Финет, как он перепрыгивает через канаву и поворачивает как будто к острову… А может, он и прав, думает Шарлемань. К счастью, полицейская машина стояла не у самого выхода, а на углу справа, откуда можно было следить одновременно еще за одной дверью; полицейские и не подозревали, ликует Шарлемань, что эта дверь с незапамятных времен заперта на ключ и замок в ней проржавел, наверно, вконец… Пока полицейский фургон стронулся с места и подъехал к краю Понпон-Финет, пока он высадил своих пассажиров с автоматами наизготовку — сущее «коммандо», отродясь ничего подобного в этих краях не видели; Шарлемань успел опередить их метров на сто, сто метров выбоин и бугров, камней и жидкой грязи, кустарников, старой колючей проволоки, канав с застоявшейся водой и разрытой земли. Еще дальше от них Саид, он уже недалеко от дорожки, которая ведет к каменному мостику через речку. «Может, мне лучше остановиться, — думает Шарлемань. — Кто их там знает, вдруг им вздумается выстрелить мне в спину. Теперь уж им его не поймать. Хоть бы их сейчас громом разразило»…
Сам не зная зачем, он все же бежит дальше, несмотря на нестерпимое колотье в боку, несмотря на туман, застилающий глаза. Может быть, он вспомнил, как Корнет вот так же мчался среди ночи на пожар. Или Ахмед, который тщетно пытался скрыться и которого не спасла даже ночная темнота…
Так или иначе, он по-прежнему бежит вслед за Саидом, оба они скачут, точно деревянные лошадки на карусели, то вниз, то вверх на крутом спуске к Понпон-Финет.
Ибо вдруг происходит нечто необъяснимое. Из густой травы выныривает большая собака, преграждает дорогу Саиду, становится на задние лапы, поднявшись выше его, потом снова опускается на все четыре лапы и бежит перед ним по дорожке.
Это овчарка Марселя.
Марсель и сам появляется справа от Саида метрах в пятидесяти и зовет пса, не видя еще ни Шарлеманя, ни полицейских, которые полукругом скатываются но склону, тоже напоминая деревянных лошадок…
Но собака не слушает хозяина. Она снова повернулась к Саиду, вынуждая его остановиться, а когда он пытается бежать дальше, пес путается у него в ногах, мешает, словно отталкивая его плечом, и старается достать до его лица.
— Не бойся! — кричит Марсель. — Он играет! Остановись!
Может быть, овчарка узнала Саида. Она настроена явно миролюбиво и не собирается кусать его. И Саид бежит дальше как может, почти не отклоняясь от пути, не защищаясь от собаки, а только отстраняя ее. И все же расстояние между ним и Шарлеманем сократилось наполовину, когда он достигает дорожки, ведущей к мостику.
В этот момент Маркан, разносчик из мясной лавки, едет мимо на велосипеде с корзиной мяса, укрепленной перед рулем. Увидев бегущего Саида и собаку, а за ними Шарлеманя и полицейских, он спрыгивает на землю, бросает велосипед, роняя пакеты с мясом, быстро нагоняет Саида. Он молод и полон сил, он хватает беглеца сзади за плечи и за шею и тяжело подминает под себя обессилевшего Саида, словно вдавливает его в траву.
Полицейские с воинственным кличем удваивают скорость…
Марсель тоже срывается с места.
А Шарлемань вопит не своим голосом:
— Эй, Поло! Что ты делаешь! Отпусти его! Слышишь, мерзавец! Отпусти, говорят!
Парень разжал руки, ничего не понимая, сбитый с толку, и встал, готовясь защищать лицо от хорошей оплеухи и растерянно глядя на приближающуюся рослую фигуру Шарлеманя… Саид тем временем бросился дальше.
— Ты что, рехнулся, парень? — кричит Шарлемань, замахиваясь на него, однако слишком издалека. — Знаешь, что ты мог натворить?..
И он промчался мимо.
Саид уже достиг рощи. Увидев это, Шарлемань останавливается, опускается на одно колено на землю, обеими руками хватаясь за сердце и за бок и глядя, как сверху бегут полицейские. «Можете спешить, голубчики! Теперь уж вы его упустили!..» — думает он.
Невозможно предсказать ход событий при чрезвычайных обстоятельствах. Шарлемань опасался, что, не догнав Саида, они схватят его. Но полицейские, должно быть, ничего не поняли, они решили, что он старался помочь им и обгонял их, желая поймать Саида, как это пытался сделать Поло Маркан, и что они оба чуть его не схватили. Они продолжали бежать вниз, крикнув на ходу Шарлеманю то ли что-то ободряющее, то ли что-то вроде: все равно он от нас не уйдет!..
Марселю удалось подозвать овчарку, которая рвалась бежать за Саидом.
Прицепив поводок к ошейнику собаки, которая все еще стремилась вниз, где полицейские прочесывали рощу, оба приятеля подождали немного, пока не убедились, что погоня сорвалась окончательно. Тут кстати и стемнело. Друзья торопливо зашагали к дому. Теперь, если я им нужен, пускай пожалуют ко мне домой… — раздумывает Шарлемань. Но тогда, вероятно, разговор будет нешуточный… Правда, в глубине души он в это не верит.
— Ну и дурная у меня собака! — ворчал Марсель. — А главное, она с ним просто заигрывала.
Возвращаясь по шоссе, чтобы не попадаться на глаза полицейским, которые, вероятно, направятся к заводу, к своей машине, они наткнулись на Маркана. Приставив к стене велосипед с корзиной, где перемешались в беспорядке все заказы, парень стоял у освещенного входа в кабачок Занта. Возбужденно жестикулируя, он на свой лад рассказывал о происшедшем. Проходя, они увидели, как он вытягивал вперед свои большие руки, показывая, как он надавил на плечи Саида, приговаривал: «Тут я его и ухватил!.. Тут я его, голубчика, и прижал!..»
— А тебе не стыдно? — спросил без обиняков Марсель.
Парень так и застыл с открытым ртом и не успев опустить руки. Прямо кадр из фильма, где вытянутая вперед рука увеличивается перспективой, или фотография рыболова с пойманной рыбой, которая кажется тяжелее и больше из-за иллюзии, создаваемой крупным планом…
…Этот парнишка еще каких-нибудь два года назад ходил в школу. И как только поступил в лавку мясника, сразу вырос и возмужал. Мясо, что ли, пошло ему на пользу… Отец его был шахтером, а он, кто знает, может, станет мясником, раз уж он с этого начал. Он вытянулся и раздался в плечах что-то даже слишком быстро. Усы уже пробиваются, сумерки и свет у входа в кабачок подчеркивают чуть темнеющий меланхолический пушок около углов губ, еще не знакомых с бритвой. Из обшлагов рабочей куртки вылезают рукава полосатого сине-белого свитера, но и они уже не прикрывают запястий. За короткое время все стало ему мало, может быть, поэтому руки его кажутся такими большими. Не удивительно, что он сумел подмять под себя Сайда… Руки его все еще подняты, пальцы растопырены, точно лапы хищной птицы, вцепившейся в барана, только что без когтей. В сущности, не так уж страшен его жест… руки его понемногу опускаются как бы сами собой, и он отвечает Марселю:
— А я подумал — вор! Когда я увидел, как вы за ним бежите!.. А тем более он…
Несмотря на пристыженность, в его движениях чувствуется гордость, оттого что он сумел одолеть взрослого мужчину, что у него хватило на это силы. Он снова берется за руль велосипеда. В его корзине полный беспорядок, куски мяса в пергаментной бумаге, на которой чернильным карандашом написана цена и имя клиента, свалены вперемешку.
Марсель занес правую руку словно для удара и глухо пригрозил:
— Ты у меня еще получишь хорошую взбучку, паршивец! Ты еще и врун вдобавок!
— Брось, — сказал Шарлемань, — пожалуй, он отчасти прав.
И, обращаясь к юноше, он добавил, не повышая голоса:
— А ты иди домой. И расскажи обо всем отцу!..
Ну а теперь?
Где Саид? Вряд ли доведется скоро увидеть его в наших местах. Если ему удастся скрыться, то он отправится куда-нибудь подальше, может быть, даже вернется в Алжир. Если они схватят его, то ему не миновать тюрьмы, лагеря, это в лучшем случае, и, уж конечно, ему запретят проживание во Франции.
Когда Шарлемань вернулся домой, Берта, не ждавшая его так рано, еще не ложилась. До того как он пустился вслед за Саидом, он успел загрузить последнюю печь, и возвращаться на завод было незачем. Дома он почувствовал полное изнеможение, ему даже пришлось сесть. Скорее всего, это была усталость после долгого бега, но он ощущал еще и странную пустоту, уже несколько раз испытанную им прежде. До встречи с Саидом…
— Что с тобой, милый? — спросила Берта.
Он рассказал ей обо всем, а затем, не решаясь ни лечь спать, ни сесть за стол, хотя ощущение пустоты походило на голод, он сказал жене:
— Поди сюда, детка, посиди со мной! Возьми стул и сядь рядышком.
Он не собирался пускаться в долгий разговор, это было не в их привычках.
— Знаешь, детка, что такое для меня этот парень…
И он умолк, но, если бы этого было недостаточно для Берты и если бы он умел яснее выражать свои чувства, он, пожалуй, сказал бы следующее:
…Ты не раз видела, что если из бидона выплеснуть в воду керосин при ярком солнце, то в одно мгновение все вокруг начинает сверкать… Вот примерно что сделал для меня этот парень… превратил серую грязь в радугу… грязь, я имею в виду нищету, кровь, ненависть, стыд, презрение людей друг к другу… как будто синие пузырьки керосина поднимаются с самого дна и с брызгами лопаются на поверхности воды… уж не знаю, какая тут связь, но иногда я себя спрашиваю, показалась ли бы ты мне желаннее в свое время, будь ты увешана драгоценностями…
Потому что… В Саиде нет ничего необыкновенного. Он человек, как все. Как и я. Но как раз ничего необычайного и не требуется, чтобы два человека двух разных наций поняли друг друга. Как раз обратное противоестественно… Обыкновенные люди. Потому что в наше время ничто не может касаться только двоих, в наши дни что бы ни происходило между двумя людьми, в это тотчас вторгается и вся окружающая жизнь. Строить какие-либо отношения тихонько, с глазу на глаз, сейчас невозможно. Просто удивительно, сколько сразу всего примешивается, влезает и заставляет терять или выигрывать время, скорее даже выигрывать.
А пустота, это вовсе не потому что я или ты стареем или наш народ стареет… народ никогда не стареет… народ иногда чувствует себя побежденным, скованным, но он никогда не стареет… Вот увидишь скоро… А уж когда мы наконец покончим с этой войной, тут уж, будь уверена, настанет такое…
Но если между двумя народами лежит пропасть пустоты, то у всякого, кто хоть немного мыслит, у кого есть сердце, на краю этой пропасти кружится голова. И когда живешь так, как я и как ты рядом со мной, словом, как мы оба — в борьбе за людей… и когда при этом думаешь, что и в тебя могут случайно попасть шальные пули ненависти, подозрений, гнева, презрения тех, кто прав в своей борьбе, то признаешь, что хоть это и незаслуженно, но оправданно, и мысль об этом мучительна…
Он тихо промолвил:
— А ведь, в сущности, так нетрудно понять друг друга…
А если бы потребовалось, мысль его могла бы выразиться так:
В каждом человеке всегда можно нащупать и нить и ткань… лен или джут, шелк или хлопок грубой или тонкой работы, любой толщины и любого рисунка и цвета, но от Калькутты до Рубэ, в песках Сахары и в Париже — в каждом человеке есть нить и есть ткань, верно?
И война вонзается в них, словно огромные портновские ножницы, но так же, как эти ножницы, она способна разрезать сразу и драп и подкладку… ведь ни один народ не может быть искони драпом или подкладкой… будущее всегда сулит лучшее… и ничто не предрешено.
А насчет Саида, знаешь, я не мастак на высокие слова, я не умею их выбирать, но ему подойдут любые: и достоинство, и гордость, и самолюбие, и умение быть настоящим мужчиной, и благородство, и сдержанность, которая иногда смахивает на высокомерие, и сердечность, и великодушие и мягкость; и при всем этом… ну как тебе это выразить… умение уважать другого, способность без колебаний жертвовать собой, героизм, мужество, горячность и многое другое, я ведь словами не богат, как и всем прочим… Чистое золото, а не человек…
— Растет пшеница, — проговорил он.
А в его воображении один за другим возникают образы:
Знаешь, Берта, ты, наверно, замечала, что в зеленеющем хлебном поле можно иной раз угадать, где проходили колеса сеялки… Позже, когда Алжир будет свободным, а заодно с ним и мы, наша сегодняшняя борьба останется, точно эти следы, да-да, ни больше ни меньше. Все сегодняшнее — это временное… Но если в течение всей жизни видишь, как в ответ на твой настойчивый, упорный труд растет пшеница, то будущее тебя не обманет… и можно представить себе это зеленое будущее… и помогать росту этой зелени уже сейчас, участвовать в зарождении счастья, верно, Берта?..
Ведь у многих уже нет в жизни никаких всходов, для них все кончено… Вот, например, твоя родственница, что подарила тебе герань, она одинока, замуж не вышла… когда скончалась ее мать, она установила надгробие над ее могилой и под именем матери и датами ее рождения и смерти велела выгравировать свое собственное имя и даты 1861-19—. Камень черный, наверно сланцевая плита, под резцом он становится серо-белым… Я вовсе не хочу говорить плохо о твоей кузине, понимаю, что она бережлива… но, по-моему, так жить все равно что поставить на себе крест на остаток своих дней: знать, что твое имя уже стоит на могиле и только дата смерти еще белеет, то бишь чернеет, в ожидании… таким, как она, и судьба такая… одно лишь черное да белое… Они умирают задолго до смерти…
— Вместе с этим парнем в мою жизнь словно ветер ворвался, — сказал он.
Знаешь, Берта, а ведь у него была жена… в общем, не стоит, наверно, говорить тебе об этом, ни к чему взваливать и на тебя эту тяжесть… мне почти ничего не известно об этой женщине… знаю только, что они поженились совсем молодыми, как мы с тобой… я представляю их себе такими же, какими были мы в молодости, — словно два полевых цветка под набегающим ветром. Чуть выше других, как ромашки среди клевера… а ветер-то и в самом деле был крепкий, правда, Берта?.. Говорят: настали последние четверть часа… не впервой они попадают в свою собственную ловушку… это действительно последние четверть часа, но вовсе не в том смысле, как они это понимают… да и не только в Алжире… Это последние четверть часа для целого отжившего мира… И чем ближе конец, тем они больше ожесточаются… смотри, что они творят с алжирцами и там и тут… Небось с нами они никогда не смели так обращаться, а уж поверь, руки у них не раз чесались, да и теперь чешутся… Словом, все это пахнет концом… Так что сама понимаешь, как оно было, когда мы с этим парнем оставались с глазу на глаз… Скажут: исключение, ну и пусть говорят все, что угодно… Мы тоже были как два цветка, два невзрачных цветка на ветру… не невзрачнее других, в общем-то, это зависит от погоды, света, но бывают времена, когда яркие краски как бы неуместны… Словом, между нами в эти смутные дни возникла дружба, настоящая мужская дружба. Может быть, это слово слишком значительное… все это было еще неокрепшим, как тонкий ледок, понимаешь, Берта?.. Подспудная, незаметная работа зимы…
Февраль 1960 — ноябрь 1961
Примечания
1
Игра слов: Тиди-Туди созвучно слову «болтушка».
(обратно)2
«Cornu» — рогатый (франц.).
(обратно)3
Национальное движение Алжира.
(обратно)

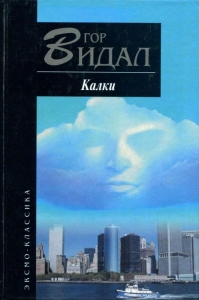










Комментарии к книге «Последние четверть часа», Андрэ Стиль
Всего 0 комментариев