Из книги Геннадий Шпаликов. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники. Письма — У-Фактория 1998 г.
«ДЕВОЧКА НАДЯ, ЧЕГО ТЕБЕ НАДО?»
Май уже в середине, а прохладно, особенно по вечерам. Белые в мае вечера, тревожные, и каждый похож па праздник или ожидание его.
Волга к вечеру желтая, темная, синяя. От близости ее, от преобладания надо всем, поскольку она здесь главная улица, воздух легкий, речной.
Отчаливает теплоход под марш «Прощание славянки», окошки на палубах желто светятся, с палуб машут руками неизвестно кому, платья в сумерках ярко белеют.
А музыка эта вечерняя, и оркестр из городского парка, и слова, возгласы — все отчетливо, отдельно слышно. Как позже — всплеск рыбы на темной тихой воде.
Надя Смолина пожалела, что вышла из дома без кофты, в платье с короткими рукавами. Но возвращаться, как известно, не к добру, и она медленно спускалась но своей зеленой и наклонной слегка улице к Волге, где около новой гостиницы ее должна была ожидать машина.
Вышла Надя задолго до назначенного времени. Как на свидание — на этой простой мысли она себя поймала, вышагивая в сторону заката. Сумочка в руке, замшевая, покачивается. Платье, только что отглаженное, теплое еще от утюга, воротник свежий, белый. Легкость во всем.
Снизу, от реки, приближалась к ней, занимая неширокий тротуар, очень знакомая компания: Слава Малышев, с ним Лиза и еще двое ребят. Тех она знала меньше. Но видела этой весной почти каждый вечер. Долговязые, длинноволосые, в узких расклешенных брюках с разрезами, в ярких прозрачных куртках. В общем, довольно приятные ребята, похожие на солистов какого-нибудь конкурса «Алло, мы ищем таланты». Но была у них особенность в одежде, уже цирковая, что ли, — лампочки в разрезах брюк светились. Разноцветные, мелкие и яркости небольшой. Ничего подобного Надя не видела. Она даже приостановилась.
Слава негромко играл на гитаре, перевешенной через плечо. Лиза, высокая, длинноногая, в такой же короткой оранжевой куртке, прижималась к нему очень независимо — тем более что Надю она уже успела увидеть.
У Нади был к Лизе свой, особый разговор, но она решила его отложить пока что. Уж очень независимый и оттого еще более беззащитный вид был у Лизы.
— Славка! — весело спросила Надя. — Что это у вас за иллюминация на штанах?
— Простейшее устройство, Надежда Тимофеевна! — охотно и так же весело отвечал Слава. — Но каков эффект?
— Сам придумал? — Надя все глядела на эти мелкие разноцветные лампочки.
— Патента, конечно, нет, — говорил Слава. — Мысль, как говорится, витала в воздухе. Вот, смотрите, — Он достал из кармана две плоские коробочки. — Работает от батареек!
— Ловко, — сказала Надя.
— А кто она такая? — кивнул на Надю один из ребят. — Чего-то я ее, Слава, не помню.
— Ребята, пошли, — нервно сказала Лиза. — Пошли!
— Надежда Тимофеевна, — Слава кивнул на ребят, — вы на них не обращайте решительно никакого внимания… Они ребята, — Слава ударил по струнам, — они ребята — семидесятой широты… Семидесятой широты…
— Ребята, — предложила вдруг Надя, — проводите меня до набережной, если у вас, конечно, никаких спешных дел нет.
— Какие наши дела? Пожалуйста! — сразу же согласился Слава.
Лиза раздраженно взглянула на него, но тоже повернулась — пошли все вниз по улице.
— А что это у вас, Надежда Тимофеевна, вид такой загадочный? — спрашивал Славка.
— Да как тебе сказать… — Надя улыбнулась.
— Свидание? — уверенно предположил Славка.
— Слава, прекрати! — вмешалась Лиза.
— А что тут такого? — удивился Слава. — Не понимаю. Ну, свидание. Надежда Тимофеевна, хотя и замужняя, но еще вполне молодая женщина. Правильно я говорю, ребята?
Ребята с готовностью еще раз оглядели Надю и никаких сомнений Славкиным словам не выразили.
— Спасибо, Слава, — сказала Надя весело.
— Пустяки. Вы лучше скажите, что вам сыграть для настроения?
— Для настроения? — спросила Надя. — «Самара-городок» знаешь?
— «Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня…» — пропел Слава. — А дальше?
— Не помню, — сказала Надя и улыбнулась.
— Это надо бы у Розы Баглановой спросить! — вздохнул Славка.
— А кто такая Роза Багланова? — оживился один из ребят.
— То же самое, что Ирина Бугримова, — сказал Слава, — только она пела… Темные вы, ребята, а мы с Надеждой Тимофеевной старые…
— А говорят, Бугримову львы съели, — сказал один из ребят.
— Нет, тигры, — поправил его второй. — Тигры!
— Ну вот, — сказала Надя. — Верите всякой ерунде. Ничего они не съели, тигры.
Отсутствие информации порождает слухи, — сказал Слава, наигрывая на гитаре, — Это вам, Надежда Тимофеевна, как нашему депутату надо хорошо запомнить… Двумя ногами ходят слухи… У меня вообще к вам есть ряд вопросов…
— Славка, брось! — одернула его Лиза.
— Что значит — брось? — возмутился Слава. — Можно, Надежда Тимофеевна?
— Валяй, — разрешила Надя. — Слушаю тебя.
— На мою избирательную бюллетень вы можете безусловно рассчитывать, — сказал Слава. — Но есть ряд вопросов…
— А почему ты, как мой избиратель, шляешься тут, а не спешишь сейчас на встречу со мной? — спросила Надя.
— А мы разве с вами уже не встретились? — удивился Слава. — А Лизавета и эти супермены как несовершеннолетние права голоса не имеют, но пусть послушают…
— Это они — несовершеннолетние? — не поверила Надя. — Сколько же вам лет, ребята?
— Мне шестнадцать, — сказал один, а второй независимо промолчал.
— Акселерация, — объяснил Слава. — Дети научно-технической революции… Вы, ребята не обижайтесь.
— Так о чем же ты хотел меня спросить? — повторила Надя.
— Сразу не сообразишь… — усмехнулся Слава. — Надо еще свыкнуться: как же, член правительства на нашей улице живет! Хотя, безусловно, вас теперь из нашего захолустного района переселят…
— Ты так считаешь? — спросила Надя.
— А вы — нет?.. Вообще у вас теперь вся жизнь резко переменится… Может, вы сейчас в последний раз пешком идете… Я, между прочим, совершенно серьезно говорю… А вообще — смешно…
— Что — смешно? — спросила Надя.
— Да так… — улыбнулся Слава. — Первый раз точно знаю, за кого голосую…
— Как так? — не поняла Надя.
— А что тут удивительного? — сказал Славка. — Я в прошлый раз голосовал и даже понятия не имел, за кого… Так, посмотрел на фотокарточку — на заборе висела, — вроде парень ничего… Сорок пятого года рождения… А в общем, какая разница?
— Ты считаешь — никакой? — спросила Надя.
— А вы как считаете?
— Я считаю, разница есть.
— Ну и считайте, — спокойно согласился Славка, — считайте, что есть… А нам все равно, а нам все равно!.. — ударил он по струнам. — Мы волшебную косим трын-траву…
— Ты об этом хотел меня спросить? — остановила его Надя. — Об этом?
Лиза и ребята настороженно молчали.
— Вы о чем? — Слава спокойно посмотрел на нее. — Пустяки все это, Надежда Тимофеевна. Суета сует. Я же вам сказал: на мою бюллетень вы можете абсолютно рассчитывать. А я — голос массы… народа, населения.
— Не хочешь говорить… Ладно… — Надя провела ладонью но лицу. — Твое дело… Тогда у меня к тебе всего один вопрос.
— Пожалуйста, — разрешил Слава. — Только без политики.
— Без политики, — успокоила Надя. — Чего ты каждый вечер пьешь?
— Как чего? — удивился Слава. — Портвейн розовый.
— Это с Лизой? — спросила Надя.
— Она тут ни при чем! — возразил Слава. — Лиза, а ну дыхни на Надежду Тимофеевну!
— Отстань! — зло сказала Лиза.
Она же только березовый сок пьет, — пояснил Славка. — Любимый напиток Сергея Есенина. Этот сок у нас тут в трехлитровых банках продают… Вот, кстати, интересный вопрос: сколько же надо погубить берез на одну трехлитровую банку сока? Куда смотрит охрана внешней среды?
— Веселый ты парень, Славка… — сказала Надя.
— Чисто внешнее впечатление…
— Может быть… — Надя помолчала. — Сам пьешь — тебе хуже. Да и не в этом дело… А Лизу за собой не таскай! Понял? Это я тебе серьезно говорю.
— А кто ее таскает? — Славка впервые вышел из себя. — Я тебя таскаю? — обратился он к Лизе.
— Пошли! — Лиза дернула его за рукав, быстро взглянула на Надю. — Никто меня не таскает!
— Передай отцу, завтра я после работы зайду, — сказала ей Надя, чего не хотела говорить, — Часов в семь.
— А его дома не будет! — резко ответила Лиза.
— Ты, главное, передай, — сказала Надя. — Спасибо, ребята, за музыку.
Она пошла вниз к набережной. Знала, что смотрят ей вслед и что-то говорят. Вот интересно — что?
«Волга» неслась но вечерним улицам. В машине их было четверо. Рядом с шофером сидел сравнительно молодой человек (представитель обкома), позади него — Надя и Григорий Матвеевич (доверенное лицо депутата, начальник цеха, где работала Надя, лет пятидесяти, в темном костюме, белой рубашке и даже при ордене Трудового Красного Знамени).
Если молодой человек, сидевший рядом с шофером, был невозмутим, то Григорий Матвеевич был настроен нервно и состояния своего не скрывал.
Надя растерянно смотрела в окно: улица, толпа вечерняя, огни.
Григорий Матвеевич. Ты построже не могла одеться?
Надя. А что, форму специальную ввели на кандидатов в депутаты?
Григорий Матвеевич. Форму — не форму! Я тоже орден не каждый день вешаю!
Надя. Пожалуйста! Могу парашютный значок привинтить. Может, вернемся?
Григорий Матвеевич. Ладно уж!
Надя. Дядя Гриша, да что с тобой? Чего ты волнуешься? У нас, слава богу, не Америка. Раз выдвигали — выберут. А не выберут — тоже ничего страшного.
Григорий Матвеевич. Что ты мелешь? (К представителю обкома): Что она несет? При чем тут Америка! Ты лучше подумай, что людям говорить будешь.
Надя. Что в голову придет, то и скажу!
Григорий Матвеевич. Ты меня не пугай, Надежда! Я тебя знаю!
Надя. Что, может быть репетицию проведем? Я знаю, что мне говорить!
Григорий Матвеевич. Понятно, что без бумажки. Это хорошо. Народ уже не любит, когда по бумажке.
Надя. Дядя Гриша! Уймись! Я же тебе пояснила: не в Америке — поймут!
Николаев (из обкома). Мы предварительно все с Надеждой Тимофеевной обговорили.
Григорий Матвеевич. Главное — держись в рамках.
Над я. Я сама знаю, как мне держаться! И вообще, дядя Гриша, что ты суетишься? Кого выдвигают? Тебя или меня?
Григорий Матвеевич. Меня никуда не выдвигают! Но и ты не заносись! Знай свое место!
Надя. Это перед кем мне свое место знать? Перед тобой, что ли, дядя Гриша?
Григорий Матвеевич. Не передо мной! И повыше люди есть!
Над я. Конечно, есть. Все выше, и выше, и выше… Способ старый. Чуть что: сразу на кого-то на небесах ссылаться.
Григорий Матвеевич. Сама знаешь, что я имею в виду!
Надя. Ничего я не знаю!
Николаев (из обкома). Ну, товарищи… Надежда Тимофеевна все прекрасно понимает…
Григорий Матвеевич. Я тебе только добра желаю. Не лезь. Не командуй. Ты еще почти что никто. Если уж откровенно, были большие колебания — зная твой характер, выдвигать тебя или воздержаться!
Надя. Где же это были колебания? Опять — там?
Григорий Матвеевич. И там тоже! И с нами, на заводе, тоже советовались! Не зарывайся, Надежда! Не бери на себя слишком много!
Надя. Сколько люди скажут, столько и возьму! Не больше и не меньше. А ты, дядя Гриша, кто, между прочим? Мое доверенное лицо. Доверенное — значит, я тебе доверяю. А ты — мне. А ты ведешь себя, прости за выражение, как баба! Ну, чего ты меня пугаешь? Да что с тобой?
Григорий Матвеевич. Я за тебя отвечаю! Тебе люди такую честь оказали!
Надя. Вот именно — честь! (Шоферу): Машину остановите.
«Волга» резко затормозила.
Григорий Матвеевич. Ты что?
Надя. Не могу. Я от таких разговоров тупею, понимаешь? Тоска на меня нападает… Я лучше пройдусь… Тут недалеко. Я не знала в точности, что я буду сегодня говорить, а теперь, спасибо, надоумили!..
Надя вышла из машины.
Григорий Матвеевич. Нервничает… Но понять ее можно. Вы уж строго не судите.
Николаев. Григорий Матвеевич, а она права. Нельзя так. И вы все-таки возьмите себя в руки.
Григорий Матвеевич. Она права! Вы правы! Но я же ее десять лет знаю! Я не за себя, я за нее боюсь! Характер у нее… Да что уж там говорить!..
Надя шла к клубу «Чайка» в толпе. Фасад был ярко освещен. Издали она смотрела на свой, как ей показалось, не очень похожий портрет, укрепленный на высоком фанерном щите.
В направленном свете прожекторов прочитывалась надпись: «Сегодня состоится встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР Смолиной Н.Т. — токарем авиационного завода».
А портрет все-таки не похож, подумала она, еще раз взглянув на фанерный щит. Метра три будет — прямо на демонстрацию неси. Смешно. И эта твердость во взгляде — кто же это нарисовал?
Она шла среди множества знакомых и незнакомых людей. Ее узнавали или совершенно не обращали на нее никакого внимания, занятые своими делами, разговорами. Было желание повернуться — домой! Было! Но она шла, приближаясь к клубу, и очень хорошо знала, что никакого обратного хода нет, а тут еще какой-то высокий парень в клетчатом пиджаке, в белой рубашке с расстегнутым воротом, обернулся на ходу и посмотрел на нее самым обыкновенным образом, и даже улыбнулся довольно нахально, и Надя вдруг окончательно успокоилась.
(В тот же вечер.)
Небольшая, несколько вытянутая комната с одним окном. В углу светится овальный экран телевизора — из новейших марок. Передают футбол. Звук приглушен — у стены стоит детская деревянная кровать. Комната погружена в полутьму, но обстановка угадывается самая простая.
За круглым столом ужинает Надя, простоволосая, домашняя, в старом, узком ситцевом халате.
Рядом сидит рослый, с плечами боксера и стриженный, как боксер, парень в белой безрукавке — Костя, ее муж.
Он изредка поглядывает в телевизор, в основном, занят Надей. Разговаривают они вполголоса.
Надя (отрываясь от тарелки). А у нас больше ничего нет?
Костя. Ты же десяток котлет смолотила!
Надя. Это, Костя, все на нервной почве. Чисто нервное.
Костя. Пельмени отварить?
Над я. Отвари.
Костя. (подходит к холодильнику). Одну пачку или две?
Надя. А ты будешь?
Костя. Только на нервной почве. Глядя на тебя.
Надя. Тогда давай две!
Костя уходит на кухню. Она остается одна. Смотрит бездумно, как бегают по темному полю белые фигурки футболистов. Иногда камера телеоператора приближает кого-нибудь из игроков. Возбужденное лицо Почти у всех — длинные волосы. Футболки, темные от дождя. Передача из ФРГ — первенство мира. Иногда виден фон: трибуны в зонтах, рекламные щиты. Дождь там идет, в Ганновере.
Надя встает, подходит к кровати. Раскинув руки, спит девочка лет четырех, с густой темной челкой. Лицо во сне у нее сердитое.
Входит Костя с двумя тарелками, осторожно толкнув дверь ногой.
Они молча едят. Надя вскоре откладывает ложку.
Костя. Ты что?
Надя. Не могу, и все.
Костя. На нервной почве.
Надя. А черт его знает! Не идет, все! Я бы сейчас водки выпила, честное слово!
Костя. Не держим, к сожалению. А что ты переживаешь? Я же сам видел, людям ты понравилась.
Надя. Вот именно, понравилась! И начальство довольно! И ты! Всем угодила! Да пойми же ты, не могу я всем нравиться! Не должна! Так и быть не может!
Костя. Тише ты…
Надя. Значит, что-то тут не то… Понравилась! Что я, балерина?
Костя. Балерины по ночам пельмени пачками не едят.
Надя. Сама ненавижу удобных людей! От них все зло! А выходит, я всем удобна!
Костя. Ты?.. Да…
Надя. Костя, что теперь с нами будет?
Костя. Что будет? Месяц еще не прошел, а ты уже вся дерганая. Чего хорошего? Лично я, как лицо заинтересованное, буду голосовать против тебя.
Надя. И правильно сделаешь.
…Они молча лежат на раздвижном диване. Надя откинулась на подушку. Полосы света бродят по потолку. Фонарь качается за окном.
Костя. А все это, в общем, некстати. Лето, институт… Хотя тебя сейчас и без экзаменов примут.
Надя. Ну, это само собой. Уже ковровую дорожку расстелили, как космонавту.
Костя. Ты уж тогда и за меня похлопочи, ладно? Есть у меня, скажешь, такой родственник. Непьющий, член месткома… общественник.
Надя. А с квартирой правда глупо получается.
Костя. Что?
Надя. Ничего. Мы и так почти первые на очереди, а скажут: вот, уже свое взяла, не упустила.
Костя. А тебе, между прочим, еще никто ничего не предлагал.
Надя. Предложат — откажусь.
Костя. Ну, давай…
Надя. Хотя тоже глупо… Костя, до чего же на людях бывает тяжело!
Костя. Что-то я раньше за тобой этого не замечал.
Надя. Нет, на людях хорошо. В волейбол играть… Картошку грузить — и то хорошо… Костя…
Костя. Что?
Надя. Ты меня не бросишь, Костя?
Костя. Еще новость…
Надя. Злая я становлюсь.
Костя (обнимает ее). Ты — злая?
Надя. Ну, не злая… Еще нет. Пока что нет. Но чувствую — все к тому идет. И еще плохо, конечно, что я баба. Злых мужиков, если по делу, — уважают… Боятся… А злая баба и есть злая баба. И все… Что-нибудь, думают, личное у нее не сложилось — вот и глядит на всех, как сыч.
Костя. А как сыч глядит?
Надя. (показывает). Вот так.
Костя. Ужас.
Надя. Костя, Костя…
Костя. Надо телевизор выключить.
Надя. Не надо, пусть светится… Как окошко голубое… Страшно мне, Костя.
Костя. Глупая ты…
Надя. Другая бы возражала, а я нет… Ты уж меня не оставляй, Костя. Я серьезно.
Костя. Это ты меня скорее бросишь. Променяешь теперь запросто.
Надя. На кого же я тебя променяю?
Костя. Известно на кого. На Штирлица. Или на адъютанта его превосходительства.
Надя. Спи…
Костя встает, выключает телевизор. Гибкий, двигается бесшумно. Ложится рядом с Надей.
Тени плавают по потолку. Во сне вздохнула дочка, повернулась. Кровать скрипнула. Надя лежит с открытыми глазами. Лицо у нее сердитое, как у дочки во сне. Очень они похожи…
…Надя падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле, еще далекой, утренней, с голубыми, желтыми и светло-зелеными квадратами полей, рекой, сверкающим полукругом огибавшей город, еле видимый справа, — пестрота крыш, дома.
Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь. А не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены и приближение их едва заметно. Время остановилось, и ты но возможности растягиваешь его. Игра с пространством затягивает, захватывает — пока земля, надвинувшись резко, не напоминает о себе.
Спокойный обзор кончается сразу. Камнем летишь, камнем в падении себя ощущая.
Но пока что — полет…
Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен. Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютисток, летящих к земле. Плавные, еле заметные движения рук, и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютисток, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках на толстой, рифленой подошве:, так свободно и странно провисших в пустоте.
Маневр Нади понят и принят. И вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сближаясь шлемами, расходятся, продолжая полет, и соединяются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.
Вскоре, образуя вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых курток, они цветком зависают над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой…
Как день начнется, так он и дальше пойдет. Это Надя знала точно, втайне подозревая, что множество людей точно такого же мнения.
Утром в цехе она первым делом заглянула в техничку.
За фанерным окошком, как и вчера, стояла все та же, как Наде показалось, совершенно безликая девчонка с белесой челкой на лбу, в довольно замаранном халате и косынке, завязанной небрежно. Вообще она раздражала Надю, и главным образом потому, что на ее месте, здесь, вот за этой зеленой фанеркой, в этой прорези должно бы появиться совсем другое лицо.
— Где Лиза? — спросила Надя.
— Откуда я знаю? — как и вчера, точно таким же бесцветным голосом ответила девчонка. — Я бы сама ни нее посмотрела, на эту Лизу. Просто как Джоконда. У меня все про нее спрашивают. Третий день.
— А ты откуда? — спросила Надя.
— Вы меня вчера спросили, но не дослушали. Я здесь по направлению. У меня производственного стажа не хватает.
— А куда ты поступаешь?
— В медицинский. Уже второй год.
— Очень хорошо! А что ты у нас делаешь? — Надя раздражалась все более.
— Все что попало, — спокойно отвечала девчонки из этой фанерной дыры. — Меня сначала в машбюро отправили, Я в столовой работала. Справа от проходной, знаете?
— Знаю, — сказала Надя. — Знаю я эту столовую. Кто тебя к нам направил? Как тебя зовут?
— Вера.
— Фамилия?
— Быкова.
— Вера Быкова, — повторила Надя. — А зачем тебе эта производственная практика?
— Стаж, а не практика, — поправила Вера. — А здесь мне все равно ничего не доверяют. Это не тарелки мыть.
— А тебе у нас совсем неинтересно?
— Ну, как вам сказать… Нет, не интересно.
— Хочешь опять тарелки мыть? — спросила Надя.
— Не очень. Но мне все равно.
— А такая простая мысль, что пойти в санитарки, тебе в голову не приходила? Все ближе к делу!
— Я всю зиму санитаркой работала. В шестьдесят седьмой больнице.
— Ну и что?
— Нужна производственная практика, — сказала Вера.
— Но это полный бред!
— Что вы от меня хотите? — спросила Вера. — В столовую обратно? Пожалуйста. Я тоже все сначала спрашивала: зачем, почему, какой смысл, с какой стати? А это абсолютно никому не нужно. Я для вас никакой ценности не представляю. Главное, я поняла: не сопротивляться механизму всего, и тогда вынесет, понимаете?
— Какому механизму? — спросила Надя.
— Механизму всего, — повторила девочка. — Вы на меня не смотрите такими глазами.
— В столовую иди, в столовую, — сказала Надя. — Или вообще на скамеечку сидеть. Сколько вас таких собралось: чуть что, руки кверху! Вы что, с ума сошли? Кто тебя научил, вот так, как… В столовую!
— Пожалуйста, только вы не кричите.
Работа тем и хороша, что успокаивает. Надя закрепила штамповку, включила станок. Все пошло верно, неспешно, обыкновенно. Главное — чтоб никто не мешал.
Подошел мастер.
— Тебя Григорий Матвеевич зовет.
— А что такое?
— Не знаю. Пришли к тебе, зовут.
— Василий Михайлович, скажи ему, что я не могу.
— Иди, иди.
— Но я не могу!
— Выключай станок!
Григорий Матвеевич, начальник цеха, нисколько не походил сегодня на того, вчерашнего, задерганного и нервного. Сегодня он был спокоен, ровен, самостоятелен — совсем другой человек.
Он провел Надю в свой кабинет. Тут же, рядом с цехом, где напротив окон (зелень за окнами, солнце) сидела женщина. Как только они вошли, Надя и Григорий Матвеевич, она сразу же встала. Рабочий халат, косынка. Какие-то бумаги в руках. Какая она — против окон не рассмотришь.
— Вот, Надя, это к тебе, — сказал Григорий Матвеевич.
— Беседуйте. — И ушел.
— Вы уж меня извините, — сказала женщина негромко.
— Да вы садитесь. — Надя разглядывала вблизи ее немолодое отекшее слегка лицо. — Садитесь… — И сама села.
— Вы уж извините… — повторила женщина.
— Да что вы все время извиняетесь? — спросила Надя. — Вы из какого цеха?
— Из седьмого.
— Если у вас что-нибудь серьезное, — сказала Надя, — то, честное слово, зря вы ко мне обращаетесь. У меня ни прав, ничего. Я же только кандидат в депутаты. Меня же еще могут и не избрать.
— Такого не бывает, — сказала женщина.
— Бывает — не бывает, а толку от меня пока что никакого. Это я вам сразу говорю… Что у вас?
— Сын у меня в тюрьме.
Надя удивленно посмотрела на нее:
— Где?
— В тюрьме, — повторила женщина. — Теперь вся надежда на вас… Вот тут все написано, — она протянула Наде бумаги.
— Это я после посмотрю, — сказала Надя, — За что — в тюрьме?
— По глупости… Мальчишка еще…
— Это понятно, что но глупости… И все-таки: за что посадили?
— За изнасилование, — сказала женщина.
— За что? — переспросила Надя. Женщина молчала.
— Так, — сказала Надя. — И сколько ему дали?
— Десять лет…
— Мало! — Надя встала. — Ох, мало! Пожалели! Десять лет! Да таких раньше камнями забивали! Без всякого суда!
Женщина смотрела на Надю испуганными глазами.
— Ничего себе — мальчишка! — Надя уже не сдерживала себя. — По глупости! Я бы таких только расстреливала! Или посылала бы на какие-нибудь урановые рудники, чтоб там они подыхали медленной смертью!
— Да что вы такое говорите… Что вы говорите… — повторяла женщина.
— Что я говорю? — Надя резко повернулась к ней. — Бандит ваш сын! Бандит! И вообще, у меня рабочее время, и я всякой сволотой заниматься не желаю! А бумаги ваши забирайте!
— Эх ты… — Женщина все складывала, сгибала листки. — А я-то, дура, надеялась…
— Зря надеялись! — сказала Надя. — Пусть сидит весь срок! А ко мне больше не ходите!
— Не волнуйтесь, не приду… — сказала женщина. — А я уж думала, ты теперь сама мать, поймешь…
— И понимать нечего! У меня дочка растет! А какой-нибудь подонок, вроде вашего сынка, — подумать страшно!..
Окна раскрыты — первый этаж. Рабочие останавливаются — особенно девчонки, — слушают.
— Ты сначала одна вырасти сына, до шестнадцати лет дотяни, а потом уж суди, — сказала женщина. — Орать все умеют… Вот ты — какой там начальник, а уж голос пробуешь… — Женщина встала. — А я к тебе, как к своей, к рабочей, пришла…
— Тоже мне классовая солидарность — бандитов из тюрьмы вытаскивать! — в сердцах сказала Надя. — Думали, пожалею! А он ту девчонку пожалел? Уходите отсюда… Не могу я больше все это слушать! Тошно мне, понимаете? Уходите!
За раскрытыми окнами (подоконник низкий) стояли и слушали разные люди. Надя подошла. Захлопнула резко окно. И второе тоже. Только что стекла не выпали, а зрители-слушатели отшатнулись разом.
В цехе — грохот привычный. Вся эта музыка обыкновенная.
Уже открыли буфет — обеденный перерыв скоро. Покупают колбасу, булки, кефир.
— Надя! — на ходу остановила ее Вера Разнова, слесарь из ее бригады.
— Что тебе? — хмуро спросила Надя.
— Из милиции звонили! — сбиваясь, говорила Вера. — Лизу на вокзале забрали!
— Оставьте меня в покое! Забрали — и очень хорошо.
— Надя!..
— Что — Надя?
— Всю ночь сидит! — вздохнула Вера.
— Из какой милиции звонили? — спросила Надя хмуро.
— Неразборчиво говорили, Григорий Матвеевич все записал.
По коллектору в кабинете начальника цеха передали:
— Первый цех… Смолиной немедленно зайти к секретарю парткома. Смолиной — к секретарю парткома.
Надя шли сначала двором, между майских, зеленеющих свежо деревьев, мимо корпусов, по аллее.
По дороге ее поймал на ходу Костя. Но Надя даже не остановилась. Пошли рядом.
— Ты обедала? — спросил Костя.
— Тебе-то что?
— Я по селектору слышал, — сказал Костя. — В чем дело?
— Не знаю я, в чем дело. Надо дочку к маме везти, а то свихнешься ото всех этих забот, — сказала Надя.
— Купи мне какую-нибудь булку, что ли, и молока и вот здесь посиди. Я скоро. Сам-то поел чего-нибудь?
— Ладно, ты иди, — сказал Костя. — Вот эта скамеечка, запомнишь? Напротив клумбы. Иди…
…Секретарь парткома ждал Надю на скамеечке в тени — жаркий был день. Секретарю было лет сорок, не больше. Был он в светлом пиджаке, в белой рубашке без галстука, и вообще выглядел празднично.
— Ну что? — Надя присела рядом.
— Жара, — сказал секретарь, а звали его Гришей.
— Ладно, жара, — сказала Надя. — Это все понятно, что жара. В чем дело, кроме жары?
— Ты торопишься? — спросил секретарь парткома.
— Представьте себе, тороплюсь, — ответила Надя. — Что такое? Не тяни.
— Что ты Мухиной наговорила? — спросил секретарь.
— Уже нажаловалась? Быстро…
— Да не в этом дело…
— А в чем? — спросила Надя. — В чем?
— А черт его знает в чем, — сказал Гриша. — Нельзя людей обижать, понятно?
— Нет, непонятно.
— Да все ты понимаешь… — Гриша стукнул ладонью об скамейку. — Она у нас двадцать пять лет проработала. Сечешь? Двадцать пять лет.
— Ну и что? — сказала Надя.
— Ну, раз ты так говоришь — ну и что? — ну, что я тебе возражу? Дура ты, и все тут.
— Знаешь, можно сто лет какие-нибудь гайки завинчивать. Что, я должна за это ей в ножки кланяться? Да завинчивай — ради бога! А меня в свою грязь не мешай!
— Грязи испугалась?
— Не испугалась, — сказала Надя. — Знаешь, другое — мутит меня ото всего этого… Вот она рабочая, ты считаешь — я тебе верю, — нормальная, хорошая, стаж у нее приличный. Чего она за звание это прячется — рабочая? Чего? Раз рабочая, значит, все можно, да? И сын подонок, а, видишь, одна воспитала! Значит, и никто не виноват! Да он же у нас работал, я узнавала! Удобно сейчас рабочим быть! «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Вот он был, при маме, ничем, никем, а ты мне на безотцовщину не ссылайся — и без отцов растут, а он рабочий, так называемый, и его не тронь…
— А насчет урановых рудников и расстрела ты правда обещала? — спросил секретарь парткома.
— Так, но ходу пришлось, — сказала Надя. — А вообще я не сгоряча сказала ей, и обратно слов своих не беру.
— И камнями забросать? — спросил секретарь. — Было?
— Камней не было, — сказала Надя. — Булыжниками. Жаль, до этих самых его лагерей не докинешь… Разве что какой-нибудь баллистической ракетой.
— Слава богу, ракеты тебе не дадут, — сказал секретарь парткома. — Откуда в тебе все это?
— Что? — спросила Надя. — Что ты имеешь в виду?
— Надя, люди-то — они живые. Старые уже, не переделаешь, — сказал Гриша. — Да и молодых кнутом не возьмешь.
— Слышала, слышала! — сказала Надя. — То кнут, то пряник. Мура все это!.. По справедливости, не свое ты место занимаешь, Гриша. Характер у тебя — никакой. Всем ты хороший, для всех. Вроде меня… Всех тебе жалко. Жалко, да?
— Ну, ты даешь! — сказал Гриша. — Опомнись, Надя. Жалко — да! И тебя тоже.
— Ты меня не жалей! Ты себя пожалей! — Надя встала со скамейки. — От твоей жалости люди только мучаются. А тебе так удобно. Добрый какой! Уж лучше последней сволочью быть, чем никаким! Да пусть меня ненавидят, лишь бы дело шло! А ты всем оправдание находишь, всем! Живые люди!
— Живые, — сказал Гриша. — В этом все и дело.
— А я говорю — нет! Пока их не раскачаешь — бред, пустота! За что жалеть? Нажрется себе перед телевизором, и «шайбу!», «шайбу!» Стакан врезал — и по новой!
— Интересные у тебя, Надя, знакомые, — сказал Гриша. — Шайбу — это хорошо…
— Новые идеи нужны! Понимаешь? Социализм — не жратва, не в гости ходить!
— Погоди ты про социализм!.. — вздохнул Гриша. — Какие-то у тебя замашки: все сразу, всех сразу… Нехорошо получилось с Мухиной… Нельзя так…
— А я буду так! И только так! — сказала Надя. — Отвыкли называть вещи своими именами! Отвыкли! Бандит — и есть бандит. Подонок — он подонок. Тряпка, ни то ни се — тряпка! Вот была бы моя воля, я бы сейчас, по новой, сделала партийную чистку! Отбирала бы билеты, и все! Книжечки эти красные — сколько за ними прячутся!
— Много на себя берешь, правда, — сказал Гриша. — Время, Надя, не то… Что-то ты путаешь… Хотя я тебя понимаю…
— Спасибо, Гриша! За понимание! — сказала Надя. — А время — как раз то самое! Неудобное время! Гуманизм, люди-братья, планета Земля — шар небольшой, синий да зеленый! Может, границы скоро отменят? Если Земля такая уж всеобщая! Ты Ленина читал?
— Ну, читал, — сказал Гриша. — Читал. А что?
— Не помню точно. Но у него написано, что таких, как ты или вроде тебя, судить надо и гнать от живой работы с твоими так называемыми живыми людьми!.. Время тебе не то. Тоже мне просветитель, еще на время ссылается! Тебя бояться должны, а кто тебя боится? Кто?
— Ну ладно! — сказал Гриша. — Программа мне твоя ясна. Еще раз нахамишь — кому угодно, — плохо тебе будет, Смолина. Вот уж не думал, что депутатство на тебя в эту сторону сработает. Такое ощущение, что до тебя сплошная была пустыня. И все только тебя и ждали, на горизонт посматривали — когда появишься.
— Я пошла, — сказала Надя. — Считаю необходимым довести до сведения обкома твои настроения. Должности своей ты явно не соответствуешь.
— Ладно, разберемся, — сказал секретарь. — А перед Мухиной ты бы все-таки извинилась.
— Еще чего не хватало! — отрезала Надя. — По-человечески я ее понимаю. Даже, может быть, и сочувствую. Но — хватит сочувствий этих и разговоров запросто, этого демократизма липового… Вот так на скамеечке поговорить!.. Или у тебя еще была манера — свадьбы посещать!
— А что, хорошее дело — свадьбы, — сказал Гриша.
— Ну и ходи! — Надя встала. — На свадьбы, на именины! Как же — всегда с народом! Свой в доску! А все — от страха! Вот не будешь секретарем — ну что ты умеешь? Лопату в руки, и все дела! Снег чистить!
— Я, между прочим, инженер, — сказал Гриша.
— Какой ты инженер! Ты и забыл, как там и что! Некогда тебе, все дела! Мне терять нечего — я на своем револьверном проживу, а ты, Гриша, номенклатура, — вот ты кто! Ну и прыгай перед всеми, пока тебя не вышибли! А вот, честное слово, пока у меня такая есть возможность — пусть ненадолго — я тебя с этой скамеечки подниму!
— Что-то ты дельное среди этих взрывов говоришь… — очень спокойно сказал Гриша. — Что-то у тебя такое светится. Мне вообще все это нравится… И не нравится…
— Да не собираюсь я тебе нравиться!
— Надя…
— Что — Надя? Что? — Надя ходила вокруг скамейки.
— Да не бегай ты, — вздохнул Гриша. — Сядь. Надя села.
— Знаешь, я решила от депутатства сначала отказаться, — сказала она, — не по мне все это! А теперь уж нет! Вы из советской власти богадельню сделали! Ничего я не преувеличиваю! Кормушку, понял? И людей вокруг себя подобрали таких, удобных — вроде меня! Раньше людям рты затыкали тряпкой, кляпом, а теперь — чем? Сыты, и слава богу! И шмотки есть! Ох, ненавижу!
— Сыты — это хорошо, — сказал Гриша. — И шмотки — тоже ничего, я вот только ботинки не могу никак найти подходящие… Надя, а Надя…
— Что?
— Не суетись пока что. Ладно? Подумай.
— Это ты суетишься! — оборвала его Надя. — Такая у тебя тихая суета! Ты меня комсомолочкой считал: то, се, воскресники, субботники, песенки под гитару! Хватит, товарищ Гриша! Надя — заводная, Надя — веселая, Надю и в депутаты можно — своя! Уж как-нибудь договоримся! Своя! Наша! Все удобства на дому! Из рабочих и крестьян — все как надо! Ох, Гриша, ошибочка вышла! Меня эта советская власть вырастила в голодуху самую, да и не в том дело! Я вам ее на откуп не отдам, понял? И девочку со значком Верховного Совета вы из меня не сделаете!
Надя на трамвае поехала к отцу Лизы. Путь ее был долгий. По дороге, пока ехала, вспомнила, проезжая мимо молочного магазина, где на улице продавали молоко в пакетах, творог, кефир, что на скамеечке, на заводе, ждет ее Костя, и даже парень какой-то около магазина был на Костю похож — такой же большой, белобрысый, с пакетами молока.
Но все эти совпадения отпали, и мысли были о другом, хотя какие уж там мысли?
Жара в трамвае, народу — не протолкнешься. Надя ехала от конечной, и потому сидела, а трамвай несся мимо одинаковых блочных домов, этажей на пять, мимо ларьков, пивных, заборов…
Ехать долго. Ни газеты, ни книги, ничего. Только колеса трамвайные стучат где-то внизу под ногами, да люди входят, да ветер жаркий в окно повеял, и уже полегче.
Стала пальцами отстукивать что-то но стеклу. Под трамвайный грохот. Вот колеса, они всегда что-то такое напевают, что-то у них там вертится, какая-то своя мелодия.
И пальцы но стеклу.
Только мелодия не сразу возникает, не сразу.
Но возникает.
Под пальцами, по стеклу.
…Надежда, я… — осторожно пальцы коснулись стекла, теплого от солнца, — Надежда, я… вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет… Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет… Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот…
И мчался этот трамвай, набитый до предела, и окраина рабочая была за окнами, неслась в жаре, в пыли, и пальцы Нади едва стекла касались… А мелодия, слова — соединились в такт трамвайным колесам.
…Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла…
Входили люди, выходили, и трамвай так повернул, что стекло, за которым сидела Надя, совсем стало золотым, жарким, слепое от солнца стекло, и пересаживались пассажиры на сторону теневую — такое горячее солнце ударило по этой стороне, но Надя не пересела, а только глаза прикрыла, а пальцы все отстукивали но стеклу:
…Но если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удастся, какое б новое сраженье ни покачнуло шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…
Вот и остановка, нужная Наде. Все дома здесь одинаковые — блочные, в пять этажей, первой застройки.
Был тут раньше пустырь, всем ветрам открытый, а теперь — дома, на которых какой-то заботливый человек догадался написать (на каждом!) черной краской несмываемой огромные цифры: 7, 8, 18…
Улица имени Юрия Гагарина.
Май, ветер. Хотя бы дождь пошел, и Волга здесь, кажется, не так далеко, а такое ощущение, что вся эта улица в степи стоит.
Леши, отца Лизы, дома не оказалось.
Соседка открыла. Молодая еще женщина, но замотанная детьми — они высыпали в коридор и глазели на Надю. Она даже и посчитать их не успела.
— Нет его, — сказала женщина. — Что-то он громыхал с утра. И рубль у меня просил. Я ему молочные бутылки отдала.
— Давно ушел? — спросила Надя.
— Да не так уж и давно, — ответила женщина. — Вы проходите…
— Спасибо, — сказала Надя. — Где тут у вас посуду ближе всего принимают?
— А у пельменной, во дворе, — охотно сказала женщина. — Там они все и собираются.
Надя сразу заметила Лешу. Он стоял где-то в середине огромной очереди к ветхому сарайчику, где за окошком принимали посуду, а принимал ее, ловко собирая с прилавка пустые бутылки, отставляя в сторону ненужные, безошибочно кидая мелочь на алюминиевую тарелку, красномордый, здоровый парень в синем халате с закатанными рукавами.
— Леша, — подошла Надя. — Пошли.
— А-а… — не удивился Леша. — Куда мне идти? Я час стою, уже недолго остаюсь.
— Да отдай ты эти бутылки! — сказала Надя. — Вот ему отдай. — Она показала на парня, стоявшего за Лешей. — Есть у меня деньги. На пиво тебе хватит.
Леша, не сопротивляясь, отдал свою авоську парню и пошел за Надей.
— Ты знаешь, что Лиза в милиции? — спросила на ходу Надя.
— В какой милиции? — Леша даже остановился. — Ты что?
— Ох, Лешка! — вздохнула Надя.
— Погоди, — сказал Лешка. — Я ничего не соображаю. Милиция… Ты видишь, я не в себе… — он пытался улыбнуться. — Ты не обращай внимания, что я побрился и рубашку переменил, а не в себе… Ты вроде бы на пиво обещала…
— Вот, — Надя протянула ему трешку.
— Здесь много, — сказал Леша. — Я сдачу принесу.
— Принеси, — сказала Надя. — Сдачу. Леша сразу заторопился.
— Ты… — сказал он. — Ты вот здесь, около газет постой. Почитай, как там и что… А я сейчас, я быстро…
Надя остановилась около газетного щита.
Газеты были вчерашние, оборванные там, где телевизионная программа. Рыжая газета, вся на солнце выгоревшая, но Надя прочитала, что осталось — про Ирландию. Католики, протестанты. Военные машины на улицах. А в Португалии «Броненосец Потемкин» идет! Вот это здорово!
Надя еще раз прочитала и, оглянувшись, оторвала это сообщение и положила в сумку.
А тут и Леша появился. В руке у него было эскимо на палочке.
— Вот, на сдачу купил, — сказал он. — Тебе. Он вполне пришел в себя.
— Ну, вот что, — Надя взяла эскимо. — Я временно переселяюсь к тебе. Ну, на месяц, два. Сколько там твое лечение займет.
— Какое лечение? — тревожно спросил Леша. — Ты что это придумала?
— Обыкновенное, от водки, — сказала Надя. — А Лиза со мной поживет. Пока что.
— Вот, значит, как! — Леша заволновался. — Без меня меня женили! Да кто тебя уполномочил!
— Слова-то какие знаешь! — усмехнулась Надя. — Как ты его с утра выговорить смог. Уполномочил. Надо же!
— Чего ты в чужую жизнь лезешь? — Леша говорил громко.
Прохожие останавливались. Очень эта сцена смахивала на самый заурядный скандал мужа и жены. Останавливались, слушали.
— Ну, ты! Чего? Чего надо? — кричал Леша прохожим. — Иди, иди! Валяй отсюда!
— Не хочешь сам, Леша, я тебя принудительно положу. — Надя говорила спокойно. — Направление я тебе сделаю. Не думай, что это так просто. Люди месяцами ждут. Мучаются. Да ты… Что, плохо, Лешка? Смотри, мокрый весь… Пошли, посидим…
— Отстань! — Леша рванулся. — Иди ты!
— Ну, ладно, — сказала Надя спокойно, — по-человечески не хочешь говорить. Жить по-человечески не хочешь. А Лизу я тебе не отдам!
— Ты к Лизе не прикасайся! — уже кричал Леша. — Лиза!.. Да я за нее… Я за нее! У меня никого больше нет, понимаешь ты…
— Понимаю, — сказала Надя.
— В милиции, говоришь? — Леша был уже сильно возбужден. — Я эту милицию всю разнесу! Я им покажу! Знаешь, какая она, Лиза! Она ж святая! Где эта милиция? Какое у этих сволочей отделение? За что они ее?
— Ладно, Леша, — сказала Надя. — Иди домой. Я сама разберусь. Ты отдохни… — Надя сдерживала себя изо всех сил, чтоб не сорваться, не накричать сейчас на этого взбудораженного, взмокшего сразу человека с бегающими глазами, и губы у него беспомощно тряслись, и оставить его одного было явно нельзя, а быть рядом — невыносимо.
И все же Надя резко повернулась и пошла.
— Надя! — вслед ей крикнул Леша. — Ты куда? Где это отделение? Где?!..
Немного времени прошло.
К дому Леши подкатила санитарная машина.
Нет, она не была похожа на скорую помощь. Это был крытый фургон, а то, что она санитарная, выяснилось только после того, как из нее вышли трое крепких ребят в белых халатах.
Надя была с ними.
Они поднялись по узкой лестнице (такие уж лестницы спешно строились в этих домах) на третий этаж. Позвонили. Открыла та же соседка. Увидела молодых людей в белых халатах, Надю. Испугалась, но не удивилась нисколько.
— Проходите, проходите… Прошли.
Общая квартира. И снова высыпали в коридор дети. Один, два, три, четыре — сколько же их? Женщина быстро загнала их в комнату.
Квартира была на две семьи. Леша и его дочь жили в боковой комнате.
Дверь была заперта изнутри. Ключ торчал с той стороны. Надя постучалась.
— Леша! — сказала она как можно спокойнее. — Леша! Это я, Надя!
— Чего тебе? — раздался злой голос Леши. — Чего надо?
— Открой дверь.
— Я сегодня гостей не принимаю, — ответил Леша. — День у меня нынче не приемный. Поняла?
— Леша, открой, — сказала Надя. — А то взломаем. Я тебя по-хорошему прошу.
— Иди ты!.. — Леша ответил долгой и замысловатой руганью.
Санитары терпеливо ждали. Ребята они были опытные. Всякого насмотрелись.
— Леша, — сказала Надя. — Открывай. Хватит валять дурака! Открывай, слышишь?..
За дверью, вперемешку с руганью послышался шум — что-то Леша передвигал поближе к двери, что-то там гремело, падало.
Санитары смотрели па Надю.
— Давайте, — сказала Надя. — Хватит эту волынку тянуть.
Санитары только этого и ждали.
Они вполне профессионально навалились на дверь. Но дверь не поддавалась.
А Леша кричал оттуда, из комнаты:
— Сволочи! Гады! В дурдом захотели спрятать! Не выйдет! Живым все равно не дамся! А тебе, Надька, никогда этого не прощу! Стерва ты последняя! Шкура продажная! Купили тебя, сука! Депутатша!
Санитары достали какой-то железный прут, просунули его в щель.
Надя стояла молча.
Нашло вдруг на нее такое ко всему безразличие. Ломают дверь, и пускай. Кричит он там, за дверью, и ради бога. Пусть кричит. И злость на Лешку пропала.
Дверь рухнула, опрокинув шкаф, который подпирал ее. Санитары ворвались в комнату. Надя вошла за ними. Но комната была пуста.
Распахнута балконная дверь. Все в комнате перевернуто. Посуда битая. Оборванная занавеска над балконной дверью висит…
…Леша лежал на асфальте, лицом вниз, неудобно подвернув руку, чуть завалившись на бок. Никого вокруг него не было.
Упал он во двор.
Надя успела заметить, что во дворе женщина снимала белье, простыни с длинной веревки, да так и замерла, с места не сдвинулась.
А простыни в безветрии висели неподвижно, белые, сохнущие, наверно, быстро под таким палящим, слепящим, безжалостным солнцем.
Надя сидела в комнате Леши.
Закат за окном. Света она не зажигала. Шкаф, наверно, санитары к стенке поставили, а так все осталось, как было. Битая посуда в угол сметена.
Сидела Надя ближе к балкону, и была у нее возможность впервые оглядеть эту комнату, но она в окно смотрела.
Вошла соседка. Помолчала в дверях.
— Чаю с нами не выпьете? — спросила она.
— Спасибо, — сказала Надя. — Чаю выпью.
Они пили чай за большим круглым столом — Надя, эта женщина, а звали ее Клава, и четверо ее ребятишек. К чаю было печенье, и варенье то было, в блюдечках.
Ребятишки все уже знали, и чай был невеселый.
— А муж-то где у вас, Клава? — спросила Надя.
— На Севере, в Самотлор подался, — сказала женщина. — Вот, говорит, заработаю, как надо, и вернусь… Уже третий год что-то зарабатывает…
— А деньги-то на ребят шлет? — спросила Надя.
— Временами… — усмехнулась женщина. — Какие там деньги… Ребята без отца растут…
— Адрес у вас его есть? — спросила Надя.
— Ну, есть… — женщина помолчала. — Не надо мне ничего… Вы не обижайтесь… Я понимаю, вы по-хорошему хотели… А Лешки нет… — Она отодвинула чашку. — Все какой, а человек хороший был… Вы уж не обижайтесь… Мы его тут все жалели. Вот. И молодой еще… Ему и сорока не было…
Ребятишки слушали маму сонно, но с интересом, и на эту тетю незнакомую, невеселую, которая ни варенья, ни печенья не брала и даже к чашке чая не притронулась, смотрели во все слипающиеся глаза, но тайна была — это уж точно.
— Жалко вам Лешку? — спросила Надя.
— Чего там — жалко… Эх, Надя…
— Мне — нет, — сказала Надя. — Чем так жить, уж лучше с балкона… Ведь ничего за душой не осталось… Работать не мог, побирался… Лиза его на свои копейки кормила, да он и не ел ничего… А вы — жалели… Ну, что молчите?
— Молодая вы еще, Надя… — сказала Клава, — Горя, слава богу, настоящего не видели… — Клава встала. — Ребята, спать, спать… Засиделись…
Ребята вставали неохотно.
Они вместе с Надей укладывали ребят, две кровати, одна раскладушка, а самая маленькая, Настя, она на диван легла, уже раздвинутый, застеленный — с матерью она спала.
— Вы тут останетесь? — спросила Клава.
— Да, у Леши, — сказала Надя. — Мне только мужу надо позвонить, как он там… У меня у самой дочке три года.
— Правда? — оживилась Клава. — А звать-то как?
— Лена.
— А телефона у нас нет, мы от продовольственного звоним, если что. Но только знайте, у продовольственного телефон не работает. Там трубку оборвали. Вы к аптеке лучше идите, там у них есть свой телефон.
— Если Лиза появится, вы ее никуда не отпускайте, — сказала Надя. — Вы ей не говорите, что я здесь, ладно? Я скоро.
У продовольственного магазина, еще ярко освещенного, толпились люди.
Надя сразу все поняла, потому что общий разговор смолк, и все — а это были ребята из Лешиной команды — смотрели на нее, как она шла к телефонной будке.
Трубка там и в самом деле была оборвана.
А между тем все эти ребята к ней приближались. Нет, не были они пьяные. Выпили свое, вечернее. Да и повод был.
Надя хорошо знала таких ребят: курточки нейлоновые-силоновые, челочки, волосы до плеч, но были и другие ребята, в старых плащах, и никакие не длинноволосые, а кое-как подстриженные, кое-как одетые — вечерние магазинные люди. Околомагазинные.
Надя решила ничего не решать. Как будет, так и будет. Тем более что снова на нее накатила эта волна безразличия ко всему, и ни страха, ничего.
А ребята приблизились вплотную.
— Поминки справляете? — спросила Надя. — Чего ж на улице?
— А негде, — сказал парень в красном шарфе. — Может, к вам пойдем?
— Можно, — сказала Надя. — Это можно.
— Смотри! — усмехнулся товарищ его (а было их человек десять, пятнадцать, двадцать — в темноте не разберешь). — А ты не боишься? Мы тебе Лешку не простим.
— Иди-ка сюда, — сказала Надя. — Ты, кто за «мы» говорит.
— Ну что? — подошел мужик лет сорока, держался он твердо. — Что тебе? Лучше всего мотай отсюда.
— Нет уж, — сказала Надя. — Поминки так поминки.
Она сняла кепку у этого парня, открыла свою сумочку и высыпала, выкинула все, что у нее было. Пустила по кругу. И кепка эта, ржавая, пошла по кругу, из рук в руки, и сыпали в нее, выгребая карманы, все, что было — мелочь, рубли.
— Ребята, — спросила Надя, помахивая оборванным телефонным проводом. — вот интересно, кому эта трубка отдельно от телефона нужна? С марсианами, что ли, разговаривать?
— Только тише, — говорила Надя, входя в квартиру. — Тут маленьких полным-полно. Тише…
И за ней человек двадцать тихо вошли, а некоторые даже разулись для тишины.
В комнате Леши было темно. Единственная лампочка без абажура перегоревшей оказалась.
Сидели на полу, у стен, на кровати — все бутылки и еду какую-то поставили па стол.
— Сейчас, — сказала Надя, — я сейчас.
Она пошла па кухню и вывернула там лампочку, вернулась, поставила шаткий стул, лампочку ввинтила. Теперь комната озарилась, хотя и слабо, но все уже были видны. И тихо было, никто бутылок не касался.
Сидели, стояли.
Надя впервые разглядела лица — не все, не сразу, но как-то общо они все смотрелись. Печаль была.
— Стаканов-то нет… — сказал кто-то.
— Это мы сейчас, — сказала Надя. — Это просто…
…Вошла Надя вместе с Клавой — они принесли капусту, хлеба, колбасы, огурцов и всякой безразмерной посуды — и банки из-под соков, и кефирные чистые бутылки, и стаканы, и рюмки, и две пивные кружки, каким-то непонятным образом оказавшиеся в этой семье без мужика, — все они прихватили. И Клава даже скатерть захватила, с бахромой, белую, с цветами.
— Помянем, — сказала Надя, когда разлили. — Помянем.
Выпили. Помолчали.
— Не верю я тебе, — сказал парень помладше. — Зачем ты сюда нас позвала?
— Брось… — остановил его другой, тот, кто Наде советовал уйти. — Брось. Прекрати.
— А откуда я знаю, она сейчас милицейскую машину подгонит — и привет! — сказал тот, в красном шарфе.
— Пускай подгонит, — сказал кто-то из угла. — Какая разница…
— Ты… — сказала Надя, обращаясь неизвестно к кому, — Ты… Шпана ты, и все. По своим законам людей меришь. Да неохота мое тут с тобой разговоры говорит!.. Пей уж лучше…
Выпили.
— Может, кто тост скажет? — спросила Надя. — А то я могу.
— Ну, скажи, — сказал кто-то из полутьмы этой. Скажи, за Лешку.
Надя молча вертела в руке баночку из-под какого-то сока. Ребята ждали, слушали. Пили и без тостов.
— Ребята, вот все вы, я, мы… — сказала Надя. — Есть какая-то идея, ради чего стоит жить? Хорошо, пускай не ради идеи. А тогда — для чего? Потеря ли мы что-то все! Мне плевать, когда вообще говорят… В коммунизм из книжек верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть… А я верю, что ничего лучше не придумали, и лучше вас, ребята, нет на свече людей! И хуже вас тоже нет… Вот я за это противоречие с вами выпью, хотя все вы — руки кверху! И Лешка струсил!.. И ты на меня не ори! Струсил! Перед жизнью — дешевка! Советские мы все, таких больше на земле нет. То, что он с балкона сиганул, — тоже поступок, я его понимаю, но… Чего вы все суслики перед жизнью!
— Ты за всех не распоряжайся, — сказал кто-то.
— Я за всех не распоряжаюсь. — Надя встала. — Я вообще никакой вам не начальник. Мне просто интересно, кто следующий, за Лешей. Кто? Я не хочу, чтобы вы помирали — не от водки, конечно, а каждый день помирали не от чего! Вот, мне рассказывали, как поймали немцы наших. И у нее коса была длинная, светлая. И с ней любимого человека тоже поймали, в сарае лежали они. Всю ночь. А после ее на косе повесили и его. А она сказала — вы послушайте! — я нецелованной помру за наш СССР. Длинная была коса, раз на двоих хватило, косы этой…
— Красивая история, — сказал кто-то (опять «кто-то», поскольку не разберешь кто).
— За жизнь поговорим? — сказала Надя. — Я — пожалуйста.
— Давай за Лешу поговорим, — тот же голос.
— Я уже все про него сказала. — Надя отхлебнула глоток. — Все.
— Все, да не все…
— Тогда сам говори, — сказала Надя. — Если только по совести.
— А это уж не твое дело. У тебя — своя совесть, у Лешки — своя, понимаешь?
— Нет, не понимаю. Ты к свету подойди, не люблю в темноте разговаривать. К лампочке поближе, так и в глаза посмотреть можно.
— Лешка — человек, — сказал парень, держась за лампочку, хотя она была уже горячая, но он ее касался пальцами. — А ты… Ты — тоже человек, я вижу… Ты говоришь, Лешка сдался, ушел вот так… Но вот ты — депутат, ты — власть, ты — все.
— Я не депутат, — сказала Надя. — Ты же знаешь.
— Ты тут за советскую власть нрава качала, как будто мы какие-то белогвардейцы… Ты — советская власть?
— Да, — сказала Надя. — На данном отрезке времени.
— Она своя девка, — сказал кто-то. — Оставь ты ее… Выпьем…
— Я никакая вам не своя, — сказала Надя храбро. — Я… — Тут она заплакала, лицом упала на стол и плакала, и ребята молчали.
Лицом вниз, она запела, заговорила:
Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж еще идти солдату, Кому нести печаль свою? Пришел солдат в глубоком горе На перекресток трех дорог, Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок. Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой, Хотелось выпить за здоровье, А вот пришлось за упокой. Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, А на груди его светилась Медаль за город Будапешт…— Надя, — сказала Клава, — пошли ко мне, я тебя уложу.
— Нет, я тут посижу, — сказала Надя, оглядывая ребят, но никого не видя. — Я тут уж… Ладно?
— Как хочешь, — сказала Клава, — А то пошли, а ребята сами посидят…
Ребята посидели бы сами, и никто их не гнал, но раздался такой длинный, такой тревожный звонок в дверь, а потом еще и ногами кто-то стучал, и кулаками.
Открыла дверь Клава.
Лиза стояла в распахнутом красном пальто, рядом — Славка.
Лиза прошла к комнату отца. Никого не видя. Прямо к Наде.
— Здравствуйте, — сказала она. — Добрый вечер.
— Лиза… — только что и нашлась сказать Надя.
— Вон отсюда, ты! Вы — вон! — сказала Лиза. — Вы! Ты! Вон!..
Все, кто были в комнате Леши, кроме Клавы, может быть, были на стороне Лизы, и все встали, и окружили Надю, как тогда около магазина.
А она голову на локти положила, лицо приподняла и внимательно на Лизу смотрела, и на Славу тоже, но потом снова голову на руки положила, ненадолго, в полной тишине, а потом встала.
— Появилась? — спросила Надя. — Или сон все это?
— Явь, — сказал Слава. — Реально все, Надежда Тимофеевна.
— Ну и хорошо, — сказала Надя. — А то я тебя заждалась.
— Слава! — Лиза кричала. — Уберите ее отсюда!
— Все, — сказала Надя. — Поминки кончились. Ребята, подымайся кто как может. А кто не может, пускай товарищи подсобят.
А Надю ребята эти подгоняли к балкону. Шли на нее, к балкону. Молча шли…
— Уходи по-хорошему, — сказал ей пожилой. — Плохо тебе будет.
— Ну, давай! — сказала Надя, отступая к балконной двери. — Я милицию звать не стану. Не бойся. Ты себя не бойся.
Парень в красном шарфе достал нож. Лиза и Слава остались притертые, к стене. Парень, пьяный, уже шел с ножом на Надю. Она ждала.
— Ну, бей, — сказала Надя. — Бей.
Пока парень этот нож свой направлял, Надя отхлестала его по щекам. Раз, два. Еще раз.
И нож отобрала, очень спокойно. Сложила — он оказания очень удобным в руке, ореховая рукоятка. Теплая.
А ребята, собравшиеся на поминки, как-то незаметно смывались. Один за другим.
Остались только Лиза, Слава и Клава, да стол этот неприбранный. И нож у Нади в руке. Она его раскрыла.
Длинный нож, тонкий.
На студии телевидения Надю повели поначалу в гримерную.
Она не сопротивлялась — куда вели, туда и шла. Коридоры, коридоры — пластик, лампы дневного света, а он вовсе и не дневной, а жесткий, холодный.
Коридор бесконечен.
Зеркало.
Надя рассматривала себя. Ничего, все как следует. Причесалась, кофточка розовая, воротничок из-под нее белый.
Так, все как надо, и она не обращала внимания на то, что ее чуть подмалевали, слегка подкрасили, что текст на столе гримерном лежал — всего две страницы, две странички печатного текста, очень аккуратно выполненного — все буквы разглядишь.
Тот парень, который отвечал за нее, за ее выступление, вертелся тут же, и суета его Надю раздражала.
Гримерша спросила:
— Вам тон посветлее?
— Спасибо, — сказала Надя. — Все замечательно. Пошли.
В разных домах в этот час светились телевизоры. Светился он и у Кости, он сидел, ждал…
— Слово предоставляется знатной работнице, кавалеру ордена «Знак Почета», кандидату в депутаты Верховного Совета СССР Надежде Тимофеевне Смолиной.
Это был местный «Голубой огонек». Столики стояли с бутылками боржома и лимонада, и ведущие очень весело расхаживали между столиков, приглашая к разговору выбранных людей, а люди эти, выбранные, вели себя скромно, и неловко им было пить боржом, кофе и что-то говорить развеселым голосом.
— Итак, Надя, вы наша гостья, — сказала дикторша телевидения, присев к Наде за столик. — Что бы вы хотели сказать вашим избирателям, вы, самый молодой наш депутат?
— В Первомайском районе, — сказала Надя, — вы наверно, знаете, где это, есть свалка, общегородская.
Дикторша, сидевшая рядом, попыталась переменить тему, но Надя взяла ее за руку и продолжат говорить — прямо в камеру.
— Как тебя зовут, девушка? — это она у дикторши спросила.
— Светлана Бодрова, — сказала дикторша.
— Ты где живешь? — спросила Надя.
— На проспекте Коммунаров, — ответила дикторша.
— Значит, тебе, Света, повезло, — сказала Надя.
— Вот, — сказала дикторша, — сейчас споет наш московский гость…
Камера двинулась к московскому гостю, который был уже готов запеть и микрофон держал в руке.
— Песня про Волгу, — объявила дикторша. — Волга — это колыбель…
— Надя пошла вслед за ней, забрала микрофон у певца и пошла на камеру.
Песни споем потом, — сказала Надя. — После, товарищи. Я тут впервые, на «Голубом огоньке», и тут веселья мало, конечно, но раз уж меня позвали и я пришла, то я не кофе пить тут буду и песни слушать — это после; я по другому поводу. Вы меня выдвинули в депутаты, спасибо вам, — Надя поклонилась. — Вы эту камеру, — это к телевизионщикам, — вы ее поближе, а то, я знаю, плохо слышно будет… Вот, товарищи, я коротко скажу. В Первомайском районе свалка, на весь город позор. Туда все, извиняюсь, за выражение, дерьмо свозят. А завод но переработке всего этого — через четыре года предполагают строить! Понимаете! Четыре года! За эти четыре года чего только там ни случится! Я уже не говорю, что дети там. Так вот, товарищи, я вас призываю, через телевизор, в субботу, то есть завтра, всем туда прийти, кто с чем, и уничтожить все это, всю эту свалку, извиняюсь, дерьма. Лучше всего с утра. Я там буду, товарищи. И жду всех. Спасибо, как говорится, за внимание…
Тут камеру отвели быстро в сторону, но Наде это было уже безразлично. Камера поехала к певцу, которым уже очень нервничал, но собрался и запел:
Я люблю тебя, жизнь, Что само но себе и не ново, Я люблю тебя, жизнь, Я люблю тебя снова и снова……Надя шла но коридору студии, бесконечно длинному, а за ней бежала ассистентка. Бежала, что-то говорила, но Надя ее не слушала.
Ночевала Надя у Лизы. Дома ее не было. Надя легла на диван, накрылась пальто, свет не зажигала. Лежала, ждала. Тихо было в доме. Клава ее больше не беспокоила и даже с чаем не обращалась. Лежала Надя, слушала, как трамваи за окнами гремят, как кто-то на мотоцикле пронесся без глушителя — шум на всю улицу Гагарина. Спать, надо спать.
И тут пришла Лиза, дверь открыла своим ключом, вошла тихо.
Надя и не встала, а только посмотрела на нее с дивана. И Лиза не подошла, а в дверях осталась.
— Есть хочешь? — спросила Надя. — Там, на кухне, я тебе тарелкой накрыла. Рыба жареная…
— Рыба жареная… — повторила Лиза.
— Ну, какая есть, — сказала Надя. — Ложись спать.
— Нет уж, нет, — сказала Лиза. — Вы эту рыбу сами кушайте, на здоровье. Я вас ненавижу, ясно? Вот, шла по дороге и решила на огонек зайти… И сказать: ненавижу вас я.
— Но темно же тут, Лиза, и никаких огоньков нет. — Надя не приподнималась с подушки. — Сядь, не уходи… Тоска у меня что-то…
— Так вам и надо, — сказала Лиза, — Так вам и надо…
— Я дома уже неделю не была, — сказала Надя. — Как там и что…
— Я вас по телевизору смотрела, очень красиво выглядели, — сказала Лиза.
— Ты опять выпила? — спросила Надя.
— Конечно, — сказала Лиза.
— Ложись спать, я тебе постелила, — сказала Надя. — Там и простыни я купила, и наволочка чистая, ложись, спи…
— Ох, какая добрая! Ох, какая заботливая! Наволочку купила, чистую!
Надя отвернулась к стене, накрылась с головой.
— Ненавижу! — сказала Лиза. — Ненавижу! За все! За все!
— Не ори. — Надя и не повернулась. — Ребятишек разбудишь. Ложись и спи. Тебе же лучше.
Лиза, как была, упала на раскладушку. Лицом вниз. Надя осторожно ее раздела, та не сопротивлялась, а только всхлипывала, и все теплое, что было в доме, Надя на Лизу положила, и чаю ей принесла, но та не стала чай пить, а уткнулась лицом в подушку.
А Надя, накинув одеяло, села рядом, а после и прилегла сбоку, и обняла ее осторожно — плечи у Лизы вздрагивали во сне, и лицо было беспомощное, детское.
А мотоцикл, тот самый, без глушителя, мчался по уже совсем пустым улицам.
Мотоциклист (это был Славка) шлем где-то забыл, оставил.
Неистово он мчался, взлетал на булыжные улицы, и машина его на дыбы становилась, как конь, и Славка укрощал ее, несся вдоль набережной, мимо Волги, темной, тихой, мимо гостиницы, стекляшки этой в двадцать семь этажей, а она вся еще была в огнях, и еще теплоход, последний, у пристани стоял, музыка оттуда неслась.
Отчаянный он был парень, Славка. Вот так, наверно, чемпионы мира выигрывают, но Славке соревноваться в эту ночь было не с кем. Вот если только с самим собой. Да с улицами, со спусками, подъемами, поворотами внезапными — он и скорости не снижал, а подхлестывал и подхлестывал себя, и коня своего с высоким, нестандартным рулем.
Костя открыл дверь на долгий звонок. В дверях стоял Славка. Кожаная куртка на нем, старая, летчицкая, — откуда они такие куртки достают?
— Заходи, — сказал Костя.
— Я ненадолго, — Славка вошел. — Поговорить надо.
— Проходи, только тихо…
Они вошли в комнату. Лампа у Кости горела, прикрытая платком. Книжки на столе. Тетрадки. Дочь спала.
Славка осмотрелся, дальше порога не пошел.
— Ну, что ты? — спросил Костя. — Проходи.
— Пошли на кухню, — предложил Славка. — Я тут выпить принес… Ты не возражаешь? Поговорить надо, Костя, я серьезно… Ты же видишь — я ни в одном глазу…
— Пошли, — сказал Костя.
Он включил свет. Осторожно прикрыл дверь. На кухне они уселись за стол, клеенкой покрытый. Славка поставил бутылку. Костя открыл холодильник.
— Смотри, — сказал он. — Все молочное. Ты творог любишь?
— Мура все это… — Славка махнул рукой. — Что я, ужинать к тебе пришел?
— Вот яблоки есть, — сказал Костя. — Сойдет? Колбаса.
— Да сядь ты… — горестно приказал Славка. — Ладно… Ну, яблоки. Какая разница…
Разлил сам, поровну. Выпили.
Славка начал без предисловий. Только яблоком хрустнул — вот так он мотоцикл мотал но городу, так и яблоком яростно хрустнул. Молча достал нож, положил его перед Костей:
— Вот, возьми, это я у Лизы… Ну, час назад… Костя повертел нож в руке.
— Знакомая вещь…
— Да, Надя сама тогда вернула… Борьке Степанову… Набила морду и вернула… А Лизка у него отобрала, да он, дерьмо, сам ей сунул. Стакан портвешка сначала, а после — и сунул… А она, дура, взяла… — Славка помолчал. — Костя, мотай отсюда… Забирай Надю, дочку — и… Плохо вам будет…
— Пугаешь? — спросил Костя.
— Нет. — Славка говорил серьезно. — Я не пугаю. Надька, она человек… Думаешь, я такой, не понимаю?.. Я понимаю… Только плохо это кончится!
— Опять пугаешь, — Костя говорил спокойно.
— Костя… Ты что? Ты на самом деле ничего не понимаешь? Или прикидываешься? Ты что, с Луны? Даже Лизка, дура, могла ее сегодня ночью, сонную прибить… За отца, так она считает… Лиза — что! А эта вся рвань!.. Да о чем мы говорим! Она жена твоя, а ты книжки под абажуром читаешь!
— Пугаешь, Славка, — сказал Костя. — Пустой номер.
— Нет, не тот у нас получается разговор, Костя! Я ведь Лизу люблю… Тебе это могу сказать, никому не говорил — ей не говорил… Ну, дело ночное, можно… Надька твоя думает, Лизе легче, если она с ней. На завод чуть ли не за ручку водит. Кормит. Книжки приносит интересные… Очень интересные книжки. А зачем? Кому это нужно — она спросила? Она, конечно, идейная, и все такое. А тебе от ее идейности хорошо? Ленке вашей хорошо? Ну и черт с ней! Пусть живет, как хочет! Самоед она, твоя Надька! Женюсь на Лизе, и все, и крышка! Но — опять твоя Надька! Что ей надо? Ну что! Как забор. Никого к Лизе не подпускает. Какая-то монополия, что ли! Меня, понимаешь — меня! через милицию от Лизы отвела! — Славка говорил без истерики, ясно. — Ну что — милиция разбирается, кто кому нужен? При чем тут милиция-полиция? Я ее люблю, я все для нее сделаю, а она у Надьки как поднадзорная! Славка выпил.
— Вот Надька говорит, что людей любит… А она не людей любит, а себя! Ей так удобнее, выгодней — смотри, какая я хорошая, а какие вы все подонки…
Славка говорил громко, забыл про девочку, за стеной спящую, забыл, а девочка проснулась и заплакала.
— Ты погоди, — сказал Костя и встал. — Погоди. Я сейчас.
Вскоре он вышел на кухню с девочкой, завернутой в одеяло. Ноги босые у девочки торчат, она хныкала. Славка сидел молча.
Костя ходил но кухне, укачивал. Но девочка все хныкай и, судя по всему, намеревалась и зареветь — всерьез.
— Может, ей на горшок надо? — предложил Славка с ясностью выпившего человека. — Чего ты ее качаешь? Где горшок?
— Под кроватью, — сказал Костя. — Давай… Славка принес горшок.
Они посадили девочку на него. А сами к столу.
Девочка со сна, спросонья, смотрела на отца и незнакомого дядю, принесшего горшок и так неловко ее на горшок посадившего.
— На Надьку похожа, — сказал Славка. — Принцесса на горшке. Сейчас бы сфотографировать, на память… У тебя аппарата нет?
— Да снимал я ее на горшке, — сказал Костя. — Целая серия есть.
— А хорошо ей сейчас, — сказал Славка, — горшок, что ли, мне купить? Все радость…
Так они посидели недолго.
Лена на горшке, а ребята за столом, и Лене явно все это нравилось — сидеть среди ночи рядом с папой и не спать… И мало ли что вертелось у нее в голове, это все тайна.
А пока что Костя снял ее с эмалированного трона и в комнату унес…
А когда он вернулся на кухню, Славки там не было.
Стояла недопитая бутылка. Нож лежал, тот самый, с ореховой ручкой.
А через какое-то, очень недолгое время взревел мотоцикл, без глушителя, и умчался в ночь.
И в мае бывают пасмурные дни, предгрозовые.
Небо еле раздвинулось, еле что-то пропустилось сквозь облака, летящие низко.
Утром — а было часов шесть, не больше — свалка эта знаменитая смотрелась не так уж и страшно. Фантастика, конечно, но при определенном освещении вся эта огромная, совершенно нереальная гора отбросов, ржавых листов железа, обломков чего-то, листов бумаги, которые тихо-тихо взлетали, кружась, под утренним ветерком, опадали, и еще какие-то ящики, доски, банки, битые бутылки, тряпье — все это смахивало даже на какое-то нелепое произведение искусства. На любителя, конечно.
Но близко к этому произведению подойти было никак нельзя. В противогазе — можно, а так — нет.
И все же рано утром стоял около этой горы один человек. Это Надя стояла.
Свалка не была чем-то единым. Это, скорее, был хребет, а не гора — пологий, упругий. Кое-где что-то выступало, вздымалось, дыбилось, но при таком освещении, смутном еще, сумеречном, все сглаживалось, и очертания, если не вглядываться подробно, были без определенностей, без деталей…
Надя стояла напротив, в светлом плаще. Руки в карманах. Стояла, соображая.
Дома вокруг, невдалеке, и свет в окнах вспыхивает. Одно окно, другое.
Холодно было еще, рано, сыро.
И снова — рев мотоцикла. Славка, сделав круг, затормозил перед Надей.
Она не удивилась. Славка был такой же замотанный, в грязи, и шлем он привез — для кого, пока что неизвестно.
— С добрым утром, — сказал Славка. — И с хорошим днем.
— Ну и грохот от тебя. — Надя обошла мотоцикл. — Красивый, красный… — Она ручки потрогала, нестандартные. — Научил бы как-нибудь, на досуге… С мотоциклом у меня не вышло… Это раз… Мечтала всю жизнь на планере полететь. Это два… Море ни разу не видела. Представляешь, какая жизнь?
— Да, уж чего хорошего… — сказал Славка. — А мотоцикл — это просто. Садись.
Славка ей показал, куда нажимать, шлем предложил, но Надя от шлема отказалась. И пронеслась вокруг этой горы, и ехала ничего, рулила.
Славка стоял, смотрел. Шлемом помахивал.
А Надя круг этот неровный завершала. Все мимо летело, она и не оглядывалась — летит и летит.
После они присели на камнях.
Слава. Что ты собираешься с этим делать? (Он показал на свалку.)
Надя. Не знаю.
Слава. Ты думаешь, кто-нибудь придет?
Надя. Придут. Ты же пришел.
Слава. Я — другое дело.
Надя. У всех свои дела. Но ты же пришел.
Слава. Чем я могу тебе помочь?
Надя. Да ничем… Пришел, и спасибо… На мотоцикле я покаталась… Славка, Славка… Ты Лизу береги. Вот и все.
Славка ничего не ответил. Он ходил около этой горы, примериваясь, приглядываясь.
Слава. Дело это безнадежное, Надя. Честно.
Надя. Как сказать. По-моему, да. Но переступить через безнадежность можно. И нужно.
Слава. Ты никуда отсюда не уходи.
Надя. А я и не собираюсь. Я подожду, люди должны прийти.
Слава. И ты веришь? Веришь, что придут?
Надя. Ты пришел. Приехал, пригрохотал.
Слава. Не уходи отсюда никуда, я быстро.
Он умчался, вздыбив своего красного коня, а Надя осталась одна. Отошла в сторону, присела на камень какой-то серый.
Облака, облака. Но люди подходили, Не сразу, не вместе, поодиночке, и семьями тоже шли. Собирались люди молча. Сколько их было, сюда пришедших?
Не подсчитать. Как сказал поэт: «Толпы лиц сшибают с ног». Вернее и не скажешь.
Шли люди и шли. Они окружали постепенно эту гору, холмы эти. И милиция вскоре приехала, но поскольку все было тихо, то милиция не вмешивалась. Только к Наде подошли.
— Вам в обком к десяти утра надо прибыть, — сказал старший лейтенант.
— Не знаю, — сказала Надя. — Вряд ли я смогу. А вот вы, товарищ старший лейтенант, зря сюда приехали.
— Мне приказали, я приехал.
Люди шли и шли, присаживались, завтраки раскрывали — день был субботний, и транзисторы уже где-то играли, хотя было еще сравнительно рано, и гитары. И вокруг этой горы образовалось что-то вроде праздника, вроде поездки за город, пикника, если хотите. Общественное мероприятие, или — так уж получилось — повод, чтобы собраться вместе, и случай такой уж выпал — недалеко идти.
Все разом.
— «Казачок, казачок… Казачок — казачок…» Тара, та-ра…
Надя шла между скатертями на субботней траве, на досках, тоже что-то свалили, и транзисторы играли.
Хороши вечера на Оби, Ты, мой миленький, мне подсоби, Буду петь и тебя целовать, Научи на гармошке играть…Шла мимо. Ее узнавали. Тянули посидеть.
Соловьи, соловьи, Не тревожьте солдат…Шла, глаза чуть прикрыв, к дороге.
Все выше и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц…Все сидели в некотором отдалении от горы, не приближаясь к ней. Пили. Закусывали.
Надя шла мимо всего этого.
Прошла и села на траву. Музыка вокруг. Вроде бы и праздник.
А люди шли и шли. Садились, пили, пели, отдыхали, глядя на эту свалку.
Все было отдельно: свалка — и люди вокруг.
Надя сидела на траве. Ждала. Чего?
Уже танцы начались около свалки. Под транзисторы. Под гитары. Под хлоп-хлоп и хула-хуп.
Они приехали внезапно: Славка и Лиза. Мотоцикл резко остановился, прямо перед Надей.
— Дашь прокатиться? — сказала Надя, не вставая с травы.
— Только вместе, — сказал Славка. — Лиза, ты погуляй, у нас тут небольшие дела.
— Ладно, — сказала Лиза. — Я погуляю.
Лиза медленно шла среди людей, сидевших на траве, на досках, на газетах.
Транзисторы, стаканы, яблоки, огурцы. И вся команда отца ее покойного была здесь, и звали они ее, но Лиза шла мимо.
— Куда ты меня привез? — спросила Надя, когда Славка остановил мотоцикл на совершенно пустом шоссе, чистом, идеально вымытом дождем, в лужах еще, но сохнущем, с ясным обозначением бетонных плит.
— Надя, — сказал Славка. — Если дело безнадежное, то, как ты сама сказала, надежда всегда есть.
— Ты проще говори, обыкновенными словами, — сказала Надя. — В чем дело, Славка?
— Да все очень просто. Нам нужен бензовоз. Один, а лучше два. Вот по этой дороге они ходят. Вот здесь. Я знаю. По этому шоссе, ясно? Тебе, конечно, это не простят, а люди поймут.
— Ты точно знаешь, что они здесь ходят? Эти бензинные машины? — спросила Надя.
— Да, точно.
— Пусто вокруг, — сказала Надя. — Но это ничего. Я тебе верю, Славка. А что касается — поймут, простят — плевать. Честное слово, меня это совершенно не интересует. Кто чего боится, то с тем и случится, а ничего бояться не надо! Понял?
— Надя, — спросил Славка, — а зачем тебе все это? Надя сразу не ответила.
День только начинался. Шоссе пустое, деревья, воздух, еще непонятный, легкий воздух — в мае такой бывает.
— А тебе зачем все это? — спросила Надя. — Зачем ты здесь сидишь?
— Не знаю, — сказал Славка. — Ничего я не знаю. — Он посмотрел на часы. — Вот у нас еще минут десять осталось — на все разговоры.
— Зачем ты Лизу привез? — спросила Надя.
— А куда ее девать? Ты же рано ушла, а она…
— Что она?
— Ну что? — сказал Славка. — Все обыкновенно. Яичницу ей сделал. Чай — ну что еще?
— Славка, ты не покидай ее, — сказала Надя. — Не надо ее покидать. Люби ее… Она не злая, это так. Не покидай, ладно? У меня программа очень простая: нет ничего вообще, а есть люди живые, и, понимаешь, когда мне говорят — народ, я этого не понимаю. — Надя пошла по бетонке. — Слово какое — народ! А это все не так… Это только сволочи могут за именем этим прятаться! Народ — это ты, Лиза, понимаешь? Население. Вот так.
Они, Славка и Надя, легли на шоссе, на бетонку эту сохнущую. И Надя видела — вплотную, разглядывала подробно — лужа, а в ней небо опрокинуто, небо это, поверхность эта, облака, а еще была шершавость под рукой бетонки, и гром машины приближался.
Шофер, ехавший на бензозаправщике, ещё издали увидел два распластанных тела, но лежали они, как живые, — убитые так не лежат.
Один из лежавших даже присел. А девушка лежала, руки раскинув, и в небо смотрела.
Тормозить было надо, и парень затормозил.
— Выходи, — сказал Славка шоферу. Надя стояла рядом.
— Нет, — сказал парень. — Нет.
Но из кабины он вышел, с этой ручкой, которой машину заводят, — тяжелая ручка.
— Я тебе ничего объяснять не стану. Времени нет, — сказала Надя. — А этой, не очень-то размахивай.
Но шофер, парень этот, пошел на них, и не размахивал он железкой, а держал ее твердо.
Надя стояла, смотрела, как он на нее идет.
Славка рванулся, сбил парня — железку бумерангом запустил.
Парень еще не успел прийти в себя. Он, как во сне, видел красный мотоцикл, свою машину, в которую садятся эти, что на дороге лежали, и машина его — рывком — исчезла.
Славка вел машину, Надя сидела рядом.
— Спасибо, Славка, — сказала Надя.
— Не за что! — весело сказал Славка. — Я люблю тебя, жизнь, что само но себе и не ново! Понимаешь? Я люблю тебя, жизнь — я люблю тебя снова и снова! Эх, Надька, — все прекрасно!
Они подъехали прямо к свалке, вплотную. Там, у бензовоза, шланг есть. Надя взяла его и пошла на эту фантастическую гору.
Подъехали они внезапно, и никто ничего не мог понять — куда она идет, что за собою тянет и что за машина — вдруг.
Надя тянула за собой шланг, и бензин лился на все это — лился, но никто не понимал, что происходит, что сейчас произойдет.
Славка понимал.
Надя тянула шланг этот до самой вершины горы, падала, вставала — она уже сама вся мокрая, в бензине этом.
Вот теперь спички достать. Вот и все. Повезло — с первой спички все сразу вспыхнуло. Ярко, весело. Надя стояла в огне.
Это недолго было, упала она, и к ней не так-то просто было прорваться — пламя охватило все, и те, кто бросился к ней — Славка, Лиза, какие-то незнакомые люди — не успели, не смогли.
…Надя падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле, еще далекой, утренней, с голубыми, желтыми, светло-зелеными квадратами полей, рекой, сверкающим полукругом огибавшей город, еле видимый справа с пестротою крыш, домами…
—…Надежда, я вернусь тогда, — говорила Надя, а не пела, приближаясь к земле, — когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит и острый локон, отведет…
Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь, а не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены, и приближение их едва заметно…
—…Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот…
Полет пока что — игра с пространством захватывает, пока земля не напомнит о себе, надвинувшись резко.
—…Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.
Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен.
Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютисток, летящих к земле.
Плавные, еле заметные движения рук — и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютисток, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках, так свободно и странно провисших в пустоте.
Маневр Нади понят и принят — и вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сближаются шлемами, расходятся, продолжая полет, и соединяются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.
…Но если вдруг, Когда-нибудь, Мне уберечься не удастся, Какое б новое сраженье Ни покачнуло шар земной, Я все равно паду на той, На той далекой, на гражданской, И комиссары в пыльных шлемах Склонятся молча надо мной.Это Надя договорила, приближаясь к земле.
Вскоре, образуя вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых комбинезонов, они цветком зависают над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой.

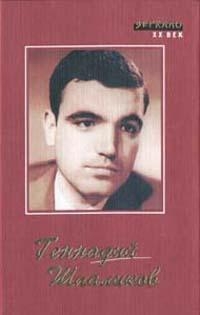




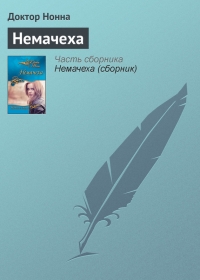
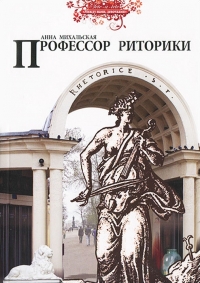

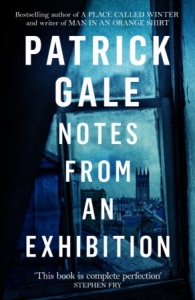


Комментарии к книге «Девочка Надя, чего тебе надо?», Геннадий Фёдорович Шпаликов
Всего 0 комментариев