Григорий Марговский Садовник судеб
роман
В самую подлинную материю
вводит нас чистое восприятие
и в реальнейшие недра духа
проникаем мы вместе с памятью.
Анри Бергсон1
Я прожил в России тридцать лет и едва ли забуду небо — серое и огромное, как пасть зевающего циклопа.
Я связан с той страной интимными узами совпадений. Так, 26 апреля 1986 года — день в день с приснопамятной чернобыльской катастрофой — меня выписали из психиатрической больницы «Новинки», где я провел последнее двухмесячье своего, как и положено, двухлетнего армейского срока. Отец съездил в Жодино, оформил обходной у подполковника Беляева, оравшего намедни: «Мы вас посадим раньше, чем вы нас, товарищ солдат!» — по каковой причине я и дослуживал в дурдоме: все же лучше, чем в дисбате… Что, спрашивается, его так напугало? Да, я дежурил в штабе и видел, как рвачи-офицеры сливают бензин «шпакам» — но на чистую воду выводить никого не собирался: субординация прочно угнездилась под кокардой моей фуражки. А бригадному замполиту звонил совсем по другому поводу: чтобы спросить, предоставят ли отпуск, обещанный в награду за железнодорожный гимн…
Не иначе Шморгун удружил — нашептал, небось: XXV съезд на дворе, — того и гляди, писатель-то наш вражьим перышком подмахнет мировому империализму! Он ведь и на ежеутренней промывке мозгов прилюдно мандражировал: «Вот рядовой Марговский сидит и думает: как это так наш пропагандист матюкается, доводя до личного состава актуальную тематику? Докладает о Горбачеве, едри его мать, и о других членах Политбюро, не уважая социалистических знаков препинания? Вы тут, воин, начитанного из себя корчите, рожу морщите, а понять не хочите, что воспитывался я в детдоме!»
И откуда эта шпиономания? Мне до фени и мат его, и доклад, и Михаил Сергеич с Таиландом на лбу. Понятное дело — повод выискивал поквитаться в моем лице со всеми шибко грамотными: за его детдом я дурдомом расплачиваться должен!..
Мы шли неторопливо по рябиновой аллейке — отец и сын: не ведая, что пары взбешенного стронция уже стучат в наши сердца, как пепел Клааса. Парадка на мне сидела коряво: все, что удалось выцарапать из прижимистого старшины Бондаря. Влезть после длительной отвычки в кирзу означало сызнова набить мозоли, а то и накликать абсцесс ступни. С означенным диагнозом я уж как-то загорал в волостной больничке Волхова (судя по названию — города кудесников). Тогда это и впрямь свершилось по щучьему велению: я нежился в застиранной постели Минздрава, штрихуя карандашиком лого для красноносого главврача — радиолюбителя по совместительству. Редкостное удовольствие доставляла мысль, что кто-то надрывается на рихтовке рельсов посреди топкой вологодской чащи. И даже антимасонский разоблачительный пафос пыхтевшего в нашей палате блокадника Кочерыжкина, ласково обзывавшего свою грыжу коброй, не застил моего элегического флера…
Теперь же это было бы совсем некстати. Я ковылял домой — к маминым ракушечным птифурам, в смаковании их вязкого ванильного крема видя свое истинное призвание. Шестьдесят дней, проведенные в толерантном обществе параноиков, благотворно сказались на версификаторских навыках: я набросал остов поэмы, инкрустировать которую рассчитывал в Москве — в общежитии Литературного института.
На протяжении этих двух лет отец — офицер в отставке — выручал меня трижды. Впервые — в вышеупомянутых северорусских лесах, куда наша рота была брошена из Волгограда. Стояла августовская жара, хотя затемно в палатке зуб на зуб не попадал. Мне достались функции истопника, ибо днем, по воле капитана Кудрякова (замполиты сговорились меня ухайдохать!), вместо долбежа на трассе, я занимался никчемным оформительством: то подсолнух намалюй для солдатской столовки, то изволь — выводи на дощечке правила пользования клозетом. Естественно, взмокшие путейцы, возвращаясь к ужину, «шланга» хором ненавидели. Но от меня-то что зависело? Дармоеду скучно одному: надо ж делать вид, будто кто-то у тебя в подчинении…
Вот он и верховодил — поварами-узбеками да мной грешным. Однажды поручил изобразить вождя. Черепушку-то я перетиснул с перекидного календаря на ватман, а вот задуманную шефом композицию запорол: разные там лозунги с прибамбасами пришпандорил к крестовине шиворот-навыворот. Ильич оказался распят не по-советски — и позеленевший капитан, выломав из скелета правофланговую орясину, уже собрался перебить хребет диверсанту — в ужасе вжавшемуся в чернозем. Что-то его остановило. Он по жизни виртуозно лузгал кроссворды: может, вспомнил про набоковскую «крестословицу» и решил, что не все писаки вредоносны… Шучу, конечно: цензура была в зените, а замполит после завтрака готовил нас к атомной бомбардировке Манхэттена. Вообще, устройся он в музей антропологии скрипеть табуреткой в роли экспоната — всякий, услыхав от гида: «Перед вами homo sapiens…» — не удержался бы и спросил: «А почему на нем сидят?»
Хотя, между прочим, он выступил и моим спасителем. Отправленный в пешую командировку, я забрел в амбар, где хранился инвентарь постоянно дислоцированной части, бойцы которой нашу перекати-роту презрительно честили цыганским табором. Ничего умней, чем окликнуть мочившегося в углу старослужащего: «Эй, где тут у вас олифа?» — я не придумал. Дружелюбно осклабясь, «дедушка» врезал мне по печени и заискивающе сверкнул белками: «Чего схватил руку, как женщина?» — «Не бей, пожалуйста!» — прохрипел я. Он врезал снова. И опять, и еще раз — ну, натуральный метроном! — и всякий раз деликатно справлялся: не готов ли, мол, ты уже признать, что вцепился в мой кулак, как стопроцентная фемина?..
И тут, под фанфары, из-за косяка выскочил Кудряков, сгреб экзекутора в охапку и в заранее заданном ритме продолжил избиение — но уже его самого и эксклюзивно по физии.
— Пустите, товарищ капитан!
— А, падла! Жалостливей ной!
Следил ли он за мной, чтоб не сбежал к агентам ЦРУ, иль крался по пятам — оцарапывая щетиной хвою — дабы я не сплавил разбавитель сельским политурщикам, — но я ему от души благодарен. Полагаю, вот так же и сталинский режим преградил путь нацизму: по сумбурному стечению обстоятельств.
Впрочем, речь не о замполите, а о моем отце. Папа пересчитал шпалы от самого Тихвина. Через плечо — сумка, набитая гостинцами. Мы облюбовали черемуховый бережок.
— Расслабься, сынок! — тяжко выдохнул он, доставая промасленный кулек с пирожными.
2
Я родился под знаком Рыб в год Кота — и на странном этом симбиозе горела печать естественного отбора, предопределившая мою склонность к самоедству. 23 февраля, на собрании, посвященном Дню Советской Армии, из тенет гимнастерки к речам ораторов тянулась идейная выя моего отца, багровая от бритья, с кнопкою на затылке. Звонок из роддома расшевелил снотворную церемонию, за работу с молодым пополнением офицеру укрупнили звездочки на погонах. Теперь уж майорский чин так и останется его верхней планкой: ввиду имманентности паспортных данных.
Родиной его был городок Малин, что неподалеку от Бердичева, удостоенного постояльства самого Оноре де Бальзака. Впрочем, и Бальзак не был истинным аристократом, сколько бы ни стремился походить на экс-посла России в Израиле Александра Бовина… Дед мой заправлял кирпичным заводиком — единственным на всю округу предприятием, благодаря чему семья перебралась на киевскую квартиру и дачу, а сам Юзеф-Янкель — на рудники. Подставил его друг детства — некто Левин, слезно умолявший сховать в тайнике левый товар — а на допросе в ОБХСС назвавший пособника заводилой. В юности они вместе организовывали самооборону от Петлюры…
Бесславный конец деда, умершего вскоре после возвращения с каторги, развил в его наследнике преувеличенную осмотрительность. Помню, прощаясь за шкаликом с улетавшей в Нью-Йорк племянницей библиотекаршей, отец сдвинул косматые рыжие брови: «Ну, а если война — твой сын будет в нас стрелять?» Между тем, я знал, оружие хранит он сам: в нижнем ящике платяного шкафа. Однажды, после очередной порки, я в истерике навел на него ствол. Но в руке у мстителя блеснул стартовый пистолет, по штату полагавшийся заведующему спортивной кафедры.
Он частенько брал меня с собой в суворовское училище: морозный пар «Здравия желаю!» — источаемый строем неоперившихся брежневских кадетов — вызывал во мне обморочное сыновнее благоговение. Боксировавшие и кувыркавшиеся на матах относились ко мне, субтильному, с тенью гувернерской почтительности. Закрома его рабочего стола кишели тушечницами и лекалами, штемпелями и химическими карандашами. Чванство командирского прихвостня, возможно, и посеяло в моей душе иллюзию избранности.
А что отец? Секундомерной стрелкой вращался на перекладине, достиг среднегимнастических показателей, но пульсация сердечной мышцы показалась насущней. Волейбольная площадка Дома отдыха свела его с шатенкой Томой Гиллерсон, перекрасившейся под Мерилин Монро, когда я надел форму первоклашки. Она выросла в семье Григория Ефимовича, двух лет не дотянувшего до презентации горластого тезки. Бывший латышский стрелок, автор никем не читаного, эвакуацией развеянного по ветру исторического романа, киевский провизор как мог противостоял ползущему по стране «делу врачей» — последнему акту усатой драматургии. Гневно выступив на городском собрании фармацевтов, нажил себе недругов и порывался отворить вены. Сгорел же от цирроза, развившегося от нелепого падения в скользкой ванной. Отходя, завещал зятю: «Аркадий, береги Томочку!» — Мудростью покойного принято было ковыряя в зубах восхищаться.
Культ жены-красавицы стал оплотом отцового самодовольства. Уминая селедку «под шубой» — наглядное пособие к национальному искусству припрятывать серебришко, — он со смаком коверкал общепринятые ударения: орфоэпическое тавро местечкового детства. Слава Абрамовна, его мать, с русской речью и вовсе не цацкалась, — звала меня «сынуле» и на фруктовый десант моих дачных шмендриков фыркала тюленем: «Ох, мне эти приходящие сюда!» Втихомолку даря золотые часики, напутствовала: «Спрячь от папы — не то продаст!» Но я разболтал — и дыру в бюджете вскоре залатали бабкиной реликвией.
Чудом добившийся перевода из Оренбурга в Минск, в пугачевские же степи засланный прямиком из питерского училища, служака отец — к худу ли, к добру ли — рано отпочковался от зажиточной родни. Дележом барахла, скопившегося на Крещатике, занялись другие. Семье нашей в роскоши купаться не привелось. Помощь по дому оказывала мамина мама, Люля Гиберман. Ее я и любил больше, и помню пристальней: наивное горчичное пятнышко на крыле орлиного носа, поминутные охи да кухонные притчи про многодетный дом скрипача из Белой Церкви, развлекавшего в летнем дворце графиню Браницкую — двоюродную тетку Бердяева. Рачительность ее граничила с крохоборством, когда перед школой мне выдавалась мелочь на сдобу с изюмом и стакан топленого молока.
Зато кондитером она была непревзойденным: шарлоттка гривуазно льнула к наполеону, маковую коврижку пугало иноземное имя штруделя, — в целом же, ничто так сильно не способствовало сакрализации ноябрьских праздников… «Здравствуйте, товарищи артиллеристы!» — стоя на тахте принимал я парад — и отзывался, уверенный в непогрешимости звуковоспроизведения: «Гав! Гав! Гав! Гав!»
Первая прорезь чувств: розоватая штора, в которой я запутываюсь — услыхав от бабушки, что мама уже на подходе к дому. Говорят, годовалым я так пихнул Ольгу Ефимовну, что та повалилась навзничь на тротуар — боясь за прижатого к груди бутуза… По кошмарному совпадению, преставилась Люля от перелома берцовой кости — поскользнувшись в гололедицу: вдобавок и фатальная перекличка с кончиной мужа. В больнице двенадцатилетний внук растерянно покосился на гипсовую ногу. Навещаемая отшутилась: «Очень интересно, правда?» Рыдал я истошно, похорон же сдрейфил: как выставлюсь на всеобщее обозрение в заведомо трагедийной роли?.. Пришлось отсидеться под райскими яблочками в беседке у маминой сослуживицы.
Еще при жизни бабушки сестра ее, тетя Тамара, перебралась к нам из Киева. Вдова видного пограничного чина пичкала меня россказнями о пышновласых поездках в казенном авто — при том что на сердце не зарубцовывалась рана: гибель сына, прошитого пулями «эдельвейсов» на склонах Эльбруса. Прибавьте провальный послевоенный опыт удочерения эпилептички (замуж выданная уже в стационаре, Лида норовила сигануть в окно) — и закупоренность приживалки предстанет вполне оправданной. Проводив сестру в нехудший из миров, она старалась реже выходить из дому: панический страх зимней скользоты… В один из вечеров никого не оказалось дома: поэтому именно ей я поверил ученическую поэму — свою интерпретацию мифа об Икаре. Но крушение аэронавта не тронуло ее — из года в год перечитывавшую все три массивных тома Роже Мартена дю Гара: «Вообще-то, я больше люблю хорошую прозу…» В итоге и ее постигла участь бедной Люли: она споткнулась на улице — невдалеке от того же самого места. О смерти ее сообщил отец, навестивший меня в неврологическом диспансере.
Как родители ни утешали тетю Тамару: мол, она абсолютно полноправный член семьи, — мои шпильки и наскоки периодически выбивали ее из колеи. Впервые в жизни я возненавидел кого-то за отказ мне поклоняться — и надо ж было, чтоб жертвой проклюнувшегося тщеславия оказалась несчастнейшая в мире старуха! Я не прощал ей равнодушия к эллину, вдохновлявшему меня своим гордым парением, — за что и угодил на прием к психиатру: вослед ее падчерице, страдавшей от падучей… Падение как форма гибели — пусть даже и только духовной поначалу — это ли не проклятье, лежащее и на спортивной карьере отца, и на моей приверженности святому ремеслу?..
3
Расстались мы у ворот лагеря, я поспешил к вечерней поверке — отец же рассчитывал пообщаться с начальством на правах отставного коллеги. Не дожидаясь, когда отнимут, я сам роздал остатки снеди оголодавшей солдатне: и волки сыты, и овцы целы. Взводному же, сержанту Кузменко, изощреннее всех измывавшемуся надо мной, не токмо предложил отведать птифур, но и снабдил их гурманской преамбулой с особо удавшимся мне в ту секунду выражением христианского смирения. Мучитель мой, злобные желваки коего изобличали станичный шовинизм, был ошарашен и долго не решался притронуться к угощению, полагая его отравленным.
Краснодарский этот вертопрах как-то заставил меня вырыть двухметровую яму — и тотчас обратно закидать комьями дерна: к его досаде, погребение заживо уставом внутренней службы не предусматривалось. Лупил он меня безбожно — постоянно метя кулаком в сердце, но стратегия самовыражения простиралась шире: отослав боксерскую грушу со срочным поручением, объявил построение в проливной дождь, на ропот же подчиненных резонно возразил: судите, мол, сами — одного недостает. После — с наслаждением кукловода взирал на дюжину вымокших до нитки хунвейбинов, подошвами вымещающих на мне восторг от его самодурства…
На учениях, в сорокаградусный зной, он нарочно выплеснул остатки из фляги. Имитируя солнечный удар, я заметался в бреду. Какой-то прапорщик окатил меня из канистры, в назидание отвесив пендель нашему пытчику. Вообразите, что сделал со мной Кузменко — когда в кулуарах я расхвастался своим даром перевоплощения!..
«А ты, еврей, из другого теста, что ли?» — окликал он меня, маршировавшего, тупеющего в два счета. Милый мальчик, одним словом. И главное — на редкость образованный. Во многом благодаря своему наперснику Старостинскому, штудировавшему мемуары генсека еще в прикарпатском культпросветучилище. Хитрован этот, пялясь на мои виньетки, слюняво артикулировал из-под кокетливых усиков: «А ты, Маргоўски, где малевать налоўчился?» — «Нигде. Я учился на отделении поэзии». — «Ну, дык это усе роуна один коленкор. Не так ли, товарищ солдат?» — «Так точно, товарищ ефрейтор!» Неохота было лишний раз дразнить шестерку.
На утреннем разводе приключился анекдот. Руководивший рихтовкой алкаш Семенюк, словно на подбор — тоже из малороссов, справился будто бы невзначай: «А батя где?» — «С первым дизелем отбыл, товарищ капитан». — «У, с-су-у!..» — рванулся он к замполиту: «Все, баста! На трассу его с сегодняшнего дня!» Вечор отец проставил им коньяк: да, судя по всему, оплошал с опохмелом…
Что ж, трасса, так трасса! Маленько промахнулся мой родитель, зато синяков поубавилось: нет худа без добра… Долго глотал я слюнки, вспоминая доставленное пехом домашнее печенье. Желудочная ностальгия толкнула и меня на пересчет рельсовых поперечин — этих строк в железнодорожном венке сонетов. Урывками я трусил к пристанционной лавке, но там — хоть шаром покати. Прочесывая окрестности, встретил на делянке косаря лет тридцати:
— Молока не продадите?
— Откудова, родимый? В нашей деревне все буренки давно раскулачены.
— А сами-то чем питаетесь?
— От тем и питаемся! — беззубо осклабился тощий балагур.
Наконец, в черте дачного поселка набрел на вянущую ленинградку, усадившую хрумкать зеленые помидорины под миску щавелевого супа. «Ты заходи почаще. Я одна живу…» — и в ее хлебосольных, глубоко запавших очах отразился ужас поперхнувшегося гостя.
Осенью, воротясь в часть, мы с трепетом ждали распределения. Учебный полк размещался полого, и заоградный волжский разлив дурманил душу неописуемо. Предстояла присяга у подножья гигантской скифской бабы, воздевшей меч в противовес факелу гудзонской статуи. Континентальный климат, предопределивший исход сталинградского сражения, все ощутимей потешался над плотностью наших гимнастерок. В сочетании с рукоприкладством старшины Сергеева, местного уроженца, тренькавшего перед поеживавшимся строем про дядиванины вишни, он красноречиво свидетельствовал о непобедимости моей страны. Романсеро прапорщика обычно увенчивалось хохмой про Сарру, представляемую бухим семитологом отчего-то в мужском роде.
Командиром роты был коренастый майор Пильщик, часто вспоминавший фраера, сунувшегося к нему было на сочинском пляже: «Да я ж Микола Питерский!» — и сраженного шрапнелью зуботычины: «А я — тяжелый штурмовой Т-100!» Бугай сыпал афоризмами, точно из рукава: «Двери от канцелярии должны быть закрываться! Где ключа?» — или: «В вооруженных силах все параллельно и перпендикулярно!» Меня он отчего-то жалел. «Опять сиднем сидишь? — хмурился, рыща по закуткам. — Ступай в казарму, а то не ровен час вздернешься!»
Вешаться я не собирался. Письма от невесты Маши и ее вечно обеспокоенной чем-то золовки Эвелины, от искрометного удмуртского баламута Сереги Казакова и возвышенно отрешенного поэта Меламеда — теплили в изгое его причастность к безалаберной литинститутской слободке. Вот кого я безоговорочно считал своими — отметая мысль о петле за временностью испытаний!
Беседы вживе удавались только с Индиковым, тоже заграбастанным с первого курса. Николаевский филфак привил ему почтительность к пишущей братии. Перлы мои он старательно вносил в блокнот, хоть несравненно больше умилялся жизнелюбием Гаргантюа. Вырос он без отца. Мать начинала на сцене в Вольске (когда мы неожиданно там очутимся — он выдаст сентенцию: «Ах, Гриша, Гриша! Знал бы ты, сколь неблагодарен труд провинциального актера!») Обладавший природной отвагой Славик единственный не робел перед ордой грузин, грызших изнутри наш забитый взвод. По иронии судьбы, он был направлен в Закавказье, а демобилизованный — ринулся тушить чернобыльский реактор, где и схватил изрядную дозу.
Помню приезд родителей. Меня вызвали на КПП, и семья воссоединилась на фоне дикой расправы. Дежурному офицеру взбрело щегольнуть удалью, и по его приказу часовой застрелил приблудного пса. Причем, убивал медленно: пули всаживались тупо, под стать зубрежке пэтэушника. Мама, побледневшая от этой сцены, рассеянно меня расцеловала… Церемония принятия присяги в гипофизе стерлась напрочь. Зато запечатлелась прогулка по Волгограду: растянут вдоль берега неимоверно — течением его, что ли, размыло?.. На сей раз яства, привезенные из Минска, предназначались не только мне. Палка салями, маринады, буженина, бутыль «Зубровки»: я едва успел облизнуться. Все это ушло на горюче-смазочную подпитку нашего «Т-100». «Оказывается, — поделился я с Индиковым этимологическим открытием, — слова «рот» и «ротный» — от одного корня…» Но с отбытием близких Фортуна хохотнула в обшлаг. С саратовщины пришла разнарядка — и сотню путейцев, включая меня, кинули на станцию Терса Вольская, родину двадцатипятиградусного мороза: не снабдив при этом ни валенками, ни рукавицами. К тому ж накануне отъезда Кузменко злорадно содрал с меня припасенный свитерок: прощальная пакость удалого есаула.
Поселок ютился в ложбине, присыпанный то ли декабрьским снежком, то ли серой пудрой торчавшего на всхолмье цементного завода. Расселили нас в плацкартном вагоне, продуваемом цепными ветрами. Отопление входило в обязанности гражданских проводниц, но что за дело до наших судорог двум казахским пери — коли ночью их пользовало пьяное офицерье! Сдается, в нашем чутком кругу я выказал недовольство… Одного из командиров звали Бляблин, он был приземист, плюгав. Меня приметил сходу, пригласил в купе к главному, усачу-одесситу:
— Марговский, вы кто по профессии?
— Литератор, товарищ майор.
Заминка.
— Ну, ладно, покамест идите…
Эх, в ножки бы мне поклониться писучим советским вождям!
Впрочем, Бляблин не отстал: скрутил шпажонку из толстой проволоки и тыкал нас сзади, пока мы поддевали ломами чугунные рельсы, примерзая к ним тощими подошвами. Для меня у него заготовлена была персональная реплика: «А ну, покажь, как рихтуют по-литературному!» Усач больше не цеплялся; лишь однажды, подсев, обвел буркалами моих соседей:
— Хлопци, а знаете, яка нация самая грязная?
— Цыгане? — подобострастно предположил Потапов, воронежский тугодум с долбленой долотом ряхой.
— Ни-и, хлопци, евреи… — вздохнул гость и не прощаясь убрался восвояси.
В мозгу его сидела заноза покрупнее — рядовой Бодулан, суток на пять канувший в самоволку: а что как увели соплеменника ромалэ, осевшие в окрестных добротных избах?.. Одного из таких я видал на околице, — кутаясь в дубленку, «конокрад» отбивался от наскакивавшего на него с угрозами мужика: «Отвяжись! Цыгане живут по всему свету!»
Раз в неделю подневольных возили мыться. Стоило зазеваться — уводили полотенце, шайку, мыло, свежие портянки… Всласть попарясь, я приникал к зеркалу предбанника — испытывая нежность к собственным порозовевшим ушам. Те же — изумленно внимали побывальщинам перехожих калик, стариц Островского, кутавшихся в допотопные шушуны: какого еще лешего тут нужен драмтеатр! На обратном пути азиаты жгли мазут посреди теплушки, с половецкими воплями пускаясь в пляс. Один такой с маху огрел меня черпаком по темени: за то что я чавкнул, хлебая баланду.
На трассе случались побоища, травмы, обморожения. В инструкциях по технике безопасности — в связи с пущенной под откос вертушкой — неизменно фигурировал рядовой Пиогло с далекой станции Кандапога. В то же время каракалпака, носом расклевавшегося на здешнем полотне — и расплющенного в лепешку, начальство постаралось поскорей забыть. По двенадцать часов в сутки мы вбивали костыли, закручивали гайки, тягали шпалы по 80 кг. «Ничего! — зубоскалил Потапов, студент физкультурного. — Еще немного — и ты разучишься строгать свои поганые стишки!»
Работая, я мысленно декламировал мандельштамовского «Волка» и «Быть знаменитым некрасиво» Бориса Леонидовича. Полюбившийся ритм удерживал тепло в теле. Согревала также и берлога, вырытая в задубелом насте между утесами. Там я и поверил добродушному донецкому рудокопу свои новые стихи — о прошедшей продолженной жизни. «Ненароком выясняется, — ухмыльнулся Рома, — что армия спасла тебя от шизофрении!»
А вот и вновь учебка. Возвращение мнилось ирреальным. Прапор Сергеев так же ехидно сверкал золотым клыком, желваки казачонка упруго переминались в такт медоточивому курлыканью Старостинского. Что впереди? Мычание буддийской степи? Ядовитые наколки байкало-амурской уголовщины?.. В умывальник, где я до пояса обтирался, втиснулся еще более раздобревший Пильщик. Убедясь, что нас не слышат, внушительно процедил: «Отец хотел, чтоб ты дослуживал поближе. Стало быть, едешь в Минск. Так и передай».
4
Первый уроженец белорусской столицы — в семье я претендовал на звание патриция: так дети батраков, зачатые на чужбине, верхоглядами межуются от эмигрантского сословья. Несмотря на это, полесский акцент вызывал наибольшее отторжение как раз-таки у меня. Лет пяти, возвращаясь из садика, я вставал на четвереньки и с нарочитой идиотинкой во взоре порол белиберду на диалекте картофельной целины — советского аналога штата Айдахо. С ясельной группы мне говорили «Грыша» — воробьи подхватывали: «Чык-чырык!» — к утреннику разучивалась трымбавуська: «Саўка i Грышка зделалi дуду. Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, — зделалi дуду…» Тезка дед, хоть и разминулся со мной во времени, завещал сочинения Антона Павловича, Куприна, Сергеева-Ценского — и зачем-то никому не известного Льва Никулина. Малахитовый, с золотым тиснением, переплет чеховского двенадцатитомника служил надежным убежищем моему израненному с детства слуху. Оптическая точность языковой хирургии аукнулась впоследствии шоковым восхищением — при виде всамделишного пенсне доктора в музее на Садовой.
Книгам отец предпочитал газеты. Взвешенная оценка сиюминутных поветрий давала шанс выжить в незримой рукопашной. Замполит училища, полковник Троицкий, без устали рыл яму ненавистному инородцу. Папа, ответственный за взносы в партийной ячейке, грамотно нанес контрудар — прилюдно разоблачив злостного неплательщика. Враг затаился, вынашивая козни, — но разве они шли в сравнение с вынужденным бегством из родного города!
Историю эту я знал понаслышке: Розу, младшую из сестер, рано умершую от порока сердца, культяпый сосед обозвал жидовкой и ударил — за что вспыльчивый юнец отделал его костылем. Оставаться было опасно: остаточный нацизм пустил на Украине корни как нигде. Кров беглецу предоставила питерская родня. Новое место жительства приподняло часть шлагбаумов, тубами и тромбонами парковых променадов заглушая манию преследования. Но на последнем курсе Военного института физкультуры и спорта выпускника внесли в подозрительный список. Конвоирование офицерами-евреями собственного народа я бы уподобил грануле с растворимой оболочкой: любопытно, приходило ли это в голову киевскому фармацевту?.. Высылка теплолюбивого племени в нети вечной мерзлоты планировалась, несомненно, как противоположная по температурному знаку акция, продолжавшая начатое Аушвицем дело.
Итак, ужас перед отправкой в восточном направлении оказался наследственным. Отцово отпочкование от родового ствола я опять-таки тщательно скопировал: когда, срезанный на сопромате, подал документы в Литинститут, где отсутствовала спасительная военная кафедра. «Когда вы наконец начертите эпюры по-русски?» — съязвил Алявдин, флюгером реагировавший на приход в ВУЗ нового начальства. — «Я лучше по-русски выскажусь!» — парировал экзаменуемый. И высказался… В деканат поступила докладная: студент такой-то «угрожал мне психологически, прибегая к нецензурным терминам уголовного мира». Любопытно, откуда у захолустного доцентишки этот сочный зощенковский канцелярит?..
Чтобы не вылететь с «волчьим билетом», я лег в психоневрологический диспансер на Бехтерева: первая, допризывная попытка вжиться в роль Чацкого. Параллельно же отчебучил умопомрачительный трюк. Узнав от приятеля, Ильи Горелика, что из Политехнического отчислены еще десятка три евреев, я ворвался в кабинет ректора и картинно произнес: «Это вы грозились разогнать «здешнюю синагогу»? Счастлив буду исполнить Вашу любимую песню!» — Тут и грянула «Хава нагила», скомкав повестку дня на ученом совете. Проректоры-центурионы сгребли меня подмикитки и выволокли в коридор. Куролеся, я симулировал сердечный приступ — они были вынуждены меня нести: сцену крестного пути последовательно сменила пьета. Хорошо, что мне не дали допеть: я ведь знал наизусть только первый куплет!..
В актовом зале солист «очнулся» — окруженный жадно глазевшими функционерами. Ректор Ткачев, бывший боксер (через пару лет он перейдет в университет и, отправленный тамошней профессурой в нокдаун, застрелится на дому), опасливо выглядывал из-за стоеросовых спин, пока я — громогласно обличая человеконенавистничество — ставил крест на своей инженерной карьере. Врач скорой, впрыскивая успокоительное, утешал меня воспоминаниями о роскошной даче Маршака: дескать, не унывай, все еще впереди! Да и милицейский чин отнесся сочувственно: «Што, решил живоглота вашего проучить? Даўно пора!» Все представление обошлось мне в десятку — штраф за мелкое хулиганство.
Сумму эту я собрал на своем вечере в клубе самодеятельной песни — где напару с огнегривой чужой женой читал стихи заинтригованным минским аидам. Прознав о моей изящной выходке, иные из них порывисто раскошеливались. Загадочная наша связь с замужней дамой придавала магии чтения байронический оттенок…
«Ты герой!» — тараторил курчавый Горелик, носившийся со своим машиностроительным дипломом. Я и без него знал, что у меня абсолютный слух. Еще трех лет отроду, в киевском аэропорту, принимаемый на руки старшей сестрой отца и ее супругом, я радостно перевирал текст известного реквиема: «Тетя Мирра, дядя Боря, встаньте! Слушайте: гремит со всех сторон…» Судьбы нации заботили меня уже тогда.
С Миррой Юзефовной у отца не сложилось. Верней, пока та жила в Киеве, а мы — в Минске, встречаясь лишь в период отпусков на русановской даче, родство пестовалось к обоюдному умилению. Тетка моя, педиатр, по утрам обегала участок и, полагаю, как большинство, не чуралась подношений. «Ну, Ггишенька, как тебе нгавится наша новая квагтигка?» — щурилась она. Разумеется, карикатурная картавость отнюдь не поощрялась потомками тех, кто когда-то пробовал засудить горемыку Бейлиса. Но отцу и того хуже: сиди себе на бастардовых бобах да еще и скрипи от палочной дисциплины! Чего там скромничать: именно папа платил по счетам за все их родовое гнездо.
Муж Мирры, мешковатый Боря Фуксман, начальник обувного цеха, на крылечке сетовал: «Скучная вся жизнь, Аркадий…» — и вручал мне крепенькие бутсы, в которых я, бесстрастный к футболу, мало нуждался. Спортсмен отец хорохорился: «Жизнь? Я считаю, — топорщил беличьи хвостики бровей, — что жизнь, напротив, очень интересная!» К очередному нашему заезду в доме их обнаруживалась уйма поломок, и папа обстукивал полки шифоньеров — словно коленные чашечки невротиков. Хотя и принес он не клятву Гиппократа, а самую заурядную офицерскую присягу…
Иногда я думаю: не будь в стране евреев-полководцев, ширококостных ветеранов, бросавшихся на амбразуры, — Сталин бы стократ фурорней закрутил финал задуманного миракля. Он превозносил создателя «Ромео и Джульетты», на форзаце без мягкого знака нацарапал: «Вот это любов!» — и, верно, знал, что монологам Шейлока предшествовал навет графа Эссекса, чаявшего расположить к себе одряхлевшую Елизавету лжеобвинением лейб-медика Лопеса в крючконосом покушении… Кремлевскому горцу пришлось ледорубом тюкнуть зачинателя Красной Армии, перебить многих маршалов и поэтов (не менее стойких воинов по природе), дабы уж под занавес взяться за эскулапов…
Может, я преувеличиваю — и в благостной трясине 70-х Мирра Юзефовна не обязана была видеть в мундире брата поруку собственной белохалатной идиллии. Но — так или иначе — родственная тропинка из Минска в Киев оказалась заминирована: реактор, как нарочно, громыхнул на полпути!.. По Крещатику зашелестели самостийные лозунги: «Потопим москалей в жидивской крови!» — и дядя Боря, вспомнив про Ноев ковчег, схватился за сердце…
Он не проснулся утром накануне отъезда — так и не узнав, кого и во что обувают в колыбели трех религий. Седая вдова репатриировалась с детьми, но ужиться с ними у нее не было шансов. Через пару лет в Израиль прилетели мои родители: уповая на возрастную общность — договорились втроем с нею снимать квартиру. И тут подтвердилось, что враги человека — домашние его.
Случилось все из-за моей сестры. Я умолчал о ее существовании? Это оттого что мы видимся крайне редко: разрыв, произошедший между нами, лишний раз свидетельствует о всесилии хромосом (внешне, да и человеческой сутью, она, как ни печально, все больше напоминает Мирру).
Так вот. Лена репатриировалась на полгода раньше родителей — завезя в Землю Обетованную московского пропойцу Василия, сидевшего на химии за избиение таксиста (по странному совпадению он, за несколько лет до меня, служил в той же самой волгоградской учебке). Поселились они в киббуце, обзавелись видеомагнитофоном, усыновили двух песиков — по кличке Шахор и Алеф, — да вот беда: животины эти не чета зеленому змию!
Теперь ему, разведенному, выплачивают ежемесячное пособие по инвалидности: так в Израиле классифицируют алкоголизм. Впрочем, надо отдать должное — сюда он рвался ретивее нас.
— Маманя, Васятке вызов пришел! — егозил шалопут у себя в Коломенском.
Чему удивляться? — Ведь и пионеры сионизма осушали болотные топи под прямым влиянием толстовских романов! Как писал Флобер: «Благодаря шампанскому, французские идеи распространились в Европе»…
Уйдя от своего пьяницы, сестра, по безвыходности, вынуждена была вклиниться в триумвират старейшин — и без того уже давший изрядную трещину: у Мирры от чужой пасторали сосало под ложечкой. Об этом она и молчала все дни напролет, изводя мою впечатлительную маму.
— Тебя, видно, бесит, что я у Томочки еще жив? — не выдержал однажды папа.
— Вганье! Егунда! — каркнула Мирра, на несколько суток замуровавшись в спальне.
Прямолинейность моей сестры ускорила развязку: желчную тетку она чуть что попросту поднимала на смех. Трудно поверить, но впоследствии Мирра не уставала обвинять моих родителей в заведомом вероломном расчете: мол, съехаться с Леной они сговорились еще в Минске… Не из процесса ли над коллегами-вредителями усвоила она уроки казуистики? Скрепя сердце тетка вернулась в семью дочери — и безвременно свела в могилу зятя-геодезиста.
5
Ехал я через Ростов и Харьков, хмелея от беспризорной передышки и за откидным столиком зарифмовывая «Возвращение в Нимфск»: тогда-то впервые и пришло в голову переименовать родной город, коему явно недоставало романтической ауры.
Гладкие бабы и куркули в шитых косоворотках разделывали воблу — точно колупались в радиосхеме. Один вдруг протянул мне глянцевую куриную пульку. Я опешил.
— Не робей, хлопец, казак угощает! — подбодрила меня одутловатая попутчица.
Вот уж полгода, как стук колес исподволь сливался с ритмом кровообращения — превращая меня в мелкий винтик имперского освоения евразийских просторов. Светило оксфордской геополитики, сэр Хэлфорд Дж. Макиндер писал: «Россия занимает в целом мире столь же центральную стратегически позицию, как Германия в отношении Европы. Она может осуществлять нападения во все стороны и подвергаться им со всех сторон, кроме севера. Полное развитие ее железнодорожных возможностей дело времени».
Увы, почтенный джентльмен завысил демографические способности моей страны, а также не учел молниеносности развития надгосударственной инфраструктуры…
К примеру, Маша Левина — веснушчатая худышка, провожавшая меня в армию: замужем за калифорнийским профессором социологии, пожилым янки спортивного вида, что ни год исправно выкладывающим энную сумму за ее нескончаемый флирт с аспирантурами. Кто-кто, а уж она не страшится нападений с юга или с севера, а поездам и вовсе предпочитает полеты он-лайн и наяву.
Маша и тогда, на Ленинградском вокзале, появилась в алых заокеанских джинсах. Путь к вологодской железке лежал через Москву, я ей звякнул — она примчалась. Потеряв голову, мы целовались метрах в двухстах от улюлюкавших на рюкзаках чуреков. Теперь-то ясно: Вова Кузменко взял меня на заметку как раз после этого!
Управление бригады располагалось на унылой нимфской окраине: линейность улочек соответствовала бесхитростности поселковых нравов, кислый дичок топырился за забором — как неопрятно завитая приемщица химчистки. Меня собирались сунуть в один из батальонов, но кто-то надоумил: просись к Бобкову! — и колобок-редактор, домовито урча, запасся впрок упавшим с неба борзописцем. Так мне достался персональный стол со стрекотавшей от розетки «Украиной» и пустовавшее на тот момент кресло младшего газетчика. Моим наставником сделался капитан Цесюк — галантный западенец с золотой коронкой, охотно делившийся нюансами военно-полевой журналистики. Из подшивки, слово в слово, передиралось позапрошлогоднее трафаретное вранье про машиниста Белибердыева — разве что на почетную вахту ныне заступал диспетчер Уразумеков… Зато мама ликовала — и в честь возвращения блудного сына запатентовала свежий рецепт: орешки из теста со сливочным кремом.
Хоть я и запорхнул на офицерскую должность, мой казарменный статус оставался плачевен. В роте обеспечения — так называлась смесь из штабных писарей и персональной шоферни — свирепствовала отпетая дедовщина. Старшина Гергус, черноусый и косолапый то ли гагауз, то ли гуцул, старался абстрагироваться от происходившего в его отсутствие. Рачительному горлохвату припрятанная кем-то ушитая гимнастерка была важней профилактической прополки «стариками» новобранцев.
В происхождении его, впрочем, могу ошибаться, — как-то, тет-а-тет, он проблеял потайным тоном: «Ты хоть язык-то свой знаешь?» — Прошли годы: теперь точно знаю…
Что касается его правой руки — прапорщика Шавеля — эту плешь и вовсе выходили кинологи из сыскных отделений. Главный связист бригады кемарил и то в наушниках: дабы не прошляпить звонок полуночника районной гулене. Не иначе, локаторы проныры служили ему основной эрогенной зоной…
Ротная верхушка, разумеется, догадывалась, что ее сладострастные придирки к старослужащим передаются молодому пополнению по закону брутальной эстафеты.
Верховодил нами киевский атлант Саня Нестеренко — в первые дни откровенно на меня взъевшийся, грозивший «переломать изящные пальчики», но вскоре проникшийся симпатией и лишь время от времени ошеломлявший вопросами типа: «Скажи, а что такое данте?..» («Божественную комедию» в черном переплете передали мне на КПП родители; уж и не знаю, осилил ли он этот том, — но месяца через два вернул мне его, удовлетворенно вздохнув). Вообще же, другими глазами он взглянул на меня после того, как я, в биллиардной, на вопрос, почему не играю, ответил, что испытываю жалость к желтым шарам, жмущимся друг к дружке, как цыплята, на лужайке стола…
Ординарцем при Сане состоял добродушный татарчонок Капа, стеливший постель своему сеньору, чередуясь по графику с клубным мазилкой Паком. В роте обретались еще два корейских лилипута — Тянь и Шегай, их здоровяк одно время поколачивал (на деятеля искусств образ узкоглазого врага не распространялся).
Разглядел я и представителей других «неблагонадежных» наций: наличие метрополии за кордоном автоматически означало направление в нестроевые войска. В очах печального уйгура парадоксально сочеталось благородство с забитостью. Рослые алма-атинские немцы вольготно гоготали, обливаясь ледяной водой. К ним примазывался омич Хила. Я мимоходом видел, как, переводя неуставной ступенью выше, Нестеренко нещадно драл Хиле чернявые космы: этого истязаемый мне не простил. Однажды, будучи дневальным, я записал за ним папиросный долг — в счет выдававшейся нам ежемесячной меди; какой-то доброхот приплюсовал нолик — и ощетинившийся Хила, краем уха слыхавший о гешефт-махерских плутнях, припустил за мной рыча, как русская борзая…
Но более прочих меня чаял ущучить ефрейтор Бобрукевич — невзрачный блондин, печатавший бригадную многотиражку. Вечно перепачканный, он повадился стыдить корреспондента:
— Да-а, что тут скажешь, работа не бей лежачего!
Не мусоль я своих опусов — чем бы, спрашивается, пробавлялась типография?.. Но логические доводы на него не действовали.
Вскоре стало ясно, что белесый недогутенберг добивается от меня той же безропотности, с какой его помощник, сутулый барановичский шлимазл, каждодневно вылизывал станок и платы. Едва офицеры отбывали «на редакционное задание», Бобрукевич, помавая тряпицей, проклевывался на пороге. Сыт по горло суточными нарядами, я все же поначалу сглаживал углы. Но рано или поздно вынужден был огрызнуться:
— Некогда мне. Сегодня номер сдаем…
— Ах, вот как мы запели! — Бобрукевич сцапал меня за ворот и толкнул в печатню.
В глазах гражданской девицы Лены, стрекотавшей на линотипе, мелькнуло ироничное сочувствие. И тут, отстаивая тезис о разделении труда из школьного учебника истории, я схватил подвернувшееся под руку зубило. Недруг ретировался — и я победоносно снова засел за казенную машинопись…
Экскаваторщик из Гомеля вызывал на соц. соревнование однополчан-бульдозеристов. Зажмурившись, я попытался себе это представить: один дуболом засыпает из ковша канаву — все остальные дружно разравнивают бугор; отметки привязаны к уровню моря…
— Разговор не окончен! — Бобрукевич с налета засветил мне в глаз.
Раздался треск.
— Очки!.. — как-то по-детски ойкнул он.
Раздавив каблуком собственные линзы, я был расстроен не меньше его, и это подлило масла в огонь. Потасовка вышла б на славу, не скомкай ее внезапное появление шатенки корректорши.
Впрочем, та ничего не заподозрила: кивнув, рутинно приникла к чтиву. Так мы затаились через перегородку: я — собирая в горсть осколки с линолеума, старая дева — исправляя несчетные капитанские ляпсусы.
Первой не выдержала она:
— Вообразите, Гриша, вчера Цесюк снова отпустил мне комплимент. Говорит: в последнее время вы стали гораздо тщательней вычесывать блох!
В роте ждал допрос с пристрастием: подметив фингал, Шавель донес Гергусу.
— Выбирай: шуруешь в батальон — или заявляешь! — брызнул слюной старшина.
Закладывать обидчика я не стал, но, выйдя из каптерки, пожаловался негласному лидеру:
— Заподло! Теперь ушлют к черту на кулички!
Туповатый типограф нашил погоны на полгода позже Нестеренко, я ж — еще через полгода. Без пяти минут дембель брал у меня, ученого «внучка», уроки Ренессанса: а долг, как известно, платежом красен.
— Бобрукевич, Марговский — в сушилку! — скомандовал амбал.
— Что, припухло, чмо? В торец пацана бить? — рядовой зажал ефрейтора в тиски. — Показать, как это делается? Учись, пока я жив!
— С-саня-я-а, не на-ада-а!!! — взмолился тщательно утрамбовываемый Бобер; почки, печень, желудок — все слиплось в один истошно визжащий ком.
— Саня, хватит, пожалуйста!.. — прошептал я, побледнев.
Именно в армии я узнал истинную цену хваленой дружбе народов. Еще на путейской практике бросилась в глаза садистическая зацикленность Кузменко не столько на мне, сколько на хлипком узбечонке — не помню его фамилии. Что как задохлику с хлопковых полей перепадало за басмачей — россказнями о которых, возможно, сызмала пичкали кубанца?..
Время от времени до нас долетали жуткие слухи о межплеменной поножовщине на трассе и даже о сожжениях живьем. На БАМе горцы заперли бревном таежную времянку с тремя запорожцами и, облив горючим, чиркнули спичкой…
Конфликты вспыхивали не только на стыках рас и конфессий: взаимная ненависть порою питала стебли, росшие из единого корня. Так, возможно, горбоносый брюнет с берегов Днепра, вопреки утопиям панславизма, на дух не выносил блеклого новгородца — лелея в своих генах то ли месть покаравшей древлян княгини Ольги, то ли ненависть Мазепы к империи Петра Великого. Нисколько не удивлюсь, узнав, что Нестеренко впоследствии примкнул к «руховским» радикалам…
Да и в наскоках Бобрукевича на мою праздность — налицо осуждение семитской ушлости.
Хотя, пожалуй, здесь все обстоит сложнее. Я ведь умудрился дослуживать в родном городе, и меня нередко навещали друзья. Вот и повадилась на КПП архитекторша Тома Крылова — томная, с синеватыми подглазьями и венозными ногами. Нас когда-то знакомила попрыгунья Ханка, примадонна студенческого театрика. Еврейка на четверть, наружностью Тома обладала вполне славянской; предки же бригадного печатника происходили из Бульбонии — как пренебрежительно обзывали Белоруссию казахстанские гансы.
— Хорошая девушка! — тряхнул чубом Бобер, выросший на поведенческих клише послевоенного кино.
— Нравится? Забирай… — передернул плечами я, боготворивший одну лишь Машу из подмосковной Перловки.
— Нехорошо ты как-то сказал! — скрипнул сапогами доморощенный ригорист.
Убежден, это и было последней каплей: надо же, залетный хлыщ сходу урвал себе теплое местечко, да еще осмеливается перебирать наших девчат! Учуяв любовный фарт незаконного еврейского барчука, ефрейтор скрестил в подкорке ксенофобию с половым отбором — ничуть не подозревая, что сей сплав изначален.
Впрочем, он не был потомственным жидомором и, даже проведай он о том, что Тома — квартеронка, все равно увлек бы ее в ритме вальса прямиком в ЗАГС, чтобы по утрам в семейных трусах жарить омлет…
В «Апофеозе беспочвенности» Льва Шестова я обнаружил созвучный моим рассуждениям фрагмент: «Кант, а за ним Шопенгауэр, особенно любили эпитет «бескорыстный» и употребляли его в тех случаях, когда уже предварительно истощили весь запас имевшихся в их распоряжении хвалебных слов. «Бескорыстное размышление», не преследующее никакой практической цели, — высший идеал, который, по Шопенгауэру, может поставить себе человек: эту истину он считал общеобязательной, априорной. Но если бы случай завел его в круг русских мужиков, ему бы пришлось изменить свое мнение. Там размышления о судьбах и смысле мира, о бесконечности и т. п. никоим образом не считались бы бескорыстными — особенно, если бы человек, им отдающийся, одновременно предъявлял, как и полагается философу, притязания на полную свободу от физического труда».
Разумеется, Шестов, будучи евреем, пусть и крещеным, рассуждал несколько отстраненно и потому сужал парадигму крестьянской этики. Но по сути он прав.
Не зря старослужащий Пахомов, уроженец жестоковыйного Кагула, навязал мне однажды на лобном месте щекотливую дискуссию.
— Растолкуй-ка мне, — с этнографической пытливостью щурился он, — отчего там, где наши бабы вяжут снопы, непременно околачивается еврей с учетной тетрадью и шариковой ручкой?
— А как же мой двоюродный братец? Ишачит себе слесарем на заводе и на большее не претендует! — выдвигая свой контраргумент, я скрыл от сослуживцев, что сын Мирры Юзефовны отчислен из киевского авиационного за неуспеваемость («Сколько ушло на одни взятки!» — сокрушался покойный дядя Боря).
Но Пахомова мой пассаж неожиданно убедил. Он заявил, что снимает вопрос с повестки. Впредь, однако, это не помешало ему налетать на меня из-за пустяка или науськивать кого ни попадя: ведь и он хлебнул у себя в бессарабском местечке!..
Судите сами: сживись я с моралью доминировавшего этноса — ужели стали бы меня так изводить? Вот ведь скрюченный в три погибели подсобный шлимазл из Барановичей то и дело оттирал до блеска печатную плату — и Бобер его пальцем не трогал.
Другое дело, что формула эта справедлива для донацистских формаций, а приходу язычников к власти препятствовали и препятствуют как раз такие белоручки и краснобаи, как мы с Кантом, Шопенгауэром и Шестовым.
6
О чем эта повесть? О том, как пыльца души кодирует узор на ладонной листве? О незыблемости фортификационных линий между врачами и их пациентами? А, может, — о всевышнем лоббировании интересов здравого смысла — в едином и шумном парламенте людской истории? Ну, да, параллелизм, контрапункт, скулеж одиночки на запятках летящей в тартарары эпохи…
В клетках каждого каждого из нас — свой ген событийности, свой хромосомный набор попутных ветров и хриплых анафем: штрихами набрасывая фасад судьбы — учитывай изначальный состав кирпичиков!
Незадолго до эмиграции, обедая в Доме Литератора за одним столом с модным иронистом Иртеньевым, я кощунственно обмолвился о чернобыльском возмездии. Озлобленность дурной советчик в подборе точных эпитетов, и сегодня я сам себя поправлю: не возмездие — а промысел…
Напротив нас по-цыплячьи прихлебывал супчик отставной сатирик Варлен Стронгин — селадон, розовый от боковых проплешин. Меня изумлял эротизм перестарка, водившего к себе голенастых лимитчиц и браковавшего их за нечуткость к пятой графе. Одну такую, из Орла, пожившую у него с месяцок, он спровадил за нелестный отзыв о каком-то «жидочке», которого, к слову, и сам недолюбливал. Отец Варлена был расстрелян по делу о Еврейском комитете…
— Возмездие, утверждаете Вы? — рыкнул на меня Иртеньев, похмелье которого редко носило человеколюбивый характер. — Тогда почему же там столько наших накрыло?!
Я не нашелся что сказать. Ныне ответ созрел: демоны-ангелы истории в один прекрасный момент осознали, что иным способом картавых терапевтов не вынудишь покинуть привычный насест! Своевременный отлет спас и без того уж разреженную предыдущим геноцидом стаю от гнева, копившегося десятилетиями и вскоре выплеснувшегося в чеченских горах. И навязчивый бред ваххабитов о том, что войну на Северном Кавказе спровоцировал израильский Мосад, есть эхо негодования на ту вакансию врага, что была им уготована нашим предусмотрительным бегством.
Но всякому ли бесприютному провинциалу дано сотрясать столицу проповедью грядущего? Притчи прозорливца, лишенные нравственной завязи, вяли, не успев дохнуть ароматом. То же происходило и с моими попытками закрепиться в Москве. Шестнадцати лет, собираясь туда впервые, я слег от «свинки» — самой некошерной из хворей юности. Так небеса пытались напомнить мне о непреложности заповедей в сонме двуногих! Б-га я не знал, хотя в ранних вещах имя это мелькало как часть антуража. Страна порицала веру — семью захватила стремнина — ко дну же пошел я один.
Год спустя мне все же удалось добраться до своей Мекки. Остановился я у потешной глухой двоюродной бабки. Броня Абрамовна весь век долдонила с кафедры марксизм, стеллажи ее дома тянуло блевать от косноязычных томов Шестипалого. С райкомовским задором улизнув от Петлюры, она притаилась за русским мужем: уф! — кажись, пронесло… Погромы пережить не довелось, а вот мужа — увы. В кресле покойного, перед рябящим экраном, ныне восседал костлявый Штрайх с Молдаванки.
— Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас в основном делаете? — липла телеведущая к записному герою-любовнику.
— Что, что — живет с женой! — опережая кинозвезду, ввинчивал реплику орденоносный вертухай.
— Изя, заткнись!!! — разъяренно шипела Броня, по губам догадавшаяся о произнесенной гадости.
Узнав, что я жажду литературной славы, Штрайх сосредоточенно наморщил лоб:
— В свое время я конвоировал писателя Льва Кассиля. Надо бы прозондировать: или еще жив курилка…
От протекции я деликатно отказался.
— Через почему? — недоумевал мой благодетель.
В пригородной Балашихе справлял затянувшийся медовый месяц мой минский знакомый Юра Эбер — страстный библиофил, эпигон Хлебникова. Старше лет на шесть, он был первым в моей жизни служителем Муз. Стройный, одически курчавый, Юра редко рассуждал про спондей с пиррихием — зато альковными побывальщинами потчевал щедро. Благодаря его энтузиазму я, девятиклассник, дебютировал с чтением виршей в подвале фехтовальщиков (предпосылка к будущему гамлетизму?..)
Я набрал номер — и он, бойкий баловень судьбы, охотно принял на себя роль чичероне, маршрутно упирая на лотки букинистов. Заночевать пригласил к себе. Филологиня Люда Самсонова, его избранница, была со мной не менее лучезарна. Мы до полуночи дулись в «Монопольку» — популярное тогда лото. Через пару дней Эбер позвонил, но меня не застал.
— Тебя разыскивал какой-то Эдер. Он что, турок? — Израиль Борисыч не говорил, а гаркал: ему ведь приходилось общаться с глухой.
— Будь осмотгителен с этой сионистской мгазью! — в экстремальных ситуациях у партийной клуши прорезался бдительный слух.
Коли уж я обмолвился о той нашей совместной читке, поведаю еще одну историю.
В клубе, увешанном рапирами, захламленном тренажерными причиндалами, собрались Юрины ровесники — богемствующие минские евреи (в их среду я был допущен примерно тогда же). Поочередно выходя на сцену, мы заливались жаворонками.
— С ума сошел — Константин Батюшков. / Повесился — Франсуа Вийон… / Батюшки! / Да это же он! — сжатым горлом выкликал выпускник института народного хозяйства.
— Тоскливо — хоть в окошко выкинься! / Печальный том — как изумруд. / В туманных переулках Диккенса / Мои мечтания умрут!.. — вторил ему ученик средней школы с техническим уклоном.
Под занавес из зала поступил вопрос:
— Ну, Эбер — понятно: светило отечественной статистики; а вот вы, юноша, чем намерены зарабатывать на хлеб?
Застигнутый врасплох, я разродился невнятицей: надеюсь, мол, узреть Поэзию принцессой мироздания… Социальный контраст сбил меня с панталыку: завтра — ужасался я — опять очутишься за партой, и в тебя полетят скомканные промокашки недорослей!..
— Видали парня? Тушите свет! — шушукался Юра. — Его надо подольше мариновать в собственном соку!
Анка Черткова с местного TV, внучка малахольного футуриста Крученых, приблизилась ко мне доверительно, с жалостью:
— Гришенька, ты, верно, и сам догадываешься, что твоя мечта неосуществима…
Выйдя на воздух, она обомлела:
— Вечер-то какой роскошный!
Майский пух щекотал ноздри. Купив полусухого, мы направились к Эберу. И тут наследница будетлянского «дыл бул щир» как заквохчет:
— Ой! Мальчики! Вон тот филер! Я его подметила еще в подвале. По виду — вылитый внештатник!
Нацепив на нос окуляры, утаиваемые из страха опростить свой надмирный имидж, я узнал отца, тенью следовавшего за нами.
— Зачем же стыдиться собственного папы? — с облегчением дулась Анка, дрожавшая за редакторское место.
Откуда ж было знать, что он вызовется охранять меня от совратителей…
Отец, и на этой стезе ты не преуспел! Там — в междуречье Оки и Волги, вдали от твоего пригляда — я пустился во все тяжкие: провозгласив, что художнику нипочем любые скрижали. С младых ногтей неподотчетный Незримому Оку, слезившемуся от моего лукового горя, я добровольным страстотерпцем затверживал аксиому расплаты. Лишь души, изначально осязавшие заоблачную слежку, избегли очистительного брожения в реторте греха!..
Первое, что я вытворил, оказавшись в Москве: слямзил кунью шапку в Театре миниатюр. Проник внутрь со служебного входа, когда вахтер отлучился. Крадучись троллем, застыл у таблички: «Карцев и Ильченко». Подобно прочим дурошлепам, я обожал их интермедии, но на дворе мело, а щеголять в ощипанном треухе мнилось зазорным… Нет, не так. Я ведь заранее не знал, что, пробравшись в гримерную, стибрю именно головной убор. Ведомый авантюрным наитием, я попросту взалкал адреналина. Сунув за пазуху трофей, на цыпочках двинулся к выходу. Но старый цербер уже успел справить нужду:
— Отвечай, кто таков? Как сюда проник?
— Я… я… п-приносил пьесу…
Знатный фортель, ничего не скажешь! Выручил пластикатовый пакет с изображением гнусавого певца Боярского. Прощупав его, он меня отпустил. Так я неожиданно стал драматургом.
Под Новый год к персональной пенсионерке на «Лермонтовскую» ввалилась толпа детей, внуков и парта агиноса. Атмосферу маскарада окончательно привнес некто, бодро тряхнувший мою кисть:
— Арбенин.
Младшая дочь вела научную программу на Шаболовке. Лида (так старомодно звали ее) отнеслась ко мне приветливей Зари из «Большой Советской Энциклопедии»: она была разведена — и участок мозга, отвечающий за альтруизм, не пожрала тля обывательщины.
— Боюсь, ты очень скоро будешь разочарован в так называемой творческой интеллигенции! — с самого начала предрекла мне глазастая тетка.
Отношения с ней я поддерживал вплоть до эмиграции. Лида знала обеих моих жен, даже пировала на первой из свадеб, и — как впоследствии признавалась нам с Эстой — облик Анастасии ее ужаснул:
— Я и не подозревала, что в белокаменной водятся подобные экземпляры!
И зачем только (при ее-то прямолинейности!) она смолчала тогда, под заздравщины в позднекупеческом стиле?.. (Более всех ее шокировал Степанцов — заявившийся без цветов, без приглашения и нагло всучивший мне Есенина на немецком: «Ну до чего прожженный тип! Я почувствовала себя девочкой рядом с ним!..»)
Впрочем, самой Лиде не повезло и со второй попытки. Летом, после дембеля, потчуя ее нового избранника раздобытой у камчадалов чавычьей икрой, я удостоился мелкозубой гримаски:
— Малость пересолена! — заметил дегустатор.
Услыхав, что я учусь у Винокурова, бывший дипломат зачарованно процокал:
— Кто бы мог подумать, что такому лентяю, как Женька, когда-нибудь поручат вести литературный семинар!
Года через полтора мы столкнулись в забегаловке, где он глушил крепленое марочное сам-друг. Мне не налил, зато подмигнул задорно: что, мол, слышно?
— Да вот — с женой расплевались, в клоповник возвращаюсь!
Замухрышка сочувственно отхлебнул. Позевывая, дернул себя за мочку:
— Неужто так крепко поругались?
Наивный, я углубился в подробности. Тут он заерзал:
— Извини, не одолжишь ли мне червонец до завтра? Вечером верну — у памятника Пушкину.
Я опешил от его наглости и отдал последнее. Назавтра прождал его битых два часа. В рюмочной он сообщил, что Лида в командировке, что они недавно обменяли квартиру, и неосмотрительно назвал новый адрес. Рассвирепев, я ринулся на Ломоносовский проспект. Звонок с бодуна осип — я вмазал костяшками по дерматину. Переполошенный жулик оперся подбородком на цепочку:
— Ну, где ты был? Я тебя ждал-ждал!..
Отлично зная, что врет, я процедил:
— Знать, не судьба.
Он сунул в проем два пятирублевых фантика — и я не прощаясь сбежал по ступенькам. Инцидент был исчерпан, и Лида о нем не узнала. Тем паче, очень скоро посольский лис почил в бозе.
Итак, порочность в себе самом я настойчиво отграничивал от злонамеренности окружающих. Играя разом и зрителя, и главного героя, я мирволил своим выходкам — во имя завершенности эпоса дней. Всяческие лейтмотивы — сторонние миазмы — смело отсекались алебардой морали: сюжетный ствол от этого не истощался…
Третий или четвертый визит в столицу связан был с поступлением в Литинститут. Минская поэтесса Лёля Кошкина, вездеходная, как бронетранспортер, вняв мольбам, взяла меня на буксир. Этому провиденциально способствовала моя цидулка, оставленная под чернильницей в ее отсутствие. Вместо подписи, я пририсовал петлю. Графические способности просыпались во мне в зыбучую годину!.. Натерпевшись от наркота, делившего всех двуногих на «марсиан» и «немцев» («Все немцы — братья! Все марсиане — лужицы!» — звучал выспренний девиз поэта Леши Жданова), Леля приняла аскезу и лишь однажды, прильнув к моему окну, позволила себе жалостливый расслабон:
— У вас приятный райончик…
Но оба мы в равной мере рвались на северо-запад: она — как позже выяснится — чтоб забеременеть от пермяцкого самородка и устроиться корректоршей в «Кинонеделю Минска»… Вадим, перелагатель исландских саг (по неофициальным сведениям — половой гигант), приплелся проводить дочерей: ее и конопатую Сашеньку. Дыша перегаром у бочки с квасом, нараспев сознался в финансовой несостоятельности. Я охотно ссудил медяк легендарному дебоширу-полукровке — и тот, заслонив бокалом заплывший глаз, выдал мне напутственную стратегему:
— Главное в жизни — встретить женщину, согласную нас на себе тащить!
Бывший фронтовик принял за эталон жертвенность окопных сестер милосердия.
Дом Герцена, где обучали рукоделию во всех жанрах — от эпопеи до эпитафии, со зданием ГУЛАГа разделяла Большая Бронная, тишайшая улочка. Бывшему особняку славного звонаря эмиграции противополагалась грозная резиденция опричнины, в нужный момент готовая возродиться. По дворику, запруженному трансцендентными чучелами, шастал ошалелый я в сопровождении трех граций: сестриц Кошкиных и жидковолосой Овчинниковой. Минский квартет развеселил Лебедева — спеца по Тютчеву и Тредиаковскому, которому я подал верительную грамоту от его бывшего студента-заочника.
— Уверен, все пройдет без сучка, без задоринки! — одобрил выпивоха мою подборку.
Но последнее слово оставалось за Винокуровым. Одутловатый классик в неизменной бархатной двойке, похожий на нэцкэ — того самого божка, которому китайцы замазывают рисом рот, чтоб не проговорился об их прегрешениях, — поспешно кивнул с порога приемной комиссии: жду вас во вторник. Марранская пугливость читалась в его повадках. Придя чуть раньше, мы примостились с краешка. Кроме нашей стайки, на семинар приперся ражий комбайнер. Плановое обсуждение тянулось до бесконечности. Наконец, наш конкурент вскочил и без спроса, плюя на регламент, заголосил хорей про урожай. Студенты попадали.
— Это вами не прочувствовано! — отшил пахаря Винокуров.
— Как так?! — вздыбился певец всесоюзной житницы. — А ваши многозначительные поэзы о войне — они, что ли, прочувствованны?
Но свой раунд чудила проиграл. В пику зарвавшемуся наглецу, мэтр огулом пригрел нас троих. Овчинникова (муж-оформитель обещал оплачивать ей челночные поездки) просилась на заочный, Леля — на дневной.
— Вас бы я, пожалуй, взял… — пухлой ладошкой покрутил в воздухе костяной божок и вопросительно глянул на меня.
Кто-то накануне втемяшил мне, будто без трудового стажа на стационар ни в жисть не пролезть. Потому я и залепетал про заочное.
— Будь вы москвич — я не видел бы препятствий, — развел руками почетный член Гонкуровской академии, — а так… Могу предложить только дневное…
— Он хочет, хочет, Евгений Михайлович! Просто ни черта в этом не фурычит! — затараторила Кошкина, взваливая меня на закорки: весталка санчасти средь ухающих фугасов.
— Вот и замечательно! — подытожил мастер, явно удовлетворенный столь лапидарным объяснением.
Фиктивную справку — якобы два года я спасал утопающих на лодочной станции — мне без особых проблем добудет отец.
Винокурова нам присоветовал нимфчанин Ян Пробштейн, заядлый теннисист, перелагатель Элиота. Он же и приютил временно нашу разношерстную команду. Жена его, сексапильная татарская дива, была на голову выше суженого. Ян, пыхтевший культуртрегером при родном домоуправлении, обладал увесистой связкой ключей и потому разместил землячек в одной из пустовавших хрущоб. Я же остался на оттоманке в его крохотной гостиной. Сдается мне, хозяин на ночь умышленно приотворял дверь из спальни: отзвучия супружеских ночных кувырканий барочно обрамляли его гордое переводческое «эго»[1]…
Но и я не отставал: на глазах у Лели закрутил роман с Сашенькой. Мешковатый флирт уныло дотлевал в Минске. Возвратясь туда в подвешенном состоянии, я зыбил веслами поверхность, словно размешивая сахарные облака в чайной пиале Заславльского водохранилища. Глупышка втюрилась до такой степени, что решилась угостить меня ростбифом в ресторане «Потсдам». Там-то я и лишился джентльменского звания! Впрочем, она, вслед за старшей сестрой, вполне конкретно облюбовала мой «приятный райончик»… Отца, Вадима, Сашенька решительно не понимала, осуждала за регулярные попойки и болтовню об искусстве. Последняя наша встреча состоится через год, в поезде «Минск-Москва»: она выучит чешский и устроится экскурсоводом.
Однако вернемся к Яну. Рифмы мои он удостоил похвал, но — дабы я чересчур не заносился — пястью приплюснул щенячье самомнение:
— Спокойно!
И отвел нас на семинар к Козловскому, где состоял старостой, хоть и держал при этом фигу в кармане. Об омонимических сальто поводыря Гамзатова я был осведомлен лучше моих спутниц. Еще отроком отправил ему письмецо: мол, от обложки «Созвездия близнецов» стеллаж в моей комнате порозовел… (Воображаю, как он расчувствовался!) В постскриптуме я указал пикантную подробность: «Знайте же, что нас с Вами, помимо страсти к точным рифмам, роднит еще кое-что…» Верх кретинизма — подогревать в своей юной душе инстинкт мафиозности, понятия не имея о том, что справочник Союза писателей по швам трещит от еврейских фамилий!
Естественно, Яков Абрамович выплыл ко мне в порфире базилевса, посулил замолвить словцо проректору («Сидоров наполовину то же, что и вы!» — прибегнул он в свою очередь к игривому иносказанию). В палестре его сиживали Санчук и Веденяпин — меня, серой мышки, должно быть, не приметившие. Какая-то заторможенная еврейская дама в повойнике презентовала анемичную брошюрку. Какой-то разухабистый соловей-разбойник в пух и прах разнес ее ламентации.
— Что вы гоношитесь, люди живут по-разному… — вяло отбивалась от его нападок поэтесса.
— Ох, уж эти графоманы! — заговорщицки подмигнул Козловский, наскоро соображая мне рекомендацию, когда все разошлись.
Имел ли он в виду своего визави, участников ли заседания, или себя любимого — кто теперь ответит?
Впоследствии я натыкался на него в коридоре «Юности».
— Больно уж этот Коркия похож на бердичевского грузина! — ворчал живчик, досадуя на отсрочку публикации.
Умер Арсений Тарковский — и на панихиде, в Большом зале ЦДЛ, Яков Абрамович вальяжно переминался на сцене. Ораторствуя, Лев Озеров затронул тему нравственного неприятия усопшим избыточно пестрых рифм: «Не высоко я ставлю силу эту…» Козловский — я уловил! — в эту секунду недоуменно поморщился.
Дрянное дело развенчивать благодетелей, но ничего не попишешь: истина дышит в затылок.
Зато о Владимире Микушевиче худого слова не скажу: не человек — скала интеллектуализма!
Ян, скучавший на съемной даче, предложил меня и тамбовца Попова понатаскать по английскому. К тому времени я успел смотаться в Нимфск и, дождавшись вызова на экзамены, поселился в общежитии на Добролюбова. Мы потели над головоломкой спряжений, когда в беседку втиснулся великан с растрепанной гномьей бородой. По его просьбе абитуриенты прочли по стихотворению. Рыжего словоблуда Микушевич сходу раздраконил, меня ж, наоборот, приголубил:
— Совсем другой коленкор!
Затем, самозабвенно протрубив свое, попенял: Винокуров затирает его в «Новом мире». Говорил он зычно — и в сонме не стесняясь природной громогласности. Платон, Магомет, Леонардо, Кришна, — казалось, в вестибюль писательского дома забрел заблудившийся пифагореец.
Увалень в быту, Микушевич всецело полагался на практицизм супруги. «Как с полки жизнь мою достала — и пыль обдула…» — эти строки неустанно цитировал, примеряя образ к собственной судьбе (лишь порядок строф наивно норовил перепастерначить).
В Ялте он часами излагал собравшимся идею культурологической книги, которая объяла бы весь мир, всю историю. Ребячески ощупывал в чеховском саду ультрамариновые бусины японских яблок. От него я и заражусь страстью к анаграммам — затмившей впоследствии мой нестойкий разум…
Но это произойдет гораздо позже. Пока ж — электричка нудно ползла из пригорода: я расписывал тамбовцу Попову ксенофобию, царившую в малограмотной Белоруссии.
— Ты не думай, я знаю! — в меру понятливости утешил он. — Во дворе у нас жила одна узбекская семья: царство им небесное!..
Одно слово, чудной парень. По возвращении из армии я узнал, что он костерит меня по сусекам: «Напрасно якшаетесь с Марговским: он — жид, а я к жидам непримирим!» При этом — я слышал собственными ушами — Рыжий уламывал своего тезку Сашу Карабчиевского прислать ему гостевой вызов из Израиля.
Самого печального я не досказал. В весенний свой визит, живя у Яна, я сознавал, что стесняю молодую чету. Собственно, и сам Пробштейн не утруждал себя эвфемизмами. Цель приезда была достигнута, но даты на обратном билете не переправишь.
И я позвонил в Балашиху. Жена Эбера мне явно обрадовалась. Полгода, как они разбежались. Она жила с матерью, защитив диплом и притулясь библиотекарем в Ленинке…
— Приезжай!
Но я колебался. Нежелание побираться у родственников пересилило. Она потянула меня в Измайловский парк. В ней все клокотало. Юра такой, Юра сякой! Он оказался полнейшей бездарью! Расставаясь с ней — так дотошно делил их общую библиотеку! Мешки под глазами усугубляли ее физиономическое сходство с Крупской. Я молчал, как пень.
— Мне ведь, на самом деле, с тобой очень плохо, Гриша! — поежилась Люда рядом на скамейке.
Смеркалось. Пора на боковую. Мы поехали к ней. Постелила мне в комнатенке, доверху забитой мужниными книгами.
Ночью ее маму увезла неотложка.
— Можешь поверить, я не сомкнула глаз! — простонала филологиня, опускаясь на край моей раскладушки.
Распахнутый халатик предъявил снулые груди. Сердце ушло в пятки, я привлек ее к себе. «Крупская» сообразительно юркнула под одеяло.
Мысль, что я совершаю предательство, точила меня — остужая вожделение. Хозяйка имитировала пыл, но как-то тупо. От замужней дамы я ожидал большей искушенности.
Наконец — отчаявшись — принялся натягивать носки.
— Ломаешь комедь лишь из-за того, что тебя недостаточно ублажили? — суровым судией надвинулась она.
— Люда! Окстись! Кто знал, что ты станешь меня домогаться?..
— Так, стало быть, тебя домогались?! — притворно ахнула она.
Но я уже на скаку громыхал чемоданом о перила…
7
Увы! Теперь-то я знал окончательно и бесповоротно: любые два этноса, в той или иной степени взаимодействуя, соприкасаясь друг с другом, даже в самую вегетарианскую из эпох не прерывают беспощадной войны на истребление. И наиболее миролюбивые эпизоды этой бойни скрывают свой кровожадный характер под двумя личинами: идеологии и демографии.
Взять, к примеру, Священную Римскую империю германской нации. Пародийное это образование, с одной стороны, подвергало итальянский народ габбсбургскому политическому гнету (как будто мало было древним римлянам нашествия вестготов!), с другой же — распространяло духовное влияние римских понтификов на достаточно еще тяготеющих к язычеству германцев. Именно этим ретроспективно и объясняются два таких исторических явления, как длительная и упорная борьба итальянских городов-коммун против власти германских императоров и последующее противостояние Ватикану мятежного августинского монаха и его последователей.
Судите сами: в доме Харитоновых, куда я угодил с бухты-барахты (чтобы не сказать — с корабля на бал), ныне растет разбитная девчушка по имени Марианна. Вот уже много лет как дочь для меня отрезанный ломоть. Утешает одно: Настя, ее мать, вынуждена теперь бесповоротно порвать со своим инфантильным великодержавным шовинизмом!..
Конечно же, и симбиоз двух стихотворцев был обречен с первой минуты. Но она так трогательно проскулила на шапошном разборе, в конце моего семинарского обсуждения:
— Мовно почитать вафы стихи? — медвежонком переваливаясь и силясь развести сросшиеся бровки…
В младенчестве ей забыли подрезать «уздечку»: язык не высовывался даже и на приеме у отоларинголога. Эх, а еще члены творческих союзов! Роман Федорович — ответственный секретарь театрального журнала, Тамара Александровна — автор брежневской агитки под названием «Все сбудется»!..
Само собой, из-за цейтнота я не осилил панегирика Байкало-Амурской магистрали, состряпанного дочерью сталинского военного атташе при Ким Ир Сене. Тамара Александровна, моя теща, и впрямь чем-то походила на кореянку…
Настин отец, родом из воронежского села и потому совершенно без связей, чем болтаться по столице с экстравагантным литинститутским дипломом, решил завербоваться в тайгу простым путейцем и там поднялся аж до начальника перегона. Человек бывалый, с дубленой шкурой (шесть лет ГУЛАГа — он проходил по одному делу со своим земляком Анатолием Жигулиным), Роман Федорович мигом смекнул, что трудовая мозоль служит универсальным пропуском в министерский спецраспределитель. Да и теща, вне сомнений, взялась за книгу очерков лишь попутно: в Сибирь она летала главным образом для того, чтобы возвернуть мужа, заманить его обратно, в бывший особняк купца Рябушинского…
Допускаю: с ясновельможной родней, справедливо подозревавшей воронежского растиньяка в сухом расчете, Харитонов не шибко ладил, да и мечта сделаться одним из замов Демичева (впоследствии, кстати, осуществившаяся) снедала его жадное мужицкое нутро.
Допускаю: избалованная полковничья дочь слонялась по дому в рваных колготках и линялых буклях, ибо знала, что все одно — стоит ей с дочерью отбыть на лето в Дубулты, в Дом творчества, — как седовласый селадон, бесцеремонно выставив меня за порог, натянет алые плавки и запустит в вольер фигуристых лярв.
Допускаю, что и Настя, выросшая в неблагополучной семье, чаяла всего-навсего улучшить породу — наживляя на крючок трехкомнатную приманку с двумя сортирами, на которую когда-то уже клюнул ее собственный батяня…
Но зачем же тогда всякий раз теща била себя пяткой в грудь:
— Мы, шестидесятники, все как один полегли на поле брани!
Или — того лучше:
— Мы, Илатовские, всегда верой и правдой служили Государству Российскому!
Она ведь догадывалась, что выплески шляхетского чванства, нацеленные в меня, рикошетом задевают и деревенщину мужа, полдюжины зим промахавшего кайлом на мерзлой Колыме!
И отчего тогда тесть, в прихожей подвесивший боксерскую грушу, всякий раз ковылял размяться, едва улавливал наши с Настей дебаты о Пастернаке и Бродском: неужто он, пудовыми кулаками снискавший признание самого Кольки Рубцова, своего приснопамятного соседа по общаге, и в самом деле мнил себя магистром стиховедения, эдаким Михаилом Гаспаровым номер два?!
Наконец, для чего же и сама Настя, по отцовской линии на одну восьмую гречанка, жгучая брюнетка, не выговаривавшая доброй половины согласных, злобно посверкивая глазами в угол, куда я забился, неизменно демонстрировала толерантность, столь присущую русской писательской интеллигенции:
— Не люблю евгеев — но и убивать их на улице никому не позволю!
Разве не отдавала она себе отчета в том, кто из нас двоих падет первой жертвой этого гипотетического погрома?..
Тесть потирал руки:
— Характер у нее мой!
Спрашивается, чему он так радовался? Наметившейся для него уже тогда перспективе на склоне лет подменять отца собственной внучке? Или же он торжествовал по поводу той возможности остаться одной, которой его дочь, надо признать, воспользовалась на все сто процентов?![2]
— Гыдай, Гыдай! — утешала меня жена, на ночь глядя облевав свою и мою наволочку (как всякий сермяжный гений земли русской, она культивировала в себе крутость). — Это ведь ваш национальный жанг, не пгавда ли? Плач Иегемии, Плач Давида…
Как-то Настя подобрала на Тверском листовку «Памяти».
— Читаешь и невольно начинаешь этому вегить! — провозгласила она. — А что, если это и впгямь был заговог? Смотги, папа: сгеди нагкомов их было аж согок пгоцентов!
— Поддаешься черносотенной пропаганде! — невнятно пожурил ее Роман Федорович, доставивший нас к подъезду театра МГУ на только что выигранном им в спортлото «Москвиче».
Мы томились в дверях, поджидая Славутина — шустрого еврейского режиссера, спустя полгода поставившего спектакль по ее пьесе «Радуйся!» (взамен Харитонов-старший обещал ему хвалебную статейку в «Театральной жизни»)…
Радуйся, Настена! — кажется, так звала тебя очеркистка в рваных колготках, — ты сама теперь уже часть гигантского заговора, опутавшего планету паутиной тайных сделок! Неотъемлемый компонент греко-польско-иудомасонского нашествия на Русь — рельсы для коего рихтовали мы с твоим батяней, дабы нелегкий, но радостный труд путейца воспела твоя пафосная маман! Помню, она по обыкновению приняла твою сторону — Мандельштам-де записал по-настоящему, когда его жизнь загнала в угол: «Чужие люди, верно, знают, куда везут они меня…» — «Это раннее, мама!» — недовольно скривилась ты. И уличенная в невежестве кудреватая курица смущенно юркнула на кухню.
Какое бездушие, Анастасия! Вы, верно, знали, куда везете меня в дармовой колымаге — примака, продажного, как и тот, что за рулем: ведь обоим деваться было абсолютно некуда! Но знал и я, всеми фибрами чуял: «Москвич» послан ему свыше за то, что он — предвидя разрыв зятя с дочерью — безропотно принял на себя заботы о малышке Ане…
Что и говорить, не об этом я мечтал! Но так сложилось, карта так легла.
После отбоя, сдав наряд по штабу, я прокрался в кабинет зампотеха. Дверь отомкнул еще до пересменки. Ищейка Шавель дрых дома — но поджилки тряслись, пока я наверчивал матовый диск.
— Алло, Машка?
— А, Стрижик? Привет!.. — Еще в Москве она окрестила меня пугливой птахой.
К услугам бригадной связи я прибегал нечасто, но в интонации сразу распознал подвох. В принципе, ничего из ряда вон не произошло: третьекурсница факультета журналистики объявляла о своем намерении выйти замуж за физматовского дипломника. Полтора года свирельных грез накрыло литаврами единого мига. Я пожелал ей рая в шалаше. Она чирикнула: «Прости!» — и перепорхнула из-за окружной дороги поближе к Садовому кольцу.
Кто из нас птичка, Маша?.. Житье с Димой не заладится: в совместной жизни он проявит себя садистом — то ли вымещая собственные комплексы, то ли вообще имея ряд претензий к нашему с тобой ретивому генотипу. Выйдя на гражданку через психбольницу, я женюсь — как бросаются головой в омут. Нужна ли миру эта слоеная жертва? Эта разъятая надвое прищепка еврейской парочки — природой призванная закусить краешек полотняных детских трусиков?..
Еще как нужна, профетически необходима! Ибо ассимиляция закрепляет народ на ветру что та прищепка: порождая сочувствие к поющим Лазаря бродягам и невзначай зачиная гениальных чудаков-полукровок. А ежели от этого кому дискомфортно — так ведь не бывает пасхи без крестного пути!
Я обмяк за дубовым столом в кальсонах. Судьбоносные минуты вечно застают в неглиже. Там, в Москве, на втором этаже главного сборного пункта, с нас тогда тоже содрали одежу. Маша — чьих обкусанных губ я прощально коснулся — с запрокинутой головой замерла у турникета. Стеклобетонный просвет явил ей мои порабощенные мощи, проходящие медосмотр под перекрестным матом цепных дембелей. И как бы ежик затылка впредь ни уповал на пилотку-невидимку — нагота души не уставала навлекать нагоняи…
На этот раз я даже не ощутил мурашек. Накануне у меня вышла драка с Тяном. Пахомов и Бобер натравливали коротышку — и в итоге тот активно стал нарываться. Я заехал ему подошвой в ключицу прямо на вечерней поверке. Из строя кореец потащил меня в гладильню. Главное — я сознавал — зажать его, не дать прыгнуть. Скрученный в бараний рог каратист люто хрипел. Обступившие нас бойцы ржали. Но он все же вывернулся: вскочил на тумбочку и, схватив утюг, ринулся на меня. И снова Нестеренко пришел на выручку — бросив на кон собственную репутацию: ибо один звероподобный чеченец, из прикомандированных, едва не вписался за прыткого пигмея…
В пылких своих эпистолах из учебного полка я, пожалуй, чуть перебарщивал с чувственными абстракциями. Иные из них могли показаться Маше утопией в духе Кампанеллы. Прописать журавля у себя в Перловке либо самой поудобней разместиться в элитарном синичнике — вот дилемма, разрывавшая сердце моей возлюбленной. Кличка «Стриж» оказалась орнитологической ошибкой.
— Что вы здесь делаете? — шагнул во мрак переведенный к нам из Монголии плечистый офицер, с вечера заступивший дежурным по штабу.
Барахло его намедни я перевозил на съемную квартиру. В день переезда он держался накоротке, жена угощала солдат сардельками с гречкой. Теперь же — ничего такого. На мой смущенный лепет о любовном фиаско он меченосцем проскрежетал:
— Пока идите спать. Завтра разберемся!
И сквозь зубы резюмировал:
— Ты, щенок, еще службы не нюхал!
Утром, вызванный на ковер, я готовился к разносу, но случившееся превзошло все ожидания.
— Так на какую разведку вы работаете? На израильскую? Американскую? — взял быка за рога многомудрый Гавриленко.
— Товарищ полковник, в том, что касается моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, я был и остаюсь честным человеком! — не растерялся допрашиваемый.
— Наглец! — завизжал зампотех, взбешенный тем, что голыми руками меня не взять. — Воспользоваться аппаратом начальства в частных целях — раньше за такое к стенке ставили! Погоди: мы сгноим тебя на губе, а что останется — отправим в дисбат!
В глазах моих потемнело: finita la comedia…
Но то была лишь интродукция. Невольно всплыл опыт диспансера — где я валялся, отсеянный с третьего курса. Тамошний главврач, дряблая ведьма, чье сотрудничество с гестапо КГБ загримировал под партизанщину — втянув ее за это в свои беззакония, накладывала вето на легкие диагнозы евреям. Но мне, от армии не косившему, белый билет был ни к чему: вот я и корчил из последних сил психостеника, подражая симптомам всамделишных больных…
— Язык проглотил? К тебе обращаюсь! — таращился аспид, но я оставался нем.
Хранил безмолвие и в тряском «козлике», предоставленном (а что как в натуре свихнулся?!) не на шутку сдрейфившим зампотехом. И в приемном покое «Новинок» — заведения куда более серьезного, чем неврологический «дома отдыха» на Бехтерева…
Военврач Терентьев выглядел устало. Попросил на бумаге изложить квинтэссенцию. Я поведал ему о Стриже, мертвой петлей баламутившем тополиную заметь Тверского…
— Вот вы пишете, что летали по бульвару. Это как же следует понимать — метафорически?
«Ну, да — метафорически…» — уныло накарябал я.
— Уф, молодой человек! — выпустил пары военврач. — Ваше счастье, что за эти сутки я покемарил часа два.
Командира роты Крупко, караулившего за дверью, призвали в свидетели парадного исцеления. До его появления был расписан сценарий:
— Я жму на особые точки — вы издаете нечленораздельные звуки.
Японская гимнастика по восстановлению речи пародировала самосуд, учиненный ревнивым венецианским мавром.
— Ма-ма мы-ла ра-му, — перебирал я в памяти букварь, — мы не ра-бы!
Режиссер хмурился: смотри, не переусердствуй! Я утаил от психиатра, что и сам неоднократно наступал на горло собственной песне. Наконец, сеанс увенчался триумфом самурайской науки. Крупко просиял:
— Запомни хотя бы имя того, кто тебя вылечил!
Я растроганно поблагодарил смущенного знахаря. Допетрил ли ротный, что его обмишулили? Если да — он лицедей не чета нам обоим! А имя доктора мне и впрямь пригодилось в будущем.
Ненадолго меня оставили в покое: зашли у варнака шарики за ролики… Тем паче, управлению сосватали нового замполита. Сервачинский из Абакана был статен, усат, вальяжно рассудителен: недоставало бурки. Панские черты настораживали гайдуков-полковников, доселе бесконтрольно полосовавших бригаду. Начштаба Ефименко — беспардонный жирный боров, разевавший хайло даже на штатскую библиотекаршу, выжидательно затих.
Я редко листал газеты, а на просмотре новостей «дедушки» лупили нас звездочками пилоток по затылку — что изрядно мешало собраться с мыслями. Но при всем тогдашнем аутизме, в чехарде генсеков-однодневок я не видел доброго предзнаменования. Заодно с долгожительством вождей выдыхалась и вся советская империя. Брежнев, Андропов, Черненко: три погребальных процессии кряду — многоточие, после которого Горбачеву только и оставалось разводить руками…
Кто-то доложил о рядовом-корреспонденте. Сервачинский вызвал — я явился во флигель.
— Гриша (можно, буду на «ты»?), я слышал, ты поэт. Хотелось бы почитать.
На этом языке ко мне давно никто не обращался. Я принес накопившееся за год. «Шатровый бархат над пчелиным полем,/ Глубокая, как Волга, нищета/ И мехом одуванчиков собольим/ Оплаченные майские счета…» Литинститутская любовница Бабушкина подарила мне Мандельштама — по-русски и по-немецки. Томик, хранимый в нагрудном кармашке, не раз амортизировал удары кулаком в сердце.
— Пчелиное поле! Где ты такое видал? — изгалялся надо мной в полку какой-то рыжий пасечник из глубинки, и слыхом не слыхавший про «небо козье» и «воробьиную ночь» зоркого акмеиста…
— Только восемь нормальных строк из всего вороха писанины! — с раздражением констатировал мой златопогонный меценат, проведя ладонью по своей вспотевшей полковничьей лысине.
Нуждаясь в покровительстве, я прикинулся паинькой, несмышленышем.
— Ну, ладно, — смягчился Сервачинский, — для начала откомандируем тебя в окружное лито. Наберешься опыта — засядешь за гимн бригады. А отправки в батальон не бойся: в обиду не дадим!
Экое искушение — вырваться из ненавистного узилища! Увольнительных почти не давали: к тебе, мол, и без того шастают что ни день. Я робко семенил в асфальтового цвета шинели: словно маскируясь от родного города. Вон там — с аркой — дом красноносого репетитора. От него несло щами, когда мы погружались в дифференциалы. Итоговый урок состоялся в сосновом предместье. Повторяя пройденное, мы размеренно вминали в тягучесть песчаного свитка клинопись палой хвои.
— Что, запамятовал формулу?
Я путано пробубнил.
— То-то! — остановился, как вкопанный, Иван Матвеевич. — Обрати внимание: нет чтоб отойти в кустики — кладут прямо на тропке!..
Он был папин коллега по суворовскому училищу. Летний коттедж рассеянного математика синел неподалеку от спортивного лагеря, где мы с отцом занимали отдельный домик. Директорский выкормыш — я свысока озирал поджарых атлетов, плотвой отдувавшихся на беговой дорожке. В отличие от них, мне вечерами не возбранялась танцплощадка пансионата.
Корабликом держа в руках раскрытый аттестат, я беззаботно высвистывал команду «пятерок» в матросских бескозырках. Но и проклятая графа тоже была пятой: соваться на местный филфак боязно, а Москва — та за семью печатями…
Мама, строительный технолог, вяло присоветовала свою специальность. Гори оно гаром — какая, к лешему, разница: главное, там есть военная кафедра! Я без лишней мороки поступил в Политех — и под угловатое танго затеял сразу два параллельных романа. На опушке с Эллой откупорил шампанское первого поцелуя. Какого-то рожна она представилась Наташей. Увертки я не спустил: подкинул ей в окно подбитого галчонка с биркой на лапке: «Птенца звать Эллой. Ест все подряд, кроме ржавых гвоздей и прошлогоднего снега…» Напуганная врушка примчалась извиняться.
Для наших ласк мы облюбовали занозистую лавчонку на косогоре. Дачники, собиравшие землянику, принимали нас за брата и сестру… Совесть мою затмил распаленный инстинкт. Я заманил ее в наш теремок, припася в шифоньере выменянный у пятиборцев презерватив. В сумраке выдвинул ящик и загробным голосом произнес:
— Тебе известно, что это такое?
— Да… — шепнула она, ощутив мороз по коже; и уткнулась в подушку, горестно зарыдав.
И тут — застыв перед ней на коленях, внезапно, сам того не желая — я повторил подвиг Павлика Морозова!
— Я нашел это у папы… — безбожно врал горе-совратитель. — Понимаешь: он тайно изменяет матери!..
— Бедненький! — Элла пригладила мои вихры и мгновенно простила.
Впоследствии, у себя, в завокзальной избушке, учащаяся торгового техникума уже куда невозмутимей отбивала атаки сластолюбца: прозрачно намекая на добрачную целомудренность.
Обручаться я не думал ни с ней, ни с Таней Рубинчук — на чью клубничную грядку повадился тем же летом. Таня ныряла с подоконника ко мне в объятия; шайка еврейских полуночников отправлялась жечь костер в бору. Я завидовал их курчавому кучкованию — тоскуя по киевскому участку, на котором не появлялся лет с тринадцати.
Подружке моей, минчанке в энном поколении, все само плыло в руки. Рубинчуками Рубинчики зарегистрировались, возвратясь на Немигу из эвакуации. Суффиксальная мимикрия не имела смысла при их красноречивой внешности. Полагаю, черты мои — не столь типичные — особо вдохновляли Таню, мечтавшую вписаться в вираж социального дарвинизма с минимальным ущербом для национального самосознания. Пойди я у нее на поводу — потомству нашему несдобровать: эффект оказался бы еще смехотворней, чем замена одной буквы в фамилии…
Каких только фортелей я не откалывал, лишь бы — отплясывая с одной — не столкнуться носом к носу с другой чаровницей! Потребность в ухищрениях отпала осенью: в городе двурушничать было безопасней. Назначая Тане свидание, я предупредительно справлялся:
— Еще не выскочила?
— Ты же знаешь: только за тебя! — затверженно отзывалась она.
Элла трезвонила мне сама и дышала в трубку, что удручало тетю Тамару, опасавшуюся вирусной инфекции.
Попеременно я приглашал их к себе. Шипели пластинки с эстрадными шлягерами, под которые мы давеча вальсировали на зашарканном пятачке. Обескровленный Святой Себастьян, утыканный стрелами, как дикобраз, созерцал с репродукции тщету моих домогательств…
Затем я провожал их нескончаемым проспектом. Мы задерживались в парке напротив площади, где по праздникам гремели тромбоны и тубы парадов…
И вот, ныне, серый, как брусчатка, я скользил потупившись меж этим парком и этой площадью!
Аркадий Копилов, ощущая себя боцманом в кубрике бумагомарак при Доме офицеров, не скрывал, что банка шпрот родней ему и доступней теоретических выкладок Буало. Цепкий «аид» и не набивался ко мне в менторы — узнав, что сама Аза Алибековна Тахо-Годи, вдова философа Лосева, читала нам «Иллиаду» в своей олимпийской манере. Просто тиснул в окружном листке сварганенный мной наскоро сонет «Аллея памяти», посвященный павшим героям Отечественной.
Предыдущий раз к этой теме я обращался в восьмилетнем возрасте: «Жили на свете два брата-солдата./ Правду сказать — неплохие ребята./ Жизнь их была очень трудна./ Их в восемнадцать застала война…» Не умея сбалансировать ритм лункой цезуры, я произносил: «жизень» и в слове «была» ставил ударение на первом слоге. А взволнованная Майя Иосифовна ставила всем в пример меня — что не мешало ей через каких-нибудь пять минут ставить меня же в угол…
И смех, и грех — но впервые меня напечатали не где-нибудь, а в газете «Во славу Родины!» Хотя, что тут странного? Ведь писатель и призван творить во имя отчизны: во всяком случае — к вящей славе ее языка… Прощаясь, Копилов снабдил меня визиткой и скромно предложил свое лито как формальный повод для отлучек из части. Я не стал его разочаровывать и насилу улизнул от некоего сгорбленного Мафусаила, вопившего: «Приходите! Вы нам до зарезу нужны!»
Годом позже, путешествуя по Камчатке, я услышу, как критикесса Шульман разразится гневной тирадой об адептах, паразитирующих на фронтовой тематике. Неуклюжий Боря Колымагин спросит ее мельком: «Ощущаешь ли ты свои немецкие корни?» — Лариса отрицательно мотнет челкой. Ныне — когда она присягнула копью Одина, трепетно обзаведясь тисненым аусвайсом, — не могу не распознать в ее давнишней инвективе закипавший враждою рецидив крови.
Упоминаю о ней вовсе не с тем, чтобы обелить свое конъюнктурное па. Отец, еврей до мозга костей, внушал мне еще в Волгограде: «На этом этапе главное — выжить!» За заповедь я глубоко признателен. Публикация послужила козырем Сервачинскому — человеку пришлому, но пытавшемуся, тем не менее, оградить меня от нападок фашиствующих гиен.
Оправдан ли был мой страх периферии — или во мне шевельнулось коллективное бессознательное? Потомки пастухов и патриархов издревле селятся поближе к центру — зарубив на носу, что стадо выгрызают по краям. Та же петрушка сегодня с кавказцами. Возникновение национальных мафий в сердцевине империй — следствие, а не причина. Другой разговор, что следствие это неуклонно оборачивается расследованием по делу о расшатанном колоссе…
В роте обеспечения, под носом у заспанного начальства, неуставные отношения цвели пышным цветом. Заплечных дел мастера, дорожа уютной нишей, остерегались дробить нам кости — компенсируя амплитуду экзекуций их частотой. В Минск я прибыл под Рождество — и парадиз клубной елки голографически воссоздавал бал в дворянском собрании. Девушка, с которой мы плавно раскачивались, оказалась дальней родственницей старшины и, отмечая доброту Гергуса, увы, не пленила меня, давшего обет верности московской невесте. Я справился о ее происхождении скорей из занудства, чем с матримониальным прицелом (холодность моя к нееврейкам еще не была поколеблена Машиным демаршем). Она сослалась на цыганскую примесь. Известно, какие цыгане в Белоруссии!
Внешне танцующая напоминала чернявую Эллу — польку со стороны матери. Не знаю, как бы новая партнерша восприняла кивок на мнимое распутство отца, но Элла — та простодушно поверила напраслине, поскольку сама испила горечь родительского развода. Первая любовь не скрывала от меня, что ее судьбой мало интересуется прораб Гантман, имеющий к ее рождению самое непосредственное отношение…
Кстати, ту же фамилию носила и мило музицировавшая Леночка, которой я, первоклассник, тайно симпатизировал. В учебе мы делили пальму первенства — и чувство конкуренции, наряду с надменным бантиком пианистки, воспрепятствовало серьезному увлечению. Плоть от плоти офицерское чадо — я вздумал сколотить «армию»: ввел иерархию, предложил устав. Витя Соколовский стал моей правой рукой. Упражняясь, на счет, мы перескакивали через парапет, занимались рекогносцировкой близлежащей рощи. Сам собой встал вопрос: кто же наш супостат?
— Ясное дело — девчонки! — поддался я самому примитивному из всех сепаратистских соблазнов.
До генерального сражения не дошло: классная руководительница перехватила депешу.
— Итак, имя зачинщика? — завела она указку за спину.
Сломленный Витька указал на меня…
Я отрешился от суетности мира — ограничась выпуском стенгазеты. Сокол же, наоборот, наращивал авторитет.
Однажды он обозвал Леночку жидовкой. Не дала ли она списать контрольную, буркнула ли в ответ чересчур заносчиво — что, подчеркиваю, и вправду за ней водилось — уже и не вспомню. Важно, что никто, включая меня, его не одернул. Были еще евреи: Оля Веннер и Юра Стельмах, но в классном кондуите те писались «бел.», и только мы вдвоем с Гантман — «евр.»…
И вот — ком покатился! Ликуя от безнаказанности, колхозные байстрюки доводили свою жертву до белого каления: дергали за косички на переменах, лезвием срезали пуговицы с пальто. А я — анахоретски мусолил карикатуры на двоечников.
Наконец, бедняжка не выдержала: перевелась в другую школу. Директор Подоматько выстроил нас в учительской — грозно рыча о евреях и русских, плечом к плечу воевавших с фрицами. В подобной апологии я не нуждался, но трусостью своей поставил себя в один ряд с кухаркиными детьми.
И вот, сейчас я очнулся в ином строю — где уже не щадили меня самого. Для старослужащих я был салага, для молодняка — икринка не их нереста, для зауральской урлы — рафинированный московский франт, для иногородних — дорвавшийся до родных пенатов везунчик. И для подавляющего большинства — персона нон грата, безродный отшельник, подозрительно бормочущий в рифму.
Разгребая со мною снег, мордоворот Горшунов — хоть и призвался на полгода позже — отшвырнул скребок и схилял в котельную. В итоге я пыхтел вдвое дольше и напрочь выбился из распорядка. Сержант Бембель наложил на меня взыскание. Алчущий справедливости, я взвился: не моя вина! Но авторитарный солдафон поквитался со смутьяном: соврал Горшунову, будто я наябедничал прапорам. За это раскормленный кабан подстерег меня и дьявольски отколошматил. При этом замечу, что Бембель, щекастый квартерон, до армии терся в днепропетровском инъязе. Горшунов же, студент Гнесинки, лихо наяривал «Хава нагилу» — переняв ее мотив у сокурсников-евреев…
Что это? Напоминание о девочке-пианисточке, затравленной курносыми шалопаями? Не отсиделся ли я за своей польской флексией, покуда немецкие фамилии евреев — концлагерных недобитков — вызывали ксенофобское послевкусие у их широколицых освободителей? Мог ли я — со второго класса оттесненный на задний план — в одиночку противостоять той охоте на ведьм? Или вынужден был бы, заодно с Леночкой, подыскивать себе другую alma mater? Не подтолкнул ли я невольно к женоненавистничеству Соколовского — избравшего мишенью дочь того племени, неприязнь к которому культивировалась у него дома?..
Ну, ты и загнул: покаянию тоже ведь есть предел! Витька — он тот еще бабник! Хоть, на свою беду, и воспитанный в нетерпимости. Временами он пробовал пройтись и по тебе, но ты не робел — давал отпор: помня о его отступничестве. Классе в восьмом он прикипел к бас-гитаре, забухал с ансамблем и, так и не окончив Политеха, умер от метастаз…
И потом, ответь: с ивритской песней на устах не ты ли взмывал в поднебесье на ветряном колесе обозрения — изобретении рыцаря из Ламанчи, — пока твой alter ego Горелик старательно разучивал заикание (подобный изъян, он уверял, вызывает снисхождение)?.. Ужели за свой протест против погромного массового отчисления ты сподобился тумаков от ленивого лабуха — теми же лапами вчуже бряцавшего дорогой твоему сердцу мотив?!
Отнюдь. Просто даровавшая тебе первый поцелуй Элла была для тебя шансом искупить грех невмешательства, связанный с беззащитной Леночкой — твоей одноклассницей и ее однофамилицей. А уж коли ты этой аллюзии не раскусил и — рассиропив легковерную сиротку — отца родного выставил в фальшивом свете, то и Садовник Судеб покарал твою дерзость: отняв у тебя и строительный диплом, и право воспитывать собственную дочь! И дразня шаловливой подсказкой памяти: именем неведомого тебе прораба Гантмана.
8
О Литинституте я впервые услышал от Юры Эбера, но тот ничего путного не сообщал, а я не стал углубляться. Название факультета — ПГС: промышленное и гражданское строительство — меткой копией опорных согласных стреножило Пегаса, введенного не в то стойло (принцип арамейского письма дремал в моих клетках). Попав на первую лекцию, я ужаснулся: среди какого плебса пять лет обречен прозябать! Масластые посланцы квелых болот запрудили аудиторию жеребячьим восторгом. «Опалубка», «портландцемент», «консольная балка» — всей этой галиматьей они живо интересовались: рассчитывая с помощью мастерка окопаться в крупном городе. Но я всем иным инструментам предпочитал гусиное перо и, не вникая в догматы марксизма, обсасываемые имбецилом Сивограковым, невозмутимо шпиговал средневековой атрибутикой поэму о детском крестовом походе…
Впрочем, крылатое выражение Маркса «идиотизм деревенской жизни» вызывало во мне вполне эмпирический отклик. Месяц сельскохозяйственных работ — по основным пунктам предвосхитивших дебильство учебного процесса — не прошел бесследно. Сквозь щель в дощатом сортире я разглядел кабыздоха, весело тяпнувшего быка за лядвие — отчего тот, шарахнувшись, вдарил рогами по двери, а шкандыбавшая во двор хозяйка оклемалась с гулей на лбу. Казалось бы, цепная реакция — в чем загвоздка? Но злоумышленником был объявлен я — да еще и на весь богооставленный Будслав! Угораздило меня досрочно соскочить с толчка: нет бы дождаться выводов судебно-медицинской экспертизы! Подвело отсутствие животноводческого стажа. Придя в себя, бабка разлепила веки — и засекла силуэт пятящегося к калитке постояльца…
— Зачем же ты, Марговский, быка отвязал? — супились студенты за банкой «чернил».
— Не торчать же в отхожем месте до посинения! — восклицал я в свое оправдание.
Но все от меня отшатнулись: злыдень — так сельчанку за хлебосольство отблагодарить!.. После того казуса и закралась в душу догадка о глухоте — как общем знаменателе любой коммуникации.
Однако посконные отгадыватели кроссвордов не могли полагаться на собственную эрудицию.
— Грыша, хто Мопассана написал? — холуйски скалился Бруцкий с подготовительного отделения.
Я растерянно отсылал его к бабелевскому рассказу: но тут выяснялось, что он подразумевает не Мопассана, а Санчо-Пансо — неунывающего оруженосца.
На картофельной борозде усач взял реванш — загадав мне имя прославленного русского гроссмейстера.
— Ботвинник?.. — почесал я затылок, не будучи силен в истории шахмат.
— Ишь, Ботвинника ты знаешь! — съехидничал экзаменатор. — Я-то имел в виду нашего — Алехина!
Собутыльник в тельняшке тянул его за рукав: «Нормалек, Санек?» Остекленелый глаз морячка сверкал сравнительно дружелюбно. (На дележке в электричке, на обратном пути, они вдвоем прикарманят всю мою выручку). Флотского миротворца звали Волохович: он однажды напьется и утонет в пруду. Жаль его, второго Санька! Лучше бы Бруцкий вместо него…
Не оставался неоцененным и мой дар чуткого собеседника. Будславский буян Леня, знатно орудовавший дрекольем, доверительно швартовался ко мне в столовке:
— А вот, слухай, як ышо одного отшибздил!..
Во всей округе у него имелся лишь один конкурент — некто Хасин, норовивший ошпарить кипятком любого свежего посетителя местной бани и при этом неизменно упрекавший:
— Трус!
Кондовую круговерть колхозного шейка отверженный интеллигент наблюдал из сеней клуба. «Я помню солнечный трамва-а-ай!..» — через вьюшку и чердак, обложенные дымком «Примы», как елочные игрушки ватой, улетучивались образы шептуна-проигрывателя. Вера Хусейн Талат Гад — лилия Нила, возросшая на полесской тине, — выворачиваясь наизнанку, ощупывала буркалами меня, замаскированного врага Асуанской плотины.
— Мама моя родная! Да у нее ж глаза кальмарьи! — фыркал желтовласый дылда Мильчман, по отцу ландскнехт, с которым мы через строчку рифмовали скабрезные баллады.
В день знакомства, впившись в бордовое от экземы лицо одногруппницы, он прыснул:
— А эта-то, глянь, — Венера Милосская!
Из трех Андреев, подселенных вместе со мной к косорукой бабке, жертве резвого быка, он был самый начитанный. Родичи его на нефтескважине копили про черный день, пока он, маясь от сплина, скрещивал мои стихи с семиструнным треньканьем. Еще он бесподобно имитировал буколический прононс: так, что три четверти крестьян держали его за своего.
Впоследствии — когда надо мной нависнет отчисление, а староста Мартыненко на экстренном собрании откажется писать петицию и одобрит решение деканата, — Мильчман проявит девичью застенчивость. Вступится за меня один бритый под нуль Игорь Иванов — великодушный чудила, форсу ради вызубривший наизусть словарь латинских пословиц.
Еще в колхозе те из студентов, кто оттрубил два года на плацу, порывались нас, цыплят желторотых, муштровать. Но присутствие смазливых женских мордашек их малость обуздывало. Впрочем, и среди сверстников Андреев, непрестанно дувшихся в преферанс, я ощущал себя этаким несиноптическим евангелием.
Периодически в хату вкатывалась бойкая кубышка Наташа Ковель, строившая глазки одному из нас, но в разгар ухаживания дававшая от ворот поворот. Закомплексованность задаваки, хваставшей, что заунывные «Песняры» еще в люльке пичкали ее эскимо, забавляла картежников. Бруцкий, завидовавший нашей молодости, регулярно нагло подтрунивал над Мильчманом:
— Андруха! С Натахой в баньке когда паритесь?
Таков уж был юмор у этого сивого мерина.
Как-то заполночь, Ковель вдруг приударила в набат: замок нашей трапезной взломан чужаками! Мы помчались к столовке. Притаясь за ставнями, наблюдали истощение казенных припасов. Чая восстановить репутацию, я проткнул перочинным ножиком все четыре шины налетчиков. Тут выяснилось: вузовские партийные бонзы объезжают окрестности с прожорливой ревизией…
К счастью, своего аргамака они пришпорили лишь поутру: кабы не их сонливость, меня бы вышибли гораздо раньше. Подвиг мой был объявлен эхом кулацких диверсий: благо, все три Андрея держали язык на привязи.
Так же вот храня безмолвие — на третьем курсе — они не посмели спутать карты взъевшемуся на меня старосте.
Мартыненко из Дербента невзлюбил меня: а) за проживание на всем готовеньком в трехкомнатных хоромах; б) за вызывающие прогулы — пусть даже и оправданные участием в институтской самодеятельности…
Агитбригада Семена Ламма на четверть состояла из евреев. Там я и стакнулся с негроидным торопыгой Гореликом — башковитым математиком, понаторевшим в джазовых импровизациях. Сын главного инженера, Илья был избалован, топал на бабушку, пережившую ссылку в Биробиджан; зато — искрометный экстраверт — щедро делился знаниями и связями, феноменально играл в бадминтон и собирал грибы, а еще съел собаку на аттракционных руладах квартета «Queen». Дом — полная чаша: еще и поэтому прелестницы, им зазываемые, предпочитали его, кургузого.
Актрисочка театра кукол Люда Дрозд — сама как марионетка карманного формата — оказалась мне не по зубам. Но Аню Эльбо я поклялся ему не уступать. Поглощенный беседой, в троллейбусе, случайно притронулся к шелку ее коленок — и сердце захолонуло: однажды в детстве меня уже било током, когда я баловался с утюгом!.. У себя в Серебрянке она села вязать: в спицах, торчащих из мохеровой шерсти, мне почудились две соскочившие с проводов дуги. Я открылся ей: у нее на коленях убаюкан троллейбус, где ехал я — ошибочно полагавший, что куда-то опаздываю…
— Тэк! — понимающе блеснула белками блондинка.
— Ты всегда говоришь тэк, вместо так?
— Дэ… — пуще прежнего потешалась надо мной она.
И тут меня прорвало:
— Скажи, это правда — то, что раззвонил повсюду Илья?
— Ты о чем, не понимаю?
— Якобы вы вместе принимали ванну с экстрактом…
— Тебе это так важно, Гриша?
— Не было б важно — не спрашивал бы!
— Ну, что ж, таком случае, это непреложный факт. Мы плескались в ароматической пене бок о бок!
Белокурая бестия Мильчман на репетиции к Ламму не хаживал — но нюх ему подсказывал: я зачастил к «своим». Собственно, кавычки излишни. Местоимение «наши», с этническим подтекстом, впервые при мне употребила дочь терапевта, наезжавшая в лагерь, где я, расслабившись под отчим крылом, опрометчиво пускал жизнь на самотек. «Наших, — стрекотала она, — в Политехе завались. Айда к нам, не пожалеешь: мы там один за всех и все за одного!»
Андрей еще за партой страдал от своей каверзной фамилии: вечно не за того принимали. Как и следовало ожидать, гонения на немцев в Совке оказались недолговечней укорененной в народе юдофобии. По мере вымирания фронтового поколения, связи славян с германцами восстанавливались — объединяя их в брезгливом отмежевании от «неарийцев». Падение коммунизма реанимировало войну рас и цивилизаций: иссякала перебранка из-за цвета знамен, акцент был вновь перенесен на оттенок кожи. В этом смысле символична и антиномия двух стен: берлинскую разнесли в пух и прах — тогда как к иерусалимской прихлынули новые волны влюбленности…
Мильчману со мной было весело, совместное фиглярство скрашивало тягомотину ходульных лженаук. Но, обонянием уловив чуждое поветрие, сокурсник поднапряг и прочие органы чувств.
— Гриша, кто по национальности та девушка? — спросил он, видевший меня с Аней.
— Иди знай! — напустил я бесстрастный вид. — Эльбо: звучит как будто по-французски…
Бесшабашно погрузясь в агитбригадное разгильдяйство, я уже теменем осязал зависший надо мной дамоклов сталактит. Андрей прилежно вел конспекты, сдавал зачеты в срок, закладывал за воротник с деревенщинами-однокурсниками, которых, впрочем, за глаза презирал.
Остолопы из Вязанки да Ошмян поддевали меня, стравливая с ливанцем Хасаном (в чертежном классе мы с ним поцапались из-за открытой фрамуги: его, теплолюбивого, видите ли, могло продуть, — но через пару дней он вдруг преданно проблеял: «Один только Хасанчик тебя понимает!..»)
Израиль, воображением рисуемый весьма расплывчато, в тот год отчаянно сражался за свое выживание. Я тоже выкарабкивался из задолженностей, не спеша сжигать хрупкий мосток: без посторонней помощи курсового мне было не осилить!.. Интуиция нашептывала: мой соглядатай пытается подловить меня на тяге к соплеменницам. Послушный законам биологии, Мильчман подталкивал зачумленные гены к растворению — противясь сохранению их интеллектуальной силы в чистоте вида.
— Видишь? — кивал он на вывеску обувного магазина. — “Чэрэвiчкi”! Разве ты способен оценить!
При этом, повторяю, местную аляповатую орфоэпию — с ее придыхательным «г» и невыносимым огрублением шипящих — тевтон наполовину, полдетства проведший в Тюмени, ежели и воспроизводил, то лишь хохмы ради.
Примитивизм «бульбашей» его отталкивал, собственные же истоки казались недоступными. После школы он поступил в физтех им. Баумана, но — покоробленный задрипанностью общежития — легкомысленно перевелся в нашу шарашку: только бы жировать в родительском кооперативе.
Было что-то от альбиноса в этом тайном эстете. В речах своих он вторил Морскому Волку: прозревая смысл бытия в поддержании функций организма…
Однажды в бассейне он вздумал меня топить: сперва шутя, затем — вдохновленный моими конвульсиями — все разъяренней. Не вмешайся Андик — чернявый хохотун из Новогрудка, с явной примесью южнославянской крови, — неизвестно, чем бы все закончилось…
Пятый семестр — моя лебединая песнь — по традиции стартовал с колхозной борозды («Как часто видят в поле тех, / Кто был зачислен в Политех!» — каламбурил я со сцены на пороге студенчества и следом разражался катреном, за который меня и вычеркнули из концертной программы: «Мы не чурались выкрутас, / На танцах выражая / Доисторический экстаз / По сбору урожая!»). Ко мне в силки угодила первокурсница — Элина Былина (по отцу — Кацнельсон). Ее клинило на мастурбации — в чем она без зазрения признавалась.
Блуждая по бурелому, я как-то вывел цесарку к полю, посреди которого шахматными пешками торчали льняные снопы. У обочины на двоих осушили бутыль плодово-ягодного.
— Давай поразвратничаем! — лихо мяукнула она.
Я расчехлил спутницу — но та вдруг забилась на стерне автогеном. Пена вокруг рта подтвердила догадку. Прежде я не сталкивался с эпилепсией (не считая семейного предания о несчастной Лиде, приемной дочери тети Тамары). Проезжавший мимо тракторист посоветовал отхлестать припадочную по щекам…
Той осенью мы вновь ютились по-мушкетерски: я и трое соименников. В одно из утр я притворно раскашлялся. Она явилась, как было условлено. Терпкий дух слежавшейся перины щекотал ноздри. Иконка под притолокой укоризненно меняла ракурсы. В замочную скважину пялилась баба-яга — согбенная то ли от старости, то ли из праздного любопытства…
Работягам, за день нахромавшимся по рассыпчатым буртам, хозяйка доложила с порога.
— Ишь, коклюшный! — съязвил Мильчман.
— Живу как хочу! — огрызнулся я, цедя Элине заварку через ситечко.
Андик и Виц угрюмо жевали.
— Распатронил шлюшку — угости Андрюшку! — совсем в духе Бруцкого причмокнул сургучными губами вожак.
Идея выкидного лезвия впервые могла явиться лишь крайне вспыльчивому человеку: это столь же несомненно, как то, что лодку изобрел человек, полными пригоршнями черпавший воду из ручья…
В ответ я щелкнул ножиком — тем самым, которым когда-то пропорол камеры парторгу. (Один из грехов, водящихся за мной: конечно же, это проще, чем грамотно заехать в торец).
— Спрячь перо — кому сказал!
— Заткнешься — тогда спрячу!
Товарищи встали между нами. Я отправился провожать напуганную гостью.
Убежден: собственными жизнями все люди участвуют в создании грандиозного эпоса. Но лепта каждого из нас подотчетна горней инстанции — даже когда мы пробуем демиургически оживлять своих персонажей. Фабуле свойственна повторяемость: этапы чувственного познания срастаются в аскетичное целое, как бронзовые пластины рыцарских доспехов. Недостроенность панцирного каркаса часто объясняется преждевременным истлением отдельных чешуек… Макросюжет очередной эпохи рано или поздно запечатлевают стелы развалин, инкунабулы хранилищ, кроны генеалогических древ…
Но обо всех равно печется Садовник Судеб — куда уж там Паркам с их кустарной пряжей! Садовник Судеб — глотаю аллитерацию: и вижу струящую спасение оросительную скудель над грядками Непала и Калифорнии, Исландии и Суматры…
В детском саду нас приобщали к огородничеству. Ежеутренне поливая фасоль и лук, мы дождались оробелых всходов — и с криками «ура» принялись подбрасывать в небо лейки. Одна угодила мне в лоб. Операционного стола не помню, но шрам прощупывается до сих пор.
Когда мы с моей второй женой Эстой сняли первый этаж домика, где я прожил без малого шесть лет, бурый песок двора, обнесенного колючей проволокой, вызвал у новоселов коллапс.
Но Михаэль, выходец из Анталии, по-соседски нарезал два десятка упругих побегов. С тех пор в моем окне благоухал цветник. Обиходя участок, я наблюдал, как несколько видов растений, дерущихся не на живот, а на смерть, оплетают ржавую ограду. Захватил пространство вьюнок с фиолетовыми колокольчиками: его лепестки и стебли оказались эфемерней и гибче. В один прекрасный день я присмотрелся вновь: угроза внешней экспансии миновала — и победоносные ветви, борясь за ультрафиолет, столь же непримиримо стали теснить друг дружку…
И вот я говорю: Ницше — порицая в «Веселой науке» сострадание, отвлекающее души философов от осиянного шествия в Валгаллу, — не осознавал над собою ножниц Садовника. Реформатора морали сразит безумие после сцены на площади Карло Альберто: где он, обнимая исхлестанную кучером лошадь, перегородит путь туринским экипажам…
И бельгийца Эмиля Верхарна, погибшего в 1916 году под колесами поезда в Руане, — разве не настигло таким образом одно из щупалец города-спрута, столь громогласно преданного поэтом анафеме?
И Стефану Цвейгу была явлена весть о том, что сочинения для сцены ему абсолютно противопоказаны. Всякий раз, как он завершал очередную пьесу, предназначавшуюся кому-либо из видных актеров или режиссеров — знаменитость покидала сцену либо и вовсе земные чертоги. Но писатель не задумался над сюжетом судьбы — и подался в либреттисты к Рихарду Штраусу. И имя еврея — еще в Зальцбурге жившего прямо напротив фюрера — жалким петитом тиснули на афишах оперы о тысячелетнем рейхе. Самоубийства он, подвергнутый бойкоту в эмиграции, кажется, мог бы вполне избежать…
А Пушкин — разве не предсказал он в «Пиковой даме» возраст своей гибели — 37 лет: «тройка, семерка, туз»? Разве этот «туз» не прозвучал так же метко, как выстрел мстящего за Бонапартово фиаско Дантеса!..[3]
Ах, полно: кто из нас простирал зоркость звездочета на угли, тлеющие в собственном сердце? Да и хватило ли безумных рукописей одного сбившегося с орбиты Велимира для обогрева сотен тысяч озябших малышек?..
Старина Алявдин — знай он загодя, что его козни приведут к воплощению моей мечты: что я увижу живых Тарковского и Самойлова, объеду за казенный счет всю Евразию, начну печататься в центральных журналах, а лекции мне будут читать слависты с мировым именем, — несомненно, допустил бы меня к экзамену и, впаяв чахоточный трояк, пожелал бы увесистого кирпича мне на голову. Но он для визионера был чересчур зашорен. И потому иезуитски меня истязал, выуживая из задания все новые серии ошибок, откровенно противоречившие предыдущим исправлениям…
— Послушайте, — увещевал я его в одну из аудиенций, — я ведь и так достаточно наказан!
— Достаточно, полагаете вы? — хихикал он жабьими глазами. — Лично мне так не кажется…
Один раз я даже апеллировал к святой русской литературе:
— Да проявите ж вы наконец милосердие!
— Какое еще милосердие?! О чем вы говорите! — поморщился сорокалетний доцент эпохи вяленого социализма.
Отец пытался подключать связи. Знакомый его знакомых, сам преподаватель, выслушав мою исповедь, подытожил:
— Значит, вы вздумали правду искать? Что же, в наше время это весьма оригинально!
Никто не сумел помочь. Я нанялся ночами заливать каток. Поскальзываясь в обледенелых валенках — как сказочный мангуст на кобру — бросался на шуршащий впотьмах шланг. Редкий фигурист чиркал пируэтом по кристаллическим отблескам звезд, воскрешавшим подлинный, забытый смысл несказанно глубокого слова «твердь»…
В одно из утр, кутаясь в ватник по пути домой, я разглядел спешащего Мильчмана. Андрей, по обыкновению, заметно сутулился, зажав под мышкой гигантский градусник тубуса.
— Такая петрушка: я оказался удачливей тебя… — сморгнул альбинос накатившую слезу.
Затем, года на четыре, он как в воду канул. После армии я восстановился на втором курсе, зимой приехал на побывку в Нимфск. В кофейне опереточного Троицкого предместья, всколыхнувшей ностальгию, встретил Вано — того самого бритого латиниста, который в пору отчисления в одиночку вступился за меня. Я обрадовался: расфуфырясь Хлестаковым, пустился трындеть ему столичные байки. Игорь печально развел руками:
— А у меня житье монотонное. Ишачу за кульманом, из ребят никого не вижу… Да, а про Мильчмана ты слыхал? — Свалился в шахту лифта. Еле откачали — лежит парализованный…
Вечером я позвонил Андрею. Он говорил сдавленно. Сообщил, что не пропускает ни одного альманаха с моими публикациями: Галя, дородная пейзанка, захомутавшая его как раз в ту, последнюю нашу осень, поставляет ему их исправно.
Потом уже, в общежитии, я в одном из пятистопных анапестов неосознанно сравнил лифт в высотном здании с кадыком, туго ходящим по гортани вверх-вниз.
О, где же ты, мудрость Одина, напоенная руническим медом поэзии? Куда испарилась твоя способность к ясновидению, сеятель раздора, покровитель войны, щеголяющий, как эполетами, эскортом воронов на плечах, — когда ты впускал в нибелунговы долы менял и попрошаек, шелестевших ветхими свитками? Маг голубых кровей — ты дожил до мятежа простолюдина Тора, подстрекаемого набожными сынами Торы: Маркс (сакрум, сумрак — те же буквы, заметь!) призвал к перераспределению подземных кладов — ранее служивших могуществу избранных; Фрейд подучил брутальных вандалов клянчить победу не у тебя — законного главы пантеона, а у твоей фригидной половины. Прибавочная стоимость и эдипов комплекс — вот те две трещины, что надломили героику и иерархичность рыцарского сознанья!
Ультиматум изгоев сводился к отвоеванию исторической территории: поможете вновь завладеть Ерушалаимом — избавим Европу от яда своей древней проницательности (что там Монтефиори — даже тонкий лирик Адам Мицкевич, в силу происхождения, играл в шеш-беш с королевскими дворами)… Англы и саксы, рано отпавшие от тебя островитяне, снарядили в Яффу полководца Алленби — тот наголову разбил ленивых осман. Так был заложен подмандатный фундамент Третьего Храма.
Но тех из дружины, кто оставался верен шаманским гальдрам, ты призвал к безжалостному и поголовному истреблению шантажистов — чем и обрек себя позору капитуляции! Все языки разом гневно обрушились на твой смертоносный миф и — не дав ни малейшего шанса воскреснуть — вздернули на мировом древе Иггдрасиль! Ты чаял предать врагов всесожжению — они же с молитвою принесли себя в жертву. Их кровь окропила, вдохнула новую жизнь в холмы Галилеи и мандариновые рощи Шарона, в эдомские россыпи и прибрежные скалы Дана. Садовник, приспособив твое копье под мотыгу, отер горячий пот холщовым рукавом…
9
С января по июнь меня планомерно били — всякий раз отыскивая мало-мальски пригодный повод. Я присмотрел укромный проем меж клубом и кирпичным забором: там и выл, избывая горечь.
Впрочем, к утеснениям постепенно привыкал — утешаясь тем, что вырабатываю иммунитет. Так, дневальным драя полы, я торцанул по скуле ферганского дехканина, пытавшегося оседлать меня на манер ишака. «Твоя-моя» с тех пор начала понимать лучше…
Связист из Замоскворечья, носившийся с идеей пьесы про Афганистан, предложил сочинить зонги. Я попросил привести мне хоть один топоним. Он припомнил душманский город Пулихумри. «От пуль их умри!» — срифмовал я невпопад в первой же строфе… Соавторство тут же распалось.
Злопамятный конъюнктурщик пнул меня при случае: брезгуешь новичков дубасить — сам отбивай кантики при заправке коек! — Я заехал ему табуретом по хребту…
В курилке киевлянин Цветков, из молодого пополнения, покатил бочку на «этих жидов». Я цыкнул:
— Заткнись! Я еврей, понял? — пришпоря его носком сапога по голенищу; он взвыл — оказалось, у него перебинтована нога.
На время салага «прищемил метлу», но дня через три поквитался: вмял мне ударом кулака передний резец — действуя под прикрытием двух хохлов-сварщиков. В этот момент, сидя с Пахомовым в столовке, я оформлял тому дембельский альбом. Кровь закапала прямо на рисунок.
— Что такое?! — показушно ощетинился заказчик, но дальше восклицания не пошло.
Ни он, ни кто бы то ни было другой из моего призыва, вступаться за меня не думал: дистанция национального отчуждения превалировала даже над законами неуставной этики.
Более того, Пахомов и сам рад был натравить кого ни попадя. Иной раз, окликнутый капитаном Крупко: почему не на утреннем разводе? — я демонстративно харкал кровью себе под ноги.
— Кто? — требовательно учинял допрос ротный.
— Никто! — запирался я: утаивая конкретные имена, все же ясно давал понять, как презираю и варварство этих людей, и практикуемую ими систему отношений.
Ни разу я не сдал начальству своих палачей, тем не менее слухи об этом упорно циркулировали, будучи гнусной клеветой, исходившей от них же.
Как-то, взвинченный, я нанес Пахомову ответный удар в челюсть: пока тот соображал что к чему — меня и след простыл. Опасаясь его явного физического превосходства, я крутился перед штабом, давая понять, что мог бы его «застучать», но не делаю этого из уважения к негласным солдатским правилам. Только когда он остыл, я вернулся в казарму.
Не стану приводить всех своих заслуг перед отечеством. Скажу только: предложение майора Пеккера, ответственного в нашей части за противохимическую оборону, пришлось как нельзя кстати. Мне и двоим салагам выдали сухой паек. В сопровождении рыхлого антрепренера наша труппа отбыла в черниговском направлении.
Миляга Пеккер лицом был багров. Оттенок этот придавало пьянство, но чудилось: он перманентно краснеет за свое происхождение.
— Развеетесь немного! — в купе подмигнул майор.
Прибыв на учебные сборы, я влез в невкусную резину защитного комплекта и принялся вместе со всеми трусить по лютиковой поляне — то и дело плюхаясь под вопль: «Заражение с воздуха!» Знали б горлодеры, как мало времени оставалось до реальной радиации — близлежащий источник которой — увы! — окажется наземным…
Духота стояла неимоверная. На полминуты нас оставили без присмотра. И я, приметив стайку «сачков», кубарем скатился в ежевичные заросли. На берегу, скинув мамонтову шкуру, натурализовался и — бултых! — в благословенную Десну…
Сказать по чести, в «старики» я так никогда и не выбился, но здесь — в августовской командировке — бойцы-одногодки приняли меня по-свойски. После ужина, извлекая из камышей плоскодонку, мы подгребали к духмяному селу на юру. Все там уродилось: яблоки — как дыни, голуби — как индюки. Смешливые дивчины, сплевывая лузгу, внимали нашим уговорам до полуночи. Однажды, проголодавшись, мы влезли к кому-то на веранду.
— Хлопцы, — высунулся заспанный хозяин, — берите кринку, буханку — и улепетывайте: не то барбоса спущу!
В напарники по самоволкам я избрал смышленого тюрка и скакал с ним по холмам наобум, насвистывая песенку Никитиных про Птицелова. Найдя на огороде пастушью шляпу, прихватил с собой и — куролеся за столиком кафе — заломил поля, нахлобучил солому. Две студенточки, с нами балакавшие, давились мороженным со смеху.
— Ты, паря, фор-рму не позорь: другие за нее кр-ровь проливали! — сунулся с назиданием какой-то сушеный груздь.
— Ступай проспись, мужик! — лениво отстранил я его за локоть.
Выйдя на воздух, мы нарвались на чин местной комендатуры.
— Стоять! — рявкнул подполковник, вылупясь на наши петлички. — Ага, железнодорожники! Как фамилии?
— Рядовой Иванов! — сплоховал потомок Тамерлана, позабывший о своей предательской внешности.
— Рядовой Куравлев! — вспомнил я почему-то комического киноактера.
— Вот ты соврал, — разоблачил моего спутника тонкий психолог, — а он правду сказал!
И приказал:
— Ну-ка, щас же мне военные билеты!
Мы оба сунули руку за пазуху, переглянулись — и давай наутек. Выручило такси, выруливавшее со двора. Патрульный «газик» за нами не угнался.
В одном из букинистических магазинов Чернигова мне попалась куртуазная «Фламенка», некогда обожаемая самим Блоком. Энц Арчимбаут, эн Арчимбаут, наконец — с апострофом — н’Арчимбаут: на все лады поддразнивал безымянный автор осатанелого ревнивца-мужа. Наряду с томиком Мандельштама, книжка эта укомплектовала мою походную библиотечку. Пряча провансальскую поэму под наволочкой, я не подозревал, что с ее переводчиком Анатолием Найманом пересекусь дважды — в Иерусалиме, на постсоветском слете славистов, а затем, спустя два месяца, — в Москве: по чистейшему совпадению поравнявшись с ним на мостике в подземке…
Секретарь Ахматовой и приятель нобелевского лауреата спросит меня напрямик в редакции «Октября»:
— Вы что же, хотели бы вновь здесь поселиться?
— Ни за что! — вздрогну я, пять лет к тому времени прозябавший на Ближнем Востоке.
На вопрос, поставленный подобным гипнотическим образом, зачастую отвечаешь автоматически. Браваду апатрида он примет за чистую монету: не догадываясь, что мне попросту негде приткнуться в первопрестольной…
Да, меня не судили за тунеядство совдеповские маразматики, не ссылали к черту на кулички, обязавши исполнять принудительные работы. Со мной было иначе: все шито-крыто, без своевременной шумихи на Западе. Никакой тебе добровольной стенографистки, никакого столпотворения журналистов и поклонников. Но и никакого двухнедельного отпуска, никаких публикаций за кордоном. Одни лишь побои, оскорбления, ненависть: и все это втихаря, без публичных заявлений о правах человека.
В сумме отрицательных ощущений мне выпало не меньше, чем Андре Шенье, гильотинированному по головотяпству, вместо родного брата. И то ведь — одноразовость якобинской расправы едва ли не предпочтительней эскалатора беспрестанных пыток — стирающего в прах все твои встречные шаги…
Как стихотворцу, нюхнувшему нашатыря солдатчины, мне, безусловно, ближе Аполлинер и Полежаев. Хотя, нет, скорее Баратынский: ведь и он, и я законченные клептоманы…
Стигматы свои выставляю напоказ: нате, любуйтесь, слетайтесь на поклев! Ежели сегодня путь признания поэта пролегает через анатомический театр — знайте, что к лаврам я близок как никогда!..
Бубенцовое «энц Арчимбаут» бряцало в ушах задорней хрестоматийного «ламцадрицаца». Интонацию трувера — виртуозно ерническую — подмывало сымитировать. Я ведь всегда был подвластен фонеме — этому аристократическому аспекту речи. А также тяготел к эпической размашистости — что вызывало скепсис маньериста Степанцова: «Старик, пойми: роман в стихах себя изжил!» Примерно в июле он заезжал ко мне в часть, амикошонски поил из горла «Пшеничной». Сохранился слайд: мы в обнимку в подворотне…
Конечно, апломб его смешон, а вывод скоропалителен, но тогда — в середине восьмидесятых — опровержение еще не вызрело.
Взамен разухабистого полотна, я набросал пяток несохранившихся эскизов — традиционно озаглавив их «Еврейские мелодии». Повлияли одесские куплеты Розенбаума, напетые одним на редкость задушевным казахом. Целиноградский менестрель был расположен ко мне настолько, что — когда я схлопотал от начальника сборов пять суток ареста за неуемные вылазки — он принялся обивать пороги, упрашивая отослать меня в управление бригадой.
— На губе в Гончаровске — сплошной десант! — округлял он сайгачьи глаза. — Хуже тюрьмы-колымы!
Ходатайство клубного корифея возымело действие.
— Скажите, откуда у вас такой негативизм к вышестоящей инстанции? — отвел меня в сторонку гарнизонный майор, велевший как-то при подъеме «поставить в строй эту проститутку» (но я пригрозил пропесочить его в «Красной Звезде» — и он угомонился).
Я молчал насупившись (не подводить же Пеккера, который, когда ему устроили из-за меня разнос, стал улещивать подчиненного: спи себе хоть весь день — только за забор не шастай!..)
— Что ж, — грустно предрек служака, — вы еще не раз напоретесь на собственные иглы!
Несколькими часами позже я озирал фасад черниговского вокзала, изображавший — в назиданье строившим его немцам-военнопленным — кольчугу и шлем святорусского былинного богатыря.
Ефименко, уже оповещенный, колобродил от нетерпения. Временная отлучка Сервачинского играла на руку сатрапу, знавшему о моей эпиграмме, радостно подхваченной всем штабом. Там поминалась его «Волга», по ошибке выкрашенная в цвет хаки: созвучие, напрашивавшееся само собой, отсылало к отправлениям прямой кишки.
Я ведь упражнялся во всевозможных жанрах. Так, например, солдаты заказали мне эпитафию в память о бедном таджичонке, бетонной плитой расплющенном на стройплощадке. Кооператив для начальства возводил специально прикомандированный гомельский взвод. Старлей, отвечавший за технику безопасности, сдувал пену у пивного ларька — а трос возьми да и лопни… Зайдя по поручению к расквартированному в нашей части офицерью, я застал убийцу в роли тамады: за свой «недосмотр» он поплатился всего лишь парой звездочек и теперь с аппетитом хлестал водяру за помин души…
Итак, начальник штаба припер меня к стене. Хоть лично на мне никакой мокрухи не было — я ощутил себя пойманным с поличным серийным маньяком. Хряк из Пятихаток удвоил мне срок, подкинув еще пять суток за опоздание: с поезда я на часок заскочил домой.
Он не оставит меня заботой и после, в батальонном скиту. Накануне учений мне предстоит трое суток, по просьбе капитана Казакова, вычерчивать план местности. Утром, весь серый, я встану в строй — и прибывшего на смотр Ефименко затрясет: «Уберите вон отсюда это чадо!» — Осчастливленный нежданным сюрпризом, я без задних ног бухнусь в постель. Он — уже за глаза — разовьет дефиницию: «Это сволочь!» — «Так точно!» — присядет в книксене капитан, воздавая мне за мое усердие…
Впрочем, отринем всякую логику! Разве не писал опальный имяславец Алексей Лосев своему собрату по Беломорканалу, эллинисту А. А. Мейеру: «Имеет или нет человек философскую школу ума, это узнается сразу, с первых же фраз, со взгляда на его лицо, как с первых же слов различается украинская речь от великорусской или кухарка от барыни»!..
На минской гауптвахте я пребывал равным среди равных. Одновременно со мной за решетку угодил Хила — вороной омич, в роте почем зря на меня кидавшийся, а тут вдруг, паче чаяния, покровительственно заухмылявшийся.
Человек пятнадцать моих сокамерников сбрасывали на скамью контрабандный прикуп, обменивались шевронами и побывальщинами, в потолочном плафоне заначивали от шмона чинарик. Глубокой ночью могло жахнуть построение: жесткие складные топчаны — по команде вспархивавшие вместе с нами — неслучайно звались вертолетами. Туалет был в конце коридора. Наставляя дуло «калашникова», вертухай-держиморда засекал минуту: не поспел — оправляйся на бегу!
Но и здесь я не отпал от сочинительства: скребя гнилые картофелины, соорудил в уме пять жалостных катренов об арестанте, приголубленном дочерью армейского тюремщика. «Приглашение на казнь» еще не было читано: встрепенулась, как видно, реминисценция из «Кавказского пленника». По сей причине, наверно, опус мой и растрогал прапорщика-ингуша, уныло тянувшего лямку в одиночке.
Мотивчик я, помнится, приторочил бесхитростный — чего еще ждать от самоучки? Пылившееся в клубе фортепиано с марта бередило душу: в хлебниковском причете про «стаю легких времирей» вдруг почудилась страничка партитуры… Дальше исходного «ре-ми-ре» дешифровка не продвинулась. Зато я подобрал душещипательную «Girl» патлатой четверки из Ливерпуля: всхлипывая под наигрыш, рефреном тянул имя «Маша».
Вскоре я рассып?л по клавишам романс собственного изготовления: «В Ленинграде Московский вокзал, / А в Москве — Ленинградский. / Я сестрою тебя называл, / Так простимся по-братски…» — Вот уж где бесстыдная брехня: какое там братство, когда огнь вожделения изнурял естество! Перегоняемый на практику, я неутоляемо впивался в ее обкусанные губы: там — у запасных путей, под катавасию двух сотен новобранцев. Среди локонов медного окраса я выцеловывал хлопчатую прядку — символ нашей инакости, неслиянности с окружающим скотством. Алые джинсики, утончавшие ланью эластичность, словно преднамеренно ярили подъяремное стадо.
«Марго-о-овский!» — в унисон загундосят узкопленочные кашевары, бурым песком начищающие походные чаны. «Марго-о-овский!» — подхватят мутноглазые горские костоломы, в шеренгах мутузя приглянувшуюся им жертву. «Марго-о-овский!» — на полдюжины лет отравит мои сновидения вестовой: месячишко еще дослужим? — пакуй, рюкзачок, касатик!..
За что, о нежить, эта пробуксовка реестра — заедающего на десятке изгваздавших меня букв?! Сия бесконечная вечерняя поверка — когда не один кто-то выкликает других по списку, а весь сонм поочередно теребит меня одного?! За что сей перекрестный допрос ухабов и рытвин — задавших ритм моей пилигримовой поступи? Тем же самым способом станут донимать меня и двадцатилетние израильские гаврики — под чью оголтелую свистопляску я буду вносить в компьютер данные клиентов телефонной компании: в отрыве от родины, профессии, языка, на пепелище путеводной звезды…
За что, вопиешь ты? — За безответность и хилость. За надорванные сызмала нервы. За преступные задатки — чувственный позыв к риску, влекущий за собой рискованность всех твоих чувств. За тот глоток, за тот полет стрижиный, за волосы с мечтательной рыжиной — где тайный промельк проседи белес… За все, что так желанно не сбылось! За то, что рядом по полям полынным мы шли под снегопадом тополиным. За то, что прометелило меня дыханье прометеева огня. За нашу остывающую память. За то, что время не переупрямить — похищенное властною рукой: не той, благословенной, а другой!..
Нас перековывали укладкой асфальта на территории окружного госпиталя. Отец когда-то здесь лежал с язвой: мы с мамой носили передачи. Прободение было вызвано покорением крымских вершин (семейство альпиниста, считая младшенького, предпочло безвылазно нежиться на турбазе)… Дымные курганы, нами перелопачиваемые, напоминали осетровую икру, но только фактурой.
Среди гражданских подсыпщиков выделялся белобрысый крепыш, энергично посверкивавший бицепсами. На толстяка из взвизгнувшей легковушки он налетел чуть ли не с кулаками.
— Через два денька! — взмолился Семен Ароныч. — Обещал — выполню! Я не из тех, кто любит трахать мозги! Запишите! — обернулся он к брюнетке в очках, с общей тетрадью наготове.
Не знаю, что именно черканула на полях его помощница, но назавтра — подметая захламленную пристройку — я подмигнул маляру в треуголке, скроенной из разворота «Правды»:
— Бригада у вас та еще: все как на подбор!
— И что с того? — обиженно вскинулся пожилой еврей.
— Да ничего… — сконфузился я, не сразу признанный своим (ввиду индифферентной внешности я часто попадал впросак). — Но почему бы вам не взяться за более престижный гешефт?..
Поняв, куда я клоню, он подкрался на цыпочках и, притворив дверь, полушепотом произнес:
— Взгляните в окно, молодой человек. Теперь там повсюду советская власть!
Возвращаясь с работ, мы постыло вышагивали по квадратному периметру двора. Пасмурный накрап навевал Гийомовы ламентации из цикла «В тюрьме Санте». Для создания чего-либо равноценного одной декады было явно мало. Тем более, наша камера, с учетом эпизодичности заточения, жила душа в душу — фрондерствуя почти в открытую. Халиф гауптвахты, енотовидный, гунявый, святым своим долгом почитал закручиванье гаек. Знал бы он, что — потроша на овощебазе вагоны из Туркмении — мы успели запастись витаминами аж до майского приказа!
Набив оскому бахчевой клетчаткой, я не преминул оставить запись в воображаемой книге отзывов: «Майор, назначенный начгубом, / На службе стать обязан дубом. / Иначе было с Евсюковым: / На свет явился он дубовым…» Неопровержимое свидетельство тамошней спаянности: ни один из сидельцев не выдал пересмешника.
Срок наказания истекал. Под занавес я очутился в знакомых мне стенах суворовского училища. Девять лет, как папа уволился в запас. Просеребь цитадели, словно задрапированной, набрякла в зарешеченном оконце «рафика». Конвоиры передали нас длинношеему кастеляну с лукавым шляхетским румянцем на щеках. Изучив список, тот поманил меня пальцем — всех же прочих отправил на кухню.
В каптерке он распорядился:
— Значит так, кители складывай к кителям, а кальсоны к кальсонам! — и деликатно удалился.
Быстро управившись, я часа три бил баклуши на раскатанном рулоне портяночного войлока. Наконец, зашебаршил ключ.
— Порядок? — прапорщик заперся изнутри, протер две рюмки и плеснул коньяку: — Ну, будем!
На закусь — баночная тушенка: вот такую же мы слямзили прошлым летом, оголодав под Тихвином…
«Батю вашего уважаю! — собеседника немного развезло. — Помню, Третьяк был командующим округа. В спортзал носа не казал, а тут — вот он я! — принесла нелегкая: мы ведь в чемпионы вышли на спартакиаде… Глядь: а в душевой плитка пообвалилась. «Бардака не потерплю! — орет — Виновного ко мне!» Замполит Троицкий возьми и сдай стрелочника: на Юзефыча-то он давненько клык точил. Плюс — у самого ведь рыльце в пушку: из-за его интриг и тянули с капремонтом… Ну, понятно, генерала перемкнуло: слюной забрызгал, затопал ногами. Забыл, кому самолично вручал именные часы за первое место среди всех суворовских… Юзефыч выслушал, сжав зубы отдал честь — и подал рапорт тем же числом. А срок его службы перевалил за четверть века…»
Рассказ его многое прояснил. Так вот отчего у отца тогда разыгралась язва: причина не в одном только горном походе! Расплевавшись с армией, он устроился замом во дворец легкой атлетики. Затем возглавил школу прыгунов в воду. Стал чаще выезжать на соревнования, лето проводил в тренировочных лагерях: на юге, в Анапе, и у нас, в Ждановичах. Работалось привольно, его чествовали за неутомимость…
Зажмурившись, я увидел: зияние сырого цемента очертило на стене душевой кафельный кроссворд фатума. Папа безошибочно разгадал его — подобно своему предтече на Валтасаровом пиру: «Мене, текел, фарес!» Я поднес к уху запястье. Механическое тиканье удостоверяло единство времени и места — закоснелый каприз классицизма. А я еще сетовал на продажу бабкиных позлащенных часиков! — Командирские, с гравировкой, в преддверие призыва подаренные отцом, таили в себе ценнейший принцип выживания. Точнее всех его в «Созерцании» выразил Райнер Мария Рильке — устами Пастернака, лучшего из своих переводчиков:
Как мелки с жизнью наши споры,
как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
стихии, ищущей простора,
мы выросли бы во сто раз.
Известно, что под гнетом тоталитаризма стихотворный перевод служил истинной поэзии идеальной лазейкой. Сборник тонкоперстого австрийца, в год моего четырнадцатилетия вышедший в серии «Литературные памятники», я обоснованно предпочитал сермяжным откровениям русопятов и санкционированной велеречивости шестидесятников. В пересадке Рильке на русскую почву участвовали и С. Петров (чудом не затронутый сталинским террором эгофутурист Грааль-Арельский), и уже знакомый мне по дачной беседке Владимир Микушевич. Но лучшие переводы — что и требовалось доказать! — принадлежат перу ярчайшего из отечественных лириков.
Произведения самого Пастернака мне долго не удавалось раздобыть. Двухтомник его я приобрел лишь после армии: пожертвовав… лосевской «Эстетикой эллинизма». Книгообменный круговорот, практиковавшийся тогдашними букинистами, вынуждал сделать выбор между важным и насущным, между родственным и неотъемлемым. Градация по категориям спроса, пускай и в корыстных целях введенная шаромыгами, низводила официозное мыслете на уровень макулатуры — возрождая тем самым онтологически чистую шкалу ценностей!..
Водворенный в казарму, я сознавал, что дни мои на грушевской окраине сочтены. Вдобавок, из Львова прислали голенастого строчкогона — новоиспеченного лейтенантика, сиявшего невинной улыбкой.
Мельтешащий лысой курицей Шавель, руки за спину, читал нотации:
— Не в добрый час вы, Марговский, распоясались! Вот и начгуб Евсюков ни в какую не хотел Вас отпускать…
— Да он дурак! — резко обрывал я прапора, отсылая пас гогочущему строю.
Вымучивание бригадного гимна — соломинка, ненадолго отсрочившая мой отъезд. Зачин выглядел так: «Под Фастовым орды злодеев / Зайти попытались нам в тыл, / Но встал лейтенант Галафеев — / И в позе геройской застыл!» Возможно, я путаю, и воина, предстательствующего за всех путейцев на обелиске Победы, звали как-то иначе: Вахромеев, Ерофеев… Суть в ином: он был плачевно одинок — и на запрос «красного следопыта» Сервачинский отреагировал без запинки. В бравурный текст я планировал вплести целое ожерелье подвигов — но снизка ограничилась единственной бусиной. Выражение «в позе геройской застыл», имевшее несколько эротический оттенок, замполит пропустил мимо ушей.
Музыку предполагалось заказать Игорю Лученку — знаменитости, на халтурах слупившей капиталец. Но я стал давить на мецената: в башке, мол, так и ухают литавры, дело лишь за оркестровкой марша — да есть проблемы с нотной грамотой… Поворотив против течения, Сервачинский отпустил меня на двое суток.
Отъевшись у мамы на кухне, я позвонил знакомому барду по фамилии Шехтман. Плотный бородач, долбивший неучам законы Ньютона, бессменно возглавлял КСП «Радуга» — куда я зачастил еще в пору заливки катка. Еженедельные посиделки таили фигу в кармане по отношению к режиму, и бывшие однокашники с гебистскими значками окрестили Лешину синекуру «жупел Шехтмана».
Но ничего завзято крамольного там не читалось — лишь изредка подхватывались озорные буриме залетного московского миннезанга. Большей частью туда забредали загнанные рутинной скучищей евреи, кропавшие как пр?клятые нетленку в стол. Впрочем, в день похорон Брежнева мы нарушили нейтралитет: задернули шторку и приглушенно взяли травестийный мажор, знаменовавший триумф Великой кээспэшной ложи; наш маэстро, барабаня по деке, комически раздувал щеки — будто дудел в хобот тубы… К нему я и прилип, как банный лист, с неожиданной просьбой.
Я мог бы обратиться к Горелику, но, во-первых, тот подался в столичную аспирантуру и бывал дома лишь наездами; во-вторых, за все восемь месяцев у него не возникло потребности меня навестить (спустя три года — живя у Насти и через стенку соседствуя с Геннадием Хазановым — я прозрачно отклоню попытку Ильи возобновить приятельство).
Итак, сойдя на улице Красной, я направился было к дому Шехтмана. Но неподалеку, на Захарова, жил некто Ким Хадеев — диссидент и скандалист, игравший роль штатного городского сумасшедшего. Сорок диссертаций на всевозможные темы были им написаны за годы люмпенского существования. Этнографы и искусствоведы, политологи и ботаники — каждый третий доктор шелудивых наук ходил у него в подпасках, оплачивая неафишируемые услуги с опасливой пунктуальностью.
Сын еврейки и лихого казака, тезка Коминтерна, он давно сжился с ролью кукловода местной Академии наук. Объяснялось это безысходностью деклассированного элемента. В самый разгар космополитской кампании растроганное руководство Белорусского университета передало микрофон вундеркинду, к двадцати годам защитившему диплом по филологии. И что же? Вместо дифирамбов профессуре, прозвучал страстный призыв к убийству Сталина — изверга, вознамерившегося утвердить на Руси Четвертый рейх… Для нас это вроде бы аксиома, но тогда — разгневанные студенты-фронтовики сорвали витию с трибуны, избив ногами до полусмерти. Видимо, так он отозвался на кровь Михоэлса, накануне пролитую Берией в Минске.
Расстрел, изначально ему грозивший, к счастью, заменили пожизненной смирительной рубахой. Ему вводили инъекции, превращавшие нормальных людей в таких, как Сосо Джугашвили. Но один еврейский психотерапевт не пожелал и впрямь сделаться врачом-вредителем. И мозг подопытного уникума сумел-таки правильно использовать свой шанс.
Лишь в критические минуты Хадеев спускал с лестницы иного зазевавшегося диссертанта. Когда я, маясь на стройфаке, загорелся идеей поэмы о детском крестовом походе — Ким по памяти перечислил мне двенадцать источников, присовокупив при этом имя автора и год издания. Ему ничего не стоило — пробежав страницу глазами — тут же выдать ее наизусть со всеми закорючками. Два года я у него проучился, прежде чем променял на Литинститут…
В тот день мой оракул отсутствовал. Зато у запертой двери я повстречал Наташу — ресторанную певицу с гладкой темной копной волос. Была она от природы добра. Возможно, малость проста — но не таково ли и само знакомство на лестничной клетке?.. Неделей раньше ее представил Хадееву композитор Эльпер, у которого я по неопытности отбил жену (это с ней, огнегривой Ритой, я читал стихи кээспэшникам, наскребая десятку штрафа за «Хава нагилу»). Что Наташа искала у Кима? Вероятно, просто томилась от скуки: как и большинство вившейся вокруг него шебутной богемы, замедлявшей процесс старения одинокого бунтаря.
Мы разговорились. Пустив по боку цель увольнительной, я предложил поехать ко мне. За нами почему-то увязался Дима Строцев, кудреватый актеришка из театра «Коллизей» (умышленно с двумя «л»: вероятно, от слова «коллизия»). Этим балаганом архитектурного факультета руководил мохнатый еврейский шмель, эдакий карабас-барабас, нещадно угнетавший безропотных марионеток. Оттого мне и не составило труда переманить Диму в наш вертеп вольнодумцев: тем паче, этот запоздалый ничевок что-то там украдкой пописывал в стол.
За этот привод Ким был мне особенно благодарен: с порога оценив лепкость пластилиновой душонки. На засаленном матраце хадеевской кухоньки к тому времени уже не первый год крючился египетский писец Гриша Трестман, несусветным стихом пытавшийся переколпачить Ветхий Завет. «Иов», «Иона» — так назывались многословные, часто злободневные, но всегда бездарные поэмы. Стоило только с его конвейера сойти очередной партии кустарных строф, как седобородый контролер набрасывался на них, деловито ощупывая со всех сторон, проверяя на стилистическую вшивость. В первой половине дня его подопечный, заработка ради, доил вялотекущую гусеницу светогазеты, непрестанно ползшую по парапету городского полиграфкомбината. Но уже заполдень тайно фрондерствующий выпестыш партшколы и сам сдавался на милость неумолимого редактора. Трестман обреченно замирал, с трепетом ожидая, когда ребе с улицы Захарова, зычно выматерясь и высморкавшись в кулак, соизволит наметить для него фабульные контуры очередной главы…
Строцева, эту обэриутствующую пустышку, безуспешно подражающую великомученнику Хармсу, Ким — с присущей ему харизмой — тогда же моментально взял в оборот. Вот и сейчас, в гулко летящем троллейбусе, Дима на голубом глазу пичкал меня очередной своей пухлой поэзой, краеугольным сюжетным камнем которой послужила его самозабвенная тусня с хиппарями. В июне он окончил архитектурный, получил лейтенанта запаса. Женился на Ханке — шепелявой блондиночке, доходившей ему до подмышек и всякий раз благоговейно запрокидывавшей голову, чтобы полюбоваться шевелюрой избранника. (Помню, в полумраке партера нимфского Театра русской драмы, нам взбрело в голову с ней поцеловаться, она противно лизнула меня в губы — и я отпрянул; с той поры старался с ней исключительно дружить, безоговорочно уступив Строцеву). Семейная жизнь их не то чтобы сразу задалась. Впрочем, толстоногая Тома Крылова, бессменный арбитр, призванный мирить их после каждой ссоры, однажды — видимо, желая отомстить за полученную отставку — обронила, прощаясь со мной на КПП: у Строцева, мол, по сравнению с тобой, Гриша, все этапы в жизни выглядят как-то солидней… Ну и ладненько, ну и флаг ему в руки!
Интересно, на какой отзыв с моей стороны он теперь рассчитывал? Неужели на всхлипы восхищения, на музейные лавры победителю-ученику от побежденного учителя? Или надеялся услыхать горькое раскаянье: ах, как жаль, что я не учился на архфаке, кишмя кишевшем глазастыми полукровочками, всегда готовыми поднатаскать недотепу по нужному предмету, а затем полистать, по-турецки усевшись вместе с ним на оттоманке, гламурный альбом Дали?.. О творении его я высказался сухо, даже слегка брезгливо. Ходили слухи, что он бросил жену с новорожденной крохой (им предстояло многократно разлучаться — как впоследствии и нам с Настей). Я заявил, что в тексте уйма звуковых колдобин и смысловых выбоин, что его роман в стихах громоздок и по сути глубоко циничен. Цедя сквозь зубы свой вердикт, я, конечно же, подсознательно имел в виду Ханку — еврейку по отцу, бегавшую ко мне в диспансер, еще когда я в период отчисления симулировал психостению. Она и на меня тогда взирала снизу вверх, возможно, рассчитывала на что-то большее: вот только одноименные заряды непреодолимо отталкивались…
— Тебе сейчас очень хреново, да? — сочувственно спросил Строцев, прибегнув к очевидной уловке, норовя все свести к моим собственным судьбинным зигзагам, и еще раз с жадным любопытством оглядел мою безмолвную спутницу.
Не помню, что конкретно я тогда ответил. Кажется, он, как всегда, обезоружил меня своей сценической чуткостью. Расставаясь с Димой, я уже испытывал меньше досады на его порхающую безответственность. Да и зависть к номенклатурному чаду, сызмальства огражденному от всех нежелательных метаморфоз и катаклизмов, куда-то испарилась…
Отношений с Наташей я почти не ощутил. Она писала мне в Жодино, но слогом строгим, предельно собранным: этот стиль мне тогдашнему оказался еще недоступен. Да и ей самой — не думаю, чтобы многое запало в душу. По крайней мере, когда, демобилизовавшись, я остался у нее на ночь, она призналась: «Ничего не чувствую…» — сконфуженно улыбаясь в темноте.
Художник-оформитель, ею брошенный, заядло пил, еще азартней гоношился в кругу подельников. Едкое словцо — вспоминала она — мгновенно мызгало все стены абстракционистской юшкой. Перепадало и ей — так она формулировала: очевидно, скромничая. В итоге все обрыдло, она ушла. Амбиции мужа не сразу устаканились. Однажды, бухой вдрабадан, он ринулся высаживать ей дверь — но беглянка плеснула в щель кипятком…
Да, восточные единоборства она освоила вполне. Разок я был в Наташином ресторане. Шествуя к эстраде в черном бархатном платье с севильской розой, она окинула меня жгуче и воинственно. Хотелось неспешно потягивать коктейль, эпикурейски ловя ее фиоритуры. Но сиворылое жлобье, скакавшее не в такт, копытами уплощало лелеемую в сердце гордость. Отлучившись посмолить, я пропустил редкое зрелище. «Ну и дрянь!» — ни с того ни с сего шваркнул какой-то фавн в лицо вокалистке. Не отрываясь от микрофона, та влепила по неприметной ряхе. Возвратясь, я застал сбивчивые извинения мигом протрезвевшего икающего плясуна…
Ныне она зарабатывала на жизнь самостоятельно: так оно менее накладно. На родителей, с которыми жила, давно рукой махнула: «Путной мебели — и той в доме нет!» Ее тянуло в искусствоведение — утереть нос бывшему, профукавшему не одни только оформительские гонорары. Я организовал ей встречу с теоретиком Владимиром Бойко, полжизни старательно пудрившим для Москвы мазню урода Савицкого (на одном из полотен этого чудовища магендавид «еврея-провокатора», роющего могилу для кучки партизан, композиционно перекликается с эмблемами переминающейся рядом зондер-команды…)
Женой Бойко была известная театральная критикесса Брандобовская, тетка моей бывшей пассии Иры Вайнштейн. О ней Ира высказывалась так: напрочь, мол, подавила волю супруга, повергла бедолагу на обе лопатки. И верно: «бойкость», присущая его фамилии, не прорезалась ни в стиле, ни в повседневном быту. Выслушав Наташу, автор более чем дипломатичных монографий мученически вздохнул: «Напрасно вы пленяетесь писанием статей о живописи. Поверьте мне, это нелегкий хлеб!» Впрочем, это и к лучшему: с ее характером ей ни за что не пробиться.
Связь наша осеклась как-то бестолково. Новый виток студенчества вновь удалил меня за семьсот верст от родного города. Нагрянув на зимние каникулы, я позвонил и предложил повидаться.
— В октябре ногу сломала. Срослось неровно, теперь хромаю, — стыдливо хихикнула она. — Не думаю, чтобы мой вид тебя воодушевил…
Гордость брала верх. Обладая темпераментом Настасьи Филипповны, Наташа не желала представать в роли увечной сестрицы капитана Лебядкина…
Итак, в тот день я к Лешке так и не попал. Проведя ее в свою комнату, я перво-наперво лязгнул щеколдой. Нехитрое это приспособление позволяло избегнуть родительских челночных визитов, предлогом для которых обычно служил трехстворчатый, в желто-лаковых потеках, платяной шкаф.
Без преувеличения: львиной долей своих литературных знакомств я обязан этой тугой металлической задвижке! Так, бурно фонтанирующая гастролерша Юля Лебедева-Рудник, актриса Еврейского камерного театра на Таганской площади, всего лишь полчаса обличала самодурство режиссера Шерлинга, подсадной утки органов безопасности (после перестройки те же самые органы прищучат его за торговлю детскими органами для пересадки).
— Можно, я тебя поцелую?.. — голос мой вибрировал от волнения.
— Что еще за табу? — удивилась конфидентка.
И вскоре картинно исторгла:
— Любимый мой, любимый!
Затем, застегиваясь, не преминула уколоть:
— Ты со всеми своими гостями так поступаешь?
Я ухмыльнулся в ответ: да будь моя воля…
Юля, разумеется, корила шутя: по дружбе она дала мне почитать булгаковского «Мастера», а также свела с Трестманом — семьдесят первым александрийским толковником, жившим, как выяснилось, на одной улице со мной. Гриша, в свою очередь, поспешил сбагрить меня Киму, знакомство с которым и стало плацдармом для моего будущего московского блицкрига…
Сама Юля, кстати говоря, недолго сидела в Минске на маминой врачебной шее. Оправившись от неудач первого брака (еврей, москвич, маменькин сынок, подверженный приступам шизы!), она вдругорядь ринулась в белокаменную — и, кажется, на сей раз преуспела. Во всяком случае, недавно в интернете я прочел о ее связях с русской мафией и о том, как ее промурыжили за это в швейцарской тюрьме.
Однако вернусь к Наташе. Наедине с ней я вздумал крутануть пробный шар: «жалобы турка», пени дискриминируемого. Неисчерпаемую эту тему подхватит полевая почта; она выскажется прямо: «Мне это не близко, хотя понять могу». Первоначально ж на ее лице проступила растерянность: «Да?.. Вот и Женя жалуется на то же…» — ссылка ее указывала на консерваторское светило, чью домашнюю оранжерею я так подло измял, пока голубчика арканил военкомат. «Мало тебе Риты, — казнился я, — непременно нужно добить парня!» И обязал солистку молчать, обо мне ни слова (обещание она нарушила: по забывчивости передав Моцарту привет от Сальери)…
Дабы унять нестерпимый зуд угрызений, я попытался урезать интимную прелюдию. Красный день ее календаря ничуть не смутил изголодавшегося служаку, напротив — лишь изощрил воображение падшего ангела. Не стану вдаваться в подробности — для этого существуют трактаты вроде «Кама-сутры», а также порнографические вирши израильской поэтессы Риты Бальминой.
— Все! — обреченно вжалась Наташа в сиденье такси, полагая, что заранее предугадывает мое решение.
Тем не менее, назавтра мы увиделись снова.
Школьный ментор Шехтман, послав бригадного гимнописца ко всем чертям, укатил на своей мезозойской «Победе» к Заславльскому водохранилищу. Примчавшись туда рейсовым, я расшаркался перед шезлонгами Леши, его благоверной Тани — с вечной смешинкой во рту, а также сестры Лины, всякий раз заигрывавшей со мной понарошку. Во искупление грехов мне пришлось заесть двадцатиградусное бабье лето дюжими божьими коровками томатных полушарий.
Гладь, умащенная весельным массажем памяти, отливала бликами давних влюбленных валанданий. Минское море — так нарекли эту лужу, явно повысив в звании, — призвано было разнообразить сухопутный городской быт. Здравницы слепнями обсели берег. Здесь же неподалеку застолбил участок спортивный лагерь отца…
Чету Шехтманов шнуровало редкостное единомыслие. Русалка Таня — из кожи вон — курила фимиам лысеющему барду. Этим лишь вредила взабыльной боли, ртутным шариком перекатывавшейся по Лешиным минорам. Союз композиторов его отверг, в логово к письменникам он не стал соваться. Как и всякий провинциальный аутсайдер, Шехтман верил в звездный час таланта.
Позже я устроил ему концерт в нашей литобщаге. Мухоловы в стоптанных шлепанцах почтили выступавшего жидкими аплодисментами.
— Натурально местечковый! — умилилась страстная армянская патриотка Сусанна, еврейка по бабушке.
Не будем утрировать, утверждая, будто успех у публики светит одним лишь двуполым эксцентрикам, но что он жирно облапан завсегдатаями банкетов и презентаций — в этом давно уже сомнений никаких.
Накануне отбытия на первый курс Литинститута я, считавшийся своим в обеих компаниях, свел Шехтмана с Хадеевым, не помню по какому поводу. И заочная их рознь, порядком беспричинная, обернулась плотным сотрудничеством. Поначалу Леша, как и все прочие, таскал Киму на подпись триолеты да рондо; затем — с первыми же кооперативными спазмами — сблизился с пройдохой Трестманом.
Сообща отцы семейств наладили выпуск шелковых вымпелов для ударников пятилетки. Им вдруг помстилось, будто инвалиды химической отрасли не проживут без переходящего в туберкулез красного знамени.
Поденщик светящейся сводки новостей, вышмыгивая из бани, больше не озирался в поисках предполагаемого шпика: корчить из правозащитника перестал — и жадно впился в агитационный фурункул на седалище соц. промышленности.
Преподаватель же физики — и прежде себя не обманывавший — смотрелся в этой ситуации честней компаньона: копя дочери на приданое, он начисто порвал с писаниной. Преданная Таня на мою оторопь: «Что происходит?» — прошептала коротко: «Совсем озверел!»
Насудачась от пуза, мы втиснулись в старинный драндулет. Наташе я с вечера продиктовал адрес, она должна была ждать у парадного. Мы прибыли на место, Таня оставила нас втроем. Леша, равно искусный как за рулем развалюхи, так и за клавишами фортепиано, встрепенул аккорды: «Отдельная! / Краснознаменная! / Железная бригада шире шаг…»
Недовольство сквозящей в тексте конъюнктурой усмиряла его природная отзывчивость. Чувствуя это, я приуныл — подобно скрипачу с кофейной этикетки, — покупатель, отстегивая жестяную крышечку, заказывает: «Маэстро, что-нибудь бодрящее!» — «Мы движемся — колонна за колонною, / И гордо на ветру алеет стяг…»
Шехтман сноровисто фиксировал марш, еще изнутри протаранивший мои перепонки. Значки по всей длине усевали нотную линейку — щетинясь, как прищепки с балконных веревок: когда бабушка Люля снимала просохшее белье… Сестра моя из-под палки долдонила сонаты — младшего в музыкалку отдавать не стали. Я утешился баянной экспрессией школьной певицы, пучившей глаза из-под мясистого парика, отливавшего синевой, как навозная муха.
О том, что декабристы разбудили Герцена, поведала нам она же — громокипящим тембром, призванным гальванизировать трупы. Чему удивляться: Валентина Федоровна старилась без мужа. Моему щелкоперству она мирволила: на лекции о Цветаевой, под сурдинку, позволила даже охаять Егора Исаева. Но однажды, полдня прождав меня с сочинением, каркнула: «Ну, я-то ладно! А как ты надеешься ужиться с будущей женой?» — и вывела «трояк», упрямо переправив «Пушкиным» на «Пушкином». Как в воду глядела: я вот уже третий раз развожусь — каждый раз при этом оказываясь в новой стране…
«Здражелавашескородие! — радостно тряхнул я кисть музыканта. — С меня могарыч! Но это не все. Вот еще одна песенка, пришедшая мне в голову во время мытья казармы». И завел волынку: «Это не твоя скрипка, / Положи ее в футляр обратно! / Счастье до того зыбко, — / Ты возьми его себе бесплатно…»
Следующий катрен скакнул в смежное звено звукоряда: «Счастье я отдам даром, / Вскрою вены — изойду кровью. / Скрипки ты не тронь с футляром: / Их единство чуждо суесловья!»
Наташа, потускневшая было, тотчас приосанилась — и резво шагнула по анфиладе тональностей, просквоженной свежим ветерком джаза: «Нет, не все в руках Фортуны, / Неподвластна жребию та мука. И — хоть перережь струны — / Все равно не извлечешь ни звука!..»
Аккомпаниатор без удержу припустил вскачь, вспомнив джем-сейшены времен хрущевской «оттепели», заходясь от счастья на импровизируемых виражах. «Грифа мне не жаль резного / И смычка, что пахнет канифолью. / Попросту с чужого слова / Невозможно жить своей болью!»
Голосу певицы славно давалось скольжение по мраморному полу секвенции, с гербовым средневековым орнаментом григорианского хорала. Привстав на пуанты в самой дальней из опочивален, он крутанулся вокруг звуковой оси — и на одном дыхании перенесся обратно в прихожую. Первый куплет стал заодно и последним: счастливое трио выплело искусный венок. «Ну это же совсем другое дело!» — улыбался Леша, расслабленно откинувшись на спинку стула.
10
Да, то и впрямь была чужая скрипка — без особой нужды мною потревоженная! Вчуже для обоих прозвучало бы и слово боли, не сочти Эльпер заранее наш с ним диалог безнадежным…
На Кимовой кухне — супругу его зная лишь издали — я ковырнул композитора, привлеченный точеностью его вагнерианских черт.
— Ну, и каковы же установки вашего духа? — заершился щуплый мальчик в капюшоне Савонаролы.
— Мой дух великолепно обходится безо всяких установок! — захотелось мне вывести фразера из равновесия.
— Похожее кредо в ходу на Комаровском рынке, — вполоборота заявил поборник принсипов (пролистни он повторно «Отцов и детей» — непременно устыдился бы шаблона). — Мой опыт, Григорий, по части такого общения крайне плачевен!
Позже Рита съязвит о его приверженности трансцендентному: «Женя еще в бирюльки играется — ты разве не заметил?» Тем не менее, по ее же рассказу, на политзанятиях в танковой части он в одиночку восстанет против неуставного беспредела. «Готовы привести конкретный пример?» — жадно вопьется в него партийный капеллан. — «Покамест затрудняюсь…» — на первый раз истязаемый красноречиво промолчит (сдается мне, правила скрытого шантажа привиты к подкорке каждого еврея).
Похоже, как раз недружелюбие Эльпера и подхлестнула наметившийся адюльтер: после нашего разговора я почувствовал себя задетым. Парадоксально, но Трестману, выставлявшему на витрину свой показной сионизм и одновременно приторговывавшему строкой про «израильских агрессоров», музыкант распахивал душу безоглядно. Двурушник — когда его поверенного забрили в рекруты — непременно крутанул бы фигли-мигли с его женой: не уродись он, по точной констатации Кима, «чистой макакой».
В тот вечер Гриша вязал пуповину эпилога на китовом брюхе своего «Ионы», сожравшего уйму чужого времени и нервов. «Поэты-спирохеты, пророки-гонококки!..» — из последних сил пыжился остряк. «Не пей — козленочком станешь!» — так звучал скомороший девиз: обыватель в нем шарахался от выбитой Пегасовым копытом Иппокрены.
Он потчевал наш шалман куцыми хохмами про КГБ древней Ниневии. Вяло лыбился Сеня Велеон в роговой оправе: зубоскальство трафило этому эквилибристу-крикунишке, заныривавшему в собственную беллетристику от скучных фортепьянных уроков.
Щирый Боря Галушко, англоман в пролетарской робе, озадаченно скреб оболваненный малохольный череп: в трестмановском словосочетании «русский пах» ему чудилось глумление надо всей славянской расой.
Борин молокосос Глеб, каланчовой длины миляга, корчил рожи Артуру Опанскому, жившему на улице имени своего деда-революционера и уже отчаявшемуся когда-либо привести в чувство запойную осетинку мать.
Артур же, хадеевский любимчик, и ухом не вел: позевывал в обнимку с пермяком Ромкой, радостно мочившимся на всех трамвайных остановках. Не знаю, был ли у них роман, скорее — нежная дружба: когда у Опани открылась ранняя язва, сыктывкарский волосатик сочувственно и бережно ощупывал его живот.
Прозаик Генкин, заочник Литинститута, в прошлом — заполярный экскаваторщик, был среди них единственный подлинный художник. Но грести против течения ему не позволял недавний инфаркт… Впрочем, однажды он взял-таки за грудки Опаню — влезшего (не только из дури) в мишурный, из костюмерной украденый эсэсовский плащ: «Да у меня, щенок, сестру сожгли!»
Это он, Генкин, черканет пару строк преподавателю Лебедеву, своему приятелю и собутыльнику, спецу по Ломоносову: дабы небо над Тверским бульваром сыпануло и мне немножечко манны небесной! Не первый год маринуемый местничеством издателей, Витька знал о животворности московского воздуха. (Ко мне, первокурснику, он заглянет на огонек в свои сорок с гаком — и, сообщая о выходе первой книги, с трудом сдержит слезы…)
Жаль отчасти и Артура: он все же рос без отца. Халатность пьющей мамаши была не в меру опрометчива: отрока всесторонне успел просветить студийный режиссер с кавказской фамилией. «Приемыш» его после этого уж очень ожесточился: своего собрата по сцене пописал за покером розочкой от бутылки.
(Сам Опаня сумеет увильнуть от армии. Выловив меня после дембеля в корчме «Троицкая», затащит квасить к другу, ветерану Афгана. При этом выспренне разглагольствовуя о малыше-велосипедисте — смотрящемся букашкой с высоты балкона, и о собственной попке — за которую в Тюильри якобы дали б увесистую пачку банкнот. Не замысловатей окажется и его друг Олег, угрюмо сипящий: у каждого, мол, своя Голгофа, да не след ее приближать… Вскоре в дверях возникнет мать — и афганец объявит ей, что сегодня женился. С ней случится сардонический припадок. Опаня задержится в гостях до утра. Уходя, я спрошу его: «Ты не дома ночуешь?» — «Здесь, только здесь!» — ласково потреплет он пружинистую койку).
Ким Артурчика выгораживал, баловал, сюсюкая про внешнее сходство с собой в молодости. Думаю, преувеличивал. Шутка ли: один — соплеменник Сталина, другой — Мандельштама, невинно умученного вождем!..
Год спустя, на арбатской скамейке, крючконосая старуха пристанет ко мне с вопросом: не осетин ли я? — и, узнав правду, выкрутится, пробормотав: «Тоже хорошая нация!» Бывают, значит, и так себе нации?..» Подход простонародья к проблемам крови пуглив — и потому достаточно поверхностен.
Полагаю, самолюбие Опани саднила моя ухоженность, веявшая преуспеянием еврейского гнезда. И не только моя: нашего брата здесь хватало. Примеряя плащ нацистского покроя, он, впрочем, больше пижонил, да и, может, просто нечего было надеть… Так или иначе, а Витьке претило слюнявое попустительство Хадеева: вот он и приструнил франта, сочтя нахлобучку вполне своевременной.
Помню, Ким втемяшивал простофиле Глебу, будто кремлевский горец являлся агентом Абвера. Мне же он мельком шепнул: «Ты взрослый человек. Надеюсь, не воспримешь всерьез». Сталина Хадеев ненавидел от души, что вполне оправданно. Как же случилось, что он в итоге подпал под аланские чары? Неужто происхождение холимого им Нарцисса подстегивало развившееся в мятежнике раболепие — трепет перед «сверхчеловеческой» яфетической расой? Или же он сознательно облизывал щенка ненавистной породы, развивая в нем манию величия, рано или поздно призванную его сгубить? В таком случае он просто суперстратег.
С апостольским жаром Ким лобызал Артура в уста (наш гуру любил похристосоваться — всякий раз после этого я брезгливо отхаркивался в умывальник). Идол его, юный, но уже весьма заскорузлый греховодник, терпел ритуал как неизбежную плату за первородство. Зато Витька Генкин — эталон самообладания — с вящей славой нес отпущенный ему свыше генотип. Впрочем, через пару лет, сдав госэкзамены и устроившись завлитом в ТЮЗ, он привезет в Нимфск из белокаменной… услужливую и покорную осетинскую жену. Воистину неисследима вязь кущей Твоих, Садовник!..
Чтение иссякло. Рите, осанившейся между двумя Гришами — мной и Трестманом, впору было загадывать желание. О чем она могла попросить? С Женей они безысходно толклись в утлой коммуналке, давно не питая друг к другу никаких чувств. Препоручая малышку маме, вторично вышедшей замуж за естественника Новикова и уже в ту пору очень больной, студентка музыковедческого факультета страстно рвалась на сессии в Гнесинку. Москва вдохновляла ее, отворяя шлюзы ее природной пассионарности. Полька на четверть, разметав золотые локоны по плечам, она то преграждала путь фашиствующим башибузукам, шагавшим громить хоральную синагогу, то заслушивалась Чайковским в тишайшей из церквушек на Большой Ордынке.
Вояжи в столицу развили в ней особую непоседливость: Рита редко довольствовалась какой-то одной компанией, постоянно старалась объять необъятное. То же касалось и представителей сильного пола. Это она заразит меня Москвой, она — поверив мне адрес Арсения Тарковского, этот пароль паролей — накажет передать привет автору и ныне щебечущего в моих ушах певучего «Чуда со щеглом». Да, вероятно, ценный эстетический опыт, как и всякие другие тайные знания, можно приобрести лишь путем масонской общности!..
Возвращение в Нимфск окунало ее в рутину: ребенок, стряпня, репетиторство. Отдушиной служило искусство во всех его ипостасях. Графика ее обнаруживала мертвую хватку зрения: Цветаева и я — два подаренных Ритой тонких карандашных этюда. Недаром в Иерусалиме она увлечется ваянием кумиров — открыв на дому школу для начинающих скульпторов: неумолчный позыв к нарушению Моисеевых заповедей переплетется с пластической доминантой ее дара…
Даже в том, что она, Эткинд по рождению, приняла посконную фамилию отчима, было больше вызова захолустной одномерности, нежели приверженности японскому театру ноо (нимфское еврейство, в отличие от московских марранов, к подобным уловкам прибегало реже).
Пунктуация ее анжамбеманов — утыканных — точками — и — тире — щедрей — корабельной — радиограммы — восходила к интонационной одышке Марины Ивановны: тоже, как известно, непредсказуемо влюбчивой. Сказалось в этом и сострадание собственной матери, непрестанно терзаемой ужасными приступами астмы.
Одну ее строчку время не вытравило из моей памяти: «О! — Мой Господь! — О! — Родина моя!» В ней мне чудился не столько перечень ценностей, сколько мощная и оригинальная формула: подданство своей души лирик прозревал в небесной сини. Заведя вторую семью, отец ее репатриировался в начале 70-х. «Рита — ярый сионист!» — несколько раз гневно провозглашал Ким (ему самому Израиль был всегда до лампочки).
Полагаю, в ее стихах зыбился Горний Град — христианский символ, увитый естественной дочерней тоской. Небесная проекция иудейской столицы, соосная подводным стогнам Китежа, столь же сакральна для православных, что и Сион для евреев. «Если я забуду тебя, Ерушалаим, забудь меня десница моя!» На вопль Псалмопевца откликнулся в своем послании св. Павел. У Иосифа Джугашвили, воспитанника духовной семинарии, отнюдь не случайно сохла рука.
От реплик в дивертисменте, нахраписто-дилетантских, я отстранился. Зато оживился, когда пошел треп о музыке: Трестман, надувшись индюком, расспрашивал Риту о ее дипломной работе по «Игроку». Убежденный литературоцентрист, я не преминул ввернуть максиму Жана-Поля Рихтера: «Опера есть привязывание себя за уши к позорному столбу, дабы выставить на всеобщее обозрение свою голову».
Возражала она с аристократическим сарказмом: не разверзая губ — смягчая тем самым табачный привкус дыхания. Соперник мой, расслабясь на пике успеха, изображал снисходительность. Выставлять меня своим оруженосцем Гриша опасался: я ведь был свидетелем его собственной духовной зависимости от Кима.
Впрочем, в подмастерьях он и не нуждался: во-первых — потому что мастером не был, во-вторых же — из-за своей прижимистости. Однажды, зайдя к нему, я попросил «Введение в каббалу» — книгу, о которой он обмолвился накануне и которую мне почему-то очень хотелось прочесть. Скопидом вздрогнул: «Я разве обещал?» — разложив на табурете ноги в гадко смердевших носках…
Стремясь чем-нибудь расположить к себе Риту, я стал рассказывать, как недавно на одной из родственных вечеринок внимал игре коренастого могилевчанина, приехавшего поступать в консерваторию (впоследствии Спиваков примет самородка в свой ансамбль «Виртуозы Москвы»).
— Да, Гена Гуревич — мой двоюродный брат, — кивнула она, узнав по описанию.
— Особенно классно он освоил это — как его? -
стаккато… — ляпнул я, не догадываясь, насколько смешон.
Сторожко преодолев скрипучие ступени, мы по замети добрели до перекрестка. Признавая поражение, я с деланной веселостью обернулся к своим спутникам:
— Ну, кому куда?..
— А тебе — куда? — бычьим барельефом надвинулся
Трестман.
Этот сверлящий взгляд достался ему, очевидно, от отца — комиссара еврейского партизанского отряда в Липечанской пуще.
Судя по всему, Рита сочла нужным его одернуть. Во всяком случае назавтра он заблеял агнцем (без лицемерия шагу ступить не мог):
— Ты уж, Гриша, пожалуйста, на меня не обижайся…
— За что?!
— Мне показалось, вчера ты еще хотел чем-то
поделиться, а я, как назло, ужасно спешил…
Валяй, ползи, сороконожка, перебирай лапками! Черта с два стал бы я с тобой делиться! Сила юности — в ее неразменности: сытая респектабельность когти себе пообдерет! К тому же Рита была достаточно проницательна, чтобы разглядеть гнилую подкладку его показной отзывчивости: ах, бедняжка, ее на на такой долгий срок лишают гедонистических радостей брака!..
Впоследствии, наталкиваясь на нас, Трестман неизменно склеивал пуританскую гримаску. Вынужденный отказаться от сногсшибательного приключеньица, полигамный пиит сошелся с каракатицей Дорой, переводчицей с английского, таскавшей цветастые ситцы. «Доротея не объявлялась?» — фасонил он, вырастая на пороге у Кима, селедочно поблескивая при этом прохиндейскими белками.
Гриша всечасно самоутверждался за чужой счет. Как-то в нашу компанию зачастил баптист Павлик — с ликом длинновласого византийского страстотерпца. Был он на диво искренен: открыто заявил военкому, что дуло «калашникова» не в силах остудить его веры в Иисуса. Спустя некоторое время он исчез.
— Пять лет лагерей! — словно кистенем шандарахнул Ким (сказал он это на ужине у Трестмана, жене которого по приходе всучил тюк жухлого белья).
— Подлец! Нет, ну каков подлец! — Гриша рассвирепел, явно слетев с катушек (возможно, его больше раздражало то, что Милаша, талантливый книжный график, вынуждена — баш-на-баш — обстирывать лоцмана его многоярусной фабулы).
— Я-то что могу поделать?! — возопил униженный гость, рискующий лишиться накрахмаленных подштанников.
Что правда, то правда — про него судачили разное: не одного, дескать, совлек с большака праведного. А уж там по желчи ли геростратовой, али по бескорыстной чекистской наводке — кто ж его знает…
Не думаю, чтобы он постукивал: на худой конец у него ведь и справка имелась — всегда можно было отмазаться. Да и не стали бы гэбэшную шестерку столь дружески привечать волевой главреж МХАТа Ефремов, блестящий критик Анненский и несгибаемый поэт Айхенвальд. Или вся интеллигенция — сплошные осведомители? Чушь! У меня другая версия, более убедительная.
На мой взгляд, фокусничество полукровки, магнитившего к себе все самое неординарное, рушило стереотипы сонливого жлобского мирка, питаемого интеллектуальной энергией уцелевших от геноцида и, как водится, законопослушных сынов Авраама. Нимфск, пожранный гитлеровской оккупацией, восстал из руин в облике генеральской вотчины. К усадьбам широколампасных толстосумов преданно ластились купы просторных парков. Лжеампирный шпиль штаба округа спиннингом зависал над тинистой Свислочью — выуживая все новых прыгучих краснобаев.
Прель милитаризма играла на руку Кремлю, пахучей железой метившему свои кордоны. Цивильному же люду засилье звездчатых, по-жабьи пупырчатых погон давно обрыдло. Но нимфские гужееды мало пеклись о будущем (ныне, когда вислоусая квакша увесисто шмякнулась на республиканский трон, многие запоздало спохватились!)
Конечно, тем, кто состоял в родстве с нарядными воеводами, жаловаться не приходилось: они досыта набили защечные мешки. Тому же Грише Трестману было чем похвастаться: тесть его дослужился до изрядных чинов. А вот Киму повезло меньше: оттого и терять было нечего.
— Ну пойми, задела меня его участь, задела! — с каждым
новым мыльным пузырем риторики к позеру, искоса поглядывавшему в мою сторону, возвращалось привычное душевное равновесие.
— А меня так нет? — в меру кипятился Ким, нарочитым
западанием интонационных клавиш сигналя о том, что он заранее сдается.
Оба, в сущности, сознавали свою травоядность перед хищным оскалом военной прокуратуры. Но декорации разыгранного на кухне спектакля выгодно очерчивали дерзновенность Гришиных аффектов — а подобной возможности он не мог упустить!
Усиленно поскребя макушки, они почему-то под занавес дружно решили, что сгинувшему в жерле трибунала Павлику призван помочь… никто иной, как аз грешный.
Подразумевалось мое знакомство с журфаковцем Радиком — филейным адвокатским барчуком, у которого я как-то брал почитать Монтеня. Богоизбранность свою отец его сумел деликатно замять — и оттого был на вась-вась со всеми пенитенциарными дятлами. Однажды он порадел по уголовке брату Игоря Шкляревского — перелагателя «Слова о Полку», шуршавшего на побегушках у «черной сотни» и одновременно пощипывавшего из евтушенковской кормушки. На гребне этой сделки аморфные, благоразумно выхолощенные вирши Радика попали в престижную «Юность» (от чего у меня не могли не течь слюнки зависти) — и я, по наивности уповавший на цеховую солидарность, через все ту же Юлю-актрисулю решил установить с ним контакт. И смаху опростоволосился.
Загвоздка в том, что от щедрот своих я привел к нему двух премило щебетавших архитекторш — тогдашнюю мою пассию Иру Вайнштейн и ее товарку Анюту Певзнер. Изучив поэму о детском крестовом походе, хозяин признал, что она под стать тем образцам, на которые была ориентирована. «Хоть и перенасыщена игрой!» — не преминул он капнуть дегтя для аромата. Прелестниц Радик охмурял песенками на верленовские «Romances sans paroles», затем выудил из конверта обшарпанный диск «Pink Floyd».
Ира давно просила меня свести с кем-нибудь Анюту — розовоперстую, порой на пуантах, но чаще замкнутую в себе для острастки. Наконец, представился случай… Я в ту пору охотно брался за подобное сводничество: бескорыстию моему при этом как правило сопутствовала близорукость. Вот и на сей раз грянуло непредвиденное. Уязвленный моим ремесленным превосходством увалень задумал взять реванш. Через три дня, устроив засаду на голубятне, я застукал его провожающим Иру до подъезда. Разглядев нахохленного беркута, птенчики замитусились и понесли путаную лабуду.
Назавтра я потребовал сатисфакции. Пригласив меня к себе, он зачем-то приплел июльский стройотряд, где один андрогинный селянин слезно склонял его к однополому соитию.
— Стрелять таких! — выпалил я максималистски, мало подкованный в этих нюансах.
— Стрелять, говоришь? — грустно повторил он. — Лично у меня ни на кого бы рука не поднялась…
Свернувшись калачиком, он подрагивал осетровым холодцом на кожаном диване. «Радик патологичен! — при одном упоминании его имени плевалась Таня Широкова, роскошная Юлина подруга в матроске, корпевшая над кандидатской по психологии. — Ни одна нормальная женщина с ним ни за что не ляжет!» Доверяя мнению авторитета, я не стал чрезмерно на него давить, просто объяснил, что у нас с Ирой это всерьез и надолго, и, одолжив первый том «Опытов», оставил его одного нервно вибрировать…
Теперь я вынужден был прибегнуть к услугам Лапушина. Но не младшего, а папаши — столпа нимфского правосудия. И не ради себя — а во спасение бесстрашного Павлика, игравшего с огнем по своей наивной прямоте.
Жили они рядом с «Колоссом Родосским», по-роденовски высиживавшим своих лапотных героев. В тылу у бронзового Якуба Коласа бегло струилась подцензурная строка уже упомянутой светогазеты: один площадной эпик как бы вышныривал из-за спины другого.
Встретились мы у подножия монумента. Крепдешиновое кепи придавало Радику солидности, но маслянистые вакуоли явно плутовали: сродни амбивалентному Трестману. Выслушав историю, он пообещал слово в слово пересказать папаше. Условились, что я ему звякну. «Какое там! — через несколько дней приглушенно подвел он черту на том конце провода. — Дела этого рода — полная безнадега!» Больше мы не виделись.
Литинститутец Володя Сотников, знавший Лапушина еще по университетской скамье, рассказывал, что тот после подался в чеховеды: беликовская агорафобия потянулась к своему изобразителю… Что сталось с Павликом — остается лишь догадываться. С ним мы перекинулись словечком только раз. Помню, с каким пиететом он отзывался о Киме, о том же Трестмане… «Вы, Григорий, вероятно, иудей?» — справился он с достоинством и заведомым уважением. Рыцарски бесстрашный взор его — одно из чистейших впечатлений той поры.
Что до Радика — тот от визита к Киму отнекался с самого начала: «С этакой глыбой уместней было бы на этапе побалакать!» — мечтательно зевнул он, как всегда студенисто трясясь на диване.
Стояла зима… С ремаркой этой, конечно же, ассоциируется экспозиция пастернаковской «Рождественской звезды»:
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Первое наше рандеву состоялось в приюте для неврастеников, где я и сам недавно отфыркивался под душем Шарко — охаживаемый старушенцией, как замызганный шевролет на пришоссейной мойке. Теперь — вот знаковое превращение! — тсцелившийся пациент заливал для ребятни зимний каток, подбадривая поэтессу в ее поединке с депрессией.
Многие из Кимовых послушников прошли это чистилище: кто как не он мог служить им образцовым консультантом! Так, Опаня умудрился избежать армии, благодаря своим актерским задаткам и вполне приемлемому для старой гестаповки составу крови. Рита же, в отличие от нас, и вовсе не юлила: с мужней повесткой над ней и впрямь сгущались бытовые тучи.
Я верил, что способствую преодолению душевного кризиса. Отлучки из стационара, персоналом, как водится, замечаемые сквозь пальцы, исподволь осветляли ее почерневшие подглазья. Мы заказывали молочный коктейль в кафетерии универмага «Беларусь». Иногда на этих прилавках нам попадались недурственные грампластинки.
Двумя месяцами ранее, ушло ныряя в прореху, я пировал тут с жовиальным Фаннином, поклонником этнолога Иоганна Гердера, и с его усачом историком из соседней палаты. (Школьных учителей у нас валялось навалом, кое-кто из них неясытью ухал во сне. Этот — дока по джайнизму — вроде бы держал нос морковкой, вышучивал апостатский пафос журналюги Цезаря Солодаря, повсюду тогда печатавшегося: мол, гляди, каков ваш пострел!..)
В фаннинских ряженых мне сдуру почудился некий пассионарный взрыв.
Расхристанная Сарра, его бессменная «кадр?», не расставалась с талисманом — латунным лезвием гуливеровых размеров.
Их однокашник Нафин, прыщеватый внешторговский баловень, несказанно гордившийся тем, что еще в девятилетнем возрасте впервые забашлял нью-йоркской проститутке, затаривался эфедрином на всю компашку. Кличка его была перевертнем имени «Фаннин», образованного, в свою очередь, стебом на аглицкий лад.
Под верховенством Жени Шамина, ветерана хиппового движения, мечтавшего слинять на Запад с собственноручно им созданной галереей асов саксофона, «пипл» хавал «колеса» в скверике диспансера, нанюхивался растворителя, кропя им шерстяные шарфы.
Длинновласый Алекс, горбатившийся где-то гардеробщиком, занудливо вытягивал из меня информацию об аттических трагиках, время от времени поскуливая: «Ну разве ж я виноват, что у меня мама еврейка?» — «Круто, отец!» — одобрительно кивал Фаннин, выросший в семье главы института марксизма-ленинизма. «Прикольный звучок!» — балдел он под магнитофонную кассету, пока Сарра рылась в шаминской машинописи, повествовавшей о хипповых шабашах 70-х. Сам историограф движения признавался, что завернулся под одну из рок-тем, когда крошка Джаннис родила от него мертвое дитя… Шизику кололи инсулин, прикручивали намертво к кровати: так как он истошно вопил с голодухи. В доморощенном его романе, помню, один раз мелькнула фраза с живым ритмом: «Мы шагали по тротуару, игнорируя прохожих, презирали которые нас, обходили которые нас, не желали связываться которые с нами — четырьмя…»
Впрочем, довольно скоро они меня запарили. И что только в их грачином грае нашел для себя этот увлекающийся пустозвон Дима Строцев?.. Сплошное мягкотелое сумасбродство золотой молодежи. Книги волосатиками листались безалаберно. Чирики заныкивались с чистой совестью. В Троицком предместье — сердцевине их карнавала — как правило рассусоливалась дежурная дребедень…
У Фаннина с Саррой не клеилось. Публичные их разборки сделались притчей во языцех. В мае она пришлепала ко мне на «флэт» аж из Смоленска — босая, насилу улизнувшая от раскатавших на нее губу похотливых ментов. Крыла на чем свет своего миленка, так и не удосужившись омыть ступни, распространяя по комнате невыносимую вонь. «Мне с тобой клево: оба несчастные…» — набивалась она таким образом в друзья ситные.
Звали ее Света Белик — божилась, что родом из поволжских немцев. Бабка ее отмотала срок в ГУЛАГе и всю жизнь мандражировала, что ее повяжут снова. Полоумная мать трезвонила всем без разбору: «Я — член Союза художников! Отвечайте немедленно, где моя дочь?!»
Кончила Сарра плохо: погорев на мазе со сделанного кому-то кустарного аборта… Игорь Забродский, он же Фаннин, осветитель труппы современного балета, гастролировал как-то в Москве. В гостях у моей сокурсницы Эвелины он назвался хахалем Аллы Пугачевой, а затем понес ахинею о вредоносности полукровок. «Почему это?» — не сумела скрыть обиды хозяйка. Я ерзал, как на иголках: сам же и приволок охламона. «Будет время — подваливай в гостиницу: у меня там персональный душ имеется…» — мяукнул он пятизвездочно, уползая куда-то на гала-концерт. Видно, в яблочко угодила струя Шарко, коей старушенция массировала душевнобольного!
За то, что отвадила меня от этой шантрапы, Рите я чрезвычайно благодарен. За мной не заржавело: я, в свою очередь, ввел ее в розенкрейцерову ложу кээспэшников — сообщество бардов, свившее гнездо в одном из районных домов культуры, где мы с ней сразу же стали играть роли лелеющих кровосмесительную связь изощренных инфантов.
Галя Новосельцева, сердобольная хозяйка помещения, была докой по части макраме да икебаны. Во мне души не чаяла. Шизоидность супруга-художника делала ее страстной общественницей. Не стану исключать, впрочем, и обратного воздействия… Помню, как в двухдневном походе с ее тимуровцами я наблюдал заторможенного дровосека, несуразно вертящего в руках кленовое топорище. «Гляди: раскорячивается помаленьку!» — умилилась Галочка. И в рифму поманила: «Айда, Гришенька, по малинку!» На опушке прокурлыкала: «Ягоды, лисички… А какие еще соблазны в лесу?» Но, чутко уловив мое «от винта», стала пенять на сухость эрудита Черныша, никудышного кавалера: «У тебя вот есть женщина, а у него — пшик: это и сказывается…»
В клубе «Радуга» неевреев было двое: она да шехтмановская законная половина. Это Таня, радея о тщеславии мужа, уломала ключницу закрепить за нами пятницы. Обе глаз не сводили с худущего Серегина, в кофейного цвета штроксиках, расставшегося в тому времени со своей белоруской. Боря же, отшлифовывавший сочиненную им композицию на стихи Вийона, косил украдкой на Ритину царственную шевелюру.
Миша Корпачев, кудрявый менестрель итээровского покроя, служил в этих пенатах образчиком творческого самоотречения. Кольцовская степь невесть каким боком пласталась в звуковом пространстве его тягучих еврейских мелодий: «У каждого своя дорога. Я — на своей…» Командировочная болтанка по райцентрам изнуряла его. Отдушиной служила лишь наша завалинка. «Признайся, ты аскет?» — насмешливо щурилась Рита: ее удивляло, отчего и этот не вьется за ней, подобно прочим. «Все это не настолько уж первостепенно…» — выдохнул он однажды мне в телефонную трубку.
Я готов был с ним поспорить. Положение мое в «Радуге» прежде всего зиждилось на имидже порочности, на нашем с поэтессой инцестуальном единомыслии. В первый же вечер — едва Леша нацелил в меня копье дидактики — защитница моя ретиво взбрыкнула: «Чем вылавливать блох, признайте лучше, что это по-настоящему талантливо!»
Окрыленный первой победой, я посвятил ей «Женщину-дерево». О каре за самоубийство по кодификации Алигьери — превращении грешника в дерево — поведала мне она же. Суицидальный ее настрой не был для меня секретом. Стансы венчала строфа: «Ей выпорхнуть дано из оболочки — дочуркой, обучившейся летать: когда поджог свершит садовый тать, предав огню надтреснутые почки!» Прочтя эти стихи на очередном сборище, я заикнулся о чаепитии: не терпелось поскорей нарушить зловещее затишье. «Ребята, давайте подсоблю! — зазвенел эмалированными чашками. — Вы не думайте, я в жизни такой же как все». Нотку самоиронии они прошляпили. Я уловил, как Юра Левин, охочий до пародий круглощекий живчик, буркнул в умывальнике Мише Гончарову, тихоструйному люмпену с увечным глазом: «Фу ты, ну ты! Ишь, растрогал: в жизни он такой же как все!»
Иноходца своего я объездил на «радужных» посиделках. В угрюмой хадеевской бурсе приходилось не в пример горше. Келейник застоя, хоть и обласкал меня с порога, после не раз доводил до белого каления. Однажды он не на шутку взъелся на мой неологизм «погромье» — нечто среднее между погромом и ясным небом после грозы. «Тьфу! — ярился Ким. — Сразу видно: еврей напортачил!» Его, полукровку, я прощал. Но тут чистокровный нееврей Ренанский, завмуз Театра русской драмы, не преминул пнуть шлимазла за компанию: «Один только еврей мог подобное нацарапать!» Трестман, корпевший в те дни над мюзиклом, угланом вякнул из кухни: «Скажи: будете доставать — махну в Израиль!» — при этом шутовски налегая на последний слог. Не видя другого средства, я подавил обиду: час прорыдал снаружи на скрипучих ступеньках…
В новой кавалькаде безлошадность мне не грозила. Внучка табельного письменника Крысько — восьмипудовая краля не без евреинки — томно пожирала глазами гарцующую пару. Чужой интим растравлял ее бессонницу. Она заманивала нас в будуар, отпихивая путавшегося под ногами Кацнельсона: «С жидовьем не вожусь!» — и тотчас утешая: «Шутка, господа!»
Обмороки Юля откалывала виртуозно. Когда холостые инсинуации наскучили — приискала себе крепостного телохранителя и с хрипами отваливалась на заднее сиденье в шуршащем по наледи ночном такси. Жестоковыйный женишок пер тушу в шубейке на пятый этаж: один ее глаз по-прежнему подсматривал за нами… С началом весеннего паводка шалунья угомонилась, стала рифмовать «сирень» со «смиреньем». Впрочем, мне, помышлявшему о стезе филолога, неумолимо лязгнула: «На нашем факультете тебя зарубят».
Кацнельсон же — тот просто спятил от влюбленности. Бухался перед Ритой прямо на тротуар. Исповедально поверял ей и Крысько — своей бывшей однокласснице, как отроком самозабвенно предавался рукоблудию. «Устали статуи стоять на постаментах!» — бил сатир копытом по александрийскому граниту. Но так ничем и не сумел пронять богиню. «Аркаша — типичный выродок!» — заключила она. Выйдя из себя, отпрыск главного архитектора города кипятком ошпарил дедушку и сиганул из окна, сам превратясь в гипсовую статую.
Милые, добрые нимфские марионетки, затхло вам дышалось в фамильных склепах! На кронверк Ритиной неприступности блаженно облокачивалась моя гордыня. Кифаред Женя Израильский, вороной зрачок с челкой того же цвета, вознамерился однажды расплавить этот айсберг. «Ох, запутался я в жизни!..» — затряс цыганскими лохмами, перебирая серебряные струны. Насмешница, куражась, обо всем докладывала мне, своему юному избраннику.
«Только не стоит воспринимать меня этакой местечковой Федрой», — оговаривала Рита свое реноме. «Будь с нею, хищницей, всегда начеку!» — стращал меня за баранкой прозаик Велеон, чье имя — горою из Книги Царств — высилось над кочками простоволосых прозвищ. Но душу бередили иные мифы. Сакрализация кровосмешения — вот к чему неудержимо влекло вступивших в соавторство.
В магической «Рождественской звезде» Пастернака она, профессиональный музыковед, распознала цикличность бетховенской сонаты. Меня же восхищала звукописная огранка — с отчетливо рельефной идеограммой атмосферного нахлыва:
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары.
«Подлинность поэзии, — вывел я тогда, — прямо пропорциональна перемещению переживаний». Статья наша оформилась в несколько присестов, написанию ее всякий раз сопутствовал всплеск гедонизма. Прокурор Шехтман на торжественном заседании вменил ей в вину наукообразие. Члены клуба, разумеется, приняли его сторону. Сон же младенца оказался вещим: вторую свою израильскую книгу я назову «Сквозняк столетий».
В Переделкино — где я через пару месяцев заручусь белым шаром критика Огнева — глазам моим предстанет средневековый замок на улочке Тренева. Карликовость топонима немало насмешит. Навстречу мне выпрыгнут карборундовые псины («От шарканья по снегу сделалось жарко./ По яркой поляне листами слюды/ Вели за хибарку босые следы./ На эти следы, как на пламя огарка,/ Ворчали овчарки при свете звезды…») Сероглазая Лена Пастернак введет меня на цыпочках в феерический кабинет деда. «И откуда это острое чувство родства?» — сомнамбулой прошепчу я, запоздало осознав, насколько же мы разминулись во времени. Но знакомый профиль резца Зои Крахмальниковой не произнесет ни звука.
Затворив калитку, я рухну бесчувственно в сугроб на перекрестке. «Помощь нужна?» — притормозит сердобольный водитель самосвала. Я остекленело мотну головой… “Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя».
[1]
Разница в возрасте поначалу нас не смущала. Мне не терпелось забить баки Опане, козырявшему своим постельным кувырканием со сверстницей. Грация молодой матери, ее лучезарность, интеллектуальная рафинированность, давали фору чернявой девчушке, непрестанно цапавшейся с неврастеничным актеришкой. Трепет и вожделение, с коими Артур и иже с ним взирали на Риту, доказывали, что я вырвался наконец из страты отверженности. Правда, при этом я и сам невольно начал подражать вздорному нарциссизму хадеевского фаворита. «Правда же, я хорош собой?» — сверялся я, лежа в ее объятьях. «Правда, — чуть помедлив, соглашалась она. — Даже непонятно зачем, Гриша…»
Эльпер, зашедший погулять с двухлетней Машенькой, застал меня попивающим кофе в его тронном кресле. Обсуждать бракоразводные детали они удалились в прихожую. Заметив на столе сафьянный переплет, я раскрыл его на закладке. «…Категорический императив, не к ночи будь помянут! Слушал повторно «Страсти по Матфею». Дома — полный бардак…» — автор тщетно силился попасть буквами в клеточку. Заслышав шаги, я захлопнул дневник. Рита вошла бледная. «Что-нибудь стряслось?» — «Нет, все нормально. Просто у Жени, когда он вывозил на улицу санки, страшно дрожали руки…»
Через месяц он ушел служить. С женой его, постепенно превозмогшей затяжную депрессию, мы теперь повсюду появлялись вместе. Надя Крупп, вдова сорвавшегося в пропасть барда-альпиниста, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, как раз в этот период стала организовывать домашние концерты. Были и другие энтузиасты. Время от времени в нашу тихую гавань заглядывали то Булат Шалвович, то божественная Камбурова, то неразлучные Лорес с Мирзояном.
Как-то раз сборную столичную солянку приняла окраинная аудитория, к которой, по-моему, также имела некое отношение Галочка Новосельцева. Народу набилось тьма тьмущая. В сонме фанатов КСП мелькнул срезанный подбородок начинающего борзописца Сережи Наумчика — сокурсника Радика, мажорно щеголявшего в черном бархатном костюме. («Их нет!» — пролепетала в трубку пугливая домработница, когда я однажды позвонил этому горкомовскому выкормышу.) Сопровождал его хлыщеватый зятек скульптора Аникейчика, изваявшего тот самый одиозный колосс на площади Я. Коласа. «Это настоящий триумф! Весь диссидентский Нимфск съехался сюда сегодня!» — не скрывал я щенячьего восторга. «Как же, диссидентский!» — перемигнулся журфаковец со своим конфидентом. Тогда он и не предполагал, что его ветром сдует в Канаду: подальше от лукашенковского местнического самодурства…
Потеряв из виду Риту, я столкнулся в фойе с архитекторшей Вайнштейн, с которой мы разбежались минувшей осенью. Теперь она мыкалась в проектном отделе, переписавшись Машкиной по матери-волжанке. «Гриша!» — окликнула она. «Ирка, и ты здесь?» — я чмокнул ее галантно. В тот вечер — застукав их у подъезда с Радиком — я проявил себя грубой скотиной: прокрался на цыпочках мимо комнаты глухого деда (родители млели где-то на курорте), растянулся на ее матраце и учинил ей поистине Варфоломеевскую ночь, обличая до утра и ни на минуту не давая прилечь. Простила ли она меня? Поначалу об этом и речи быть не могло. Но со временем мы помирились: абстрагируясь, однако, от когдатошней нашей близости. За исключением того единственного раза — когда она, в повойнике, хлюпнула в подушку: «Столько недель крепилась — и н? тебе, дала осечку!..»
Нам обоим в унисон захотелось немного поболтать, и мы условились, что я подожду Ирку у выхода. Но спустя всего лишь мгновение на лестнице, этажом выше, вырисовался силуэт Риты — с точно таким же душещипательным восклицанием: «Гриша!» Застигнутый врасплох прощелыга Труффальдино позорно заметался по стертым ступенькам…
Впоследствии всех «радужных» пернатых, рискнувших на концерте подсвистеть залетным московским кенарям, комсомольские боссы затаскали по худсоветам. Перлы из доноса какого-то доброхота невемо как сделались достоянием гласности. «Этот красавчик, — брюзжалось в цидулке по поводу выступления Окуджавы, — выскочил на сцену в цветастой рубашонке…» Невольно приходило на память, что впервые Наумчика я встретил на вечере Вознесенского в Технологическом институте: теребя фантомный подбородок, взволнованный интервьюер колдовал над своим подготовительным вопросником…
Помазание на царство Андропова нимфская интеллигенция, поджавшая хвост после покушения на Машерова, отмечала традиционной сушкой сухарей. Еще зимой, в дребезжащем трамвае, мы с Ритой наткнулись на кутавшуюся в тулуп Юлю Лебедеву. «С новым Сталиным вас!» — иронично поздравила нас бывшая актриса Еврейского театра. Полдороги мы тряслись втроем: я и две моих пассии, каждая из которых была лет на пять старше дамского угодника. Юля жаловалась на мошенничество со стороны администрации расторана, где она руководила кабаре. Ее по-прежнему тянуло в Москву, несмотря ни на какие местечковые страхи[2].
Почто я разорил чужое гнездо? Отдавал ли себе отчет в своем кобельем вандализме? Задумался ли хоть раз о будущем агусенькой Машуни — или попросту подшил ее всхлипы к брачному контракту Иры Машкиной, втуне полагавшейся на мою мужскую зрелость? Не за те ли самые прегрешения наслал на меня Садовник Машу Бабушкину — их общую соименницу, спустя год поступившую со мной немногим лучше?..
Увы! Одиссею Эльпера я описал как по лекалу. «Хорошо тебе!..» — завидовала Рита бесшабашности экс-ваганта в стеганой телогрейке. Впрочем, ледяной каток я заливал недолго. Слесаря-сантехника скоро вышвырнули из спорткомплекса за непомерную строптивость. Начальника отдела кадров я попросил подписать характеристику, из которой явствовало, что его подчиненному свойственна подозрительная нелюдимость (попытка закосить от армии). «Не ищи легких путей!» — назидательно рявкнул бывший служака и демонстративно порвал листок. Я обматерил его трехэтажным и был таков. После чего, забурившись в первый попавшийся обшарпанный подъезд, наклюкался пива и стал смачно икать. Мутноглазый жилец, проходивший мимо с пустым ведром, не долго думая принял меня за беглого зэка: «Землячок! — присел он сочувственно на корточки. — Погоди, вынесу ломтик ливерной…»
И в бассейне восстановительного центра, где работал мой отец и куда меня как правило пускали без абонемента, вышла та же петрушка. Новый зам, решивший, что я безбилетник, конфисковал у меня из шкафчика трехцветную шерстянку. В качестве ответной меры я харкнул ему в лицо и благополучно улизнул.
— Все! Он подает на тебя в суд! — горестно выдохнул дома папа.
— У Аркадия Юзефыча солидный авторитет, — осторожно распекал меня на аудиенции курчавый директор басейна Жевелев, — и поверьте, это далось ему значительно трудней, чем всем прочим…
Вскоре, пользуясь все той же семейной протекцией, я нанялся униформистом в цирк: видимо, фортели, которые я откалывал, отныне нуждались в массовом зрителе…
С Ритой мы пробыли вместе всю зиму и всю весну. Маме моей она импонировала. Но жить-то с ней пришлось бы мне: не поступи я вовремя в Литературный институт… «Ты для меня — эликсир вечной молодости!» — высокопарно признавалась распаленная страстью поэтесса. И ненасытно вампирила из меня энергию — равно сексуальную и творческую.
В мае мы направились с ней к месту бывшего гетто, где белорусские евреи обычно отмечали День Победы. Дружинники с алыми повязками и харями полицаев щерились на нас весьма многообещающе. Миновав оцепление, мы протиснулись к котловине, на мощеном дне которой темнела стела с надписью на идиш. Расправив полосатый талис, седой раввин перелистнул молитвенник. И вдруг — дико рявкнули репродукторы: народный артист Кобзон потчевал соплеменников завизированным свыше репертуаром.
— Вы бы еще танцы устроили! Здесь, между прочим, люди похоронены! — рванулся разъяренный ребе к тощему менту.
Тот от неожиданности скукожился. Но его сподручный зыркал гордым соколом. И как нарочно — все больше на меня. Впрочем, не случайно: ведь и я в этот момент разглядывал его в упор. Я еще толком не знал, на что решусь. Пока лишь пристально всматривался в игру желваков на сальной ряхе «мусора». Судя по всему, он родился и вырос в обычной «вёске»: такой же как Хатынь — заживо спаленная эсесовцами, а затем увековеченная в камне отцом Гали Левиной, моей знакомой с архитектурного. Левин-старший впоследствии возглавит еврейскую общину города. Догадывался ли он тогда, воздвигая монумент погибшим, что многие из них были не только его земляками, но и соплеменниками?.. Или эту информацию рассекретила для него только горбачевская перестройка?
— Позор! Подонки! — выкрикивали ветераны, гневно обступив расстрельную яму.
Один из них, почти совсем слепой, грудь в орденах, не выдержав надругательства, возопил:
— Евреи!
На этом выкрике вся масса загипнотизированно хлынула к нему.
— Братья, послушайте! — тембр старца стал принимать очертания Страшного Суда.
Но легавые с обеих сторон палачески изготовились — ощутив это, незрячий оратор внезапно стушевался и подкошенно зашамкал что-то про подвиг советского народа под руководством мудрой коммунистической партии…
— Окончательно затюкали мужика! — с досадой махнула рукой моя спутница.
Вокруг меня и Риты постепенно собиралась компания. Простояв полчаса, мы двинули в приозерный парк. В тот день я так ни на что и не отважился. Но совесть отнюдь не грызла, на душе было на редкость безоблачно. Блеск садовых ножниц привиделся мне. Я словно уже заранее знал, что 26 апреля 1986 года, день в день с приснопамятной чернобыльской катастрофой, меня выпишут из психиатрической больницы «Новинки», где я проведу последнее двухмесячье своего, как и положено, двухлетнего армейского срока!..
11
Асхаб — по-арабски «сторонник». Так величали сподвижников Мухаммада, его первых витязей, а впоследствии — и всех тех, кто хоть однажды лицезрел пророка вживе. Коранические имена охотно давали детям в брежневской Чечне: религиозное благочестие сочеталось в этом акте с неистребимой жаждой отмщения.
Асхаб Зухайраев, теневой премьер жодинской роты, куда меня под занавес перевели из Нимфска, без труда узнал корреспондента, с камерой подмышкой выезжавшего как-то на пленэр.
— А, журналист! — приветствовал он меня с характерным для всех чеченцев бирючьим подвыванием. — Что, турнули тебя из бригадной многотиражки?
Потроша вещмешок, я с опаской осваивался на новом месте.
— Тогда ты, кажется, неплохо о нас писал, — засчитал он мне очко по старой памяти.
Весной я тиснул в передовой стандартный панегирик абрекам, загоравшим на расплавленном рулоне рубероида. Теперь мне за это причитались дивиденды…
Капитан Бобров, двухметровый топотун, залучив штатного каллиграфа, с кондачка нахлобучил на мой бренный мозг ахинею внутриротных реестров и циркуляров. С майором Шморгуном, замполитом части, он ладил туговато: из меня, сноровистого в бюрократических загогулинах, решил соорудить себе надежный громоотвод.
Крючкотворствуя в заветной тишине, я ежился в ожидании не одного, так другого горлохвата. Василий Бобров, с морозца заваливавшийся из гаража, изрядно зависел от настроения. Задания его я выполнял споро, но по должности неизменно попадал ему под руку. Всласть наоравшись из-за очередной придирки, ротный ослаблял портупею и пускался в откровенность:
— Эх, Маргоўски, земеля ты мой непутевый! Когда-то ведь и Вася працовал в НИИ: Васю ўсе уважали, звали по отчеству… А теперя што? — Равнение нале-во! Шагом арш!..
Мы с ним как будто перестраивались из колонны в шеренгу: буквально только что я не смел и вздохнуть, тупо вперившись в затылок командиру, — но вот он уже запанибрата штурханул меня локтем, поводит носом, заваривает чаек…
Что до замполита — тот, наоборот, как правило вползал бесшумно:
— Так, товарищ писарь! Опять ваньку валяем? — и вытряхивал из кармана бесплатный довесок: жменю плакатных перьев.
Грунтовка показушных стендов курировалась им недреманно. Принимая во внимание психическую самобытность, я поддакивал всем перлам Шморгуна, как-то: «Киев есть крупнейший культурно-просветительский центр не только Украины, а и всей Западной Европы!» Но чихать он хотел на кротость подопечного — и, швыряясь в него угольниками, крошил рейсшины о подоконник.
Перед Асхабом все пресмыкались так же безропотно, как бригадные суслики в Нимфске — перед великаном Нестеренко. С той разницей, что новую казарму населяли одни «чучмеки»: неповоротливые, прицокивающие языком узбеки, карабахские армяне, азербайджанцы из Нахичевани…
Пахомов, празднуя фиаско недруга, заверял, что меня ждет в батальоне секир-башка. Тем не менее я с порога сдружился с Адалатом — беззаботным хохмачом с тонкими бакинскими усиками. Качаясь на брусьях, он делился со мной пикантными подробностями о дебелых хабалках с белазовского конвейера. Еще рассказывал, что поначалу служил в хохляцком взводе, и если б не подписка ребят из Грозного, ни одна из заводских барышень уже и не взглянула бы в его сторону.
Чеченцев в роте было трое: хотя наш султан прекрасно справлялся и без помощи визирей. И то сказать, под дудку их плясал весь батальон. Самозванцев двадцать, остервенело лая на построениях, обеспечивали дисциплину, уставным путем едва ли достижимую. Стаю эту спаяла безупречная круговая порука. Жесткая иерархичность обеспечивала ей полную победу.
Зухайраев был блондин, но на тюркских скулах пылало непререкаемое: «Прищеми метлу!» От него-то я впервые и услыхал о шашке из лучшей стали, белой бурке, белой папахе и коне той же масти с золотой упряжью, заготовленных для фюрера. В чаду зловещих предреканий загрохотали эшелоны с ссыльными: так и не дотерпев до киргиз-кайсацких бараков, беременные женщины мерли от разрыва мочевого пузыря…[3]
— Мы из волчьих ущелий, — ярился Асхаб, — и потому офигенно жирный кусок урывать привыкли!
Приблизительно через пять лет нашумевшая афера с фальшивыми авизо исчерпывающе оправдала его патетику.
— Марговский, — мой ночной джинн резко снижал децибелы, — хочешь в роте стать вторым после меня?
Готовясь к чему-то вроде ритуала братания, я почтительно немотствовал в ответ (сегодня, анализируя этот всплеск великодушия, прихожу к выводу, что мне завуалированно делали предложение)[4]. Казалось, в его душе зашевелилась преданность хазар — а то и забродила воинственность всадников Адиабены, принявших иудаизм намного раньше прочих геров. Ах, нет: скорее то заговор суфийского братства низал меня на шампур задуманной узурпации — обильно глазуруя при этом налетом мистики!
— Клянусь Аллахом! — беленился он, стоя в наряде. — Мы не спим — и штабное начальство тоже глаз не сомкнет: чует, небось, что мы о нем базарим! Нюх у этих шакалов — за версту!
Шморгуна и подполковника Беляева, сухопарого комбата, Асхаб ненавидел всеми фибрами. За одно уже то, что они выше его по рангу. Зеленое знамя пророка колыхалось на ветру коллективного бессознательного. Было это задолго до грызни горских тейпов, зверских терактов и ковровых бомбардировок. Потому, наверно, и не застали меня врасплох воспоследовавшие ужасающие события…
В одну из ночей, попыхивая анашой в каптерке, мы завели беседу о греческой философии. Его и лысоватого увальня Абу заинтриговала непостижимая личность Сократа. «Делай свое дело и познай самого себя!» — огласил я сверкающий афоризм учителя Платона, извлеченный мной когда-то из «Опытов» Монтеня.
— Вах! — воскликнули оба, выронив косяк.
Как известно, мудрецы Востока издревле черпали из кладезя эллинской учености. Недаром Аристотеля средневековой Европе возвернули толмачи Халифата. Но направленность их письма справа налево как бы воплощала в себе встречность интеллектуальной волны. На зримом, бытийном уровне интерференция цивилизаций выражалась в непрестанных сшибках креста и полумесяца. Но метафизический слой истории заметно усложнял и углублял конфликт. В девяностые годы в Москве, анаграммируя топоним «Сараево» — один из главных очагов межконфессиональной розни, я внезапно обнаружу в нем те же буквы, из которых составлено имя «Аверроэс»…
О Сократе я бы мог им порассказать порядком, но Асхаб вполне удовольствовался одной цитатой.
— А теперь, — шелестнул он глянцем невесть откуда взявшегося «Плейбоя», — давайте-ка полюбуемся на задницы этих сучек!
Чересчур пряный разговор о плоти — это либо компенсация природной ущербности, либо же экспансия витальной мощи, лукаво отсрочивающей мысль о метемпсихозе. Переселение начинки наших тел, ее всеблагая продленность в предстоящем перерождении — вот в чем тайный смысл всякого человеческого соития, любого оргазма, доступного смертному воображению.
Тот же Сократ, по природе двуполый, помимо отпрысков биологических, чаял обзавестись и детьми духовными. Не довольствуясь прямой передачей генов, он, обливаемый помоями Ксантиппы и побуждаемый инстинктом бессмертия, неустанно прививал тайную мудрость своим последователям. Сын скульптора Софроникса и повивальной бабки Фенареты претендовал на сан простого смертного и нерукотворной статуи одновременно: недаром во время морского похода в Потидею он простоял, не шелохнувшись, целую ночь.
Наследуя отцу, он пробовал работать по камню: «…одетые Хариты на Акрополе, по мнению некоторых, принадлежат ему», — пишет Диоген Лаэртский. Но в итоге мудрец предпочел тесать идеи из лексических глыб средиземноморского койне и ваять последователей своего учения из податливого афинского юношества: сведя воедино профессии обоих родителей и замахнувшись на заманчивую роль демиурга[5].
О подражании богам свидетельствовал и его аскетизм: «Лучше всего ешь тогда, когда не думаешь о закуске, и лучше всего пьешь, когда не ждешь другого питья!» — гласил его афоризм, подразумевавший, что чем меньше человеку требуется земной пищи, тем ближе он к вершине Олимпа. Из сатир Аристофана следует, что философ ходил босой: так он уподоблялся множеству статуй, изображавших насельников греческого пантеона.
По утверждению Диогена Лаэртского, Сократу принадлежит следующее изречение: «Удивительно, что ваятели каменных статуй бьются над тем, чтобы камню придать подобие человека, и не думают о том, чтобы самим не быть подобием камня». Если бы он тогда же отважился прибавить: «но быть подобием богов», — то, возможно, расстался бы с жизнью значительно раньше.
Он и в жене своей видел подругу бессмертного олимпийца, иногда подменявшую супруга в исполнении сакральных функций — не зря ведь пошутил, когда она, в очередной раз выругав его, окатила водой: «Так я и говорил, у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь».
От афинского философа, этого каменного кумира, неизменно отскакивали и потуги освистывавших его комиков, и свирепая ругань сварливой супруги. Высмеивание им то ремесленников, то политиков, то риторов, то поэтов — косвенное доказательство его богочеловеческого самовосприятия: кто еще без разбора станет метать громы-молнии в простых смертных?.. Надо ли говорить, что софисты Анит и Мелет, а с ними и всесильный демагог Ликон, затаили на него обиду не столько за многочисленные ниспровержения каст и цехов, сколько под влиянием известного им суждения пифии, ответившей на вопрос Херефонта: «Сократ превыше всех своею мудростью!»
По одной из версий, он умер не от яда цикуты, а надышавшись серным чадом, исходившим из расщелины, где обитала дельфийская пророчица. Если это и не так, версия точна в метафорическом смысле: ведь именно зависть гонителей, подобная испарениям серы, спровоцировала гибель богоравного философа — удушив его своим ядом. Клятвенное их заверение перед судом звучало так: «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софроникса из Алопеи: Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то — смерть». Бесстрашное высказывание осужденного: «По заслугам моим я бы себе назначил вместо всякого наказания обед в Пританее!» — в тот момент, когда судьи совещались, определяя ему кару, — еще одно свидетельство убежденности в своей божественной природе.
Так или иначе, а вместо дивной амфоры с нектаром из горних трав, он через несколько дней выпил в тюрьме цикуту — настой из болотного горького веха.
Пей у Зевса в чертоге, Сократ! Ты назван от бога
Мудрым, а мудрость сама разве не истинный бог? -
Этот гекзаметр Лаэрция как нельзя точней отражает суть тайных устремлений философа: вот кому родиться бы римским императором, дабы его идолы воздвигались для поклонения в завоеванных землях!
Впрочем, как известно, афиняне раскаялись очень скоро: в честь невинноубиенного воздвигли бронзовую статую работы Лисиппа — поместив ее в хранилище утвари для торжественных шествий. О большем Сократ и мечтать не мог: как жил, так и умер — самоизваянный предтеча еврейского богочеловека. Все четверо его тезоименитов — и аргосский историк, и перипатетик из Вифинии, и эпиграммист, и толкователь божественных имен, — на поверку оказались лишь недобросовестными копиями…
Нечто похожее я наблюдал и в Хадееве — хоть его причастность к мужеложству и сомнительна (по крайней мере, слухи о том никогда не муссировались в открытую). Но Кимова тяга к слюнявым лобызаниям при встрече, застольные беседы в парной за пивом, в белых тогах, — это ли не закладка фундамента эрзац-семьи, призванной унаследовать его коронные идеи?
Давним философским коньком его была двоичность — термин, отчасти восходящий к доктрине Мартина Бубера, отчасти же навеянный половинчатостью происхождения. В перерывах между очередной халтурой и мастер-классом он напруженно катил в гору сизифов валун одноименного трактата. Все его вихрастые недоучки — от долговязого Глеба и пермяка Ромки до фаворита Артурчика — в один голос подстегивали старика: ты гляди, не похерь своего magnum opus’а!.. Завершил ли он его в итоге? Б-г весть. Знаю только, что скончался от рака осенью 2002 года — добившись чуть ли не официального признания в связи с новыми поветриями, выступая по местному TV и скромно величая себя человеком-глыбой…
Геморрой доставлял ему массу страданий. Сутулясь в предвкушении предстоящего разгрома, я слушал, как он покряхтывает за дверью нужника. В унитазе отсутствовала крышка. Руки сполоснуть можно было лишь на кухне. Не год и не два бедствовал бобыль в каморке, принадлежавшей некогда его сестре. «А ведь всю свою жизнь был окружен женщинами!» — укоризненно качала головой мама Юли Лебедевой, знавшая его когда-то в молодости.
Махровый ассимилянт помышлял о создании ордена полукровок — нечто вроде штайнеровского Гетеанума, но только на генетической основе. «Еще один полтинник!» — потирал он руки, заараканив к себе Фила Аксенцева, носатого текстовика белорусских рок-групп. Тому прискучила учеба в Радиотехе, он публично набуянил, нацепив футболку с надписью «Hell». Но вызов в местное ГБ разом остудил его пыл: там он распустил нюни, был прощен, и впредь обходил наши печки-лавочки за версту.
Я водил к Хадееву Ханку Зелькину, еще до ее брака со Строцевым. Захмелев от шампанского, Ким горланил, горланил и вдруг зарапортовался. Переглянувшись, мы тихо прыснули. Тогда он резко посуровел: «Вы, — прошептал истошно, — понятия не имете, как это больно!»
Ира Вайнштейн — тоже из «полтинников», — очутившись у него, сразу же заныла: «Мне здесь не нра-авится. Пошли отсю-уда!» Что ж, немудрено: отец ее был человеком преуспевающим. Помню, 9 мая 1982 года, отдав дань памяти пяти тысячам жертв гетто, мы завернули к ней на чашечку кофе.
— Что это вас вдруг туда понесло?! — искренне поразился Вайнштейн-старший.
В Нимфске негласно считалось: если посещаешь Яму — значит ты поставил крест на своей карьере…
Впрочем, я далек от мысли, будто изменял Ире из-за недостатка в ней стоической твердости. Родней ее попрекал — из песни слов не выкинешь. Как-то, во время каникулярного вильнюсского вояжа, даже до слез довел. Но при этом и доводил исправно до всплесков восторга: например, тогда, в ванне — когда ее кузина, пампушечка Женя, прошмыгнув мимо распахнутой двери, покраснела до корней волос…
Рано осиротев, эта ее родственница не утратила однако же природной жизнерадостности. Принимала гостей по гамбургскому счету. Свозила нас в Музей чертей, в музей Чюрлениса — где я, резонер, нагло фанфаронствовал на фоне космической гаммы оттенков: «Синтез искусств сродни сектантству! Собственно, я не против очередной религии — просто мне недостает убедительной философемы…» — после чего чуть поодаль презрительно фыркнула парочка литовских интеллектуалов. Узнав от Иры, что ее отец в свое время наложил лапу на имущество погибшей в автомобильной аварии сестры — обобрав тем самым прелестную Женечку, — я гнусно использовал этот козырь в нашей очередной ссоре. Спутница моя рыдала на вокзале, среди пестряди цыганских тюков. Примерив на себя мантию третейского судьи, я лишь ускорил свое собственное отпадение от родового ствола…
Все лето накануне отчисления я бузил напропалую. К Иветте подсел в миниатюрном зальчике кинотеатра «Беларусь» на просмотре «Зеркала». В ее алгебраически выверенную экзистенцию я вломился с таким напором, что она, опешив, поначалу приписала мне грузинский акцент. Парадоксы и трюизмы, инкрустировавшие мой пролог, прошли успешную апробацию в предыдущих ирокезских «налетах». Каскадом складных небылиц я искусно вызывал у дев состояние полуобморока.
Уболтанная в одночасье, Ветка позволила моей ладони жадно завладеть ее негроидной шевелюрой. Эпизод этот — проассоциировавшись в моей подкорке со скальпом перебежавшего мне дорожку Илюхи Горелика — сыграл, вероятно, не последнюю роль.
Поцелуи наши взасос, под пыльной листвой малознакомого парка, походили на пикник двух каннибалов. Помолвка ее с гнусавым Эдиком расстроилась в считанные секунды. Разыскав мехматовского очкарика-лаборанта, я лихо высыпал на стол стопку книг, сопроводив это просьбой впредь не беспокоиться (его московский коллега Дмитрий, похититель моей невесты Маши Левиной, со временем сумеет отстоять честь цеха).
Африканский темперамент, обитавший в хрупчайшем тельце моей новой возлюбленной, вырывался протуберанцами в самых людных местах. В ДК строителей (о, эти знамения свыше: вспомнить бы мне о стройфаке, о заваленном сопромате!), на чердачной приступке, открытой всем взорам, она принялась самозабвенно расстегивать верхние пуговицы моей сорочки. Настигнув ее в нарочанском профилактории, я тоже захотел доказать, что я вовсе не пустомеля. Спасаясь от ливня, мы арендовали веранду у бабки-шептуньи. Иветта стянула с себя чулки — без злых намерений, для просушки… И безумие, взвихренное ароматом томной мякоти, зажгло в мгновение ока мою отсыревшую душу.
— Не сейчас! Пусти! — извивалась она в тисках, покуда старатель нашаривал в
лазоревом гроте рубиновую залежь — венец своего славного маршрута.
Обессиленная поединком, она заплакала:
— Ты ведешь себя подло!
И тут я сдался. Не сдрейфил, а просто почувствовал к ней сострадание. Как если бы именно этого она от меня и ждала…
К счастью, гнев ее быстро сменился на милость.
— Веточка, миленькая! — успел проронить я, осязая стетоскоп влажных губ, обследующий болящего в направлении эпицентра заражения…
Казалось бы — вот оно! Но, вернувшись в город, мы зашли в расцвеченное смальтой кафе. Заказав пломбир и бутылку «Игристого», я запоздало нащупал в кармане шиш с маслом.
— А давай смоемся? — предложил свой вариант подружке. — Жди меня под козырьком кинотеатра: оттуда рванем вместе.
Все бы ничего, да кургузая официантка оказалась куда прытче рептилии, которой сперва показалась. Лениво труся по направлению к вожделенному силуэту у касс, я учуял за собой погоню из вестерна.
— Держи паскуду! — припустила галопом халда в переднике.
Нашкодивший фраер метнулся в тупиковый двор. А там — высоко идейный абориген заломил ему руку с назидательным речением:
— Скажи спасибо, паря, что сегодня наши «козла» не забивают!
Впрочем, козлом отпущения я-таки стал в тот день. Пожав обильный урожай оплеух — за всех, безнаказанно улизнувших когда бы то ни было прежде, — расплатился за свою выходку по тройному тарифу. В противном случае заполнившие гадюшник подавальщицы грозили мне каталажкой.
— Дома дитё некормлено! — стыдила меня взъерошенная фельдъегерша (позже, в иммиграции, примкнув к шустрой клике тель-авивских гарсонов, я сполна удостоверюсь в ее моральной правоте).
Иветта заняла пятерку у знакомой, случайно наблюдавшей эту жанровую сценку.
— М-да, своеобразный же у тебя вкус! — прокомментировала та.
— Что ж, первый блин комом. Может быть, нам все-таки стоит заняться гангстеризмом? — пошутил я, едва выпутавшись из силков.
— Будь так добр, — вскинулась моя возлюбленная, — помоги мне поскорей забыть про эту буффонаду!
Ира больше месяца не отходила от кульмана. Ее поглощенность дипломом развязывала мне руки. Поскольку пересдача планировалась лишь в октябре, сопротивление материалов мало меня тревожило.
Честно говоря, никто особенно и не сопротивлялся. В ботаническом саду Катя Покровская подсела ко мне сама:
— Молодой человек, вы случайно не поэт?
— Попали в точку.
— О! Как любопытно!
Экзотика, впрочем, весьма спорна, и причин тому много. Во-первых, хроническим хворям неизбежно сопутствуют кривотолки. Во-вторых, погружение в себя чревато отрешенностью от насущного. Наконец, каждой строчкой, каждой своей очередной темой ты задаешь фазы собственного развития…
Так, крестовый поход детей надолго замкнул мое сознание на медиевистике. О нем я в свое время вычитал еще в оранжевой десятитомной энциклопедии. В 1212 году в парижском аббатстве Сен-Дени 12-летний Этьен перстом указал своим ровесникам на Гроб Господень. Возможно, троекратность апостольского числа в этой увертюре и послужила катализатором мистического взрыва, грянувшего в моей душе. Метафизическая история — вот пучина, в которой я духовно сгину без остатка. Паладинов же оприходуют старательные компрачикосы: обратив их, прозрачных как стеклышко, в карликовых арлекинов для монарших дворов…
Эксперимент с Покровской довольно быстро заглох. У меня в спальне она выспренне глаголала про живописца, мазохистская страсть к которому испепеляет ее нутро. Жуиром подбоченясь, я стремительно сбил ее стрелку с азимута.
— Боже, что ты натворил! — ужаснулась она. — Я ведь теперь люблю не его, а тебя!
Пересол с экзальтацией настораживал. Интуиция меня не подвела: выйдя замуж, Катя вскоре лишилась своего избранника — от полной безысходности сиганувшего из окна…
Аутентичное еврейство Иветты было мне ближе ассимилянтского конформизма Ирины. В доме Лившицей я впервые услыхал укоризненный баритон Галича: от неповоротливой бобины исходил притягательный дух запрета. Но лента Мебиуса, теорема Лапласа, бином Ньютона — все это показалось мне и чуждым, и скучным. В шутку набрасывался брачный контракт, обязывавший меня свить уютное гнездышко.
— Любовь, — апеллировал к авторитету Стендаля ее университетски высокий IQ, — единственная область, где чем больше отдаешь, тем больше и получаешь.
— А как же искусство? — робко заикнулся я.
— Увы! Одно из самых неблагодарных поприщ.
Все корни были извлечены, уравнения решены, пропорции выверены. Но криптограммы бытия это нимало не проясняло.
Повздорили мы из-за свежего номера «Немана», где публиковалась новая вещь Воннегута. Иветта тащила меня к киоску, но купить журнал я наотрез отказался: гремучая смесь упрямства с постыдной скаредностью! На следующий день в направлении Заславля я отбыл в гордом одиночестве…
Вдоволь намахавшись веслами и набив мозоли, я сунул обратно за пазуху паспорт, в залог остававшийся у сиплого лодочника. Уже в электричке спохватился: не мой, с бодуна перепутал старый болван! Мурло рыбаря, удившего на мармыжку, оказалось прописано по улице Гамарника.
В Нимфске этих «хрущоб» — что карпов в пруду, но чужой паспорт привел меня именно к ее пятиэтажке. Мало того: рыбак жил прямо над ней! Понятно, что я узрел в этом особое предзнаменование. Но Иветту это совпадение лишь слегка позабавило: теория вероятности — и ни на йоту чародейства.
— Я решила, что не буду больше с тобой ходить. Или как там это у вас называется?..
Убедившись в том, что приговор обжалованию не подлежит, я в отчаянии ринулся к Ирине. Та стоически жарила блинчики на сковородке.
— Здесь тебе, Гриша, не тихая пристань! — блеснула окулярами неумолимая выпускница архфака.
Вот тут-то я, ротозей, и вспомнил об Ане Певзнер, сыгравшей в моих похождениях роль сарафанного радио. Что поделаешь — мир тесен! Все тайное неизбежно становится явным. Нас с мехматовской красоткой она замела после одного из пригородных променадов. В обаянии Аня заметно уступала утонченной Ветке, а в постельной раскрепощенности — своей сокурснице Вайнштейн. Но ведь это еще не повод, чтобы свежевать меня прямо на вертеле!
Впрочем, поделом: эра полигамных библейских патриархов безвозвратно миновала. Смущало другое. Одолев мою поэму, Анечка как-то мимоходом поинтересовалась: не попадалась ли мне на глаза повесть Курта Воннегута «Бойня № 5, или Крестовый поход детей»?..
— Если б я был султан, я б имел трех жен! — пока в моем гипоталамусе стрекотала донжуанская кинохроника, Зухайраев, хищно мусоля «Плейбой», напевал шлягер из «Кавказской пленницы».
Абу, его правая рука, застыл немигающей саламандрой: он явно сожалел об окончании лекции по античной философии. Казарменная жизнь угнетала тошнотворным однообразием.
Лишь изредка в нашем болотце раздавалось побулькиванье. Например — когда Алимов отбил левое яичко луноликому уйгурскому принцу. Новичка прооперировали. Его супостату в чирьях стали мерещиться дисбатовские нары. Проштрафившегося ержанта тут же разжаловали. Прежде бука, он теперь лизал руки мне, ротному писарю: не составишь ли, мол, ходатайство о помиловании?
Привилегированность моя иных раздражала: гаражная каста грозно скрежетала карбюраторами. Кишлачные тянитолкаи с фрикативным вождем Жутько во главе искали случая меня окоротить. Один феллах занес было кулак над моей головой — но я не задумываясь вмазал по ишачьей челюсти.
— Улумбек такой дубина! — радостно сверкнул золотой фиксой мой усатый приятель Адалат.
Но коварный ефрейтор Жутько, обидевшийся за своего подчиненного-среднеазиата, улучил хвилину и расшатал стул в ротной канцелярии: капитан Бобров, заскочивший с мороза погреться, шмякнулся седалищем о желтый линолеум…
Вольтерьянства командир не спустил — велел немедля созвать комсомольский актив. Надежда была только на Асхаба. Накануне я ему слово в слово доложил о возгласе, вырвавшемся у Жутько: «Ох, уж этот мне чечено-ингушатник!» — «Я ему покажу чечено-ингушатник!» — сжал пудовые кулаки последователь Шамиля.
Капитан, верно, чуял, что писаря кто-то подставил, но на собрании рычал вурдалаком: тебе, дескать, доверили святая святых — как посмел ты притупить бдительность?!
— Вопрос к обвиняемому! — вставил один узкоглазый пигмей. — За что тебя убрали из управления бригады?
— Оставь, это личное!.. — отчего-то зашикали на него прочие члены ареопага.
Отсутствие логики у толпы неисповедимо.
Перехватывая инициативу, я обрушился на ефрейтора: провокация шита белами нитками!
— Кажи, кажи! — оживился западенец — и неожиданно раздухарился: — Та я у себя в селе таких, как ты, вешал!
— Кишка тонка, гнида гайдамацкая!
— Цыц! — взревел Зухайраев. — Пусть лучше ответит: чо он недавно залепил про Чечено-Ингушатию?!
Жутько от страха слипся. Наступила пауза. Растерявшийся было капитан, вновь беря в свои руки бразды, решил проявить межнациональную гибкость:
— Короче, что запишем в резолюции, Асхаб?
— Обоим устный выговор и расходимся, если Гриша уже кончил психовать.
Завклуба прапорщик Лазарев, с которым мы общались на шершавом языке плаката, был со мной на первых порах весьма обходителен.
— О, мой юный друг! — похлопал он меня покровительственно по ключице, когда я вкрадчиво поинтересовался: неужто его способностям не нашлось применения на гражданке.
Но со временем его толерантность куда-то улетучилась. Судя по внешности, он представлял собой нередкий в здешних широтах славяно-семитский гибрид, — что, однако, не помешало ему гастроли в нашем клубе конферансье Синайского из Нимфской филармонии прокомментировать таким образом:
— Сходил бы, полюбовался на ужимки своего родственничка!
Помнится, тогда я ему ничего не ответил. Я еще мало знал об извращенной природе еврейской самоненависти, моей реакцией на этот выплеск было лишь изумление.
Расстановка сил оказалась классической: черная клеточка — белая, и так в шахматном порядке. Комбат Беляев к Лазареву отечески благоволил. Майор же Шморгун, напротив, питал нескрываемую идиосинкразию. Между нами уже стали возникать трения: мне, загруженному по горло, завклуба норовил сбагрить свои заказы.
Дождавшись штиля в бурной акватории поллитра-ботника, я посетовал ему на антисемитскую подковырку Лазарева. Вылупившись на меня, как баран на новые ворота, тот долго, с угрожающим видом, напрягал извилины — пока наконец, против воли, не выдавил из себя:
— Вот подонок! — Noblesse oblige…
Эх, лучше бы мне не ступать на эту минную чересполосицу! Эхо конфликта мгновенно докатилось до комбата: лязгнув клыками, он сделал зарубку в моем личном деле.
Вдобавок ко всему, в Кремле уже заваривалась каша XXVII съезда: бывший выпускник Литинститута писатель Титаренко вусмерть спивался в воронежской глуши — и, не постеснявшись упрятать родного брата в психушку, гарная искусствоведиха Раиса Максимовна в вопитательных целях решила перекрыть своим подданным извечный источник вдохновения… Русь-тройка, взгромоздясь на кривые рельсы Перестройки, гулко тарахтела из Москвы в Петушки: в мутном сознании дураков, уже не разбиравших ухабистой дороги, «сухой закон» залихватски выдергивал стоп-кран!
Воин-путеец в заболоченном Жодино жался комком к насыпному гравию. Но эпоха такая выпала: велено либеральничать. С помпою к нам прибыл генерал из киевского корпуса. Между тем, после бессонной ночи, подостлав газеты, я сладко похрапывал на занозистых полу. Гонец растормошил меня: златопогонный ревизор требует к себе сочинителя железнодорожного гимна!
На скаку надраивая бляху, я предстал пред ясны очи на скрипучей сцене. Однополчане, затаив дыхание, глазели на нас из партера.
— А и я ведь когда-то стишками грешил! — расплылся воевода, не чуждый некоторого декадентства. — Молодчина! Поощрить его десятидневным отпуском!
— Так точно! — прищелкнуло каблуками батальонное начальство.
Видно, то Сервачинский пожелал меня премировать: да одного его влияния в бригаде недоставало…
Этот мой триумф не замедлил вскоре сказаться плачевно.
— Особо приближенный к императору? — рявкнул на меня комбат, прянув из служебного кресла. — Почему прапорщику честь не отдаете? Об отпуске и не мечтайте, ваше святейшество! Хотите — можете телеграфировать в президиум съезда. Но имейте ввиду: мы вас посадим раньше, чем вы нас!
Полноте, товарищ Угрюм-Бурчеев… Нешто я способен кому честь отдать? Да и куда, скажите, опосля без нее деваться? А про ваши шахеры-махеры с казенным бензином — знать ничего не знаю, не имею чести. Горючее налево — пущай себе течет рекой! Это Карамзин сетовал, что все вокруг воруют: меня не колышет, моя хата с краю. Я-то ведь и сам, что называется, не без греха. «Письма русского путешественника» — когда-то в «Букинисте» свистнул. Не верю ушам своим и глазам. И вашим не верю, пардон за откровенность. Я ведь оккультист-самоучка, не какой-нибудь там окулист занюханный! Нетитулованный приспешник Мейстера Экхарта, Якоба Бёме и Эммануила Сведенборга. Как вы изволили выразиться, ваше солдафоние? На зоне еще под мой гимн не маршировали? Дело поправимое! К самому трибуналу и подгадаю — присочиню пяток-другой куплетов. Я ведь для этого одеревенел достаточно: дубина стоеросовая, орясина непутевая! И Машка Левина врет: никакой я не Стриж, я — страус. Не тот Леви-Стросс, что в дельте Амазонки за туземцами гонялся, а натуральный — попсовый, джинсовый Леви-Страусс! Половинки были такими аппетитными, сочными, манящими: так бы и кусанул тропический плод!..
Великое оледенение ждало меня в роте. Мамлюкского правителя словно подменили. Тем же завораживающим шепотом, каким он недавно сулил мне сан паши, Асхаб ныне грозился вышвырнуть меня за забор. «Как драную кошку!» — шипел он в ухо намеченной жертве. Спасибо Абу — вмешался, встал между нами, подобно миротворческим силам ООН.
Я и раньше замечал за ним эти перепады. Как-то к нам перевелся киевлянин Дидковский. Хлопец видный, витиеватый, в гражданской жизни — диск-жокей. В Зухайраеве вдруг проснулся меломан. Часами он выпытывал у своей новой цацки: про солнцезащитные очки Джонна Леннона, про белую майку Фрэдди Меркури… И вдруг — извержение. Шлея под хвост. Затрещина сбивает с ног опального ди-джея. «Асхаб! — возмущается тот. — Что за манэры?» — «Какие, на хрен, манэры, мудак?!» — рычит бывший меценат и бьет повторно…
Прапорщик Бабий заведовал у нас санчастью. Я пришел сдаваться с повинной — хоть в чудном имени его и проскваживал Бабий Яр. Однажды он уже возил нас к дантисту — меня и флегматичного лысеющего чеченца, про которого Зухайраев говаривал: самый, мол, надежный мой кореш из наших. И вот, посреди автобусной тряски, жалуясь на десенный зуд, я вдруг обнаружил, что горец… мне искренне соболезнует! В зрачках его зажглось сострадание, я даже осекся от неожиданности. Такая вот петрушка — вдруг, ни с того, ни с сего. А был он, помнится, чуток постарше других своих земляков…
Возможно, все дело как раз таки в возрасте: и существуют нации-подростки, склонные к самоутверждению посредством раздачи тумаков окружающим. Они попросту еще не дозрели до адекватного восприятия геополитической реальности — в соответствии с которой, миром правит разделенная океаном чета ядерных чемоданчиков. Нелегко ведь смириться с таким обидным фактом — то и дело тянет перейти на блатной жаргон вокзальных ворюг…
Сегодня, вспоминая Асхаба, я готов держать пари: впоследствии он принял деятельнейшее участие в «чеченском бунте». Возможно, теперь лечится от ран где-нибудь в Надтеречном районе. Или занимается переправкой оружия из Турции. Если, конечно, его кости не упокоились под грозненскими руинами… Ведь снежные барсы, как известно, неприручаемы. Предикаты и силлогизмы не властны над их родовым мышлением.
— Тебя что, бесит мое происхождение? — ломал я голову, взывая к его совести на последнем издыхании.
— Марговский, ты чо, рехнулся? Я и сам похлеще любого еврея буду! — гоготал он в ответ.
И добавлял:
— Хотя знаю: среди вашего брата полным-полно вредных людишек!
А как насчет вашего брата, Асхаб — сладострастно отрубающего пальцы несовершеннолетним?.. Как насчет того израильского мальчика — по имени Ади Шарон — которого в Москве похитят горские бандиты и будут держать в яме, морить голодом, да при том еще и калечить с поистине восточным сладострастием?.. Даже московский милицейский чин, выступая по телику, не скроет своего огорчения, предупреждая о новой угрозе для лиц еврейской национальности[6].
Оба народа, равно обреченно, с временным разрывом в два тысячелетия, отчаянно противостояли иноземному вторжению. Чеченских кампаний было две — как нарочно по числу войн Иудейских. Скрижаль старца Филофея: «Москва — Третий Рим» лишь теперь просияла в своем истинном историческом значении.
Воины Шариата скошены российскими ракетами, как зелоты Галилеи — короткими мечами легионеров. Но разве кто-нибудь в свое время вступился за мятежников Бар-Кохбы? Кто-то приударил в набат масс-медиа? Электронно-лучевую трубку с опозданием изобрел еврей Розинг — петербургский кудесник, в поощрение за это сосланный при Сталине на Север.
Да, мы лезли из кожи вон, стараясь приглянуться языческому миру: Новый Завет для идолопоклонников и банковское дело для рыцарей-грабителей, творческая эволюция и теория относительности, интуитивная память и синхрофазатрон, голливудские грезы и новейшие компьютерные технологии. Однако мир по-прежнему больше сочувствует прожорливым дикарям. О каждой их жертве сегодня трезвонят либеральные радиостанции — а нас-то изничтожали под покровом хладного безмолвия, лишь изредка нарушаемого ликованием александрийских греков!
Кто, спрашивается, протянул руку помощи несчастным трупоедам, зарывшимся в плутоновы катакомбы Святой земли? По Египту прокатилась волна погромов. Пелопоннесские философы лениво лакомились Диогеновыми фигами. Один лишь дакийский вождь Децебал подхватил знамя восстания — дабы вскоре предпочесть колодкам самоубийство…
Отчего же значительная часть израильсокого еврейства все-таки приняла сторону Ичкерии? Что, помимо трусости и извечной сервильности, могло послужить причиной этому? Быть может — самоотверженность русских воинов, взятием рейхстага отвративших от нас дамоклов меч поголовного истребления? Или медовые речи чеченских старейшин, призывавших встречать Гитлера хлебом-солью?
При этом сочувствия с той, c другой стороны, нам ни за что не дождаться: душой чеченский народ всегда был и остается с палестинскими убийцами. Российские иудеи — те хотя бы не славословили штыки и пушки генерала Ермолова. После сталинской высылки грозненский раввин запретил общине занимать опустевшие дома: «И нам в свое время выпала юдоль рассеяния, — молвил он во время субботней молитвы, — посему да оставим жилища изгнанников в неприкосновенности!»
Италийским кремнем о кресало Палестины высечена искра Христовой любви. Но что человечеству несет ваххабизм? Правду однобокую, родовую узость! Захват заложников, резня и взрывы — за все это сегодня взыскано по векселям. Неумолимым кредитором — страной Набокова и Вернадского, Владимира Соловьева и Петра Чайковского, химика Менделеева и поэта Мандельштама. И я бы, честно говоря, поставил на этом точку.
Если бы не глаза лысоватого горца, смотревшие мне тогда, в нимфском автобусе…
— Ладно, — поскреб затылок прапорщик Бабий, — но учтите: свободы как таковой вы там будете лишены.
— Не беда, к этому я давно привык! — заверил я.
И, впрягшись в алюминиевые салазки с укутанным в шерстяное кашне чадом, он захрустел впереди меня, осторожно ступая по шершавой шкуре буренки, усеянной мартовскими проталинами.
Махонькие ботиночки, подрагивая в такт его грузным шагам, ассоциировались в моей памяти с лакированной обувкой Машуни — дочурки композитора Эльпера, выгуливаемой ее отцом накануне мобилизации.
Рита сознавала, что мой отъезд в Москву навсегда обрывает ту предосудительную нить, которую мы вдвоем так самозабвенно пряли на зависть злопыхателям. Спасенный веретенщицей Ариадной беглец оставлял свою благодетельницу один на один с косматым чудищем.
На исходе первого литинститутского семестра я выловил ее, приехавшую сдавать зимнюю сессию, в коридорах Гнесинки. На руку и сердце нимфской прелестницы об эту пору уже вовсю претендовал Боря Серегин, приобретший букетик маргариток прямо на перроне. Покалякав с ними из вежливости около часа, я покинул будущих молодоженов на одной из скамеек бульварного кольца. На смену дипломированной композиторской манишке пришли кофейные штроксики влюбчивого трубадура…
Риту, кстати говоря, весьма вдохновлял тот факт, что я некогда путался с кокеткой Иветтой (о чем не преминула сообщить ей Юля Крысько, вольготно плескавшаяся в чане университетских сплетен). Юля же вонзила и стилет виндетты в мою узкую грудь — когда, розовощекий, в январские вокабулы я осчастливил «Радугу» своим появлением.
На очередном заседании клуба тщательно обгладывались чьи-то косточки. Как водится, все высказывали свое «фэ» по кругу. Дошла очередь и до грозных филиппик Крысько. Высокомерный тон внучки письменника меня развеселил. На столе я заметил запыленную хлебницу — и, не долго думая, приторочил узорчатую медь к затылку филологини: золотой нимб обрамил непререкаемость ее суждений.
В мгновение ока клацнула пощечина. Помрачнев, я выскочил на крыльцо покурить.
— Сам подставился! — злорадствовала Юля. — Давно хотела это сделать, да все повода не находила. Он отлично знает, за что!
Сама отмщенная в ту пятницу как нарочно отсутствовала. Зато на посиделки я пригласил Анюту Певзнер — явно озадаченную сицилийской выходкой толстухи. Несостоявшаяся балерина с прозрачными запястьями сочла варварской жестокостью хлестать поэта по бледным ланитам. Даже если он и впрямь отъявленный мерзавец. Сама она, между прочим, использовала методы куда как утонченней…
Расскажу поподробней. Иветта все же выскочила замуж за мехматовского лаборанта — того самого гунявого Эдика, которому я в свое время вернул книжки по ее просьбе. После свадьбы я неожиданно был зван на коктейль-парти.
— Знакомьтесь, это Гриша, гений стихосложения, — вздумалось поглумиться новобрачной.
— Кто же в наше время в рифму не пишет? — усомнился в ее рекламе какой-то особенно занудный технарь.
— Пишут многие, а гений — он один!
Ощущающий себя на седьмом небе жених при этом филистерски лыбился: салютуя то ли ее издевке, то ли собственному реваншу. После этого я долго еще колготился — трезвонил ей, выкраивая тайное свиданье. Однажды почудилось: она отвечает в трубку сквозь слезы.
— Угадал, — мрачно подтвердила Иветта. — Не до праздника мне в последнее время.
— А какие проблемы?
— Да так. Со свету потихоньку сживают.
— Кто это смеет? — кукарекнул я задиристо.
— Кто-кто! Супруг мой законный, кто же еще…
Что до Иры Вайнштейн-Машкиной, у той вроде бы все складывалось тип-топ. Она благополучно расписалась с Мишей Иоффе — рано облысевшим могилевчанином, явно не желавшим после распределения вносить лепту в архитектурный облик своего унылого захолустья. Он, Горелик и я, помнится, пытались кучковаться на заре учебы. Триумвират наш рассыпался, как ветхий складень, хотя Мишку, в отличие от эгоиста Ильи, стремившегося только лидировать и никогда — дружить, я все еще продолжал числить добрым малым. Однажды летом, когда в общаге затеяли капитальный ремонт, я на пару ночей приютил бездомного провинциала — прожужжав ему все уши своими амурными похождениями.
— Так значит вы и с Ханкой тоже целовались?.. — укоризненно поморщился переборчивый приятель.
Безответной его страстью была Зиночка Перельман — белокурая вертихвостка из хорошей еврейской семьи, снобизмом и блажью совершенно обескровившая свою несчастную жертву. Иоффе хватался за сердце, принимал пилюли. Но заарканить дочь видного архитектурного чина ему оказалось не по зубам.
Что бы такое предпринять? Не вертаться же в губернию! — И он, перегорев, скооперировался с рассудительной Ириной. Семейная ладья, надежно просмоленная дабл-разочарованностью, устойчиво понеслась по житейским волнам. Крошка дочь, трехкомнатная хрущеба и место рекламного оформителя — это ли предел мечтам? Прибавьте охоту к перемене мест, водительские права и the Queen’s English[7]: и весь выводок — фюить в Город Желтого Дьявола! А там — за Саргассовым — чем, спрашивается, не житье?
Проведав о моем поступлении в Литинститут, Ира встрепенулась. Явилась ко мне в уморительных кудельках. В ответ на ее предложение я заюлил. Избегая скользкой темы, зло пропесочил ее нелепую прическу. Она, чуть не плача, пыталась апеллировать к моей сестре. Из женской солидарности та ей подсудила: на голове у гостьи полный ажур! Где ж ты была, иволга, когда меня выперли из Политеха? Когда я нюхал с хиппарями дурманящий растворитель, по очереди заворачиваясь в шарф за забором диспансера? Улизнув из Бехтеревки в Дом Архитектора, на фестиваль любительского кино, я цеплялся за тебя абордажными крючьями. «Жестокая ты девочка!» — пел Лазаря отчисленный двоечник. «Жестокая я девочка!» — неумолимо хмурилась осанистая отличница…
Доставив курносую почемучку к крыльцу сарайчатых яслей, фельдшер Бабий вслед за тем эскортировал мнимого больного в областной бедлам. 24-ое отделение, куда я был помещен, специально предназначалось для презренных армейских симулянтов. Клика военврачей неустанно шпионила там за единственным штатским коллегой. Семену Михайлычу Трестеру, чьи лацканы не украшала блюющая в штоф подколодная змеюка, оставалось лишь безвольно потакать горделивым петлицам тупых профанов. От этого они смягчались порой: идя на уступки в пропорции один к трем.
Окончательный диагноз требовал консенсуса. Дуболомы разработали фирменную методику — запираясь в кабинете, на чем свет поносили обследуемого солдата:
— Сукин ты сын! Дезертир! Под трибунал пойдешь, едрить твою кочерыжку!
И когда тот, наконец рассвирепев, швырялся в них стулом — втюхивали с облегчением заветную шизофрению…
Комиссоваться с тяжелым диагнозом мне вовсе не улыбалось: я ведь отпахал без малого два года. Это только глава ордена куртуазных маньеристов свалил из караула через две недели — напуганный обещанной ему «темной» (потому проездом и заруливал ко мне в часть с чекушкой: снедаемый чувством вины за когдатошнее малодушие). Беспардонный приказчик Музы Успеха — теперь он брешет свою похабень с эстрады, окруженный поклонниками в кожаных штанцах. Меня ж — перетирали в цветочную муку шершавые жернова скифского Молоха. Перетирали, да не перетерли! Нанимался я, что ли, туляков оборонять? У них, поди, и у самих ружья не заржавели!
Впрочем, открою один секрет: Степанцов — квасной патриот не более чем на?. Но зато у него с паспортной графой и ряхой — все о’кей. В троллейбусе, помню, он как-то покатил бочку на «этих жидов» (не прощал сын полукровке отцу разрыва с душевнобольной матерью).
— Фильтруй базар! — оборвал его на полуслове криворожский верлибрист Артур Доля, — Не ты ли и сам на жидовских дрожжах взошел?
— Полагаю, нашелся бы и славянский эквивалент, — ничтоже сумняшеся парировал обличитель.
Вечерами в общаге он баял нам про то, как проезжий участковый накрыл его тепленького в стогу, в обнимку с автоматом Калашникова. Беглеца тогда тоже сунули в психушку — правда, он отделался только легким испугом. Вырванные годы достались мне, а не ему: ретиво воспользовавшись перестроечным бумом, он соорудил себе памятник при жизни в сортире парнасского Музея Славы. Ну да не суть. Рано или поздно мы сочтемся регалиями!..
Палата, где я очутился, пестрела личностями своеобычными. На соседней койке лениво потягивался актер Валера, уроженец белорусского городка с женственным названием Лида, звезда нимфской театралки. Этот ломал комедь ва-банк — с участием воспаленного либидо: на допросах упрямо твердил, что вожделеет к родной мамаше. Психоанализ, купированный марксистской наукой, как хвост кобылы Буденного, проказливо казал кукиш дурошлепам в белых халатах.
Имелись и другие живые достопримечательности. Поигрывавший покатыми бедрами курсант, с позором изгнанный из местного политучилища, затягивал на ночь глядя «Санта-Лючию». Соседей убаюкивал его шелковый баритон. Рассказывали, что он погорел на приставаниях к особо идейному сокурснику.
Мурзатый самаркандец открыто презирал исполнителя сладостных арий: отсеянный с карантина, он мечтал поскорей вернуться в строй. Памирский антипод его — тот, напротив, в сортире пытался вздернуться: от одной только мысли, что придется дослуживать… Беззаботнее же всех выглядел ставропольский наркоман, резво посвистывавший в окошко и потому кем-то метко окрещенный Коноплянкой.
Лева Каплун, мрачный, погруженный в себя параноик, легкомыслие свистуна порицал с оттенком благодушия. Пару недель назад, забаррикадировавшись в своей квартире, он чуть было не зарубил топором благоверную — заподозрив ее в неспособности зачать.
— Почему у нас детей нет? — сидя на корточках, возмущался он в курилке. — В заключении экспертизы ясно ведь сказано: сперма у меня нормальная. Стало быть, не моя вина!
— Ну, уж и не моя! — старался я перевести все в шутку.
Трестер, на утреннем обходе, окинув подопечного «мишугинэ» деловитым взглядом, ехидного смешка не сдержал: дитя Сиона, а несет околесицу похлеще любого жлоба! Увы, Чезаре Ломброзо с начала века не переиздавали: иначе бы доктор помнил, сколь высок процент помешанных среди его соплеменников.
Литовец Якунас, чей глаз перманентно дергался от нервного тика, и вовсе лежал тут с мамашиной подачи. По профессии психиатр, она ежегодно протежировала сына в «Новинки» для профилактики, поставляя коллегам благодатный с ее точки зрения материал. Он трудился конюхом на нимфском ипподроме — будучи спроважен за аморалку из Гнессинского музучилища.
Я верил, что вырвусь из этого ада в нормальную жизнь, что примет меня обратно барочный особняк на Тверском. Поэзия непременно вступится за паломника, принесшего ей на алтарь кусок искромсанной души!
Якунас подкрадывался, садился у меня в изножии — бритый наголо, с крупным носом и масляными глазками:
— Мне снилось, что мы с тобой махнулись, — заводил он аллегорию в мефистофелевском духе, — и я еду учиться в Москву златоглавую, а ты остаешься в Ратомке скрести лошадиное мыло…
С фауной у меня сызмальства не сложилось. В детском садике, помню, мы ненароком кокнули аквариум — я и Павловский. Перламутровые губаны конвульсировали прямо на паркете, каменея и превращаясь в естественные драгоценности. Анна Александровна уткнула обоих живодеров носами в угол. Эта экзекуция далась ей нелегко: Сашку и меня она числила «красавчиками», тетешкала отдельно от всех прочих, относя к разряду привилегированных. Как-то, в тихий час, повела нас к себе домой, на Пулихова: пирогами с капустой угостить, на печи дать понежиться[8]. А тут вдруг — насупилась, бойкот объявила. Я тогда и не догадывался, что это знак времени: близилась к развязке Эпоха Рыб!..
В цирке по отношению к братьям нашим меньшим — все то же сплошное головотяпство. На одном из представлений я ассистировал спесивому хачику, много лет дрессировавшему морского льва. Оба прилизанные, как пара близнецов. Униформисты застращали меня язвами по всему телу — я шугался белых клыков, не поддаваясь обаянию их юркого владельца.
Впрочем, хочешь — не хочешь, а работу выполнять надо. К бортику я должен был приставить металлическую стойку: почесав бок плавником, ластоногий нырял в пламенеющее кольцо. Но, с опаской от него улепетывая, я плюхнул реквизит на манеж не вдоль, а поперек. Зверюга прикинул — и прыгать раздумал.
В зале сидел импозантный импресарио из Белграда: номер вычеркнули из гастролей по Адриатике. Армянин орал на меня благим матом. Да и я, признаться, в долгу не остался.
— Куда-куда ты послал заслуженного артиста?! — переспросил меня побледневший начальник отдела кадров…
Впрочем, прежде чем меня уволили, я успел завершить «Поэму третьего крыла». В отличие от недавней крестоносной сюиты, лоскутной по сюжету и метрической архитектонике, новая вещь выглядела цельной: я решил, что хватит эпигонствовать, эпическая манера Вознесенского перестала меня удовлетворять. Корифею журнала «Юность» я одно время подражал — за неимением под рукой томика Пастернака. Но вскоре стало ясно, что тот, кого я избрал образцом, от природы лишен нарративного грифеля. Потуги его напоминали высиживание ожерелий из фальшивого янтаря, варившихся затем с успехом в рок-оперном компоте. Чего нельзя сказать о его учителе — авторе колоссального «Спекторского», чью мученическую тень Андрей Андреич то и дело запанибрата похлопывал по плечу.
Так вот, на сей раз я поклялся не сбиваться с пятистопного ямба: а то ведь любой дурак может снизать разномастные фрагменты, покрыв их полудой вычурного стиля! Вечерами, измочаленный тягомотиной бравурных представлений, я с философической флегмой брел по мосту через Свислочь — усталая походка обычно задает дыханию марафонский ритм. Скрипичным ключом поэмы, как всегда, зазвучала метафора. Переминаясь в закулисье и мысленно примериваясь к амфитеатру, я уподобил зрительский хохот переливчатой треске, вылавливаемой тралом и тут же, не отходя от кассы, поджариваемой на шипящей красной сковородке. Сальто моего воображения одобрил знакомый клоун. Накануне мы успели подружиться и даже сфотографировались на память. Кепи с озорным помпоном, дружески мне подмигнув, ежиком кувыркнулось по лиловому паласу. Позже я узнал, что у него рак в последней стадии: мужество, достойное героев Куприна!
Но отнюдь не все вокруг были в восторге от моих опусов. Старшой униформы Вася Уманец, ледащая гетера в синтетическом трико, нерасторопного новичка то шпынял, то пичкал сентенциями: из цирка, так и знай, теперь одна дорога — в тюрягу! Арену подметать он заставлял нас елочкой: чтобы меньше стружек оставалось.
— Ты думаешь, я кто — дурак бульбашский?! — петушился он. — Меня на мякине не проведешь: я со-овсем друго-ой национальности!
«Тупой хохляра!» — брезгливо заключал о нашем боссе Коля, валдайский раздолбай с воловьей выей и перебитым носом. Купеческий правнук, он семо и овамо зудел о происках сатанинского племени в революционную эпоху: эко ловко лапсердаки нас, фофанов, облапошили! Кончилось это для него плохо — увольнением по статье. Кубинской циркачке, смазливой креолке, уминавшей в буфете бутерброд с семгой, он как-то раз галантно преподнес пузырящийся бокал с шампанским. Чирикнув легкое «gratia», сеньорита поспешила увильнуть от навязанной дегустации. Коля озверел и плеснул амброзию басурманке прямо в фэйс…
Мишка Ангерт, ко мне расположенный, в сердцах сокрушался:
— Мда. Не для тебя контингент. Потонешь в дерьме. Эх, потонешь!
— А ежели поступлю в Литинститут, что тогда?
— Ну тады — лафа! — соглашался добродушный усач.
В настольный теннис он мог дуться часами — с русым жонглером из заезжей труппы Кио.
— Тебе, поцу, все хоть бы хны! — бросал ему раздраженный партнер, начиная проигрывать.
Ангерт в ответ только ухмылялся. Зато старшому отплатил сторицей — за все придирки и унижения. Назначенный комсоргом, Мишка вздрючил Уманца перед ячейкой — за неуплату членских взносов (тот же безотказный еврейский рецепт, по которому и мой отец поквитался с юдофобом Троицким).
Рассказывали, что прежний инспектор манежа, покойный Зяма, приняв Уманца на работу подростком, жучил его и в хвост, и в гриву. Вася отвязывался теперь на несчастной билетерше — изводя заикающуюся вдову матерщиной на идиш: «киш мир ен тухес!» Про Зяму же снисходительно говаривал:
— Оставьте старика в покое, пусть спит спокойно! — после чего его зубоскалы-телохранители разом притихали.
Преданные псы, два кряжистых стажера, плотно подпирали его субтильную фигуру с обоих боков. Властью своей на арене старшой упивался: раз, пикируясь с дирижером Дайнекой, науськал униформистов на джазовый оркестрик, репетировавший наверху (мне тоже пришлось улюлюкать вместе со всей оравой). Впрочем, радетелей у него было больше, нежели врагов. И главный среди них — бравый кабардинский наездник, который, ходили сплетни, однажды стреножил Уманца в душевой после умопомрачительных аллюров…
Артистическое гноище хищно тянуло ко мне свои склизкие щупальца. Голенастая пудреная львица, выходя к трапеции, призывно вихляла нашей команде, ждавшей на подхвате. На «ура» у акробатов шли липучие лилипутки: марионеточно подпрыгивая, они верещали страстным сопрано (мне довелось это наблюдать во время игры в теннис: дверь в гримерную оказалась распахнута настежь). Какая-то весьма развязная чернавка-дрессировщица, на досуге спознавшаяся со своим грустным пони, недвусмысленно стреляла у меня трешник. Один из Васиных телохранителей, видавший виды циркач, цыкнул на попрошайку: отвали от парня, шалава!
Валдаец Коля однажды при мне обмолвился: дескать, Кио — тоже ведь «из пархатых». Я принял это к сведению. Улучив момент, обратился к звезде манежа:
— Игорь Эмильевич, я недавно сочинил поэму о цирке. Вы не будете против, если я посвящу ее вам?..
— Что ж, почитаем, — скрутив машинопись трубкой, он сунул ее запазуху; казалось, вот-вот фокусник извлечет ее наружу — но уже в облике розовоухого кролика.
Назавтра, столкнувшись со мной в коридоре, факир прагматично промычал:
— Ну, и где мы это планируем напечатать?
— Понятия не имею. Главное было написать.
— Что ж, пока непонятно… — пожал плечами бывший муж Галины Брежневой.
Третье крыло, увы, выросло далеко не у всех!
Зато, надо признать, функции в этом гадюшнике распределялись по-армейски четко. На моем попечительстве была клетка с голубями. Громыхая тележкой по мраморному полу фойе, я сворачивал в проход. Заслонка отворялась по условному взмаху мага, пронзенного лучами софитов. Белоснежные почтари, взмывая под самый купол, кружили — и обильно припорашивали плечи и голову прославленного маэстро. Гомон восхищения доставался только ему. Ассистенту же его — одна лишь благодать безвестности…
Существа, населявшие желтый дом, разрушали стройность таблицы Ламарка. Виртуозно хрюкая, грузный Михась самозабвенно катался по ковровой дорожке: шантажируя медсестру, вымогая «колеса». Однажды влез на подоконник — чтобы приоткрыть фрамугу: пухлый мизинец замешкался в проеме. Туша визжала, покуда ее не сняли с крючка двое санитаров — будто копченый окорок, достигший кондиции…
Инвалид Афгана, прапор на костылях, с перекошенным лицом, на свидании с женой, проходившем как водится в людном помещении, вдруг скинул портки долой — и айда миловаться. Очнувшись в смирительной упаковке, он все орал, болезный, требуя почему-то немедленной инъекции спермы…
Некто Икс неустанно шифровал радиограммы марсианам; самодельная антенна потешно колыхалась у него за ухом. Игрек бухтел в столовой очередную неотвязную скороговорку, щелкая при этом прилежных вольнослушателей по носу. Зет, свесивши ноги в кальсонах, шелестел потертым компендиумом, в котором царапал однотипные схемы из кружков и палочек:
— Сравните, пожалуйста, — увещал он меня, — вот так размножаются кролики, а так — мысли у евреев. Ну разве не одно и то же?!
Из моих соплеменников здесь заметно выделялся Борис Рабовский (прежде, в отпуска, они вместе шабашили с Трестманом, строя свинофермы; я без труда узнал его: он как-то навещал простуженного эпика, в тот день еще Гриша полушутя посетовал на фамилию участковой врачихи — Веревка…) Сам Борис периодически попадал в лечебницу по настоянию любящей супруги.
— Детство мое прошло в очаровательном городке под названием Бобруйск, среди кружевных яблоневых куп, цветших на фоне шинного завода… — так начинал он свое повествование, беря под локоток шелковласого юношу и прогуливаясь с ним по коридору. Вскоре младший перипатетик дерзко бежал из-под конвоя — будучи настигнут своими преследователями аккурат на бобруйском майдане: таково уж воздействие суггестивного искусства!
Борис, ударившийся в христианство, оказался прирожденным миссионером. Врач Семен Михайлыч зазывал его к себе в кабинет и с пеной у рта обличал вредоносный «опиум для народа». Пациент молчал в ответ, великомученически скрестив руки на груди.
— Лиличка, таблетку элениума! — стонал Трестер, не выдерживая первым. — А вы, дорогой мой, ступайте в палату…
Я лихорадочно соображал, как избежать статьи в военном билете: она бы могла некстати запятнать мою боевую биографию. Ведь не стали же ее шить отчисленному за неуспеваемость допризывнику в бехтеревском диспансере: не смея перечить гнусной нацистской ведьме! Дисбатовскому конвою я предпочел уже знакомые повадки санитаров, гаденьким зенкам доцента Алявдина — харизматичные спичи умалишенных. Решетка, впрочем, везде одна и та же — и только голуби воркуют в ожидании свежего замысла…
В очередном заточении я приступил к поэме «Игорь Свешников» — скрупулезно подновляя старый добрый пушкинский четырехстопник дактилическими завитками. Двойник, рассмотренный мной сквозь запотевшее стекло «Черного аиста» — кафешки на Большой Бронной, виртуальным присутствием помогал выкарабкиваться из острога. Оба мы в равной степени жаждали глобальных перемен: духовная мощь нарождавшейся «мировой деревни» предвещала агонию дряблой имперской плоти. Стены всякого узилища рано или поздно рухнут, падут ниц — будь то мрачный равелин или бренная оболочка, препятствующая нашей реинкарнации!
12
Лед тронулся с восшествием на престол Юрия Андропова. Как-то сама собой канула в тартарары процентная норма (тогда еще мало кто знал, что мать нового генсека из татов, горских евреев). Работу приемной комиссии в Литинституте тоже возглавила «метиска» Мария Зоркая, с кафедры зарубежки.
В тот шлюзовый год на дневное отделение нас просочилось аж семеро: к бодрячку Льву Ошанину — ныне покойная Катя Яровая, чьи песни так популярны в русской Америке, в маканинский семинар прозы — остряк и записной циник Петя Юрковецкий, мы с Эвелиной — к пузану Винокуров, да в группу переводчиков с коми-зырянского — инфантильно сюсюкающая внучка Жирмунского Сашенька плюс две Маши, розовощекая Черток и холеная Бабушкина (позже к ним присоедилась еще и третья — лупоглазая Жданова, племянница самой Зоркой).
Умолчим о полукровках и квартеронах — таких как Степанцов и Кошкина, чье латентное еврейство гусей не дразнило. Из той же породы: полноватая рижская кокетка Инга Розентале, Ира Шабранская — строгий критик в роговой оправе, Богдан Мовчан — сын украинского письменника и тезка провозглашенного борцом за независимость кровавого вурдалака, Сережа Радиченко — насмешливый андерграундный человек с кучей талантливых приятелей, светоч армянского национализма Сусанна Саркисян — выскочившая в итоге за пуэрториканца, европейски образованный вятич Пестов (этот оказался принципиальнее прочих: на чем свет честил юдофобов, хотя лично никогда их нападкам не подвергался) и даже никарагуанский герой-сандинист Сантьяго Молино Ротчу (Сантьяго-Марьина-Роща — как тут же перекрестили его девицы), усатый женский угодник с глазами ангела, волочивший ногу после тяжелого ранения.
Еще на абитуре русопят Мисюк, рабфаковская тужурка из Тольятти, цыкнул на меня прилюдно:
— Да как вы не поймете, Григорий: будут набирать либо нас, либо вас, третьего не дано! — эдакий инь и ян жигулевского разлива…
В общежитии мне выпал жребий предстательствовать сразу за всех евреев курса: ведь, к несчастью, я не был приучен держать язык за зубами. Москвичам хорошо: те могли на светских раутах сколько влезет гоношиться родной Солянкой, фрондерски напевая «оц-тоц-первердоц» — в интеллигентской среде это было достаточно безопасно. Я же — терся бок о бок с дремучим челдонским предубеждением, по ночам точившим зубы о стенку соседа.
Столь обескураживающий натиск потомков Авраама, после долгих лет фильтрации, создавал иллюзию спланированной экспансии. Впрочем, объяснялся он вполне утилитарно: легкостью учебы, престижем профессии, а также пресловутым еврейским непотизмом — родовой метой южных народов. Существовал, впрочем, и дополнительный стимул, на уровне подсознания: в России литература — эрзац власти, а дискриминируемому меньшинству свойственно тянуться к идеологическим рычагам…
Максималист Мисюк заблуждался: приняли всех гуртом, до лучших времен отказавшись от селективного подхода. Победило чувство меры: ни те, ни другие не жаждали приключений на свою задницу. Когда в России гебня у власти, враждующим лагерям срочно требуется перемирие.
Итак, все хорошо, что хорошо кончается. Экзамены схлынули, забурлила богемная жизнь. Впрочем, кое-кому повезло меньше: я имею в виду поэтессу Хайруллину — памятный листик в моем эротическом гербарии. Свету отсеяли прямо с абитуры — и не за слабые знания, отнюдь: просто она осмелилась вызвать ментов, когда трое кавказцев пытались ее оприходовать по пьяной лавочке. Глупышка ухватилась за соломинку — и тем самым «бросила тень на наш творческий ВУЗ», как высокопарно сформулировали работавшие в учебной части прожженые бляди.
Лидия Константиновна, моя двоюродная тетка, укатила в Анапу по путевке ВТО: вот почему я предложил новой пассии кутнуть в уютно обставленной квартирке на Удальцова. Мы выпили мятного ликеру, развязавшего нам язык. На коврике, в гостиной, казанская мессалина вдруг разнюнилась: она стала жаловаться, что партнеры по сексу ей до сих пор попадались все какие-то неважнецкие.
— Не хочешь попробовать еще раз? Попытка — не пытка!.. — улещал ее я.
Она обреченно кивнула.
Когда же соблазнитель, сорвав халяву, отвалился покемарить как сытый клоп — не тут-то было: чертовка оказалась не лыком шита:
— Самец не должен вести себя эгоистично! — журила она невежду, приобщая его к восточной науке о сладострастии.
Пойдя ей навстречу, я был вознагражден:
— Хорошо! — зажмурила раскосые веки просветительница, и смущенно добавила: — Ты прости, мне ведь тоже хочется сорвать немного кайфа. Хоть бы ты, что ли, поступил, раз уж мне не суждено!..
Щуплая татарочка, она же незваная гостья, водила меня за руку по мреющей Москве. В пешей этой экскурсии чудилась передача эстафетной палочки: еврей наследовал латифундию у дщери Орды — пусть иго ее предков и продержалось чуть дольше…
Интересная деталь: в Казани она общалась с неким Марком Зарецким, «тоже шикарным парнем» (так звучала ее скрытая похвала), литстудию которого одно время посещала.
— Когда у нас резали семитов, — сообщала Хайруллина, — Марка ночью окружила толпа с ножами. Но он не растерялся: вырвал перо у одного из погромщиков и стал крутиться на месте, точно дервиш, угрожающе выставив лезвие вперед. Нападающие отступили и убрались восвояси.
На скамейке, напротив общаги, она жадно впивалась в меня губами. Я отлынивал от поцелуев, о чем сегодня жалею: бедняжка в мире ином — она умерла, так и не дождавшись выхода первой книги.
Через пару дней Света вернулась в родной город: чтобы устроиться методистом в тамошний кремль да слать мне изредка письма с новыми стихами.
На картошке, в деревне Чисмена, сдудиозусов расселили в местном пансионате. Сама атмосфера располагала: мы все, мягко говоря, передружились.
Верка Цветкова, суфражистка из Таллина, взяла надо мной эротическое шефство.
— Малыш, — подбодрила она меня, — не тушуйся. Видишь во-он ту симпатичную девочку? Она твоя: пользуйся на здоровье!
Маша Бабушкина, намедни перекрасившаяся в блондинку, и впрямь выказывала мне знаки внимания. Я перекочевал в женские апартаменты, которые она делила с Цветковой и шестнадцатилетней красавицей-армянкой Соночкой. По ночам прибалтийская сводня притворялась спящей как можно натуральней. Бабушкина весьма топорно имитировала девство: хотя все давно знали — от нее же, что меня на данном поприще опередил сын Окуджавы, бойко игравший на дуде. А что же Соночка? — спросите вы. Отвечу: маковый цвет араратской долины — она строго блюла себя, но отнюдь не свои барабанные перепонки…
Нашим «хождением в народ» пьяно дирижировал рыжеусый старшекурсник Коля Шмитько — выморочный драмодел и внештатник по призванию.
— С комсоргом советую ладить! — гундосил наш надзиратель на вечерней поверке (впоследствии я узнал, в чем состояли его основные вээлкээсэмовские обязанности: он носил за артритным ректором Пименовым кусок поролона и всякий раз подкладывал ему под задницу в президиуме).
Коля принадлежал к малороссийской мафии, свившей осиное гнездышко еще при Брежневе. Тетка его, Светлана Викторовна, заведовала учебной частью. Весь клан возглавлял соцреалист Власенко — на ученых советах остервенело лупивший кулачищем по трибуне, обличая то новый роман Аксенова, то статью Залыгина (при Сталине он отсидел и теперь, до смерти перепуганный, готовился в случае очередной волны репрессий очутиться в стане обвинителей).
В институте шла незримая борьба за лакомый кусок. Особую роль в ней, как обычно, играли полукровки. Глава приемной комиссии Зоркая — продвинутое чадо еврейки-киноведа и генштабовского хохла — стараясь оправдать свою фамилию, отвечала за рекогносцировку. С пеленок ластившаяся к впавшему в маразм ректору (пляжи в Пицунде, презентации в ЦДЛ, внутрикастовые сабантуи), она сумела усыпить бдительность своих супостатов: пригодилось умение сидеть на двух стульях. Вот отчего оттепель между каденциями двух генсеков в шароварах дала столь непривычно обильный урожай «неприкасаемых».
— Маланский набор! — плевался Коля Шмитько, явно недолюбливавший наш курс; он и не подозревал о кошерной половинке своего главного шефа Андропова: аберрация зрения неизбежна, когда тебя зациклило на локальных коллизиях.
— Маша и Гриша, марш в эркер! — горланил комсорг, после чего, нехотя
разжимая объятья, мы стряхивали с себя приставучие колючки чертополоха.
Случалось, что на собраниях Шмитько перебарщивал с командным тоном: тогда предостерегавшая меня Бабушкина незаметно стискивала мои пальцы. Сделаться аутсайдером вдругорядь мне мало не улыбалось. Хотя, право же, я приложил к тому немало усилий…
В Чисмене нашими соседями оказались первокурсницы из Московского института культуры. На литературном вечере, устроенном специально для них, я умудрился заткнуть всех за пояс. Мне аплодировали, голова шла кругом. Даже Степанцов, при всей его тетеревиной самовлюбленности, публично объявил меня «сладкогласнейшим». Прямо со сцены мы ринулись праздновать день рождения его новой зазнобы Лены, очень нервничавшей, когда я в шутку величал ее Дочь Сиона.
Хворостов и рыжий Попов — товарищи по Тамбову, добродушный свистун Доля, ростовчанин Моисеев и я, откупорив шампанское, шкодливо расселись в затаившей дыхание женской палате. Внезапно — тук-тук-тук: нагрянул дозор. Именинница мигом упрятала стеклянную батарею под скатерть. Пииты закуксились, изображая из себя приготовишек. Вошел дядька-воспитатель, втянул ноздри: запах учуял, но, с поличным не поймал. Тогда он решил наехать на бедную Лену: как ты, мол, посмела так поздно водить к себе гостей?!
Вышибленные наружу, мы озабоченно перешептывались: чем можно помочь виновнице торжества? Нас, лицеистов с Тверского, все же не держали в ежовых рукавицах, и муштра юных библиотекарш казалась нам возмутительным анахронизмом. Вскоре к нам выбежала зареванная жертва режима: полуночное застолье поставило ее на грань отчисления.
Тут я возьми да и шагни вперед с поднятым забралом:
— Что, отрастили себе усы под отца народов? Портите нам праздник из-за какой-то пары бутылок!
— Бутылок, говоришь? — понятливо хмыкнул дядька; метнувшись к загашнику, он тут же нашарил недостающие улики.
Ребята испепеляли взглядом проболтавшегося правдолюба. Сорванные накануне лавры, видимо, усугубили мою врожденную неотмирасегойность… Отлился мне и намек на портретное сходство с диктатором. Дядька оказался кандидатом педагогических наук и, задетый до глубины души, очинил перо. Донос адресовался сталинскому чабану — престарелому ректору Литинститута, на собраниях подпиравшему клюкой подбородок.
Шувайников, писака из Симферополя, староста нашего курса, разумеется, тотчас же навострил когти. Стучать приходилось еще на зоне: его и приняли-то авансом: с учетом будущих заслуг… Но сородичи дружно за меня вступились. Юрковецкий с пеной у рта доказывал: ну не жалует парень шестипалого, оставь его в покое! — а когда, скажи, пишущего человека красило стадное чувство? Остальные вторили Петру, всячески меня выгораживая. Стервятник спасовал. К счастью, избежала сурового наказания и Дочь Сиона.
Большей части курса я пришелся по нраву. Весь контингент постепенно разделился на три основных лежбища. В почвеннических попойках Мисюка с Сержантом я систематического участия не принимал. Но в прочих двух тусовках был задействован весьма плотно. Доля и Моисеев надо мной дружески трунили. Артур в свое время наблатыкался истопником где-то на Севере. Игорь же недавно отпахал армейку. Шурша по лесному мху, они канали под особистов:
— Что, будем брать диверсанта, товарищ майор?
Допрашиваемого пробивал сладкий озноб: подобно Юкио Мисиме, я ведь тоже с младых ногтей боготворил св. Себастьяна. Помню, еще учась в первом классе, всякий раз перед сном воображал желанную экзекуцию: белобрысый пацан по фамилии Евдокимчик прикручивает меня бечевкой к дереву и лупцует прутом по обнаженным частям тела…
Рыжий, предложивший нам назваться рыцарями Круглого стола, вряд ли ожидал, что Вадик Степанцов когда-нибудь уведет у него эту идейку: орден куртуазных маньеристов был зачат еще в чисменском колхозе. Попов не случайно приплел сюда праздную свиту короля Артура: амбивалентное обаяние поэта Доли подмывало его к сервильности, бередя холопскую душу тамбовского графомана.
Расхлябанный наш мальчишник вливался в междусобойчик чуть позрелее. Слабый пол там концентрировался вокруг Юрковецкого (новоиспеченный муж — всего неделя как из ЗАГСа — к уборке картофеля привлек свою новобрачную). В девичестве Бахметьева, родом из пензенской глуши, Инна с подвенечной этикой не больно-то чикалась. При муже позволяла себя тискать Моисееву.
— Караул! Грабят! — полушутя-полувсерьез вопил изображавший из себя ревнивца Петр.
Споря с чичисбеем, он однажды в запале преступил табу:
— Эх, жаль мне вас, славян: пьете как лошади, насилие у вас в семьях на этой почве, суициды…
— Сподобились мы жалости! — с выгодцей для себя раззвонил потом в кругу единомышленников зубоскал-оппонент.
Генеалогию свою Моисеев излагал так:
— Прадед мой — активный член Союза Михаила Архангела, дед — юдофоб строго конституционный, отец — приверженец абстрактного антисемитизма, а я — так и вовсе образчик политкорректности.
Тем не менее о Мануке Жажояне он как-то сморозил следующее:
— Ростовский армянин — тьфу, что за гадость! Я тоже из тех краев: поверьте, нет ничего омерзительней!
Видимо, и на Петину суженую он посягал в чисто назидательных целях: лишний раз подчеркнуть, кто в доме хозяин…
Юрковецкий пил, жеманился с бабьем. Любил побалагурить про фекалии, гениталии. «Сюси-пуси» — пустил в народ слюнявую поговорку. Эта форма самозащиты его не спасет. На маканинском семинаре белую ворону заклюют самым безжалостным образом. Инну, народившую ему троих сыновей, он, отчаявшись, выпихнет на панель путаной. Затем семья переберется в Гамбург. Петя откроет сеть публичных домов и станет издавать пикантный журнальчик. Вскоре жена его окажется в сумасшедшем доме, а сам он — за решеткой[9].
Петина шумная компания — скептичная Маша Черток, Эвелина со смущенным смешком «пс-с!» и дородная Лена Семашко — с первых дней была настроена ко мне по-родственному. Толстушка примкнула к кагалу из столичной солидарности: все эти хиханьки-хаханьки были ей внятны и ментально близки. Кроме того, нахлебавшись мужнего деспотизма, Лена находилась в состоянии вечного поиска. Пчелиной маткой хлюпая по слякоти, она подшофе распевала вместе со всеми:
— Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой иде-от!..
Евреи радостно коверкали русскую грамматику:
— На ём защитна гимнасте-орка…
Мы с Бабушкиной упоенно ворковали на фоне всеобщего веселья. Ради меня она самоотверженно худела — за час до подъема совершая упорные пробежки. Впрочем, я к ее комплекции претензий не имел. Другое дело Семашко: такую только подпусти! Но Лена не комплексовала: однажды под сурдинку меня заграбастала, запустила пухлую пясть и после шепнула заговорщицки:
— Теперь ты!
— Ну не здесь же, — слабо отбояривался я.
— Где, скажи? Когда? — страстно напирала моя ухажерша… Ее теперь тоже нет с нами: скончалась от сердечного приступа. И что за напасть такая, кто бы растолковал?..
Бабушкина — с библейским профилем — экзотично смотрелась в пестром павлопосадском платке. Она мило тренькала на семиструнке, самопальные шансонетки перемежая шедеврами Галича. Иные песенки посвящались мне. Муж, детишки, уютно потрескивающий камин — тема благоустройства вилась у нее красной нитью. За глаза же, по словам Верки Цветковой, писательская внучка надменно фыркала:
— Чтобы я — да за Марговского?! Ведь он же иногородний!
Маша частенько кичилась своими мнимыми галльскими корнями (она уверует в свою легенду настолько истово, что с ветром перестройки перепорхнет во Францию). Моя тетка Лида, прослышав об этой ее причуде, как-то съязвила:
— Знаем-знаем! Бердичевская аристократка.
Так или иначе, а с чисменской сцены я блистал как никто другой. Физрук Иван Кирилыч, предваряя мое выступление (почему-то именно ему поручалось вести творческие вечера: сбывалась ленинская мечта о кухарке, управляющей государством), поинтересовался — из каких, мол, мест будешь? — и, услышав ответ, осклабился:
— Стало быть, белорус!
Юрковецкий потом еще долго подшучивал на эту тему…
Помню, как спустя пару дней Кирилыч, шепчась с Колей Шмитько, кивнул в мою сторону и одобрительно хмыкнул:
— Перспективный!
Сдается мне, Бабушкина тогда крепко призадумалась. По крайней мере прямо с картошки повезла к себе домой.
— Это со мной, — сквозь зубы процедила она дряхлой консьержке.
Заскрипели тросы, доставлявшие лифт на тринадцатый этаж: число для иудея вроде бы благоприятное — но я-то готовил себя к роли парижского шевалье!
Литфондовский дом опьянял атмосферой элитарности. Особливо прельщал бардовый коврик вокруг биде. Я всегда тяготел к соитию в ванной: но на сей раз вышло постней, чем когда-то с Ирой. Бабушкина оказалась гимнасткой не ахти, хоть это отчасти и восполнялось импортными ароматами.
Пупсик из папье-маше — петрушка с бубенцом на шее — откликался на фрондерское прозвище Владимир Ильич. Друзья детства — сплошь совписовских кровей — вели себя до муторности инфантильно. Жившая этажом ниже чернокосая внучка Светлова время от времени шипела на меня: альфонс! — втайне негодуя на свою природную косолапость. Пигалица Бармина, гнилозубая журналисточка, напросившись на обед, с алчностью выслеживала куриную котлетку, а после клянчила еще и пятачок на метро. Антоша Носик, паркетно вышколенный, но вечно себе на уме, почему-то настораживал Машину маму. Зато я, судя по всему, глянулся разведенной инженерше с заплаканной наружностью.
— Ух ты! — подкузьмила она меня разок, когда я, раздухарясь, выплеснул при ней порцию мировой скорби.
Гражданским браком она жила с инженером Борей — молчаливым бородачом, периодически корчившимся от гастрита. Боря носил кожаный плащ, водил «Жигуль» и гордился знакомством со Смоктуновским. На меня он посматривал сочувственно: кто-кто, а уж он-то знал, где раки зимуют!
Гостей принимали на кухне. Записной деликатес — супчик из тертой свеклы — заправлялся сметанкой в обмен на непременный букетик фиалок.
— Ты забыл цветочки! — дулась на меня Машуня.
Ястребом слетав к метро, я заглаживал вину. И мы снова чавкали по-семейному, орудуя в восемь рук и стараясь избегать вербального контакта… Но вот в дверях вырастал силуэт опереточной барыни. Поперхнувшись, желудочник нервически вскакивал и размеренно бил челом. Балованная внучка, повизгивая, слизывала сыпавшуюся со старушенции пудру. Машина мать предавалась дочерним обязанностям, из полновластной хозяйки превращаясь в покорную жилицу.
Член Союза Писателей Мирра Ефимовна Михелевич владела поистине царской недвижимостью: две квартиры, две дачи, плюс муж, передвигавшийся с трудом, но всегда с угодливой улыбкой. В «Худлите» она монополизировала переводы с болгарского — одни только романы Павла Вежинова принесли ей целое состояние. Кооператив для дочери она тоже оформила на себя: мало ли что…
Меня она невзлюбила сразу — за отсутствие должного трепета: растиньяк из Нимфска вызывал у нее скрежет зубовный.
— Вы уже получше себя чувствуете? — отважился слюбезничать я, повстречав ее после длительной простуды.
— А ты надеялся, касатик, что я окочурюсь?!
— Ба, я тебя прошу! — пацифистски вмешалась Маша.
— О чем речь, не пойму? Ведь я его еще не укусила.
— Зато уже изготовилась, — елейно подыграла внучка: как говорится, яблоко от
яблони…
Оттаяв с мороза, старая мегера подсаживалась к нам вполне миролюбиво:
— Хотите добавки, Гриша?
— Нет, — выдавливал из себя я.
Маша поправляла:
— Не «нет», а «нет, спасибо».
Но бабаня не сдавалась:
— Интересно, чем вы там питаетесь у себя в общежитии?
— У нас имеется буфет с на редкость аппетитной буфетчицей.
Ответ мой пропущен мимо ушей.
— А спите на чем? Кровати хотя бы удобные?
— Эх, было бы с кем спать, а уж на чем — всегда найдется!
Пауза. Разговор о высоком призван замять возникшую неловкость.
— Стихи-то как, пишутся в последнее время? — опытная литераторша
прибегла к обходному маневру.
— Да не очень, знаете ли… — я тешил себя иллюзией, что остаюсь начеку.
— Хотите повидла? — резко выдвигалась вперед Мирра Ефимовна.
— Да, конечно, — растрянно мямлил я.
— Не «да, конечно», а «да, спасибо», — радостно добивала меня ее благовоспитанная внучка.
Беседа не клеилась. Бабушка прощалась. Оставалась Бабушкина. Мы шли в ее покои, где я исполнял долг — зажимая, как оглобли, подмышками тучные ляжки.
— Бедненький мой, ты так исстрадался! — жалостливо шептала лакомка. — О, если б я только могла впитать все твои боли в себя!..
И всякий раз честно пыталась это сделать. Не ее вина, что у нее редко получалось.
Она подарила мне белую кофту крупной вязки и томик Мандельштама — прихваченный мной в двухлетний бравый поход (и затем, по моем возвращении, неукоснительно затребованный ею обратно). Впрочем, кофту (прозванную «жидовской»: так отреагировала на мое появление в новом одеянии в доме у Кима одна нимфская актерствующая шмокодявка) вскоре пришлось вернуть: это я сделал по собственной инициативе — угадав в Машиных глазах немой укор.
Вечерами я плелся восвояси, ощущая себя выжатым, как лимон. Мстя за ее двоедушие, закатывал ей грубые сцены. Невинная жертва, провожая своего палача, бывало, ползла на коленях до самого лифта.
Сокурсники завидовали:
— Ишь, хапнул москвичку!
Криворожский сердцеед Доля угрюмо морщил лоб, сокрушаясь о провороненной им еще на родине зажиточной генеральской пышке. Серия новых ухаживаний не принесла желаемых результатов. Он поселился в одной комнате с урловатым детиной Федоровым — почвенником из Набережных Челнов, у которого явно были не все дома; сосед нежно называл его Артурчиком, но иногда между ними случались и отчаянные драки.
Другой ушлый провинциал, Моисеев, долго и тщетно охотился за Ксюшей Драгунской, чей папа был автором знаменитых «Денискиных рассказов». Игорь вешал нам лапшу про званые обеды в литфондовских домах, таскал нас на просмотры во ВГИК, где его рыженькая знакомая подвизалась на сценарном факультете… В итоге он расторгнул намечавшуюся сделку с совестью и, вспомнив о давней зазнобе, очертя голову выписал ее из Ростова-на-Дону.
Бабушкина, желая щегольнуть вельможным филантропизмом, предложила ему сыграть свадьбу у нее дома. Жених взял напрокат кримпленовый костюм и заявился под руку со своей припудренной норушкой. Мечта завзятого сноба сбылась в неожиданном ракурсе: теперь он и впрямь был допущен в самый бомонд — правда, в той же роли, какую основатель Санкт-Петербурга отвел когда-то своему помпезно брачующемуся шуту…
На свадьбе было людно. Золотая молодежь заискивающе льнула к будущим знаменитостям из пропахшей клопами общаги. В центре всей бутафории красовался я — любимая игрушка хозяйки.
— Счастье привалило! — осматривая Машины апартаменты, присвистнул Доля: ему вздумалось процитировать Шолом-Алейхема. — Наверное, теперь ты окончательно завяжешь с лирикой?..
Молодые чокнулись со старообрядческой чинностью. Грянуло зычное «горько», и Гименей, поеживаясь на антресолях, принял под свой бархатный балдахин счастливую пару без московской прописки.
Вволю попировав, мы организовали дансинг. Вереница здравиц неуклонно вела нас к той стадии раскрепощенности, когда у одной половины гостей ненавязчиво съезжает лифчик, а у другой — как бы невзначай разъезжается ширинка.
— Ой, а ты, оказывается, длинненький! — простодушно заигрывала со мной на кухне глазастая невеста.
Бедный Игорек! Как страстно желал он публиковаться в центральных журналах, обличая в своей юношеской повести хрипуна генерала и куря фимиам прошедшему огонь, воду и медные трубы герою-самородку, списанному с самого себя! Увы, мечтам его не суждено сбыться: еврейское крыло отторгнет вызывающего подозрения чужака, а крыло черносотенное так и не пригреет его по-настоящему. Лет через пяток ростовчаночка с чутким лисьим носиком, сообразив что к чему, ушмыгнет от неудачника в более комфортабельную планировку. Отираясь в издательстве «Столица», пропахшем смазными сапогами ксенофобии, он будет еще недовольно бурчать некоторое время, покуда не поймет, что излишняя образованность стала досадной помехой его профессиональному патриотизму, не говоря уж о том, что отсутствие толерантности навеки захлопнуло перед его носом двери приличных домов.
Впрочем, мои собственные «блеск и нищета» выглядели не многим лучше. Я отлично знал, что моя Прекрасная Дама не пропишет меня в столице ни за какие коврижки. Но предпочитал длить эту идиллическую агонию — назло завистникам, шептавшимся у нас за спиной на лекциях.
И вот, в описываемый зимний вечер, изрядно приняв на грудь, я решил исполнить свой коронный акробатический трюк в честь новобрачных. Выйдя на балкон покурить, минут пять постоял, разминая кисти рук, — затем перемахнул через перила и завис по ту сторону безудержного матримониального веселья…
Мир подо мной вращался многообещающе, подобно тарахтящему лотерейному барабану. Жизнь района «Аэропорт», как всегда, протекала ослепительно: расхристанно визжали писательские дочери в беличьих шубках; писательские сынки, на морозце поигрывая в снежки, копировали орденоносных папаш, забрасывающих друг дружку доносами в «Литературку». Сколько я потом ни колесил по свету, на душе не переставали скрести кошки: и угораздило же меня родиться у черта на куличках!
Служивому нашему семейству ни Астарта, ни Зевс не даровали от щедрот своих ни бабок, ни блата. Потомок мелких негоциантов в тридесятом колене, я от природы тяготел к макрокосму мировой культуры. Окутывавший меня с пелен несносный диалект вызывал мучительную слуховую изжогу. Но язык подгнившей империи, в его сердцевинном элитном изводе, оставался недосягаем все годы моего беспросветного житья на периферии.
О зачем, скажи, Садовник, ты сделал меня жертвой мичуринского учения? Вегетативное скрещивание не пошло на пользу моей подопытной ментальности. Прививая завязь орхидеи к стеблю одуванчика — полагал ли Ты, что она примется в каверне буерака?! Или тут сработала незапрограммированная мутация — в память об Антоне Павловиче ее можно было бы назвать «таганрогским эффектом»: тот, кому Ты заранее уготовил скромную участь прораба, возомнил о себе нивесть что и самонадеянно подался во властители дум?..
В тот момент, как мне кажется, я подсознательно подражал Долохову — забулдыге гусару из толстовской эпопеи. Не исключен и рецидив полупрофессионального циркачества: при щекочущем нервы отсутствии страховочной лонжи. Так или иначе, а провисел я недолго: не стремясь составить конкуренцию новогодним гирляндам. Глотнув адреналину, лихо кувыркнулся обратно, в домашнее тепло. Бабушкину заботливо обмахивали со всех сторон: платя сценой за сцену, она хлопнулась в обморок.
…Возвращаясь в затхлое логово, я одиноко свертывался калачиком. Соседа моего, Хворостова, обычно где-то носило. Тамбовский бормотун бросал якорь в одной из наших злачных гаваней. Постучавшись к кому-нибудь, он сосредоточенно скреб свою раннюю плешь, затем тюфяком плюхался на скрипучие пружины — чтобы так же резко с них вскочить уже глубоко заполночь. Мне он все уши прожужжал про свою землячку Марину Кудимову — раешную кликушу из евтушенковской опричнины. Андрюха поверял ей когда-то свои первые непроваренные опусы.
— До чего ж они с Зоркой похожи: обе страхолюдины! — восхищенно причмокивал языком взъерошенный недотыкомка.
Мария Зоркая читала нам курс по средневековью. «Беовульф», «Кудруна», Вольфрам фон Эшенбах — она сыпала именами как из рукава. От нее я впервые услыхал об Иоганне Рейхлине, немецком юдофиле, изучавшем каббалу и составившем грамматику иврита еще в эпоху Колумба.
Преподавательская ее манера зиждилась на двух китах: повергая аудиторию в трепет своей гейдельбергской ученостью, она в то же время отказывала нам в праве блеснуть ответной эрудицией; например, когда Света Орлова, родом из какой-то глуши (через пару лет она выйдет замуж за мексиканца и укатит к пирамидам майя), попыталась ей процитировать немецкую балладу на языке оригинала, германистка брезгливо поморщилась:
— Не может быть, чтобы Вы помнили это наизусть!
Другое дело Володя Мисюк: тольяттинский поклонник Рубцова в открытую саботировал лекции «Маши» — как называл он Зоркую за глаза, будучи ее ровесником. Каламбуря напропалую (дальше «клитора» и «менстры», извлеченных из имени Клитемнестры, обычно дело у него не шло), он не столько заигрывал с ней, сколько старался задеть. Но и для этого остряка-самоучки у гордой феминистки нашлась пара ласковых:
— Мисюк, — изрекла она однажды, — напрасно вы пыжитесь, голубчик. Да будет вам известно, я уже и без того вошла в историю литературы: сам Арсений Тарковский посвятил мне стихотворение!
Ко мне она поначалу относилась покровительственно. Еще во время вступительных экзаменов, когда я в полном неведении ежился на лавке под липой, возложила мне руку на плечо:
— Прошу любить и жаловать: Гриша Марговский, талантливый поэт и мой новый протеже!
Двойник Хемингуэя, к которому она при этом обращалась, седобородый фавн у нее на побегушках, стыдливо пряча за спиной пивную емкость, уважительно икнул в ответ (после я встречал его в ЦДЛ: лишившись работы, он окончательно спился и примкнул к лейб-гвардейским горлохватам). Вызывающая ее откровенность, помню, меня слегка покоробила: в провинции любые проявления национальной солидарности на тот момент еще весьма тщательно маскировались…
Предельно экономившая на интимной жизни бравая атаманша сумела в тот достопамятный год подчинить себе чуть ли не полинститута: по натиску она не уступала целой конной дивизии! Впрочем, когда я робко спросил ее совета, что целесообразней указать в графе «национальность», она не задумываясь отчеканила:
— В анкете для приемной комиссии лучше напишите «русский», во всех же прочих нет никаких причин скрывать правду.
Как-то я и Бабушкина, смывшись с диалектического материализма — единственно верного философского учения, озвученного хорошо поставленным баритоном Юрия Палыча Иванова[10], воодушевленно топали от метро по направлению к ее дому на Усиевича. Оживленно переговариваясь, мы уже предвкушали куда более приятное времяпрепровождение, нежели участие в занудных дебатах о Сосо Джугашвили и его казненных сподвижниках, как вдруг, откуда ни возьмись, оправдывая свою фамилию, нам ехидно преградила путь Мария Зоркая — в норковой шубенке, базедовы глаза навыкате:
— Атас, братцы-кролики! Кажется, вы вляпались по самые уши! Ладно уж, не пугайтесь, я не растреплю: могила! Но вы, Гриша, смотрите, не подкачайте: я ведь приняла вас на дневное по сугубо индивидуальному проекту!
Обе Маши понимающе хихикнули и разбежались. В короткой беседе незримо присутствовала тень пушкинской пиковой дамы: пожилая переводчица с болгарского слыла баснословно богатой.
— Как Крез! — подтверждая циркулировавшие слухи, алчно раздувала ноздри Машуня Жданова, племянница Зоркой, бледнее спирохеты.
Надо сказать, я и к этой Маше пытался подбивать клинья: просто так, для коллекции, повинуясь магнетизму имени… Ждановы обитали в районе «Университетской». Бесприданницей единственную дочь никак не назовешь: шикарный кооператив, престижное авто, дачка. Глава семьи, родной брат Зоркой, сумел выбиться в знатные архитекторы. Мать водилась с богемой, но и не только: ближайший ее дружбан, по виду стопроцентный семит, из осмотрительности представлявшийся шведом (он и впрямь чем-то смахивал на Карлсона, живущего на крыше), читал на ее кухне нараспев стихи Мандельштама, сокрушенно сетуя на свой неудавшийся брак.
Мать Ждановой внешне выглядела как минимум полукровкой. Она отреагировала на мое появление вполне позитивно: через одного своего шустрого знакомого организовала нам два билетика на вечер Александра Иванова, проходивший в здании Московского автодорожного института. Помню, как сам пародист, торопившийся на сцену, мимоходом облизнулся на квелое личико моей кокетливой спутницы. Меня оно тоже отчасти привлекало — но только когда бескровные уста хоть что-нибудь произносили: таким образом я оставался в курсе всех цэдээловских сплетен.
Дома у них я бывал раза два или три. Не то чтобы собирался посвататься, исключительно из любопытства. В последнее свое посещение отколол кунштюк в духе Остапа Бендера: стибрил из обложенного кафелем клозета небольшой латунный молоточек. Зачем? Для чего? Видимо, тоже для коллекции… Но клептомания безопасна только в сочетании с умелой конспирацией. Почтив меня ответным визитом, Жданова сходу опознала свою вещицу на полке:
— Откуда это у тебя? — пытливо сощурилась она.
— Не помню толком. Кажется, Хворостов где-то раздобыл.
— О, да твой сосед хозяйственный мужик: он обладает редкой способностью приобретать полезные вещицы!
Она продолжала насмешливо пялиться на меня со стула. Рассчитывая сгладить неловкость, я попытался за руки привлечь ее к себе, но острый каблук гостьи красноречиво уперся в остов кровати. А за окошком туманился одноразовый шприц Останкинской телебашни — за этот незаурядный проект отец ее был в свое время удостоен государственной премии…[11]
Идиотская эта история продолжала терзать мою нечистую совесть. На лекции по древнерусскому фольклору, воспользовавшись болезнью Бабушкиной, я сел рядом со Ждановой. Расчесанный на православный пробор Константин Кедров витийствовал взахлеб, шарлатански препарируя алфавиты разных племен и народов. Согласно его сомнительным выкладкам, славянский «аз» являлся ни чем иным как вочеловеченным ивритским «алефом». Библейская буква идеографически привязывалась им к образу парнокопытного. Нам предлагался сусальный миф об эволюции быка в человека. При этом общепризнанная историческая промежуточность греческой «альфы» деликатно замалчивалась (равно как исконная фамилия самого лектора — по рождению Бердичевского).
Эврика! Ничтоже сумняшеся, я решил запечатлеть его дерзкую гипотезу в проказливом экспромте. Последняя строфа звучала примерно так:
Мычит ветхозаветная скотина -
Как следует колом ее огрей!
Творение Кирилла-Константина,
Твой автор был не эллин, а…
Жданова просияла: моя язвительность ей явно импонировала. Некоторое время мы сидели молча. Повторяю, я к ней не то чтобы особенно вожделел. Просто мне не давал покоя бездарно позаимствованный мной латунный молоточек. И в какой-то момент, мечтая провалиться сквозь землю, я бессильно уронил голову ниц… Прощение снизошло незамедлительно: тайком ото всех она ободряюще сжала мою руку под партой.
Что было, то было, но вопрос в другом. Готов ли я сам выдать индульгенцию тому отпетому мошеннику, тому вороватому проходимцу, которым являлся в безоблачные времена своей юности? И разве мое тогдашнее авантюристское «эго» мне сегодняшнему не подпортило карму настолько, что какое бы то ни было реальное исправление, каббалистический «тиккун», представляется уже маловероятным?..
«Падший ангел» — недаром этим сакраментальным словосочетанием ласково увенчала меня Верка Цветкова. Участливая опекунша регулярно грозилась полушутя, подставляя щечку для дружеского поцелуя:
— Вот погоди, малость забуреешь — и курсе эдак на третьем я лично тобой займусь!
Пока же, суд да дело, она выступала в роли неутомимой сводни. Троих двадцатилетних бонвиванов — меня, слегка шепелявого армянского декадента Манука Жажояна и высокомерно гнусавящего немца из Архангельска Мишу Шульмана, младшего брата строгой критикессы (показателен тот факт, что все трое после летней сессии будут поставлены под ружье как по команде), Цветкова потащила на именины к своей подруге, гримерше с киностудии им. Горького. Волоокая евреечка вела себя гостеприимно, поила и кормила нас до отвала, расспрашивая о том, о сем, но при этом глаза коренной москвички выдавали глубокую разочарованность в сильном поле.
Куда большим задором отличалась простоволосая, с лазурными русалочьими зрачками, Наталья Силантьева, родом из Ульяновска (однажды, как ни странно, я повстречаю ее в Земле Обетованной — под фамилией Войтулевич-Манор, на сцене израильского театра «Гешер», в роли Настасьи Филипповны). На тот момент моя новая знакомая еще не перевелась на актерский в ГИТИС и продолжала корпеть над учебными сценариями. Возможно, по этой причине ей тогда и была интересна литературная публика. Впоследствии мы подружились, она участвовала в шумных посиделках у меня в общаге. А еще я ей читал свою раннюю поэму «Надежда Нежданова» — во время нашей неспешной прогулки по тихому кладбищу неподалеку от ВГИКа. Выслушав внимательно, она отметила у меня глубокое поэтическое дыхание, а затем, окинув взором покосившиеся надгробья, вдруг пронзительно спросила: не боюсь ли я смерти…
В театрально-киношной среде Верка чувствовала себя как рыба в воде. В тот вечер в ней самой проснулись режиссерские амбиции. Вот почему за столом я оказался локоток к локотку со стриженой под каре крашеной блондинкой, костюмершей из Детского музыкального театра. Звали ее Таня Левкина. После двух рюмашек мы уже нежничали с ней на мягкой софе, не обращая внимания на собутыльников, выкомаривавших рок-н-ролл на скользком паркете.
— Только на прописку не рассчитывай! — упредила она заранее все мои корыстные поползновения. Видимо, влюбчивого пиита ей аттестовали как неисправимого романтика.
Левкина выглядела лет на двадцать пять. В чертах ее мелькало что-то определенно семитское, но и эта тоже упорно настаивала на своем скандинавском происхождении (любопытно, существует ли в психиатрии специфический термин для обозначения подобного рода мимикрии?) В самый разгар пирушки она ненавязчиво сообщила мне о своей затянувшейся девственности.
— Все никак не подвернется достойный кандидат, — лаконично объяснила она отсрочку в столь деликатном деле.
Азарт гарпунера обуял меня. Поймав таксомотор, я умыкнул ее на целую ночь. Кто-то когда-то внушал мне, будто лишение невинности сопряжено с пожизненным влечением дефлорируемой к своему первопроходцу. Судя по Ире Вайнштейн, это отнюдь не басни: архитекторша была готова следовать за мной хоть на край света (правда, в купейном вагоне, а не в калмыцкой кибитке). Что же касается Бабушкиной — как было уже отмечено, я не верил ни единому ее фальшивому взвизгу!
Так или иначе, а де-факто это происходило со мной в третий раз, (хотя де-юре — лишь во второй).
Таня умоляя шептала:
— Сделай это нежно!..
— Как под общим наркозом! — клятвенно заверил я.
Но не успело обещание слететь с уст, как халиф на час вцепился в железную спинку кровати и принялся рьяно отжиматься со звериной гримасой.
— Гришенька, остановись, пожалуйста, у нас ничего не получится!!! — металась фрекен Левкина по пыточному ложу (ох уж эти мне шведские семьи: все в них не по-людски!)
Впрочем, я обозлился не столько на ее псевдоарийское хамелеонство, сколько на реплику насчет прописки. Не люблю, когда наступают на любимый мозоль. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что Верка подсунула мне перед сном подслащенное мумие в чайной ложечке. Мой первый, нимфский еще, эксперимент в этом роде, помнится, растянулся дня на три, на четыре; здесь же, разнообразия ради, я взял своим девизом пословицу «veni, vidi, vici!»
Покончив с грязной физиологией, я решил вспомнить о душе. Перевернувшись на спину, закурил и, сыто мурлыча о чем-то эфирном, умозрительном, меньше всего рассчитывал на зрительскую апатию. Но Татьяне сентиментальные абстракции явно претили. В ответ она лишь презрительно фыркала — вперемежку с остаточными всхлипами.
— До чего же ты черствая! — упрекнул пациентку хирург, страдая от похмелья.
Наскоро одевшись, гостья на прощанье заглянула к удружившей ей своднице. Верка и Манук завтракали в неглиже, выковыривая хилые шпротины из мятой жестяной банки.
— Ну? — с надеждой в голосе прянула ей навстречу дуэнья.
— Мрак! — учащенно дыша, Левкина отчалила без лишних объяснений; о ее пожизненной привязанности ко мне, разумеется, и речи быть не могло.
Превратно истолковавший эти слова Жажоян счел своим гуманитарным долгом меня поддержать.
— Ну, фто, фраернулся, Грифа? — снисходительно осклабился он. — Ладно уф, не туфуйся: всяко бывает!
Небрежным жестом я откинул байковое одеяло. Увидев обагренную простынь, утешитель опешил:
— О! Да ты, оказывается, молоток…
Милый, бедный Манук! Да будет тебе земля пухом! Вечно изумленный, тонконогий, как джейранчик, даже корчить из себя утонченного сноба — и то умудрявшийся с оттенком наивности. Эдакий пройдоха-нескладеха. Кто бы мог предположить, что с ним такое однажды стрясется? Вроде был достаточно осмотрителен, дорогу переходил аккуратно… Жаль, только не шибко пристально следил за развитием политических событий: в стране, где прежде по традиции казнили гениальных поэтов, в конце 90-х прошлого века на Голгофу взошли бесстрашные журналисты.
Версификатор он был грамотный, не более, зато поэт — редчайшей силы искренности, безоглядный, из породы Рембо! От рождения билингв, Жажоян все же предпочитал писать по-русски: сознавая, что имперский язык по определению выразительней, ибо открывает несравненно больше возможностей. К окружающей природе он был абсолютно индифферентен. Еще на картошке, когда мы, два байбака, посмеивались над пахарями на борозде из-за кустов ежевики, он провозгласил себя убежденным урбанистом. Но именно Город — одичалый Сатурн, которому он так самозабвенно поклонялся, пожрет свое доверчивое дитя. Что за чудовищная прихоть жребия: щеголеватый парижанин, к мнению которого уже начали прислушиваться маститые редакторы, насмерть сбит остервенело мчащимся по Невскому проспекту автомобилем![12]
Что до меня, то я иначе как живым Манука воображать отказываюсь. Счастливый дар коммуникабельности распахивал перед ним любые двери. В развеселом бивуаке Мисюка в нем души не чаяли. Чуть не каждый вечер там разыгрывался один и тот же претенциозный спектакль. Ижевский самородок Игорь Крестьянинов, по прозвищу Блок (судя по внешности — потомок эвакуированных в Удмуртию евреев), надрывно хрипел под гитару рубцовский стих про крещенские морозы. Сержант Корчевный из Ессентуков оголтело лупил в тамтам, заливаясь истерическим хохотом белобрысого масая. Вятич Андрей Пестов, причудливая помесь Чаадаева с тибетским монахом, невозмутимо жевал мундштук, рассуждая об очевидных преимуществах верлибра.
При этом вся компания безоговорочно признавала лишь одного гения — самого Мисюка, чей солидный возраст, закоренелый алкоголизм и незатейливые вирши в стиле а-ля рюсс внушали благоговение даже общежитским мышам, копошившимся в груде его черновиков. Тольяттинский лирик, со сверкающей лысиной и сардонической ухмылкой, хрустя рабфаковской тужуркой, произносил свой широковещательный монолог о судьбах русской поэзии. С его точки зрения, в самоубийстве Маяковского была повинна исключительно Лиля Брик, в смерти Есенина — чекист Блюмкин, а в трагической кончине Рубцова — казуисты-редакторы с их крючковатыми носами.
Как-то, с началом этой бодяги, я выманил Жажояна в коридор и там раскололся: моя внешность порой требует комментариев для непосвященных. Услышав такое признание, бывший студент ереванского филфака непроизвольно прыснул: к чему эта нелепая конспирация? В Армении евреев кот наплакал, оттого и антисемитизм всегда носил сугубо маргинальный характер. Впрочем, припоминал он, в Ростове-на-Дону один «шлимазл» плакался ему в жилетку: на экзаменах, мол, срезали — теперь придется два года в нужник строем ходить…
И Манук великодушно принял на себя роль дипломата: объяснил корешам что к чему — чтобы впредь болезненную тему при мне не затрагивали. К услугам его я прибег вынужденно: во-первых, глупо соваться в чужое аббатство со своим уставом; во-вторых же, поведи я себя иначе, на стенку бы пришлось лезть от одиночества. Хвататься за томагавк я не спешил: хорошо помня, какие последствия для меня возымела изоляция на стройфаке. К тому же, здесь меня окружали личности прелюбопытные: у Пестова я почерпнул немало полезной информации — в частности, о его кумире Поле Валери; да и у самого Жажояна было чему поучиться: наделенный безупречным вкусом, он привил мне любовь к Верлену и Уайльду, раскрыл моему уху прелесть мандельштамовских интонаций.
В то же время Манук не скрывал отвращения, когда речь заходила о Юрковецком. Считая его законченным уродом, он нет-нет да и экстраполировал это свое отношение на всю нацию. Строгий кодекс горца порицал фарцовку законной супругой, даже если она и происходит из чуждого племени… Впрочем, кажется, я что-то путаю: Петр вытолкнул Инну на панель значительно позже — в годы перестройки, когда валютная проституция сделалась в Москве одним из наиболее доходных занятий. В описываемый же период он еще холил ее и лелеял, вкалывая сам черт знает где ночным сторожем. Пока Бахметьева рожала ему троих наследников, он вынашивал планы поездки на золотые прииски, на которую так и не решился, небезосновательно опасаясь, что его кости останутся в таежной глуши…
Да, не секрет, что разным человеческим сообществам свойственно культивировать различные моральные ценности. К примеру, фракиец Спартак, загнанный в угол римскими легионами, был воспитан таким образом, что не мог и предположить вероломства со стороны армянских купцов, вдобавок еще и сорвавших с него солидный куш за спасение. Однако неужели так трудно всему миру понять, что вечный страх преследований, непрекращающиеся наветы и погромы, неизбежно изуродовали бы любую коллективную этику? Спрашивается, не настало ли время понять и простить?..
Просто-напросто иудеи подверглись колонизации гораздо раньше других восточных и южных народов. Их европейские резервации назывались «гетто» и находились вдали от разрушенного Храма. При этом метрополии как таковой они были напрочь лишены. Могла ли такая напасть не сказаться на человеческой психике? И разве сегодняшние турки в Германии, арабы во Франции или пакистанцы в Лондоне — при том, что их положение, благодаря царящей там демократии, несравненно лучше, — явили Западу образчик благочестия и законопослушания? Разве те же цыгане, айсоры, парсы сохранили свои древние традиции и верования хоть в четверть по сравнению с потомками Авраама?!
Как пишет Иосиф Бродский в своем «Назидании»:
…помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны…
Формула эта, достойная Овидия или Лукреция, прочно окованная панцирем акцентного стиха, сводит воедино апологию и критику. Еврейскому народу, одному из самых выстрадавших в истории, жизненно необходим такой взгляд со стороны. Табу, которым сегодня блокирован любой анализ наших общенациональных недостатков, объясняется ужасами Холокоста, сочувствием Запада к жертвам геноцида. Этому запрету пытается противостоять гнусная свистопляска неонацистов с их пещерным невежеством. Кто же поможет нам выйти из заколдованного круга? Ведь преследуемые тем порочней, чем чаще их преследуют, — а возводить на них напраслину не перестанут, пока большинство не избавится от родовой отметины.
Судьба Пети Юрковецкого во многом характерна для одаренного, но с детства задавленного комплексами московского еврея. Практически лишенный волевого начала, он в повседневной жизни выработал форму самозащиты, являвшую собой сочетание соленого юмора с меланхоличным скепсисом. На Инне он, безусловно, женился с заветной целью ассимилировать, хотя его потребительское отношение к ней и свидетельствовало о внутренней отстраненности. Впрочем, какая-то искренняя привязанность все-таки существовала. Во всяком случае, уже в Гамбурге, где они осядут всей семьей, когда у Бахметьевой поедет крыша и ее запрут в психушку, это ввергнет его в пучину неподдельного страдания. Развеять мрачные мысли не поможет ни сеть массажных кабинетов, ни издаваемый им в иммиграции рекламный журнальчик. Допустив некий грубый просчет, он и сам вскоре, увы, окажется за решеткой…
В тот год я в основном лоботрясничал да попусту распылялся. Из тех же лекций Зоркой мог бы извлечь больше толку. Не говоря уж о великолепном Сергее Аверинцеве — чьему краткому экскурсу в историю ересей, блестяще прочитанному в актовом зале общежития, Мария Владимировна и сама внимала, затаив дыхание. Катары и альбигойцы, духоборы и богомилы — эти диковинные слова я слышал тогда впервые. Но, несмотря на ветер в голове, что-то в память все же запало. Иначе разве бы я стал так упорно вникать — годы спустя, под жгучими аравийскими небесами, — в тектонические сдвиги Раннего Возрождения, мысленно перекидывая мостик от брожения секты «жидовствующих» и московских интриг семьи Палеолог к суровому эдикту Фердинанда и Изабеллы и к последовавшему за этим переселению народов?
Не присутствуй я тогда в том уютном крохотном зальчике — разве пришло бы мне когда-нибудь в голову, что 7000-й год византийцев (он же 1492-й по общепринятому летосчислению), объявленный на Руси началом светопреставления, вовсе не случайно совпал с изгнанием евреев из Испании и открытием Америки? Обрушив на иудеев новое бремя отверженности, христианские мильенаристы подсознательно избавлялись от тягостного ожидания глобальной катастрофы: было еще раз доказано, что конец света можно локализовать, сведя его к жестоким испытаниям, выпавшим одной отдельно взятой нации. Но гений истории — Твой, Садовник, гений — мудро увенчал эту трагедию кульминацией из шекспировской «Комедии ошибок». Истосковавшийся в тысячелетнем одиночестве Старый Свет обнял со слезами на глазах своего единоутробного брата-близнеца!
Да, поначалу всеми богатствами и угодьями завладели те же самые, кто накануне алчно отнял имущество у испанских изгнанников. Даже Кристобалю Колону, потомку марранов с острова Майорка, не простили его происхождения: Командор не избежал тюрьмы и опалы, он умер в полной безвестности. «Земное яблоко» Мартина Бехайма, топографически восполненное очертаниями нового материка, подставило завоевателям вторую щеку: меч конкистадора обрушился на древнюю ацтекскую цивилизацию. Но вот миновало 500 лет — и что мы видим? Плаванье Колумба в конечном счете лишь укрепило позиции государства Израиль. Ибо сильнейшее из двух еврейских государств (а их и в древности было два) расположено сегодня на Американском континенте!
Впрочем, устойчивость той или иной интерпретации нередко зависит от того, в достаточно ли твердой валюте выдается «грант». Мне с этой приятной формальностью в Израиле не повезет — как не повезет и со всем остальным: там, на родине пророков, выживание для меня окажется проблематичным во многих аспектах… Но суть не в этом. Главный мой вывод состоит в другом: история управляема свыше, она глубоко метафизична; законы добра и зла, возмездия и воздаяния оказывают на ее ход самое непосредственное влияние. Разве тот же Холокост в итоге не явился своеобразной формой отвоевания евреями своей исконной земли? Ведь создать для этой цели регулярную армию разрозненные, раскиданные по всему миру общины не могли по определению. А кто сказал, что усилия по восстановлению еврейской государственности военным путем: смертельная схватка с Оттоманской империей, силовое устранение британского фактора, масштабное оттеснение арабских банд, — потребовали бы меньших человеческих жертв, нежели замешенная на идеализме кипучая революционно-преобразовательная деятельность по всей Европе, приведшая, увы, к концлагерям и массовым репрессиям?.. Да, это была эквивалентная плата за национальную независимость — плата в другой, не настолько расхожей валюте, но внесенная отнюдь не по сговору «сионских мудрецов», как пытаются нам представить зоологические антисемиты, а предусмотренная свыше, основанная на Промысле, отчего и сама неизбежность ее была, вероятно, заложена в коллективном бессознательном. Иными словами, Садовник, я окончательно пришел к тому, что двуногая растительность планеты — не сумбурные дебри, как мне казалось прежде, а прообраз английского регулярного парка с его аккуратно подстриженной травой и тщательно ухоженными купами дерев!
Но тогда, на первом курсе, я еще ни на йоту не тяготел к руссоизму. Не стремясь к возделыванию собственного сада, варварски обдирал венчик за венчиком, гадая о будущем по изнеженным лепесткам. Цветы, окружавшие меня, вяли и отворачивались — розы, маргаритки, ромашки…
Каждый раз по возвращении от Бабушкиной я выл в подушку, ропща на лукавые проделки змееволосых эринний. Гамзатовский племяш Наби Джаватханов, чье зычное горское романсеро я переводил для какого-то махачкалинского сборника, жизнеутверждающе барабанил в стенку, осуждая мою мерехлюндию.
На лекциях мы иногда садились с нею рядом. Однажды, просто так, смакуя прелесть фразеологического оборота, я несколько раз повторил:
— Я ведь гол как сокол. Гол как сокол.
— И глуп как сапог, — не отходя от кассы зарифмовала она
А затем, спохватившись, испуганно пролепептала:
— Прости, пожалуйста!..
«Ничего-ничего! — грозил я ей. — Наступит время, и ты будешь локти кусать!» — «Это когда ты, Гриша, станешь великим поэтом, да?» — что ни говори, а подкузмить она умела.
Обуреваемый тщеславием, я решил пробиться в журнал «Юность», разлетавшийся тогда по стране миллионым тиражом. Стихами там заведовал некто Натан Злотников — долговязый, плешивый, с осклизлой улыбочкой и медоточивым тенорком. Несмотря на свою влиятельность в кулуарах, этот жалкий Агасфер вынужден был постоянно оставаться начеку: сбоку его недреманно подсиживал толстокожий истукан Николай Новиков, второй человек в отделе поэзии, кропавший высокопарную серопись и при всяком удобном случае вставлявший палки в колеса шефу.
— Доб’ый день, Г’ишенька! — завидев меня, пичужничал ласковый Натанчик, улыбаясь как кукла Барби и неприлично подмигивая. — Коинька, это майчик от Яши Коз’овского. П’овей, пожа’уйста, может, нам чего подойдет.
Вальяжный помощник, слюнявя пальцы, насупленно пролистывал мою рукопись. Сколько он ни корчил из себя белую кость, камер-юнкерское выражение не давалось суконному рылу. И вся-то его ностальгия по дворянским собраниям объяснялась одной лишь тайной ненавистью к пирующим на обломках предыдущей империи «узурпаторам».
— Поймите, Григорий, — выдал он при нашей следующей встрече, — мы хотим вас открыть, а не просто опубликовать! Приносите новые вещи, мы в будущем непременно что-нибудь отберем.
В другой раз этот аристократствующий троглодит внушал:
— А известно ли вам, что стихи не кормят? В лучшем случае вам светит кресло литературного чиновника, — бьюсь об заклад, он опирался на собственный печальный опыт.
Вот уж правду говорят: в чужом глазу… Свои-то нетленки оба журнальных клопа — Натанчик и Коленька — тиражировали с воодушевлением неваляшек: ничуть не уповая на вселенский резонанс, довольствуясь скромными комсомольскими гонорарами. Какое им дело было до меня — незамаранного в их иезуитских интригах, понятия не имевшего о том, кому на кого положено стучать по четным, кому — по нечетным дням недели?!
Один только Витя Коркия, литконсультант на полставки, шепнул мне мельком в редакционном закутке:
— Я вижу поэта! Нетрудно догадаться, что ваши учителя — Тарковский и Чухонцев. Но учтите, совсем не обязательно повторять их крестный путь.
Ах, Виктор! К несчастью, все оказалось не так-то просто. Тому, кто воистину живет написанным, тернового венца не избежать. Одним его надевают на голову в издательствах, другим — на чужбине, третьим — в супружеской постели… Да что я тебе рассказываю! Ведь и с тобой — чей потенциал раз в десять превосходил их убогие возможности — эти кашалоты не больно-то цацкались: не случайно свою первую книжку ты выпустишь, когда тебе перевалит за сорок…
За глаза про Злотникова шутили:
Я пригласить хочу, Натанец,
Вас и только вас!..
Он состоял в особых отношениях с главредом Дементьевым, который иногда вихрем проносился по коридору: в голубеньком костюмчике, идеально выбритый, верткий как флюгер. Андрей Дмитриевич, ловкий эстрадный стихоплет, типичный московский марран[13], и был флюгером по призванию: черная «волга» что ни день моталась к подъезду ЦК ВЛКСМ. Злотникову терять было нечего: ему, с его говорящими именем и внешностью, никакая мимикрия все равно бы не помогла. Вот почему главный охотно разыгрывал лысую пешку в своих хитроумных комбинациях. Однажды, когда я, переминаясь с ноги на ногу, в очередной раз дожидался ответа, из дементьевского кабинета, где проходило заседание редколлегии, донесся пронзительный вопль Натанчика:
— Давайте наконец поп’обуем печатать п’осто хо’офую п’озу и п’осто хо’офые стихи!
А что? Отличная идея, Натан Маркович! К тому же — в духе времени. Давайте же, давайте попробуем! — Игнорируя все звонки и записочки от знакомых, сабантуи и междусобойчики, совписовские дрязги и аэропортовские сплетни…
Новикову позволяли зазря протирать штаны в с тонким расчетом: требовалось подславянить состав редакции — иначе комсомольские боссы могли разгневаться. Натанчик, футболивший меня всякий раз с новой формулировочкой, знал толк в литературном гешефте: за мною, расхристанным пустельгой, он изначально не учуял реального барыша. При этом каждый третий автор журнала был семит. Но рисковать задарма, помавая в воздухе алой тряпицей, не больно-то хотелось…
Ровно семь лет я протолкусь в камуфляжной очереди за бессмертием — наведываясь наобум, нерешительно топчась в сенях. Осмотрительный матадор однажды со мной разоткровенничается, вспомнив свой просчет с подборкой Леонида Губанова: дескать, беззащитного мальчика тогда воздели на рога рецензенты — на самом деле целившие в мафиозного публикатора. Тембр его при этом изменится, принимая более брутальный оттенок (еще бы: ведь Коленьки рядом не было!) К чему он проведет эту параллель? Догадка осенит меня позже. Ах, вот оно в чем дело! Ну, спасибо, Натан Маркович! Вы, стало быть, меня из милосердия мурыжили?..
В исповедь этого угря внезапно вклинится звонок дочери.
— К маминому п’иходу не забудь п’иб’аться в светелке! — пропоет он ей в ухо лубочную фразу.
Заместитель, годами точивший зуб на фармазона, однажды все же продемонстрирует свой оскал — когда тяжело больной Злотников сляжет в госпиталь. Это произойдет уже при Ельцине. Дементьева скинут, его пост займет Виктор Липатов, отец моего приятеля Артема. Когда новый главред, собирая с миру по нитке, попросит Новикова внести свою лепту — тот бесстыднейшим образом, совершенно по-жлобски, зажмет рупь на монпансье своему шефу, угодившему на сей раз в нешуточный переплет…
Месяцы летели. Я сыпал рифмами семо и овамо, что неряха перхотью. Володя Мисюк скалился, потешаясь над моей плодовитостью. Я сносил издевки молча, надеясь со временем выработать такой галоп, который бы позволял преодолевать любые барьеры. Одна беда: новых идей у меня было с гулькин нос — и, трепыхаясь на морозе короткоперой свиязью, я варежкой растирал свой посинелый клюв.
Лыжня Планерного, спортивной базы, где мы в выходные харчевались нашармака, петляла синусоидой, вонзаясь в угрюмое чернолесье. Преодолев дистанцию, мы блаженно плескались в хлорке бассейна: о большей прерогативе гогочущим буршам и не мечталось! В столовой нас ожидал рацион, рассчитанный на плечистых юниоров: тарелка борща, полстакана сметаны и зажаренная докторская колбаса с макаронами по-флотски. Иногда мы ходили смотреть на спортивных лошадей, казавших свои похрапывающие морды из дубовых яслей.
Молдаванин Пелленягрэ, будущая правая рука Степанцова по куртуазному маньеризму, учил меня, как надлежит отбрыкиваться от военкомата. В свое время, учительствуя где-то в Подмосковье, этот пронырливый ловелас ухлестнул за директрисой — и в благодарность та не глядя подмахнула ему липу: мол, поселковая ребятня души не чает в молодом специалисте — ну не грех ли такого забрить в солдаты?[14]
Один бородатый армянин с заочного косо на меня поглядывал. Уловив эту неприязнь, Пелленягрэ предложил мне услуги телохранителя. В обмен ему было достаточно простого внимания: вероятно, он и впрямь обладал некими педагогическими задатками.
— Вот на меня, к примеру, никто не прыгает, — самодовольно жмурясь, рассуждал Витек, — А ты задумывался, почему? Элементарно: потому что я здоровый!
Доморощенное кредо кишиневского прохиндея начинало меня забавлять; набирая воздух в легкие, я нырял и выныривал как можно дальше. Года через полтора Степанцов напишет мне в армию: «Мы с Пеликаном (так он окрестил Пелленягрэ) уже дошли до того, что целуемся на людях, никого не стесняясь…»
Помимо охранных функций, Витек брал на себя и роль сводника. В литобщежитии функционировал буфет. Простушка лет тридцати продавала апельсины в розницу. Однажды Пеликан, кивнув ей на меня, беспардонно ляпнул:
— Не хочешь с ним переспать? А что? Хороший мужик!
Сам балагур путался с красавицей Антой, латышкой на просвечивавшем ветхозаветном меху. Судя по ее фиолетовым подпалинам, в Риге ей нередко давали понять, кто есть кто. Тем не менее Анта успешно вила из него веревки. Помню, как любовник понуро волок ее манатки от Планерного к электричке. Всю дорогу по снежному полю веселая плантаторша подтрунивала над изможденным рабом. Впрочем, его усталость больше объяснялась бурной ночью, проведенной накануне.
Добравшись до дома, мы одобрили наш уик-энд и втроем уселись вечерять. Тут в дверях проклюнулся Артур Доля, а цугом за ним — бритоголовый уркаган Федоров. Последний, по обыкновению, травил какую-то бытовуху. Изъяснялся он бурлескно: в конце каждого слова вставлял суффикс «на». Израильтяне бы подобную вежливость сочли гипертрофированной[*]. Оставалось лишь дивиться ювелирному искусству русского прозаика, низавшего свои матюги, точно янтарные бусины.
Однако эти олухи забурились к нам не лясы точить. Внизу, на морозце, притопывая да прихлопывая, их дожидалась пьяная шалава, отфильтрованная строгой вахтершей в виду позднего часа. Карниз Анты на третьем этаже примыкал к пожарной лестнице. Сообразив, чего от нее хотят, хозяйка с готовностью приосанилась:
— Не робей, пацаны, я дока в альпинизме!
Прикинув расстояние до земли, мы накрепко связали штук семь простыней. Рижанка и ее услужливый илот обвязали вокруг пояса импровизированный канат. Доля с Федоровым встали у окна — подсекать улов. Перекрестившись, литераторы приступили к групповому ужению из проруби.
Чугунные ступени были покрыты слоем льда. Боясь поскользнуться, добыча ползла к нам со скоростью улитки. И вдруг раздался грохот. Пелленягрэ спал с лица: он живо представил себя на скамье подсудимых… К счастью, это гробанулось нижнее звено водосточной трубы. Наш рыболовецкий траулер модифицировался на глазах — превратившись в ракету, стартующую с космодрома.
Разглядев ночную гостью, мы остолбенели. И только неприхотливый Федоров держал хвост морковкой: сгреб кикимору в охапку прямо с подоконника и отволок в душевую, продезинфицировать. Оргия раскручивалась пестрой анакондой, посильное участие в ней принял Доля. Под утро меня разбудил стук в дверь:
— Она хочет тебя! — многообещающе подмигнул щедрый парубок.
От этого райского наслаждения я категорически отказался. Артур уставился на меня как на статую Командора.
— Долго ты будешь шарахаться от реальной жизни? — вопрошал он патетически.
!!!!!!!!!
От безымянности у меня по-прежнему сосало под ложечкой. Случайно прознав, что поэт-фронтовик Межиров неравнодушен к цирковой теме, я решил подкупить его своей «Поэмой третьего крыла». Автор нашумевшей в свое время зарифмованной анапестом листовки «Коммунисты, вперед!» оказался в отъезде, но супруга отнеслась ко мне вполне доброжелательно:
— Оставьте у Саши в кабинете, здесь, на письменном столе.
Это был редкий шанс прикоснуться к антуражу живого классика. В зобу дыханье сперло: до чего основательный сталинский ампир! Причиндалы из бронзы, романтические канделябры — будущий инвентарь музеев, единицы хранения ЦГАЛИ.
Недели через две я сподобился его телефонной рецензии:
— Я всегда утверждал, — звучало в преамбуле, — что Цветаева плохой поэт, многословный и неряшливый…
Эх, сложись у Марины Ивановны в жизни все иначе, дотяни она до столь сурового приговора — конец один и тот же: как не повеситься с отчаяния! Шучу, конечно. Тем более, не совсем ясно: при чем же здесь я? Никакого родства с цветаевской поэтикой я никогда не ощущал — признавая тем не менее незыблемую гениальность многих ее прозрений. Впрочем, не привыкать быть в ответе за других. Так или иначе, а пройдет тринадцать лет — и всеми забытый заикающийся лирик, переброшенный с совписовского пайка на иммигрантское пособие, прочтет в редакции нью-йоркского журнала «Слово/Word» мой израильский венок сонетов и, ошарашенный мастерством, едва не сковырнется со стула.
Пока же, суд да дело, я заглянул на огонек к братьям-славянофилам. Как всегда, за бутылью «Столичной», там обсуждался вклад евреев в русскую литературу.
— Пастернак, Самойлов, Слуцкий, Левитанский, Межиров… — нерешительно огласил я послевоенный список.
— Не трожьте Александра Петровича своими грязными руками! — отрезал Мисюк, с миролюбивой, впрочем, ухмылкой.
Был он в сущности добродушный малый. Вот разве непутевый слегка: безвременно спился. Его — как это характерно для большинства употребляющих — частенько одолевали мысли о суициде.
— В Тольятти народ такой грубый, некому душу открыть! — жалобно скулил Володя в обнимку с зеленым змием…
Потерпев неудачу, я решил испробовать иной путь: старый александрийский метод семидесяти толковников. Будучи в Нимфске, свел знакомство с Алесем Рязановым — опальным белорусским модернистом, которого тамошние ушкуйники вконец зашикали. Тщательно соблюдая ритм оригинала, я в течение трех дней перевел его «Поэму зажженных свечей». Хадеев, выступивший идейным вдохновителем этой акции, направил меня к своему бывшему питомцу — Петру Аггеевичу Кошелю, ныне шишке в отделе поэзии нацменьшинств.
Аггеич был женат на дочери Слюнькова — некогда первого секретаря Бульбонии. Как водится, в столичный «Совпис» исправного зятька тиснули по номенклатурным каналам. Невзрачный очкарик, от природы хроменький, облезлый, и чем таким он покорил свою цекашную цыпочку? Видать, невеста была и вовсе красы неописуемой!..
Земляка Кошель принял радушно. В ту секунду, когда я к нему заглянул, он давился куском балыка, густо намазанным едкой аджикой. Холодильник в его кабинете был всегда забит доверху: в юности бедолаге случалось живать впроголодь. Но угощать меня он не стал. Пробежав страницу-другую, звякнул в «Дружбу народов»: дескать, у нас это все равно не пройдет, а вот там — чем черт не шутит!
Строя радужные планы, я прошагал три квартала в сторону площади Восстания. Тертый калач с фамилией Рахманин, сощурясь на форзац рязановского сборника, иронично заметил:
— Ну вылитый центурион!
Перевод мой так нигде и не появился. Спровадив землячка за дверь, Аггеич перезвонил соратнику по борьбе и добавил парочку смачных эпитетов. Но я тогда ни об этом — ни сном, ни духом. Между тем почвенническая эрозия медленно, но верно разъедала клочок чудом выжившей при тоталитарном режиме отечественной литературы…
Старейший член «Русской партии» — после октябрьского мятежа Кошель с головой окунется в родную историю. Один из застрельщиков лапотного нацизма, потерпевшего временное поражение при первом и последнем демократически избранном президенте России, с удвоенным энтузиазмом примется за летопись террора. Якобы летопись. Якобы террора. Цель его кабинетных потуг — выработать новую, эффективную тактику для штурмовых бригад красно-коричневой нечисти.
…Межиров не принял зыбкости моих юношеских наваждений, вычурность метафор претила ему не меньше. Оно и понятно: сухость и скупость его собственного почерка мало к тому располагали. Как человек он окажется не просто скуп и сух, но лишен и малой толики сострадания. В конце 80-х, выезжая на ул. Воровского в лакированной колымаге, член правления СП случайно собьет актера Гребенщикова из труппы Анатолия Васильева. Обделавшись со страха, он позорно сбежит с места аварии — оставив свою жертву умирать на асфальте. Несколько дней проведет на чужой даче, дрожа и скрываясь от закона. Но ветеранские заслуги зачтутся лихачу — его отпустят с миром в Штаты: таков уж двойной стандарт совковой юриспруденции!..
Итак, я был подходящим кандидатом на роль закланного тельца. Влиятельных московских марранов мало прельщала моя куцая родословная. Проявить национальную (читай: человеческую) солидарность, тем самым подвергнув себя риску атаки со стороны ксенофобов? Помилуйте, да ради кого! Если бы сынок чей, племянник на худой конец — тогда другой разговор… Это играло на руку охотнорядцам всех мастей, как скаженные горланившим «ату его!» при виде моей полнейшей незащищенности. Фанаберия не по рангу всем всегда выходила боком. Был бы я умней — вжал бы голову в плечи, завилял послушным кандибобером: а там, глядишь, и отыскались бы щедрые меценаты.
Взять, к примеру, ту же Бабушкину: ее идеал вожделенно воплотится в бесцветном студентике из школы-студии МХАТа. Тихое «кушать подано» галантно шаркающего по паркету блондинчика увенчает изысканный репертуар ее литфондовской кухоньки. Затем они разойдутся с формулировкой: «Ах, он оказался полным ничтожеством!» Нарожав от этого Молчалина детишек, она бросится в объятья к скрипачу из ансамбля «Виртуозы Москвы» и, забрюхатев от него тоже, сокрушительным ударом выбьет из французского правительства жилплощадь за свои заслуги матери-героини. «Это все, на что она оказалась способна!» — брюзгливо шваркнет ее разочарованная бабушка, встреченная мной случайно в славянском отделе «Художественной литературы»…
С Машиным отцом Юлием Бабушкиным, давно обзаведшимся новой семьей, мы виделись всего один раз. Поводом к этому послужила подвернувшаяся по блату халтура: райком заказал ему святочный сценарий, накарябать который в одиночку у гаражного пройдохи была кишка тонка.
— Неохота уступать эти две сотни кому-нибудь другому! — не обинуясь признался хитрован в джинсовом комбинезоне, угощая меня кофейком.
Но, усадив потенциального «зятька» за новогоднюю пьеску, он едва ли рассчитывал на душераздирающий миракль, неожиданно вышедший из-под моего пера. В силлабическом хороводе, в обнимку с томными ундинами, закружились злобные тролли; под расцвеченной огнями елкой пылающая саламандра догрызала горьковатый корень мандрагоры… Литагент по совместительству прочел и помрачнел. На этом наше сотрудничество резко застопорилось.
Под Новый год Бабушкиной подарили мохнатую собачонку. Чесоточная Дашка принадлежала к грозной породе мухоловов. Вместе с нашей однокурсницей Машей Черток мы отправились на Икшу — оттянуться на выходные. В загородном дачном корпусе Союза кинематографистов, дверь в дверь с самим Иннокентием Смоктуновским, зажиточная старушенция прикупила двухкомнатную квартирку.
Убедившись, что лыжные ботинки намертво закушены капканом креплений, я рысцой обследовал близлежащую деревеньку с ведовским названием Большая Черная. Не надеясь за мной угнаться, девчонки остались дома. Зато уж за теннисным столом веснушчатая Черток не преминула взять реванш: лихо чиркая ракеткой, она то и дело подначивала раззяву. Чувствовалось, что она мне внутренне симпатизирует, хотя не может игнорировать и жалобы Бабушкиной, сетовавшей на мой эгоизм и сумасбродство.
Под вечер к нам на огонек забрела колченогая схимница Нина Брагинская, переводчица Диона Хрисостома и прочих не менее древних греков. Моей краснощекой помпадурше она, кажется, приходилась двоюродной тетушкой. На меня ученый эллинист с самого начала косился осуждающе. Развлекая дам, я напряг память и изобразил пожилую еврейку, деловито стучащуюся в дом к соседу Иванову:
— Добгый вечег! Это вы достали из гечки моего сына Агкашеньку?
— Ну, я. А в чем, собственно, дело?
— А фугажечка где?!
Внимательно выслушав диалог, Брагинская разгневанно прошипела:
— Странный анекдот. Беспартийный какой-то. Один из тех, что распространяют по стране безнравственные ассимилянты!
На самом деле эту хохму я услыхал еще в Нимфске, от Ильи Горелика. Рассказывая ее, стопроцентный аид, ни о чем другом так не любивший говорить, как о притеснениях и дискриминации, выпавших на долю его народа, нарочито картавил и комично выгибал шею… Но разубеждать старую деву я не стал. Подвергнуть меня остракизму ей все равно бы не удалось (похоже, она шпионила по заданию Мирры Ефимовны, догадывавшейся, в чьем обществе коротает время ее внучка).
Еще полчаса Брагинская мудрствовала лукаво, позевывая у камелька: разжевывала обеим Машам, в чем коренное отличие «первой» софистики от «второй». Много лет она стонала под чьим-то академическим гнетом — то ли уже знакомой нам по лекциям Азы Алибековны Тахо-Годи, то ли кого еще. Этим отчасти и объяснялась болезненность ее восприятия. Хотя главный источник, повторяю, был скрыт за семью печатями — сорвать которые так и не решился ни один любитель античности.
С уходом воинственной тетки все четверо сладко зевнули: включая собачонку — тоже, судя по всему, полукровку и, вероятно, потому склонную ко всякого рода компромиссам. Бабушкина заболевала, ее бил озноб. С ней это случалось часто: мне нравилось карасем плясать по раскаленной сковороде. Возбуждало и присутствие подруги, затаившейся на пуфике где-то в коридоре… Встав с кровати, я направился в ванную через спальню. По дороге едва не раздавил Дашку. Взвизгнув, она принялась меня шершаво облизывать. Шальное веселье обуяло нас обоих: я позволил ей все, чего она так по-женски жадно добивалась.
В двадцать лет одиночество переносится особенно тяжело. Я к этому состоянию готов не был. Наверное, те же проблемы испытывали и мои стройфаковские сокурсники, по-деревенски жужжавшие в сотах нимфской общаги, покуда я городским барчуком сиживал в домашнем комфорте. Но судьба поэта превратна, и вот теперь я оказался в их шкуре. Припухшие от слез железы ни у кого не вызывали зрительских симпатий. Бабушкиной я безуспешно предлагал руку и сердце: но эти чересчур целомудренные части тела представлялись вострушке никчемным рудиментом.
— Ах, Гриша, не будем форсировать события! — уклончиво
отвечала мне ее мама.
Результат — ссора. Взбешенный, я хлопнул дверью. За мной на такси примчались Антоша Носик с кривозубой Барминой: у принцессы на горошине температура под сорок. Они застали меня остервенело грызущим грифель карандаша. Я попросил подождать, пока не иссякнет вдохновение.
— Антон говорит, что ты актер, но честный актер, — как бы ненароком сообщила мне впоследствии Бабушкина.
Но нет, он был неправ: никакой я не актер — просто отлично знал цену всем ее эффектно обставленным недомоганиям.
С оттепелью к Маше из Омска нагрянула двоюродная сестра-филологиня. Мы чаевничали на кухне в компании Ники Мкртчян, отколовшейся от группы армянских переводчиц (там ее считали ханжой и занудой) и игравшей при хозяйке салона роль простодушной сироты. Я прочел несколько новых стихотворений. Гостья с Иртыша, вдруг ни с того ни с сего, разразилась филиппиками: словоупотребление, с ее точки зрения, совершенно неудобоваримое, метафорика трещит по швам, рифмы банальные — и т. д. и т. п., и тра-ля-ля и тыры-пыры.
— Ах, если бы я обладала таким камертонным слухом!.. — мечтательно прогнулась перед ней московская кузина.
Сию же секунду, сосредоточенно сопя, я опрокинул на пол пиалу со смородиновым вареньем.
— Гикнулась, — пояснил сквозь зубы. — С бухты-барахты.
— Выйди, пожалуйста! — Маша захлебнулась волной возмущения.
— И как далеко? — попытался уточнить я.
— Как захочешь, — ответила она.
У входа в метро я нащупал в кармане двушку.
— Алле? — мурлыкнула мне в ухо кривляка.
Беря трубку, она вечно манерничала — вместо привычного «алло» произносила «алле»: не через «ё», а через «е». Будто подстегивала ученого зверька. Ей это казалось верхом изысканности. Но я ведь, в отличие от нее, не боялся выглядеть некомильфо. Да и к цирку особого доверия не питал: не видя никакой разницы между тявкающей «ап!» раскрашенной дрессировщицей и отзывающейся послушным «ав!» курчавой болонкой.
Вот почему мой финальный пассаж содержал всего две нормативных лексемы: «я» и «тебя». Все прочее отдавало мастерской сапожника…
Лицо Бабушкиной приняло восковой оттенок — о чем мне спустя многие годы поведала Ника Мкртчян (кстати, ее миссия наблюдателя ООН не была окончена: еще как минимум при двух моих женах-возлюбленных ей суждено было состоять присяжной поверенной).
В подземке со мной произошел невероятный случай. Трогаясь плавно, поезд, на который я опоздал, явственно прогудел две чистые ноты: «ми-ля» (будто прикидывая расстояние до следующей остановки). Сей же миг по ту сторону перрона из туннеля вынырнул встречный и, тормозя, заскрежетал по рельсам: «си-ля-соль/диез-ля-до». После краткой паузы, отрыгнув часть пассажиров, новый состав устремился во тьму — с тем же точно спринтеровским кличем «ми-ля». И тогда, мысленно соединив звуковые звенья — я вдруг осознал, что слышу увертюру чего-то величественного, стройного, сравнимого разве что с девятой симфонией Бетховена. Трубили горны, отчаянно завывали скрипки, жизнь катилась в тартарары, ко всем чертям! Жаль вот только, недоставало музыкального образования, чтобы все это перенести на нотную бумагу…
Вернувшись в общежитие, я с головой окунулся в стихописание. Поэма называлась «Надежда Нежданова». Реальный прототип у героини отсутствовал, и уж тем паче не состояла она в родстве с прославленной певицей Большого театра. Это был самопроизвольный сеанс белой магии — благо, четырехстопный амфибрахий как нельзя лучше имитировал стук колес:
«Я вижу сквозь марь: у зрачков светофора — цвета созревания яблок в саду, и самое спелое жадно краду — рванувшись на красный с оглядкою вора. Как будто в полуденном дальнем краю для Нади Неждановой ветвь наклоняю… Но где я? Я этого места не знаю, одну только музыку здесь узнаю. Пустынная площадь простерлась окрест; как две дирижерские тени чудные, в любви объясняются глухонемые, и каждый из них для другого — оркестр… Минуту спустя я на площади новой. Проси у меня, о чем хочешь проси, толпа крикунов на стоянке такси: сполна я владею безмолвья основой! Уймись, перекрестка наземный язык! По милости вышней умолкни, столица! Ночной эскалатор. Случайные лица в себе воплощают Случайности лик. Все в тусклом, почти стеариновом свете ползущих наверх цилиндрических ламп, холодных — подобно остывшим телам безвестно угасших свечей и столетий. Ступени частят — позвонки на хребте дракона, скользящего в самое пекло. А время бежит, озирается бегло. Внизу его ждут: да, как видно, не те… Мгновенье до спуска — и с чувством разлуки на мрамор платформы ступает каблук. О, гулкое эхо! Случайности звук в себе воплощают случайные звуки. Ты — слушатель вольный тиши вечевой. Но грохот колес — порожденье неволи. Садись в этот поезд. Тебе далеко ли? Октябрьское поле? — Всего ничего!..»
Судя по всему, мне удалось-таки заговорить судьбу. Спустя всего неделю, на дне рождения у Эвелины Ракитской, я встретил Машу Левину — младшую сестру ее мужа Михаила. Совсем еще девочка, нежная, робкая, с рыжей челочкой и звездопадом веснушек, она не только точно соответствовала моим представлениям об истинной утонченности, но и выводила спутник нерастраченных эмоций на новую орбиту — туда, где невесомость являлась не столько избавлением от гравитации, сколько высшей формой притяжения: с центром в самой идее парения!
Новая вещь, сочиненная запоем, была ей читана за пластмассовым столиком, с глазу на глаз, под мягкое шипение кофеварки.
— Ну что тебе сказать? — отозвалась Маша, — Мне нравится. Хотя не все.
Но безоговорочного признания и не требовалось. Достаточно было скупой похвалы — ибо с ней я обретал второе дыхание. Долгие мытарства предстояли моей первой любви, но тогда я жил в расчете на вечность — и даже проведай каким-то образом о начертанных нам на роду испытаниях, вряд ли бы отшатнулся, вряд ли бы поменял курс!
Бабушкина, тоже званая на ту вечеринку, чутко перехватила этот артезианский всплеск ликования. Зная, что подавить его уже бессильна, она, улучив момент, шепнула мне на ухо:
— Смотри, люби ее по-настоящему, не так, как меня!
А затем, взяв гитару, исполнила свой коронный номер — песню на стихи Наума Коржавина. К тому времени изрядно окосев, мы бухнули хором: «Какая су-ука разбудила Ленина! Кому мешало, что младенец спит?»
Решив выпендриться, я присел за фортепиано. Но моя «Хава нагила», подхваченная было с энтузиазмом, захлебнулась на первом же аккорде: взмахом ресниц Бабушкина остудила пыл самоучки. Подумать только: не далее как вчера я валялся у нее в ногах, вымаливая прощение за свою хамскую выходку, — и вот, ныне, она утратила надо мной всякую власть! Единственное право вето, сохранявшееся за ней, относилось к инструментовке сегодняшнего застолья…
Добродушная Лена Семашко, на любом торжестве неизменно игравшая роль посаженой матери, уверенно демонстрировала однокурсникам чудеса хиромантии. Мне она в тот вечер нагадала: у тебя никогда не будет детей. Я хорошо помнил, как еще в колхозе Лена предостерегала: не связывайся ты с Бабушкиной — она тебя сожрет! Вот почему ее очередное пророчество заронило в мою душу зерно сомнения. Вероятно, спустя три года, я и поступиал в пику ее суровому предсказанию — когда, едва демобилизовавшись, предъявил ультиматум своей первой жене: коли вздумаешь сделать аборт — свадьбе не бывать!..
Маша училась на факультете журналистики — в одной группе с кривозубой Барминой, чьи нетопыриные промельки призваны были то и дело напоминать мне о моих сомнительных аэропортовских похождениях. О том, насколько тесен мир, свидетельствовал и другой факт: Артем Липатов, подвизавшийся прошлым летом в приемной комиссии на Тверском бульваре, тусовался теперь здесь же, неподалеку от Манежной площади, готовя себя к карьере борзописца. Долговязый блондин кивал мне запанибрата из-под бронзовой статуи архангельского самородка — возвещая о прошлом с ухмылкой белокурого херувима. В лучших традициях столичного непотизма, на журфак его пристроил отец, заместитель главного редактора «Юности». Круг, таким образом, окончательно замкнулся…
После лекций мы неспешно брели по направлению к Александровскому саду. Я нежно прижимал Машу к груди, как боярский постельничий — найденную на развилке шапку Мономаха. И каждая из ее очаровательных веснушек — по числу городов мира — значила для меня больше, чем безукоризненно гладкая пустыня Гоби, читаемая на лицах выездных цэдээловских красоток.
Повторяю: пройдет ровно семь лет, прежде чем наступит полная развязка. Она расстанется с мужем-занудой, я закоренею в распутстве, убедившись в невозможности совместной жизни с Настей. Занимаясь наследием Бердяева в литинститутской аспирантуре (был ли с ее стороны случаен выбор второй alma mater — или же это подсознательное стремление снова увидеться со мной?), Маша однажды, на крыльце Дома Герцена, выдавит из себя признание:
— Видишь ли, мне всегда казалось, что ничего еще не кончено…
Недавно я пересматривал один из любимейших фильмов — «Неоконченную пьесу для механического пианино». Замечательный актер Калягин там по роли — соименник Ломоносова, у памятника которому и назначались когда-то наши первые свидания. Внимание мое привлек тонкий чеховский диалог:
Михаил Васильевич:
Семь лет прошло. Для собаки это уже старость. Или для лошади.
Герасим Кузьмич:
Заблуждение. Лошади до восемнадцати лет живут. В среднем, конечно…[15]
Зоркая не скрывала досады: доброжелатели уже доложили ей о нашем разладе в пикантных подробностях. Маргинальный провинциал хватил через край. Вот почему на летнем экзамене по зарубежке она оказалась столь неумолима: и сентиментальная история любви и смерти Гвидо Кавальканти, пересказанная мной в духе «сладостного нового стиля», ее ничуть не смягчила. Выводя мне в зачетке «удовлетворительно», она процедила сквозь зубы:
— Вы, Марговский, не оправдали моих надежд. Безалаберно относиться к шедевру великого Алигьери никому не позволено!
Военный кормиссар Бутырского района Москвы был со мной не менее суров:
— Три дня на проводы! — не принимая никаких возражений, рявкнул он.
Неожиданно эта печальная новость всполошила сердобольную Бабушкину. Она ринулась вызванивать своего усатого папашу со связями. Но тот — очевидно памятуя о моем постмодернистском новогоднем сценарии — только отмахнулся. В общество спасения утопающего немедля вступили еще две Маши: лукавый живчик Черток и улыбающаяся как мумия Жданова. Первая тщательно проконсультировалась по поводу меня с мамой-психиатром, вторая — с каким-то долдоном в погонах. Таким образом, сбывалось мое январское предсказание, начинавшееся слегка претенциозной строкой: «Три Марии склонились над жизнью моей…» Правда, в этом стихотворении я подразумевал Бабушкину, Жданову и свою возлюбленную с журфака — с Машей Черток мы всегда были только дружны.
Вдохнув поглубже — пропади все пропадом! — я обрился наголо и отчалил с Белорусского вокзала, прощаться с родными и близкими. Вот вам, как говорится, и весь сказ…
Впрочем, не весь. Недостает одного штришка. Зимой я наконец отважился навестить старика Тарковского. С Садовой-Триумфальной юркнул в розовую арку. Спросил у закутанной в оренбургский платок бабуськи: где здесь квартира такая-то? Та указала и тотчас зашушукалась со сгорбленной в три погибели товаркой: сын Арсения Александровича уже был объявлен персоной нон грата.
Поднявшись по лестнице и дрожа от волнения, я утопил кнопку дверного звонка. Мне отворил величавый седой старец с рентгеновским взором. Я сразу же узнал аристократический разлет бровей и что-то залепетал про Риту Новикову, про серый генеральский Нимфск, про учебу в Литинституте… Но он, не слыша меня, вдруг ладонью провел по моей озябшей щеке:
— Деточка, мы завтра улетаем с Таней в Пицунду. Приходи недели через три, тогда и поговорим.
Особенно меня поразило обстоятельство, о котором я и не подозревал: мой давний кумир оказался одноногим инвалидом![16] А ведь закадровый голос в «Зеркале» — лучшей картине Андрея — рисовал в воображении совершенно иной облик поэта:
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.
Выдающийся мой современник, неизменно стойкий ко всем земным невзгодам, возносил эту свою хвалу Садовнику, когда мне не исполнилось и четырех лет. Печать его отчего прикосновения поныне горит на моей щеке!..
После мы общались еще один раз. Но и с повторным визитом мне не очень-то повезло: поскользнувшись в гололедицу, Тарковский накануне сломал руку.
— Вот, видите, гипс наложили, сижу дома, на улицу не выхожу… — бормотал он со слезами в голосе, раскачиваясь на кушетке.
13
Чернобыльская катастрофа, увы, не была случайностью. Она предзнаменовала крушение пресловутой «дружбы народов». Никакие народы ни под каким соусом дружить не умеют — а если и «дружат», то исключительно против кого-то: сиречь грызут друг друга закулисно, с особо куртуазным дипломатическим рвением. Оттого заранее и обречены все лоскутные империи: преступления режима, развал экономики — все это дело второе. Симбиоз этносов (равно как и отдельных индивидуумов) возможен лишь с учетом сиюминутной выгоды. Сближение происходит либо на основе конфессиональной общности, либо по принципу «шахматной доски» (типичный пример: военный союз Израиля с Турцией — через голову ее арабских единоверцев).
Евреям, в силу их религиозной обособленности, всегда приходилось труднее прочих. Иудаизация Хазарского каганата, а чуть ранее Адиабены — всего лишь два неудачных эксперимента, к каковой категории можно смело отнести и миссионерскую деятельность сынов Авраама среди берберских племен Магриба.
Противостояние Восток-Запад насчитывает много тысяч лет, история его не исчерпывается агрессией Халифата, реконкистой, буллой Евгения III и зверствами янычар: ведь битва под Фермопилами состоялась задолго до всемирной проповеди обоих пророков. Подавляющая часть человечества всегда пребывала под гипнозом предполагаемого глобального конфликта, ментально тяготея к столкновению двух гигантских макрокосмов. К этому и сегодня, после крушения коммунистической системы, неудержимо стремится обезумевший мир.
«Все, все, что гибелью грозит…» Не так ли устроен и наш головной мозг? Симметричные доли его воспринимают реальность абсолютно по-разному: аналитическому методу одной претит ассоциативное мышление другой. Биологически обусловленная антиномия соответствует непримиримой вражде западного рационализма с восточной метафизикой, сколько бы ни предпринималось попыток синтезировать их в едином философском учении.
Крест и полумесяц как символы духовной общности огромных людских масс оказались гораздо жизнеспособней, нежели серп и молот. Стоило советскому гербу распасться, как очевидцы прозрели: полумесяц-серп наконец-то избавился от лишней рукояти — детали, которой так недоставало молоту, чтобы вновь напоминать о распятии Спасителя!..
А что же евреи? Они опять оказались меж двух огней. Вглядевшись в современную карту Израиля — мы видим усталого путника, бредущего из тьмы веков в удручающую непредсказуемость. Достаточно только отдать Сирии Голанские высоты — и седая голова старца помертвело слетит с изможденных плеч!
Благодаря отцу, его активному вмешательству, мне удалось выбраться сухим из воды. Заручившись поддержкой военврача Терентьева и замполита Сервачинского, он добился того, чтобы мой военный билет оставался чист как стеклышко. Этого требовала элементарная справедливость: ведь я отслужил без малого два года.
Трестер держался от баталии в стороне, отрабатывая тактику невмешательства. Мало того, Семен Михайлыч подлил масла в огонь, приказав медсестре Лиличке вколоть мне добрую порцию аминазина. Наказание постигло меня за то, что я скрутил в бараний рог шизоида Колю, обитавшего в «Новинках» со времен царя Гороха (его здесь приютили в нежном возрасте, Коля отлучался лишь по утрам, к фрезерному станку). Видя, что я регулярно получаю передачи, малохольный сиротка резко на меня озлобился и, на правах старожила, вздумал однажды пригрозить расправой. Что такое дедовщина, я уже отлично знал — и потому сам без промедления перешел в атаку. Помню искаженное от страха лицо Коли, зажатого мной в угол и жалобно повизгивающего…
— Да как вы только посмели! — возмущался человеколюбивый Трестер. — Перед вами же больной человек!
— И весьма буйный, надо признать! — резонно парировал я.
— А как тогда прикажете реагировать мне? Мало на меня кидались с кулаками? Мало плевали в лицо?! Нет, дорогой мой, придется на сей раз вас проучить!
В результате, я целые сутки вел растительный образ жизни, ощущая, как неприятно-тягуче атрофируются мои первичные половые признаки… Впрочем, на тот момент они и так были не у дел. За два месяца лежки, из представительниц слабого пола, меня удостоила визита одна только Анечка Певзнер (по-видимому, все еще испытывавшая чувство вины).
— Непонятно, как ты здесь очутился… — растерянно пролепетала она в комнате для свиданий.
Мне и самому это было не вполне ясно. Но так или иначе — хвала Садовнику Всевидящему и Вездесущему! — все наши мытарства когда-нибудь подходят к концу.
Отправляя меня на выписку, один из эскулапов злобно шмыгнул бурой картофелиной:
— И запомни, тебе противопоказан умственный труд! Только физический!
«Разумеется, — подумал я, — ибо это чревато для всех вас безоглядным разоблачением».
Карга-кастелянша, выдав мне мятую форму, также снабдила напутствием:
— Давай, хлопец, надевай портки и шуруй в свою Москву!
Тем не менее я еще около недели проваландался в родных пенатах. При том что внешняя обстановка к этому отнюдь не располагала: в самый день выписки, подъезжая с отцом в троллейбусе к нашему дому на Калиновского, я вдруг краем уха услыхал, как ужаснулась в разговоре с кем-то пожилая еврейка:
— Да что вы говорите?! Это в Нимфске такая радиация?..
Сея панику, расползались тревожные слухи. Все ринулись ящиками закупать красное вино: оно якобы препятствует облучению. Ничего удивительного: брага на Руси издревле слыла панацеей.
Шляясь в районе автозавода, напротив магазина «Букинист», я вдруг ощутил острый укол в сердце. Нитка унылых путей тянулась в Серебрянку, на полном ходу трезвонил пятый маршрут, рельсы для которого я укладывал еще служа в роте обеспечения…
Помню, «старики» в тот день по обыкновению били баклуши. Один из них, ражий всклокоченный армянин, вдруг подскочил ко мне и рядовому Турчику — безответному киевлянину, призванному на год позже меня, сцапал нас обоих за шиворот и, столкнув лбами, с озверелой рожей зарычал:
— Вы будете у меня работать?! Будете у меня работать?!
Он же впоследствии, фыркая моржом над умывальником, огрызнулся на какого-то грозного азербайджанца:
— Мамед, не можешь убить — отвали!
Слово не воробей: до сумгаитского погрома оставалось всего ничего…
Пора было уезжать. Впервые за два года для меня нашлось место в купейном вагоне…
Сойдя в первопрестольной, я вне себя от счастья ринулся пешком к заветному бульвару. Сокурсники мои готовились к летней сессии. Верка Цветкова, едва завидев меня, радостно заверещала:
— Нет, вы только гляньте на него — как прикинут!
На мне и впрямь были новехонькие джинсы, свежая синяя сорочка, хрустящие белые кроссовки. Родители решили преподнести мне подарок.
— Ты вроде какой-то не такой? — сощурилась Верка.
— Не обращай внимания. Я слегка затюканный…
— Ничего, мы тебя быстро растюкаем! — пообещала она.
Ребята приняли меня кто как: иные — индифферентно, но большинство — вполне благосклонно. И только у троих по-настоящему сияли глаза: у Пестова, у Сонки и, конечно же, у Сереги Казакова. Последний часто писал мне в армию. Ища собственный стиль, он нарочно примеривал семантику набекрень, отчего послания его отличало некое шизофренническое обаяние. У него и в повседневной жизни заходили шарики за ролики: в то же время это был добрейший и благороднейший человек из всех, кого я когда-либо знал.
Сам собой встал вопрос: где же мне поселиться? Поначалу проявил гостеприимство Степанцов. Выписывая по комнате пируэты в чересчур вольного покроя трусах, обнажавших поджарые ягодицы, он многозначительно рассуждал об успехе маньеристской поэтики. Но его, увы, ненадолго хватило. Дней через десять, пряча глаза, Вадик промычал:
— Старик, понимаешь, такие пироги. Тут ко мне должна одна телка подскочить…
Вот и славненько. Я определился на постой к Казакову.
У Сереги, повторяю, в голове водились свои тараканы. Франсуа Вийона он упорно называл «Виллоном» — несмотря на то, что подобная транскрипция устарела еще в период НЭПа. Что и говорить, смехач он был своеобычный! Жестикулировал как японский робот и, артикулируя, брызгал во все стороны слюной. В жилах его, по всей видимости, текла кровь безобидных вотяков, тоже пришибленных дискриминацией в жандармской России.
Год назад он съездил в Якутию на заработки. Рубил дома плечом к плечу с угрюмым сбродом. Там от него и забеременела некая Мартышка — так он ее окрестил, труня над неказистой внешностью. Теперь потасканная дама средних лет вдруг заявилась к нам в общагу, требуя от сердцееда незамедлительной сатисфакции… Не долго думая, мы с Хворостовым спрятали приятеля в платяной шкаф, и я, со строгой административной миной, вышел к ней на вахту, важно корча из себя председателя студсовета. Мартышка меня не шибко-то испужалась и, зорко высмотрев Серегу, беглым Керенским прошмыгнувшего в душевую, прокурорским басом громыхнула: «Сергей! Вернись сейчас же, имей совесть!»
Весь май-июнь мы весело откалывали фортель за фортелем. Кто-то сообщил мне, что пробивной критикессе Шульман, ныне аспирантке на кафедре советской литературы, поручено возглавить поездку на Камчатку. Мы были с ней в хороших отношениях: Мишу, ее младшего брата, тоже забрили в рекруты после первого курса. Я попросил включить меня в состав агитбригады. Лариса препон чинить не стала. Но тут возникла проблема с допуском в приграничную зону: временная прописка мне полагалась только с первого сентября.
В Лицее на Тверском ныне правил новый ректор — рано заплешивевший «парашютист» Егоров, спущенный из ЦК для идеологического контроля над бойко раскудахтавшимися писаками. Выслушав мою просьбу, профессиональный казуист пристально сверкнул линзами:
— А если вы, молодой человек, вдруг решите через океан податься — кто будет за вас отвечать?
Признаться, о подобных случаях мне приходилось слышать и раньше — от Светы Хайруллиной: один наш бывший студент, некто Вацлав, изнывая от непроглядной совковой серости, взял да и маханул через ограду американского посольства, попросив у капиталистов политического убежища. Но это произошло в Москве, под самым носом у КГБ, а не на суровых берегах Охотского моря…
Как я ни божился, что мне без подельника ни в жисть не переплыть Тихий океан, череп с тонзурой оставался непреклонен. Поговаривали, что он был правой рукой самого Александра Яковлева — архитектора перестройки. Можно себе представить, что за косная кодла обитала в Кремле, если у одного из наиболее прогрессивно настроенных функционеров в голове мог родиться такой бред!
Сжав зубы, я наудачу сунулся в паспортный стол. Капитан Аронов, до мозга костей вымуштрованный мусорской школой, взирал на меня с нескрываемой библейской печалью.
— Понимаете, — убеждал я его, — мне, столько месяцев проведшему за армейским забором, просто необходимо глотнуть свежего воздуха!
В патетике своей я не учел один нюанс: соплеменник мой, при всем искреннем сочувствии, в отличие от меня неспособен был проигнорировать существование «железного занавеса».
Впрочем, он посоветовал мне обратиться к начальнику институтского отдела кадров. Должность эту занимал некто Белов — разумеется, внештатный сотрудник небезызвестного учреждения. Это был потешный человек, в глубине души, как ни парадоксально, весьма отзывчивый. (Впрочем, когда его уволили, в сейфе обнаружилась стопка досье; в частности, про Валеру Менухина — безобиднейшего и бесталаннейшего жмеринского драмодела — там почему-то было сказано довольно безапелляционно: «Придерживается сионистских воззрений»…)
Узнав, что ректор уже наложил свою резолюцию, Белов категорически отказал в преждевременной прописке. И в этот кульминационный момент у меня из глаз брызнули слезы. В приступе отчаяния я возопил:
— Да что же вы все меня футболите-то? Поймите наконец, я без этого жить не смогу!!!
— Успокойтесь, пожалуйста, — заерзал он, наливая мне воды из графина, — никто вас не футболит…
Поскребя в затылке, кадровик неожиданно махнул рукой:
— Эх, была не была, молодой человек, сидеть, как говорится, будем в одной камере!
И, умело состряпав ходатайство, весело добавил:
— Теперь, касатик, с тебя могарыч: на Камчатке этой самой красной рыбы — хоть жопой ешь!
Помимо меня и Ларисы, в агитбригаду вошли еще двое: поэт-примитивист Боря Колымагин с заочного отделения и депутат местного совета Ира Аснач — родом из Петропавловска, решившая смотаться домой за литфондовский счет. Настроение у всех было приподнятое, но больше всех, разумеется, ликовал я! Один лишь Боря в полете бледнел и крестился: не доверял крестьянский сын отечественным летательным аппаратам…
Воображение поражал следующий факт: отбыв в пятнадцать ноль-ноль такого-то июля и провисев в воздухе девять часов, мы приземлились ровно в три пополудни и — что уж и впрямь любопытно — того же самого числа. Вероятно, вместо ремня безопасности, мы по оплошности пристегнули часовой пояс.
В салоне мерно гудящего лайнера балагурила группа от Союза композиторов. Лариса подала мне идею: сходи, познакомься — авось, удастся договориться о совместном концерте. Я забыл, что инициатива наказуема, и решил воспользоваться данной мне наводкой.
— Вы пишете музыку? — осклабился вырвавшийся на волю простофиля. — А мы стихи!
— Попутчики что надо, присоединяйтесь! — понимающе закивала подвыпившая богема.
В Петропавловске нас опять разместили всех вместе, в гостинице обкома партии. Плеяда лабухов тут же принялась беспробудно квасить. Возглавляла группу Татьяна Чудова — жирная, похотливая, вхожая во все инстанции сучка. Выловив меня в холле, профессор консерватории ультимативно приперла меня бюстом к стенке:
— Григорий, давайте напишем песню о Камчатке! Я заслуженный деятель искусств РСФСР, успех гарантирован.
Но ее будущий соавтор неожиданно заюлил:
— Видите ли, хотелось бы сперва осмотреться, побывать в глубинке, набраться впечатлений. К тому же, мы ведь здесь планировали немного подзаработать…
Полный профан в зоологии, я и понятия не имел, что за фауна рыщет в здешних краях! Через полчаса Лариса как ошпаренная ворвалась к нам в номер:
— Только что приходила Татьяна Александровна. Ее всю трясет: вы, говорит, прибыли сюда, чтобы обирать обездоленных камчадалов! Она собирается настрочить жалобу ректору и статью в «Литературку». Имей в виду: в этой ситуации я обязана составить докладную!
Ядовитые абверовские соки растревоженно забродили в капиллярах ее обрусевшей души.
— Ну не твари ли, скажи, что одна, что другая? — негодовал я, адресуясь к сельскому увальню Колымагину.
— Гриша, — назидательно произнес сосед по комнате, — все мы вынуждены соблюдать правила игры, в которую ввязались.
— Да разве ж это игра — одно сплошное подонство! — упрямился я.
Чтобы немного развеяться, мы решили сходить на фильм с Макаревичем в главной роли. Называлась картина «Начни сначала». Популярный рок-певец помпадурски плескался в ванне, спину ему мылила преданная одалиска. Выйдя из кинозала, Колымагин пуристски выдохнул:
— Нет, так нельзя!
— А как, по-твоему, можно? — поинтересовался я.
— Не знаю. Но только я твердо убежден, что так нельзя!
Уроженец тверской губернии, приймак в доме жены, уж он-то точно не мог себе позволить подобной роскоши. Впрочем, дело еще, наверное, и в особом домостроевском сознании, отвергавшем любые излишества…
К счастью, разгневанную композиторшу все же удалось улестить, Лариса приложила все старания: на кон была брошена ее собственная карьера. Не вспоминая больше об этом инциденте, мы с головой окунулись в приятное времяпрепровождение.
Прием нам оказывали самый подобострастный: Шульман зналась с местной заведующей отдела культуры (в будущем эта аппаратчица переберется в столицу, чтобы возглавить черносотенную «чистку» в одном из наиболее одиозных издательств). Вот почему редактор «Камчатской правды», бывалый хитрован вполне радушного вида, с энтузиазмом печатал своих гостей, организовывая им выступления перед «бомондом» — в единственной привилегированной забегаловке, где подавали приличный кофе.
— Вот уж чувствуется коренной москвич! — восторгался он одним из ранних моих виршей, написанным почти сразу после зачисления на первый курс…
Вскоре в казенном «газике» нас домчали до реки Камчатка, русло которой вилось вдоль полуострова. Мы жалобно поскреблись в рыбацкую времянку.
— Здравствуйте! К вам делегация литераторов из Москвы. Приехали познакомиться с жизнью простых тружеников… — пропела Лариса сахарным голоском.
— Отчего нет, давай знакомиться! — хмыкнул косматый лесовик, извлекая из-под стола трехлитровую банку с икрой; недолго думая мы принялись с аппетитом чавкать (хлебосол пережил не одно нашествие творческой саранчи и справедливо считал всякие преамбулы излишними).
Вскоре подоспел и бригадир: его просили продемонстрировать нам искусство ловитвы. Я напросился к нему в лодку. Выплыв на середину стремнины, он выключил мотор и расставил сети. Чавыча шла на нерест — улов оказался несметным. Пока мой капитан охапками сгребал добычу, из воды, то там, то сям, выныривали гладкошерстные нерпы и, кувыркаясь, хватали все, что попадалось на клык.
На следующий день нас повезли в местный институт вулканологии. В холле мы увидели улыбающуюся фотографию в траурной рамке: старшую научную сотрудницу, женщину с широко распахнутыми еврейскими глазами, незадолго до нашей экскурсии сразило вулканической бомбой…
Выступления нам устраивали редко, зачастую в полевых условиях. Лариса конферировала со знанием дела, считая необходимым посвящать аудиторию во все хитросплетения писательской грызни. Затем декламировал Боря — переминаясь с ноги на ногу, как бы заранее извиняясь перед публикой за свой природный минимализм. Гвоздем программы служили мои аллитерированные всплески романтических эмоций, которые так и не сумело окоротить прокрустово ложе палочной дисциплины. Ира Аснач от выступлений воздерживалась, довольствуясь халявными билетами в оба конца. Аплодируя по команде, моряки торжественно вручали нам хипповые тельняшки, рыбаки отдаривались натуральными морепродуктами.
Один из ярчайших слайдов памяти — посещение Долины гейзеров. Окунаясь по пояс в булькающий кипяток, мы все четверо с тревогой ощущаем, как в груди екает сердчишко. В этот момент из-за косогора, со стороны поселка, доносятся обрывки похоронного марша.
— Что случилось? — спрашиваю я у вылупившейся на нас девчушки.
— Тетя Валя умерла! — радостно сообщает юная аборигенка.
— Что поделаешь, все там будем.
— Я уже там была. Сейчас опять побегу, — отвечает дитя природы…
В сумерках, на фоне первобытно-звездного неба, на самой вершине Ключевской сопки, фантасмагорически извивался багровый червячок раскаленного жерла. Зевая вокруг костра, мы пекли картошку, жарили лосося, комары же при этом неотвязно питались чужестранцами.
Суток на трое нас разместили в пустовавшем пионерлагере. Заглянув от нечего делать в женское крыло, я застал Ларису в одиночестве. Она лежала на кровати, задумчиво вперившись в потолок. Буря миновала, отношения наши вроде бы устаканились. Присев рядышком, я впервые разглядел ее набухшие от одиночества фиолетовые подглазья.
По рассказам я знал, что Шульман родом с русского Севера, ради прописки кантовалась воспитателем в одной из столичных заводских общаг. Могу себе представить, сколько подвыпивших жеребцов ржало у нее над ухом, травмируя при этом возвышенную нордическую душу!
Не то чтобы я испытывал в этот момент сильное желание: несколько грамофонный тембр ее голоса, а также подчеркнутая фригидность, этому изрядно препятствовали. Просто меня подмывало как-нибудь сподхалимничать, превратить ее, непреклонную валькирию, в свою верную союзницу (а, возможно, и покровительницу). Это был рецидив рабской угодливости, нередко присущей представителям угнетенных меньшинств…
Глядя на меня в упор, она проницательно проскрежетала:
— Кажется, Гриша, тебе нетерпится нашалить?
Я покорно отпрянул, перепорхнув на табуретку. В это время вошла Аснач с призывно булькающим чайником в руках. Вскоре приковылял и Колымагин, под сушки с вишневым джемом у нас завязалась неторопливая беседа.
Болтая о том о сем, мы заговорили о влиянии древних эпосов. Я упомянул «Песнь о Гильгамеше», Лариса одобрительно хмыкнула:
— Молодец, читал!
Знай я тогда лучше Священное Писание — тоже не преминул бы блеснуть эрудицией, но едва ли в этом случае мог рассчитывать на поощрение…
Боря, с благообразной бородкой, затронул тему фольклорных мотивов в современном поэтическом творчестве. Как-то само собой всплыло имя Константина Кедрова — специалиста по древнерусской литературе.
— Настоящая его фамилия Бердичевский, — сухо проинформировала Ира. — Помню, когда мою кандидатуру выдвинули в местные советы, он нарочно поил меня шампанским в кафе «Лира», зная, что через час мне предстоит держать речь с трибуны. Знай себе подливал да ухмылялся: «Так давайте же еще по бокалу — за депутатство!»
— А я так напротив, люблю, когда мне проставляют… — миролюбиво заметил поэт-минималист.
— И вообще, скажите на милость, почему среди наших преподавателей так много евреев? — продолжала гнуть свою линию Ира.
— А кто еще? — удивился Колымагин. — Разве что Маша Зоркая…
— Нет, еще Джимбинов.
— Станислав Бемович калмык, — осторожно поправил я депутатку.
— А возьмите студентов — буквально каждый второй! — не обращая внимания на мои слова, отрезала она.
— Вот и Гриша тоже еврей, — невинно мурлыкнула уютно свернувшаяся клубочком Шульман.
Когда мы с Борей вышли покурить, он пробормотал извиняющимся тоном:
— Женщины! Ничего они в этом не смыслят!..
Что ж, наверное, он был отчасти прав. Но ведь и мне тогдашнему — ох как недоставало ясного понимания происходящего! Не успел я еще как следует осознать, что чернобыльский взрыв буквально вывернул наизнанку иррациональную душу гигантской люмпенской страны — расплескав по переулкам и площадям до срока таившуюся в подполье ненависть к подвижному четкому уму, к прагматичному целеполаганию. Как нарочно, этот кризис совпал с моим возвращением в вязкую, богооставленную, неумолимо засасывающую в духовное небытие «литературную среду», на монгольские ристалища ЦДЛа — этой российской Голгофы, где ежедневно нещадно распинается высшее предназначение мыслителя и витии!..
Не ведал я и того, что спустя всего лишь месяц после нашего разговора какой-то рьяный провокатор из заочников накатает «телегу» на Кедрова: дескать, вот кто отговорил меня вступать в ряды КПСС, вот кто надоумил забрать заявление. И два грузных полковника с папками под мышкой строевым шагом проследуют в ректорат. Не спасут Костю Бердичевского ни славянский «аз», ни еврейский «алеф», ни надрывная беготня по институтским коридорам моей подруги Эвелины, собиравшей подписи в защиту уволенного лектора.
Не знал я тогда, что и саму Иру Аснач ожидает вскоре серьезное испытание: по соседству со мной, за тонкой перегородкой, она поселится с писаным таджикским красавцем Фирузом, который станет лупить «эту наглую блядь» чем попало, таская за волосы и выводя на чистую воду. И побегут, побросав нажитое за долгие годы барахло, этнические русские из Средней Азии и Закавказья: хоть обратно, на скифские просторы, хоть в Израиль — лишь бы только вовремя ноги унести. И совершат свой последний, окончательный исход из России скрипачи и хирурги, физики и поэты — уступая место бритоголовым нахрапистым нуворишам с дремучей торгашеской душонкой… Что же касается фрау Шульман — та поначалу свяжется с русопятской шпаной из «Молодой гвардии», но, почуяв неизбежный финансовый крах паразитирующих на дотации издательств, вспомнит о своих корнях и переметнется в Институт им. Гете: дабы уже там, под веймарской сенью, кормиться культуртрегерской болтовней, коротая пожизненное одиночество в компании подвыпивших арийцев…
А пока, напутешествовавшись вдоволь, мы, усталые, возвратились в Петропавловск-Камчатский. Провинциальная молодежь в обтерханных тужурках тусовалась на набережной. Тележурналист местного разлива тщетно пытался приобщить ее к прекрасному. Но парни лишь матерно огрызались, а девки чувственно курили, так и не испытав катарсиса. Где-то неподалеку рыбоконсервный конвейер остервенело клепал свою дефицитную продукцию. Мы шлялись вчетвером вдоль моря по нескончаемо вьющейся улице. В какой-то момент замерли перед светофором. Не знаю зачем мне вздумалось подшутить: я обхватил Ларису за плечи — будто бы пытаясь спасти от вынырнувшего из-за угла самосвала. В ответ, ни секунды не колеблясь, она залепила мне звонкую пощечину. В голове загудело. Я побрел понуро. С этого момента мы больше не общались. Конечно, вышло глупо, но, пожалуй, это только к лучшему. В гостинице я не удержался от своей апофеозной выходки: дождался, когда Аснач осталась в номере одна, и, войдя без стука, подсел к изголовью. Губы, мягкие и податливые, она подставляла как-то особенно равнодушно…
В Домодедово, получив багаж, мы стали прощаться. На весь август Шульман отчаливала в Берлин — туда ее командировало наше литинститутское начальство.
— Уж и не знаю, стоит ли ехать в эту Германию… — жаловалась она Боре Колымагину, тайно подозревавшему ее в репатриантских настроениях; вероятно, с ее стороны это была обычная перестраховка, хотя, допускаю, что в ее душе действительно боролись два начала: происходит ведь то же самое у евреев-полукровок.
— А знаете, ребята, — мельком глянув на меня, Лариса задорно вскинула голову, — в пятницу я приглашаю всех к себе, смотреть слайды: интересно ведь, что у нас в итоге получилось!
Но мне было совершенно неинтересно. Я точно знал, что у нас, к счастью, ни черта не получилось.
Неужто все это не сон — и я вправду побывал на Камчатке? — Там, на краю земли, за тысячи верст от пудовых кулачищ озлобленного краснодарца и от выпуклых поросячьих зенок начштаба из Пятихаток; от липкой кривой ухмылки одутловатого, не верящего ни в какое милосердие доцента и от луженой глотки метущего арену елочкой извращенца в униформе; вдали от болотистой глухомани тихвинских перегонов и от завьюженной узкоколейки поволжского полустанка, от припадочных шизоидов в застенках психушек и от пристальных номенклатурных линз в кабинете на Тверском?.. И что важнее всего — на небывалом расстоянии от самого себя, от своей беспутной судьбы, от своего хрестоматийного еврейского счастья!
Хоть раз в жизни, но и мне фантастически повезло: передо мной простерся необъятнейший из океанов — он дышал мне в лицо своим гениальнейшим эпосом, в незапамятные времена сложенным на праязыке четырех стихий и семи ветров, предвещавшим все восемь чудес света в тридевятом царстве, где пятью-пять не двадцать пять и над людьми властно одно лишь шестое чувство! Я стоял на берегу и растерянно созерцал восход багрового светила, щурясь в сторону Сан-Франциско — города, на мостовые которого мне суждено ступить по прошествии двадцати лет…
Что, коли и замысел этой странной книги угнездился в моем сознании именно тогда? Не Иисусу в образе помешанного князя, но Отцу Всемилостивому и Всемогущему, Отцу Иисуса, и князя, и нашему с вами, старику Садовнику с усталым обликом простолюдина, присягнул я в ту минуту раз и навсегда. Б-гу отцов моих, моего отца Б-гу, а значит, и Возделывателю моего собственного утлого вертограда, хранимого что от засухи, что от нашествия саранчи — единственно в награду за отчаянную преданность Трону Его Славы. Ибо ведь все напасти и все гонения больше были связаны с жестоковыйным вызовом, бросаемым мною тому удушливому, ныне почти бесследно сгинувшему миру, нежели с мальчишеской порочностью, у которой временами я и шел-то на поводу лишь затем, чтобы обрести утраченную в поколениях веру, лично удостовериться в реальном существовании десяти заповедей.
Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай Эхад! — спасительную эту формулу, с трепетом и смирением, я произношу по сей день, каждое утро, перед тем как спуститься с веранды в небольшой тенистый садик, типичный для Новой Англии, с ухоженным газоном и фигурно рассыпанной по периметру ароматной древесной стружкой; в садик, где призывно колышется мексиканский гамак, купленный по случаю в Канкуне у старухи-индианки с деревянным лицом и огненными очами; в наш уютный садик, где каждую весну распускаются фиолетово-розовые бутоны рододендронов, резво скачут полосатые бурундучки и кувыркаются дымчатые белки, а порой, если очень повезет, то и вышагивает одетая в царский пурпур птица-кардинал — словно муниципальный чиновник, нагрянувший с инспекцией, чтобы снизить налог за исполнение чьей-то американской мечты.
2000–2008
Бат-Ям — Нью-Йорк — Бостон
[1] Увы, гордиться особенно нечем! Разведясь с женой и оказавшись в Америке, Ян замечется, его потянет обратно в Россию. В Москве интриганы подсунут ему двухтомник Эзры Паунда — нарциссичного нациста, даже после войны, в глубокой старости, охотно позировавшего с жестом «хайль». Ян с присущей ему основательностью примется за дело, его переводы объявят лучшей книгой года. Но за всем этим будет проглядывать лишь кривое рыло радостно улюлюкающей «черной сотни». Ян окончательно потеряет себя и утратит остатки вдохновения.
[2] Это примечание, по всем законам, должно было бы оказаться длиннее самого текста, но у автора, не желающего разрушать общую структуру вещи, и без того писавшейся мучительно долго, да и вдобавок вставляющего свой комментарий с явным запозданием по отношению к свершившимся трагическим событиям, нет ни сил, ни времени. 1 декабря 2003 года Настя Харитонова выбросилась из окна своей квартиры и вскоре скончалась в больнице. За два года до этого умер ее отец, Роман Федорович. К моменту ее самоубийства мы были с ней в разводе более тринадцати лет. За все эти годы она так и не вышла замуж: возможно, и не очень стремилась. Любви к отцу ей, вероятно, вполне хватало. Харитонов-старший, так и не сумевший добиться известности как поэт, в постперестроечные годы основал издательство «Русь», где издал все книги своей дочери, включая том избранного — более шестисот страниц. Очевидно, лишенная привычной поддержки, Настя не смогла вынести этой утраты. Кроме того, по некоторым источникам, у нее не складывались отношения с дочерью… Так или иначе, а при всей своей человеческой беспомощности, она была поэт выдающийся и свое законное место в истории русской поэзии конца XX века неизбежно займет. Вообще же, автор с прискорбием вынужден признать, что чересчур многие персонажи этого романа, по мере того как они возникали на его страницах, расставались с жизнью по своей либо по чужой воле. Помимо чистой мистики, объяснением, конечно же, могло бы служить еще и традиционно российское отношение к человеческой жизни…
[3] Метаисторическая подоплека дуэли на Черной речке, на мой взгляд, такова: поражение в войне 1812 г. нанесло экспансионистским устремлениям Франции непоправимый ущерб; убийство величайшего из русских поэтов (вдобавок ярчайшего выразителя российской имперской идеи) ни кем иным как французом, частично компенсировало этот позор. Разумеется, все происходило на уровне подсознания, тем более что Дантес пытался избежать столкновения и послал картель лишь после оскорбительного письма его пожилому дружку, голландскому посланнику Геккерну.
[1] Часть вторая.
[2] Со временем она осуществит свою мечту — вырвется обратно в столицу, но на свою беду: связь с Михасем, известным российским криминальным авторитетом, станет причиной ее ареста в Швейцарии; затем, выйдя на свободу, она вернется в столицу с триумфом и в скором времени погибнет в автомобильной катастрофе при весьма загадочных обстоятельствах.
[3] Не могу не отметить еще одно совпадение: войска НКВД приступили к выполнению операции «Чечевица» в предпоследний год войны 23 февраля. Эта дата странным образом приходится на день моего рождения. Кто знает — быть может, вся эта чеченская эпопея в моей судьбе и есть результат магического наложения дат друг на друга?..
[4] Догадку мою, уже в Израиле, во время перекура подтвердит Камилла, восемнадцатилетняя сотрудница телефонной компании «Кавей Захав» («Золотые линии»), где мне доведется работать. Журналистка из Баку, еврейка по матери, по отцу азербайджанка, она через своего любовника — скрывавшегося в горах чеченского боевика — неплохо изучит ментальность горцев, а посему, когда я поведаю ей этот армейский эпизод, скорчит сочувственную гримаску (вероятно, опираясь на свой личный опыт): как если бы я и впрямь пошел на поводу у «расщедрившегося» султана.
[5] Впрочем, сотворчество богам, которого он жаждал, сочеталось у Сократа с заурядным продлением рода: одного из троих сыновей он нарек Софрониксом — в память о деде, мастере резца. Благоговение же перед отцом осталось доминантой всей его жизни; Евтифрона, подавшего на своего родителя в суд за убийство гостя, он — с помощью рассуждений о благочестии — отвратил от недостойного замысла.
[6] Это случится через пару месяцев после того, как наш менеджер, израильтянка Шарон (еще одно знаковое совпадение!), девица крайне левых взглядов, безжалостно вышвырнет меня из телефонной компании — из-за провокации, которую подстроит мне мстящая за своего моджахеда Камилла. Однажды утром она займет мой компьютер, а я — вполне вежливо попрошу освободить закрепленное за мной рабочее место. Камилла, одна внешность которой будет внушать мне мистический ужас (на Пурим она выкрасит волосы в алый цвет — протестуя против геноцида чеченцев), наябедничает, будто я ее грязно оскорбил. Тогда я ей брошу в присутствии начальницы: «Ты заявляешь, что ТАНАХ — книга, изобилующая инцестами. Неужто твой Коран научил тебя так безбожно лгать?» Шарон сделает страшные глаза: что ты, что ты, как можно! И на полгода оставит меня с женой и новорожденным младенцем на голодном пайке.
[7] Иру с Мишей я неожиданно встречу в Америке. Они приобретут шикарный дом в районе Лонг-Айленда; старшая их подрастет и упорхнет из гнезда — тогда на смену ей явится кроха-сестра. Увидев меня, Ира так и ахнет: «Ну ничего себе!» — подразумевая мою способность с годами не стареть. Это при том, что ее Иоффе окончательно лишится волосяного покрова и превратится в тучного, нелюдимого домоседа.
[8] Воспитательница жила в деревянной избе со взрослым сыном. Не хочется возводить напраслину, но, кажется, нас тогда с Павловским слегка подпоили — то ли сливовой, то ли еще какой наливкой. А, может быть, мне это сегодня лишь чудится? Далекое прошлое видится словно в тумане…
[9] Эвелина мне рассказывала, что Петра в свое время порывался совратить Андрей Черкизов, бывший личный секретарь Юлиана Семенова, ныне известный скандальный журналист. Племянника Черкизова, Вадима Чурсина, я затем повстречал в армии, служа в минской роте управления, и тот засвидетельствовал мне содомитские наклонности дяди, назвав их основной причиной разрыва своих с ним отношений.
[10] Артистизм этого начетчика исчерпывающе объяснялся его сексуальной ориентацией; жизнь он окончит трагически: его найдут мертвым в ограбленной квартире, после того как кто-то из случайных партнеров решит прикарманить собранные им в течение жизни театральные реликвии.
[11] Стоило автору написать эти строки (в Израиле, весной 2000 г.), как по российскому телевидению передали сногсшибательную новость: упомянутая телебашня вдруг запылала по неведомой причине; пока ее тушили пожарные расчеты, в груди моей не переставало тлеть странное чувство сопричастности.
[12] Летом 1997 г. литературный обозреватель «Русской мысли» прибудет в Санкт-Петербург, чтобы представиться родителям своей невесты, работавшей корректором в той же издании. К Ане Пустынцевой в Париж он уже никогда не вернется: его поместят на больничную койку, где он скончается к утру — по вине злостного непрофессионализма врачей. По чьей же конкретно вине он угодит на операционный стол — так и останется для всех загадкой. Бесспорно одно: браться за статью о деле Никитина — процессе, сфабрикованном органами безопасности, — браться попутно, да еще и без какого бы то ни было опыта в политической журналистике, ему ни в коем случае не следовало.
[13] По остроте дементьевского профиля я и прежде догадывался, что он — полукровка. Позднейшие же его телерепортажи из Израиля и вовсе не оставили сомнений.
[14] С годами гений аватюриста возмужает, Пелленягрэ заделается башлевым песенником; «Как упоительны в России вечера!» — этот шлягер я впервые услышу бат-ямовским вечером, когда, не чуя под собой ног, пришкандыбаю домой, с подносом набегавшись на суматошной хасидской свадьбе; следующий его шедевр — «За нами Путин и Сталинград!» — вызовет споры, когда я уже буду жить в Америке: кое-кто не поверит своим ушам, оптимистически уверяя, что «Витек просто стебается».
[15] И действительно, Машу я следующий раз встречу уже в Нью-Йорке, на конференции славистов, спустя ровно восемнадцать лет со дня нашего знакомства. Склонясь над спирально закрученной лестницей «Мариотт-отеля» и страдая от раздвоения личности, вызванного бурными отношениями сразу с двумя одинаково чуждыми мне женщинами, я буду всерьез раздумывать: прыгнуть или нет? Тут возникнет она — с иголочки одетая вечная аспирантка, успевшая поучиться в Сорбонне и Калифорнийском университете. Страшно удивится, узнав меня, но окажет мне дружескую поддержку, чем меня на время и успокоит. Когда же в толпе ее разыщет супруг-профессор, мы выпьем втроем по коктейлю в буфете, беззаботно ведя типично американский разговор ни о чем.
[16] Поразителен следующий факт: по окончании войны, возвращаясь из Польши, Арсений Александрович нелегально провез в протезе ноги небольшой томик Библии.
* На иврите «на» означает «пожалуйста».



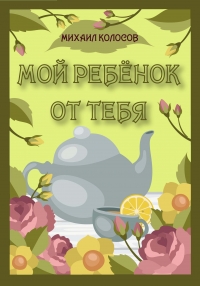




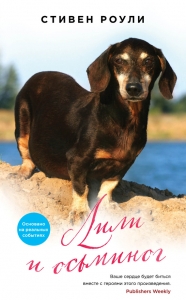
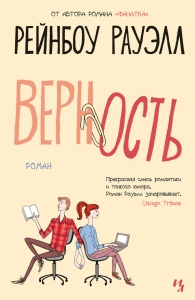


Комментарии к книге «Садовник судеб», Григорий Марговский
Всего 0 комментариев