Илья Горячев Тьма кромешная
© Горячев И.В., 2018
© «Центрполиграф», 2018
* * *
Предисловие Эдуарда Лимонова
Я встречал Илью Горячева несколько раз. Я выделил его из других молодых людей. Он запомнился мне как высокий статный парень-блондин, в тонких очках, умненький и образованный, быстро мыслящий. Я еще подумал: «Во какие парни у националистов выросли. Нам бы такого…»
Предлагая вниманию читателей эту книгу из каменного мешка, первую написанную пожизненным заключенным в современной России, хочу напомнить ему – тебе, Илья, светлый пример.
Был такой русский парень, Николай Морозов, студент и революционер-народник, член Исполнительного комитета организации «Народная воля».
В 1882 году он был приговорен к вечной каторге. В общей сложности в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях и других тюрьмах он провел около 30 лет.
Свой тюремный срок он использовал как никто и никогда, ни до, ни после него. Написал 26 томов совершенно гениальных научных изысканий, среди прочих семитомный труд «Христос».
Потом еще долго жил, почитаемый Родиной, дожил до русской победы в Великой Отечественной войне и умер только в 1946 году.
Тяжелая судьба, но отличный пример для подражания.
Введение
Все собранные в этой книге тексты написаны в тюрьме. Все они родились в самом настоящем застенке с решетками, железными дверями без ручек и прочими соответствующими атрибутами. Да-да, в таком унылом месте напечатанные здесь слова обросли плотью. Наполнились смыслом. И из мертвого скопища букв превратились в одушевленные истории. Причем все они handmade. То есть написаны по старинке – от руки, на листе бумаги.
Франц Кафка писал: «Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не сможет иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой». Истинно так. Полностью согласен с Мастером.
В пустоте, наполненной лишь давящей тишиной, истории целыми абзацами просачиваются в мозг откуда-то с той стороны. Достаточно легчайшего толчка – и ты видишь, как из тумана небытия начинает выплывать новый сюжет, постепенно проявляющийся во все более мелких деталях и подробностях. Например, «Волонтер» родился из фотографии нацболов-добровольцев на Донбассе, опубликованной в газете. А «Потеряшка» – из слова «безысходность», выхваченного ухом из сумбурного радиопотока. Я подумал: «Это же отличное название для какого-нибудь заброшенного полустанка!» И тут же вспомнил железную дорогу на Мокрой Горе в поместье Неманьи Эмира Кустурицы «Кюстендорф», что снималась в его фильме «Жизнь как чудо».
Я верю, что все тексты – рассказы, письма, статьи и прочее – уже написаны во вневременной вечности и хранятся в ее архиве, автор же может лишь выяснить это когда-то написанное. Потому я вижу свою задачу в том, чтобы услышать как можно четче послание из вакуума, чтобы изложить услышанную историю возможно ближе к изначальному оригиналу.
Одновременно эти истории – причудливая смесь обрывков снов, остающихся в памяти после пробуждения, и строк из черновиков писем. Слепок ощущений, психического состояния, фиксируя которые я стараюсь противостоять ментальной деформации, практически неизбежной в изоляции. Воспоминания, ощущения, страхи, чаяния – все это я стараюсь смешать воедино и выместить вовне. Зачем? Просто каждое утро я ощущаю, что превращаюсь в точку, и мне приходится снова и снова искать в этом «дне сурка» какой-то смысл, который объяснит мне, а зачем, собственно, дотягивать до вечерней команды «Отбой!».
Слово – носитель психической энергии, формирующее окружающее нас пространство. А каждый рассказ под этой обложкой – это кирпичик, слепленный из слов. Из них я надеюсь вымостить мою дорогу из желтого кирпича, приблизиться хотя бы на несколько шагов к желаемому комфортному образу будущего.
Хочу поблагодарить Татьяну, терпеливо расшифровывающую мои закорючки, Эдуарда Лимонова, оказавшего неоценимую моральную поддержку и помощь в поиске издательства, Дариму Хвостову и весь коллектив издательства «Центрполиграф», решившихся выпустить эту книгу, Андрея Фефелова и Андрея Смирнова из газеты «Завтра», предоставивших их площадку для «тест-драйва» моих текстов, а также всех близких и друзей, поддерживающих мою бодрость духа все эти годы. Без всех этих людей эта книга не появилась бы на свет. Хочу сказать огромное спасибо им всем. Отдельно хотелось бы выразить благодарность тем людям из тени, что не мешали работать над этой книгой и не препятствовали ее изданию.
Илья Горячев
Тьма кромешная
Той, что вдохновляет меня, я посвящаю эту книгу. Оксана Андреевна, Вы мой единственный смысл.
Иоанн. Тьма кромешная
Глава 1
В июле месяце 1568 года, в полночь, любимцы Иоанновы князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царскою дружиною вломились в дома ко многим знатным людям, дьякам, купцам: взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. Вслед за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный тысячами кромешников. На первом ночлеге ему представили жен. Он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы, жег усадьбы бояр опальных, казнил их верных слуг, даже истреблял скот, особенно в коломенских селах убитого конюшего Федорова; возвратился в Москву и велел ночью развести жен по домам: некоторые из них умерли от стыда и горести.
Николай Карамзин. История Государства Российского. Том IXЕсли обещаешь покаяться в своих грехах и прогнать от себя этот полк сатанинский, собранный тобой на пагубу христианскую, а именно тех, кого называют кромешниками или опричниками, я благословлю тебя и на престол мой, послушав тебя, возвращусь. Если же не сделаешь этого, будешь проклят в этом веке и в будущем вместе с кровоядными твоими кромешниками, во всех преступлениях тебе помогающими.
Ответ митрополита Филиппа Колычева царю Иоанну…В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты сильных во Израиле вождей знаменитых, данных тебе Вседержителем, и святую, победоносную кровь их пролил во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества?..
Из письма князя Андрея Курбского великому князю Московскому Иоанну IV Васильевичу от лета 1564 от Р. Х.…Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого владыки, и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень, блажен, кто смертью приобретает душевное спасение!..
Из письма царя Иоанна IV Васильевича князю Андрею Курбскому от лета 7072, июля месяца в 5-й деньГрад Москов. Палаты Григория Лукьяновича Плещеева-Бельского на Болоте.
Зима лета 7078 от сотворения мира (1570 год от Р. Х.)
– Слово и дело, государь! – Глухой бас, идущий из глубины медвежьей груди, сокрытой густой окладистой бородой, огласил своды подземелья. Небольшая дверца растворилась и пропустила согбенную фигуру с острым цепким взглядом, посохом в одной и чадящим факелом в другой руке. Сполохи пламени освещали, казалось, бесконечную галерею, уходящую во тьму за спиной великого князя Московского Иоанна.
Длинный подземный ход соединял царские палаты в Кремле и стоящие на другом берегу реки белокаменные хоромы, которые на Болоте заложил боярин Берсеня Беклемишев да сложил голову на плахе по воле великого князя Василия III. Продолжил их градить думный дьяк Аверкий Кириллов, да погиб от руки лихих стрельцов во время их бунта. Закончил дело Григорий Лукьянович Плещеев-Бельский, на Москве известный как Малюта Скуратов. По его приказу и воле государевой мастера фряжские искусные и ход этот соорудили, чтобы сподручнее было государю и сподвижнику его ближайшему дела вершить важные, государственные, в тайне их сохраняя от очей злокозненных.
Выйдя из дверцы и с хрустом костей разогнувшись, Иоанн протянул факел Малюте и прошептал:
– Вести дурные имею, Малюта. Крепко размыслить нам с тобою требуется, да вдали от ушей чужих.
– Пойдем, государь, есть закут надежный. – Малюта круто развернулся и двинулся вперед, открывая крепкие дубовые двери в своих подземелиях необъятных. К каждым вратам был свой ключ, и Малюта безошибочно определял на ощупь перстами нужный из объемной связки, висящей на поясе. Наконец Малюта остановился и, затворив дверь за собою, спустил вдобавок мощный засов. Запалил факелы на стенах, и яркий свет мигом выхватил из тьмы потаенную горницу, уставленную сундуками с книгами и устланную медвежьими шкурами. Оглядевшись, Иоанн выбрал лавку с бархатными подушками и опустился на нее. Малюта, почтительно склонив голову, встал рядом.
Глубоко вздохнув и обведя все стены пристальным взглядом, тихим уставшим голосом Иоанн начал:
– Боярин Новосильцов доносит нам из Константинополя – османы умысел имеют Казань и Астрахань руками крымцев обратно забрать и по его разумению в умысле сем сносятся с Литвою и злочестивцами внутримосковскими, готовыми переметнуться и меня выдать.
Подняв голову, Малюта с готовностью продолжил:
– Государь, новгородцы, коих мы на правеж давеча ставили, сказывали, что холопы дьяка Висковатого грамотками лукавыми обольщали их Литве предаться. А до-ушники наши в Посольском приказе сказывают, что умыслы бесовские и умышление лютейшее Висковатый имеет, оттого самовольно с Литвою и султаном османским сносится. Думаю, государь, Висковатый к литвинам переметнулся и руками басурман хочет Московию к Литве присоединить. – Повисло молчание, буквально осязаемое в сыром воздухе подземелья.
Зеницы очей Иоанновых сузились, зловещий шепот был еле слышен:
– Боярство к Литве наклонное, на Москву басурман крымских и османских привести вздумало… Ну что ж… Вчера, Малюта, я грамотки Ивашки Пересветова сызнова перечитывал в черных списках. Все верно он указывает. Особливо про то, что народ мой православный смущает. Не можно царство без грозы держать, а паче ленивых богатин-изменников и лиходеев к себе припускать. Собацкое собрание по сию пору ядом своим кровь мне портит, собаки Алексея и попа Сильвестра нет, а семя их теперь в Иване Висковатом проросло… – Иоанн надолго умолк. – Что чернь, Малюта?
– За тебя, государь. Да баламутят ее. Жить тихо и мирно не дают. Умы смущают. Вот послушай, государь… – Малюта открыл сундучок, стоящий на большом тисовом столе, миниатюрным ключиком, достал пачку бумаг и, перебрав их, выудил список. – На Москве такие подметные грамотки гуляют про доктора твоего Елисея Бомелия: «Литва и ливонцы к царю нашему православному прислаша немчина лютого волхва нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении; и положи на царя страхование… И конечне был отвел царя от веры: на русских людей царю возложи свирепство, а к немцем на любовь преложи. Царь в ратех и войнах ходя, свою землю запустошие, а последи от иноверца Бомеля ума исступи и землю хотя погубити…»
– Довольно! – Иоанн резко встал и стукнул посохом об пол. – Не унимается сволочь земская… не унимается…
– Не унимается, государь, – эхом отозвался Малюта, – злоумышляет.
Глубоко вздохнув, Иоанн прошел в дальний кут, где висели иконы и была затеплена лампадка. Зажмурился. С силою потер ввалившиеся щеки, покрытые щетиной жесткой с проседью, и, взявшись за чело, словно пытаясь облегчить боль, внутри пылающую, с мукой в голосе прошептал:
– Огнем выжигать злобесное умышление! Сызнова перебрать людишек земских надобно… Кругом крамола… – Вдруг лязгнули и заскрипели петли одного из сундуков. Иоанн резко развернулся, очи царя пылали ледяным пронизывающим огнем. – И тут доушники супротивные! – проревел страшным голосом и, воздев посох, с силой метнул его в массивный кованый сундук.
Крышка его отворилась, перекидывая ножку через стенку сундука, из него вылезал заспанный испуганный отрок лет восьми, весь покрытый книжной пылью. В руках он сжимал книжицу в кожаном оплете.
– Государь… – Малюта был смущен и испуган, – это сынок моей Матрены. Мясоед. Ему осемь годков лишь минуло, изрядно грамоту любит, постоянно возле книг…
Голос Иоанна пылал гневом:
– Бывают и отроки доушниками, Малюта!
Малыш спрятался за ногу отца и испуганно выглядывал оттуда, крепко держась за его порты. Малюта, бухнувшись на колени, оплеухой повалил и сына.
– Государь, не отнимай отраду последнюю…
Скорее глухой стон, чем возглас, заставил Иоанна нахмуриться. На минуту повисла тишина.
– Книжное знание, говоришь, его привлекает… – задумчиво протянул самодержец.
Напугавшая Малюту столь хорошо знакомая ему тень сошла с чела Иоанна. Угроза в голосе сменилась решимостью.
– Веди его сюда, Малюта. – Иоанн взял отрока за плечи, повернул к себе и вынул книжицу из рук мальчонки. Поднес к очам и, прищурившись в неверном отсвете факела, гласно прочел заглавие: – «Повесть о Муть янском воеводе Дракуле». – Усмешка тронула уста самодержца. – А ведь книжонка-то сия еретическая. Сие ведаешь, Малюта? Ты хранишь ее, мальчонка твой читает. А дьяка Федьку Курицына, сие писание еретическое на погибель себе измыслившего, дед мой великий князь Иоанн четвертовать повелел, а книги все сжечь. – На секунду Иоанн умолк, раскрыл фолиант и задумчиво продолжил: – В моей библиотеке только и осталась… – На пару минут углубился в чтение и вдруг резко захлопнул книгу, отчего по лицу отрока пробежала дрожь испуга. – Может, и эту спалить?.. С ребятенком твоим вместе…
Малюта, зная норов государя, смиренно молчал.
– Худое не думай, сам в детинстве почитывал. – Тон Иоанна смягчился, став задумчивым. Малюта понял, что лихой момент миновал. – Избранным людям бывает дозволено то, чего другим скудоумникам и помыслить должно быть боязно. И выходят из них либо самые лиходеи, на державность нашу умыслители, вот как холоп наш беглый Андрейка Курбский, – их место на дыбе и в прегорьких узких темницах, либо кромешники наши верные… – Подняв голову отрока двумя пальцами за подбородок, Иоанн вперился в его очи: – Ну-ка, дай в нутро твое заглянем, посмотрим, в какой разряд тебя определить…
Малыш выдержал пристальный взгляд.
– Смышленый волчонок! – Это прозвучало оправдательным приговором, опасность, нависшая было над малышом, миновала. – Пойдем. – Иоанн подтолкнул отрока в спину по направлению к ликам, освещаемым лампадкой. – Повторяй за мной…
Своды потаенной палаты огласились двумя голосами – хриплый уверенный бас торжественно произносил, а юный отроческий голос вторил ему: «Я… клянусь быть верным государю и великому князю… И его государству… И не молчать о всем дурном, что я узнаю… Слыхал или услышу… Что замышляется против царя и великого князя… Его государства… Я клянусь не есть и не пить вместе с земщиной… И не иметь с ними ничего общего… На этом целую я крест…»
Глава 2
Царь же напился от них, окаянных, смертоносного яда лести, смешанного со сладостным ласканием, и сам преисполнился лукавства и глупости, хвалит их советы, любит их дружбу и привязывает их к себе присягами, да еще и призывает их вооружиться против невинных и святых людей, к тому же добрых и желающих ему пользы, как против врагов, собирая вокруг себя всесильный и великий полк сатанинский!
Андрей Курбский. История о великом князе МосковскомГрад Москов. Торг на Китае.
25 июля лета 7078 от сотворения мира (1570 год от Р. Х.)
Темное грозовое небо над Москвою, лишь карканье воронья, будто предчувствующего трапезу, нарушает мертвящую тишину. Посреди торга грозно высятся две дюжины свежесрубленных виселиц, еще пахнущих смолою. Рядом пылает высокий костер с подвешенным над ним огромным чаном с водою. Вдалеке слышатся бубны. Со стороны Кремля появляется процессия: впереди на норовистом вороном жеребце великий князь Московский Иоанн, рядом его сын, за ним князья и бояре. Далее в стройном ополчении три сотни избранных злейших кромешников, все в кафтанах, шитых золотом с собольей опушкою, и в волчьих шапках. Чуть сзади от Иоанна едет Малюта Скуратов, а рядом его сын Мясоед на своем молодом конике, тоже облаченный в одеяние опричное с сабелькой на боку и притороченными к седлу песьей головой и маленькой метелкой. Как утром объяснил отец: «Грызи лиходеев, мети Россию».
За этой блестящей процессией бредет понукаемая опричниками толпа живых мертвецов, в железах закованная, в лохмотьях, многие с зияющими ранами. Пять месяцев следствия с пристрастием в Александровской слободе не прошли даром. Тайный ков против государя крамольников злых изобличен. Из проулков конные опричники выгоняют было спрятавшихся москвитян, те, побросав лавки, сокрылись в погребах, думая, что под корень решено извести сволочь земскую. Москвитяне трепещут, но собираются. Вот уже места всем не хватает и заполняются окрестные кровли. Иоанн, привстав в стременах, обводит толпу взглядом очей своих огненных и, убедившись в многочисленности народа, возвышает голос:
– Народ! Увидишь муки и гибель, но караю изменников. Ответствуй: прав ли суд мой?
Пристальные очи сотен кромешников впились в толпу, ну какой крамольник себя лицом аль очами бегающими выдаст. После секундной заминки толпа велегласно ответствовала:
– Да живет многие лета государь великий! Да погибнут изменники!
Улыбка тенью скользнула по лику государя московского. Взмах рукой – и опричники делят толпу крамольников закованных надвое. Иоанн вытягивает посох, указывая на тех, кто слева, и произносит одно слово: «Милую!» Шумный вздох облегчения взметается над ними в небо, многие плачут, крестятся, кто-то стоит на коленях и, беззвучно шевеля губами, молится небесным заступникам. Они не чаяли вновь восход солнца ясного увидать, но Господь милостив, а государь московский тем паче.
Вперед выходит думный дьяк, разворачивает свиток и гласно оглашает:
– Иван Михайлов Висковатый, бывший тайный советник государя! Ты служил неправедно его царскому величеству и писал к королю Сигизмунду, желая предать ему Новгород. Се первая вина твоя! – После этих слов дьяк палицей бьет Висковатого в голову. Тот падает на колени. – А се вторая, меньшая вина твоя: ты изменник неблагодарный, писал к султану турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань. – Еще два удара палицей в голову. – Ты же звал и хана крымского опустошать Россию, се твое третье злое дело!
Висковатый с трудом поднимает голову, кровь заливает глаза.
– Свидетельствуюсь Господом Богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству. – Хриплый прерывающийся его голос, казалось бы тихий, разносится над толпой и доходит, кажется, до каждого. – Слышу наглые наветы и клеветы, не хочу более оправдываться, ибо земной судья не хочет внимать истине; но Судия Небесный видит мою невинность, и ты, о государь! Увидишь ее пред лицом Всевышнего… – Кромешники закрывают ему уста, вот его уже не видно, лишь волчьи шапки мелькают.
Через минуту Висковатый взмывает на виселицу вверх ногами. С него срывают оставшиеся лохмотья, обнажают и рубят на части. Величаво подходит Малюта Скуратов, достает нож и отрезает ухо.
Четыре часа длится кровавый пир. Вешают, режут, варят в кипятке. Две сотни крамольников в муках испускают дух под клинками кромешников государевых. Иоанн конно объезжает торг, наблюдая за работой своих любимцев. Наконец, свершив дело, в сбившихся шапках, с окровавленными мечами в руках и с бешеными взорами, они становятся вокруг Иоанна и, воздев клинки к небу, оглашают торг, звучащими как магическое заклинание криками «Гой-да, гой-да!», славя его правосудие. В стороне стоит маленький мальчик в волчьей шапке и внимательным задумчивым взором провожает того, кому целовал он клятвенно крест. В руках он вертит человеческое ухо.
Глава 3
Затвори Русскую землю, спрячь свободное естество человеческое аки во адове твердыне.
Андрей КурбскийВсе трепещет царя-государя, единого под солнцем страшила бусурманов и латинов.
Московский посол у ногаев МальцевАлександровская слобода.
1 марта лета 7091 от сотворения мира (1582 год от Р. Х.)
Предрассветные сумерки. По прихваченной морозцем мощеной улице на черном как смоль рысаке скачет всадник в черном кафтане с собольей опушкой, меховой шапке и башлыке. За плечами длинный путь почти что от самой Москвы. Троих коней сменил, умаялся, озяб изрядно – зима студеной выдалась и снега полегли великие, а все одно – доехал. Рогатки на улицах уже настежь распахнуты, слобода просыпается рано. Мощные белокаменные стены с бойницами. Вот и дома. Спешившись, путник взял коня под уздцы и шумно громыхнул колотушкой на калитке в массивных дубовых воротах.
– Кто? – раздался глухой голос.
– Отворяй, чернец. Мясоед Вислой к игумену.
Заскрипев, калитка открылась.
– Слово и дело, брат Мясоед. – Тон сменился на почтительный.
– Гойда. – Ответ прозвучал немного пренебрежительно. – Возьми коня, да смотри, обережно – он с дальней дороги. – Сунул уздечку привратнику и, протиснувшись в калитку мимо него, не оборачиваясь, уверенно двинулся в сторону кельи настоятеля.
Вот и нужная дверь, стучит и, дождавшись позволения, отворяет, заламывает шапку и переступает порог.
Узкая келья. Жарко натоплено. По стенам стоят растворенные сундуки с книгами. Стопки книг на полу по углам. Кругом туески берестяные со свернутыми грамотами. У маленького оконца, затянутого не слюдой, как в других кельях, а со стеклом венецианским, стоит тяжелый, массивный стол. За ним, спиною ко входу, сидит массивный крепкий старик с копной седых волос, в скуфейке и черной рясе.
Он согнулся над грамотой, внимательно читает, делает остро очиненным гусиным пером пометки, смачивая его в густых чернилах. Стол ярко освещен – свечи на стенах толстые, восковые. Такие не у каждого московского боярина сыщутся. В беспорядке на столе разложены отточенные перья, кусок пемзы, ящичек с песком речным, множество грамот праздных. Отдельно, аккуратными стопками лежат листы дорогой англицкой писчей бумаги – по четыре гривны каждая. Пара растворенных фолиантов в тяжелых переплетах с массивными застежками. В красном углу затеплена лампадка перед образом «Спас Ярое Око». Не оборачиваясь, игумен приветствует гостя:
– Входи, брат Мясоед.
– Слово и дело, отче. – Тон сменяется на почтительный. Повернувшись к образу и подойдя на пару шагов ближе, Мясоед быстро мелко крестится.
Игумен оборачивается, и в голосе появляются нотки гнева:
– Надменность и дерзновение за стенами обители святой оставляй. Не лоб крести, а осеняй себя полным знамением крестным!
Мясоед бухнулся на колени, в движениях его появилась истовость и ретивость.
– Другое дело. – Тон игумена смягчился. – Не серчай, что строг, с вчерашней заутрени не спал. Испытывали одного литвина. Чернокнижника. С пристрастием, конечно. – Игумен вытянул руки, покрытые ожогами, показывая их Мясоеду.
Тот, бросив взгляд на ожоги, лукаво изрек:
– Не бережете вы себя, отче.
Игумен досадливо махнул рукой:
– Не юродствуй, не на паперти. – Развернулся к гостю, взял его за обе руки, поднял с колен и тут же усадил на сундук, устланный медвежьей шкурой. – Переведи дух с дороги. Позже разделим трапезу утреннюю. Замысли только, злодей этот литвинский царя нашего касимовского хулил Саин-Булата, царевича Кайбулу и прочих верных слуг государевых веры магометанской. Утверждал, что вера их суть сатанинство, а имя пророка их Бахмета – это одно из имен антихриста. На дыбе признался, что в книге одной ученой латинской это вычитал – Ba-fomet, мол, произошло от Бахмета. Библиотека у него преизрядная была. Есть даже на пергаменте из человечьей кожи выделанном книги писаные. Писцы да толмачи наши сейчас ее разбирают. Хотя об этом потом. Сейчас слушай дело государево для тебя. Чрез две седмицы едешь как подьячий посольского приказа с боярином Яковом Молвяниновым к латинянам, с иезуитом Антонием Поссевином, что в Москве сейчас обретается. Едете к самому папе. Везете ответ государя нашего на грамоту его. Государь по доброте своей соглашается на союз с государями европейскими против оттоманов. Толку из этого не будет. Затея эта против России, грамоту готовили и ум государя смущали бояре-крамольники. Твоя задача за боярином Молвяниновым приглядывать, разговоры его с папистами слушать да никому не сказывать, что ты толмач обученный. За Молвяниновым в оба глаза следи. По возвращении грамоту о нем составишь. Назовешься Тишиною Васильевым, есть такой дьячок приказа посольского, ума нешибкого, его в Казань пока втайне отправили. Смотри, соображением своим боярина не смущай, вид имей лихой и придурковатый. Вот тебе грамота для застав наших пограничных. – Старик протянул внимательно слушавшему Мясоеду скрученную и перетянутую нитью грамоту, запечатанную сургучовой печатью воеводы приказа посольского, которую тот тут же сунул за пазуху кафтана в потаенный карман. – Далее слушай. – Цепкий его взгляд держал Мясоеда в усердном внимании. – В разрядные книги дьяк сей вписан, но служил на задворках, видеть боярин его не мог, а ежели по книгам возжелает сверить, то там все чин по чину. Еще. В Риме тебя будут ждать Крузе и Таубе. – Пристально глянул и замолк.
Мясоед вскинул голову:
– Они же перебежчики! Десять годов назад в Литву ушли!
Взгляд игумена потеплел.
– Вижу, не ошибся я в выборе. Помнишь и то, чего очами своими не видел по малолетству. Это для всех изменники и душегубы, а братья сии тайные схимники и усерднейшие слуги государевы. Его очи у латинян и аугсбуржцев. Намеренно байку эту мы проширили, будто б самовольно в Литву они ушли. Просто из кромешников внутренних стали они кромешниками внешними. Они сами тебя найдут. На словах передадут тебе послание, уразуметь не трудись – вязью особенной говорить будут, ты ей не обучен, просто крепко затверди на память, да смотри, чтобы без ошибок. Потом изъясни им, что есть литорея и новая азбука, впредь ею донесения пусть шлют с оказиями надежными. – Игумен на миг замолчал, потер лоб и продолжил: – А им передашь, чтобы в Литву собирались. Надобно им дружочка нашего повидать Андрейку Курбского. – Игумен достал откуда-то из-за пазухи искусно сделанную книжицу, на обложке Мясоед заприметил след от восковой свечки, видать, не раз игумен над писаниями сими просиживал. Старик потряс изящно переплетенной книгой перед глазами Мясоеда. – Печатная! – с плохо скрываемой ненавистью в голосе провозгласил он. – Андрейка в германских книгопечатнях новое издание измышлений своих клеветнических облыжных выпустил, да сразу на нескольких языках! Толмачи литовские потрудились изрядно. Стефан Баторий за сим стоит, а тому Курия Римская нас злословить приказывает. Не смотри, что иезуит сей Поссевин государю мир с Баторием сулит, это все суетно и сиюминутно. Латиняне не друзья нам, просто лукавством своим они государя нашего, кроткого душою как агнец, в искус вводят обещаниями невозможными, точно как Сатана Спасителя Господа нашего. – Тут игумен прервал пылкую речь и, перекрестившись, сотворил три земных поклона, шепча: «Господи, помилуй». Разогнувшись, он раскрыл книжицу в заранее заложенном месте: – Сам смотри, вот прямое доказательство. В новом издании дополнения Андрейка внес насквозь лживые, горше прежнего, да не сам, а по наущению бесовскому латинянскому, уязвляющие государя нашего. Вот, послушай, как он сребреники свои иудины отрабатывает, да только глянь, плотно ли дверь прикрыта…
Пока настоятель мусолил перст и искал нужную строку, Мясоед покрепче закрыл врата, выглянув сперва на ходник, убедившись, что нет доушников любопытных.
– Вот, Мясоед, слушай. – Старик набрал в грудь воздуха и принялся читать, вложив в глас свой все то презрение, что питал он к автору сих литер: – «Как и отец его Василий со своей законопреступной юной женой, будучи сам стариком, искал повсюду злых колдунов… – эти слова он прошептал, воздев очи свои и указующий перст к потолку, – чтобы помогли чадородию, не желая передать власть брату своему, а он имел брата Юрия, человека мужественного и добронравного, но в завещании приказал жене и окаянным своим советникам вскоре после смерти своей брата этого погубить, что и было сделано. А о колдунах очень заботился и посылал за ними повсюду, аж до самой Карелы и даже до Финляндии, что на Великих горах возле Студеного моря, и оттуда приезжали они к нему, и с помощью этих презлых советников сатанинских и от их прескверных семян по злому произволению (а не по Божественному естеству) родились ему два сына: один – прелютый кровопийца и погубитель отечества, так что не только в Русской земле такого урода и дива не слыхано, но воистину нигде, и, как кажется мне, он и Нерона презлого превзошел лютостью своей и различными неисповедимыми мерзостями, ведь был не внешним непримиримым врагом и гонителем Церкви Божьей, но внутренним змием ядовитым, попирающим и терзающим рабов Божьих…» – Игумен с шумом захлопнул фолиант. – Понимаешь, какие скверные шептания пойдут? Мол, государь московский престол свой занимает воровски, да и рожден не пойми от кого… Ежели не обольстит папа государя латинством, тогда силою нам на престол Батория посадит, вот как понимать следует писания сии еретические. – Игумен вновь раскрыл книгу на иной странице и протянул ее Мясоеду. – А вот этот навет грязный в самое сердце всех нас уязвляет, на вот прочти сам, да не гласно! Тому, кто языком подобное оглаголет, орган сей оскверненный вырывать надобно.
Мясоед взял книгу в руки и, беззвучно шевеля губами по привычке, оставшейся с детства, быстро сложил буквицы в склады, а склады в слова: «Воевода демонского кромешного войска, царев любовник Федор Басманов». – Зрачки его карих очей сузились. Вот же зверь кровоядный! Сатанник и сын антихристов! В самую душу уязвляет поклепом своим. Прав, ой прав игумен. И не язык драть надобно, но и очи тоже, всем, кто смрад сей, в литерах растворенный, в себя пустил, пусть и не намеренно.
Старик взял том из рук Мясоеда и покачал головой понимающе:
– Уразумел теперь? Доносят заглазно, что одиноко псу Андрейке у ляхов, но не верит никому. Вот изъясни Крузе и Таубе, что надо им по душе близко издайнику прийтись. Живет он там сладко, как свинья в сладострастии, и все дни проводит гнусно и лениво. Вот когда окаянный до трапезы их допустит, а он охотник утробу и гортань себе калачами да марципанами наполнять, пусть это вот снадобье, – тут игумен достал из-за пазухи пузырек малый, матового стекла, наглухо закупоренный пробковой затычкой и для надежности бечевой перевязнный, и вложил в ладонь Мясоеда, – в питье ему насыплют. Доктор Бомелий правил, он в том большой искусник. Через день его тяжкий огненный недуг свалит. Как схоронят его, пусть в Рим возвращаются, награда царская их уже там ждать будет… Все на ум затвердил? Что-то еще я тебе не сказал… Делов много свойства государственного, а вершителей надежных мало… – На секунду игумен замолк. – Да. Вот еще. Боярин Молвянинов сладкоречив вельми, смотри не обольстись. Ума он преизрядного. Жаль, что к партии бояр-крамольников наклонен, что в латинство нас тащат. И речи боярина ядовитые, внешне внимая смиренно, внутрь себя не допускай. В следующее воскресенье пойдешь со мной к государю на доклад тайный, посмотреть на тебя хочет, кому дело государственное доверяет. Государя не гневи, очи держи долу, будь смирен, помни, что ты инок и государю сие ведомо, хоть для всех твоя схима и сокрыта. Сделаешь дело это, государь тебя в именитые люди милует, сможешь «вич» именоваться. – Игумен взял молодца за плечи и, усмехнувшись, встряхнул. – Будешь Мясоед Малютович. Ладно, спесь все это мирская. Калью постную будешь?
Мясоед усердно кивнул.
– Пойдем в трапезную, там еще про одно дело малое послушаем и приговорим, как управить.
На улице почти рассвело. Монастырский двор оживился ранней суетой иноков: кто по воду, кто по дрова, кого книги да рукописи ждут. Много дел у братии. Широкими шагами игумен Афанасий идет через двор, походя давая указания и раздавая затрещины нерадивым:
– Холопий сын, непослушка, почему ворота конюшни не поправил? – Отеческий упрек и легкий шлепок богатырской рукой по челу, и молодой инок уже сидит в сугробе, удивленно потирая ушибленную голову.
– Виноватый, отец настоятель, сей же час исправлю. – По его окающему говору видно – с севера Руси необъятной пришел он в обитель, во владимирских дремучих лесах надежно укрытую.
Успевает игумен поучать и идущего рядом Мясоеда:
– Спесь в себе смиряй. Очами не блести. Шапку перед всеми ломай. Опричник государев ты только в этой обители. А для всех ты теперь подьячий приказной, каких тысячи. И я лишь тут воевода кромешников, а за вратами монастыря этого – чернец простой.
Калья, ржаной хлеб да квас: трапеза монастырская скудна, но обильна. Насытившись, игумен погладил окладистую бороду:
– Уж знатно зоб насытили. Теперь внимай усердно, брат Мясоед.
Игумен махнул рукой, и до времени хоронившийся в углу инок, по всему видно писчий дьячок – подслеповато щурящийся, согнутый, с перстами с намертво въевшимися чернильными пятнами, – шустро подскочил, припал к деснице игумена, которую тот досадливо отдернул, и затараторил:
– Доушники наши среди скоморохов сказывают, что боярин Матвей Умной-Колычев во хмелю медовом на Масленицу в палатах у Мстиславских баил сказ один, из былых времен всем на потеху, а государю нашему в ущерб: будто б князь Дмитрий Овчинин на пиру царском не смог чашу крепкого меду выпить за царское здоровье, за что был удавлен в погребе.
Игумен нахмурился:
– Серьезный поклеп. Умной-Колычев, говоришь? Может, и не просто поклеп, но и ков злодейский. Дьяк, перепиши сказ скомороший должным образом, и пусть перст свой приложит непременно. Награду ему царскую выдай да накажи язык за зубами держать. А после проследи, чтобы чуть опосля балагуру сему язык вырвали. За богохульство. Дело сие государево важности особой. – Махнув рукой, игумен отпустил дьячка писчего. – Иди, Мясоед, отдохни с дороги, мне поразмыслить надо. Дело малое большим обернуться грозит. После вечерней литургии жду тебя в келье, будет тебе еще задание одно. Все, иди, иди. Отвлекаешь меня только. – Игумен ласково подтолкнул Мясоеда в спину, выпроваживая его из кельи на ходник.
Плеснув в лицо студеной колодезной водицы, Мясоед, наскоро сотворив молитву, поцеловал крест нательный, застегнул ворот и вышел из горницы, скорым шагом поспешив в келью настоятеля.
– Входи, брат Мясоед, садись. – Игумен Афанасий встал из-за стола, заложил руки за спину и принялся мерить келью шагами. – Боярин Умной-Колычев давно у меня в нотицах примечаем. Думал я, сказ скомороший, один из многих, в грамотку соответствующую допишем да в туесок с его именем уберем. – Он достал из сундука берестяной туесок размера преизрядного и ловко перекинул его Мясоеду: – На вот, после познакомишься, тут все сказы да поклепы на боярина сего.
Тот поймал туесок и сокрыл его в обширном кармане кафтана.
– Так вот, – продолжил настоятель, расхаживая по келье. – На пиру том я был. И в подвале том тоже. Князь Овчинин крамольник был редкий, и дело не в чарке меду, конечно, было. Да только было это все скоро пятнадцать лет назад. Был на том пиру и фряз один прозванием Гваньини. И вот в прошлое лето в Спире книга его вышла про Московское царство имени Sarmatia. Хулит он там нас и чернит преизрядно. Книгу саму я еще по осени прочел – лазутчики наши доставили. А недавно вторая Sarmatia появилась у нас – гонец из Варшавы доставил присовокупленной к эпистолии короля Стефана Батория, неприятеля нашего, к государю Иоанну Васильевичу. И глумится он в этой записке гнусливой: «Читай, что о тебе пишут в Европе!» Знает, что государь наш мнителен и впечатлителен, и уязвить его хочет. Так вот. Про пир тот достопамятный, но для истории и государства ничтожный, уже и не помнит никто, но фряз Гваньини, злоумышляя против нас, все байки, нас чернящие, в книге собрал и эту присовокупить не забыл. Но книг его на Москве лишь две – одна у меня, другая у государя. А выходит, уже и третья есть, раз Умной-Колычев про то баит, сам он на том пиру не был, а рассказать про то и некому, упокоились уже почти все, кто мед за столом вкушал. Лишь я, государь да фряз тот и остались. И невелика б беда, ежели только это. У боярина Умного-Колычева благословение есть патриарха на возобновление печатного двора в Москве.
Идея эта сомнительна, но государь одобрил. Машину печатную боярин из Европы выписал еще по весне, еще до Рождества с Двины ее привезли. Сейчас мастеров ждет из Англии. Да только ежели один человек и печатный двор возобновляет, и книги крамольные латинские, врагами государя к тому же для смущения его употребляемые, из Европы возит, да измышления там печатаемые ширит, то это уже серьезно и есть дело государственное. Поэтому по размышлении скорому решил я, надо сыск в отношении боярина произвести срочный. Теперь слушай наказ, что тебе делать следует. Возьми иноков четверых и двое саней. На заставе московской скажетесь чернецами монастыря Соловецкого, в его подворье следующими, житницы пополнить. Вот бумага, рукою их игумена писанная, речи эти удостоверяющая. Оденьтесь соответствующе, как путники-богомольцы, странствие дальнее претерпевшие. Одного инока-помора возьми, который говор их ведает, – он пусть и говорит, чтобы сомнений ни у кого не возникало. Двор боярина за Яузскими воротами. Рассчитай так, чтобы за два часа до заутрени там быть. Боярина брать тихо. Дворню не трогать. Двор боярина вам отворят. Там сподвижник наш из его дворни, гонца я к нему отправил, он предупрежден. Он вам клеть с машиной печатной укажет и путь к опочивальне боярина. И машину, и боярина доставишь в монастырь и меня дождешься там. Туесок с грамотами о боярине изучи дорогой и, пока меня нет, сыск проводи легкий, без усердия излишнего, как в прошлый раз, но спать ему не давай. На третий день я приеду и испытаем его мягкого уже как следует. Да, на воротах скажете: «Чернецы бедные переночевать просятся. Тьма кромешная», сподвижник ответит: «Всем рады, опричь злодеев державы». Все уяснил и затвердил? Сегодня собирайся в путь и отдыхай. Завтра поутру выезжайте. Все. Иди.
Мясоед коротко кивнул, развернулся на каблуках и вышел.
Глава 4
Мимо тебя люди владеют… мужики торговые о государских головах не смотрят… ищут своих торговых прибытков.
Из письма Иоанна IV Васильевича английской королеве ЕлизаветеГрад Москов. 4 марта лета 7091 от сотворения мира (1582 год от Р. Х.)
Пара саней лихо въехали в ворота и встали на дворе. Дюжие чернецы тут же затворили ворота на мощный дубовый засов. Мясоед встал из розвальней и, пнув шевелящийся мешок, развязал его. Показалась всклокоченная голова и мятое лицо человека, недавно вытащенного из постели, лишь властный взгляд серых очей выдавал в нем московита звания высокого, привыкшего повелевать.
– Что за разбой? Ты чьих будешь, холоп? – Голос его дрожал, но не от страха, а от гнева.
Мясоед размахнулся и отпечатал свою десницу на образе боярина, тот упал на одно колено, но взгляд дерзкий не опустил и страха в очах не явил.
Медленно, с расстановкой Мясоед произнес:
– Велением государя ты наш узник.
Тут впервые испуг тенью промелькнул на лице боярина.
– Государь разогнал вас, отродье воровское холопское! Вас уж десять лет как нет.
Двумя пальцами взяв боярина за подбородок, Мясоед наклонился к нему и, глядя прямо в очи, прошептал:
– Это для сволочи земской нас нет. А видишь ведь теперь, никуда мы не делись. Ты выступил на позорище свое в злодейском кове, и государь велел доправить ков сей и его участников. – Тут ужас проявился на лице боярина столь явно, что Мясоед громко засмеялся, так же двумя пальцами оттолкнул вмиг потерявшего уверенность и ставшего жалким боярина. Тот упал на спину. – В подклеть его!
Двое иноков тут же подхватили боярина под руки и поволокли через двор.
В подклети было жарко натоплено, на жаровне разложены разные инструменты, а у стены зловеще высилась дыба. Увидев ее, боярин жалобно заскулил. Два инока умело закрепили сыромятные ремни на руках и ногах пленника и, пару раз крутанув большое деревянное колесо, растянули его в полный рост и, не говоря ни слова, удалились. До ночи никто не появлялся. Ближе к полуночи дверь в подклеть распахнулась, и вошел Мясоед в сопровождении троих коренастых, наголо обритых узкоглазых кочевников и одного дьячка с книгой, напоминающей разрядную, под мышкой. Из кармана у него виднелись гусиные перья и наглухо закупоренная чернильница. Задремавший на дыбе боярин окинул вошедших взором и невольно сглотнул, во рту пересохло. Мясоед был одет в черный, шитый золотом кафтан с волчьим воротником, на груди на массивной серебряной цепи матово блестела искусно сделанная волчья голова. Вот уже десять лет ни боярин, да и никто другой на Москве не видел этого наряда.
– Все о винах твоих ведаем, боярин. Пришел срок ответ держать. – Голос Мясоеда был тих и вкрадчив.
– Это оговор татей уличенных! По Судебнику Иоаннову требую свидетельство дюжины свидетелей честных! – Голос боярина дрожал и срывался.
Мясоед усмехнулся, обнажив белоснежные зубы:
– Ты еще судных целовальников потребуй. На Судебник сей не ссылайся, боярин, он для земщины писан, а не для опричнины. Когда земская власть тебя испытывать будет, тогда им и прикрывайся, а у нас жалованная грамота от государя есть, по которой правим и вершим, от земщины и прочей сволочи потаенная. И о судьбе своей поразмысли, вспоминая, что я тебе тайну эту, ото всех сокрытую, поведал. – Мясоед, не оборачиваясь, махнул назад на своих коренастых спутников, которые тем временем скинули рубахи, оставшись в одних холщовых портах, и помогали друг другу облачиться в тяжелые кожаные фартуки, маслянисто блестевшие в неверном свете. – Это ногаи и татарин касимовский. Сули им что угодно, языку нашему они не обучены и ни слова не разумеют. – Опричник повернулся к дьячку: – Толмач, скажи им, пусть пару заволок ему на боках сделают, и пойдем до времени, не будем смущать их усердия.
Толмач, размахивая руками и пуча глаза, что-то пророкотал на диковинном гортанном наречии. Ногаи, внимательно выслушав, кивнули и принялись за работу. Повисла тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием сыромятных ремней и треском углей в жаровне. Еще раз окинув взором подклеть и испытав поникшего боярина очами, Мясоед вышел вон, за ним семенил толмач.
Скуластый ногай достал из ножен узкий дамасский клинок и принялся править его на ремне. Подклеть огласил густой свист стали. По телу боярина пробежала судорога, а очи его закатились, оголив белки.
Через пару часов Мясоед вернулся и знаком велел троице идти прочь. Те вышли из подклети, отирая пот со лба, на фартуках виднелись свежие бурые пятна. Боярин тихо стонал и выглядел жалко. Ночная рубаха во многих местах была порвана и прожжена, подол ее насквозь пропитался кровью, сочащейся из неопасных ран на теле, смрадный запах в подклети говорил, что боярин еще и осрамился. Мясоед брезгливо приложил к носу меховую рукавицу:
– Боярин Умной-Колычев, криводушие твое нам хорошо известно. Ты не боярин московский, усердный слуга государев, коим хочешь казаться, а крамольник и наушник литовский, холоп римского папы.
Боярин поднял затуманенный взор, волоса его слиплись от пота. Мясоед сменил вкрадчивый тон на грозный окрик и принялся будто хлыстом лупцевать пленника вопросами:
– Когда латинство принял? Сколько иезуиты тебе посулили сребреников иудиных за предательство веры православной? Кто с вором Курбским свел? Как грамотками с ним обмениваешься? Как московитов склонял мракобесию римскому предаться?
Дверь тихо скрипнула, в подклеть вошел игумен Афанасий, окинул взором каждый кут, положил руку на плечо Мясоеду и сурово проговорил:
– Довольно, сын мой. Вижу, и так уже старание преизрядное проявил. – И, повернувшись к боярину на дыбе, добавив чуть участия и ласки в голос, изрек: – Видишь, боярин, сподвижники какие – молодые, ретивые, чуть недоглядишь, уже и задавят человека, а я лишь поговорить с тобою желал в приватности, душу открыв и ничего не тая. Не держи на нас зла, но в палатах твоих мы розыск тайный учинили. За боярыню не бойся, ей сказано, что ты на богомолье уехал, если не дура – поверит и никому ничего иного не скажет. – В голосе прозвучали металлические нотки.
Боярин усердно кивал, пытаясь хоть что-то выдавить из пересохшего горла. Мясоед зачерпнул ковш теплой стоялой воды из кадушки в углу и поднес к устам пленника, тот жадно принялся пить. Через пару мгновений Мясоед чуть грубовато отдернул руку:
– Хватит уже. – Остаток воды он вылил боярину на голову.
– Переведи дух, боярин, а я тебе пока почитаю книгу одну занятную. В твоей опочивальне нашли. – Игумен достал из-под полы большой том.
Мясоед окинул обложку взором и заприметил пятна восковые, ранее уже виденные. Старец раскрыл в заранее заложенном месте и нараспев, будто Псалтырь, принялся читать звучным голосом:
– «Вскоре по смерти Алексея Адашева и по изгнании Сильвестра потянуло дымом великого гонения и разгорелся в земле Русской пожар жестокости. И, действительно, такого неслыханного гонения не бывало прежде не только в Русской земле, но и у древних языческих царей: ведь и при этих нечестивых мучителях хватали христиан и мучили тех, кто исповедовал веру во Христа и нападал на языческих богов, но тех, кто не исповедовал и скрывал свою веру в себе, не хватали и не мучили, хоть и стояли они тут же, хоть и было о них известно, хоть и были схвачены их братья и родственники. Но наш новоявленный зверь тут же начал составлять списки имен родственников Алексея и Сильвестра, и не только родственников, но всех, о ком слышал от тех же своих клеветников, – и друзей, и знакомых соседей или даже и мало знакомых, а многих и вовсе незнакомых, оклеветанных теми ради богатств их и имущества… За что же он мучил этих невинных? За то, что земля возопила об этих праведниках в их беспричинном изгнании, обличая и кляня названных этих льстецов, соблазнивших царя. А он вместе с ними, то ли оправдываясь перед всеми, то ли оберегаясь от чар, неизвестно каких, велел их мучить – не одного, не двух, но весь народ, и имена этих невинных, что умерли в муках, и перечесть невозможно по множеству их». – Игумен громко захлопнул книгу. – Вот что дружок твой Курбский пишет в «Истории» своей, на государя нашего клевещет, в тиранстве обвиняя. – Игумен глубоко вздохнул и, переведя дух, продолжил: – Печатный двор возобновить решил. Благословение митрополита под предлогом благостным выхлопотал. Вроде бы дело богоугодное книгопечатание на Москве поставить, дело печатника Федорова продолжить. Но Иван-то Федоров да Петр Тимофеев Мстиславец в Литву ушли. К князю Константину Константиновичу Острожскому. Вроде бы единоверец наш. Литвин, а закона православного твердо держится, латинян в Варшаве и Вильно обличает. Напечатал Иван Федоров у него в Остроге Библию, Острожской названную. Богоугодно? Вроде бы да. А если в тонкости войти? Полный список Ветхого и Нового завета, с которого сию Библию отпечатали, князь Острожский в Москве достал тайно через шпиона своего – государственного секретаря литовского Гарабурду. А сверяли они Писание с Библией греческой, которую в Острог прислал патриарх Константинопольский Иеремия прошлого лета. Можно ли доверять литвину, хоть и нашей веры, чьи шпионы у нас орудуют? А греку, живущему в Константинополе лишь из милости султана и постоянно с Римом сносящемуся, верить можно ли? Сколько раз византийские патриархи Риму предавались, напомнить? «Апостол», Федоровым на Москве еще напечатанный, наши иноки с древними книгами позже сверяли и искажения нашли. Книги древние, рукописные вернее будут. Предки заветам старины верны были. Иезуиты за всем этим стоят, они за ниточки дергают, а цель у них одна: через постепенное искажение древних книг наших к унии с Римом нас толкнуть, чего и многие крамольники бояре московские желают. – Игумен замолк и пристально взглянул на съежившегося под его взглядом боярина. – Запомни, боярин. Многомудрие излишнее ко многим скорбям ведет, а тебя уже привело. Все это от лукавого. Русским людям все эти измышления латинские и аугсбургские, законы все эти и прочие мудрования людские не нужны. Главное для них ревность о чистоте веры нашей, а закон у нас один – закон Божий, и мы его здесь блюдем. Машина эта печатная, иноземная на Москве впервые с Федоровым появилась, а он после литвинам предался. Прост ты. Думаешь, наши они, единоверцы. А это лишь с виду. Аспиды латинские. И машина эта, вроде бы для добрых дел пригодная, на самом деле нужна закон наш священный искажать да грамотки лживые печатать, народ простой баламутить. Писца-то не обманешь, да и по скорописи всегда сознать можно, чьей это рукой писано, а с машиной этой как узнаешь? Ее на дыбе не растянешь, не испытаешь с пристрастием. – Вздохнул и с нотками исповедника продолжил: – Все про тебя ведаем боярин. – Игумен достал из-за пазухи грамоту и далее говорил, сверяясь с ней: – Как доходы свои от потаенной доли в делах купцов Строгановых от казны укрываешь. Как за грамоту, государем восемь годов назад сим купцам жалованную, вперед с них взыскал, челобитчиком их облыжно назвавшись. Как на Двине англичанам товары продаешь, мимо мыта державного, писцы из холопов твоих под личиной благостной в Лондоне в «Московской компании» втемную делают преференции в торговле российской купцам аглицким и свою цифирь в их цены закладывают, чем тебе прибыток делают, а России убыль знатную. – Игумен замолчал и кивком дал слово Мясоеду.
– Видишь теперь. Дела все твои тайные ведаем. Правую руку твою намеренно не трогали. Напишешь все сам своей скорописью, без утайки. Сам теперь разумеешь – нам все ведомо, тебе только не все изъяснили. Вот и исповедуйся полностью, а мы проверим, открыл ты нам душу или упорствовать продолжаешь. Ежели продолжаешь – обвиним в чародействе, сам знаешь, что тебя ждет тогда. Кельей в пустынном монастыре не отделаешься. А ежели чист совестью будешь перед нами – отпустим грехи твои тяжкие и в тайне сохраним. Да, половину из доходов твоих серых, от казны утаиваемых, будешь на монастырь сей жертвовать, ревность о державе – забота недешевая. На левой руке пока рукавицу носи. Кто спросит, скажешь, на лов ходил неудачно, рогатина соскользнула, и медведь руку порвал. На исповедь отныне раз в месяц в это подворье являйся, духовника доброго мы тебе приищем. И еще… – Мясоед на мгновение замолк, уперев тяжелый взгляд в очи боярина и понизив голос, добавил со значением: – Про ков ваш государю уже доложено. Тебя сокроем через грамоту целовальную потаенную. Но пару писцов твоих, из тех, что с англичанами сносятся и язык их ведают, нам отдашь. Их испытывать особо не будут, за секреты свои не бойся, сразу повесят черни на потеху, а царю челобитную представят в верном свете. – Круто развернувшись, опричник и игумен вышли вон.
За дверью стоял дьячок, ожидая решения судьбы боярина Умного-Колычева.
– Позови ему лекаря, приведите его в божеский вид, обмойте, дайте квасу или меду хмельного, и пусть спит. А ночью вернете его в палаты. – Не дожидаясь ответа дьячка, Мясоед двинулся скорым шагом за игуменом.
Вместе они поднялись на каменную стену, надежно ограждавшую подворье. Уже занимался рассвет. С холма, на котором стояло подворье, открывался вид на всю Москву. Слева Яуза, впадавшая в Москву, обе затянуты толстым льдом, множество переправ-зимников через реку в Замоскворечье, справа величественный белокаменный Кремль. Насколько хватало глаз, до горизонта были видны крытые дранкой избы, каменные палаты, купола сорока сороков церквей. Постояли пару минут в молчании, жадно ловя первые солнечные лучи. Первым заговорил Афанасий:
– Еще одному крамольнику жало ядовитое вырвали. Будет сподвижником нашим тайным на целовальной записи. Государю верные нужны. А его верность железом каленым проверена и огнем запечатана. Враги государевы везде есть, кругом сокрыты. Вспомни митрополита Филиппа Колычева. Против воли нашей выступил, паписты его как слепое орудие использовали против опричнины. «Излишне щадил я вас, мятежников» – так государь ему тогда сказал. Пришлось его в судной палате уличить в тяжких винах и воложбе. Ну а после уж твой батюшка его в келье навестил. Отец твой, Мясоед, визию будущего для всей Руси имел на многие лета и даже века вперед. И не только для Московии, но и для Руси Западной – Литвы, под игом латинян стонущей. Государь наш богомолец, ему не до мирской суеты, потому я, отец твой, Алексей Басманов и прочие мужи верные на себя эти заботы взвалили, бремя тяжкое взяли, лишь бы государю нашему, человеку Божьему, ношу эту облегчить – он день и ночь за нас многогрешных Господа молит, приход антихриста оттягивает, ему не до мира низменного. – Игумен на минуту замолк, прошлое как явь встало у него пред очами. – Хороши были времена…
Грызи лиходеев, мети Россию! Открыто скакали мы по городам и весям с головами песьими и метлами крамолу выметать из Московии. По воскресеньям, не кроясь, обедню стояли с государем в соборной церкви Успения в кафтанах наших черных, на врагов страх наводящих. Были времена… С того же времени переменили мы кафтаны свои, метлы и головы песьи сокрыли. В книгах разрядных воеводы опричные просто дворовыми именоваться стали. Растворились мы для всех среди сволочи земской, сокрылись, как Атлантида древняя в пучине океанской.
Теперь же мы под покровом тайным, дела благие, государственные в тишине вершить нужно. Ни к чему людишкам нашим да иноземцам знать, кто кромешником государевым зовется. Потому и сокрылась опричнина в тень до времени, государь тогда избрал триста лучших – лихих и злейших. Мы стали его братией, а он нашим игуменом. Все это в уставе нашем сокровенном многомудром тогда же Алексей Басманов прописал.
Много орденов разных у папистов. Одни готовы огнем и мечом под римский престол нас подводить, другие, как иезуиты, через умствования да мудрования, людям звания непростого всегда любые, навязывают волю свою. Эти лукавые, с речами сладкими да книгами премудрыми, – самые опасные. А в Риме их поглавники сидят, донесения собирают.
Сидят там писцы, толмачи да подьячие, света белого не видевшие, зато книжной мудрости обученные изрядно, и ордена эти направляют, готовя приход Антихриста. И только наше царство истинное с верой чистой на их пути стоит. Потому и появилась опричнина. Наш орден, который будет биться со слугами сатанинскими – папистами до прихода архангела Михаила с воинством небесным. Покуда есть опричнина, Мясоед, будет стоять и Московия. Падет опричнина – падет и Московия.
Думаешь, везением случайным Московия и Тверь лукавую, и Рязань двуличную одолела? Нет. Дружина тайная суть опричнина у нас мощнее оказалась, потому и не устояли они супротив нас. Новгородцы своими ушкуйниками потаенными сильны были, а псковичи – сторонщиками, но и им мы хребет сломали. Иосиф Волоцкий окончательно довершил орден наш, смысл и цель труду нашему тайному придав вселенский, так что я с родителем твоим да Алексеем Басмановым нового ничего не зачинали, а лишь старое, наше исконное продолжили. А ведемся мы от кэшика – отборного тумена самого Чингисхана, ясу его многомудрую во всем мире утверждавшего. Вместе с ярлыком на великое княжение получили московские князья и этих ханских опричников во вспоможение. Учились у них. Были в кэшике и лучшие люди московские, потом искусство, там добытое, на пользу земли нашей обернувшие. Ветхий Рим пал от ереси Аполлинариевой, новый Рим – Константинополь, обладаем безбожными племенами агарянскими, а Третий Рим есть Москов! – Афанасий обвел взмахом десницы город, лежащий под ними.
Солнце уже взошло над Москвою, пронизывая морозный воздух яркими лучами. Внимая речам наставника, Мясоед и не приметил, что озяб изрядно, а борода его инеем покрылась. Отряхнув бороду от кристалликов льда, он размял руки, потянулся и потопал ногами, стремясь согреться. На плечо легла длань игумена, все еще тяжелая, несмотря на его лета преизрядные.
– Не нарушай благолепия, – пробасил Афанасий. – Смотри, утро какое. Ужимки свои медвежьи оставь. Внимай лучше да на ум крепко затверди, что толкую тебе.
Мясоед вновь принял вид внимательный, чуть склонив голову набок, и в почтительном ожидании замер.
– В землях латинских опасайся доминиканцев, – начал игумен, для убедительности поучения грозя указующим перстом. – Есть их соглядатаи и в аугсбургских землях. Если иезуиты – это суть наша опричнина внешняя, частью под личиной Польского приказа и купцов сокрытая, а частью под чужими личинами, на свой страх, в иностранствах всеразличных обретаются, то «Псы Господни» – это орден навроде наших кромешников внутренних, их служба тебе хорошо знакома, столько годов ее несешь. Берегись их, чего опасаться, знаешь. Но смотри, без робости лишней. И помни имена тех наших братьев, что от их рук пали. Кто тайно, а кто и явно через суд инквизиции и костер, проведенные по оглашению их еретиками публичному. Зелье подкинут, колдуном назовут – и готово. Сам знаешь. А тебе и подкидывать ничего не надо. – Старик выразительно похлопал по кафтану Мясоеда, куда тот сокрыл пузырек. Мясоед вдумчиво внимал, временами коротко кивая в знак разумения.
– Все затвердил, отче. – Голос его был глух и решителен, выдавая человека немногословного и сосредоточенного, которому чаще доводилось слушать и выполнять, нежели повелевать самому.
– Славно, сын мой. – Афанасий стал заметно веселее, высказав заранее задуманное и радуясь смышлености своего кромешника. – А теперь пойдем вниз, утро и вправду зябкое, согреемся утренней трапезой да в путь к государю загодя тронемся, опаздывать нельзя. Это государь только себе позволяет, да и то с целью благой – смирять нас, холопов его недостойных, ожиданием тягостным… Ну давай скорее, Мясоедушка, пока совсем тут с тобой не околели. – Игумен заторопился вниз, в сторону жарко натопленных монастырских келий.
Глава 5
Хотим держать государство Московское и великое княжество Литовское за одно, как были прежде Польша и Литва.
Когда буду вашим государем, Ливония, Москва, Новгород и Псков одно будут.
Если Богу будет угодно, чтобы я был государем польских и литовских панов, наперед обещаю Богу и им, что сохраню все их права и вольности и, смотря по надобности, дам еще большие.
Я о своей доброте и злости говорить не хочу; если бы паны польские и литовские ко мне или детям моим своих сыновей на службу посылали, то узнали бы, как я зол и как я добр.
Речь Иоанна IV на аудиенции послу литовскому Воропаю от лета 1571 от Р. Х. (7079 год от сотворения мира)
Послы московские должны говорить: государю нашему царское имя Бог дал, и кто у него отнимет? Государи наши не со вчерашнего дня, извечные государи. Если же станут спрашивать: кто же со вчерашнего дня государь? – отвечать: мы говорили про то, что наш государь не со вчерашнего дня государь, а кто со вчерашнего дня государь, тот сам себя знает!
Из поучения московским послам к польско-литовскому государю Стефану Баторию от лета 1581 от Р. Х. (7089 год от сотворения мира)Почему ты не приехал к нам со своими войсками, почему своих подданных не оборонял? И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает, а ты, орел двуглавый, прячешься.
Из письма Стефана Батория Иоанну IV Васильевичу от лета 1581 от Р. Х. (7089 год от сотворения мира)Град Москов. 5 марта лета 7091 от сотворения мира (1582 год от Р. Х.)
Иноки распахнули ворота монастыря. Сперва вылетели два верховых на статных гнедых жеребцах, за ними на укатанный снег Лубянки выкатился обитый для тепла мехом возок игумена Афанасия. Верховые принялись прокладывать дорогу, где окриком, а где и свистящей плетью разгоняя густую толпу, в этот час всегда снующую здесь.
– Ишь, многолюдье какое. – Игумен глянул в окно и занавесил его наглухо. Негоже земщине всякой уличной разглядывать, кто и куда едет по делам государственным. Не их ума это дело. Плавно идет возок на полозьях, и не трясет даже, не то что в летнюю пору. – Боязно? – Спрятав усмешку в окладистую бороду, Афанасий окинул взглядом заиндевевшего от трепета встречей предстоящей Мясоеда.
– Есть немного, отче. Я же государя нашего почитай с детства, с того дня, как клятву ему принес, так близко не видал. – Мясоед перебирал пальцами лестовку и, даже отвечая на вопрос, не прекращал про себя творить умную молитву.
– Отвлекись от молитвы. Послушай вот, что государю еще на подпись везу. Дорогою из слободы набросал наш ответ литвинам. – Игумен достал листы из-за пазухи и, поднеся близко к глазам, принялся читать: – «Царь и великий князь вместе с боярами решил, что многие литовские торговые люди приезжают в Москву лазутчиками. Приедут с немногими товарами и живут в Москве год, иногда и больше, живут будто для торговли, а на самом деле чтобы шпионить, и, собрав побольше сведений, уезжают в Литву…» Да ты не слушаешь! – Афанасий, гневаясь, хлопнул себя по колену, приметив отсутствующий взгляд Мясоеда.
– Слушаю, отче, изрядно внимательно. Даже могу сказать, что вас на писание это сподвигло. Строфа из сочинения Курбского злобесного, где он на государя нашего клевещет – «Затвори Русскую землю, спрячь свободное естество человеческое аки во адове твердыне». А сие ваш ответ супостату.
– Ты что ж, на память все его сочинения затвердил? С одного раза? – В голосе игумена послышались нотки восхищения.
– Так, запомнилась строфа сия просто. – В смущении от невысказанной похвалы Мясоед чуть зарделся образами и опустил очи долу.
– Памятлив, но скромен, – с приязнью помыслил игумен.
Возок слегка встряхнуло, и он остановился. Афанасий приподнял занавесь.
– Ого! Уже у Флоровских ворот. Мигом долетели, – не сдержал он удивления. Отвык в глухомани владимирских лесов от коротких московских концов. Кованые ворота степенно, с достоинством распахнулись. Возок шагом въехал на царев двор. Дверцу распахнул чернец:
– Отче, иезуиты уже прибыли.
– Где они?
– В советной палате.
– Вези нас туда, да не в саму, а в галерею, сокрытую черным ходником.
Два стрельца с пищалями тяжелыми у входа в палаты царские молодцевато взяли на караул. Игумен коротко кивнул им и в сопровождении Мясоеда поспешил за юрким чернецом, искусно ведшим их через многочисленные ходники, лестницы, горницы. Наконец вошли в нужную галерею, опоясывавшую советную палату. Задрапированная тяжелой материей, галерея была совершенно незаметна из самой палаты.
Остановившись у стрельчатой арки, выходившей на самый центр палаты, Афанасий приложил перст к губам и слегка раздвинул тяжелые парчовые занавеси – в пяти саженях от себя Мясоед увидел спины троих иноземных послов-иезуитов, что доставили весть добрую – дружество Стефана Батория, господаря Речи Посполитой. Перед ними на троне восседал государь. По левую руку от него на дубовой массивной лавке сидели бояре в тяжелых меховых шубах, по правую – на такой же лавке князья служилые. За троном стояли дворяне сверстные, а вдоль стен выстроились стольники и младшие дворяне. Всего до полтораста душ. Под сводами палаты разносился усиленный эхом глас государя. Он величественно рек послам-иезуитам:
– Антоний! Мне уже пятьдесят один год от рождения и недолго жить на свете. Воспитанный в правилах нашей христианской церкви, издавна несогласной с латинскою, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День суда Небесного уже близок: он явит, чья вера, ваша ли, наша ли, истиннее и светлее. Не говори, если не хочешь.
Толмач из Посольского приказа переложил речи Иоанна на язык латинский и приготовился ответ иезуита Антония Поссевина обратно на российский переводить. В этот момент один из сопровождавших папского посла братьев-иезуитов нагнулся к уху другого и прошептал, окинув взором всю палату:
– Сей двор яко смиренная обитель иноков, которая черным цветом одежд изъявляет мрачность души Иоанновой.
Второй, улыбнувшись уголками губ замечанию юного брата, едва заметно кивнул ему. Тут Антоний с живостью и жаром принялся излагать:
– Не мысли, о государь! Чтобы святой отец нудил тебя оставить веру греческую – нет, он желает единственно, чтобы ты, имея ум глубокий и просвещенный, исследовал деяния первых ее соборов и все истинное, все древнее навеки утвердил в своем царстве как закон неизменяемый. Тогда исчезнет разнествие между восточною и римскою церковию; тогда мы все будем единым телом Иисуса Христа, к радости единого, истинного, Богом установленного пастыря церкви. Государь, моля святого отца доставить тишину Европе и соединить всех христианских венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли его сам главою христианства? Не изъявил ли ты особенного уважения к апостольской римской вере, дозволив всякому, кто исповедует оную, жить свободно в российских владениях и молиться Всевышнему по ее святым обрядам, ты, царь великий, никем не нудимый к сему торжеству истины, но движимый явно волею Царя Царей, без коей лист древесный не падает с ветви?
Игумен Афанасий, склонившись к Мясоеду, с негодованием прошипел:
– Искусители дьяволовы и недобрых дел потаковники!
На это Иоанн отвечал иезуиту Антонию:
– Унять неверных желаю, но папа, император, король испанский, французский и все другие венценосцы должны прежде чрез торжественное посольство условиться со мной о мерах сего христианского ополчения.
Антоний с умиротворением на лице внимал эти речи, чуть щурился и кивал головою в такт речи государя.
– Про веру же не хотел бы говорить с тобою. Во-первых, опасаюсь уязвить твое сердце каким-нибудь жестоким словом; во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое есть дело нашего богомольца митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты поп и для того сюда приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие: мы верим Христу, а не грекам. Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим царством и не желаю никаких новых государств в сем земном свете, желаю только милости Божией в будущем.
Но ревностный иезуит желал дальнейшего прения:
– Вы новоуки в христианстве. Как учит святой отец…
Поучение его было прервано Иоанном:
– У христиан един отец – на небесах! Были папы действительно учениками апостольскими: Климент, Сильвестр, Агафон, Лев, Григорий; но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище как бы на облаке, как бы ангелам; кто живет не по Христову учению, тот папа есть волк, а не пастырь!
Тут уж Антоний не стерпел и в сильнейшем негодовании воскликнул:
– Если уже папа волк, то мне говорить нечего!
Смягчая голос, Иоанн ответствовал:
– Вот для чего не хотел я беседовать с тобою о вере! Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. – Государь поднялся с трона и, приблизившись, с лаской положил Антонию руку на плечо. – Теперь оставим. Католики вольны жить у нас по своей вере, без укоризны и зазору, сего довольно. С тобою к папе отправлю грамоту свою. С посольством. Пишу, что готовы участвовать в союзе христианских держав против оттоманов, но по вопросу веры рассуждать не будем. Послом Яков Молвянинов поедет. – С этими словами, одарив иезуитов черными соболями, Иоанн отпустил их с почестями.
Игумен тем временем нахмурился и прошептал Мясоеду с досадой в голосе:
– Не успели мы. Грамоту сию должны были мы составлять. Не нужен нам союз с латинянами, а вот смотри ж, бояре-крамольники успели свою бумагу раньше нас государю в руку вложить…
Тут за их спинами появился давнишний чернец и со словами «Государь ждет» проводил их в заднюю горницу, где принимал Иоанн круг свой ближний.
Поглаживая рыжую, в цвет волос матери бороду, Иоанн задумчиво провожал взглядом густо падавшие за окном хлопья снега. Игумен и Мясоед замерли у двери, почтительно склонив головы. На дворе грохнули три размеренных удара молотом, вырвав великого князя из раздумий тягостных. Развернувшись, он приметил, что, услышав незнакомые звуки, Мясоед разом напрягся, будто гончая. Тень улыбки скользнула по челу Иоанна Васильевича – не ошибся он тогда в выборе, хорошего волчонка в свою стаю верную нашел.
– Диковинка это одна, Мясоед. Часомерье[1] зовется. На всякий час ударяет в колокол без участия человека. Точности необыкновенной. – Государь на миг замолк и тут же продолжил, потаенное свое открывая сподвижникам верным: – Сызмальства мысль меня мучит и снедает. Управлять как надобно – любовью или страхом? Был мне сон вещий как раз перед тем, как Новгород и Псков к покорности привели, вольности их, к чужебесию наклоняющие, под корень извели. И вот вижу я врата пылающие, а перед ними архангел стоит, в очи мне смотрит и глаголет с суровостью, вроде и по-нашему, а все как-то по-другому: «Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел». Тогда-то и порешил окончательно с Новгородом. Свобода… – слово это Иоанн будто б выплюнул с омерзением, как червя, что с плодом сладким в уста человечьи обманом проникает, – это наваждение дьявольское, а нам единство нужно. Кромешники мои верные любострашие порождают, а народ наш таков, что любит лишь то, чего страшится поистине. Потому и отделил я опричнину с батюшкой твоим, Малютой верным, дабы она в народе любострашие насаждала. Ради единства нашего надо было утвердить на Руси суть смерти благую. Мы же как сопутники проводим народец наш грешный чрез духовное созерцание, умерщвляя плоть его. – Взгляд самодержца, устремленный ввысь, блестел безудержно, казалось, что око мелко-мелко и так же часто сотрясается внутри глазницы. Длинные тонкие подагрические пальцы скрючились, как будто он кокон невидимый вокруг себя разодрать трудился. – Долгие страдания приучают отвергать мирское, и разум, свободный от телесных мучений, открывает доселе ему неизвестное, душа народная воспаряет над землей многогрешной и соприкасается с энергиями божественными… Думаешь, не знаю, что брешут обо мне? Все ведаю. Да не знают пустобрехи сии, что епитимью эту страшную, но и великую, мы на себя взвалили, дабы Русь спасти от крамолы, а самих крамольников от мук вечных… Смерть от руки праведников кромешных есть дар Божий, избавляющий от мучений загробных. – Великий князь перевел взгляд на игумена. Изменился и тон голоса его, успокоился, пророческие ноты сменив на ласковые, он продолжил: – Труды твои, знаешь, ценю. Как Малюта десять годов тому назад сгинул в немецкой Украине – Ливонии, так ты мне его заменил. Пока мы с тобой живы, книгопечатен на Руси не будет. А потом? О будущем уже сейчас размышлять надобно. Погубитель латинства Лютер с верой своей аугсбургской так быстро ересь свою проширил, потому что книгочеи по всем землям латинским задолго до Лютера книги читали единообразные Эразма из Роттердама. Вот даже письма его и те напечатаны. – Иоанн взял со стола увесистый том с витым заглавием, готскими буквами написанным, Opus Epistolarum Erasmi, и потряс им: – Знаешь, что он тут про книгопечатни пишет, как их зовет? «Почти божественный инструмент». Вот как! Латиняне спохватились, да поздно. Есть у них Index Librorum Prohibitorum, куда они сочинения вредные вносят да сжигают вместе с авторами. Надо и нам индексы подобные загодя ввести, подготовиться к нашествию книг печатных, что опаснее степняков крымских может оказаться. Да только знать о сем индексе всем негоже. Знаю, что писцы твои да подьячии к русской летописной книге приставлены и следят неусыпно, чтобы разрядные дьяки все в ней на благо державы нашей излагали, если нужно, то и с ущербом для истины. Благо государства важнее. Для его величия в веках только и радеем. Но что в летописях по дальним монастырям пишут? Мне тут с Соловков выписки из летописной книги, что иноки тамошние ведут, доставили. Помнишь, когда Полоцк у литвинов взяли и всех погубителей Христовых под лед пустили на Двине? И верно сделали! А вот записей об сем нам иметь совсем и не надо. В главной летописной книге этого и нет – подьячии твои верно досмотрели, но на Соловках-то есть! Везде надобно смотреть, что писцы в летописи вносят, а если нужда есть – править новые списки, лишнее вымарывая, а старое уничтожать бесследно…
Иоанн, устав от столь долгой речи, примолк, глубоко вздохнул и сделал глоток воды колодезной из чаши. Игумен тихо кивал, соглашаясь с господарем, и, улучив миг тишины, быстро сделал запись в книжицу с нотицами, что всегда при себе имел. Убрав ее в потайной карман за пазухой, вымолвил:
– Все сделаю, государь. Чтобы правота наша во веки веков сомнению не подлежала.
Отрешась очами и, казалось, уйдя глубоко в думы сокровенные, Иоанн качал головою, десницей поглаживая бороду. Вспомнил! Вмиг раскрыв смеженные веки, вскинувшись и пристально глядя на игумена, спросил:
– Что с божьим человеком этим, Власом, что чернь на Москве баламутил да супротив меня настраивал?
Улыбка мелькнула только на лице Афанасия, ждал он вопроса сего и отраду испытывал от того, что есть что государю ответить.
– Божьего человека сего к покорности привели. Язык его теперь нам служит. Бояр проклинает, а тебя возвеличивает и молитвенником великим называет, коего лживые бояре в неведении держат.
– Любо, Афанасий. – Глас Иоанна сочился довольствием. Он повернулся к Мясоеду и, назидательно подняв указующий перст, изрек: – С народом говорить надо через божьих людей. Народ жалостлив и христорадников сих почитает. И верно делает. Речи их не от мира сего, а прямиком из Царствия Небесного произливаются в уши им, – взгляд Иоанна чуть блеснул лукавством, – да беда в том, что люди они преизрядно простого звания и уши мыть не все приучены, а оттого искажения в словах божественных получаются, а это есть грех большой. Вот игумен Афанасий, радетель державы нашей, и помогает им чем может да на путь, прямиком к истине ведущий, наставляет. – Государь потер чело рукою и, огладив бороду, оборотился к Мясоеду: – Значит, Тишиною теперь прозываешься, Афанасий сказывал. Норову твоему дикому не подходит. Афанасий тебя в путь наставил, это я ведаю. Копию статейного списка с наказами послу, что боярину Молвянинову выдали, попозже получишь. Изучи внимательно. Закончите в Риме то, что посол наш Истома Шевригин зачал. Мир с Речью Посполитой нужен был, чтобы пса Батория остудить и Псков спасти. А теперь нужно так союз с Римом выправить, чтобы враг наш Баторий, вассал султана турецкого, принужден был волю папы римского исполнять и хозяина своего, а нашего неприятеля исконного, царство Османское разрушить. Пусть враги ослабляют друг друга, как говорили римляне: «Раздором властвуй!» Говорите папе о союзе военном и политическом, вопрос унии же откладывайте, сказывая, что государь вам о том рассуждать не велел, бо тут вопросы политические разбираются, а не спор о веронауке. И вот еще что. Ежели спросят у вас, что такое московская опричнина, скажите: мы не знаем никакой опричнины, кому велит государь жить близ себя, тот и живет близко, а кому далеко, тот далеко. Все люди Божьи да государевы. А ежели скажут, будто я папу волком и хищником величал, отвечайте с достоинством, что этого не слыхивали, и от разговора сего уходите. Ако же лукавый иезуит Поссевин на то укажет и на уши свои сошлется, поясните, что толмачи дурно переклад делают с языка российского на латинский. Аще толмач то изъяснил, то с него за сие непременно господарь взыщет, дабы дурным своим умением и скудоумием не вносил омрачения в дела государевы. – Мясоед, внимательно внемля, в почтении склонился. Иоанн возложил ладонь ему на голову и шепотом на самое ухо добавил: – Вернешься, все как следует исполнив, пожалую тебя постельничим.
Волнения Мясоеда ничто не выдало, лишь на мгновение в очах мелькнул восторг от обещанной награды. Постельничий! Ему государь доверяет самое драгоценное – жизнь свою и своей августейшей семьи. Дружина особая у постельничего, лишь ему подчиняется и лишь об одном радеет: о безопасности государя. Почет великий у постельничего, но и ответственность преизрядная.
Вернулись в монастырь затемно. Иноки накрыли ужин игумену и Мясоеду в трапезной и оставили их, оберегая покой от досужей братии. Хлебая постные щи из горшочка деревянной ложкой, Афанасий продолжил поучение:
– Государь наш точно дитя невинное, сие просветление ему Господом даровано как награда за набожность его. Но от сей невинности и настроения случаются… – Афанасий понизил голос почти до шепота, показав, что речи его лишь для ушей Мясоеда предназначены. – Сверх меры верит государь иноземцам-латинянам, а наклонность к ним они своим лукавством коварным от царя нашего снискали. А для того мы есть вокруг государя, чтобы в сумраке тайны от настроений подобных его оберегать заглазно и корабль наш государственный направлять в сторону истинную. И без папы с его иезуитами уняли бы Батория, заслуга миссии Поссевина в мирном договоре том невелика. Нашли бы сами управу. Милостию Божией Покров Пресвятой Богородицы землю нашу хоронит и чужебесие заморское нам в помощь непотребно. Так что смотри, Мясоед. Урок трудный тебе испал. Посольствам в Риме должно и отца нашего государя ублажить, но и так извернуть, дабы практичного проку от затеи этой – дружбы с латинянами – не вышло. Сумеешь ли? – Афанасий пристально вперился сузившимися зрачками в Мясоедовы очи и продолжил: – А должен суметь. И государю приятным быть, и делу нашему общему ретиво и истинно службу сослужить. – На миг игумен замолк. Щи в его горшочке почти остыли, но он, казалось, позабыл о еде, одолеваемый думами куда более важными, нежели кормление плоти бренной. – А еще награда, что государь тебе посулил. Неожиданно это. Но может оказаться важнее всех иных целей твоей миссии. Никогда кромешник еще постельничим не был. Сумеешь им стать – тогда мы Русь в единый кулак разящий соберем и тогда не устоять супостатам, ни внешним, ни внутренним.
Игумен с грохотом вскочил с лавки, схватил за шиворот Мясоеда и потащил в дальний кут, где лампадка освещала суровый лик Спасителя. Бухнувшись на колени, Афанасий, а вслед за ним Мясоед принялись бить поклоны, оглашая трапезную сдавленным торопливо повторяемым шепотом:
– Долгая лета государю, долгая лета…
Глава 6
Турецкий царь Махмет-салтан великую правду в свое царство ввел, иноплеменник, да сердечную радость Богу воздал; да к той бы правде да вера христианская, ино бы с ним ангели беседовали.
Иван ПересветовИстанбул, 4 раджаба, 990 A. H. по Хиджре (25 июля 1582 года от Р. Х.)
Неровное пламя свечей освещает темные суровые лики, написанные на древних, почерневших от времени и копоти иконах. Отсветы огня бегают по низким давящим сводам и лицам двух мужчин – юного мальчика в алых шароварах и длинной домашней рубахе, перехваченной кушаком, и умудренного сединами мужа, облаченного в ризу священника.
– …Кирие элейсон! – возгласил муж, осенил себя крестным знамением, трижды поклонился, обернулся к мальчику, перекрестил его и принялся снимать облачение. – И не забывай: все, что ты слышишь в этих стенах, должно здесь и остаться. Ты привыкнешь к двоемыслию, это крест всех ромеев, наказание по грехам нашим. Только здесь ты – Мануил Нотарас, сын Луки Нотараса, наверху ты Сейфуллах, сын Ибрахим-бея, секретаря великого везира Кара-Мустафы, честный слуга дарованного нам Аллахом султана Мурада, османлия и мусульманин. Напоминаю, потому что твоя мать снова жаловалась на тебя – никакого греческого наверху, только османский. Среди слуг могут быть шпионы янычар.
– Да, отец. – Юноша почтительно склонил белокурую голову.
Затушив свечи, они вышли в соседнее помещение – обычный подвал богатого стамбульского дома, набитый снедью, тщательно замаскировали дверь в церковку – такие сокрытые базилики были во многих домах османов с ромейскими корнями, особенно вокруг бывшего собора Святой Софии, и поднялись наверх, где царила обычная утренняя суета – рабы, слуги, домочадцы. Один из них, отыскав глазами хозяина, стремглав бросился к нему и, согнувшись в глубоком почтительном поклоне, протянул запечатанный тяжелой сургучовой печатью сверток:
– Только что принес гонец из канцелярии великого везира.
Окинув взглядом печать и оценив важность и срочность, Ибрахим-бей после секундного раздумья скомандовал:
– Неси в библиотеку.
Безмолвно кивнув, слуга поторопился наверх, его же хозяин двинулся за ним более степенно и подобающе.
Яркий солнечный свет заливал большую просторную комнату, уставленную тяжелыми дубовыми шкафами с книгами на османском, латинском, греческом языках и на множестве варварских наречий. С азиатского берега ветер доносил степные запахи чабреца и тмина. Легкий бриз слегка колыхал занавеси, ведущие на большую террасу, куда и направился Ибрахим-бей. Летом его рабочий стол располагался именно там. Поудобнее устроившись и бросив взгляд вдаль – с террасы разворачивался вид на бухту Золотой Рог, где множество галер, окруженных сонмом утлых лодчонок, сновали туда и сюда, – он срезал печать и развернул сверток, достав оттуда ежедневную утреннюю корреспонденцию. Доклад старшего евнуха султанского гарема о новой ссоре Нурбану – матери султана – и его старшей жены Сафии. Повертел в руках, отложил в сторону, пока подождет. Что дальше… Успехи сипахов и янычар в боях против персов на берегах Каспия – тоже в сторону. А вот это интересно – доклад советника в крымском Сарае о поездке посольства крымского хана Магмет-Гирея в Московию. Бегло пробегая длинный текст, Ибрахим-бей глазами выхватывал наиболее значимые абзацы, особенное внимание уделяя тем мелочам, которые тщательно выспросил и записал османлия, состоящий советником при Магмет-Гирее.
«…Морок вокруг князя московитов все гуще, истину от лжи он отличает все меньше, в безумии и мракобесии погрязая. Старшего сына он извел, тем усугубив свои страдания. Средний сын – ныне наследник Феодор – болезнен и слаб, как докладывают соглядатаи из числа татар нам верных, на службе у Иоанна состоящих, наследник больше времени проводит, витая в облаках, чем в мире. Такой князь московский точно отдаст нам и Казань, и Астрахань. Иоанн даже в полубезумии опасен – он наклонен к англичанам, постоянно сносится с ними, а паписты убеждают его прибрать и Литву, объединив русские земли, и выступить вместе с Европой в Крестовый поход против нашего халифата. Посольство папы римского зимою обреталось в Москве, 21 февраля принимал Иоанн иезуита Антония Поссевина, и вот какие речи, нашими доушниками записанные и переданные, благосклонно Иоанн выслушивал:
«Сей желаемый тобою общий мир и союз венценосцев может ли иметь твердое основание без единства веры? Ты знаешь, что оно утверждено собором Флорентийским, императором, духовенством Греческой империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Исидором: читай представленные тебе деяния сего осьмого Вселенского собора, и если где усомнишься, то повели мне изъяснить темное. Истина очевидна: приняв ее в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой не достигнешь славы? Какого величия? Государь! Ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но и всю империю Византийскую, отъятую Богом у греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю».
Ибрахим-бей мельком посмотрел несколько страниц, пока его взгляд не зацепился за следующий абзац:
«Иоанн временами величает папу «волком и хищником», но дела важнее слов – в Рим с иезуитом Поссевином отправлено посольство московитов, вероятность союза неверных против султана постоянно растет, лишь противоречия западных и восточных христиан пока отвращают эту беду. Потому нужны наши усилия, дабы кафиры не соединились. В этом единомышленники наши невольные – московиты к Иоанну близкие, что лишь укрепляют его помрачение, все новые и новые заговоры изобличая и от союза христианского отвращая. Погрязнув в байках, они верят, что лишь они истинны и за это все вокруг ополчились на них. Эти умонастроения нам полезны, потому считаю, что халифат тайно и явно должен их поддерживать. Так, полезно было бы направить слугу султанова – патриарха Константинопольского в Москву, дабы укрепить ненависть московитов к Литве и церкви Римской».
Далее шли слухи и другая непроверенная информация, эти листы Ибрахим-бей нетерпеливо пролистывал, пока не дошел до последней страницы, где было всего несколько строк, зато написанных крупно, как-то подчеркнуто торжественно:
«Также Магмет-Гирей по совету нашему двух звездочетов Иоанну в подарок направил, для дальнейшего смущения разума его. А лазутчики наши, из числа казанцев, Иоанном обласканных и веру его для виду принявших, сообщили, что лекарь царский немец Елисей Бомелий, известный на Москве как волхв и отравитель, в страшные долги ими был загнан, а расписки его были на следующую бумагу, собственноручно им писанную, обменены – ее прилагаю отдельно и жду ваших распоряжений».
Свернув письмо, Ибрахим-бей взялся за следующую, уже потрепанную бумагу, озаглавленную по-немецки Mit Gift ertödten, а ниже привычной арабской вязью османского языка – перевод бумаги, оставшейся в оригинале у крымского советника:
«…Я, Елисей Бомелий, клянусь Пресвятою Троицею в том, что хочу отравить еретика и безбожника Иоанна Васильева, врага султана и всего мира, если же сего не сделаю и обману моего благодетеля Мурада III, то да буду навеки лишен счастья и покоя в Царствии Небесном и милости Господа Бога моего и единственного сына его И. Х., пролившего за нас кровь свою; да не буду иметь помощи от Духа Святого; да оставят меня все ангелы-хранители рода христианского; стихии мира сего, созданные на пользу человеком, да обратятся на главу мою; земля да поглотит меня живого; земные произрастания да будут мне ядом; да овладеет диавол телом и душою моею, и если даже, вздумав не выполнять своего обещания, потребую от отца духовного отпущения в сем грехе моем, то же отпущение да не будет иметь силы. Но нет! Воистину исполню слово свое и отравлю великого князя московитов холопа антихриста и врага веры христианской чернокнижника Иоанна Васильева сим ядом, уповая на помощь Божию и Святое Евангелие».
Усмешка тронула уста Ибрахим-бея. Он покрутил бумажку в руках и еще раз перечитал, после чего провел ладонями по лицу – от лба к подбородку и, продолжая держать их перед лицом, произнес с благоговением: «Хвала Аллаху, господу миров, сотворившему этот мир, где небеса держатся без опор».
Чуткий его слух уловил шаги на лестнице и мягкую, чуть шаркающую походку, которую он узнал бы из миллиона. Не оборачиваясь, он произнес:
– Абу Низам-паша!
Это был воспитатель наследника, тайный советник дивана, наконец, глава суфийского тариката, выходцем из которого был сам везир Кара-Мустафа. Его мало кто знал в лицо, но каждый о нем что-то слышал. Ничего определенного. Он почти не человек – он тень. Но тень самого султана. В ответ раздался тихий вкрадчивый голос:
– Ассаламу алейкум ва рахматулла ва барракатум, Ибрахим-бей.
Ибрахим-бей развернулся навстречу гостю и, произнеся: «Ва алейкум салам ва рахматулла ва барракатум», заключил пришедшего, пожилого крепкого пашу с цепким внимательным взглядом из-под густых седых бровей, в дружеские объятия.
Спустя пару минут они сидели, утопая в подушках, друг напротив друга. На низком столике между ними стояла шахматная доска с искусно вырезанными фигурками из слоновой кости, две пиалы с ароматным зеленым чаем и большой арабский кальян. Глубоко затянувшись и зажмурившись от удовольствия, паша выпустил из груди клубы опутавшего его дыма.
Бросив взгляд на заваленный бумагами стол, он с усмешкой заметил:
– Мой друг, вы будто славный халиф Мансур из времен Аббасидов начинаете свой день с донесений. Тот не пропускал ни одной депеши Барида, лично просматривал их все.
– Барида? – переспросил Ибрахим-бей, вскинув брови. – Впервые слышу это название.
Пожилой паша с кряхтением поудобнее устраивался на подушках.
– Загляните в сочинение почтенного аль-Истахри «Масалик ал-Мамалик». Там он подробно пишет о Бариде. Формально это была не более чем почтовая служба халифата. В реальности же сеть соглядатаев покрывала всю страну и не подчинялась никому, кроме султана. А полномочия этих невзрачных чиновников были безграничны. Можно сказать, Барид – это наш предок. Хотя справедливости ради замечу, что у византийцев мы позаимствовали куда больше. – Тонкая усмешка тронула уста Ибрахим-бея.
– Однако вернемся к нашей партии. Ибрахим-бей, я обдумывал свой ход в течение недели и теперь… – Абу Низам медленно потянулся к фигуре черного всадника и переставил ее на свободную клетку. – Мой конь угрожает вашему ферзю!
– Яхх! – Возглас восхищения вырвался из уст Ибрахим-бея, и он замер в сосредоточенной позе над доской, пристально гипнотизируя фигуры взглядом.
– Как ваш сын? – Паша откинулся на подушки и, казалось, весь ушел в созерцание чубука кальяна. – Вразумление ему сделали?
Ибрахим-бей очнулся от секундного оцепенения:
– Ах да. Благодарю вас за предупреждение, Низам-паша. Эти янычары с их фанатизмом просто невозможны.
– Вы же понимаете, что они нужны нам именно такими. Приходится терпеть небольшие неудобства ради вящей славы нашей. – На секунду паша умолк, на лице его промелькнуло смущение, которое он тут же скрыл лукавой усмешкой. – А все же мне интересно, Ибрахим-бей, как вы сочетаете в себе ромейскую ортодоксию и преданную службу султану и халифату во имя Аллаха милостивого и милосердного, почему ваша ромейская сущность не конфликтует со знатным придворным османлией-чиновником? Вы не давали ни малейшего повода усомниться в вашей верности, и тем интереснее услышать ваше объяснение.
– Боюсь, вам не удалось застать меня врасплох, о досточтимый паша. К этому разговору я готов с юности, но простите меня на минуту. – Ибрахим-бей пружинисто и ловко поднялся и вышел в библиотеку, откуда скоро вернулся с ветхим фолиантом, тронутым пылью и тленом. Он смахнул пыль и открыл том. – Это сочинение De Pace Fidei написано сто тридцать лет назад, в год падения Константинополя, Николой Кузанцем, кардиналом и папским легатом. Тогда же он прибыл к нам из Рима в последний раз и подарил этот трактат моему прапрапрадеду. Он не успел его прочесть, он погиб на стенах города, обороняя его от правоверных. Его сын, мой прапрадед, внимательно прочел трактат и завещание его отца, где тот наказывал сохранить нашу святую веру и служить Византии и ее народу, как бы она ни называлась, при любом правителе. Как и многие другие ромеи, мой прапрадед присягнул султану и произнес шахаду в присутствии двух свидетелей и присоединился к умме правоверных, одновременно с этим построив малую подземную базилику в подвале нашего дома, – паша, покачивая головой для ободрения собеседника, почти скрылся в клубах дыма, – а в этом трактате квинтэссенция миропонимания ромеев, которую визионер Кузанец приготовил для нас заранее. Вот, послушайте… – Ибрахим-бей поместил книгу на коленях и принялся читать на латыни, тут же переводя на османский: – «И узнают все, что одна единая религия существует в разнообразии обрядов. И если это различие обрядов отменить, пожалуй, невозможно и неполезно, так что пусть разнообразие служит возрастанию благочестия, когда всякая область своим обычаям служения, как бы более тебе угодным, будет воздавать тебе, царю, более ревностные почести, то, по крайней мере, как ты един, так будут едины религия и вероисповедание». – Он перелистнул несколько листов и продолжил: – «Все человеческие знания предположительны, Бог для человека непознаваем, истина недоступна разуму, не умеющему снять противоречия. Надо возвыситься над различиями и множественностью». – На миг Ибрахим-бей замолк, перелистнув вновь страницы, и бросил короткий взгляд на собеседника, чье сосредоточенное внимание совершенно успокоило его. Он продолжил чтение: – «Все люди книги почитают единое Божество во многих божественных образах…»
Паша, взмахнув рукой, прервал чтение и задумчиво повторил:
– Во многих божественных образах… Думаю, Шейхуль-Ислам сказал бы, что это противоречит Таухиду, но я вас понял, продолжайте, прошу вас.
Ибрахим-бей зашелестел страницами:
– «…Только тебе мы обязаны своим рождением и бытием, тебе, кого пытались познать все религии и называли различными именами, поскольку сущий ты непознаваем и неизречен». – Ибрахим-бей закончил чтение и трепетно закрыл книгу. Отложив ее в сторону, он выпрямился, заложил руки за спину и устремил взгляд вдаль, на бухту Золотой Рог. Чуть помолчав, он продолжил: – Византия вечна. Обрядовость и форма не важны, как и название. Всевышнему угодно, чтобы все земли управлялись его наместником отсюда. Универсалистская сущность халифата есть то же, что и Ромейская империя. Повисло молчание. Ибрахим-бей, взявшись двумя руками за портик балкона, глубоко вдохнул свежий насыщенный морской солью бриз с Геллеспонта.
– Это столица мира, как бы она ни называлась. Космография, сочетаемая с политикумом, определяют сущность и природу держав. Иными словами, все это по воле Аллаха.
Спустя пару минут паша отложил кальян и, отодвинув шахматную доску, положил на стол бумаги:
– А теперь к делам. Ибрахим-бей, я вижу, что вы по праву занимаете свой пост при дворе, и сегодняшний отвлеченный наш разговор я начал не случайно. По сути, мы его продолжаем, только лишь в практической плоскости. Вы читали сефаретнаме[2] из Крыма в утренней рассылке канцелярии великого везира?
Ибрахим-бей утвердительно кивнул.
– Вы один из лучших специалистов в халифате по варварским народам, в частности, по ранее подконтрольным Византии московитам. В последние десятилетия они серьезно усилились, потеря Казани и Астрахани вопрос периферийный, хотя и болезненный для нашей гордости, а вот их дипломатическая активность в Европе всерьез нас настораживает. Зачитаю вам один документ, вы его не видели, он из моего личного архива, написан одним австрийским эджнеби[3], взятым нами в плен на Дунае и принявшим ислам. Слушайте… – Паша достал лист тонкой белоснежной бумаги из кипы документов и принялся вполголоса читать, с трудом разбирая бисерный почерк писца: – «Январь 1576 года от рождества пророка Исы. Князь московитов Иоанн встречает в Можайске австрийских послов Яна Кобенцеля и Даниила Принца. Император Максимилиан молил Иоанна словом и делом, грамотами и мечом помочь в возведении его племянника Эрнеста на трон Речи Посполитой и не воевать Ливонии, области, издавна принадлежащей к Священной Римской империи. Тогда, говорили послы, вся Европа христианская заключит союз с тобою, Иоанн, чтобы одним ударом, на морях и на суше, низвергнуть великую державу оттоманов. Вот подвиг, коим ты можешь навеки прославить себя и Московию! Изгоним оттоманов из Константинополя в Аравию, искореним веру Магометову, знамением креста снова осеним Фракию, Элладу, и все древнее царство Греческое на восход солнца да будет твое! О царь великий! Так вещает император, святой отец папа и король испанский». – Паша закончил чтение и, оторвав взгляд от бумаги, сдвинул кустистые брови и продолжил: – Тогда у них не вышло. Во многом благодаря нашим действиям. Но помог нам лишь случай. А подобных попыток все больше, Иоанн сносится со всеми европейскими государствами, а теперь вот уже второе за два года посольство едет в Рим к папе. Это тенденция. Очевидно взаимное притяжение. Пока мы удерживаем их на расстоянии лишь благодаря усилиям друга и вассала Высокой Порты Стефана Батория. Но Речь Посполитая – непредсказуемый регион. Ведь и в Варшаве есть искренние сторонники среди шляхты идеи возведения на престол древних пиастов Иоанна. Сценарий маловероятный, но возможный! А это значит, что под руку Москвы уйдут и Литва, и Польша, и Ливония! – Низам-паша замолчал, морщины прорезали его высокий лоб. – Ибрахим-бей, дайте вашу характеристику слабых мест князя Иоанна. – Что ж, – протянул хозяин дома, выгадывая пару секунд на размышления, – сразу скажу, что это импровизация, возможно, что-то я могу упустить, нужно поработать в архиве с донесениями… Но начнем с высокомерия. Он требует величать себя не великим князем, а царем, так как вывел родословную от Августа Кесаря. Вот что пишет он шведскому королю Юхану III – наш соглядатай в Швеции купил копию письма у личного слуги короля… – Ибрахим-бей зашелестел бумагами, разложенными на столе, и, выудив искомую, зачитал: – «А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы – так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой – бесчестье».
Закончив чтение, Ибрахим-бей поднял глаза на гостя, тот с усмешкой хмыкнул, знаком приказав продолжать. Ибрахим-бей с почтением кивнул, прочистил горло и, сделав глоток воды, начал дальше:
– «Его высокомерие – серьезное препятствие для налаживания конструктивных связей с Европой. Большая часть европейских дворов не идут в вопросах этикета и протокола на уступки диким московитам, лишь изредка, по большой необходимости потакая их самомнению. Следовательно, если мы будем исподволь и напрямую поощрять князя Иоанна в этом, то укрепим его гордыню и усложним их сношения с Европой. Как это сделать… Ну, например, московиты давно алчут для своей церкви патриарха. Возможно, стоит приказать рабу султана – вселенскому патриарху Ромейской церкви дать им искомое – позволить им называться автокефальной церковью со своим патриархом. Это усложнит и возможный компромисс с Римом. Впрочем, он умеет идти на компромисс. Так, в переписке с Римом он начинает свои послания с молитвы Святой Троице, что естественно для латинян, но совсем необычно для греков и московитов. Эта готовность к согласию в вопросах веры в сношениях со святым престолом – тенденция угрожающая. Далее. Суеверие и мнительность…»
– Достаточно, Ибрахим-бей. – Паша с улыбкой поднял ладони вверх. – Вы крупнейший наш специалист, и я вижу, что не ошибся в своем выборе. Но у меня мало времени, к сожалению, пора ехать на доклад к султану. От лица мухабарата Османской империи, к которому с недавних пор и вы имеете честь принадлежать, прошу вас к завтрашнему утру подготовить доклад для совета мухабарата по ситуации в Московии и прогноз на тот случай, если мы примем предложение этого доктора Бомелия. Завтра вечером соберется совет. Вероятно, он примет то решение, что предложите вы. Послезавтра на основе решения совета будет издан секретный фирман султана. – Тут серьезность на лице паши сменилась лукавой улыбкой. – Янычары думают, что они диктуют свою волю, и диван так думает, даже евнухи гарема уверены, что султан лишь игрушка в их руках. Все они ошибаются. Султан – тень Всевышнего и хранитель веры, он символ и солнце, что освещает нам путь, он наше сердце. А мы, мухабарат, сокрытые в тени нашего солнца, – это мозг. И вот мы с вами, любезный Ибрахим-бей, тут за этой шахматной доской творим историю и формируем будущее. И султан, и везир поступят так, как посоветуем мы. При этом диван будет думать, что это янычары, те будут грешить на евнухов, которые даже не поймут, что что-то произошло, а мы, как всегда, в тени. Удобно, когда тебя нет, но немного печально. – Паша двумя руками поднял пиалу с зеленым чаем и осушил до дна одним махом. – Да, гибнут наши имена! – Он торопливо поднялся, собрал бумаги и еще раз напомнил: – Завтра утром жду ваш доклад.
Проводив гостя, Ибрахим-бей заперся у себя в кабинете, и вот какой текст на следующее утро читал Абу Низам-паша.
ДОКЛАД ИБРАХИМ-БЕЯ СОВЕТУ МУХАБАРАТА
После гибели Византии в 1453 году от рождения Пророка Исы московиты, всеми силами стараясь легитимизировать и максимально удревнить свое княжество, не считаясь со своим вассальным статусом по отношению к Крымскому ханству, объявили о том, что они наследуют Византии. Около 60 лет назад из стен псковского Спасо-Елеазарова монастыря вышла доктрина «Москва – Третий Рим» – «Два Рима пали, а четвертому не бывати». Данная доктрина не была замечена вне пределов Московии, однако внутри княжества она стала основополагающей для значительной части элиты.
До последнего времени рост амбиций Москвы удавалось контролировать, используя непомерную гордыню Москвы как инструмент для их же изоляции. Стоит отметить успешную операцию во времена везира Мехмеда Соколлу[4], повлекшую за собой вербовку видного московита литовского происхождения Ивана Пересветова, втайне принявшего ислам и вернувшегося в Московию. Там он подготовил идеологический документ, который должен был обеспечить благосклонность Московии к халифату. Отметим, что для нынешнего великого князя Иоанна эти наставления также были определяющими, однако далеко не в полном объеме, хотя до сих пор он хранит их в своем столе и перечитывает. О том, какое влияние на московитов до Иоанна имел халифат, говорит хотя бы такой факт. Их диван, названный собор, в своем решении говорит отдельно о запрете «тафей безбожного Махмета» (Аста-фируллах, Аста-фируллах, Аста-фируллах). Небольшая, но показательная иллюстрация о влиянии халифата на нравы московитов, однако в последние десятилетия оно стремительно падает.
Князь Иоанн тяготеет к Европе, постоянно сносится со всеми европейскими дворами, при этом и Европа, и Московия стремятся к союзу, направленному против халифата. Разделяет их политически лишь вопрос Речи Посполитой, но ситуация внутри этой унии Польши и Литвы сложна и постоянно меняется, у Иоанна лично и у Московии там много сторонников. На данный момент Стефан Баторий лоялен султану и враждебен московитам, но сделать по этой державе долговременный прогноз невозможно. Идеологически более тесному союзу московитов с Европой мешает вопрос веры, однако тенденция последних десяти лет говорит о том, что возросшая дипломатическая активность позволит решить эти вопросы, и тогда халифат будет иметь перед собой единый христианский фронт. При этом внутри Московии есть серьезная прозападная партия, наклоненная к латинской вере и унии. Им противостоит партия, наследующая идеологу, создателю концепции «Москва – Третий Рим», монаху Филофею, отрицающая какие бы то ни было компромиссы и выступающая за изоляционизм. Исключение фактора князя Иоанна в обозримом будущем приведет к следующему эффекту.
Власть формальная перейдет к слабому наследнику Феодору. Власть реальная – к некоему регентскому совету, возглавить коий может видный вельможа и государственный деятель Борис Годунов – брат жены Феодора. Это приведет к усилению сокрытой до времени под видом монастыря опричнины (московский прообраз примитивного мухабарата), ненавидящей боярство, особливо наклоненное к латинству. Сегодня их сдерживает лишь Иоанн, использующий бояр и опричнину как две опоры своей власти, которые в постоянной вражде друг с другом нуждаются в нем как в верховном арбитре. Опричнина считает себя наследницей ясы Чингисхана. Такая внутренняя доктрина не позволит им найти компромисс с римским папой, германским императором или любым другим европейским центром силы. Наоборот, их приход к власти ослабит Московию, и тогда с помощью Речи Посполитой и крымского хана халифат может как минимум вернуть Казань и Астрахань в сферу своего влияния. Исходя из этого, считаю, что сценарий, предложенный нашим посланником в Крыму с использованием доктора Бомелия для нейтрализации князя Иоанна, является оптимальным и должен быть реализован в ближайшие два года после необходимых подготовительных мероприятий.
Также в ближайшие десять лет для нейтрализации угрозы Московии необходимо:
Отправить константинопольского патриарха в Москву. Московиты еще за пять лет до падения Византии провозгласили в гордыне своей и неприятии Ферраро-Флорентийской унии Византии с Римом автокефалию своей церкви и стали сами поставлять митрополитов, не сносясь с константинопольским вселенским патриархом. Надо даровать им ее официально. Это усилит их непомерную спесь и гордыню и воздвигнет непреодолимые преграды в заключении союза с Римом, а также осложнит отношения с Литвой – той частью Речи Посполитой, где народ, как и московиты, исповедует в основном восточно-христианскую ортодоксальную веру и говорит на славяно-русском наречии.
Стефан Баторий должен заложить в Речи Посполитой фундамент будущего отношения к Московии. Именно Речь Посполитая должна будет серьезно ослабить, но ни в коем случае не поглотить Московию и может даже дать ей новую династию (Феодор слабоумен и, очевидно, бесплоден, а младший сын Иоанна – Уар, или Дмитрий, пока еще очень мал). Речь Посполитая – яблоко раздора Московии и Европы. Наша глобальная цель – усугубить их противоречия, сделав их нерешаемыми и непреодолимыми. Divide et Impera. Дабы союз Европы и Москвы стал невозможен в принципе.
Сменить в Крыму хана Магмет-Гирея, как имеющего склонность к своеволию и наклонность как к Литве, так и к Московии, на его брата Ислам-Гирея, менее популярного, а оттого более зависимого и преданного Великой Порте. Придать Ислам-Гирею для поддержки корпус янычар, одновременно тем самым уменьшив их количество в Истамбуле до уровня, исключающего их неподконтрольность.
Глава 7
Ум острупися, тело изнеможе, болезнует дух…
…А что по множеству беззаконий моих, Божию гневу распростершуся, изгнан есмь от бояр, самоволства их ради, от своего достояния, и скитаюся по странам…
Завещание Ивана IV Васильевича от лета 1572 от Р. Х. (7080 год от сотворения мира)Град Москов. Кремль. Весна лета 7092 от сотворения мира (1584 год от Р. Х.)
Повисла густая, осязаемая тишина. Казалось, пространство вокруг состоит не из пустоты, а из звенящего хрупкого хрусталя. Оцепенение тишины рассыпалось на тысячи мелких осколков, ее разбил огласивший стены Кремля крик: «Не стало государя!» Он эхом полетел по палатам, охватывая древнюю твердыню, будто пламенем, бабьим воем и визгом.
Третьего дня в ночь между церквами Иоанна Великого и Благовещения явилось на небе знамение огненное – крест пылающий. Иоанн Васильевич с людьми близкими вышел на красное крыльцо и, узрив чудо сие, застонал и, прикрыв очи ладонью, прошептал:
– Вот знамение моей смерти!
Наутро он занемог и тут же отправил любимца своего Бельского и постельничего Вислого толковать о знамениях к прорицателям, коих он собрал в специальной избе до пяти дюжин. Были там астрологи с Востока, волхвы из дальних лесных закутков Руси и даже из Лапландии. Те прорекли ему смерть на третий день. Государь принял сие мрачное послание смиренно, созвал бояр и велел писать завещание.
Утром третьего дня, взяв теплую ванну, ему стало лучше. Он повеселел и, позвав Мясоеда, рек тому:
– Объяви казнь лживым прорицателям, ныне, по их басням, мне должно умереть, а я чувствую себя изрядно бодрее.
Мясоед кивнул и приказал устанавливать чаны медные на площади Красной. «Сварим нечестивцев богомерзких на потеху и в назидание московлянам», – решил он, вспомнив виденное в отрочестве. Но не успели изготовить чаны кипятильные, как от Бельского, запыхавшись, прибежал гонец доверенный с мрачной вестью. Чуть переведя дух, он выпалил:
– Отходит государь, соборуют его.
Мясоед бросился в царскую опочивальню, но в дверях столкнулся с митрополитом, печально покачавшим головою.
К следующему утру Мясоед опросил двух лекарей московитских, неотступно бывших с государем, и одного англицкого доктора. Бабкой-знахаркой пренебрег. Не могли найти только Бомелия.
Перерыв бумаги в своей горнице, Мясоед нашел список с доклада Таубе игумену Афанасию годичной давности. Так и есть! Курбский умирал три дня – сначала тяжкий огненный недуг, а после гниение в нутрях. Слово в слово как лекари про государя сказывали. Очи Мясоеда сузились. Не оборачиваясь, он поднял руку и поманил инока, мявшегося в дверях.
– Да, Мясоед Малютович. – Голос решительного человека, привыкшего повиноваться лишь одному хозяину.
– Бомелия нашли?
– Нет.
– Дворня?
– Двое из близких холопов на дыбе выдали, что злодей отъехал в сторону Литвы. После испытания с пристрастием припомнили, что водился он с крымчаками, что с посольством хана крымского на Москве два года назад были.
Мясоед шумно выдохнул. Взмахом руки отпустив инока, стал собираться к игумену на доклад. Тяжко на душе. Ох, прав был покойный государь, червь крамолы везде проник, никому веры нет. Истово осенив себя крестным знамением и сотворив три земных поклона перед образом
Божьей Матери, Мясоед круто развернулся и двинулся в сторону улицы. Страх встретиться взглядом с игуменом и услышать его обличения сковывал все нутро морозом. «Пойду пешим!» – решил он. Вроде рядышком, а все подольше оттянуть пугающий миг. Про себя он непрестанно твердил Исусову молитву: «Господи Исусе Христе, сыне Божие, помилуй мя грешнаго!»
Стая воронов с карканьем поднялась с нарядных луковичных маковок церковки в середине Никольской и устремилась ввысь. В лохмотьях, сквозь которые проглядывают ржавые вериги и худое, грязное, покрытое нарывами да язвами тело, сидит на паперти уродивый Влас, человек божий. Очи затянуты бельмами, и оттого-то на Москве сказывают, он дня сегодняшнего не видит, зато грядущее прорицает. Миска с медяками – копейками да полушками, – стоящая перед ним, наполнилась быстро. Звонко щелкают монетки одна об другую – любят московляне своего Власа и верят ему. Вот и сейчас столпились, сгрудились вокруг нищего, на лицах испуг, голосят, толкаются, вопрошают, перебивая и перекрикивая друг друга:
– Что ж с нами сиротами теперь будет, когда батюшка и заступник наш великий князь Иоанн Васильевич преставился?
Воздев невидящие очи к небу, где вились вороны, Влас поднял десницу, и толпа враз смолкла, затаив дыхание. Уродивый начал почти что шепотом, постепенно повышая голос:
– Выпил сей Аполлион вино ярости Божией, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере, ибо не раскаялся он в убийствах своих, в чародействах своих, в блудодеянии своем и в воровстве своем. – Голос его, постепенно усиливаясь, теперь гремел на всю Никольскую, прохожие оборачивались и протискивались поближе, стараясь украдкой хотя бы на мгновение перстом прикоснуться к рубищу святого человека. – Святой Божий град наш Москов он духом полыни напитал, во власть саранчи отдал, не в Третий Рим, а во второй Вавилон блудливый превратил. Сделался он жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем нечистой и отвратительной птице о двух головах, неприродной и богопротивной, что в Кремле гнездо свила. – Влас на миг замолк, и по толпе прокатился вздох охватившего всех трепета. И тут голос его загремел втрое сильнее: – И за то в один день… Придут на нас казни, смерть, плач и голод… И будет сие гнездовище сожжено огнем… Потому что силен Господь Бог, судящий тех, кто Аполлиону наследует…
Звенящую тишину разорвал выстрел. Влас схватился за грудь и с хрипом повалился на паперть, лохмотья тут же пропитались алым. Толпа вмиг ожила, заволновалась, загомонила. Засунув малую ручную пищаль с еще дымящимся дулом за кушак, дюжий молодец в черном кафтане и волчьей шапке, локтями расталкивая толпу, выбрался на простор Никольской, бормоча себе под нос: «Бесовский отметник». Несколько мужичков было попробовали остановить злодея, да только он их таким взглядом полоснул, так очами ожег, что они сразу же назад подались, на несколько шагов отшатнулись.
Холодная усмешка скользнула по челу Мясоеда. Одними губами прошептал:
– Назад, сиволапые.
Толпа словно онемела, поникла, запахла и вмиг пропитала воздух страхом. Мясоед повел ноздрями, уловив этот едва чуемый смрад трусости человеческой, еще раз обвел осунувшихся людишек тяжелым взглядом и, убедившись, что ни у кого дерзновения нет очи горе поднять, развернулся и неторопливо двинулся в сторону Лубянки.
Февраль 2015 – ноябрь 2016
Запах земляники
Очень многие люди обоего пола пренебрегли собственным спасением и, отвратившись от истинной веры, впали в плотский грех с демонами инкубами и суккубами и своим колдовством, чарованиями, заклинаниями и другими ужасными суеверными, порочными и преступными деяниями причиняют женщинам преждевременные роды, насылают порчу на приплод животных, хлебные злаки, виноград на лозах и плоды на деревьях, равно как портят мужчин, женщин, домашних и других животных.
Из буллы папы Иннокентия VIII. Summis desiderantesЭта ересь отличается и тем, что из всех видов кудесничества она обладает наибольшей степенью злобы. Ведь даже ее латинское наименование – maleficium происходит от maleficere, то есть male de fide sentire (по-русски: «дурно относиться к вере»).
Malleus Maleficarum / «Молот ведьм»In his ordo est ordinem non servare[5].
Плавно несет свои воды величественный и древний Дануб, ныне называемый Дунаем. Огибает он тянущуюся на сотню миль, покрытую девственным лесом Фруктовую гору. У подножия горы, на склоне, спускающемся к реке, уютно примостился маленький городок. На деревянной табличке, прибитой к столбу на обочине запыленного тракта, там, где он входит в город, аккуратно выведено ломаными строгими буквами его название – Karlowitz. Если смотреть сверху, со склона горы, то он напоминает игрушечный – множество шпилей, опрятные сады, черепичные крыши. А стоит спуститься вниз и войти на мощенные камнем улочки, как путника окутает аромат города – въевшийся в крыши и стены чад угля, миазмы и испарения, исходящие от тел множества людей и животных, манящие запахи жарящегося мяса и кислой капусты, вина и пива, тянущиеся из таверн, приторный дурман ладана и сотен свечей, витающий вокруг церквей. Смешиваясь воедино, они образовывали своеобразный, ни на что не похожий аромат, который обнимал и пронизывал весь город.
А вот небольшой домик с приветливо светящимися окошками на Дубовой улице. Домик стоит не сказать чтобы в центре, но и не на окраине. Где-то посередине. В нем живут бабушка и внучка, Ангелина и Сунчица. В камине весело трещат поленья, шипит смола, бабушка ставит на огонь котелок с ключевой водой. Хорошо вечером выпить липового чаю, чьи засушенные цветы висят пучками под потолком и пьяняще благоухают. Привкус корицы, тмина, мяты и прочих сушеных трав, казалось, насквозь пропитал стены домика. Тут же у камина пристроилась и внучка. Спрятав тугую льняную косу подальше от пламени, она вышивает в его свете. Стежок за стежком игла с шелковой нитью так и летают в ее юрких, умелых пальчиках, и на полотнище, как живой, проступает сидящий на дереве бельчонок с кедровой шишкой в лапках.
Напившись чаю, бабушка прибрала со стола и, изображая строгость, но продолжая лучисто улыбаться уголками рта, сказала своим ласковым певучим голосом, повернувшись к внучке:
– Сунчица, пора спать, завтра у нас с тобой много дел, ты не забыла?
Подняв голову от вышивки, девчушка, прищурившись, спросила звонким голоском:
– Бабушка, а ты расскажешь мне сказку?
– Ну конечно же, внучка! Разве можно засыпать без сказки? – всплеснула руками Ангелина. – Обязательно расскажу!
– А почему нельзя засыпать без сказки? – Сунчица лукаво склонила голову на плечо.
– Потому что во сне человек беззащитен, а сказка отгоняет злых духов, – бабушка погладила девочку по головке, – и защищает того, кто ее слушал, внученька.
Укрыв Сунчицу, крепко обнявшую плюшевого мишку по имени Пухатик, теплым лоскутным одеялом, Ангелина подоткнула уголки, притушила свечи и принялась рассказывать сказку:
– Далеко-далеко в Исполиновых горах живет князь гномов по имени Рюбецаль. Царство его невелико, зато очень глубоко – на восемь сотен миль уходит оно к недрам земли. Рюбецаль любит бродить по своим владениям, осматривать неисчислимые богатства в подземных кладовых, приглядывать за своими подданными – гномами-рудокопами, да расставлять их – кого на добычу злата, кого на кузню, а кого строить прочную дамбу, чтобы сдержать огненную стихию и не дать ей вырваться из недр земли…
Голос бабушки обволакивал и убаюкивал, и скоро уже Сунчица сладко спала, положив ладошку под голову, и видела во сне дальние неведомые страны и кряжистых гномов, куда-то идущих сквозь вековой лес всей артелью, распевая тягучую, протяжную песнь на древнем языке…
– Вставай, соня. – Бабушка погладила Сунчицу по головке. – Уже утро, ты помнишь, что сегодня мы идем с тобой в лес?
Девочка сладко потянулась, на миг прижалась к бабушкиной руке, пахнущей земляникой, и спрыгнула с высокой перины. На крепком дубовом столе уже поджидал аппетитный завтрак – кувшинчик парного молока, мед, орехи, сушеный чернослив и свежая сдоба с начинкой из лесной земляники и хрустящей корочкой только что из печи.
Выйдя из дома и прикрыв дверь, Ангелина проводила взглядом шмеля, деловито прожужжавшего мимо. Уставившись ему вслед, она на миг о чем-то задумалась и, повернувшись к Сунчице, сказала:
– Знаешь что, сбегай-ка в огород и прихвати пару морковок.
Сунчица подняла глаза, полные удивления, на бабушку:
– Зачем нам в лесу морковка?
– Почему-то мне кажется, что она тебе сегодня пригодится, – задумчиво ответила Ангелина.
По дороге Сунчица весело скакала вокруг бабушки, танцевала с лукошком в руках, сплела венок и нарвала букет луговых цветов. Город остался далеко позади, а тропка, что вела их в сторону леса, причудливо вилась по склонам Фруктовой горы.
– Бабушка, бабушка, а откуда взялись горы? – спросила запыхавшаяся от подъема в гору девочка.
– Горы… – Бабушка, казалось, задумалась. – Создатель мира встретил белую утку, – начала она нараспев, – в изначальном море и приказал нырнуть ей на дно и принести ила для создания суши. Часть ила утка утаила в клюве. Когда земля вырастала из воды, утаенное стало болотами и горами… – Бабушка на секунду смолкла. – По крайней мере, так рассказывали в деревне, где я выросла…
Сунчица внимательно слушала, притихнув.
– А как называлась твоя деревня, бабушка?
– Драговицы, внученька. Это ниже по течению Дуная.
Невдалеке от опушки дремучего леса бабушка с Сунчицей встретили только что вышедших из чащобы охотников, пыхтевших от натуги под тяжестью освежеванной туши клыкастого вепря, за ноги привязанного к хворостине, лежащей у них на плечах. Опустив ношу на землю, охотники утерли пот и любезно пропустили Ангелину с внучкой – тропка была слишком узка, чтобы встречные путники могли разминуться на ней, не сходя в густую, по пояс траву, стеной стоявшую по обеим сторонам утоптанной дорожки. Чуть склонив голову в знак благодарности, бабушка поприветствовала их:
– Бог в помощь!
Охотники звонко ответили в один голос:
– И вам помогай Бог!
Ангелина улыбнулась и, окинув тушу вепря оценивающим взглядом, одобрительно произнесла:
– Пуда три чистого мяса будет. Хорошая добыча. А хозяина леса поблагодарить не забыли ли?
– Обижаешь, матушка! – широко ухмыльнулся старший из охотников с непослушной буйной рыжей шевелюрой. – Неужто мы городские? Все сделали как полагается. Как деды делали, так и мы!
Второй, тот, что помладше да поживее, хвастливо подхватил:
– У городских охотников такой добычи и не было еще в этом году, а может, и вовсе не будет! – Он потеребил рукой куцую бородку и прибавил с пылким задором: – Да и что взять со швабов, им бы только уток да куропаток по болотам щелкать, а заяц с лисой для них уже серьезный зверь. Да и мадьяры те еще охотнички… – Он словно бы разочарованно махнул рукой и глубоко вздохнул, всем своим видом показывая, какого он мнения о городских ловцах.
– Есть и среди них вполне неплохие охотники, да и в целом они достойные люди и наши соседи, – наставительно и даже немного строго произнесла Ангелина.
Тот охотник, что помладше, заливисто рассмеялся, будто бы услышал забавную шутку, а тот, что постарше, лишь недоверчиво хмыкнул, как сделал бы, услышав какую-то чудную небылицу.
Бабушка шутливо погрозила им пальцем, еще раз кивнула, и они с внучкой двинулись дальше в сторону леса. Там, где тропинка сворачивала с опушки и уходила в глубь леса, Ангелина остановилась, достала из-за пазухи мешочек и, присев у массивного дубового пня, извлекла из него колосья пшеницы и зернышки ржи. Высыпав их в ладонь и сжав кулак, она поднесла его к губам, что-то прошептала и бережно пересыпала хлебные злаки на пень, после чего быстро начертала что-то указательным пальцем и бодро поднялась на ноги.
– Теперь пойдем, – обернулась она к Сунчице, завороженно смотревшей куда-то в сторону. – Что там, внученька?
Проследив взгляд девочки, она увидела троих навостривших ушки лисят, сидящих в сплетениях вылезших из земли и покрытых мхом мощных корней векового дуба.
– Это лес знакомится с тобой. – Ангелина погладила Сунчицу по голове.
– А зачем ты оставила колоски на том пеньке? – спросила девочка у бабушки.
– Во всем должно быть равновесие, и мы должны помогать его сохранять. Мы пришли в лес за травами и заберем их отсюда, значит, мы должны что-то оставить здесь взамен, тогда гармония сохранится и лес будет благосклонен к нам.
Ангелина поудобнее перехватила корзину и уверенно направилась в чащу. Углубившись в самые дебри, она постепенно наполняла корзину травами с укромных, только ей ведомых, потаенных полянок. Спустя пару часов уже подуставшие бабушка и внучка оказались на просторной, окруженной пушистыми елями папоротниковой поляне, где воздух, пронзаемый пробивающимися сквозь еловые ветви солнечными лучами, звенел и подрагивал.
– Набери замляники на пирожки, Сунчица, – обратилась Ангелина к девочке.
– Где-е? – В голосе внучки сквозило искреннее удивление – никакой земляники на поляне и следа не было.
– А ты посмотри внимательно. Только не торопись. Вспомни, чему я тебя учила. – Бабушка улыбнулась уголком рта, подбадривая Сунчицу.
Та немного растерянно огляделась по сторонам, на секунду задумалась и, подойдя к осанистой кряжистой ели, приложила ладошку к шершавой коре и неуверенно прошептала что-то, тут же обернувшись к бабушке, ища у нее поддержки. Бабушка одобрительно кивнула. В этот миг кто-то пушистый врезался со всего маха в сапожок девочки и кубарем откатился в сторону. Сунчица вскрикнула от неожиданности, присела и увидела серого зайчишку с уморительной лопоухой мордочкой.
Она вытянула из лукошка прихваченную из дома морковку и протянула ее милому ушастику:
– На, кушай! Тот, помедлив пару секунд, заглянул девочке в глаза и, почуяв, что ей можно доверять, обнюхал морковку, ткнулся мордочкой в ладошку девочки и вмиг схрумкал угощение.
– Ого, какой быстрый! – рассмеялась Сунчица.
Доев, зайчишка встряхнулся и, глянув на девочку, будто приглашая ее куда-то, нырнул под раскидистый лист папоротника. Сунчица последовала за ним и тут внезапно увидела, что папоротник скрывал море усеянных румяной ягодой земляничных кустиков. Она огляделась и ахнула – вдруг весь папоротник устремился к солнцу, и вся поляна заалела открывшимися земляничными зарослями. В этот миг девочка почувствовала, что воздух буквально пропитан тонким манящим ароматом земляники. Сунчица с восторгом оглянулась на бабушку и бросилась взахлеб собирать ягоды.
Пока девочка наполняла лукошко, Ангелина присела отдохнуть в тени. Кругом умиротворяюще шумел лес, убаюкивая ее. Она смежила веки и задремала. Ей приснился странный, еще пока до конца не осознанный сон. Что-то важное, но что? Ощущение какой-то тревоги… Окончательно из забытья ее вырвал стрекот вьющейся рядом стрекозы.
Ангелина наконец открыла глаза и увидела причудливо кружащую ярко-голубую стрекозку, а рядом порхающую оранжевую бабочку. Что-то в переплетающемся узоре их полета насторожило ее… Что-то… Ускользающее… Еще чуть-чуть… И тут она поняла что. Лик Ангелины стал сумрачен, а по щеке сбежала скупая слеза, которую она торопливо стряхнула, пока не увидела Сунчица. Ей пока не надо этого знать. Попозже. Не сейчас.
Ангелина знала, что ткань мироздания соткана из мириадов переплетенных нитей, и если ты чувствуешь узор этой ткани, то по тому, как сплетены нити в одном месте, можешь узнать то, как они переплетутся в иных местах и временах. Но что же она увидела? Что узнала? Что так опечалило ее? Это Ангелина решила пока сохранить в тайне.
На обратном пути из лесу бабушка с Сунчицей заглянули в село Стражилово. Местный сельский здухач хотел что-то сказать Ангелине, посоветоваться о видах на урожай.
В просторной сельской таверне пахло хлебом, жареным мясом и хмелем. Устроившись за массивным дубовым столом, придвинутым к окну, они поставили корзинку с грибами, травами и кореньями и лукошко Сунчицы с лесными ягодами и цветами у стены и стали ждать здухача, который, по словам трактирщика, задержался где-то на дальних полях. Улыбчивая девушка принесла им две глиняные кружки пахучего морсу и плетенку со свежими румяными булочками. В углу таверны на табурете примостился слепой гусляр, чьи пустые глазницы были сокрыты черной повязкой. Взяв в руки изогнутую луку смычка и инструмент с одной струной, он затянул тягучую, заунывную балладу об исходе древнего народа после поражения от кочевников в великой битве из далекой южной земли черных дроздов сюда, на берега Дуная. Бабушка наклонилась к уху Сунчицы и прошептала:
– Его прозвали Слепой Гргур. Так звали одного из твоих прапрадедов, что жил много веков назад. Он был великим воином и совершил множество подвигов. Как-нибудь я расскажу тебе о нем…
Тем временем гусляр закончил свою балладу, встал и на ощупь направился к их столу.
Подойдя ближе, он поводил ноздрями в разные стороны, бесшумно втянул воздух и глубоким грудным голосом произнес:
– Аромат корицы, гвоздики и шалфея, смешанный с дуновением утреннего леса и приправленный чуток горчащим городским дымом, сквозь который все же пробивается запах только испеченного хлеба и земляники… Дайте-ка подумать… – Он картинно приложил кулак к губам, а его лоб прорезала глубокая складка. – Ага… редкая гостья в наших краях. – Лицо его разгладилось. – Здравствуй, Ангелина Драговичанка! – И тут же он вновь глубоко вздохнул: – Кто же это с тобой?.. Свежесть летнего луга, мята, фиалки и ромашки с легким привкусом мака, покрытого утренней росой… Ах, да это же сама господжица Сунчица с Дубовой улицы, внучка Ангелины! – Его беззубый рот расплылся в улыбке.
– Здравствуй, Добривое, известный в наших краях как Гргур Слепой, – степенно ответствовала бабушка.
– Я видел тебя во сне, Ангелина, – тихо произнес гусляр.
– А я видела тебя, – в тон ему сказала пожилая женщина.
– Тогда ты все знаешь… – Нотки печали сочились из речи Гргура.
– Да, мой добрый Добривое, – грусть скользнула и в ее голосе, – теперь я точно все знаю, сегодня лес подтвердил, что время пришло, но ты не печалься, в тонких мирах мы будем видеться по-прежнему…
– О чем он, бабушка? – испуганно воскликнула Сунчица.
– Сунчица… – Бабушка замолчала, силясь подобрать слова. – Сунчица, скорее всего, вскоре я покину тебя…
Слезы выступили на глазах девочки, затуманив их васильковую голубизну.
– Как… – голос ее срывался, – как покинешь? Куда ты собралась? – Девочка сжалась в комок от отчаяния и страха.
– Не плачь, Сунчица. – Бабушка взяла ее руку в свои морщинистые ладони. – Покину – не значит оставлю. И случится это не завтра. В любом случае я всегда буду рядом с тобой. – Она погладила Сунчицу, и слезы перестали бежать из ее глаз, но холод беспокойства, стиснувший сердечко девочки, никуда не исчез.
В этот миг дверь таверны распахнулась, пропуская необъятного, больше похожего на медведя, чем на человека, здухача Страшимира Лазаревича. Его голос больше походил на рык и заполнял собою все окружающее пространство, а копна светлых с проседью волос и окладистая густая борода придавали еще большее сходство с косолапым.
– Ох, Ангелина! – с порога пророкотал он. – Ты уже здесь! Прости, на дальнем хуторе волы захворали, все утро провозился! – Он провел тыльной стороной могучей ладони по лбу, показывая, как он умаялся.
– Ты все в хлопотах, мой добрый Страшимир. Расскажи, что тут у вас.
– Покос прошел удачно, сбор меда в разгаре, да вот беда, дождя давно не было, а солнце жарит нещадно. Так задруга наша попросила меня к тебе обратиться, и батюшка наш отец Душан к просьбе сей присоединяется. Порадей за урожай как о том годе, чтоб уродилось все и дождь пролился, дабы жатва доброй была.
– Дождь будет, Страшимир, за урожай будьте покойны. И отцу Душану поклон мой передавай.
Здухач расплылся в улыбке:
– Знал, что ты нас не бросишь. Довезу вас с Сунчицей до города. Моя телега стоит у дверей. Там крестьяне наши припасов тебе собрали – четверть зерна, короб куриных яичек, сушеных и свежих грибов, вяленой рыбы, оленины, лесных орехов, кувшин молока, сбитого масла…
– Хватит, хватит, Страшимир, – со смехом прервала его бабушка. – Совсем вы нас с внучкой закормите!
В город вернулись ближе к вечеру. Напоив здухача душистым травяным чаем с медом, бабушка и Сунчица проводили гостя в обратный путь в Стражилово. Не успели они прибрать со стола и разложить снедь, подаренную добрыми крестьянами, как дверь распахнулась и в домик ввалилась запыхавшаяся пышная девушка с заколотыми русыми волосами и в белом переднике.
– Ах, фрау Ангелина… – Лицо девушки покраснело, она пыталась отдышаться, наклонившись вперед и положив руки на колени. Звали ее Хильда и служила она в доме бургомистра Мартина Бранта.
– Что случилось, дитя мое? – Голос бабушки был полон участия. – Неужели у господина бургомистра снова приступ? Вот, – она протянула девушке ковшик прозрачной колодезной воды, – утоли жажду и переведи дыхание.
Служанка с благодарностью приняла ковшик и несколькими жадными глотками осушила его.
– Благодарствую, матушка! – Хильда вновь обрела способность говорить. – Совсем плох хозяин! Поясница не разгибается, колени страшно ломит. Видать, к смене погоды, к дождю. Да вот так сильно давно он не хворал, даже и смотреть больно, как он мучается! Вот его супруга и наказала мне со всех ног бежать к вам, и вот я от самого магистрата бегом…
– Ах, бедняжка! От самого магистрата! – всплеснула руками бабушка. – Вот, присядь, – она усадила девушку на стоящий у двери дубовый стул, – а я мигом управлюсь.
Бабушка запустила руку в шкаф, доверху забитый разными мешочками и склянками, и безошибочно выудила оттуда маленький горшочек, перевязанный тряпицей.
– Вот, держи, – протянула она горшочек служанке. – Это мазь из медвежьего сала с дягилем. – И тут же отдернула руку. – Нет, погоди, я кое-что забыла…
Бабушка отошла в сторонку, сжала горшочек в руках и, склонившись над ним, что-то зашептала.
– …Не держи зла и помоги, – единственные слова, что разобрала Хильда.
– Теперь точно поможет. – Ангелина вложила горшочек в руку служанки. – Возьми и передавай мой поклон господину бургомистру и его супруге.
Девушка сделала неумелый книксен, которому научилась в своей родной Каринтии когда-то в детстве, и сломя голову бросилась обратно в ратушу, где располагался магистрат.
В то время когда бабушка и Сунчица подходили к лесу, с другой стороны к городу по старому тракту подъезжал, поднимая вихри пыли, запряженный парой вороных, резвых и норовистых коней черный экипаж. В нем ехал вновь назначенный в Карловитц епископ по имени Иоганн Нидер. В длинных тонких пальцах с неаккуратно подпиленными ногтями он сжимал молитвенник и четки. Иссушенный постом, он был лыс и очень худ. Седые пушистые брови, нависавшие над глубоко посаженными глазами, придавали ему еще более устрашающий вид. Его скулы, казалось, могли разрезать лист бумаги, а в глубине серых, будто бы оловянных глаз пылало пламя истовой, фанатичной веры. Казалось, в этих глазах никогда не светилась ни радость, ни жалость, одна лишь ненависть к врагам Церкви. Это и неудивительно, ведь Иоганн Нидер был не простым епископом, он был инквизитором, охотником за ересью. Он спал на твердом ложе без подушки, не укрываясь даже ничтожной тряпицей и не более трех часов в сутки, ел два скудных сухарика в день, запивая их одной чашей воды. Вставал он задолго до восхода и встречал день яростной жгучей молитвой, обращенной против еретиков. Он был абсолютно безжалостен к себе и умерщвлял свою плоть ради возвышения духа. Под сутаной из грубой колючей шерсти он носил почти пудовые вериги. Борьба с ересью наполняла его жизнь смыслом. Стальной, холодный голос Иоганна Нидера пробирал любого до глубины души, подчиняя себе и оставляя мурашки на коже.
На холме, не доезжая полумили до въезда в город, он окрикнул возницу – своего верного помощника и слугу Ульриха, – и экипаж остановился. Епископ выбрался из повозки и окинул взглядом раскинувшийся внизу как на ладони город. Довольствие и умиротворенность, казалось, излучали его увитые плющом и виноградом каменные дома со ставнями, им вторили крытые соломой сараи и амбары.
Зажмурившись, епископ Нидер глубоко вдохнул, на секунду задержал воздух в легких и с шумом выдохнул.
– Haeresim manifeste sapit, – задумчиво продекламировал он.
– Что вы говорите, ваша милость? – обернулся с козел Ульрих.
– Я говорю, мой верный, но темный и безграмотный Ульрих, что этот город явно пахнет ересью. – На секунду епископ умолк, прикрыл глаза и тут же с жаром продолжил: – Знаешь, чем пахнет ересь? Страхом. Потом. Людской подлостью. Грехом. Серой. А на ощупь она как зола… Но это уже когда дело сделано. А здесь нам его еще только предстоит сделать. – Тонкая усмешка на миг исказила его уста и тут же бесследно исчезла.
Въехав в город, экипаж лихо пронесся по булыжным улочкам и заехал на площадь, где остановился у двух этажного здания ратуши из желтого кирпича, там размещался магистрат. Епископ тут же отправился к бургомистру, а Ульрих остался внизу, протирая блестящие от пота бока разгоряченным долгой поездкой лошадям.
Черный зловещий экипаж с гербом на дверцах и здоровенный детина в холщовой рубахе и сыромятных сапогах с копной соломенных волос сразу же привлекли внимание карловчан, не избалованных событиями в своем захолустье. Стайку уличных мальчишек, вечно отиравшихся на площади и попытавшихся залезть под повозку, Ульрих отогнал кнутовищем, а вот собравшимся в кружок почтенным городским обывателям и по случаю оказавшимся тут степенным крестьянам он чуть свысока разъяснял:
– Мой хозяин получил назначение в ваш город… Прибыли из Сигедина, это миль двести на север отсюда… В прошлом году хорошенько поработали, за полгода отправили на костер тринадцать ведьм, почистили городок, усмирили бесов… – Утомившись отвечать на однообразные вопросы, Ульрих повернулся спиной к досужим горожанам, принявшись полировать герб на дверце, и бросил через плечо напоследок: – На воскресной мессе все сами услышите, да не вздумайте пропустить, у епископа Нидера с этим строго.
На центральной площади города, прямо напротив ратуши, величественно высился мрачный кафедральный собор, доставшийся городу по наследству из прошлых столетий. Его фасад украшали ниши со статуями суровых святых, а стрельчатые окна были забраны цветными витражами. Шпили двух башен пронзали небо, а стены были покрыты гротескными резными барельефами, на которых приземистые бородатые и рогатые существа с женской грудью, крыльями нетопыря и косматыми ногами воочию показывали прихожанам, какая участь ожидает грешников на том свете.
С колокольни, по углам которой примостились оскаленные горгульи, доносился протяжный нетерпеливый звон, призывавший карловчан на воскресную мессу. Толпы нарядных жителей целыми семьями спешили в собор. Приезд нового епископа – событие, никак нельзя пропустить его первую мессу.
Подтянутый и строгий, Иоганн Нидер в праздничном облачении, возвышаясь на кафедре, которая нависала над паствой, внимательным взглядом из-под кустистых бровей вымерял и сверлил каждого, входящего в собор. Дождавшись боя башенных часов, возвестивших начало мессы, он, не медля ни секунды, с последним ударом возгласил суровым басом:
– Pater noster est…
Паства разноголосо вторила ему.
Литургия тянется медленно. В соборе душно. Жар сотен тел, аромат благовонного фимиама, окутывающий коконом чад от маслянистых светильников… Сонная истома, кажется, разлита в воздухе. Епископ торжественно и чеканно читает молитвы на латыни, которую знают хорошо если с десяток прихожан. Все они с благоговейными постными масками, застывшими на лицах, сидят в первых рядах. За ними прячут осоловевшие бессмысленные взгляды почтенные горожане, так и не затвердившие до конца даже «Pater noster».
Вот румяный краснолицый булочник не смог подавить сладкий зевок и, спрятавшись за широкими спинами начальника почтовой станции и председателя охотничьего общества, поддался искусу. А вот почтенная матрона – мать многочисленного семейства – не удержалась и задремала на пару секунд. Все с нетерпением ждут конца мессы. Наконец закопченные своды оглашаются финальным возгласом «Libere me Domini!», который с ленцой эхом повторяют сомлевшие прихожане.
Начинается проповедь. Голос епископа Нидера гремит и сотрясает даже цветные витражные стеклышки на узких, вытянутых вверх окнах. О чем же он говорит? Хоть начало мы и пропустили, разглядывая публику, но давайте теперь все же прислушаемся.
– …Этот отринет униженных, возвеличит грешников, ниспровергнет возвышенное и вечно живое, утвердит то, что противоположно добродетели. Вернет в мир поклонение, добиваясь славы себе, и назовется Всемогущим. Посланник тьмы имеет немало нечестивых прислужников, из которых многие уже явились в мир, такие как Антиох, Нерон, Домициан; и теперь, в наше время, действует много подобных служителей зла, есть они и в этом городе! – Он замолк, свирепо оглядел первые ряды и, обратив взгляды прихожан в пол, продолжил: – Сказано: «Горе тебе, Хоразин!», ибо в этом городе исчадие врага рода людского будет воспитано на погибель всем добрым людям магами, чародеями, прорицателями, заклинателями, которые по велению отца зла вскормят его сына и обучат всему вредоносному. Уверены ли вы, что сей город, где вы обретаетесь, не зовется Хоразин?
Епископ вновь смолк и обратил пламенный взор на замершую в испуге толпу, по которой побежал смущенный шепоток: «А ведь верно! Все так говорит! Истинно так!»
Воздев правую ладонь, Иоганн Нидер призвал обывателей к тишине. Шептания тут же утихли. Он почувствовал прилив сил, все их внимание было приковано к нему одному. Да, он снова сделал это. Он овладел этой людской массой, зовущейся паствой, силой страстного слова. Теперь пришло время обратить эту разрозненную толпу в армию, сделать их послушным единым организмом – орудием святой Церкви. С удвоенной силой он продолжил:
– Всякий простолюдин, всякий почтенный обыватель и даже дворянин, который выступает против правосудия и порядка, своими нападками хулит силы добра и света, а значит, он есть служитель извечного врага! Этот город погряз в грехе и ереси, – неистовствовал епископ, направляя обличающий перст, казалось, на всех сразу и на каждого в отдельности. – И если вы не покаетесь и не поможете Церкви разоблачить прислужников тьмы, то и вас ожидает котел с кипящим маслом!
Взор епископа Нидера распалялся все больше, с прихожан, сидящих даже в самых дальних рядах и обычно норовящих пораньше улизнуть, давно слетела дрема, а подрагивающий в пламени сотен свечей воздух наполнился едва уловимым запахом агрессии и злобы с примесью щепоти страха.
– Вы хотите гореть в геенне огненной за чужие грехи?!
– Не-е-ет! – с негодованием ревел хор голосов в ответ.
– А вы хотите помочь спасти души несчастных, что продались силам зла?
Своды собора огласились решительным и раскатистым «Да-а-а!».
Взгляд Иоганна Нидера, источавший, казалось, лед и огонь одновременно, обшарил беснующуюся толпу. Праведное неистовство на лицах, казалось, удовлетворило его, и в глазах у него на миг мелькнуло довольство и удовлетворение.
– Хорошо! – властно осадил он разгоряченных, бьющихся в экстазе и порыве религиозного рвения карловчан. – На воротах церковной ограды прикреплен специальный ящик для ваших сообщений о прислужниках зла. У вас есть двенадцать дней, чтобы выдать их, и тогда на вас не будет греха укрывательства… – Он многозначительно обвел притихшую толпу взглядом и, даровав им, словно нехотя, благословение, покинул кафедру.
Вслед за ним потянулись к выходу и прихожане, все еще наполненные жаром епископской проповеди. Впечатления захлестывали карловчан, и, выйдя на площадь, они бурно обсуждали услышанное, сопровождая реплики активной жестикуляцией. Занятые друг другом, они не заметили то, что приметил лишь один кучерявый мальчик лет шести, сын почтенного семейства бюргеров, задравший голову кверху и увидевший стаю ворон, беззвучно кружащих над собором.
Зловещий ящик был виден с любого угла площади, но остывшие на следующее утро горожане остерегались приближаться к нему во избежание кривотолков. Доносы среди жителей были не в чести. Над ящиком Ульрих прикрепил следующее объявление, набранное причудливо извивающимися готическими литерами:
«Мы, инквизитор и епископ Иоганн Нидер, желаем всем сердцем того, чтобы врученный нашему попечению народ воспитывался в единстве и чистоте веры и держался вдали от чумы еретической извращенности. Во славу и честь Церкви и для возвеличивания святой веры мы предписываем, приказываем и увещеваем всех и каждого, какое положение они бы ни занимали в этом городе или любом селении в двух милях в окружности от города, исполняя добродетель святого послушания и под страхом отлучения, явиться в течение следующих двенадцати дней и разоблачить перед нами женщин, о которых идет молва как о еретичках, или ведьмах, или вредительницах здоровья людей, домашнего скота и полевых злаков, или приносящих вред государству. Ежели те, которые знают о существовании женщин, подозреваемых в этих преступлениях, не явятся и не укажут их, то они будут пронзены кинжалом отлучения. Мы произносим отлучение против всех тех, которые упорно не повинуются. Право обратного принятия их в лоно Церкви остается за нами».
Каждый день Ульрих, накрывая епископу скудный завтрак (если трапезу, состоящую из корки хлеба и чаши воды, можно так поименовать), скорбно пожимал плечами – это значило, что ящик пуст. Прошла дюжина дней и еще одна. И еще… Епископ Нидер каждое воскресенье увещевал и стращал свою паству, грозил и упрекал, но писем в ящике на церковной ограде все также не появлялось.
Наступила осень. По Дунаю с далеких Карпат прилетел колючий, изматывающий и завывающий ветер – кошава. Изменился и сам город. Прежде веселый, приветливый, добродушный и легкий нравом, Карловитц помрачнел и затих. Не звучали больше разухабистые песни из окон таверн, да и плясать на площади под звуки труб городского оркестра желание у всех как-то пропало. Улыбки с лиц горожан исчезли, сменившись настороженным, насупленным выражением. Уныло, грустно и почти незаметно прошел сентябрьский праздник урожая винограда, многие даже и не пригубили молодого вина, что раньше было неслыханно.
К осени выросло и количество ворон. Они свили гнезда на всех крышах, в особенности облюбовав башни кафедрального собора, и целыми днями целые тучи их кружили над городом. Больше они не были безмолвны. Теперь их карканье лишь добавляло уныния в сердца горожан.
Теперь повсюду бродили по двое-трое новоявленные блюстители нравов с кисловатыми минами на лицах, облаченные в мрачные черные сюртуки и платья, застегнутые наглухо. Сбились они вместе как-то незаметно к концу лета вокруг епископа, подобравшись из числа наиболее ретивых его адептов. Они образовали Комитет ведьм. В ночь с пятницы на субботу члены комитета собирались на площади и расходились по городу, задрав головы кверху, ожидая каждую минуту увидеть вылетевшую из дымохода ведьму. Попутно, разумеется на всякий случай, они записывали адреса тех, кто слишком долго жжет свет. Они же добровольно взялись за учет тех, кто пропускал мессы. Теперь люди остерегались болтать все что взбредет им на ум за кружкой эля, как раньше, да и желания ходить друг к другу в гости тоже почему-то пропало. Все стали замкнуты и скрытны, а улыбка стала редкой гостьей на лицах карловчан. Город накрыла тень.
А как же появился в городке этот Комитет ведьм?
Дело было так. После одной из воскресных проповедей в начале осени епископ Нидер в разговоре с верным Ульрихом между делом проронил:
– Город созрел. Принимайся за дело.
Большего Ульриху и не требовалось. Он коротко кивнул и принялся за работу. В следующую пару недель его можно было повстречать в самых неожиданных местах с самыми противоречивыми и темными личностями, обретавшимися в городе. Его видели в мрачных закоулках и подворотнях в весьма неурочное и небезопасное для их посещения время, с такими сомнительными типами, что если бы кто-то признал в закутанной с головы до ног в плащ фигуре слугу самого епископа, то репутация Церкви в Карловитце значительно бы пошатнулась.
Ульрих о чем-то шептался с рыбаками на рассвете и отирался под вечер в ожидании кого-то рядом с живодерней, он был замечен неподалеку от городского кладбища почти в полночь, а утром выходил из дома, жильцы которого имели очень неоднозначную репутацию. Чаще же всего его можно было застать в тавернах того сорта, что выбирают для отдыха простолюдины из самых низов, имеющие склонность к разного рода лихим авантюрам. Там он проводил целые дни, стараясь занять самый дальний, неприметный столик, за которым вел долгие беседы, смачиваемые дешевым кислящим вином, смотрел, оценивал, одним словом – искал. И в один зябкий дождливый вечер понял, что наконец-то нашел. Лучшей кандидатуры нельзя было и придумать.
На высоком холме, с которого на много миль в обе стороны просматривается русло Дуная, стоит городское кладбище Карловитц. Из города, что с южной стороны подпирает подножие крутого холма, сюда ведет извилистая, вьющаяся серпантином по склону, мощеная дорога. Сущее мучение для лошадей, тянущих похоронные дроги, взбираться со скорбной и тяжелой ношей в этакую круть. Дорога упирается в массивные кованые ворота, обычно закрытые после захода солнца на цепь с замком, но сегодня почему-то оставленные распахнутыми настежь, несмотря на поздний час. За воротами лежат заросшие мхом могильные плиты и надгробные камни с полустершимися рублеными надписями. Они тонут в клочьях тумана, что по вечерам накрывает кладбище. В сумерках плохо видно, но кажется, что кто-то только что юрко проскользнул в ворота, а за ним еще двое и еще. Все эти люди в полном молчании уверенно тянутся туда, где в глухом углу погоста, под старыми вязами, в чьих кронах шумят грачи, ютится сторожка кладбищенского сторожа, также служащего здесь могильщиком. В городе все зовут его просто Юрген Похоронщик.
В каморке Похоронщика, в которую набилась дюжина гостей, висела влажная, с кислинкой затхлость. Весь немудреный скарб был покрыт толстым слоем пыли, а под потолком тускло блестели узоры многолетних паутин. Лишь один предмет в доме выглядел ухоженым. Это была рабочая лопата Юргена с отполированной за долгие годы до блеска рукояткой. Она была любовно начищена и блестела, закрепленная в петлях, вбитых в стену. Юрген с таким тщанием заботился о своей лопате, что по остроте она могла поспорить с бритвой цирюльника.
Хозяин обвел комнату тяжелым, насупленным взглядом и пробурчал себе под нос:
– Ну вроде бы все в сборе.
Всех собравшихся отличала удушающая мрачность и постность мин, застывших на лицах, а также темный цвет одежд. Сам Юрген, сухой и длинный как жердь, в черном цилиндре с блестящей прягой посередине, из-под которого глядели свинцовые навыкате глаза, и только их пристутствие делало это костлявое лицо хотя бы отдаленно похожим на живое, был облачен в долгополый заплатанный сюртук фасона прошлого века мышиного цвета. Таким его помнили со времен своей юности даже те жители, что сейчас уже нянчили внуков.
В городе люди его побаивались и даже старались лишний раз не то что не заговаривать, но и не сталкиваться с ним на одной стороне улицы. А может, причиной тому служила его привычка постоянно жевать чеснок, что ввергало в отчаяние его немногочисленных собеседников? Хотя какая разница, важно лишь, что в Карловитце многие его избегали. Многие, но не все.
– Загробные муки или воскресение? Вы уверены в своей участи? – говорил Юрген медленно, глухим с хрипотцой голосом, с едва уловимым странным акцентом, который никто не мог в точности опознать. Теснящиеся вокруг грубо сколоченного стола гости глухо зашептались, переглядываясь, однако Похоронщик призвал их к тишине едва заметным движением указательного пальца. – Здесь, на клочке земли, что служит последним пристанищем многим карловчанам, – продолжил он, вытягивая слова на нездешний манер, – где грунт наполнен костями тех, кто еще недавно был среди нас, особенно остро осознаешь суетность и краткосрочность земной жизни. Когда ваша плоть разложится и станет пищей червей, каждый из вас получит воздаяние по грехам своим. Не лучше ли уже сейчас порадеть за свое будущее и обеспечить себе лучшую участь, заручившись поддержкой одного из князей нашей Церкви? Заупокойная месса, отслуженная епископом, значительно облегчит участь любого томящегося в чистилище в ожидании Страшного суда…
– Погоди, Юрген, – перебил оратора краснолицый колбасник с носом картошкой и пушистыми неопрятными бакенбардами, с грохотом поднявшись из-за стола, – ты что, в проповедники записался? Я под вечер оставил семью, поверил, что тут у тебя и вправду что-то серьезное, притащился к тебе на этакую кручу, вместо того чтобы пропустить кружечку-другую в харчевне, и что же? Я от тебя слышу то же, что на мессе в церкви по воскресеньям? Давай, излагай уже суть, или я пошел домой. – Он грузно опустился на свое место и с вызовом уставился на Юргена.
Его поддержал востроглазый старик с острым, выпирающим кадыком, который ехидно просипел:
– Что, Похоронщик, епископом решил стать? Говоришь точь-в-точь как он, да не так складно у тебя выходит, – и захихикал, мелко-мелко подрагивая всем телом.
Несколько человек издали пару жиденьких смешков вслед за ехидным стариком. В этот миг сильный порыв ветра распахнул скрипучее окно и задул зашипевшие масляные светильники. Комната погрузилась во тьму. Тут же раздался слабый писк и едва заметные светящиеся точки замельтешили под потолком.
Юрген споро запалил свечу и, подняв ее вверх, осветил каморку. В тусклом неверном свете стали видны десятки летучих мышей, влетавших сквозь окно, а часть их уже устроилась на стропилах под потолком. Издав утробный рык и схватив стоявшую в углу метлу, старый Похоронщик впал в неистовство. Он вскарабкался на стол и принялся орудовать метлой как копьем, приговаривая сквозь одышку:
– Это их происки! Чувствуют, что близка их погибель! Vade retro![6]
Спустя короткое время пол хижины покрылся изломанными тельцами ночных существ, а Юрген, тяжело дыша, занял свое место во главе стола, вокруг которого сжались присмиревшие гости.
– Конец времен близок! – Юрген был взлохмачен, а его глаза сияли безумным огнем. – Помните черную чуму? Это было наказание по грехам нашим, но навели ее на нас проклятые ведьмы!
– Да убережет нас святой Рох, – хором прошептали две пожилые иссушенные девы в чепцах.
– К этим колдуньям нужно быть беспощадными, сжечь их всех до единой! – Юрген в сердцах пнул тельце одной из павших летучих мышей. – А без нас герру Ульриху и епископу Нидеру никак не справиться. Герр Ульрих прямо так и сказал! Особенно внимательным нужно быть к пришлым. – Только тут все заметили, что за столом сидят лишь швабы. – Их уже больше, чем нас, в окрестных селах, да и в самом городе их число растет, с юга приходят все новые их беглецы из-под власти султана. Вера их хоть и похожа на нашу, но лукава и искаженна, оттого ведьм и еретиков среди них куда больше, чем среди коренных наших людей. К тому же не помешает нам и то имущество, и земля, что принадлежат нам по праву, а чужаки завладели ими обманом и хитростью. Все это святая инквизиция конфискует у еретиков и передаст нашему Комитету ведьм, ежели мы поможем изловить их побольше. Так что порешим? Поможем епископу и Церкви, учредим комитет?
В ответ раздались топот ног, грохот ладоней о стол и одобрительное уханье.
Сцепив пальцы на животе, Юрген удовлетворенно пробурчал:
– Я так и думал.
После короткого обсуждения мелких рабочих моментов Похоронщик решительным движением снял со стены лопату и вышел наружу, остальные гуськом потянулись за ним. Он привел их к свежевырытой могиле, рядом с которой стоял сосновый гроб, выкрашенный темно-бордовой краской. Первым в него, кряхтя, улегся крепкий детина со слипшимися от пота на лбу волосами, подмастерье из бочарного цеха с одноименной улицы.
Юрген удовлетворенно кивнул, оценив его смелость, прошептал пару напутственных слов на ухо и захлопнул крышку, оставив вмиг струхнувшего паренька в густой всепоглощающей тьме. Спустив совместными усилиями гроб в могилу, Юрген взмахом руки приказал оставить широкие сыромятные ремни, пропущенные под гробом, на месте и крепко закрепить концы. Сам же принялся сноровистыми движениями лопаты закидывать могилу комьями земли. Когда крышка гроба скрылась под полуметровым слоем грунта, он остановился, не доведя дело до конца, а пять минут спустя принялся откапывать обратно. Когда гроб подняли и открыли, подмастерье с Бочарной улицы с выпученными глазами хлопал ртом как рыба, выброшенная на берег.
Присев на одно колено, Похоронщик положил руку ему на лоб и продекламировал глухим голосом:
– Погружаясь во мрак изначальной тайны, ты искореняешь собственную волю и растворяешься во всеединстве. Отрекись от себя и отстань от всего тварного. Теперь ты рожден заново как член нашего братства.
Остальные встали в тесный кружок вокруг, смыкаясь плечами и нависая над лежащим в гробу подмастерьем. Все они хором повторяли за Юргеном слова, что он торжественно произносил, скрепившие клятвой ритуал посвящения, который в ту ночь прошел каждый из них.
Расходились они уже под утро, рожденные заново и объединенные общей тайной. Так в городке Карловитц появился свой Комитет ведьм, призванный служить на благо Церкви и в помощь святой инквизиции.
Каждое утро чуть свет Ульрих спешил проверить зловещий ящик, висевший на ограде собора. И каждый раз его ждало разочарование. Но в одно холодное, промозглое утро он наконец-то увидел на дне ящика скомканный конверт. Как он туда попал? Откуда?
Это случилось так. В последний день октября, а точнее, самую темную ночь, около трех часов, к ящику, таясь и перебегая от стены к стене и от угла к углу, прокрался некий горожанин, закутавшийся в плащ из грубой шерсти и надвинувший глубокий капюшон так низко, что, даже столкнувшись с ним лицом к лицу, никто бы не смог его опознать. Наконец добравшись до ящика, поминутно оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха, судорожным движением руки он бросил конверт в прорезь ящика и был таков. За два часа до этого, сидя за столом у себя дома, он написал на листе хорошей плотной бумаги густыми чернилами, пропитавшими кончик тщательно очиненного гусиного пера, следующее послание:
«Спешу уведомить Ваше преосвященство, что в треть ем доме по Дубовой улице, если считать от Вязового переулка, обосновалась ведьма, хорошо известная всему городу. С помощью бесовских сил она якобы врачует людей, на самом же деле наводит порчу и уродует их бессмертные души. В ее доме Вы найдете множество неоспоримых доказательств бесовского ведьмачества и сговора с врагом рода людского».
Нагрев сургуч на пламени свечи, он капнул им на конверт, куда вложил сложенный пополам лист бумаги, и накрепко запечатал его, использовав в качестве печати монету. На конверте он сперва думал написать «От доброжелателя», но потом решил, что такая надпись больше бы подошла для письма в магистрат, а тут будет уместнее написать «Господину епископу от верного чада Церкви».
Но кто же писал это письмо? Кто стал автором гнусного навета? К сожалению, свет от свечи падал на стол, и лицо бдительного горожанина решительно невозможно было разглядеть в густой тени.
А что хотя бы был за дом, из которого вышел доносчик, кутаясь в плащ и сжимая потеющими ладонями конверт, в самый глухой предрассветный час? К сожалению, нельзя с уверенностью сказать и этого – густой туман с Дуная скрыл его номер. Одним словом, это мог быть практически любой из жителей. Но все же это был лишь один из них.
Солнечным осенним утром епископ Иоганн Нидер, обложившись толстенными фолиантами, работал в своем кабинете. Его задумчивый взгляд был устремлен в потолок. Перед ним лежала рукопись научного трактата, который он вот уже третий год неторопливо и сосредоточенно писал для одного верхнегерманского университета, при котором числился профессором теологии. Наконец собравшись с мыслями, епископ обмакнул перо в чернильницу и решительно вывел: «Масло в адских котлах делает из крови проклятых демон Укобах…»
В эту секунду раздался стук в дверь.
– Войдите! – отрывисто рявкнул епископ, сочась недовольством. «Как назло! Только сосредоточился, и вот, отрывают!» – рассерженно подумал он.
В кабинет вошел сияющий Ульрих и с поклоном протянул на подносе письмо.
– То, чего вы так ждали, ваше преосвященство! Из ящика на площади, – торопливо пояснил он, видя недовольную гримасу на лице хозяина.
– Да чего ты там возишься, давай его сюда! – Епископ хищно схватил конверт, покрутил его в руках, осмотрел со всех сторон и даже обнюхал, два раза внимательно прочел крупные печатные буквы на лицевой стороне и только после этого взломал сургучовую печать и принялся за чтение, бормоча себе под нос: – Писал мужчина, вероятно, средних лет. Из местных. Изрядно нервничал, судя по дрожащей руке… – Закончив чтение, весьма приободрившийся и повеселевший епископ нараспев продекламировал: – Вот грешница, которая забыла иглу, челнок и прялку, ворожа, варила травы, куколок лепила… – Он протянул письмо Ульриху и начал давать инструкции: – Читай. Узнай, кто живет в этом доме. Собери подробные сведения. С арестом и обыском торопиться не будем, нам нужен гарантированный результат. А потому официальный ход делу я дам лишь тогда, когда у нас будет два свидетеля. А потому твое главное задание – ищи свидетелей.
Ульрих сосредоточенно кивал, это ремесло было ему близко и хорошо знакомо.
Собрав заседание Комитета ведьм, Ульрих тщательно выспросил все, что им известно об обитателях третьего дома на Дубовой улице. После этого он стал примерять роль свидетеля на членов комитета. Но, учитывая, что этот процесс должен был стать первым в череде многих, их стоило приберечь для последующих дел. Потому он решил поискать свидетеля проверенным способом – в городском каземате в здании ратуши. Напутствуя его, епископ Нидер отдельно отметил, что канон Accusatus licat дозволяет это.
Удача улыбнулась Ульриху в лице Турчина – душегуба, беглого янычара с бандой башибузуков, орудовавшего на юге дунайского тракта, вблизи самой границы. Посул бессрочной ссылки на рудники вместо поездки на свидание с палачом в имперскую столицу освежил ему память. Он тут же вспомнил, что много раз слышал от своих жертв, а потом и от других злодеев в каземате, что в Карловитце обитает страшная ведьма, она в трепете держит весь город и окрестности, а как-то раз он собственным единственным глазом видал, как та ведьма верхом на бревне кружила над городом и разбрасывала щепотки порошка из толченых костей мертвецов и жаб, отчего, по ее замыслу, должен был погибнуть урожай, а поля покрыться червями, сусликами и змеями. Как он потом слышал от разных людей, чьих имен он, впрочем, не может припомнить, порошок этот ведьме вручил сам нечистый на шабаше в ознаменование их союза, о чем она этим самым людям сама говорила, угрожая.
Узнав эту новость и пролистав протокол допроса турчина, заверенный двумя понятыми и оформленный по всем правилам нотариусом, епископ Нидер удовлетворенно кивнул и выпроводил Ульриха из кабинета с напутствием:
– Работай дальше, сын мой, ты на верном пути.
Спустя еще несколько дней Ульрих с радостным воплем «Я нашел второго свидетеля!» бесцеремонно ввалился к епископу. Иоганн Нидер поднял склоненную над бумагами голову и с нескрываемым любопытством и азартом поинтересовался:
– И кто же это?
– Склочная соседка. Фридой ее кличут, – торопливо начал Ульрих. – Я просмотрел все отчеты приходского священника отца Франтишека об исповедях всех жителей Дубовой улицы нашей веры и нашел, что сия Фрида неоднократно поминала нашу ведьму, каясь в своей неприязни к ней. Я уже переговорил с этой Фридой, и она согласна рассказать всю правду!
Епископ, откинувшись в кресле, мерно покачивал головой.
– Однако есть одно условие у нее… – Ульрих замялся.
– Условие? – вскинул брови епископ.
– Дело в том, что у ведьмы есть огород, – принялся за объяснение Ульрих, – и он как раз примыкает к ограде этой Фриды…
– Скажи ей, что после выступления на суде она получит законное право передвинуть ограду, – нетерпеливо взмахнул рукой епископ.
Ульрих сосредоточенно кивнул.
– А сейчас закладывай лошадей и скачи в Петроварадин за солдатами городской стражи, да по дороге прихвати опытного инквизитора из тамошнего доминиканского монастыря, а я пока улажу формальности с этим неотесанным бургомистром и городским судьей. Сразу же по возвращении вы обыщете дом ведьмы и возьмете ее под арест. – Епископ Нидер в предвкушении потер ладони. – Вот еще что… – Епископ извлек из ящика стола мешочек с солью и воском на кожаном шнурке и повесил его на шею Ульриху. – Это убережет тебя от ее чар. Не волнуйся, это дозволено, – быстро прибавил он, заметив смущение на лице верного помощника. – И смотри не дай ей прикоснуться к тебе! – Закончив с напутствием, он приобнял Ульриха, развернул, взяв за плечи, и легонько толкнул в спину: – Все, иди.
Трактир «Голова вепря», спрятавшийся в извилистых проулках за ратушей, полупуст. Еще пару месяцев назад здесь было не протолкнуться, а теперь едва ли десяток посетителей протирали штаны за большим общим столом. В углу засели заядлые завсегдатаи, коротавшие за кружкой кислого ячменного пива часы, свободные от работы. Трубочист Яков и фонарщик Йохан. Один уже закончил работу на сегодня, а второй еще и не начинал, время зажигать фонари на городских улицах пока не пришло.
– Совсем старый Юрген забыл нас, – пробормотал фонарщик, сдувая пену с кружки и поглядывая на пустующий грубый, но основательно сколоченный табурет.
– Теперь только по ночам шастает с этими своими полоумными, ведьм ловит, – с издевкой буркнул в ответ трубочист, отхлебнув кислого пойла, и, скривившись, грохнул деревянной кружкой о стол, – и меня ведь к ним в компанию хотел заманить, подумай-ка! А то у меня дел других лет!
Йохан смерил старого друга долгим взглядом и, понизив голос, наставительно произнес:
– Ты бы поостерегся, старина. Юрген нос по ветру держит, и лучше с ним не ссориться, да и вообще поменьше имя его трепать. Целее будешь. Он у нас старик жуть какой злопамятный, сам знаешь. Сдается мне, что пришли в наш городишко новые времена и новые порядки. Теперь уже не наш добродушный толстяк бургомистр здесь решает, кому мазать масло на хлеб, а кому корки сухие глодать. Власть переехала в здание напротив. – Он кивнул в сторону окна, где сквозь давно не мытые стекла смутно проступал, возвышаясь над покрытыми мхом черепичными крышами, шпиль собора.
Почесав в затылке, Яков почти прошептал в ответ:
– Верно говоришь, дружище. – Трубочист еще ниже склонился к столу. – Все верно, да и эти наши речи излишние. – Он указал глазами на угрюмого старика с бельмом на глазу в черном, покрытом маслянистыми пятнами кафтане, который, казалось, дремал в углу напротив. Перед ним стоял стакан простой колодезной воды. С первого взгляда его можно было и не заметить среди теней, щедро населявших едва освещенный пыльный угол. Он сидел без движения, его веки были прикрыты. Выдавали его лишь несоразмерно большие уши, покрытые мелкими вьющимися волосиками, которые мелко-мелко подрагивали, живя своей собственной, самостоятельной жизнью. – Который день уж здесь сидит, хотя раньше сюда и носа не казал. Да и кто в «Голове вепря» воду простую хлебает? – Яков криво усмехнулся щербатым ртом.
– Да-а, – протянул Йохан, смахнув мозолистой ладонью пивную пену с пушистых рыжих усов, – теперь лучше пить в тишине…
На следующий день, когда сумерки окутали город, в тисовую, никогда не знавшую замка дверь домика на Дубовой улице настойчиво и нетерпеливо постучали.
– Кто это там барабанит? – приветливо спросила Ангелина, направляясь к двери, хотя ответ ей был хорошо известен. Сунчицу она еще с рассветом специально отослала в Стражилово под предлогом отнести лукошко гостинцев – разных пирожков с начинкой и варенья из лесной ягоды – семье тамошнего здухача Лазаревича да остаться погостить там на пару дней. Записку с объяснениями она положила на самое донышко корзинки втайне от Сунчицы.
– Открывай, ведьма! – Визгливый голос раздался из-за двери, в которую незваные гости колотили все сильнее, не догадываясь потянуть ручку на себя.
Ангелина толкнула дверь, и в домик мгновенно набилось человек десять, возмущенно гомоня и размахивая руками. Они производили страшный шум и распространяли запах несвежего белья и немытых тел, который перебивал даже ароматы трав, сушившихся пучками под потолком.
– Держите ведьму крепче, не то удерет! – пронзительно закричал обрюзгший монах-инквизитор в серо-бурой сутане, специально вызванный из доминиканского монастыря под Петроварадином.
Сам он сразу же бросился к печной заслонке, которую с силой захлопнул, перекрыв дымоход наглухо. Бабушку тут же схватили под руки два дюжих молодца в камзолах городской стражи. В середине комнаты озирался Ульрих, раздавая отрывистые лающие команды сопровождавшим его судебным приставам и чиновникам магистрата. Они принялись выгребать все шкафы, сундуки, полки, сваливая их содержимое прямо на пол. Ульрих прикрыл глаза и втянул ноздрями воздух.
– Здесь явно пахнет колдовством, – проговорил он раздельно, подражая интонациям епископа Нидера.
– Это букет из садовых ромашек и луговых фиалок да чай со свежей мятой в котелке. – Бабушка окатила его волной презрения.
– А это еще что? – прогнусавил монах, двумя пальцами выудив из-под подушки Пухатика – плюшевого мишку Сунчицы, и принялся крутить его перед глазами. – Теперь не отвертишься, ведьма! Колдовское чучело для наведения порчи! – Он торжествовал. – А вот и костяные иглы, очевидно заговоренные, которыми ты его колола! – Монах выудил иголку из клубка ниток. Выхватив из-за пояса небольшой нож, он вонзил его в Пухатика и распорол его брюшко.
Лицо бабушки исказила гримаса боли.
– Что, корчит тебя, ведьма? – злорадно протянул он и принялся вытаскивать из мишки конский волос, которым тот был набит. – Чьи это волосы? Кого ты хотела сжить со свету?
– Это конский волос, брат Звонимир, – подсказал Ульрих.
– Ах так! – бросил тот раздраженно и, помолчав, решительно заявил: – Пристав, пиши!
За столом устроился судейский чиновник, запаливший принесенный с собой сальный огарок свечи и приготовивший загодя бумагу, перья и чернила.
– У ведьмы изъята колдовская кукла, набитая волосом, тайком выдернутым ею на конюшне его преосвященства епископа Иоганна Нидера. Ведьма не отрицает своего намерения сгубить епископа через порчу его лошадей… – Достав с полки восковые свечи, он покрутил их в руках и продолжил диктовать: – Также были найдены заговоренные черным заклятием восковые свечи, предназначенные для изготовления фигурки его преосвященства с последующим вселением в него злых духов посредством…
Писарь пыхтел до раннего утра, измочалив все перья и исписав все листы бумаги. Но результат был впечатляющим – толстая пачка покрытых кляксами листов протокола, каждый из которых заверили своими подписями инквизитор-доминиканец, представитель магистрата, понятые, нотариус и остальные набившиеся в домик представители властей, светских и церковных.
В подземном каземате, расположенном под зданием ратуши, царила плесень и сырость, а по углам юрко шуровали крысы. Туда и водворили бабушку Ангелину. Обрюзгший доминиканец развернул лист бумаги, свернутый свитком, и, стараясь не касаться покрытых влагой стен и не наступать в лужи протухшей воды на полу, зачитал:
– Ангелина Бранкович, также называемая Драговичанка, у следствия имеются различные улики, изобличающие тебя в преступлениях колдовства. Их достаточно, чтобы подвергнуть тебя допросу под пытками. Поэтому мы объявляем и постановляем, что ты должна быть пытаема сегодня же в два часа после полудня.
Бабушка выслушала это молча, повернувшись спиной к решетке, отделяющей темницу от коридора.
Не видя никакой реакции, монах прошипел:
– Ты слышала, ведьма? Тебя будут пытать!
Бабушка равнодушно пожала плечами и, не оборачиваясь, ответила:
– Другого я от вас и не ожидала.
Доминиканец усмехнулся, снял с крюка кожаный фартук и, повязывая его, монотонным, внушающим ужас голосом принялся декламировать давно заученный текст:
– Я буду пытать тебя до тех пор, пока ты не похудеешь и не станешь прозрачной. Не думай, ведьма, что я буду пытать тебя день, неделю, месяц. Нет, я буду пытать тебя все время, пока ты жива. И если ты будешь упорствовать, ты будешь замучена насмерть и тогда все-таки будешь сожжена.
Ангелина вновь пожала плечами и тихо произнесла:
– Делай свое дело. Хватит слов.
Пронизывающий ветер гулял над Дунаем. Старый бревенчатый пирс с двумя десятками рыбацких лодок таял в дымке тумана и был практически неразличим с берега. На краю пирса, обдаваемый брызгами разгулявшихся на реке бурунов, стоял Ульрих, кутаясь в долгополый плащ с низко надвинутым на лицо капюшоном. Он прохаживался туда и обратно, а рядом с ним угодливо семенил Юрген Похоронщик.
– Вот вам на первое время. – Ульрих сунул в руку Похоронщика тощий кожаный кошель с позвякивающими серебряными талерами. – Когда покажете себя, будет больше.
Юрген мелко закивал и поспешно упрятал монеты в глубокий карман кафтана цвета воронова крыла.
– Вот я и говорю, ваша милость. Дочь бакалейщика страдает падучей. – Он тараторил и угодливо исподволь заглядывал в глаза Ульриха, ничто в нем не выдавало того властного старика, что наводил трепет на большинство карловчан. – А в прошлом году он месяц продержал ее привязанной ремнями к кровати, когда она на разные голоса вещала на иноземных языках, стращая родных будущими карами и понося их на все лады за их тайные грехи, о которых никто и знать-то не мог, кроме самого…
– Все это интересно, Юрген, но потом, – прервал его Ульрих. – Сейчас ваша цель – ведьма Драговичанка. Уже скоро суд, и я хочу, чтобы твои люди не подвели. Запомни, зал суда и площадь во время казни – на вас. Народ должен негодовать. Начинайте заранее. Распустите слухи, сплетни… Вот. – Ульрих достал из-за пазухи тетрадь в кожаном переплете, туго перетянутую лентой, и протянул похоронщику. – Тут я кое-что выписал, изучи. Это вы должны распространить среди жителей города и окрестностей. Не подведите меня. Я поручился за вас перед епископом.
Через три дня Ульрих положил перед епископом Нидером протокол допроса под пытками Ангелины Бранкович. Вот что было в нем сказано:
«Карловитц. В среду, 1 ноября, Ангелина Бранкович, 62 лет, была допрашиваема по обвинению в колдовстве; несмотря на многократные увещевания, она не сознается; она ничего не знает и не может ничего сказать; поэтому решили ее подвергнуть пытке. Жом – пусть Создатель будет ей свидетелем, она ничего не знает; ножной винт – опять не хочет отвечать. В четверг, 2 ноября, применили жом и винт вместе – не помогает, она ничего не может сказать. В пятницу, 3 ноября, надевают ей испанский сапог и завинчивают – тихо стонет, но молчит. На дыбе также молчит, несмотря на то что ее довольно долго вытягивали. После этого ее обнажили, надели винт на правую ногу, которую достаточно крепко привинтили, затем подняли ее в воздух и секли розгами – потеряла сознание, но не заговорила. При этом обвиняемой давали только соленые кушанья и полностью отказывали в воде, впрочем, к кушаньям она не притронулась. Во время пытки ей зачитывались изобличающие ее показания свидетелей и другие материалы дела, ночью же к ней применялась процедура tormentum insomniae. Судя по тому упорству, с которым она молчит и выдерживает пытки, очевидно, что ей помогает сам враг рода людского, что является еще одним доказательством ее виновности».
Епископ хмыкнул и, свернув протокол, коротко бросил:
– Кто палач?
Ульрих быстро ответил:
– Брат Звонимир из Петроварадинского доминиканского монастыря. Опытный инквизитор.
– Опытный? – Епископ вперил сузившиеся зрачки на вмиг притихшего Ульриха. – В чем опытный? В составлении протоколов? Если он слабой женщине не может открыть рот, то можно подумать, что он недостаточно изучил это ремесло и плохо владеет своим искусством. – Он встал из-за стола. – Отошли его обратно. Я сам поговорю с ней.
Стремительной походкой епископ Нидер двинулся в сторону ратуши, чуть позади семенил верный Ульрих.
Уже на лестнице, ведущей в каземат, Ульрих шепнул хозяину:
– А еще у нее нет слез.
– Это лишь указывает на ее колдовской дар, – чуть повернув голову, наставительно пояснил епископ.
Остановившись перед решеткой темницы Ангелины, епископ Нидер смерил ее взглядом, моментально приметив осунувшееся лицо, спекшиеся, истрескавшиеся губы, спутанные, разом поседевшие волосы, но особое внимание он уделил глазам. Он знал, как должны выглядеть потухшие глаза сломленного человека, у Ангелины же они светились ровным светом превосходства над всем окружающим.
– Ангелина Бранкович, веришь ли ты в то, что существуют ведьмы?
– Нет. – Голос ее странно хрипел, а губы она разлепила с большим трудом.
Приметив это, епископ махнул Ульриху, и тот сразу же поднес деревянную кружку с чистой прозрачной водой к прутьям решетки и протиснул ее вовнутрь, поставив на пол. Ангелина помедлила, с подозрением поглядев на воду, потом с достоинством взяла кружку в руки, понюхала воду и, будто убедившись в чем-то, коротко кивнула, после чего неторопливо отхлебнула.
– Напейся вволю, – голос епископа был милостив, – однако твое неверие в существование ведьм – это уже высшая ересь, и ты уже виновна. Почему ты отрицаешь, что ты ведьма?
Ангелина, маленькими глотками осушив кружку, поставила ее на пол и, взглянув прямо в глаза епископу, коротко ответила:
– Потому что это неправда.
Епископ Нидер громко рассмеялся. Ульрих даже
вздрогнул – никогда раньше ему не приходилось слышать смех своего хозяина. Епископ достал из-под сутаны маленькую записную книжку, в которую последние дни записывал все, что Ульрих и члены Комитета ведьм могли сообщить ему об Ангелине Бранкович.
– А куда делась твоя внучка? Ее, кажется, зовут Сунчица, да? Это правда, что она помогала тебе в твоем ремесле? Брат Звонимир очень хочет с ней познакомиться… – Он сделал паузу. – Но я пока еще не решил, позволить ли ему это…
Ангелина вздрогнула, ее лицо посерело, а глаза потемнели и задрожали от гнева.
– Вы не посмеете…
Епископ Нидер приблизил лицо к решетке и тихо, одними губами, по-змеиному прошипел:
– В Сигедине я сжег на костре пятилетнюю ведьму. Уверен, другие ведьмы на шабаше тебе об этом рассказывали.
Через час в кабинете судьи, расположенном в том же здании городской ратуши рядом с комнатами магистрата, собрались сам судья, два члена городской стражи, нотариус. Двоих понятых из числа членов Комитета ведьм спешно привел Ульрих. На низкой скамеечке между двумя стражниками сидела поникшая Ангелина, напротив нее за массивным столом восседал, с прямой как струна спиной, епископ Нидер, сбоку с листами для протокола примостился все тот же секретарь. В углу в кресле сидел тучный бургомистр, поминутно бросавший тревожные, но полные сожаления взгляды на Ангелину. Согласно имперским законам, он также должен был быть включен в состав коллегии суда. Оглядев всех собравшихся и решив, что пора начинать, епископ Нидер высокопарно произнес:
– Ангелина Бранкович, прозываемая Драговичанкой, ответь мне: верно ли, что ты продала свою бессмертную душу демону по имени Асмодей и поступила к нему в услужение, вредя людям и сживая их со свету?
– …
– Ну же! Я жду! – Он бросил свирепый взгляд на вмиг постаревшую и согнувшуюся Ангелину.
– Да… – сорвался с ее губ едва слышный шепот.
– Громче! – хлестнул епископ.
– Да! Да! – Голос ее срывался, из глаз потекли слезы, и она прикрыла их ладонями.
– Вот видишь, – он был одновременно милостив и высокомерен, – признание облегчило твою душу, ты даже вновь обрела возможность плакать. Пиши, – обернулся он к чиновнику с пером в руке, замершим над протоколом, – Ангелина Бранкович показала, что вступила в связь с демоном Асмодеем… – На секунду епископ раскрыл лежащий перед ним фолиант in quatro, на обложке которого красовалось заглавие «О личинах демонов» и имя автора – Делакруа, пробежал страницу глазами и продолжил диктовку монотонным голосом: – Коий явился к ней в образе древнего змея и изъяснил, что именно он соблазнил прародительницу Еву. Он научил Ангелину Бранкович делаться невидимой и поведал ей, что ему подчиняется семьдесят два легиона бесов, а сам он в адской иерархии подчиняется королю Амоймону. Также он поведал, что сам он сын Каина и демонической блудницы Ноамы. Он – супруг младшей Лилит, которая от головы до пупка подобна прекрасной жене, а от пупка до земли – огонь пылающий. Этот демон блуда, князь инкубата и суккубата признался сей ведьме в том, что это именно он повинен в массовой одержимости монахинь из Лудуна и Лувье. Он же разжигает в людях ярость и подстрекает к мятежам и волнениям против законной власти, он, Асмодей, олицетворяет неистовый огонь – адское пламя и бунт… – Епископ на секунду прервался и, обернувшись к Ангелине, елейным голосом спросил: – Госпожа Бранкович, я верно передаю вашу мысль?
Сникшая женщина, сейчас больше похожая на тряпичную куклу, обреченно кивнула.
Епископ Нидер удовлетворенно улыбнулся уголками рта и потер ладони:
– Ну что ж, тогда продолжим…
Вечером епископ Нидер бодрой походкой вошел в свои покои, держа под мышкой толстую папку, набитую листами с копией протокола. Суд назначили на понедельник, и у него было время поработать с бумагами. Устроившись за столом, он достал из ящика чистый конверт и подписал его «Ректору Равенсбургского университета». После этого достал белоснежный лист почтовой бумаги с вензелем в углу и округлым вкрадчивым почерком вывел следующее:
«Милостивый государь! Уведомляю Вас, что полностью закончил сбор документальных материалов для трактата, что Ваш университет мне любезно заказал. Готовую рукопись с избранными документами в качестве приложений вышлю Вам в конце месяца. Могу ли я рассчитывать на публикацию книги к следующему лету и как мы поступим с обговоренным гонораром?
Остаюсь всегда преданным Вам,
епископ Иоганн Нидер».
Долговязый беззубый старик с высохшим будто пергамент желтым лицом с раннего утра толкался на рынке среди суетливой и шумной субботней толпы, временами перебрасываясь с торговками то добродушными прибаутками, то злобной бранью.
– Что ты тут отираешься, Кривой Шульц? Проку с тебя нет, ничего не покупаешь, только людей распугиваешь кафтаном своим чернющим. – Бойкая молочница Эмма в белоснежном фартуке уперла кулаки в пышные бока и задорно вскинула голову, покрытую затейливо подвязанным кокетливым чепцом. – Чего вырядился-то? Аль погулять на похоронах собственных решил, ворона старая?
– Цыц, проныра! – Старик зыркнул на Эмму единственным глазом, второй уж много лет как был затянут бельмом. – Лучше волосья свои прибери, вон, космы какие выбились, не позорь мужа!
– Ишь, блюститель выискался! – Молочница обиженно поджала губы, но волосы нехотя прибрала под чепец.
– А ты чего раскомандовался, старый? – прищурилась на долговязого Шульца пожилая торговка тыквенными семечками, стоявшая за соседним прилавком.
– А то, соседка Гордана, что для ее же блага, – он пренебрежительно кивнул в сторону молочницы, – заметку ей делаю. Ведь не понимает дуреха, зелена еще, что за времена-то грядут… Вы новости-то хоть слыхали?
– Не-е-ет, – хором выдохнули торговки, расширив глаза.
– Ну ладно… – Старик пригнулся ниже и заговорщически понизил голос: – Но только вам говорю. Смотрите не проболтайтесь!
– Нет-нет! – Обе усиленно замотали головами.
– Ангелина – товарка ваша, ну та, у которой вы травы брали… – он сделал выразительную паузу, – ведьмой оказалась. Страсть, что у нее дома нашли! Младенцев на кладбище раскапывала и мазь из них делала, чтобы на шабаши бесовские летать…
– Да ну! – Эмма и Гордана даже присели от ужаса.
– Вот вам и ну. Верный факт. – Кривой Шульц назидательно поднял узловатый палец с треугольным грязным ногтем. – Официально установленный. – Хитро прищурившись и наклонив голову, он притворно удивился: – А то вы не знали? Вы ж товарки первые, это ж весь город знает!
– Мы-ы? – Торговки даже задохнулись от возмущения.
– Да мы, если хочешь знать, и на порог ее не пускали, – начала мигом раскрасневшаяся Эмма, – а отвары ее бесовские я и сама никогда не пользовала и других отговаривала!
– Я как чуяла, как знала, – причитала Гордана, охая и отфыркиваясь, словно бы запыхавшись от долгого подъема на кручу.
– Так вот, спрос с вашего брата будет теперь куда строже, – назидательно продолжил старик. – У епископа Нидера не забалуешь, у него глаз на непорядки по вашей части наметанный. А потому ежели не хотите впросак попасть, то блюдите себя зорко, да и за другими присматривайте. – Обе торговки испуганно закивали. – А про то, что у ведьмы в доме нашли, смотрите, никому не слова! Я и так уже лишнего тут с вами наболтал. Помочь вам, дурехам, хотел по-соседски, а вы… – Шульц махнул на них рукой с выражением полного разочарования на лице и повернулся, будто б собравшись уходить.
– А что мы, что мы, – загомонила Гордана, выскакивая из-за прилавка, – мы не со зла, соседушка, а по бабьей глупости, ты вот на-ко, семечек возьми да замолви там за нас словечко-то, не брали мы отваров у ведьмы этой никогда, не брали! А ты что стоишь столбом? – напустилась она на Эмму. – Налей парного молочка герру Шульцу, сыру заверни.
Обе торговки засуетились, набивая плетеную корзину, извлеченную откуда-то из-под прилавка, разнообразной снедью.
– Ладно, будет вам, – словно нехотя буркнул старик, подхватывая корзину из рук Эммы. – Заболтался я тут с вами, а у меня делов еще невпроворот. И в артель белошвеек еще надо поспеть. А вы смотрите мне, – он грозно насупил лохматые седые брови, – никому ни гу-гу, не подведите меня! – И, развернувшись, зашаркал прочь.
Едва его фигура скрылась за углом, Гордана подхватила юбки и бросила через плечо:
– Предупрежу Марту-зеленщицу, она моей куме своячница, ей можно, а ты пока за товаром пригляди!
Она со всех ног бросилась на другой конец рынка, цокая деревянными башмаками по каменным плитам, которыми была замощена рыночная площадь. Сделав десяток шагов, Гордана остановилась, обернулась и, вытаращив глаза, прокричала Эмме:
– Это надо ж, подумать только, такая милая старушка, а оказалась ведьмой – погубительницей младенцев!
Она с отвращением сплюнула и заторопилась дальше, даже не заметив у себя под ногами торчащий из-под колоды мясника, на которой он разделывал туши, ободранный голый хвост старой крысы, испокон жившей тут, вблизи мясных объедков. Под тяжестью деревянного каблука Горданы крыса пронзительно запищала и бросилась наутек, заставив визжать от неожиданности и испуга дородную торговку.
Воскресным вечером тучный бургомистр Мартин Брант с пышными баками и отечным одутловатым лицом появился в покоях епископа Нидера. Робко постучав в приоткрытую дверь кабинета и не дождавшись ответа, он бочком протиснулся в комнату. Иоганн Нидер, чем-то сильно увлеченный, стоял спиной к двери и гостя даже не заметил. Епископ в фартуке и перчатках из плотной кожи и защитных очках, скрывавших половину лица, склонился над небольшой горелкой, пламя под которой он раздувал миниатюрными кузнечными мехами. Субстанция в колбе, закрепленной над огнем, пенилась и бурлила, а он лишь помешивал ее, добавлял туда что-то из других емкостей, которыми был уставлен его стол, и время от времени что-то сыпал из разных мешочков, сверяясь с записями и отмеряя какие-то промежутки времени по хронометру. Бургомистр тихонько кашлянул в кулак. Епископ вихрем обернулся, одновременно стаскивая очки с носа.
– Ах, это вы, бургомистр! – Вздох облегчения невольно вырвался из его груди. – Совсем забыл о нашей встрече, простите мне мою бестактность и внешний вид. – Он был сама приветливость и учтивость. – Пройдемте лучше в столовую, там нам накроют ужин. – Епископ взял градоначальника за локоть и настойчиво увлек за собой прочь из кабинета.
За ужином Ульрих подал бургомистру Бранту густую паннонскую похлебку с конской колбасой, хорошо прожаренный кусок вепря, добытого в местных лесах, со сладким соусом и терпкое тягучее вино местных виноделов. Епископ Нидер же традиционно довольствовался фужером сырой колодезной воды и сухарем, поданным на изящной тарелке богемского стекла.
– Вы производите научные опыты, ваше преосвященство? – Мартин Брант отхлебнул вина и вопросительно взглянул на епископа.
– Признаюсь, что алхимия меня очень занимает, я посвящаю ей почти все свободное время, – с достоинством ответил Нидер.
– Вот как? – Бургомистр вопросительно вскинул брови. – Но разве те, с кем вы боретесь, не готовят свои зелья в котлах, точно так же, как алхимики?
Сумрачная тень пробежала по лицу епископа.
– Господин бургомистр, – с расстановкой начал он, – вам, человеку столь занятому, вероятно, не остается времени следить за достижениями науки, поэтому вам простительны подобные, простите за прямоту, достаточно опасные, ошибочные суждения и сравнения. Алхимические тинктуры и эликсиры – совсем иные субстанции, чья природа носит характер дарованного нам свыше, нежели бесовские ведьминские отвары и зелья. Алхимия призвана искупить природу. То, что природа не способна облагородить даже за долгое время, наше искусство позволяет нам сделать быстро. Мы даже получаем власть над временем! Наполнена алхимия и аллегоричностью, и тайным смыслом, имеющим прямое отношение к бессмертию и воскрешению из мертвых! – Страстный монолог епископ произносил, приподнявшись над столом и уперев взгляд прямо в глаза растерявшегося и так и застывшего с занесенной около рта ложкой с похлебкой бургомистра. – Вы ставите на одну доску философский камень, искусство трансмутации и бесовское наваждение! – Он погрозил длинным иссушенным пальцем прямо у носа бургомистра. – Берегитесь, господин Брант, такой образ мыслей не доведет вас до добра!
Бургомистр налился краской, отвел глаза, но все же осмелился возразить:
– Но бессмертие, а тем более некрома… – Тут он напоролся на бешеный взгляд епископа и быстро поправился: – Я хотел сказать, воскрешение из мертвых, разве это дозволяется Церковью?
Епископ Нидер в один момент, будто змея, меняющая кожу, сменил тон на милостивый, а выражение лица приняло лукавый, обольщающий оттенок.
– Ах, мой милый Мартин, я же могу вас так называть на правах друга, не так ли? Страх смерти – это для людей низшего звания. Когда они теряют этот страх, они выходят из повиновения, и тогда наступает хаос. Потому наш долг – постоянно напоминать им об адском пламени, что покарает их грешные души. Это нужно для сохранения равновесия в обществе. – При этом епископ взял кувшинчик с вином и, привстав, сам наполнил бокал бургомистра. – Нам же с вами, пастырям сего стада, – продолжил он, сделав широкий жест рукой, – не по чину испытывать подобные страхи, а потому естественно стараться воплотить стремление к вечности. – Епископ замолк и пристально взглянул на бургомистра, который почувствовал озноб от змеиного взгляда, проникающего под кожу. – И не надо путать это искусство с ведьмаческой некромантией, мой дорогой Мартин, это может быть очень опасно, – закончил он почти шепотом, все так же не сводя глаз со своего сотрапезника.
Бургомистр потер вновь занывшие колени – та мазь, что летом приносила служанка Фрида, закончилась аккурат три дня назад, а новой взять теперь было уж неоткуда, – еще раз попытавшись уместить в сознании разницу между запретным отваром и дозволенным эликсиром, а также бесовской некромантией и алхимическим воскрешением из мертвых.
– Ваше преосвященство, – после минутной тишины градоначальник наконец решился подступиться к главной теме, ради которой он и нанес этот визит, сетуя на себя за то, что столь неудачно начал разговор, – относительно этого суда… – Бургомистр Брант замялся и нервно сжал салфетку в толстых мясистых пальцах. – Может быть, мы ограничимся бессрочным заточением в монастырь?
В глазах епископа вспыхнул огонь. Он медленно поднял взгляд и с расстановкой произнес:
– Если бы я не знал вас, господин бургомистр, я бы мог подумать, что вы ходатайствуете за ведьму, а делать это, как известно, может лишь одержимый бесами либо их добровольный пособник… – Епископ Нидер выжидательно взглянул на собеседника.
Краска вновь прилила к лицу бургомистра, уши стали пунцовыми, он поперхнулся глотком вина и с грохотом поставил бокал на стол.
– Нет-нет, ваше преосвященство, – заторопился Брант, – я всего лишь подумал… – Казалось, он уменьшился в размерах, съежился.
– Ну вот и славно. Завтра, когда суд огласит справедливый приговор, ведьма будет сожжена, – с нажимом сказал епископ и после секундной паузы с жаром продолжил: – И не позволяйте себя обманывать, мой дорогой Мартин. Если кому-то казалось, что эта ведьма своими травами и кореньями хоть в чем-то может помочь, – он со значением взглянул на бургомистра, – то это не более чем бесовское наваждение и морок. Таких случаев сотни, можете мне поверить, я говорю это, опираясь на мой опыт и документы, а значит, факты. – Епископ поднял вверх указательный палец. – Ведьмы, как правило, медленно травят больных, отправляя потом их души прямиком в преисподнюю, а их помощники бесы лишь даруют бедным страждущим иллюзию временного облегчения, и это мнимое облегчение, что дают они тем, кто доверился им в припадке слепого безумия, лишь еще более доказывает их лживость и союз с врагом рода людского, а значит, отягчает их вину перед Церковью и инквизицией.
Епископ замолк и устремил взор куда-то вдаль, словно бы зрил сквозь стены. Только массивные часы в углу комнаты сухими щелчками своего механизма осмеливались нарушать повисшую свинцовую тишину. Залпом осушив фужер с водой, епископ Нидер перевел взгляд на скрючевшегося, опустившего глаза в тарелку в попытке стать незаметным бургомистра.
На миг жалкий вид городского головы растопил лед, уже давным-давно заковавший сердце епископа в суровый доспех, и он сменил тон обличающий на мягкое вразумление, в его голосе послышались даже нотки участия и сострадания. Впрочем, эти чувства всегда были недоступны Иоганну Нидеру, он умел их лишь имитировать.
– В природе нет абсолютного зла и добра, черного и белого. Есть множество оттенков. Но мы живем по закону, дарованному свыше, это и делает нас людьми, отличает от животных и возвышает над язычниками, живущими по законам звериным, иначе – по законам природы. Концепция добра, противостоящего злу, – вот что есть основа нашей цивилизации. Мы, Церковь, задаем народу эти ориентиры, определяем эти полярности. И нам нужны примеры, живые иллюстрации, иначе стадо быстро вернется в исходное животное, ну или, если хотите, природное, состояние. Именно мы говорим: вот это добро, а вот это зло. Это белое, а это черное. Но в природе же нет подобных примеров. И что же нам делать? Допустить крах нашего мира и его возврат в безбожные, демонские времена? Лишь потому что мы не смогли наглядно показать простолюдинам – вот это белое, а вот это черное? Чтобы наши народы превратились в подобие греков и римлян? Церковь не может допустить такой деградации нравов, такого падения, прямиком ведущего в геенну огненную. Мы – пастухи, и наша задача спасать овец даже против их воли, потому мы для блага всего стада избираем одну овцу и объявляем ее, и надо сказать, не без оснований, паршивой, носителем зла. Возможно, приходится немного абсолютизировать степень вины, но без этого никак. Это прискорбно, но совершенно необходимо для спасения всего стада – как нам иначе объяснить пасомым, что есть добро, по пути которого мы их ведем, ежели не можем им наглядно показать, что есть зло? Ведь одно без другого невозможно, и если не существует одно, то нет и другого. И если не являть толпе периодически воплощения зла, которые мы показательно караем, тогда для них перестанем существовать и мы, носители добра. А без четких ориентиров люди провалятся в языческое мракобесие, оно и так цветет в умах всех крестьян. Церковь до сих пор так и не смогла толком утвердиться в их душах, пропитанных поганством, если они у них конечно же вообще есть, в чем лично я временами серьезно сомневаюсь. Да и многие горожане не чужды этим ветхим умонастроениям.
Епископ пристально взглянул на бургомистра, покончив со своей длинной тирадой.
Помолчав, Мартин Брант начал, все так же не поднимая глаз:
– Я всего лишь бургомистр маленького городка в захолустье, на окраине империи, где немецкая речь чужда уху большинства жителей. Я не учился в университете и даже никогда не посещал нашу столицу. Я провинциал. Схоластика и теология для меня – темный лес. – Его голос постепенно креп и набирал силу, он осмелился даже поднять взгляд на епископа Нидера. – Но я верю своим глазам, а они говорят мне, что эта женщина, Ангелина Бранкович, которую вы называли ведьмой, обвинили в страшных преступлениях и собираетесь подвергнуть изуверской казни в пламени огня, никому не причинила вреда, а тем более зла. Вы называете свет тьмою и наоборот, уверяя, что действуете ради общего блага…
– Берегитесь, бургомистр! – Епископ взвился, лицо его перекосила гримаса ненависти, он не говорил, а шипел: – Вы говорите с князем Церкви и инквизитором из ордена псов Создателя, а в речах ваших сквозит яд лживых обвинений катаров в адрес матери Церкви! И они поклонялись тому, кто прикрывается именем света… – Он на секунду замолк, проверяя, какой эффект произвели его слова, и тут же с угрозой продолжил: – А ведь катарская ересь проникла в глубь Запада именно из здешних краев… Может, семена ее вновь проросли?
Казалось, что под градом угроз и обвинений бургомистр Мартин Брант обрел достоинство и смелость. Его толстые щеки тряслись от гнева, а страх испарился из глаз. Профиль его лица, губы, брови обрели жесткость. Он резко встал из-за стола и проревел:
– Вершите ваш суд! Я не в силах помешать вам… – Отблеск удовлетворения, пробежавший по лицу епископа при этих словах, еще больше распалил бургомистра. Стоя уже в дверях, он обернулся и напоследок добавил: – Но моей подписи и печати не будет на этом приговоре!
С силой захлопнув дверь, бургомистр с потрясающей для его размеров стремительностью покинул покои епископа и двинулся прямиком в сторону особняка, чей фасад выходил на площадь и который вот уже десятый год занимало семейство Брант. Не заходя в дом, он кликнул с конюшни кучера и велел срочно закладывать коляску. Накинув дорожный плащ, он взобрался с помощью мальчика-грума в экипаж и коротко бросил сидевшему в готовности кучеру:
– В Петроварадин. – И тут же добавил: – Не шагом, рысью гони.
– Да, господин бургомистр, – ответил кучер и взмахнул вожжами.
Пока бургомистр трясся на ухабистом тракте, ведущем в Петроварадин, епископ Нидер мерил шагами кабинет, заложив руки за спину. Наконец, что-то решив, он стремительно взялся за перья, открыл чернильницу и приготовил лист гербовой писчей бумаги. Перебрав перья, он остановил свой выбор на одном из них, обмакнул его в чернила и принялся выводить слова своим изящным и в то же время размашистым почерком:
«Мой дорогой друг! Я весьма сожалею о вышедшей между нами нелепой размолвке, а потому спешу разъяснить Вам одну вещь, которую, как мне кажется, Вы не до конца осознаете. То, что мы собираемся сделать – замечу, цивилизованно и по закону, – произошло бы в любом случае. Рано или поздно. Толпа, чернь не любит тех, кто отличается, иные всегда виновны во всем – в засухе, морозах, избытке волков, нашествии саранчи. Потому альтернатива невелика – это может происходить избирательно и под нашим контролем, легитимно, по решению суда. Или же это может быть спонтанно и по воле дикой, неуправляемой толпы. Церкви необходимо утверждать свою власть, обеспечивать стабильность и покой внутри империи. Если хотите, то святая инквизиция – это альтернатива крестьянским мятежам и гражданским войнам. Мы направляем желчь недовольства крестьян и городских обывателей в безопасное русло, ограждая империю от потрясений. Ценой одной жизни, не такой уж и невинной в глазах церкви, мы спасаем множество других…»
Епископ перечитал получившийся абзац и нахмурился. «Этот Брант – неотесанный деревенщина, ему все равно не дано постичь высшие мотивы, а вот слишком откровенное письмо в его руках может стать серьезным оружием», – подумал он. Потерев в задумчивости подбородок, Иоганн Нидер поднес бумагу к пламени свечи и неторопливо скормил нерожденное письмо маленьким прожорливым язычкам огня, охватившим лист с трех сторон.
Тем временем бургомистр добрался до Петроварадина и приказал править к дому своего старого приятеля адвоката Якоба Фидлера, что стоял рядом с церковью, задней стеной упираясь в подножие холма, на вершине которого имперская армия вот уже который год возводила грандиозную крепость с системой мощных укреплений, призванную охранять от янычарского ятагана въезд на широкий каменный мост, соединяющий два берега Дуная и привязывающий Срем навечно к Империи.
Вкратце обрисовав суть дела адвокату Фидлеру, бургомистр заручился его согласием представлять в суде интересы фрау Бранкович, а также сохранить в тайне личность самого Бранта как нанимателя. Оставив кожаный кошель, туго набитый серебряными монетами, на столе адвоката как залог его участия в предстоящем процессе, господин Брант со спокойной душой тронулся в обратный путь, по дороге мечтая о горячей ванне и хорошей отбивной.
Вот уже пять дней Сунчица жила в большом сельском доме стражиловского здухача Лазаревича, сложенном из вековых пахучих сосновых бревен. Дружная семья радушно приняла ее и окружила теплом и уютом, но девочка с каждым днем становилась все более грустной и замкнутой. Новостей от бабушки так и не было, и Сунцица все глубже проваливалась внутрь себя, утопая в печали, чей холод пробирал ее до костей. Внутри ее росла пустота, которую заполняло обжигающее ледяное одиночество.
Однажды утром она тихо, будто тень, сидела у окна, закутавшись в плед. Ей все время было зябко. Невидящим, затуманенным взором она смотрела на опушку леса, раскинувшегося сразу же за низкой, сложенной из песчаника оградой, обнимавшей огород. А с ветки вековечного дуба за ней не мигая наблюдала большая белая сова. За спиной Сунчица почувствовала присутствие Страшимира, необычайно молчаливого в эти дни.
– Я не могу увидеть бабушку во сне, – голос ее был пуст и лишен жизни, – я очень стараюсь, но у меня не получается…
Одинокая слеза пробежала по ее щеке и упала на подоконник. Девочка накрыла ее ладошкой. Спустя мгновение слезинка превратилась в ледяной кристаллик. Глаза Сунчицы расширились от удивления, она приложила пальчик к оконному стеклу, и оно покрылось тонкой, едва заметной паутинкой льда.
– Тебе надо согреться. – Удивительно, сколько заботы и мягкости могло быть в голосе этого огромного человека, больше похожего на медведя.
– Я не могу… – Тихий голос Сунчицы был наполнен страданием. – Сначала я ощущала внутри просто ледяной комок, но с каждым днем он увеличивается, разрастается, превращаясь в бездонный колодец. Он притягивает меня. Я заглядываю в него и вижу бесконечность, наполненную болью и страхом и одновременно безразличием. Я так боюсь утонуть в нем…
Здухач опустил голову и многозначительно посмотрел на Сунчицу:
– Ты необыкновенная маленькая девочка…
– Не такая уж я и маленькая, – печально ответила она.
– Но и совсем не большая. – Страшимир присел на корточки, и его голова оказалась вровень с головкой девочки, казавшейся крошечной рядом с ним. – Сделай вот что. Закрой глаза и представь костер на лесной поляне. Поддерживай огонь в нем, и вот увидишь, он тебя отогреет.
Сунчица послушно кивнула и закрыла глаза. Спустя пару минут она едва слышно прошептала:
– Он не горит, он постоянно тухнет…
Так же тихо здухач посоветовал:
– Попробуй подкладывать в огонь свои страхи, боль, дурные воспоминания, неиссушенные обиды и злые мысли.
– А печали и горести? – быстро спросила девочка.
– Нет, нет. Их оставь себе. Они еще пригодятся тебе. – На миг его сердце накрыла обжигающая волна нежности и грусти. «Сколько еще предстоит перенести и пережить этой хрупкой девочке…» – с тоской подумал Страшимир.
– А можно это будет… земляничная полянка? – Ее голос дрожал от волнения.
– Ну конечно же, Сунчица, конечно же можно. – По лицу здухача пробежала участливая улыбка.
Спустя десять минут румянец заиграл на ее щеках. Сунчица открыла глаза, ожившие и заблестевшие почти как прежде.
– Ты согрелась? – Здухач вновь говорил во всю мощь своего медвежьего раскатистого баса, заполнявшего собой всю комнату без остатка.
– Да, Страшимире! У меня получилось! – Ее голосок звенел как капелька росы в луче утреннего солнышка.
– Хорошо. А теперь нам пора собираться в город. – Здухач Лазаревич поднялся на ноги. – А по дороге я тебе все расскажу…
На следующее утро верный своему слову адвокат Фидлер ранним утром въехал в Карловитц и вихрем ворвался в кабинет городского судьи в здании ратуши, временно занятый епископом Нидером, где собрались все участники предстоящего процесса, до начала которого оставалось еще два с лишним часа.
– Господа, – решительно обратился адвокат к собравшимся, – меня зовут Якоб Фидлер, я защитник фрау Бранкович и буду представлять ее интересы на предстоящем судебном процессе. Прошу ознакомить меня с материалами дела и позволить переговорить с моей подзащитной.
Епископ смерил взглядом вошедшего и протянул:
– Любопытно, кто вас нанял… Впрочем, я и так догадываюсь… Пристав! – обратился он к судебному чиновнику. – Предоставьте господину адвокату возможность в спокойной обстановке ознакомиться с собранными нами доказательствами вины его подзащитной, а после проводите его к ведьме, дайте им не более десяти минут в вашем присутствии.
Судебный пристав коротко кивнул и, взяв в руки преизрядный том, двинулся в сторону коридора, небрежным движением головы пригласив господина Фидлера следовать за ним.
– Да, господин адвокат. В вашем распоряжении полтора часа и ни минутой больше. Ровно в десять начнется судебное заседание. – Епископ Нидер был полон ощущения собственной глубокой правоты и, казалось, напитывал им окружающих, весьма нервничавших перед началом процесса по обвинению в колдовстве, которых в этой местности ранее никогда не бывало.
Через час Якоб Фидлер вновь появился в кабинете.
– Господин Нидер, нам… – начал адвокат.
– Ваше преосвященство! – Глаза выросшего напротив адвоката верного Ульриха пылали гневом. – Так подобает обращаться к епископу святой Церкви!
Не обращая внимания на искрящегося ненавистью слугу, Фидлер продолжил:
– Нам надо переговорить перед началом процесса.
Епископ Нидер с удивлением поднял глаза на адвоката, чье лицо светилось решимостью:
– Господин адвокат, я не вижу предмета для разговора. Все предельно очевидно.
– Я не понимаю, на основании чего вы заключили эту бедную женщину в каземат и собираетесь ее судить! – Голос был тверд, было ясно, что он не намерен отступать.
– Не понимаете? – Казалось, епископ искренне удивлен. – Ну тогда я поясню вам. Все очень просто. Ведьму мы будем судить на основании светских и церковных законов, обязательных для всех подданных империи. У нас есть сообщение бдительного горожанина, уличившего ведьму, после получения которого мы начали проверку, в ходе которой удостоверились в истинности подозрения. Два достойных доверия человека свидетельствуют против этой ведьмы, а обыск в ее доме дал нам и множество неопровержимых улик ее сговора с бесами. Под грузом множества столь неопровержимых доказательств ведьма и сама во всем призналась. Со всеми документами вы, уверен, уже ознакомились, так что оставьте дешевые трюки для иных процессов, этот ведет инквизиция, и здесь ваши уловки не помогут, адвокат. – Епископ Нидер был величав и суров, каждая его черточка, морщинка, жест лучились уверенностью и непогрешимостью.
– Но постойте, – адвокат Фидер под множеством свинцовых взглядов, нацеленных на него, казалось, частично утратил свою уверенность, в его движениях и мимике появилась какая-то суетливость, – вы угрожали Ангелине Бранкович, вынуждая ее оговорить себя, не давали ей спать в течение трех дней и, что самое главное, неоднократно подвергали пытке, хотя в законе четко оговорено, что пытка применяется лишь один раз и не дольше пятидесяти минут! А имен свидетелей, что указали на госпожу Бранкович, нет в предоставленных вами материалах. Я требую объяснений. – Скрестив руки на груди, Якоб Фидлер застыл в наигранной позе, высоко подняв подбородок и устремив взор поверх голов присутствующих.
– Господин адвокат, простите, не потрудился запомнить ваше имя. Мне кажется, вы стремитесь причинить вред справедливости. – Епископ окинул своего визави презрительным, ошпаривающим взглядом. – Вы, очевидно, жаждете пустых словопрений, к коим имеете большую склонность, что выдает вашу заинтересованность. Вы хотите затянуть начало процесса, добиться его переноса? Вам это не удастся, так же как не позволим мы вам и затянуть судебное следствие. – Слова он цедил сквозь зубы, выказывая все свое презрение. – В процессах против еретиков, каковою, без сомнения, является ведьма по прозвищу Драговичанка, которую вы столь неосмотрительно вызвались защищать, – мы еще разберемся позже в причинах, сподвигнувших вас на это, – предписывается действовать просто и избегать формальностей, так как дела эти предельно очевидны. Вот ведьма, – епископ взмахнул руками, – вот факт колдовства, подтвержденный ее чистосердечным признанием, доказательствами и показаниями свидетелей, что еще нужно? Кстати, вы знаете, – епископ хищно подался вперед, – что я могу обвинить вас в покровительстве еретикам и на этом основании отлучить от Церкви? Понимаете, какие последствия это вызовет?
Он вперил немигающий взгляд в адвоката. Тот его выдержал и с достоинством, заслуживающим всяческого уважения, повторил:
– И все же я настаиваю.
– Ну что же, – епископ плотоядно усмехнулся, – раз вы настаиваете… – Последнее слово он будто бы протянул сквозь плотно сжатые зубы. – Во-первых, мы не угрожаем, а увещеваем, как предписывают все законные установления. Процедура insomniae torrentum, кою вы поименовали примитивным лишением сна, применяется также вполне законно из следующих соображений. Ведьмы, как нам хорошо известно, могут перемещаться во сне. Если дать ей уснуть, пока не закончено следствие, она предупредит других, еще не выявленных нами ведьм в округе, – кстати, вы знаете, что ей помогала ее внучка, приобщенная к ведьмачеству, она бросилась в бега, но мы ищем ее и, без сомнения, скоро найдем, – тем самым способствуя тому, чтобы они ускользнули от карающей руки закона, церковного и светского. Но самое главное, что во сне она может получить инструкции от рогатого! – При этих словах он с отвращением сплюнул. – Теперь про пытки. Вот что говорит ваш коллега Карпцов, с его фундаментальными трудами в области юриспруденции вы, несомненно, знакомы… – Поднявшись из кресла, епископ Нидер повернулся к книжному шкафу и снял с полки увесистый том, уверенно раскрыл нужную страницу, и вновь развернувшись к оппоненту, принялся громко читать: – «При этих тяжелых преступлениях, совершающихся втайне, при которых так трудно добиться доказательств, что только один из тысячи наказывается по заслугам, – при таких преступлениях следует изменить обычный порядок судопроизводства: пытка может быть часто повторяема, так как при тяжелых преступлениях нужно прибегать и к сильным средствам. Судья тем более вправе употреблять против ведьм более жестокую пытку, что нечистый им всегда помогает устоять против мучений». – От себя добавлю, – епископ оторвал взгляд от книги, – что канон Extra de Verbsig предписывает в процессах по делам о ереси и колдовстве применять сокращенное судопроизводство, лишенное всяких формальностей. А вот что говорит другой юрист, профессор в Инсбруке, Кристоф Фролих фон Фролихсбург. – Епископ снова зашуршал страницами и, найдя искомую, вновь принялся зачитывать: – «Так как преступление колдовства – одно из самых ужасных деяний, даже среди crimina excepta, и такого рода, что трудно их доказать, то для возбуждения преследования против обвиняемых и для применения пыток должно считаться достаточным основанием самое легчайшее указание их виновности. В особенности вполне достаточным основанием может служить народная молва…» Пожалуй, достаточно, не правда ли? – Епископ Нидер захлопнул книгу и водрузил ее на место. – И что вас еще интересовало? Имена свидетелей? К сожалению, это невозможно. Буллу папы Бонифация на эту тему я процитирую вам на память: «Мы воспрещаем поименное упоминание обвинителей или свидетелей, выступающих в процессе о ереси, чтобы защитить их от козней тех, против которых ведется дознание. Епископ или инквизитор должны знать, что этим лицам грозит большая опасность при обнародовании их имен. Поэтому судьи не должны их обнародовать». Теперь я ответил на все ваши вопросы, адвокат? – Епископ Нидер высокомерно улыбнулся краешком рта.
Собравшиеся в кабинете с иронией и издевкой поглядывали на заезжего адвоката. Нотариус что-то на ухо прошептал судебному приставу, и оба прыснули со смеху. Ульрих же с вызовом бросил Якобу Фидлеру:
– Выскочка!
Впрочем, адвокат сдержался и не унизился до перепалки со слугой, который по случаю судебного заседания вырядился в камзол, и ничего в его внешнем виде не выдавало его статуса, кроме манер и простецкого выговора.
– Раз вы отказываетесь назвать имена свидетелей… – адвокат выдержал эффектную паузу, – я выношу ходатайство о смертельной вражде.
По комнате пронесся шумный выдох и последовавший нарастающий гул голосов. Подобного коварства, казалось, не ожидали даже от очевидного богохульника и наглеца, осмелившегося выступить в качестве защитника ведьмы. Спокойствие сохранил лишь епископ Нидер, равнодушно ответивший:
– Хорошо, подайте список врагов ведьмы – на его составление я дам вам еще одно десятиминутное свидание с ней. Если в списке окажется кто-то из наших свидетелей, мы огласим его имя в зале суда и исключим его показания из списка доказательств, их и так достаточно. Но предупреждаю, адвокат, – епископ Нидер вперил в него указательный палец, – это последняя уступка, на которую я иду, вы и так уже оттянули начало суда, мы опаздываем на пятнадцать минут. Более я вам не позволю подобных фокусов. – Он взмахнул рукой, дав понять, что аудиенция окончена.
В зале суда стояло нервное оживление. Зал был переполнен, и капитану городской стражи, прибывшему специально из гарнизона Петроварадина, с трудом удавалось поддерживать какую-то видимость порядка с помощью пятерых солдат. В первых рядах чинно восседали отцы города, за ними почтенные обыватели с семьями, задние ряды занимала городская голытьба и крестьяне из окрестных сел, отдельную скамью заняли члены Комитета ведьм с постными лицами, одетые во все черное. Сбоку в специально принесенном кресле восседал молодой граф Андраши, инкогнито прибывший полюбопытствовать редким зрелищем из своего имения неподалеку, где он маялся от осенней скуки и бессмысленного однообразия дней. На коленке он примостил большой кожаный блокнот с карандашом, лежащим на раскрытой чистой странице, готовясь записывать обстоятельства первого процесса над ведьмой в этой местности.
Напротив публики в высоких деревянных креслах за длинным узким столом, заваленным бумагами, разместилась коллегия суда смешанного состава, состоящая из епископа Иоганна Нидера, совместившего роль председателя и обвинителя, по левую руку от него разместился нотариус, по правую – городской судья, который по многолетней привычке, едва заняв свое место, тут же принялся клевать носом. Кресло, предназначенное для бургомистра Бранта, также включенного в коллегию, вызывающе пустовало. За их спинами стоял судебный пристав, готовый выполнить любое распоряжение коллегии.
За отдельным столом боком к зрителям и судьям расположился секретарь суда, чьей обязанностью было вести протокол. Напротив него за невысоким бортиком стояла изможденная Ангелина Бранкович со скованными руками. Ее привели позже всех прямо из каземата и ввели в зал суда спиной вперед. «Так она не сможет навести порчу на судей», – объяснял Ульрих капитану городской стражи, инструктируя его об особенностях конвоирования ведьм. С одной стороны от нее вытянулся с пехотным палашом на изготовку рослый солдат из городской стражи, а с другой – переминаясь с ноги на ногу, топтался тюремный надзиратель с наголо обритой головой, в сером кафтане с небрежно заштопанными прорехами. Рядом с ними на колченогом табурете примостился адвокат Якоб Фидлер. Выражение его лица было бесстрастным, лишь глаза светились грустью – Ангелина заявила, что у нее нет врагов, и категорически отказалась называть кого бы то ни было. Сама она была спокойна, несмотря на страшную усталость и то, что она с трудом держалась на ногах. Адвокат успел ей шепнуть, что епископ намерен изловить и Сунчицу, в ответ Ангелина промолчала, лишь морщины у рта стали напряженные и жесткие. На ее лице жили лишь зрачки – они беспокойно перемещались по людям в зале, казалось, сам суд нимало ее не занимает, как ярмарочное кукольное представление, чей финал заранее предрешен, куда важнее ей было увидеть кого-то, кого она никак не могла найти…
Епископ Нидер взял в руку молоточек и трижды стукнул по столу, знаменуя начало заседания.
Стоящий за его спиной пристав зычным голосом возгласил:
– Тишина в зале!
Публика постепенно смолкла в предвкушении зрелища.
– Встать! – гаркнул пристав, и зрители нехотя, охая и ахая, поднялись.
Епископ Нидер прочел молитву на латыни и позволил всем сесть, сам же оставшись на ногах. Зачитав выдвинутые обвинения, он повернулся к Ангелине и подчеркнуто вежливо спросил:
– Госпожа Бранкович, вы готовы принести присягу и дать показания по этим обвинениям в судебном заседании?
Ангелина даже не повернулась на звук его голоса. Помедлив пару секунд, епископ теперь уже более настойчиво повторил:
– Госпожа Бранкович…
– Моя подзащитная отвергает все обвинения, – вскочил с табурета адвокат Фидлер, – и будет защищаться молчанием.
– Что же, – епископ усмехнулся, – тогда мы огласим ее признательные показания позже, а пока заслушаем первого свидетеля. – Он обернулся к приставу и громко скомандовал: – Пристав, пригласите вдову Фриду Вейланд.
В зал ввели растрепанную, неопрятную женщину неопределенного возраста в грязном переднике. Зубов во рту у нее недоставало по милости покойного господина Вейланда, который поколачивал свою склочную женушку с первого дня их совместной жизни, впрочем, она воспринимала это как доказательство его любви. Подняв правую руку и повторяя за приставом, Фрида, запинаясь и сбиваясь, принесла присягу, после этого она неловко взгромоздилась на трибуну, приготовленную для свидетелей, и осоловело уставилась на судей, в растерянности от сконцентрированного на ней внимания.
– Что вы можете поведать нам о вашей соседке Ангелине Бранкович, известной также как Драговичанка, вдова Вейланд? – приступил к допросу епископ Нидер.
– Известная ведьма! Губила урожай, порчу наводила! – визгливо, рублеными фразами начала докладывать Фрида. – Собирала травы в лесу, чтобы потом людей травить, и приохотила к этому и эту несносную девчонку, что живет с ней не пойми почему. – Беспокойство Фриды выдавали только ее бегающие из стороны в сторону глаза. – Я много раз видела, как в пятничную ночь она вылетает из печной трубы на бревне и кружит над городом, злобно хохоча и разбрасывая что-то!
По залу прокатился вздох ужаса.
– Отметим, – прервал выступление Фриды епископ Нидер, – что об этом же говорит и другой свидетель, который в связи с неотложной поездкой на важнейшую встречу в имперскую столицу не сможет лично выступить в этом зале, но мы зачитаем его показания, заверенные нотариусом и двумя понятыми.
– Вот и я говорю, – заторопилась Фрида, – на бревне летает на шабаш, своими глазами много раз видела!
Ангелина прикрыла глаза рукой и устало заметила тихим голосом, скорее для себя, чем для публики:
– Ваш амбар весь в дырах, и хлеб там не просыхает, вся рожь заражена волчанкой, много раз я об этом говорила. Вейланды едят сырой хлеб со спорами ржаной волчанки, а она вызывает видения. На таком хлебе можно и трехглавых огнедышащих драконов увидеть…
Адвокат заинтересованно слушал Ангелину, а молодой граф Андраши увлеченно записывал ее слова карандашом в блокнот и тут же рядом широкими штрихами набросал какой-то рисунок.
Увидев, что внимание публики отвлекается от свидетеля, судебный пристав поспешил к Ангелине и раскатисто рявкнул ей на ухо:
– Мо-о-ол-чать!
После этого словно бы по команде зашлась в истерике и Фрида:
– Сама призналась! Сама! – Частички слюны из ее беззубого рта вылетали прямо на сидевших в первом ряду зрителей. – Заразила наши поля какой-то волчанкой, а мы всей семьей по ее злому умышлению травимся! Моего бедного муженька так вообще со свету сжила! А все потому, что землицей нашей разжиться хотела, ведьма!
В зале поднялся ропот, имущественный аспект был понятен абсолютно всем, и столь мерзкие намерения вызывали общее возмущение.
– Вот это она тогда и разбрасывала, когда на бревне летала! Сама себя ведьма перехитрила, вот она все начистоту и выложила! – Фрида вошла в раж, а ее гнев и ненависть передавались и публике в зале, заряжали их. – А вот еще случай был! – все не унималась Фрида. – В прошлом году я себе новую юбку справила, а у меня потом колени страшно разболелись.
– Позвольте, вдова Вейланд, а это какое отношение имеет к подсудимой? – недоуменно вскинул брови епископ Нидер.
– Как какое? Так рогожа, из которой я юбку шила, ее была! – Тут она осеклась. – То есть я хотела сказать…
– Ах вот куда девались два мешка, что я вывешивала на солнышке просушить! – воскликнула Ангелина со смехом.
– Мо-о-ол-чать! – вновь разразился криком пристав, так и оставшийся стоять за спиной Ангелины.
Епископ Нидер одобрительно кивнул приставу и, повернувшись к трибуне свидетеля, подчеркнуто учтиво спросил:
– А какая молва идет об Ангелине Бранкович в городе?
– Дурная, ваша милость. – Подобное обращение заставило епископа сморщиться, как от стакана лимонного сока. – Исключительно дурная! Ведьма, она и есть ведьма! Завсегда ей вслед плюю, ежели где ненароком встречу.
– Хорошо, вдова Вейланд, мы вас поняли. Пристав, проводите свидетеля.
Епископ Нидер наметанным взглядом обвел публику в зале. В конце концов, все это делалось для них. Он остался доволен. Лица в большинстве своем пылали ненавистью к ведьме, особенно искренне эти эмоции были выражены у простолюдинов.
Далее на трибуну вышел нотариус Вебер и бесцветным голосом зачитал протокол допроса второго свидетеля – турчина и протокол обыска жилища Ангелины Бранкович. После этого публике продемонстрировали, сопровождая многословными объяснениями, восковые свечи, различные мешочки, баночки, скляночки, коробочки, доверху набитые отварами, сушеными травами и грибами, изъятые в домике на Дубовой улице. Посадили на стол и печального плюшевого мишку с торчащим из дыры в брюшке конским волосом, объяснив, зачем он был нужен ведьме.
Епископ Нидер почувствовал, что люди в зале начали уставать. Пришло время забить последний гвоздь. Зачитывать протокол допроса Ангелины он взялся сам, сопровождая богатое на интонации чтение эффектными паузами и театральными взмахами рук. Зал взорвался свистом. В Ангелину полетели огрызки и остатки прочей снеди, принесенной с собой публикой. Под конец раздались крики: «Сжечь ведьму! Сжечь!», впрочем, в этом усердствовали в основном члены Комитета ведьм, заранее проинструктированные старым Юргеном.
Понимая, что перерыв может остудить накал толпы, епископ Нидер, закончив чтение протокола допроса, решил тут же перейти к приговору. Поманив Ульриха, он взял у него из рук тщательно выделанный пергамент, на котором по традиции писались приговоры судов инквизиции.
Призвав зал к порядку, епископ возгласил:
– Рассмотрев все доказательства по обвинению этой женщины в колдовстве, – он небрежно махнул в сторону Ангелины, – в открытом судебном заседании, специальная коллегия судей вынесла следующий приговор. – Он развернул свиток и принялся торжественно, размеренно зачитывать: – «Специальная коллегия судей во главе с епископом-инквизитором Карловатцкого округа Иоганна Нидера, принимая во внимание, что ты, Ангелина Бранкович, известная как Драговичанка, была денунцирована перед нами в еретическом нечестии, обвиняемая общественной молвой и достоверными показаниями свидетелей, приступила, исполняя свой долг, к расследованию того, соответствует ли правде обвинение, выдвинутое против тебя. Мы нашли, что ты была уличена в еретичестве и колдовстве. Много достойных доверия свидетелей показало против тебя. И мы повелели взять тебя под стражу, после чего ты была допрошена под присягой и призналась во всех предъявленных тебе обвинениях, но не раскаялась и молитвенно не отреклась от своих заблуждений. Так как ты, Ангелина Бранкович, впала в эти проклятые ереси колдовства, совершая их явно, и была уличена закономерными свидетелями в еретической извращенности, приговариваем тебя к смерти без пролития крови. Твое сожжение на костре состоится немедленно».
Закончив чтение, он поднял голову. Пара секунд мертвой тишины, и раздались ритмичные удары – это члены Комитета ведьм в знак одобрения ладонями хлопали по лавке. Через полминуты к ним присоединились все остальные, производя невообразимый грохот и шум.
Люд из судницы в ратуше повалил на площадь, где все уже было готово к казни. Кто-то знающий сказал, что по-научному это называется «аутодафе», и мудреное словечко мигом облетело возбужденную толпу, которая все увеличивалась в размерах и скоро захлестнула всю площадь.
В людской гуще стояла и Сунчица, которую по малолетству не пустили в зал суда. За руку ее крепко держал Страшимир Лазаревич. Никто не признал в ней внучки Ангелины из-за мальчишеского наряда, в который на всякий случай переодели ее в семье стражиловского здухача. «Кто знает, чего еще ждать от бесноватых швабов, а так и тебе, и нам спокойнее», – говорил он Сунчице, надевая на нее картуз и курточку своего десятилетнего сына, что пришлись как раз впору девочке.
Сунчица не узнавала привычную площадь и карловчан – кругом толкались и местные, и приезжие из соседних городков, было и множество крестьян, съехавшихся подивиться на сожжение настоящей ведьмы из окрестных сел и дальних деревень. Но больше всего девочку пугали горожане, знакомые ей с детства, – что-то неуловимо изменилось в них за последнее время: глаза потухли, черты лиц заострились, спины сгорбились. В толпе то тут, то там слышалось гнусавое «Сама призналась!», а с другой стороны площади эхом откликался чей-то злорадный голос: «Просто так на костер никого не потащат, что-то за этим есть!» Рядом с Сунчицей, уперев руки в бока, стоял мясистый лавочник из Петрова-радина в черном засаленном кафтане и громогласно рассказывал маленькому, с крысиными усиками и гнилыми зубами содержателю таверны на тракте:
– А помнишь того вампира, что под личиной мельника скрывался, так его только кол осиновый угомонил!
Сунчица зажала уши ладошками, стараясь не слышать всего этого, но тут на помосте, загодя сколоченном из досок в центре площади, появился сам епископ Иоганн Нидер в парадном облачении. Он воздел руки к небу, и на площади воцарилась тишина. Его громогласный голос, казалось, был слышен даже на окраинах городка.
– Как сегодня сжигаем мы эту ведьму, – раскатисто начал он, – так и в день Страшного суда посредством огня будут отделены чистые от нечистых, а праведники от нечестивцев! – Он сделал шаг назад, и все увидели высящийся за его спиной столб, к которому солдаты городской стражи привязывали Ангелину крепкими путами, руки же ее, закованные в цепи, подняли вверх и прибили цепь гвоздями к вершине столба.
В руках епископа появился просмоленный факел, обмотанный ветошью, Ульрих же достал кремень и кресало и несколькими выверенными ударами высек и запалил ветошь, от которой занялось пламенем все навершие факела. Епископ Нидер передал горящий факел Ульриху, сам же благочестиво сложил руки на груди и отошел в сторону, напоминая себе о том, что нужно не забыть потом подобрать золу, которая пригодится в опытах по трансмутации.
Сунчица широко распахнутыми глазами смотрела на свою бабушку – измученную, простоволосую и растрепанную, практически полностью поседевшую за эти дни, с ввалившимися глазами, которые она держала закрытыми, с кровоподтеками, обряженную в жуткое вретище из мешковины. Вокруг ее ног были пирамидкой сложены громадные березовые поленья, обложенные охапками сена. Дождавшись кивка епископа Нидера, Ульрих опустил горящий факел вниз и подпалил сено. Костер мигом занялся, взметнув яркое пламя ввысь. Огонь лизал ноги Ангелины и рвался все выше. В этот миг она резко открыла глаза – первые ряды зевак, шумно выдохнув, отпрянули на шаг назад – и сразу же выхватила Сунчицу взглядом из толпы. Тревога ушла из ее взора, он сразу же стал спокойным и умиротворенным.
– Беги, внученька. Спасайся. Не смотри. Не надо. Я люблю тебя, – произнесла Ангелина одними губами, но Сунчица явственно услышала ее голос.
Из глаз девочки брызнули слезы, она натянула мальчишеский куртуз поглубже, чтобы их скрыть, бросила на бабушку, все более скрывающуюся в клубах дыма и отсветах пламени, последний взгляд и, прошептав: «Я всегда буду любить тебя», бросилась прочь, резко выдернув свою маленькую ручку из громадной лапищи здухача Страшимира. На прощание она крикнула Страшимиру: «Простите!» – и, оставив того в недоуменном одиночестве, растворилась в толпе, которая мигом поглотила ее.
Она не знала, куда она бежит, просто неслась куда-то, пытаясь заговорить, как учила бабушка, огромную черную пустоту, разраставшуюся внутри, словами, которые она постоянно повторяла про себя: «Я люблю тебя».
Над площадью повис запах жженой плоти, и многие брезгливо морщили, а то и зажимали носы. Но его перебил неведомо откуда появившийся запах лесной земляники. Сунчица глубоко вздохнула и улыбнулась сквозь слезы – так пахли руки ее бабушки. На миг Сунчица зажмурилась и увидела Ангелину. Она была прекрасна, юна и окружена сиянием ярчайшего света. Она мягко улыбнулась и ласково произнесла самым нежным голосом на свете:
– Я всегда буду рядом с тобой и никогда тебя не покину.
Видение исчезло так же быстро, как и появилось, но теперь Сунчица ощущала то спокойствие, что вселяло в нее присутствие бабушки рядом, и знала, что ей нужно делать.
Ноги сами несли ее, и скоро она оказалась у их домика на Дубовой улице. На дверях висел новый замок, магистрат конфисковал домик по решению суда сразу же после ареста Ангелины, но пока еще не успел его никому передать. Сунчица влезла вовнутрь через слуховое окошко, быстро переоделась в дорожное платье из темно-синей шерсти и мягкие сапожки из оленьей кожи, как те, что носили местные охотники. В котомку она завернула пару луковиц, головку чуть засохшего сыра и зачерствевший ломоть черного хлеба – все, что нашлось на кухне после учиненного здесь пять дней назад разгрома. Завязав узелки, она убрала котомку в удобную заплечную сумку, на дне которой уже лежал тяжелый клетчатый плед. Туда же положила чудом уцелевшую флягу с отваром, придающим бодрости, кое-что из одежды и, наконец, самое главное – большую тяжелую книгу рецептов, написанную древней рунической глаголицей, которую бабушка получила по наследству и дополняла всю свою жизнь. Ее она хранила под половицей, а потому она уцелела. Собравшись, Сунчица на секунду присела на лавку – на дорожку, окинула прощальным взглядом домик и вышла через заднюю дверь в садик. Оттуда задними дворами и садами она незамеченной выбралась из города. Держась в стороне от тракта, она двинулась в сторону Фруктовой горы. У ее подножия, в густом лесу, покрывающем склоны, она оставила на пеньке корочку хлеба, шепотом поприветствовала хозяина леса и попросила у него помощи. Она вошла в чащобу и двинулась на север, ориентируясь по вившемуся внизу справа широкой темно-синей лентой Дунаю, чья гладь блестела сквозь начавшую опадать листву.
К вечеру Сунчица совсем выбилась из сил. Она механически переставляла ноги, в голове у нее царила звенящая пустота. Наконец, обессилев, она остановилась на привал на уютной лесной полянке. Собрав немного хвороста, девочка запалила костерок, у которого согрелась и перекусила. Запас спокойствия, что получила она с видением Ангелины, почти иссяк, и она вновь терзалась. «Что дальше?» Еще несколько дней назад она могла обо всем спросить у бабушки, но теперь кого было спросить? Кого… С кем посоветоваться? Сунчица попробовала вновь вызвать видение, но у нее ничего не получилось. Тогда она отошла на десяток шагов и легла, раскинув руки, на пожухлую траву. Над ней распростерлось бескрайнее небо, сотканное из мириадов звезд. Сунчица прикрыла глаза и с мольбой прошептала: «Мать сыра земля, помоги, подскажи, что мне делать, куда мне идти…» Она повторила эту фразу сотню раз, но ничего так и не произошло. Ответа не последовало. Новая волна отчаяния захлестнула ее. И вдруг кто-то ткнулся ей в щеку мокрым носом. От неожиданности Сунчица вскрикнула и тут же открыла глаза. Рядом с ней, потешно сложив неокрепшие лапки, сидел маленький волчонок. Блестящая шерстка, торчащие ушки и голубые щенячьи глазки. Живые, искрящиеся, сейчас они были жалобны, наполнены тоской и болью. Щенок с грустью заскулил, попытался встать и тут же повалился рядом – лапы еще слабо держали его, – не сводя просящего взгляда с Сунчицы.
– Маленький, где твоя мама?
Сунчица поднялась с земли и взяла свернувшегося клубком волчонка на руки. Она отнесла его к огню, завернула в плед, накормила размоченными в бодрящем отваре хлебом и сыром. Щенок ожил и принялся, радостно тявкая, носиться кругами вокруг костра, постоянно оглядываясь и проверяя, не пропала ли Сунчица. Наигравшись, он устроился у девочки в ножках и уснул. Маленький неугомонный клубочек с розовым язычком. Так они и уснули, завернувшись в плед и прижавшись друг к другу.
Ночью Сунчица проснулась оттого, что щенок мягко теребил ее за ухо. Высоко в небе ярко сиял полный месяц, заливая полянку ровным серебристым светом.
– Ты хочешь, чтобы я с тобой куда-то пошла? – спросила Сунчица у волчонка, подняв его мордочку двумя пальцами за подбородок.
Щенок радостно затявкал в ответ и побежал вперед. Через заросли папоротника он вывел ее к лесному пруду, вода в котором искрилась ярким, поднимающимся со дна светом, а над водной гладью кружились в пляске сотни крошечных святящихся существ. «Это же… русалочий пруд!» – мелькнуло в голове у Сунчицы. Она вспомнила бабушкины истории и будто наяву услышала, как ее голос произнес: «Не всем и не в каждый час показывает лесной народец этот пруд. Не бойся, внученька, Вилы не тронут и одарят того, кто пришел к ним с миром».
Тут же вспомнились Сунчице и байки, что травили старые рыбаки на берегу Дуная, будто бы те, кого Вилы не признают и не примут, сгинут в омуте, куда их сами же Вилы и утянут. Но бабушкин голос вновь повторил: «Не бойся». Подойдя ближе, Сунчица увидела, что чудесный свет потух, а осталась лишь темная, будто маслянистая вода с редкими островками кувшинок. Изредка из укромных уголков слышалось сиротливое «ква-а»… Девочка разделась, аккуратно сложила одежду на берегу, усадив рядом волчонка с наказом стеречь, сама же сперва опасливо, а потом все смелее потрогала пальцами ног кромку воды, неожиданно оказавшейся теплой, вошла по пояс, увязая пятками в илистом дне, и бесшумно поплыла. Из-за туч выглянул спрятавшийся было месяц, бледный луч его лег на зеркало озера, по этой дорожке и устремилась вперед Сунчица. Клочья тумана скрыли берег. Туман становился все гуще, наседал со всех сторон, и скоро девочка плыла в густом непроницаемо-молочном мареве. Вода обнимала ее, убаюкивала, укачивала. Ушли все печали и тревоги, в голове осталась лишь мягкая, обволакивающая дрема. Ей показалось, что она опускается на дно, а вода смыкается над ней, но страшно ей совсем не было. Наоборот, было хорошо и спокойно, а в ушах звучала нездешняя чарующая песнь…
Сунчица очнулась, ощутив шершавый язычок, лизавший ей щеку. Это был ее щеночек. На небе весело искрилось утреннее солнышко, сама же она лежала на узкой песчаной полоске на берегу лесного озера. Поднявшись на ноги, она увидела в воде свое отражение и тут же присела от неожиданности, ахнув. Ее льняные волосы стали ярко-алыми. Бабушкин ласковый голос донесся откуда-то издалека, постепенно слабея:
– Это знак, что Вилы приняли тебя, а вместе с ними и весь лес, внучка.
Улыбнувшись, Сунчица кивнула и прошептала в ответ:
– Ты всегда будешь рядом со мной. Я люблю тебя, бабушка.
Ответом ей был пропитавший воздух аромат свежей лесной земляники.
Неожиданно Сунчица осознала, что шум леса теперь доступен ей. В шелесте ветра она чувствовала растворенный голос Ангелины. Лес говорил с ней. Она слушала шум листьев и треск ветвей и понимала, о чем они говорят. Заскулил маленький волчонок, и она тут же узнала, что он грустит о своей маме – волчице, убитой охотниками, и снова хочет кушать. Она взяла его на руки и погладила между ушек. В его глазках зажегся лукавый огонек, который подсказал девочке его имя.
– Я буду звать тебя Локи, – шепнула она ему на ушко.
В ответ щенок радостно тявкнул и завилял хвостиком.
Декабрь 2016 – март 2017
Зима в Шварцвальде
Сумрак леса оглашался эхом далекой песни. На тропинке, петлявшей меж вековых дубов, кое-где уже лег снег, несмотря на то что стояло лишь начало ноября. Рядом Альпы. Зимой в те времена все тропы заваливало так, что лес становился непроходим до весны. Но пока еще здесь была осень. Суров и мрачен Черный лес, а особенно зябкими осенними вечерами.
Вот на тропинке кто-то показался – на поляну вышла вереница кряжистых, в надвинутых на глаза выцветших колпаках усталых путников. Они тянут заунывный мотив, сплетающийся в причудливую печальную песнь на древнем, почти позабытом языке. Все они очень невелики ростом. Кто-то на плече несет заступ, у кого-то в руках молот, пара по виду самых крепких толкают тяжелые массивные тачки, нагруженные скарбом. Это артель гномов-рудокопов идет в сторону альпийских предгорий – там их родовые шахты, милые их сердцам подземелья. Лишь один артельщик выделяется среди остальных – он на голову выше всех гномов, не так широк, у него нет жестких глубоких морщин, прорезавших лица даже самых молодых рудокопов (впрочем, и самым юным из них было изрядно за пятьдесят – гномий век долог), а на голове нет колпака, потому его светлые волосы свободно развеваются на пронизывающем ветру.
Чуть отстав от остальных, вышагивают два степенных гнома с громадными седеющими бородами – у одного она заткнута за широкий расшитый кушак, а второй закинул свою за плечо. Старейшины. Они помнят людской род совсем юным, а теперь наблюдают угасание гномьего племени, их осталась жалкая горстка – всего несколько артелей по эту сторону Альп. Голоса их глухие, с перекатывающимся басистым рокотом где-то в глубине, будто сами древние горы обрели дар речи.
Говорят они медленно и размеренно, экономя слова, с большими паузами. Тот, чья борода закинута за кушак, на ходу раскурил трубку из орехового дерева, с наслаждением затянулся, на пару мгновений задержал дым в легких и выпустил несколько замысловатых колец, тщательно рассмотрел их, будто бы стремясь угадать грядущее в улетучивающемся дыму, и, повернувшись к своему спутнику, изрек со всей основательностью, на которую способен почтенный гном:
– Мы должны оставить его. Он вырос. Он не может больше работать с нами в шахте. Мы гномы. Он человек. Он должен жить со своими. Я решил.
Второй с неодобрением покачал головой, глубоко вздохнул, но все же согласился. Действительно, для него так будет лучше. Когда на вечернем привале гномы устроились вокруг огромного костра в центре поляны, старейшины объявили свое решение. Новость вызвала ропот – юноша был любимцем артели, но против воли старейшин выступить никто не посмел. Наверное, они действительно правы. Ведь он не гном. Ему пора идти к своим. Утром, с первыми лучами тусклого осеннего солнца гномы отправились в дорогу, оставив юноше припасов и тугой кожаный мешочек, перетянутый шнуром, внутри позвякивали серебряные талеры. Да, все знают, что гномы скупы, но мало кто помнит, что они умеют быть и благодарны.
Юноша не вставал, завернувшись в теплый походный плед, с внешней стороны подшитый шкурой зубра. Он лежал у костра, не шевелясь и не открывая глаз. Каждый гном подходил к нему прощаться, но он даже не слушал их, спрятав голову под пледом. Внутри был лишь гнев, приправленный капелькой тоски и сожаления. Они бросили его, предали! Все. Оставили одного. Последним подошел один из старейшин. На плечо легла его широкая мозолистая рука.
– Мой мальчик. Ты вырос у нас, когда-то мы взяли тебя на воспитание совсем крохой. Мы научили тебя всему, что знали сами. Ты бы хотел остаться среди нас навсегда, но это невозможно. Ты не можешь стать гномом, ты должен научиться жить с людьми, ты человек, а не гном. Рано или поздно мы должны были расстаться, и пусть лучше это произойдет рано, пока не стало слишком поздно. Настало время расставания. – Наверное, это была самая длинная речь, которую сказал старейшина за последние сто лет.
Юноша не ответил и даже не обернулся. Гном потрепал его по плечу на прощание, глубоко вздохнул, засопел и двинулся вдогонку за остальными.
К полудню догорел и потух костер. Холод постепенно стал проникать внутрь, дотягиваясь своими иглами до каждой косточки. «Ну и пусть! Лучше замерзнуть!» – эти мысли бились внутри у него, ожесточенного, словно олененок в охотничьем капкане, заполняя собой все сознание. На второй день его замело снегом, волосы и ресницы покрылись инеем. Он впал в странную дрему, где зыбкая грань между сном и явью практически стерлась. Он чувствовал, что кто-то смотрит давно и пристально на него. Сверху, с самой вершины старого дуба, за ним наблюдал Одноглазый ворон.
Ясное осеннее утро. Морозно, но солнечно. По тропинке бежит волк, из полураскрытой пасти идет пар, он рыскает из стороны в сторону, заглядывая за каждый кустик, его глаза светятся любопытством. Временами он оглядывается назад, проверяя, не отстала ли его хозяйка. У нее тонкие черты лица и мечтательный взгляд, копна волос, которые она редко заплетает в косу, блестит в ярких лучах утреннего солнца. Она поет. Ее голос звучит будто горный ручеек – прозрачный и быстрый. Этот лес – ее дом. Здесь каждое дерево кивает ей при встрече, каждый бельчонок поделится орешками, а каждая полянка позволит прилечь отдохнуть.
Черный лес любит ее, а она в ответ заботится о нем и его обитателях. Сегодня ей нужно немного целебного мха и пара корней мандрагоры – снег лег еще далеко не везде, но впереди была длинная зима и ей нужно было поторопиться.
Ее холщовая сумка, перекинутая через плечо, была почти полна, а значит, скоро можно отправляться домой.
Неожиданно прямо на плечо к девушке опустился Одноглазый ворон и аккуратно сложил крылья. Сперва она чуть вздрогнула, но быстро признала давнего друга. Ворон склонил клюв к ее уху. Она прервала песню, навострил уши и вертевшийся рядом волк.
– Да что ты говоришь? Гномы? Замерзает? Целых три дня? Где же он? – Голос ее был наполнен волнением и тревогой.
Через полчаса ведомые Одноглазым вороном девушка и волк добежали до поляны, где, практически полностью заметенный снегом, лежал юноша. Волк первым бросился к нему и принялся лапами раскапывать снег. Вот показалась голова. Глаза его, на удивление, были открыты, но превратились в две льдинки, а лицо было белее снега. Волк лизнул его щеку, еще раз и еще, наконец он пошевелился. Недовольная гримаса проступила на его лице, рябью по нему пробежала мысль, первая за последние два дня: «Фу, какой шершавый и влажный язык».
Подошла девушка и присела рядом:
– Не бойся его, это Локи, он не обидит, он домашний волк. – Голос ее был полон сострадания. – Как ты себя чувствуешь?
– Кто ты?.. – Он с трудом разлепил растрескавшиеся губы, а его голос скорее напоминал хрип.
Она услышала его голос, и лицо ее прояснилось.
– Я – Сунчица Травица, а моего волка зовут Локи. Старый Одноглазый ворон сказал нам, что ты замерзаешь… Как тебя зовут?
– Тилль. – Он с трудом произнес свое имя, и это отняло все его силы, сознание оставило его.
Сунчице с трудом удалось устроить его на спине волка, потом она связала его вещи в плед и спрятала под мощным вязом, чтобы забрать их потом. Волк ступал аккуратно, а Сунчица придерживала Тилля, не давая ему упасть со спины волка. Так потихоньку они добрались до ее хижины, хотя хижиной этот крепкий лесной каменный дом можно было назвать лишь условно. Случайный путник мог и не приметить его, особенно летом, когда плющ своей зеленью скрывал камень стен, а мох укрывал покрывалом крышу. Кое-где в плющ вплетались и дикие розы, сейчас засохшие и почти облетевшие. Внутри было сухо и уютно, в центре неожиданно просторной хижины был сложен большой добротный камин, прогревавший все уголки дома в самое лютое зимнее ненастье.
Сунчица уложила Тилля в большую дубовую кровать и бережно покрыла ворохом одеял. Он спал больше суток, а открыв глаза, казалось, даже не удивился и лишь тихо задумчиво произнес:
– У тебя красивое имя, но я не слышал таких в наших местах…
Увидев, что юноша ожил, Сунчица улыбнулась и, бросив домашние хлопоты, подбежала к нему:
– Все просто. Я родилась южнее по течению Дуная, там люди говорят на другом языке и носят другие имена… – Она задумалась, и тень грусти отразилась в ее ярко-голубых глазах при мысли о мощеных уголках родного городка, лежащего на склоне Фруктовой горы, у подножия которой несет свои быстрые воды величественный Дунай. – Как ты себя чувствуешь? – Она приложила руку к его лбу.
– Чувствуешь… – Он будто услышал незнакомое слово и слегка смутился, как человек, не привыкший заглядывать внутрь себя.
– Что ты ощущаешь у себя внутри? – Ее поразила его непонятливость.
– Внутри… – Он на секунду замолк, будто неумело прислушивался к себе, и бесцветно ответил: – Мне кажется, только холод и пустота.
Рядом тихо заскулил Локи. Он подошел к Тиллю, наклонил свою большую голову и положил ее рядом, тот чуть повел плечами, слегка отстраняясь в сторону – волчья пасть все же немного его смущала.
– Не бойся. Просто Локи понимает тебя. Это называется одиночество. – Сунчица потрепала волка за холку и, присев, обняла его. – Когда-то я нашла его в лесу, он был маленьким брошенным щенком. И очень грустил.
Тилль приподнялся на подушках:
– Спасибо за кров, добрая хозяйка, но мне нужно идти в… – Он запнулся, потому что, куда ему было нужно, он не придумал, идти ему было некуда, но мешочек с талерами позволил бы устроиться в любом месте.
– Боюсь, Тилль, тебе придется задержаться. – Сунчица отошла к большому столу у окна. – Ночью был снегопад, все тропы полностью завалило, началась зима. Вряд ли ты сможешь выбраться до весны из Черного леса. Мне жаль, но, видимо, тебе придется воспользоваться моим гостеприимством, к тому же ты еще очень слаб и пока не сможешь даже встать с кровати. – Она взяла со стола большую, загодя приготовленную кружку и подала ее Тиллю. – Вот, выпей отвар из весенних трав. Мой собственный рецепт. Это поможет тебе набраться сил.
Тилль отхлебнул, не почувствовал вкуса, выпил до дна и быстро уснул. Так минуло пять дней, но лучше ему не становилось, и силы к нему не возвращались. Он спал и спал. Ни отвары из трав, ни целебные настои, ни даже снадобье из корней мандрагоры – ничего не помогало. Он просто спал почти постоянно, не разговаривал, все вокруг него было хмурым, и это уныние постепенно поражало весь дом, он начинал терять свою жизнь и свой цвет и начал сереть. Тилль так замерз, что покрылись льдом даже его глаза, его покинули обоняние и вкус, он перестал различать цвета, хоть и раньше был изрядно слаб в этом – в сумраке подземелий немногословных гномов все это излишне.
Тогда Сунчица решила посмотреть, что же там во сне так его держит. Может, его сны такие яркие, что это они не отпускают его обратно в наш мир? Из тайника под полом она достала свою самую большую ценность – гримуар, бережно обернутый в несколько слоев красной бархатной ткани. Она развернула фолиант и провела по нему ладонью. В тяжелом кожаном переплете, с окованными углами и массивной застежкой, он достался ей по наследству. Написанный где-то на берегу теплого Ядрана глаголицей, чьи буквы напоминали древние руны, он переходил из поколения в поколение, пока, наконец, не попал в руки Сунчицы, доставшись от бабушки. Из-за него же пришлось покинуть родной край и перебраться на север, тут в лесной глуши нет посторонних глаз, наполненных страхом при виде всего им неведомого, нет тех, кто всегда готов, сбившись в толпу таких же испуганных, а оттого еще более опасных селян, жечь на кострах, топить, забивать кольями из осины.
С трудом удерживая тяжелую книгу, она положила ее на дубовый стол, с трепетом провела пальцами по запылившимся тайным символам, выдавленным на плотном форзаце, расстегнула обложку и перелистнула тяжелые пергаментные страницы. Вот и про сновидение… Что же там? Ага, рецепт отвара, позволяющего легче проникнуть в изнанку мира, где и летают, изредка встречаясь друг с другом, видения всех людей. Вот еще слова, повторяя которые легче настроиться на чужое сознание… Вроде бы ясно. Сунчица быстро выписала слова и рецепт на лист плотной добротной бумаги, что привозят из-за моря веселые смуглые люди, говорящие на певучем языке. Гусиным пером она владела уверенно, буквы из-под ее руки выходили округлыми и летящими. Закончив, она сверила записи и перечитала вслух. Простой крестьянин в своей темноте назвал бы это страшным словом «заклятие», но это были всего лишь правильно подобранные слова, точно отражающие суть вещей и намерений, а потому, расположенные в особом порядке, они открывали потаенные дверцы нашего мира.
Сунчица развела огонь в маленькой печурке и принялась готовить снадобье, поминутно добавляя то одни, то другие ингредиенты: горсть тщательно высушенных трав, щепотку засушенных грибов, немного корней… Через полчаса как будто было готово. Устроившись в кресле поудобнее, она потушила весь огонь в доме, оставив лишь одну свечу перед собой, ту, что сделала своими руками летом именно для таких случаев. Ее огонек светил равномерно, приковывая к себе взгляд и завораживая. Сунчица принялась повторять нужные слова, не отводя глаз от пламени, маленькими глотками прихлебывая приторно сладковатый отвар. Постепенно все мысли оставили ее, веки стали тяжелыми и на секунду сомкнулись. Открыв глаза, Сунчица уже не увидела пламени свечи. Она была в ледяной пещере, чьи стены озарялись изнутри ровным тусклым светом.
Она огляделась. Каскад ледяных пещер, бесконечно переходящих одна в другую. Она прошла сквозь одну, вторую, третью. Пустота и однообразие. Наконец впереди показалась пещера побольше. В центре ее была ледяная горка, с которой в полном безмолвии катались на салазках пингвины. Они были абсолютно бесцветные, а в их катании не было радости. В самом темном углу пещеры она приметила маленького мальчика. Он смотрел прямо перед собой, во всем его облике сквозило упрямство.
Он сидел, обняв руками колени, но как только Сунчица окликнула его и попыталась подойти поближе, он стремглав убежал. Она принялась бродить по бесконечному ледяному лабиринту, временами ощущая спиной внимательный колющий взгляд. Она оборачивалась, но никого уже не было, лишь вдалеке слышался легкий частый топот убегающих детских ног. Зажмурившись, Сунчица с упорством вообразила факел, подняла руку, сжала ее и через миг ощутила тяжесть факела и его жар.
Открыв глаза, она увидела ярко пылающий огонь над своей головой. Сумрак рассеялся, тени съежились, и пещера озарилась сполохами дикого, бегающего отсветами по своду огня. Вдалеке появился мальчик, он сам бежал к ней, размахивая маленькими кулачками. Лицо его искажала злоба. Подбежав ближе, он замолотил по воздуху и закричал:
– Здесь нельзя так, нельзя! Убирайся отсюда!
Сунчица пристроила факел на стену – там как раз появилась подходящая под рукоять факела расщелина.
Она подобрала подол и присела, оказавшись на одном уровне с мальчиком. Широко улыбнулась ему и взяла его сжатые ладошки в свои руки. На его лице появилась робость, он замолчал, взгляд из кусачего и злого стал просто недоверчивым.
Она смотрела ему прямо в глаза и улыбалась.
– Кто ты? – Теперь он говорил тихо-тихо, едва слышно.
– Я друг. – Сунчица отвечала ему в тон и даже еще тише.
– Неправда! Я один! – Говорил он резко, отрывисто, словно отрубая одно слово от другого.
Девушка погладила его по волосам и провела обратной стороной ладони по его щеке. Вдруг она заметила, что в правой руке он держит что-то, неумело пряча за спиной. Пригляделась и поняла – это был потрепанный плюшевый мишка, пуговки его глаз трогательно смотрели прямо на нее. Сунчица прошептала:
– Как его зовут?
Малыш отвел глаза и пробормотал:
– Он мой друг.
Сунчица озарилась ясной улыбкой:
– Ну вот видишь, а говоришь, ты один. У тебя уже есть друг… И я буду твоим другом. Обещаю. Ты совсем не один. – Голос ее звучал ласково, но мальчик, казалось, не верил ей.
Он отвел глаза и принялся рассматривать ее руки, заинтересовался ее длинными изящными пальцами, унизанными кольцами.
– А это что? – Он гладил массивное серебряное кольцо, покрытое рунами, особенно увлекшись одной, самой крупной. Проводя по ней пальцами, он чувствовал что-то необычное, исходящее от нее. Он не знал, как это называется, просто это был нехолод, холод наоборот.
– Руна жизни. – Она снова ему улыбнулась. – Хочешь примерить? – Сняла кольцо с пальца и надела мальчику.
Он просветлел, и губы его сложились в неуверенную улыбку. Он улыбался так, что казалось, это впервые, раньше он никогда не ощущал улыбки на своем лице.
– Так ты не пропадешь, как они? – Он неопределенно кивнул куда-то в сторону.
– Не пропаду. – Она смотрела ему прямо в глаза.
Он отвел взгляд и смущенно пробормотал:
– Я не верю тебе. – В голосе его звучала печаль древнего старика.
– Мы сделаем вот что…
Откуда-то из-за пояса она достала маленький изящный кинжал (хотя секунду назад его там не было) и быстро надрезала ладошку на руке мальчика. Он вскрикнул, но сразу же, прикусив губу, с удивлением и испугом в глазах замолчал. После этого Сунчица сделала небольшой аккуратный надрез на своей ладони и взяла его за руку, крепко-крепко прижав одну рану к другой. Мальчик смотрел на нее широко раскрытыми глазами, чуть приоткрыв рот.
– Теперь кровь не отпустит нас далеко друг от друга, – пояснила она, – теперь ты можешь мне верить…
Неожиданно и мальчик, и вся пещера померкли, и Сунчицу выбросило из сна. За окном, искрясь на снегу, светило зимнее солнце, свеча давно догорела. Она взглянула на свою руку – там белел небольшой шрам и чуть саднило, а на одной из подушек алели два пятнышка крови. В кровати, где лежал Тилль, послышалось сопение, он выбрался из своей берлоги под грудой одеял. Сна он как будто не помнил, но, украдкой глянув на его ладонь, Сунчица увидела полоску шрама. Сам Тилль, казалось, ее и не заметил.
С того дня Тилль спал все меньше, начал выходить из дома, но все так же больше молчал, погрузившись внутрь себя и смотря в пустоту невидящими глазами. Сунчица привыкла к нему, а Локи, сперва настороженно обнюхивающий нового человека, даже привязался, особенно после того, как они вместе перенесли вещи Тилля из укромного местечка, где схоронила их Сунчица, до ее хижины.
Припасов в кладовке хватало, дрова в изрядном количестве укромно притаились за домом, а колодец был вырыт на соседней полянке. Домашние хлопоты занимали короткий зимний день, а вечерами, приготовив глинтвейн на двоих, он читал ей гномьи сказания и легенды из старых рукописных книг, которыми была набита его торба, а она пела, вышивала и готовила лечебные отвары и снадобья, которыми потчевала лесных жителей. К ней из леса выходил то прихворнувший зубр, то раненный охотниками вепрь, а уж лисенок и зайчишка – те и вовсе забегали просто так, заглянуть в ясные голубые глаза Сунчицы и услышать от нее доброе слово. Они рассказывали ей свежие лесные байки, а наградой им был ее заливистый, словно звон сотен серебряных колокольчиков, смех.
Так пролетел декабрь, за ним минул январь, тяжелой поступью прошел февраль, промелькнул март, а вьюга все так же гуляла за окном, сугробы и не думали уменьшаться.
Сунчица задумчиво сидела у окна, поглаживая лежавшую у нее на коленях голову Локи, млевшего от удовольствия.
– Когда же весна?.. – В ее голосе слышала тоска.
Тилль поднял голову от книги:
– Ее не будет. Зима – это навсегда. – Его слова прозвучали как приговор.
– Будет! Она всегда приходит, я покажу ее тебе! – запальчиво воскликнула Сунчица, вскинув голову, и кончики ушей у нее даже покраснели от возмущения.
– Ты знаешь, как устроен наш мир? – Его холодная рациональность как будто убивала все живое вокруг. – Мы живем не снаружи, а внутри, внутри полой сферы, а солнце – это кусок льда, висящий в ее центре, что согревает и освещает нас лучами холода.
– Откуда ты взял такие глупости?! – Она прикрыла голову руками, словно прячась от того, насколько же он ничего не понимает.
Тилль поднял книгу и помахал ею:
– Прочитал в старых гномьих книгах. – Он и правда верил в то, что абсолютно все можно прочитать в книгах, как будто там есть и вкус утренней росы, и мерцание лунного света, и еще сотни и сотни ощущений и эмоций, к которым можно прикоснуться, вдохнуть, ощутить, но вряд ли получится описать даже всеми существующими на свете словами, состоящими из букв.
– Это твои гномы живут в земле! – практически кричала Сунчица. – Скоро совсем уйдут в свои норы, а мы живем тут, сверху, и солнышко – это никакой не лед, оно ласковое и теплое… – Она сердилась на него за то, что он до сих пор будто покрыт тем инеем, и на себя за то, что не могла показать ему мир таким, каким его видит она. На глазах у нее выступили слезы.
– У тебя роса на лице! – В его обычно одноцветном голосе промелькнуло удивление.
Едва слышно она прошептала:
– Это слезы…
На следующее утро Сунчица мягко спросила:
– Ты чувствуешь этот пряный душистый запах? – Она верила, что сможет найти прореху в его ледяной броне. – Это дикие розы, что цветут летом под окном, из моего предрассветного сна. – И с надеждой заглянула в его холодные синие глаза.
Он старался, хотел ощутить то, о чем она говорит, но, кроме холода, который все не отпускал его, ничего не мог нащупать внутри себя. Тилль грустно помотал головой. Тогда Сунчица запела. Запела своим удивительно чистым голосом на мелодичном языке своей родины. Чудесные звуки заполнили всю хижину и, казалось, раскрасили мир вокруг яркими детскими красками. Закончив петь, она заглянула в его глаза:
– А аромат песни ощущаешь кончиком языка? – Она была уверена, что поможет ему начать снова чувствовать жизнь.
Тиллю не хотелось расстраивать Сунчицу, но и обманывать ее он не хотел. Он смотрел куда-то в сторону.
– А о чем эта песня? – Голос его был едва слышен.
– О любви… – прошептала она одними губами, практически беззвучно.
Он поднял взгляд на девушку:
– А что это такое – любовь? – Он очень много знал такого, о чем большинство людей и не слыхивали, но не разбирался в самых простых вещах, его наивность не искупало даже то, что вырос он среди гномов.
Сунчица зажмурилась, как будто от резкой боли, и вышла летящей походкой из хижины, не ответив. Распахнув дверь, она глубоко вдохнула морозный лесной воздух, поменяв вздох разочарования и жалости, оставшийся внутри, на свежий глоток дыхания елей, окружавших домик.
Вечером, проводив Тилля и Локи на колодец, Сунчица принялась прибираться, решив заодно разобрать и торбу с книгами – зачем им там томиться, когда можно привольно жить и на просторной светлой полке. Тяжеленная сума, набитая маленькими, испещренными гномами письменами на тончайшей бумаге и книгами, так и пылилась в углу хижины. Сунчица с большим почтением отнеслась к книгам и даже к написанному этими невозможными гномами, потому она очень аккуратно, двумя руками доставала каждую отдельно, смахивала пыль и переставляла на полку. Взяв последнюю, она углядела что-то еще на дне торбы, нагнулась и извлекла на свет маленького потертого плюшевого медведя с красной заплаткой на животе и пуговками вместо глаз. Она сразу вспомнила его, улыбнулась и, взяв двумя пальцами его лапу, тихонечко пожала:
– Ну здравствуй, старый знакомый… – после чего быстро вернула его обратно на дно торбы и сложила сверху все книги, которые только-только начали осваиваться и обживаться на просторной полке.
Прошло еще два месяца. Наступил май, а зима и не думала уходить. Уже давно пора было будить заспавшихся беров в их логовищах (Сунчица знала настоящие имена всех жителей леса, а они не прятались от нее и не скрывали свою суть, зная, что она одна из них – обитателей Черного леса). Но кругом были сугробы и ни одного зеленого листочка или цветка, и зачем им было пробуждаться, раз пчелы не могли приготовить им их любимого меду?
Как-то сумрачным утром Сунчица решила навестить своего друга – старый платан, живущий на холме в самом сердце леса. Его можно было попросить проводить зиму восвояси, он был настолько стар, что к нему прислушивались все-все, и даже могущественная зима не могла отказать ему.
Надев короткие альпийские лыжи, их еще называют снегоступы, Сунчица и Тилль двинулись в неблизкий путь. Локи бегал вокруг, кувыркался в снегу, в общем, вел себя как щенок, радуясь прогулке. Вдруг, когда за спиной была уже большая часть пути, волк насторожился. Уши его стали торчком, он начал водить мордой из стороны в сторону, обнюхивая воздух, и неожиданно шерсть его вздыбилась, уши он прижал, оскалил пасть и угрожающе зарычал.
– Локи, что с тобой? – Сунчица удивленно смотрела на волка, который уставился куда-то ей за спину.
Перехватив взгляд волка, его расширившиеся зрачки, Тилль с криком «Ложись!» схватил Сунчицу за плечи и вместе с ней упал в сторону, угодив в глубокий сугроб. Над ними мелькнула массивная быстрая тень. На том месте, где только что были они, оказался оскаленный зверь чудовищных размеров, волк-переросток. Пар поднимался над ним, необыкновенно длинная шерсть блестела, а с клыков свисала слюна. Увидев его красные, налитые злобой глаза, Сунчица выдохнула:
– Вервольф…
Зверь медленно развернулся на звук ее голоса и приготовился к новому броску, но в этот момент Локи вцепился клыками в холку зверя. Они сплелись в один рычащий и визжащий клубок, состоявший, казалось, из одних клыков и когтей, кровь веером разлеталась по снегу, окрашивая его в алый цвет. На секунду противники ослабили хватку и разошлись, тут же принявшись выкруживать друг против друга, выбирая подходящий момент для нового броска. Вдруг тонкий, еле слышный свист рассекаемого воздуха, едва возникнув, сменился хлопающим «гвак», и округа огласилась воем. Вой Вервольфа слышен на многие мили, он пронизывает насквозь и парализует волю, но в этот раз он был жалобным.
В глазнице его торчала замысловатая рукоятка, сразу выдававшая происхождение ножа – кузницы гномов. Их сталь смертельна для всякой нечисти и нежити. Вервольф повалился на землю, лапы больше не держали его, он издыхал, скуля. Сунчица с удивлением обернулась на Тилля – он чуть пожал плечами и даже, хотя, скорее всего, ей показалось, на мгновение чуть улыбнулся, дотронувшись до пустых ножен на поясе. Сунчица бросилась к Локи, он, поскуливая, зализывал раны. Девушка открыла свою холщовую сумку, всегда сопровождающую ее в пути, достала высушенные травы, быстро перемешала их, измельчила и, придерживая морду волка одной рукой и что-то нашептывая ему, присыпала самую большую рану на передней лапе получившимся снадобьем. Потом перевязала тряпицей, пропитанной загодя лечебным болеутоляющим настоем. Тилль подошел сзади, погладил волка по холке и, задержав ладонь между ушами, участливо произнес:
– Ему больно…
Сунчице показалось, что она слышит что-то такое в его голосе, чего раньше там не было.
– Ты чувствуешь его боль? – Легкое, но одновременно приятное удивление сквозило в этой фразе.
– Мне кажется, да…
Она подняла глаза на Тилля, что-то неуловимое изменилось в выражении его лица, его взгляде, он как будто бы ожил, искорки появились в уголках его глаз. Сунчица широко улыбнулась:
– Пойдем скорее. Сегодня хороший день, у нас все получится.
Локи перестал скулить и поднялся на три лапы, опасливо и жалобно поджав четвертую.
До старого платана оставалось совсем немного. Вот уже был виден и холм, одиноко возвышаясь на котором платан, казалось, присматривает за всем лесом. Старожилы сказывали, что этот платан – старейшина Черного леса. Приблизившись к нему, Сунчица положила ладонь на его гладкий, лишенный шершавой коры ствол и поздоровалась на том языке, который понимают все деревья. Несведущие люди принимают шум леса всего лишь за шелест ветвей и листьев да свист ветра со скрипом стволов. Но Сунчица понимала его и немного могла говорить.
– Неси хворост, – обернулась она, пошептавшись с платаном, к Тиллю. Еще утром, собираясь в дорогу, они взяли маленькую вязаночку хвороста. «Никаких дров!» – строго предупредила Сунчица.
Костерок получился совсем маленький. Сунчица, увидев первый дымок, принялась медленно кружиться вокруг огня, постепенно набирая темп. Закончив танец, она воздела руки к платану и запела своим удивительным голосом. Тилль не понимал слов, но ощущал смысл песни – она просила старейшину Черного леса проводить с почестями зиму и пригласить весну, а солнце она просила растопить снег и разбудить природу. С последним звуком песни из-за тяжелых низких облаков, с утра бродивших по небу, прорвался солнечный лучик и лег у ног Сунчицы. К ней подошел Тилль и прошептал как будто бы про себя:
– Я ощущаю что-то. – В голосе у него появилась нотка, похожая на волнение. – Где-то в глубине груди, там как будто бы что-то щемит и одновременно так светло, а еще я чувствую эту соленую росу на лице. – Он задыхался, как человек, вынырнувший из толщи воды и сделавший первый глоток воздуха.
– Это слезы. – Сунчица с нежностью смотрела на него, раньше он видел этот взгляд, лишь когда она разговаривала с зайчиками или кормила бельчат.
– Да, да, ты говорила, точно, слезы! – Тилля переполняли какие-то новые, неведомые ему ранее ощущения, мир вокруг начал приобретать краски, он ослеплял и оглушал его. – Что со мной? – Он оглядывался по сторонам, глаза его были широко распахнуты, словно он только что впервые увидел окружающий его мир.
– Это лед внутри тебя тает и оттаяла та грусть, светлая грусть, что оставили тебе гномы…
Вдруг Сунчица радостно воскликнула и присела у проталины, которую высветил солнечный луч. Там появились (или они были и раньше, просто спрятались в незаметности сумрака?) первые стебельки свежей весенней травы.
– Твой холод ушел, лед растаял, и потому наступает весна… Смотри! – Она ласково перебирала шелковистые травки.
– Трава! – Голос Тилля был полон восторга, он присел рядом с Сунчицей и кончиком пальцев прикоснулся к травинкам, втянул носом воздух и нагнулся совсем низко. – Она необычная, душистая, переливается как водопад и режет глаза! Что это?
– Это называется зеленый цвет.
Сунчица погладила его по голове, он чуть зарычал, как всегда делал Локи, когда пальцы хозяйки касались его шерсти. Тилль отвернулся, в его глазах искрился яркий теплый свет. Из сине-ледяных они стали небесно-голубыми. Он поднял взгляд на Сунчицу и вскрикнул от неожиданности:
– А твои волосы?!
– Это называется красный. – Она протянула к нему ладонь: – Дай свою руку…
Он с опасением взял ее утонченную хрупкую ладошку, их пальцы переплелись. Тилль прикрыл веки, ощутив внутренний трепет от новых ощущений, и прошептал:
– Твоя рука… Она такая… необычная… Но отчего-то как будто знакомая… – Он зажмурился, припоминая что-то, какой-то мимолетный кусочек давнишнего сна.
– Это называется теплая. Пойдем, я покажу тебе место, где рождается Дунай. Он тут, неподалеку. Это родник, что питает его истоки. У нас на юге, в том городке, где я провела детство, кажется, он назывался Карловитц, есть легенда, очень старая легенда… Мне кажется, надо проверить ее…
– О чем она, эта легенда? – Тилль, казалось, впервые услышал музыку ее голоса и наслаждался, купаясь в ней.
– Будто бы чудо случится для тех двоих, кто напьется в первый весенний день из этого родника…
Взявшись за руки, они пошли сквозь дуброву, солнышко согревало мир вокруг них, а рядом прихрамывал верный и храбрый Локи. С вершины старого платана, что стоит на лесном холме в сердце Черного леса, за ними наблюдал Одноглазый ворон. Платан шелестом сучьев и скрипом ветвей что-то сказал ему, а ворон, чуть склонив голову, что-то прокаркал в ответ.
Октябрь 2015
Плюшевый друг
Океан покоен и тих. В предрассветном тумане на волнах плавно покачивается корабль. Паруса тщательно убраны. На палубе тут и там мирно посапывают матросы. Бодрствует на борту лишь один человек. Капитан. Заложив руки за спину, он прохаживается по мостику. С виду он громаден и угрожающ, но его былая свирепость осталась жить лишь в байках завсегдатаев портовых таверн. Он страшно одинок, несмотря на огромную команду, которая свято верит в него. Ему же, прокладывая курс, остается уповать лишь на высшие силы. Не с кем поделиться той ношей, что сгибает его плечи раньше срока. Он пробовал, и не раз. Но никто из его моряков не видит так далеко за горизонт, как он. Его речи для них лишь набор звуков. Да, они верят своему Капитану, но они не могут осознать и принять то, что еще не случилось, то, в чем нельзя убедиться своими глазами. Для них реально лишь осязаемое здесь и сейчас. Ночами Капитан чайкой воспаряет в небо, поднимается над сиюминутным и вглядывается в даль в поисках дороги в тот порт, из которого он уплыл когда-то далеко-далеко.
Вдруг трели дудочки, доносившиеся будто бы с той стороны, отвлекли его от созерцания грядущего. Он недовольно поморщился, провел грубой, мозолистой ладонью по начавшей седеть темно-красной бороде и пробурчал:
– Иду, уже иду…
Растрепанный грузный лавочник шумно ввалился в тихую мастерскую Часовщика.
– Время! Оно сломалось! – прямо с порога загомонил он. – В моем доме оно не двигается. У всех соседей бежит, а у нас стоит. Оно просто застыло! Как студень! Стрелки намертво встали! Мы с Магдой посоветовались, и я решил, что надо обратиться к мастеру! – Все это возмущенный коварством времени лавочник выпалил на одном дыхании.
Возившийся за ярко освещенным рабочим столом, заваленным пружинками и крошечными шестернями, седоватый маленький Часовщик поднял голову от распотрошенного нутра некоего механизма и тихо сказал, приподнимая надвинутую на глаз громадную линзу:
– Давайте ваши часы. И загляните ко мне завтра. Впрочем, без часов как вы туда попадете… – тут же спохватился мастер. – М-да… задачка… – Он почесал за ухом и, просветлев, выдал решение: – Вот что, почтеннейший. Я сам вам их принесу, когда будет готово.
Лавочник почтительно кивнул, осторожно водрузил на стол громыхнувшую шляпную коробку и, торопливо попрощавшись, скрылся за дверью. Часовщик бережно приподнял крышку картонки.
– Ага, часы с кукушкой, – пробормотал он себе под нос, – кажется, я знаю, в чем тут дело…
Добротный домик, расположившийся над циферблатом, производил впечатление уюта и рачительности. Вооруженный отверткой Часовщик чрезвычайно осторожно приоткрыл дверцу и, стукнув по ней кончиком ногтя три раза, проскользнул вовнутрь, причудливо изогнувшись. Там, в скромной гостиной, обитой зеленой материей, чинно сидела за столом Кукушка и как ни в чем не бывало прихлебывала чай из фарфорового блюдечка.
– Я должен вас уговорить. Вы должны вернуться. – Часовщик обратился к хозяйке дома мягко и предупредительно.
– А зачем? – Кукушка беспечно взмахнула крылом. – Нет-нет, я категорически отказываюсь! Люди меня совсем не ценят…
Не успел Часовщик открыть рот, чтобы возразить, настоять, убедить Кукушку, как комната до краев заполнилась механической мелодией, вытекавшей откуда-то из пустоты.
– Напоминает шарманку, – меланхолично сказала Кукушка, делая глоток из чашечки.
Часовщик внимательно прислушался, забавно оттопырив волосатое ухо. Мягкосердечное выражение лица вмиг уступило сосредоточенной серьезности. Скомканно откланявшись, он шустро выскочил вон.
Хлопотливая тетушка в тяжелом выцветшем платье и белом переднике стряхивала пыль с бесконечных книжных шкафов, составляющих ее владения. На полках покоятся горы сложенных уголком пожелтевших листков, исписанных бисерным почерком и перевязанных тесемками. Напротив теснятся аккуратно переплетенные журналы и альбомы всевозможных размеров и расцветок. Что это за место? Конечно же архив. Но не простой архив какого-нибудь захудалого магистрата или провинциального коллегиума, а самый настоящий архив девичьих дневников. А эта дородная, немного несуразная тетушка – его хранительница.
Мужчины оставляют после себя ворох бумаг. Деловая переписка, записные книжки, юридические документы и прочая очень серьезная ерунда. А еще они пишут фельетоны в газетах и, бывает, оставляют многословные воспоминания, стремясь и на краю жизни утвердить свое мнение, которое, вправду сказать, давным-давно покрылось плесенью. А потом следующие поколения раскапывают в архивной пыли эти бумаги и выстраивают из поросших мхом абзацев, как из кирпичиков, подпорки для своего молодого растущего эго, которое постоянно голодно и требует кормить его все большими порциями букв.
А куда деваются сокровенные девичьи мысли, доверху наполненные сердечными переживаниями и душевными тайнами, и послания, прочитав которые согреешься в самую морозную ночь? Да-да, вы не ошиблись. Ваша догадка верна. Все они попадают именно сюда. В этом скромном домике на окраине безвестного городка Хранительница Архива бережно собирает со всего мира и хранит эти сокровища, щедро политые слезами. Вот и сейчас она что-то прибирает, тихо напевая себе под нос. Переливчатый звон колокольчика оторвал ее от уборки.
– Ах, неужели! – прощебетала она. – Так скоро… А мне еще надо собраться успеть!
Просторный сводчатый зал. Массивные каменные стены укрыты портьерами. Множество причудливых светильников разнообразных форм и размеров заливают помещение неровным светом, порождая блуждающие тени. Изысканный, украшенный резьбой круглый стол с тяжелыми, темного дерева креслами вокруг стоит ровно в середине зала. В креслах расположились трое. Вальяжно развалился сумрачный Капитан. На краешке примостился суетливый Часовщик. С достоинством держа осанку, устроилась Хранительница Архива. Они услышали Зов, бросили свои дела и поспешили сюда, в эти палаты, скрытые где-то в складках густой, сумрачной тени (хотя некоторые до сих пор имеют смелость утверждать, что стоит сей Чертог в глубинах зеркальных отражений).
Распахиваются двери, и в зал входит крошечная девочка, совсем еще малышка, в яркой, расшитой ночной рубашонке. Она с любопытством озирается вокруг и осторожно ступает босыми ножками по глубокому ковру, которым устланы холодные каменные плиты.
– Как вы попали в мой сон? Кто вы?
Эхо многократно усиливает ее голос, и он начинает зигзагом летать по залу, отражаясь от стен. Крошка с наивной детской серьезностью оглядывает троицу. Те, переглядываясь, шушукаются, низко склонившись над столом. Шепчутся, оглядываются на девочку и вновь о чем-то спорят. Слышны лишь отдельные слова.
– …Она!
– …Да нет же!
– А я говорю – Она, потому что…
– Но с другой стороны…
– Ну же! Я жду! – Девочка нахмурила брови и топнула ножкой. Удивительно, но это не выглядело капризом ребенка, скорее напоминало строгость учителя по отношению к нерадивым ученикам.
Первым развернулся Капитан. На коленях у него сидела кошка. Точнее, котенок. Тихо сказав «Мя-а-у!», он спрыгнул на пол, своенравно выгнув спинку, и, оглядев девочку внимательным взглядом, потерся о ее ножку, после чего так же степенно и гордо ушел куда-то в стену, скрывшись в глубокой тени.
– Вот ты какая… – Капитан окинул девочку долгим внимательным взглядом, – маленькая господжица Сунчица…
– Вы знаете меня? – расширила глазенки девочка.
– Сложный вопрос. – Капитан погладил бороду ладонью. – В другом времени, одна из моих ипостасей… Впрочем, это не важно, – спохватился он и замолк.
– Время, время… – подхватил Часовщик, – оно бежит, течет, увлекает нас за собой. Мы не замечаем его, но оно обтачивает нас, как морской прибой гальку на пляже. Постарайся не дать ему себя сточить, стереть, Сунчица, но используй его силу как точильный камень, становясь острее, одновременно сглаживая углы, делая их мягче. Управляй им, научись этому, и сама сможешь определять направление его течения. – Наклонив голову, старый мастер улыбался девочке лучистыми глазами, окруженными паутинкой морщинок.
– А все твои чувства, эмоции, желания будут записаны вот в этой книге, – продолжила Хранительница Архива, постукивая пальцем по объемистому фолианту в изящном алом переплете, – я буду тщательно беречь твой дневник, Сунчица. Ты сможешь прочесть его весь сама, когда мы увидимся в следующий раз. Но будет это еще очень и очень не скоро. – Она погрозила девочке пальцем и широко улыбнулась.
Капитан поднялся из глубокого кресла, устланного медвежьей шкурой, и только тут стало понятно, сколь он огромен. Мореход приблизился к Сунчице, которая едва доставала ему до колена, и присел на корточки.
– У меня есть для тебя подарок. – Он достал из-за спины что-то пушистое и протянул девочке. – Вот, держи. Этого медвежонка зовут Пухатик. Он будет твоим другом и защитником.
Мишка неуклюже обнял девочку мягкими лапами за шею и застенчиво прогнусавил:
– Здравствуй, Сунчица.
В этот миг зал стал уменьшаться и истончаться. Сунчица как будто бы улетела куда-то в сторону. Практически на излете девочку настиг отзвук голоса Капитана, звучащий так, будто бы исходил из далекого далека:
– Множество миров рядом. Они переплетаются. Ты сама выбираешь, в каком из них жить. Запомни это…
Его голос уплывал все дальше и дальше, пока совсем не растворился в обнявшей Сунчицу дружелюбной и теплой пустоте.
– Ну наконец-то, мой цветочек! – вырвался у бабушки вздох облегчения. – Ты очнулась!
Третий день она хлопотала вокруг Сунчицы, лежавшей в жару и лихорадке.
– Бабушка, – пролепетала девочка, превозмогая слабость, – где я была!
Рядом с Сунчицей лежал желтый плюшевый мишка, которого девочка крепко прижимала к себе.
– Тише, тише, деточка, – участливо сказала бабушка, – расскажешь потом, а сейчас вот, выпей и поспи. – Она протянула какое-то целебное питье, которое девочка послушно выпила.
Когда бабушка вышла из комнаты, а Сунчица почти уснула, обняв медвежонка, его оловянные глазки на миг ожили, загорелись озорным огоньком, он подмигнул девочке и тут же вновь стал самым обычным плюшевым медведем.
Июнь 2017
Святая инквизиция в борьбе за чистоту помыслов. Рецензия на «Молот ведьм»
Введение
Работая над «Запахом земляники», я много внимания уделял такому важному источнику по истории инквизиции, как «Молот ведьм». Я старался отразить реальную процедуру расследования/судопроизводства подобных дел в то время (XVII век, Австрийская империя). Так появился этот текст. Своего рода послесловие. Чем же на самом деле была инквизиция на излете Средневековья? Мракобесием и пережитком темных столетий европейского упадка? Или неотъемлемым элементом системы равновесия еще не расколдованного мира, где «сгнивший шалфей, положенный особенным образом в колодец, вызывал удивительные бури в воздухе»? Вопросы, на которые у каждого будет свой ответ. Я лишь знаю, что некоторые лайфхаки тех времен работают до сих пор. Например, нож, определенным образом воткнутый в землю, останавливает дождь и сейчас.
В предисловии С.Г. Лозинского к 1-му изданию на русском перевода с латыни Malleus Maleficarum («Молот ведьм») 1930 года говорится: «Эдикт лангобардского короля Ротара 643 года прямо запрещает христианам верить тому, что женщины могут быть вампирами и высасывать внутренности из живых людей, и указывает судьям не допускать, чтоб заподозренные в таком невозможном преступлении женщины убивались безумцами. Карл Великий пошел гораздо дальше Ротара и в своем первом саксонском капитулярии от 787 года говорит, что смертная казнь может постичь того, кто, одурманенный дьяволом, верит, подобно язычнику, в существование пожирающих живых людей стриг или ламий и на этом основании убивает этих несчастных мнимых преступников». Добавлю, что и Законник сербского царя Душана осуждал суеверия о вампирах, проявлением которых было извлечение трупов из могил и их сожжение.
Но вот в 1487 году, на излете европейского высокого Средневековья, появляется «Молот ведьм» (с наиболее характерными моментами можно познакомиться в конце текста), ставший, по сути, уголовно-процессуальным кодексом инквизиции (в переводе с латыни термин «инквизиция» значит всего лишь «расследование»). Что же случилось? Зачем святой престол учредил сию институцию, отдав ее в руки ордена Псов Господних (доминиканцы – от лат. Domini Canes, вспомним наших опричников/кромешников с песьими головами и метлами у седла – «грызи лиходеев, мети Россию»)?
Продолжу цитировать Лозинского: «Инквизиция должна была вырвать из тела Европы жало ереси… Ведь ересь характеризуется, во-первых, ошибкой в мышлении (error in ratione), a во-вторых, упорством (pertinacia) в этой ошибке».
Иными словами, инквизиция боролась с мыслепреступлениями, охраняя единую заданную ментальную систему координат от возможных альтернативных вариантов. Где инквизиция проявила себя впервые? Испания после Реконкисты, т. е. изгнания мавров, – там ее целью было разоблачение затаившихся, лишь для виду принявших католицизм мавров и марранов (евреев). И Южная Франция, где с альбигойской или катарской ересью, пришедшей из богумильской Боснии, боролся еще святой Доминик, по чьей просьбе папа Иннокентий III и учредил орден доминиканцев.
Катарская альтернативная версия христианства угрожала Римской курии, а независимость южнофранцузских феодалов раздражала короля в Иль-де-Франс и всю северную аристократию. Интересы Рима и Парижа совпадали, и серия Крестовых походов положила конец своеобразной южнофранцузской культуре. Кстати, орден тамплиеров погибнет так же – совпадут интересы святого престола и французского короля, и обвинения будут одинаковы: тамплиеров, так же как и альбигойцев, обвинят в том, что они дают гомагиум – поцелуй, выражающий и закрепляющий присягу в феодальном мире, – «врагу рода человеческого». Король – помазанник Божий. А значит, любой заговор против него – это святотатство, а любое святотатство равно заговору против короля. А кто причастен к подобному? Разумеется, еретик, т. е. тот, кто «либо рождает ложные или новые мысли, либо следует им».
Колдовство же попало в сферу внимания святой инквизиции сравнительно поздно – около XV века. Процитирую религиоведа Мирчу Элиаде: «Жертвы церковников не были повинны в тех преступлениях и ересях, которые вменялись им в вину, но некоторые из подсудимых действительно принимали участие в магико-религиозных обрядах языческого происхождения, издавна запрещенных Церковью даже в христианизированном их варианте. Речь идет о мифо-ритуальных пережитках язычества, сохранившихся в европейской народной религии».
Иными словами, уничтожив всех структурированных мыслепреступников – еретиков, взялись за единичных носителей альтернативных взглядов (если проводить аналогии с современной РФ, то несколько лет назад для обвинения в экстремизме нужно было общественное объединение создать, а теперь достаточно лайк поставить или фото в соцсети разместить, ну или песню).
Но соответствовали ли обвинения, выдвигаемые инквизицией, реальности? Процентов на пять, может быть, да. Но для восприятия масс этого мало, таких скудных поступков, как, скажем, сбор трав и траволечение, совсем недостаточно для публичного обвинения в сговоре с дьяволом, поэтому приходилось преувеличивать, абсолютизируя обвинение (не собирала/лечила травами, но извела пятерых младенцев на мазь, чтобы летать на шабаш – общественности так доступнее понимание вины).
Пример. Исследователь XIX века Канторович в книге «Средневековые процессы о ведьмах» пишет: «Известный богословский писатель XVI века Варфоломей де Спина, говоря о том, что мужья летающих ведьм не только не подтверждают этих полетов, но утверждают, что их жены мирно спят рядом в ночи своих мнимых полетов, замечает, что тут-то и проявляется дьявольщина, обманывающая мужа, рядом с которым лежит «подобие тела», принявшего образ жены обманутого мужа».
Очевидно, Варфоломей де Спина вынужден лукавить и изворачиваться, хотя ему хорошо известно, что все вмененное ему в вину происходило (если вообще происходило) во сне, но даже святая инквизиция не могла обвинять людей в просмотре собственных сновидений, поэтому приходилось стыдливо умалчивать то, что им хорошо известно, а именно то, что «место/событие преступления» существует лишь во сне. Иначе публика могла не понять. Еще в XI веке Бурхарт Вормский в трактате «Corrector» предостерегает от женщин, уверенных, что они «по ночам во сне проходят сквозь запертые двери и взлетают к облакам, чтобы сражаться». В XI веке инквизиции не было, поэтому и не было нужды утаивать, что место действия находится в царстве Морфея. Святая инквизиция прекрасно это знала, но для увеличения степени вины абсолютизировала ее и переносила «преступление» из сна в мир материальный.
Процитирую религиоведа Мирчу Элиаде, который пишет на основе изучения протоколов инквизиторских процессов следующее:
«Бенандати уверяли, что путешествовали in spirito (в духе), во время сна. Перед тем как «пуститься в путь», они впадали в забытье, напоминавшее каталепсию, в продолжение которого душа существовала отдельно от тела».
Таким образом, наши практически современники, Карлос Кастанеда и его индеец-наставник Дон Хуан, общавшиеся преимущественно во сне, в глазах инквизиции были бы абсолютно виновны в колдовстве и были бы сожжены, при этом для общественности их деяния обвинителями были бы перенесены из мира сновидений в наш мир.
Не избежали бы горькой участи и персонажи фильма Кристофера Нолана «Начало». Впрочем, как и сам Кристофер Нолан.
С точки зрения обывателя, автор романа или фильма не может нести реальную ответственность за события и действия, происходящие на страницах книги или на экране. А вот с точки зрения борца с мыслепреступлениями – может и должен. Ведь творение автора – это экстраполяция его образа мыслей вовне, становящаяся к тому же потенциально ролевой моделью поведения для публики, выступающей в качестве потребителя авторского продукта. Поэтому если какой-нибудь крамольник-писатель позволяет себе описывать заговор в вымышленной вселенной, скажем, Арканара, да еще и намеками некие аналогии проводить, то вполне целесообразно обвинить его в участии в заговоре реальном, даже если и существует он лишь на страницах обвинительного акта.
Яркая аналогия – репрессии 30—40-х годов. Существуют две полярные точки зрения на условный 1937 год. Первая. Сумасшедший Сталин в приступе безумия (так же примитивно Карамзин истолковывал опричнину Ивана Грозного) бесцельно уничтожил по ложным обвинениям миллионы ни в чем не повинных граждан. Все обвинения – выдумки и паранойя. Вторая. Было антисталинское подполье, все протоколы из архивов ОГПУ, заляпанные пятнами крови и повествующие о заговорах и подготовках покушений на вождя по приказу румынской «Сигуранцы», – истина. В общем, в ГУЛАГ просто так не сажают, значит, была причина. Классическая обвинительная точка зрения.
Так были все жертвы репрессий невиновны или нет? Разумеется, формально все они были абсолютно невиновны в том, в чем их конкретно обвиняли. Но умонастроения оппозиционного свойства действительно были, как и течения/фракции в партии и армии. И чтобы их выкорчевать (а это был вопрос сохранения не только власти, но и жизни для Сталина), обвинениям придали законченные формы – заговор, покушение и т. д. В этой связи очень иллюстративны цитаты из книги Элизабет Порецки «Воспоминания об Игнасе Рейсе».
Но почему репрессии и их обеспечение, что процессуальное, что медийное, были столь топорны? Потому что страна рабоче-крестьянская. Исполнители из ОГПУ – из деревни. Лица, для которых играется спектакль, сиречь массы, также, по сути, из деревни, поэтому все грубо, лубочно, в соответствии с уровнем восприятия. Обвинения должны быть просты и даже где-то примитивны, тогда они легко будут восприняты массами, ну или охлосом. А если бы репрессий не было, то и товарищ Сталин, вполне вероятно, не протянул бы и до конца 30-х годов.
Это не к тому, что мне симпатичен данный этап нашей истории, – все мои симпатии на стороне тех, кто в 1920 году из Крыма на пароходах уплыл, рабоче-крестьянская эстетика мне вообще не близка, – это к тому, что механизм общественных процессов он вот таков, эмоциональные оценочные суждения оставляем за скобками. Объективная реальность политической борьбы.
Возвращаемся к «малефикам» (дословный перевод термина maleficarum с латыни – это «зловредитель», так в латыни определялось то, что мы называем ведьмой).
Церковь в Средневековье/Новое время есть носитель и охранитель идеологии, которая тогда существовала в формате религии (это верно и сегодня, любая сильная законченная идеология является религиозной верой для ее адептов). В XVIII веке процесс секуляризации европейского общества вывел религию на вторые роли, отныне политические партии стали носителями идеологии[7].
Примерно тогда же потухли костры инквизиции. А функцию борьбы с мыслепреступлениями у инквизиции переняла тайная полиция. Границу можно провести по 1789 году – Французской революции, – к этому же времени относится последняя попытка доминиканцев в Испании вернуть инквизиции былые функции, но ренессанс был очень краток[8]. Для Франции же католическая церковь в XVIII веке, да и значительно ранее, была лишь уздой для черни. Не более. Так и только так воспринимала ее элита. Потому гнев простонародья, которому предлагалось есть пирожные в отсутствие хлеба, был во многом направлен именно на Церковь.
Примерно тогда же, в XVIII веке, при дворе стали столь популярны «черные мессы». Чем были «черные мессы» для их участников? В первую очередь актом насмехательства над «устоями общества» (уздой для черни), перформансом. Демонстрация принадлежности к элите, которая не может пользоваться тем же мифоритуальным комплексом, что и простолюдины, из соображений брезгливости. Но любопытны корни этого явления. Любой идеологии/религии нужен враг. Враг коварный, отвратительный. Полная противоположность. Антидобро.
Вот бедная фантазия инквизиторов и их предшественников и сформировала образ врага, противовес, вобравший в себя все отрицательные черты, а якобы поклоняющиеся ему ведьмы (носители остатков дохристианского мировоззрения/практик плюс еще процентов девяносто тех, кто в бредни охранителей умов попал случайно, для профилактики) и еретики (любые вольнодумцы, т. е. потенциальные заговорщики против сакральной власти) стали по воле доминиканцев в инквизиторских протоколах участниками шабашей – католических месс наизнанку.
Альтернативные официальной религии явления инквизиторы поместили в свою систему координат. Это стало шаблоном, в который необходимо было загонять всех потенциальных мыслепреступников. Вновь процитирую Элиаде: «Преобразование под давлением инквизиции, тайного культа плодородия в черную магию наиболее ярко иллюстрируют метафоры судебных процессов над benandanti (бродяги, бегуны)».
И далее:
«Следствием многочисленных процессов над бенанданти стало постепенное обретение сектой примет сатанизма, согласно модели, которую им упорно навязывала инквизиция, тогда как нет сомнения в том, что первоначально речь шла именно о пережитках культа плодородия».
А побочным продуктом процесса загона в формат стали многочисленные протоколы и книги, подобные «Молоту ведьм». За долгие века им удалось сформировать столь проработанный образ врага, что его эгрегор начал наполняться, и если обвинения катаров/альбигойцев или тамплиеров в поклонении дьяволу в примитивном, вульгарном представлении, адаптированном к восприятию чернью (идею дуальности мироустройства и катары, и тамплиеры восприняли с Востока и, безусловно, не были чужды изучения этого наследия), загоняли реальность в абсолютно извращенные измышления протоколов инквизиции, то в веке XVII появились те, кого доминиканцы упорно создавали все эти столетия, т. е. люди, искренне верившие в то, что если воссоздать в реальности басни, продиктованные комиссарами ведьм (были в средневековой Европе комитеты ведьм – Hexenausschusse и комиссары ведьм – Hexenkommissare, их задачей было выслеживать повсюду ведьм, потом они же их и судили, а после аутодафе, т. е. сожжения, получали конфискованное у ведьмы имущество, это был формат инквизиции в протестантских странах после Реформации) тем, кого пытали на дыбе, то можно приобщиться к некоей тайной древней мудрости и наследовать некоей древней традиции. Так, при французском дворе и появилась «черная месса».
И еще. Говоря о временах, когда мир еще не был расколдован, нужно принимать во внимание такой фактор, как ржаная волчанка или спорынья (дело не только в этом, есть ряд подобных фактов, просто объединим их под этим условным названием – фактор спорыньи). То есть мировосприятие людей того времени было таково, что они могли видеть, скажем, ведьм, летящих на бревнах. Это была иллюзия. Но разве коллективная иллюзия не становится уже реальностью? Факт отсутствия лекарства в плацебо делает его не лекарством? Или не делает? Думаю, эту мысль лучше всего иллюстрирует следующая цитата:
«Все видения Сигурдссона происходят от одного и того же корня. Вернее сказать, не от корня, а от грибка. Вы все знаете, что, когда рожь при уборке отсыреет, на ней появляются такие черные рожки, спорынья. У вас, норманнов, она зовется rugulfr, ржаная волчанка. И мы все знаем, что зерно нужно высушивать, а со спорыньей есть его нельзя. Но полностью избавиться от спорыньи очень трудно. Она вызывает видения, а в больших дозах сводит с ума. Думаю, наш друг особенно к этому восприимчив, так бывает с некоторыми людьми. Его видения появляются после того, как он поест ржаной хлеб или ржаную кашу. А что мы едим здесь с тех пор, как кончились наши запасы? Мы едим белый хлеб из хорошо просушенной пшеницы…
– Но если ты так считаешь, – начал Хагбарт, – значит… Все видения – просто болезнь пищеварения. А не послания богов. И богов не существует.
– Да нет. Вы все жертвы того способа рассуждать, которого я избегаю. Вы рассуждаете «или – или». Или изнутри, или извне. Или ложь, или истина. Этот способ годится только для самых простых вещей. Но не там, где замешаны боги… Может быть, наш собственный разум нам недоступен, потому что он находится вне нашего времени и вне нашего пространства – ведь видения Виглика и видения Шефа переносят их туда, куда их телам ни за что не добраться. Думаю, что в этих странных местах и созданы боги. Из вещества разума. Из веры. От веры боги становятся сильнее. И слабеют от неверия и забвения. Поэтому вы понимаете, видения могут быть настоящими посланиями богов. Но начинаются они из-за рожков спорыньи или из-за моего снадобья, не важно» (Гарри Гаррисон. «Путь короля»).
Саммари. Да, правоприменительная практика инквизиции ужасна (но и реалии религиозных войн «в поисках правды» – гуситских, например, не менее, а вообще-то в разы более ужасны). Но попробуем подняться на концептуальный уровень и рассмотреть смыслы. Когда сегодня кого-то обвиняют в колдовстве (в Саудовской Аравии) или в экстремизме (в России), то это всего лишь условность, видимость правил, скрывающая под собой всю ту же систему отношений, что была в каменном веке – царь горы: кто сильнее, тот и прав. Архетип. Ничего не изменилось, просто интерфейс современный. Давай гомагиум сертифицированному вождю – и, возможно, все будет о’кей. Ну или не давай – и тогда с большой долей вероятности окажется, что ты еретик и ведьма, а потому марш на костер. Ну и, как водится, есть еще множество промежуточных вариантов между этими полярностями.
Въедливый читатель спросит: «Все же за кого ты сам, определись же, за условного инквизитора или же за условного еретика/ведьму?» Отвечу так, мне понятна логика процессов, но симпатичнее мне Малефисента. Смайлик.
Избранные цитаты из «Молота ведьм» и комментариев исследователей к нему
(Издательство «Амфора», СПб., 2008 г.)
«Известный богословский писатель XVI века Варфоломей де Спина, говоря о том, что мужья летающих ведьм не только не подтверждают этих полетов, но утверждают, что их жены мирно спят рядом в ночи своих мнимых полетов, замечает, что тут-то и проявляется дьявольщина, обманывающая мужа, рядом с которым лежит подобие тела, принявшего образ жены обманутого мужа».
«Или же судья должен подсылать к обвиняемому в тюрьму ловких людей, которые бы вкрадчивыми речами или другими искусными приемами вовлекли его в откровенность и вырывали у него какое-либо неосторожное слово, служившее затем доказательством виновности его. Все это считалось не только дозволительным, но и обязательным для судьи, потому что уличить ведьму и искоренить колдовство – дело угодное Богу и, по инквизиторскому принципу, цель оправдывает средства».
«Раз существовало подозрение, все считалось знаком виновности. Если подозреваемый любовью к порядку, прилежанием и бережливостью сбил себе кое-какой достаток, то это значило, что дьявол бросает ему целыми мерками червонцы через трубу; если же подозреваемый был известен как легкомысленный человек и мот, то, конечно, от человека, который водится с дьяволом, лучшего и ожидать нельзя. Если он часто ходил в церковь, говорил с отвращением о ведьмах и волшебниках, то это значило, что он лицемерием хочет отвлечь от себя подозрение; если же он когда-нибудь осмелился выразить сомнение в существовании ведьм, то это, конечно, служило безусловным доказательством его связи с дьяволом».
«Если подсудимая была испугана при ее задержании, то это служило явным признаком ее вины; если же, напротив, она сохраняла присутствие духа, то вина ее была еще более налицо, потому что кто, кроме дьявола, мог ей дать это присутствие духа».
«Важной уликой служило также намерение заподозренной бежать, хотя для всякого, знавшего об ужасах пытки, это намерение было вполне естественно. Известный противник преследований ведьм Шпе (von Spee) рассказывает следующее: «Однажды прибежала ко мне женщина из соседней деревни, рассказала, что на нее донесли, что она ведьма, и спросила моего совета, бежать ли ей или нет. Она невинная и хотела бы вернуться домой, но боится, что, если ее задержат и будут пытать, то мучениями ее заставят лгать на себя и она таким образом сама ввергнет себя в вечные муки ада. Я ей ответил, что ложь при таких обстоятельствах не составляет смертного греха, и успокоенная женщина на другой день вернулась в свою деревню. Но там она была арестована вследствие подозрения в бегстве, подвергнута пытке, мучений которой она не выдержала, и созналась в своем грехе, и была сожжена».
«Но самой опасной уликой, объясняющей, каким образом один процесс вел за собою обыкновенно сотни других процессов, было показание пытаемых о соучастниках. Судье недостаточно признания подсудимой, он хочет также при этом случае узнать, кого она видела на сборищах шабаша, кто ее научил предаться дьяволу и т. д. Доведенная пыткой до отчаяния, подсудимая называет первые попавшиеся имена или имена, подсказываемые ей судьей».
«В Nördlingen в 1590 году против жены одного значительного чиновника было возбуждено следствие по подозрению в колдовстве. Кроме показаний некоторых женщин, что они ее видели на сходках ведьм, против нее не имелось никаких улик. Пыткой вынудили у нее сознание. На вопрос о соучастниках она умоляла судей не заставлять ее ввергать в погибель невинных людей. Но при повторении пытки она назвала нескольких лиц, которые и были сожжены на костре».
«Часто несчастная раскаивалась и желала отречься от своих показаний против невинных. Но боязнь новых мучений пытки ее удерживала от этого, а если она все-таки отрекалась и отрицала свое показание, ее снова пытали, и она должна была снова делать оговор невинных людей».
«Горе было тому, чье имя было произнесено во время процесса о колдовстве или кто находился в родстве или дружбе с подсудимым. Для него не существовало спасения. Происхождение из семьи, в которой кто-нибудь из членов ее, в особенности мать или бабушка, уже судились за колдовство, было самой сильной уликой, не оставлявшей никаких сомнений в связи подсудимой с дьяволом».
«Обыкновенно, по правилам судопроизводства, обвиняемый считался оправданным, если он выдерживал пытку в продолжение целого часа, не сознавшись в приписываемом ему преступлении. Но когда дело касалось колдовства, то подобных ограничений не допускали. Закон обходили тем, что возобновление мучений называлось не повторением, но продолжением пытки».
«То, наконец, что пытаемая могла выдержать пытку, считалось новым знаком ее виновности, доказательством того, что ей помогал дьявол».
«Эта женщина мужественно перенесла все степени пытки, не сознавшись; и так как других доказательств против нее не имелось, то ее пришлось освободить. Но в следующем году против нее опять возникло подозрение, ее снова арестовали и жестоко пытали. Четыре раза ее вытягивали на «лестнице», шестнадцать раз ее ноги были завинчены самым сильным образом и, так как с ней беспрестанно случались конвульсивные припадки, то ей насильно открывали разными орудиями рот, чтобы она могла сознаться. То она упрашивала, то она рычала – говорится в протоколе, – «как собака». Ее мужество оказалось сильнее злости ее мучителей. Наконец несчастная женщина была выпущена, но изгнана из страны».
«Значительное число пытаемых умирало под пыткой или непосредственно после пытки. Это являлось только подтверждением подозрения: было ясно, что дьявол их умертвил, чтобы помешать им сознаться, – и их закапывали обыкновенно под виселицей».
«В тех редких случаях, когда заключенные, выдержавшие всевозможные мучения не сознавшись, были выпускаемы на свободу, они должны были присягать, что не будут мстить членам и слугам суда за вытерпенные муки».
«Фридрих Шпе состоял в первой половине XVII столетия духовником в Бамберге и Вюрцбурге, и его печальная обязанность была напутствовать несчастных на костер. В это время процессы свирепствовали наиболее, костры не переставали гореть и бывали дни, когда сжигали по 10 ведьм в день. Шпе входил в близкие сношения с несчастными, видел все эти ужасы и с опасностью для своей собственной жизни поднял голос в защиту этих жертв. Он написал в 1631 году книгу (Cautio criminalis seu de processu contra sagas liber), в которой он рисует всю нелогичность обвинений и абсурдность системы допросов и пыток: «Женщина, заподозренная как ведьма, должна быть признана виновной – все равно какими мерами: силой или угрозами, правдой или неправдой. Никакие слезы и мольбы, никакие доказательства и объяснения – ничто не помогает: она должна быть виновна. Ее мучают, терзают до тех пор, пока она под руками палача не умирает или не признается в своей вине. Если же она выдерживает все мучения, она еще более виновна: это значит, что дьявол дает ей силы и держит ее язык, дабы она не могла говорить и признаться. И поэтому она заслуживает еще более жестоких мучений и смерти. Улики и доказательства всегда против обвиняемой – какие бы они не были, положительные или отрицательные. Если она вела скверный образ жизни, то, разумеется, это доказательство ее связи с дьяволом; если же она была благочестива и вела себя хорошо, то ясно, что она притворялась, дабы отвлечь своим благочестием от себя подозрение в ее связи с дьяволом и ночных путешествиях на шабаш. Затем – как она себя держит при допросе. Если она обнаруживает страх, то ясно, что она виновна: совесть ее выдает. Если же она обнаруживает спокойствие, уверенная в своей невинности, то бессомненно, что она виновна, потому что, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается в возводимом на нее обвинении – это свидетельствует о ее виновности; если же она в страхе и отчаянии от возводимых на нее чудовищных обвинений падает духом и молчит – это уже прямое доказательство ее виновности. Затем начинаются пытки, которым ее подвергают для получения признания, как будто в руках судей имеются достаточные доказательства ее виновности и недостает только добровольного признания. Или она признается и умирает, как признавшаяся, на костре, или она не признается и тоже умирает в мучениях пытки или на костре, сожигаемая еще более строго, живьем, как упорно непризнавшаяся. Она должна умереть – во всяком случае, она не может избегнуть своей участи. Потому что все говорит против нее: если она во время пытки от ужасных страданий в ужасе блуждает глазами – это значит: она ищет глазами своего дьявола; если же с неподвижными глазами остается напряженной (если на нее находил столбняк от ужасной боли), это значит: она видит своего дьявола, она смотрит на него. Если она находит в себе силу переносить мучения пытки – это значит: дьявол ее поддерживает, и она заслуживает еще более строгого наказания. Если она не выдерживает и умирает во время пытки – это значит: дьявол ее умертвил, дабы она не делала признания и не открывала тайны, и тогда ее труп все-таки предается позорной смерти на костре или виселице. Если, несмотря на все это, все-таки нет доказательств ее виновности, ее держат в смрадной тюрьме годы, пока не появятся новые доказательства или пока она не сгниет в тюрьме».
«Хотел бы я знать, – восклицает Шпе, – каким путем возможно невинной доказать свою невинность и избегнуть смерти? Несчастная, на что надеешься, зачем при первом твоем вступлении в тюрьму не признала себя виновной? Неразумная женщина, почему хочешь много раз умирать, когда можешь одним разом прекратить свои мучения? Послушайся моего совета, признай себя виновной с самого начала, еще до начала мучений! Признай себя виновной и умри! Спасти себя ты все равно не можешь, потому что ты все равно должна умереть.
А к вам, судьи, обращаюсь и спрашиваю вас: зачем вы так тщательно ищете повсюду ведьм и колдунов? Я вам укажу, где они находятся. Возьмите первого встречного капуцинского монаха, первого иезуита, первого священника, подвергните его пытке, и он признается, непременно признается. Если же он будет упорствовать и при помощи колдовских средств будет переносить все страдания, пытайте его опять, пытайте его еще жесточе, он должен будет признаться. Возьмите прелатов, кардиналов, самого папу – они признаются, уверяю вас, они признаются!»
«Все, что только больное воображение суеверного и невежественного народа могло выдумать, пытаемая вынужденно признавала за свои преступления, и эти признания ее, вынужденные пыткой, продиктованные отчаянием, заносились в протоколы как действительные факты, как реально совершенные преступления.
Часто пытаемые признавались в таких фактах, которые тут же на суде с очевидностью оказывались ложными, нелепыми, плодом фантазии. Но суд этим не смущался и принимал эти факты как истину, объясняя, что признание очевиднее, чем сама очевидность.
В Гессене, в деревне Линдгейм, в 1664 году были обвинены пять женщин в том, что они вырыли из могилы недавно умершего ребенка и тело его употребили для приготовления волшебной мази. Их подвергли пытке, и они сознались в своем преступлении. Муж одной из этих женщин, убежденный в ее невинности, добился того, чтобы осмотрели могилу, и когда ее вскрыли, то нашли гроб с нетронутым трупом ребенка. Но судьи объяснили это дьявольским наваждением; собственное признание обвиняемых, по их мнению, было важнее кажущейся очевидности. Женщин осудили и сожгли живыми… Но суд, ввиду признания, не принял этого доказательства невиновности, объяснив, что труп ребенка в могиле – наваждение дьявола, чтобы обмануть судей».
«Недели, месяцы и годы заключения в отвратительнейших тюрьмах, страшные муки пыток, жестокое обращение судей и палачей и вообще вся судебная процедура доводили обвиняемых до такого смятения и потрясения ума, что многие в конце концов и сами верили в реальность всего того, в чем они признались под пытками. Они рассказывали о себе удивительные, невероятные вещи, причем рассказывали это с мельчайшими подробностями. В помутнении разума несчастные действительно думали, что виновны в возводимых на них обвинениях, искренно обвиняли себя и других, умоляли спасти их души, признавали себя недостойными жить, просили скорее сжечь себя на костре, чтобы освободиться от власти дьявола и возвратиться к Богу».
«Эти признания, занесенные в протоколы, служили главным доказательным материалом, которым подтверждалась вера в колдовство и в существование ведьм и на который судьи в своей практике, и юристы, и теологи в своих сочинениях ссылались как на неопровержимые факты для обоснования учения о дьяволе и колдовстве. Из суда эти признания, полные самых чудовищных измышлений, переходили в массы, питая народное суеверие и подкрепляя авторитетом суда самые нелепые рассказы о шабаше, о похождениях дьявола и ведьм, о наносимой ими порче, о волшебных мазях, об оборотнях и т. д. Вот извлечение из протокола, подобных которому множество».
«Ликантропия – особая форма безумия, во время которой больные воображают себя превращенными в зверей, – принимала в некоторых местах характер настоящей эпидемии. Многие воображали себя обросшими шерстью, вооруженными ужасными когтями и клыками и утверждали, что во время своих ночных скитаний они разрывают людей, животных и в особенности детей».
«Молот ведьм». Приложение. А.Н. Афанасьев. «Процессы о колдунах и ведьмах»
«Реформа Петра Великого не могла поколебать векового предубеждения против колдунов и ведьм. В ту эпоху, когда она совершалась, во всей Западной Европе, служившей для нас образцом и примером, вера в колдовство составляла общее достояние умов и подчиняла своим темным внушениям не только простолюдинов, но и духовенство, ученых и самые правительства. Между тем как у славян, соответственно простоте их быта, далекого от строгих юридических определений, книжной учености и богословской схоластики, предания о волшебстве удерживались в устных, отрывочных и безыскусственных рассказах – на Западе мы встречаем целый ряд учено-богословских трактатов о духах злобы и их связях с людьми, трактатов, обработанных систематически и доведенных до изумительного анализа всех мелочных подробностей. Эта средневековая литература дополняла и формулировала народное суеверие, скрепляла его своим авторитетом и имела огромное влияние на общественные нравы, судебные процессы и законодательные установления».
Октябрь 2016
Понизив голос и без звона колокольчиков[9]
Моей любимой женщине
Вьюга. Вой ветра и вихри снега. Постепенно небо светлеет, буря утихает. Белая пустошь до горизонта режет глаза. Черная точка вдалеке постепенно приближается, становясь все больше и приобретая очертания человека – оборванного, в лаптях, с клочковатой бородой и непослушным вихром волос, из-под которого блестит дерзкий, полубезумный взгляд. Он бредет, с трудом переставляя ноги, а в руке у него блестит кривой татарский кинжал, собирая лучи холодного зимнего солнца, отражающегося от снега. Жалобное и протяжное «Мя-а-у!» неожиданно проступает сквозь зимнюю бурю. Снежные вихри и ухарь с ножом отходят на второй план, тускнеют и, распавшись на пиксельные клочья, исчезают. Постепенно Морфей выпускает из матрицы сна, сознание понемногу фокусируется. Рядом с кроватью стоит кошка, жалобно смотрит снизу вверх и продолжает мурлыкать.
– Налей Рукавичке молочка, – рядом проснулась О.
Залюбовался тем, как ее ярко-красные волосы разметались по черной подушке. Вдохнул их аромат. Погладил пятно Роршаха между лопаток.
– Jawohl. – В некоторые моменты мне хочется разговаривать лишь шепотом. – Meine liebe Fräulein.
– Мы же договорились дома разговаривать по-сербски, а не по-немецки. – Она жмурится от яркого весеннего солнца, бьющего в окно.
– Наши Карловцы на какую-то часть и немецкие Karlowitz, – говорю, одновременно нашаривая под подушкой «молескин» и карандаш.
– Снова утренняя мысль, которая вот-вот улетучится? – приподнимается на локти О.
– Нет, снова этот же сон.
– В который раз? – Она вопросительно выгнула бровь.
– В этом году уже в седьмой. – Кратко пометил и закрыл «молескин» на резиночку.
– Все же налей Рукавичке молочка. – О. сладко потянулась и снова забралась под одеяло. – И давай еще поспим.
Встал. Рукавичка нетерпеливо кивает, мол, «давай же!». Тихонько включаю музыку. Пространство комнаты мягко наполняет пронзительно грустный голос Долорес О’Риордан. Рукавичка слегка царапает правой лапой: «Ну быстрее!» Открываю холодильник, упс, а молока-то и нет. Сегодня же понедельник, надо идти к молочнику. Ой вэй, а так не хотелось сегодня выходить из дома. Ладно-ладно, прогуляемся. Накидываю ветровку, выхожу во двор, открываю калитку и оказываюсь на улице. В очередной раз подумал, как же хорошо, что у нас в Воеводине принято строить высокие заборы, люблю, чтобы личное пространство было замкнутым и только моим. На улице уже вовсю кипит движение, в Сербии рано просыпаются. Хотя само понятие времени здесь иное, оно идет своеобразно, трудно сказать не то что в каком я десятилетии, но и в каком веке. Мощенные камнем улицы и черепица на крышах домов. Выхожу с нашей улицы патриарха Райачича на центральную площадь. Как написал кто-то из белогвардейских поэтов: «Я прикасаюсь ладонью к истории…»[10] – вот тут я именно это и делаю. Вот с этого балкона патриарх Райачич провозгласил Сербское Воеводство в 1848 году, а вот там был штаб Русской армии в изгнании, в 1921 году. Тогда король Александр любезно приютил остатки белых. Прохожу площадь и сворачиваю на улицу митрополита Стратимировича – по ней еще немного и у дома Врангеля налево, там лавка моего молочника. У маленького городка свои прелести: свой молочник, свой булочник, свой мясник, свой официант, который знает, какой кофе ты пьешь по утрам, и помнит, что за кофе ты читаешь только «Политику». Отчего-то вспомнил – вот так же и Василий Витальевич Шульгин вышел в 1945 году за молоком, по дороге зашел в военную комендатуру и в следующий раз увидел жену через десять лет, изучив за это время все тонкости интерьера тюрьмы Госбезопасности во Владимире.
Молочник стоит на крыльце, завидев издалека, улыбается и открывает дверь:
– Добро jутро, млади господине!
– Е моj Милане шта, сам синоћ доживео кад смо изгубили!
Футбол мне неинтересен, но Милан страстный болельщик «Партизана», и ему приятно, что вчерашнее поражение в белградском дерби я переживаю вместе с ним. Это не мегаполис с ордами людей-функций. Тут у каждого осталась индивидуальность, хоть постепенно большие города, расползаясь, как раковые опухоли, пожирают ее. В Карловцах нет ни одного сетевого магазина, ни одного сетевого кафе. Мне это нравится. Поэтому мы живем здесь. Это наш личный мир. Маленький кусочек Австро-Венгрии XIX века, куда провели Интернет. Ритуал общения ни о чем. Сперва это кажется странным, а потом втягиваешься и понимаешь, зачем это. Формирует общую атмосферу благожелательности, где все здороваются друг с другом, улыбаются и раскланиваются.
«Полет валькирий» Рихарда Вагнера. Четкая ассоциация – атака первой «Эйр Кав» на вьетконговскую деревню. А потом серфинг. Эта мелодия на звонке стоит только на одного человека. Понедельник же, в Москве началась рабочая неделя. Нащупываю левой рукой айфон: «Волхв, я перезвоню». Москвичам сложно объяснить, что у нас не принято разговаривать на ходу. Захожу во двор – Рукавичка уже тут: играет на лужайке с щенком шарпланинца, сосед Любиша завел новую собаку, привез с юга, из Ниша. Налил обоим молочка, а сам поднялся на нашу веранду. Джезва с кофе, кальян, ноутбук. Я готов работать. Сейчас, несколько затяжек ароматного дыма из пузатой арабской наргилы – и точно буду готов.
Телефон беззвучно дребезжит, на SMS: «Попробуй отвар из мухоморов. Мухоморы-то в вашей глуши есть? Твоему тезке помогло. Короче. НА-БЕ-РИ!» Подпись «Волхв». Щелкаю большим пальцем по его имени и нажимаю «Набрать».
– Ты о чем? – недоумеваю. – Какие мухоморы?
– Волхвы одному лентяю сбитень из них делали, который тридцать три года на печи лежал. – Волхв, как всегда, образен и мудр. Потому и Волхв.
– Я только одному Волхву доверяю – тебе. Приедешь – сделаешь. Что там у нас в Гниловодске?
– Звонили из Чистого переулка. Игумен новый фильм снимает – «От Флорентийской до Брестской унии». Ему нужен видеоряд из Ватикана. В их библиотеке единственный экземпляр какой-то книги – название скину эсэмэской, в общем, в секретариат кардинала я уже набрал, они разрешили съемки. К тебе вопрос: когда едем и на кого счет выставлять?
– Про счет уточню к вечеру, но скорее на железнодорожников, как в прошлый раз. А билеты бери сразу на четверг, себе и тому камерамэну, с которым ездили в декабре. А я присоединюсь к вам в Риме.
– О’кей, конунг, понял. Отбой.
Через секунду приходит SMS: «История о листрикийском, т. е. разбойническом, Феррарском, або Флоренском, соборе вкоротце правдиве списанная», 1598 г.».
Впервые мы столкнулись с библиотекой Ватикана два года назад, когда консультировали создателей сериала про бабу Вангу и прочую балканскую мистику. Особенно запомнился отель «Поп Богумил» в Софии, весь в кроваво-красных тонах. Нам с О. так и хотелось удостовериться, что за шторой не притаился гость из Трансильвании. Первый вампир, достоверно известный в истории, был серб Сава Саванович из городка Байна-Башта на Дрине. А само слово «вампир» – славяно-сербского корня. Мы обнаружили, что первое упоминание вампиров содержится в книге, что хранится в библиотеке Ватикана, тогда и состоялась наша первая встреча с ее смотрителем – кардиналом Паччини, любезным и очень доброжелательным человеком.
Телефон вновь вибрирует. Теодулиjа – средневековая балканская музыка. Эта песня – языческий обряд вызывания дождя. На экране имя – «Тимофей – Бгд ин-т ист». Снимаю трубку:
– Да, Тимофей, доброе утро! – Мне, сове, изображать бодрость в ранние часы всегда непросто.
– Ты дома? – Собеседник собран и деловит. – Надо поговорить, я тут рядом, недалеко от тебя, в Нови-Саде.
– Ок, давай посередине, на Петроварадинской крепости, в кафе под часами… скажем, через полчаса. – С трудом подавляю зевок.
– Хорошо, до встречи. Отбой.
Где-то полчаса – это миг. У нас же это серьезный объем времени. Тут оно течет с другой скоростью. Пишу SMS своему таксисту, прошу забрать меня из дома через двадцать минут. До крепости как раз десять минут езды. А за это время я успею закончить эссе для толстого и авторитетного московского литературного журнала с очень маленьким тиражом и без сайта в Интернете. Old School не признает новых технологий. Я уважаю традиции, поэтому пишу для этого журнала только на старом «Ундервуде» с ятями, когда-то он приехал сюда с эвакуированными из Крыма русскими. Здесь много осязаемого наследия нашей эмиграции. Пододвигаю «Ундервуд», для него у меня специальный столик на колесиках, заправляю лист бумаги. Текст – это как виски. Почему важно, как сделана дубовая бочка, а на чем сделан текст, не важно? У любого текста свой аромат, который зависит от того, как тот написан – в виде рукописи, набран в Word или напечатан на машинке. Авторское кино нужно снимать на пленку 8 мм, а писать тексты в этот журнал только на «Ундервуде». В Москву я отправлю этот текст в конверте, по обычной почте, опустив в массивный почтовый ящик XIX века на центральной площади, который еще помнит толстые депеши, перехваченные лентами и запечатанные сургучом, адресованные в имперскую столицу Вену.
Большая часть текста уже набита, осталось немного, буквально пара абзацев, как раз на двадцать минут. Пальцы забегали по клавишам, пишущая машинка послушно заклацала, отбивая литеры:
«…Новые люди XIX века – это не оппозиция с «Колоколом» в Лондоне и не дети Чернышевского с фитилями от бомб в руках, которым не терпелось «до основания, а потом». Это молодые русские капиталисты, выходцы из разных слоев, отставные офицеры, обедневшие дворяне, разночинцы, вчерашние студенты. Они были свободны от фобий и маний с желтоватым оттенком, их не съедала страсть к игре или навязчивая мысль испытать топор на старушке. Их ум занимала прибыль, акции, биржа. В советском переводе Теодора Драйзера четко акцентированы термины в соответствии с линией партии – «барыш, нажива» и т. д. Только так. С негативной окраской. Эта ненависть к людям дела (дела в значении business, а не в значении, которые от Чернышевского и Ко восприняла вся русская интеллигенция, где под делом почему то понималось исключительно служение деструктивной идее) была характерна для всего русского общества, не хватало своего аналога протестантской этики, которая бы постулировала, что make money богоугодно, лишь у старообрядцев был некий аналог, потому они и заняли в русском предпринимательстве столь серьезные позиции. Не постоянные сомнения, искания, покаяния и прочие рефлексии нужны были тогда отечественному печатному слову, а популяризация интереса к биржевым сводкам и доступность телеграфа.
Нашим Уолл-стритом должен был стать Китай-город. И в нашей литературе был свой Теодор Драйзер. Но его забыли, а потом не заметили. Ну или наоборот. Боборыкин писал как раз о нарождающемся классе русских предпринимателей, но ведь нажива – «это грязно и низко» – вековечный сбой в алгоритме русского ума, которому подавай идею отвлеченную. «Новым человеком» был не Рахметов, вызвавший к жизни демона революции и его адептов-бомбистов с глазами, светящимися идеологией, а выпускник университета, обедневший дворянин Пастухов, стремящийся войти в элиту русской деловой жизни в романе Боборыкина «Китай-город»: «До славянщины ему мало дела, хотя он и побывал в Сербии и в Болгарии волонтером, квасу и тулупа тоже не любил, но палаты будут в «стиле». В Москве так нужно… Слявянофилы, например, западники, что ли, там… Все это одни слова. А нам надо «Дело».
Помните в «Generation «P» Пелевина бандита Вована, который требовал у Вавилена идею на полстранички, чтобы в ней духовность была «как в 1945 под Сталинградом»? Вован нюхом чуял, первобытным звериным чутьем, что «в мире разные бабки крутятся, еврейские, американские, чеченские. И за всеми стоит какая-то идея». А имеющийся у нас арсенал идей лишь отпугивает золотого тельца. Так, может, пристальнее вглядеться в наследие XIX века, выкристаллизовать из наследия того времени зачатки идеологии русского капитализма и подвергнуть апгрейду?»
Концовка была сыровата, да и цитаты из Боборыкина не лучшие, в тексте были места и посочнее, но времени их искать уже не было. Редактору, который завис в системе координат позапрошлого века, должно было понравиться. У него как раз был период западничества с легким налетом славянофилии (именно так, потому что профессиональные друзья «братушек» – это тяжелобольные люди, от которых надо держаться подальше). В формат попадает – окончательно решил, перечитав еще раз весь текст, и поставил точку. «Ундервуд» в последний раз звонко клацнул и замолчал.
За воротами раздался протяжный сигнал. Самое время. Любиша подъехал. Выхожу за ворота
– Е моj драги рус, где сад идем? – Он распахивает дверцу, перегнувшись с водительского сиденья.
– У Петроварадин, приjaтелjу моj, – отвечаю, устраиваясь поудобнее на пассажирском месте.
Любиша резко стартовал с места. Вообще, стиль вождения в Сербии более жесткий, агрессивный, но это, на удивление, никак не влияет на вежливость водителей. Доехали до конца Патриарха Райачича, поднялись на холм, у памятника сражению 1848 года с венграми свернули налево, проскочили последние дома и выехали на стари аутопут-бетонку Нови-Сад – Белград, построенную немцами весной 1941 года для переброски танковых дивизий в сторону Греции. На заборе крайнего дома заметил размашистое свежее граффити «Црна Рука Србиja». Сто лет прошло, а мракобесие все еще живет в головах – многие до сих пор считают Гаврилу Принципа героем, а ведь он начал Первую мировую. Вспомнил граффити в Белграде, недалеко от вокзала – в Ольстере такие называют mural. Лик Принципа и надпись: «Наши тени будут летать по дворцу – пугать господ» – этот mural я взял на обложку книги о начале Первой мировой.
Любиша лихо затормозил прямо у ворот крепости: «Стигли смо!» Глянул на часы, сегодня он побил свой рекорд – всего восемь минут. Я приехал на две минуты раньше. Столик на самом краю крепостной стены. Далеко внизу быстрый Дунай, когда-то римский Дануб. Крепость построена австрийцами в XVIII веке на турецком берегу, чтобы контролировать мост и иметь возможность в любой момент переправиться к османам. За рекой раскинулся Нови-Сад.
– Тимофей, что привело вас в наши выселки из блестящей столицы? – Тимофей на несколько лет старше, закончил истфак МГУ и перебрался в Сербию, где работал в институте новейшей истории.
– Наши соотечественники из НИСа[11]. После обеда презентуем проект по наследию российской эмиграции. Надеемся на грант от Шевченко.
Тимофей вытащил из сумки пухлую стопку листов, быстро пролистал и выудил откуда-то из середины страницу с симпатично оформленной цитатой, напечатанной изысканным шрифтом.
– Вот, глянь. – Он аккуратно располагает бумагу на столе у меня перед глазами. – Особенно надеемся на пристрастие их московского руководства к разного рода корням и традициям…
Склоняюсь над текстом и читаю:
«Императорское правительство выплачивало премию русским поставщикам керосина для того, чтобы они могли успешно конкурировать в Сербии с румынами и американцами, предлагавшими более низкие ставки. Сербия привыкла к русскому керосину, который ввозился в полезных для домашнего обихода крестьян жестяных бидонах, и народ ценил эту связь с нами, говоря, что «свет идет из России».
Поднимаю голову:
– Ясно, ясно. – Подзываю официанта. – Откуда цитата? Действительно находка для департамента PR и GR. «Горький лист» не помешает презентации?
– Ну конечно же не помешает. – Тимофей широко улыбается. – А про источник цитаты сейчас расскажу.
– Конобаре, дупли «Горки лист» два пута са ледом и лимуном и две чаше воде. Негазираноj.
Короткий кивок.
Глаза собеседника горят, очевидно, ему не терпится. Делаю приглашающий жест рукой:
– И тема нашей сегодняшней встречи…
– Помнишь странную смерть российского посла Хартвига накануне начала Первой мировой?
Утвердительно киваю, конечно же помню, он умер в австро-венгерском посольстве с чашкой кофе в руках, прочитав их ультиматум Сербии. Официальная версия – разрыв сердца. Но так как на следующий день началась Первая мировая, даже если его смерть и была случайностью, в это никто не поверил. В Петербурге в открытую говорили, что это отравление. Еще любопытнее тот факт, что последняя телеграмма Хартвига в Петербург не сохранилась ни в одном архиве, а по косвенным данным можно предположить, что именно ее содержание подтолкнуло государя к решению начать мобилизацию, в свою очередь вызвавшую мобилизацию в Германии и, как итог, глобальную войну вместо локальной австро-сербской войны.
– А кто после него стал нашим послом?
На секунду задумался.
– Троицкий. Немного болгарофил. Прибыл в Ниш, куда был эвакуирован двор сразу после начала войны.
Искра хитрости видна в глазах собеседника.
– Формально верно, а фактически нет. Несколько месяцев российскую миссию возглавлял и. о. посла Василий Штрандтман. Чудесным образом мы обрели его мемуары, никогда не публиковавшиеся, и сейчас готовим к публикации первый том… – Тут мой собеседник немного замялся. – Но возникла небольшая проблема…
– И тут вам нужен я?
– Твоя книга была принята благосклонно, хотя тебя излишне тянет в беллетристику, а тут может быть докторская…
– Тимофей, ближе к делу. – Как раз подоспел «Горький лист». Напиток, к аромату которого нужно долго привыкать, но потом невозможно отвыкнуть.
Хором гаркнули: «Живели!» Пригубили. Поморщились. Полынь дает такой вкус… К тому же покрывает сознание тончайшей прозрачной пленкой.
– Первый том мы заполучили путем длительных переговоров с одним профессором-славистом из Гарварда, – продолжил оживившийся Тимофей. – У него весь архив Штрандтмана, но как он попал к нему – неизвестно. Вроде бы завещал кто-то из недавно умерших наследников. Но сейчас он пропал, не выходит на связь. А нам нужен второй том. Мало того что там вся история подковерных событий нашей эмиграции – недаром Штран-дтман завещал опубликовать мемуары лишь после своей смерти, что сразу же повышает уровень доверия к ним, но и…
Продолжаю его фразу:
– Но и грант НИСа завязан именно на второй том, да? – Широко улыбаюсь.
– Точно. – Тимофей тоже широко улыбнулся. – Плюс во втором томе, опять же по слухам, и есть та самая телеграмма Хартвига.
Приподнимаю бровь:
– А это еще интереснее. И ваше предложение?
Тимофей пододвигает салфетку к себе и пишет какие-то цифры, потом передает ее мне:
– Доля в гранте, научные публикации и защита докторской к столетию Первой мировой войны. Только докторскую пиши сам, для тебя же не проблема.
Обвел цифру в кружочек.
– Вы очень хотите подружиться с Шевченко. – Видя нетерпение на лице собеседника, намеренно растягиваю слова, изображаю задумчивость. Наконец мне это надоедает. – Конечно же deal. И у меня уже есть идея, с чего начать.
– Я даже в этом не сомневаюсь. – Тимофей с облегчением вздыхает.
Достаю планшет из сумки:
– Как зовут профессора?
– Стенли Вудвард. Судя по имени, стопроцентный W.A.S.P. с корнями на «Мэйфлауэре»[12].
Открываю gmail, ввожу в строку to: три буквы «Ros», и умный ящик уже подсказывает: Rostislav Kolcaninoff? Отвечаю утвердительно. Именно он. Пишу письмо и одновременно поясняю:
– Ростислав Владимирович Колчанинов родился еще в 1920 году в белом Крыму. Отец – военный инженер. Эвакуировались в Галлиполи. Оттуда в Сараево. Колчанинов – старейший член НТС[13]. Мы переписываемся больше десяти лет, и я его никогда не видел, он уже лет пятнадцать не выходит из дома, где-то в пригороде Нью-Йорка, но очень много раз мне помогал. Он знает всех, кто связан с нашей эмиграцией. Особенно в Штатах, особенно если все это еще имеет отношение к Сербии. – Одновременно дописал письмо и нажал send.
– Ты оперативен. Давай еще по кофе – и расход.
Тимофей уже делал заказ официанту. Джезва и миниатюрные чашечки. Два запотевших стакана с ледяной водой.
– Как в Сараево. На Башчаршии. – Наслаждаюсь ароматом кофе.
– Я не любитель ориенталистской экзотики. – Тимофей осторожно прихлебывает обжигающий напиток.
Аромат, струящийся из джезвы, перебивает двойной дзинь – нам письмо. Активирую экран планшета. Вот это скорость! Ответ из NY!
«Дорогой друг, очень рад весточке от Вас. Профессор Вудвард мой добрый приятель. Я созванивался с ним – он готов принять Вас вечером».
Упс, забыл написать, что я в Сербии, а не в Штатах. Старик, видимо, подумал, что я уже в Нью-Йорке. Как всегда, деловит и лаконичен.
Их вечер с поправкой на разницу во времени наступит ориентировочно через двадцать часов. Можно успеть. Захожу на momondo.com, логинюсь, забиваю в графу to: NY from Belgrade. Мне сегодня везет, вылет через три часа, пересадка во Франкфурте. Цена приемлема! Бронируем.
– Тимофей, ты не поверишь, но профессор Вудвард ждет меня сегодня вечером, вылетаю через три часа.
– Ты очень, очень оперативен. – Широко улыбается.
– Я знаю.
Быстро прощаемся. Прыгаю в такси на стоянке, быстрее домой. Одновременно набираю Любише – через пятнадцать минут стартуем с ним в аэропорт от дома. Домой залетаю молнией. О. проснулась, сидит перед монитором, рядом Рукавичка, критически наклонив голову, тоже изучает psychology.ru.
– Доброе утро. – Наклоняюсь и прислоняюсь щекой к ее щеке.
– Ага. Вот колонку пишу, а Рукавичка мне помогает.
– А я уезжаю. Прямо сейчас.
– Один? – Нотки недовольства. – А куда?
– Северо-американские Соединенные Штаты. Новый Йорк. Я на один разговор. В пятницу мы вместе летим в Рим. Волхв уже забронировал билеты.
Полуобернулась. Пристальный, внимательный взгляд.
– То, что уезжаешь – очень плохо. Рим – хорошо. – Она, как всегда, лаконична.
Вытаскиваю скомканную салфетку из кармана, расправляю.
– Поездка обоснована. – Выразительно подчеркиваю цифру.
– Тогда… Командировка утверждена. – Веселые искорки в глазах. Люблю ее смех, обожаю очаровательную серьезность. Когда-то я потерял смысл, а Она помогла мне его найти.
Быстро хватаю дорожную сумку, кидаю туда macbook, планшет, немного одежды, пару книг в самолет, документы и несколько дежурных сувениров с балканским колоритом. За воротами уже сигналит Любиша. Обнял О. на прощание и подмигнул Рукавичке, та сказала «мяу» и устроилась на веранде греться на солнышке. В аэропорт едем как всегда, когда опаздываем, а туда мы опаздываем всегда. По дороге узнаю карловацкие новости, больше похожие на сплетни. В здание аэропорта вбегаю вихрем, на стойке регистрации я последний пассажир.
– Багаж – нет, не сдаю. Место? У окна!
Еще полчаса досмотр, паспортный контроль – все визы в паспорте на месте, – и я вновь взлетаю. Люблю самолеты. Особенно ощущения при взлете. Достаю айфон, вставляю наушники, вчера Феджа прислал новый альбом их «Београдского синдиката». Их музыка – это живая энергия в аудиоформате. «Нема предаje, нема повлаченьа!» Во Франкфурте пересадка. Впереди Атлантика, можно и подремать!
…Драккар под низким свинцовым небом Балтики. Штиль. На обвислом парусе руна. Весла дружно вздымаются и опускаются, будоража и вспенивая водную гладь. Огромный варяг задумчиво смотрит вдаль и отбивает ритм рукояткой боевого топора по щиту. В такт ему звучат дружные «уф» пятидесяти воинов, сидящих на веслах. Прищуриваясь, стоявший на носу варяг оборачивается к дружине и рявкает: «Один!» Полсотни глоток подхватывает боевой клич: «Один! Один! Мы попадем в Вальхаллу!» Впереди из тумана проступает берег Гардарики. Рыжебородый варяг вновь поворачивается вперед и говорит, уже лишь для себя: «Я твой ярл, ты мой конунг!».
От удара просыпаюсь. Посадка. За окном аэропорт Ла Гуардиа. Достаю «молескин» – странная руна. Не помню такой. Но отчего-то она мне знакома. Надо зарисовать, пока помню. К чему этот сон? Нужно набрать Волхву, явно он на Чертово городище ездил и теперь шлет депеши из Асгарда.
Посмотрел на часы, карманные, на цепочке, тридцатых годов, доставшиеся от деда. До встречи остается три часа. Во Франкфурте успел выпить кофе и забронировать билет на поезд в Нью-Хэмпшир. Должен успеть.
Начали приходить сообщения о пропущенных звонках, и среди них SMS от профессора Вудварда: «Greetings, my dear friend! Ill be in my office in university. 20–00 p.m.». Быстро отправляю подтверждение и двигаюсь в сторону выхода.
Выхожу из поезда уже в сумерках. Вокзал в викторианском стиле. Новая Англия, штат Нью-Хэмпшир. Бросаю взгляд на массивные станционные часы, до встречи сорок минут, надеюсь, успею. Такси с яркой надписью на борту Yellow Cab New England въехало на территорию университета без пятнадцати восемь.
Таксист сбрасывает скорость до разрешенных на территории двадцати миль в час. Неторопливо движемся по дубовой аллее, идущей между старыми корпусами кампуса. На одном из зданий большая перетяжка – успеваю заметить витиеватую греческую литеру альфа. Вот оно знаменитое братство «Альфа» – гнездо будущих сенаторов, конгрессменов и, возможно, даже президентов. Такси притормаживает у двухэтажного здания, чьи потемневшие от времени стены, покрытые мхом, кажется, вросли в землю. Один угол здания полностью увит плющом, затянуты даже окна. «Вот почему Лига плюща», – мелькает короткая мысль. Расплатился, вышел из такси. Буквально осязаемая тишина.
Появившийся на небе полный месяц освещает строение, где свет пробивается лишь из пары окон, и дубы, едва покрывшиеся свежей листвой. Напомнило кусочек детства в Oakley Hall School в Англии. Взвизгнувшие шины отъезжающего такси нарушили звенящую тишину. Тут же с ветвей дубов в небо поднимается с криками стая ворон, резкий звук спугнул их. С вершины дуба прямо под ноги падает почти засохшая ветка, с чудом появившимися на ней тремя молодыми листиками. Бережно отрываю их и убираю во внутренний кармашек «молескина». Осмотревшись по сторонам, тянусь за телефоном, но в этот момент на массивном крыльце здания зажигается свет и открывается дверь. Появившийся привратник зовет за собой, проводит на второй этаж и оставляет у двери с табличкой «Профессор славистики Вудвард». Коротко постучал, надавил ручку двери и переступил порог кабинета. За массивным столом, заваленным бумагами и книгами, сидит суховатый лысеющий англосакс лет шестидесяти в твидовом пиджаке с замшевыми заплатами на локтях, старомодных очках в роговой оправе и набивает трубку.
– Проходите, молодой человек, вас-то я и ожидаю. Профессор Вудвард. – Неожиданно крепкое рукопожатие, сухая ладонь. – Присаживайтесь, – указывает на кресло напротив своего стола.
– Позвольте представиться. – Протягиваю плотную картонную визитку.
– Так-так… PR, GR и консалтинг. Любопытный род занятий для начинающего слависта. Не можете до конца определиться – наука или бизнес?
– Стараюсь совмещать одно и другое.
Только тут заметил, что разговариваем по-русски. Его произношение почти безупречно, единственное, что выдает, – это почти незаметное свистящее «ф» вместо твердого «в», характерное для потомков эмигрантов первой волны.
– Ростислав Владимирович вкратце информировал меня о вас и цели вашего визита. Вас занимает архив Штрандтмана, не так ли?
– Точно так, мой коллега из Белградского института новейшей истории чрезвычайно заинтересовал меня сообщением об архиве, находящемся у вас. – Как всегда, общаясь с потомками эмигрантов, подстраиваюсь под их речевую стилистику. В принадлежности же профессора к ним сомнений уже не было. – В прошлом году я выпустил книгу о начале Первой мировой войны и защитил кандидатскую в Москве. Вот сейчас думаю об углублении темы и о докторской. – Одновременно с этим достаю из сумки книгу и передаю, перегнувшись через стол.
Профессор как раз закончил раскуривать трубку, выпустил облако дыма с вишневым ароматом, взял мундштук левой рукой, а правой принял книгу. Повертел, наскоро пролистал и убрал в стол:
– С вашего позволения подробнее ознакомлюсь позже, но, судя по оформлению, это не научное издание? – Чопорная академическая строгость с налетом легкого пренебрежения.
– Именно так, для более широкого круга читателей.
– Впрочем, к предмету вашего визита. – Профессор взглянул на меня в упор. – Откровенно скажу, что сотрудничество с вашими сербскими коллегами немного разочаровало наш университет. Им недостает аккуратности и педантичности.
– Вот в этом, профессор, с вами абсолютно согласен, – сочувственно киваю, – балканская специфика.
Взгляд Вудварда чуть заметно теплеет.
– Коллега, простите мою неучтивость, вы же с дороги. Виски?
Повысили с молодого человека до коллеги – приятно.
– С удовольствием, профессор.
– Какое предпочитаете?
– Односолодовое, если можно.
– «Джемисон»?
– Вполне, профессор.
Вудвард достал початую бутылку и разлил янтарный напиток по стаканам.
– Мои шотландские предки разбирались в солоде.
Оба пригубили.
– И в напитках из него. Профессор, если позволите, личный вопрос.
Короткий кивок.
– А в чем разбирались ваши русские предки?
– Неужели так заметно? Не думал. Мой дед служил в штабе у генерала Витковского, в дроздовской дивизии. А Ростислав Владимирович был моим наставником в ОРЮР[14]. – Взгляд профессора окончательно подобрел.
– Профессор, расскажите про архив Штрандтмана. – Самое время перейти к сути.
– Ну что ж… О его существовании ничего не было известно до последнего времени. Двоюродная племянница Штрандтмана умерла совсем недавно, чуть-чуть не дожив до ста лет. Приют передал нашему фонду архив дяди согласно ее завещанию. Архив еще до конца не разобран и не каталогизирован, впрочем, давайте лучше я вам все покажу.
Профессор поднялся с кресла и открыл неприметную дверь справа от стола. Просторная кладовая без окон, забитая ящиками, кипами книг и стопками папок.
– Вот эти два ящика. – Вудвард откидывает крышку, достает лежащую сверху папку, перевязанную тесьмой. – В этой папке воспоминания Штрандтмана, права на издание которых в Европе мы уступили сербам.
– Любопытно. – Развязываю тесьму и начинаю листать пожелтевшие страницы. – Узнаю «Ундервуд».
– У вас наметанный глаз, коллега, действительно Штрандтман предпочитал именно эту марку.
– Профессор, а что со вторым томом?
– Вторым томом? – Вудвард рассмеялся. – Он существует лишь в воображении наших сербских коллег, не знаю, кто им заморочил головы, но Штрандтман успел дописать лишь до 1915 года. Вижу, они и вам голову задурили.
– А где, вы говорите, умерла его племянница?
– Приют «Старый вяз», штат Мэн. Хотите поискать там? Уверяю вас, все бумаги Штрандтмана в этой комнате, и вы можете свободно работать с ними в любое удобное для вас время, мой офис в вашем полном распоряжении.
– Профессор, можно попросить у вас карандаш, кое-что запишу прямо сейчас, – говорю, не отрывая взгляда от папки с бумагами в руках.
– Конечно же. – Профессор вышел из кладовки.
Быстро захлопываю папку, беру под мышку и опускаюсь на корточки – на стенке ящика почтовая наклейка, не могу разобрать язык, но точно не английский. Быстро достаю айфон и фотографирую наклейку. Тут же принимаю прежнюю позу. Профессор возвращается.
– Извините, только ручка, карандаша не нашел, – протягивает мне ручку.
– Профессор, спасибо, но в «молескине» пишу только карандашом, – извиняясь, пожимаю плечами.
– Это верно, у всех настоящих ученых должна быть чудинка. – Приятельски хлопает меня по плечу. Общая черта сербов и американцев – любовь к излишним тактильным контактам. Их личное пространство значительно меньше нашего.
– Профессор, время позднее, будет, наверное, благоразумнее, если продолжение знакомства с архивом мы перенесем на завтра. Если вам, конечно, удобно.
– Разумеется, коллега, разумеется. Сейчас вызову вам такси, которое отвезет вас в отель, вы же еще нигде не остановились? В десяти минутах езды есть очень приличный и недорогой отель.
Профессор подходит к столу, снимает трубку массивного телефонного аппарата сороковых годов и набирает номер. Ловлю себя на мысли, как давно не видел дисковых телефонов. Приятная ассоциация из детства. Бросив несколько отрывистых фраз, профессор вешает трубку: «Такси будет через десять минут». Тут он, будто что-то вспомнив, открыл ящик стола и достал тонкую папку.
– Чуть не забыл. Вот краткое описание архива Штрандтмана. Точную копию мы отправляли и сербским коллегам. Ознакомьтесь на досуге, и жду вас завтра.
Радушно распрощавшись с профессором, выхожу на улицу. Месяц стал еще ярче. Зябко. Закидываю сумку на плечо и засовываю руки в карманы. Ветровка Paul & Shark от холода не спасает. Через пять минут подъезжает такси. Изрядно продрогнув, забираюсь на заднее сиденье и называю адрес.
Отель «Вереск». Останавливаются в нем почти исключительно гости университета. Спокойная, сосредоточенная академическая атмосфера. Кидаю вещи в номере и спускаюсь в бар. Заказываю грог и устраиваюсь в самом дальнем углу спиной к стене, лицом к входу – старые привычки диктуют всегда и везде выбор одного и того же места. Открываю фото, сделанное у профессора, и увеличиваю его. Не похоже на штат Мэн – сверху крупно отпечатано «Швейцария. Кантон Граубунден», а ниже мелкий текст на языке, который опознать я не могу. «Спроси у специалиста», – подсказывает внутренний голос. Открываю почту, прикрепляю фото, в графе to: набираю «Boris», высветилось: «Boris Balkan?» Утвердительный ответ. Борис – сын югославских гастарбайтеров, в 60– 70-х годах наводнивших Европу. В нем воплощается тот идеал, к которому стремился Гончаров, – широта славянской души и немецкая педантичность и точность. В Швейцарии Борис думает по-немецки, но дома разговаривает только по-сербски. Работая в банке с 500-летней историей, он одновременно совладелец букинистической лавки в Цюрихе. Разумеется, Балкан не его фамилия, это моя личная ассоциация с литературным персонажем. Попросив Бориса посмотреть фото почтовой наклейки и дать свой комментарий, закрываю планшет и жестом подзываю портье:
– У вас есть конверты с марками и гербовая бумага?
– Разумеется, сэр. Марки для отправления куда? – Учтивая вышколенность портье напомнила Бэрримора из «Собаки Баскервилей» с Ливановым в роли Холмса.
– В Европу.
– Минутку, сэр.
Портье на подносе приносит конверт и дюжину листов плотной, хорошей бумаги с логотипом университета в шапке. Поблагодарив, достаю перьевую ручку. Это специальная ручка. Только для таких писем. Ей. Из кармашка в «молескине» достаю дубовые листочки и перекладываю их в конверт.
Это наша традиция. Это моя необходимость. Рефлексии, соображения и потаенные мысли в эпистолярном формате отправлять О. Даже дома мы часто переписываемся, обмениваясь бумажными письмами. Всегда вдохновляла переписка Александра Васильевича[15] и Анны Васильевны.
«Всегда, встречаясь с потомками белой эмиграции, даже ненадолго, ощущаю покалывание в ладонях как от слабого электрического заряда. Сегодня в очередной раз это ощущение прикосновения к истории.
Я прикасаюсь ладонью к истории
Я прохожусь по Гражданской войне.
Как бы хотелось им в Первопрестольную
Въехать однажды на белом коне.
Они – это отзвук возможного альтернативного развития. Отзвук слабый, все более растворяющийся в окружающем, тем ценнее эти встречи.
Белым видением тает, тает
Старого мира последний сон,
Молодость, доблесть, Вандея, Дон.
Этот старый мир проступает сквозь глянцевую современность. Уверен, что старый мир был черно-белым, более строгим, выдержанным, эстетичным. Помню, в детстве спрашивал у бабушки, каково им было в молодости, когда все вокруг, да и они сами, были черно-белыми. Временами монохромное прошлое, приходящее теперь лишь во снах, кажется мне более реальным, чем все окружающее. Можно принять современность с привкусом попкорна, но если выбирать формат жизни, то 35 мм привлекательнее 3D. Впрочем, каждый из нас архитектор своего мира. Поэтому мой мир – это инкарнация XIX века. С проведенным в нее Интернетом. Избегаю больших городов, где нет черепичных крыш. Я живу в прошлом, которое в разных своих проекциях натянуто на настоящее. На уродливость современности всегда можно поставить «заплатку» из милого кусочка прошлого, которое, вполне вероятно, и существовало лишь в книгах да нашем воображении. Каждый из нас живет в своей индивидуальной реальности. Грубо говоря, тот, чья реальность стремится к миру комиксов, рано или поздно встретит Бэтмена или Капитана Америку. И вот в чьем-то мире Бэтмен будет вполне реален, но только в его мире. Люди, у которых голова отформатирована одинаково, встречаются случайно даже в многомиллионных мегаполисах, многими подмеченная особенность. Хотя физически, номинально все мы находимся в одной системе координат, в одном пространстве. Возможно, мы все – лишь персонажи чьей-то книги, ведь все вокруг сделано из слов, недаром же «в начале было Слово». Придумывая вымышленные миры, мы порождаем их, и точно так же кто-то, измышляя, порождает наши судьбы. Мы органически взаимодействуем с ними, влияя на повествование друг друга. Я всегда чувствую Вашу ладонь в своей руке. Мы с Вами строим только наш мир для двоих из этих слов-кирпичиков, пишем нашу общую книгу».
Перечитал. Поставил пропущенные запятые. Задумался… Да, вот что еще.
«P. S. Дубовые листики положите в шкатулку к медвежьему клыку с Карпат. Тотемные архетипы должны жить вместе».
И еще.
«P. P. S. Как думаете, а в каком мире живут аутисты? Вот бы посмотреть…»
Дастин Хоффман в «Человеке дождя» был одним из самых любимых персонажей в детстве, но спички считать, как он, я не мог. Зато сразу же, не задумываясь, мог назвать количество букв в любом слове. Это немного примиряло меня с тем, что я не умел свистеть и надувать пузыри из жвачки – очень важные в детстве навыки, – зато мне казалось, что во мне есть кусочек аутизма.
Грог практически остыл. Одним глотком допиваю, аккуратно складываю лист бумаги и запечатываю конверт. Перед сном нужно кое-что еще сделать, написать несколько коротких писем. Тимофею в Белград, пусть пришлет опись архива Штрандтмана, которую ему дал Вудвард, сличим на всякий случай. Волхву в Москву – как идет подготовка к поездке в Рим. Колчанинову – благодарность за очередной полезный контакт. Отправив три e-mail, делаю пометку в «молескин» карандашом: «Кол-в – отправить коробку сигар». Знаю, что, несмотря на возраст, это его слабость. Закончив, передаю конверт портье с просьбой отправить с утренней почтой и разбудить меня в 6:00.
Резкая трель звонка вырывает из объятий сна. Яркий луч весеннего солнца бьет в окно. Ненавижу пробуждения, особенно ранние. Сон – это маленькая смерть, и каждое утро, рождаясь заново, приходится всему заново учиться.
Быстрый душ. Спускаюсь в холл с папкой и планшетом в руках. Вчерашнего портье сменил новый. Заказываю завтрак, большую кружку американо с молоком и устраиваюсь в том же углу, что и вчера. Прихлебывая обжигающий кофе, включаю планшет, вхожу в почту. Есть новые письма. Первым открываю от Тимофея. В приложении PDF описание архива. Открываю файл, разворачиваю папку и начинаю сравнивать. Биография Штрандтмана, история архива, племянница из приюта в Мэне, ее завещание – пока все идентично. Описание собственно архива, обширная переписка (помечаю список фамилий в «молескине»), документы благотворительной миссии, созданной Штрандтманом в Белграде для помощи русским эмигрантам, статьи в сербской и эмигрантской периодике, несколько интервью, книги с пометками, несколько записных книжек, черновики, а вот и самое интересное, то, что сводит все эти материалы воедино, – мемуары Василия Штрандтмана. И тут текст в папке, врученной вчера Вудвардом, меньше на целый абзац. А в PDF он есть, и как раз описывает второй том мемуаров, где содержится анализ Штрандтмана причин начала Первой мировой и упоминается и та самая, утерянная телеграмма посла Хартвига! Логично, оформляя заявку на грант в НИС, белградские коллеги должны были на что-то опираться. А зачем тогда профессор Вудвард так откровенно и нагло лукавит?
Ладно, подумаю об этом чуть позже.
Следующее письмо. Борис пишет из Цюриха. Открываю e-mail, читаю. Оказывается, надпись на наклейке на ретророманском языке – тут же небольшая справочка из Вики: «Ретророманские языки – условное название группы архаичных романских языков, расположенных на периферии галло-итальянского языкового ареала. Романский (швейцарский ретророманский) распространен в долине Рейна в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. Слово «ретророманские» образовано от названия римской провинции Реция». И что же там написано? Ага… Адрес букинистического магазина в одном из городков этого кантона.
«И что самое удивительное, – пишет Борис, – на прошлой неделе мне пришло письмо на адрес моей букинистической лавки в Цюрихе с предложением приобрести хроники гильдии рудокопов XIV века, которую я очень давно искал. И пришло оно как раз с адреса на почтовой наклейке, что ты прислал мне, хотя ранее я и не слышал о букинистах в такой глуши. Веришь в совпадения? Я – нет».
Подведем итоги. У нас есть два на первый взгляд идентичных описания архива Штрандтмана. В одном из которых содержится упоминание второго тома мемуаров, к тому же с текстом телеграммы Хартвига, а в другом этот абзац отсутствует. Профессор Вудвард сам дал мне бумаги, подчеркнув, что у сербов точно такая же копия. Еще у меня есть почтовая наклейка с адресом букинистического магазина где-то в Альпах (для кого он там? Для йети?), хотя, по утверждению профессора, ящики прибыли из штата Мэн.
Итого, за сорок минут он минимум дважды намеренно ввел меня в заблуждение. Причем зная, что обман быстро вскроется. Спросить его прямо в лоб? Профессор в возрасте никогда не простит обвинения в лукавстве и выставит меня вон без объяснения причин. Поинтересоваться тонко и тактично? Тут нужна помощь О., у меня самого такта примерно как у косолапого.
Короткое покашливание прерывает размышления. Поднимаю голову. Портье протягивает конверт: «Сэр, вчера утром это письмо передали для вас. Только что обнаружили его за стойкой». Удивлен. Вчера утром я и не знал о существовании этого отеля. Спрашиваю: «А передавший конверт человек что-нибудь сказал?»
«Не знаю, сэр, принимал мой сменщик, хотя погодите, вот тут пометка его рукой – отправитель сообщил, что вы прибудете вечером».
Все страннее и чудноватее, как говорила Алиса. Покрутил конверт в руках – простой белый конверт без марок и подписей. Распечатываю. Внутри открытка – вид на Женеву с озера. Позади вздымаются Альпы. Слоган туристической ассоциации страны внизу: «Швейцарская конфедерация ждет вас!»
Переворачиваю открытку – ни единого слова. Столько прозрачных намеков. Значит, придется посетить кантон Граубюнден. Захожу на momondo.com и выбираю рейс на Белград через Цюрих с задержкой в Швейцарии на сутки. Буду дома в пятницу в 6 утра – как раз принять душ, переодеться и снова ехать в аэропорт, теперь уже с О., кардинал Паччини ждет нас в пятницу. Сайт на несколько секунд задумался и выдал варианты. Единственный приемлемый – «Люфтганза». Недешево. Но если в Швейцарии нас ждет второй том Штрандтмана, выставим счет на дополнительные транспортные расходы сербам. Впрочем, если и не ждет – все равно выставим, у них есть русские корпоративные братушки с нефтью и газом. Забронировал. До выезда в аэропорт JFK еще три часа. Есть время на глинтвейн, блинчики с ветчиной и сыром и два письма: профессору Вудварду и Борису – пусть встречает.
Цюрих. Город строгих костюмов и дорогих часов. Борис, как всегда, педантичен – вот что делает немецкое воспитание со славянами. На парковке подходим к новенькому BMW, закидываю сумку на заднее сиденье, а сам устраиваюсь рядом с водителем: «Хорошая машина, хотя до «юго» или «дачии» ей далеко». Борис знает мою слабость, впрочем чисто умозрительную, к автопрому тоталитарных стран. Резко трогаемся.
– Хорошая страна в первую очередь, все остальное производное этого. – Мой товарищ садится на своего излюбленного конька. – Швейцарский франк – самая прочная валюта мира, это залог нашего успеха, поэтому же здесь никогда не будет ЕС и евро. – К традиционной швейцарской пренебрежительности по отношению к объеденной Европе примешивается и личная нелюбовь Бориса к НАТО, хоть он и родился в Цюрихе. Каждое лето он проводил в деревне в Шумадии и бомбардировки 1999 года прощать и забывать отказывается.
Сворачиваем на шоссе. Ехать нам пару часов, поэтому можно немного и поерничать над приятелем.
– Борис, патриотизм – это, конечно, хорошо, особенно по отношению к такой стране, как Швейцария, но знаешь, какая валюта победит франк?
– М-м-м? Только не говори, что это юань, эти байки в Москве друг другу рассказывайте.
– Ты знаешь, что я давно не живу в Москве, и знаешь почему. А валюта эта… bitcoin!
Громкий заливистый смех товарища:
– Да ты что!
– Да, да, так же в России говорили про сланцевые нефть и газ. Вообще, знаешь, в России есть один любопытный современный писатель, он немного визионер. Знаешь, как он описывает будущее Европы? Как дымящиеся развалины и руины, в которых орудуют арабские киберпанки. Так что лучше смазывай М-16 и не пропускай тактические учения с соседями. – Борис – сержант действующего резерва швейцарской армии.
– Смотри вот, на прошлых учениях подарили, – с гордостью протягивает руку с часами.
Читаю: «Hanowa. Swiss military».
– Да, для меня ценнее любых «Патек Филиппов» и «Константинов Вашеронов». – Швейцарцы любят свою армию.
– Понимаю, понимаю. – Достаю из внутреннего кармана дедовские карманные часы на цепочке. – Восемьдесят пять лет без ремонта, а как новые. По семейной легенде, деду их подарил Яков Блюмкин, суперагент ОГПУ в конце двадцатых годов.
– Что такое ОГПУ?
– То, что потом стало КГБ.
– Твой дед тоже был из этих. – Борис весело глянул на меня, на секунду оторвавшись от дороги. – Все вы русские такие.
– Борис, Озна све дозна. Разговори своего отца, он тебе, может, и расскажет, чем занимались так называемые югославские гастарбайтеры. – Обменялись колкостями.
– А этот Яков, что подарил часы, кем он был?
– Советский Индиана Джонс. В 1918 году убил в Москве германского посла Мирбаха, с известными оккультистами Рерихами ездил в экспедиции на Тибет. По легенде, возглавлял оккультный отдел ОГПУ, красное «Аненёрбе».
Борис присвистнул.
– Действительно, вещь с историей. А твой дед?
– Просто у него был широкий круг общения, а в Москве конца двадцатых было много интересных людей.
Пора менять тему. Спрашиваю:
– А зачем тебе эти «Хроники рудокопов»?
– Очень занятная история, – оживляется Борис. – Занимаюсь родословной жены, нашли дневник ее прапрадеда. Он на полном серьезе пишет, что их род происходит от гномов, и ссылается на эту книгу.
– Какую из двух концепций ты хочешь доказать? Что средневековые рудокопы, в чьи гильдии принимали только кряжистых и низкорослых, породили миф о гномах или что в Средние века еще были среди людей позже полностью ассимилированные представители расы гномов, владевшие древними знаниями? Первая более реалистичная, а вторая более романтичная.
– Даже и не знаю… – Борис задумался. – А как тебе кажется?
– Ну, если честно, давно еще слышал, что в Исландии есть специальный чиновник по связям с эльфами и прочими представителями мира мифов и ни одно строение там не возводится без консультации с ними и одобрения этого чиновника. Может быть, дань традициям и легендарному прошлому, а может, и нет. Сам знаешь, «совы не то, чем они кажутся». Все хотим с О. съездить в эту Исландию и проверить, но никак не доберемся. Так что все возможно.
Остаток пути провели в молчании и задумчивости под музыку Вивальди. Кажется, я даже чуть задремал. Проснулся, услышав Бориса:
– Вот она, эта ретророманская глухомань.
Активно работают дворники, очищая стекло от падающего снега, в горах зима еще не уступила свои права. Сверяясь с навигатором, Борис медленно двигается по аккуратным, словно кукольным улочкам городка.
– Вот оно, приехали!
Тормозим у двухэтажного аккуратного домика с витриной, заваленной фолиантами. Запарковались. Открываю дверь, звенит колокольчик, оповещающий о приходе посетителей. Внутри множество книжных шкафов, доверху набитых книгами, образуют причудливый лабиринт. В переднем углу небольшая стойка со старинным кассовым аппаратом на ней, но за стойкой никого нет. Оглядываемся по сторонам.
– Закройте же дверь, молодые люди, напустите холода, смотрите, какая метель на улице! – Голос звучал откуда-то из-под потолка, через секунду появился и его обладатель, спустившийся по винтовой лестнице со второго этажа, – высокий, худощавый, подтянутый мужчина лет пятидесяти в домашнем свитере крупной вязки, в небольших круглых очках, из-под стекол которых блестел цепкий проницательный взгляд. – Давно вас поджидаю. Разрешите представиться, доктор Хайнрих Теодор Шмидт, антиквар и библиофил. – Протянул руку сперва мне. Крепкое рукопожатие, после этого взгляд на Бориса. – Сразу узнал нашего русского гостя, стало быть, вы – герр Стайич. Та книга, что вы ищете, ожидает вас вон там, – указал на столик и глубокое кресло в глубине зала. – Будьте, пожалуйста, аккуратнее, пергамент XIV века, сами понимаете. Надеюсь, вы не обидитесь за то, что мы вас покинем на несколько часов – у нас с вашим товарищем будет обстоятельный и интересный разговор.
Переглянулись с Борисом удивленно. В этот момент человек, отрекомендовавшийся как герр Шмидт, взял меня под руку и увлек на второй этаж со словами:
– Знаю, что у вас очень много вопросов, но наверху нам будет удобней.
Пришлось подчиниться и подняться вслед за странным хозяином наверх.
– Также знаю, что в немецком вы не сильны, поэтому предлагаю общаться по-русски. – Почти незаметный шелестящий акцент. Только тут понял, что весь его монолог внизу, в зале, был на немецком. Странно, что сразу этого не заметил, да еще и понял до последнего слова. – Давайте растопим камин, сегодня прохладно.
Он принялся возиться с поленьями у камина, а я тем временем осмотрелся. Просторный кабинет, обшитый дубовыми панелями, на стенах множество фото, картин, гравюр и рисунков. В конце комнаты большое окно во всю стену, выходящее на противоположную сторону от входа. За окном потрясающий вид на луга, припорошенные снегом, и альпийские пики. У окна два кресла, стоящие друг против друга, и маленький столик между ними. Всюду множество книг – на полках, в книжных шкафах, на огромном столе в центре комнаты, даже на полу в стопках. Стоит ни с чем не сравнимый запах старой библиотеки, впервые я ощутил его в Ватикане. Как пояснил кардинал Паччини, это смешанный аромат пергаментов и кожаных переплетов, древних чернил и свинцовых литер, бумаги разных веков и конечно же книжной пыли. От нее никуда не деться.
В камине весело вспыхнул огонь, а хозяин вновь взял меня под руку и подвел к одной из стен, увешанных изображениями в рамках.
– У меня есть для вас крайне интересная миссия, – вкрадчиво начал букинист. – Вы слышали о «Кодексе Гигас»? Том самом, с изображением его мифического автора на первой странице. Он хранится в Королевской библиотеке Стокгольма. В книге не хватает трех страниц. Взялись бы вы помочь нам в их поиске? Впрочем, об этом позже. Узнаете? – Он ткнул пальцем в карандашный черно-белый рисунок, резко сменив тему. На рисунке был изображен странствующий рыцарь. Присмотрелся к рисунку, чуть прищурив один глаз.
– Подражание Дюреру, герр доктор? – Решил, что это обращение будет наиболее подходящим этому странному человеку. Удивление и природная подозрительность изрядно сковывают меня в такие минуты.
– Ну почему же подражание. Самый настоящий Альбрехт Дюрер. Просто неизвестная работа. Точнее, набросок.
– Герр доктор… Дюрер рисовал только с натуры.
– Вы хотите сказать, что он не мог видеть рыцаря, потому что в его времена их уже не осталось? А вы предположите, что некоторые все же дожили и могли согласиться ему позировать. – Он на секунду замолчал и бросил на меня оценивающий взгляд. – Впрочем, вижу, вас все еще сковывает лед недоверия и сомнений, приправленный удивлением. Знаю, как этому помочь. – Он отошел в сторону к деревянному глобусу и открыл его, обнаружив внутри мини-бар. – Уверен, что в такую погоду вы не откажетесь от чешской бехеровки. – Он подхватил зеленую плоскую бутыль с яркой желто-синей наклейкой и два стакана с толстым днищем и прошел к двум креслам у окна. – Располагайтесь.
Удобно устроившись, беру предложенный стакан, продолжаю недоумевать, немного теряюсь и не знаю, с чего начать. Доктор Шмидт, расположившийся напротив, сделал изрядный глоток, на миг зажмурился от удовольствия и, забросив ногу на ногу, махнул указательным пальцем в мою сторону:
– Предвижу ваш первый вопрос. Раз вас тут ждали, как вы уже поняли, то зачем было обставлять путь сюда таинственными загадками. Ведь можно было просто назначить встречу. Но тогда заинтересованной стороной были бы мы, а не вы. А проведя вас немного по небольшому квесту, мы породили у вас некие соображения, а самое главное – вопросы к нам. Теперь атмосфера встречи и взаимные позиции, наиболее подходящие для хорошего разговора. Уже вы заинтересованы в получении ответов. Знаете, насколько редок по-настоящему хороший разговор? Иногда можно прожить целую жизнь и ни разу в таком не поучаствовать. Настоящий хороший разговор всегда определяющ, судьбоносен, и часто ждать и готовить его приходится многие годы.
– Герр доктор, вы необыкновенно хорошо угадываете чужие мысли. Сразу же второй вопрос. Вы прекрасно владеете русским, но вот акцент… Не могу его опознать.
– Так говорили когда-то в Вильно. Остался с давних времен. Кстати, ну-ка, скажите мне, откуда вот эта цитата: «Славянский язык – плодоноснейший и Богу любимейший, без поганских хитростей и руководств, се же есть грамматик, риторик, диалектик и прочих коварств тщеславных, простым прилежным читанием к Богу приводит».
– Если честно, чувствую себя как на экзамене, поэтому сразу же признаюсь – понятия не имею.
– Плохо, молодой человек, очень плохо! Это из Поучения, которое написал для воеводы киевского Константина Острожского один инок. А уж про князя Константина Константиновича должны были слышать, тем паче что книга, за которой вы едете послезавтра к кардиналу Паччини, принадлежала и издавалась именно им.
Осторожно киваю, ощущая все возрастающее недоверие.
– Вы знаете и про кардинала?
– Год назад вы получили доступ к закрытым архивам Ватиканской библиотеки, не хочу набиваться на благодарность, но кардинал советовался со мной по вашей персоне, и я дал вам положительную характеристику.
Кстати. Раз уж мы заговорили о воеводе киевском. Вам знакомо малороссийское наречие? Вам бы желательно получше им овладеть и в целом подтянуть знания по этому направлению. У меня есть стойкое ощущение, что скоро вас ожидает широкий фронт работ в этой сфере.
– Герр доктор, простите мне мое любопытство, но ваши намеки наталкивают меня на мысли конспирологического характера, вы изрядно осведомлены. – Я, как всегда, подстроился под стилистику разговора собеседника. – А еще ваша манера говорить о себе во множественном числе.
– Знаю, знаю, у вас в прошлом был неприятный опыт общения с людьми, подобным образом говорящими о себе. – Он пренебрежительно махнул рукой. – Не волнуйтесь, мы к этим кругам отношения не имеем.
– Кто тогда? Ватикан? Несуществующая ложа «Великий Восток Франции»? – Криво усмехаюсь, в моем голосе отчетливо проступает едкая ирония.
– Ну конечно же ни то и ни другое. Мы с вами в своем роде коллеги. Я тоже славист и тоже занимаюсь консультациями. – Взял паузу. – Частного характера. Ватикан присматривался к вам, помните ваше знакомство, случайное на первый взгляд, с московскими иезуитами лет десять назад? Но вы не захотели или же не поняли намека. А вас ожидало место в коллегиуме «Руссикум». Впрочем, я только рад, что вы не воспользовались той возможностью, а после собеседования лишь укрепился в этом мнении.
– Какого собеседования? – Хмурюсь, понимая все меньше и меньше.
– У вас хорошая память. Вспомните 26 июля 2009 года.
«Точно, вот где я ее видел!» Мгновенное озарение, достаю «молескин» из кармана и лихорадочно листаю. Руна из вчерашнего сна. Тогда я ее видел! Странная встреча в Москве. Ее звали Екатерина, она упоминала некие курсы в Венеции, что посещала с верхушкой моей вертикали на тот момент, и у нее был маникюр с изображением рун.
Это одна из тех рун. Доктор Шмидт широко улыбается:
– Вы вспомнили. Да, да. Именно это и было собеседование. – В его тоне проступают нотки удовлетворенности учителя учеником, усвоившим урок.
– И каков его результат?
– Наша сегодняшняя встреча. – Доктор разлил еще порцию бехеровки по стаканам. – За встречу. Кстати, раз уж вы достали записную книжку, хотите, объясню смысл того сна, что вы все время видите?
Захлопываю книжку и тут же убираю во внутренний карман.
– Очень дурно, герр доктор, читать чужие записки! – Гнев переполняет меня.
– Полностью с вами согласен, никогда себе этого не позволял. Так вот. Вам близки новые технологии, позвольте, я буду объяснять на их примере. Этот образ, что вы видите, это своего рода иконка, присвоенная России на нашем рабочем столе. И не вы один видите этот сон. Когда-то он посещал, например, Константина Победоносцева. Он гениально сформулировал: «Ледяная пустыня, а по ней гуляет лихой человек с ножом». Кстати, вы заметили, на кого похож этот бородач? Это Емельян Пугачев, хотя не он один, там совмещены черты многих. Потом я слышал от Бориса Савинкова, что Победоносцев активно использовал эту метафору. Но Борис все воспринимал слишком буквально и этим человеком считал себя. Практически помешался. В итоге появились эти его нелепые боевые организации, ну вы в курсе.
Пристально смотрю на стакан. Неужели бехеровка настолько психоделична?
– Герр доктор, может, вы читали, – с нажимом, – у Савинкова? Слышать-то вы уж никак не могли.
Странный, явно помешанный швейцарец смеется:
– Ну почему же не мог? Именно что слышал. Или вы про возраст? Если вы об этом, то напомню вам цитату из Булгакова: «Чтобы управлять чем-то, нужно иметь план хотя бы на несколько столетий». Кстати, Булгаков был хорошо знаком с прадедом вашего знакомца профессора Вудварда. Они вместе служили в ОСВАГе[16] у Деникина.
– Булгаков служил в ОСВАГе?
– Одна из самых страшных его тайн.
– Вот что, герр доктор, – с грохотом ставлю нетронутый стакан на стол, – или вы серьезно объясните мне, что я тут с вами делаю, или я возвращаюсь в Цюрих, и готовьте следующий «хороший разговор» еще много лет! – Поднимаюсь с кресла и делаю вид, что готов уйти.
– Я предельно серьезен, молодой человек, и готов ответить на все ваши вопросы. Вы только успокойтесь и присядьте. Вам кажется, что я безумен, но вместе с тем вы понимаете, что это всего лишь реакция мозга на необычную информацию. Вас очень занимает сейчас, кого я представляю и сколько мне лет. Постараюсь ответить вам сразу на оба, только потрудитесь воспринимать меня всерьез.
Странный доктор приподнимается и достает из стоящего у стены шкафа увесистый старинный том с массивным замком на переплете. Уместно даже назвать его «фолиант».
– Это первое печатное издание «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха. Старогерманский. Постараюсь переводить максимально близко к тексту, а вы внимательно слушайте. – Надвинул очки, раскрыл книгу и принялся читать: «Мне хорошо известно, – говорит Парцифалю отшельник, открывший ему тайну Грааля, – о храбрых рыцарях, жилище которых в замке Монсальват, где хранится Грааль. Это тамплиеры, которые часто отправляются в дальние походы в поисках приключений. От чего бы ни происходили их сражения, слава или унижения, они принимают все со спокойным сердцем во искупление своих грехов. В этом замке обитает отряд гордых воинов. Я хочу вам сказать, какова их жизнь: все, чем они питаются, приходит к ним от ценного камня, который в своем существе обладает всей чистотой. Если вы не знаете его, я скажу вам его название. Его называют Lapis ex coelis[17].
Именно свойствами этого камня уничтожается и обращается в пепел феникс, но из этого пепла возрождается жизнь, именно благодаря этому камню феникс осуществляет свое превращение, дабы вновь явиться прекрасным как никогда… Камень сей дает человеку такую мощь, что его кости и плоть тут же вновь обретают свою молодость. Он также носит название Грааля.
Что до тех, кто призван пребывать подле Грааля, то хочу вам сказать, как их узнают и находят. На грани камня появляется таинственное начертание, гласящее имя и род тех молодых людей и девиц, которые предназначены к совершению сего блаженного путешествия».
Доктор остановился и захлопнул книгу.
– Если вы очистите сей текст диковатого баварского рыцаря от архаичной шелухи и не совсем забыли университетский курс латыни, то сможете сложить два и два.
– То есть никаких обезьян Дарвина, все же теория посева? – Разумеется, я изрядно поражен, но версия о серьезной невменяемости библиофила меня все еще не покидает.
Профессор степенно поправил очки:
– Нечто посередине. Давайте сперва закончим с бедным Вольфрамом. Кстати, это его рисунок вы видели. К концу жизни бедняга совсем помешался и отказывался носить костюм соответствующей эпохи. Традиционно считается, что на написание «Парцифаля» его сподвигли занятия алхимией и встреча с тамплиерами. Но в реальности это был совсем иной орден. Он сталкивался с нами. «Парцифаль» – это то, что он смог вынести из нашего общения, опять же с поправкой на архаичность его средневекового сознания. Точно так же и вам объясняю на том уровне, на котором вы способны воспринимать истину. Помните, какое летосчисление отменил царь Петр Алексеевич?
– Конечно же, от сотворения мира. – Резкий переход немного сбил меня с толку.
– Под миром понималась не планета, а общность людей. Ты же в курсе, что отличает человека от животного? – Собеседник незаметно перешел на «ты», появились покровительственные нотки.
– Конечно – душа.
– Вот! – Профессор назидательно поднял палец вверх. Правильный ответ. – Сотворение мира – это появление первых одушевленных особей, условных Адама и Евы. Помнишь, «в начале было Слово»? Кстати, Арий Александрийский учил, что смысл Творца был Логос. Священные тексты – это правила жизни, соблюдая которые можно активизировать ту субстанцию, что определяется как «душа». Блаженный Феофилакт Болгарский прямо писал о сотворении Адама из глины и воды. Сотворить голема, или, как сейчас говорят, клона, совсем не сложно, так же как и направить эволюцию определенного вида приматов в нужном направлении, форсировать эту эволюцию через генные изменения. Сложно вложить в это существо правильную программу так, чтобы он действительно стал «образом и подобием».
– Что-то вроде прогрессорства у Стругацких? – Немного робею перед такими масштабными истинами.
– Не сомневался в вас. – Герр доктор явно доволен и почему-то снова переходит на «вы». – Очень меткая аллегория, Борис и Аркадий были превосходными учениками.
– То есть вы хотите сказать, что на Земле работают прогрессоры?
– Вы знаете верный ответ. Просто идите от обратного. Отслеживайте единый резонанс, проходящий сквозь всю историю человечества. Священные тексты, архитектура, археологические находки, единая мифология разных цивилизаций. Вы задумывались об изначальном Откровении? А ведь возникали религии в разных уголках мира, абсолютно изолированных друг от друга. А значит… – Он не закончил фразу, лишь выразительно пожал плечами. – Не более чем каргокульт. Изначально, безусловно, он сыграл решающую роль в вочеловечивании наших предков. Но фактология схожа с той, что послужила основой верованиям в Джона Фрума в Меланезии. Делайте поправку на архаичность предков, и ответ на ваш вопрос будет очевиден. – Усмешка и лукавый взгляд поверх очков.
– И вы?.. – Я уже почти верю ему.
– Нет-нет, что вы, молодой человек. – На его лице играет усмешка. – Я такой же, как и вы, просто знаю чуть больше, живу чуть дольше и слежу за равновесием.
– Равновесием чего, герр доктор? – Вопросы переполняют меня.
– Этого мира, его истории. – Он снимает очки и протирает стекла замшей.
– А чем тогда заняты ОНИ? – Мне кажется, я практически кричу, открывающиеся горизонты возбуждают интерес.
Герр Шмидт не спеша водрузил очки обратно на нос и после секундной паузы, вздохнув, принялся отвечать:
– Еще Ницше заметил, что эксперимент оставлен без контроля. Многие размышляют об ИХ конечной цели. Вы когда-нибудь задумывались об Эдеме? Ситуация была запрограммирована изначально. Для продолжения эксперимента они должны были переступить единственное табу. Все последующее развитие человечества, направляемое через откровения пророков, строилось на этом комплексе вины. Возьмем средневековую инквизицию. К слову, примерно тогда ИХ присутствие перестало ощущаться. Закончились чудеса, никто более не внимал молитвам. Так вот, ведьмы и колдуны действительно были. Вы же знакомы с основами веб-программирования?
Утвердительно киваю.
– Так вот, представьте, что мир – это сайт. Нажми F12 – и увидишь его изнанку, все хитросплетения скриптов на языке программирования. Вот несчастные наши рыжие ведьмы и бородатые колдуны знали этот изначальный язык, совсем чуть-чуть. Так, чтобы прочитать и разобраться лишь в кусочке кода. Владея этим знанием, они могли изменять сущность пространства вокруг себя. Кстати, зачем ОНИ открыли куски кода, мы не знаем. Тоже часть эксперимента, видимо. Даже вы знакомы с этим минимально. Помните фокус с втыканием ножа в землю и остановкой дождя? Это своего рода «горячие клавиши» нашего мира. – Профессор откинулся в кресле.
– И куда же ОНИ делись? – Недоверия практически не осталось, его заменило жгучее любопытство.
Чуть помедлив, он развел руками – типично германский жест.
– Мы не знаем. Может быть, эксперимент перешел в новую стадию, и они перешли лишь к наблюдению. Возможно, эксперимент закончен, а лабораторные мыши предоставлены своей судьбе. А может быть, просто усложнились методы управления, и мы просто перестали ощущать их. Мы исходим из того, что администрировать проект теперь приходится нам самим, и мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить равновесие, не дать эксперименту закончиться раньше времени. В любом случае конец предопределен. Определим это религиозным термином «эсхатология». Но пути, что ведут к нему, могут быть разными. Иными словами, эсхатология не отменяет свободу выбора. Принимая решение, каждый формирует новую реальность. Эти реальности тут, рядом, они переплетены в тугой канат, и нас отделяет от другой реальности очень тонкая грань. Иногда сон – это стекло, через которое мы видим сквозь эту тонкую грань, иную реальность, ту, что породили наши решения. Вы когда-нибудь думали, к примеру, о тюрьме? А я четко вижу ту вашу реальность, в ней наша встреча произойдет чуть позже.
Для наглядности вот, ознакомьтесь. – Профессор протягивает папку, перетянутую тесьмой. – Это второй том мемуаров Василия Штрандтмана. Скажу сразу, он останется здесь, но прочитать вы его сможете. События, как и судьбы людей, сшиты тончайшими нитями смыслов, они причудливо переплетаются, образуя ткань мировой истории. Швы, естественно, должны быть аккуратными, это часть условия, соблюдение которого необходимо для равновесия. Но с изнанки все равно будут видны неровные края. К слову сказать, некоторые ваши сны – это и есть та самая изнанка. Не все конечно же. Прибегая вновь к аналогии с IT-технологиями, иногда кусок вылезает и становится виден всем пользователям. Тогда хвосты нужно аккуратненько зачистить. Вот второй том Штрандтмана и есть тот самый хвост. Беру папку в руки и начинаю листать:
– Герр доктор, а что же было в той телеграмме Хартвига?
Профессор неторопливо раскурил сигару и, лишь выпустив клуб сизого дыма, ответил:
– Сами прочтете. Вкратце – то, что заставило Николая Александровича начать мобилизацию и в итоге привело к перерастанию австро-сербского конфликта во всемирную войну.
На секунду поднимаю глаза от бумаг:
– Не очень-то похоже на соблюдение равновесия.
– Знаете, молодой человек, иногда необходимы контролируемые встряски. Вспомните Бенджамина Франклина и его афоризм про древо свободы. А в этом случае более подойдет цитата из Макиавелли: «Казалось, среди убийств и гражданских войн наша республика стала еще могущественнее, этому способствовали нравы ее граждан. Небольшие волнения возбуждают души, и процветание роду человеческому приносит не столько мир, сколько свобода».
– Герр доктор, вы изрядно удивили меня сегодня, но рискну не согласиться. О Европе первой половины XX века я готов говорить часами. Первая мировая породила не столько свободу, сколько тоталитаризм.
Мой вопросительный взгляд не отпускает его, профессор с некоей напускной тяжестью вздыхает:
– Да, молодой человек, вы, безусловно, правы. – Он грустно кивнул, в голосе появились нотки вины. – Но подойдите к окну. Видите вон тот луг? И вон тот несуразный дом за ним? Там живет наш коллега, герр Финке. Как вы поняли, моя сфера деятельности – это славянские народы. Он же специализируется на германских. Букинистическая лавка – это не все, чем я владею в этом городке. У меня одна из лучших сыроварен в кантоне, свои луга и стадо. Около 1870 года герр Финке решил составить мне конкуренцию и выкопал достаточно спорный документ, якобы дающий ему право на владение вот этим моим лугом, примыкающим к его дому. Противостояние в магистрате затянулось и в итоге перекочевало в суд кантона. – Он тяжело вздохнул, устремил взгляд вдаль, на альпийские пики, и с печалью в голосе продолжил: – Постепенно в конфликт были втянуты все подконтрольные нам ресурсы. И по итогам двух раундов в первой половине XX века я все же доказал герру Финке свою правоту. – На секунду доктор Шмидт замолчал и тут же, немного смущаясь и конфузясь, добавил: – Да, и мой сыр не в пример лучше, нежели выходит у него.
Октябрь 2014
Волонтер
Иссушающая июльская жара. Только неугомонные стрекозы, кажется, не страдают от зноя. Редкие порывы горячего ветра заставляют лениво постанывать раскидистые ветви одичавших яблонь. В их скрипе будто бы слышится: «Дождя! Дождя!»
Позиции ополченцев находились на краю заброшенного колхозного фруктового сада, за которым лежит луг, расцвеченный островками полевых цветов. За ним метрах в пятистах начинается рощица, в которой окопался противник, вот уже с месяц не подававший признаков жизни.
Спрятавшись от палящего солнца в окопе, Олег примостил планшет на коленях. Ему было около тридцати. Невысокого роста, с коротко остриженными, жесткими, цвета медной проволоки волосами, он органично вписывался в ландшафт войны. Все портил излишне пытливый взгляд живых, выразительных глаз. Они выдавали Олега. В них не было жесткости. Не спасало ни скуластое пролетарское лицо, ни рот с упрямой складкой.
В спину впивался АКМ. С досадой потянув истертый ремень, Олег через голову стянул автомат и прислонил его к обшитой бревнами стенке. «Вот, совсем другое дело», – с удовольствием подумал он, поведя лопатками, и, открыв тетрадь, отрешился от окружающих, удобно устроившись на дне траншеи.
«Привычный нам мир ужасающе хрупок. Энтропия, извиваясь, клацает челюстями и норовит вырваться на волю. Хаос значительно ближе, чем кажется большинству убаюканных сытостью мирных обывателей».
Олег выводил аккуратные округлые буквы крупным ученическим почерком человека, давным-давно отвыкшего писать от руки.
«Он подстерегает нас за первым же поворотом, готовится тигром накинуться из густой послеполуденной тени. Налет культуры и цивилизации очень и очень тонок. Так называемое «общество» – лишь имитация, тщательно поддерживаемая иллюзия, подпитываемая подтухающими условностями и формальностями. Один толчок – и вот уже добропорядочные, почтенные граждане превращаются в ощетинившуюся, агрессивную толпу, где каждый сам за себя, а все против всех. Маски порядочных налогоплательщиков и законопослушных избирателей сползают, а из-под каждой из них выглядывает и с угрозой скалится архетип. Р-раз! И мы моментально возвращаемся в первобытное состояние, словно бы и не было тысячелетий эволюции. Один освежающий порыв апокалиптического ветра, напоенного ароматом проекта «Разгром», сорвет с нас все наносное. Лишь миг – и мы снова пещерники, что бьются за место в иерархии стаи (ну или же пищевой цепочке), рвут друг друга зубами и когтями за лучший кусок туши мамонта, пещеры, самок. Только вместо шкур у нас «разгрузка» и «горка», а вместо дубины и каменного топора – АК.
Мы – милитари-дауншифтеры, стремящиеся получить дозу своего адреналина, осознанно погружаясь в пучину хаоса, где пробуждается изначальный архетип. Мы добровольно отвергли уготованную нам ячейку в уютной матрице офисного мира со всеми его благами, ипотеками и кредитами, обменяв его на суровую реальность, которой мы говорим: «Идущие на смерть приветствуют тебя!»
Мир и вправду настолько хрупок? Тем лучше. Падающего – подтолкни. Мы – последнее доказательство того, что наш народ еще жив. Несмотря на всеобщую осень и вопреки кампаниям провозвестников заката цивилизации, мы кровью оплачиваем наше право на лебенсраум…»
Олег оторвался от тетради и прикусил карандаш, пытаясь выдавить из себя еще пару патетических туманных абзацев. Пару месяцев назад он начал вести эти записи. На фронте, если рваную линию соприкосновения с противником можно было так назвать, было затишье. Но оказалось, что доморощенную «окопную философию» (сам Олег не забывал добавлять приставку «псевдо», но делал это исключительно про себя) можно успешно скармливать столичным журналистам, что назойливо роились вокруг, выискивая все новый и новый эксклюзив, который можно вывалить на страницы своих изданий, поддерживая необходимую температуру агрессии и ненависти в кипящем котле войны. Олег достаточно быстро нащупал свою стилистику, свой ритм, попал в «формат» и как-то незаметно для себя самого стал заметной и важной шестеренкой машины военного агитпропа. Это ласкало его самолюбие, позволяло упиваться сознанием собственной важности, а потому все больше и больше времени он проводил наедине с тетрадью.
– Друже, что делаешь здесь? – Олег вздрогнул от неожиданности. Сбоку бесшумно, по-кошачьи подкрался Мирко. – Фамилия, ребьенки – вот важное за тебя. Зачем ты в Донбассе?
Мирко было чуть за сорок, и он был снайпером. Призвавшись в девяносто первом в Югославскую народную армию, он попал в мясорубку гражданской войны, в которой смог освоиться и выжить. Сараево, Вуковар, Сребреница для него были не просто точками на карте. Попав в армию вчерашним школьником, он за десять лет прошел Хорватию, Боснию, Косово, Македонию, превратившись в матерого «пса войны». Винтовка стала его продолжением, неотъемлемой частью тела. После неудачной попытки военного переворота в Сербии его спецподразделение расформировали, а ему самому дома лучше было не появляться. С таким опытом он быстро нашел свое место в «большом мире». Его видели в Афганистане, он мелькал в Ираке, бывал и в Сирии. Война давно стала для него просто работой, даже эмоций особенных не вызывала. Правда, кое-что роднило все его кампании. Враг не менялся. Все было как тогда, в начале девяностых в Боснии, просто теперь ему платили хорошие деньги. Босния… Та война до сих пор не отпускала Мирко, каждую ночь снова и снова на него с одной стороны наступали заросшие бородами потурчившиеся фанатики под зеленым полумесяцем, а с другой – усташи под красно-белой шаховницей, вдохновляемые пастырями в грубых сутанах, с выбритыми тонзурами и подпоясанные вретищем, в точности как носил разговаривавший с птичками Франциск Ассизский. Что объединяло их? Только ненависть к сербству. Ведь и те и другие когда-то были сербами, и теперь их расколотое сознание, не желая смириться с изменой предков, толкало их вперед, под огонь – на сербские окопы и позиции, вымещая подсознательные комплексы, пронизывавшие десятки поколений. Вот и здесь, на Донбассе, было то же самое. Потому Мирко приехал сюда. Здесь он заканчивал то, что когда-то начал под Зеницей и Тузлой. Тогда он был очень юн и сражался скорее инстинктивно. Теперь же был осознанным воином, который знает, почему и за что он сражается. Донбасс стал первой войной за тринадцать лет, где он воевал практически бесплатно. «Практически», потому что скудное содержание ополченца назвать платой для профессионала язык не поворачивался.
Олег в задумчивости потер подбородок, заросший жесткой рыжеватой щетиной.
– В Москве я работал в архиве… Покрывался пылью и сам превращался в единицу хранения. – Вслух эти мысли он формулировал, пожалуй, впервые и сам удивился своей неожиданной откровенности. – Я хранил историю, а мне хотелось ее делать…
Он захлопнул тетрадь и, засунув в сумку, принялся копаться в ее недрах, пытаясь скрыть смущение.
– Конечно, я состоял в партии… – Олег наконец поднял голову и вопросительно глянул на серба: – Ты слышал про партию, про Деда?
Мирко утвердительно кивнул, с легким ироничным прищуром поглядывая то на Олега, то на стоявший в стороне АКМ, о котором парень, казалось, совсем забыл.
– Писац. Он был в Босне. У команданта Аркана. – Для серба, очевидно, это было исчерпывающей характеристикой.
Олег выудил пачку сигарет из нагрудного кармана.
– Так вот… – Он прикурил две сигареты, одну протянул снайперу, а другой, оставшейся в зубах, с наслаждением затянулся. – Просто членство в партии не могло накормить все мои амбиции, удовлетворить страсть, поэтому, когда здесь началась война, я не мог сюда не приехать…
Мирко усмехнулся, хотя, очевидно, понял не все. Главное он понимал давно и без всяких объяснений.
– Немаш у очима… – Силясь подобрать подходящее слово в той смеси русско-сербских слов, на которой он здесь общался, серб быстро-быстро защелкал большим и указательным пальцами. – Рат не твое, Олег. Веруй ми. Вот твое. – Он ткнул в планшет с тетрадью. – Возвращайся домой, там…
Закончить он не успел. Его оборвал воющий свист, тут же сменившийся мощным ударом. Перед глазами Олега разлилась чернильная темнота. Последнее, что он ощутил, была какая-то сила, приподнявшая его над землей и одновременно ударившая по ушам.
В себя Олег пришел на поле. Засыпан грунтом, комья земли везде, даже во рту. Прокашлявшись и отплевавшись, попробовал ощупать голову, но руки его не слушались. Бросил бесплодные попытки. Прислушался. Звенящая, скорее даже свистящая тишина. Ощутил, как из ушей вытекает что-то теплое. Слабо шевельнул головой – спазм боли ослепил на пару секунд. Зажмурился. Попробовал снова открыть глаза, теперь уже осторожнее.
Первое, что он увидел, были полевые колокольчики, что фиолетовыми куполами нависали над ним.
Медленно, очень медленно Олег поднял правую руку и с усилием, искривившим судорогой лицо, дотронулся до уха. Ладонь стала липкой. Не глядя он вытер ее об траву. Обострилось восприятие цветов. Небо стало пронзительно-голубым. «Как в деревне у нас. Такие же кудрявые облака, как в детстве», – пронеслось в голове. Он так давно не видел неба. Точнее, не обращал на него внимания, не смотрел ввысь, проваливаясь в неимоверную синеву.
Изумрудная трава щекочет лицо. С большим трудом повернув голову, Олег увидел ярко-алые капли крови, медленно ползущие по листу подорожника. Дико кружится голова. Мутит. Он прикрыл веки, налитые свинцом. Как будто стало чуть легче. Перед внутренним взором поплыли какие-то зыбкие картины. Белокаменная звонница, увенчанная золотым куполом. Два звонаря черными мозолистыми ладонями раскачивают язык здоровенного колокола, который, игнорируя их усилия, упорно молчит…
– Привiт, москалiк!
Чувствительный тычок в ребра вырвал из забытья и заставил издать стон. С трудом открыв глаза, Олег увидел перед собой высокие натовские ботинки, покрытые грязью.
– Хлопци, тут сепар один! – Ботинок чувствительно врезался в ребра, выбив из глотки Олега слабый сон. – Даже шевелится еще! – раскатистый бас разнесся над полем. – Добить или с собой заберем?
В ответ что-то глухо прокричали.
– Зрозумiв! – отозвался все тот же бас.
До Олега звуки доходили приглушенно, словно сквозь
толстенный слой изоляции. Он попробовал пошевелиться, но тело, будто бы набитое ватой, совсем не слушалось. Только приступы боли волнами отзывались на его усилия. Наконец удалось поднять голову. Над ним, заслоняя солнце, нависла ухмыляющаяся фигура с выбритым оселедцем на голове. Еще миг – и сверху обрушился удар приклада, вновь отправивший Олега в спасительное небытие.
Олег пришел в себя оттого, что захлебывался. Вода заполняла его легкие. Он пытался вынырнуть на поверхность, сделать хотя бы крошечный глоточек воздуха и не мог. Чья-то стальная хватка намертво удерживала его. Наконец его голову резко выдернули на поверхность. Водоем оказался всего лишь обычным оцинкованным ведром, воду из которого тут же вылили на Олега.
Сознание в тумане. Ощущение нереальности происходящего. Как будто превратился в персонажа мультяшки. Правда, мрачной и злой. В голове пульсирует мысль: «Все это происходит не со мной, а с кем-то еще, со мной этого произойти не может!» Прокашлявшись и кое-как отплевавшись, стоявший на карачках Олег попытался подняться на ноги.
Бах! Удар дубинкой под колено. Скривившись от боли, Олег мешком рухнул обратно на цементный заплеванный пол. Вокруг мелькают какие-то тени. Нет, все же фигуры… Сколько их? Четверо? Пятеро? Больше? Все что-то орут. Не разобрать.
– Что, колорад, очухался?
Хриплый голос принадлежал здоровенному детине в камуфляже и ворвался в голову Олега неожиданно с толпой других голосов, наперебой оравших:
– Голову вниз!
– В пол смотреть, я сказал!
На Олега обрушился град ударов. Он прикрыл голову
руками, а колени подтянул к груди. В этот момент к нему подскочил невысокий тип в майке с кельтским крестом и с выбритыми висками и с азартом принялся пинать Олега тяжелыми армейскими ботинками, приговаривая между ударами:
– Ты за кого здесь воюешь?.. За шоблу эту енакиевскую блатную, да?… «Беркут» их разбежался, так они вас бесплатно набрали, зомби гребаных… Или, может, ты тут за единую-неделимую, а?
Удары становились все более чувствительными. На плечо пинавшего легла чья-то рука.
– Хватит, Железка. Забьешь, как в прошлый раз.
Тот, кого назвали Железкой, послушно остановился, с презрением сплюнул и отошел в сторону, а остановивший его присел на корточки и вкрадчивым голосом начал:
– Повезло тебе, что ты к нам попал. Это батальон «Айдар». Слышал про нас? – Олег украдкой бросил взгляд на говорившего – тщедушный, неприятное узкое лицо с мелкими чертами. Про себя Олег окрестил его Особистом. – А попал бы к «торнадовцам» – уже бы у Моджахеда в документальном фильме про любовь снимался. – Тут все залились дружным смехом.
– Моджахед это дело любит, – подтвердил Железка с видом знатока.
– А может, подарить тебя им, а? – продолжил особист, взяв Олега за волосы и приподняв его голову на уровень своих глаз. – Что скажешь, сепар?
Олега продрали мурашки. Про подвалы «Торнадо» он был наслышан. Много историй рассказывали и про застенки «Айдара», «ОУН», «Донбасса» да и про все другие батальоны, но про пыточную тюрьму «Торнадо» ходили самые жуткие и мрачные истории. Впрочем, более торнадовцам похвастаться в плане известности было нечем – на линии соприкосновения, под огнем их не видели. Их функция была нечто среднее между гестапо и зондеркомандой – держать в страхе местное население, тем самым снижая угрозу партизанских действий. А ходить в бой они не любили и не умели.
Одна возможность оказаться в руках «Торнадо» заставила Олега вздрогнуть всем телом.
– Что, страшно тебе, а? – продолжал сидевший на корточках. – Правильно, привыкай. Теперь это будет твое основное ощущение. А это что такое? – Он с показной брезгливостью двумя пальцами приподнял ткань наполовину оторванного рукава. – Ну-ка, Микола…
Детина в камуфляже, отозвавшийся на это имя, с готовностью подскочил и, резко дернув, оторвал рукав. Вкрадчивый взял кусок ткани в руки и, расправив его, уставился на шеврон.
– Любопытно… – протянул он и по слогам прочел: – «Боль-ше-вра-гов – боль-че-чес-ти. Ва-ряг». – Делано рассмеялся и с деловитой иронией сказал: – Это что, тот, который очень гордый и врагу не сдается?
– Слышал про них, – сбоку подошел Железка, – и слоган этот у них откуда, знаю… – Он хотел вновь сплюнуть, продемонстрировав этим свое отвращение, и уже скорчил подобающую презрительную рожу, но вдруг что-то отвлекло его внимание. – Смотри! Что это у нас тут? – с азартом воскликнул он, ткнув пальцем в обнажившееся плечо Олега. – Ха-ха! Этот к тому же еще и партиец!
На плече у Олега была вытатуирована круглая блестящая бомба «македонка» с горящим фитилем. Она стала символом партии и ее борьбы много лет назад. Символом, священным для многих. Ее изображали на партийных стягах и забивали себе на тело. Партийцы со стажем поговаривали, что идею этой эмблемы привез Дед с Балкан еще в начале девяностых. Македонские революционеры в XIX веке с помощью таких бомб сражались с османскими янычарами и башибузуками за свободу славянства. Олег набил ее еще пять лет назад, после того как поучаствовал в паре акций в Эстонии и Крыму. Его притягивала ее партийная этикетка, ее кураж. В этом символе было ровно то, что привлекало Олега и в самой партии. «На кураже революцию надо делать, на кураже!» – частенько говаривали в партии. Именно его-то Олег и пытался сделать частью своей плоти, подсознательно ощущая его нехватку в крови и характере.
Железка скривил губы и еще раз смачно пнул Олега.
– Другой России захотелось, да? – с ожесточением цедил он. – Помню, как вас ОМОН в Москве долбил, а теперь вы за режим, как шавки цепные, да? – Только сейчас Олег заметил, что этот Железка говорит через «а».
Удалось чуть подробнее рассмотреть особиста (в том, что точно угадал его род занятий, Олег уже уверился абсолютно. Повадки выдавали с головой). Лицо его больше походило на крысиную мордочку, такое же острое и с такими же темными, пустыми глазами, за которыми могло скрываться что угодно. Мимика у особиста была очень подвижна, выражение лица менялось буквально каждую секунду. Казалось, что он пластилиновый. Его возраст определить было невозможно, как это бывает у многих людей его комплекции. Ему могло быть лет двадцать семь, а могло быть и хорошо за сорок. Он постоянно кому-то отзванивался – докладывал, уточнял, угрожал. С кем-то он говорил на суржике с интонациями обитателей дальних пригородов Харькова, тут же переходил на литературный украинский, который и в Киеве редко услышишь, а сбросив вызов, сразу же переключался на русский с мягким южным выговором и характерным звуком «гх», как у всех схидняков.
В какой-то момент особист, в очередной раз закончив телефонный разговор, неожиданно выдернул ПМ, передернул затвор и, подойдя к сидящему в углу Олегу вплотную, за воротник поднял его на ноги и тихо сказал прямо в ухо:
– Ну-ка, открой рот, москалик.
Олег коротко мотнул головой, тут же ощутив страшную боль. Рот наполнился соленым, один из зубов валялся на полу. Особист, бешено вращая глазами, запихивал ствол Олегу в рот. Справившись с этим, он прошипел:
– На колени!
Краем глаза Олег заметил, что Железка, стоя чуть в стороне, все происходящее снимает на айфон. Он всегда думал, что в такой ситуации будет вести себя так же, как персонажи американских боевиков. Презрительно разить врага взглядом, уязвлять его дерзким, остроумным словом… Сидя в мягком кресле у себя дома и наблюдая мир через призму экрана, всегда ощущаешь себя сверхчеловеком. Оказалось, в жизни все иначе. Его воля столкнулась с их коллективной волей. Он не боялся умереть, унижение пугало его куда больше. «Если откажусь – он же не сможет дать заднюю перед своими, но и убивать тоже не станет. А вот задетое самолюбие может подсказать ему значительно большие мерзости…» Варианты альтернативных способов оставить шрамы на его гордости тут же длинным списком промелькнули в сознании. Воля Олега не была сломлена, нет. Она просто рассудочно, трезво оценила ситуацию и выбросила белый флаг. Он медленно опустился на колени.
За эту рациональность он возненавидел себя еще сильнее. «Как же мне не хватает тупого упорства и упрямства, без приправы из мыслей…» И тут же пронзила другая мысль: «Какой позор… Как я Маше в глаза посмотрю?..» Острый стыд захлестывал его, он чувствовал себя пустым местом. Курок неожиданно щелкнул. Синхронно с ним екнуло сердце. Непроизвольно зажмурился. Но… Ничего не произошло. Не заряжено.
– Сегодня повезло, – глумливо усмехнулся особист, убирая ПМ в поясную кобуру, – теперь суши штаны и жди завтра. – Он тут же обернулся к Железке: – Снял?
Тот утвердительно кивнул.
– Давай сразу же на наш канал на ютьюбе заливай. Посмотрим, что их этот политрук курносый – как его, Стрингер, что ли, – скажет.
День был очень долгий, и Олег запомнил его фрагментарно. Снова били. Что-то там говорили. Кричали. Подзатыльники, тычки, пощечины. Скорее обидно, чем больно. Хотя пара ребер настойчиво сигнализировали о том, что они сломаны. Многого он даже не понял – слух еще не восстановился, все долетало эхом, как сквозь вату. В полуподвальной комнате помимо него осталось лишь трое айдаровцев. Судя по всему, два боевика – россиянин Железка и украинец Микола, а также безымянный особист, которому они беспрекословно подчинялись.
С пола Олега подняли и приковали наручниками, намертво врезавшимися в онемевшие сразу запястья, к привинченному к полу стулу.
– Кто тебя сюда звал, а? – Железка агрессивно заглядывал в глаза, но, не поймав взгляд, стал бить ладонями по ушам, приговаривая: – В глаза смотри, ватник, когда к тебе человек обращается. Здесь тебе не холопская Москва. Это вiльна Україна!
– Да ты и сам вроде как не местный, а вполне себе наш русский, что тебе до украинства-то? – с трудом разлепив разбитые губы, пробормотал Олег.
– Я не ваш! – с ожесточением взвизгнул Железка, и его кулак прилетел Олегу в левую скулу. – Я теперь русский украинец!
Откуда-то из-за спины раздался ленивый бас Миколы:
– Українство це не кров, це дух!
– Сербов своих горбоносых зачем притащили?
Железка помахал перед носом Олега «войной книжицей» Мирко с запекшимися бурыми пятнами. Сердце сжалось. «Мирко, Мирко… Ты так мечтал побывать в Москве…» Волна ненависти захлестнула его.
– Про носы… не вам с грузинским… легионом говорить вашим… – Олег с усилием произносил слова и даже смог сопроводить их слабой, зато ехидной, как ему хотелось надеяться, улыбкой, больше напоминавшей гримасу боли.
Железка, размахнувшись, отвесил звонкую пощечину наотмашь:
– Тебе гавкать команды не было! Не понял, куда попал, так мы сейчас объясним!
В руках у него и у Миколы появились залитые чем-то обрезки садовых шлангов, которыми они принялись охаживать пленника. Удары сыпались один за другим. Спина, ноги, пятая точка. Время как будто остановилось. Осталось лишь жалящее ощущение боли. Жгучей, пекущей боли. Его словно погрузили в кипящее масло, залили расплавленным свинцом. Сначала дыхание перехватило бессилием и жаждой мщения. Но чем дольше тянулась экзекуция, тем более отсутствующим становился взгляд, пока застекленевшие глаза не покрылись корочкой безразличия. Запыхавшиеся айдаровцы остановились лишь тогда, когда им показалось, что пленный потерял сознание. Окатив его снова ледяной водой, они оставили Олега на полчаса в покое.
– Пусть в себя придет. Трошки передохните, – бросил особист своим бойцам.
Минут через сорок «общение» продолжилось, но больше Олег отвечать не пробовал. Постарался уйти в себя. Абстрагироваться. Но, как оказалось, его молчание бесило айдаровцев еще больше. После нескольких подзатыльников, не заставивших его раскрыть рта, Микола, поняв, что потехи больше не будет, парой хорошо поставленных ударов вновь вырубил Олега.
Пришел в себя Олег уже глубокой ночью. Наручников на руках не было. Запястья саднило. Все тело превратилось в один большой очаг тупой ноющей боли. С трудом приподняв голову, огляделся. Тусклый свет. Зловонный подвал с влажными стенами, наполненный густым, смрадным воздухом. Под потолком здоровенная труба в теплоизоляции, из которой капает ржавая вода. На полу непросыхающие вонючие лужицы. По верху трубы бегают пищащие крысы. Сам он лежал в углу на драном матрасе, покрытом подозрительными пятнами. Рядом валялась расползавшаяся тряпка, в прошлой жизни бывшая, вероятно, одеялом или пледом. В противоположном углу стояло ведро, закрытое обломком фанерного листа. «Я в какой-то фильм ужасов попал», – пронеслось в голове. На этой мысли он вновь ушел в небытие.
В следующие дни Олег то забывался, проваливаясь в какую-то зыбь, то снова приходил в себя. Жар. Все тело почернело. Ноги при каждой попытке движения пронзало будто огненным штырем. Иногда приносили какую-то дрянь в собачьей миске. Судя по запаху, это и был корм для собак. Олег даже пробовать не стал, отдавал все радостно попискивающим крысам. Сам пил только воду. Он потерял счет времени. Сколько он здесь уже? Сутки, трое, неделю? Он слыхал от бывалых партийцев, что в тюрьме в первые дни мозг отказывается воспринимать реальность и укладывает хозяина на боковую, прячась в спасительный сон. Единственное желание – спать. Уйти, спрятаться от такой «реальности».
Их, партийцев, никогда не признавали политическими, навязывая криминальные ярлыки и сажая только по уголовным статьям, часто высосанным из пальца. И тут, в плену, Олег всеми силами уцепился за статус военнопленного, стремясь хотя бы этим сохранить себя. Но единственная попытка назвать себя так стоила ему еще двух зубов.
– Ты уголовный преступник! Пособник террористов! – Айдаровец, похожий габаритами на младшего Кличко, бил его и приговаривал: – Ты хорошо меня понял? – Следовал жесткий удар. – Не слышу! Повторил! Громче! – Еще удар. – Еще громче! – Снова удар. – Кто ты? – И еще один. – Ты террорист. Запомнил? Повторил!
Очнулся Олег в луже собственной крови. Судя по ощущениям, сломан нос. Рассечена скула.
Они врывались к нему днем и ночью, в любое время. Пьяные, иногда трезвые. Но чаще всего одурманенные чем-то психоделическим, с совершенно нечеловеческими зрачками. Избивали, заставляли повторять эти слова десятки раз, пока они не стали вылетать у него автоматически. Когда ночью Олег проснулся оттого, что на него выплеснули ведро ледяной воды, он вскочил и назвал себя именно так, даже толком не придя в себя.
– Выдрессировали обезьянку, – улыбнулся щербатым ртом незнакомый айдаровец.
В ту ночь бить не стали, но уснуть он больше не смог. Так и лежал до утра, дрожа от холода и унижения на насквозь мокром матрасе. А в глазах у него стояли слезы.
С каждым днем он становился все тоньше, его контур исчезал с рисунка жизни. Он кожей чувствовал ерзанье шершавого ластика, что неутомимо, днем и ночью, вытирал его из памяти людей. Олег физически ощущал, что его личность стирается. Она теряла краски, усыхала, становилась все более тусклой. Он начинал сливаться с окружающей средой, давящей мрачностью, впитывал ее, становился ее частью. Попасть в плен… Думал ли он когда-нибудь об этом? Это понятие в его голове жило где-то рядом со смутными детскими воспоминаниями о казаках-разбойниках и «Неуловимых». А теперь это случилось с ним. Воображение подсказывало, что в плену должны допрашивать, выпытывать какие-то тайны, ну примерно как буржуины с Плохишом у Кибальчиша Военную Тайну вызнавали. «А меня только бьют», – невесело подумал Олег. Впрочем, и тайн никаких он не знал, что было даже и к лучшему.
Сидя часами на корточках, прислонившись спиной к горячим трубам, чтобы хотя бы чуть-чуть просохнуть и согреться, он бормотал себе под нос:
– Я Олег Мирошников. Сержант ВС ДНР. Олег Мирошников. Олег, Олег, Олег…
Не забыть свое «я». Спрятать его поглубже. Оградить.
Его поглощала пустота. Он беспомощно барахтался в захлестывавшей его неизвестности, делая тщетные попытки зацепиться хотя бы за что-нибудь. Он стал вздрагивать от каждого шороха, ожидая каждую минуту новых «визитов». Страх неизвестности подтачивал его все сильнее. Вначале он стыдился своего страха. Потом ему было уже все равно. К тому же вспомнился один из разговоров с Мирко. Тот рассказывал, что постоянно испытывает страх. Просто привык к нему.
Он говорил, что важно осознавать, контролировать свой страх. Сделать его ручным, домашним. Принять его как часть себя. Научиться с ним жить. Если же страха нет, то это очень плохой признак. Это значит, что ты становишься берсерком. Да, они ужасны в бою, но живут они очень мало. О них сложат саги – может быть, но вот домой они уже никогда не вернутся. Поэтому если внутри ты не находишь своего страха, он исчез, покинул тебя – не спеши радоваться. Лучше берегись фронта. Впрочем, мирной жизни берегись тоже. Твои предохранители перегорели.
– Почему никто не рассказывает об этом? – спрашивал тогда Олег.
– Ко зна – таj зна, а ко не зна – не зна, – лаконично отвечал Мирко. Один из ополченцев, воевавший еще в Косове в 1999 году, перевел Олегу на русский ответ серба приблизительно так: «Тому, кто не испытал, – не понять».
Более подробное объяснение Олег позже нашел в воспоминаниях одного родезийского «пса войны», которые подвернулись ему в подшивке старых номеров журнала Craft of Combat, пылившихся на базе батальона.
Тот писал:
«В приглаженных глянцевых воспоминаниях о войне нет места паническому страху, обуздываемому лишь хорошей порцией виски. И это в лучшем случае. Никто из ветеранов мировых войн, прошедших мясорубку Вердена и на Сомме, выживших в день Д в Нормандии и не отступивших в Арденнах, никогда не рассказывал, вернувшись домой, что не было ничего зазорного в том, чтобы испачкать штаны под артиллерийским обстрелом «Большой Берты» или ее младших собратьев или намочить их в ожидании штыковой на позиции бошей. Это бы обесценило их геройство в глазах обывателя, вскормленного на мифах забронзовевшей пропаганды военных лет. Поэтому они предпочитали молчать. Все думали, что им настолько тяжело, что они не могут говорить об этом вслух, в реальности же ветераны просто не хотели сражаться с ветряной мельницей устоявшихся мифов. Их правда была слишком другой, и именно потому они молчали. Один сержант прославленной 101-й авиадесантной как-то сказал мне: «Трусость – это боязнь познать свой страх, впустить его в себя. Храбрость же – это вкусить своего страха и подчинить его». Весь мой опыт в составе родезийских SAS лишь подтверждает это».
Стук двери вдалеке, шаги в коридоре – любой посторонний внешний звук отзывался в Олеге эхом гулкого страха. Слишком часто скрип петель предвосхищал следовавшие за этим боль и унижение, поэтому внутри поселилось и обжилось постоянное беспокойство, временами перераставшее в дикий, животный страх. Эти приступы повторялись все чаще и чаще. Липкий ужас поднимался откуда-то из самых глубин и поглощал Олега без остатка, окутывая все внутренности тонкой ледяной пленкой.
Чаще других к нему заходил немногословный Микола. Он почти не разговаривал. Только бил. Больше всего пугали его глаза. Казалось, что они были покрыты инеем изнутри. Это были глаза хладнокровного убийцы. Жгучий холод продирал, стоило хоть на миг столкнуться с ним взглядом. С детства Олег ненавидел этот типаж – тупой как пробка, но зато очень уверенный в себе. При этом глупость не мешала, а скорее помогала, она даже обостряла инстинкты таких, как Микола. Они были ближе к природе.
Чутьем, нюхом они чувствовали его отношение к себе, как бы он его ни пытался скрыть, и мстили Олегу за то внутреннее превосходство над ними, что он ощущал. Вот и Микола чувствовал и мстил… Здесь, на подвале, ожили и материализовались, обросли мясом все кошмары и фобии, мучившие Олега в далеком детстве. Внутренний голос нашептывал: «Сможешь выбраться отсюда, когда победишь их», но Олег только отмахивался от него.
Теперь он боялся даже самых сокровенных, согревавших его мыслей и воспоминаний. Ему казалось, что теплые, ласковые мыслеобразы, пушистыми комочками свернувшиеся у него в голове, будут услышаны врагами. Они узнают о них по выражению лица и вырвут из него с мясом и кровью. В надежде сохранить, он спрятал их глубоко-глубоко внутри себя, сам же часами смотрел в точку, превратившись немного в буддиста, очистившего свое сознание и созерцающего пустоту.
«Меня найдут и обменяют». Эту мысль он оставил на поверхности и утешался лишь ею, хотя паническое «все забыли и бросили» частенько появлялось рядом, но Олег старался гнать ее прочь.
Когда он в последний раз мылся? Еще в батальоне… Здесь лишь изредка обтирался влажной тряпкой, что служила ему полотенцем. «Воняет, наверное, страшно». Эта мысль не вызывала абсолютно ничего. Равнодушие. Как будто бы это был не он, а кто-то другой. Чужое тело и чужие проблемы. Ему было все равно. Тело зудело, покрывалось сыпью, он начал чесаться. Глаза постоянно слезились. Но… Внутри одно безразличие.
В один из дней – Олегу казалось, что он провел на подвале уже вечность, – вновь появился щупловатый особист. Олег не видел его с того самого первого дня.
– Решили тебя на органы продать, – с ухмылкой начал он с порога, – одной почки тебе вполне хватит. Надо же как-то вред, тобой Украине причиненный, заглаживать. Так что собирайся. В клинику тебя повезем. – Тут особист не удержался и разразился глухим едким смехом, после чего вышел.
«Куда? Теперь куда? – забегали, заерзали догадки в голове, отозвавшись спазмом в животе. – Чего еще они от меня хотят?»
От напряжения и волнения носом пошла кровь. Кое-как унял кровотечение, заткнув ноздри скомканными обрывками газет.
Через двадцать минут Микола и Железка, серьезные и сосредоточенные, в брониках и с АКСУ за спиной, связали Олегу руки, замотав их скотчем, заклеили и рот, после чего надели мешок на голову и, подгоняя пинками, потащили по извилистым коридорам. Оказавшись на улице, которую Олег ощутил по дуновению ветерка, показавшегося таким сладким после подвальной кислой вони, он чуть не потерял сознание от свежего воздуха, хлынувшего в легкие. Его закинули в какую-то воняющую бензином колымагу. Воображение почему-то нарисовало «буханку». Тронулись. Машину зверски подбрасывало на ухабах.
– Тебе наш подвал номером люкс покажется, – прошептал Железка на ухо голосом полным деланого сочувствия и ядовитой издевки. – Отдыхай пока. Сил набирайся. Мне тебя даже жалко немного. Земляк все же, чего уж там.
Ожили хрипящие колонки. Заунывный голос, перемежаемый помехами, затянул: «Там, під львівським замком старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав…»
Неожиданный удар локтем под ребра. Олег скорчился от боли.
– Что, пацанчик, – а это уже был голос Миколы, – как думаешь, твои друзья сепары-титушки про тебя песню сложат, когда тебя на запчасти разберут? Мне почему-то кажется, что нет.
Тем временем заиграла следующая песня. Ее уже затянули хором. Олег попытался определить, сколько же человек в машине. Пятеро? Шестеро? Хриплые надсаженные голоса. «Какой-то клуб любителей «Беломора», – подумал он, удивившись, что все еще способен на иронию.
– I вiд Донбасу до Перекопу
Два переходи БТР
Кому – на лаврах, кому – на нарах…
На этих словах еще один удар заставил Олега согнуться, а айдаровцы продолжили подвывать:
– …Кому – в УНСО, кому – в менти!
И снова на Олега обрушился удар, теперь уже по голове. Сознание поплыло и отключилось.
Как только за микроавтобусом со скрежетом закрылись тяжелые ворота тюремного шлюза, он лихо подкатил к подъезду массивного здания из бурого камня с узкими зарешеченными окнами, перед которым уже стояло несколько человек встречающих в оливковой форме. Дверь отъехала в сторону, и Олега под руки выволокли наружу. С головы стащили мешок. Он принялся моргать и щурился на солнце, глаза резало, они слезились после долгих часов во тьме вонючего пыльного мешка.
– Можете утопить. Нам больше не нужен, – бросил на прощание особист, залезая обратно в минивэн.
Два бойца в шлемах вышли из-за спин встречающих, подхватили Олега под руки и потащили внутрь здания. Втолкнув его в бокс, они вошли следом. Внутри за массивным столом ожидали двое. Перед ними были раскрыты какие-то папки с бланками, рядом громоздились стопки документов. Судя по погонам, один был капитаном, а второй майором.
– Где я? – решился спросить Олег, увидев впервые за три месяца хоть что-то официальное.
– СИЗО «Лукьяновское». Мiсто Киiв, – сухо ответил тот, что был старше по званию.
Потянулась протокольная процедура описи. Олега практически не замечали, лишь иногда уточняя то дату рождения, то группу крови. Здесь Олег не чувствовал ненависти по отношению к себе, которой он буквально захлебывался в подвале. Тут к нему относились как к неодушевленному предмету, и это его радовало. Страх, глубоко вросший в него, чуть подотпустил.
Когда с формальностями было покончено, капитан, собрав бумаги в портфель, ушел. За ним вышли и двое в щитках и шлемах, оставив Олега наедине с майором. Тут Олег присмотрелся к нему повнимательнее. Коренастый мужик в годах, седина в волосах, щеточка усов, сеть морщинок вокруг глаз. Колючий, проникающий взгляд.
– Что вы наделали? – тихо начал он. – Год назад я первый хотел воссоединения. Моя мать из Ленинграда, я сам учился в Москве. – Тяжелый вздох. – Но вы унизили нас. Всех нас! После Крыма, после Донбасса как я могу вам уступить? А? – Олег открыл было уже рот, чтобы ответить, но майор резко, с ожесточением ткнул пальцем в воздух, будто намереваясь проткнуть его. – Молчи! Все, что ты можешь сказать мне, я уже слышал. Меня послушай, может, поумнеешь. Читал я твою писанину в Интернете… И вот что я тебе хочу сказать, парень… – Он набрал воздуха в легкие, будто готовясь нырнуть в воду, и почти шепотом, с трудом подавляя готовую вырваться на волю ярость, продолжил: – Нельзя никого загонять в угол. Вы же только этим и занимаетесь. Стремитесь всех сломать через колено. Вы просто не оставили нам – мне и таким, как я, а нас миллионы – выбора. Думаешь, мне эта вороватая, продажная Украина нравится? Нет же. Я Союз хорошо помню. Но теперь я готов драться и умереть за ее свободу. Вынужден. Потому что вы хотите отнять у меня самое дорогое – мою гордость. Вы и так уже достаточно задели ее. Истоптали. В том числе и ты. И это скажут тебе все мужчины. По всей Украине. На русском, заметь, языке скажут. Думаешь, они все бандеровцев любят? Нет же! Просто им не нравится, когда вы им в лицо плюете и тем самым в объятия этих же бандеровцев сами же и толкаете! Вот скажи честно… Тебе, вот тебе лично, с кем приятнее иметь дело – с равным тебе, сильным мужчиной или со склизким согнутым холопом? – Олег вновь попытался что-то сказать, но майор ожесточенно махнул рукой: – Молчи, я сказал! Зачем Россия делает ставку именно на таких, вместо того чтобы заручиться дружбой достойных? – Майор почти кричал, его физиономия приобрела бледно-багровый оттенок, а на лбу выступили бисеринки пота. Но тут его взгляд угас. Заряд бешенства иссяк. Он поник, положил голову на сомкнутые в замок руки, прикрыл глаза и еле слышно прошептал: – Зачем ты, вот ты, пришел сюда с оружием? Кто тебя звал? Зачем ты все испортил? Такие, как ты, вырвали половину меня… – Он резко встал, отошел к окну и коротко бросил безжизненным, официальным тоном: – Все, давай. В камеру. – И, чуть помедлив, добавил: – И помойся. От тебя жутко воняет.
Главным отличием от подвала было относительное спокойствие. Тишина. Олег был предоставлен сам себе. Его никто не трогал. Он перестал вздрагивать от звука человеческого голоса. Понемногу начал оттаивать. На третий день ему в голову пришла страшная мысль: а может, он просто привык к неволе, обжился в заключении? Это напугало его. Нет, нет, он не хотел к этому привыкать! С другой стороны, разумом он понимал, что зыбкое спокойствие было обманчивым. Где-то наверху, за толстыми бетонными стенами кто-то ему неизвестный решает его судьбу. Может быть, даже прямо сейчас.
Целыми днями он мерил камеру шагами. В какой-то момент Олег заметил, что одна из деревянных половиц шатается. Немного усилий – и вот у него в руках ржавый гвоздь. Покрутил в руках. Решил: на крайний случай. Уж теперь-то вновь пережить что-то подобное первым дням в подвале его никто не заставит. Любой ценой. Не стал бы и тогда, но в наручниках невозможно ничего сделать. Да, оставался все же один способ… Их можно было заставить убить его. Словами. Но для этого нужно было победить дрожь во взгляде и голосе. Вот тогда, открыто презирая, их можно было довести до бешенства, спровоцировать. Но сил вести себя как Джон Рембо в плену у вьетконговцев у Олега не было, а потому подобная попытка, скорее всего, была бы обречена на провал. Единственное, чего он мог этим добиться, была бы новая волна унижений и издевательств. Но сейчас у него есть гвоздь.
Когда Олег понял, что теперь всегда есть аварийный выход, он ощутил спокойствие. На какой-то миг он почувствовал себя непобедимым, почти бессмертным. Никто не заставит его сделать что-то, чего он не хочет.
Откуда-то из глубин памяти всплыли слова из песни гуру юности. Олег гвоздем выцарапал их на стене:
Светило солнышко и ночью, и днем, Не бывает атеистов в окопах под огнем. Добежит слепой, победит ничтожный — Такое вам и не снилось…[18]Следующим утром он впервые вышел на прогулку. Десяток квадратных метров заплеванного бетонного пола, на стенах – «шуба», сверху – сваренная из арматуры решетка и козырек от дождя. Если выгнуть шею под определенным углом, то можно увидеть даже кусочек неба. Со всех сторон из соседних двориков летел забавный мягкий говор. Не решившись заговорить с кем-либо, Олег целый час разглядывал клочок неба. Какое же оно голубое!
Вернувшись в камеру, он сразу же приметил дописанное черным маркером наискосок под его стишком на стене:
Ходит дурачок по свету, Ищет дурачок глупее себя.Тревожно оглянулся. Провокация?
Или же где-то здесь, рядом, под камуфляжем с жовто-блакитным тризубом на шевроне бьется такое же, как у него, сердце, напитанное теми же песнями из такого далекого и в то же время такого близкого советского детства?
На десятый день Олега накрыло. Безысходность буквально вдавливала его в пол. В отсутствие внешнего давления мозг вышел из анабиоза и стал анализировать ситуацию, ища пути решения. Чем больше он думал, тем больше его захлестывало отчаяние, постепенно обернувшееся злобой.
– Я делал все правильно! – Он кричал, задрав голову куда-то вверх.
«Зачем мне все это? За что? Меня уже искорежило, я уже не такой, как был. Я испорчен. Брак! Зачем я такой сам себе?!»
Ответа не было. Лишь разочарование. Он сгреб висевший на шее деревянный крестик в кулак. Он носил его, как и почти все окружавшие его люди. Формально. Бездумно. По традиции. Кто-то носил крест, кто-то молот Тора, кто-то вообще серп и молот. Сейчас он душил его, тянул вниз, к земле. В общем, мешал. В конце концов Олег поддался объявшей его злобе и сдернул крестик, небрежно бросив на полку. В ту же ночь ему приснился отец Амвросий. Молчал, хмурился. Когда-то именно он крестил Олега в покосившейся деревенской церквушке. Тогда пожилой священник напутствовал его словами «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину». Вскоре после этого Олег вступил в партию и устроился на работу в архив. Давненько не заезжал к старику. Собравшись на Донбасс, думал съездить за благословением к батюшке, но потом опасливо подумал: «А вдруг будет против, вдруг откажет? Ведь против его воли ехать придется…» Это Олег считал плохим знаком, а суеверий в нем было куда больше, чем веры. И так многие были против его отъезда. Многие… Маша… Олег погрузился в тягостные воспоминания, которые не отпускали его все последние месяцы. Он вспоминал их маленькую, тесную, но такую уютную квартирку на первом этаже хрущевки в двух шагах от круглосуточно гремящей МКАД. Вспомнил и ссору накануне его отъезда.
– Ты убегаешь! – Ярость искажала лицо Маши.
– Убегают как раз от фронта, – Олег старался объяснять терпеливо, – а я наоборот… Я доброволец!
«Хорошо, не додумался раньше ей сказать – долго бы я так не выдержал», – пронеслось у него в голове.
– Ты дезертир! Ты убегаешь от меня. От проблем. От себя, в конце концов. Но вот от себя ты убежать не сможешь, тот, кто сидит в пруду, догонит тебя везде…
Маша бросала обвинения резко, хлестко.
– Мой долг… – попробовал прервать ее эмоциональную тираду Олег.
– Истинная причина внутри тебя! – тут же перебила его Маша. – Какая из множества? Ты хочешь спрятаться в своей игрушечной войне из телевизора, но у тебя это не по-лу-чит-ся! Ты выдумал какой-то идеал себе, которого быть не может. Просто будь собой. Это что, так сложно? – Она взглянула на Олега полными слез глазами, а ее язвительно-насмешливый тон сменился на щадящий, почти умоляющий. – Я люблю тебя настоящего, а не того, кого ты себе нафантазировал, кем ты якобы должен быть.
– Маш, ты не понимаешь! У нас наконец-то есть своя Испания. Теория революционной спонтанности… В общем, там, как в сорок первом, бандеровцы при поддержке НАТО… – Увидев ее слезы, Олег понял, что пытаться объяснять рационально бесполезно. – Да меня стыд сожжет, если я дома сидеть останусь!
Маша устало вздохнула:
– Олег… Оставь ты все эти слова трескучие для митингов своих партийных… Не надо обманывать себя, а тем более меня. Себя ты еще можешь обмануть, ты успешно этим всю жизнь занимаешься, а вот меня вряд ли. Скажи честно, вот тебе это на самом деле зачем? Повысить самооценку? Самоутвердиться внутри партии? Убежать от меня, от конкретной ответственности за наше будущее, заменив его размытой, какой-то суррогатной, что ли, ответственностью за судьбы мира? Ты сам-то хоть пробовал понять, в себе разобраться, зачем тебе это? Без мишуры из громогласных слов про долг и так далее?
Это тянулось весь вечер. Бесконечное повторение одного и того же. Упреки. Слезы. Олег вяло отбивался, Маша едко обличала и нападала.
На следующее утро провожать Олега на поезд Маша не поехала. Уезжал из Москвы с ощущением страшной тяжести внутри. На электронные письма и SMS с Донбасса Маша отвечала скупо и односложно. С каждым днем стена отчуждения между ними, которую Олег физически ощущал с момента отъезда, становилась все выше и выше.
Олега бесцеремонно втолкнули в кабинет. За столом напротив двери сидел подтянутый светловолосый мужчина лет сорока. Подняв голову на пару секунд и окинув Олега цепким, сканирующим взглядом, он тут же вернулся к бумагам, аккуратными стопками разложенными перед ним.
– Садитесь, Олег Валерьевич. – Букву «р» он произносил как-то странно. Слишком уж мягко. – Курите. – Не поднимая головы, хозяин кабинета пододвинул пачку сигарет к краю стола, поближе к Олегу, примостившемуся на краешке табурета. – Кофе будете?
К грубому обращению Олег уже привык, насколько к этому вообще можно было привыкнуть, а вот неожиданная вежливость была в новинку, а потому настораживала. Чуть помедлив, он мотнул головой и отодвинул пачку обратно на середину стола. Светловолосый усмехнулся чуть слышно и наконец, оторвавшись от бумаг, посмотрел Олегу прямо в глаза:
– Что, взять сигарету у врага для вас то же самое, что и разделить с ним трапезу – символически перейти на его сторону? – В притворном изумлении он приподнял брови и продекламировал: – Сигарета как шаг к предательству – как вам такой заголовок?
Кое-как собравшись с мыслями, Олег тихо ответил:
– Я прекрасно понимаю, что вы делаете. – Увидев интерес во внимательных, немного навыкате глазах собеседника, Олег чуть понурил голову – сил выдерживать чей-то взгляд, а уж тем более бросать вызов, давно не осталось. – Вы «добрый» полицейский, появляющийся после трех месяцев общения со «злым». Ваша показная благосклонность и вежливость должны расслабить меня, заронить симпатию и в конечном счете толкнуть в ваши объятия… – Говорил он медленно, монотонно, делая большие паузы между словами, как человек очень уставший.
– Олег Валерьевич, – энергично перехватил инициативу картавый, как про себя окрестил его Олег, – ваше знание теории не отменяет того, что эти методы работают, в том числе и по отношению к вам. Человеческая психология. Три месяца вас держали в скотских условиях. Вы человек интеллигентный, разумеется, вы почувствуете расположение к первому за долгое время внимательному собеседнику, что может оценить вас по достоинству. Да, кстати… – Он прервался, прикуривая сигарету и с показным наслаждением затягиваясь ею. – Я не полицейский. Примите мои извинения за то, что сразу не представился. Майор Барвинский. Служба безопасности Украины. – Выдержав выразительную паузу, он продолжил: – Мы внимательно прочитали все ваши тексты, написанные на Донбассе, изучили ваши прежние публикации, блоги, соцсети. И вашу тетрадь, что была при вас в момент… – тут майор на секунду запнулся, – э-э, задержания, – наконец подобрал он устроивший его термин, – мы также подробно проработали. Не имеет значения, понимаете вы суть механизмов или нет. Важно, что они в любом случае действенны. Но ваша осведомленность лишь характеризует вас как грамотного человека и подтверждает наш правильный выбор. Поэтому предложу еще раз. Сигареты? Кофе?
Олег, не поднимая взгляда, вновь отрицательно мотнул головой.
Барвинский слабо улыбнулся, отметив едва заметное движение кадыка у пленного. Вслух он никогда бы не назвал так ни одного сепаратиста, но про себя было можно.
– Олег Валерьевич, признайтесь, вы испытываете разочарование? Боль? Опустошение? Одиночество? Не можете не испытывать. Это базовые ощущения в вашей ситуации, а вы склонны к рефлексии… А вы знаете, ведь ваше творчество и спасло вас. Если бы не ваша писанина, вас бы, скорее всего, там, в подвале, и шлепнули бы. После экспресс-допроса, разумеется. Полевой телефон и все такое. Неприятная в общем вещь, но эффективная. Когда поступил сигнал из зоны АТО, что в плен попал один из рупоров сепаратистов – не удивляйтесь, именно так мы вас воспринимаем, им вы и являетесь, даже если сами не успели это осознать, – нам пришлось приложить немало усилий, чтобы обеспечить вашу относительную безопасность, а потом и выцарапать вас из подвала. Поторговаться пришлось, да… Все эти добровольческие батальоны слабо управляемы. Махновщина. Наши отношения с ними скорее договорные…
Майор замолчал, казалось о чем-то задумавшись.
– Впрочем, вам-то грех жаловаться, – ожил он. – Вас ведь практически не тронули. Физически я имею в виду. Видели бы вы, в каком состоянии мы людей из других подвалов получаем… Озлобили вы людей, нечего сказать!
Встав из-за стола, Барвинский принялся расхаживать по кабинету, заложив руки за спину.
– А вы знаете… – Со стороны могло показаться, что эсбэушник наконец принял какое-то решение. – Мы хотим дать вам трибуну. Мы предлагаем вам сделку. Мы вам трибуну, а вы нам окопную правду. Что, удивлены? Я привык действовать открыто.
Олег устало пробормотал лишь одно слово:
– Зачем? – Вал впечатлений после трехмесячной пустоты вкупе с умственными усилиями быстро утомили его разум, спасавшийся в последнее время от давления окружающего мира в пелене отупения.
– Суровая окопная правда – лучшее оружие против вашей оголтелой пропаганды, – быстро ответил майор. – Вы уже изрядно поработали над романтизацией образа тех, кого вы называете «ополченцы», а мы – «террористы». Мы вам показали оборотную сторону этой романтики. Вот и поделитесь своими ощущениями с читателями. И даже лукавить нигде не надо. Просто говорите правду. Искупите, так сказать.
Майор выжидательно уставился на Олега, но тот с интересом разглядывал голубей за окном и молчал.
– Знаете, что такое героизм? Говорю вам, так как представляю, какими понятиями из набора молодого идеалиста вы оперируете. Это всего лишь побочный эффект выброса адреналина в кровь. Физиология. Не более. Работает на коротких дистанциях. В бою, например. А вам не терпится путь «Молодой гвардии» повторить, да? Тешите себя тем, что, может, и про вас книгу напишут, фильм снимут, песню сложат? Разочарую вас. Героем стать не получится. – Барвинский подался вперед, глаза сузились, а голос налился сталью: – Ты получишь лет двадцать как уголовный преступник. И поедешь в лагерь под Тернополь. Я даже уже выбрал в какой. А там будет лишь унылый, отвратительный быт, повторяющийся год за годом. День сурка. И никакого героизма. Людей там нет. Всех более-менее нормальных добрбаты разобрали, а осталась одна биомасса. Судьбу свою в бараке представляешь? Готов слиться в экстазе с биомассой? Стать таким же, как и они? Поверь, в этом нет ничего геройского. Только боль, грязь и унижение для любого нормального человека. Изо дня в день. В течение долгих лет.
Олег прикрыл глаза.
– Можешь и уши закрыть! – Голос Барвинского был полон плотоядной агрессии. – Думаешь, тебя все равно обменяют, вытащат, да? На, читай! – Майор швырнул на стол перед Олегом измятую газету. – Смотри, что о тебе пишут! – Он с силой ткнул карандашом в середину какого-то длинного списка, не умещавшегося на одной полосе.
Любопытство пересилило, и Олег, щурясь, склонился над газетой. «Зрение так быстро подводить начало», – с сожалением подумал он. Шрифт и заглавие были хорошо знакомы. «Донецкий кряж» он частенько покупал, когда выбирался с передовой передохнуть в Донецк. Заголовок гласил: «Список погибших и раненых». Одна строка в бесконечно длинном списке была отчеркнута черным маркером: «Сержант ВС ДНР Мирошников О.В. – погиб». Перечитал еще раз. «Да не верю!» – кричало внутри возмущение. Во рту моментально пересохло.
– Теперь понял? – Голос Барвинского смягчился. – На, попей, – протянул он стакан воды, который Олег осушил одним глотком. – Никто тебе не поможет, – в голосе эсбэушника промелькнула тщательно дозированная жалость, – тебя нет. Ты списан. Думаешь, они не знают, что ты жив? Да, скорее всего, знают. Но ты не местный. Ты не кадровый российский военный, так зачем раздувать списки пленных из-за таких, как ты? Пойми же, ты – расходный материал. Именно поэтому для всех ты умер. Вот даже и в газете написано, – теперь Барвинский говорил с едва скрываемой издевкой, – в газете просто так писать не будут, сам знаешь. Что написано, то и правда.
– А как же видео на ютьюбе? – Олег ухватился за последнюю соломинку. – Ведь ваши выкладывали меня, еще в подвале, в первый день! Там я… – Здесь он запнулся, краска прилила к лицу.
– Ничего об этом не знаю, но онлайн никаких видео с вами не появлялось, – бесстрастно сказал Барвинский, вновь устраиваясь за столом. – Ты же наемник, чего еще ты хотел? – Тон его вновь стал спокойным и обыденным. – Обычная история. «Дикие гуси» смотрел? Один из моих любимых фильмов.
Олег осипшим голосом прошептал:
– Я доброволец.
– Сойдемся на термине «волонтер». В его изначальном смысле, без новомодной гуманитарной составляющей конечно же. Хотя официально для Украины ты террорист, и только так. И судить тебя будут как террориста. – Здесь Барвинский сделал многозначительную паузу и добавил: – Если ты не образумишься, конечно… Сдал тебя твой Стрелкин. Смирись с этим. – При упоминании этой фамилии глаз у Олега непроизвольно дернулся. – Это рационально, обоснованно. Холодная логика любого конфликта. А с твоей стороны было бы прагматично и рационально рассказать, не скрывая эмоций, например в формате интервью, о своих отношениях со Стрелкиным, своем очаровании, а теперь отрезвлении и закономерном разочаровании. Это утолило бы твою жажду мести – это чувство присуще абсолютно всем людям по отношению к их соратникам, когда их помещают в иное агрегатное состояние. Плюс создало бы базис доверия между нами…
– Во-первых, он не мой. – Голос отказывался слушаться Олега, срывался, и ему приходилось шептать.
– Да не важно! – Барвинский ладонью рубанул воздух. – Важно, что для них ты – да, да, вот ты! – УЖЕ перешел на нашу сторону. А тебе нужна система координат для развития. Выполнил задание – получил бонус. Она нужна тебе, даже если сам ты еще и не осознал этого. По большому счету не имеет значения, чья это система координат. Важно, чтобы она была. Твои тебя из списков живых вычеркнули. Сам видел. А мы можем тебя вновь актуализировать. Помнишь, как Алиса у Льюиса Кэрролла: «Я готова быть пешкой, только возьмите меня в игру». Вот ты сейчас выбираешь между тем, чтобы быть в игре или сгнить в забвении. Упрямство твое понятно. Менять колею сложно любому человеку с высокоорганизованной умственной деятельностью. Но это просто ты пока еще не почувствовал, что такое «сгнить в забвении».
Повисло молчание.
– Олег Валерьевич, – майор вновь перешел на официальный тон, – вы искренне верили в то, что писали? Говорю в прошедшем времени, так как понимаю, что ваш взгляд не мог не измениться.
Олег вновь промолчал.
– Без графомании тяжело? Переполняет? – Барвинский положил на стол перед Олегом внушительный блокнот с желтоватыми листами и механический карандаш. – Вот, держите. В таком же Хемингуэй писал. И тоже карандашом. По крайней мере, так производители утверждают. Муки невымещенного творчества мне понятны. Кстати, депривация впечатлений вкупе со стрессом должны вызвать у вас всплеск творческой активности. Рекомендую записывать, не рассчитывая особо на память. Потом пригодится. Надеюсь на ваше благоразумие, Олег Валерьевич. Не затягивайте с принятием решения. Шестеренки провернутся, и может оказаться поздно. И, несмотря на всю нашу симпатию к вашему таланту, хотя не надо ее переоценивать, из барака в Тернополе мы вас вытащить не сможем. Точнее, не так. – Барвинский нахмурился, подбирая более точную формулировку. – Ваша ценность не столь велика, чтобы мы прикладывали столько усилий, сколько это потребует на том этапе. А пока еще коридор возможностей открыт перед вами. – Майор поднялся из-за стола. – Не смею вас более задерживать. За спиной Олега тихо скрипнула дверь.
– Вставай, чего расселся! – Вошедший из коридора конвойный чувствительно толкнул его в плечо.
В изоляции, где впечатления и новости очень и очень скудны, любая новая мысль заставляет изголодавшийся мозг с жадностью набрасываться на нее. Вернувшись в камеру, Олег рухнул на койку и, сцепив руки на затылке, прикрыл глаза в попытке отрешиться от окружающего и сосредоточиться. Сердце ухало, щеки и уши пылали. Он никогда не умел скрывать свое возбуждение, да здесь было и не от кого. «Что им нужно на самом деле? Чего они хотят? Чего?» Он прокручивал в голове разговор с эсбэушником, пока не зацепился за фамилию, невзначай упомянутую им. «Стрелкин! Ну конечно же!» Память услужливо выдернула нужные воспоминания десятилетней давности из своих хранилищ и вставила пленку с ними в проектор…
– …Ты думаешь, что знаешь реальный мир? – Стрелкин пристально взглянул на Олега. – Твое представление о мире, как и подавляющего большинства людей, ты уж не обижайся, дружище, – здесь он на секунду прервался и сделал солидный глоток пива из пузатой кружки, – соткано из сообщений СМИ, книг, мнений так называемых экспертов и так далее. Все это кокон, дымовая завеса, изолирующая человека от агрессивной, кислотной реальности.
– Неужели заговор? – иронично усмехнулся Олег, студент четвертого курса историко-архивного, со скепсисом относящийся ко всем окружающим.
– Совсем нет! – От природы краснолицый Стрелкин побагровел еще пуще обычного, а в голосе слышалась досада. Казалось, он изрядно разочарован тем, что его слова не воспринимает всерьез какой-то юнец. – Как бы тебе так объяснить, чтобы ты понял… Это забота о слабой людской психике, – попробовал он донести свою мысль, максимально упростив ее. – Правда о подоплеке мира, о взаимосвязи событий, вываленная наружу, доступная всем, разорвет мир в клочья. Потому те, кто ставит эту завесу, на самом деле спасают человечество от самоуничтожения…
Стрелкин был главным редактором военного журнала со звонким названием Craft of Combat. Вокруг издания собирались ветераны конфликтов от Афганистана и Чечни до разнообразных экзотических стран вроде Анголы и Эфиопии. Олег уже тогда писал в «Македонку», потом пробовал с друзьями издавать журнал, который они назвали «Русский Пьемонт». Окружающие часто задавали вопрос: «Зачем вам это?» Как объяснить глухому от рождения, что такое музыка? Поколение восьмидесятых… Выросшие на руинах империи, они остро ощущали национальное унижение. Сначала это ощущение было неосознанно, копилось где-то в подсознании. Со временем же оно выкристаллизовалось в разговорах у костра и спорах в Интернете. Этот журнал стал их попыткой рефлексии, их набатом, призывавшим собраться воедино тех, кто выжил под обломками рухнувшей империи, но продолжал ощущать фантомные боли ее былого величия в идейной пустыне Веймарской России. Вот этот журнал и стал поводом для знакомства Олега и Стрелкина. Достаточно быстро стал публиковаться в Craft of Combat. Зачем Олег вообще писал? Потому что слишком пресно и скучно. Публицистические упражнения на время помогали ему заглушить пожиравшее изнутри острое чувство собственной неполноценности, никчемности, которые сходились в ежедневной смертельной схватке с высокомерием и тщеславием. Постоянная борьба «все» и «ничего».
«Часы тикают. А я еще не сделал ничего великого… Другие в мои годы…»
Каждое утро он открывал глаза и понимал, что все сделанное вчера обнулилось ровно в полночь. Это подстегивало Олега, толкало на поиск новых знакомств, порождавших новые возможности. Только так он мог ощущать себя живым.
Стрелкин был странноват, но занимателен. С ним было интересно общаться. Некоторые его предложения, достаточно сомнительного свойства, Олег списывал на контузии и на ракию, изрядное количество которой употребляли они, встречаясь в сербской кафане «Академия». В том же заведении произошел случай, серьезно изменивший жизнь Олега впоследствии.
Будний день. Из посетителей в зале лишь Олег и его приятель по факультету. Дверь открывается, и в кафану, испуганно озираясь, бочком входит срочник в камуфляжном бушлате с большой спортивной сумкой:
– Парни, я это… того… из части, в общем, убег, мне б денег немного перехватить… Не выручите, а? Деды – все как на подбор с гор – достали дико… – Глаза бегают, голос затравленный. – Я отблагодарю! Вы не думайте… У меня тут есть кой-чё…
Он бросил сумку на пол. Внутри что-то залязгало, загрохотало.
Какая-то сила будто бы толкнула Олега в спину, он нагнулся, протянул руку…
В общем, Стрелкин тогда спас. Отмазал. А впоследствии стал направлять, подсказывать. У него был широчайший круг общения, кого-то с кем-то он знакомил, а с кем-то, наоборот, советовал не общаться, многозначительно кивая: «Ты меня понимаешь».
Во многом под его влиянием Олег и вступил в партию, забросив свой журнал и сконцентрировавшись на партийной газете. Уже тогда где-то на периферии сознания мелькала мысль: «А не Стрелкин ли и подослал того парня?» Частенько на передовой Олег задумывался о том, а как бы сложилась его жизнь, если бы тогда он не притронулся к той злосчастной сумке. Но когда на Донбассе началась война, именно Стрелкин был тем человеком, что помог десяткам, а может, и сотням партийцев попасть в Донецк и сформировать несколько ополченских батальонов.
Порывистый, импульсивный Стрелкин напоминал ему другого неудержимого авантюриста – генерала Черняева. Того самого, что, командуя отдельным Западно-Сибирским отрядом, по своей инициативе захватил Алма-Ату, Чимкент, Ташкент на территории Кокандского ханства, потом издавал газету «Русский мир», а в 1876 году, вопреки воле российского правительства, стремившегося мирно урегулировать Балканский кризис, отправился в Белград, где был сразу же назначен командующим сербской армией, уже вступившей в боевые действия против Турции. По сути, именно генерал Черняев втянул Россию в эту Балканскую войну. Его магнетизм сквозь толщу лет притягивал Олега, он прочитал о нем все, что мог найти в Интернете и Исторической библиотеке, и даже сделал героем своей дипломной работы…
Барабанная дробь капель по стеклу вырвала Олега из объятий прошлого. Он поднялся и принялся мерно вышагивать от двери к окну, считая сотни и тысячи шагов.
Здесь Олег прочувствовал буквальное значение фразы «пища для размышлений». После встречи с картавым эсбэушником внутри все бурлило и вибрировало. Нахлынул вал воспоминаний, ощущений, соображений. Да уж…
Предложение. Ведь и правда, рационально было бы уступить, но что-то внутри не позволяло этого сделать. Наверное, природное упрямство. А хамство, грубость, все, что задевало Олега, лишь питало и укрепляло это чувство. Каждое слово, каждый взгляд, что гвоздями вонзались в него в подвале, требовали отмщения, реванша. Они всплывали на рассвете и в полудреме вечернего сна, неожиданно приходили днем и не отпускали поздней ночью. Стояли перед глазами и со змеиной издевкой шипели на ухо: «А помнишь… и ты не ответил… ты позволил… ты стерпел…»
«Хотя этот пан Барвинский был близок, очень близок к успеху… Я не смог бы, даже если бы захотел… А я и не хочу… Или все же хочу?» Мучительный внутренний диалог выматывал его, он пытался убежать, скрыться, спрятаться во сне, но спать он не мог.
Бах! Олег с силой ударил ладонью по столу в тщетной попытке унять не дающих ему уснуть спорщиков в голове. Он упал на койку с жесткой кургузой подушкой, закинул руки за голову и прикрыл глаза.
«Лучше бы сидел дома, в Москве, что меня черт дернул… Что я тут делаю? Что?! Это не моя война… Да и вообще ничья… Искусственная, лживая… Все врут, все…»
С этими мыслями он провалился в беспокойное полузабытье, где все эти мысли обрели плоть и продолжили терзать его в обличье людей.
Утром, кое-как умывшись жалкой струйкой ржавой ледяной воды, он почувствовал себя чуть лучше. «А если я все же соглашусь?» Целый день эта мысль ходила за ним по пятам, он перекатывал ее языком, пробовал на вкус, но принять окончательное решение не мог. С утра он склонялся к одному, вечером же решительно стоял на противоположных позициях. Он складывал доводы на одну чашу весов, а контрдоводы на другую. Но и весы не могли помочь определиться, перевешивала та чаша, которую в данный конкретный момент предпочитало изменчивое настроение Олега.
Лишь один довод был неизменным. Маша. Он примерно представлял, что напишут о нем дома, если он примет предложение Барвинского и станет их послушной говорящей головой. Безразличен факт того, что напишут. Важно, что все это прочитает Маша… Она знает его и видит насквозь. От нее не спрятаться за красивыми, виртуозно сплетенными словами. Ей абсолютно не важно, на чьей он стороне. Для нее важно, чтобы он не изменял себе. А принять предложение картавого Карабаса и поступить в их кукольный театр – это именно что уступить, а значит, и изменить себе. А значит, и Маше. Этого она ему никогда не простит и такого нового Олега не примет. Именно эта мысль была той последней зацепкой, что заставляла Олега держаться. Он как будто бы висел над пропастью и в последнюю секунду должен был объяснять себе, почему еще рано разжимать пальцы. Но секунда эта растянулась на недели и месяцы.
Олег уставился на паучка, свисавшего с паутины, которой он увил покрытый пятнами зеленой плесени угол. Что-то внутри его перегорело, он больше не метался, одолеваемый сомнениями. Вот уже несколько дней он часами смотрел в точку, постепенно и сам в нее превращаясь. Теперь мысли внутри его головы стали неуклюжими, неповоротливыми, они лежали погруженные в вязкое желтоватое безразличие, где-то в глубинах его сознания, постепенно затягиваемого тиной. Забвение.
«Интересно, а все исторические персонажи, чьими биографиями, дневниками, мемуарами мы вдохновляемся, так же внутренне метались в сложных ситуациях? – лениво размышлял Олег. – Или все они были абсолютно уверены в своей правоте, у них всегда доставало сил стоять на своем, а потому и записаны они по праву в сонм героев и удостоены места на пьедестале Истории… Я же тот Сенька, что пытался надеть не свою шапку… Или же они были такими же людьми с сомнениями и неопределенностью в правильности выбора и лишь на бумаге, задним числом, обретали абсолютную уверенность и решительность? А в жизни они точно так же мучились под гнетом выбора, старались ускользнуть от его необходимости, часто шли против своей внутренней совести, а потом просто подверстывали события собственной жизни, свое мнение к нуждам текущего момента, истолковывая прошлое в максимально выгодном для себя свете?»
– А ты, сосед, как думаешь? – вслух обратился Олег к паучку, но тот, сосредоточившись на угодившей в его липкие сети мухе, не соизволил даже сделать вид, что услышал.
Олег сидел один, хотя металлических коек в камере было четыре штуки. Строгая изоляция. Хотя не такой уж и строгой она была. Временами удавалось пообщаться с соседями по прогулке. Частенько подходили поболтать скучавшие по ночам продольные. Захаживал и предоставленный украинской стороной адвокат, мягко убеждавший Олега принять предложение Барвинского. Хоть вакуум и не был тотальным, но сообщить своим, что он жив, у Олега никак не получалось. Адвокат в ответ на просьбы позвонить ну или хотя бы анонимно, через Интернет, сбросить эсэмэску в Москву, обычно отделывался смущенной улыбкой, но в конце концов набрался смелости объясниться.
– Думаю, вы меня понимаете. – Адвокат промокнул блестевшую лысину носовым платочком и нервным движением поправил маленькие очки а-ля Кони. – В Киеве сейчас всякое может случиться, и мне бы не хотелось… – Запнулся на полуслове и попробовал заново: – Надеюсь, вы не подумали, что я… – Снова какая-то заминка. Он отвел глаза в сторону и скороговоркой выпалил: – К большому сожалению, Олег Валерьевич, я не могу выполнить вашу просьбу по независящим от меня обстоятельствам.
Больше к этому разговору они не возвращались.
Продольные, парочка которых показались Олегу достаточно дружелюбными, пожимали плечами и тут же отходили, стоило ему лишь заикнуться о весточке домой. Официальные же обращения в российское посольство, вероятно, даже и не покидали стен тюрьмы. Не удалась попытка связаться с домом и через соседние прогулочные дворики. Все записки с просьбами, что он туда перекидывал, возвращали ему наутро уже сотрудники «Лукьяновского», ехидно улыбаясь.
Чем больше Олег общался с местными, тем четче он понимал, что и за ними есть глубокая, аргументированная, проработанная правда. А главное – своя. Конечно, он знал это и раньше. Но знать и осознавать – это разные вещи. Он стал себя подлавливать на мысли: «А все-таки со своей точки зрения и они в чем-то правы». Он с ожесточением гнал от себя эти мыслишки, постоянно напоминая себе, что эти люди унижали его и как он их ненавидит. Но заряд чистой ненависти давно иссяк. Чем дольше он находился рядом с ними, тем больше эта их правда разъедала его как ржавчина. Олег сознавал, что это стокгольмский синдром, но ничего не мог с собой поделать. Он начинал смотреть их глазами, и это безумно пугало его. Как будто кто-то запустил процесс переформатирования его личности и он не властен был его остановить. От понимания до приятия один шаг. Только острейшее нежелание уступать кому бы то ни было и позволяло Олегу удержаться от того, чтобы не скатиться на их сторону, подчиниться их воле и принять ее как свою.
Но тем не менее постепенно украинцы для него из виртуальных врагов превращались в живых людей. Чары рассеялись, монстры, в чью злодейскую суть Олег, казалось, и сам поверил, живописуя их зверства, оказались такими же людьми. Хоть Олег и не поддавался искушению, удерживаясь от того, чтобы идейно принять сторону врага, из боевого режима он все же вышел. Вряд ли сейчас он смог бы повторить что-то из своих удалых, кровожадных текстов, в которых он призывал громить «укропов», дойти до Киева и агитировал добровольцев встать в ряды защитников молодых народных республик. Все это казалось теперь таким странным, таким далеким.
Сейчас из-под его пера – блокнот, что дал эсбэушник, оказался очень кстати, гвоздем на стене много не нацарапаешь – выходили мягкие, лирические истории. Он стал сочинять сказки. Если раньше он писал для усредненного неравнодушного патриота, то теперь он представлял лишь одного человека. Ее. Машу. И зачем только он уехал на этот Донбасс…
Теперь тексты получались грустные, но Олегу казалось, что сейчас он пишет более искренне, более проникновенно, хотя, рассматривая свою заросшую рыжей щетиной физиономию в осколке вмурованного в стену зеркала, он видел все больше и больше пустоты в выцветших, стекленеющих глазах. А когда он приметил, что у него стали появляться залысины надо лбом, его поглотила черная меланхолия. Ему стало казаться, что он разваливается на куски. Он остро ощущал собственную ничтожность, неполноценность. Эти ощущения давили, он ощущал эту боль физически, она мешала встать с кровати, мешала что-то делать. Олега пожирала неизвестность, неопределенность будущего. С каждым новым днем он ощущал, что становится все дальше для тех, кто был ему дорог, чувствовал, как отдаляется от них вопреки своей воле, как его образ мутнеет и стирается в их памяти, превращаясь всего лишь в атрибут исчезающего вдалеке прошлого.
Живя одним днем, Олег старался заполнить его осмысленными действиями, где-то в потаенном уголке все же лелея надежду, что все это пригодится когда-нибудь потом. Он читал серьезные книги из достаточно обширной тюремной библиотеки, отжимался, учился писать левой рукой – где-то вычитал, что это развивает правое полушарие мозга. Со временем стало получаться достаточно сносно. Все это требовало гигантских усилий воли. Заставить себя встать с кровати и оторваться от созерцания узора осыпающейся штукатурки на потолке было едва ли проще, чем заставить себя в первый раз сделать шаг в пропасть с борта «кукурузника» с парашютом за спиной.
После завтрака он крошил пайку хлеба на подоконник за окном. Тут же слетались суетливые, взъерошенные воробьи. Странно, но в Киеве они были точно такими же, как и в Москве. Одного, с длинной тонкой шеей и выбитым глазом, Олег стал выделять и даже дал ему имя. Сперва хотел назвать Джек или Флинт, но потом решил, что больше подходит Билли Бонс. Он напоминал Олегу этого персонажа старого советского мультика про пиратов. Такой же нелепый и угловатый. С ним Олег разговаривал, пока тот, чирикая, клевал крошки.
– И что мне делать, малыш Билли?.. А?
Воробей не обращал на него внимания. Тогда Олег запустил в него щепотью крошек, приговаривая:
– Я к тебе обращаюсь, ты, воробей свидомый! Не игнорируй меня! Я же тебя кормлю!
Но птичка лишь клевала хлебные крошки и упрямо молчала.
«Вот так… И посоветоваться не с кем. Даже воробей не может совета дать. И на кого же мне переложить тяжесть решения…»
В камере была старая исцарапанная шахматная доска. На одной из белых клеток был вырезан тризуб, а на другой – секира Перуна. Временами Олегу нравилось играть с самим собой. Сама мысль играть сразу за две стороны была ему по вкусу. Делая ход за себя и обходя доску, чтобы обдумать ход за противника, он как бы перерождался. Вот он играет за себя, а вот он уже на стороне врага, который его ненавидит. Он милостиво предложил себе ничью, но, перейдя на свою сторону, с гневом отверг это предложение – две ладьи могут успешно биться против ферзя. Спустя пару часов ничьей он сам себе уже не предлагал. Полный разгром. Капитуляция.
«М-да… Даже сам себе в шахматы проигрываю… За оппонента на два-три хода вперед просчитываю, а вот за себя почему-то не могу… Да и внимательность хромает…»
Блокнот все больше вспухал от исписанных страниц. Когда он брал карандаш в руки, он утекал сквозь решетки, испарялся из затхлого пространства, ограниченного давящими стенами тюремной камеры, отправляясь в свой уютный, пушистый мир.
Чем больше он писал, тем больше он понимал про самого себя. Местные в батальоне рассказывали, что до войны многие на Донбассе жили копанками – самопальными шахтами, куда потомственные шахтеры вынуждены были лезть на свой страх и риск, чтобы прокормить свои обнищавшие семьи. Сейчас Олег ощущал себя именно таким сталкером-рудокопом, с каждым днем пробивавшимся на все более глубокие уровни своего сознания. Прежняя жизнь казалась теперь ему неосознанной, скорее инстинктивной. Оказывается, он жил как будто в полусне и вот только сейчас начал приходить в себя, осознавать себя, окружающих, весь мир. Их мотивы, ощущения, стремления. Он прежний будто бы был одержим лишь своей внутренней борьбой инь и ян. И лишь сейчас он оторвался от нее, вынырнул из анабиоза и с удовольствием огляделся.
Как будто раньше вокруг него была твердая скорлупа, а сейчас он наконец проклюнулся сквозь нее и с удивлением только что вылупившегося цыпленка разглядывал окружающий мир, точнее, свои воспоминания о нем. Каждый день он понимал что-то новое про свою жизнь, детство, пристрастия и влюбленности, окружающих его близких людей.
Страх, не отпускавший его долгое время после подвала, постепенно сменился тупым безразличием, тусклой безучастностью ко всему происходящему вокруг. Имело значение лишь то прошлое, что жило внутри его. Теперь он наблюдал за собой как будто бы со стороны, как за персонажем нудного фильма или даже скорее старого однообразного компьютерного квеста, с ленцой отбивая назойливое временами желание воспользоваться спасительной комбинацией из трех клавиш. В детстве он всегда перегружался за секунду до проигрыша, лишь бы не дать выиграть компьютеру.
Как будто все, все за пределами этой камеры было где-то очень далеко, наверное, в прошлой жизни. Внешний мир умер, осталась только эта камера, где «вчера» намертво слилось с «завтра». Казалось, что это навсегда. Будущее? Какое будущее? Есть только текущий миг, сию минутье, растянутое в бесконечности. Прошлое же вытекало по капле. Он старался удержать воспоминания, ощущения внутри, но их оставалось все меньше. Потому так важно было все записать. Освободившееся место занимали примитивные инстинкты. Есть. Спать. Снова есть. Он как будто бы уплыл далеко-далеко и не знал, как вернуться назад.
– Собираетесь голодать, слышал? – Майор Барвинский был насмешлив и ироничен.
С прошлой встречи с ним прошло около четырех месяцев. На улице выпал снег, на продолах завывал пронизывающий ноябрьский ветер, проникающий вовнутрь сквозь щели в оконных рамах и местами разбитые окна. В «Лукьяновском» царил тот же легкий налет запустения, что, наверное, характерен для тюрем всего мира, для восточноевропейских заведений подобного сорта уж точно. Олег вполне обжился в тюрьме. Даже пообвыкся, несмотря на свое жесточайшее сопротивление процессу врастания в эти стены и образ арестанта. Привыкли к нему и сотрудники. Он перестал вызывать тот жгучий интерес, что в первые недели пребывания заставлял его ощущать себя дрессированной цирковой обезьянкой, помещенной в вольер зоопарка на потеху публике. Теперь он стал «своим». Почти домашним.
– Не самая удачная тактика в вашем случае. Это игра на люди, она требует публичности, а вам изоляцию не прорвать, вы же уже убедились в этом. Для всех снаружи вы мертвы. К тому же подобная тактика хорошо работает в том случае, если ее применяет женщина, попавшая в неволю. Ее все жалеют, переживают, в итоге создается необходимое общественное настроение, способствующее разрешению ситуации. Вспомните хотя бы вертолетчицу с сильным именем или ее российскую тезку. Им прощалось абсолютно все. Даже детское питание. Они вызывали сострадание. Девочки, матери… – Майор состроил жалобную мину и последние два слова произнес с интонацией, способной растопить даже льдышку в груди заколдованного Снежной королевой Кая. – Мужчины же обычно заканчивают как ирландец Бобби Сендз или украинец Марченко, замученный в мордовских лагерях. – Голос Барвинского вновь обрел будничность с привкусом цинизма, свойственную его профессии. – Видел ваш библиотечный формуляр. – Майор отхлебнул дымящегося ароматного кофе и продолжил: – Хочу вам посоветовать – меньше читайте Судоплатова. Три года на искусственном кормлении – это нереально. Правды в его так называемых мемуарах немного. В основном закрепление легенды, мифа, утвержденного в качестве официальных воспоминаний для целого народа. Вообще, Олег Валерьевич, замечу, что не алкоголизм главный бич россиян. Это лишь следствие коллективной аберрации памяти. Сознание бунтует против очевидной подмены, и приходится его сдерживать, успокаивать водкой. А питался Судоплатов в заключении вполне сносно. Кормила же его Даша Гусак. – Здесь Барвинский усмехнулся и тут же пояснил: – Она охраняла Тараса Чупринку[19], а во владимирской тюрьме была на раздаче баланды. Такая вот ирония истории. – Он отставил опустевшую кофейную чашечку в сторону и откинулся в кресле, сцепив руки на затылке. – Если вам жизнь так уж не мила, Олег Валерьевич, можете все сделать значительно быстрее. Ваше право. Препятствовать не будем. Но предупрежу вас. Этим шагом вы оставляете последний ход в партии за нами. Красиво не будет, даже не надейтесь. Вам же важнее всего, что о вас скажут, напишут, да? Хоть у нас и нет возможностей наших российских коллег, ну или в настоящий момент правильнее было бы сказать – оппонентов, но и мы что-то умеем. Поэтому говорю прямо, надеюсь, вы оцените мою искренность: отдав последний ход нам, вы однозначно проиграете.
Майор замолчал в ожидании хоть какой-то ответной реакции Олега, молчавшего на протяжении всего монолога, конечно же продуманного заранее.
«Надо признать, глухая оборона ему удается неплохо… Как же расшевелить этого флегматичного эгоцентрика… расшевелить…» Барвинский торопливо перебирал в голове возможные варианты развития сценария разговора. Пауза не должна была затягиваться слишком надолго. «Ладно, попробуем прямо в лоб», – наконец решился он.
– Олег Валерьевич, думаю, вы хорошо помните наш предыдущий разговор. Понимаю, что вас удерживает от принятия положительного решения. Патриотизм, да? – Эсбэушник заинтересованно скосил взгляд, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Олег продолжал все так же безучастно изучать узор трещинок в бетонном полу. «Черт! Сидит как Дастин Хоффман в «Человеке дождя»! Может, умом уже тронулся? Личность творческая, ему много не надо». – Вам, как пропагандисту, то есть человеку заведомо второго уровня, который порождает, а не потребляет смыслы, не пристало слепо, искренне верить в агитпроп собственного производства. Все это фантом, симулякр. Навязываемая массам модель поведения, где ваш личный интерес вообще не принимается во внимание. И мне странно, что приходится объяснять вам эти азбучные, прописные истины…
– А вы сами как поступили бы на моем месте? – неожиданно перебил Олег, глянув на собеседника исподлобья.
– Я? Вы хотите знать, как поступил бы я? – Барвинский выгадал секунду для обдумывания следующей фразы и решил, что режим личной откровенности оптимальнее всего. – Ну во-первых, все зависит от точки зрения. Вот сейчас мы вам принудительно показываем предмет с другого ракурса, и ваше мнение меняется, пусть и не сильно, но меняется, корректируется, вне зависимости от вашего желания. И мой вам совет: не смешивайте личные убеждения и работу. Это и есть профессионализм. А вы лишь любитель пока что. Не более. Во-вторых. Что касается меня. Послушайте историю. Мой дед – простой галицкий крестьянин из-под Львова, что в момент его рождения носил название Лемберг. Это была Австро-Венгрия. Возмужал он в Польше маршала Пилсудского. Украинцам нелегко приходилось под властью ляхов, впрочем, как поется в одной песне, и «в радянській країні щастя не буде». Тогда дед вступил в ОУН. После начала советско-германской войны он оказался на стороне Руслана Мельника в его внутрипартийной сваре с фракцией Степана Бандеры. Как и прочие сторонники Мельника, он добровольцем вступил в ряды «Галичины». И не щурьтесь, Олег Валерьевич. Себя они считали сечевыми стрельцами и именно так расшифровывали «Шутц Штаффель», к которому отношения имели крайне мало. Под Бродами, в бою с Красной армией дед был тяжело ранен. Его, поручика, вывезли в тыловой госпиталь, в Германию. Но тыл очень быстро стал западным фронтом, а вскоре и западной зоной оккупации. К счастью деда, польский генерал Андерс был однокашником украинского генерала Шандрука по императорскому офицерскому училищу. Опять же ирония истории. Андерс сумел добиться в Лондоне статуса интернированных польских подданных, верных правительству в изгнании, для чинов «Галичины». Так дед избежал участи казаков, выданных англичанами Советам в Лиенце. Как и многие украинцы, он не чувствовал себя в Европе в безопасности и в итоге оказался в Канаде…
Задумавшись, майор замолчал.
«В Канаде… Так вот откуда у тебя этот акцент мягкий! Но где, а главное, зачем ты так русский выучил?» На миг Олег вновь ощутил себя блогером, готовым истолковать и прокомментировать любой доступный жареный факт. Но тут же он очнулся, вспомнив свой текущий статус, и безразлично поставил точку во внутреннем диалоге: «Да какая разница, откуда он! Хоть с Марса».
Барвинский с легкой улыбкой следил за выражением лица Олега, чья мимика в условиях одиночного заключения «забыла» о необходимости скрывать ощущения и мысли хозяина от окружающих в связи с почти полным их отсутствием.
– Позвольте, попробую угадать, Олег Валерьевич, – с хитрой усмешкой начал Барвинский. – Сейчас вы задаете себе вопрос, как канадец мог попасть в СБУ, да? В первую очередь я украинец, а место рождения не так важно. Хотя после начала открытой российской агрессии оно стало скорее преимуществом, чем недостатком. Слишком многие мои «коллеги», – здесь он скорчил презрительную рожу, – оказались инфицированы ветром с Востока. Особенно из среды схидняков и тех украинцев старшего возраста, что не смогли побороть в себе ностальгию по имперскому прошлому. Так что, как видите, я предельно откровенен с вами. Знаете, зачем я рассказал вам про историю своего деда? Он был простым человеком, который сумел выжить в водовороте первой половины двадцатого века и сумел передать свою фамилию детям и внукам. Много раз он должен был погибнуть, но он проявлял гибкость там, где она нужна, а твердость там, где она уместна. Вам сейчас нужно проявить гибкость, если вы хотите передать свою фамилию потомкам и сохранить себя в вечности. В этом нет ничего постыдного и зазорного. Просто так сложились обстоятельства. Вас списали свои же. А мы, отдавая должное вашим способностям, предлагаем вам еще один шанс. Предлагаем вам будущее. Подумайте. Времени, – он щелкнул ногтем по циферблату своих наручных часов, – остается все меньше.
Через пару недель в «кормушку» вместе с утренней баландой просунули прошитую стопку каких-то бумаг. Заглавный лист выглядел солидно. Серьезный документ с тризубом, синей печатью и размашистой подписью. Присев на край застеленной койки, Олег пролистывал страницы, читая наискосок. Глаза сами выхватывали ключевые слова. «Террористическая деятельность», «иностранный диверсант», «наемничество», «военные преступления», «убийства украинских граждан». И так далее, и в том же духе. Захлопнул, не став дальше читать. И так все понятно.
Живот скрутило острой болью. Фантасмагория оказалась реальностью. Вот лежат бумаги. И это лучшее доказательство. Постепенно приступ прошел. Но все, казалось, давно побежденные и погребенные страхи в один миг возродились. Они вновь принялись выедать его изнутри, кривляясь и строя гнусные рожи. Их нестройный хор завывал: «А ты не верил, да-а?» Не хватало воздуха. Попробовал глубже дышать, но помогало слабо.
«Зачем я здесь? Себе что-то доказать хотел? Или окружающим? Что? Что я не офисный планктон, не травоядная жертва? Хотел вершить историю? Вот, доказал… Да… Теперь вершишь… Что дальше-то? Что-о?» Все эти мысли вперемешку с ошметками воспоминаний беспорядочно метались в голове, держали его мозг в напряжении, будто в осаде.
Резко ударил кулаком в стену. Костяшки саднит, а легче не стало.
Будущее заволокло чернотой, а потом оно просто исчезло. Накрыло спасительное безразличие. Но даже сквозь него, ослепляюще пульсируя, сияло ощущение: «Надежды нет». Множество раз за эти месяцы Олег, казалось, полностью умирал, все его внутренности превращались в выжженную пустыню. Но каждый раз он спустя несколько дней нащупывал под толстым слоем пепла остатки смысла и, держась за них как за спасительный якорь, возрождался.
«Борис Савинков отказался сидеть в тюрьме… И я не буду… Как тот парень из партии, которому грозила экстрадиция из Голландии… А может, этого они и хотят? Специально меня подталкивают и только этого и ждут? Все эти намеки картавого… Не-е-ет… Такого подарка я им не сделаю… А что сделаю? Что? Что еще я могу сделать?»
Страх, вынырнувший из омута неопределенности, стащил аппетит и украл сон. Он сутками гонял Олега из угла в угол… Пять шагов туда и столько же обратно. Предательский голосок внутри шептал: «Не дури, согласись, пока не поздно. Время уходит! Оно уже практически иссякло. Согласись сейчас, и все сразу же станет просто и понятно».
Как же не хочется с ним согласиться…
Но…
Не может.
Хочет, но не может.
Это выше его сил, которых и так осталось немного.
Для того чтобы сделать решительный шаг, нужна смелость, бездонная уверенность в своей правоте всегда, а этого как раз и нет. Нет сейчас, не было и раньше. Знания, особенно книжные, порождают сомнения и метания. А что же тогда требует держать круговую оборону до последнего, стоять на своем, круглые сутки сражаясь с искушением поддаться более сильному, как делает он? Если это не смелость, то что? Неужели трусость? Как странно… Как легко меняются полярности. Одно и то же можно назвать и трусостью, и храбростью… Одно может легко вывернуться наизнанку и стать своей противоположностью. Оборотной стороной.
К ночи поднялась температура. Лоб горел. Мутило. Окружающее темное затхлое пространство преобразилось в дымке ирреальности в полотно кисти художника-сюрреалиста. Предметы разрастались, причудливо изгибались и стремились его поглотить, изменить его сущность, трансформировав в себя. Он отчаянно отбивался от наступавшего оцинкованного бачка для питьевой воды. Тот был предельно серьезен и вооружен весомыми аргументами. Бредовые видения атаковали его, брали в кольцо. Бил озноб. Олег подтянул колени к подбородку и закутался в колючее казенное одеяло. Ему казалось, что он стоит посреди пустого полутемного ангара, где его окружает бесконечное давящее Ничего.
Из объятий болезненного забытья его вырвал показавшийся оглушительным грохот открывающейся «кормушки».
– Вечеря! – прогремел крик продольного.
С трудом разлепив веки, Олег кое-как поднялся и, шатаясь, доковылял до двери. Кажется, попросил позвать врача. Или только хотел попросить? К еде он даже не притронулся. Хотя она и была вполне сносной по сравнению с теми помоями, что давали ему в подвале, но сегодня один ее запах вызывал отвращение и тошноту. Он снова упал на койку и уставился в потолок. Через несколько часов погас верхний свет. Вместо него над дверью включилась тусклая желтоватая лампочка ночника.
«Вот и отбой», – механически подумал Олег. Глаза быстро адаптировались к полумраку. Жар вроде бы отпустил, но ощущение сопричастности каким-то иным, сокрытым измерениям еще не ушло. Постепенно откуда-то из черно-белого смутного прошлого, запечатленного словно на изъеденной временем пленке, проступили, сперва едва читаемо, блекло, а потом все резче и резче, кадры из забытого далекого детства. В этот момент лампочка хлопнула и потухла. Темные углы камеры наполнились какими-то предметами, чьими-то тенями и образами. Тьма заклубилась, приобрела очертания и уплотнилась. Олегу показалось, что он вновь очутился в глухой деревеньке, затерянной в глубине владимирских лесов, где когда-то проводил каждое лето, наполненное ароматом сена, стрекотом кузнечиков и вкусом бабушкиных пирожков.
Изба, срубленная дедами еще в девятнадцатом веке, который Олег упорно продолжал именовать прошлым, а не позапрошлым, и сухонькая опрятная старушка, чья юность пришлась на последние годы империи, встали перед его взором. Чистенькая выметенная горница с половиками, круглый стол под зеленым абажуром и три простеньких стула – вот и вся скудная обстановка. Довершал ее массивный деревянный проигрыватель на ножках, еще из тех, довоенных времен, и портреты на стене: родителей – зажиточных крестьян и супруга – председателя колхоза и коммуниста, пропавшего без вести в сорок втором. А в отгороженной перегородкой каморке, что служила бабушке спальней, над старой железной кроватью, висели массивные иконы на потемневших от времени досках, перед которыми раскачивалась затепленная лампадка, оживлявшая отбрасываемыми отсветами пламени суровые лики. Здесь, в этой комнатушке, бабулька дребезжащим старческим голосом говорила крошечному Олегу, указывая вверх скрюченным пальцем: «Он все видит!» И карапуз трепетал и боялся этого всемогущего Его, что постоянно наблюдал откуда-то сверху. Он втягивал ноздрями запах ладана и думал, что это Его запах.
Ему нравилось сидеть на самой мягкой в мире пуховой перине с причудливо уложенными подушками, из которых торчали кончики крошечных пушистых перышек, и откручивать стальные шарики, украшавшие изголовье кровати. Сейчас Олег вновь превратился в того беззаботного, любознательного малыша, и пространство вокруг него завибрировало и преобразилось. И тогда сама собой всплыла и молитва, которой учила его бабушка. Ветхозаветные слова, пропитанные густым деревенским духом, огненными буквами вспыхнули перед глазами. Оставалось только прочесть их. Смущаясь неизвестно кого и чего, Олег шепотом, запинаясь, пробормотал: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое…»
И тут словно что-то пронзило его, слезы брызнули из глаз, он скатился с койки, упал на колени, и молитва, как весенний ручей, прорвавшийся сквозь лед, свободно полилась из его уст. Ее слова жгли его изнутри, и он выпускал их на волю, ощущая, как с каждым мгновением ему становится спокойнее и легче. Умиротворение окутало его. А еще он будто бы ощутил покалывание от чьего-то взгляда. Неужели тот, кто заставлял трепетать его в детстве, вновь увидел его? Теперь ощущение этого взгляда наполняло не только трепетом, но и теплом. Когда слова иссякли, он без сил рухнул на матрас и мгновенно уснул безмятежным сном. Впервые за множество месяцев. Проснулся под утро, за окном уже забрезжил рассвет. Какой-то шорох, чьи-то шаги… Приподнялся на локтях и удивленно увидел, что дверь камеры распахнута, а у стола спиной к нему стоит девушка в белом халате. Услышав, что Олег зашевелился, она через плечо сказала:
– Вы болеете, я оставила тут на столе лекарства.
Теперь она стояла к нему вполоборота, но он все равно не мог ее как следует рассмотреть. Но тембр голоса, фигура, каштановые волосы, наконец…
– Маша?! – Возглас вырвался сам собой.
Девушка с улыбкой обернулась. «Нет, не она, – разочарованно подумал Олег. – Да и откуда ей здесь взяться?»
Она подошла к нему вплотную, нагнулась и поцеловала мягкими шелковистыми губами в лоб, одновременно прошептав на ухо:
– Очищение от шелухи. Если не сгниешь и не сломаешься, то станешь только сильнее и тверже, – провела ладонью по его волосам, – а еще светлее и прозрачнее.
Девушка развернулась и сделала несколько шагов в сторону двери.
– Подождите…
– Да? – с готовностью развернулась она.
Олег замялся, не зная, как обратиться, но, увидев ее ободряющую улыбку, собрал силы и сказал:
– Доктор, вы могли бы позвонить моим близким и сообщить, что я жив?
Без колебаний девушка достала блокнот из нагрудного кармана:
– Диктуй номер.
Когда дверь за ней закрылась, накатила волна слабости. Олег вновь уснул. Через пару часов, уже окончательно проснувшись, он сперва подумал, что все это было каким-то сном. Но глянул на стол и увидел пластиковую баночку аспирина. «Значит, все же не видение», – подумал он с изумлением и робкой радостью. Рядом с лекарствами лежала раскрытая на середине тетрадь. Одна из сказок, что он писал для Маши!
Когда раздавали завтрак, Олег спросил продольного – дружелюбного деревенского парня по имени Тарас:
– Старшой, а что за девушка тут была ранним утром?
– Яка дівчина? – На простодушном лице Тараса отразилось крайнее удивление. – Москалик, ти що, з глузду з’їхав? Тільки я тут, іншого немає никого. Субота!
Прошло несколько дней. Ощущение неволи бесследно пропало, растворилось. Олег перестал ее замечать, а его глаза вновь загорелись. Куда-то ушла былая вялость, не дававшая сутками встать с кровати, душившая сонливой апатией, которая почти что полностью поглотила его. Вынырнул. Ожил. Обрел надежду. Он чувствовал силу, она наполняла его до краев, давая ощущения победителя на кончиках клыков. Враг перестал внушать ему ужас. По крайней мере, ему так казалось. Олег сидел за столом и торопливо писал, стараясь выместить на бумагу как можно полнее и детальнее роившиеся в голове образы, идеи, истории. Временами ему мерещилось, что его рукой водит кто-то другой. Слова сами рождались на кончике карандаша, он лишь держал его. Перечитывая написанное, Олег улыбнулся всплывшей мысли: «А вдруг эти тексты уже давным-давно написаны и сокрыты в потайном месте, где ждут своего часа? А я лишь выясняю, восстанавливаю их…»
От размышлений его отвлек лязг отодвигаемого засова и щелканье шестерней в замке. Сердце екнуло от неожиданности.
– Колорад, собирайся!
Услышав этот голос, Олег вздрогнул. В дверях стоял тот самый тщедушный, малоприятный тип – особист из «Айдара». За его спиной маячило еще несколько крепышей в масках. Ладони моментально вспотели, горло пересохло. Холодный, почти забывшийся, липкий страх вновь ожил внутри. «Только не обратно, только не снова в подвал!» Страх учуял эту слабинку и стал поедать ее, напитываться ею, разрастаясь все шире.
– Куда? – Собственный голос Олег узнал с трудом, какое-то глухое кряхтение вырвалось из его горла.
– На расстрел. – Особист ехидно усмехнулся, обнажив подгнивающие, давно не чищенные зубы, и, помедлив пару секунд, продолжил: – Ладно, расслабься, чего побледнел? Поедешь в Кацапстан, к своей юрте, верблюдов доить и кумыс пить. Обменивают тебя. – Слова он цедил с нескрываемым презрением, а тонкие, неприятные черты лица искажались откровенной ненавистью. – В последний момент тебя в списки на обмен внесли. Твое счастье. Что, дотянулся-таки до своих? Ну мы еще выясним, кто тут такой благодетель…
Олег прикрыл глаза. Глубоко вздохнул. Слова особиста долетали до него как будто бы откуда-то издалека. «Домой! Домой!» Он боялся поверить. Хотел, но боялся.
– …А у меня брат под Дебальцевом ногу на мине вашей потерял, – продолжал нудить особист, – а ты домой с ручками-ножками на месте вернешься… Ну ничего… Зато вот тут, – он ткнул пальцем с грязным, в заусенцах ногтем в грудь Олегу, – ты знаешь, что мы тебя нагнули и сломали. Жаль, до конца втоптать не дали… Но ты это знаешь. И мы это знаем. Вот и живи с этим как сможешь. Я бы на твоем месте не смог. Все, собирайся!
Олег быстро побросал вещи, которых и было-то совсем немного, в наволочку. Почти исписанный блокнот, который дал Барвинский, хотел положить аккуратно сверху, но его ловко выхватил из рук особист.
– А вот это останется здесь.
– Но… – попробовал возразить Олег.
– Жалко, да? – нехорошо ухмыльнулся тщедушный. – А это цена за билет домой. Восстанавливай по памяти. Если бы принял наше предложение, уже бы по Киеву гулял – каштаны кушал да на книгу свою в книгарнях любовался. А так… – Особист язвительно скривил губы и махнул рукой. – Твой друг Барвинский просил тебе передать, что там у вас тебе ходу не дадут. Для своих ты потенциально завербованный. Такой агент влияния с промытыми мозгами. Так что не только книгу, но и блог вести не сможешь. А вот мы подумаем, может, еще что и опубликуем из твоего за подписью «Признания и откровения. Дневник российского террориста» – как тебе такое название, а? А вот это, – он потряс блокнотом перед носом Олега, – будет доказательством истинности.
Прямое авиасообщение с Москвой давно уже было прервано, потому летели через Минск. Всего выдаваемых в Россию набралось человек двадцать. Понурые, обносившиеся, с потухшими глазами, они в основном молчали, немного чураясь друг друга.
В другом конце холодного негостеприимного зала ожидания минского аэропорта сбилась в кучку такая же группа сутулящихся, с острыми скулами и запавшими глазами людей. Эти бросали хмурые взгляды на прилетевших из Киева вчерашних военнопленных. Они и сами были такие же. Но другие. Украинцы. Пленные. За час до этого их привезли военным бортом из Москвы, а еще несколько дней назад они были раскиданы по российским лагерям от Карелии до Иркутска. К ним решительным шагом направилась мужиковатая тетка с короткой стрижкой, которую Олег приметил еще в самолете. Кто-то шепнул ему, что это то ли посредник, то ли переговорщик с украинской стороны. Войдя в толпу, тетка заливисто гаркнула:
– Слава Україні, хлопці!
Олег злорадно наблюдал за тем, как сначала вытянулось и помрачнело ее лицо, а потом покрылось румянцем и стало совсем растерянным, когда в ответ она услышала лишь пару вялых «Героям слава», несколько человек просто безразлично отвернулись, а один так и вообще на весь зал озлобленно рявкнул:
– Да иди ты со своей Украиной знаешь куда? Чего приперлась?..
Продолжение Олег досматривать не стал, клонило в сон, а в дальнем углу он приметил освободившееся место.
Поудобнее устроившись на жестком сиденье, Олег надвинул капюшон «кенгурушки» на лоб и попытался задремать – до вылета в Москву оставалось около двух часов, – когда голос, который он меньше всего ожидал здесь услышать, вырвал его из дремоты:
– Олег… – Такой родной, такой милый голос… Будто бы волна электрического тока вышвырнула его из пластикового кресла.
Сам в это не веря, он зачарованно произнес ее имя:
– Маша!
Она робко стояла в двух шагах от него, немного растрепанная, смущенная, не решаясь подойти ближе. Олег бросился к ней, сжал в объятиях, от ее аромата закружилась голова, он повторял ее имя снова и снова, уткнувшись лицом в ее душистые вьющиеся волосы, не в силах остановиться.
– Я изменился? – Он отпрянул чуть назад, давая возможность рассмотреть себя и в то же время не выпуская Машу из объятий.
Она окинула Олега парой быстрых взглядов, а после этого уже пристально ощупала его глазами. Провела тыльной стороной ладони по его щеке. На миг зажмурилась.
– Ты… Ты какой-то обожженный, – наконец вынесла она свой вердикт.
– Скорее опаленный, – почти шепотом поправил Олег.
– Да, да, именно так, – заторопилась Маша, – и твои глаза… Они обжигают… – Она запнулась и тут же продолжила: – Обжигают холодом.
– А вот так? – Олег на секунду прикрыл веки и тут же вновь распахнул глаза, теперь искрившиеся лучистыми искорками.
– Так мне больше нравится, – улыбнулась Маша, – но все равно иначе, чем прежде. Не хуже и не лучше. Просто иначе.
Олег согревался в ее мягких, ласковых, почти кошачьих интонациях. Он почти забыл, как же в них уютно.
– Граф Монте-Кристо тоже когда-то был Эдмоном Дантесом, – тихо ответил Олег. – Сейчас я пепел. А рядом с тобой ощущаю силы стать фениксом…
На пару минут повисло молчание. Маша гладила Олега по голове.
– Но для этого мне надо вернуться туда, – продолжил он. – Чтобы победить мой страх и возродиться.
– Тогда в новом тебе возродишься и ты старый, вы сольетесь, и это станет шагом к совершенству? – Маша сжала его голову ладонями и, казалось, читала вслух по его глазам.
– Примерно так, – улыбнулся Олег. – Но неосознанный период жизни в любом случае закончился… А еще, – он набрал в грудь побольше воздуха, – я теперь знаю, что совершенства можно достичь только рядом с тобой, пройдя вместе весь путь.
– Без оружия, – неожиданно твердо сказала Маша.
– Как скажешь. – Он любовался ею.
– Если с этим условием ты согласен, то я с тобой, – подвела она итог с серьезным видом.
Уже в самолете, не отпуская Машину руку, Олег прошептал ей на ухо:
– Я написал для тебя много сказок… Правда, их все забрали…
– Это ничего. Главное, что мы вместе, – Маша погладила его руку, – а сказки расскажешь мне на ночь. Уверена, ты все помнишь.
На табло в зале ожидания московского аэропорта Внуково загорелась надпись, извещающая встречающих, что прибыл рейс из Минска. Тут же загудела, пришла в движение яркая, разноязыкая толпа, увешанная микрофонами, фото– и видеокамерами. Спустя пятнадцать минут двери открылись и в зал вошла группа изможденных, бледных людей в сопровождении хлопочущих вокруг них женщин провинциального типа. Матери и жены, собравшиеся со всей страны.
Гвалт журналистской братии буквально оглушил вчерашних пленных. Телекамеры взяли их в плотное кольцо. Олег, крепко сжимая Машину узкую ладошку, попытался прорваться сквозь заслон репортеров, но был зажат в угол напористой миниатюрной девушкой в кричаще-оранжевом пальто, с копной рыжих волос и розовым микрофоном в руках. За ее спиной маячил бородатый флегматичный камерамен в массивных очках из черного пластика.
– Телеканал RVi, еженедельная аналитическая программа «Отнюдь», представьтесь, пожалуйста, – затараторила рыжая, тыкая Олегу в лицо микрофоном сомнительного цвета.
– Олег Мирошников. Сержант Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, – с усилием произнес он, инстинктивно стараясь отвернуться от объектива камеры.
– Олег, сколько времени вы провели в плену или, точнее сказать, под арестом?
– Около девяти месяцев. – Зрачки у Олега сузились, эта аляповатая, принудительно жизнерадостная журналистка решительно ему не нравилась.
– Что теперь, Олег? Вернетесь наконец к мирной жизни?
Ее манера речи была чересчур напориста, а формулировки вопросов задевали за живое. Олег всеми силами старался подавить закипавшую внутри ярость и отвечал преувеличенно спокойно, медленно, делая большие паузы между словами.
– Скорее я бы сказал, что поеду домой.
– К семье?
– Нет… На Донбасс. Мое место там. – Теперь Олег твердо смотрел прямо в объектив камеры.
– Что это? Жажда мести? Неужели девять месяцев плена ничему не научили вас? – наседала журналистка, скорчив презрительную мину.
Помолчав, Олег задумчиво ответил:
– Он меня подкосил. Более того. Почти сломал.
– Тем более! – почти что взвизгнула она. – Что же вами движет? – В ее голосе упрек смешивался с брезгливостью.
Олег агрессивно подался вперед, заставив оператора нервно вздрогнуть и отступить на один шажок.
– В детстве у меня была игрушка. Неваляшка. У вас она наверняка тоже была. Вот я как эта игрушка. И сейчас время подниматься. – Все же она вывела его из себя. Своим тоном. Своей мимикой. В этом состоянии Олег часто говорил лишнее, выдавая истинные, сокровенные мысли и суждения, которые стоило бы приберечь для себя. Но в такие моменты он использовал жесткую откровенность как оружие против раздражителя. – Я ощущаю, что мое место там, не могу и не хочу противиться этой тяге. Там я смогу снова распрямиться. А поэтому я вновь поеду туда.
– Вы ненавидите военнослужащих ВСУ? Хотите поквитаться с Украиной? – Рыжая чуть прищуривала правый глаз, явный признак того, что окончательно распознала в собеседнике идеологического врага и внесла в соответствующую категорию в своей внутренней картотеки.
– Нет… – Олег на секунду задумался, стараясь попроще сформулировать то, что вываривалось в нем за долгие месяцы плена. – Во мне нет ненависти. Она выжигает изнутри. Что касается тех, кто воюет на той стороне… Вы знаете, русские офицеры разговаривали на французском лучше, чем на родном, и восхищались Бонапартом. Это не мешало им бить его. Я понимаю наших врагов, – это слово он с нажимом выделил, тут же увидев перед глазами галерею всех тех, с кем он «познакомился» в подвале, – и мне действительно есть что им припомнить. Но я не собираюсь этого делать и не испытываю к ним неприязни. Я не буддист, нет. Мои соображения прагматичны. Даже эгоистичны. Просто не хочу разрушать себя ненавистью.
– Олег, относительно возвращения на Донбасс. Вы хорошо подумали? А как же ваши родные? – Теперь ее физиономия была полна скорби и сопереживания, уместных в больничной палате, а голос всеми своими модуляциями доносил до зрителя мысль, что он лицезреет классического свихнувшегося персонажа.
Олег взглянул на Машу. Она сжала его руку и едва заметно кивнула.
– Так что же, сержант Мирошников? – не отставала назойливая журналистка. – Вы снова готовы бросить семью, заставив переживать за вас?
– Нет, не оставлю. – Олег смерил рыжую репортершу с нелепым микрофоном в руках насмешливым, с легким оттенком жалости взглядом и повернулся к Маше. – Моя семья будет рядом со мной.
Олег с Машей переглянулись, обменялись улыбками и, небрежно отодвинув оператора, обнявшись, пошли в сторону выхода.
– Вы не думаете, что женщине не место на войне и везти ее с собой минимум безответственно? – бросила им вслед журналистка.
– Моя война закончена, – ответил Олег через плечо, – мы едем не разрушать, а создавать. Волонтеры бывают разные.
«Отнюдь не самый однозначный пример умонастроений в среде так называемых добровольцев, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины и сегодня вернувшихся домой благодаря доброй воле украинского правительства и миротворческой активности депутата Верховной рады…»
Не досмотрев последние секунды сюжета, майор Барвинский нажал на пульте mute, и висящая на стене кабинета панель затихла.
– Ну і навіщо ви його відпустили? Щоб він інтерв’ю ось такі роздавав?[20] – Щуплый особист развязно устроился на диванчике у противоположной стены, прямо под портретом Евгена Коновальца, закинув ногу на ногу, он вопросительным, с наглецой взглядом смотрел на Барвинского.
– Нам він не потрібний[21]. – Майор устало вытянулся в кресле. Этот выкормыш СБУ образца кучмовских времен утомлял его своей тупостью и замашками мелкого садиста. – Не буває відносин з примусу. А ікла ми йому і так якщо не висмикнули, то підпиляли вже точно. Для України він тепер загрози не представляє. Скоріше навпаки[22].
– Так він наших хлопців…[23] – свирепо начал особист, привставая с дивана.
– І що?[24] – холодно прервал его хозяин кабинета. – Мученика треба було з нього робити? Це контрпродуктивно. Менше емоцій, капітан. Ще один міні-Хемінгуей на тій стороні буде Україна тільки корисний. Їх опозиція – наш головний важіль тиску і навіть, якщо хочете, зброя. Треба його тільки ретельно відточити…[25]
– Так чому ж він може бути нам корисний?[26] – с вызовом спросил особист, снова усаживаясь на место.
– Пропагандою пацифізму[27], – вздох самопроизвольно вырвался у Барвинского, – і не нам, а Україні. Нам особисто через особливості психотипу він ні до чого, я вже пояснював[28].
– Ви міркуєте якимись абстрактними категоріями, Норман Тарасович… Ви не в Канаді! Тут все жорсткіше, тут війна йде, а ви гуманізмом грядочку засівають. На майбутнє. Зійде – не зійде. У нас часу немає! Повномасштабне вторгнення на носі! Ви в зону АТО поїдьте, подивіться своїми очима. А ви все ніяк тебе рукавички не зніме. Хемінгуей… Той був, як я чув, такий великий письменник. А цей? Так ми його майже розчавили. Причому без особливих зусиль. А ось ви не дали нам довести справу до кінця![29] – Он распалялся все больше и больше, его лицо покрылось багровыми пятнами.
– Ви звинувачуєте мене в симпатії до росіян?[30] – Барвинский рассмеялся. – До речі, у мене родичі в Підмосков’ї не живуть[31]. – Особист на миг потупился, хотел что-то возразить, но майор взмахом руки остановил его: – Що ж стосується величі… Все мертві – великі. А живі – так собі. Коли ФБР труїло Хемінгуея за його нібито симпатії до червоних, вони точно також обливали його презирством. Та й час зараз мізерний. Людці подрібнішали.
Хоча, припускаю, так вважає кожне покоління, рівняючись на парадні відбитки попередніх генерацій… Люди в цілому не дуже. Що стосується особисто мене, то я волію за краще собак. А цей же…[32] – Барвинский небрежно махнул рукой в сторону телеэкрана. – Він повинен бути нам вдячний. І не за те, що відпустили. А за те, що дали йому нові відчуття, історію, біографію, в кінці кінців. Тепер йому є про що сказати насправді і він має право про це говорити. Шкода, звичайно, витримати його толком не вдалося. Менше року це несерйозно. Толком і не перебродить. Ну а ставати Хемінгуеєм чи ні – це вже його вибір. Тепер все від нього залежить[33].
Апрель – май 2017
Вакуум
Потеряшка
Пустынная захолустная платформа, утопающая в осенних сумерках и населенная множеством теней. От перрона, с гулким свистом выпустив излишки пара из котла, отходит паровоз. Стуча колесами и оставляя позади першащие клубы чадливого дыма, он набирает ход. На полустанке в свете станционного фонаря осталась в одиночестве стоять лишь светло-серая фигура.
Это единственный вышедший здесь пассажир. Он невидящим взглядом провожал проносящиеся мимо ярко освещенные окна пульмановских салон-вагонов. Они мелькали как кадры тридцатипятимиллиметровой пленки, на которой кипела жизнь, гремела музыка, сновали услужливые официанты. Поезд прогрохотал вдаль, и скоро огни последнего вагона превратились в едва видимую, слившуюся воедино точку. Оставшийся пассажир зябко поежился, засунул руки поглубже в карманы пальто и огляделся. Лязг состава потух вдалеке, поглощенный расстоянием, и вокруг сгустилась плотная тишина. Это безмолвие было столь осязаемо, что, казалось, его можно резать ножом на слои.
Дремучий лес захлестывал платформу с трех сторон. Кряжистые деревья вплотную подступали к ней, протянув над перроном сплетающиеся сучья. Напротив, за железнодорожной линией, высится водонапорная башня для наполнения паровозных котлов. Кирпичное основание и деревянное, выкрашенное выцветшей и кое-где облупившейся темно-красной краской навершие. А дальше вновь глухая стена леса. Полное отсутствие звуков, запахов, людей. Стерильность. Вакуум. Как будто ушедший вдаль поезд унес с собой все атрибуты жизни, оставив лишь мертвые декорации.
«Почему я здесь вышел?» Попытался вспомнить. Невидимая сеть, сплетенная из безразличия и одиночества, стягивала все внутренности в тугой напряженный комок, мешая нащупать хоть какие-то воспоминания. Закрыл глаза. Пошарил внутри себя. Ничего. Лишь густой туман. Из мутных глубин сознания почему-то всплыла лишь одна только фраза: «Гипнос и Танатос – близнецы-братья». И что это значит? Может, там есть еще что-то? Осмысленное, практичное. Нет. Только затянутая мглой и отдающая эхом пустота… пустота… пустота… В легком недоумении открыл глаза. Вокруг все те же удушающие сумерки.
Кап-кап-кап – сквозь ватную тишину в сознание прокрался стук капель. И тут же – щелк… щелк… Как будто цепляют друг друга какие-то шестерни. «А это что?» Ответ пришел откуда-то извне, а взгляд сам сфокусировался на паровозном гидранте, торчащем рядом с водонапорной башней. Из него одна за другой выскальзывали с хлюпающим звуком и разбивались об рельс капли ржавой бурой воды. Через секунду взгляд выхватил станционные часы, висящие на притаившейся в другом конце платформы будке из желтого кирпича с надписью «Касса». «Почему эти звуки такие громкие? – пронеслась мысль. – Я же не могу их слышать отсюда…»
В будке светилось дружелюбным зеленоватым светом окошко. Решил двинуться туда.
«И все же почему я здесь сошел? Не помню… У меня не было билета? Я сел не в тот поезд? Не мог же я ехать именно сюда, в эту пустоту! Не помню… Не помню!»
Рука в кармане пальто нащупала что-то. Плотный кусок картона. Достал прямоугольничек, положил на ладонь. «И что это?» Смутное воспоминание откуда-то из детства… «Да это же билет! Но почему-то без дырочек… Ведь должны вроде бы быть дырочки? Значит, билет все же был! И что, он чем-то кондуктору не понравился, что ли?»
Зарешеченное окошечко кассы, видны только руки кассира.
– Что это за место? Как называется эта станция? – Собственный голос звучит неестественно глухо и пугает непривычностью тембра.
– Это платформа. – Невидимый кассир сух и безучастен.
– Но название-то у нее есть?
Скрытый за окошком человек неопределенного пола и возраста безмолвно высунул узловатый палец наружу и ткнул им куда-то вбок. Там, на краю платформы, приварена табличка с названием. Налипшие влажные листья скрывают выпуклые буквы, которых к тому же не хватает. Пара движений рукой, вот все, стряхнул. Теперь показалось название полустанка – «Без… сход… ость». Вернулся к окошку.
– Платформа «Безысходность»? – спросил, с трудом давя стремящиеся на волю комки истерического смеха.
– Там же написано. – Кассир сама невозмутимость.
– А когда будет следующий поезд?
– Никогда. – В бесцветном голосе проступают едва уловимые нотки злорадства.
– А что тогда вы здесь делаете?! – Внезапно поднявшаяся волна гнева готова все сокрушить на своем пути.
– Жду вас, – лишь ледяное спокойствие в ответ. – Вам письмо.
Сквозь щель протискивается пузатый конверт, запечатанный массивной старомодной сургучной печатью. Извергнув его из своих недр, окошко кассы бесшумно захлопнулось.
Нетерпеливо сломав крошащуюся в пальцах печать, заплутавший путник разрывает конверт и извлекает оттуда толстую пачку листов. Как он мог забыть, ведь он так ждал это письмо! Может, за ним он сюда и приехал? А может, это вообще другое письмо? Один, второй, третий – он ловко перебирает листы между пальцами, но все они пусты… Белоснежная, не оскверненная чернилами бумага.
Раздраженно зарычал и выкинул, не глядя, всю пачку за спину, где помявшиеся листы подхватил неожиданно налетевший порыв ветра. Он же пригнал скомканную газету, уткнувшуюся в ноги как брошенный щенок. Нагнулся. Поднял. Развернул. Текст и даже заголовки не разобрать, буквы кривляются, растекаясь грязными пятнами. Он щурится, подносит газету ближе к глазам, но буквы скачут и убегают прочь – нет, ни слова не разобрать… Даже название, набранное аршинными буквами, стоит на него взглянуть, тут же расплывается размытой кляксой. Снова скомкал газету и бросил ее в урну, а сам сел на скамью, приткнувшуюся у глухой стены станционной кассовой будки. «Должен же быть следующий поезд! Хотя бы утром…» Навалилась усталость, и он задремал, точнее, провалился в бездонный колодец сна.
Проснулся от уханья филина. Послевкусие сна. Дрожащая метареальность подсознания, путешествующего в тонких мирах… «Чье это царство? Асмодея? А, точно – Морфея!» Кругом все тот же сумрак. Бросил взгляд на висящие на желтой будке часы. Их стрелки не сдвинулись ни на минуту. «Когда я вышел из вагона? Пять минут назад? Или пять дней? А может быть, лет?» В кармане что-то брякнуло. Осенило: «Ну конечно же! У меня есть собственные часы!» Запустив руку в жилетный кармашек, достал старый дедовский хронометр на цепочке. Их стрелки замерли в точно таком же положении, что и станционные. Вид часов пробудил какие-то смутные воспоминания. «Да, да! Они же отстают по ночам ровно на час, на самом же деле они так запасают время впрок, чтобы отдать его хозяину днем, в те моменты, когда ему его недостает…» Нахмурился. «Что за бред?.. Это же фельетон! Вспомнил! Это фельетон, что я написал для одной газеты. Да, точно! Написал…»
Новые воспоминания заставили пошарить по карманам в поисках чего-то, что позволит сознанию зацепиться и выкарабкаться наверх.
Вновь полез за пазуху и на этот раз выудил из внутреннего кармана пиджака аккуратную, стянутую вертикальной резинкой записную книжку с обрезанными полукруглыми углами и огрызком карандаша в специальной петельке сбоку. Резко сбросил резинку, раскрыл и принялся листать, может, хоть это поможет рассеять туман в голове… Вот! Что-то написано, и буквы не разбегаются, а смирно стоят на своих местах. Резкий, мельчащий, угловатый почерк: «…Человек проживает жизнь как улитка, ползущая по листу и оставляющая жирный след. Вот эти сгустки слизи и есть так называемое творчество. Это просто отходы жизнедеятельности особей с деформированным сознанием. Иногда их называют выродками».
Резкий скрип тормозов прервал чтение. У края платформы остановился небесно-голубой автомобиль с мягкими, плавными обводами, посаженный на железнодорожную колею. В голове всплыло название – автодрезина. «Где я такую видел? Горы, лес, тоннель, река. Вроде бы Дрина… Или Дунай? Где это вообще? Или это была кинокартина?..»
Дверь распахнулась. На водительском месте сидит девушка, руки в черных блестящих перчатках лежат на руле.
– Привет. – Она поворачивается и окидывает хрустально-ледяным обжигающим взглядом.
Он наклонил голову и, поймав электрический разряд ее глаз, вздрогнул всем телом. Она или не она? Он попытался воскресить в памяти ускользающий образ и спустя пару мгновений неуверенно произнес:
– Я видел вас во сне…
– Я знаю. – Она совсем не удивлена, скорее даже наоборот. – Садись. Пора ехать, пока стрелку снова не перевели. – Она вновь смотрит вперед, в нетерпении теребя рычаг переключения передач.
– Ехать куда? – Недоумение наполняет его взгляд.
– Вперед. Скорее же! Ты же хотел уехать. Или ты правда хочешь захлебнуться и утонуть? – Капелька отчаяния проступает в ее голосе.
– Утонуть? – теперь он по-настоящему удивлен. – В чем?
– В безразличии конечно же! – Она поднимает глаза вверх, поражаясь его непонятливости. – Давай быстрее, мы и так опаздываем. Пора выбираться отсюда!
– Выбираться куда? И что там? – Он очень медленно соображает и задает множество глупых вопросов.
Она глубоко вздохнула и резко выдохнула:
– Какая разница? – Нотки нетерпения и раздражения, теперь она и правда злится. – Главное – движение, цель не важна, да и вряд ли достижима. Она лишь символ… – На секунду замолкнув, она смахнула выбившуюся прядь волос и резко закончила: – Хватит слов! Просто садись! – Хлопает ладонью по креслу рядом с собой. Звук от шлепка, будто взрывная волна, наполняет стерильный вакуум пустоты.
Он устроился на пассажирском сиденье, сразу почувствовав, что придавил что-то спиной. Запустив руку за спину, он вытянул куклу, сшитую из кусочков тряпочек, вместо глаз пришиты две разномастные пуговки, а под ними заштопка, изображающая рот.
– Это – Потеряшка, – коротко пояснила она, включая радио. Сквозь шум и треск помех откуда-то издалека пробивалась все крепнувшая мелодия с оттенком оранжевой грусти. – Но теперь он нашелся… – она нажала на стартер, – в общем, не важно. Просто пересади его назад. Только аккуратно.
Толстая подошва ее тупоносого ботинка надавила на педаль, и небесно-голубой автомобиль бесшумно тронулся, прорезая синеватый мглящийся вечерний туман струей искрящегося электрического света.
Февраль 2017
Эмигрант
Он закрывал глаза и видел все это. Молодецкая юность на большой дороге в южных степях и университеты, которые он прошел в старинном каземате в центре холодного купеческого города, где отбывал пожизненную каторгу. Там люди с горящими глазами, называвшие себя «революционеры», научили его читать, пристрастили к книжному знанию. Там он из разбойника с кистенем превратился в политического. Девять долгих лет, пролетевшие как один день.
А потом революция и неожиданная свобода. Гражданская война. Митинги, переросшие в бои, и бои, выродившиеся в митинги. Кавалерийские сшибки и штурмы городов на бронепоездах. Дни торжества и в конце отступление с боями за границу захваченной узурпаторами родины. Проиграна битва, но не война. Распыление повстанческой армии, переформирование ее в международную партию. Черный интернационал. Турне по охваченной предчувствием грядущих перемен Европе. Многотысячные митинги, выступления, уличные бои. Студенчество европейских столиц делает его своим знаменем. Блестящая победа в серии диспутов на объединительном съезде в швейцарском Берне над главным конкурентом в борьбе за влияние на умы молодых бунтарей. Несмотря на полемический дар, бывший идол терпит поражение и как оплеванный бежит из Берна прозябать в забвении задворок Латинской Америки. Пламенный взор вдохновителя первой революции потух за круглыми стеклышками пенсне, щегольская бородка клинышком распалась и повылезла. Он же стал ночным кошмаром империалистов всех мастей и окрасок. Новый Гарибальди, обретший свой Пьемонт в борьбе за Республику в Южной Европе. Его интернациональный корпус под черным знаменем вышвырнул за Пиренеи объединенных интервентов – непримиримых ранее красных и коричневых. Добровольческие бригады одного диктатора, вынужденно соединившиеся с легионом другого, позорно бежали под ударами его черного фронта, отстоявшего республику.
Вихри событий проносятся перед его внутренним взором и кружат водоворотом. Он ощущает все это в легком покалывании подушечек пальцев, там живет этот мир. Он оживает на бумаге, под ударами скрюченных артритом узловатых, с давно не чищенными ногтями пальцев по клавишам старенького, еще с ятями, «Ундервуда», насквозь пропахшего терпким табаком. Пачка дешевой серой бумаги – по полтора франка за сто листов – почти израсходована.
Старый эмигрант оторвался от листов, густо усеянных литерами, и обвел взглядом свое убогое жилище – мансарду под самой крышей в пятиэтажном доходном доме на окраине, где в основном селились такие же, как он, бедняки и эмигранты. Он сравнивал свою квартирку с камерой каземата, где постигал азы революционных наук, и она проигрывала камере по всем пунктам. Эта комнатушка почти на чердаке заставляла его гадать, что это – пространство, заполненное пустотой, или пустота, обтянутая пространством? Больше всего она напоминала ему его жизнь. В углах плесень, повсюду сырость, половицы скрипят и качаются, стены оклеены потертыми желтыми обоями, покрытыми влажными пятнами и разводами. Из обстановки лишь железная кровать с вылезшим матрасом, кое-как наброшенным сверху, лоскутным одеялом, видавшим виды, покрытым слоем пыли, дорожный чемодан рыжей кожи, задвинутый под нее, стол и стул да сдвинутая в сторону до времени швейная машинка «Зингер», заброшенная ради сулившей большую, нежели недошитые штаны, выгоду рукописи. Завтра ее ждут в одном эмигрантском издательстве, за нее обещали целых двести франков. Они же издали «За чертополохом» атамана К. – их читатель любит читать мечтания бывших о несбыточном.
Осталось совсем немного. Пара страниц. Но глухой кашель разрывал легкие и не давал закончить. Приложил носовой платок к губам – так и спрятал в карман вместе со сгустком крови. Привык. Ломит суставы – холод вперемешку с сыростью пронизывает насквозь, а желудок заворачивает от голода. Ничего. Это временно. Все еще будет хорошо – он прикрывает глаза ладонью и мечтает о том, как завтра с двумя хрустящими купюрами в кармане он сможет позволить себе и ужин в недорогом ресторанчике на Елисейских Полях, где он не бывал вот уже больше года, и несколько мешков угля, чтобы кормить еще ни разу не протапливавшуюся этой зимой комнатную печь, и может, даже сможет погасить долг, хотя бы частично, перед этим несносным, грубым, надутым как индюк домовладельцем – месье Жоффруа… Что бы он сделал с ним раньше, если бы тот позволил себе разговаривать с ним в таком тоне… Хлопцы бы запороли на конюшне… Но все это осталось в прошлой жизни, а теперь приходится терпеть. Отводить глаза. Кивать и почтительно соглашаться. Да и не понимает он его толком, сносно выучить язык так и не удалось, а потому пелена непонимания была еще одним – изрядно густым – слоем в окутывавшей его луковице одиночества. Сознание медленно сворачивается, и грусть о собственном ничтожном положении плавно растворяется в пространстве. Пожилой мужчина, измученный болезнями, с седыми усами, чьи кончики пожелтели от табака, в изношенном, покрытом заплатами пиджаке и толстом шарфе, намотанном на шею, так и засыпает, сидя за столом, положив голову на сложенные перед собою руки. Во сне он видит свое село, превращенное в столицу лихой разбойничьей республики, удалых хлопцев, перемотанных пулеметными лентами, себя. Молодого, сильного, здорового, сидящего в тачанке, облокотившись на станковой «максим». И он видит Ее. В дерзко повязанной косынке, подбоченившуюся, в портупее и с маузером на боку. Такой он видел Ее в последний раз. Такой он запомнил Ее навсегда. Он спит, а на его лице блуждает умиротворенная улыбка.
Едва блеклое зимнее солнце появилось над Сеной, фанерная дверь сотряслась от настойчивого стука. Консьерж имел недвусмысленные инструкции от месье Жоффруа: взыскать долг или выкинуть нерадивого жильца на улицу – армия парижских клошаров с радостью примет новобранца.
Когда на стук никто не ответил, консьерж отпер дверь хозяйским ключом. Тело пожилого эмигранта к тому моменту уже окоченело. Консьерж сердито фыркнул – полдня теперь на это уйдет, одна морока с этими беженцами, да и ни единого су в этом убожестве не найдется. Рукопись, разметанную ветром из открывшейся форточки, он, мельком проглядев, выбросил в мусорное ведро – ничего не поймешь, кириллические закорючки, похожие на иероглифы, наверняка какой-нибудь эмигрантский бред. «Все эти неудачники и голодранцы, вышвырнутые из своей страны, мнят себя великими писателями», – с недовольством подумал он.
Одинокого эмигранта похоронили за счет муниципалитета на участке для бедных столичного кладбища Пер-Лашез. На похороны никто не пришел, да и не знал о них никто, кроме двух могильщиков и муниципального чиновника. На дешевеньком стандартном надгробии без фото поместили его странное для уха галла имя, указанное в нансеновском паспорте, найденном во внутреннем кармане его истрепанного пиджака – «Нестор Иванович Махненко».
Октябрь 2016
Блокада
Уже больше года Город медленно издыхал в глухих объятиях тотальной войны. Лязгая гусеницами, завывая свистящими снарядами и заставляя вздрагивать от щелчков затворов, она подползла к ощетинившемуся Городу и замерла на дальних окраинах как удав, ожидающий, когда воля к сопротивлению покинет его жертву.
Утонченная культура, эталонным воплощением которой считались жители Города, по капле вытекала, выветривалась из них. То, что издалека называли подвигом, вблизи было гнетущим, смрадным гниением, изнутри поражавшим всех и каждого. Когда-то форпост цивилизации в краю медвежьей дремучести. Казалось, ничто не в состоянии поколебать укорененные в веках устои, столетиями служившие фундаментом для огромной империи. Но все это оказалось лишь тоненьким слоем, налетом, разом смытым бурным потоком обстоятельств, одетых в гимнастерку защитного цвета с бурыми, покрытыми коростой пятнами. Для многих горожан, цеплявшихся за отошедшие в прошлое представления о человечности, в попытках, чаще всего бесполезных, сохранить огонек внутреннего маяка, это было неприятным, болезненным открытием.
Из-под давно знакомых лиц, сползавших словно маски, многие из которых несли на себе глубокую печать воспитания и образования, вылезали звериные оскалы. Впрочем, те, кто был наклонен к рефлексиям, вымерли первыми. У выживших же оголились инстинкты, казалось, много поколений назад отмершие за ненадобностью, кожа загрубела и превратилась в толстую шкуру, а все чувственные переживания сперва спрятались глубоко внутри в тугом стянутом клубке, а после были выдавлены и оттуда, сконцентрировавшись на кончиках клыков. В коллективном сознании горожан айсбергом всплыл архетип. Выживание – охота за едой и дровами – стало тем смыслом, что целиком заместил все иные.
И если внешне прохожие на улицах изменились не так уж и сильно – истрепалась лишь одежда, вялыми стали движения и походка, резко очертились скулы и запали щеки, то внутри очень многие из тех, кто еще недавно гордился манерами, университетским образованием и научной степенью, переродились полностью. Их дома превратились в пещеры, где победу праздновал вырвавшийся из многовекового забвения на самом донышке сознания неандерталец с каменным топором. Те, кто не смог или сознательно не захотел выпустить своего внутреннего дикаря на свободу, уже исчезли с улиц и неумолимо превращались в бесплотные тени, иссыхающие в промерзлых, темных углах.
За насквозь промерзшим окном, заклеенным крест-накрест, разрывался репродуктор, висящий на фонарном столбе. Напряженный и торжественный голос диктора, чьи уверенные модуляции изо дня в день поддерживали тлеющие угольки надежды в душах радиослушателей, тонул в свистящих завываниях ледяного ноябрьского ветра, уносившего слова и целые фразы в сторону моря.
В когда-то уютной, обжитой многими поколениями семьи квартире профессора Знаменского было ненамного теплее, чем на заснеженной улице. Сначала в буржуйке сгорели все венские стулья, потом книжные шкафы, затем паркет. Теперь очередь дошла и до книг, громоздившихся покрытыми пылью стопками по углам комнаты, когда-то служившей гостиной, а теперь единственной отапливаемой, а значит, жилой в квартире, заваленной матрасами, одеялами, какими-то тулупами и прочим тряпьем.
Сегодня в огонь ушло полное собрание энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Профессор с равнодушным удивлением ощупывал себя изнутри и не находил ни крошки сожаления. Странно. Он думал, будет больно, эти книги достались ему еще от деда, на них он вырос, но внутри ничего, только звенящая пустота. И немного раздражения – дымили эти увесистые тома изрядно, а вот тепла почти не прибавлялось. Профессор в двух свитерах и надетом поверх домашнем халате, с проседью в давно не стриженной бородке клинышком, когда-то столь модной у людей его звания, и в треснувшем пенсне, устроился в кресле, которое пока берег от ненасытного чрева буржуйки. На пару минут он задремал, свалился в забытьи, не выпуская из рук кочерги, которой ворошил не желавшие гореть толстые кожаные обложки. Краткий, вязкий морок успел отравить затуманенное голодом сознание сном. Привиделась еда. В последний раз поесть удалось еще на той неделе, когда повезло выменять на патефон полбулки сырого непропеченного хлеба и куцый мешочек какой-то крупы, кажется, комбикорма. Когда это было? Четыре, пять дней тому назад? Не важно. Дни слились в единый мутный поток.
За круглым столом, покрытом протершейся скатертью, на колченогом табурете устроилась кутающаяся в шаль супруга профессора. С остановившимся взглядом запавших от недоедания глаз, окруженных сетью глубоких морщин, и жидкими, давно немытыми волосами, забранными в хвост, она казалась восковым манекеном. В блеклом, временами моргающем свете болтавшейся над столом лампы она механически раскладывала пасьянс, в безнадежной попытке ухватиться за привычный ритуал из прошлого, из мирной, а значит, сытой, жизни.
В дверях стояла их дочь, закутанная в фантастический, сшитый из нескольких тулупов наряд, перевязанная платком и с санками в руках. В комнате висело густое, осязаемое напряжение. Эта тяжесть давила на обитателей квартиры и не давала смотреть им друг другу в глаза. Девушка переводила блуждающий взгляд с пламени, глодавшего в приоткрытой печи страницы с ятями, на заиндевевшее окно, потом на груды одежды, сваленные на полу. Наконец она решилась поднять глаза на родителей, скользнула мельком по сгорбившейся фигуре матери и вперила полный упрека взор в отца.
– Вы так и будете сидеть?! – В ее голосе сквозило недоуменное отчаяние. – Мы же должны отвезти Павлика! Одна я не справлюсь.
Павлик умер прошлой ночью. Он просто не проснулся. Вот и сейчас он продолжал лежать на придвинутом к стене матрасе, с головой, укрытой стеганым байковым одеялом. Пережили в тишине. Но скорбь все же смогла пробиться сквозь плотную пелену безразличия, закутавшую в последние месяцы каждого домочадца в собственный кокон. Но к ней примешивалось еще какое-то чувство. С привкусом горечи. Никто из семьи не рискнул бы признаться даже самому себе, что это чувство было завистью.
– Отмучился, – прошептала мать с жалостью и после не произнесла ни слова.
– Что вы молчите?! – Дочь сорвалась на крик.
Отец поднял голову и едва слышно пролепетал срывающимся голосом:
– Мы должны выжить. Любой ценой. Павлик хотел бы этого. Чтобы не зря… Он умер, чтобы мы могли жить.
– В таком случае я не хочу жить. – Голос жены звучал тускло и безразлично. – А я и так не хочу, – добавила она после секундной паузы.
– Это… это нельзя! – Дочь, задыхаясь от гнева, начала заикаться. – Мы… мы превратимся в животных, даже хуже… Как мы будем жить с э-этим?
– Ключевое слово – будем жить! – Отец даже приподнялся в кресле, на что ушли все его силы. – Будем жить, – повторил он с блеском в глазах, – а не умрем. Он бы хотел, чтобы мы выжили, смогли рассказать потом… – Он говорил медленно, чеканя каждое слово, дававшееся ему со все большим трудом.
– Не говори за него! – Дочь взвизгнула. – О чем ты потом рассказывать собрался, о том, что с собственным сыном сделать хочешь?
– Хорошо. – Отец примиряюще поднял ладони. – Давай рассудим логически. Что предлагаешь ты? Тихо умереть от голода и холода, как Покровские за стеной? Ты этого хочешь, да? – В отличие от супруги он еще не утратил волю к жизни и продолжал сопротивляться.
– Я уже говорила. И повторяю в сотый раз. – Дочь говорила медленно и размеренно, будто зачитывая параграф из учебника для начальной школы. – Я предлагаю уйти из Города. К тете в деревню. Там есть еда и дров в избытке. Она нас примет. Как выйти из Города, я знаю.
– Нет! – Отец слабо стукнул кулаком по подоконнику. – Это предательство! Там враг! – Слова у него выходили рубленые, жесткие, с острыми углами. – Да и тетка твоя… – Он сокрушенно покачал головой, явно не одобряя свояченицу.
– Ты не солдат, тебе шестьдесят три года, какое предательство? – В интонациях дочери появились умоляющие нотки. – Мы с мамой – женщины, мы не воюем, и мы идем не к врагу, а к тетке в деревню, у которой картошка в подполе и кадушки с квашеной капустой – помнишь, как ты ее раньше любил? А то, что ты предлагаешь… – Она запнулась, не решаясь произнести вслух и тщательно подбирая слова. – Это не худшее предательство?
На секунду профессор потерял свою уверенность и тут же принялся протирать пенсне, как всегда делал в моменты душевного смятения.
– Но мы же уже… – робко начал он, – кошку…
– Павлик твой сын, а не кошка! – В ее глазах пылало отвращение. – Ты сына с кошкой сравниваешь? И да, то, что ВЫ, – это слово она произнесла с особым нажимом, – сделали с Морковкой, не менее отвратительно. – По ее лицу пробежала короткая судорога, и дочь, всхлипывая, уткнула лицо в ладони. – Не-на-ви-жу, – сквозь рыдания прошипела она.
– Сейчас такие обстоятельства! – Отец выглядел растерянно, но не отступал. – Вот семья дворника…
Дочь отняла руки от заплаканного лица, выставила их перед собой и попятилась назад, пока не уперлась спиной в дверной косяк:
– Не говори мне о них ничего. Это не люди! – Каждое слово было наполнено презрением самой высшей пробы.
– Хорошо. Не будем о них. Но идти на измену родине нельзя! – с нажимом повторил отец.
– Папа… – казалось, эмоции сожрали все ее силы, осталась только бесконечная усталость, – то, что предлагаешь, ты… Мама верно сказала – зачем тогда жить? Ты профессор медицины, у тебя же есть цианид на службе, я знаю! Давайте все вместе…
Мать быстро закивала, мелко трясясь всем телом.
Знаменский переводил взгляд с дочери на жену и обратно. Внутри у него все кипело.
– Молчать! – резко выкрикнул он – Это позор! Дезертирство! По радио сказали…
– По ра-ди-о ска-за-ли! – мерзким издевательским голосочком передразнила его дочь. – Послушай себя со стороны! Твое радио где-то там, а мы здесь! В общем, так, – она решительно уставилась на отца, – у нас есть три варианта. Уйти. Потерять человеческий облик. Умереть. Я за первый обеими руками, готова и на третий, но категорически против второго!
Профессор смерил дочь тяжелым взглядом и замотал головой, беззвучно шевеля губами:
– Нет… Нет… Нет!
– Довольно! – Дочь попыталась топнуть ногой, но звук вышел малоубедительный. – Я ухожу, а ты поступай как хочешь. Мать, ты со мной?
Сидящая за столом с отсутствующим видом женщина, казалось, только очнулась и теперь переводила беспомощный полубезумный взгляд с дочери на мужа. Она открывала рот, но не могла выдавить из себя ни слова, как рыба, выброшенная на берег.
– Если ты выйдешь за порог, – тихо начал профессор, – я прокляну тебя. – Окончание фразы утонуло в оглушительном стуке захлопнутой входной двери. – Ну а ты что сидишь? – Знаменский свирепо уставился на жену. – С кем ты?!
Желание уйти вслед за дочерью шевельнулось внутри. Она хотела этого, честно хотела и очень сильно, но желание не могло прорвать сковывающую пелену безразличия, ему просто не хватало сил. Сделав последнее усилие встать и потерпев неудачу, она равнодушно пожала плечами и, понурившись, вернулась к пасьянсу, так и не сказав ни слова.
– Вот и ладно. – Профессор казался удовлетворенным.
Нагнувшись, он стал шарить под креслом в поисках топорика, взятого в дворницкой, которым в последнее время он рубил мебель. Через полчаса на огне шкварчала сковорода.
Ноябрь 2016
Выбор
Лысеющий господин в ладно сидящем, скрывающем полноту пиджаке английского сукна и с тростью в руках неторопливо прогуливался по мощеной набережной Дуная, забитой ярким светом электрических фонарей. Из кармана у него выглядывала свернутая газета, судя по шрифту заглавия, вероятнее всего, респектабельная «Политика», издающаяся семейством Рибникар. Господин любезно раскланивался с другими, совершавшими ежевечерний ритуал променада перед отходом ко сну земунцами, чьи лица достаточно примелькались ему за год жизни в этом еще недавно австрийском предместье Белграда. Немцы принимали его за хорвата, хорваты – за немца или за мадьяра, а сербы по неуловимым признакам понимали, что перед ними «руски избеглица», и сопровождали ответный кивок радушной улыбкой.
Миновав шумные кафе с гуляющей под залихватское пение тамбурашей публикой и проигнорировав зазывающие огни роскошных ресторанов, он прошел чуть дальше в сторону Гардоша, где фланирующая публика встречалась уже реже, поднялся по переулку вверх и, свернув в едва заметный проулок, зашел в неосвещенную дверь крошечного ресторанчика, где подавали отличное карло-вацкое молодое вино и недурной сыр к нему. Там, в тишине, он рассчитывал внимательно изучить утреннюю «Политику» и набросать в блокноте заметку для одного еженедельного русского издания. Хозяина – старого обходительного серба-пречанина, в зале было не видно, лишь в углу спиной ко входу сидел посетитель, перед которым уже выстроилась батарея опустевших бутылок. Его профиль и характерная армейская выправка показались смутно знакомыми вновь зашедшему гостю.
Обойдя подгулявшего посетителя чуть сбоку, господин журналист уверенно признал в нем своего соседа по каюте на эскадренном миноносце «Дерзкий», который в конце ноября 1920 года уносил их из Севастополя в неизвестность эмиграции. Впрочем, тогда ее еще называли эвакуацией, надеясь на скорое триумфальное возвращение. Случайная встреча его не особенно удивила, даже напротив. Он уже открыл рот для приветствия, как вдруг испуг мелькнул в его глазах.
– Что… что вы задумали? Не смейте! – вырвалось у журналиста при виде того, чем занимается его старый знакомец. Тот методично снаряжал барабан револьвера патронами.
Услышав выкрик, он поднял равнодушный взгляд, чуть затянутый пеленой алкоголя, и, вроде бы узнав вошедшего, вернулся к своему занятию, не произнеся ни слова.
– Штабс-капитан, вы пьяны! – Журналист постарался придать голосу строгость.
– Да. – На этот раз он удостоил нависшего над ним плотного господина ответом. В его голосе не отражалась ни одна эмоция. Он был холоден и пуст. Закончив с патронами, штабс-капитан с характерным щелчком вернул барабан на место, прокрутил его и взвел курок. Тускло блестевший ствол револьвера был уперт в его подбородок.
– Не делайте этого, прошу вас. – Рука полного господина легла на его плечо.
– А в окружении, помню, не возбранялось. Лишь бы не попасть к красным в плен. – Тот, кого назвали штабс-капитаном, был невозмутим и говорил тихим, почти вкрадчивым голосом.
– Вы не в окружении, – прошептал журналист, не убирая руки.
– Да? – Штабс-капитан, казалось, искренне удивился и даже положил револьвер на салфетку. – А у меня ощущение хуже, чем под Новороссийском в январе двадцатого, когда «товарищи» прижали нас к морю и наша рота чудом успела погрузиться на транспорт. – На виске у него проступила бьющаяся синяя жилка. – А в ноябре уже из Крыма мы уходили за море с Врангелем в надежде на весенний поход. Помните? – Он испытующе поднял глаза на своего визави. – Тогда мы были армией. А кто мы теперь? Таксисты? Дорожные рабочие? Да сядьте вы уже, Константин Петрович! – Он досадливо стряхнул руку с плеча и кивком указал на стул напротив.
Константин Петрович послушно расположился на указанном ему месте, ни на миг не выпуская из поля зрения револьвер, лежащий перед штабс-капитаном на столе.
– Погоны прапорщика мне, юнкеру, в Новочеркасске вручал сам полковник Дроздовский. – Его голос наполнился ностальгией и болью, переполнявшие его воспоминания потекли вместе со скупыми слезинками, скатившимися по щекам. – И вот в них, с вензелем «Д» на малиновой ткани, в плен попадать было никак нельзя. Красные прибивали их гвоздями к плечам. Впрочем, и мы особо не церемонились с их комиссарами, платили им той же монетой… – Он уронил голову на грудь и после минутной паузы продолжил, с прищуром глянув на собеседника: – Вы читали Ницше, Константин Петрович?
Тот медленно кивнул.
– Так вот, там, под Каховкой, Екатеринбургом, на Дону и в Царицыне и даже в самом конце, на Перекопе, я ощущал себя der Übermensch. Мы все себя так ощущали. Мы были бессмертны, сливаясь в единый живой организм, беспощадно разивший врага, – Первый офицерский полк. Красные, махновцы и вся прочая сволочь трепетали, завидев малиновые фуражки, а мы питались их страхом, он придавал нам сил…
Штабс-капитан вновь погрузился в молчание. Спустя пару мгновений он передернул плечами, будто сбрасывая оцепенение, и достал помятый конверт из внутреннего кармана потрепанного пиджака.
– Вот, читайте. – Он положил конверт перед Константином Петровичем и пояснил: – Получил письмо из Парижа. От однополчанина. Бывшего полковника Генерального штаба. Да, да, бывшего! Потому что теперь он таксист… Знаете, как называют их в Париже? «Жоржики»! Так зачем, Константин Петрович, зачем? Чтобы стать «жоржиком», после того как ты был бессмертным дроздовцем? Это равносильно тому, чтобы сдаться в плен, уступить врагу и даже еще хуже. – Он сник, будто механическая игрушка, у которой кончается завод, и едва слышно продолжил: – В чем смысл? Армия распущена, ее больше нет, мы даже не можем больше носить нашу форму и наши награды… Похода на Москву не будет. И что остается? – Он вперил жесткий, колючий, вмиг прояснившийся взор в журналиста и с нажимом повторил: – Я вас спрашиваю: что? Жить прошлым, воспоминаниями о былом? Зачем нужно прошлое без надежды воплотить его чаяния в будущем? Вы просите меня не делать э-то-го. – Он пренебрежительно указал подбородком на револьвер. – Так потрудитесь ответить мне в таком случае.
Константин Петрович вынул из кармана портсигар и, раскрыв его, достал две папиросы.
– Курите, Андрей Валентинович, табак местный, но сносный. – Он протянул одну собеседнику и запалил спичку.
Штабс-капитан, поблагодарив кивком, взял предложенную папиросу и, вставив ее в зубы, потянулся к огню. Оба закурили, разом окутав зал клубами едкого дыма.
– Андрей Валентинович, вы боевой русский офицер. Христов воин. Жизнь бесценна, и вы не вправе сами решать, когда вам умереть. К тому же это слабость, может быть, даже хуже дезертирства с поля боя…
– Константин Петрович, – резко остановил того взмахом руки штабс-капитан, – я живу по бусидо. Честь и верность – суть жизни самурая. А сама жизнь не стоит ничего. В русско-японскую кампанию пленные самураи при первой же возможности убивали себя. Покойный батюшка рассказывал. И это не было ни слабостью, ни дезертирством. Наоборот. Слабостью бы было для них терпеть плен, задевающий их гордость и честь.
Журналист задавил окурок в пепельнице и пристально, оценивающе окинул взглядом подпившего дроздовца. Тому было не больше тридцати, но виски уже серебрила седина, а на лице пролегли жесткие, непреклонные морщины.
– Хорошо, попробуем зайти с другой стороны. – Константин Петрович откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. – Вы потеряли смысл и лихорадочно ищете его, но не находите. Эта болезнь поразила множество наших с вами товарищей, оказавшихся на чужбине. Особенно военных. – Он замолк, будто бы принимая какое-то трудное решение. Внезапно он подался вперед, практически коснувшись стола массивной грудью, и с азартным блеском в глазах спросил: – А что, если я помогу найти вам новый смысл, достойную цель, которой можно служить… Что скажете, Андрей Валентинович?
Зрачки штабс-капитана сузились, в краешке рта притаилась циничная усмешка.
– Антанта? Немцы? Поляки? Местная тайная полиция?
– А между ними есть разница? – Журналист испытующе вперился в собеседника и добавил: – Для вас конечно же.
– Ответьте, Константин Петрович. – Вкрадчивость тона едва прикрывала угрозу.
– Ни одни из них. Я предлагаю вам продолжить службу. – После секундного колебания он твердо закончил мысль: – Своей стране.
– Как генерал Слащев? – Напускная ироничность тона штабс-капитана искрилась неприкрытой угрозой, а пальцы сомкнулись на рукоятке револьвера. – Не ожидал от вас, Константин Петрович, не ожидал. От кого угодно, но не от вас. Вы – одно из самых блестящих перьев Белого движения, мы читали ваши статьи на фронте вслух, а это дорогого стоит, знаете ли. Большую часть наших газет мы использовали на самокрутки и иные надобности, большего они не заслуживали, и теперь вдруг вы и Чека? – Эти буквы он выговорил с откровенным презрением.
– Не Чека, Андрей Валентинович, а Россия. – Журналист, казалось, не замечал побелевших костяшек стиснувшего револьвер штабс-капитана.
– Я бы мог застрелить вас прямо здесь только за то, что вы посчитали возможным начать со мной подобный разговор. Или сдать в нашу контрразведку, она, слава богу, еще жива и активно действует, в отличие от всей армии. Слышали про генерала Покровского и его молодцов-ингушей? На их счету множество симпатизантов Советов, агитировавших за возвращение под власть «товарищей» и здесь, в королевстве, и в Болгарии. – Он пристально искал следы страха на лице журналиста и не находил их. – А может, и вы, Константин Петрович, провокатируете меня по заданию контрразведки? Ну и как, прошел я проверку? – Короткий смешок лишь добавил ему жесткости.
– Цепным псом и провокатором никогда не был и не буду, Андрей Валентинович, и револьвер в вашей руке совсем недостаточное основание, чтобы оскорблять меня. – Полный господин хоть и был насквозь гражданским, но не выказал и каплю страха, а голос не выдал ничего, кроме уверенности в себе. – Возвращаться я вас ни в коем случае не призываю. Я предлагаю вам служить интересам тысячелетней России здесь, в Европе. К большевикам я симпатией не проникся, отнюдь. Но они преходящи, а Россия вечна. Что же касается вашего желания застрелить меня, то напомню, что еще пять минут назад вы хотели стрелять себе в голову. – Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к грозящей опасности.
– Верно… – Штабс-капитан рассмеялся и оттолкнул револьвер. – Верно, Константин Петрович. А вы сбили мне весь настрой.
– Сбил? – Брови журналиста вопросительно приподнялись. – Отрадно слышать, значит, одной своей цели я уже добился.
– Пытаетесь обратить свое предложение в своеобразную шутку? – Штабс-капитан криво усмехнулся. – Пожалуй, я многое забуду к утру, но навряд ли забуду ваши слова…
– В таком случае, Андрей Валентинович, позвольте напомнить вам еще одни слова, которые произнес как раз помянутый вами генерал Слащев, надеюсь, и они останутся у вас в памяти. – Он зашелестел страницами блокнота и, обнаружив искомую запись, с легким налетом пафоса в голосе зачитал вслух: – «Красные – мои враги, но они сделали главное мое дело – возродили великую Россию! А как они ее назвали – мне на это плевать!» – Захлопнув блокнот, журналист продолжил: – Господь сохранил вам жизнь в огне братоубийственной войны. Это значит, что ваше предназначение, а оно, очевидно, связано с Россией, еще не исполнено. Вы уже отдали жизнь родине, Андрей Валентинович. Такова ваша судьба, вы принадлежите ей. Вот вы говорите – бусидо, самураи, в окружении можно… Слышали, в прошлом месяце в Белграде отпевали поручика С.? Корниловец. Он себе из «парабеллума» полголовы снес. Сам митрополит Анастасий разрешил отпеть, мол, в 1919 году в окружении грехом это не считалось, а поручику здесь хуже, чем тогда в окружении было. Это, кстати, довод на вашу чашу весов. Так вот. Я отвечу вам, что наша случайная встреча – это промысел Творца, я указал вам путь выхода из окружения, а значит, вы уже не в кольце врагов. Неужели вы готовы сдаться и вам не интересно посмотреть, что будет дальше? Не будет ли именно это уступкой извечному врагу и его торжество над вами?
– Судьба, говорите? – усмехнулся штабс-капитан. – Ну пусть тогда она и решает! – Он хлопнул рукой по столу. – Решено! Орел – стреляюсь немедленно. Решка – поступаю на службу к вашим державным большевикам, будь они прокляты. – На ладони у него лежал истертый серебряный гривенник, старой, еще довоенной, чеканки. Неуловимое движение руки – и монета, кувыркаясь, ловко взлетела в воздух. В зените полета штабс-капитан резко поймал кругляш в кулак и тут же распластал на тыльной стороне левой руки, прикрыв ладонью правой. – Вне зависимости от результата благодарю вас, Константин Петрович, на миг я снова почувствовал себя так же, как в цепи под огнем красных. – В его зрачках плясали бесенята. По лицу его собеседника стекали капли пота. Впервые с начала разговора ему стало по-настоящему страшно.
– Вы просто адреналиновый наркоман, Андрей Валентинович, – с трудом владея языком от давившего напряжения, выдавил журналист. – Ну же, не томите! Что там у вас выпало?
– Не торопите, Константин Петрович. Дайте минуту. Я хочу прочувствовать этот миг. Давно не ощущал себя живым. – Его лицо парадоксальным образом приобрело самое умиротворенное выражение. – Я сейчас будто вышел из мира теней. – Он прикрыл глаза и расплылся в улыбке. – В сущности, результат не важен. Хоть и интересен. – Глубоко вздохнув и с шумом выпустив воздух из легких, он с наигранной веселостью воскликнул: – Ну что же, Константин Петрович, смотрите, что там судьба решила.
Отвернув голову в сторону, штабс-капитан медленно отнял руку и подставил монету под неровный свет лампы.
Декабрь 2016
Рефлексы
Батарея теплая, хорошо около нее лежать, свернувшись калачиком. Только этот яркий свет… Спать… Спать… Сомлел. Из липких объятий сна вырвал резкий стук и окрик: «Ну-ка, не спать!» Почему не спать? Непонятно. Видел во сне колбасу. И маленькую девочку с косичками и бантиками. Она держала в руках колбасу. Яростно трется спиной о стену, поскуливая от укусов – как же достали эти блохи, никакого житья от них нет! А голову обрили. Вот зачем обрили? Дует из всех щелей, мороз на улице, вьюга завывает, голова мерзнет теперь. Урчит в животе. Крутит. Есть, есть, как же хочется поесть! Вроде бы уже скоро… Да, скоро… Вот! Еда, еда! Запахло едой. Ноздри затрепетали, с шумом втянул воздух. Да, да, сейчас будут кормить. Резкий продолжительный звонок. Точно, кормить будут! Рот наполнился слюной. Она закапала на скрипучие крашеные половицы. Заскрипели, заскрежетали друг об друга немногие оставшиеся осколки зубов. Миска теплого – почти горячего сегодня! Варева! Да-а. И даже кусочки мяса попадаются. Кожа. Косточки. Их в последнюю очередь обсосать и обгладать. Миску вылизать до блеска и обратно на место, на подушку у батареи. Хорошо, тепло, сыто. Приятная тяжесть. Но урчит. Урчит где-то в животе, в кишках. Давит. Побежал в дальний угол, там можно…
Ба-бах! Удар сапогом в дверь снаружи.
– Что за вонь?! – Загрохотали задвижки. – Нет, ты посмотри, эта тварь опять нагадила на пол! – неприкрытое отвращение к скорчившемуся у батареи существу написано на лице. – Осужденный, доклад!
Июнь 2016
Пятидневка
Резкий, искусственный свет. Стойкий запах хлорки. Вялые комнатные цветы в салатовых горшках, развешанные на невнятно-желтоватых стенах. Сверху с портрета на одинаково подстриженных «в кружок» возящихся на полу детсадовцев ласково щурится Ильич. Нет обычного визга и гвалта. В палате тяжелая, густая тишина. Аляповатые рубашечки с шортиками на бретельках у мальчиков и платьюшки такой же нелепой расцветки у девочек. У всех нашита аппликация, у каждого своя – розовый слон, фиолетовый бегемот, белая сова. Такие же зверюшки нарисованы на их шкафчиках в коридоре и на их горшках. Не перепутаешь.
Кто-то из детей играет в кубики, кто-то лепит, кто-то рисует, но все это безмолвно. Изредка один наклонится к другому и что-то прошепчет одними губами. Все они словно обернуты в вату. А их лица серьезны и сосредоточенны, скорее надетые маски, а не живые физиономии. Нет гримас, ужимок, ухмылок, казалось бы обязательных в подобных заведениях.
Вася, как обычно, стоит у окна и смотрит на кружащиеся за стеклом в утреннем сумраке снежинки. Левой рукой он накручивает на палец вьющиеся темные волосы, он всегда так делает, когда думает. Тихий, задумчивый мальчик. В голове у него крутится одна и та же мысль: «Как же надоела эта пятидневка!..» Друзей в группе у него нет (не считать же другом девчонку!), а сам он, даже в сравнении с другими, очень молчалив и задумчив. Казалось, он путешествует где-то внутри себя, выныривая в окружающий мир лишь после очередного окрика воспитательницы: «Хватит витать в облаках!» В кармане он теребил игрушечного мышонка, краска на котором практически облупилась. Мама с папой подарили его перед своей проклятой командировкой, на время которой отдали Васю на эту пятидневку. Вот мышонок и был его единственным другом, с которым он только и общался. Нет, ну была еще Машка, но она-то, конечно, не в счет.
Незаметно подошло время обеда. Сегодня молочный суп. С пенками. Тот самый, который Вася терпеть не может. Его тошнило не то что от запаха, но даже от мысли, что надо положить ложку с этим в рот, а потом проглотить. Надо запихнуть в рот побольше хлеба, перебить вкус супа, чтобы не вырвало прямо в тарелку. Оттянуть этот миг, подуть на ложку, вылить обратно и снова зачерпнуть. Но за спиной стоит воспитательница и подгоняет его: «Доедаем до конца! Быстрее! Повар для вас готовил! Кто не успеет, тому первое положим во второе!» Доедал Вася слипшиеся комки переваренных макарон, плававших в тарелке с молоком, уже на мойке, стоя. Рядом бурчала посудомойка, она же по совместительству повар баба Люба: «Посмотрите, какие баре, суп им наш не нравится! В Африке дети голодают, капиталисты американские на них муху цеце наслали и голод, в который уже раз! Одно слово – буржуи! А наши дети от тарелки вкусного супу нос воротят…» Большая, даже необъятная и такая же шумная, бубнить она могла бесконечно, мастерски вплетая в поток своего сознания вчерашний выпуск программы «Время».
Вася закрыл глаза. Монотонная речь бабы Любы слилась в назойливый гул. Через силу глотая холодное варево, он ощутил, как внутри живота сперва сплелся, а потом взорвался тугой комок. В голове суматошно бился, пытаясь вырваться, пронзительный вопль: «Не хочу!»
Это была тихая истерика, без слез, без крика. Просто волна злобы на все окружающее накрыла его изнутри. И тут он понял, что наконец решился. Две недели назад на прогулке Машка, она полная его противоположность, предложила ему попробовать. Тогда он испугался, убежал и три дня даже не подходил к ней.
«Помнишь, ты говорила, давай попробуем». Вася, воровато оглядываясь, склонился над Машкиным ухом и, прикрывая рот ладошкой, шептал: «Я согласен». Маша молча сжала его руку и едва слышно, одними губами ответила: «Тогда сегодня ночью. Не засыпай. Лежи тихо, я скажу когда».
Дети проснулись от далекого воя сирены, лая собак и серии хлопков. Прибежала растрепанная и напуганная воспитательница в белом халате, наспех накинутом поверх ночнушки:
– Спите, маленькие, спите. Это ничего, это охотники… – Растерянность, мелькавшая в ее глазах и звучавшая в голосе, была в новинку для всех детсадовцев, раньше она казалась им сделанной изо льда.
Наутро дети увидели две пустые кровати. Васю привели к завтраку, а Маша так и не появилась. Вася весь помятый, всклокоченный, затравленно озирался под пристальным взглядом воспитательницы. Украдкой косились на него с испугом пополам с интересом на лицах и другие воспитанники пятидневной группы, отвлекаясь от утреннего ритуала размазывания унылой манной каши по стенкам тарелки.
– Дети, внимание! – От резкого тона воспитательницы все вздрогнули, казалось, в ней не осталось и тени смущения и неуверенности, что бросились в глаза детсадовцам ночью. Все утро она была строже обычного и совсем загоняла их. – Поприветствуйте Васю.
– Здра-авству-уй, Ва-ася! – прогнусавил нестройный хор.
– Дети, а где Маша? – зазвенели стальные властные нотки дрессировщика.
– Ма-а-ша в больни-ичке-е, – заученно протянули дети.
Воспитательница подняла глаза на Васю. У него по спине пробежали мурашки, ее тяжелый взгляд он чувствовал кожей и буквально цепенел, как мышонок перед удавом.
– Вася. Ты понял. Где Маша? – произнесла она буквально по слогам. Повтори!
Глотая слезы, Вася мямлил:
– Она… она…
– Ну! – хлестнул резкий оклик.
– Онавбольничке! – скороговоркой выплюнул он срывающимся голосом и разрыдался.
Массивный ЗИЛ уверенно двигался по укатанному зимнику, выхватывая из темноты светом мощных фар армейский уазик сопровождения, ехавший впереди. На заднем сиденье, задумчиво затягиваясь ароматной, явно заграничной сигаретой, сидел массивный, представительный мужчина лет пятидесяти с волевым, решительным подбородком опытного аппаратного волка. Затушив окурок, он глубоко вздохнул, зажег в салоне лампочку («Черт бы побрал эту полярную ночь!») и раскрыл лежавшую у него на коленях папку со строгой надписью на обложке: «Совершенно секретно». И чуть ниже шрифтом помельче: «Комитет партийного контроля».
Пошелестев бумагами, он выудил одну, судя по дате, это был наиболее свежий отчет с объекта «Гамма» (так в ЦК в обиходе именовали секретный НИИ им. Макаренко), где произошло ЧП, из-за которого ему пришлось срочно вылетать сюда, за полярный круг. Надев очки в массивной оправе, он поднес документ поближе к глазам, неуверенный свет лампочки с трудом позволял прочесть третью копию, многие литеры, набранные на печатной машинке, вообще не пропечатались сквозь два листа копирки:
«Разработка темы «Механическое исключение из коллектива как мера поддержания саморегулирующей дисциплины».
Суть лабораторного эксперимента: подопытные регулярно (иногда с нашей подачи) объявляют бойкот и делают изгоем кого-то, кто своим поведением начинает существенно отличаться от коллектива, и возвращают его в круг доверия после коррекции и ликвидации признаков инаковости через публичное признание своих ошибок как вины перед всем коллективом.
Внедрение наработок на практике: этот эксперимент позволил выработать новые, более эффективные вводные к построению и функционированию первичных ячеек в комсомоле и пионерской организации».
Хмыкнув, чиновник пролистал еще несколько страниц и остановился на документе с заголовком «Внутренняя инструкция для сотрудников Объекта, участвующих в эксперименте». Не читая все, он по аппаратной привычке выхватывал заголовки разделов и начало абзацев.
«Методы. Введение в группе подопытных строгих правил, иногда на первый взгляд абсурдных, и требование не только их исполнения, но и искреннего принятия и одобрения. Резкое изменение этих правил и вновь требование реакции одобрения». Так, ясно, перебежал глазами к следующей главке. «Цели. Развитие самокритики и самонаказаний. Повышение уровня взаимного контроля». Дальше. «Практикум. Подопытные обязаны сообщать куратору проекта о своих и чужих словах, мыслях, даже снах, выходящих за очерченные рамки допустимого. Резкое изменение этих рамок и отработка автоматической перестройки алгоритмов поведения у подопытных».
От чтения оторвало резкое торможение автомобиля. Впереди ворота и КПП. «Доехали наконец-то. Объект», – пронеслось в голове у чиновника. Ворота открылись, и ЗИЛ, миновав периметр, выехал на территорию, где дорога тянулась между однообразных грязно-серых кубических зданий. Машины остановились возле самого дальнего. У дверей, поеживаясь от холода, переминалась с ноги на ногу небольшая группа встречающих. Выбравшись из салона, мужчина пристально мерил их своим взглядом и поставленным, не терпящим возражений голосом представился:
– Иван Никодимович Павлов. – На секунду умолк и со значением добавил: – Из Главка.
Не слушая раздавшиеся в ответ слащаво-приторные приветствия и игнорируя робко протянутые для рукопожатия ладони, он энергичной походкой взбежал на ступеньки и вошел внутрь здания, остальные, втягивая голову в плечи, подтянулись за ним.
Устроившись в кабинете директора, ревизор из Главка принялся по одному вызывать и опрашивать руководителей объекта «Гамма».
– Что у вас тут происходит? Распустили персонал! – гремел из-за двери голос Павлова.
Приоткрыв дверь изнутри, в щелку выскользнул тенью из своего же кабинета лысеющий директор в плохо сшитом и не по размеру подобранном костюме «Большевичка», с коротковатыми брюками, обнажавшими резинки носков и узкую полоску волосатой ноги. Утирая рукавом пот со лба, он дрожащим голосом обратился к женщине, с прямой как струна спиной и волосами, забранными в пучок, сидевшей на крайнем к двери стуле:
– Наталья Петровна, вас просит.
Женщина молча кивнула, взяла в руку лежавший у нее на коленях кожаный портфель и с бесстрастным лицом вошла внутрь. Столичный чиновник в свете настольной лампы изучал ее личное дело. Глаз от бумаг не оторвал и сесть не предложил. Спустя пару минут он поднял голову и тихим усталым голосом произнес:
– Садитесь, товарищ Романенко. Правильно я понимаю, что вы находитесь в непосредственном контакте с подопытными?
Женщина утвердительно кивнула:
– Да, товарищ Павлов. Я веду эту часть эксперимента с самого начала. Уже одиннадцать лет. Контингент считает меня своей воспитательницей.
Волнуется. Голос подрагивает. Это хорошо, – отметил про себя Павлов.
– Наталья Петровна… – Тон его стал проникновенным, немного усталым, он на секунду замолк, помассировал пальцами виски и продолжил: – Расскажите, как это произошло.
Та суетливо расстегнула портфель, достала папку и, раскрыв, начала:
– Это доклад начальника караула, заступавшего на охрану периметра в ту ночь. Он пишет… – пояснила она и хорошо поставленным голосом принялась зачитывать: – «Двое неопознанных, впоследствии оказавшихся испытуемыми из экспериментального блока № 8, перелезли забор внутреннего периметра и задели на контрольно-следовой полосе свето-шумовую растяжку. Охрана, приняв их за вражеских диверсантов, пытающихся проникнуть на Объект, открыла огонь на поражение. Испытуемый под номером четырнадцать женского пола погиб, испытуемый под номером двадцать два мужского пола был задержан без повреждений и возвращен в свой блок».
Павлов взмахом руки остановил ее:
– Наталья Петровна, расскажите мне о вашем эксперименте, документы я и сам могу почитать. Я к вам приехал, чтобы, так сказать, на месте познакомиться с ситуацией, коллективом, изучить обстановку, ну, по итогам рекомендовать Центру пути решения вопроса. М-да. Кашу вы тут заварили! ЧП на уровне ЦК обсуждают. – При этом он поднял указательный палец вверх. – Давайте с самого начала, в дороге я ознакомился с историей вопроса, но мне важны живые впечатления. Вы же в проекте с самого его начала, да? Вот и расскажите, помогите мне собрать цельную картину. – Он говорил тихо, почти шепотом, взглядом цепко удерживая собеседника.
Наталья Петровна поправила выбивавшуюся прядь волос, спросила разрешения и налила себе стакан воды из графина, который тут же наполовину осушила жадными мелкими глотками. Наконец собравшись с силами, она начала:
– Одиннадцать лет назад в ходе аварии на реакторе погибла командированная туда из Ленинграда группа сотрудников НИИ Атомашспецстроя. Дети сотрудников на время их командировки оставались в ведомственном детском саду. Так как авария была засекречена, то было объявлено, что группа ученых НИИ трагически погибла на экскурсии вместе с семьями, когда их «Икарус» упал с серпантина в Абхазии. Таким образом, дети формально оказались мертвы и были переданы нам для участия в экспериментальном проекте, первоначально рассчитанном на два года, но впоследствии, в связи с выявленной особой государственной важностью данного направления исследований, продленного на неопределенный срок. Задача перед нами была поставлена следующая. Развивать профессионально-технические навыки, полностью затормаживая социальные инстинкты на детском уровне. По сути, эксперимент начинался как социально-психологическая лаборатория в рамках программы по воспитанию Homo soveticus. Наши научные противники, правда, в штыки встретившие эксперимент, назвали его «отработкой методов инфантилизации населения», и это было еще самое мягкое определение. Но нам удалось изобличить этих буржуазных доктринеров, замаскировавшихся под советских ученых, сорвать с них маски и вычистить из нашего НИИ. Детям на тот момент было три-четыре года, и восприятие времени у них было очень растяжимо – мы перевезли их сюда, на север. В общем, в их сознании сейчас до сих пор декабрь 1976 года, хотя этой даты они и не знают. Мы искусственно тормозим некоторые аспекты их развития, одновременно с этим формируя другие направления. Так, у них потрясающие успехи в пении и игре на музыкальных инструментах —
«Мелодия» выпустила уже четыре пластинки под видом творчества пионеров братских стран. Не хуже успехи в лепке и рисовании – в Москве прошла с большим успехом выставка достижений юных талантов с Дальнего Востока. Большие успехи в гимнастике, но на физразвитие мы особо не налегаем по совету Главка.
Наталья Петровна кивнула в сторону Ивана Никодимовича, который будто про себя пробормотал:
– Да, этой проблемой занимаются на другом Объекте, подведомственном управлению спорта. Но что-то там не особо продвинулись, судя по достижениям на последней Олимпиаде, но это не наша головная боль… Я отвлекся, Наталья Петровна. Продолжайте. – Перед ним лежал блокнот, в который он что-то быстро записывал карандашом, обводил кружочками и соединял стрелочками.
Наталья Петровна отпила еще воды и уже более спокойно продолжила:
– Наши результаты, полученные экспериментально, подтверждают теоретические гипотезы нашего НИИ, гласящие, что депривация избыточных в коммунистическом обществе навыков, развившихся в условиях каждодневной борьбы за выживание в буржуазном обществе, во-первых, возможна, а во-вторых, вызывает взрывной рост созидательного потенциала. Это открывает перед нами наши неограниченные возможности по отбору и селекции необходимых коммунистическому человеку способностей. Наши советские космонавты, спортсмены, артисты, военные, воспитанные с детства по строго научным методикам, в разы превзойдут своих капиталистических конкурентов…
– Наталья Петровна, – резко оборвал женщину проверяющий, даже чуть привстав в кресле. Он знал, какое подавляющее впечатление это производит на собеседников рангом ниже. – Вы не на партсобрании. Не надо митинговщины. Конечные цели нам, – он подчеркнул это множественное число, – хорошо известны, мы же их и формулируем. Меня интересует кон-кре-тика. Детали.
Испытуемым уже по четырнадцать – пятнадцать лет, но себя они продолжают считать трех– и четырехлетними? Есть какие-нибудь проблемы, сложности в связи с этим? Как обстоит дело, например, с… кхм… взаимным влечением?
Сглотнув, женщина коротко кивнула и принялась деловито излагать:
– Они временами пробуют играть «в доктора» друг с другом, но мы жестко это пресекаем. Они все время под наблюдением. Думаю, что подавление этих функций также компенсируется успехами в творчестве, а следовательно, при экстраполяции результатов эксперимента на все общество позволит стимулировать производственные возможности, мобилизовать скрытые резервы у трудящихся, тратящиеся сегодня на ложные цели. Да и одежда испытуемых не притягивает и не располагает к подобного вида влечению. Про роль одежды в обществе мы подготовили отдельное исследование…
– Да, Наталья Петровна, вашу монографию про влияние внешнего вида на поведение индивидуума мы изучили и оценили по достоинству. Госплан уже второй год формирует заказ текстильной промышленности, исходя из ваших выводов. Удивительно, как шапки «петушок» и мужские брюки короче всего на пару сантиметров влияют на снижение агрессии в обществе и повышение его управляемости. Да, продолжайте, прошу вас.
Наталья Петровна почувствовала уверенность, ее голос зазвучал более напористо.
– У испытуемых практически отсутствуют собственнические инстинкты. Собственных у них лишь горшок и одежда, впрочем, они у всех одинаковые. Они даже с трудом понимают, что значит «мое». Это к слову о формировании психологии индивидуума через изменение речевого аппарата. Так, в сознании испытуемых «мое» замещено на «у меня». То есть не «мои краски», а «те краски, что сейчас у меня, общие краски, которыми я лишь временно пользуюсь».
– Любопытно, любопытно. – Иван Никодимович выглядел по-настоящему заинтересованным и что-то быстро записал в блокнот. – А насколько далеко продвинулись работы по деперсонализации?
– Они регулярно меняются именами, – быстро ответила Наталья Петровна, к этому вопросу она была готова, зная, какое внимание ему уделяет Главк. Например, испытуемая номер четырнадцать последние шесть месяцев была Машей. Кстати, как свидетельствует анализ ее рисунков, она регулярно писала свое изначальное имя – она из тех немногих детей, кто имел зачатки грамотности и не потерял их. На вопрос «Что это?» отвечала, что так называла ее мама. Подавляющее большинство же детей забыли свои имена и пользуются исключительно присвоенными временными.
Иван Никодимович нахмурился, снова что-то записал в блокнот и подчеркнул тремя чертами.
– Давайте поподробнее об этой номер четырнадцать.
Наталья Петровна вновь открыла портфель и положила на стол папку:
– Вот ее личное дело. Сейчас наша лаборатория анализирует все ее показатели и сравнивает с показателями остальных. Уже удалось наметить некоторые тенденции, которые позволят нам в будущем на ранней стадии выявлять универсальные асоциальные признаки и помещать носителей под более плотный контроль. И не только в рамках этого эксперимента, но и в масштабе всего общества. – Одновременно с этим Наталья Петровна спустила висевший на стене экран и зарядила катушку с пленкой в стоящий на столе директора проектор. – Вам будет любопытно… – Она нажала «пуск», потушила свет и, развернув стул, села лицом к экрану.
Забегали первые засвеченные кадры, потом появились заглавные титры с указанием участников эксперимента. Голос диктора зачитал их.
– Проектор со звуком! – изумился Иван Никодимович.
– Отечественная разработка, – с нотками гордости за оснащение родного НИИ подтвердила Наталья Петровна.
На экране за детским столиком, примерно положив руки на стол, сидели два мальчика и две девочки лет восьми-девяти, у одной косички и бант, а у другой мелкие кудряшки, во главе стола важно расположилась, глядя прямо в объектив, Наталья Петровна. Тот же пучок, то же отсутствие макияжа. Может, лишь в уголках карих глаз еще не пролегли мелкие морщинки.
– Это запись шестилетней давности, – подсказала она. Иван Никодимович кивнул в ответ. Тем временем на экране воспитательница показывала детям шарик белого цвета и певуче тянула: – Дети, взгляните на этот че-е-ерный шарик.
Дети привстают на стульчиках, вытягивают шейки. И лишь у одной девочки с кудряшками, с очень сосредоточенным видом разглядывающей шарик, на лице написано недоумение. После этого воспитательница демонстрирует шарик каждому ребенку по очереди и так же нараспев задает вопрос: «Какого цвета этот ша-а-арик?»
Трое детей, чуть помедлив, отвечают «черный» и только девочка с кудряшками уверенно, резко, с протестом и вызовом выкрикивает: «Он белый!»
– Это и есть испытуемая номер четырнадцать, – прокомментировала Наталья Петровна. – На тот момент она была еще Таней.
На экране же ее более молодая копия вопрошала вроде бы шутливо и, возможно, даже ласково: «Все детишки сказали, что шарик черный, а ты твердишь, что он не черный. Ты что же, себя самой умной считаешь, Танечка? А все остальные дурачки, да?»
«Шарик белый!» – продолжает упорствовать девочка.
«Таня, почему ты споришь со мной, с коллективом? – Напускная ласка мигом испарилась. – Ты противопоставляешь себя своим товарищам, это неправильно. Коллектив всегда прав».
Менторские нотки в голосе воспитательницы подталкивают девочку к согласию и покорности – нельзя спорить с воспитательницей, когда она говорит таким тоном. Девочка молчит, зажмуривается. На глазах у нее проступают слезы, она закусывает губу. Девочка неожиданно убегает из комнаты. Запись кончается.
– Да, экземпляр еще тот! – протянул Иван Никодимович.
– Психотип 4В по классификации профессора Гальперина, – услужливо отчеканила Наталья Петровна. – Достаточно редко встречается, но обычно доставляет много хлопот. Историк Гумилев называл подобный тип поведения особей «пассионарным». Но нам впервые удалось выявить его в столь раннем возрасте и исследовать его в лабораторных условиях так долго. Правда, окончательно убедились мы в том, что номер четырнадцать – носитель психотипа 4В, лишь после ее гибели. – Одновременно Наталья Петровна меняла катушки в проекторе. – Вот еще одна запись. Совсем свежая. Мы применили гипноз к испытуемому номер двадцать два, который действовал под управлением четырнадцатой, и вот что мы услышали…
Она вновь нажала «пуск», и на экране появилась больничная палата с лежащим на кушетке мальчиком с закрытыми глазами. Над ним нависал субъект в мятом, заляпанном чем-то белом халате, с гривой седых волос, а в дальнем углу стояли директор и воспитательница.
Иван Никодимович что-то размашисто записывал в блокнот. Украдкой бросив взгляд, Наталья Петровна смогла прочесть: «Несмотря на возраст пятнадцать лет, за счет выражения лица, движений, поведения испытуемому нельзя дать больше десяти, хотя физическая форма развития соответствует пятнадцати годам».
Субъект поворачивается к наблюдающим за ним и поясняет, что мальчик в трансе и сейчас воспроизведет свой разговор с номером четырнадцать, состоявшийся непосредственно перед попыткой побега.
«Начинай, Вася». Бас субъекта глубокий, утробный, исходит, кажется, из самых его глубин.
«Вася, помнишь, рассказ нам читали, – тоненький голосок бойко звенит, сразу ясно, что это Маша. – Там Ленин к детям на елку приезжал!»
«Ну да, помню», – медленный, тянущий гласные голос, понятно, что это уже сам Вася.
«А елка когда бывает?» Мимика лежащего в трансе мальчика снова неуловимо меняется, и становится ясно, что это снова говорит Маша.
«На Новый год?» Вася знает ответ, но он не уверен. Он всегда не уверен, даже когда точно знает.
«Правильно, Вася! А Новый год когда бывает?»
«Зимой?»
«Да, Вася! Зимой!» – радуется Маша Васиной сообразительности. – А у нас зима, давно уже зима! А ты елку или Новый год помнишь?»
«Не-е-ет», – тянет Вася.
«Вот и я нет!»
«Машк, ну, может, он еще не наступил? Вот вернутся родители – и тогда будет Новый год».
«Вася… – Голос Маши вмиг становится очень грустным. – Они не вернутся…»
«Тихо, Машка. – Он испуган. – Воспитательница услышит, снова будем целый день в углу из-за тебя стоять или вообще спать в чулане положат…»
«Вась… Вот мой рисунок поля. Посмотри, какое оно большое. Каждый день я рисую по одной травинке, и их целое поле. А нас не забирают, и зима не кончается. Вася, нас обманывают… Мы тут много лет, мы уже почти взрослые…»
«Все ты врешь и придумываешь, Машка! – Вася полон раздражения, он сердится. – Какие мы взрослые, родители скоро вернутся из командировки и нас заберут. Лето будет, и нас заберут!»
«Вася, а ты помнишь лето?» – интонации Маши грустные и печальные.
«Не-е-ет», – обычная неуверенность вновь приходит на смену раздражению.
«Вот и я не помню… Может, лето уже и было, и не один раз, а много!» Она почти кричала.
На этой фразе Вася неожиданно открывает глаза, начинает дрожать, забивается в угол. В кадре появляется медсестра и делает судорожно отмахивающемуся мальчику какой-то укол. Запись заканчивается.
Наталья Петровна включила свет и, не садясь, замерла у стены. Достала зачем-то карандаш и принялась катать его между пальцами. Повисла тишина. Наконец женщина решилась и нарушила молчание робким заискивающим вопросом:
– Товарищ Павлов, а что с нами теперь будет?
– Будет… – Опытный аппаратчик сделал многозначительную паузу, протер очки, вновь водрузил их на нас и продолжил преувеличенно бодро: – Вас, товарищ Романенко, наградят орденом Трудового Красного Знамени за ваш вклад в науку и серию статей и монографий для служебного пользования. Начальнику медсанчасти объявим выговор с занесением – проморгал бронхит с осложнениями у испытуемой, приведший к летальному исходу. Халатность налицо! Ну а вашу группу передадим в Киевский институт мозга, там сейчас один любопытный проект намечается, и партия испытуемых tabula rasa им очень поможет. После этого инцидента здесь вы вряд ли бы смогли продолжать по-прежнему. Да и по совести говоря, ресурс и потенциал испытуемых в рамках этого проекта уже исчерпан. Над версией событий для испытуемых мы еще поработаем, а в Киеве их ждет увлекательнейшая работа. – Иван Никодимович оживился, глаза его загорелись, было видно, что новая тема ему куда интереснее. – Американцы значительно продвинулись в области полной депривации сна. Их работы в этой области начались во время вьетнамской кампании, мы серьезно отстаем. Известно, что у них уже есть несколько устойчивых групп, вообще не нуждающихся во сне, правда, велик процент выбраковки – до семидесяти процентов. Суициды, шизофрения. Обычные симптомы буржуазно-капиталистического общества. Да и действуют они грубыми методами – хирургически и медикаментозно. И вот что я вам скажу… – На мгновение Наталье Петровне почудилось даже что-то игривое в голосе товарища Павлова. – Мы уже провентилировали вопрос о вашем переводе в Институт мозга. Вы знаете испытуемых, вам нужно развиваться как серьезному, крупному ученому, да и климат в Киеве получше. А главное, партия вам доверяет. Уверен, у вас процент брака будет значительно ниже, учитывая ваш подготовленный человеческий материал… – Увидев тень сомнения, проскользнувшую на лице Натальи Петровны, товарищ Павлов добавил пару градусов жизнерадостности и оптимизма в голос и даже привстал в кресле. – Вы, Наталья Петровна и ваш коллектив, с вашим энтузиазмом, задором, вооруженные передовыми достижениями нашей советской психологии, базирующейся на строго научном марксистском методе, добьетесь куда более впечатляющих результатов, к тому же гуманными методами!
Сентябрь 2016
Археология
Часы на башне главного корпуса университета пробили полночь. Переливчатый мелодичный звон. Механизм работал с конца XVII века, когда на вересковой пустоши в окрестностях Кембриджа вырос новый королевский колледж. Сегодня камни, из которых было сложено здание, потемнели, вросли в землю и покрылись красноватым мхом, а механические часы все так же отбивали затейливую мелодию из стародавних веков каждый час.
По крайней мере, так рассказывают первокурсникам и туристам. А там кто знает. Вполне может быть, что от добрых старых времен внутри ничего и не осталось, лишь циферблат и стрелки снаружи (причем часовая подлиннее, а минутная покороче – так тогда было принято), а все когда-то тщательно подогнанные шестеренки и пружинки давно списали, заменив в начале первой диджитал-эпохи парой микросхем с клеймом Made in Taiwan.
В библиотечном зале кафедры новейшей археологии в укромном уголке за креслом из щели между двумя рассохшимися плинтусами появились чьи-то усы. Точнее, усики. Мышонок. Маленький белый мышонок с навостренными ушками и любопытной мордочкой. Настороженно обнюхал пространство, убедился, что библиотека пуста, но о нем не забыли. Вот и сейчас он чувствовал запах двух кубиков душистого сыра, аккуратно уложенных на столе, придвинутом к окну. Следует сказать, что это был не какой-то там сельский полевой мышь, обретающийся в полях да крестьянских амбарах. И тем более уж не мерзкий грызун – житель канализационных стоков.
Это был настоящий университетский британский мышонок, и что попало он не ел. Он предпочитал сыр сорта чеддер, который ежедневно и оставляли ему ассистенты профессора археологии. Сыр, как всегда, лежал на листе бумаги – профессор не любил читать с экрана, для него все материалы распечатывали – привычка старомодная, но в духе консервативных убеждений, витавших в этом университете, был подвержен им и профессор, впрочем, как и все члены его Клуба.
Прошмыгнув на стол, мышонок принялся за сыр, однако свет луны падал прямо на лист. Закончив с одним кусочком, мышонок отвлекся и принялся водить мордочкой по высвеченным строкам. Умел ли он читать? Кто знает, хотя со стороны можно было подумать, что он именно это и делает. Что же там было написано?
«…Доктор Эдвард Рейли, специализирующийся в области новейшей археологии, используя последние разработки глубокого проникновения, смог поднять пласты кэша
Интернета начала XXI века. Это наиболее близкие к началу цифровой эры изыскания, которые позволили приблизиться к истокам кризиса середины XXI века, повлекшим за собой Катастрофу и длительный период регресса и варваризации в науке, известный как «века упадка», или «новое средневековье». Пока удалось поднять и дешифровать лишь разрозненные отрывки, зачастую бессмысленные вне общего контекста, но уже позволившие доктору Рейли сделать ряд революционных в исторической науке заявлений, впрочем, они тут же были оспорены представителями классической школы, отстаивающими устоявшиеся толкования событий первой цифровой эпохи. Так, он заявил ряд тезисов относительно участников ритуальных игр в мяч.
Напомним, в соответствии с господствующим на сегодняшний день мнением с середины XX века игры в мяч являлись сублимацией войн в условиях наличия тотального оружия уничтожения и важнейшим элементом комплекса межгосударственных отношений и постепенно приобрели, по крайней мере в глазах охлоса и части элит, практически сакральный характер (см. на эту тему монографию «Роль плебса на трибунах как мобилизационный фактор в преддверии исламо-христианских войн середины XXI века»), также они служили для канализирования и сброса агрессии толпы (в других сегментах ту же роль играли компьютерные игры и психоанализ). Аналогичную функцию в Римской империи выполняли состязания различных школ гладиаторов.
Так вот, ключевой тезис доктора Рейли гласит, что сравнение участников игр в мяч и гладиаторов, чье правовое положение в обществе сегодня принято считать тождественным, в корне неверно, по его мнению, их зависимость носила принципиально разный характер. Иными словами, доктор Рейли опровергает постулат классической школы, что так называемые футболисты были дорогостоящими рабами, продававшимися на рынке, тем самым ставя под сомнение факт существования института рабства в XX–XXI веках. Учитывая, что это практически единственное доказательство существования рабства, приводимое «классиками», под вопросом может оказаться вся реконструированная система общественного устройства первой цифровой эпохи. Анализируя куски блогосферы, поднятые доктором Рейли, он делает вывод, что их формальный социальный статус был «свободный человек», то есть они были гражданами, пользовавшимися всем комплексом гражданских прав и свобод. При этом он замечает, что древняя кодировка текста позволяет разную дешифровку и толкование таких терминов, как, например, «трансфер на рынке».
Оппонентом доктора Рейли выступил профессор Фейсал из Каирского университета, несколько лет назад обнаруживший в ходе своих изысканий онлайн-биржу, то есть тот самый рынок футболистов, второй трети XXI века, где их хозяева могли выставить своего игрока на аукционные торги или договориться приватно о его отчуждении. Он утверждает, что высокий социальный статус спортивных рабов, известность/популярность в обществе, наличие крупных денежных средств (а именно на эти факты и многочисленные их доказательства, обнаруженные доктором Рейли, напирает он и его сторонники) не делает их свободными, а тем более гражданами.
В качестве примера профессор Фейсал приводит пример наложниц из хурама (гарема) и певцов и поэтов при дворе халифов из династии Аббасидов. Те также были далеки от образа «невольников на галерах», имели личные состояния, пользовались уважением среди людей, однако отчуждались внутри членов династии вне зависимости от своего желания. То есть, несмотря на весь блеск, они были рабами, таков был их социальный статус. В подтверждение своей точки зрения профессор Фейсал цитирует Джахиза (Qiyar Jahiz), автора эпохи Аббасидов, где тот пишет, рассуждая о хураме, что попадали туда женщины благодаря своим певческим или музыкальным талантам. Эти времена расцвета халифата были наилучшими для девушек, обладавших слухом и голосом.
Профессор Фейсал резюмирует, что в социуме, где свободных женщин из уважаемых семей все больше ограничивали и прятали, певица, причем именно рабыня, была значительно более свободна, могла принимать гостей, самостоятельно передвигаться по городу и т. д. Как гетеры классической Греции или гейши традиционной Японии, эти девушки были прекрасно образованны, искусны, остроумны. Вместе с мужчинами надим (рабы – поэты или певцы, в дословном переводе – «веселые компаньоны») они являлись основными носителями дворцовой культуры того периода. Джахиз приводит показательный рассказ, где халиф Мамун спросил девушку из свиты своей матери Зубейды, свободная она или рабыня. На что та ответила, что не знает. «Когда моя госпожа сердится на меня, она говорит, что я рабыня, а когда она довольна мною, то говорит, что я свободная». По предложению халифа она немедленно написала письмо Зубейде, в котором спросила о своем статусе, и отправила его с голубем. Вероятно, выпал хороший день, так как вскоре голубь вернулся с ответом, что она свободная.
Тут профессор Фейсал указывает на зыбкость терминологии, особенно с учетом переводов на другие языки, справедливо подчеркивая, что практически невозможно досконально реконструировать смысловое и эмоциональное наполнение термина в ту или иную эпоху. Тем не менее каирский исследователь все же предлагает трактовать и формальный статус так называемых футболистов в XX–XXI веках по аналогии с теми сведениями, что приводит Джахиз о периоде халифата Аббасидов, осторожно подчеркивая двойственность их положения. Также он опровергает довод профанов, голословно утверждающих, что рабства в конце XX–XXI веков формально не существовало. Он приводит множество примеров фактического, в том числе добровольного рабства в ту эпоху (чего стоят одни только офисные рабы, добровольно, с оформлением закладной, продававшиеся корпорациям в качестве конторских приказчиков), к этой категории профессор Фейсал предлагает относить и футболистов…»
Добежав до последней строки, мышонок огляделся в поисках продолжения. Там нет. И тут тоже нет. Что за манера оставлять лишь середину статьи! Ни тебе начала, ни тебе окончания. Ничего не найдя, мышонок вернулся к куску чеддера. Может быть, он подумал, что найдет продолжение следующей ночью? Хотя как он мог это подумать – ведь всем хорошо известно, что мышата, даже живущие в лучших университетах, не обучены грамоте, а по листу бумаги он мельтешил мордочкой, всего лишь собирая крошки любимого лакомства, до буковок же, на которых они были рассыпаны, ему вовсе не было дела.
Доев сыр, мышонок радостно пискнул и юркнул обратно – в щелку за креслом. Уверенно лавируя в лабиринтах закутков, скрытых между стен и под полом, он наконец выскочил в большой, ярко освещенный, несмотря на поздний час, зал. Здесь нужно было проскочить стремглав до противоположного угла. Как и любого мыша, этого пугали открытые пространства, если же он туда попадал, то предпочитал перемещаться вдоль стен. Но этот маршрут был давно освоен, а потому он метнулся напрямик, через центр зала, где стояли два десятка усыпанных огоньками металлических цилиндров высотой с человеческий рост. Бархатные канаты со столбиками по углам огораживали весь центр зала, что занимали цилиндры. А медная табличка на подвеске поясняла, что это мемориальная комната – сердце ордена Хранителей Откровений Последних Дней, чьим служением и миссией было поддерживать работу крупнейших в мире серверов. Во времена Упадка, когда университет практически умер, только в этом корпусе, где обреталась обитель технобратства, и теплилась жизнь. Они же и возродили университет в эпоху Реконструкции.
Но мышонок всего этого не знал, для него этот залитый ярким светом зал был всего лишь препятствием
по пути туда и обратно. Наконец, прошмыгнув через пару коридоров, он вернулся домой – в лабораторию факультета психологии, где уютно устроился в своей набитой ватой коробке с большой надписью на боку «Домик мистера Элджа».
Сентябрь 2016
«Буба»
«Братство и единство». Трасса, казалось, навсегда связавшая Белград и Загреб. Широкая, гладкая, без единой ухабинки, она была олицетворением общего светлого будущего. Привыкшие к разбитым дорогам шоферы тяжелых ФАПов за рюмкой ракии в придорожных кафанах со знанием дела цокали языком:
– Не хуже, чем швабские автобаны!
В потоке понуро плетущихся машин резко выделяется ярко-красный шустрый Volkswagen. Новый, сияющий, детали идеально подогнаны друг к другу. «Юго», «трабанты» и «дачии» с завистью моргают фарами ему вслед. За рулем молодой парень с длинными волосами и висячими усами, рядом с ним его подруга с цветами, вплетенными в волосы. Глядя на них, можно подумать, что они катят из Сан-Франциско на фестиваль «Вудсток». На календаре лето 1969 года. В салоне гремит радио: «Од Вардара, од Вардара па до Три-игла-ава!» В багажнике весело позвякивает гальба пива.
«Наша Буба» – так хозяин ласково зовет свою машинку, а она отвечает ему мерным урчанием двигателя.
Прошли годы. От усов не осталось и следа, да и сам он немного обрюзг, стал тяжелее. Теперь ему часами приходится возиться под капотом и днищем машинки. Внутри у нее постоянно что-то барахлит. Компанию ему составляет хрипящий из катушечного магнитофона Бора Джорджевич: «Лутка са насловной страни-и!» Ночью «Бубе» приснился роскошный глянцевый автомобильный журнал, на обложке которого красовался он сам в интерьерах какого-то автосалона. Но в реальности на дороге он уже не привлекал всеобщего внимания, никто не оглядывался на него, когда он проезжал по городу. Он потускнел, поблек, кое-где помялся и даже обзавелся парочкой трещин на лобовом стекле. Да еще на крыше начала слезать краска! Это вообще повергло «Бубу» в ужас.
Спустя еще несколько лет «Буба» обнаружил, что его бросили. Хозяин куда-то ушел в странной пятнистой одежде и больше не возвращался. Он ржавел на улице, почти позабыв аромат асфальта и вкус бензина. Да его и не было ни на одной городской пумпе. Топливо находилось лишь для зеленых машин с буквами «ЮНА» на бортах. «Буба» затаил на хозяина обиду. Обида пожирала его – как мог он бросить свою машинку после стольких лет вместе? Он кипел изнутри, собирая все старые огорчения и бесконечно прокручивая их в памяти. А потом он узнал, что его хозяина убило под Вуковаром. Вся горечь обид куда-то ушла, осталась лишь печаль и светлые воспоминания о былых годах.
«Буба» стал никому не нужен. Выросшие дети, которых он когда-то возил каждое лето на море, продали его какому-то крестьянину в шумадийское село за семьсот марок. Пожилой сельак в неизменной, казалось, приросшей к голове шайкаче, подлатал его, но пользовался редко, лишь выезжая в город на рынок несколько раз в месяц. В городе он едва успевал уворачиваться от больших агрессивных джипов, заполонивших улицы. Очень неуютные ощущения. Каждый раз он с нетерпением ждал, когда же уже можно будет вырваться из этого бетонного ада и вернуться в тишину села, к которому он почти привык. По соседству жил ядовито-оранжевый «Москвич-2140», с которым они сдружились и вели долгие неспешные разговоры, хотя у «москвича» был чудовищный акцент и временами его лязг и скрежетание практически невозможно понять. У него вообще все скрипит и сыплется, а ведь они ровесники… Да и у «Бубы» свет фар потускнел, померк, из них как-то незаметно ушла искра, пропал былой блеск. Он расстроился, когда это заметил. Тогда же он стал постоянно слышать ритмические щелчки. Со временем они становились все громче и громче, наконец воплотившись в законченную звуковую форму – тик-так, тик-так. Это тиканье не отпускало его ни на миг, настойчиво напоминая, что обратный отсчет уже начат. «Москвич» тяготился деревенской жизнью и обыкновенно начинал ежевечерний разговор ни о чем с фразы:
– Видел бы ты Москву… Широкие проспекты, просторные площади, и везде порядок… А теперь я вожу кукурузу в селе…
– Но это лучше, чем прозябать в гараже, – возражал «Буба». – Вот, например, меня сделали на севере, мой родной завод стоял на берегу Рейна, и вокруг него росли березы. Но они растут и на Дунае. Главное, мой друг, это движение. Не важно где, главное, лишь бы не ржаветь на обочине. Я это уже давно пробовал и мне совсем не понравилось.
В ответ «москвич» лишь вздыхал.
А потом были страшные бомбежки. В воздухе ревели реактивные двигатели. Завывали сирены, небо прорезали трассеры зенитных пулеметов в тщетных попытках остановить накатывавшие с севера волны страха, воплощенного в агрессивном металле.
Спустя несколько лет крестьянин умер, а дряхлого, разваливающегося «Бубу» продали в Шабац ушлому дельцу Видое Томичу по прозвищу Киза, отдавшему за него столь скудную пачку измятых динаров, что уместнее было бы сказать – отдали даром. Старый Киза с пожелтевшими от курева пальцами перепродал «Бубу» на авторазбор, что расположился на окраине одного сремского городка.
Теперь он стоит здесь, в углу этого ангара, ожидая, когда его пустят на запчасти. Скука. Всепоглощающая, выедающая нутро скука. Не с кем даже поговорить, никто не приходит, лишь иногда заглядывает кошка, почти что котенок, которой нравится прятаться от полуденного зноя под его днищем. Казалось, совсем недавно он был чьей-то мечтой, а уже сегодня он никому не интересен, кроме бездушного механика с отверткой и разводным ключом, который только и думает о том, как разобрать «Бубу» на куски, залатав его частями других ветеранов, еще не списанных окончательно. «Какой ужас…» – думал «Буба». Как-то особо печальным утром он хотел было разогнаться и въехать в бетонную стену ангара, но искры в аккумуляторе не оказалось. Приметив эти жалкие потуги, из дальнего угла выполз раритетный «мерседес», выкатившийся из сборочного цеха еще в конце сороковых.
– Я приехал сюда из Мюнхена в шестидесятые, – прошептал пенсионер. – Дома я возил почтенного бюргера и его семейство, сюда же я привез лихого прекодринского строителя, приезжавшего к нам на заработки. Тогда много югославов работало у нас. Их называли «гестарбайтеры». Вернувшись, со мной он покорил все село и даже окрестные городки… Когда-то я мечтал о двухместном гараже и об изящной спортивной машинке из почтенного баварского семейства рядом, а оказался в обществе тракторов и комбайнов… Понимаю тебя, мне знакомо это тихое, заполняющее цилиндры отчаяние…
«Буба» так давно не слышал ласкающей слух грубой родной речи, что почти позабыл ее и с трудом подбирал слова, чтобы ответить почтенному «мерседесу».
– А я мечтал быть самолетом и парить в облаках… Как мой дед, – прошептал «Буба», стряхнув дворником пару капель воды, ненароком вырвавшейся и брызнувшей из омывателей на стекло. – На что ты надеешься? Веришь в доброту механика? Слабое утешение…
– Уныние – это дурно. – Старый «мерседес» приосанился, выпустив немного воздуха из передних колес. – От него плавится проводка и днище покрывается ржавчиной. Жизнь – это скоростное шоссе, ты катишься по нему в попытке догнать линию горизонта, но она всегда ускользает от тебя. Но пока крутятся колеса, пока утробное рычание твоего мотора услаждает слух шофера – ты жив. Надежда, она поддерживает не хуже десяти галлонов высокооктанового бензина. Живи, мечтай, и может быть…
– Посмотри на этого «жука»! – Возглас юной девушки заставил затаиться старого «немца». Неприлично было разговаривать при людях.
– То что надо! – ответил ее спутник.
В дверях стояли двое. Акцент у них был как у того «москвича», только значительно мягче.
Они осмотрели «Бубу» со всех сторон, и внутри, и снаружи.
– Мы его берем. – Его голос звучал уверенно.
Она погладила «Бубу» по капоту и тихо сказала:
– Мы отреставрируем тебя, малыш. Будешь как новый.
Через пару месяцев он мчался по Белграду, ощущая себя заново сошедшим с конвейера, а его салон разрывался от ритмичного речитатива: «Амо сви заjедно, као пси да лаjемо!»
Небо вновь согревало его своей синевой, деревья обдували ветерком, а встречные «Икарусы» широко улыбались. Вечером же, где-то в окрестностях Скадарлии, в неверном электрическом свете уличных фонарей ему показалось, что он увидел величавые обводы того самого «мерседеса», из которого выходил степенный, хорошо одетый господин с тростью.
20 июля 2017 года
Вакуум
Он превращался в точку. Ему не хватало воздуха. Он задыхался, проваливался внутрь себя, куда-то в пятки, на самое дно, и никак не мог вернуться обратно, к свету, ощущая, что его будто бы засасывает в зыбучие пески. Беззвучная, выматывающая, многочасовая борьба в непроглядной мгле. Наконец ему удалось выбраться наверх и вновь увидеть окружающее сквозь прозрачные хрусталики глаз. С каждым разом возвращение давалось ему все тяжелее, а приступы повторялись все чаще и чаще.
Крупные капли пота сползали по его иссохшему, прорезанному глубокими морщинами лицу, больше похожему на маску, наскоро склеенную и небрежно ушитую из куска пергамента. Он привстал на кровати, кряхтя от усилия и помогая себе локтем, и огляделся. Вокруг все те же бледно-серые стены с желтоватым оттенком, насквозь пропитанные запахом лекарств и дезинфекции, и неестественно-яркий, голубоватый свет чуть потрескивающих ламп. На тумбочке, рядом с изголовьем кровати, лежит раскрытая книга в потрепанной, истертой обложке. Напрягся в попытке вспомнить ее название. Оно где-то тут, рядом, но… Нет, не смог, хоть и прочитал эту книгу уже несколько раз подряд. В памяти удалось выловить лишь одну фразу – «Мы в ответе за тех, кого приручили». Тут же в неясном мареве витал и смутный образ автора. Вроде бы летчика. Да, точно. Французского пилота. На стене над кроватью хрипело старенькое радио. Что-то из классики… Прислушался, чуть сощурив глаза от напряжения. Такая знакомая мелодия, переборы, порождающие привкус славных былых деньков, которые растаяли в прошлом, оставив лишь легкую, посасывающую где-то в глубине светлую грусть.
«Knock, knock, knocking in the heaven’s door…» – сочилось сквозь помехи и треск умирающего динамика. «Да, подходящая песенка», – подумал он с грустной усмешкой и, протянув руку, убавил громкость, а спустя миг полностью отключил приемник, погрузив комнату в тишину. Он скучал по Ее звонкому голосу, но сейчас его целыми днями окружало только молчание, такое густое, что казалось, будто его можно резать ломтями. Оно давило со всех сторон, обволакивая его тишиной как мелкой паутиной, но он продолжал избегать любых посторонних звуков. Ему был нужен только Ее голос, все прочее казалось ему лишь суррогатом, недостойной заменой, фальшивкой.
Его сознание вело изнуряющую борьбу с окружающим миром. Каждое мгновение. Час за часом, день за днем. Без надежды на победу. Он просто вытеснял не устраивающую его реальность вовне, не желая уступать ей, смиряться. «Что я здесь делаю? Зачем мне терпеть все это?» – по кругу носилось в его голове. Эти мысли выедали, иссушали его без остатка, забирали последние оставшиеся крупицы сил. Ему казалось, что он покрывается плесенью, врастая в больничную койку, растворяется без остатка в местной затхлой атмосфере. Три раза в день санитары приносили какую-то еду, точнее, пародию на нее, но он практически не замечал этого, не понимая, зачем нужно есть, когда рядом нет Ее.
Под подушкой он нащупал объемный толстый блокнот. Рывком он достал его и лихорадочным движением прижал к груди. Сердцебиение участилось. Он не расставался с ним ни на миг и очень боялся его потерять. Последняя связующая нить. Он свесил ноги с кровати и примостил блокнот на коленях. Бережно раскрыл. На первой странице старая потрескавшаяся фотография. Мощная средневековая крепость и они, сияющие беззаботной юностью, на ее фоне. Пролистал страницы, исписанные его мелким, бисерным почерком. Здесь он каждый день выводил буквы, с трудом удерживая карандаш в негнущихся от артрита пальцах. Он писал письма, которые Она уже не могла прочитать. Но он верил, что Она все услышит и почувствует, если он доверит это бумаге. Эти письма напоминали скорее дневник или исповедь. Он так привык поверять Ей все свои размышления, воспоминания, чаяния, что не смог прервать этот диалог, даже когда Ее рядом не стало. Каждое утро он просыпался с новой мыслью, которая за ночь созревала в нем как плод на ветви фруктового дерева. И он, сорвав эту мысль, торопился поделиться с Ней, записав в блокнот, пока утерявшая былую цепкость память еще удерживала ее. Когда он брался за карандаш и, подслеповато щурясь, начинал выводить свои неловкие буковки, туман в голове как будто рассеивался, и он ясно видел прошлое, так, будто все это происходило только вчера.
Окружавшая его сдавливающая пустота, в которой он беспомощно бился, как рыбешка, угодившая в сети, парадоксальным образом порождала мысли и воспоминания, осмыслить которые он мог лишь в диалоге с Ней. Он нырял в прорубь прошлого, и ледяные иглы видений былого на время возрождали его уставший мозг, поглаживая его мерным бодрящим покалыванием.
«…Вот мы с отцом и дедом запускаем воздушного змея у нас в деревне. Мне исполнилось пять лет. Они практически не выпускают змея из рук, как будто бы вновь вернувшись в собственное послевоенное детство. Нам так весело вместе. Мы счастливы. Ощущение единения. Семьи. Один из самых дорогих мне моментов детства. Почему я не вспоминал о нем столько лет?
А вот мы с отцом (впрочем, я никогда его так не называл, он всегда был для меня просто папа) кормим белочек орешками в парке. Каждое воскресное утро мы проделывали этот ритуал.
А вот мы выходим из детского театра, и я, стесняясь, отвечаю, что больше всех мне понравилась Снежная королева. Почему стесняясь? Ну она же формально плохая, а потому не должна нравиться, а я буквально влюбился в ее образ. Через несколько лет я научусь скрывать свои симпатии, желания и пристрастия, мимикрируя под ожидаемую от меня усредненную норму. Правду я поверял лишь моему неизменному спутнику – ушастому плюшевому другу, который помогал мне отгораживаться от несимпатичного серого и агрессивно-унылого внешнего мира. Он был моим главным внутренним собеседником с раннего детства и до нашей встречи.
Окружающие (внешние люди вовне узкого семейного круга) неплохо относились ко мне, правда, считали немного не от мира сего. Я и впрямь всегда был каким-то отрешенным. Все они сходились во мнении, что чего-то во мне недоставало. Если бы людей лепили из теста, то в меня бы забыли добавить соль. А мне самому нравилось думать, что у меня есть немного аутизма. Частичка «Человека дождя» и «Форреста Гампа».
В том нашем детстве Дед Мороз заменял нам Бога. О существовании последнего мы просто не знали, никто нам о нем не говорил, но инстинктивно все же искали некую высшую упорядочивающую и созидающую силу. Лет в восемь я просил у Деда Мороза (можно было сказать «молился», но я не знал тогда этого слова, а потому просто очень сильно просил о чем-то в канун Нового года) подарить мне заморозку времени. Я не хотел расти, не хотел меняться. Не хотел, чтобы родители старели. Мне хотелось, чтобы все было как раньше, чтобы время остановилось, зависло, а весь мир состоял бы только из нас. Уютный маленький мирок. Единственный кошмарный сон, который постоянно преследовал меня в детстве, был про чужих людей у нас дома. Чужие, посторонние в моем личном пространстве, это был мой самый большой детский страх. Как все большие страхи, сбылся и этот, выместив себя из сна в реальность. Но это было чуть позже. Я все же вырос и затаил обиду на Деда Мороза (ну или того, кто скрывался под его личиной) за то, что он не послушал моих желаний. Лишь много позже я понял, что он сделал все, как я и просил, – изменяясь внешне, внутри я оставался все тем же…»
На секунду он оторвался от блокнота. Задумался. Ясность мысли в последние месяцы была все более редкой роскошью. Дед Мороз вместо Бога… А молился ли он сейчас? Проверил, пошарив внутри. Как оказалось, да, постоянно. Но кому? Он не был религиозен в традиционном понимании, скорее верил в мироздание, стремящееся к гармонии, сплетенное из мириадов нитей и струн, которое можно было направлять и формировать силой слова, наполненного до краев искренним желанием. Собственно, этим он и занимался на страницах этого блокнота. А Она была для него воплощением вселенского равновесия, которое он всю жизнь стремился постичь, ощутив полноту единения и сопричастность.
Ее он ждал и искал с раннего детства, а может быть, и в других, прежних жизнях. Именно отсвет Ее образа углядел он тогда в Снежной королеве. Еще несколько раз секундным видением в толпе, мельком он видел Ее и позже. Он воспринимал эти встречи как знак того, что он на верном пути. И он продолжал искать. Спустя еще десяток лет они наконец-то встретились. Сперва Она была светящимися точками, складывающимися в буквы на допотопном мониторе, но он чувствовал сквозь текст, что это именно Она. Чуть позже Она обрела плоть, запах, цвет и овладела его сознанием полностью и навсегда.
Он встал и медленно подошел к окну, за которым в причудливом танце извивались снежинки. За стеклом росли белоснежные искрящиеся сугробы. Это напомнило ему, как когда-то в такую же снежную зиму во дворе их домика они лепили снеговика. Он смотрел на снег и видел контуры их теней из прошлого.
Она была трогательно ранима, он болезненно обидчив. Острые углы слов царапали их обоих, они старались выбирать округлые, мягкие слова, и постепенно у них появился свой язык.
Казалось, в нем живет несколько разных личностей. Иногда он бывал добрым и ласковым, временами жестким, но чаще безразличным ко всему окружающему. Она разбудила его, вытащила из омута отчуждения, в котором он утопал, растопила его ледяные доспехи, что он начал наращивать еще в раннем детстве. Она стала его вдохновением, а он строил их вселенную из кирпичиков слов. Мир вращался вокруг них двоих, а они словно бы и вовсе не замечали эту карусель, кружащуюся все быстрее и быстрее.
Старость подкрадывалась незаметно, но они старались не видеть ее, потом прятались, но постепенно она, неумолимая в своей непреклонности, все же настигла их. Она не замечала его лысины, он не видел ее морщинок. Друг для друга они всегда оставались настоящими – маленькими мальчиком и девочкой, которые гуляли по парку, взявшись за руки. Личину взрослых они надевали лишь для внешних, посторонних людей.
На одной из осенних прогулок Ей стало плохо. Прямо оттуда Ее увезли в больницу, где на третьи сутки интенсивной терапии Она впала в кому. Мир посерел. Краски ушли из него. Окружающие люди превратились в выцветшие бледные декорации, вызывавшие бесконечную усталость. Он вновь тонул в безразличии. Ему была интересна только Она. В полузабытьи, что заменило ему сон, он постоянно видел большой, тщательно постриженный лабиринт. Он знал, что Она где-то рядом, судорожно искал Ее, мечась по засыпанным мелким гравием дорожкам, постоянно попадая в тупики и поворачивая не туда. Иногда ему удавалось издалека мельком увидеть Ее плечо или край платья, пару раз ему удалось даже дотянуться до Нее кончиками пальцев, но Она постоянно ускользала, а он пробуждался в еще большем отчаянии.
Он сидел у Нее в ногах, на краю постели, когда у него случился первый приступ. Как будто кто-то выкачал в один миг воздух из всего мира и выключил свет. За первым последовал второй и третий, а потом еще и еще. Комплексное обследование выявило ментальную природу приступов. Что-то вроде сильнейшей панической атаки, вызванной агрессивным отторжением действительности на фоне прогрессирующего ослабления памяти. Как объяснил психиатр, «в голове просто вылетели предохранители».
– Вы должны смириться, принять реальность во всей ее неприглядности, – сказал доктор, но в ответ был пронзен презрительным взглядом. Тогда он глубоко вздохнул и прописал антидепрессанты. Потом посильнее. И еще сильнее. Но ничего не помогало. Приступы не только не проходили, но, наоборот, учащались и усиливались. И в итоге – эта палата в соседнем крыле больницы. Именно здесь помещалось психиатрическое отделение клиники.
Утром санитар вместе с ежедневной порцией таблеток принес элегантный, голубого цвета конверт с незнакомым, стремительным логотипом на клапане. Он взял почту из рук санитара и без интереса повертел в руках. Отправитель – некий Digital Transplantology – был ему совершенно незнаком. Он практически сразу же забыл о письме, вновь погрузившись в себя. Он часами стоял у окна и наблюдал за причудливой траекторией полета хлопьев снега.
На самом деле он их даже не видел. Перед его взором как кинохроника мелькали картины из прошлого. В них он хоть немного забывался, прятался от невыносимой реальности и с нетерпением ждал момента, когда можно будет провалиться в спасительный сон. Но и это убежище становилось все менее надежным – бессонница окутывала его со всех сторон.
Лишь после ужина конверт вновь попался ему на глаза. Оставшиеся крохи любопытства потребовали распечатать загадочное письмо, и он со вздохом подчинился. Начав без интереса водить глазами по строчкам, он постепенно все больше и больше оживлялся. Исследовательский центр, работающий на стыке медицины, кибернетики и айти, предлагал принять участие в проекте «Нирвана». Вкратце, сутью предложения была оцифровка и перенос его и, что куда более важно, Ее сознания на защищенный выделенный сервер, внутри которого они смогут моделировать пространство по своему желанию. Отдельно подчеркивалось, что это именно полноценное перемещение сознания, а не копирование, строго запрещенное Законом о клонировании. Предложение было неожиданным. Ее кома не была для них препятствием. Свое же разваливающееся тело его не особо заботило, наоборот, он хотел поскорее от него избавиться. Он еще раз внимательно перечитал текст письма и прилагавшийся к нему договор. После секундных сомнений он решительно подписал бумаги за них обоих.
Через пару дней с самого утра началась суета. Множество людей в белоснежных халатах, гомоня на какой-то фантасмагорической смеси всех языков мира, бесцеремонно ввалились в его палату и принялись нагромождать горы разнообразного мигающего, издающего попискивающие, сменяющиеся мерным жужжанием звуки оборудования.
Какой-то представительный мужчина в небрежно накинутом на плечи халате долго тряс его руку, притворно и с акцентом восхищался его смелостью и рассказывал, какой неимоверно важный вклад в науку он внес своим согласием на участие в этом эксперименте. Его кровать выкатили в коридор, ее место заняло какое-то кресло, напоминающее зубоврачебное, но провалившееся сюда из далекого будущего.
На его руках и груди закрепили множество датчиков, голову обрили и, покрыв сладковато пахнувшим гелем, водрузили на нее шлем с торчавшими из него толстыми кабелями. Ему дали стакан какой-то жидкости, по вкусу напоминавшей протухший апельсиновый сок, который он, поморщившись, выпил залпом. Потом все пожелали ему удачи и вновь уставились в мониторы своих лэптопов. Кто-то начал обратный отсчет, рыжеволосая девушка сочувствующе улыбнулась ему и, как будто извиняясь, слегка пожала его скрюченную руку, лежащую на подлокотнике. Она же надвинула ему на глаза непроницаемое забрало шлема.
– Три… два… один… Поехали! – Слова доносились откуда-то издалека, с трудом проникая сквозь окутавшую его пелену. Ему казалось, что он падал в колодец без дна, но в этот раз ощущения не были неприятными. Наконец падение закончилось, но удара не было. Он просто лежал на чем-то упругом.
Он открыл глаза и огляделся. Заброшенная детская площадка в самом центре Города. Ярко светит солнце.
Он не был здесь много десятков лет, а она в точности такая же, какой он запомнил ее в последний раз. И старая скрипучая карусель на своем месте! Сейчас она медленно вращалась. На одном из сидений он увидел старого ушастого друга. Как же давно они расстались… Сердце екнуло, он вскочил с земли, подивившись тому, с какой легкостью у него это получилось, схватил ушастого, прижал его к щеке, так же как делал в детстве, и быстро спрятал его во внутренний карман потертой кожаной куртки. Наверное, в такой же садился за штурвал своего «Дорнье» тот летчик, что писал те трогательные истории, мельком подумал он.
У кирпичной стены стоял мотоцикл. На похожих союзники раскатывали еще в 1944-м во Франции. Он завел его с первого раза и, убедившись в том, что его мерный, глуховато рокочущий двигатель и не думает глохнуть, медленно выехал с площадки.
Его тянуло на запад так, будто где-то там был здоровенный магнит. Он подчинился зову. Его байк несся по пустынным улочкам, и жжение в груди усиливалось. Наконец Город остался позади. Он летел вперед, пожирая километры, а воздух вокруг звенел рифами его любимых мелодий. Его тело было наполнено силой и бодростью, а в голове было необыкновенно ясно. Скоро трасса превратилась в узкое однополосное шоссе, домики обросли черепицей, а справа откуда-то вынырнула река, лениво вытянувшись вдоль дороги.
В опрятном, смутно знакомом городке он остановился. На склоне поросшего редкими деревьями холма стоял маленький нарядный домик. Лужайка, огороженная аккуратной оградой из песчаника, сбегала прямо к реке.
И тут он увидел Ее… В платье в черно-красную клетку Она стояла босиком на траве. Она была такой же, как в тот далекий летний день, когда они впервые увиделись. Его обжигал пронзительный взгляд Ее электрически-голубых глаз. Дыхание перехватило, глаза заволокло. Он попробовал что-то сказать, но голос предательски пропал. Ему показалось, что он снова начинает задыхаться. Она улыбнулась, и он тут же начал таять в Ее лучах. Он подбежал к Ней и, боясь, что Она видением рассеется в воздухе, робко прикоснулся к Ее ладони. И тут его накрыла волна. Шторм эмоций. В нахлынувших ощущениях была разлита Ее суть, которую он принялся жадно впитывать. Чувства, мысли, желания, воспоминания обоих закружились в причудливом вихре, познавая друг друга до последней капли и сливаясь воедино. Мириады бит безвозвратно смешались в одно целое. Сбылась его давняя заветная мечта – жить в Ее внутреннем мире, пустить Ее в свой и объединить их в общее пространство.
Теперь это был их мир, и они были этим миром, воплощаясь в каждой его форме и творении. Он всю жизнь грезил о том, чтобы постичь всю Ее глубину, теперь он растворился в Ее сознании, ощущая даже самую крошечную его частичку, а Она обволакивала собой все потаенные уголки его оцифрованного внутреннего мира. Тотальное удовлетворение жажды познания друг друга. Он упивался исходящим от Нее вдохновением, умиротворением, утешением. Никогда раньше не ощущал он их в такой концентрированной яркости.
Обнявшись, они пошли вверх по тропинке в сторону домика. Рядом, дружелюбно виляя хвостом, бежала синеглазая хаски. На ее широком ошейнике тускло отсвечивали какие-то буквы. Небрежным взмахом ладони с унизанными множеством металлически блестевших колец пальцами Она отключила солнце, поменяв его на полную луну. Вслед за ней появились сотни и сотни ярких звезд, расцветивших ночное небо. Теперь все это принадлежало только им двоим. Навсегда.
Март 2017
Биография
Илья Витальевич Горячев родился в Москве в 1982 году. Историк, журналист, общественный деятель. В 2004 году окончил исторический факультет Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН по специальности «славяноведение и балканистика». Сфера научных интересов: Сербия в XIX–XXI веках. Неоднократный участник научных конференций в России, Сербии, Боснии. Публиковался в научных сборниках.
В 2001 году был награжден патриархом Алексием II патриаршей грамотой с формулировкой «За вклад в развитие православия» за научную работу «Положение Сербской православной церкви в годы Второй мировой войны в т. н. Независимом Государстве Хорватия».
С 2007 по 2009 год был руководителем департамента общественных связей православного телеканала «Спас», вел авторскую программу «Сетевые войны».
С 2003 по 2009 год издавал журнал «Русский образ». Неоднократно публиковался в таких изданиях, как «Новые известия», «Аргументы недели», «Независимая газета», «Русский курьер», Re: Акция, Слон. ру, Art of War, Religare.ru и других. Как журналист посещал Южную Осетию, Чечню, неоднократно бывал в Косове.
С 2010 года жил в Сербии в городе Сремски-Карловцы. Был аккредитованным корреспондентом газеты «Русский курьер» и информационно-аналитического портала «Модус агенди», соучредителем которого он являлся. Также в 2013 году был аккредитован при правительстве Республики Сербской в Боснии.
В мае 2013 года арестован в Белграде и экстрадирован в Россию по обвинению в руководстве Боевой организацией русских националистов. В 2015 году осужден к пожизненному лишению свободы. Обвинения Илья Горячев не признает и причастность к деятельности БОРН отрицает. На настоящий момент находится в ИК «Полярная сова».
В художественной прозе попробовал себя, только оказавшись в тюрьме. Это его дебютный сборник. Также из-за решетки он ведет блоги на сайтах «Эха Москвы», газеты «Завтра», «Континенталиста».
Узнать больше и написать Илье Горячеву можно через его сайт ilya-goryachev.info.
Примечания
1
Из Троицкой летописи: «В лето 6912, индикта 12, князь великий замысли часовник и постави е на своем дворе за церковью за Св. Благовещеньем. Сий же часник наречется часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и расчитая часы нощные и дневные; не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть человеческою хит ростью, преизмечтано и преухищрено. Мастер же и художник сему беяше некоторый чернец, иже от Святыя горы пришедший, родом сербин, именем Лазарь: цена же сему беяше вящьше полутораста рублев».
(обратно)2
Сефаретнаме – то же, что Статейный список в Посольском приказе Московского государства. Иными словами, отчетный доклад посла о его миссии.
(обратно)3
Эджнеби – чужестранец.
(обратно)4
Мехмед-паша Соколович.
(обратно)5
В таких случаях правило – не соблюдать правил (лат.).
(обратно)6
Изыди! (лат.)
(обратно)7
Показательно, что в XVIII веке дела о колдовстве и ереси в России расследовались не только Синодом, но и органами политического сыска – Преображенским приказом и Тайной экспедицией. Профессор Елена Смилянская в монографии «Волшебники, богохульники, еретики в сетях российского сыска XVIII века» (М., 2016. С. 212) цитирует исследователя В.И. Корецкого, сопоставлявшего взгляды вольнодумцев XVIII века с аналогичными учениями в более ранний период: «Мы наблюдаем процесс затухания реформационных идей в городах, где религиозная оболочка как форма протеста изжила себя и ей на смену шла политическая идеология».
(обратно)8
В 1766 году законодательством Габсбургской империи было прекращено преследование колдовства как мошенничества (но в этом акте Марии-Терезии не была, впрочем, отменена система наказаний за пакт с дьяволом и порчу); 1776 году в Польше и в 1779 году в Швеции впервые в Европе (!) была законодательно уничтожена сама основа для колдовских процессов. Впрочем, на практике идеальные замыслы монархов и сочинителей законов по искоренению магических верований исключительно через обучение катехизису воплощались в жизнь не всегда. В Европе последняя санкционированная властью казнь ведьмы относится к 1782 году, а самосуды продолжались и в XIX веке (Елена Смилянская. Указ. соч. С. 164).
(обратно)9
Латинская фраза «Supressa voce et sine tintinnabulis» из папской буллы 1144 г., «Milites templi», которая давала право ордену тамплиеров в городе, деревне или замке, находящимся под интердиктом (временным запретом), один раз открывать церковь и отслужить мессу во имя «чести и почитания их рыцарства, понизив голос и без звона колокольчиков». В латинской традиции колокольчики традиционно использовались для привлечения внимания молящихся к наиболее торжественным моментам богослужения. Автор выбрал этот заголовок, ориентируясь на его атмосферность и эстетику, близкую к тексту. Не следует искать в нем слишком глубокого смысла, тут лишь легкий налет конспирологии, уходящий корнями в Средние века, исходящий от любого упоминания рыцарей Храма.
(обратно)10
Автор – Роберт Рождественский.
(обратно)11
Нафта Индастриja Србиjи – актив Газпромнефти.
(обратно)12
Про корабль «Мэйфлауэр».
(обратно)13
Народно-трудовой союз – российская организация, появившаяся в эмиграции в 1934 году под названием Национально-трудовой союз нового поколения.
(обратно)14
Организация российских юных разведчиков – юношеская организация российской эмиграции.
(обратно)15
(обратно)16
Осведомительное агентство – разведка и контрразведка в Вооруженных силах Юга России.
(обратно)17
Камень с небес (лат.).
(обратно)18
«Про дурачка». «Гражданская оборона».
(обратно)19
Тарас Чупринка – псевдоним командующего УПА Романа Шухевича.
(обратно)20
Ну и зачем вы его отпустили? Чтобы он интервью вот такие раздавал?
(обратно)21
Нам он не нужен.
(обратно)22
Не бывает отношений по принуждению. А клыки мы ему и так если не выдернули, то подпилили уж точно. Для Украины он теперь угрозы не представляет. Скорее наоборот.
(обратно)23
Да он наших парней…
(обратно)24
И что?
(обратно)25
Мученика надо было из него делать? Это контрпродуктивно. Меньше эмоций, капитан. Еще один мини-Хемингуэй на той стороне будет Украине только полезен. Их оппозиция – наш главный рычаг давления и даже, если хотите, оружие. Надо его только тщательно отточить…
(обратно)26
Да чем же он может быть нам полезен?
(обратно)27
Пропагандой пацифизма.
(обратно)28
И не нам, а Украине. Нам лично из-за особенностей психотипа он ни к чему, я уже объяснял.
(обратно)29
Вы мыслите какими-то отвлеченными категориями, Норман Тарасович… Вы не в Канаде! Здесь все жестче, здесь война идет, а вы гуманизмом грядочку засеиваете. На будущее. Взойдет – не взойдет. У нас времени нет! Полномасштабное вторжение на носу! Вы в зону АТО съездите, посмотрите своими глазами. А вы все никак перчаточки не снимете. Хемингуэй… Тот был, как я слышал, такой великий писатель. А этот? Да мы его почти раздавили. Причем без особых усилий. А вот вы не дали нам довести дело до конца!
(обратно)30
Вы обвиняете меня в симпатии к россиянам?
(обратно)31
Кстати, у меня родственники в Подмосковье не живут.
(обратно)32
Что же касается величия… Все мертвые – великие. А живые – так себе. Когда ФБР травило Хемингуэя за его якобы симпатии к красным, они точно так же обливали его презрением. Да и время сейчас мелкотравчатое. Людишки измельчали. Хотя, допускаю, так считает каждое поколение, равняясь на парадные оттиски предыдущих генераций… Люди в целом не очень. Что касается лично меня, то я предпочитаю собак. А этот же…
(обратно)33
Он должен быть нам благодарен. И не за то, что отпустили. А за то, что дали ему новые ощущения, историю, биографию, в конце концов. Теперь ему есть о чем сказать на самом деле, и он имеет право об этом говорить. Жаль, конечно, выдержать его толком не удалось. Меньше года – это несерьезно. Толком и не перебродил. Ну а становиться Хемингуэем или нет – это уже его выбор. Теперь все от него зависит.
(обратно)

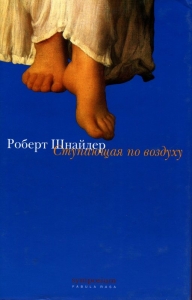

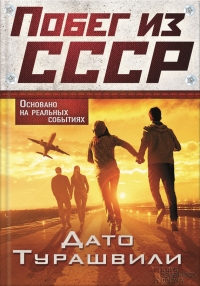



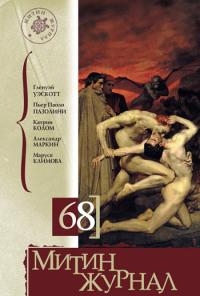


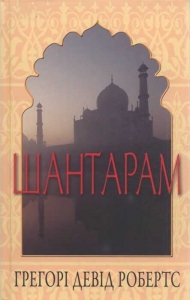

Комментарии к книге «Тьма кромешная», Илья Витальевич Горячев
Всего 0 комментариев