Анна Ромеро Тайны Торнвуда
Anna Romer
THORNWOOD HOUSE
© Anna Romer, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
Посвящается Саре
За жизнь, полную любви, дружбы и веры…
Я так рада, что ты моя сестра!
Если ты вверишь свои тайны ветру, не кори его за то, что он откроет их деревьям.
Х. ДжебранПролог
Солнечным днем прогалина на краю оврага напоминает сказочную поляну. Ленты золотистого света трепещут в верхушках деревьев, а птицы-звонари наполняют воздух звенящей песней. Теплый ветерок приносит пряный аромат полевых цветов, а глубоко в тенистой утробе оврага журчит по древнему руслу ручей.
Но затем, с приходом сумерек, небо быстро темнеет. Среди деревьев роятся, гоняясь за светом, тени. Солнечные лучи исчезают. Когда же с запада накатывает, неся дождь, строй черно-лиловых туч, птицы укрываются в зарослях акации и терновника.
Теперь, в ярком свете луны, это место выглядит совершенно по-другому. Напоминает ночной кошмар. Что-то потустороннее. Открытое пространство, поросшее серебристым мятликом, окаймлено эвкалиптами с черными стволами, а в центре высится валун в форме рыбьего плавника.
Меня влечет к валуну. Кажется, он шепчет что-то, у его основания возникают тени. Я подхожу ближе. По телу бегут мурашки. Я спотыкаюсь в темноте и останавливаюсь, прислушиваясь, стараясь различить звук голоса, приглушенный вскрик или рыдание, но слышу лишь стук дождя по листьям и свое прерывистое, хрипловатое дыхание. Ниже по склону глухо прыгают невидимые в кустарнике валлаби, а вверху кто-то размеренно подает голос – вероятно, кукушечья сова, аборигены называют ее «бубук».
– Брон… ты здесь?
Ответа я не ожидаю, но когда не получаю его, начинаю еще больше паниковать. Я ищу сломанную ветку, дорожку примятой травы, обрывок знакомой одежды, забытый на земле… но здесь нет ничего от моей дочери, ничего от мужчины, который ее похитил.
Я вглядываюсь в тени, пытаясь различить что-нибудь за силуэтами деревьев, которые меняются и качаются вокруг меня. Молния освещает земляную тропку, уходящую вверх по холму через подлесок. Я нерешительно продвигаюсь к ней, потом останавливаюсь. У меня холодеет затылок, когда я чувствую, что я не одна. Кто-то рядом – должно быть, он. Прячется среди деревьев. Наблюдает. Мне представляется, что он скользит по мне взглядом, прикидывая, как лучше нанести удар.
Когда он это сделает, я буду готова.
В любом случае именно это я не устаю себе повторять. По правде говоря, у меня складывается ощущение, будто я уже тысячу раз переживала этот сценарий, мешкая на пустынной поляне в ожидании, когда меня найдет смерть, но всякий раз ошибаясь в критический момент.
Воздух вдруг становится холодным. По моему лицу струится дождь. Деревья гнутся в разные стороны под порывами влажного ветра, и с верхних веток сыплются цветы, принося резкий запах эвкалипта.
Щелкает ветка, громко, несмотря на дождь; звук неприятный – словно косточка сломалась. Я круто поворачиваюсь в ту сторону. Сквозь тучи просвечивает, озаряя поляну, молния. Одинокая тень на другом конце прогалины привлекает мой взгляд. Она отделяется от общей тьмы и движется ко мне.
Я мгновенно узнаю его.
Крупный мужчина. Смутно белеет его лицо, влажно блестит кожа. При взгляде на его лицо кровь стынет у меня в жилах.
– Здравствуй, Одри.
И только теперь я вижу, что в руке он сжимает топорище.
Глава 1
Одри, сентябрь 2005 года
Грозовые тучи синяками пятнали небо над кладбищем. Была только середина дня, но уже стемнело. Большая группа собравшихся на похороны стояла на травянистом склоне холма, укрываясь под ветвями старого раскидистого вяза. На верхних ветках беспокойно перелетало с место на место семейство грачей, их крики только подчеркивали тишину.
Грачи. Тьма. Смерть.
Это пришлось бы Тони по душе.
Я с трудом сглотнула, желая очутиться где угодно, только не здесь; где угодно, только бы не стоять под дождем, дрожа от холода в позаимствованном черном костюме, мысленно прощаясь с мужчиной, которого я когда-то, как мне казалось, любила.
Бронвен стояла рядом со мной, на фоне темно-синего платья ее светлые волосы и кожа лица казались еще ярче. Ей было одиннадцать лет, высокая для своего возраста и поразительно красивая девочка. Она держала над нашими головами зонтик, тоненькие пальцы, сжимавшие рукоятку, побелели.
Невзирая на дождь, невзирая на взгляды и приглушенный шепот за нашей спиной, я была рада, что мы пришли. Кто бы что ни сказал, я знала, Тони был бы не против нашего присутствия здесь.
Гроб завис над могилой на надежных тросах, прикрепленных к стальной раме. На груду земли рядом, которая позднее заполнит яму, было наброшено покрывало из искусственной травы. Землю устилали громадные венки из белых лилий и алых антуриумов. Они выглядели дорого, и срезанные мною розы казались среди них неуместными.
Под дождем блестело все: латунные ручки гроба, гирлянды лилий, сгрудившиеся зонты. Блестела даже лысая голова священника, читавшего нараспев из Писания: «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя…»[1].
Дождь приглушал древние слова, произносившиеся с такой торжественностью, что, казалось, они идут из другого времени. Если бы они были правдой. Если бы Тони мог сейчас заговорить со мной, рассказать, что двигало им в последние, полные отчаяния дни.
Сверкнула молния, оглушительно грянул гром. Грачи снялись со своих мест и улетели.
Бронвен подвинулась поближе ко мне.
– Мам? – В ее голосе послышалась паника.
Блоки, державшие гроб на весу, пришли в движение. Длинный черный ящик начал опускаться. Я схватила Бронвен за руку, и мы прижались друг к другу.
– Все будет хорошо, Брон.
Я хотела ободрить ее, но каким образом все может снова быть хорошо?
В поисках поддержки я ухватилась за воспоминание: лицо Тони, каким я больше всего хотела его запомнить, – румяные щеки, черные волосы встрепаны, голубые, как сапфиры, глаза светятся, когда он смотрит на крохотный сверток – свою новорожденную дочь, которую держит на руках.
– Какая она красивая, – бормочет он. – Настолько красивая, что невозможно оторвать взгляд.
Бронвен потянула меня ближе к краю могилы, и вместе мы не отводили взгляда от гроба. Казалось невозможным, чтобы человек, который так любил жизнь, лежал теперь в этой болотистой земле под завесой дождя. Невозможным, что именно он из всех людей так легко сдался.
Бронвен поцеловала собранный ею для отца подарок и выпустила его из рук – он упал на крышку гроба. В свертке лежало ее письмо для него, пакетик его любимых лакричных конфет и шарф, связанный Бронвен к дню рождения отца. Я услышала шепот дочери, но дождь заглушил слова. Когда ее плечи задрожали, я поняла, что она сейчас заплачет, и сказала:
– Идем.
Мы повернулись и начали спускаться по склону к тому месту, где я поставила свою старенькую «Селику». Пока мы шли, к нам поворачивались головы, лица казались бледными на сером кладбищенском фоне.
Не обращая на них внимания, я на ходу обняла Бронвен за плечи. Рукав у нее промок, и сквозь ткань я ощутила холод тела. Девочке требовалось попасть домой, в кокон тепла и безопасности знакомой территории; ей сейчас были нужны суп с тостом, пижама, пушистые тапочки.
– Одри!
Я подняла глаза и от неожиданности отпустила Бронвен. Разом ослабела, во рту пересохло. Что за глупый страх? Я сделала вдох и обрела дар речи:
– Здравствуй, Кэрол.
Безупречное, словно вырезанное из мрамора лицо, прорывающееся во взгляде напряжение, волосы завязаны в узел на затылке. Я, как обычно, поразилась красоте этой женщины.
– Я рада, что вы пришли, – тихо проговорила она. – Тони захотел бы, чтобы вы обе присутствовали. Здравствуй, Бронвен, милая… Как ты?
– Хорошо, спасибо, – уставившись в землю, вяло ответила Бронвен.
Я достала ключи.
– Брон, подождешь в машине?
Дочь взяла ключи и поплелась вниз по мокрому склону. У подножия холма она пробиралась между автомобилями, пока не отыскала «Селику». Мгновение спустя она скрылась в салоне.
– Как она на самом деле? – спросила Кэрол.
– Справляется, – ответила я, не вполне уверенная, что это правда.
Мы стояли одни на склоне. Участники похорон, подгоняемые дождем, торопились вернуться в свои машины. Кладбище почти опустело. Кэрол смотрела вниз по склону, поэтому я украдкой пристальнее взглянула на нее – восхищаясь совершенными чертами ее лица, дорогой одеждой, манерой держаться. На Кэрол было черное платье, приталенное и элегантное, у основания шеи поблескивал кусочек льда. Вероятно, бриллиант. В уголках глаз собрались тоненькие морщинки, но они лишь усиливали ее очарование. Неудивительно, что ради нее Тони бросил все.
Кэрол поймала мой взгляд и нахмурилась.
– Я знаю, о чем ты думаешь. О том же, что и все остальные… Но ты ошибаешься. Мы с Тони отлично ладили, наш брак… – Она судорожно вздохнула. – Наш брак был как никогда крепким. Отношения у нас были хорошие в течение долгого времени.
– Ты не могла знать наверняка, Кэрол.
Она покачала головой, ее взгляд остекленел.
– Но ведь в том-то все и дело, верно, Одри?.. Уж я-то должна была знать.
– В поступке Тони нет ничьей вины. Не вини себя.
– Я не перестаю думать, что если бы я… проявляла больше внимания. Была бы заботливее. Понимаешь, в тот вечер, когда он уехал, я поняла: что-то произошло.
Я нахмурилась.
– О чем ты?
– Ну… мы сидели дома в гостиной. Я смотрела телевизор, а Тони пролистывал газету. Я взглянула на него, а он сидел, уставившись в пустоту… Страшно побледневший. Затем встал, сложил газету и направился к двери. И все повторял: «Они его нашли. Они его нашли». Потом вышел из дома. Я слышала, как завелся автомобиль, как зашуршали колеса по гравию дорожки. Тогда я видела его в последний раз.
– Что он имел в виду? Кого нашли?
Кэрол покачала головой:
– Не знаю. Потом уже я просмотрела газету, которую он читал, надеясь найти подсказку, но там не было ничего, что дало бы зацепку… Можешь представить, в каком я была отчаянии.
– Он не звонил?
– Нет, но десять дней спустя позвонили из полиции. – Кэрол шагнула ближе, стараясь поймать глазами мой взгляд. – Скажу тебе, что это было самое страшное потрясение в моей жизни. Тони умер, вот так. Когда мне сказали, что его тело нашли в Квинсленде, рядом с городком под названием Мэгпай-Крик, я подумала, что говорят о ком-то другом… Господи, это было так внезапно, так неожиданно. Я не знала, что у него есть ружье…
Я вздрогнула, и глаза Кэрол расширились. На ее реснице задрожала слезинка.
– Прости, – сказала Кэрол, – но это самое странное. Тони боялся огнестрельного оружия… он ненавидел любое насилие, ведь так?
С того самого момента, как я узнала о смерти Тони от общего друга, я не переставала размышлять на ту же тему. Гадать, почему Тони, приверженец мира, любви и доброй воли для всех, предпочел так ужасно закончить свою жизнь и любившим его людям оставить в наследство опустошение.
К моему удивлению, Кэрол схватила меня за запястье.
– Почему он это сделал, Одри? Как мог он поступить настолько эгоистично?
Внезапный пыл ее слов поразил меня. Я не успела найти утешительных слов – ни для себя, ни для Кэрол, – но она продолжила, впиваясь пальцами в мою руку:
– Ты всегда была так близка с ним… вначале в любом случае. Он никогда тебе не говорил о полученной в детстве травме, о чем-нибудь, что могло вернуться и мучить его? Никогда не болел, когда вы жили вместе? Он ничего не принимал? Во всяком случае, мне об этом ничего не известно, но он мог оберегать меня. А вдруг тут замешана другая женщина? Ах, Одри, с какой стороны я на это ни смотрю, не вижу в его поступке смысла.
У нее был затравленный взгляд, слегка покрасневшие глаза, кожа вокруг рта побелела. Я поняла, о чем она говорит: внешне Тони казался слишком уравновешенным, чтобы поддаться депрессии или жалости к самому себе. Однако же я не могла не вспомнить годы нашей совместной жизни – счастливые дни очень часто омрачались повторявшимися ночными кошмарами Тони, резкой сменой его настроения, периодами угрюмого молчания. Его почти маниакальным ужасом перед насилием, кровью. И его страстной ненавистью к любому огнестрельному оружию.
– Тони никогда не говорил о своем прошлом, – сказала я. – Какие бы тайны он ни хранил, он хранил их и от меня.
Кэрол отвела взгляд.
– Знаешь, Одри, если бы мы познакомились при иных обстоятельствах, то могли бы подружиться.
Я натянуто улыбнулась, понимая, что в ней говорит горе. Мы с Кэрол Джармен слишком разные и по отношению друг к другу можем быть только чужими людьми. Мы вращаемся в разных кругах, вышли из разных миров. Она была сдержанной, элегантной, красивой и наслаждалась образом жизни, о котором я могла только мечтать. Если бы не Тони, наши дорожки никогда бы не пересеклись.
Из висевшей на плече сумки Кэрол достала маленький, завернутый в ткань пакет.
– Вот что было среди его вещей. Я подумала, что ты захотела бы это иметь.
Я сразу же узнала шарф, который Тони привез из поездки в Италию, когда в первый раз летал на Венецианскую биеннале. В него было завернуто стеклянное пресс-папье из Мурано с замурованной в середине бабочкой цвета электрик.
– Спасибо.
Я ощутила прилив тепла. Сжав этот прохладный твердый предмет, я перенеслась в те дни, когда мы с Тони были счастливы.
– Возможно, больше мы не увидимся, – сказала Кэрол, – поэтому лучше ты услышишь это сейчас от меня, а не от адвоката.
Я оторвала взгляд от пресс-папье, все еще взволнованная радостными, но с оттенком горечи воспоминаниями.
– Услышу от тебя?..
– Тони оставил распоряжение о продаже дома в Альберт-Парке. Мне очень неприятно это говорить, Одри, но тебе придется освободить его в течение двадцати восьми дней. Я не стану выгонять вас, если вам потребуется больше времени… но мне бы хотелось как можно скорее его немного обновить и выставить на продажу.
Эта новость меня огорошила.
– В течение двадцати восьми дней?
– Не волнуйся. Тони даже не думал оставлять вас бездомными. Вы с Бронвен будете хорошо обеспечены, – загадочно добавила она. Вроде бы хотела сказать что-то еще, но лишь быстро пожала мою руку, потом круто повернулась и заспешила вниз по склону холма.
Когда Кэрол спустилась, друзья собрались вокруг нее; некоторые из них украдкой взглянули на меня. Затем ее торопливо сопроводили к веренице ожидавших автомобилей, где она нырнула в блестящий «Мерседес» и уехала.
Двадцать восемь дней.
Я крепко сжала пресс-папье. Тони никогда не рассказывал мне о своем прошлом, и его упрямое нежелание говорить о нем всегда обижало, словно он не считал меня достойной своего доверия. Теперь, сердито глядя на вершину холма, я ощутила груз обиды из-за его молчания, бередя во мне все старые сомнения и неуверенность. В тот момент мне ничего так не хотелось, как вернуться на холм и швырнуть пресс-папье в могилу – в качестве последнего горького прощания. Но снова пошел дождь. Земля промокла, и склон казался скользким.
Я сунула сверток в карман. При жизни Тони не принес мне ничего, кроме проблем; теперь, когда он умер, я не собиралась предоставлять ему такую же возможность. У «Селики» меня уже ждала дочь. Я пообещала это себе.
* * *
В других частях страны сентябрь возвещал начало весны. Здесь, в Мельбурне, он воспринимался окончанием зимы. Неделями льющий дождь, промозглые ночи и утра. Бесконечные серые небеса. Бывали дни – как сегодня, – когда казалось, что эта однообразная, мрачная пытка никогда не закончится.
В Альберт-Парке, популярном историческом пригороде, где мы жили, было как будто даже холоднее и противнее, чем во всех других районах. После похорон Тони мы были в подавленном настроении. Дрожа от холода, проследовали через парадные ворота и двор в дом. Внутри нас встретила тьма. Я прошла по дому, включая отопление и свет, пока весь он не засиял. От супа и тоста Бронвен отказалась, но слонялась по кухне, пока я готовила ей кружку горячего шоколадного напитка. Потом она скрылась в своей комнате.
В моей спальне стоял леденящий холод. Я засунула венецианское пресс-папье под груду одежды в нижнем ящике комода, потом бросила свой влажный костюм в корзину с грязным бельем. Натянув мягкие джинсы и старую футболку, я добрела до гостиной и уставилась там в окно.
Серебристые капли дождя сыпались на соседние крыши, превращались в сияющие нимбы вокруг уличных фонарей. Свет в окружающих домах светил, как бакены, но дальше, на заливе, вода скрылась под пеленой ранней темноты.
Задернув шторы, я встала в центре комнаты, обхватив себя руками. Постигая смерть Тони. В миллионный раз задаваясь вопросом, что на него нашло, сподвигло его зарядить ружье и закончить свою жизнь таким жутким способом. Тони был очень разносторонним: обаятельным и безумно успешным художником, великолепным отцом для Бронвен, подверженным ночным кошмарам страдальцем… а в конце эгоистичным негодяем-изменником; но я никогда не считала его человеком, который по своей воле причинит горе людям, что-то для него значившим.
Я переместилась в столовую. «Он умер», – напомнила я себе. Сколько ни строй догадок, это его не вернет. Не было смысла чувствовать себя покинутой мужчиной, который бросил меня несколько лет назад. И все равно я ощущала, как возвращается болезненное старое чувство обиды. Нас с Бронвен вот-вот насильно выставят из дома, который, по обещанию Тони, должен был оставаться нашим, сколько мы пожелаем. Он купил его в начале нашей совместной жизни после череды коммерчески удачных заграничных выставок. Позднее я не стала возражать, когда он предложил, чтобы дом остался записанным на его имя. Я была просто рада продолжать бесплатно жить в нем. Я была молода, горда. Зла на Тони и упрямо не желала чувствовать себя обязанной ему.
Но теперь мне было больно… больно за мою драгоценную дочь и за печаль, которая будет сопровождать ее всю жизнь. Больно за Тони, который, видимо, страдал глубоко в душе, и за Кэрол, мир которой вращался вокруг Тони. Больно за собственные эгоистичные, продиктованные страстью желания, которые иногда, в моменты беззащитного одиночества, нашептывали, что, возможно – благодаря чудесному повороту судьбы, – он однажды вернется ко мне. И мне было больно от бремени вопросов, оставшихся после него. Почему он так поспешно уехал в тот вечер, добирался потом несколько дней до какого-то маленького захолустного городка? Что в конце концов заставило его переступить черту?
Кэрол сказала, что просмотрела газету, но была не в том состоянии, чтобы как следует сосредоточиться. Я вспомнила, что Тони неизменно выписывал «Курьер-мейл». Он вырос под Брисбеном – один из очень немногих кусочков информации о его прежней жизни, которые мне удалось из него выбить, – и любил оставаться в курсе новостей Квинсленда.
Я включила ноутбук и вошла в Интернет.
Понадобилось некоторое время, чтобы прочесать результаты поиска по номерам «Курьер-мейл» перед смертью Тони. Ничего в глаза не бросилось. У меня заныла шея от долгого сидения за экраном, и я хотела уже отключиться, но в качестве последней попытки набрала название городка, где нашли тело Тони, – Мэгпай-Крик.
На экране появился единственный результат поиска.
ЗАСУХА РАСКРЫВАЕТ ТАЙНУ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ БРИСБЕЙН, пятница. Для большинства жителей нынешняя засуха в Австралии, сильнейшая за тысячу лет, оказалась причиной глубокой озабоченности. Маленькому сообществу Мэгпай-Крика в Юго-Восточном Квинсленде она принесла неожиданное разрешение тайны, которая двадцать лет назад поставила город в тупик.
В минувшую среду группа специалистов по охране окружающей среды, которая брала образцы воды у плотины в почти пересохшем озере Бригелоу в 24 километрах от города, обнаружила в иле автомобиль. Извлекшие машину пожарные и спасательные службы нашли в ней останки человеческого тела.
Полиция Мэгпай-Крика считает, что автомобиль мог принадлежать местному жителю, об исчезновении которого его семья сообщила в ноябре 1986 года. Для точной идентификации останков потребуется дождаться результатов судебной экспертизы и вскрытия.
Откинувшись на спинку стула, я смотрела на экран, пока изображение не начало расплываться. Может, я цепляюсь за соломинку, но стоило поразмышлять. Знал ли Тони пропавшего мужчину, был с ним близок? Возможно, этот мужчина был его другом в прошлом, родственником? Человеком, чья смерть значила для Тони достаточно, чтобы практически без единого слова покинуть жену и уехать за 1600 километров, отправиться в прошлое, которое он со всей очевидностью оставил позади?
В 1986 году Тони было четырнадцать. Значит, его отец? Об исчезновении которого сообщила семья Тони. Семья, существование которой – за те двенадцать лет, что я его знала, – Тони упорно отказывался признавать. Закрыв глаза, я попыталась обуздать несущиеся вскачь мысли. Это было маловероятно, скорее всего, простое совпадение. По всей видимости, не более чем поспешные выводы, плод разгоряченного воображения.
Выключив ноутбук, я отправилась на кухню и заглянула в холодильник. Он был набит едой, но рука автоматически потянулась к бутылке «Крауна». Пиво было ледяным, восхитительно увлажнившим мое пересохшее горло. Пока пила, я пристально смотрела в черный квадрат окна. В нем предстала женщина, в которую я превратилась за последние пять лет: ввалившиеся глаза, мертвенно-бледная кожа там, где должен быть здоровый румянец. В этом году мне исполнится тридцать лет, но мое лицо несло серую печать покорности человека гораздо более старого.
Я потерла щеки, пригладила волосы, выбившиеся из аккуратного хвоста, в который я стянула их, собираясь на похороны. Мне вспомнилась сдержанная элегантность Кэрол, и я состроила гримасу маленькой мальчишеской фигурке, отражавшейся в окне. Измученное личико мрачно пялилось на меня, молча обвиняя: «Ты видишь, почему он ушел? Видишь, почему он захотел ее, а не тебя?»
Я отвернулась от окна, прошла по коридору до комнаты Бронвен и тихонько постучала. Ответа не последовало, поэтому я приоткрыла дверь. Горела лампа. Дочь уснула поверх покрывала – ее светлые волосы веером разметелись по подушке, на лице остались следы слез. Она надела пижаму, подаренную отцом год назад, слишком тесную теперь и выцветшую от постоянной носки.
– Бронни? – прошептала я, гладя ее по волосам. – Давай-ка ляжем под одеяло, милая.
Еще полгода назад они с Тони неукоснительно виделись каждое воскресенье. Как только по всему просыпающемуся городу начинали звонить церковные колокола, Тони въезжал на своем ослепительно-черном «Порше» на подъездную дорожку и сигналил, а Бронвен бежала навстречу отцу. Я же тем временем пряталась в гостиной, плотно поджав губы и подглядывая сквозь жалюзи за Тони и дочерью. Шесть или семь часов спустя я слышала знакомый сигнал клаксона, и Бронвен влетала в дом, переполненная новостями о том, как замечательно они провели время. С горящими глазами и пылающими от радости щеками, она ворковала над подарками, которые ей купил отец.
Затем, шесть месяцев назад, эти визиты прекратились.
Тони перестал приезжать по воскресеньям. Забывал звонить, присылая вместо визитов дорогие подарки. Он без объяснения устранился из ее жизни. Я беспомощно наблюдала, как в дочери, словно болезнь, нарастает печаль, превращая мою светлую девочку в несчастное существо с печальным лицом, уныло слоняющееся по дому, как его привидение, а не живой обитатель.
Бронвен со вздохом перекатилась на бок. Поправляя одеяло, я коснулась ее лба легким поцелуем. Она пахла медом и шоколадом, свежевыстиранным бельем и лимонным шампунем. Безопасные, знакомые ароматы. Я уже хотела выйти на цыпочках, когда заметила прислоненную к ночнику фотографию. Я не видела ее много лет, и она вернула меня в прошлое, наполняя грустью.
Тони сидит на низкой бетонной стене на фоне водного занавеса при входе в Национальную галерею. Глаза сверкают за очками, с лица не сходит особенная, завораживающая улыбка. Он не был красив – слишком костистое лицо, большой нос, зубы чуточку кривоваты, – но умел привлечь к себе, обладал энергией, одновременно сдержанной и притягательной.
Я выключила лампу на ночном столике и унесла фотографию на кухню, прислонив ее там к банке с арахисом на стеллаже, чтобы разглядеть при полном освещении. Приятно было смотреть на его лицо, делать вид, что он все еще где-то здесь, идет по жизни, улучает, возможно, минутку, чтобы взглянуть на звезды и подумать обо мне.
Это почти помогло.
Потом я вспомнила гроб. Болотистый склон, зияющую могилу под вязом. Теперь на кладбище уже темно, тополя и кипарисы поникли под тяжестью дождя, небо царапают пальцы молний.
Хотя я не видела Тони много месяцев, тоска по нему вдруг сделалась невыносимой. С ним я была другой – сильной, талантливой. Я больше смеялась, меньше беспокоилась, открывала и находила удовольствие в самых неожиданных вещах. Когда он ушел, я снова забралась в свою скорлупу – находя спасение в работе, пренебрегая друзьями, отчаянно желая забыться. Мучимая осознанием того, что любимый мной мужчина больше меня не любит.
Единственным светом в том темном времени была Бронвен. Несмотря на недоумение из-за ухода отца, она была веселой, мудрой явно не по своим шести годам. Я с головой погрузилась в материнские заботы и была вознаграждена моментами тесной связи, которые редко случались прежде. Даже младенцем Бронвен тянулась к отцу – она была крохотной луной, вращавшейся вокруг планеты по имени Тони, боготворящей и постоянной. Она прибегала ко мне с разбитыми коленками, чтобы я налепила пластырь и пожалела, но потом всегда спешила к Тони, зная, что только он может поцелуями успокоить боль, прогнать неприятности, добиться улыбки на ее младенческих губках.
Но после ухода Тони мы стали по-настоящему близки. Бронвен хихикала как безумная и обнимала меня за талию, настаивая, что я самая красивая, лучшая, приятнейшая мама на всем свете… и эти моменты меня и спасли.
Я вздохнула.
– Черт побери, Тони. Зачем тебе понадобилось еще и умиреть?
Мы познакомились в художественной школе. В семнадцать лет я была катастрофически застенчивой, но преисполненной решимости утвердиться в качестве фотографа. Я выросла рядом с тетей Мораг и после ее смерти нашла в ее вещах бокс-камеру «брауни». Я быстро превратилась в одержимую фотографией, а когда узнала, что есть люди, которые зарабатывают на жизнь этим ремеслом, то твердо решила включить себя в их число. Не зная, с чего начать, я поступила в Викторианский колледж искусств.
Тони учился на отделении живописи и был на несколько курсов старше. Талантливый, загадочный, популярный, забавный – и это привлекало, – он был, однако же, странно уязвимым. Почти полгода мы постоянно встречались в местном баре, прежде чем я набралась смелости заговорить с ним. К моему недоумению и удовольствию, мы быстро сошлись. Не прошло и года, как я забеременела. Я забросила занятия, не в состоянии думать ни о чем, кроме Тони и малыша. По мере того как внутри меня развивался наш ребенок, росла и моя уверенность. Тони любил меня, и мир был счастливым местом обитания. Тоненькой струйкой текли заказы на фотоработы, и впервые в жизни я почувствовала, будто нахожусь на своем месте – по-настоящему на своем.
Успех пришел к Тони быстро. Он начал продавать картины через первоклассные галереи, создавая себе имя, работая как никогда много. Его пригласили на Венецианскую биеннале – в то время для него это было кульминацией карьеры, а также памятной вехой в нашей совместной жизни. Бронвен родилась вскоре после его возвращения с выставки, и казалось, что жизнь не может быть лучше. Она была настолько, как во сне, хороша, настолько сказочно идеальна, что делалось не по себе. Тогда-то и начался разлад. Медленно, так медленно поначалу, что я едва это замечала.
Тони стал больше времени проводить вне дома. Он работал в студии, по его словам, готовясь к большой групповой выставке в Национальной галерее. За последующие несколько лет ситуация усугубилась. Чем больше Тони занимался своей карьерой, тем крепче я за него цеплялась… И чем крепче я за него цеплялась, тем дальше он отстранялся.
Я грызла ногти до мяса, целыми ночами бродила по дому, не в состоянии уснуть. Мои снимки сделались темными и какими-то тревожными: дети с ввалившимися глазами; одинокие старики, кормящие голубей или смотрящие на море. Голые деревья, разрушенные здания, пустые детские площадки. Страх выхватывал куски из моего счастья, оставляя дыры, залатать которые у меня не было способов. На поверхности жизнь продолжалась как обычно. Мы возили Бронвен на пляж или совершали долгие поездки за город, мы помогали организовывать школьные концерты, посещали балетные спектакли, а потом – матчи по нетболу, как безумно любящие родители, какими, собственно, и были… Но внутри мы оба чувствовали отчаяние.
Мы постоянно ссорились. Причиной оказались деньги. Мы перестали заниматься любовью. Поэтому, когда Тони начал приходить домой все позже и позже, а затем вообще не приходить, я поняла, что конец близок.
Как же я ошибалась. Конец уже наступил без моего ведома.
Пронзительно зазвонил телефон на кухонном стеллаже, прервав поток моих мыслей. Я слушала звонки, дожидаясь, чтобы проснулся автоответчик. Впереди меня ждал целый вечер депрессии, и я собиралась насладиться им по максимуму. Но потом, в последнюю минуту, я запаниковала и рванулась к трубке.
– Алло?
– Мисс Кеплер, это Марго Фрейзер, адвокат Тони. Простите, что звоню так поздно, но мне нужно обсудить с вами неотложное дело. Вы свободны завтра?
Я замерла. Адвокат Тони? Мозг забурлил, взбивая в грязную пену вину и тревогу. Мой долго спавший инстинкт самосохранения вырвался наружу. «Скажи что-нибудь, – предостерег он, – сойдет любой предлог, чтобы выиграть время».
– Завтра – суббота, – неуклюже сообщила я.
– Это касается завещания Тони, – объяснила адвокат, – и дело довольно срочное. Завтра я буду в офисе до четырех часов, но могу заехать к вам домой, если это удобнее.
Страх пронзил меня и узлом связал желудок. Меньше всего я хотела, чтобы здесь появлялись официальные лица. Глупо, но меня так и подмывало сказать ей о свободной комнате – там я хранила все коробки с книгами, старый велосипед Бронвен и груды нетронутого шитья, которое годами собирало пыль. Наверняка она не собирается настаивать, чтобы мы немедленно освободили дом?
– Мисс Кеплер, вы меня слышите?
– Да, завтра подойдет. Я заскочу в офис.
Она продиктовала адрес, потом добавила:
– Где-то после обеда, скажем, в два часа? Это ненадолго, но если у вас возникнут какие-то вопросы, у нас будет время с ними разобраться.
– Отлично, – торопливо ответила я, вечная трусиха. – Увидимся.
* * *
– Вот, держи.
Субботним утром в кухне пахло подсушенным хлебом и свежим кофе. За окном лил дождь. Стекла затуманились, отрезая нас от остального мира. Обычно я любила слушать, как дождь барабанит по крыше и шипит в водостоках. Сегодня этот звук выводил из равновесия, он напоминал, что безопасный мирок, который мы здесь создали, вот-вот рухнет.
Бронвен толкнула меня локтем, постукивая пальцем по разделу объявлений о сдаче жилья в газете, которую развернула перед собой на столе.
– Что скажешь?
Я бессмысленно смотрела на море печатного текста. Минувшей ночью сон опять обманул меня, заманив на край столь необходимого забытья и сбежав в тот самый момент, когда я начала погружаться в дремоту. Я видела могилу Тони в окружении промокших цветов, быстро наполняющуюся водой, и постоянно слышала нетерпеливые слова Кэрол: «Почему он это сделал, Одри? Почему?»
Я глотнула кофе.
– Сколько?
Бронвен одобрительно хмыкнула.
– Триста девяносто в неделю. Вторая ванная. Выглядит мило.
Кофе обжег мне горло, и я слегка поперхнулась. Вторая ванная комната – это прекрасно, но триста девяносто? Наш беспорядочный дом имел свои недостатки, но он был бесплатным. Тони никогда не платил алиментов – я отказала ему в этом удовольствии. Вместо этого согласилась остаться в старом доме после его переезда к Кэрол. За пять лет, что мы с Бронвен прожили здесь одни, я отложила приличную сумму, которая в один прекрасный день пойдет на покупку нашего собственного дома. Мне требовалось всего-то еще несколько лет…
– А подешевле ничего нет?
– Это самая дешевая, мама. Разве только втиснуться в однокомнатную.
Я потерла глаза, живо представляя, как отложенные мной деньги стремительно засасывает воронка чужой ипотеки.
– Может, в завтрашней газете что-то будет.
– Завтра воскресенье. – Скользя пальцем по странице, Бронвен со знанием дела продолжала просматривать объявления. – По воскресеньям про недвижимость они не печатают.
Я воззрилась на нее, удивляясь, откуда одиннадцатилетнему ребенку известны такие вещи. Удивляясь, как ей удается сохранять такое спокойствие, когда у меня немилосердно сосет под ложечкой. Я взглянула на часы над холодильником. Предстояло еще полдня пытки. Затылок у меня просто одеревенел. Я повела плечами, чтобы ослабить напряжение, затем попыталась сосредоточиться на пальце дочери, прокладывавшем путь по лабиринту списка потенциального нового жилья.
Палец резко остановился. Бронвен внимательно на меня посмотрела:
– Ты без конца смотришь на часы. Мы куда-то едем?
– Адвокат твоего отца хочет увидеться со мной сегодня днем. Это не займет много времени. Я заброшу тебя на нетбол и очень скоро вернусь, чтобы забрать.
Глаза Бронвен расширились.
– Он что-то нам оставил?
Я пожала плечами, не желая возбуждать в ней надежды.
– Кэрол могла передумать насчет двадцати восьми дней. Она может пожелать, чтобы мы раньше освободили дом.
– Поедем вместе.
Я колебалась. Воскресенья, занятые некогда встречами с отцом, Бронвен проводила теперь в своей комнате – внимательно рассматривая их общие фотографии, перебирая памятные вещицы, отказываясь есть почти до вечера, когда покидала свое укрытие с красными глазами. Серьезная, как жрица. «Она оплакивала отца задолго до его смерти», – осознала я.
– Пожалуйста, мам. – Она умоляюще посмотрела на меня голубыми, как весенняя вода, глазами.
– Это будет скучно.
– Пожалуйста.
Я вздохнула. Кэрол намекнула, что Бронвен будет хорошо обеспечена. Что бы там Тони ей ни оставил, это не возместит ущерб, который он нанес, устранившись из ее жизни. Но может послужить желанным утешением. Я молилась, чтобы он оставил ей что-то удивительное, чтобы Бронвен поняла – он действительно ее любил.
– Хорошо, – согласилась я. – Только не сильно обольщайся.
* * *
– Мэгпай-Крик?
Сердце у меня ёкнуло. Там умер Тони, и, внезапно охваченная дурным предчувствием, я поняла, что этот городок, видимо, значил для него больше, чем случайное место назначения. Я вспомнила статью в «Курьер-мейл» о найденных в запруде человеческих останках и спросила себя, не слишком ли поспешно отбросила связь между этими фактами.
Я прочистила горло.
– Это в Квинсленде, да?
Сидевшая за громадным дубовым столом Марго тепло улыбнулась.
– Примерно час на юго-запад от Брисбена. Очень красивые места, мне говорили. В основном сельскохозяйственные земли, но есть и живописные вулканические горы, которые вызывают большой интерес у туристов. Городок маленький, но в нем есть процветающее художественное сообщество и несколько отмеченных наградами кафе, а также обычные блага цивилизации.
Бронвен сидела на кожаном стуле рядом со мной, подавшись вперед, пристально глядя на лицо адвоката. Девочка выглядела старше своих одиннадцати лет: может, из-за темно-синего платья и нарядных черных сандалий, надетых по ее настоянию. Она, возможно, повеселела от новости об отцовском наследстве. Значительный трастовый фонд, доступ к которому она получит, когда ей исполнится двадцать один год, и огромная, выдержанная в нежных тонах акварель, изображающая малиновку, которой она давно восхищалась.
Но самое поразительное Тони оставил мне.
– Дом, – восхитилась я, неловко поерзав на стуле. Я не могла не гадать, нет ли здесь подвоха. – А как же жена Тони?
Марго кивнула:
– Кэрол удовлетворена решением Тони; она проинформировала нас, что не станет опротестовывать завещание. Итак… Тони оставил ключи на хранении в нашем офисе. Процесс официального утверждения завещания должен занять около месяца, после чего ключи и все документы будут переданы вам. А пока вы, возможно, захотите узнать немного больше об этом владении?
– Конечно.
Марго открыла папку.
– Изначально Торнвуд принадлежал деду Тони, но, полагаю, вы это уже знаете?
Я покачала головой:
– Впервые об этом слышу.
– Что ж, у вас есть все возможности сполна им насладиться, – проговорила она, достала большую цветную фотографию и положила ее перед нами на стол. – Это усадьба. Роскошная, правда? Ее построили в тридцать шестом году, классический дом старого Квинсленда, с четырьмя спальнями. Он полностью меблирован. Насколько я понимаю, Тони решил ничего не менять в поместье по личным причинам. Там есть огород, сад, доступ к ручью… На окружающих поместье холмах сохранился маленький домик, который, видимо, был настоящей хижиной первых поселенцев, построенной, по всей вероятности, в конце девятнадцатого века.
Снимок запечатлел великолепную резиденцию с тенистой верандой, шедшей вокруг всего дома. Двойные эркеры с витражными стеклами, а по краю карниза – фестоны чугунного кружева. Окружающий сад представлял собой лабиринт из древовидных гортензий и кустов лаванды, а по травянистому склону вилась, поднимаясь к широкой гостеприимной лестнице, кирпичная дорожка. На лужайке, где стояла увитая розами дивная старая беседка в темно-красных кляксах цветов, плясали пятна солнечного света.
– Дом сам по себе великолепен, – продолжала Марго, – но, как у любой собственности, подлинной ценностью является земля. Общая площадь поместья две тысячи пятьсот акров… немногим более тысячи гектаров. К владениям примыкают две другие большие фермы, но бо́льшая часть территории соседствует с Национальным парком Гоуэр. У вас двести акров пастбищ с плодородными темными почвами, запрудами, оградами, непересыхающим ручьем… И, согласно отчету, там потрясающие виды.
Бронвен вздохнула.
– Мам, он идеален.
– Мы не собираемся там жить, – поспешила возразить я.
– Но, мама…
– Мы продадим его и купим себе жилье здесь, в Мельбурне.
Бронвен скорбно на меня взглянула, но я проигнорировала ее и вернулась к фотографии. После смерти Тони я поклялась забыть его… ради себя и ради Бронвен; как это возможно, если мы будем жить в доме его деда? Старое поместье выглядело огромным, запутанным и таинственным. Наверное, полным тайн, изобилующим привидениями, насыщенное воспоминаниями других людей.
Воспоминаниями Тони.
Марго достала еще одну фотографию: снимок с высоты, на котором видно было, что поместье имеет форму сердца и все заросло деревьями. Участок расчищенного пастбища шел по самой южной границе – зеленое лоскутное одеяло, сшитое заборами и усеянное коричневыми пятнышками запруд. В центре снимка усадебный дом – прямоугольник железной крыши, окруженный разросшимися садами, которые взбирались на холм и исчезали в буше[2]. К северо-западу уходила гряда холмов, в основном лесистая, но виднелись и голые площадки, на которых из ржаво-красной земли выступали скальные выходы.
– Если вы все же передумаете и решите жить в Торнвуде, – сказала Марго, – работы там совсем немного. Почти все пастбища можно сдавать по договору в аренду, а значит, у вас будет дополнительный доход от фермерского скота, который будет пастись на вашей земле. Остальное – натуральный буш, поэтому, если не считать общего ухода за территорией вокруг дома, с такой собственностью вы можете просто сидеть и наслаждаться жизнью.
Она собрала фотографии и сунула их назад в папку.
– Ну а теперь, полагаю, вам не терпится узнать, сколько он стоит.
В комнате сгущались сумерки; свет, просачивавшийся в комнату через окно, приобрел серый оттенок. Стул подо мной заскрипел, когда я пошевелилась. Ветхий старый дом в дикой местности, до которого отовсюду ехать и ехать; несколько участков, на которые можно пускать скот, несколько земляных запруд. От чего тут можно прийти в восторг?
Я кивнула.
Марго написала в блокноте, вырвала верхний листок и благоговейно положила его на стол перед нами.
Бронвен ахнула.
Адвокат одобрительно улыбнулась:
– Наверняка стоит того, чтобы взглянуть на него хоть одним глазком, вам не кажется?
Глава 2
В начале октября мы высадились в аэропорту Брисбена. Пока мы шли по блестевшему асфальту, из моих костей понемногу испарялась зимняя серость. Я начала потеть в толстом кардигане. Бронвен уже снимала спортивную куртку, торопясь подставить солнцу свои нежно-белые руки. Я знала, что через несколько минут она сравняется по цвету с вареным омаром, но тепло было настолько восхитительным после месяцев холода, что я решила не мешать ей наслаждаться им.
В конце концов, мы приехали сюда всего на день.
Моя миссия – осмотреть полученное от Тони старое поместье и прикинуть, какой текущий ремонт ему требуется. Затем заручиться поддержкой местного агентства по недвижимости, чтобы поместье продать. Если верить адвокату Тони, стоимость Торнвуда намного превосходила мое разумение… но не поэтому я так хотела от него избавиться. Конечно, деньги станут даром, который изменит всю нашу жизнь. Мой доход фотографа на вольных хлебах часто бывал неравномерным; что греха таить, чтобы приехать сюда, я запустила руку в свои сбережения. Мои колебания сложно было облечь в слова, но я понимала, что лежит в их основе: Тони доставил море радости моей дочери за ее пока еще короткую жизнь… и море печали. Ради Бронвен – и ради себя – я знала, что настало время освободиться от призрака Тони и двигаться дальше.
К середине дня мы вырвались из городских пробок и в коконе кондиционера ехали по широким сельским дорогам. Сверкающий наемный автомобиль последней модели летел по гудронированному шоссе как птица, едва реагируя на выбоины и гравийные ловушки, и уносил нас на юго-запад в направлении Мэгпай-Крика.
Всю дорогу из аэропорта Бронвен болтала, но едва мы оставили позади себя унылую монотонность городских окраин, дочь умолкла. Теперь она сидела, неотрывно глядя в лобовое стекло, как будто заставляла автомобиль поглощать дорогу и везти нас быстрее.
В путешествие Бронвен надела привычные джинсы и майку и убрала свои светлые волосы под платок в горошек, подаренный отцом на последний день рождения. Я поняла ее жест. Она надела его для Тони, и от одного вида этого платка, обрамлявшего ее пылающее лицо, мне было не по себе. Интересно, что она надеялась найти в Торнвуде? Реликвии детства ее отца, а возможно, разгадку причины, по которой он отсутствовал в ее жизни последние полгода? Или, может, ей, как и мне, любопытно было посмотреть на мир, который Тони так долго прятал от нас?
Дорога поднялась круто вверх по холму, затем резко пошла вниз по краю далеко простирающихся долин. Мы миновали несколько жалких лоскутков буша, но угодья в основном были фермерскими. Огороженные участки свежевспаханной ржаво-коричневой земли и зеленые пастбища со стадами сонных крупных коров чередовались на фоне островерхих холмов и скалистых гор. Благодаря скромному исследованию, которое я предприняла перед поездкой, я знала, что эти горы вокруг Мэгпай-Крика были когда-то частью действующего вулкана, потухшего более двадцати пяти миллионов лет назад. Первые поселенцы, прибывшие сюда в семидесятых годах девятнадцатого века, рубили заросли акации, чтобы построить свои хижины, а затем – города. Заготовка древесины стала главной промышленной отраслью – сосновые, можжевеловые, палисандровые и эвкалиптовые леса были вырублены и вывезены, а землю засеяли травой под разведение молочного скота. Теперь холмы стояли в основном голые, их вулканическое прошлое проступало сквозь бархатистый покров пастбищ, словно торчали костлявые колени и локти спавших под ним великанов.
– Почему папа никогда не рассказывал о местах, где он вырос? – вдруг спросила Бронвен.
– Возможно, он хотел забыть старую жизнь и двигаться дальше.
– Почему?
– Иногда люди перерастают свои родные места. По мере взросления им становится тесно, поэтому они отправляются на поиски дома, который больше им подойдет.
– Ты имеешь в виду, как краб-отшельник? Когда он вырастает из своего панциря?
– Что-то вроде этого.
– Хотя на самом деле он ведь не ушел от этого, правда, мама?
– В каком смысле, милая?
– Все это… – Она махнула в лобовое стекло. – Холмы с острыми вершинами и серые старые деревья, большое широкое небо. Мы как будто едем через одну из его картин.
Она замолчала, и я поймала себя на том, что новыми глазами смотрю на проносящийся за окном пейзаж. Внезапно во всем, что я видела, отразилась знакомая палитра Тони: серовато-сиреневые холмы, землисто-красные обочины, пепельно-белые стволы деревьев, листья с кончиками цвета лайма, безоблачное лазурное небо.
Должно быть, Тони любил эти места. Вулканические остатки, остролистые травяные деревья – ксанторреи; буш с точками пальм и речных запруд и холмистые зеленые загоны. И однако же он никогда не говорил о своем доме, семье, школьных годах, друзьях или о земле, которая так очевидно вдохновляла на работу его жизни. Я даже отдаленно не могла представить почему, но одно было ясно – в детстве, о котором Тони не рассказывал, таились дурные воспоминания, воспоминания, с которыми ему, даже взрослому, было слишком больно сталкиваться.
Я вспомнила о найденной мной статье в «Курьер-мейл»: в илистой запруде обнаружены останки человека, который пропал двадцать лет назад. Сидя в Мельбурне, легко было отмахнуться от этого как от совпадения, но мчась через этот вибрирующий пейзаж, так напоминающий картины Тони, я засомневалась. «Они его нашли», – сказал Тони. «Они его нашли». Так, значит, он все же знал человека, останки которого нашли в запруде?
Оторвав пальцы от руля, я похлопала себя по карману джинсов. Большой железный ключ, лежавший там, внушительно напоминал, что мы едем прямиком в прошлое. В прошлое Тони. Внезапно это показалось мне не такой уж блестящей идеей, и если бы не Бронвен, я, наверное, развернулась бы и поехала домой.
Как раз после двух часов мы въехали на пыльные улицы Мэгпай-Крика. Миновав громадную проволочную скульптуру лошади, мы через круговую развязку попали на широкую улицу, обсаженную деревьями. На веранде классического старого паба сидела пожилая пара, но в остальном город казался заброшенным. Я насчитала два винных магазина, станцию техобслуживания «Би-Пи», станцию техобслуживания «Калтекс», четыре крохотных кафе и милое своей старомодностью маленькое почтовое отделение. Имелся даже исторический с виду кинотеатр, а при нем рекламный щит с плохо приклеенными афишами и шелудивый пес, обнюхивавший вход. На верхних ветках огромного фигового дерева кишмя кишели красные попугаи-розеллы, и только их пронзительные крики нарушали тишину.
– Город-призрак, – сказала Бронвен.
– Просто людям слишком жарко на улице, – возразила я. – Вероятно, они толпой выходят из домов после захода солнца.
– Да, как кровососущие зомби.
Я улыбнулась.
– Вон там продают рыбу с чипсами. Хочешь остановиться и перекусить?
– Я не голодна.
Она упорно, с явным нетерпением смотрела в лобовое стекло, глаза ее горели. Я догадалась, что, голодная или нет, она не намерена тормозить наше путешествие, отвлекаясь на такие пустяки, как еда.
Вскоре городок остался позади. На карте, которой снабдила нас адвокат Тони, было ясно отмечено название нужной нам дороги, но прошло почти пять минут, прежде чем я заметила покоробленный старый указатель. Он опасно низко наклонился к дороге, испещренный дырками от пуль, пробитая надпись почти не читалась.
– Вот она, – возбужденно проговорила Бронвен, – Брайарфилд-роуд.
Мы неслись мимо зеленых загонов и по узким, похожим на коридоры участкам дороги среди густого буша, маневрируя на затяжных поворотах и подпрыгивая на тряских мостах и металлических прутьях, позволявших машине преодолевать канавы, но мешавших сделать это животным. В какой-то момент мы проехали мимо больших деревянных ворот – за ними поднималась на холм, к полуразрушенному строению, гравийная дорога. Я ехала дальше, но не видела ничего, напоминавшего старое поместье Тони. Спустя примерно милю асфальтовая дорогая сменилась грунтовой, затем резко оборвалась перед стеной буша.
Остановившись на обочине, я изучила карту. Потом обернулась и, прищурившись, посмотрела туда, откуда мы приехали. Вдоль дороги маячили деревья, редкая тень пряталась у их подножия. За жарким маревом протянулись во весь горизонт доисторические холмы. Я ничего не узнавала. Не было ни зданий, ни знакомых скалистых образований. С таким же успехом мы могли высадиться на Луну.
Бронвен, прищурившись, посмотрела на меня.
– Мам, мы заблудились?
– Конечно, нет.
– Тогда где мы?
Я сунула скомканную карту назад в свою сумку-торбу, включила двигатель и развернула машину.
– Мы вернемся на главную дорогу, – решила я. – На сей раз гляди в оба. Вероятно, мы благополучно проехали мимо.
* * *
Я неслась по грунтовке, вздымая тучу пыли, так мне хотелось поскорее увидеть что-нибудь знакомое. Потом, к своему облегчению, я заметила на вершине холма строение, мимо которого мы проехали раньше.
Свернув на обочину, я опустила стекло и посмотрела на холм. Маленькое, обшитое досками бунгало казалось заброшенным, но я заметила потенциальные признаки жизни: припаркованные перед ним два автомобиля и вяло развевавшиеся на веревке майки.
Я вышла из машины и сдвинула в сторону ворота, упиваясь воздухом, пропитанным ароматом цветов. В придорожной траве голосили цикады, в отдалении хором пели лягушки-быки. Единственными другими звуками было пощелкивание перегретого мотора машины и шепот колеблемых ветром листьев.
Мы проехали вверх по дорожке и остановились позади других машин. Одна из них была безупречно отреставрированным винтажным «Валиантом». Соседний автомобиль оказался старым «Холденом» – пикапом с лысой резиной и потрескавшимся лобовым стеклом; его помятый кузов был наполовину съеден ржавчиной.
Я направилась прямиком к бунгало. С его дощатой обшивки, изъеденной временем и непогодой, отслаивалась краска. Ни на одном из окон не было занавесок. Кровельное железо загнулось с одной стороны, как крышка на банке из-под сардин. Лишь пышная виноградная лоза, затенявшая входную дверь, придавала уютности этому во всех остальных отношениях неказистому жилищу. Широкие листья, облитые солнечным светом, укрывали вход прохладной зеленой тенью.
Когда я поднималась на крыльцо, где-то внутри залаяла собака.
– Заткнись, Альма! – раздался ворчливый голос, и лай прекратился.
Сетчатая дверь со стуком открылась. На веранду вышел высокий, похожий на пугало мужчина. Ему было лет шестьдесят, редеющие белоснежные волосы нимбом торчали вокруг его головы. Поношенные рабочие штаны в черных пятнах, ветхая рубашка из фланелета[3]. Одно из стекол в очках заклеено непрозрачной липкой лентой.
– Простите за вторжение, – сказала я, – но мы немного заблудились.
– А что вы ищете? – спросил мужчина.
– Я ищу поместье под названием Торнвуд. В адресе сказано, что оно находится на Брайарфилд-роуд, но я проехала туда и обратно и, похоже, не могу его найти.
Пока я говорила, сетчатая дверь снова скрипнула и появился второй мужчина. Он был почти не отличим от первого, лишь выше ростом и более худой. Штанины его джинсов были завернуты до колен, обнажая тощие ноги с костлявыми голыми ступнями. Редкие седые волосы были всклокочены, а на лице застыло выражение озадаченности. Он нерешительно меня разглядывал.
– Что происходит? – проскрипел он, и я узнала голос, который успокаивал собаку.
– Все в порядке, старина, – сказал первый мужчина. – Она заблудилась.
– А что она ищет?
Пауза.
– Торнвуд.
Более высокий мужчина вздрогнул и бросил на меня испуганный взгляд. Не говоря больше ни слова, он юркнул назад в полумрак входной двери и исчез в доме.
– В Торнвуде никто не живет, – сказал мне первый мужчина. Его тон переменился, он заговорил более отрывисто: – Дом многие годы стоял пустой. Вы уверены, что ищете именно это владение?
– Да.
Мужчина смерил меня взглядом прищуренных глаз, надеясь, возможно, на дополнительные объяснения. Когда таковых не последовало, он шагнул ближе, свысока глядя на меня с явным недоверием.
– Вы забрались слишком далеко. Торнвуд стоит на Олд-Брайарфилд-роуд, но ее нет ни на одной карте. Видите вон тот холм? – Он указал на крутой бугор позади дома, его подножие густо заросло эвкалиптом, голая вершина представляла собой груду булыжника. – Торнвуд по другую сторону. Видите тот блеск вдалеке за деревьями? Это крыша усадьбы.
Я прищурилась, но увидела только бесконечные серые стволы и блестящие, залитые солнцем листья. Я снова посмотрела на мужчину. Он по-прежнему хмурился в сторону холма, что дало мне возможность рассмотреть мужчину с близкого расстояния. У него были резкие черты лица, задубевшая кожа; его легкие, пепельно-белые волосы жили, казалось, своей собственной жизнью. Когда-то это было дружелюбное лицо, но время сделало его угрюмым. По бокам рта скобками залегли складки, щеки прорезаны морщинами. Из-за клейкой ленты на стекле очков виднелся рубчик шрама.
– Отсюда всего полчаса пешком, – пояснил он, – но по дороге пара миль. Просто вернитесь в город. Олд-Брайарфилд-роуд будет первым поворотом налево.
Я поблагодарила его и направилась к машине. Услышала, как за спиной у меня хлопнула сетчатая дверь. Потом, в последовавшей прозрачной тишине, с другой стороны сетки донеслись два приглушенных голоса. О чем они говорили, я разобрать не могла, но тихие голоса звучали взволнованно, на грани паники.
Я дошла до автомобиля и села в него.
– Мы здорово заблудились? – пожелала узнать Бронвен.
– Вообще не заблудились, – ответила я. – Осталось всего несколько минут, и мы у цели.
Дочь испустила сдавленный вопль, поудобнее уселась на пассажирском сиденье, возбужденно барабаня каблуками по полу.
Шины автомобиля заскрежетали по гравию. У подножия холма я вышла и задвинула ворота. Набрасывая цепь, я посмотрела на ветхое бунгало, но двух мужчин видно не было. Позади домика наползала на склон холма чернильно-черная тень, окрашивая голые скальные выходы в оттенки серо-фиолетового.
Бронвен болтала. Радостно, нетерпеливо. Что-то о семействе черных валлаби, припавших к земле на обочине и наблюдавших, как мы едем мимо, но ее слова плыли, не затрагивая моего разума. Я вдруг почувствовала себя не в своей тарелке – незваным гостем в мире, в котором у меня не было права находиться. Горожанка на просторах, которые если и не были в буквальном смысле враждебны, все же определенно заставляли меня нервничать.
Автомобиль потряхивало на пыльном асфальте, колеса подскакивали на выбоинах и железных прутьях над канавами. Я так крепко сжимала руль, что у меня заболели суставы. «С каким облегчением я продам этот старый дом, – сказала я себе. – Наконец-то избавлюсь от Тони и заживу своей жизнью». И все же не могла отделаться от ощущения, что в игру вступила судьба… и – несмотря на мои усилия освободиться, – стремительно несет меня навстречу чему-то, но к этой встрече я совершенно не готова.
* * *
– Это же трущоба!
Бронвен распахнула дверцу машины, прежде чем я успела выключить двигатель. Кинувшись по обочине к старому поместью, она пробежала по кирпичной дорожке и взбежала на парадное крыльцо. Я услышала, как она забарабанила в дверь, а мгновение спустя дочь растворилась в густой тени веранды.
Выбравшись из автомобиля, я стояла на упругой траве и разглядывала дом, оставленный мне Тони. Выстроенный на взгорке, слабо отсвечивающий под ослепительным солнцем, он представал во всем великолепии убожества, обветшания и запущенности. Краска отслаивалась, часть водостоков выпала из креплений и повисла, цветущие лианы душили веранду и, поднимаясь по стенам, завоевывали крышу. Другие ползучие растения и сорняки заполонили сад, а очаровательная старая беседка была заброшена, ее розы давно погибли. Торнвуд и близко не напоминал ухоженное поместье из папки адвоката, и на предпродажный косметический ремонт потребуется далеко не один день.
И тем не менее он был красив. Фестоны чугунного кружева на карнизах, парадная дверь, обрамленная панелями из травленого стекла. Широкие лестницы манили, а громадные витражные окна в свинцовых переплетах подмигивали на солнце красным, синим и янтарным цветом, приглашая подойти поближе.
Пока я шла по извилистой кирпичной дорожке, одуванчики хлестали меня по ногам, и я испытала забавное ощущение возвращения назад во времени. В памяти промелькнуло детское чувство предвкушения и тоски, какое переполняет тебя рождественским утром.
Поднявшись по ступенькам, я прошла по веранде к парадной двери и достала ключ. Вставляя его в замочную скважину, отметила, что пальцы дрожат. Дверь со скрипом открылась, и меня окутал запах плесени. Собрав тающие запасы мужества, я смахнула паутину и шагнула внутрь.
Узкая передняя вела в обширную гостиную. Высокий потолок был затянут паутиной, частью обитаемой. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь грязные окна, усеивая беспорядочными мазками протертый персидский ковер. Доски пола вокруг ковра были тусклыми от пыли, усеянными мертвыми насекомыми, сухими листьями и большими, легко перемещающимися клубками, похожими на кошачью шерсть.
Мебель была в основном старинной, но скорее колониальной, чем английской, с мягкими сиденьями, и вполне уместно смотрелась бы в нашем доме в Альберт-Парке. Стояли тут буфеты черного дерева на изогнутых ножках, горки со стеклянными дверцами в свинцовых переплетах и громадные кожаные кресла, которые, несмотря на свои пыльные накидки, вызывали во мне желание немедленно свернуться калачиком среди их объемистых подушек и забыться с хорошей книгой.
Украшенная затейливой лепниной арка вела в просторную кухню. Над раковиной окно с частым переплетом, которое отбрасывало на половицы прямоугольник золотого света. Деревянные кухонные шкафы, а в центре помещения – квадратный стол, вокруг которого очень ровно расставлены стулья. Подойдя к раковине, я повернула кран и набрала в горсть воды. Понюхала ее, сделала осторожный глоток. Она была прохладной и сладкой.
Выглянув в окно, я увидела изгиб старой ржавой емкости для воды, почти скрытой ползучими растениями. За ней начинались джунгли из фруктовых деревьев и гревиллеи. Другая мощенная кирпичом дорожка шла, как река в берегах, среди непомерно разросшейся настурции, а затем исчезала под густыми, низко свисающими ветками тенистых деревьев.
– Приятный задний двор, – сказала я, когда Бронвен с топотом ворвалась в кухню.
Она тоже подошла к окну, и мы постояли вдвоем, глядя на улицу. При доме в Альберт-Парке имелся тесный бетонный дворик, где с трудом приживались даже сорняки. Полоски залива Порт-Филлип компенсировали унижение жизни в обветшалом, немного подновленном доме, но до сего момента я и не подозревала, насколько сильно тоскую по зелени.
Рядом с кухней я обнаружила огромную ванную комнату, где стояла вместительная старинная ванна на лапах. Пол под окном, в которое через разбитое стекло просовывал свои побеги дикий жасмин, был усыпан сухими цветами. В зеркальце на туалетном столике я поймала взгляд Бронвен.
– Тут потребуется приложить руки… прибраться, кое-что подремонтировать. Но это очаровательный старый дом, правда?
Бронвен нахмурилась и вышла, оттеснив меня. Озадаченная, я вернулась за ней в гостиную. В другое крыло дома вел узкий коридор. Ноги утопали в старинной ковровой дорожке, а одна стена была сплошь увешана черно-белыми фотографиями. Я остановилась, чтобы их рассмотреть: четкие изображения согнувшихся под ветром деревьев, крохотная, обшитая сайдингом церквушка и что-то похожее на старое школьное здание. Бронвен скучающе фыркнула и, топоча, ушла вперед.
Я догнала ее в первой спальне. Обстановка здесь была скудной: кровать, туалетный столик и колоссальный гардероб. Бронвен шныряла по комнате, как будто искала спрятанное сокровище – выдвигала ящики туалетного столика, засовывала голову в шкаф, словно ожидала, что на задней стенке возникнет заколдованная дверь.
– Что ты ищешь?
Она сердито на меня посмотрела и молча выскочила в коридор. Я немного растерялась. Для девочки, которая так стремилась сюда попасть, она вела себя странно – словно не могла дождаться, когда же мы уедем.
В двух следующих комнатах мы увидели то же самое – скромность в отделке, простоту обстановки. В самой маленькой спальне, с видом на сад перед домом, был эркер со встроенным под ним широким сиденьем.
– О, как мило, – сказала я, оборачиваясь к Бронвен. – Если накидать сюда мягких подушек, ты сможешь сидеть здесь и читать. Ты только посмотри, какой вид!
– Я не буду там сидеть, – заметила Бронвен, – потому что я не буду здесь жить. Если кто и будет сидеть там и читать, так это люди, которые купят у нас это поместье.
И не успела я ответить, как она круто повернулась и выскочила из комнаты.
Я в недоумении смотрела ей вслед. Не одну неделю она безостановочно болтала о Торнвуде, переполняемая желанием его увидеть, даже подговаривала меня сюда переехать – о чем не могло быть и речи, потому что мы слишком глубоко укоренились в Мельбурне. Подначивание в итоге прекратилось, и я решила, что Бронвен смирилась с тем, что мы продаем старое поместье… Но, очевидно, я ошибалась.
Я огляделась, пытаясь рассмотреть дом глазами дочери: просторная старая усадьба со множеством таинственных уголков и местечек, большие, полные воздуха комнаты и чудесный сад, ожидающий исследования. Еще больше интриговало то, что ее отец, вероятно, провел здесь много времени мальчиком. Легко было понять, почему Торнвуд так привлекал ее, но может ли она действительно хотеть жить здесь?
Я последовала за ней по коридору к другому переходу, с окнами повыше. В конце перехода мы обнаружили четвертую спальню. По сравнению с другими комнатами в ней было больше мебели и множество личных вещей, как будто кто-то продолжал здесь жить.
У дальней стены стояла старинная кровать с продавленным матрасом, ее выгнутые изголовье и изножье были покрыты толстым слоем пыли. Напротив разместился пузатый гардероб, а рядом с окном – старомодный туалетный столик с овальным зеркалом. Мое отражение заколыхалось в нем, когда я приблизилась. На столике расположилась целая коллекция предметов: щетка и расческа, пыльная книжка, которая при ближайшем рассмотрении оказалась старой Библией, запонки на блюдечке – некогда роскошные, а теперь потускневшие.
Я уже хотела отвернуться, когда мое внимание привлекла фотография в рамке на стене у окна. Это был портрет мужчины, стоявшего в беседке перед домом. Когда делалась эта фотография, розы цвели – крупные, с темной серединой цветы казались слишком тяжелыми для подпорок, на которые они опирались.
Снимок был прямоугольный, размером с книгу в бумажном переплете, криво сидевший в серебряной рамке. Края у него были неровные, словно фотографию торопливо вырезали ножницами. В уголке рамки нашел себе пристанище маленький коричневый паучок, несколько древних мушиных остовов помпонами свисали с ее нижнего края.
Я вгляделась. Должно быть, это дед Тони, хотя наверняка я знать не могла. Никакого сходства… и все же у меня возникло очень странное чувство, будто я видела его раньше – что было невозможно, так как Тони никогда не делился историей своей семьи, не говоря уже о том, чтобы показать нам какой-нибудь фотоальбом. И тем не менее было что-то в поразительно красивом лице – напряженном взгляде глаз, решительных полных губах, – что затронуло во мне какую-то струнку, как будто когда-то, давным-давно, я его знала…
– Мам?
– Да?
– Мы можем уехать сейчас?
Я оторвалась от фотографии и оглянулась. Бронвен стояла в ногах кровати, выписывая на пыльной поверхности свои инициалы.
– Милая, мы же только что приехали.
– Мне все равно. Я хочу уехать.
– Но ты даже не заглянула в сад.
– Это всего лишь старые деревья и всякая ерунда. Ску-ко-та.
Я вздохнула.
– Бронни, мы проделали такой путь… Ты ведь ждала возможности исследовать этот старый дом. Почему вдруг ни с того ни с сего хочешь уехать?
– А какой смысл исследовать? Мы всего лишь собираемся продать его, чтобы здесь жил кто-то другой.
– О, Брон, – проговорила я, идя к ней, чтобы обнять. – Мы же обо всем этом говорили раньше. Мы не можем сюда переехать. А как же наша жизнь в Мельбурне? Твои друзья и школа… и мои рабочие связи? С нашей стороны было бы безумием бросить все и поселиться в старом доме в дикой глуши…
Бронвен стряхнула мои руки и прошествовала к двери. Уже скрывшись в переходе, дочь пробормотала:
– Как скажешь.
* * *
Заперев дом, я спустилась с крыльца и пошла по кирпичной дорожке. Трава была мне по бедро и густо поросла сорняками, но пахла солнцем, а на цветках сидели, шевеля крылышками, бабочки.
Я свернула к ажурной беседке. Она выглядела старой, кое-где погнулась, а в других местах проржавела, но узловатые остатки плетистой розы все еще цеплялись за кованые подпорки. Я вспомнила мужчину на фото. Дед Тони стоял в этом самом арочном проеме, где стояла сейчас я, его лицо и плечи пестрели солнечными пятнами, темные глаза неотрывно смотрели на фотографа. И я снова невольно спросила себя, почему он показался мне знакомым. Возможно, он все же имел отдаленное сходство с Тони?..
Рявкнул автомобильный гудок, резко прервав мои размышления.
Подойдя к машине, я увидела Бронвен на пассажирском сиденье, уже пристегнутую. Она сердито смотрела в лобовое стекло, руки сложены на груди, щеки горят, у самых волос на лбу блестит пот. Похоже, назревала ссора, возможно, истерика.
Я оглянулась на дом.
Он возвышался в ослепительном полуденном свете, бледный остров в море мягко колышущейся травы, призрачный и тихий. Он казался застрявшим в другом времени, одиноким осколком давно закончившейся эпохи. Даже жужжавшие в траве насекомые и скорбно каркавшие над головой вороны казались принадлежностью места не вполне реального.
Если бы кто-то попросил меня выразить словами то, что я чувствовала в тот момент, я не смогла бы этого сделать. Я пыталась припомнить, когда еще у меня покалывало от волнения руки, когда еще тот же восхитительный покой в сердце лишал меня дара речи… но, по правде говоря, я никогда раньше не испытывала такого чувства принадлежности какому-то месту.
Мне хотелось побежать обратно по мощенной кирпичом дорожке, торопливо продраться сквозь заросли одуванчиков и роняющих семена сорняков, распугивая бабочек и роящихся пчел, и снова броситься в сумрачные объятия старого дома. Мне не терпелось засучить рукава и начать сметать паутину и пыль, провести день, копаясь в сокровищах, которые, я знала, должны быть спрятаны в этих забытых углах и закоулках. Мне хотелось затеряться в лабиринте комнат, покрыться древней пылью, пропитаться не принадлежавшими мне воспоминаниями… и вынырнуть только тогда, когда желание теснее познакомиться с домом будет удовлетворено. Я уже мечтала о ремонте: кому позвоню, какую работу смогу выполнить сама…
Бронвен снова нажала на клаксон.
– Мам, давай быстрей.
Мое радостное оживление улетучилось. Накатило ощущение реальности. У меня были деловые контакты в Мельбурне, которые я нарабатывала десять лет; у Бронвен – школа. Не говоря уже о разных дружеских связях и уютном однообразии нашей городской среды обитания. Переезд в другой штат, в отдаленный старый дом, полный разрыв прошлых связей и жизнь заново… Что ж, одна мысль об этом пугала.
Я плюхнулась на сиденье и захлопнула дверцу. Вставила ключ в замок зажигания. Двигатель заурчал, затем тихонько заработал на холостом ходу, пока я сидела, оцепенев, хмуро глядя в лобовое стекло.
Тетя Мораг всегда говорила, что страсть к кочевой жизни у нее в крови. Поэтому мы никогда не жили подолгу на одном месте. Она зарабатывала на скромное житье натурщицей, что давало ей свободу перемещения всякий раз, когда заблагорассудится, а это случалось часто. Когда я была ребенком, мы жили в нескончаемой череде полуподвалов, складов, развалюх на окраинах пыльных пригородов; в крохотных затхлых квартирках или величественных старых особняках, не подлежавших ремонту и сдававшихся за бесценок. Мы даже провели год в мастерской скульптора, ложась спать среди гипсовых бюстов и огромных блоков покрытого пылью мрамора, в окружении композиций в виде деревьев, сооруженных из цветов, и стеллажей, заваленных завернутой в целлофан глиной. Мы оставались, пока тетя и скульптор не расстались, и тогда мы съехали.
Только в подростковом возрасте я узнала правду о теткиной страсти к кочевой жизни. Все точки встали над «и» после подслушанного телефонного разговора. Моя мать была наркоманкой и донимала Мораг требованием денег. Наши частые переезды были связаны скорее с желанием избежать слезных столкновений с невесткой, чем с артистическими капризами тети Мораг.
Когда тетя умерла за несколько недель до моего семнадцатилетия, я последовала единственному известному мне примеру – начала перемещаться с места на место, обретая временное жилье в домах, снимаемых вскладчину, в брошенных домах, сомнительных однокомнатных квартирах, сдаваемых внаем. Я спала на диванах, на полу и даже, в течение нескольких недель одним летом, разбила лагерь на крыше в центре города.
Когда я познакомилась с Тони, все изменилось. Он взял ипотеку на старый, с соседями по обе стороны, дом из серовато-голубого песчаника в Альберт-Парке, а потом появилась Бронвен. Впервые в жизни у меня была настоящая пристань, семья. Причина обосноваться на одном месте на достаточно долгий срок, чтобы обнаружить – мне это нравится. Не просто нравится, необходимо!.
– Мам? – Бронвен внимательно смотрела на меня. Ее лоб был покрыт испариной, пряди волос липли к лицу. – Давай поедем.
Пришлось устроить целое представление из взгляда на запястье, хотя мои часы с порванным ремешком лежали на дне сумки.
– У нас полно времени, – сказала я. – К чему торопиться?
– Я не тороплюсь. Мне просто скучно.
Я пристально посмотрела на ее профиль, встревоженная стеной сопротивления, которую она воздвигала, гадая, связано ли это с Тони.
– Тебе разрешается говорить о твоем отце, – отважилась предложить я. – Ты понимаешь? Задавать вопросы в таком духе. Я не против.
Бронвен вздохнула.
– Мам, со мной все нормально.
– Если ты когда-нибудь захочешь…
«Поговорить, – хотела произнести я. – Если ты когда-нибудь захочешь о нем поговорить, я готова». Но потом обратила внимание на сгорбленные плечи дочери, на сжатые для обороны кулаки, бледность ее лица – и решила, что уже достаточно сказала.
Из-под колес полетел гравий, когда мы развернулись и поехали по подъездной дороге в облаке красной пыли. Слева от нас сад сменился лесом из молодых эвкалиптовых деревьев. Справа холм круто уходил вниз, ныряя в похожую на чашу долину, где эвкалипты бросали длинные тени на загоны. В пятнах тени прятались белые крапинки, вероятно скот.
Долина скрылась из виду, когда дорогу с обеих сторон обступили высокие эвкалипты, густые заросли кустарников – каллистемона, акации и терновника. Дорога попала в тень, и мои мысли вернулись к тете Мораг: пухлое восковое лицо в обрамлении мягких, крашенных хной волос, искрящиеся карие глаза, каким-то образом затмевавшие блеск бриллианта в кольце, которое она носила на своей маленькой веснушчатой руке. Она всегда находилась в движении, без умолку болтала, несясь по жизни, как торнадо в фиолетовых одеяниях.
Тетя Мораг верила, что человеческое сердце является своего рода барометром. Только вместо измерения атмосферного давления оно позволяет человеку легче ориентироваться на запутанных путях его жизни. «Ты почувствуешь боль, – говаривала она, постукивая пальцами по моей впалой грудной клетке десятилетнего ребенка, – какое-то стеснение в середине груди, сразу за грудиной. Не путай с несварением, моя девочка, – это твой внутренний барометр предостерегает тебя, что ты собираешься отправить свою жизнь псу под хвост».
Я нажала на педаль тормоза и выключила двигатель. Не сводя глаз с дороги перед собой, внутренне собралась. Конечно, я ощутила эти симптомы: боль в груди, нервную дрожь дурного предчувствия, учащенное дыхание, – как только осознала, что вот-вот у меня сквозь пальцы уйдет что-то особенное. Мой барометр громко и ясно заявлял: «Ты это хочешь, так возьми». Но как могла я отказаться от решения, к которому пришла в Мельбурне? Вместо того чтобы распрощаться с Тони и двинуться дальше, я серьезно обдумывала намерение задвинуть себя – и свою дочь – в прошлое, от которого сбежал даже он сам.
И тем не менее…
Перед мысленным взором возникла дальняя спальня с ее туалетным столиком из розового дерева, продавленной кроватью с выгнутым изголовьем и изножьем и фотографией в пыльной серебряной рамке. Мужчина на снимке смотрел на меня из увитой розами беседки, выражение его лица притягивало, темные глаза повелевали, почти гипнотизировали, как будто он заставлял вернуться к нему.
– Я приняла решение.
Бронвен быстро повернула голову ко мне, ее лоб прорезала морщинка. И в тот момент она до жути была похожа на своего отца. Разумеется, у нее волосы были светлые, а у него – темные, но высокие скулы, широко расставленные сапфировые глаза, резкие черты лица, делавшие ее такой неотразимой, несомненно, достались от Тони.
Я легонько кашлянула, странно нервничая.
– Что, если мы переедем сюда?..
– Переедем сюда? – недоверчиво эхом откликнулась Бронвен.
В глазах зажглась надежда, но дочь попыталась быстро скрыть ее. Я сообразила, что она защищается, и у меня сжалось сердце. Я украдкой бросила взгляд в зеркало заднего вида. Где-то позади нас старое поместье спало в своем безвременном море травы. Я вообразила, как распаковываю коробки в полной укромных уголков гостиной, заполняю пустые места своими вещами. Представила себя просыпающейся в самый глухой час ночи, слушающей, как старый дом потрескивает и вздыхает. Я вспомнила вкус воды из крана на кухне, удивительно холодной и сладкой; гигантскую ванну, жасмин, заглядывающий в разбитое окно; залитые солнцем комнаты с изящной мебелью ручной работы; тишину, окутывающую это место подобно мягко сдерживаемому вздоху; и – похожее на грезу в своей настойчивости – изображение темноволосого мужчины на старой черно-белой фотографии.
Меня охватило мощное желание.
Я посмотрела на дочь и стала рассуждать:
– Может потребоваться целая вечность, чтобы продать старый дом. Он требует покраски и ремонта. Если мы здесь поселимся, то сами приведем его в порядок, сделаем именно таким, как хочется нам. В конце концов, нам действительно нужен дом… И подумай только обо всей этой деревенской жизни – больше никаких автомобильных выхлопов, любопытных соседей, пробок в часы пик…
Бронвен внимательно посмотрела на меня.
– Правда, мам? Ты хочешь, чтобы мы жили здесь?
По спине у меня побежали мурашки. Я кивнула.
Бронвен завопила в безудержной радости. Внезапно она, смеющаяся, очутилась в моих руках – острые локти и костлявые плечи, – обнимая меня крепче, чем когда-либо за многие годы.
– Тебе придется пойти в новую школу, – предупредила я.
Она отстранилась и со счастливой улыбкой угнездилась на своем сиденье.
– Как скажешь.
– Ты оставишь там всех своих друзей.
– Я заведу новых.
– А как же нетбол?
Она озадаченно на меня посмотрела:
– У них здесь будет нетбол.
– Как насчет?..
Она ослепила меня улыбкой в две тысячи ватт и постучала костяшками пальцев по приборной доске:
– Давай, мам. Поехали. Чем быстрее мы попадем в Мельбурн, чтобы уложить вещи, тем скорее вернемся сюда.
Глава 3
К началу декабря мы свернули нашу жизнь в Мельбурне: аннулировали подписки и отказались от коммунальных услуг, уложили вещи по коробкам и организовали перевозку, заполнили документы на отчисление Бронвен из одной школы и перевод в другую на новый учебный год, посетили прощальные вечеринки и съели прощальные ланчи во всех наших любимых кафе.
Я ожидала, что меня будут переполнять сожаления из-за расставания с Альберт-Парком, но когда мы затолкали последние вещи в старенькую «Селику» и выехали с подъездной дрожки, единственное, что я почувствовала, было облегчение и трепет предвкушения, не уступающий тому, который испытывала Бронвен.
Мы ехали три дня. Шоссе до Ньюэлла шло в основном прямо, как разлохмаченная черная лента без начала и конца. В окна врывался летний зной; воздух казался раскаленным, но мы едва это замечали. По мере продвижения на север менялся ландшафт – пышные фермерские угодья и редкие участки бушленда уступили место высохшим плоским пустошам, а затем – покатым холмам в голубой дымке и густым эвкалиптовым лесам. Мы оставляли позади пыльные городки, ночевали в домиках на стоянках для автофургонов и с рассветом снова пускались в путь.
Когда мы наконец пересекли границу Квинсленда, Бронвен издала радостный вопль. Из городка Гундивинди мы выехали на Каннигэмское шоссе и повернули на северо-восток через Большой Водораздельный хребет. Вскоре мы оказались в окружении непроходимых лесов, в которых тропические пальмы качались вперемешку с эвкалиптами разных видов, а под ними буйствовали гигантские папоротники. Дорога взбиралась вверх от одного головокружительного крутого поворота к другому. Пересекая Национальный парк Мейн-Рейндж, мы открыли окна в машине, наслаждаясь перекличкой миллиона птиц-звонарей.
В Торнвуд мы приехали потные, пыльные и уставшие, но вид нашего нового дома подействовал на нас как переливание крови. Мы кричали, танцевали, скакали по просторным комнатам, как пара ненормальных. Просто это было слишком здорово, чтобы быть правдой. Вместо перспективы на съемной квартире и несбыточных мечтаний мы наконец оказались дома.
Последующие недели мы провели, возрождая старый дом во всей его прежней красе: собирая пылесосом пыль, сметая паутину, отмывая полы, оттирая кафель в ванной комнате, до золотого сияния начищая очаровательные старые медные краны в ванной и с помощью уксуса и газет возвращая блеск окнам. Как только из Мельбурна прибыли наши вещи, мы занялись распаковкой. Я не могла решить, что делать с мебелью – она была слишком красива, чтобы продать или отдать ее, – поэтому я просто втиснула свою мебель в стиле ар-деко на свободные места.
Мы отпраздновали Рождество в традициях тети Мораг – утром подарки, потом грандиозный ланч: запеченный картофель с хрустящей корочкой, лук и морковь в медовой глазури, жареная курица с сезонной приправой, пивной подливкой, зеленым салатом. Затем последовал сливовый пудинг с запеченным шестипенсовиком и гора ванильного мороженого со сливками. Потом мы отлеживались в гостиной, читая журналы и понемногу поедая шоколад, а позднее насладились неторопливой прогулкой по саду.
Мы едва заметили наступление нового года. Бронвен считала оставшиеся до начала школьных занятий дни свободы – двадцать один, – а я начала прощупывать возможность найти работу фотографа. Мы были счастливы, плывя по течению. Убирали пустые коробки из-под вещей, устраивали пикники на лужайке и отыскивали идеальные места для наших привезенных сокровищ.
Результат получился – по крайней мере, для нас – сногсшибательный. Племенные маски, которые тетя Мораг собирала в своем детстве в Новой Гвинее, висели на стенах рядом с яркими бабочками, нарисованными Бронвен. Ее коллекцию птичьих гнезд, раковин, жеод[4] кристаллов и высоких банок с откидными стеклянными крышками, набитыми усопшими жуками, удалось разместить среди моих радужных ваз художественного стекла, ярких плетеных сумок аборигенов, антикварных чайных чашек и старинных фотопринадлежностей. Винтажные лоскутные подушки придали выразительности глубоким кожаным креслам, а побитый молью ковер на полу я заменила на яркий килим[5]. К первым выходным января печальный старый дом превратился в дом – наш дом.
Не обошлось без одной ложки дегтя в бочке меда моего во всех остальных отношениях значительного удовольствия: после нашего переезда четыре недели назад в Торнвуд меня покинул сон. Каждую ночь, пока моя дочь мирно спала в своей постели, я как привидение бродила по дому – выдвигала ящики, заглядывала в буфеты, рылась в пыльных картонных коробках, словно что-то искала – что именно, я понятия не имела.
По мере нарастания усталости я стала забывчивой, рассеянной. И неуклюжей – налетала на мебель, так что руки и ноги у меня были сплошь в синяках. Я постоянно что-то вертела в руках и в результате случайно разбивала. И что самое странное, начала краем глаза улавливать мельканье странных теней – птиц, ящериц. А однажды – тоненькой и грациозной темноволосой девушки. По большому счету, ничего такого в этом не было; вероятно, просто стрессовая реакция на трудности переезда. Поэтому, чтобы прожить день, я накачивалась кофе и пыталась убедить себя, что это пройдет.
* * *
Одной бессонной ночью в начале января я задержалась в дверях дальней спальни, подавляя зевок.
Несмотря на проведенную мной тщательную уборку, комната имела вид капсулы времени. Я вымыла пол, заменила простыни, выстирала старое покрывало и старательно привела в порядок запущенную мебель, но в остальном комната была в точности такой, какой ее оставил дед Тони.
Зевок все же одолел меня, и я машинально ступила в комнату. Кровать выглядела заманчиво, несмотря на продавленный матрас и выцветшее лоскутное покрывало. В окно светила полная луна, отбрасывая на стены тюлевый узор светотени. Старый усадебный дом потрескивал и вздыхал во сне, а снаружи, в саду, ухал филин, напевая любовную песнь своей подруге.
Подойдя к элегантному старому туалетному столику из розового дерева, я провела пальцами по россыпи предметов. Среди них были комплект из щетки и расчески, маленькая Библия, все еще закутанная в древнюю пыль серебряная тарелочка с запонками и золотой перстень-печатка с инициалами «С.Р.».
Дед Тони – Сэмюэл Риордан. Я видела его имя в документах на дом, и до сего момента оно только этим и было – именем. Но теперь, когда я стояла в комнате Сэмюэла в свете луны, я почувствовала его присутствие, такое же осязаемое, как если бы рядом находился человек из плоти и крови. По телу у меня побежали мурашки, но не от страха, скорее от предвкушения – хотя чего именно, я понятия не имела.
В туалетном столике имелся всего один ящик. Я потянула за ручку, но ящик не выдвинулся. Думая, что он застрял, я резко дернула, но добилась только того, что запонки звякнули на своем серебряном блюдечке, а зеркало заходило ходуном, отбрасывая на стены беспорядочные осколки лунного света.
Потом я увидела замочную скважину. Поискала, шаря под зеркалом, по полу вокруг ножек столика, но ключа не обнаружила. Я подумала, не сходить ли за отверткой и заставить ящик открыться, но посчитала неправильным ломать его. Кроме того, он, вероятно, был набит проеденными молью носками и женским нижним бельем. Это могло подождать.
Я прошла к кровати и включила лампу, затем встала перед фотографией. Предыдущей бессонной ночью я целый час потратила, как заведенная полируя потемневшую рамку, протирая стекло. Чтобы лучше разглядеть этого человека, полагаю.
На момент съемки Сэмюэлу было лет двадцать пять. Его коротко стриженные темные волосы подчеркивали высокий лоб и нависавшие над внимательными глазами брови вразлет. Рубашка обтягивала широкую грудь и мускулистые руки. Он пристально смотрел в объектив камеры с едва заметной улыбкой, глаза горели любопытством. И опять меня кольнуло ощущение, что я его знаю.
Я поискала в его чертах сходство с Тони, но лицо Тони было костистым и угловатым, открытым и дружелюбным – ничего общего с задумчивым темноглазым мужчиной, пристально смотревшим с фотографии.
Я подошла к окну.
Небо немного посветлело. До рассвета оставалось меньше часа. В очередной раз я провела ночь без сна, и хитрые механизмы моего мозга отказали. Глаза закрывались, меня пошатывало как пьяную. Я поразмышляла, глядя на продавленный матрас и симпатичное старое покрывало. Наверняка не повредит, если я немного вздремну. Пять минут, а потом вернусь в свою комнату.
После того как погасила лампу, я устроилась на кровати. Мои руки и ноги отяжелели. Напряжение растаяло. Спустя немного времени комната погрузилась во мрак, мои веки сомкнулись и мысли начали путаться.
Сэмюэл. Я мысленно произнесла это имя. Словно в ответ на вызов, он появился. Видение было настолько живое – измятая белая рубашка, волнующее лицо с задумчивыми глазами, обольстительной улыбкой, – настолько яркое, что у меня перехватило дыхание. Он придвинулся так близко, что теперь я могла прикоснуться к нему. Его кожа, бархатистая, слегка тронутая веснушками, скрывавшая под собой стальные мускулы, была теплой, ведь он стоял в залитой солнцем беседке. Если я растянусь на кровати, он сможет обнимать меня, пока я сплю, и я увижу во сне солнечный свет, только что посаженные кусты роз и услышу мелодичный голос, шепчущий у самого моего уха единственное слово, снова и снова, слово, которое звучало как «ресница»…
Я проснулась и вскочила с кровати. Покачнулась с лихорадочно бьющимся сердцем, голова кружилась, как будто я только что вышла из кабинки «американских горок». «Нельзя больше не спать», – сообразила я. Когда мое воображение вот так разыгрывалось, путая, пугая меня, я знала, что пора прекращать слоняться в темноте по дому и нужно отправляться в постель.
Но моя комната казалась очень далекой. Я снова села на кровать. Прислонилась к изголовью, потом опустилась на подушку. Прикрыла глаза.
Скрипели стропила. Снаружи пищало на деревьях семейство летучих мышей. По оконному стеклу царапали листья. Где-то в отдалении лаяла одинокая собака. Ночь опустилась тяжелым одеялом.
Потом я как-то умудрилась заснуть.
* * *
Спала я недолго. По крайней мере, мне так показалось. Воздух был пропитан резкой сладостью листьев и цветов эвкалипта. Откуда-то сверху донесся крик какой-то птицы вроде козодоя, затем послышался мягкий шелест крыльев, когда она взлетела. Внешний мир казался очень близким. Я попыталась вспомнить, действительно ли уснула около окна, но когда мои глаза привыкли к темноте, вокруг меня проступили величественные тени, похожие на деревья, и я поняла, что лежу на влажной земле под открытым небом.
Что-то было не так.
В позвоночник впивались камешки, кости ломило, голова была неестественно запрокинута, а легкие казались наполненными, в них загустел воздух. Я попыталась крикнуть, но рот был наполнен теплой влагой.
Тягостное дурное предчувствие охватило меня. Неужели я упала, покалечилась? Я не помнила, что произошло.
В голове проносились смутные тени и непонятные ощущения. Вдруг послышались крики. Чья-то рука поднялась, затем опустилась, снова поднялась и снова опустилась. Что-то твердое ударило меня по плечу, по вскинутой руке, по голове. Раздался отвратительный звук ломающейся кости.
Моргая, я пыталась очнуться. Темнота отступала. Высоко надо мной, между листьями начинало светлеть небо. Я хотела пошевелиться, но руки и ноги отказывались повиноваться; странно вывернутые, они находились подо мной, бесполезные. От моей кожи исходил необычный запах, отталкивающая металлическая вонь, напугавшая меня… И каким-то образом я знала, что у меня есть основания для страха.
У меня обострился слух. Слышала нежное бормотание ручейка, перекличку лягушек, мягкие вздохи ветра в ветвях деревьев.
А потом – шаги.
Голос во мраке начал звать.
– Ресница… Ресница.
Страшась, что нападавший вернулся, чтобы прикончить меня, я попыталась съежиться, неспособная двинуться с места. Мне оставалось лишь беспомощно лежать на влажной гальке и ждать… ждать, чтобы меня нашли смерть или забытье – что придет первым.
* * *
Я снова проснулась, на сей раз по-настоящему. Едкий лунный свет просачивался в комнату, и когда я села на кровати и огляделась, бесформенные тени начали приобретать очертания, медленно проступая из полумрака. Туалетный столик розового дерева, пузатый, пышно украшенный шкаф и слабо светившееся окно.
Рассвет еще не наступил, небо за окном было темным. Деревья в саду – фиговое и манго, авокадо и цезальпиния, – неясные в свете луны, туманные, словно призраки, были с трудом различимы.
Это был сон, но я не могла вспомнить, почему он так удручающе на меня подействовал. Помнила только раскачивавшиеся и наклонявшиеся надо мной тени – сгибаемое ветром дерево, а в следующий момент – смертоносное видение.
Я свесила с кровати ноги и на ощупь надела тапки. Тащась к двери, мгновение помедлила, пытаясь дать этому разумное объяснение. «Страх, который ты сейчас испытываешь, не что иное, как остаток ночного кошмара… Бога ради, забудь об этом и возвращайся в постель», – приказала я себе.
Но нет… Прокравшись на цыпочках по коридору к спальне дочери, я открыла дверь и вошла. От духоты щеки спящей Бронвен просто пылали, а глаза беспокойно двигались под нежными веками – но она дышала, была жива. В безопасности. Не в силах сдержаться, я убрала прядь волос с ее лба и наклонилась, чтобы поцеловать влажные волосы. Затем, успокоившись, в полуобморочном состоянии побрела в свою кровать.
Глава 4
– Я не хочу ждать в машине, – проворчала Бронвен, стоя у кухонной раковины. Уголком тоста она собирала с тарелки малиновый джем и запивала большими глотками шоколадного молока прямо из пакета. Одета она была в свою обычную униформу – джинсы с обрезанными штанинами и майку на тонких бретельках; волосы заплетены в две косички.
– Полет продлится недолго, – попыталась я успокоить дочь. – Самое большее тридцать минут. А потом, если захочешь, развлечемся. Съездим в город и поедим мороженого?
Поставив кофейник на плиту, я забегала по дому, собирая сумки с камерами и запасные объективы. Несколько дней назад я получила заказ на фотоработы от одного местного агентства по недвижимости – моим первым заданием стала аэросъемка только что поступивших для продажи фермерских хозяйств. Полет был запланирован на десять тридцать этого утра.
Я запихнула телеобъективы в кофр, застегнула «молнию», затем обратила внимание на тишину. Взглянула на Бронвен. Та, ссутулясь, хмуро смотрела на недоеденные остатки тоста; на подбородке красовалось розовое пятно джема. До начала школьных занятий осталось четыре дня, и я понимала, что девочка начинает нервничать.
– Разве тебе не страшно подниматься в воздух? – спросила она.
– Я летала десятки раз. Ну, может, иногда немного мутило, но страшно никогда не было.
В кофейнике булькнуло. Я налила себе чашку, бросила два куска сахара, добавила чуточку молока и сморщилась, когда по пути в желудок напиток обжег мне язык.
– Но, мама, в этот раз все по-другому. – Бронвен поставила тарелку в раковину и бросила пакет в мусорное ведро. Потом подошла к окну и с тревогой всмотрелась в небо. – Мы на новом месте, с летчиком ты не знакома. Он может оказаться неосторожным. Может плохо проверить оборудование. Что-нибудь пойдет не так.
– Да все пойдет так. Я столько раз летала, что, наверное, и сама могу управлять «Сессной».
– Я хочу с тобой, – выпалила она. – В смысле, в самолет.
– Это будет скучно.
– Ты всегда так говоришь.
– Бронни, ты не можешь лететь со мной… страховка на пассажиров не распространяется. Кроме того, мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты в безопасности на земле.
Она мотнула головой и уставила на меня свои огромные глаза.
– Значит, это все же небезопасно?
– Я не имела в виду…
– Мама, а вдруг что-нибудь случится? Самолет разобьется? А пилот врежется в гору? А вдруг он окажется ненормальным, как случилось в Америке?
– Самолет не разобьется. Полет на маленьком самолете безопаснее путешествия на автомобиле, безопаснее даже перехода улицы в большом городе.
Я хотела ободрить дочь, но в моем голосе послышалась неуверенность. В голове промелькнули образы и звуки из сна. Смутные очертания и тени деревьев, чей-то крик. Туманная фигура с занесенной рукой. Тьма и страх, боль. И чувство, что невидимая опасность притаилась как раз впереди…
Я стряхнула необъяснимое ощущение:
– Ничего не случится, Брон. Обещаю.
Бронни встревоженно на меня уставилась.
– Если ты погибнешь, – наконец проговорила она высоким, дрожащим голосом, – что будет со мной? Нас теперь двое, мама. Если кто-то из нас умрет, другая останется одна. У меня нет тети Мораг, к которой можно обратиться, как это было у тебя. У меня никого не будет.
Голова у меня закружилась от чересчур крепкого кофе и, может быть, совсем немного от внезапного укора совести, вызванного словами дочери. Вскоре после смерти Тони я разговаривала со школьным советником в старой школе Бронвен, и она сказала, что не исключены страхи, слезы, вспышки гнева и нетипичное поведение. Детская реакция на горе разнообразна и непредсказуема. Единственное лекарство – бесконечная поддержка и время.
– О Брон, – мягко сказала я. – Никто не собирается умирать.
Я подошла и вытерла большим пальцем пятно джема с ее подбородка, потом хотела обнять, но Бронвен увернулась и сбежала в гостиную. Повесив кофр на плечо, я последовала за дочерью, решив не давить на нее. Наоборот, я занялась сбором остального снаряжения: объективов, запасных карт памяти, тросика спуска затвора. Положила также ткань для протирки оптики, запасные батарейки. Потом посмотрела на свои часы, поискала глазами настенные, которые вроде бы, как мне помнилось, не распаковывала.
– Малыш, сколько времени?
Бронвен смешно поднесла руку к самому лицу и, прищурившись, посмотрела на свои часы.
– Десять ноль пять. Утра.
Я схватила одно яблоко из миски для себя, чтобы сжевать по дороге, другое – для Бронвен.
– Идем, я не хочу опоздать в свой первый день.
– Почему я не могу остаться здесь?
– Просто потому.
– Но я не хочу ждать в машине.
Я ощутила раздражение.
– Очень жаль.
– Со мной все будет хорошо, мама. Я не открою дверь.
Она стояла выпрямившись, руки в боки, что означало – она мобилизует силы для того, чтобы спорить.
Я вздохнула. По опыту прошлого я знала, что если опоздаю на аэросъемку, то переволнуюсь. Если переволнуюсь, у меня будут дрожать руки. Если будут дрожать руки, снимки окажутся бесполезны. Хуже, я буду рассеянна и упущу все хорошие кадры. В самолете приходится шевелиться и быстро соображать. Ты превращаешься в камеру, отключаешься от всего, кроме образов, пролетающих перед объективом. Ты забываешь о своем теле из плоти и крови и настраиваешься на нюансы: форма, пространство, цвет и – что всего важнее – свет. Все зависит от точного определения момента, когда спустить затвор камеры.
– Брон, нам надо идти.
– Ты же сама сказала, что это ненадолго. Я прекрасно посижу здесь. Я могу почитать, подготовиться к школе, которая начинается на следующей неделе.
– Ты знаешь, что я не люблю оставлять тебя одну. Это меня нервирует.
– Мам, мне одиннадцать лет. Со мной все будет в порядке.
Я колебалась. Искушение было велико. Так легче. А что лучше всего – давало возможность избежать ссоры. Я прикинула: поездка туда и обратно, полет плюс возня с заполнением бланков – я, вероятно, обернусь меньше чем за два часа.
– Мам, ты как-то сказала, что ребенком кучу времени проводила одна.
– Тогда жизнь была другая.
Она состроила гримасу.
– Так прямиком до Средних веков?
– Бронвен, у меня нет времени стоять тут и спорить с тобой.
– Тогда поезжай.
Она делала это намеренно. Наказывала меня. Сводила счеты за все случаи пренебрежения и проступки, которые я как мать совершила за одиннадцать лет нашего союза. Побежденная, я вздохнула.
– Хорошо! При одном условии: ты должна оставаться внутри дома.
– Но, мам!..
– Тогда бери свои вещи – и в машину.
– Ладно, ладно. Я буду в доме.
– Не отпирай дверь.
Она заворчала себе под нос:
– Да ради бога.
– Бронвен?
– Мам, если грабитель надумает к нам вломиться, ему достаточно будет забраться через разбитое окно в ванной. Кусок картона, который ты туда вставила, никого не обманет.
Я угрожающе зазвенела ключами от машины.
Дочь вздохнула.
– Хорошо, я запру эту дурацкую дверь.
– Уж будь любезна. – Я медлила, все еще не решаясь оставить ее. – Это всего на два часа, может, меньше. И сиди в доме!
Не обращая на меня внимания, Бронвен плюхнулась в ближайшее кресло, схватила пульт и включила телевизор. Демонстративно сложив руки на худенькой груди, она сердито уставилась на экран. Когда я от входной двери попрощалась с ней, единственным ответом стало увеличение громкости.
* * *
Двадцать минут спустя я ставила «Селику» на парковке летного поля Мэгпай-Крика.
Это был типичный маленький аэродром. Множество открытого пространства, ветроуказатели, без энтузиазма полоскавшиеся на своих шестах в дальнем конце взлетно-посадочной полосы. Мили полос и бурой травы, несколько навесов, сгрудившихся вокруг огромного ржавого ангара, и бунгало с плоской крышей, служившее конторой.
Мой проход к конторе по узкой бетонной дорожке сопровождался пронзительными воплями. Когда я подошла ближе, шум сделался более сдержанным, и я сумела понять, что это исполняемая певицей оперная ария. Оркестр громыхнул заключительными аккордами, затем покорился тишине.
Внутри помещения высокая рыжая женщина стояла у загроможденного рабочего стола, снимая пластинку с древнего граммофона.
– Как раз вовремя, – бодро прогудела она, протягивая большую руку. – Вы, должно быть, Одри. Приветствую вас здесь, я – Кори Уэйнгартен.
На ней были потертая кожаная куртка-пилот, джинсы в обтяжку, запыленные рабочие ботинки. Восхитительное облако золотисто-рыжих кудрей обрамляло ее загорелое лицо и исчезало из виду, ниспадая на спину.
– Вот, распишитесь здесь, пожалуйста. – Она положила бланк заявки на полет на свободный уголок стола и подала мне ручку. – Тут все заполнено. Пробегитесь взглядом по пункту оплаты, скажите, не упустила ли я чего.
– Все вроде бы нормально, – ответила я, ставя подпись на отведенной для этого строчке из точек.
Без дальнейших проволочек мы прошли в обратном направлении по бетонной дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы.
– Итак, – бросила она через плечо, – вы новый фотограф Коссарта. Надеюсь, они достаточно вам заплатят?
– Вполне прилично, – признала я.
Ведя меня к самолету, Кори напевала себе под нос. Мы миновали несколько аккуратных ремонтных навесов и зияющую китовью тушу железного ангара. Самолет ожидал на бетонной полосе, примыкавшей к пешеходной дорожке. Это была блестевшая «Сессна», на три места, лет ей было, вероятно, около тридцати.
Мы забрались внутрь, и мотор, ожив, зарокотал с одышкой. Кори осмотрела приборную панель, ее пальцы бережно порхали над рукоятками и датчиками, словно она считывала показания одним лишь прикосновением. Убрав от лица волосы, которые, как щупальца осьминога, устроились у нее на плечах, она затем начала разворачивать самолет широкой дугой. Мгновение спустя мы уже катили к взлетно-посадочной полосе. Стекла дребезжали в рамах, а крылья стонали, как будто им не терпелось взлететь.
Кори улыбнулась.
– Давно фотографируете?
– Сколько себя помню. После смерти моей тети мне досталась старая камера «брауни», – объяснила я. – Вначале мне было просто любопытно. Мои первые снимки были чудовищными – люди без голов, таинственные расплывчатые предметы, все черное. Но меня зацепило. С тех пор единственное, чем мне хотелось заниматься, – это делать снимки. Солидную часть своей жизни я провела в темных комнатах, пока весь процесс не стал цифровым. Я по-прежнему просыпаюсь среди ночи с ощущением, что чувствую запах проявителя. – Я взглянула на Кори: – А вы? Давно летаете?
– У меня то же, что и у вас. – Она улыбнулась, и на ее щеках обозначились ямочки. – Когда я была ребенком, у нас на ферме стоял старенький авиаопылитель, который ржавел с тех пор, как отец в семидесятых перешел на органику. Старый самолет интересовал меня, я привыкла под ним играть, рисовала его, рассказывала о нем истории. Наконец отец позволил мне сидеть в кабине и делать вид, что я двигаю рулевую колонку. В семнадцать лет я брала уроки – два года все выходные работала в «Лебеде», чтобы за них платить. Официанткой я была никудышной, но как только я поднялась в воздух… – Она улыбнулась. – Ну что, двинемся, да?
Она покрутила ручки настройки еще каких-то шкал, затем отрегулировала штурвальную колонку. «Сессна» рванулась, набирая скорость, дрожа и постанывая по мере того, как позади нас оставалась бетонная дорожка. Маленький самолет осторожно оторвался от земли, коротко вздрогнул, когда сложились шасси, и набрал высоту. Ледяной ветер задувал в открытое пассажирское окно, неся запах травы и дизельного топлива.
– Вы, стало быть, новенькая в Мэгпай-Крике? – прокричала Кори. Внимательно посмотрела на меня и опять одарила широкой улыбкой.
Зубы у нее были белые, как у кинозвезды, в уголках глаз собрались морщинки – так ей было интересно. Мне пришлось кричать, чтобы она услышала меня за шумом мотора.
– Мы с дочерью переехали сюда полтора месяца назад из Мельбурна.
– Так, значит, это вы купили Торнвуд? – Мое удивление рассмешило ее. – От бушлендского телеграфа ничего не ускользает, Одри. Очень скоро вы в этом убедитесь. А вообще, что заставило вас переехать в Мэгпай-Крик? Для большинства людей это несколько в стороне от проторенных дорог. Полагаю, вы наслышаны о нашей блистательной ночной жизни?
Я закрепила на камере тяжелые фотообъективы, наслаждаясь добродушным любопытством Кори. Жаль, я не могла рассказать забавную историю о том, как судьба, или каприз, или просто обычная счастливая случайность привели меня сюда. Разумеется, я могла солгать. Чтобы упростить ситуацию. Но Кори мне понравилась, я поймала себя на том, что хочу ей довериться.
– Впервые я услышала о Мэгпай-Крике несколько месяцев назад, – призналась я. – Когда получила Торнвуд в наследство. Прилетела сюда, чтобы выставить его на продажу, но влюбилась в это место.
Улыбка Кори дрогнула.
– В наследство? Тогда вы… вы знали Тони?
– Одно время мы жили вместе. До того, как он женился.
– И оставил вам Торнвуд?
Я кивнула. В окно врывался холодный воздух и шум. Воротник моей тонкой куртки хлопал меня по шее. Я понимала, что Кори ждет более подробного объяснения, но не могла подобрать слов. Как рассказать о запутанном клубке лжи и нарушенных обещаний, из которых состояли годы, проведенные мной с Тони? Как описать одержимость, питаемую скорее одиночеством, чем подлинной привязанностью? Как признаться чужому человеку, что однажды я совершила ошибку и страх остаться одной заставлял меня мириться с ней? И что единственным положительным результатом этого была моя дочь?
Кори избавила меня от затруднения.
– В Торнвуде никто не жил двадцать пять лет, – прокричала она, перекрывая монотонный рокот мотора «Сессны». Поерзала на сиденье, внесла какие-то незначительные поправки в один из приборов на панели, потом с любопытством посмотрела в мою сторону: – Наверное, там столько всего пришлось разгрести, чтобы въехать?
Я подготовила к работе спусковой тросик.
– Ну пыль и паутина заполонили все, и несколько старых оконных переплетов было сломано. Но в остальном дом был в удивительно хорошем состоянии. Несколько недель мы подметали, мыли и чистили, но теперь там славно. Хотя мне не помешала бы помощь умелого мастера на все руки… Пока что никто, кому я позвонила, не нашел свободного времени. Думаю, и вы никого не знаете?..
Кори уже хлопала себя по карманам. Жестом фокусника она извлекла визитную карточку с загнувшимися уголками.
– «Хобарт Миллер, – прочла я. – Работы на ферме, подрезка деревьев, общий ремонт. Любая работа стоит внимания».
– Я могу лично его рекомендовать, – прокричала Кори, перекрывая шум мотора. – Он надежный, пунктуальный и работу выполняет тщательно. Он не стекольщик, но я знаю старину Хоба – он настоит, чтобы самому починить окна и все остальное, что вам потребуется. Он стрижет траву, ловит поссумов[6], строит самые прочные курятники по эту сторону цивилизации. В прошлом году один из моих эвкалиптов треснул до середины после грозы – Хоб соединил обе половины большим болтом. Сейчас болт даже не виден, кора наросла поверх него. Этот человек – сокровище. Если хотите, я предупрежу его заранее, я увижу его сегодня днем.
– Он ваш друг?
– Можно и так сказать. Он всю жизнь живет в Мэгпай-Крике. Старый чудак, но пусть его неряшливый внешний вид не вводит вас в заблуждение. Он умен, знает все, что нужно знать, обо всем. Отец называет его ходячей энциклопедией.
Это привлекло мое внимание.
– Интересно, как много он знает о Торнвуде?
– Вероятно, всю его историю, вплоть до вида древесины, использованной при постройке этого дома.
Я в задумчивости сунула карточку в карман.
– Кори, откуда вы знаете Тони?
В ее взгляде появилась осторожность.
– Мы выросли вместе… Обычно болтались после школы, дурачились в каникулы.
– Вы виделись перед его смертью?
– Нет… – Она метнула взгляд в мою сторону. – Боже, Одри, его потеря, наверное, стала для вас страшным потрясением… Я-то была в шоке, а ведь я не видела его с детских лет.
– Это был удар. Мы с Тони прожили вместе восемь лет. Потом он женился на другой… но у нас есть дочь, Бронвен. Ей всего одиннадцать, его смерть стала для нее настоящим ударом.
Чуть помедлив, Кори сочувственно сморщилась, ее веснушки появились на загорелой коже, как золотистые чаинки.
– Бедный ребенок, – проговорила она. – Наверное, она вне себя от горя.
– Она скучает по нему, – сказала я. – Ей было шесть, когда Тони ушел, но они оставались близки. Каждое воскресенье проводили вместе, а на все ее дни рождения и на Рождество он устраивал настоящий праздник. Он был отличным отцом. До недавнего времени, – уточнила я.
Кори подняла бровь.
– Да?
– Примерно полгода назад он охладел. Начал звонить и отменять их совместные прогулки или просто не приезжал. У меня сложилось впечатление, что он избегает Бронвен.
– Он хоть сказал почему?
– Это печально. Каждый раз, когда я заводила разговор на эту тему, он затыкал мне рот. Отказывался слушать. Просто продолжал спорить, как будто ничего не слышал. Бронвен храбрилась, но я знаю, что ей было больно.
Кори пробормотала что-то похожее на «проклятый Тони», но ее слова поглотил шумный мотор «Сессны». Собрав волосы, она рассеянно стянула их в узел на затылке и уставилась в небо. Несколько секунд волосы сохраняли неустойчивое равновесие на ее плечах, потом, прядь за прядью, начали ниспадать.
– Ей повезло, что у нее есть вы, – сказала она наконец. – Девочке нужна мама; нет лучше плеча, на котором можно выплакаться. Не знаю, как бы я пережила подростковый период без мамы, благослови ее бог.
Добрые слова, но они всколыхнули во мне чувство вины. Я попыталась улыбнуться, но мое лицо казалось мне каменным, похожим на маску.
– В настоящий момент отношения между нами немного напряженные, – перекрикивая шум мотора, сказала я. – Бронвен редко плачет по отцу… В любом случае не в моем присутствии. Она прячется в своей комнате, словно скорбь – что-то постыдное. В какие-то дни мне кажется, что она нормально себя чувствует, потом я начинаю волноваться.
– Мы все скорбим по-своему, – произнесла Кори, искоса бросив на меня взгляд. – Своих детей у меня нет – пока нет, во всяком случае, – поэтому я тут не советчик… Но не торопите ее, Одри, думаю, она оправится.
Далеко внизу под нами бежала тень «Сессны» – маленький, похожий на дротик призрак, струящийся по холмам и долинам, прыгающий по коричневым запрудам и извивающийся по лоскутам зеленых и золотых загонов, сшитых между собой проволочным ограждением. Он скакал по желтым точкам тюков сена, щекотал скот, пасущийся на своих тихих лугах.
Кори постучала по лобовому стеклу.
– Первое владение будет справа. Мы приближаемся с юго-запада, та линия деревьев отмечает северную границу. Через минуту мы свернем на восток, затем развернемся и подойдем с северо-восточной границы, чтобы солнце светило нам в спину. Я смогу сделать второй заход, если вы захотите.
Я прислонилась к пассажирской двери, пристроила, подложив ладонь, основание камеры на внешнем ободке окна, прищурилась в видоискатель.
Сквозь ковер золотистой травы просвечивала земля цвета ржавчины, а проржавевшая местами крыша фермерского дома пускала солнечные зайчики.
Зафиксировав камеру, я переключилась на ручную фокусировку и начала снимать, прежде чем владение заполнило объектив. Машинально я подумала: «Кори – хороший пилот». Фотографии будут первоклассные. Мы летели без толчков, несмотря на сильный ветер, который, я чувствовала, бил мне в лицо снизу.
Мы проплыли над центром хозяйства; мотор «Сессны» стонал в такт размеренному пощелкиванию моей камеры. Гравийная подъездная дорога на ферме делала петлю, а потом устремлялась на восток, к полоске гудронированной дороги, вливавшейся в шоссе. Секунду спустя ферма исчезла из виду, и мы уже плыли над темным от покрывавших его деревьев горным хребтом.
– Нужен второй проход? – завопила Кори, заглушая шум.
– Нет, это было здорово.
– Хорошо, теперь мы полетим на северо-запад. Второе хозяйство недалеко.
Каким-то образом Кори удавалось оставлять солнце у нас за спиной, что превращало мою работу в пустяковую задачу. Казалось, прошло совсем немного времени, как все четыре фермы Коссарта остались позади.
Пока Кори закладывала широкий разворот, я начала снимать для себя. Под нами изогнулся неровный, покрытый пышной зеленью круг островерхих холмов, заштрихованный овражками и тенистыми лощинами. Я никогда не видела ничего подобного. Отсюда, сверху, этот мир казался спокойным, и все же легко было представить, что некогда колоссальный круг потухшего вулкана кипел пеплом и лавой.
– Посмотрите туда! – крикнула Кори, указывая на мое окно.
Самолет совершал поворот на запад, и крыло со стороны пилота торчало вверх, а мое – почти вертикально вниз. Земля резко вздыбилась, и на один головокружительный миг я вообразила, как протягиваю руку и касаюсь верхушек деревьев.
Потом я сообразила, что делает Кори.
– Это Торнвуд. – В моем голосе невольно зазвучал смех. – Узнаю холм позади поместья и скол на горе в виде полумесяца. Какое все зеленое, какое красивое…
Я сняла с объектива крышку и снова принялась снимать, испытывая восторг при мысли о том, что холмистая местность внизу принадлежит мне. Моя камера захватила лесистые холмы и пастбища в долине, скальные выходы и крутые овраги. Она запечатлела более темную зелень сада и серебристую крышу, под которой, ни о чем не подозревая, наслаждалась одиночеством моя дочь.
Сильный ледяной ветер, завывавший в крохотном окне, заморозил мне лицо и пальцы, давали о себе знать и первые симптомы воздушной болезни. Горло саднило от крика, а слух притупился от постоянного треска мотора… И все равно я не могла бы вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя такой счастливой.
– Великолепное владение! – крикнула Кори. – Я рада, что оно перешло к человеку, который его ценит. Нет ничего печальнее, чем видеть, как подобное место разрушается от заброшенности.
– Вы хорошо знаете это поместье?
– Я выросла на одной из соседних ферм, но мои родители продали ее в начале девяностых. Видите ряд зеленых холмов вон там? Это наша старая граница.
Мы посмотрели вниз, на неровную местность, где тень «Сессны» прыгала по холмам и ныряла в зеленые долины.
– У меня остались замечательные воспоминания о Торнвуде, – перекрывая шум мотора, сообщила Кори. – Детьми мы нередко там играли. Он был дикий и заросший – бесконечно более таинственный, чем ферма Уэйнгартенов, где выращивали органические фрукты и овощи. Земноводные чудища в ручьях, тролли под каждым холмом, все в таком духе. У нас были шумные развлечения – мы объедались лаймами, бананами, манго… Кололи орехи макадамии, прятались на деревьях, купались нагишом в речке. Даже после смерти старика никакие предостережения нас не отпугивали.
Я подумала, что неправильно расслышала из-за шума.
– Предостережения?
Потянувшись назад, Кори задвинула свое окно, затем жестом предложила мне сделать то же. Я закончила фотографировать, поэтому обрадовалась возможности перекрыть поток леденящего ветра. Уровень шума тоже резко снизился. Теперь рев «Сессны» был приглушенным, кабина превратилась в оазис покоя.
– Что вы имели в виду под предостережениями? – напомнила я.
Кори уставилась в голубую бескрайность.
– Думаю, наши родители не хотели, чтобы мы туда ходили из-за того, как умер дед Тони. В любом случае это делало данное место лишь более привлекательным. Мы представляли, что это дом с привидениями, и сочиняли истории о тайной комнате, набитой человеческими скелетами. Мы подначивали друг дружку провести ночь там, но никто из нас так этого и не сделал. – Она искоса взглянула на меня. – Не переживайте, Одри, в этих историях нет ни капли правды.
– Как он умер?
Она нахмурилась:
– Тони вам не рассказывал?
Я покачала головой.
Кори сверилась с пультом управления.
– Какие-то туристы гуляли по бушу и забрели в Торнвуд со стороны национального парка. Они нашли старика под деревом, мертвого. Его тело погрызли животные. По-видимому, он гулял там как-то вечером и упал, сломал шейку бедра. Бедный старик. Полагают, что он умер от голода.
– Какой ужас.
– Да уж, точно. Но это дает представление о необъятности поместья. Торнвуд – громадное владение, можно ходить несколько дней и не встретить ни души. В округе немало таких, на холмах, особенно на границе с национальным парком. Торнвуд красив, – задумчиво проговорила она, – но нужно смотреть под ноги.
– Неужели никто его не хватился?
– Старый Сэмюэл избегал контактов. Насколько помню, я даже никогда толком не видела никого из его семьи. Наверное, он предпочитал держаться в стороне, понимая, что особой любовью не пользуется.
– Почему?
Снова озадаченный взгляд.
– Тони никогда вам и об этом не говорил?
– Он никогда не говорил о своей семье. Это слишком его расстраивало, поэтому в итоге я перестала расспрашивать.
Кори помялась в нерешительности.
– Ну… не знаю, стоит ли говорить вам это или нет… В конце концов, вы только что сюда переехали и место вам вроде бы нравится. Я не хочу, чтобы у вас начались ночные кошмары.
Я ждала, уставившись на нее.
Она вздохнула.
– Его обвиняли в убийстве человека.
– Кого?
– Молодой женщины… бабушки Тони. Бедняжка, – торопливо продолжала она, – это случилось в сороковых годах, сразу после войны. Состоялся суд. Сэмюэла оправдали, но ущерб репутации был нанесен. Ходили слухи, что он был виновен, но дело прекратили, потому что его отец знал судью. Весь город был потрясен. В те дни все были в родстве со всеми – люди друг друга знали, и если на какую-то семью обрушивалась трагедия, она волной прокатывалась по всему району. Такова природа тесных сообществ вроде Мэгпай-Крика. Люди знают о делах друг друга, и у них долгая память. – Она посмотрела на меня: – Прошу прощения, я вас напугала, да? Вы белая как полотно.
Я покачала головой – не напугала. Но ее откровения подтолкнули мою память… Сон, слишком смутный, чтобы его вспомнить, но суть его я не забыла. Я лежала среди теней на поляне в буше, не в состоянии шевельнуться, руки и ноги подвернулись, темная тень чего-то большого и тяжелого придавливала меня…
– Убийство, – чуть задыхаясь, проговорила я. – Похоже на то…
Кори округлила глаза, соглашаясь.
– Драматично. Понимаю.
– Когда мы переехали, – сказала я, – вещи старика по-прежнему находились в доме. Не только мебель, но и одежда, обувь в шкафу, зубная щетка и бритвенные принадлежности в ванной комнате. Старые жестянки с печеньем в кладовке. Ничего не стали складывать в коробки или выбрасывать после его смерти – все было просто оставлено как есть.
Кори поежилась.
– Страшно. Вы, наверное, совсем перепугались.
– Это покажется безумием, но я совсем не напугалась. По правде говоря, несмотря на все это – в чем и заключается безумие, – старый дом имел жилой и гостеприимный вид. Что-то такое витало в воздухе, понимаете? Печаль, но в то же время и радость. У меня возникло странное чувство, будто я вернулась домой после долгого отсутствия.
– В смысле, как будто это что-то из прошлой жизни?
– Не совсем… больше похоже на по-настоящему сильную связь. – Я махнула рукой, сознавая, каким абсурдом должны казаться мои слова. – Вероятно, просто последствие получения по наследству такого поразительного поместья. Словно шаг назад во времени в более безмятежный, красивый мир. Этот дом как будто затаил дыхание, ожидая меня, когда можно будет снова ожить.
Кори с тревогой смотрела на меня.
– Так вы не собираетесь мчаться домой и начинать укладывать вещи?
– Ни в коем случае, – рассмеялась я.
Однако втайне мое сердце забилось быстрее. Может, я и не испытывала побуждения спешно паковать сумки, но ощутила непреодолимый порыв что-то сделать.
Внезапно в наш разговор вмешался затрещавший радиопередатчик. Кори повернула ручку настройки и стала слушать писклявый голос авиадиспетчера, заполнивший своим зудением кабину. Отключившись, Кори внесла какие-то изменения в свои приборы. Двинула штурвальную колонку вперед, и «Сессна» почти незаметно начала снижение.
– Приближается гроза, – сообщила она. – Мы возвращаемся, если вы закончили?
– Закончила.
Положив камеру объективом вниз на колени, я просмотрела сделанные снимки, заслоняя экран ладонью от света, отражающегося от крыльев «Сессны». Фотографии вышли хорошие: много сияющего цвета, прекрасная контрастность, единая освещенность всех снимков и чистая глубина резкости.
– Как получилось? – спросила Кори.
– Отлично. Вы управляете гладко. Это имеет значение.
Кори хмыкнула.
– Лесть откроет перед тобой любые двери, подруга. Большинство местных, кого я вожу, жалуются, что я летаю слишком медленно. Придурки. Никакого художественного чутья.
Я поймала себя на том, что хихикаю вместе с ней, и – пока «Сессна» с ревом шла к взлетно-посадочной полосе – снова призналась себе, что наслаждаюсь моментом. Несмотря на открывшиеся подробности о дедушке Тони, я находилась в приподнятом настроении.
Мои пальцы скользнули в карман, куда я сунула визитку, которую дала мне Кори. Провела пальцем по краю карточки, размышляя о старом мастере на все руки.
Хоб Миллер обрезает деревья, ловит поссумов, строит курятники, он ходячая энциклопедия. Он знает все об истории Торнвуда, по мнению Кори. А может, даже что-то еще о деде Тони – возможно, подробности суда по делу об убийстве в сороковых годах… и как получилось, что того обвинили в убийстве бабушки Тони.
* * *
Я на сверхскорости добралась до офиса Коссарта – отдать фотографии и торопливо заполнить ведомость по отработанному времени. Затем рванула в Торнвуд, то и дело поглядывая на часы на приборной доске. Утреннее приключение заняло меньше двух часов.
Я ожидала найти Бронвен перед телевизором, свернувшуюся клубочком на диване, как я ее оставила, может, крепко спящую, невзирая на какой-нибудь фильм. Телевизор орал, но в гостиной было пусто.
– Бронни?
Я заглянула в спальню, затем прошла по коридору и проверила другие комнаты. Они тоже были пусты. Не было ее и в кухне, а когда я выглянула на заднюю веранду, чтобы проверить двор, не обнаружила ее и там. Сердце стукнуло с перебоем, ладони вспотели. «Успокойся, – велела я себе, – она не ушла далеко. Вероятно, сидит на скамейке под палисандром или на лужайке…»
Задняя сторона дома выходила на запад, отсюда через лесистую долину открывался вид на пурпурные холмы. Северная часть двора круто шла вверх и заканчивалась у подножия маленького холма. Подножие холма густо заросло черноствольными эвкалиптами и кустами чайного дерева, а его вершина представляла собой открытое пространство гладких скальных выходов. Был всего лишь полдень, но тени уже окутали южную сторону холма, северная же его сторона была залита таким резким светом, что виднелся каждый листок и каждая сухая бурая травинка. Никаких других домов, ни следа цивилизации; только холмы, деревья и бескрайнее небо.
В отдалении на горизонте плыла огромная серая флотилия облаков, признак грозы, о которой предупреждала Кори. Сейчас тучи были неопасны, приближаясь медленно, почти украдкой. Тени в саду, казалось, чувствовали надвигающееся разорение, перемещались между деревьями.
Несмотря на удушливую жару, мои руки покрылись мурашками. Неужели в этом живописном месте действительно произошло жестокое убийство? Неужели в свое время Торнвуд служил домом хладнокровному убийце? Я подумала о больших просторных комнатах, уютных креслах, полированной мебели, которая так хорошо ужилась с моей собственной. Внезапно этот дом перестал казаться безопасной гаванью, которой я его вообразила.
– Брон, где ты?
С топотом сбежав по ступенькам заднего крыльца, я помчалась по кирпичной дорожке мимо запущенных гортензий, между двумя рядами переросших гранатовых деревьев и мушмулы. Скамейка под палисандром пустовала.
Я изо всех сил прислушивалась, мне мешал бешеный стук сердца, отдававшийся в ушах.
Поначалу моему уху, привыкшему к городскому шуму, тишина показалась абсолютной. Но вскоре мне открылась целая симфония звуков: пели цикады, бормотали в цветах пчелы, резко вскрикивали и трещали в кронах деревьев какаду. Мириады птиц самых разных видов насвистывали из невидимых укромных мест… и под всем этим, как басовая нота в сложной оркестровой пьесе, звучал низкий гортанный клич лягушки-быка.
Сквозь шум я вспомнила слова Бронвен.
«Если кто-то из нас умрет, другая останется одна».
– Бронвен!
По-прежнему никакого ответа. Паника охватила меня, до помрачения сознания. Я стремительно побежала вниз по холму, пригнулась, прорываясь сквозь садовую арку, увенчанную буйным париком из жасмина. Земля под ногами была голой и сухой. Непроходимая стена ежевичных кустов душила кривые гревиллеи и каллистемоны. По другую сторону зарослей мелькнул загон, на котором росли цитрусовые деревья. Где-то ниже по склону журчала вода. Я на цыпочках подкралась и заглянула в загон. Какое-то белое пятно виднелось на темном берегу того, что, вероятно, было ручьем. Там кто-то был, по-видимому, лежал на траве без движения.
Вспомнилась сцена из сна. Тени деревьев и кружащиеся, страшные очертания. Крик и смутная фигура с поднятой рукой, снова и снова наносящей удары. Тьма, расчлененная и трещавшая от страха…
«Если кто-то из нас умрет…»
С лихорадочно колотящимся сердцем, спотыкаясь, я поплелась вниз по холму, пытаясь отыскать проход сквозь стену из веток. Каждая крепкая ветка ежевики ощетинилась сотнями острых шипов, их угрожающие кончики горели на солнце алым, преграждая путь успешнее баррикады из колючей проволоки.
Я потеряла фигуру из виду. По телу пробежала паническая судорога. Приняв поспешное решение, я бросилась в первую же узкую брешь, на которую наткнулась. Длинные ветки ежевики упруго вставали поперек моей дороги, колючими шипами цепляясь за одежду, впиваясь в кожу, запутываясь в волосах. Я попала в ловушку, колючки с красными кончиками вонзались в руки и спину. Затем прямо передо мной возник просвет. Одним последним усилием я вырвалась из зарослей и ввалилась во фруктовый сад.
Бронвен резко обернулась на шум – на лице пятна солнечных бликов, глаза полны тревоги. Я увидела только ее испуг и, движимая первобытным инстинктом, бросилась защитить дочь. И при первом же шаге попала ногой в изогнутую петлей ветку. Я еще двигалась по инерции вперед, когда земля взлетела и столкнулась со мной. Дыхание с хрипом покинуло меня, и я, оглушенная, осталась лежать.
– Мам?..
Я не могла пошевелиться. Не могла дышать. Потом издала сиплый, свистящий звук, и мои сдавленные легкие очнулись. Мир вернулся в фокус. Повернув голову, я прищурилась в пятнистое небо. На меня внимательно смотрело лицо дочери – светлые брови нахмурены, нос наморщен.
Выпутавшись из ежевичного силка, я с трудом поднялась, отряхивая одежду. Загон кружился, пришлось опереться руками о колени и попытаться отдышаться. Когда голосовые связки восстановились, я выдохнула:
– Какого черта ты делаешь?
Глаза – такие голубые, что затмили небо, – расширились.
– Мам, посмотри на свои руки!
Я выпрямилась, сердито глядя на дочь. Щеки у нее пылали, в руках она держала банку с грязной водой, в которой извивались маленькие черные существа – головастики.
– Я же велела тебе сидеть в доме, – прохрипела я. – У меня чуть инфаркт не случился.
Она моргнула, затем быстро пожала плечами, изображая безразличие.
– Дождь собирается, поэтому я занесла в дом белье, – проговорила Бронвен слегка укоризненным тоном, – а тебя не было целую вечность. Я подумала, что ты про меня забыла… В любом случае я недалеко ушла.
Я икнула.
– Брон, ты не знаешь, кто может притаиться в этом месте… опасные типы, кто угодно.
Она вывернула шею и огляделась с поднятыми бровями, устроив из этого целое представление.
– Нет, только мы.
– В следующий раз, пожалуйста, просто сделай, как я прошу, хорошо?
– Мам, ты в таком жутком виде. Твои руки…
Я посмотрела на себя: перепачкана с ног до головы, покрыта царапинами и подтеками темной крови. Футболка облеплена листьями, а любимые джинсы порваны на коленях.
Из глаз у меня потекли слезы.
Бронвен нахмурилась.
– Мам?
Я шмыгнула носом, утерлась тыльной стороной ладони, смахнула ежевичный мусор с загубленных джинсов.
Бронвен достала из кармана и развернула чистый носовой платок. Я высморкалась, промокнула глаза и вернула платок. Дочь таращилась на меня так, будто у меня выросли рога, и я поняла, что должна хотя бы попытаться объяснить свое поведение. Но как признаться одиннадцатилетней девочке, что она – все, что у тебя есть, и что мысли о ее утрате – одной лишь мысли об этом – достаточно, чтобы лишиться душевного равновесия?
Для ребенка это, конечно, слишком тяжелое бремя, поэтому я прикусила язык и отправила свой страх назад, в тень, откуда он явился.
– Время обеда, – сказала я. – Можем заказать пиццу, если хочешь. Или рыбу и чипсы?
Бронвен уставилась на горы в отдалении, избегая моего взгляда. Она раскручивала мутную воду в банке, с головокружительной скоростью полоща головастиков внутри их стеклянной тюрьмы.
– Рыба с чипсами будет в самый раз.
– Отлично, – уныло откликнулась я и захромала вверх по холму к дому, избрав на сей раз живописный маршрут сквозь заросли жасмина.
* * *
Позднее тем вечером, воняющая «Деттолом» и облепленная пластырем, я стояла в дверях комнаты Сэмюэла.
Вдыхая висящий в воздухе запах дождя, я удивлялась, почему сюда врывалось столько внешних звуков: журчала в стоках вода, барабанили по влажным листьям дождевые капли; от стен отражалась серенада одинокой лягушки-быка. Затем поняла, что оставила окно открытым.
Включив свет, я осмотрелась, оценивая нанесенный ущерб. Штора промокла, дождевая вода образовала на полу лужицы. Все остальное казалось целым, пока я не увидела сиротливо торчавший из стены гвоздь там, где прежде висела фотография в рамке.
Нелепо, но меня внезапно охватила паника. Я бросилась через комнату, руки и ноги ослабели и налились жаром от страха. Ну почему я не убрала снимок в какое-то безопасное место, не спрятала? Почему забыла закрыть окно? Я вообразила, как фотография Сэмюэла коробится от воды, фотоэмульсия отслаивается от бумаги. Снимок может быть утрачен навсегда из-за глупого недосмотра.
Серебряная рамка лежала на полу лицом вниз. Подняв ее, я увидела, что стекло разбилось, остались лишь острые, как зубы акулы, осколки по периметру. Вынув болтавшиеся осколки, я поднесла рамку к лампе у кровати и повернула к свету. Без стекла проступили детали, которых я не заметила раньше: легкие морщины на лбу, в уголках глаз тоже лучики морщинок; едва обозначенная щетина, тенью лежащая на подбородке; на скуле под глазом какая-то отметина – веснушка или родинка, может, шрам.
Перевернув рамку, я вынула покоробленный картонный задник и отлепила фотографию, собираясь убрать ее в надежное место, пока не вставлю снова в рамку.
Тогда-то я и увидела клочок бумаги.
Он был заткнут за фотографию, но с течением времени прикипел к картонному заднику. Когда я отсоединила его и дрожащими пальцами расправила на коленях, то увидела, что это письмо.
Среда, 13 марта 1946 года
Мой дорогой Сэмюэл!
Четыре с половиной года я боялась, что ты меня забыл или хуже – умер в далекой стране. Знать, что ты жив, – это и молитва, и осуществленная мечта. Мне жаль, что мы поссорились сегодня на улице, пожалуйста, пойми, что я совсем не собиралась этого делать – я была вне себя, увидев тебя живым. Ты прощаешь меня, любимый?
Я должна поскорее снова тебя увидеть. Не могу дождаться завтрашнего дня. Мне нужно поговорить с тобой сегодня вечером, где-нибудь, где никто не станет любопытствовать или осуждать. Мне нужно столько тебе сказать и столько услышать: о твоих путешествиях, как ты жил на войне, о твоих планах теперь, по возвращении. И самое неотложное – хотя мне страшно спрашивать: по-прежнему ли ты, после всех этих лет молчания, хочешь на мне жениться?
Прошу, согласись встретиться со мной, любимый мой. Сегодня вечером в нашем тайном месте, в девять часов? Я встречу тебя широкой счастливой улыбкой. И хотя знаю, что ты терпеть не можешь сюрпризы, приведу познакомиться с тобой одного человека, одного очень особенного человека.
Твоя навсегда,Айлиш.Петляющий каллиграфический почерк, но написано в спешке. Одни слова сливались, другие настолько выцвели на пожелтевшей почтовой бумаге, что почти не читались.
Разгладив письмо на коленях, я всматривалась в него, словно пытаясь прочесть между строками.
Что-то подсказывало мне, что Айлиш была бабушкой Тони – молодой женщиной, в убийстве которой обвиняли Сэмюэла. Разумеется, я не могла знать этого точно, конкретных доказательств в письме не было, всего лишь упоминался один очень особенный человек, скорее всего ребенок, и была очевидна преданность Айлиш, несмотря на то, что Сэмюэл несколько лет воевал вдали.
Что между ними произошло, почему они поссорились? Встретились ли они в их тайном месте в тот вечер, было ли все прощено? Или Сэмюэл понял письмо неправильно и предположил, что Айлиш виновата в более ужасном преступлении? В отлучке Сэмюэл мог не иметь возможности посылать или получать почту, это объясняло страхи Айлиш, что он забыл ее или убит. Но я невольно гадала: нет ли чего-то большего – много большего – в их истории?
«Ты прощаешь меня, любимый?»
Я несколько раз перечитала письмо, затем поднесла поближе и принюхалась. Пыль и старая бумага. Горьковатые чернила. И очень слабый аромат розы. Сложив письмо, я положила его в ящик прикроватного столика. Затем снова посмотрела на фотографию в свете лампы.
Да, снимок сделала женщина, я видела это по глазам Сэмюэла. Его обольщающая улыбка была обращена к ней, сознательно и страстно, как будто в мире никого больше не существовало.
Когда-то, много лет назад, я была влюблена в Тони – но он ни разу так мне не улыбался. Как тонущая мышь цепляется за плывущую деревяшку, я цеплялась за его симпатию, отчаянно и со страхом, с упорством человека, который был одинок раньше и страшится вернуться в это состояние. Тони любил меня, я это знала. Однако он никогда не испытывал ко мне настоящей любви…
– Сэмюэл, – выдохнула я, и его имя прозвучало у меня на губах одновременно интимно и безрадостно.
Я всмотрелась пристальнее. Глаза у него были небольшие и прищуренные, как у кошки, насыщенно-темные, может, черные. Широкие скулы и крепкая челюсть словно высечены из камня, но жесткость черт смягчалась совершенными линиями полных губ.
Я была очарована.
А может быть, сказался недостаток сна. Глаза закрывались сами собой. Плохо соображающий мозг балансировал на грани забытья, тело вдруг сделалось слишком тяжелым, чтобы держаться прямо. Исцарапанная ежевикой кожа горела и болела, и мне страшно хотелось лечь.
На стропилах заворчал поссум, затем, глухо топая, отправился к себе в гнездо. Лягушка-бык возобновила свою одинокую песню в траве за окном. Я выключила лампу у кровати. В свете луны стены и потолок сияли мягким перламутровым светом, как внутренняя сторона раковины, как сон, в который я уже начинала погружаться.
Каким-то образом я очутилась на кровати. В носу защекотало от пыли, чихнула. Комната накренилась – я легла. Поудобнее устроив голову на подушке, устало вздохнула и позволила глазам закрыться.
Глава 5
Айлиш, сентябрь 1941 года
Я бежала, едва переводя дыхание, по сумрачной тропке, сквозь папоротники и влажную путаницу вьющихся кустов пандореи, стараясь не наступить на колокольчики и дикие орхидеи, пустившие ростки в тени. Я бежала вверх по холму, ныряя в полосы вечернего солнца, которые пробивались сквозь нависающие кроны деревьев, мое тело было легким, как у птицы, сердце пело: «Сэмюэл, Сэмюэл…»
Вырвавшись на травянистую поляну, остановилась, чтобы отдышаться. В центре ее стоял ветхий коттедж, построенный первыми поселенцами, владевшими этим местом восемьдесят лет назад. Древесину они взяли из окружающего леса, а камни для фундамента притащили из оврага. Грубо обтесанные стены наклонились внутрь, эвкалиптовая дранка крыши почернела от времени, но домик имел веселый, обжитой вид, манивший меня.
Ограду веранды опутали полевые цветы: актинотус и ховея, дикий жасмин и пижма. Торчали, покачиваясь на ветру, высокие стебли вишнево-розового гиппеаструма. Из черенка, взятого в торнвудской беседке, пошли розы, дотянувшиеся густыми плетями до прогретой солнцем крыши, их кроваво-красные цветы наполняли воздух ароматом.
Взлетев по ступенькам, я ворвалась внутрь и заморгала в прохладном полумраке. Слабый свет сочился в крохотное оконце, освещая неструганые стены, маленький стол со стульями, на невысоком гардеробе – вазу с веточками шиповника. У дальней стены стояла узкая койка с единственной подушкой и скромным серым одеялом, подоткнутым по краям.
Сэмюэл сидел на краю койки. Рубашка обтягивала его руки и грудь, а ладони он так плотно стиснул на коленях, что в полумраке костяшки пальцев сияли белизной. Он поднялся, на его лице отразилась радость с оттенком – я определила это по нахмуренным бровям – страдания.
– Айлиш, моя бабочка… Я думал, ты никогда сюда не придешь.
Он родился за океаном, в Ирландии, и приехал сюда мальчиком, слишком поздно, чтобы избавиться от картавости, смягчавшей очертания его слов. Мое имя в его устах всегда звучало как Айлэш[7].
Я нерешительно шагнула вперед.
– Ты не передумал?
Он нахмурился.
– А ты? Я хочу сказать, ничего страшного, если ты передумала, мы не обязаны…
– Конечно, нет.
Никто из нас не шевельнулся.
Сэмюэл прочистил горло.
– А как же Якоб, он…
– Папа вместе с Клаусом Джерменом уехал в Ипсвич забрать коробку пожертвованных Библий. Он не вернется до середины завтрашнего дня.
– К этому времени я уеду.
– Да. Хотя…
Сэмюэл вскинул голову, внимательно глядя на меня.
– Хотя, – продолжала я, чувствуя себя смелее, но все же не в силах сдержать дрожь в голосе, – ты, по крайней мере, поедешь со сладким воспоминанием.
Лицо Сэмюэла смягчилось. Складка между бровями разгладилась, он на секунду прикрыл глаза, затем двинулся ко мне так быстро, что у меня закружилась голова. Он схватил меня за руку и привлек к себе, потом я каким-то образом уже сидела у него на коленях на краю кровати, окутанная его теплом, переполняемая этой новой – и интимной – близостью.
– Айлиш, – прошептал он, прижавшись губами к моим волосам, – неужели ты не знаешь, что все мои воспоминания о тебе сладкие? И однажды, когда эта проклятая война закончится, нам не нужны будут воспоминания. Мы поженимся, и я никогда тебя не покину.
– Ты не забудешь меня там, вдалеке?
– Забыть тебя? – Он фыркнул, затем крепче обнял меня, целуя в висок. – Идет война, моя бабочка, но неужели ты думаешь, что она все заслоняет собой? О, любимая, да как я смогу тебя забыть? В моей глупой голове все мысли только о твоей улыбке, о смехе, от которого кровь кипит в жилах, о паре ножек, при взгляде на которые я становлюсь глухим, немым и слепым и забываю о более важном…
Я насмешливо фыркнула.
– Что же может быть важнее, чем мои ноги?
– В том-то и беда, моя милая. Для меня нет ничего важнее твоих ног. Ничего более замечательного, чем твои пальчики, твои красивые руки, твои сочные губы. Волосок на твоей голове значит для меня больше, чем любая вещь в этом мире и в следующем. Ничто из существующего на земле не значит больше тебя, чудесной, волнующей, опьяняющей.
От его смелых слов у меня закипела кровь, вспыхнули щеки. Я опустила голову, которая кружилась от страстного желания. Придвинься я хоть чуточку ближе, наши губы соприкоснулись бы.
Я отстранилась:
– Ты не боишься?
Он вздохнул.
– Нет. Во всяком случае, не за себя. Но, родная, не тревожься, я вернусь к тебе, клянусь. И тогда мы поженимся и начнем строить нашу замечательную совместную жизнь.
Его слова должны были успокоить меня, но я почувствовала, как во мне поднимаются старые страхи. На плечах выступил липкий пот. В ушах зазвенело, словно пчелиный рой вылетел из отвратительного улья в глубине души, чтобы досуха высосать мое сердце.
Сэмюэл продолжал шептать свои заверения, прижавшись губами к моим волосам, но мысли у меня разбежались. Он закончил обучение на медицинском факультете Сиднейского университета, последние десять месяцев занимаясь по утрам, а днем практикуясь в Государственной больнице Святого Винсента. В каникулы он поездом на несколько недель приезжал домой, в Мэгпай-Крик, помогал отцу с его обширной практикой, а все свободное время проводил со мной.
Мы легко строили планы нашего совместного будущего. Когда два года назад началась война, он и несколько других студентов с его курса попросили ускорить их обучение, чтобы сдать экзамены раньше. Едва окончив университет, Сэмюэл поспешил записаться во Вторые Австралийские имперские силы. Я надеялась, что война закончится до завершения курса подготовки – мы назначили дату нашей свадьбы на декабрь, всего через два месяца от нынешнего дня, – но вчера он получил уведомление, что его батальон перебрасывается немедленно.
Сэмюэл, видимо, почувствовал мое ужасное состояние, потому что привлек меня поближе и уткнулся лицом мне в шею. И шептал, шептал. Я не могла разобрать слов, но через минуту мне стало щекотно. Я попыталась вырваться, но Сэмюэл держал меня крепко. Скоро мое ерзанье вызвало у него смех – добрый, томный, хрипловатый звук, от которого по телу пробежала восхитительная дрожь. Вскоре я тоже захихикала. Наша возня ослабила напряжение. Я позабыла о своих страхах. Был только Сэмюэл – мой дорогой, любимый Сэмюэл – и дивный момент близости, который мы сейчас переживали.
Обвив его, как молодая лиана, я крепко к нему прижалась, а потом еще сильнее, когда он вместе со мной упал на кровать, придавив меня своей тяжестью. Задравшаяся до талии юбка затем и вовсе покинула меня. Каким-то образом на полу к ней присоединилась блузка, а потом мое белье вместе с брюками и рубашкой Сэмюэла. Его кожа была бархатистой, мускулы под ней – стальными.
– Может, я сплю? – пробормотала я. – Что, если проснусь и увижу, что тебя уже нет?
Сэмюэл погладил большими пальцами мои щеки и поцеловал в уголки губ. Кровать скрипнула, когда он поменял положение и вытянулся рядом со мной.
– Это достаточно реально? – выдохнул он, ведя ладонью по моему плечу, потом ниже – по груди. – Это доказывает, что я не сон?
– О, ты именно сон, – возразила я с улыбкой, обнимая его за шею и приближая к нему свои губы. – Чудесный сон, от которого я не хотела бы очнуться.
– Тогда мы не станем просыпаться, – пообещал он. – Останемся здесь навсегда, только ты и я, как сейчас, всегда вместе.
Эти слова мне понравились, и захотелось подольше понежиться в тепле, которое они мне дарили. Потом губы Сэмюэла встретились с моими с такой ненасытностью, что я забыла, о чем он говорил, забыла его клятвы, забыла сладостное обещание нашего совместного будущего. Необыкновенно долго мое сознание воспринимало только солнечный свет, меркнувший в окне, тени, медленно переместившиеся по мере того, как день сменился ночью, негромкое поскрипывание ржавых пружин койки – и Сэмюэла, моего дорогого Сэмюэла, обладавшего мной, пока длился сон, от которого мне не хотелось бы очнуться.
Позже – видимо, много позже – я лежала бодрствуя, пока Сэмюэл спал. В какой-то момент в горячке нашего соединения я почувствовала, как оболочка прежней Айлиш потрескалась и отпала, подобно оставленной в траве змеиной коже. Я всегда была чужачкой, застрявшей между миром моего отца, включавшим книги, изучение Библии и молитвы, и простым существованием в миссии народа моей матери. Я не была ни светлой, ни темной – девушкой-тенью, застрявшей между двумя этими мирами. Однако теперь принадлежала Сэмюэлу, а он – мне. Я мысленно улыбнулась, испытывая удивительный душевный подъем. «Мы, – как очень часто говорил он мне в прошлом, – создадим наш собственный мир, где различия в людях будут цениться, а умения, таланты и душа – ставиться гораздо выше таких мелочей, как цвет кожи…»
Что-то мелькнуло за окном.
Сова или козодой, подумала я. Птица, пролетевшая мимо и потревожившая хрупкий луч лунного света, который освещал наше убежище. Хотелось проигнорировать эту помеху, и на какое-то время мне это удалось, но потом кожу стало покалывать, как будто я слишком долго пробыла на солнце, и у меня возникло странное чувство, что мы больше не одни.
Мой взгляд прошелся по освещенному луной вороху одежды на полу, мимо прямоугольной тени дверного проема – к невысокому гардеробу с ветками шиповника в вазе. Он скользнул по грубой стене, пока наконец не достиг бледно мерцавшего окна.
В лишенный стекла оконный проем таращилось лицо. Детское лицо, словно отделенное от тела, беспокойный дух, выплывший из ночи. Оно было пухлым и сияло белизной, как алебастр, колебалось, подобно призраку, вглядываясь в комнату большими любопытными глазами. На кратчайшее мгновение я встретилась с ним взглядом, и ужас поразил меня в самое сердце. Я смотрела в лицо смерти. Моей смерти. А может, смерти Сэмюэла? У меня перехватило дыхание. Я открыла рот, но не смогла закричать. Лицо призрака похитило мой голос, утопило его в колодце тишины, сделав меня немой. Но лишь на миг.
Наконец я глотнула воздуха и закричала.
Сэмюэл неуверенно сел на кровати и обнимал, пока я не успокоилась. Когда ко мне вернулась способность соображать, я бессвязно пробормотала:
– Там, в окне, лицо. Это было ужасно, Сэмюэл, жуткое призрачное лицо!
Он вскочил с кровати и натянул брюки. Выхватив из-под кровати какой-то тряпичный сверток, вынул из него черный предмет и бросился к двери. Его шаги прогрохотали по ступенькам, потом – вдоль стены домика, захрустели, удаляясь, сквозь папоротник. Через минуту Сэмюэл вернулся, бухая вверх по ступеням и по веранде, ворвался в домик, ругаясь себе под нос.
– Кто это был? – резко спросил он.
– Не знаю.
Он вернул черный предмет на пол под кровать и обнял меня.
– Кто бы это ни был, он ушел. Говорю тебе, Айлиш, – сказал он, гладя меня по волосам и покрывая поцелуями мой лоб, – если я доберусь до этого негодяя… – Он отстранился и внимательно посмотрел на мое заплаканное лицо: – За тобой никто сюда не шел? Ты уверена, что не узнала его?
– Это был не человек, Сэмюэл. Я же тебе сказала. Это был призрак.
Он вздохнул.
– Призраки не подглядывают за людьми в окна, Айлиш.
– Этот подглядывал.
Тут глаза Сэмюэла затуманились, и он прижал меня к себе. Вернувшись в постель, мы лежали молча. Из-за тревоги что-то пропало, мы больше не были одни во вселенной, в коконе нашего сна. Внешний мир просочился сквозь преграду из нашей любви и осквернил эту любовь неуверенностью и сомнением. Медленно текла ночь, и мы, должно быть, уснули, но уже слишком скоро восток едва заметно заалел, затем рассвет окрасил край неба сначала бледно-зеленым, потом розовым, потом золотым цветом.
Я видела смерть. Смерть видела меня. Я поежилась, страх пророс в моем сердце, толкаясь и разворачиваясь, пока не пробился сквозь поверхность моей решимости.
– Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я боюсь, что ты погибнешь.
Сэмюэл прижал меня теснее и поцеловал в макушку.
– Никто не погибнет. Ты не успеешь оглянуться, как я вернусь… Мы поженимся и никогда даже на минуту не разлучимся до конца жизни. Мы переживем войну и снова будем вместе, Айлиш, не бойся.
– О Сэмюэл.
Мне хотелось свернуться клубочком и найти убежище в объятиях Сэмюэла, но он отстранился, сел и потянулся за одеждой. Запечатлев последний поцелуй в уголке моих губ, он поднял с пола черный предмет и встал с кровати.
– Я хочу, чтобы ты была в безопасности, пока меня не будет. А в безопасности ты будешь, только если научишься себя защищать.
Сэмюэл пересек комнату и, остановившись у двери, оглянулся. Свет усилился, края неба сделались темно-синими, цвета лесных фиалок. Он вдохнул влажного воздуха и закрыл глаза, словно хотел зафиксировать этот момент – меня на кровати, растрепанную и обнаженную, мои глаза, сияющие страстью, вазу с шиповником, мою разбросанную одежду, аромат жасминового куста и темную, в тени деревьев, дыру окна.
– Сэмюэл?..
Он моргнул, затем с улыбкой, скорее печальной, чем счастливой, подал мне знак следовать за ним.
Я быстро оделась, но потом задержалась на веранде. Сэмюэл стоял в десяти шагах от хижины, возясь с предметом, который достал из-под кровати. Послышался щелчок – Сэмюэл переломил револьвер пополам и вставил шесть латунных патронов. Поманил меня к себе.
– Нет, Сэмюэл.
– Ну, давай, Айлиш. Это не займет много времени.
– Я не могу… Ты же знаешь, папа против огнестрельного оружия. От одной мысли, что я вожусь с револьвером, его милое старое сердце остановится… Но научиться с ним обращаться? Помоги ему бог, Сэмюэл, он умрет…
Сэмюэл поднял бровь.
– Тем больше причин вооружиться. Если Якоб не сможет тебя защищать, тогда ты должна научиться этому. Кроме того, – добавил он, озорно подмигивая, – если старик ничего не узнает, он и не пострадает.
Мне не хотелось, чтобы это стало моим последним воспоминанием о Сэмюэле. Я цеплялась за минуты нашей взаимной страсти в напоенной ароматом розы темноте… но призрачное лицо украло воспоминания, словно присвоив их. В тот момент я чувствовала себя ограбленной, потерявшей уверенность. Папин спокойный мир молитв и тихой набожности казался мне очень далеким, тогда как мир войны и молодых мужчин, уезжавших, чтобы взяться за оружие и убивать других молодых мужчин, и газет, пестревших картами и списками погибших и пропавших без вести, – тот мир внезапно сделался очень близким.
Я спустилась на полянку к Сэмюэлу. Высокие эвкалипты с черными стволами бросали тень на траву, их листья трепетали под легким утренним ветерком, а птицы – птицы-бичи, свистуны, кукабарры, попугаи-лорикеты – воспевали восход солнца. Я вдохнула перечный запах пижмы, острый зеленый аромат эвкалиптов и сладкое насыщенное благоухание роз и решила, что Сэмюэл прав.
Он вложил револьвер мне в руку, направляя его на край поляны.
– Положи указательный палец на предохранитель и держи крепко. Подставь вот так вторую руку и вытяни обе.
Оружие было большим и увесистым, слишком громоздким, чтобы держать так, как нужно. От него исходил легкий металлический запах, смешанный с гвоздикой и потом, неприятный и неуместный в это напоенное ароматом цветов утро. Я попыталась сунуть его назад Сэмюэлу, но он покачал головой.
– Нет, нет… Держи его нацеленным на край поляны. Видишь вон то дерево?
– Я не могу, Сэмюэл.
– Вот… – Он встал позади меня и обнял, накрыв мои ладони своими. – Ты держишь его, как дохлую крысу. Нужно держать уверенно, воспринимать как часть своего тела. Как продолжение руки.
Меня передернуло.
– Он слишком тяжелый. Я не могу хорошо прицелиться.
Сэмюэл прижался ко мне. Я ощутила спиной тепло его тела, крепкие грудные мышцы, сильные, надежные руки.
– Возьми его крепко двумя руками, затем большим пальцем взведи курок… Вот, вот так, пока он со щелчком не встанет на место.
Урок был напрасной тратой времени. Я знала, что никогда не направлю оружие на другую живую душу, не говоря уже о том, чтобы убить, даже ради спасения собственной жизни. Может, мой отец пожилой и закосневший в своих привычках человек, но еще он – помимо Сэмюэла – самый мудрый из известных мне людей. «Милая, – очень часто говорил он, – всякий раз, когда мы убиваем даже самое малое из Божьих созданий, мы подтачиваем нашу собственную связь с божественным».
Но, нежась в роскошной близости Сэмюэла, я изменила свое мнение о достоинствах такого урока. Рубашка Сэмюэла пахла свежим потом, липла к его коже, а запах его помады для волос заглушал масляную вонь оружия. От этой близости с ним тело покалывало, ноги и руки ослабели. Я украдкой взглянула на Сэмюэла, любуясь его раскосыми глазами, высокими широкими скулами, пухлыми губами, возбуждавшими на таком расстоянии. Я поймала себя на том, что отклонилась сильнее, прижимаясь к нему ягодицами, вспоминая сладостную мягкость его губ.
– Не отвлекайся, – проворчал он.
Я съежилась.
Это заставило его вздохнуть и, сдвинув брови, покачать головой:
– Ты ведь понимаешь, с кем мы воюем, верно?
– Конечно.
– Тогда ты знаешь, что любой, кого правительство сочтет неблагонадежным для страны, будет интернирован. Такое случалось в прошлую войну и, думаю, снова случится в эту. Если твоего отца посадят в тюрьму из-за его национальности, ты останешься одна. Ты должна знать, как себя защитить. Поэтому будь внимательна сейчас. Давай попробуй всадить пулю в ствол вон того старого дерева.
Оружие дернулось в моих руках, в ушах зазвенело от оглушительного, с треском, хлопка. Я, дрожа, опустила револьвер.
Разумеется, я промазала. Нарочно, потому что тогда Сэмюэл снова должен будет проинструктировать меня, как взводить курок, целиться, задерживать дыхание и очень, очень мягко нажимать на спусковой крючок. Я решила быть безнадежным стрелком, чтобы у Сэмюэла не осталось иного выбора, кроме как упорно продолжать заниматься со мной. После третьей попытки от ствола эвкалипта, сбоку, взметнулся фонтанчик из кусочков коры. Сэмюэл издал радостный клич. По моему телу прокатилась волна удовольствия, что я доставила ему радость. Но когда рассматривала ущерб, нанесенный невинному эвкалипту, я ощутила такую сильную боль, что у меня перехватило дыхание. Я держала в руках смертоносную вещь, изобретенную и созданную с единственной целью – отнимать жизнь.
На войне – жизнь людей.
Среди них мог быть Сэмюэл.
Глава 6
Одри, январь 2006 года
Через четыре дня после инцидента с ежевикой я отклеила последний пластырь и оценила нанесенный ущерб. Моя кожа по-прежнему была расчерчена пересекающимися, покрытыми корочкой царапинами, покрыта синяками и ссадинами, но свой урок я усвоила. Никаких больше страхов из-за безумных фантазий.
Я приняла душ, переоделась и пошла в кухню. С момента обнаружения в четверг письма Айлиш я не провела ни одной спокойной ночи. Дело, вероятно, усугублялось и тем, что каждую ночь я спала, свернувшись калачиком, на кровати Сэмюэла. Мне до некоторой степени казалось извращением искать утешения в личном пространстве мужчины, которого обвиняли в убийстве. И тем не менее, как я ни пыталась держаться подальше от его комнаты, у меня не получалось.
Нагрузив поднос завтраком, я отправилась на поиски Бронвен. Занятия в школе начинались сегодня, и у меня закрадывалось подозрение, что я нервничаю больше дочери. Я не стала сообщать ей о Сэмюэле, не желая перегружать ее перед ответственным днем, и конечно, теперь переживала, что слишком с этим затянула.
Спустившись вниз, я прошла по дорожке глубже в сад. Воздух был теплый, кирпичи под ногами – прохладными и влажными. Гроза, разразившаяся прошлой ночью, оставила после себя ослепительно-голубое небо, усеянное пенистыми облаками цвета простокваши, а лужайка сверкала тысячами паутинок, покрытых капельками росы.
Было рано, еще не пробило семь. В Мельбурне мы еще лежали бы под одеялом, прячась от затянувшегося холода, потом, опаздывая, бежали бы к школьному автобусу. Но в Квинсленде в это время года рассвет наступает быстро и утра слишком великолепны, чтобы тратить их попусту.
Я нашла Бронвен на скамейке под палисандром, которую она назначила своим тайным убежищем. Сидела она, сгорбившись над помятой жестяной коробкой из-под печенья, отколупывая крышку. Лица не было видно за светлым занавесом волос.
Поставив поднос, я поправила кружку с дымящимся шоколадным напитком.
– Значит, ты готова к первому дню в школе?
– Да.
– Сумку собрала?
– Да.
– Милая, мне нужно кое-что тебе сказать.
Она не подняла головы.
– Конечно.
– Это насчет деда твоего отца… старика, который был хозяином этого дома. Он… В общем, люди говорят, что много лет назад он сделал кое-что плохое.
Это ее проняло. Он уставилась на меня широко открытыми глазами.
– Что?
– Полагают, что он убил человека.
У Бронвен засверкали глаза.
– Ничего себе. Он был беглым преступником и скрывался в буше? Мы проходили про них в школе. Как клево, что у меня такой родственник!
– Он не был беглым преступником.
У нее вытянулось лицо.
– О-о-о!
– Думают, что он убил твою прабабку. Я этому не верю. Разумеется, это было так давно, задолго до рождения твоего отца.
– Ты хочешь сказать, древняя история?
Я замешкалась, подыскивая слова:
– Ну я просто хочу, чтобы ты была готова, если вдруг в школе кто-то что-то скажет. Ты же знаешь, дети иногда могут быть жестокими.
Дочь пожала плечами и снова склонилась над жестянкой из-под печенья.
– Скорее уж мне будут завидовать из-за такого дома, мам. В любом случае, – добавила она, поддевая крышку ногтями, – смотри, что я нашла сегодня утром.
Я моргнула, в несчетный раз напоминая себе, что поколение Бронвен опережает остальных людей планеты на световые годы. Пришлось засунуть свой разговор о дедушке Тони в раздел слишком скучного и изобразить интерес к жестянке.
– Красивая, правда, мам? На крышке маленькая деревня в снегу, как на открытках, которые папа присылал нам из-за границы.
Жестяная коробка была прямоугольной, в пятнышках ржавчины, местами помятая, но в общем целая. На крышке – зимний пейзаж: снежные хлопья, горы, крохотная альпийская деревушка.
– Где ты ее нашла?
– Ой, да там, повыше на холме, есть такое большое дерево. У него полый ствол – так клево. Оно все покрыто хитиновыми оболочками личинок цикад – сплошняком, они там везде. Я набрала целый пакет, заодно, пока спускалась вниз.
– Ты забиралась на дерево? – неодобрительно спросила я.
– Я залезла не слишком высоко, – успокоила меня дочь. – В любом случае ветки образовали что-то вроде лестницы, это было легко. По пути вниз я обнаружила дыру, ведущую в пустой ствол. В нем кто-то выдолбил с одной стороны полку. В самом дальнем углу полки, засунутый так, чтобы никто не нашел, лежал старый холщовый рюкзак, полный всяких вещей. Там были одежда, косметика, щетка для волос и эта коробка. Рюкзак и все, что в нем, сгнило, я выбросила. Но коробка выглядит нормально, правда?
– Она немного помятая. Что ты с ней сделаешь?
Зажав жестянку между коленями, Бронвен подцепила крышку ногтями.
– Если смогу ее открыть, положу в нее оболочки цикад. Если ее отчистить, она будет… Ой!
Коробка выскользнула из ее рук и упала на землю.
Я подняла жестянку и перевернула. Внутри что-то глухо стукнуло.
– Интересно, что в ней, – сказала я.
– Деньги? Волшебные бобы?
– Карта сокровищ? – улыбнулась я.
Мы извели на коробку полбутылочки масла для швейных машинок, но крышка все равно не поддалась. Я обстучала ее по краю молотком, а когда не помогло и это, треснула об скамейку из кедра. В конце концов я сдалась, но Бронвен подцепила крышку ногтями и в последний раз дернула. Крышка со скрежетом отскочила.
Мы с азартом заглянули внутрь.
– Фу! – разочарованно протянула Бронвен. – Всего лишь заплесневелая старая пачка бумаги.
На самом деле это была книга. Не просто книга – дневник.
На секунду меня молнией пронзила надежда, что это как-то связано с Айлиш, но затем вмешалась реальность. Рисунок на обложке был недавнего образца, может, пятнадцати– или двадцатилетней давности: белый котенок, сидящий подле вазы с розами. Я попыталась перелистать дневник, но страницы покоробились от воды и слиплись в неподатливый пласт.
Наверное, его интересно было бы почитать, но я понимала, что потребуется не один час, чтобы разлепить хрупкие старые страницы, а потом еще не один час – чтобы разобрать написанное. Часы, которых у меня не было – по крайней мере, пока не отвезу дочь в школу.
– Оставшимся маслом почисти коробку, – посоветовала я. – Но не очень увлекайся, тебе еще нужно подготовиться.
Ворчанием она дала понять, что услышала меня, но ответить не удосужилась – слишком погружена была в свое занятие: отскабливала внутренность своей новой коробки для сокровищ, смазывала петли машинным маслом, залезала тряпочкой в уголки, где скопилась грязь.
Моя тень падала на скамейку из кедра. Приятно было побыть на улице, подышать воздухом, пропитанным ароматом цветов. Я была счастлива увидеть Бронвен настолько поглощенной делом, любовалась ее кожей цвета сливок, без веснушек, пепельными волосами почти до талии. Минуту я восхищалась ее красотой… и тем, насколько еще красивее станет моя дочь вскоре.
Она подняла на меня сердитый взгляд.
– Что?
– Тебе нужно пойти переодеться.
– Я знаю.
– Я погладила форму, она висит с обратной стороны твоей двери.
– Ты мне уже десять раз сказала.
Я немного прошла по дорожке, потом оглянулась:
– Не забудь съесть тост.
Бронвен сощурилась, потом, тряхнув головой и вздохнув, снова вернулась к коробке из-под печенья.
– Мам, хватит волноваться. Это мой первый день в школе, а не твой.
* * *
Начальная школа Мэгпай-Крика – кучка потемневших от времени зданий, спрятанных за стеной из тенистых перечных деревьев, – находилась на холмистой северной стороне городка. По одну сторону от них был заасфальтированный двор, обнесенный высоким проволочным забором, по другую – травянистое игровое поле с рядами скамеек по бокам.
Бронвен легко влилась в свой новый класс. По виду она нисколько не нервничала – терпеливо улыбалась, пока учительница представляла ее, грациозно села на свое место, едва глядя на меня, остановившуюся в дверях класса, чтобы помахать на прощание.
Выйдя из здания школы, я поспешила в сторону главной улицы по дорожке, покрытой пятнами солнца. Пока я шла, оно согревало мое лицо и руки, помогая ослабить тревогу, которую я всегда чувствовала, расставаясь с Бронвен. Оказавшись на главной улице, я направилась к пекарне. В моей маленькой вселенной было только одно известное средство от тревоги, вызванной разлукой, – пирожное. После долгих размышлений я остановилась на куске шоколадного торта и пироге с пеканом, к которым добавила бисквитное пирожное с шоколадной глазурью, орехами и джемом для Бронвен – в качестве награды за первый день занятий. Сжимая бумажные пакеты, я заторопилась назад по главной улице к «Селике». На полпути кто-то окликнул меня по имени.
Первое, на что я обратила внимание, были волосы, – оттененное бронзой золото в утреннем солнечном свете. Кори Уэйнгартен широким шагом выходила со школьного двора, ее широкое лицо было обожжено солнцем. Мы улыбнулись друг другу, потом завязали разговор, как две старые подруги.
– Я так и думала, что, наверное, увижу вас утром, Одри. Бронвен нормально начала?
– Отлично. Что вы здесь делаете?
– Привезла дочь моего брата, Джейд. Она жила у меня, пока ее отец находился в Таунсвилле. Дэнни вернулся сегодня утром, но тут же уехал по срочному вызову. Он наш местный ветеринар, занимается всем – от отела коров до спасения котят. У него бывают разъезды в связи с работой – семинары, всякое такое, – поэтому подключаемся мы с мамой – приглядываем за Джейд. Она замечательный ребенок, но немного капризничает, когда отец уезжает. С тех пор как ее мать погибла несколько лет назад, у нее случаются перепады настроения.
– Бедняжка, это так понятно.
– Она вообще-то жизнерадостная. Сейчас дети гораздо более уравновешенные.
– Бронвен такая же.
Карие глаза Кори оценивающе глянули на меня.
– Как вы справились после ухода Тони? У вас была совместная опека?
– Когда Тони женился, мы об этом говорили, но он всегда был занят, подготавливая выставки или уезжая за границу. В конце концов показалось проще, чтобы Бронвен жила со мной.
На ветку над нами села ворона-флейтист и завела свои трели; ее красивая булькающая гортанная песня наполнила воздух.
– Семья вам много помогала?
Я покачала головой:
– Отец умер, когда я была маленькой, его сбила машина. Я его не помню. Моя мать смотреть за мной не могла, поэтому я жила с тетей Мораг.
– Почему ваша мать не могла за вами смотреть?
Возникла неловкая пауза. Инстинктивно мне захотелось солгать. Выдумать историю, которая выставила бы меня в более выгодном свете. Но что-то в Кори подтолкнуло меня разоткровенничаться. Ее интерес казался искренним, а карие глаза светились добротой и умом. И все же дело было не только в этом. Каким бы безумием это ни звучало, я чувствовала контакт с ней – словно нас связывала долгая история, а не всего лишь недавнее знакомство.
Я сказала:
– Моя мать была… В общем, у нее было много проблем. Наркотики, в таком духе. Думаю, на нее подействовала смерть моего отца.
– Вы с ней встречаетесь?
– Нет. Я даже не знаю, жива ли она. Тетя Мораг заполнила пропасть, которую оставили после себя мои родители. Мораг оказалась потрясающей женщиной, мне посчастливилось, что она у меня была. Но иногда я спрашиваю себя: не слишком ли сильно она повлияла на меня? Настолько, что я не просто похожа на нее, но и стала ею.
– В каком смысле?
Я пожала плечами, ощущая непринужденность беседы, несмотря на то что обнажила свою душу.
– После ухода Тони мы всегда только вдвоем с Бронвен. У меня были друзья, но ни одного близкого. Знаете, я, как и тетя Мораг, всегда держусь особняком.
– Тетя Мораг никогда не была замужем?
– Она в это не верила. Работала натурщицей у художников, даже когда ей было за шестьдесят. Она говаривала, что муж испортил бы ее. Ее самым драгоценным достоянием, как она однажды сказала мне, была независимость. Она избегала самой идеи привязанности к мужчине.
– А вы?
Я пожала плечами:
– После ухода Тони я взяла пример с тети Мораг. Считала разумным полагаться на себя – по крайней мере, именно это я не устаю себе повторять. По правде говоря, я так никогда никого и не встретила.
Кори внимательно смотрела на меня. В ее взгляде не было ни осуждения, ни жалости, ни даже намека на фальшивое сочувствие. Только любопытство.
– Тетя Мораг еще жива?
– Она умерла, когда мне было шестнадцать.
– Как жаль. Я бы с удовольствием с ней познакомилась.
Кори стояла совсем рядом, но ее близость меня не тревожила. Мне нравилось смотреть на нее, нравилась открытость ее лица и легкость, с которой можно было читать по нему ее мысли. Интересно, какая именно черта создавала такое впечатление: веселые веснушки чайного цвета на переносице, пытливые карие глаза, экзотически широкие скулы или большой рот, который всегда, кажется, готов улыбнуться?
– Вы звонили Хобу? – вдруг спросила она.
– Вообще-то я думала нанести ему визит. Представиться, может, расспросить об истории Торнвуда. Думаете, он будет против?
– Нет, это доставит ему удовольствие. Кроме того, вы соседи. Дом Хоба всего в пяти минутах вверх по дороге от Торнвуда. Это маленькое деревянное бунгало на холме – не пропýстите. Жилище грубоватое, но Хоб непременно пригласит вас выпить чаю. Он любит поболтать, особенно с новыми людьми.
Я нахмурилась.
– По-моему, я это место знаю. Я заехала туда спросить дорогу в тот день, когда приехала посмотреть на Торнвуд. У мужчины, с которым я разговаривала, одно стекло очков было заклеено.
– Это Хоб, бедный старый чудак.
– Что у него с глазом?
– Представления не имею.
– Э-э… Должна признаться, что после рассказанного вами на прошлой неделе мне любопытно узнать побольше о дедушке Тони.
Кори приподняла бровь.
– Никаких ночных кошмаров, я надеюсь?
Кровь бросилась мне в лицо, когда я вспомнила о письме Айлиш и беспокойной ночи, которую оно за собой повлекло.
– Ничего подобного, – заверила я. – Но если честно, меня интересует, что за человек был Сэмюэл.
Мы серьезно посмотрели друг на друга. Я чувствовала, что мы с ней настроены на одну мысленную волну, идя к общему заключению.
Первой заговорила Кори:
– Вы хотите знать, был ли он виновен.
Я кивнула.
– Тогда мне лучше вас предостеречь. Хоб считает, что был.
– Он знал Сэмюэла?
– Да, и страстно его ненавидел. Мне ужасно хотелось бы услышать, что он о нем говорит. Вы потом мне расскажете, ладно?
– С удовольствием.
Мы мило пообщались еще немного, потом Кори откланялась.
– Развлекательный полет, – объяснила она. – Мужчина и его старик отец, они выиграли в церковной лотерее, повезло же. А вы, Одри, когда вы снова со мной полетите?
– Через неделю или около того. Коссарту понравился последний комплект фотографий, поэтому я надеюсь стать одной из ваших постоянных клиенток.
– Мне было бы приятно.
Тепло ее улыбки вдохновило меня, и я спросила:
– А вы не хотите как-нибудь днем приехать вместе с Джейд в Торнвуд? Мы устроили бы пикник. Девочки побродят по саду, а я покажу вам дом. С задней веранды открывается потрясающий вид.
– Я помню этот вид, – сказала Кори, ее глаза заискрились. – Чудесная идея. Как насчет этих выходных?
– Идеально. В субботу днем, скажем, в четыре?
– Отлично, до встречи!
Она пожала мою руку, а затем размашисто зашагала прочь. Я подождала, пока за углом исчезнут из виду ее подпрыгивающие золотисто-рыжие волосы, и поспешила к «Селике». Мне нестерпимо хотелось узнать, что же Хоб Миллер знает о Сэмюэле.
* * *
Жилище Миллера было именно таким, каким я его запомнила, – обветшалое бунгало, примостившееся на склоне холма над Брайарфилд-роуд. В тихом свете утреннего солнца дом выглядел не таким убогим, имел более уютный, гостеприимный вид. Окружающий лес из черноствольных эвкалиптов больше не был страной теней, несущей невидимую угрозу; море трепещущих серо-зеленых листьев казалось почти дружелюбным.
Когда «Селика» затряслась по гравийной дорожке, я увидела, что у дома припаркован третий автомобиль. Помимо старого пикапа и безупречно чистого «Плимута Валиант», там стоял блестящий черный грузовичок-«Тойота». Я встала рядом с «Тойотой», выключила двигатель и вылезла из машины. Тишина стояла абсолютная, нарушаемая только хрустом моих сандалий по гравию, курлыканьем местных воронов и песней вездесущих цикад. По мере приближения к дому я различила еще один звук: мелодичное журчание бегущей воды.
Присмотревшись, я увидела цистерну для воды, наполовину укрытую за стеной вечнозеленых гревиллей и цветущего каллистемона, погрузивших ее в глубокую тень.
У цистерны стоял мужчина. Он был по пояс обнажен и, наклонившись над краном, поливал себя водой из ведра с помощью жестяной кружки. Намылил руки и грудь, покрывая кожу розовой пеной. Я прикинула, что ему лет тридцать пять. У него были темные волосы, красивое мускулистое тело. Из одежды – только джинсы: обтрепанные внизу, порванные на коленях, низко соскользнувшие с загорелого живота.
Я поняла, почему у пены такой цвет, – грудь и руки мужчины были в пятнах крови. «Не ранен ли он, – подумала я. – Поэтому меня не увидел? Настолько поглощен своим занятием, что не услышал шума машины или хруста моих сандалий по гравию. Или он меня игнорирует?»
Я стояла не двигаясь. Слабая боль в груди подсказала мне, что я задерживаю дыхание. Не знаю, что наконец заставило его поднять глаза. Возможно, мягкий шорох камешков, когда я переступила с ноги на ногу, или тихое пощелкивание остывавшего мотора «Селики». Возможно, он решил, что я прождала достаточно долго.
Мужчина находился в тени, но все же солнечного света было достаточно, чтобы увидеть внимательные темные глаза, широкий неулыбчивый рот.
– Здравствуйте, – сказала я. Когда он не ответил, я кашлянула и попыталась снова: – Я ищу Хоба Миллера, он здесь?
Мужчина поднял коричневую футболку, лежавшую на земле у цистерны, и принялся вытираться, идя ко мне. Он не торопился, невольно предоставив возможность составить о нем мнение. Потрепанные джинсы, запыленные рабочие ботинки – он был во всех отношениях сельским парнем. Однако копна темных непослушных кудрей и неотрывно смотревшие изумрудно-зеленые глаза давали ему несправедливое преимущество перед средним фермером. Он был бы красивым, если бы не сердитое выражение лица.
Из кармана джинсов он вытащил маленький блокнот и карандаш. Написав что-то в блокноте, он оторвал листок и подал мне.
Я взяла его, недоумевая, пока не прочла написанное: «Я глухой. Вы знаете язык жестов?»
Я почувствовала, что вытаращила глаза. Мой взгляд метнулся к его лицу. Мужчина пристально смотрел на меня, сведя брови.
– Нет, – сказала я. – Я не знаю языка жестов.
Он написал на следующем листке и оторвал его.
«Хорошо, что я читаю по губам. Говорите медленно».
В резком солнечном свете я увидела серый ободок вокруг его зрачков, бледный узор веснушек на переносице. Мужчина был небрит, потные волосы торчали клоками. Заслонившись одной рукой от солнца, он рассматривал меня с беззастенчивым любопытством.
– Я ищу Хоба Миллера, – сказала я, ужасно стесняясь, потому что старалась говорить четко и ясно. – Хочу поговорить с ним насчет кое-какой работы и ремонта у меня на участке.
Мужчина моргнул, глядя на меня, потом оторвал очередной листочек: «Нет нужды кричать. Хоб в доме».
Я еще не дочитала записку, как он зашагал прочь, направляясь к бунгало. На ходу убрал в карман блокнотик и закончил вытираться влажной футболкой. Когда же я догнала его, он барабанил в сетчатую дверь, производя шум, который, кажется, ударялся эхом прямо в склон холма напротив и отскакивал назад из долины.
В дверном проеме появился убого одетый человек.
Я сразу же узнала его. Седые волосы обрамляли костистое лицо Хоба Миллера, который хмурился через сетчатую дверь, единственное стекло очков сверкало на свету.
– Что такое? – спросил он, сердито глядя на меня с явным недоверием.
Не успела я заговорить, как пальцы глухонемого мужчины ожили, жестикулируя.
Хоб следил внимательно, затем кивнул. Распахнув сетчатую дверь, он вышел на веранду. В течение нескольких напряженных секунд взгляд его голубых глаз исследовал мое лицо, словно Хоб недоумевал по поводу того, что увидел.
– Вам нужен ремонт? – ворчливо спросил он. – В Торнвуде?
– Да, я…
– Вы знали Тони Джермена?
Я кивнула, озадаченная его резкой манерой разговора. Ничего похожего на описание Кори – вместо того, чтобы обрадоваться моему появлению на пороге его дома, он казался напуганным. Он хмуро смотрел на меня, словно вообще не знал, что такое чай и дружеская беседа. По словам Кори, Хоб ненавидел деда Тони. Тони он тоже ненавидел? И теперь эта ненависть перешла на меня?
– Простите, если я заехала в неподходящее время, – сказала я, поглядывая на глухонемого мужчину. – Может, я заеду в другой раз… В смысле, если вы не слишком заняты?
Хоб как-то поник, съежился под своей обтрепанной рубашкой. Я заметила пятна на истертой ткани. Они выглядели влажными, как будто он недавно прижимал к груди что-то окровавленное. Пока я над этим размышляла, из дома донесся звук – словно кто-то хныкал от боли.
Хоб резко оглянулся. Бросил на глухонемого встревоженный взгляд. Мужчина метнулся к двери и исчез в доме, не попрощавшись со мной даже взглядом.
Хоб снова принялся, прищурившись, рассматривать меня.
– Никакой спешки нет, – сказала я, потихоньку пятясь к ступенькам веранды. – Речь идет всего лишь о треснувшем оконном стекле и ветке старого дерева, которая прогнулась слишком близко к крыше. Вероятно, вообще не о чем беспокоиться…
Хоб всмотрелся в темноту по другую сторону сетчатой двери.
– Какой день вам подойдет?
– Завтра?
Он поджал губы, размышляя:
– Восемь часов не слишком рано?
– Это было бы замечательно.
Я пробормотала «до свидания» и заспешила прочь. Ноги у меня подкашивались, пока я вприпрыжку спускалась по ступенькам и изо всех сил старалась не бежать к «Селике». Садясь в машину, не устояла перед искушением оглянуться на дом. Хоб наблюдал за моим бегством и стоял теперь у перил веранды, пристально на меня глядя.
Я неуверенно помахала рукой, нажала на акселератор и помчалась вниз по дороге в облаке пыли.
* * *
Стащив пропитавшуюся потом одежду, я бросила ее в корзину для грязного белья, а затем забралась в ванну на львиных лапах. Старая лейка душа, размером с мелкую тарелку и с дырочками диаметром с горошину, была настоящей реликвией. Восхитительно-прохладная вода хлестала бодрящим потоком.
Я наклонила голову, подставляя плечи, чувствуя себя все лучше по мере того, как смывались пыль, жар и липкий пот. Когда пальцы на руках и ногах сморщились, я вылезла из ванны и растерлась досуха, потом надела мягкие шорты от старой пижамы и майку.
На кухне я приготовила целый кофейник кофе и стояла у окна, ковыряя пирог с пеканом и глядя в сад. Деревья стояли в знойном мареве, а небо было пронзительно-голубым, без единого облачка, только одинокий попугай-лори перелетал с ветки на ветку, словно не в состоянии найти жердочку.
Я прекрасно знала, как это бывает.
Мысли беспокойно метались в попытке разобраться в причине крайне неудачного визита к Миллеру. Но с какой стороны я ни смотрела, весь эпизод оставался загадкой. Мужчина у цистерны с водой, его грудь, покрытая розовой пеной – кровью, я была уверена. Но чьей кровью? Хоба? Объясняет ли это красные пятна на его потрепанной фланелевой рубашке? Они что – подрались? А как же хныканье, которое я слышала, стоя на веранде? Без сомнения, так плачет человек, испытывающий ужасную боль.
И Хоб… Ничего похожего на описание Кори. Никакой болтовни по-соседски, оказанный мне прием был решительно недружелюбным. Я вспомнила нашу первую встречу и то, как он вроде бы встревожился при моем вопросе, как проехать к Торнвуду. И опять спросила себя, не перешла ли каким-то образом его неприязнь к Сэмюэлу Риордану на меня просто потому, что я живу в доме Сэмюэла.
Придется забыть о планах порасспрашивать Хоба. Принимая во внимание его сегодняшнее поведение, полагаю, он будет не в восторге от моего замысла добыть у него информацию о Сэмюэле. А значит, придется проводить собственное расследование.
Но с чего начать?
Я уже обыскала дом вскоре после переезда. Сэмюэл ничего не выбрасывал, очаровательные старые секретеры и буфеты были набиты всяким хламом из прошлого. В них хранились обувные коробки, полные доисторических описей, погашенных банковских облигаций, квитанций за выполненные по дому и участку работы, писем из различных медицинских комиссий; жестяные коробки с потускневшими монетами и пряжками от ремней; деревянные коробки, набитые пожелтевшими воротничками мужских сорочек, шнурками для обуви, катушками хлопчатобумажных ниток, разрозненными пуговицами. Обширная коллекция старья, но ничего проливающего хоть какой-то свет на возможные мотивы убийства.
Я пошла в дальнюю спальню.
Толстые шторы не пропускали в комнату интенсивный солнечный свет, погрузив ее в полумрак и собрав по углам тени. Здесь царило ощущение глубокого покоя, вызывавшего у меня чувство – как частенько бывало со мной в этом доме, – будто я стою на пороге давнего времени. Прошлое словно сочилось из пятен на стенах, проникало сквозь доски пола и шептало из трещины в двери гардероба. Время волнами текло вспять, лениво и, однако же, с такой неотвратимой весомостью, что я невольно в нем тонула.
Стоило прищуриться, и я разглядела бы замешкавшегося у окна Сэмюэла, элегантно одетого – в черных брюках и пиджаке, в белой льняной сорочке. Перед моим мысленным взором он предстал не молодым мужчиной из розовой беседки, а человеком среднего возраста, похудевшим, с более длинными, с проседью, волосами, на лице прибавилось морщин, следов печали. Он наклонил голову, шевелил губами, читая маленькую книгу и поворачивая ее к окошку, чтобы лучше видеть. Через какое-то время он похлопал себя по карману и извлек маленький предмет, который положил между страницами книжки с золотым обрезом…
Я вздрогнула от пронзительного звонка. Резко обернулась, сердце колотилось. Телефон.
Пробежав по коридору до кухни, я схватила трубку и ответила. Мой голос звучал глухо, издали. Эхом другого времени. Женщина на том конце линии представилась координатором агентства, занимающегося проведением торжественных мероприятий, и поинтересовалась, не могу ли я поснимать завтра на свадьбе. Их штатный фотограф сломал ногу, и им срочно требуется кто-то взамен.
– Да, – сказала я, делая пометки на обороте какого-то конверта. – Да, да… Тогда до встречи.
Повесив трубку, я целую вечность стояла, вытаращив глаза. Но видела не конверт, исписанный неразборчивыми каракулями, а пыльную маленькую Библию, которая десятилетия пролежала нетронутой на туалетном столике розового дерева, принадлежавшем Сэмюэлу.
Кожаный переплет Библии потрескался от времени, уголки обтрепались, страницы с золотым обрезом поблекли под многолетней пылью. Она была достаточно маленькой, чтобы уместиться на моей раскрытой ладони, удивительно тяжелой. Я перевернула обложку. На форзаце выцветшими синими чернилами было написано: «Награда Сэмюэлу Джеймсу Риордану от начальной школы Святого Иосифа, Дублин, 1925 год». Я стала перелистывать страницы, и что-то выскользнуло и со стуком упало на пол у моих ног.
Крохотный ключик. Очень старый, с полым стержнем и искусно выкованной головкой в форме сердечка, почерневший от времени и испещренный пятнышками ржавчины. Я моментально поняла, к чему он подходит, и отперла ящик туалетного столика, ожидая найти не более чем коллекцию посеревшего нижнего белья и носков.
И застыла, не сводя глаз.
Мне было четырнадцать лет, когда я последний раз держала в руках огнестрельное оружие. Давний обожатель тети Мораг был страстным его любителем, собирателем старых и редких ружей и пистолетов. Ему доставляло величайшее удовольствие показывать свой обширный арсенал новому зрителю, и я провела много часов, разглядывая экспонаты, которые вызывали у меня отвращение и в то же время огромный интерес.
Сунув руку в темное нутро ящика, я извлекла оттуда револьвер, большой, очень тяжелый. Проверила барабан. Патронов в нем не было, даже использованных. Сжав рукоятку, я навела прицел на окно. Держать револьвер в доме без лицензии было незаконно. Во времена Сэмюэла правил насчет огнестрельного оружия не существовало; в своих владениях его имели любой фермер или скотовод, любой землевладелец. Сейчас не так. По закону я обязана сдать его в полицию, иначе меня могут привлечь к ответственности.
Я крепче сжала рукоятку. Когда-то руки Сэмюэла были там, где сейчас мои. Возможно, частички его кожи – уж наверняка отпечатки пальцев – по-прежнему находятся на тусклой поверхности оружия. Часть его, Сэмюэла, сейчас здесь, в моих руках. Я понюхала рукоятку. От нее исходил неприятный запах пота и жира, пороха и пепла, вороненой стали и чистящей жидкости. От револьвера пахло так, словно он долгое время пролежал под землей, скрытый от врачующего солнечного тепла. От него исходил запах денег, историй, какие рассказывают в сомнительных барах, дыма и почти выветрившегося одеколона. Он переходил из рук в руки, собирая эссенцию с кожи каждого из владельцев, как собирает пыльцу с многих цветков пчела… только эта обладала куда более смертоносным жалом.
По словам Кори, городские сплетники считали, что Сэмюэл избежал обвинительного приговора благодаря дружбе его отца с судьей. Но что, если слухи были безосновательными? Что, если Сэмюэл вышел на свободу не благодаря послушному судье, а за недостатком улик? Или улики, которую я сейчас держала в руках?
Я проверила ящик, и точно – в самом дальнем углу лежала картонная коробочка с двенадцатью боевыми латунными патронами. Их нужно сдать в полицию вместе с револьвером и забрать сейчас, пока Бронвен в школе. Я положила револьвер и коробку с патронами на пол рядом с собой и хотела уже закрыть ящик, когда кое-что привлекло мое внимание.
Из-под бумаги с цветочным узором, выстилавшей дно ящика, торчал пожелтевший уголок листка. Поддев подстилку, я вытащила конверт – большой, в пятнах от старости, клапан заклеен полоской потерявшей эластичность пленки.
Внутри лежали две цветные фотографии.
На первой темноволосый мальчик стоял в тени у корней громадной араукарии. У мальчика были глаза Тони и его нахальная улыбка, и он махал в камеру. Рядом на солнечном участке травы красовался детский надувной бассейн, в воде отражалось безупречно чистое небо. В левом углу снимка у натянутой бельевой веревки стояла женщина. Высокая и крупная, с гладко зачесанными назад волосами. Она как раз закрепляла на веревке мужскую рубашку, глядя через плечо, будто ее застали врасплох. Рядом с женщиной, в тени ее поднятой руки, стояла девочка с длинными светлыми волосами. Лохматая лужайка вокруг них, с темным участком в центре, куда падала тень невидимого фотографа, вся заросла маргаритками.
Я перевернула снимок. На обороте было написано: «Луэлла, Гленда и Тони. Мэгпай-Крик, 1980 год».
Вторая фотография была нечетким, зернистым полароидным снимком, бумага пошла складками и обтрепалась по краям, словно провела свою жизнь в чьем-то кармане или бумажнике. Четверо детей, два мальчика и две девочки – все смеются известной только им шутке, смотрят друг на друга. Крайний слева кудрявый мальчик кого-то смутно напоминал. Другой мальчик, которого я узнала сразу же, был Тони, вероятно, лет восьми. У одной из девочек были вьющиеся рыжие волосы и широкое веснушчатое лицо, ослепительную улыбку портила лишь зияющая брешь на месте переднего зуба. Не считая отсутствующего зуба, Кори Уэйнгартен практически не изменилась.
Однако мое внимание привлекла девочка в центре группы. Она широко улыбалась, лицо обрамлено совсем светлыми косичками. На один дезориентирующий момент я подумала, что смотрю на свою дочь. Разумеется, это не могла быть Бронвен – девочка на фото была на несколько лет старше Тони, когда делался этот снимок. Сейчас ей уже лет тридцать пять, возможно, у нее свои дети.
Я перевернула фотографию с Тони под деревом и рассмотрела женщину рядом с бельевой веревкой. Затем заново посмотрела на четырех детей, убежденная, что на обоих снимках одна и та же девочка. Кто она такая? И почему она – одно лицо с моей дочерью?
Револьвер пусть еще немного полежит. Убрав его назад в ящик стола вместе с коробкой патронов, я заперла ящик, а ключ спрятала в глубине гардероба. Затем, взяв фотографии, бросилась по коридору в кухню и схватила ключи от машины.
Глава 7
Парковочная площадка в аэропорту была почти пуста, стоял всего один автомобиль – спортивный «Мерседес» цвета нежной зелени. Я поставила свою машину рядом и торопливо пошла к конторе.
Дверь была открыта, но захламленное помещение пустовало. Я вернулась назад по узкой дорожке и направилась к взлетной полосе. Там стояли два маленьких самолета, но принадлежавшей Кори «Сессны» я не увидела. Я всмотрелась в небо, но оно являло собой необъятную безмятежную пустоту – ни самолетов, ни облаков, ни даже случайной птицы.
– Привет.
Я резко повернулась. Кори появилась из темноты ремонтного ангара и зашагала ко мне, радостно улыбаясь. На ней были грязный комбинезон и бейсболка, практически неспособная обуздать ее пышные волосы. Приблизившись, Кори, наверное, уловила мое настроение.
Дружески пожала мне руку и внимательно посмотрела в лицо.
– В чем дело?
– Я нашла пару старых фотографий, – заявила я. Снимки уже держала в руке и протянула их. – Тони я легко узнала, и одну из них – вас. Я надеялась, что вы сможете сказать, кто остальные.
Пока Кори разглядывала фотографии, ее улыбка погасла. Она попыталась вернуть ее, но улыбка получилась искаженной. Кори знаком предложила мне пройти в ангар.
В огромном помещении было темно и прохладно. В центре стояла «Сессна» с широко распахнутыми дверями, что делало ее похожей на гротескную стрекозу. В воздухе витал запах древесных стружек и дизельного топлива, и, вдохнув его, я немного успокоилась.
Кори вытерла руки о промасленное кухонное полотенце, затем взяла у меня фотографии. Теплый ветерок шевелил пряди волос вокруг ее лица, а козырек бейсболки затенял глаза. Она долго рассматривала каждый снимок, ничего не говоря.
Во мне росло нетерпение.
– Дед Тони прятал их в ящике стола, – пояснила я. – Я могу понять, почему у него была фотография Тони. Но зачем ему фото других детей? И ведь это вы, да?
– Да. А кудрявый мальчик – мой брат, Дэнни.
– А светловолосая девочка?
Кори странно на меня посмотрела:
– Это Гленда.
– Бронвен на нее похожа. Гленда с Тони были родственники?
Кори смотрела на меня вечность, сведя брови, как будто пыталась решить сложную математическую задачу. Затем ее плечи поникли.
– Он вам так и не сказал.
Меня кольнуло раздражение.
– Не сказал – что?
– Черт, я думала, он хоть что-то вам сказал, основное хотя бы…
– Что? – Я почти закричала, чувствуя приближающийся приступ паники.
– Идемте. Здесь мы не сможем поговорить.
Схватив за руку, она вытащила меня из ангара на слепящее солнце и по дорожке повела к конторе.
Мы вошли в пыльное помещение с его битком набитыми картотечными шкафами и пультом радиоуправления, с полками, заваленными книгами, и картами на стенах. Кори протиснулась к письменному столу и выбрала старую граммофонную запись. Вынув пластинку из бумажного конверта, поставила ее на проигрыватель. Грянула шумная оркестровая увертюра, к которой быстро присоединился резкий баритон, от которого задребезжали стекла в окнах. Кори указала на два неопрятных кожаных кресла. Я примостилась на край одного, а она плюхнулась в другое.
– Проклятый Тони, – сказала она, перекрывая музыку. Стянула бейсболку и принялась выкручивать ее в руках. – Как он мог вам не сказать? Гленда была его сестрой.
– Сестрой? – Мне захотелось поправить ее – у Тони не было сестры, я знала это как факт, потому что в противном случае он о ней упомянул бы. Ведь так?
Конечно, нет.
Я сообразила, что мысленно создала образ ранней жизни Тони, который был целиком построен на предположениях. Поскольку он никогда не говорил о своих родителях, я решила, что они умерли. Раз он не упоминал о братьях и сестрах, я сделала вывод, что у него их нет. Но теперь, в одну секунду, все это изменилось.
– Так что насчет Луэллы? – спросила я Кори. – Она была его…
– Матерью.
Я посмотрела на снимок. Высокую женщину у бельевой веревки сфотографировали неожиданно, и ей это, судя по ее виду, не очень понравилось. Однако ее лицо – овальное, с небольшими, почти раскосыми глазами и большим ртом, несмотря на встревоженное выражение, было добрым – она не имела никакого сходства с Тони и еще меньше – со светловолосой девочкой Глендой. Но, разглядывая ее, я почувствовала прилив редкого возбуждения.
– Бабушка Бронвен, – с удивлением проговорила я. – Где она сейчас? Живет где-то здесь? И что насчет Гленды? Она тетка Бронвен. Я просто не верю. Бронвен будет на седьмом небе, когда узнает, что у нее здесь родня.
Кори отвела взгляд и уставилась в окно на небо.
– Гленда погибла двадцать лет назад.
– Ох.
– При оползне в овраге.
– В овраге?
– Вы видели дренажную канаву, которая идет по вашим владениям? Через несколько миль в сторону севера она углубляется и превращается в настоящее ущелье. Местные называют его оврагом, но это довольно скромное название для такого впечатляющего географического явления. И смертельно опасного места тоже. За последние годы там было несколько несчастных случаев.
Вокруг нас вскипала музыка, океан оглушительных звуков.
– А Луэлла жива?
Кори кивнула:
– Она живет здесь, в Мэгпай-Крике, совсем близко от летного поля. Сразу за поворотом, на Уильям-роуд. Но она все равно что умерла.
– Почему вы так говорите?
Кори сгорбилась на краю кресла, отвернувшись от меня. Она показалась меньше, словно сбросила свою защитную взрослую оболочку, и сидела теперь, по-детски ранимая.
– Луэлла Джермен ни с кем не говорила после смерти Гленды. Именно Луэлла нашла тело Гленды.
– Боже! Какой ужас!
– Она отказывается видеться даже со старыми друзьями, не открывает пастору. Не могу сказать вам, сколько раз я заглядывала к ней и уходила ни с чем. Я слышала, что каждый месяц она ездит в Брисбен за покупками, но помимо этого редко выходит из дома. А теперь, когда Тони… Что ж, теперь, когда он тоже умер, я невольно думаю, что Луэлла еще глубже уйдет в свою скорлупу.
– Наверняка она захочет увидеть свою внучку?
Кори сидела мрачная.
– Луэлла столько пережила и так давно одна, что я даже не представляю, каково ее психическое состояние. Понимаете, она всех потеряла. Всех, кто что-то для нее значил. Даже если вы привезете к ней Бронвен, нет никакой гарантии, что Луэлла хотя бы дверь откроет.
Я кивнула. Кори была права. Я знала, как может опустошить человека потеря, заставить его разорвать связь с окружающим миром. Разум подсказывал мне признать поражение, пойти сейчас на попятный. Но сердце отказывалось слушать. Внезапно оно заколотилось, в диком темпе гоня кровь по жилам. Я не могла думать ни о чем, кроме значения для Бронвен встречи со своей бабушкой.
– Я бы хотела попробовать.
На широком лице Кори отразилось сожаление.
– Ах, Одри, я понимаю, почему вы хотите это сделать, правда, понимаю. Но вы должны забыть о Луэлле. Это не стоит душевной боли… ни вашей, ни, уж конечно, Бронвен. Луэлла и в лучшие-то времена всегда была замкнутой. Насколько я знаю, у нее было сложное детство, вряд ли ее нынешнее душевное состояние располагает к общению.
На мой вопросительный взгляд она кивнула, потом добавила:
– Сэмюэл – ее отец. Она была совсем маленькой, когда случилась вся эта история с ее матерью. Ужасная трагедия.
– И вы беспокоитесь, что теперь, из-за недавней смерти Тони, она может оказаться на грани?
– Совершенно верно.
Я решила обдумать эту информацию позже, не желая терять нить разговора. Я знала, что Кори права, и понимала, что Луэлла, скорее всего, до сих пор горюет о Тони. Но я не хотела сдаваться. Пока не хотела.
– Мне попалась на глаза газетная заметка, – сказала я. – Из запруды неподалеку отсюда извлекли останки мужчины. Я не ошибаюсь, думая, что это был отец Тони?
Кори вздохнула.
– Я гадала, слышали вы об этом или нет. Сложная история. Может, я начну с самого начала?
Я кивнула.
Она обхватила себя руками, поглубже забиваясь в кресло.
– В день похорон Гленды Тони сбежал из дома. Некоторые предположили, что побег стал его реакцией на горе; другие сказали, что его погнала прочь вина… Что он был там, когда его сестра упала, что была ссора и Тони толкнул ее.
– Почему они так сказали?
– Гленда знала овраг как свои пять пальцев. Она выросла поблизости, проводила много времени в поместье и была знакома с опасными зонами – каменными ловушками и сыпучими берегами. Она умела вести себя в буше, не склонна была рисковать, поэтому некоторые посчитали более вероятным, что ее столкнули.
– Значит, вы хорошо ее знали?
– Мы были лучшими подругами. Я жутко переживала, когда она умерла. Никогда не забуду того ужасного момента, когда мама усадила меня и сообщила страшную новость. В октябре восемьдесят шестого года, за день до моего шестнадцатилетия.
Отразившаяся на лице Кори боль вызвала у меня острое сочувствие.
– Тони никогда не причинил бы ей вреда, – мягко проговорила я.
Кори вздохнула.
– Мы обе с вами, Одри, знаем это, но людям нужны объяснения, четкие ответы. Иначе они их просто выдумывают.
Баритон продолжал вопить, и его нудные завывания отдавались во всем моем теле. Я сдвинулась вперед в кресле, внезапно потеряв желание перекрикивать шум.
– Все это действительно печально, но множество семей переживают трагедию, и большинство справляются. Почему вы думаете, что Тони не справился?
– Может, он винил себя за то, что не был там, когда Гленда так нуждалась в его помощи? – предположила Кори.
– В смысле?
– В тот вечер, когда погибла Гленда, их родители страшно разругались. Луэлла сказала Кливу, что хочет развода, и попросила его уйти. Скандал нарастал, и Клив уехал. Должно быть, Гленда их подслушала и сбежала, намереваясь спрятаться у своего деда, пока все не успокоится. Она была до глубины души потрясена ссорой, она обожала отца. В таком состоянии достаточно было одного неосторожного шага…
– Почему Луэлла захотела развода?
– Ходили слухи, что Клив встречается с другой женщиной. После его исчезновения все решили, что слухи были верными.
Я вспомнила статью в «Курьер-мейл».
– До последнего времени.
Кори кивнула.
– Группа ученых-аграриев нашла наполовину утонувший в иле автомобиль в запруде на озере Бригалоу. Внутри был человеческий скелет. Выяснилось, что автомобиль принадлежал Кливу Джермену, а скелет соответствует его телосложению. Полиция ничего не подтвердит, пока не закончатся все судебные экспертизы, что может занять годы, поскольку исследования дороги, а машина была под водой так долго… Но я не сомневаюсь, что это Клив.
– Тони был близок с отцом?
Лицо Кори прояснилось.
– Да, очень. Они были дружной семьей. Прекрасные люди все они. Мы с Дэнни любили к ним ходить. Джермены всегда так хлопотали вокруг нас. Луэлла приносила булочки-сконы с джемом или сэндвичи и совершенно восхитительные пирожные – она окончила курсы кондитеров в Брисбене и была виртуозом в этом деле.
– Что насчет Клива?
– Он был обаятельный. И настоящий артист. Рассказывал смешные истории и умел показывать фокусы. У него была маленькая собачка, которую он научил подвывать, когда звонил телефон, – это было уморительно. В детстве Клив получил ожоги лица, у него остались белые пятна на щеках… Я всегда спрашивала себя, не потому ли он из кожи вон лез, чтобы всех очаровать – только бы люди не смотрели на его шрамы. Ему не стоило беспокоиться, мы обожали бы его, невзирая на внешность.
По мере рассказа Кори я все больше запутывалась.
– Если Джермены были такими чудесными, почему, по-вашему, Тони никогда о них не говорил? Почему он делал тайну из своего прошлого? Особенно таился от дочери? И почему он…
Я не смогла закончить именно это предложение, но когда Кори встретилась со мной взглядом, я поняла, что она думает о том же. Почему Тони убил себя?
Подняв с пола свою бейсболку, Кори нахлобучила ее на голову.
– Сказать по правде, Одри, я в таком же недоумении по поводу всего этого, как и вы.
Я почувствовала, что наша беседа иссякла. Я-то уж точно чувствовала себя изможденной и опустошенной. Подойдя к сидевшей у стола Кори, я увидела, как она бледна, и подумала, что и она чувствует себя так же. Мы достигли своего рода узкого места – без настоящих ответов мы можем опираться только на догадки и размышления.
Кори сняла иглу со старой пластинки, оборвав стоны баритона.
– Идемте, – сказала она, подтолкнув мою руку и устремляясь к двери. – Не знаю, как у вас, а у меня в горле пересохло. Может, выпьем по-быстрому пива?
– В другой раз. Скоро закончатся занятия, Бронвен будет переживать, если я опоздаю.
Вслед за Кори я вышла на улицу, подождала, пока она запрет дверь конторы. Порыв сухого ветра взметнул ее волосы, концы прядей скользнули по моей голой руке. Пока мы шли по бетонной дорожке к парковке, я думала о том, что теперь всегда запах дизельного топлива будет наводить меня на мысль о Кори.
– Ну вот, – вздохнула она, – мне еще нужно сменить масло и разобраться с треснувшим цилиндром. Думаю, я подожду новой встречи с вами до субботы.
Упоминание о нашем грядущем пикнике подбодрило меня.
– Весело будет… Девочки смогут побегать по саду, а мы дадим отдых ногам и насладимся бутылочкой-другой пива. Вы когда-нибудь наблюдали закат с веранды?
– Если память мне не изменяет, он очень живописен. Можем поставить для себя пару шезлонгов, как делали мы с Глендой, когда были детьми. Поворчим о Тони, устроим отличный вечер.
– Звучит захватывающе.
Кори улыбнулась.
– Отлично, подруга. Тогда до встречи.
* * *
За те четверть часа, которые понадобились мне на возвращение в город, солнце зашло за тучи и небо нахмурилось. Скоро уже тень укрыла деревья вдоль дороги, а когда я остановилась перед воротами школы, на горизонте засверкали молнии.
Я заторопилась через школьный двор, пробегая взглядом по немногим оставшимся ученикам, которые толклись в квадрате двора, и высматривая светлую голову своей дочери. Заметить Бронвен труда не составило: возвышаясь над большинством других детей, она прислонилась, сгорбившись, к стене здания администрации, стараясь поместиться в лоскутке светотени. К моему удивлению, она была не одна.
С ней стоял мужчина, учитель, предположила я. Он что-то объяснял, жестикулируя, а Бронвен и другая девочка внимательно наблюдали. Еще не подойдя, я узнала его. Волосы он причесал – если можно так выразиться – и надел чистую футболку и джинсы; но вокруг себя он распространял ту же ауру необузданности, которую я уловила этим утром во дворе у Хоба Миллера.
Когда я подошла, на меня взглянули две пары глаз – сапфировые Бронвен и темные, почти черные, ее юной компаньонки. Глухонемому мужчине потребовалось на секунду больше, чтобы уловить мое присутствие, и когда он обернулся ко мне, я приготовилась к раздраженному сердитому взгляду, которым он одарил меня утром.
Однако при виде меня его лицо осветилось, а улыбка сделалась ослепительной. Я даже не смогла улыбнуться в ответ, на лице у меня застыло недоумение.
Бронвен бросилась ко мне.
– Мам, это Джейд и ее папа, Дэнни. Они учат меня языку жестов. Круто, правда?
– Э-э-э, да.
– Здравствуйте, мисс Кеплер, – проговорила темноволосая девочка и улыбнулась мне почти так же широко, как ее отец. Она была одного роста с Бронвен. Более худая по сравнению с ней, столь же красивая, с идеальным овалом лица и миндалевидным разрезом глаз. Вдвоем они составляли поразительную пару.
Дэнни пожал мне руку, здороваясь. Ладонь у него была прохладной и сухой, несмотря на жару, мозолистые пальцы мягко обхватили мою ладонь. Затем он посмотрел на Джейд и сделал несколько быстрых жестов.
Я вспомнила, что Кори говорила мне о своем брате и его дочери. Дэнни был ветеринаром, который уехал этим утром на срочный вызов.
Джейд вздохнула.
– Папе нужно что-то вам сказать. Я переведу, если вы не против?
– О… конечно.
Она следила за быстро двигавшимися руками отца.
– Он говорит, что вы застали его в неподходящий момент сегодня утром… Собака мистера Миллера только что принесла щенков и случайно придавила двух из них, и все были расстроены. Он говорит, что обычно не раздевается на людях… – Тут Джейд скосила глаза на Бронвен, которая захихикала, потом продолжала: – Но бедная Альма – это собака Миллеров – была в ужасном состоянии, и папа и двое Миллеров перепачкались в крови, пытаясь ее удержать.
– Класс, – сказала Бронвен, настороженно глядя на меня. Она переступила с ноги на ногу и переместилась чуточку ближе к Джейд. – Сколько щенков?
Дэнни быстро взмахнул руками, и Джейд перевела:
– Шесть, включая двух, которые погибли. Оставшиеся четыре здоровы. – Джейд посмотрела на меня, пока пальцы ее отца продолжали двигаться. – Он говорит, что сожалеет, если встревожил вас.
Я постаралась придать своему лицу спокойное выражение. Внутренне сжалась от досады. Оказывается, ничего плохого за обеспокоившим меня визитом к Миллеру не стояло. Брат Кори – ветеринар. Альма и ее щенки. Резкая манера общения Хоба была вызвана переживанием за собаку.
– Я совсем не встревожилась, – сказала я Дэнни, вспоминая, что он может читать по губам. Я понимала, что говорю слишком громко, но снова хотела произвести определенный эффект. – Я что-то в этом роде и предположила… в смысле, не подумала, что вы серийный убийца или сбежавший маньяк, только потому, что вы были в крови.
Мне удалось остановить поток своей бессвязной речи, когда на лице Дэнни отразилась растерянность. Нахмурившись, он посмотрел на дочь, которая быстро ответила жестами. Он повернулся ко мне, озорно улыбнулся, и его пальцы снова замелькали.
Джейд подавила смешок.
– Он говорит, что вы тоже застали его врасплох. Он, вероятно, напугался больше вашего.
Загрохотал гром, и на тротуар вокруг нас начали падать первые капли дождя. Школьный двор погрузился в тень, небо потемнело еще сильнее, и в нем теперь набухли лиловые тучи. Я поймала взгляд Дэнни, который рассматривал меня, но по его лицу ничего нельзя было прочесть.
– Что ж, приятно было познакомиться, – сказала я, затем постаралась искренне улыбнуться его дочери. – С тобой тоже, Джейд.
Джейд улыбнулась, внешние уголки ее миндалевидных глаз приподнялись.
– Тетя Кори сказала, что мы едем к вам в выходные. Тогда мы, наверное, и увидимся.
– Жду не дождусь. Вы с Кори будете первыми за долгое время гостями в Торнвуде.
Джейд, видимо, приятно было это услышать.
– Думаю, тетя Кори забыла сказать вам, что мы вегетарианки.
– Да, твоя тетя об этом не говорила, но я еще ничего не покупала. Что мне для вас приготовить?
– Ой, не волнуйтесь, мы привезем колбаски из тофу и чечевичные бургеры, как мы обычно делаем. Кроме того, тетя Кори говорит, что приходить с пустыми руками невежливо.
– Для меня не важно, даже если вы и придете с пустыми руками, – сказала я девочке, и на сей раз улыбка далась мне легко. – Лишь бы вы сами приехали.
Я украдкой бросила взгляд на Дэнни. Он с надеждой смотрел на меня.
– Почему бы и вам не приехать? – как можно непринужденнее предложила я.
Дэнни кивнул, не сводя глаз с моих губ. Жестикулировать он не стал, да и Джейд все равно не смотрела. Девочки тихонько переговаривались, без сомнения, торопливо прощаясь и строя планы на следующий школьный день.
Я попыталась улыбнуться под близким, изучающим взглядом Дэнни. Воспользовалась неловким затишьем, чтобы отругать себя: почему не догадалась надеть хорошие джинсы, а не эти старые, с заплатками? И о чем я думала, когда надевала такую затрапезную футболку?
Дэнни лениво сделал знак, прекрасно зная, что я не могу его понять. У него были большие кисти рук, кое-где в веснушках, изящные. Наши взгляды вновь пересеклись, и меня вдруг проняло. Он был красив настолько, что это вызывало тревогу, но дело было не только в этом. Может, в его молчании, напряженной сосредоточенности, а может, в той интимности, с которой он вглядывался в мое лицо, словно пытаясь забраться под кожу. Что бы это ни было, я занервничала. Похлопала Бронвен по руке и сделала шаг назад.
– Увидимся в субботу, – сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь, и торопливо направилась прямиком к машине.
* * *
– Он тебе нравится. – Бронвен барабанила своими длинными пальцами по приборной панели. – А Джейд думает, что ты нравишься ему.
Я усмехнулась, радуясь, что сижу в знакомом укрытии своей «Селики» и не под дождем. Голову ломило – не от боли, а от путаного клубка мыслей, для приведения которых в порядок потребуется всерьез пораскинуть мозгами.
– Да я и двух слов с этим человеком не сказала.
– Мам, ты разливалась соловьем.
– И это преступление, да?
– Не преступление… Просто ты себя выдала. Он тебе нравится.
– Я только пыталась проявить вежливость, потому что он глухонемой.
– Джейд сказала, что он смотрел на тебя влюбленным взглядом.
Я снова усмехнулась, изображая недоверие.
– Это заставляет меня думать, что у Джейд чрезмерно разыгралось воображение, как и у тебя.
Дождь барабанил по крыше автомобиля. Из брюха туч протягивались сверкающие огненные нити.
Бронвен спросила:
– Ты знала, что мама Джейд умерла?
– Да, мне сказала Кори.
– Она была глухонемой, как и папа Джейд. Это было так грустно: она попала в грозу, и на нее упала большая тяжелая ветка.
Я ошеломленно посмотрела на Бронвен.
– Это ужасно.
– Джейд сказала, что ее папа так и не оправился после этого. Ее отец и мама поженились молодыми. Познакомились на митинге в защиту мира в Брисбене. Любовь с первого взгляда, в таком духе.
– О-о-о! Ясно.
– Джейд считает, что ему пора с кем-то познакомиться. – Она многозначительно посмотрела на меня: – Ну ты понимаешь. Жить дальше.
Я кивнула.
– А ты, мама? По мнению Джейд, ты идеальная кандидатура, и ее папа, очевидно, увлекся.
Я заморгала, глядя на блестящий черный гудрон, ложившийся под колеса, и желая, чтобы дождь припустил сильнее, небеса разверзлись и затопили дорогу – что угодно, лишь бы отвлечь от настоящей темы разговора. Когда небеса не ответили на мой мысленный призыв, я вздохнула.
– И у вас было время все это обсудить, да? За те несколько секунд, пока мы прощались. Вот уж не знала, что скоростные сплетни теперь входят в школьную программу.
– Не входят. Просто у меня хорошо получается понимать язык жестов, – загадочно проговорила Бронвен.
– В самом деле? После десятиминутного урока?
– Язык жестов – это не только знаки руками, мама. Джейд говорит, что благодаря своей глухоте и немоте ее отец хорошо понимает выражение лиц людей и движение их тел. Еще он чувствителен к тени и температуре, ощущает даже движение воздуха. Джейд говорит, что у глухих обостряются другие чувства, чтобы компенсировать недостающее.
Я переключила скорость и разогнала «Селику» до девяноста километров.
В студенческом общежитии я жила в одной комнате с глухонемой девушкой – много лет назад, еще до Тони, в начале первого курса в художественном колледже, – и на расшифровку ее громких, несвязных высказываний уходила целая вечность. В то время мне пришло в голову выучить несколько фраз на австралийском языке жестов, но, несмотря на мои усилия, девушка была полна решимости говорить, а не пользоваться знаками, пусть даже это означало бесконечные повторения и тренировки. Дэнни Уэйнгартен являл собой противоположный пример – судя по тому, с какой легкостью его дочь исполняла роль переводчика, он, похоже, был полон такой же решимости молчать.
– За один день вы с Джейд, безусловно, обсудили множество вопросов, – сказала я дочери. – Я рада, что у тебя новая подруга.
– Не за один день, мама. За полдня. Мы даже не сидели вместе во время ланча… Утро у меня было плохое, – тихо добавила она.
Я взглянула на нее.
– Почему?
Бронвен закрутила лямку рюкзака.
– Ну ты знаешь – первый день в новой школе и все такое.
Она казалась маленькой, беззащитной. У меня сжалось сердце.
– Я ненавидела первые дни, – призналась я. – Каждый раз, когда тетя Мораг затеивала переезд, меня заталкивали в новую школу, и дети не были такими славными, как теперь, а учителя… Ну давай просто скажем, что они словно сошли со страниц романов Чарлза Диккенса… Моя жизнь была сущим кошмаром, – заключила я.
Бронвен захихикала.
– Мама, ты так все преувеличиваешь.
Я усмехнулась.
– Ты рассказывала о Джейд.
– Ну она разыскала меня в библиотеке. Она вернулась после ланча с тетей Кори, которая сказала ей, что в субботу они едут к нам. Мы с Джейд сразу нашли общий язык. Потом позже, в классе, она подняла руку, когда учительница спросила, кто хочет стать моим напарником.
– Напарником?
– Ну, понимаешь, я новенькая, а напарник показывает новому ученику, где туалеты, где строиться на собрание, всякое такое.
Я доехала до поворота. Если сверну налево, дорога приведет нас в Торнвуд. Если поеду прямо, через перекресток, то двинусь на север, к аэропорту, а оттуда, если продолжу путь мимо посадочных площадок, попаду на Уильям-роуд.
Я включила поворотник и снизила скорость, чтобы повернуть к дому, но продолжила путь прямо. Когда гудрон сменился гравием, «Селика» задребезжала и трещина на лобовом стекле еще чуть увеличилась. Здесь вдоль дороги росли более густые деревья и такие высокие, что словно соединялись с низко висевшими грозовыми тучами, заслоняя последние полосы серого дневного света. Неужели сейчас всего четыре часа? Больше похоже на полночь.
Бронвен заметила, что мы направляемся не домой:
– Куда мы едем?
– Я хочу кое-что тебе показать.
– Что?
– Это секрет. Увидишь.
– Секрет? – Она помолчала, сведя брови. – Значит, он все же нравится тебе? Папа Джейд, я имею в виду?
Я подняла глаза к небу.
– Когда мне кто-нибудь нравился?
– Никогда.
– И у меня нет намерения начинать сейчас.
– Ты сказала, что мы переехали в Мэгпай-Крик, чтобы начать новую жизнь.
– Так и есть, но это не означает, что я собираюсь потерять голову при виде первого же встречного парня.
– Ты правда видела его полураздетым?
– Он всего лишь смывал кровь с рук после того, как помог собаке старика.
– У него красивые мускулы?
– Брон! – Я не на шутку рассердилась.
– Ну красивые?
– Я не заметила, – ледяным тоном ответила я. – В любом случае это к делу не относится. Твой папа был для меня единственным мужчиной. Я никогда не смогу полюбить кого-то другого.
Бронвен театрально закатила глаза.
– Ты все время это говоришь. – Она расстегнула сумку, достала бутылку с водой, шумно отхлебнула, затем ладонью захлопнула крышку. – Так что же это за секрет? Если речь не о безумной влюбленности в отца Джейд, тогда о чем?
На Уильям-роуд стояли только два дома: один – маленькая, обшитая досками лачуга, очевидно, брошенная. Другой, появившийся сейчас в поле зрения, был красивым, характерным для Квинсленда строением на высоком фундаменте, в окружении заросшего сада. Снизив скорость, я встала на обочине напротив и выключила двигатель.
– Я нашла два снимка.
– Что? Это твой большой секрет?
– Загляни в бардачок.
Бронвен рывком открыла отделение и вытащила конверт. Достала фотографии и внимательно рассмотрела каждую, наклонив голову чуть не до коленей.
Мы долго молча сидели в душной машине: я слушала стук дождя по крыше, а Бронвен изучала фотографии, как будто они содержали давно искомые ответы на самые каверзные вопросы ее жизни. Когда она догадалась перевернуть больший снимок, то ахнула при виде сделанной от руки надписи.
– Я так и знала, – возбужденно сказала она, – это папа в детстве. Кто эти другие дети? Светловолосая девочка похожа на меня.
– Это сестра твоего папы, Гленда, она умерла. А рыжая девочка – Кори, тетя Джейд. Другой мальчик – папа Джейд. Все они выросли вместе.
– Джейд говорила мне, что ее отец и мой были друзьями в детстве. – Она долго рассматривала снимок. – Как жаль, что папы больше нет. Я скучаю по нему.
Я позволила себе взглянуть на темноволосого мальчика на фотографии, мысленно видя мужчину, которым он стал позднее – привлекательного, умного, сексуального и озорного весельчака, великолепного художника…
– Я тоже по нему скучаю.
Остывающий мотор «Селики» шумно щелкал. От блестевшего мокрого капота поднимался пар. Дождь стал теперь настолько редким, что я различала стук отдельных капель по крыше машины. Внимание Бронвен переключилось на окно, сосредоточилось на доме, напротив которого мы встали.
Он был очень похож на другие дома, которые я видела в Мэгпай-Крике, – деревянную обшивку не помешало бы покрасить, а покрытые ржавчиной водостоки заменить, – но его исторические детали сохранились в целости: декоративное чугунное кружево, витражные окна, увитая зеленью веранда и широкая лестница. У центральных ворот, в тени высоких цезальпиний, которые частично заслоняли дом от дороги, пенились розовые розы. С внешней стороны забора простирался буш, сгущаясь позади дома, где он устремлялся вверх по холму. Массивная темная араукария вздымалась вверх, тыча большими ветками в небо. Араукария не слишком изменилась с тех пор, как под ней сфотографировали Тони, Гленду и их мать, и ее причудливо изогнутый ствол узнавался безошибочно.
Взгляд Бронвен задержался на дереве, затем метнулся к снимку. Придя к некоему выводу, она вопросительно посмотрела на меня.
– То самое дерево, – сказала она. – Это старый папин дом?
– Твой отец здесь вырос, но это дом твоей бабушки.
– У меня есть бабушка? – Глаза Бронвен расширились. – И дедушка тоже?
– Милая, твой дедушка Клив давно умер.
Дочь снова обратила взгляд на дом.
– Ой, мама, а моя бабушка знает, что мы здесь? Ты с ней говорила? Какая она? Когда я смогу с ней познакомиться?
– Что ж, это и есть секретная часть, Бронни. Твоя бабушка – Луэлла – никогда не выходит из дома. По-видимому, ее можно назвать отшельницей. А теперь, после того, что случилось с твоим папой, боюсь, она расстроилась настолько, что вообще откажется с кем-либо встречаться.
Бронвен задумалась.
– Но нас она все же захочет увидеть, да, мама? Я хочу сказать, мы же – семья.
– Не знаю, Бронвен. Надеюсь.
– Мы можем войти? Думаешь, она дома?
– Сегодня уже поздновато. Может, приедем сюда в выходные, привезем что-то особенное?
– В смысле, цветы?
– Конечно.
– Может, коробку шоколадных конфет? – Бронвен рассматривала дом, ее глаза горели любопытством и страстным желанием. – Еще я нарисую для нее открытку. О, мама, не могу поверить, что у меня есть бабушка!
Ее возбуждение передалось мне. Сердце забилось быстрее, ладони вспотели. В голове беспорядочно закрутились вопросы. Но один встал особенно остро. И хотя я понимала, что не имею права его задавать, и знала также, что время, когда я могла бы поднять эту тему, давно прошло, он терзал меня.
«Луэлла, что на самом деле случилось в ту ночь, когда умерла твоя мать?»
Рассматривая очаровательный старый дом с его буйным садом и лужайкой в брызгах маргариток, я почувствовала, что, даже если и завоевать доверие Луэллы настолько, чтобы спросить об этом, ответа у нее, скорее всего, не было бы.
Уютное гнездышко ее дома словно пряталось под защитой ветвей огромной араукарии. Я представила Луэллу внутри, как она возится в своих темных комнатах последние двадцать лет – добровольная узница в тюрьме скорби и одиночества, которую сама себе навязала. Есть ли у нее другие родственники? Или она – как мы с Бронвен – плывет по течению без родни, сама по себе, вынужденная оставаться одна из-за сложившихся обстоятельств?
Пока старая «Селика» неслась назад по Уильям-роуд к городу, слова Кори эхом звучали у меня в ушах: «Это не стоит душевной боли… Ни вашей, ни, уж конечно, Бронвен».
Но Кори ошибалась. Мы с Бронвен уже столкнулись с душевной болью и пережили ее. Если до этого дойдет, мы снова ее переживем.
* * *
После ужина, состоявшего из пиццы, салата и поделенного пополам пирожного с джемом и орехами, мы плюхнулись на диван перед телевизором и до отхода ко сну немного побродили по каналам.
Бронвен удалилась в свою комнату с «Гарри Поттером» под мышкой. Когда я позднее заглянула к ней, она лежала в кровати, свернувшись калачиком и прижимая к себе книгу, как тряпичную куклу, – крепко спала.
В бледном лунном свете она могла бы сойти за сказочную принцессу – спутавшиеся от жары волосы веером разлетелись по подушке, а лицо безмятежно, как у ледяной скульптуры. Глаза Бронвен двигались под веками, словно следя за причудливыми поворотами сюжета какого-то поразительного спектакля в мире грез.
Я удивилась тому, как сильно изменилась моя дочь за последний год. Она утратила детскую пухлость, подросла и постройнела. Это был уже скорее подросток, а не ребенок. И все же преображение было столь неуловимым, что я пропустила бы его, если бы не наблюдала за ней.
Похоже, заметила не я одна. После того, что я узнала сегодня, мне стало понятно, почему Тони самоустранялся из жизни дочери. Как долго я боялась, что он отгораживается от Бронвен, чтобы наказать меня. Или хуже – что он отрывается от обеих, отправляя нас в прошлое так же, как отправил в прошлое ранние годы своей жизни.
Как я ошибалась!
Тони отстранялся не от Бронвен, а от памяти о своей погибшей сестре. Разумеется, сходство Бронвен с Глендой присутствовало всегда, но, видимо, Тони заметил, что с каждый годом оно усиливается, пока не стало в конце концов абсолютно явным. И это заставило меня подумать: а нет ли правды в словах Кори о том, что Тони ссорился со своей сестрой в день ее смерти? Мог он толкнуть ее? Не потому ли он сбежал из дому – спастись от чувства вины, в ужасе от того, что сделал? Не потому ли, двадцать лет спустя, он посчитал необходимым уйти из жизни Бронвен, не в силах видеть ее лицо? Мне было невыносимо понимать, что я никогда этого не узнаю.
Поправив простыню на худеньких плечиках Бронвен, я поцеловала ее в макушку и тихонько вернулась на кухню.
Здесь до сих пор приятно пахло луком и помидорами, и этот обыкновенный запах успокоил меня. Перемывая и вытирая посуду, ставя ее аккуратными стопками в буфете, складывая коробки из-под пиццы, чтобы они поместились в мусорное ведро, я пыталась делать вид, что за пределами столь привычных домашних дел ничего не существует. Ненадолго это помогло. Негромко лилась вода из крана, звякали тарелки, снаружи, из темноты сада, тихо подавала голос сова-бубук.
Я быстро приняла душ, чтобы охладиться, надела шорты и майку и почистила зубы. Выключив свет, прошла по коридору в свою комнату, забралась в постель. А потом без конца ворочалась, проклиная адскую жару, от которой липли к ногам и спине простыни. От недосыпа в глаза словно песка насыпали, но только я пыталась их закрыть, как они распахивались. Я взглянула на часы у кровати.
Неужели и правда только полночь?
Впервые со времени переезда в Торнвуд я скучала по гулу городского транспорта, реву клаксонов и сирен, дребезжанию трамваев и успокаивающему сиянию уличных фонарей. Шум, яркий свет – раздражители. Неужели люди поэтому стекаются в города? Не ради работы, не ради образа жизни, даже не ради безликих толп, в которых можно затеряться, – но ради постоянного, никогда не исчезающего раздражителя?
Скинув с ноги простынь, я опять повалилась на кровать. От пота зудела шея, и мне хотелось расчесать ее до крови. Вместо этого я попыталась помедитировать… только чтобы резко проснуться через несколько минут, еще больше, до невозможности напряженная.
Наконец плотину прорвало.
В сознание полились образы – детский бассейн, наполненный небом; четыре маленьких лица, сморщившихся от смеха; девочка со светлыми, до белизны, косичками и худой темненький мальчик с большими глазами. Высокая женщина с добрым лицом, запертая в тюрьме собственного дома. Человеческие кости, выкопанные в запруде, и камни, осыпающиеся со смертельно опасного обрыва. Люди, которых я никогда не встречала, начали бормотать мне свои тайны. Мертвые воскресли – умоляя, уговаривая, призывая выслушать их истории, на что у меня не было никакого желания.
Отсутствовал только один голос.
– Сэмюэл, – прошептала я в темноту. – Где ты? Почему ты не говоришь со мной?
В комнате было не продохнуть, воздух – как в духовке. Несмотря на прохладный душ, кровь в жилах кипела. Встав с кровати, я нащупала шлепанцы и на цыпочках прокралась по коридору.
Едва переступив порог дальней спальни, я почувствовала себя спокойнее. Голоса в голове стихли, поток навеянных грезами образов ослабел. Я сказала себе, что это никак не связано с приближением к фотографии Сэмюэла Риордана; никак не связано с тем, как успокаивает меня его надежное присутствие… и никак не связано с тоской одиночества в груди, которая вызывает у меня желание обнять большое теплое тело и забыть, хоть ненадолго, что я одна.
Я тяжело упала на постель. Пару раз чихнула, свернулась в клубок и накрыла голову подушкой. Ничего не произошло. Тогда я швырнула подушку на пол, перевернувшись на живот, зарылась лицом в матрас. После вся койка будет в складках, ну и наплевать. Хотелось сна… сна и сладкой тишины забытья.
* * *
Искорка сознания сообщала мне, что я сплю, однако в своем сонном состоянии я могла поклясться, что мужчина, лежащий рядом со мной в постели, реален.
Сначала я подумала, что это Тони – сны часто воскрешают мертвых. Он плакал, поэтому я и подумала о нем. Столько ночей разрушалось его кошмарами, столько ночей наполнялись успокаивающими словами, чаем, растиранием спины.
Но это был не Тони. Худой, поджарый Тони обладал обезоруживающе мальчишеской внешностью. Мужчина рядом со мной был приличного веса, плотный, широкий в кости. И каким-то образом я поняла, что он страдает не потому, что проснулся из-за ночного кошмара, а потому, что только что из кошмара вырвался.
– Сэмюэл?
Обняв, я крепко притянула его к себе, как когда-то делала с Тони, прижимаясь губами к его макушке, бормоча слова успокоения. Волосы у него пахли солнечным светом и потом, кожа на ощупь была горячей.
Прядь моих волос упала ему на лицо. Она была очень длинной, лежала мягкими волнами, поблескивавшими в лунном свете. Я откинула локон в сторону, позволив пальцам на секунду задержаться на щеке мужчины и прочертить линию по шее, до ямки между ключицами.
Сэмюэл вздрогнул:
– Айлиш.
– Я здесь, – прошептала я. Голос был не моим. Или, точнее, моим, но звучал хрипло, как после долгого молчания.
Сэмюэл словно не услышал.
Я обняла крепче. От его жара мои груди горели, как в лихорадке, Сэмюэл обжигал мои руки, живот, бедра. И все же он дрожал, как на холодном ветру, словно мое прикосновение было ледяным.
Луна переместилась вниз по небосклону. Цикады послали ввысь свой первый неровный хор, затем снова умолкли. Скоро наступит рассвет, и осознание этого наполнило меня ужасом.
Он ускользал.
Или, возможно, это я отступала в то измерение, которое моя мать называла Алчеринга, то есть Страна грез на языке аборигенов. Я вцепилась крепче, но на его плечах мои руки казались костлявыми – тонкими лианами, обвивающими ствол громадного речного эвкалипта. Я обхватила его с большей силой, обвивая вокруг него свои побеги, притягивая его, привязывая к себе его плоть, сердце и душу.
– Айлиш, – прошептал он.
– Я здесь, Сэмюэл. Я здесь.
Но еще не договорив, я почувствовала, как мое тело начинает исчезать, подобно тому, как тает под лучами солнца ночной туман. Я почувствовала, что моя сущность откликается на зов чего-то более грандиозного и гораздо более вечного, чем оба мы; чего-то, чему я не могла – или не дерзала – сопротивляться.
Я отчаянно цеплялась за него, боясь отпустить. Боясь, что этот миг может стать для нас последним. Дрожь пробежала по его большому телу, и он рывком отвернулся от меня, сворачиваясь в клубок, обхватывая себя руками, словно отгораживался. Я приникла сзади, обнимая его за плечи, прижимаясь щекой к его спине, но от этого он, похоже, дрожал лишь сильнее.
Ночь истекала.
Лунный свет поблек, и я услышала, как скребутся в окно листья. Защебетали, пробуждаясь, птицы, они воспевали приближение нового рассветного проблеска. Я скорбно плыла, больше уже не ощущая ни кровати под собой, ни жара тела лежавшего рядом со мной мужчины. Скоро он станет для меня невидим… как уже стала невидима для него я.
Я придвинулась ближе, в последней попытке убаюкать его, невзирая на дрожь, облегчить его горе. Я подумала, что он, наверное, заснул, но затем в тишине раздался его голос.
– Что я наделал? – пробормотал он с непонятным мне чувством. – Прости меня, боже, что я наделал?
Глава 8
Было еще темно. Снаружи ночь, тишина. В окно веял едва уловимый ветерок, прохладный, принося дивный аромат сирени. Я провела ладонью по простыне рядом с собой, словно искала кого-то.
Пустота сбила меня с толку.
Мгновение назад он был реальным. Осязаемым. Теперь же прохладное пространство раздражало, перенося из мира грез в разреженную атмосферу действительности. Я вспомнила, где нахожусь – на старой кровати с высокой спинкой, в дальней комнате. Мой взгляд переместился на стену. Фотография Сэмюэла была смутным прямоугольником внутри призрачной рамки. Я не различала его с того места, где лежала, было слишком темно. Хотя все еще чувствовала его отяжелевшее во сне тело, тепло кожи, мягкий пух волос на груди, спокойное биение его сердца.
Завернувшись в покрывало, я улеглась поудобней. Чихнула пару раз, потом тщетно поискала носовой платок. Смешно переживать такое потрясение из-за сна. Глупый мираж, навеянный разговором о несчастных случаях и смерти и постоянным перечитыванием письма Айлиш. И однако же это казалось таким реальным, словно было вовсе и не сном – но воспоминанием.
Я отыскала платок и высморкалась, потом легла на спину и уставилась в потолок.
Мне было шестнадцать лет, когда умерла тетя Мораг. Она скончалась тихо, ночью, уйдя без единого слова, даже шепота. Я обнаружила ее наутро, она лежала холодная и уже окоченевшая. Такая маленькая. Она всегда казалась мне крупной женщиной, крепкой и высокой, как мужчина. В то утро, когда я ее нашла, я увидела, насколько ошибалась. Странно было видеть ее лежавшей неподвижно, с опущенными восковыми веками. С уходом куда-то ее большой личности тело тети Мораг будто бы сдулось.
Когда я была маленькой, ее пухлые руки защищали меня, ее рассказы прогоняли мои ночные кошмары, ее кудахтающий смех заполнял пустоту, которая, казалось, всегда висела рядом после смерти моего отца и исчезновения матери.
Теперь, пока я лежала в спокойной темноте дальней комнаты, теплый, пахнувший сиренью ветерок, вплывавший в окно, так сильно напомнил о тете Мораг, что мне ужасно захотелось снова стать ребенком, свернуться калачиком в кольце ее рук, легко – и с таким острым желанием – скользнуть из хаоса и разочарования просыпающегося мира в тихую гавань моих снов.
Веки затрепетали, наливаясь тяжестью.
В мою тьму проник певучий голос. Мужской. С ним пришел аромат полевых цветов, нагретой солнцем кожи и соленого пота. Вес теплого тела рядом, и я – неспособная удержаться, чтобы не потянуться к нему, мои губы зашевелились, произнося его имя:
– Сэмюэл.
Я резко села в постели, хватая ртом воздух. Передвинулась к краю кровати и встала, пошатываясь. Когда наступило утро? В окна сочился мутный утренний свет. Оранжевое солнце плыло по дальним холмам, расцвечивая небо золотыми облаками.
Подойдя к туалетному столику, я уставилась в зеркало. На меня глядело бледное лицо с пунцовыми щеками. Губы были так сильно искусаны, что приобрели темный, кроваво-красный цвет зимних роз. Глаза сияли так, что мне стало не по себе. Разумная женщина, над превращением в которую я так упорно работала, исчезла. Вместо нее возникла незнакомка с безумным взглядом.
Почему меня ночь за ночью тянуло в эту комнату, как наркомана, жаждущего новой дозы? Неужели я действительно настолько одинока? Неужели моя жизнь стала такой пустой, что ради эмоционального удовлетворения я цепляюсь за сны? Или от пребывания в этом старом доме во мне что-то сместилось и теперь рвется наружу?
Из кухни по коридору доносились отдельные звуки: звякали чашки, скрипнул по полу передвигаемый стул. Бронвен уже на ногах, недоумевает, наверное, где же я.
Приглушенная радиоболтовня действовала мне на нервы, и я поняла, что хрупкий пузырь моего сна недолго проживет в резком свете дня. Он уже отступал, как отлив. Я попыталась вернуть его, прижаться к этой сладости, к воспоминанию о человеке, которого обнимала во сне, к его певучему голосу, пьянящему аромату кожи и волос, к его надежной, успокаивающей близости.
Но снам не под силу противостоять пробуждающемуся миру. В итоге мне пришлось их отпустить.
* * *
Пока мы ходили по дому, Хоб Миллер был немногословен. После резких слов при нашей предыдущей встрече я почти ожидала увидеть его раздраженным. Но он казался задумчивым, сдержанным. Как будто что-то более значительное, чем мой запущенный сад, занимало его мысли.
Видимо, в противовес его спокойствию я нервно болтала как заведенная, показывая сломанные перила веранды, треснувшее оконное стекло в ванной комнате, просевшие ступени крыльца, царапавшую карниз ветку манго.
– Требуется ли замена старой железной крыши? – хотела знать я. – Нужно ли специально обрабатывать воду из резервуара? Вкус у воды хороший, но откуда я знаю, безопасна ли она для питья? И как часто следует прочищать водостоки? Представляют ли угрозу пожары в буше? Улучшит ли дело, если я заплачу специалисту по деревьям за их подрезку? И если я обрежу старые побеги плетистой розы, вырастут ли новые?
На шквал моих вопросов Хоб отвечал кивками и записывал все в крохотный блокнот бисерным почерком, настолько аккуратным, что он выглядел машинописью. Каждый раз, когда он останавливался, чтобы сделать очередную пометку, я украдкой на него поглядывала. Он напоминал мне телевизионного персонажа семидесятых годов, рассеянно-любезного, несмотря на одежду, словно снятую с огородного пугала, и залепленное неровным куском черного скотча одно стекло очков.
Наконец он закрыл блокнот.
– Ваш резервуар для воды нужно как следует вычистить, – сообщил он. – В идеале, резервуар нужно чистить каждые два года в зависимости от состояния крыши и труб, а также чтобы избавиться от любого древесного мусора и мертвых поссумов и лягушек, которые могли в него свалиться. Значит, придется покупать питьевую воду в магазине, пока дождь не наполнит его снова. Вкус – хороший индикатор того, что все в порядке, но для уверенности я бы ее проверил. Листья из водостоков нужно будет убирать примерно раз в месяц. Пожар в буше может создать проблемы, поэтому разработайте план ранней эвакуации и чтобы рядом с домом не валялся никакой строительный мусор. Зачем тратиться на специалиста по обрезке, когда я сам могу обрезать переросшие деревья? Что до роз, подозреваю, они погибли. Побалуйте себя новыми, деточка. А еще лучше – посадите что-нибудь более соответствующее здешнему климату.
Утро было чрезвычайно жарким. К тому времени, как мы добрались до края сада, примерно на полпути вверх по холму, я вся взмокла и жалела, что забыла надеть шляпу. Воздух звенел, на деревьях поникли обезвоженные листья. Хоб казался нечувствителен к жаре, но когда мы взобрались по каменистой насыпи, он достал носовой платок и вытер лицо.
Внизу под нами лежало поместье, величественное и мирное, с чугунным кружевом карнизов и витражными окнами, поблескивавшими в утреннем свете. Вились заросшие мхом кирпичные дорожки, то скрываясь за деревьями, то появляясь вновь, а из разросшихся клумб выплескивалась пена красных и оранжевых настурций. Казалось невозможным, чтобы такой покой мог хранить столько тайн, и еще более невероятным, – что среди этих тайн могло быть жестокое убийство.
Хоб, вероятно, не меньше моего увлекся этим видом. У меня накопилось столько вопросов, но я понимала, что должна действовать осторожно.
– Очаровательный вид, правда? – начала я, надеясь сломать лед недоверия.
Хоб посмотрел вниз на поместье и лишь хмыкнул.
Я зашла с другой стороны:
– Кори сказала, что вы прожили в Мэгпай-Крике всю жизнь. Она сказала, что если мне понадобится узнать что-нибудь о местной истории или достопримечательностях, то обратиться нужно именно к вам. Она назвала вас ходячей энциклопедией.
Хоб, казалось, поразился, потом его лицо сморщилось, озаряясь ослепительной улыбкой.
– Юная Кори так сказала, да?
Я кивнула.
– Вообще-то я надеялась, что вы знаете какие-нибудь интересные пешие тропы. Моя дочь помешана на природе, и раз уж значительную часть Торнвуда составляет буш, нам обеим очень хочется его исследовать.
Взгляд голубых глаз Хоба метнулся вниз, к дому.
– Дочка Тони?
– Да.
– Кори мне говорила. Надеюсь, ничего, что я об этом упомянул?
– Я не против, Хоб. Это не секрет, что мы с Тони не были женаты. Семья у нас не получилась. Он встретил другую женщину и женился на ней. И – да, Бронвен его дочь.
– Бронвен? Красивое имя. – Голос Хоба задрожал, старик не отрывал глаз от поместья. – Бедный ребенок, вот так потерять отца. Страшная потеря для вас обеих.
– Это было трудно, – призналась я. – Больше для Бронвен, чем для меня. Но она жизнерадостная девочка, она выправится.
– Помешана на природе, говорите?
Я не могла удержаться от улыбки.
– Она твердо решила стать энтомологом.
Хоб моргнул, потом удивленно покачал головой:
– Будет заниматься жучками, правильно? Что ж, она приехала в нужное место, если хочет изучать насекомых, – здесь они кишмя кишат!
Мы расхохотались громче, чем того требовала остро́та. Лицо Хоба светилось, глаза сияли.
– Сколько лет Бронвен? – захотел узнать он.
– Одиннадцать.
– Хороший возраст. Вполне взрослая, чтобы задавать вопросы, но недостаточно взрослая, чтобы все знать лучше вас.
– Тогда Бронвен, наверное, в переходной стадии. Бывают случаи, когда она, похоже, знает гораздо больше меня. У вас есть дети, Хоб?
Он переступил с ноги на ногу, снова переводя взгляд на дом.
– Нас с братом только двое, два старых холостяка, скрипим помаленьку в нашем бунгало. Я никогда не был женат. Думаю, был слишком занят хлопотами по хозяйству и присмотром за Герни, чтобы он не попал в какую-нибудь беду. У моего брата немного неладно с головой, родился таким… Но вообще он хороший товарищ. Я подозреваю, что он намного смышленее, чем кажется.
Хоб прошел небольшое расстояние вдоль насыпи, выбирая дорогу между травянистыми кочками. Когда я его догнала, он указал вдоль гребня холма туда, где из соседнего холма торчали обнажившиеся валуны.
– Видите те камни? Это Боверово ущелье, отсюда до него полмили. Быстрым шагом вам хватит двадцати минут, максимум тридцати. Сейчас там особо не на что смотреть, все пожухло от жары. Но придет весна, и северный склон холма превратится в ковер из полевых цветов. – Он оглянулся на меня и улыбнулся, стеклышко его очков ярко вспыхивало на солнце. – Погодите, пока Бронвен обнаружит бабочек, которые там собираются, – их миллионы, великолепное зрелище.
– Звучит здорово.
– На этих холмах множество чудес, Одри. Я бы даже сказал, что это волшебная часть мира. Молодым парнем я, бывало, на мили углублялся в национальные парки. Иногда мы с Герни на несколько недель разбивали там лагерь. Я был одержим желанием представить, как это выглядело миллионы лет назад, когда эти холмы были по-настоящему живыми. – Хоб сделал глубокий вдох, его ноздри затрепетали. – Вы знаете, что Мэгпай-Крик расположен как раз в центре древнего вулкана?
– Да.
Ему было приятно это услышать.
– То были бурные денечки, воздух кипел, и все эти чудища с грохотом топали по окрестностям. Конечно, – его целый глаз засверкал, – к тому времени, когда на эту планету прибыл я, здешние края превратились в пастбища для молочного скота. Первые фермеры вырубили все леса – прекрасные розовые деревья, красные кедры и акацию. Теперь здесь только трава, проволочные заборы и сонный скот. Бедный старый тираннозавр давно исчез.
Его скрипучий смех был заразителен. Я невольно улыбнулась в ответ:
– Хотя он до сих пор здесь присутствует, не так ли? Вулкан, я имею в виду.
Хоб посмотрел на холмы. Некоторое время мы молча разглядывали горы в отдалении – выгоревше-коричневые и голые, первобытно прекрасные.
– Это место пленяет тебя, – продолжал он почти про себя. – Захватывает целиком, проникает в твою кровь. Я в свое время общался с чернокожими стариками, которые жили наверху, на Перевале. Они верили, что эта земля – что-то вроде матери-духа, которая их рождает, а когда они умирают, она заглатывает их назад. Они считали себя хранителями земли, деревьев, птиц и дикой природы… Священными хранителями земли. Поэтому они так хорошо чувствовали это место. Когда вы селитесь на подобной земле, вы понимаете, что они имели в виду.
Солнце забиралось на небо. Я ощущала, что кожа у меня начинает краснеть. Сказывалась и беспокойная ночь. Навалилась усталость, захотелось прикрыть глаза от резкого света. Тишина окутывала, успокаивала меня. Утратив желание выведывать тайны Хоба, я вдруг захотела раскрыть свои.
– Я никогда не чувствовала принадлежности к какому-то месту, пока не приехала сюда, – призналась я. – Едва увидев поместье, я осознала это. Дом и сад, холмы позади и вид на долину с парадного крыльца – все каким-то образом сложилось. Словно после долгого путешествия ты прибыл к месту назначения.
– Да, – слабо отозвался Хоб. – Именно так.
Не было ни ветерка. Птицы перестали щебетать, только гудела одинокая пчела, да шепталась чуть колеблемая сухая трава. Все остальное было тихо. Время перестало течь, мгновение остановилось. Затем с ветвей соседнего эвкалипта снялась стайка ворон и с угрюмым карканьем поднялась в небо… Чары разрушились. В кустах по соседству зазвенела одинокая цикада, к которой вскоре присоединился птичий хор. Коровы заревели в отдалении, а из долины поплыл запах эвкалипта.
– Тогда лучше побыстрее начать, – сказал Хоб. – Не бойтесь, Одри, мы приведем ваш сад в полный порядок, вы и оглянуться не успеете.
– Мы?
– Герни иногда помогает мне. Он хороший работник, любит чувствовать себя необходимым. Я поручу ему скосить у вас траву, бесплатно.
– О Хоб, я, конечно, ему заплачу.
– Ну, всего пару-тройку шиллингов, если хотите. Он стрижет еще несколько лужаек в городе и хорошо на этом зарабатывает. Держится достойно, языком не чешет, как его брат.
Я улыбнулась этим словам, вспоминая мужчину, которого видела в свой первый визит в бунгало Хоба, в тот день, когда заехала туда спросить дорогу. Он был выше Хоба, с редкими седыми волосами, а на лице его словно навсегда застыло недоумение. Также я вспомнила, как он встревожился, услышав, что я ищу Торнвуд.
– Надеюсь, он не против будет приехать сюда? – спросила я. – В Торнвуд?
Хоб покачал головой.
– Просто в прошлом мы всегда избегали этого имения. Теперь звучит глупо, учитывая, что мы близкие соседи и все такое. За последние двадцать лет мы практически здесь не бывали. Полагаю, юная Кори сказала вам, что я не слишком любил Сэмюэла Риордана?
Я кивнула:
– Еще она рассказала мне про суд по делу об убийстве. Должна признаться, мне любопытно узнать больше.
Хоб поправил очки.
– Ну что сказать? Конкретных доказательств того, что Сэмюэл Риордан виновен в убийстве, никогда не было… Но попомните мои слова, девушка, он был подлец. Я называл его черной ехидной… Если вы имели глупость рассердить его, он бил не задумываясь.
– Вы считаете, он был виновен?
Почесав узловатым пальцем под здоровым глазом, Хоб осторожно на меня посмотрел.
– Возможно.
– Почему?
– Полагаю, его изменила война, озлобила… В любом случае так люди говорят.
– Он служил в действующей армии?
Хоб замялся.
– Он попал в плен, деточка. Провел несколько лет в лагере у японцев. Да, нашим парням туго там пришлось. Я не хочу проявить к ним какое-то неуважение, совсем нет. Они помогли спасти эту страну, бедолаги, и женщины тоже, отдавая свои юные жизни, чтобы мы здесь могли продолжать жить свободно и мирно. Думаю, Сэмюэл внес свою лепту в это спасение, может, он даже был герой, как говорят. Но домой он вернулся каким-то поврежденным, в голове у него что-то сдвинулось. Некоторые говорят, что лучше бы уж он получил японскую пулю. Лучше для всех нас.
– Что вы имеете в виду – что-то сдвинулось в голове?
Хоб взъерошил свои редкие волосы, раздумывая.
– Один старик, которого я знал, был в плену. Он тоже вернулся домой изменившимся, только не к худшему. Он сказал, что после жутких лет в японском лагере научился замечать малейшее проявление доброты. У него на глаза наворачивались слезы, когда жена подавала ему тапки или наливала чашку чая. Бедняга, по его словам, он настолько был лишен все те годы сострадания и доброты, что это перевернуло его, заставило больше ценить простые вещи. – Хоб отвлекся, его взгляд скользнул с неба на холм, к дереву и обратно на небо, по-видимому, не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном. – У Сэмюэла не так. Он вернулся раздраженный, как раненая змея. Когда он умер, я был не единственный, кто вздохнул в Мэгпай-Крике с облегчением.
Я представила лицо мужчины на фотографии, пытаясь нарисовать его змеей, подлецом. Для меня существовал только блеск желания в его темных глазах, манящий изгиб совершенных губ, обольстительная полуулыбка, от которой мне делалось тепло и я каким-то образом ощущала свою ценность. Если под той привлекательной маской скрывалось гнилое нутро, то я совершенно этого не видела.
– Одри, – Хоб посмотрел на меня, нахмурившись, – я расстроил вас этим разговором, да? Вы белая как полотно. Идемте, деточка, лучше нам вернуться. Мне нужно купить стекло и покопаться в деревянных обрезках. То окно в ванной комнате само не починится, верно?
Спуск с холма позволил отвлечься. На пути между задыхающимся от лиан задним садом и тенистой дорожкой за домом я пришла в себя и мысленно поклялась, что скоро буду охлаждать свои усталые конечности под душем. Накачиваться кофеином, жевать на завтрак разогретую пиццу. Погружаться в нормальность, освобождаться от тревожащего осадка, оставшегося после моих снов.
Когда мы огибали дом, я краем глаза заметила что-то сине-зеленоватое – безупречно чистый «Валиант» Хоба был оазисом цвета среди выжженного солнцем бурого ландшафта. Даже моя любимая «Селика», стоявшая в нескольких метрах от него, выглядела по сравнению с ним запущенной.
Мы в молчании спустились по склону. Хоб больше не нервировал меня. Странно, с ним мне было спокойно, как с Кори.
Вдруг Хоб рванул вперед. Сначала я подумала, что он направляется к своей машине – возможно, он попрощался, а я так углубилась в свои мысли, что не услышала его. Но он пробрался сквозь траву к фиговому дереву и присел на корточки в тени раскидистой кроны, разглядывая что-то на земле.
Подойдя, я увидела всклокоченного белого птенца, который пронзительно пищал и бил своими короткими широкими крылышками.
– Вот бедняга. – Хоб поднял лицо к темным веткам фигового дерева. – Его, должно быть, выбросило из гнезда во время вчерашней бури. Или вороны постарались. Других птенцов не видно. Вероятно, ими поживились одичавшие кошки.
– А кто он?
– Птенец бубука… Очаровательный малыш, правда?
– Он выживет?
– Хищные птицы очень живучие. Но точно никогда не скажешь. По виду у него вроде бы ничего не сломано после падения из гнезда, но я не хочу рисковать.
Он выпрямился, сходил к «Валианту», достал из багажника картонную коробку и поспешил назад.
– Почему он открывает и закрывает клюв? – спросила я. – Ему больно?
Хоб поставил коробку рядом с маленькой птичкой.
– Есть хочет. Думаю, когда его как следует накормят, он будет здоров как бык.
Мне состояние птицы не понравилось. Ее мягкие, с коричневыми пестринами перышки были взъерошены, открытый клюв означал скорее физическую боль, нежели голод.
Хоб, похоже, не беспокоился. Он вытащил из коробки полотенце, накрыл им маленькую сову. Затем с бесконечной нежностью перенес птенца в коробку, из свертка выглядывало только круглое «лицо» с громадными золотистыми глазами.
– Что вы с ним сделаете? – поинтересовалась я.
– В обычных обстоятельствах я вернул бы его в гнездо. Но поскольку оно разрушено, мне придется несколько дней побыть мамашей. Свезу его к ветеринару для осмотра. Дома сооружу для него гнездо в коробке и буду держать в тепле и каждый час кормить. Посмотрим, съест ли он немного измельченного кузнечика, выпьет ли несколько капель воды.
– Судя по всему, вам уже приходилось это проделывать.
– Пожалуй. Раз или два. – Губы у него дрогнули. – Я помогаю местной организации по спасению живой природы, деточка.
Я улыбнулась.
– Бронвен очень захочет все об этом узнать.
Хоб, похоже, здорово обрадовался. Взяв коробку, он вышел из тени фигового дерева и стал спускаться по склону к «Валианту».
От травы исходил теплый запах. Когда мы добрались до машины Хоба, я притулилась в крохотной тени соседнего эвкалипта, пока Хоб ставил коробку на пассажирское сиденье и пристегивал.
– Мы с Герни вернемся через несколько часов, – сообщил он. – Я привезу стекла и деревянные обрезки. Герни может начать работу в саду сегодня же днем. Если все пойдет по плану, то где-то завтра мы закончим.
Он медлил, по-видимому не желая уезжать. Из коробки донесся слабый писк, и Хоб заглянул туда, поправил полотенце. Маленькая сова печально ухнула, затем замолкла.
– Надеюсь, он выживет, – сказала я из вежливости.
Хоб улыбнулся.
– Я привезу его сюда на выходных. Может, Бронвен захочет посмотреть, как я выпускаю его на волю.
– Конечно. У вас будет столько хлопот, – сказала я, – четыре новорожденных щенка, а теперь и птенец совы.
– Ну да, в резиденции Миллеров не соскучишься. – Он задумчиво посмотрел на меня. – Послушайте, Одри, привозите-ка Бронвен как-нибудь к нам в бунгало. Она выберет себе щенка, если ей какой-нибудь приглянется. Альма – отличная сторожевая собака, и мне будет приятно, если хотя бы один из ее помета попадет в хороший дом.
У нас никогда не было настоящего домашнего питомца – если не считать навозных червей и кучи жуков, бабочек и богомолов, которых Бронвен обычно приносила домой. Несколько лет назад она перестала клянчить у меня собаку, побежденная моими непреклонными отказами. Но мы приехали сюда ради нового начала, напомнила я себе; может, настало время сменить тактику?
– Она будет в восторге.
Сверкающий глаз Хоба радостно расширился в светотени.
– Правда, Одри? Она действительно будет в восторге?
Он снова посмотрел на дом и покачал головой, словно восхищаясь его видом.
Я и сама была немножко взбудоражена. Менее чем за час мое мнение о Хобе Миллере изменилось коренным образом. Кори была права, он, пожалуй, действительно сокровище. Интересно, как далеко я могу зайти в испытании наших только что возникших дружеских отношений?
– Хоб? Могу я вас кое о чем спросить?
Он все еще разглядывал поместье.
– О чем, деточка?
– Кто такая Айлиш?
Резко обернувшись, он уставился на меня. Брови нахмурены, а здоровый глаз мечет голубые молнии.
– Молодая Айлиш Лутц… Ну та, которую убил, как считали, Сэмюэл.
– Бабушка Тони?
– Совершенно верно.
Ветерок прошелестел по траве и закрутился вокруг моих лодыжек. Услышав, как Хоб озвучивает мои подозрения, я почувствовала тяжесть в груди, как будто в нее вложили камень. Айлиш любила Сэмюэла, из ее письма это ясно видно. Тогда как получилось, что он так грубо ее предал?
– Хотя он этого не делал, – услышала я свой голос, – ведь так?
Хоб наморщил лоб.
– Кто же точно знает, Одри, деточка? – ласково проговорил он. – В конце концов, старика признали невиновным в суде… Может, обвинения были не более чем кучей пустой болтовни.
– Вы не очень уверенно об этом говорите.
– Ну знаете…
– Что заставляет вас думать, что он был виновен, Хоб?
Он посмотрел на холм.
– Я был всего лишь крохой в сорок шестом, когда это случилось. Поэтому я знаю обо всем по слухам, вы же понимаете. Видите ли, Айлиш забеременела, и ни у кого не возникло сомнений, что отец – Сэмюэл. Они собирались пожениться, но потом Сэмюэла направили в Малайю. Он попал в плен в сорок втором, когда пал Сингапур, и к моменту возвращения в Мэгпай-Крик передумал на ней жениться.
– Почему?
Поток солнечного света пробился сквозь листву фигового дерева, превратив морщинистое лицо Хоба в четкий рельеф.
– Сэмюэл был врачом, хорошим, судя по тому, что я слышал. Он специализировался на тропических болезнях и в начале службы стал довольно известен как полковой врач. После войны на врачей был большой спрос. По крайней мере, в таких маленьких захолустных городках, как Мэгпай-Крик, и Сэмюэл горел желанием начать работу. Но были люди, которые считали, что женитьба на Айлиш погубит его карьеру.
– Почему они так думали?
– Юная Айлиш была наполовину аборигенкой. Ее отец Якоб был лютеранским пастором, который в двадцатых годах возглавлял миссию среди аборигенов на севере. Там он влюбился в чернокожую девушку, захотел на ней жениться. Церковники, разумеется, воспротивились, но Якоб не мог бросить любимую. Она родила ему девочку – Айлиш, – и следующие десять лет они прожили относительно мирно. Старый Якоб как-то признался мне, что годы миссионерства были счастливейшими в его жизни. Но затем случилась трагедия: мать Айлиш умерла от скарлатины. Якоб оставил миссионерство и привез свою маленькую дочь в Мэгпай-Крик. Хорошо воспитал ее. Все пожилые люди пели ей хвалы, а Якоб, старый чудак, боготворил землю, по которой она ступала. После ее смерти от него осталась одна оболочка. Он так и не оправился.
Хоб покачал головой, словно пытаясь рассеять печаль только что рассказанного.
Я тоже ее почувствовала – неприятную, угнетающую печаль, которая засела вблизи моего сердца и от которой заныли легкие. Но вместе с печалью пришло острое любопытство.
– Где нашли ее тело?
Хоб уже собирался ответить, но вдруг замер. Его лицо побледнело, а глаз широко раскрылся за стеклом очков.
Я обернулась вовремя, чтобы увидеть Бронвен, летевшую к нам по траве на велосипеде. Ранее этим утром, перед приездом Хоба, она была поглощена школьным проектом, сидела, низко склонившись, за кухонным столом, составляя из хитиновых оболочек цикад какую-то жуткую гирлянду. Я почти ожидала, что она вторгнется в мою беседу с Хобом из любопытства к новому лицу, но, очевидно, она была слишком увлечена.
Щеки ее пылали из-за солнца, хотя были защищены полями панамы, а длинные волосы трепались по плечам. Она улыбнулась нам, сняла руку с виляющего руля и коротко помахала, затем свернула в сторону от фигового дерева и понеслась дальше вниз по склону по подсобной дороге.
Хоб смотрел на нее с открытым ртом, словно увидел призрак.
– Это Бронвен, – сказала я.
Она спускалась на велосипеде, пока не достигла деревьев, ветки которых нависали над краем дороги, затем развернулась назад, в гору, и снова яростно принялась крутить педали. Только когда она исчезла за домом, Хоб наконец заговорил:
– Она, эта девочка… Она вылитая…
– Тони? – Я выдавила улыбку. – Все это говорят. Они были очень похожи. Не только внешне, но и по характеру…
Слишком поздно я сообразила, что собирался сказать Хоб: «Гленда. Она вылитая Гленда».
Взгляд Хоба все еще был прикован к тому месту, где исчезла Бронвен, как будто старик надеялся, что она возникнет вновь. Птенец совы пищал в картонной коробке, но Хоб, похоже, не замечал. К моему изумлению, на его здоровом глазе налилась и скатилась одинокая слеза и исчезла на морщинистой щеке.
– Ну что ж, – проговорил он, смущенно вытирая лицо и бросая на меня осторожный взгляд. – Поеду я, пожалуй. Лучше взять оконные стекла, пока день только начался. Начнем после ланча, если вас устроит.
– О-о-о, конечно. – Я пыталась подавить разочарование. Хоб, казалось, стремился уехать. – Сегодня утром я подменяю фотографа, снимаю на свадьбе. К середине дня должна вернуться.
Хоб кивнул, но я видела, что мыслями он где-то в другом месте. Молчание затянулось, пока он все смотрел на дом, потом Хоб встрепенулся, словно стряхивая оцепенение. Отрывисто, слегка махнул рукой и забрался в «Валиант». Взревел, оживая, мотор, и мгновение спустя автомобиль скрылся за вздымающимся облаком пыли.
* * *
Сжимая себя за локти, я долго стояла в резной тени фигового дерева и слушала тихую болтовню птиц. Пейзаж казался таким спокойным, таким мирным. И настолько не совпадающим с бушевавшей во мне бурей сомнений.
– Мам?..
Обхватив себя за бока, я уныло посмотрела на солнце.
«Айлиш Лутц… Та, которую убил… Сэмюэл».
Закрыв глаза, я вызвала в памяти образ Сэмюэла в беседке: внимательные глаза, нерешительная улыбка, напряженность в широких плечах, которая могла означать подавленную злость. Хоб назвал его подлым, злобным. Когда он умер, люди вздохнули с облегчением.
– Мам, без пятнадцати девять. Мы опоздаем!
Я обернулась и увидела стоявшую рядом с «Селикой» Бронвен. Школьная форма помята, но туфли начищены, а блестящие волосы собраны в хвост.
Дочь с ужасом уставилась на меня.
– Ты даже не одета.
Я посмотрела на себя: замызганные шорты из обрезанных джинсов, ветхая футболка, кроссовки на босу ногу. Придется довольствоваться этим. Я прошагала по траве и взяла ключи с протянутой ладони Бронвен. В этот момент я увидела свои пальцы. Ноготь большого был искусан ночью до крови. От привычки кусать пальцы во сне я избавилась много лет назад. Когда же она так незаметно вернулась?
Нырнув в «Селику», я накручивала обороты на холостом ходу, пока Бронвен пристегивалась. Затем я сорвалась с места и помчалась по подсобной дороге, взметая пыль и щебень.
Мне не очень-то нравился образ Сэмюэла, который начал складываться у меня в голове. Я могла понять, что он немало перенес на войне и что его страдания затруднили для него возвращение в гражданское общество, но очень много прошедших войну мужчин и женщин приспособились, жизнь их сложилась успешно. Почему же у Сэмюэла не получилось? Хуже, по моему мнению, был намек на то, что он посчитал женитьбу на Айлиш губительной для своей врачебной карьеры. Было больно, словно он отверг не Айлиш, а меня.
Сжимая руль, я жестко вела машину по неровной дороге. «Селика» норовила выйти из-под контроля на коварном щебне, выскочить в сторону на ухабе и унести нас туда, куда я совсем не хотела.
Опустив стекло, я набрала полные легкие теплого воздуха. У него был вкус сосновой живицы и пыли, травы и цветов. У него был вкус жизни. Я пила его, пытаясь отогнать мысли о смерти, мысли о предательстве и убийстве.
Я по уши влюбилась в Торнвуд. Я не хотела его покидать. Не хотела, чтобы прошлое сорвало меня с места, погнало оттуда, где я чувствовала себя хорошо. Но в доме отчетливо ощущалось присутствие Сэмюэла. Когда-то он ходил по тем же самым половицам, по которым теперь легко ступали ноги моей дочери; он дышал тем же воздухом, которым теперь дышали мы, спал в той самой темноте, которая теперь опускалась на нас. Его кровь текла в жилах моей дочери, а его сны текли в моих снах…
Если он был убийцей, тогда как мы могли оставаться?
По правде говоря, я не могла позволить себе поверить, что Сэмюэл Риордан кого-то убил. А значит, если я хочу здесь жить, придется найти достаточно свидетельств, чтобы доказать – по крайней мере себе, – что он невиновен.
Ухабистая грунтовка закончилось, началось гудронное шоссе. «Селика» перестала подпрыгивать и ехала гладко. Я взглянула на Бронвен. Она сидела в наушниках и смотрела в окно, погруженная в свои мысли.
Я попыталась проглотить вставший в горле комок. Освободиться от тени, которая окутала мое сердце, но она не поддавалась. Более того, понемногу сгущалась.
Айлиш и Сэмюэл казались мне очень реальными. Как члены семьи или близкие друзья. Я начинала волноваться всякий раз, когда думала о них, у меня постоянно возникало ощущение, что я знала их близко и любила. Словно часть меня уплыла в прошлое, чтобы присоединиться к ним, и не в состоянии была вернуться. Я чувствовала себя потерянной… и абсолютно, ужасно одинокой.
Прежде я уже дважды испытала такие чувства. В первый раз – когда умерла тетя Мораг. Во второй – в тот памятный день, когда Тони усадил меня и попытался объяснить, почему он должен жениться на другой женщине.
В третий раз – безумие какое-то – это было сейчас.
* * *
Лицо у меня болело, голова раскалывалась, а редко надеваемые туфли на высоких каблуках убивали. Я жалела, что не могу прекратить улыбаться.
В зеленом парке рядом с рекой Брисбен, под величественными фиговыми деревьями толпилась сотня пришедших на свадьбу гостей. Стояла середина дня. Небо – цвета кобальта, солнце сияет белым. Над головой пронзительно вопили чайки, их крики прорывались сквозь приглушенный шум транспорта, придавая атмосфере праздничность.
Невеста, с бутонами гардении в блестящих темных волосах, красовалась в классическом пышном платье без бретелек. Она была крупной, очень красивой, пышногрудой, с ослепительной улыбкой. Жених время от времени обнимал ее, чтобы поцеловать, или кружил, и тогда мягкие душистые лепестки сыпались на траву вокруг них.
«Вот глупенькие, – думала я. – Любовь долго не длится». Урок был горьким, но благодаря Тони я много лет назад отучилась на отлично и получила степень магистра по разочарованию. Назовите меня циничной, но я никогда не видела, чтобы любовь сделала кого-то по-настоящему счастливым. Самым довольным человеком из тех, кого я знала, была тетя Мораг, и она всю жизнь прожила одна. «Свободна, – как часто заявляла она, – от всех огорчений и разочарований, которые получаешь от любящего мужчины».
Я поправила треногу и отвернулась от свадьбы, наводя телеобъектив на девочек-близнецов, которые во время церемонии осыпáли цветами невесту. Они забрались на нижние ветки соседней сосны, их резкий смех сливался с криками чаек. Обнажив белье и тощие ножки, девочки, чтобы вскарабкаться, подоткнули платья, пышные, из легкой материи, белые под стать наряду невесты. Они возбужденно хихикали, бросали друг в друга веточками, лица их раскраснелись, глаза сверкали, как у птиц. Они опьянели от непомерного количества угощений и сладких напитков, от переизбытка радости.
Затвор зажужжал – идеальные снимки: группа ничего не подозревающих гостей на заднем плане, девочки-цветочницы, примостившиеся на ветках, как пара белоснежных кур, – на среднем, а вокруг них пляшут в струях серебристого солнечного света, словно обрывки яркой бумаги, бабочки.
Затем композиция разрушилась. Группа гостей распалась, а бабочки улетели. Девочки побежали к своим матерям. Я следила за их передвижением через объектив, но створки камеры оставались закрыты.
Солнце юркнуло за облако – или так показалось, – погрузив мир во тьму. Парк исчез. Я очутилась среди темного леса, где высокие эвкалипты царапали беззвездное небо, их ветки наклонялись и раскачивались от ветра. Я увидела тропинку, освещенную луной. Затем – движение. По тропинке бежала девочка, ее тонкие ножки уносили ее от меня. Это была не Бронвен, а маленькая девочка, лет трех или четырех, в старомодном платье – и все равно я почувствовала материнскую тревогу, когда она исчезла в тени впереди меня.
Опасность среди деревьев. Подкрадывается…
Я резко пришла в себя. И вернулась в яркий прибрежный парк с его высоким синим небом и тихим журчанием голосов, вернулась к залитым солнцем деревьям и чайкам и широко текущей реке. Назад в мир, который не был искажен снами, – в мир, где я быстро становилась чужой.
Как только у меня перестали дрожать руки, я собрала свои вещи.
Я сделала более пятисот фотографий – половину во время приема и половину в парке – и была уверена, что в этой мешанине найдется немало удачных. Кроме того, я видела, что невеста проявляет беспокойство. Сегодня началась новая глава в ее жизни; должно быть, ей не терпелось перевернуть страницу и покончить с этим.
Пока я, сжимая побелевшими пальцами треногу и не обращая внимания на бившую о бедро сумку с камерой, шла к «Селике», мои мысли вернулись к Айлиш.
Мечтала ли она о дне своей свадьбы с Сэмюэлом? Придумывала фасон платья, волновалась из-за списка гостей, думала об их совместном будущем? Оживлялась ли – подобно невесте, которую я сегодня фотографировала, – когда рядом стоял ее любимый? И что насчет Сэмюэла, действительно он ее любил или у него были мрачные намерения, продиктованные иллюзиями поврежденного разума?
Я споткнулась, зацепившись каблуком. Тренога со стуком упала на землю. Когда я наклонилась, чтобы поднять ее, сумка качнулась вперед, и я потеряла равновесие. К тому времени, когда доплелась до автостоянки, я вспотела и раскраснелась, настроение упало до нуля.
«Селика» взревела, когда я дала полный газ. Оторвавшись от обочины, я влилась в плотное движение, направляясь к шоссе. Видение в парке напугало меня, но я знала, что это только начало. Мое любопытство выходило из-под контроля; я чувствовала, что оно начинает разгораться, начинает проявляться в первых возбуждающих симптомах неуправляемой одержимости. Мне нужно было знать не просто слухи и сплетни, но факты.
Я взглянула на часы на приборной доске. Хоб и его брат уже полным ходом работают в саду Торнвуда. От Мэгпай-Крика до него добрых полтора часа езды. Я прикинула, что если поеду на пределе, то покрою это расстояние за пятьдесят минут.
Глава 9
Ко времени моего возвращения в Торнвуд солнце палило нещадно. Трава поникла, листья утратили свою непреклонную решимость бороться за жизнь и стали падать на землю, сучки трещали, словно на грани самопроизвольного возгорания. Даже лорикеты казались раздраженными, вопя и перекликаясь друг с другом, собираясь в птичьей купальне и пытаясь охладиться.
Миллеры здорово продвинулись в саду. Лужайка была подстрижена, кусты подрезаны, а назойливые ветки манго бережно удалены.
Я приняла душ и переоделась в более привычную для меня одежду – обрезанные джинсы, майку – и босая стала теперь подглядывать за Миллерами из разных окон, восхищаясь их явной невосприимчивостью к изнуряющей жаре.
Хоб отклонил мое предложение помочь с переноской стекла из его помятого внедорожника. Поскольку брат Хоба, Герни, избегал даже подходить к дому, старику пришлось сделать две ходки. Сначала он принес ящик с инструментами и охапку деревянных обрезков. Затем надел грубые перчатки, чтобы принести стекло. Когда он наконец обосновался в ванной комнате, его лицо порозовело и блестело от пота, белоснежные волосы прилипли к голове.
Хоб принялся счищать оконную замазку вокруг разбитых стекол. После этого вынул все поврежденные куски и завернул их в газету, затем измерил стекла на замену. Я нашла предлог для вмешательства, предложив кофе со льдом, и когда Хоб вежливо посетовал, что уже выпил свою единственную за день чашку, я решила перейти прямо к делу:
– Я все думаю о том, что вы сказали мне сегодня утром.
Он стоял спиной ко мне, поэтому выражения его лица я не видела, лишь мелькнул профиль, когда он наполовину обернулся ко мне.
– Это о чем, деточка?
– Мне любопытно, Хоб. Где нашли тело Айлиш?
Проведя скребком по основанию оконной рамы, Хоб отколупнул еще один кусок замазки, осколки которой дождем полетели на пол.
– Ее нашли в овраге, – спокойно ответил он.
– В Торнвуде?
Он кивнул:
– Ее сильно избили и бросили там умирать.
В моем сознании тихо прозвучал сигнал тревоги, но я не обратила на него внимания. «Узнай подробности, – предупредила я себя, – прежде чем впускать в голову безумные идеи».
– Поэтому вы и думаете, что виноват был Сэмюэл, да? Потому что Айлиш нашли на его земле?
Хоб размышлял, глядя на окно и почесывая щетинистый подбородок.
– Я хочу снять весь подоконник, он прогнил насквозь. Хорошо, что я привез лишние доски.
– Хоб?..
Он вздохнул.
– Какое теперь это имеет значение? Слишком много времени прошло. Перестаньте переживать из-за Сэмюэла Риордана – что он сделал или чего не делал. Торнвуд теперь ваш, это ваш дом. Не позволяйте прошлому выгнать вас отсюда.
Он был прав – это не должно иметь значения; бесполезно раскапывать факты, которые слишком глубоко похоронены. Я все пыталась отказаться от расследования. И терпела поражение.
Пусть Айлиш погибла, а Сэмюэл давно умер, но для меня они стали реальными. Такими реальными, что я, закрыв глаза, могла чувствовать сладкий аромат роз, слышать звонкий смех молодой женщины, гулявшей по саду, и видеть – так ясно, что у меня слезились глаза, – высокого мужчину, ссутулившегося в беседке, его ангельское лицо, освещенное дьявольской усмешкой.
– Далеко идти… до оврага, я имею в виду?
– Он на северной границе, деточка. Назад, в сторону города. Граничит с Национальным парком, отсюда минут тридцать-сорок пешком. Почему вы спрашиваете?
– Ну я планировала пойти с Бронвен на холмы, посмотреть то цветочное место, о котором вы мне говорили. Боверово ущелье, так? Но теперь мне больше хочется посмотреть этот овраг. Возможно, я пойду туда. В это время года освещение идеальное. Могут получиться по-настоящему красивые фотографии заката.
Хоб положил на подоконник деревянный молоток.
– Сейчас в овраге почти не на что смотреть. Чтобы увидеть цветы, придется подождать до весны. Если вам нужны фотографии, то лучше вам с Бронвен выбрать Боверово ущелье. Там лучше вид, и оно безопаснее. И идти тоже меньше, всего двадцать минут.
– Безопаснее?
Рядом с пустым оконным проемом принялся виться шершень, проплывая туда-сюда, вероятно разведывая место для гнезда. Хоб взмахом прогнал его.
– В овраге произошло несколько несчастных случаев, это место хорошо известно своей опасностью: оползнями, провалами почвы, падением деревьев после сильных ливней. – Он смерил меня взглядом. – Вы должны предостеречь Бронвен, сказать ей, чтобы не бродила по бушу одна. Вы же знаете, каковы дети, они забывают обо всем на свете, когда занимаются тем, что им нравится. Вы сделаете это, Одри? Скажете ей?
За окном свистели птицы и гудел шершень, но тишина в ванной комнате – хотя она длилась не более секунды – была взрывной.
– Вы не находите странным, – задумчиво проговорила я, – что Айлиш и ее внучка Гленда Джермен погибли в овраге?
Хоб смахнул с подоконника дорожку из крошек замазки. Его лицо казалось старым – глубоко прорезано морщинами, внутренний свет померк.
– Как я сказал, деточка, за многие годы на долю этого места пришлось немало несчастных случаев, со всеми провалами земли, падением деревьев и тому подобным. Печальная история с Глендой, очень печальная. Но она не первая, кто сделал там неосторожный шаг.
Меня потрясли горечь и бесконечная скорбь, прорвавшиеся в его голосе.
– Вы хорошо знали Джерменов, Хоб?
Шершень все гудел в тишине, устремляясь к пустому окну, затем отступая, словно в нерешительности. Где-то внизу в саду закричала одинокая птица-бич.
– Ну как? – замялся Хоуб. – Я видел их в городе от случая к случаю, но нет, я не могу сказать, что много с ними общался.
Он отвернулся и принялся вычищать оконную раму. Через некоторое время он скосил здоровый глаз и увидел, что я все еще наблюдаю за ним. Со вздохом Хоб положил инструменты на подоконник.
– Ну не беда ли? Вам исполняется шестьдесят, и память начинает испаряться, как речушка в засуху. – Он покачал головой и, прошаркав мимо меня, остановился в дверях ванной комнаты и оглянулся. – Забыл в машине этот дурацкий спиртовой уровень, придется еще раз идти. Пожалуй, в итоге я все же выпью вашего холодного напитка, – добавил он. – Думаю, к моменту возвращения я весь потрескаюсь.
Он вышел на заднюю веранду и исчез, спустившись по ступенькам. Я бросилась к окну в гостиной и увидела, как он шел к подсобной дороге напрямик через лужайку.
Герни шарил в заднем отсеке пикапа. Поднял голову, когда подошел его брат. Хоб, сгорбившись, прислонился к автомобилю. Вытащил большой носовой платок из заднего кармана брюк, вытер лицо, высморкался. Герни, должно быть, о чем-то спросил его, потому что Хоб покачал головой, а затем уставился на долину. Герни стоял около пикапа, ломая руки, переминаясь с ноги на ногу. Даже с моего наблюдательного пункта у окна гостиной было видно, как он расстроен. С искаженным тревогой лицом он посматривал то на дом, то на Хоба.
– О Хоб, – прошептала я, – что же такое сейчас случилось?
Сегодня утром, на насыпи, откуда открывался вид на торнвудский заросший сад, Хоб признался в любви к окружающей местности. Он нарисовал картину холмов, покрытых дикими цветами, и рыскающих в поисках добычи доисторических чудовищ, рассказал о своем детском восторге перед давно потухшим вулканом. Он с уважением говорил о здешних аборигенах и, кажется, понимал их связь с этой землей. Мое отношение к нему потеплело после этого, я почувствовала себя обязанной довериться ему, как хотела довериться Кори.
И однако же он только что солгал.
Я вспомнила его шок этим утром при виде Бронвен, вызванный, очевидно, ее сходством с Глендой. Эмоции настолько захлестнули Хоба, что он проронил слезу. И тем не менее только что, отвечая на мой вопрос, он отрицал знакомство с Джерменами и бросился прочь, как вспугнутая ящерица.
Я хмыкнула.
«Все страньше и страньше»[8], как сказала Алиса, когда свалилась в кроличью нору.
* * *
– Опять пицца?
– Я думала, ты любишь пиццу.
– Люблю, мама. Не пойми меня неправильно, я не жалуюсь – просто читаю знаки.
Я уселась на диван, взяла тарелку и положила себе кусок пиццы с ветчиной и ананасами.
– Какие знаки?
– Что все дело во времени. Одна из нас слишком чем-то занята, чтобы озаботиться готовкой. В разгаре какая-то тайная деятельность. Одна из нас что-то скрывает. И это не я.
Я замерла, не донеся кусок до рта. Вернула пиццу на тарелку и посмотрела на дочь. Она откусывала от треугольника с сыром и помидорами, с невинным видом уставившись в телевизор. Изображая интерес к сюжету о термитах, который она уже видела миллион раз или больше.
– Скрывает что?
Она пожала плечами, глядя в экран:
– Это ты мне скажи.
У меня засосало под ложечкой, когда я представила, как Бронвен обнаруживает старый револьвер, который я заперла в туалетном столике Сэмюэла. Вертит его, тщательно осматривает коробку с боевыми патронами… Внезапно мне стало плохо. Почему я от него не избавилась, не отдала в полицию, как собиралась сначала?
– Что ты нашла? – осторожно спросила я.
Бронвен откусила очередной кусочек, прожевала и проглотила.
– Давай, мам, сознавайся. Возможно, тайное времяпрепровождение? Маленький личный проект? Которым ты пока не готова поделиться?
Значит, не оружие. Перед моим мысленным взором проследовал строй других улик: чистые простыни, которые я постелила на кровать Сэмюэла; тщательно выстиранное вручную покрывало и мои любимые наволочки; стопка моих книг на столике у его кровати; фото Сэмюэла, красующееся в рамке, отчищенное и снабженное новым стеклом; письмо Айлиш, засунутое в верхний ящик…
Я пожала плечами:
– Прости, я не совсем тебя поняла.
Бронвен разглядывала корочку пиццы с видом заплечных дел мастера, который смотрит на свою очередную жертву. Казалось, она обдумывает, как лучше все выведать: медленно и с болью или быстро, используя преимущество внезапности?
– Мам, – рассудительно заявила она, все еще изучая корочку, – думаю, я стану вегетарианкой, как Джейд. Это более гуманно плюс наносит гораздо меньший урон планете. Можно?
Значит, это будет медленно и болезненно. Резко поставив тарелку на журнальный столик, я подобрала под себя ноги и повернулась лицом к Бронвен.
– Что ты имеешь в виду, говоря про тайное времяпрепровождение?
Ослепительная улыбка озарила ее лицо.
– Похоже на голос больной совести.
– Вообще-то это голос раздраженной матери, которая слишком устала, чтобы играть в игры.
– Как скажешь.
– Не крути, Брон, что ты нашла?
С ненужной медлительностью поставив тарелку, она пошарила под журнальным столиком и вытащила небольшую стопку учебников в комплекте с DVD-дисками.
У меня упало сердце, когда я узнала обложки книг, но в то же время от облегчения закружилась голова.
– А-а-а, это.
– Похоже, я не единственная, кто учит язык жестов, – торжествующе заявила Бронвен, бросив диски на шезлонг, стоявший между нами, и оставив себе учебники, чтобы ознакомиться с названиями. – «Время для жеста», «Легкий способ научиться языку жестов»… И вот этот – «Упражнения для жестикуляции. Одиннадцать веселых детских песен». – Она внимательно посмотрела на меня, блестнув глазами. – Ну ты даешь, мам, детские песни?
– Я подумала, что лучше всего начать с чего-то простого, – натянуто проговорила я. – В любом случае не понимаю, что в этом такого, это же только…
Бронвен радостно защебетала:
– Ой, мама, значит, тебе все же нравится папа Джейд, да?
Я сердито отвернулась к экрану телевизора.
– Я лишь пытаюсь проявить вежливость, потому что он глухонемой. Кроме того, в субботу он приедет на пикник, и мне будет неприятно, если он почувствует себя выключенным из общества из-за плохого слуха. Кто-то же должен с ним говорить.
– Кто-то? Ты имеешь в виду, помимо меня, Джейд и тети Кори?
– Это простая вежливость, Брон. И потом, если вы четверо заведете беседу на языке жестов, как, по-твоему, я в ней поучаствую без знания этого языка?
– Значит, ты говоришь мне, что он тебе не нравится? Что ты идешь на все эти трудности по изучению языка жестов, только чтобы не чувствовать себя лишней?
Я взяла тарелку, откусила немного пиццы и сделала вид, что увлечена телепередачей. Ведущий Дэвид стоял, прислонившись к гигантскому термитнику, и давал оператору указание войти туда. Внезапно весь экран заполонили оживленные белые тельца, сбивающиеся в кучи и шевелящиеся, как… термиты.
– Ма-ам? Перестань меня игнорировать. От этого у тебя еще более виноватый вид.
Я вздохнула.
– Он красивый, довольна? Просто не мой типаж.
– Почему?
– Просто он кажется… не знаю, немного диким.
Бронвен фыркнула.
– Мам, ты смешная, мне так и хочется сказать…
– Не смей!
Она покачала головой:
– Позволь мне угадать, папа был для тебя единственным мужчиной?
– Что-то вроде этого.
– Понимаешь, мама, однажды я вырасту и покину дом, и ты останешься одна. Тебе будет одиноко, если ты не сможешь забыть папу и жить дальше.
Я смотрела на нее, поймав себя на том, что пытаюсь анализировать ее слова – нет ли в них намека на боль или тени невыплеснутой злости. Пытаюсь уловить в ее непринужденно прозвучавшем замечании скрытый крик о помощи. Лицо ее было спокойным, темно-голубые глаза – неподвижными, как вода.
– Жить дальше, может быть, – сказала я. – Но мы не должны забывать.
– Я не говорю, что я его забуду. Только то, что его должна забыть ты.
Отодвинув в сторону учебники по языку жестов, Бронвен взяла пульт. Чуть прибавив звук, она удобно уселась и возобновила медленное уничтожение пиццы.
* * *
Она была права. Я действительно кое-что скрывала. Только не романтическую интригу, тесно связанную с изучением языка жестов. По правде говоря, как я могла думать о каком-то мужчине, когда моя голова была забита Сэмюэлом и Айлиш?
Помыв посуду, я поспешила в свою студию в дальнем крыле дома. Длинная узкая комната была когда-то частью веранды, которую обшили деревянными панелями, оставив ряд высоких окон, и превратили в террасу на солнечной стороне. Вскоре после переезда я потратила несколько дней, отскребая пол, отмывая окна и освежая стены кремовой краской. Обставила я ее просто: ящики для проявки фотографий, алюминиевая лампа на треноге, заветный имзовский стул[9] и старинный письменный стол. Под окнами в противоположном конце комнаты я устроила громадный стол для рисования, использовав пару прочных козел, а для столешницы – дверь из дубовой древесины вторичной переработки. Я притащила даже свои старые кюветы для проявки и увеличитель. В цифровом мире они казались динозаврами, но я любила их присутствие рядом – они напоминали мне о тех головокружительных, пьянящих днях в начале моего романа с фотографией.
Включив ноутбук, я подсоединила модем и вышла в Интернет. Отправив запрос, я стала ждать, пока загрузится сайт Государственной библиотеки Квинсленда. По карточке Бронвен, разрешающей доступ в публичную библиотеку, я создала аккаунт, потом вышла по ссылке на сайт «Исторические газеты Австралии». Там нашлось всего несколько квинслендских газет, самой ранней из которых была «Мортон-Бэй курьер» от 1846 года. Я щелкнула на более позднюю «Курьер мейл», на даты между 1933-м и 1954 годами. Сайт загружался целую вечность. Когда страница открылась, я увидела, что пользы от нее никакой: или после 1939 года газета не существовала – что было маловероятно, – или ее еще не перевели в цифру и не поместили на сайт.
Вернувшись к «Историческим газетам Австралии», я набрала несколько ключевых слов: «Квинсленд» в сочетании с «1946», «Мэгпай-Крик», «процесс по делу об убийстве». Моя надежда слабела, пока я прочесывала по ссылкам девятнадцать страничек с возможными статьями – «Зверства японцев», «Военнопленных морили голодом и били», «Смерть бродяги», – но не нашла ничего, хотя бы отдаленно связанного с тем, что требовалось мне.
Уже собираясь сдаться, я предприняла последнюю отчаянную попытку и набрала: «Айлиш Лутц». Не прошло и нескольких секунд, как я всматривалась в лоскутное одеяло нечеткой газетной страницы. В центре, в обрамлении статей и рекламных объявлений, помещался один абзац выделенного текста. Сначала я удивилась – он был даже не из квинслендской газеты. Затем увеличила абзац и рассмотрела повнимательнее.
«Аргус» (Мельбурн, штат Виктория: 1848–1954)
Понедельник, 18 марта 1946 года. С. 1
МУЖЧИНА АРЕСТОВАН ЗА УБИЙСТВО
БРИСБЕН, понедельник. – После тридцатичасового полицейского расследования под руководством субинспектора Б. Макнэлли вечером в пятницу был арестован мужчина по обвинению в убийстве мисс Айлиш Лутц, двадцати двух лет, чье тело было обнаружено рано утром в четверг на поляне в буше в пятнадцати милях от Мэгпай-Крика, штат Квинсленд.
Полиция обнаружила следы яростной борьбы, а также несколько зубов человека и пятна крови там, где жертва пыталась уползти с места преступления. Вскрытие трупа, проведенное в пятницу, показало, что мисс Лутц умерла от ран, нанесенных ей ударами по голове и телу.
Вскрытие показало, что мисс Лутц били деревянным предметом – возможно, спицей колеса или битой.
Я вскочила с кресла и помчалась по коридору. Письмо Айлиш уже отпечаталось в моей памяти, но я хотела удостовериться. Ворвавшись в дальнюю комнату, я выхватила письмо из ящика прикроватного столика и развернула, подойдя к свету.
Айлиш написала это письмо в среду, 13 марта 1946 года, прося Сэмюэла встретиться с ней в их тайном месте. На следующее утро – в четверг – ее тело нашли на поляне в буше рядом с оврагом.
Вернувшись за письменный стол, я застучала по клавиатуре. Стукнула по клавише ввода и стала ждать, уверенная, что ничего не найдется. Сначала повезло, потом – пустышка, ведь так это и бывает?
Видимо, нет.
«Сидней морнинг геральд» (штат Новый Южный Уэльс: 1842–1954)
Среда, 20 марта 1946 года. С. 3
АРЕСТОВАН ГЕРОЙ ВОЙНЫ
БРИСБЕН, среда
Вернувшийся с войны герой доктор Сэмюэл Риордан предстал в среду перед полицейским судом Мэгпай-Крика, штат Квинсленд, по обвинению в убийстве мисс Айлиш Лутц, двадцати двух лет, цветной женщины, дочери лютеранского пастора, преподобного Якоба Лутца.
Мисс Лутц была найдена с проломленной головой в полумиле от поместья доктора.
Несколько свидетелей выступили с заявлением, что видели доктора Риордана и мисс Лутц, которые ссорились на главной улице утром в прошлую среду. Другой свидетель подтвердил, что он и доктор Риордан расстались поздно вечером в среду. Свидетель и доктор выпивали. Подозреваемый заявил о своей невиновности на предварительном слушании. Он останется под стражей до нового слушания в Верховном суде в Брисбене в июне.
Я откинулась на стуле, неровный газетный текст вспыхивал в моем мозгу. Ссора на улице. Выпивали. Убийственное поведение, даже без письма Айлиш, в котором она просит Сэмюэла о встрече в ту ночь, когда она умерла.
Надежда найти конкретное доказательство невиновности Сэмюэла быстро сходила на нет. Ее место занимало нарастающее ощущение опасности.
Уйдя со страницы, я щелкнула на еще одну ссылку.
«Сидней морнинг геральд» (штат Новый Южный Уэльс: 1842–1954)
Пятница, 14 июня 1946 года. С. 4
СУДЬЯ ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ О НЕДОСТАТОЧНОСТИ УЛИК В ДЕЛЕ ОБ УБИЙСТВЕ
БРИСБЕН, пятница
Обвиняемый, герой войны доктор Сэмюэл Риордан, тридцати лет, из Мэгпай-Крика, штат Квинсленд, был освобожден вчера в Верховном суде Брисбена, после того как судья решил, что против него нет достаточных улик.
Доктор Риордан находился под судом по обвинению в убийстве в марте мисс Айлиш Лутц, дадцати двух лет, также из Мэгпай-Крика. Сегодня судья Э. Редмонд освободил присяжных от их обязательств после того, как они вынесли решение о недостаточности улик для продолжения дела против доктора Риордана.
Ни в одной из статей не было упоминания о ребенке, что удивило меня. Подозревала ли Айлиш, что ее встреча с Сэмюэлом может окончиться плохо, и поэтому передумала и не взяла дочь, чтобы познакомить с ним? Судить я могла только по письму, но, кроме сожаления Айлиш о ссоре, в нем не было ни намека на сомнения или тревогу.
Я сделала новый запрос – «убийство» и «Мэгпай-Крик». Компьютер выдал четырнадцать страниц потенциальных ссылок. Я постепенно исключала их, пока не осталась только одна. Заметка была короткой, подсказав мне, что дело прекратили.
«Меркурий» (Хобарт, штат Тасмания: 1860–1954)
Вторник, 17 сентября 1946 года. С. 13
УБИЙЦА ЖЕНЩИНЫ НЕ НАЙДЕН
БРИСБЕН, понедельник
До сегодняшнего дня полиция не вышла на след убийцы мисс Айлиш Лутц, двадцати двух лет, которую избили и бросили, приняв за мертвую, в Мэгпай-Крике, штат Квинсленд, в марте прошлого года.
Очень долго я сидела, разочарованно уставившись на экран.
Я отправилась на поиски доказательств невиновности Сэмюэла, но вместо этого нашла новые подтверждения.
Кори сказала, что дело против Сэмюэла закрыли, потому что его отец дружил с судьей. Власть и влияние – товары ценные. Достаточно шепнуть, и важной улики не заметят. Хуже, я знала, что в 1946 году были люди, которые посчитали бы смерть молодой женщины-полукровки не заслуживающей особого внимания. Несколько сделанных в нужный момент лживых высказываний, «случайный» намек прессе, и все – неудобное дело ловко исчезнет с радаров.
Я размышляла над распечатками, пытаясь прочитать между строк.
Мне нестерпима была мысль, что Айлиш убил человек, которого она любила. Не потому, что я обязательно хотела невиновности для Сэмюэла, не потому даже, что хотела счастливого конца их истории. Но потому, что умереть от рук любимого человека – чудовищно. Видеть на его лице намерение обидеть тебя, уничтожить. Не просто потерянную любовь, не просто безразличие или ненависть, но взгляд, который говорит: «Ты – моя, и я могу сделать с тобой все, что захочу… А поскольку ты так мало для меня значишь, твоя боль доставит мне огромное удовольствие…»
Дрожь в темноте. Невысказанный шепот.
Не Сэмюэл. Ради нее, пусть это будет не он.
Но если не Сэмюэл, тогда кто?
Со времени смерти Айлиш прошло шестьдесят лет. Если полиция не сумела найти ее убийцу тогда, по горячим следам, какой шанс у меня найти что-нибудь сейчас?
Айлиш умерла, и тот, кто оборвал ее молодую жизнь, тоже умер. Смысла в поисках не было, поскольку я уже знала, что ничего не найду.
И все же как я могла ее бросить?
Были моменты – когда я сидела в обветшавшей старой беседке, или лежала на кровати Сэмюэла, или ловила призрачный аромат розы, витавший в теплом воздухе, – ощущения мною такой близости с Айлиш, что с трудом различала, где кончается она и где начинаюсь я. В этой одержимости не было смысла, но каким-то образом отрывочные сведения, которые я о ней узнавала, становились частью моего существа. Каждая новая подробность ее истории пугала меня, тревожила и необъяснимо возбуждала. Иногда мне нравилось представлять, что ее сердце бьется во мне, наполняя меня чувствами, о возможности которых я никогда не думала. Во всяком случае, не для себя. Айлиш показала мне, что такое – глубоко любить и верить в такую же полную и безусловную ответную любовь.
Только сейчас я вынуждена спросить: не было ли все это ложью?
Я закрыла глаза, затем пожалела об этом. Ко мне пришел новый образ Айлиш: она лежит на краю тропинки в буше, земля вокруг нее, засыпанная листьями, в полосах теней, заляпана кровью.
Несмотря на свои раны, девушка умерла не сразу. Она попыталась покинуть место, где на нее напали, укрыться в темноте. Она ползла сквозь бесконечную ночь, балансируя на той грани, откуда уже нет возврата, переживая сырой рассвет, покрываясь росой, чувствуя прикосновение лапок насекомых к своей остывающей коже, наблюдая, как буш вокруг нее оживает, когда сама она готовится встретить смерть. И она ждала. Терпеливо, потому что время больше не тяготило ее. Ждала того, кто придет и найдет ее.
Ждала Сэмюэла.
Глава 10
Айлиш, март 1946 года
Аромат свежеиспеченного хлеба подманил меня к окну пекарни. Сегодня там продавали сконы и даже маленькие, с хрустящей корочкой, кексы с изюмом, и я мгновение постояла, мысленно пересчитывая монеты в кошельке.
Для среды главная улица Мэгпай-Крика была оживленной. Молодые матери тащили сумки с продуктами или вели за руку малышей. Женщины постарше собирались у обочины поболтать. Многие умудрялись выглядеть красиво, несмотря на затянувшийся дефицит, и я по собственному опыту знала, каких усилий это стоило. Подобно мне, они собирали драгоценные порции выдаваемого по карточкам сахара, чтобы сварить сироп-лосьон для укладки волос, и румянились свекольным соком. Те, что посообразительнее, кромсали старые шторы и шили из них платья по выкройкам из «Вименз викли», тогда как мы, остальные, все еще латали, штопали и чинили одежду, купленную до войны.
Мужчины, на контрасте, выглядели какими-то истощенными, более обносившимися: брюки на них лоснились, у башмаков стоптались каблуки и протерлись подошвы. Радостный свет победы ярко сиял в большинстве сердец, но газеты и радио были полны плохих новостей. Военнопленные, концентрационные лагеря в Европе, суды над военными преступниками и опустошение, принесенное сброшенными на Японию двумя атомными бомбами. Горе, страх и боль разлуки изменили всех нас, это коснулось каждого.
Вокруг было много военных, одни на костылях и с повязками, другие – худые, с запавшими глазами, смотревшие на все с любопытством и увлечением, словно впервые видели родной город. Я перестала вглядываться в их лица. Перестала надеяться. Привыкла направлять свои мысли на простые, не требующие усилия вещи.
Как хлеб и кекс. Которые, несмотря на их соблазнительные запахи, проиграли схватку с моей бережливостью. Я прошла еще немного по улице, но снова остановилась уже перед витриной аптеки. Что со мной? Обычно я быстро покупала продукты и торопилась домой к Лулу и папе, но сегодня по какой-то причине медлила, как будто ничего лучше хождения по магазинам в моей жизни не было.
Множество баночек и бутылочек с разноцветными порошками было привлекательно расставлено в витрине аптеки. Куски ровно отлитого мыла, латунные весы, медная ступка с пестиком. Я вспомнила грубое мыло, которое делала всю войну: готовила по старинке варево из козьего жира и воды, фильтровала сквозь древесную золу, с отдушкой из жасмина, который собирала в овраге. Затем оно затвердевало на решетке в прачечной. Работу свою оно делало, но руки у меня стали красными и шершавыми. Я рассматривала красивые, завернутые в бумагу куски мыла на витрине, прикидывая, могу ли ужать свой бюджет ради такой блажи.
– Здравствуй, Айлиш.
Я застыла. Этот голос. Круто повернувшись, я посмотрела на мужчину, который заговорил со мной, затем сникла. Не он, не тот, кого я надеялась, благодаря какому-то невозможному чуду, увидеть перед собой. Незнакомец, костлявый мужчина с запавшими глазами и неопрятной щетиной. Форма поношенная, сам худой, изнуренный. Острые кости торчат под желтоватой кожей, будто хотят прорваться наружу.
– Айлиш, это я.
– Простите, я не…
Слова, которые я собиралась произнести, замерли у меня на губах. Его голос. Я узнала его голос. Затем, пока я вглядывалась в измученные черты, с них слетела маска незнакомости, и они сложились в лицо, которое я когда-то знала так же хорошо, как свое собственное. У меня чуть не остановилось сердце, воздух не проходил в легкие.
– Сэмюэл?..
Он смотрел на меня, не потрудившись кивнуть или обрадоваться тому, что я его узнала. Просто смотрел, словно захваченный сменой эмоций на моем лице: недоверие, неуверенность, а затем… надежда.
Я позволила себе редкую роскошь – улыбку. Когда он улыбнулся в ответ – получился призрак чарующей полуулыбки, некогда пленившей мое сердце, – исхудалость, шрамы и выпирающие кости отступили на второй план, и я впервые ясно увидела своего любимого Сэмюэла.
– Это ты.
Он кивнул.
Не в силах сдержать радость, я бросилась к нему, собираясь обнять его за шею и, не обращая внимания на посторонних, со всей любовью приветствовать его возвращение домой, о котором я так долго мечтала.
Сэмюэл вздрогнул и отступил.
– Значит, у тебя все хорошо? – напряженно спросил он.
Я застыла на месте. Мимо нас шли люди. Пророкотал легковой автомобиль, оставляя за собой пыльный шлейф.
– Да, – выдавила я, преодолевая шок, – довольно хорошо.
У меня вдруг зачесалась шея, потребовалось поправить юбку, я ощутила, что в туфлю попал камешек. Я заставляла себя смотреть куда угодно, только не на Сэмюэла, чтобы скрыть потрясение и замешательство. И однако я не могла оторвать от него взгляда.
Сэмюэл рассматривал меня своими запавшими глазами.
– Как Якоб? – равнодушно спросил он. – Все еще откалывает свои штучки?
– Он болел, – с таким же равнодушием ответила я, – но сейчас поправляется.
Это было смехотворно. Лучше бы Сэмюэл погиб, чем такое. Лучше бы я умерла, чем выносить этот холодный прием. Лучше было бы, в конце концов, потерять его. По крайней мере, тогда мои воспоминания о нем оставались бы сладкими. Мне вспомнилась та давнишняя ночь в хижине, когда он любил меня так горячо и был полон такой решимости защитить. Наши ласковые слова, наша страсть, кровать в лунном свете и теплая, пахнущая розами тьма. Не лучше ли помнить мужчину, которого я когда-то любила и считала пропавшим, чем видеть этого чужака с холодными глазами?
– Ты ни разу не приехала повидать меня, – проворчал он.
Я захлопала ресницами, не понимая.
– В больнице «Гринслопс», – пояснил он. – Я писал тебе, сообщил, что лежу в госпитале, но ты не ответила ни на одно мое письмо. Я даже звонил в феврале на почту, но ты не откликнулась. – Он поджал губы, словно ничего больше не желая говорить.
– О чем ты, Сэмюэл? О каких письмах?
Он покачнулся.
– Ты же обещала, Айлиш. Ты обещала писать, но ни разу не написала. Как ты могла так меня игнорировать после… после… – Он прочистил горло. – Мы говорили о свадьбе, о совместном будущем. А потом ты не обращала внимания на мои письма, не отвечала. Как будто все, что было у нас с тобой, вдруг потеряло для тебя значение. Как будто я потерял для тебя значение.
Прохожие теперь уже уставились на нас, открыто проявляя любопытство. Досадная слеза налилась в уголке глаза, и пока я смахивала ее, смысл слов Сэмюэла наконец-то проник в мой взбудораженный мозг.
– Ты писал?
Он кивнул, наклоняясь ближе:
– При каждом удобном случае, иногда каждый день. Порой ни разу за несколько недель. Потом, в сорок втором, когда пал Сингапур… – Он вытер рот и бросил взгляд вдоль улицы. – После этого писем не было. Думаю, ты слышала о японских лагерях? Как невыносимо было застрять там, пока остальная Австралия побеждала в войне. От этого я чувствовал себя хуже чем просто бесполезным.
– Я не получила ни одного твоего письма.
Он посмотрел на меня равнодушными, пустыми глазами и продолжал, словно я и не говорила.
– Меня репатриировали в декабре. Из «Гринслопса» я написал тебе, сообщил, что вернулся. – Он поднял трость, которую я не заметила. – Я бы приехал к тебе раньше, но был немного не в форме. Подумал, что, если пошлю письмо, ты и навестишь меня.
– Сэмюэл…
Он моргнул.
– Что?
– Я не получила ни одного твоего письма. Ни единого. Ничего не приходило из Малайи, и из лагеря никаких открыток от Красного Креста. И ничего из госпиталя. – Страшная мысль пронзила мой мозг. – Я отправила тебе кучу писем. Ты хоть одно получил?
Он покачал головой.
– А посылки или открытки?
– Нет.
– Тогда где… – Вопрос замер у меня на губах.
В конце войны Красный Крест обнаружил тысячи писем и посылок, гнивших на складе в одном из японских лагерей. А ведь они могли утешить бесчисленных пленных и дать им надежду. Содержимое посылок растащили, охрана съела еду, выкурила сигареты, выбросила фотографии и записки со словами поддержки от любимых людей, не отдав предполагаемым получателям даже открыток.
Могло ли это объяснить, почему Сэмюэл ничего от меня не получал? Возможно. Но куда же делись письма, которые я написала до того, как он попал в плен? Бесконечные сообщения о жизни в доме и о том, как я по нему тоскую? Фотографии Лулу, кексы, носки ручной вязки, маленькие кусочки мыла? И почему письма, которые писал он – иногда каждый день, по его словам, – так и не дошли до меня?
– Ты сказал, что звонил на почту. С кем ты разговаривал?
– С младшим сыном Клауса Джермена, Кливом. Он сказал, что, как только отработает смену, съездит на Стамп-Хилл-роуд и передаст тебе мое сообщение. – Сэмюэл испытующе посмотрел на меня. – Ты не получила этого сообщения?
– Должно быть, он забыл. Сэмюэл, да если бы я знала, что ты в госпитале, меня ничто не остановило бы.
Сэмюэл сглотнул. Лед в его глазах подал признаки таяния. Из голоса, когда он заговорил, исчез оттенок злости.
– Сейчас, минуту назад, ты меня не узнала, да?
– Да.
– Я настолько изменился?
Прошло мгновение, прежде чем я смогла заговорить.
– Это правда, – сказала я наконец, – ты изменился. Последние несколько лет на всех наложили отпечаток. Но, Сэмюэл, пришло время оставить войну позади и жить дальше. – Я осмелилась взять его за руку, быстро пожать его пальцы, поразилась, какими они были холодными. Я отпустила его руку. – У меня теперь маленькая девочка. Ее зовут Луэлла… Я называю ее Лулу. Я ей все о тебе рассказала.
– Обо мне?
– Конечно, Сэмюэл. Всякий раз, когда я смотрю в ее красивое личико, я вижу тебя. У нее твои глаза и улыбка, и она очень умненькая. Щекастая тоже, совсем, как ты… – «Был», – чуть не сказала я, словно Сэмюэл остался в прошедшем времени. Но так я привыкла о нем думать: мужчина, которого я потеряла на войне. Мужчина, который оживал в моих мечтах, но обитал лишь в серой стране теней прошлого.
Сэмюэл, видимо, не заметил моей оплошности. Медленная улыбка преобразила его изнуренное лицо. Отстраненность в его глазах исчезла, и там появилось что-то другое: искра почти радости, смешанной с изумлением. Он кашлянул.
– Луэлла, Лулу. Я всегда любил это имя. Можно мне, если ты не против… О черт, Айлиш. Я так хочу ее увидеть. Как думаешь, я могу вас навестить? Сегодня днем не слишком скоро?
Наконец-то надежда. Проблеск моего прежнего Сэмюэла, того, кто обнимал меня всю ночь в хижине поселенцев и отгонял моих призраков. Мой любимый, которого я оплакивала и за которого молилась каждую минуту с тех пор, как он забрался в тот старый красный драндулет четыре с половиной года назад и исчез из моей жизни. Во мне стала расцветать улыбка, огненный шар любви, который прокладывал себе путь наружу, заставляя светиться все мое тело.
– Разумеется, ты должен прийти…
Тут как раз мимо прогрохотал грузовик, из его изношенной выхлопной трубы с громким хлопком вылетело черное облачко. При этом звуке Сэмюэл отшатнулся, схватил меня за руку и потащил к дверям аптеки, оглядываясь в поисках источника внезапного шума. Грузовик, громыхая, уехал, и Сэмюэл повернулся ко мне. Его и без того серое лицо сделалось белым как бумага и покрылось испариной.
– Сэмюэл?..
– Все нормально, – быстро сказал он, выпуская мою руку, провел по своей груди дрожащими пальцами, закивал, как будто успокаивая меня. – Просто стал немного… – Он вытер рот. – Немного пуглив.
Он устремил взгляд вдоль улицы. Все больше и больше людей с любопытством смотрели на нас, некоторые оборачивались на ходу, одобрительно кивая при виде формы Сэмюэла. Раз или два кто-то из мужчин похлопал его по спине, несколько голосов обратились к нему:
– Добро пожаловать домой, приятель.
– Молодчина.
– Твой отец гордился бы тобой, Сэмюэл…
Я расхрабрилась и снова взяла его за руку. На этот раз я сжала его пальцы и не выпускала.
– Разумеется, ты должен нас навестить, – продолжала я. – Сегодня днем я везу папу в Ипсвич к врачу, но завтра день его рождения, мы планировали маленькую веселую вечеринку, ничего особенного, только мы втроем. Хочешь прийти? Пожалуйста, соглашайся, папе будет так приятно тебя увидеть, а Лулу… ну она будет на седьмом небе.
Сэмюэл ответил на мое пожатие. Крохотное, почти незаметное проявление душевного тепла, но мое сердце раскрылось, как лепестки большого мягкого цветка. Все будет хорошо. Сэмюэл жив, он дома. И по-прежнему меня любит, я знала, что любит, я поняла это по нежному пожатию, а во взгляде его темных глаз, устремленных на мое лицо, ясно читалось страстное желание. Я не собиралась забегать вперед, но сладостные слова уже складывались у меня в голове. «Мы будем одной семьей, – стремилась сказать я. – Наконец-то мы будем настоящей семьей. Ты, я и Лулу вместе, как я мечтала. Мы поженимся и оставим весь этот печальный период военного времени в прошлом».
Сэмюэл прищурился.
– А ты, Айлиш? Ты рада меня видеть?
Я уставилась в дорогое мне лицо. Рада? Разве он не догадался, как я по нему скучала, как болела от тоски, которая терзала меня, пока его не было рядом? Как я волновалась, печалилась, как мне было одиноко? Конечно, нет, как он мог? Письма, которые я ему написала, вероятно, до сих пор плесневели на каком-то забытом лагерном складе.
Я улыбнулась.
– Ты даже не представляешь, как я рада.
Но на сей раз Сэмюэл не улыбнулся в ответ. В нем произошла перемена. Знакомый мне Сэмюэл исчез, вернулся холодный чужак. Его глаза снова стали пустыми, складка рта мрачной. Высвободив из моей руки свои пальцы, он крепко схватил меня за запястье.
– Ты меня даже не узнала.
Я напряглась.
– Сэмюэл, отпусти. Мне больно.
– Ты встретила кого-то другого, Айлиш? Сознайся, да?
– Нет! Не говори глупостей, Сэмюэл.
– Настоящая причина в этом, верно? – Он дернул меня за руку. – Поэтому ты не писала мне, поэтому так и не приехала повидаться в «Гринслопс».
– Прекрати, Сэмюэл, ты делаешь мне больно!
Я попыталась вырваться, но он держал крепко.
– И эта девочка, она же не моя, так? Не может быть моей, я отсутствовал четыре года… За кого ты меня принимаешь, Айлиш, за дурака?
– Ты ошибаешься! – воскликнула я, чувствуя любопытные взгляды вокруг нас, понимая, что мы устраиваем сцену, но слишком расстроенная, чтобы обращать на это внимание. – Я писала. Не знаю, почему ты не получил ни одного моего письма! Никого другого нет, Сэмюэл. Как ты можешь так говорить? Всегда был только ты. А Лулу… Конечно, она твоя дочь, ей почти четыре года, зачем мне вообще говорить тебе о ней, если она не твоя дочь? Пожалуйста, Сэмюэл, ты не очень хорошо себя…
– Достаточно хорошо, чтобы отличить ложь от правды. – Он выпустил мое запястье, будто прикосновение ко мне было ему противно. Затем добавил спокойно, пугающе: – Ты об этом пожалеешь. Видит бог, Айлиш, ты пожалеешь.
Его губы шевелились, словно он хотел сказать что-то еще, но вместо этого издал какой-то звериный, утробный звук. Рык, всхлип. Повернувшись, он захромал прочь по улице, тыча тростью в тротуар, ссутулившись, – высокий истощенный медведь в человеческом обличье, не обращающий внимания на прохожих, освобождавших ему путь.
Глава 11
Одри, январь 2006 года
Лютеранская церковь стояла у дороги, ведущей в аэропорт, на северо-запад от города. Она возвышалась на плато, покрытом редкой побуревшей травой, – крохотное беленое здание под высокой крышей и с двумя одинаковыми кипарисами, охраняющими вход. Под одним из кипарисов, прислоненный к нему, сиял винтажный мотоцикл.
Оставив «Селику» на обочине, я поспешила по траве к маленькому кладбищу, спрятавшемуся позади церкви. Я миновала несколько современных участков – плоские мраморные плиты, утопленные в сухую землю, невидимые, если только не стоять над ними. Более старые участки занимали самый дальний угол владения, за проволочным забором и под сенью красных камедных деревьев. По другую сторону находился загон с высохшей люцерной, населенный призрачно-белыми коровами брахманской породы. Позади них, вдалеке, сгрудились лилово-синие вулканические горы.
Я не спеша пробиралась между могилами, иногда останавливаясь, присаживаясь на корточки и дотрагиваясь до истертых имен, дат, эпитафий. Я захватила с собой старенькую «минолту», но теперь съемка здесь показалась мне непрошеным вмешательством – даже едва слышное жужжание затвора фотообъектива прозвучало бы неуместно. Утро было чересчур безмятежным, могилы – слишком мирными. Глубокий покой окутывал кладбище, нарушаемый изредка отзвуком проносившихся мимо одиноких автомобилей. Я все равно что перенеслась в другой мир сквозь трещину во времени.
В этой части кладбища могилы были в основном довоенные; многие из надписей – на немецком языке, как напоминание об иммигрантах, обосновавшихся в этом районе в 1870-х годах.
Один памятный камень привлек мое пристальное внимание. Я опустилась рядом с ним на колени и принялась отряхивать шелушащуюся надпись, пока не появились слова: «С любовью в память о Мэри-Айрин, одиннадцати лет». Одного возраста с Бронвен. Почерневший могильный камень показался мне слишком мрачным последним пристанищем для души одиннадцатилетней девочки, и я поспешила прочь, но тут же наткнулась на другие детские могилы. Одна из них, окруженная повалившейся чугунной оградкой, заставила вернуться к ней. На ее простом камне значились… единственная дата – «21 апреля 1907 года», – и два имени: «Эдит, семь лет, и Вильма, два дня. Любимые дочери Наполеона и Изабеллы».
У меня перехватило дыхание. Как она выжила, мать этих двух умерших девочек? Стояла ли она, где стояла сейчас я, лишившаяся детей молодая женщина? Стояла, обхватив себя руками в попытке держаться, ведя безнадежную битву с горем, разрывавшим ее душу? Как она смогла жить дальше, как шагнула назад к жизни, которая так жестоко предала ее?
Из задумчивости меня вывел резкий крик, заставив поднять глаза к небу, как раз чтобы увидеть пару изумрудно-зеленых широкоротов, взлетевших с веток кривого, старого красного камедного дерева в самом дальнем конце кладбища. Птицы кувыркались и крутились вокруг друг друга, отметины с изнанки крыльев, похожие на монеты, вспыхивали белыми пятнами, когда широкороты хватали бабочек. Они пролетели над загоном, ныряя над коровами, прежде чем, пользуясь восходящим потоком воздуха, вернуться на свое дерево. Я невольно следила за ними, из любопытства желая разглядеть поближе. Солнце согрело мои руки, меня охватила истома. Здесь было спокойно, уже более пяти минут не проехало ни одной машины. Слышались только рявкающий крик широкоротов, негромкое мычание скота и неизменный шелест волнуемых ветром листьев.
Я мешкала под деревом широкоротов, глядя вверх. День был ясный, небо – кобальтовый купол, солнце – восхитительно жаркое. Все казалось таким живым – необычное наблюдение для кладбища. Но я ощущала энергичное гудение и трепет в воздухе вокруг меня, словно от тысяч невидимых насекомых. Я чувствовал себя бодрой, охваченной чем-то вроде головокружения, словно стояла, занеся одну ногу над пропастью, чтобы шагнуть с обрыва…
Я рефлекторно взглянула вниз.
Могила у моих ног была заброшенной. Сквозь трещины каменной плиты проросли сорняки, а могильный камень – массивный гранитный крест с выгравированным на нем кельтским узлом – был изрыт ямками, похожими на следы от пуль. Как будто кто-то использовал его в качестве мишени.
Я отряхнула сор с камня, а когда это не помогло прочесть испорченную надпись, села на корточки и стала над ней размышлять. Прищурившись, я разглядела «С» в начале надписи и «Рио», первые три буквы фамилии Риордан, предположила я. Остальное было сбито: даты, эпитафия, любовные слова памяти – словно силы природы вознамерились стереть с лика земли все следы его существования.
Я встала на колени и присмотрелась. Не силы природы, моя первоначальная мысль оказалась верной. Кто-то действительно расстрелял камень, вероятно, из мелкокалиберной винтовки и с близкого расстояния. Недостаточно, чтобы расколоть надгробный камень, но вполне достаточно, чтобы выщербить гранитную поверхность и испортить ее кругами неглубоких сколов. Я в недоумении огляделась и не заметила, чтобы какая-то другая могила подверглась акту вандализма. Только эта.
Кто взял на себя труд повредить могильный камень – скучающие юнцы, местные хулиганы, не нашедшие себе лучшей мишени? И почему выбрали эту могилу? Было это случайностью или презрение и недоверие преследовали Сэмюэла после смерти?
«Такова природа тесных сообществ вроде Мэгпай-Крика, – сказала мне Кори. – Люди знают о делах друг друга, и у них долгая память».
Гравий впился в колени. От солнца появилась сыпь на плечах, а где-то в голове начала собираться боль. Живость утра испарялась. Я снова прихрамывала от сильной усталости, а может, во мне говорило чувство поражения. Я забавлялась мыслью о том, как растянусь на прогретом солнцем камне среди каменной крошки и сорняков, положив голову на то место, где – шестью футами ниже – покоились в темной земле кости Сэмюэла.
Глупые мысли.
Я встала, отряхивая джинсы. Широкороты улетели, предоставив коровам мирно дремать. Над всем царила тишина, только поскрипывали под ветром ветки эвкалипта, да в отдалении тарахтел самолет.
Не знаю, что я надеялась здесь найти – возможно, ощущение единения или прикосновение духов, которое могло бы подкрепить мою веру в Сэмюэла, – но это от меня ускользнуло. Мой поиск доказательств невиновности Сэмюэла мало что дал в смысле абсолютной правды. По крайней мере, не той правды, какой мне хотелось. Сплетни, намеки, предрассудки, бездоказательные обвинения, а теперь еще и бессмысленное разрушение могильного камня. Фрагменты более серьезной истории, окончание которой начинало меня пугать.
* * *
Поскольку на самом деле я ее не искала, то нашла легко. Ее похоронили на краю старого участка, который дремал в непосредственной близости к церкви – поближе к Богу, возможно.
Я остановилась, мое сердце забилось чуть чаще от удивительного сюрприза. Место последнего упокоения Айлиш невозможно было пропустить. Оно было скромным, элегантным в своей простоте, не перегруженным сантиментами. Саму могилу защищала каменная плита, потрескавшаяся и выщербленная за прошедшие годы, не слишком отличавшаяся от других могил по соседству, если не считать бросающегося в глаза отсутствия сорняков и мелких камешков. И вазы со свежими розами.
Могильный камень был традиционным – простая арка с кругом, выгравированным в центре. Внутри круга – рельефно вырезанный полевой цветок – тонко стилизованная телопея. Я наклонилась, чтобы прочесть надпись:
Айлиш Лутц
Любимая дочь Якоба
Отошла ко Господу 13 марта 1946 года
Ей было 22 года
И снова на меня накатило головокружительное чувство падения вперед. «Отошла ко Господу». Это были всего лишь слова, но они пугающим шепотом говорили о той далекой ночи. Я так ясно видела Айлиш мысленным взором. Она лежала, свернувшись в комочек, в тени высокого валуна, руки и ноги подвернуты, черные ручейки крови сочатся из ее ран, лицо спрятано от лунного света. Она ждала.
Ждала смерти. Или Сэмюэла. Кто придет первым.
Я оказалась на коленях, хотя не помню, как это получилось. Дотянувшись до роз, я размяла пальцами лепесток, высвобождая его темно-красный аромат. Значит, не сон. Реальность. Крупные, лохматые розы были пышными и незавядшими, вода в вазе – чистой. Их поставили сюда вчера поздно вечером или сегодня рано утром.
Ползли минуты.
В тайнике своих мыслей я начинала чувствовать, что близко знала Айлиш. Здесь же – в пыли, на солнце и под палящим зноем реальности – у меня не было на нее никаких прав. Она была для меня чужим человеком, молодой женщиной без лица, которая умерла шестьдесят лет назад.
Однако кто-то ее помнил. Кому-то она была небезразлична настолько, что он убирал с могилы следы времени, пропалывал сорняки. Приносил розы. Я снова коснулась черноты красных лепестков, вдохнула их запах. На этой жаре к ночи они погибнут.
Это могла быть только Луэлла Джермен. Но после всего, что я узнала о Луэлле – скрытной отшельнице, которая едет полтора часа до Брисбена, чтобы ее не увидели в местных магазинах, и не открывает дверь даже старым друзьям, – сложновато было представить ее ухаживающей за могилой матери.
Я оглянулась через плечо на церковь.
Вход отсюда не просматривался, только стена и окна в свинцовом переплете. Дверь была распахнута, когда я приехала, и я не слышала, чтобы подъезжала другая машина или старый мотоцикл ожил и с ревом укатил прочь. Это место казалось пустынным, но сохранялась незначительная вероятность того, что внутри церкви скрывался пастор или церковный служитель.
Это было смелое предположение, рискованная ставка, пари, заключенное мозгом, находящимся в плену одержимости. Конечно, в течение следующей недели я могла бы караулить на кладбище, не зная наверняка, вернется ли посетитель могилы Айлиш, но это казалось безумием. Не проще ли спросить?
Прежде чем я успела отговорить себя от этой затеи, я уже пробиралась между могильными камнями к маленькой церкви, решительно настроившись на победу.
* * *
Полумрак был прохладным, приносящим облегчение после палящего солнца. Приглушенный свет просачивался сквозь витражные окна, пропитывая мрачноватый интерьер малиновым и зеленым, золотым и темно-синим. В сухом воздухе пахло мебельной политурой, скипидаром, свечным воском, книжной плесенью и, любопытно, шоколадом.
Я все еще слышала лающую перекличку широкоротов, но их призывы теперь отдалились, приглушенные и какие-то потусторонние. Когда глаза привыкли к полумраку, я начала разбираться в беспорядочных тенях. Ряды скамеек, укрытые белой тканью, каменная купель на возвышении, книжная полка, набитая сборниками церковных гимнов.
Под ногами скрипели песок и пыль. Я обратила внимание, что укрывавшая ряды ткань была заляпана краской, как будто полным ходом шел ремонт. Мое предположение оказалось верным: чуть дальше я заметила жестяные банки с краской, запыленную старую стремянку и коробки с чистящими средствами.
В дальнем конце центрального прохода было высокое окно с розовым стеклом, частично заслоненное какой-то неуместной тенью. Я несколько секунд рассматривала тень, пока не поняла, что это мужчина.
– Здравствуйте! – сказала я. – Дверь была открыта. Ничего, что я вошла?
Не получив никакого ответа, я решила: «Должно быть, молится. Что ж, подожду».
Моя обувь скрипела на пыльном полу. Оглядываясь вокруг, я прикинула, куда можно присесть. Поближе, в первых рядах, чтобы знакомство прошло без затруднений, или уйти назад, дабы показать уважение? В результате своей нерешительности я наткнулась на угол скамьи, сильно ушибла колено и вполголоса ругнулась.
Мужчина изменил позу, полуобернулся, словно прислушиваясь. Свет из розового окна упал на его профиль.
У меня на мгновение остановилось сердце, когда я подумала, что вижу привидение. Черты лица, вырисовывавшиеся на фоне розового окна, могли быть высечены из густой тени. Нависшие брови и прямой нос, крепкий подбородок и чувственный рот… Я поймала себя на мысли, что вспоминаю фото Сэмюэла в увитой розами беседке, но затем тут же ее отбросила. Гладкие волосы Сэмюэла были коротко подстрижены, а у этого мужчины была копна непослушных кудрей.
Он снова изменил позу и полнее вошел в рубиновый свет окна. Иллюзия исчезла. Он больше не был пришельцем из загробного мира, просто мужчиной из плоти и крови в выцветших «ливайсах» и коричневой футболке. Он оглянулся и увидел меня. Не удивился, на его лице отразилось только любопытство. Стоял молча, словно дожидаясь, пока я заговорю первая. Что, разумеется, было неизбежно. Дэнни Уэйнгартен обычно отказывался произнести хоть слово.
– О-о-о, – протянула я. – Это вы.
Он пошел ко мне, медленно, словно эта пыльная капсула-церковь с ее светом, как в калейдоскопе, и мрачной тишиной была неуязвима для течения времени. Он обладал телосложением одновременно мускулистым и плотным, которое могло отклониться в любую сторону: при небрежности мог сделаться толстым или, приложив усилия, превратиться в мужчину со стальными мускулами. Однако его лицо – совсем другая история. Как бы ни повело себя тело, черты его лица останутся такими же близкими к совершенству.
Он шевельнул руками. Я это поняла, как «Вы думали…», затем вынуждена были домысливать остальное.
– Я… э-э-э, нет. Ну вообще-то, да…
Я умолкла, осознав, что если бы говорила с кем-то другим, то вывернулась бы таким способом. Наклон головы Дэнни и его прищуренные глаза дали понять, что я провалила экзамен по чтению по губам и не поняла сказанного.
– Что вы здесь делаете?
Его губы двигались, пока он наблюдал за моими, затем он сделал несколько жестов, которых я не поняла. Когда же я в смущении безмолвно вытаращилась на Дэнни, он достал блокнот и карандаш и написал: «Наслаждаюсь тишиной. А вы?»
Я пожала плечами:
– Осматриваю достопримечательности.
Приводило в замешательство, что мужчина так внимательно следит за моей артикуляцией.
Он снова что-то написал и подал мне листок: «Лютеранская церковь вызывает большой интерес?»
– Она неплоха, хотя я предпочитаю пресвитерианскую. Разве вам недостаточно тишины? – добавила я, затем поморщилась, когда слова уже сорвались. Наверное, бестактно говорить такое глухому человеку?
Дэнни поднял бровь и написал: «Не вся тишина одинаковая».
Я моргнула.
– Мне казалось, вся тишина… ну, тихая?
«Зависит от душевного состояния. Отсутствие звуков необязательно сопровождается тишиной».
Я улыбнулась. Какой бы путаной ни была эта логика, некий причудливый смысл в ней имелся.
– Вы всегда говорите так поэтично?
Он написал очередную записку: «Дайте мне больше времени, много листков, и я смогу написать роман».
– Вы не устаете писать эти записки?
Он сунул блокнот под мышку и лениво шевельнул руками.
– Петь… легче, – старательно перевела я, и он улыбнулся. Медленно, понимающе. Затем появилась ослепительная улыбка. Теперь он не следил за моими губами, смотрел мне прямо в глаза.
За мной уже так давно никто не ухаживал – открыто или подсознательно, – что сначала я не отметила очевидного: длительный визуальный контакт, широкую теплую улыбку. Любой подумал бы, что я польщена, рада росту своей самооценки. В конце концов, Дэнни был красивым мужчиной. И однако же когда до меня наконец дошло, я не испытала ничего, кроме паники.
Я отступила на шаг. Подумала, что бы такое сказать, как-то разрядить внезапно возникшую напряженность: небрежное замечание, остроумную фразу или, возможно, вежливый вопрос о Джейд. В груди началась цепная реакция и стала перемещаться вниз, наполняя меня жаром. Потрясенная этим, я потеряла дар речи.
Пальцы Дэнни изобразили новое предложение, но мой взгляд был прикован к его лицу, и я пропустила, что он говорил руками.
Я откашлялась.
– Не совсем уловила, что вы сказали.
Вернулся блокнот.
«Простите, я не хотел вас напугать».
По удовольствию, читавшемуся в его взгляде, я поняла, что он ничуть не сожалеет. Я пожала плечами, оглядываясь на дверь и прикидывая, насколько внезапно могу удалиться, не обидев его, затем решила, что, может, и стоит его обидеть. Я была приятельницей его сестры, между прочим; разве не существует неписаный закон против флирта с друзьями семьи?
Что-то коснулось моих пальцев. Новая записка.
«Вы приняли меня за кого-то другого. За кого?»
Я попыталась изобразить, что отвлеклась, разглядывая свое запястье, но меня предательски выдал жар, который, я чувствовала.
– Вообще-то, – небрежно заявила я, – мне показалось, что вы молились.
Кривая улыбка, не более чем отблеск смеха. Он стремительно зажестикулировал, объясняя, но бо́льшую часть я не поняла, кроме одного слова в самом конце «шоколад». Видя мою растерянность, он знаком предложил последовать за ним и, не давая мне возможности отказаться, зашагал по узкому проходу в дальний конец церкви.
Я колебалась, затем напомнила себе, что, если Дэнни находился здесь какое-то время – наслаждаясь, по его словам, тишиной, – тогда он мог видеть человека, который принес цветы на могилу Айлиш.
Мы вошли в крохотный кабинет в заднем помещении церкви. В большое окно потоком лился солнечный свет, наполняя комнату приятным теплом. К дальней стене был придвинут обшарпанный старый письменный стол. Рядом с ним висела книжная полка с запылившимися Библиями и атласами, разрозненными сборниками церковных гимнов. На шатком столе-козлах помещались принадлежности для чая: электрический чайник, стопки чашек и блюдец, банки с чаем и кофе. В углу пристроился самый маленький из когда-либо виденных мной холодильников.
Толкнув мой локоть, Дэнни сунул мне в руку очередную записку, затем прошел к холодильнику и открыл его. Звякали бутылки и шуршала фольга, пока я читала: «В суб. утром здесь будет праздник, чтобы собрать деньги на реставрацию. Мама в комитете, приходите, если хотите».
Я посмотрела на Дэнни, на языке у меня уже вертелась отговорка: «Простите, у нас не получится, в субботу мы навещаем бабушку Бронвен».
Но когда я увидела огромное блюдо, которое он держал, слова застыли у меня на языке. Изящным жестом он снял фольгу и протянул мне блюдо, неуклюже жестикулируя одной рукой:
«Их приготовил я, попробуйте».
Я не могла оторвать глаз. Сначала от блюда, потом от лица Дэнни. Затем снова от блюда. На тонкой бумажной салфетке были разложены трюфели в малюсеньких формочках. Они словно сошли с картинки из книги изысканных рецептов – из тех угощений, для приготовления которых, кажется, не нужно никаких усилий, но которые на самом деле до смешного мудреные.
– Их приготовили вы?
Он кивнул, снова жестом предлагая взять один.
– О, я не могу… Ведь они для субботы, для праздника…
Опять неуклюжий жест:
«Пожалуйста».
– Что ж, – промолвила я, разглядывая конфеты, а в голове уже неслись мысли, оценивая мои предпочтения, – если вы настаиваете…
Я собиралась просто положить трюфель в рот, прожевать и быстро проглотить, просто ради вежливости. Но едва мой язык коснулся шоколада, я почувствовала, как вся размякла, и если бы мой рот не был полон, я вздохнула бы в порыве чистой радости. Шоколад был превосходный, сливочный, чуточку горьковатый, гладкий и пластичный, как мед. Затем я откусила и практически потеряла голову. Внутри шоколадной оболочки оказалась сладкая вишня в ликере, крепком и пьянящем. Такого исключительного, бодрящего наслаждения я давно не испытывала, но мне не хотелось бы этого признавать.
Тихий намек на смех, и я открыла глаза – когда это я их закрыла?
Дэнни поднял большой палец:
«Хорошо?»
Я рассеянно кивнула, потом изобразила внезапный интерес к виду за окном. Подошла к нему и невольно ухватилась за подоконник, обрадованная увиденным и тем, что получила возможность не выдумывать больше фальшивых предлогов для смены темы разговора.
Было в точности как я надеялась: прямой вид поверх пожухлой травы на соседние могилы. Хотя с моего наблюдательного пункта внутри церкви я не видела могильного камня Айлиш, любой идущий туда оказался бы как на ладони.
За спиной у меня с чмоканьем открылась дверь холодильника, прошуршала, закрываясь. Вкус вишни до сих пор чувствовался во рту, а мягкий, темный аромат шоколада порадовал мое обоняние. Я поймала себя на том, что торопливо перебираю субботнее утро, прикидывая, смогу ли втиснуть поездку на праздник в лютеранскую церковь между нашим запланированным визитом к Луэлле и необходимым походом по магазинам. Возможно, несколько конфет Дэнни послужат лекарством против неизбежного разочарования Бронвен, если Луэлла не откроет нам дверь?
Листок бумаги скользнул вдоль моего запястья.
Я отвернулась от окна, хватая записку. Дэнни украдкой подошел ко мне сзади. Идеальная возможность спросить его о могиле Айлиш, выяснить, не видел ли он случайно – по какому-то невероятному совпадению, – того, кто находился сегодня утром на кладбище. Он смотрел на меня с надеждой, ждал, чтобы я прочла написанное: «Кори сказала, что вы фотограф. Вы фотографировали могилы?»
Мне пришлось дважды перечитать записку. Сначала я подумала, что он имеет в виду впечатляющий кельтский памятник, изрытый пулями. Ощущение головокружения вернулось; внезапно я снова очутилась на обрыве, срываясь в пропасть…
Затем я поняла:
– Нет. Сегодня никаких фотографий. Просто смотрела.
Дэнни оторвал новый листок: «Увидели, что хотели?»
Приятное ощущение удовольствия. Эта улыбка. Он опять со мной заигрывает? Я решила это проигнорировать и перейти к делу.
– Мое внимание привлекла одна могила.
Я замолчала. Несмотря на необходимость узнать ответы, мне до странности не хотелось вытаскивать имя Айлиш на яркий свет действительности. Для меня она была существом из снов, хрупким, как лунный луч, бесплотным, как облако, и, однако, настолько реальным, что мне казалось, будто я… нет, не знаю ее, конечно… но понимаю, каково это – быть ею. Это было притягательное ощущение, которое я считала необходимым оберегать.
Дэнни нацарапал новую записку: «Бабушки Тони».
Я кивнула, обескураженная, что он угадал.
– Кто-то за ней ухаживает, – сказала я. – Пропалывает, убирает мусор. Ставит свежие цветы.
Дэнни подошел ближе к окну и посмотрел на улицу.
В свете, льющемся снаружи, я заметила, что его лицо не настолько безупречно совершенное, как мне показалось поначалу. Его глаза были скорее серыми, чем зелеными, а нос и щеки усыпаны веснушками. Щетина на подбородке и шрам в форме полумесяца рядом с верхней губой.
«Кто?» – медленно спросил он жестом, не отрывая взгляда от кладбища.
Мне пришлось коснуться его руки, чтобы привлечь внимание к моим губам.
– Луэлла?
Он показался озадаченным, поэтому я повторила имя. Опять он едва уловимо качнул головой, затем передал мне свой блокнот и карандаш. Пока я писала, он смотрел через мое плечо. Хотя прямого контакта не было, я чувствовала его тепло на своей руке.
«Нет. – Он резко вздохнул, прочитав имя. – Не она».
Должно быть, он прочел вопрос по моему лицу, потому что взял карандаш и подписал под моей строчкой: «Луэлла избегает выходить в город. Если бы она приходила сюда регулярно, мама или Кори увидели бы ее».
Он меня не убедил.
– Вы уверены?
Короткий вздох и кивок. Потом другая запись: «Кроме того, она ни за что не придет на кладбище. Тони как-то сказал мне, она считает это плохой приметой».
Это я понять могла. Луэлла потеряла мать, потом свою дочь и мужа, а теперь и сына. С ее точки зрения, кладбища были очень плохой приметой.
– Тогда кто?
Дэнни пожал плечами и покачал головой, не сводя с меня взгляда.
Может, виной тому шоколад или угнетающая утренняя жара – возможно, сочетание того и другого, – но я больше не впадала в панику от его внимания и близости. И даже поймала себя на том, что надеюсь: а вдруг он снова начнет со мной флиртовать?
Еще одна записка. Эта застала меня врасплох.
«Я видел вас на похоронах Тони».
Я посмотрела на Дэнни, мысленно возвращаясь в тот день, пытаясь вспомнить.
– Вы там были?
«Я и Кори», – написал он.
– Тони было бы приятно.
Дэнни пожал плечами. Сделал неопределенный знак, смысл которого от меня ускользнул.
Я опять тронула его за руку.
– Вы с Тони были друзьями… в детстве, я имею в виду?
Кивок.
– Каким он был мальчиком?
Рассеянно поднял вверх большой палец, что означало – хорошим.
У меня сложилось впечатление, что он потерял интерес к беседе, – мое же любопытство тем временем разгорелось, и я не могла не спросить:
– Почему, по-вашему, он сбежал из дому много лет назад?
Дэнни едва взглянул на мои губы и тут же посмотрел мне прямо в глаза.
«Плохое».
Мне не нужна была записка, чтобы разъяснить, что же он подразумевал. Случилось нечто плохое, и хотя Дэнни Уэйнгартен мог – или не мог – знать, что же это такое, было ясно, что он не собирается ничего больше об этом говорить.
Дэнни подошел к холодильнику, проверил, плотно ли он закрыт, затем звякнул вытаскиваемыми из кармана ключами и встал в дверном проеме, глядя на меня. Он улыбался, но смотрел настороженно.
Этим утром у меня была богатая практика по языку жестов. Жестов рук, языку тела, намеков. Этот последний прозвучал ясно и недвусмысленно. Мне велено было уходить.
Глава 12
Вернувшись в Торнвуд, я оставила машину на подсобной дороге и посмотрела на холм, на котором стоял дом. За два дня братья Миллеры превратили заросший двор в величественный, хотя до некоторой степени и одичавший ботанический сад.
Исчезли цепкие лианы, завалы валежника и переросшие ветки деревьев. Чистые дорожки вились теперь по коридорам из зелени. Из тени выступали изумрудные листья гортензии, а на месте зарослей бурьяна возникли новые объекты восхищения: огромный папоротник асплениум, молодые, еще не развернувшиеся побеги которого были размером с мой кулак, и группки розовых тропических орхидей, покачивавшихся в теплом воздухе.
От удовольствия по коже даже бежали мурашки, пока я упивалась запахом скошенной травы и цветущих деревьев. Несколько месяцев назад я жила в тесном, холодном, наспех подремонтированном доме из базальта в мрачном старом Альберт-Парке, с трудом оплачивая счета за отопление и откладывая каждый лишний цент. В жестких рамках расписаний, договоренностей, списков суетных дел.
Но здесь жизнь казалась чем-то величественным. Здесь были мир и покой, аромат полевых цветов и прохладная вкусная дождевая вода для питья. А самое главное – я знала, что у моей дочери теперь есть то, чего никогда не имела я: надежный, постоянный дом.
Уверенной походкой я шла по дорожке, а потом вокруг дома, направляясь вверх по холму в заднюю часть сада на звук одиноко завывавшего триммера. Раздвигая переплетенные ветки деревьев, я наступала на лопнувшие гранаты и опавшие авокадо, которые гнили на дорожке. На полпути вверх по холму я остановилась в тени, чтобы вытереть стекающий по лицу пот. Жужжание ручной газонокосилки оборвалось, и сад погрузился в тишину.
Небо сияло, но в тени под деревьями было сыро и темно, гудели насекомые. Я продолжила свое восхождение, ковер из листьев и хвои заглушал мои шаги. Вскоре кирпичная дорожка закончилась, сменившись обычной тропинкой. Несколько минут спустя я отодвинула в сторону занавес из плоских листьев тропических лиан-монстер и очутилась на краю подстриженной травянистой поляны.
В центре ее рос могучий бук, тянувшийся своими изящными ветками в небо. Крохотные бело-голубые цветки, торчавшие над прицветниками листьев, распространяли в воздухе сладкий запах. Ствол был широким, его бледно-серая кора – гладкой, если не считать почерневшего, похожего на пещеру отверстия у основания дерева. Наверное, когда-то в бук ударила молния; образовавшаяся расщелина была полой и достаточно большой, чтобы в нее мог забраться человек. На поврежденном участке ствола выросло несколько ветвей, получилось нечто вроде лестницы, и я узнала дерево, в котором Бронвен нашла старую жестяную коробку из-под печенья. Самая нижняя ветка качалась, листья на ней трепались, как в бурю, хотя ни малейшего дуновения ветра не было. Подходя ближе, я увидела, что я здесь не одна.
На эту ветку забрался мужчина, чтобы подняться по стволу дерева. Он дотянулся до соединения двух суков и по локоть засунул руку в глубокое дупло на месте отвалившегося сука.
– Хоб?..
Воздух, казалось, застыл в мгновении безмятежного покоя перед бурей. Хоб молниеносно вытащил руку из дупла и спрыгнул с ветки, ударившись при этом головой и сдвинув очки. Круто повернувшись ко мне, он что-то удивленно пробурчал. Сапфирово-синий глаз старика расширился.
– Что-то потеряли? – осведомилась я.
Хоб отошел от дерева, отряхивая руки, поправляя очки.
– Э-э-э, нет, деточка. Просто проверял, нет ли какого ущерба от поссумов… К счастью, все под контролем, волноваться не о чем. Очаровательный старый белый бук, редко увидишь его окультуренным, как здесь, такая жалость, как подумаешь, что он отдан на милость сил природы. Ну что ж…
Он похлопал себя по карманам, нащупал блокнот и устроил целое представление, вычеркивая что-то из списка. Подняв триммер, он бодро мне улыбнулся, затем пошел по дорожке под горку – по направлению к дому.
– Все остальное в основном сделано, – сказал он, когда я его догнала. – Деревья подрезаны так, чтобы не упирались в карниз, а сливы почищены… Это тоже хорошо, может зайти гроза…
Он продолжал разглагольствовать, пока мы спускались с холма, в мельчайших подробностях отчитываясь передо мной о проделанной за день работе. Груда сухих обрубленных сучьев, которые он сложил под домом, послужит отличной растопкой, когда придет зима. Через несколько недель он пришлет Герни, чтобы тот еще раз подстриг лужайку – после стольких лет засухи, объяснил он, если дождь все же пойдет, я смогу стоять у окна и наблюдать, как растет трава. И если я не против, он замульчирует огород обрезками, чтобы подбодрить земляных червей.
Я слушала вполуха.
Ущерб от поссумов? Нахмурившись, я оглянулась через плечо. Пока мы спускались по заросшей дорожке, верхние ветки бука были видны над более густой, блестящей листвой деревьев манго и диких фиг. Кончики ветвей упирались в небо, под россыпью восковых цветков мерцали серо-зеленые листья. Бук, без сомнения, счастливо сосуществовал с поссумами сотню лет или больше.
Я сердито посмотрела на Хоба. Его морщинистое лицо порозовело, а лицо блестело от пота. Он как раз был на середине рассказа о процедуре очищения водостоков – нужно подобрать правильный инструмент, должным образом поставить лестницу – и о том, что из лиственного мусора получается великолепный компост.
А я мысленно видела только громадный бук с его бледной чешуйчатой корой и обожженным стволом и причудливую, похожую на лестницу поросль из бока дерева. Я так и видела Хоба, тянущегося к развилке, рука по локоть в дупле – шарит в поисках чего-то.
И отнюдь не ущерба от поссумов.
Другая картинка: Бронвен сидит на садовой скамейке перед занятиями, ее волосы, словно занавес, скрывают раскрасневшееся лицо, пока она пытается взломать помятую жестянку из-под печенья.
«Красивая, правда, мам?»
Она нашла ее в старом холщовом рюкзаке, по ее словам. Кроме коробки, там была одежда, косметика, щетка для волос. Все сгнившее она выбросила, оставив только жестянку. В жестянке лежал дневник девушки.
Хоб поймал мой пристальный взгляд и улыбнулся.
– Не забудьте про щенка, – приветливо сказал он. – Скажите юной Бронвен, пусть придет и выберет в любое время, когда захочет.
– Обязательно, – с деланой радостью сказала я, избегая взгляда Хоба.
Что-то исчезло, и я не могла сказать, что именно. Возможно, пропали непринужденные товарищеские отношения, возникшие вчера между мной и Хобом Миллером.
Я бросилась в дом за чековой книжкой, проклиная пыль, посыпавшуюся с джинсов и сандалий и осевшую на полу. Проходя мимо дальней комнаты, я сообразила, что забыла спросить у Хоба про могилу Айлиш и не знает ли он кого-нибудь, кроме Луэллы, кто мог бы приносить розы. Это показалось неуместным; сейчас я хотела только одного – как можно скорее спровадить Хоба и ухватиться за ниточку этой самой последней загадки.
Бегом сбежав вниз по лестнице и промчавшись по двору перед домом, я нагнала Хоба на подсобной дороге. Герни закончил погрузку газонокосилки, граблей и пил в кузов пикапа и закрепил, обвязав веревкой. Он обернулся, когда подошли мы с Хобом, и радостно улыбнулся в ответ на мою повторную благодарность за проделанную работу, пот каплями стекал по его редким волосам. Хоб увязал ручную газонокосилку в кузове вместе с остальными инструментами. Невежливо с моей стороны, но его с таким же энтузиазмом я поблагодарить не сумела.
Я выписала чек, вырвала его из книжки и отдала. Попрощалась, наблюдая, как Хоб неуклюже прошаркал вокруг машины к дверце водителя и сел за руль. Он помахал мне, но я сделала вид, что разглядываю что-то на соседнем дереве. Затем, когда ржавый грузовичок еще не успел исчезнуть в облаке пыли, я рванула к дому по свежеподстриженной лужайке.
* * *
Как в большинстве домов Квинсленда, стоящих на высоком фундаменте, прачечная находилась в подвальном этаже. Это было простое помещение, отделенное от остального пространства под домом решетчатыми стенами. Каменный пол знавал лучшие дни, и я все еще ждала приезда сантехника, чтобы он подключил стиральную машину. В прачечной было чисто и прохладно – тенистое убежище, когда совсем уж одолевает дневной зной. Самое приятное – вручную выстиранная одежда сохла в рекордные сроки на ветру, порывами задувающем из долины.
Я подошла к раковине. Там, на краю бетонной ванны, лежал пострадавший дневник, который нашла Бронвен. Вид у него был не ахти: попорченная водой пачка бумаги, застежки сломаны, обложка покоробилась и утратила цвет из-за ржавчины, грязи и плесени. Я положила его на раковину на днях, когда мыла руки, и собиралась заняться его спасением сразу, как отвезу Бронвен в школу. Потом, после неожиданной встречи с Кори и последовавшей поездки к Миллерам, я о нем забыла.
Взяв дневник, я снова вспомнила, как Хоб засунул руку в дупло и шарил там, будто что-то искал. Рюкзак, возможно. Набитый женскими вещами – щеткой для волос, косметикой, одеждой… и старой жестяной коробкой, оберегающей дневник. Его пропажа, похоже, не слишком огорчила Хоба; пожалуй, больше его потрясло то, что я застала его за поисками.
«Ущерб от поссумов», скажет тоже.
* * *
Только позднее тем вечером, когда посуда была перемыта после ужина, а Бронвен скрылась в своей комнате, я догадалась, как разлепить хрупкие страницы дневника, не уничтожив их. Я налила воды в кастрюлю и поставила на газ. Когда вода закипела, я сняла крышку, выпуская на волю пар. Затем взяла дневник щипцами для барбекю и стала держать над паром.
Кухню наполнил запах плесени. Сморщенный бумажный конгломерат начал реагировать. Обложка размягчилась. Внутренние страницы стали влажными и начали разлипаться. Когда пачка показалась мне достаточно податливой, я перенесла дневник на стол и села над ним, отделяя хрупкие верхние страницы с помощью ножа для сливочного масла.
Первые несколько страниц сморщились, были покрыты желтоватыми пятнами от воды, сделались ломкими, как кора. Плотные строчки аккуратного наклонного почерка заполняли каждый дюйм пространства; некоторые слова исчезли под плесенью или выцвели, но большинство можно было прочитать. Я наклонилась ближе, влекомая силой тяготения моего любопытства.
НЕ ТРОГАТЬ! Частная собственность Гленды Джермен
Понедельник, 8 сентября 1986 года
Весь мир спятил или что? Я надеялась начать этот новый дневник празднованием своих успехов на романтическом фронте. Произошел же вот такой досадный инцидент.
Сегодня днем я повела Кори к ручью, чтобы рассказать ей о последних новостях про нас с Россом. Или – об отсутствии новостей, что само по себе достойная обсуждения тема. В любом случае Кори в последнее время какая-то мрачная, совсем несчастная – я только хотела ее подбодрить. Мы сидели на берегу, жевали конфеты и пили колу. Я кайфовала от дозы углеводов, Кори выглядела рассеянной и грустной. Отставив бутылку с колой, я обняла ее за плечи, чтобы спросить – в миллионный раз, – в чем дело, но не успела.
Она меня поцеловала.
В губы, с языком – я говорила ей, что именно такого поцелуя хотела от Росса. Черт возьми, о чем она думала? Мы с Кори лучшие подруги, как она могла так со мной поступить? Хуже того, она же знает, что я люблю Росса, зачем ей нужно было взять и все испортить?
Ох. Кори мне нравится, думаю, я ее люблю, но не так. Не так, как она хочет.
С тех пор мы не разговариваем. Признаю, что повела себя с ней ужасно, оттолкнула, накричала на нее. Шоковая реакция, полагаю. Обычно, когда мы ссоримся, она звонит мне, только теперь уже почти 11 вечера, а звонка от нее все еще нет. Я чувствую себя дерьмово.
* * *
Четверг, 11 сентября 1986 года
В ответ на вопрос понедельника: да, весь мир точно спятил. А я? Я самая ненормальная из всех.
Проклятый Тони.
Только что узнала, что это из-за него мы не поедем в школьный лагерь на следующей неделе. Он признался, что случайно (или намеренно?) проболтался маме, будто я влюблена в кого-то в школе, – придурок! Они с мамой – водой не разольешь, я же знала, что ему нельзя доверять. Он действительно сожалел, испугался, что я разозлюсь и выкину какой-нибудь дикий номер – что я почти и сделала, но потом он дал мне забавный маленький рисунок. На нем была изображена птица с лицом Росса и с крылышками в виде сердечек, и это было так старомодно и надоедливо с его стороны, но что поделаешь? Иногда он такая сволочь, но такая симпатичная сволочь.
Ох. Я скрючилась в кровати, натянув одеяло на голову, и пишу при свете фонарика, потея, как свинья. В груди болит, вероятно, выходит из строя мое дурацкое сердце. Невыносимо знать, что после следующей пятницы мне придется ждать очередного семестра, чтобы снова увидеть Росса, две мерзких недели! И все это время знать, что в лагере он во власти этих отвратительных сестер Гордон, они будут смеяться и заигрывать с ним, сучки, а Росс, кто бы сомневался, будет замечательно проводить время. Предательницы. Это будет пытка.
* * *
Пятница, 19 сентября 1986 года
Хорошие новости на романтическом фронте, хотя и печальный день, потому что он последний перед каникулами, и мне придется ждать вечность, чтобы снова увидеть Росса. Ради такого случая я накрасила ногти розовым лаком, хотя это против школьных правил. Просто на счастье, вы понимаете.
Слушайте, я знаю, что он счастлив в браке, и знаю, что у него двое маленьких мальчиков, которых он обожает (отчего я лишь больше его люблю), и жена у него вроде бы милая – но что я могу поделать? Все знают, что сердцу не прикажешь.
Итак, хорошая новость такова: Росс говорит мне:
– Эй, Гленда, раз уж в лагерь ты не едешь, я нашел тебе на каникулы одно полезное занятие.
Я закатила глаза, как бы говоря: отлично, дополнительное задание, и это его насмешило. Он протянул мне вырванную из газеты страницу.
– Я читал воскресный номер «Курьер мейл» и нашел вот это. Конкурс на лучший рассказ, денежный приз очень приличный. Мне кажется, тебе следует поучаствовать.
Я взяла страницу. Там была фотография прошлогодней победительницы, коренастой тетки в слаксах, и объяснение, какого рода истории им нужны. Семейная драма, полная нудятина. Однако бланк заявления на участие, напечатанный внизу страницы, привлек мое внимание. В особенности знак доллара рядом с выигрышем.
– Ничего себе, – ахнула я, – это же больше, чем я заработаю за месяц, сидя с детьми. Но… семейная драма. – Я наморщила нос. – У меня скучная семья. О чем я напишу?
Росс пожал плечами.
– Вспомни, что я сказал на уроке английского: скучных людей нет, надо только немного поскрести внешнюю оболочку. Некоторых людей нужно поскрести побольше, но там всегда скрывается некая история. Поэтому подумай. Уверен, ты что-нибудь найдешь.
Он широко, волнующе улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. Конечно, я растаяла. У меня немного дрожали руки, когда я уходила, сворачивая бланк заявления и засовывая его в лифчик, поближе к телу. Было приятно, что Росс думал обо мне в выходные, приятно, что он считает мои сочинения достаточно хорошими, чтобы я могла победить в конкурсе. И я одержу победу. Подумаешь, розовый лак для ногтей! Можете его забрать. Выиграть невероятно большой приз за рассказ – гораздо лучший способ произвести впечатление на учителя.
* * *
Четверг, 25 сентября 1986 года
Каникулы – скучнее некуда, но я решила провести время, работая над своим призовым рассказом.
Поэтому я сидела днем на задней веранде, пытаясь родить какую-нибудь идею. Бэзил свалился в тени рядом со мной, храпит во сне, сомнений нет, ему снится охота на кроликов, так как кролики – любовь всей жизни Бэзила. Размышляя, я лущила горох для мамы, периодически бросая горошину-другую в рот – они вкуснющие. Если у мамы и есть какой талант, то к выращиванию овощей. Морозилка у нас забита ранним горохом, который она вырастила в парнике, он мелкий, но по вкусу превосходит размокший магазинный горох в пачках. Мама велит размораживать его перед тем, как лущить, но я никогда так не делаю. Прямиком из холодильника «Келвинейтор», ледяной и сладкий.
Жара нарастает день ото дня, скоро будет ужасно жарко. Раз уж папа отсталый и не позволяет мне и Тони покупать фруктовый лед (под предлогом, что от него портятся зубы), хотя это делают все остальные жители планеты, приходится довольствоваться замороженным горохом.
Я чистила горох и шпионила за Тони. С моего места на заднем крыльце открывался вид, как с высоты птичьего полета. Он сидел на большом старом пне в загоне в буше, склонившись над своим альбомом – зарисовывал кору, стручки или крылья стрекоз. Бог знает, где он добывает этот мусор. Глядя на него, не скажешь, но он по-настоящему умный. Мама вставила его маленькие рисунки в рамки и развесила по всему дому, а папа постоянно распространяется на почте о своих талантливых детях. Я всегда закатываю глаза, когда он это говорит, но, конечно, в душе мне приятно.
Так вот, я размышляла над идеями для рассказа, когда увидела, что мама крадучись идет вдоль забора. «Интересно, – подумала я, – что она затеяла?» Обычно она в загон не ходит. Лицо у нее порозовело от жары, и она надела нарядный фартук. Тони, должно быть, услышал ее шаги, потому что оглянулся. Они минуту поговорили, а потом мама вытащила что-то из кармана фартука – по виду конверт. Тони взял его, а потом мама сунула что-то ему в руку, пятидолларовую бумажку? Мой ябедник братец заначил денежки и вскочил с пня, убирая карандаши и альбом для рисования в сумку. Затем рысцой побежал по тропинке в сторону дедушкиного поместья.
Мама смотрела, пока Тони не скрылся из виду, потом вернулась к дому. Мгновение спустя она исчезла внутри.
Отставив горох в сторону, я сбежала с крыльца и, вылетев за ворота, помчалась по дорожке за Тони.
Черт. Мама зовет, обед готов.
Придется идти.
* * *
Пятница, 26 сентября 1986 года
Ну так вот, про вчера. Тони нигде нет. Исчез. Скрылся. Вы можете поверить? Словно пропал в Бермудском треугольнике. Нигде нет.
Поэтому я просто шла дальше по дорожке. «Пойду к дереву с дуплом», – решила я. Это гигантский белый бук, почерневший от давнего удара молнии, очень старый. Он растет в дедушкином поместье, пешком идти туда сорок пять минут.
До оврага я добралась запыхавшаяся. Всего тридцать минут, пока шла до дерева, а жара уже вышла из-под контроля. Моя футболка пропиталась потом, а сама я словно высохла. Только спустившись по тропинке в овраг, я вздохнула с облегчением. Он был тенистый и прохладный, заросший папоротником, темный. Здесь внизу пахло водой из ручья – мутной, но вкуснющей. Как другой мир. На деревьях обитают миллионы птиц-звонарей. Их не видно, но слышно. Словно находишься в огромной банке, в которой этот звонкий щебет эхом сыплется на тебя со всех сторон. Они поют и поют. Иногда в их песне возникает перерыв, и тогда наступает мертвая тишина. Зловещая. Потом они опять начинают, потрясающе красиво. Люди говорят, что они звенят, как колокольчики, поэтому их обычно и называют звонарями, но для меня они больше похоже на тысячи девичьих голосов, поющих одну и ту же звенящую ноту снова, и снова, и снова.
Я дошла до ручья и немного поплескалась в воде. Сидя на берегу, поставив ноги на большой замшелый камень, наслаждаясь прохладой воды, хватающей за ступни. Вдоль берега росли, кивая в тишине, кружевные папоротники. Это место походило на сказочную поляну, зеленую, в пятнах солнечного света, веселую от птичьего пения.
Я задумалась о дедушке. Сначала – как классно, что он завещал это поместье нам с Тони и мы можем приходить сюда, когда захотим. Больше двух тысяч акров буша – все наше. Потом я вспомнила, как сильно по нему скучаю. Он был таким клевым стариком. Он и мама никогда лично не встречались, но не из-за того, что случилось в военное время. Если бы мама хоть на минуту считала правдой слухи о дедушке, она никогда не позволила бы нам, ее детям, даже подходить к нему.
Убийство. Боже, какой ужас.
Не представляю, как мама живет, зная, что ее мать убили. Если бы это случилось со мной, я бы сломалась. Не могу вообразить, чтобы я росла, как она, – мирясь со всеми этими сплетнями и стыдом. Думаю, поэтому они с дедушкой не ладили – он не общался с ней, когда она была маленькой, мама говорит, потому что не мог видеть ее после смерти ее мамы, потому что ему просто было очень грустно. Но, думаю, дело не только в этом… Возможно, например, дедушка хотел избавить мою маму от лишней сердечной боли, не напоминать о ее потере.
Это случилось давным-давно, в сороковых годах. Мама была совсем малышкой, трех или четырех лет. Дедушка был молодым мужчиной. Иногда мы с Тони разговаривали об этом, но только шепотом. Знали мы немного и никогда не задавали вопросов. Понятно, что маме слишком больно об этом говорить. Папа из уважения тоже хранит молчание. Но даже при этом мы кое-что слышали. Шепотки, обрывки сплетен.
Иногда какая-нибудь старуха в церкви раскудахтается и упомянет дедушку, но другие мало что помнят. Однажды я пришла на почту, принесла папе ланч, который он забыл, и услышала, как один старый тип прошептал другому: «Она внучка той девушки, которую убил доктор…»
«Вороны, перебирающие старые кости» – вот как называет их папа.
Значит, сидела я в овраге в прохладной тени и думала о моей бедной старой бабушке, когда вдруг по всему телу у меня побежали мурашки. Я огляделась. Моя бабушка умерла как раз здесь, в овраге. Может, на этом самом месте.
Я задрожала, словно в овраге повеяло холодом. Вода в ручье казалась темной, тенистые папоротники больше не выглядели такими уж приветливыми. Высоко в кронах деревьев звенели звонари, но теперь они звучали пронзительно, почти тревожно, как будто их песня была предостережением.
Я знаю, это безумие, но я все дрожала и не могла перестать.
«Росс прав, – подумала я. – Нужно только поскрести оболочку».
И вот тогда у меня и родилась моя блестящая идея.
* * *
Суббота, 27 сентября 1986 года
– Мам, у меня появилась идея для того конкурса на лучший рассказ, о котором я тебе говорила, – начала я, бросая пробный шар. – Но мне понадобится твоя помощь.
– Да? – Мама подняла взгляд от гладильной доски, которую всегда непременно тащила на кухню, чтобы гладить и смотреть на улицу. Она ободряюще улыбнулась. – Какая, милая?
– Я собираюсь написать о своей бабушке. Только у меня мало сведений о ней.
Мама казалась сбитой с толку.
– Но, Гленни, у тебя же целый альбом с фотографиями бабушки Эллен, и папа много тебе рассказывал.
– Я не имела в виду папину маму.
– О-о-о.
– Ничего, а? В смысле, это было давно. И мы обе знаем, что дедушка ее не убивал, не мог. Значит, это тайна… и что-то вроде любовной истории, все перемешано.
Мама поставила утюг и прошла к раковине, открыла кран на полную мощность и стала мыть руки. Она схватила мыло и все терла и терла их, словно мой вопрос каким-то образом заставил ее почувствовать себя грязной.
– Мам?..
Она поплескала на лицо и хорошенько потерла его ладонями, потом достала из ящика чистое кухонное полотенце.
– Мне кажется, тебе не следует, детка.
– Почему нет?
Она оглянулась на меня через плечо. Ее лицо покрылось пятнами, как будто на него выдавили лимон. Глаза расширились, и в них стояла тревога.
– Просто не следует. Прости.
Я вздохнула, осознавая свою ошибку. Можно бы поспорить с ней, указать, что имею полное право знать о своей бабушке, но я понимала, что слишком ее обижу. Мама наверняка пережила жуткое время после смерти своей матери, она была совсем маленькой девочкой. Не ее вина, что она не может об этом говорить.
– Ладно, мама, – сказала я. – Придумаю что-нибудь другое.
И я попыталась. По-настоящему попыталась. В итоге история моей бабушки начала меня изводить. Словно ее призрак не имел покоя теперь, когда я подняла эту тему, поговорив с мамой. Словно у истории моей бабушки выросли крылья, и она выпорхнула из коробки, и ее невозможно запихнуть обратно, убрать с глаз долой. Так или иначе, но история моей бабушки будет рассказана… И расскажу ее я.
* * *
Воскресенье, 28 сентября 1986 года
Мама была в церкви, подошла ее очередь отвечать за организацию чаепития. Папа возился в огороде, сажал весенний лук. Черенком метлы он прочертил в земле аккуратные рядки и теперь отмерял расстояние между семенами с помощью старой деревянной линейки.
– Папа, – начала я, осторожничая после маминой реакции, – я хочу кое о чем тебя спросить, но боюсь, что ты рассердишься.
Это была, конечно, шутка. Папа никогда не сердится. Натуральный Телец: упрямый и надежный, медленно теряющий свою невозмутимость. Когда в редких случаях Телец все же слетает с катушек, говорят астрологи, тогда следует соблюдать осторожность. Наверное, это правда, потому что я никогда не слышала, чтобы папа повысил голос, ни разу. Мне нравится считать его тихим – обычный такой Кларк Кент, только вот под накрахмаленной белой сорочкой и скучными коричневыми рабочими брюками не прячется Супермен. Разумеется, сегодня папа не надел хорошую одежду, так, старые штаны от «Кинг джиз» и рубашка-хаки с закатанными рукавами, но суть вы уловили.
Папа посмотрел на меня и улыбнулся, уши у него немного обгорели на солнце. Прядь волос упала на глаза, и он сдул ее в сторону.
– Что такое, Гленни?
– Ну…
Я посмотрела на небо, потом стала изучать свои ногти. Розовый лак, которым я их накрасила на прошлой неделе в школу, чтобы произвести впечатление на Росса, почти облупился. За ногти храбро цеплялись остатки лака, но у меня не хватило духу их стереть. В итоге они все же принесли удачу.
Папа фыркнул и вернулся к луку.
– Выкладывай тогда.
Я вздохнула.
– Я пишу рассказ, он должен получиться очень хорошим, может, я даже приму участие в конкурсе.
Папа хмыкнул, прочерчивая ручкой метлы следующую бороздку.
– О чем же он?
– О моей бабушке.
Видимо, мой голос прозвучал напряженно при этих словах, поэтому, вероятно, папа и посмотрел на меня. На его лице отразилось любопытство.
– О маминой маме, – пояснила я, потом поспешно продолжила: – Я напишу классную историю – знаешь, тайна о том, как она умерла, и все такое. Проблема в том, что я практически ничего о ней не знаю. Мама о ней говорить не любит, и все, что у меня есть, – это сплетни и старые газетные вырезки, из которых много не почерпнешь, и… это, пожалуй, и все.
Папа отложил метлу и выпрямился. Взявшись за поясницу, он потянулся. Я услышала, как щелкнул позвонок, и папа вздохнул.
– Ты хочешь услышать, что я о ней знаю.
– Да.
– Боюсь, не много.
– Ты когда-нибудь ее видел?
Подобрав линейку, папа перешел к следующему рядку и высыпал на ладонь из пакетика несколько черных семян. Он долго молчал, словно забыл о моем присутствии. Потом пошел вдоль бороздки, отмеряя расстояния и делая большим пальцем углубления в земле, затем опуская туда семена.
Я ждала. Папа не любит, когда лезут в его частную жизнь, в этом они с мамой одинаковы. Он редко говорит о прошлом, а когда делает это, создается впечатление, что половину он придумывает на ходу, приукрашивает факты для большей забавности, а может, просто для того, чтобы замаскировать события, о которых говорить не хочет. Полагаю, вот откуда моя любовь к сочинительству.
Папа откашлялся.
– Я знал твою бабушку с военных времен. Я был всего лишь пареньком лет восьми или девяти. Она была… – Он помолчал, улыбнувшись в нависшие над нами деревья. – Она была красавицей. Длинные темные волосы и карие глаза. Стройная и изящная, как птичка.
– Откуда ты ее знал?
– Она была совсем одна, поэтому жила с нами.
– Она жила с вами? Я никогда не знала.
– Да.
– Почему она была одна?
Идя вдоль рядка и притрамбовывая землю над семенами лука, папа следил глазами за своей ногой.
– Ее мать умерла, а отца интернировали, потому что он был немецкий иммигрант. В войну так было, правительство переживало из-за безопасности… хотя трудно было встретить большего патриота, чем Якоб Лутц, твой прадед. Он любил Австралию, всегда говорил, что эта страна его спасла… Якоб много лет был лютеранским пастором в Мэгпай-Крике, но из-за того, что родился он в Германии, Разведывательное бюро Содружества выдвинуло смехотворные обвинения и отправило его в Татуру, в лагерь для интернированных лиц в штате Виктория. Он находился там почти три года.
Папа замолчал. Я подождала. Затем вздохнула. Папе сорок четыре года, ему уже прилично лет – но иногда он ведет себя как настоящий старик, если вы понимаете, что я имею в виду. Уставится в пространство, размышляет. Забывает вещи, путает события. Он любит рассказывать разные байки о прежних временах, но они практически никогда не совпадают от повествования к повествованию.
Но я надеялась, что уж эту историю он расскажет правильно.
– Пап…
Он рассеянно улыбнулся. Подобрал метлу, начал заново прочерчивать рядок, который уже разметил.
– Твоя бабушка была счастлива, живя с нами. Она стала членом семьи: помогала моей маме по хозяйству, сбивала масло, кормила кур, ухаживала за маленьким кукурузным полем у нас за домом, поддерживала красоту в доме. А твоя мама… она была совсем малышка, голосистая девчушка с большими зелеными глазами и улыбкой, от которой сердце таяло, как мороженое на солнце. Моя мама, то есть твоя бабушка Эллен, обожала свою маленькую Лулу и ужасно ее баловала. Мы все ее баловали.
– Поверить не могу, что мама никогда мне об этом не рассказывала.
– Ну, Гленни, тогда были не одни забавы. Шла война, и жизнь была трудной… но и волнующей тоже. У нас на постое было двое военных. В большинстве семей Мэгпай-Крика жили по двое или трое парней. Пехота или военные летчики. Несколько моряков. Твоя бабушка обычно готовила большую кастрюлю рагу из говядины и кукурузы с нашего огорода, мятый горох. У нас были сливки, и пахта, и куриные яйца. Свежие овощи и фрукты. Семьям в городе – или, еще хуже, в больших городах – приходилось туго, они вынуждены были перебиваться кое-как, раз в две недели меняя свои купоны на жалкий фунт сливочного масла или на два фунта сахара. Интересные были времена. Полезные, если ты понимал, что к чему.
Взяв шланг, папа повернул распылитель на конце и направил рассеянную струю на лук. В легкой водяной пыли, высвобождающей густой, отдающий шоколадом запах старого навоза и компоста и создающей встречный поток воздуха над голой землей, возникли радуги.
– Пап?
– Что такое, Гленни?
– Почему дедушку обвиняли… ты знаешь, в том, что случилось с моей бабушкой?
Папа вечность смотрел на радуги как завороженный. Когда я уже отчаялась получить ответ, он тихо проговорил:
– Твоему деду лихо пришлось на войне. Он попал в плен, ты все это знаешь. Потом он сильно болел, и, думаю, люди посчитали, что он способен причинить вред другому человеку.
– Но это же был не он, да?
Долгая пауза.
– Нет, Гленни. Нет, не он.
В тишину ворвался шум автомобиля. Папа выключил воду, свернул шланг и повесил на кран.
– Это мама, – сказал он и взъерошил мои волосы, идя мимо меня к дому. – Поставлю-ка я чайник.
* * *
Суббота, 4 октября 1986 года
Всю неделю работаю как сумасшедшая над своим письменным проектом. Задуманное как уловка, чтобы произвести впечатление на Росса, выросло в нечто грандиозное. В манию. Одержимость. Я просто должна рассказать историю своей бабушки. Она словно стоит у меня за спиной и говорит: «Гленда, все остальные просто хотят скрыть меня, забыть. Словно хотят, чтобы я никогда не существовала. Ты другая. Ты понимаешь. Я хочу, чтобы мой голос услышали, и ты мне поможешь».
Я действительно понимала. На мою красавицу бабушку напали и оставили умирать в овраге, и она лежала там всю ночь на влажных листьях, мучаясь от боли, истекая кровью. Кто-то сделал это с ней, и я просто никак не могла поверить, что это был дедушка.
Папа всегда говорил, чтобы я отстаивала то, во что верю. Проблема в том, что я никогда ни во что по-настоящему не верила. Спасение китов – это прекрасно, ведь очень жестоко, когда их гарпунят и разделывают, чтобы произвести косметику и другие вещи… Но как, скажите на милость, мне воспылать любовью к китам, если я никогда ни одного не видела?
Бабушка же моя кровная родственница. Фотографий ее нет – во всяком случае, они не сохранились, – и, если честно, я никогда толком о ней и не думала до сего дня. Но кровь есть кровь. И моя бабушка заслуживает, чтобы ее голос услышали.
И вот я сидела, напряженно работала, пытаясь до обеда написать концовку. Я пришла к выводу, что мою бабушку убил бродяга, проходивший через Мэгпай-Крик по пути на север, на золотые прииски в Рейвенсвуде, в поисках работы. В школьной библиотеке я нашла книгу о послевоенном времени. Тогда множество людей переезжало из города в город в поисках работы… Конечно, я никогда не узнаю, так ли все было, но это хорошо подходило к моей истории.
Я как раз подбиралась к сцене, в которой они встречаются, она тоже хорошо складывалась, – когда услышала крики. Мужской голос, похожий на папин. У меня сердце перевернулось. Папа никогда не кричит. Сначала я подумала, что он тяпкой поранил ногу или что-то другое. Я выскочила посмотреть, в чем дело, но остановилась на полдороге в коридоре. Почувствовала запах жарящихся котлет и картошки.
Папе точно было больно, но кричал он не в телефон, вызывая «Скорую». Когда путаница слов начала обретать для меня смысл, я прислонилась к стене, у меня заболело сердце.
– Ты же обещала, Лу, – сказала папа. – Давным-давно ты обещала…
– Клив, это не то, что ты думаешь.
– Все эти годы, все эти проклятые годы ты…
Папа поперхнулся следующими словами, которые я не сумела разобрать, потому что что-то загремело и упало на пол, разбилось.
Я вбежала на кухню. Мама сметала в совок разбитый стакан. Папа стоял, опираясь руками на стол, поникнув, словно потерял равновесие.
Мама завернула куски стекла в газету и положила в мусорное ведро.
– Пожалуйста, Клив, успокойся. Нам нужно обсудить это спокойно. И, – добавила она, взглянув на меня, – наедине.
Папа резко обернулся. Увидел меня, и его губы задрожали. Его лицо было в красных пятнах, шрамы сильно побелели. Снова повернувшись к маме, он потряс в воздухе кулаком с зажатым в нем клочком бумаги.
– Как давно?
Мама словно сжалась.
– Всего раз.
– Я тебе не верю.
– Клив, ты заходишь слишком далеко, это было просто…
Папа буквально зарычал, резко выпрямился и, весь дрожа, пересек кухню и навис над мамой.
– Захожу слишком далеко? – переспросил он, приблизив к ней свое лицо. – О Лу, ты не имеешь ни малейшего понятия…
Отстранив ее, он вышел из кухни и спустился с заднего крыльца.
– Мама, – спросила я, – что случилось?
Она закрыла глаза, открыла их не скоро.
– Гленда, будет лучше, если ты некоторое время постараешься не попадаться ему на глаза, милая. Твой папа очень расстроен.
Я уставилась на маму:
– Что ты сделала?
Мама просто смотрела на меня. Она родила нас поздно – ей было почти тридцать, когда она родила меня, но люди всегда говорили, что ей не дашь и половины ее возраста. Сейчас она казалась маленькой, хрупкой и старой.
Со двора донеслись громкие голоса. Я выбежала и увидела Тони, сидящего под сосной. Он писал акварелью желтого зяблика, присевшего на зеленую ветку персика, – удивительно, как я это помню. Папина тень упала на страницу, и Тони поднял голову.
– Ты относил это по просьбе твоей матери? – требовательно спросил отец, тыча клочком бумаги в лицо Тони.
Тони не сводил с отца глаз. Промолчал, только кивнул. Я внутренне застонала. Он собирается общаться с папой молча, он научился этому у Дэнни Уэйнгартена. Очень жаль, что так случилось.
– Как давно это продолжается? – заорал папа.
Тони пожал плечами.
Папа затрясся. Я заволновалась, что у него начинается приступ, может, инфаркт, или удар, или что другое. Но что бы то ни было, оно превратило моего папу в незнакомого мне человека.
Он приблизил лицо к самому лицу Тони.
– Мне следовало бы преподать тебе урок, который ты не скоро забудешь, мой сынок. Ты слышишь меня, мальчик? Как давно?
Я не расслышала, что сказал Тони.
– Может, какое-то время, да? – Папин голос дрогнул. – Может, какое-то время, черт побери! Что это, по-твоему, значит, ты, идиот? Недели? Месяцы? Чертовы годы?
Когда Тони не ответил, папа схватил его и потащил через двор к сараю. Я побежала за ними, перепуганная, как никогда в жизни.
– Папа, – взмолилась я, повиснув на его руке, чтобы он отпустил Тони, – что происходит? Что Тони сделал?
Папа отпихнул меня и потащил Тони за собой в сарай. Отцепил там свой охотничий нож от сумки со снаряжением, которая висела тогда рядом с дверью, засунул нож за пояс, протащил Тони через сарай во двор перед домом, к «Холдену».
Хлопнула сетчатая входная дверь. Мама стояла на верхней ступеньке крыльца.
– Бога ради, Клив! Отпусти его! Зайди в дом и обсудим это, как взрослые люди.
Папа проигнорировал ее. Толкнул Тони.
– Забирайся. А ты оставайся здесь, – сказал он, оглядываясь на меня, но я быстро залезла в машину рядом с братом.
Папа даже не потрудился напомнить нам о ремнях безопасности. Он просто прыгнул за руль и дал полный газ, со скрежетом переключился на задний ход и выехал на дорогу. Мгновение спустя мы неслись на юг в сторону города.
Последняя картина моей прежней жизни предстала передо мной, когда я посмотрела в заднее окно: мама стоит на травянистой обочине и смотрит нам вслед, схватившись за голову, как безумная.
* * *
Следующие страницы слиплись. Мне хотелось узнать, что было дальше, продолжить чтение, но в глаза словно золы насыпали. На периферии зрения мелькали какие-то тени; мне нужно было поспать.
Прижав дневник к груди, я прошла через гостиную и по коридору. У двери Бронвен я не остановилась послушать, как обычно делала, просто проследовала дальше в свою комнату. Повалилась на кровать и лежала неподвижно.
Мой мозг анализировал прочитанное.
Во время войны, когда ее отца интернировали, Айлиш жила у родителей Клива. Она была счастлива у них, и все обожали маленькую Луэллу – или Лулу, как они называли ее тогда. Все это было достаточно неожиданно и требовало тщательного обдумывания – но, прочитав об эмоциональном взрыве Клива, я оказалась в тупике. Он, очевидно, обнаружил письмо, которое доставил Тони, но почему так разъярился?
Голова у меня распухла, наводненная умершими людьми, переполненная чужими воспоминаниями. Мне хотелось встать и отпарить остальные страницы дневника, прочитать, что Клив собирался сделать с Тони. «Преподать тебе урок…» – сказал он. Но охотничий нож… Господи боже, какого рода урок он планировал?
Голова у меня шла кругом.
Мне нужно было поспать. Я жаждала сна. Зависела от него. Без него завтра случится катастрофа. Я буду взволнованна, измучена и закончу тем, что весь день полетит кувырком.
Проблема заключалась в том, что мое любопытство было обострено до предела. Даже сейчас, в половине третьего ночи, глаза уже не закрывались от изнурения – я не могла думать ни о чем другом, кроме как бегом вернуться на кухню, снова нагреть кастрюлю с водой, отпарить новые страницы. И узнать, для чего Кливу понадобился охотничий нож…
* * *
2 часа ночи. Воскресенье, 5 октября 1986 года
О боже, как же мне трудно писать об этом! Но приходится. Росс говорит, что если я собираюсь стать писателем, то должна смотреть фактам в лицо, даже неприятным. Вот так поступают писатели. Сталкиваются с пугающими вещами, затем пишут о них.
Папа мчался к городу, мимо аэродрома и по кольцевой развязке, потом направился на юг по Брайарфилд-роуд. Мы миновали поворот в дедушкино поместье и поехали дальше. Потребовалось время, чтобы сообразить, куда он нас везет, но потом мы увидели большие ворота и крутой подъем, который привел нас к владениям Миллера. Я очень хорошо знала это место, потому что мы с Тони часто бывали здесь несколько лет назад, когда были детьми. Мама посылала нас сюда по воскресеньям с банкой джема или пикулей[10] – ну, то есть пока папа не узнал и не положил этому конец. «Ни на что не годные лентяи, – называл он Миллеров. – Я не потерплю, чтобы они учили моих детей, как погубить свою жизнь».
Еще на подъезде к дому папа начал сигналить. Рев клаксона разорвал тишину дня, и мистер Миллер и его брат появились на веранде.
Папа остановил «Холден» и выскочил из него, мистер Миллер в это время спускался по ступенькам. Они встретились на середине двора, и папа толкнул мистера Миллера. Затем он начал кричать: «Держись подальше от моей семьи! Ты слышишь меня, Миллер? Держись подальше, или, клянусь, я тебя убью».
Мы с Тони скорчились в машине, прижались друг к другу, держась за руки. «Не смотри, Гленни. Не смотри». – Думаю, это Тони говорил, но я не уверена. Я знала, что он прав, да и не хотела смотреть – но глаза отказывались подчиняться. Я смотрела, смотрела прямо на папу и мистера Миллера.
Папа кричал, его слова сливались в какую-то бессмыслицу. Он ткнул мистера Миллера в грудь. Мистер Миллер покачнулся, но устоял на ногах. Ему потребовалась секунда, чтобы собраться, но потом он бросился на папу, как злобный вол, выставив вперед кулаки, нанеся один удар папе прямо в лицо, затем второй в живот.
Папа согнулся пополам. Показалось, что он задохнулся, он стоял, опираясь руками о колени, хватая ртом воздух. Мистер Миллер моложе папы на добрых десять лет, может, больше. Я видела, что папино лицо пошло пятнами и вспотело, грудь вздымалась. Я была уверена, что у него сердечный приступ. Затем он с диким воплем бросился на мистера Миллера. Мне показалось, что-то в его руке сверкнуло на солнце.
Раздался страшный крик. Затем я увидела кровь.
Мистер Миллер упал на колени, схватившись руками за лицо, закрывая глаз, кровь текла у него между пальцами. Он производил страшный шум, что-то среднее между скрежетом и ревом, снова и снова, словно сошел с ума. Он кричал что-то папе, но руки заглушали его слова.
Папа отступил, дрожа всем телом.
– Держись подальше, ты, коварный ублюдок, – сказал он странным голосом, пристально глядя на мистера Миллера. – Держись подальше…
Грянул винтовочный выстрел, оборвав папины слова. Из-под папиных ног взметнулся фонтанчик земли. Папа подпрыгнул. Спотыкаясь, сделал пару шагов к дому Миллеров, и я увидела, что на веранде стоит брат мистера Миллера с винтовкой в руках. Папа побежал к дому, но брат мистера Миллера опять поднял оружие и прицелился.
Вот тогда я и заверещала.
Винтовка выстрелила снова. Папа споткнулся и упал на колени, и на один ужасающий момент я подумала, что его ранило. Но он встал и побежал к машине. Когда он приблизился, я увидела брызги крови на его рубашке, лице и руках. Меня тошнило от страха. Он вытерся, и я поняла, что он порезал руку. Забравшись в машину, он сидел, уставившись в лобовое стекло, трясясь так сильно, что я подумала, он сейчас потеряет сознание.
На обратном пути папа не сказал ни слова. Когда мы свернули на Уильям-роуд, я отважилась посмотреть на него. Дрожать он перестал, но лицо было в пятнах. Он казался другим. Каким-то опустошенным. Словно папа, которого я знала, исчез, а вместо себя оставил эту пустую оболочку.
* * *
4 часа утра. Воскресенье, 5 октября 1986 года
Не могу уснуть, постоянно слышу скрип половиц и стук дверей, продолжаю тревожиться, что папа рыщет вокруг. Никогда раньше я не испытывала страха, лежа в своей постели, и чувство это мне не понравилось.
Папина драка с мистером Миллером против воли прокручивалась у меня в голове. Чем старательнее я пыталась ее прогнать, тем крупнее и ярче она, похоже, становилась.
Боже! Такое ощущение, что мой настоящий папа умер, а человек, который вез нас домой от Миллеров, – это кто-то другой. Чужой. Кто-то плохой. Кто-то, явившийся прямиком из фильма про кровавые преступления или из ночного кошмара. Может, так и есть? Может, я вижу кошмар, может, весь этот ужас – всего лишь дурацкий сон?
Я только жалею, что не могу проснуться.
Глава 13
– Мам? С тобой все хорошо?
Заморгав, я проснулась. В кухонное окно смотрело солнце, заливая светом деревянный пол. Небо было нежно-голубым. На дереве манго неистовствовали птицы, как будто рассвет нового дня был достойным поводом для праздника.
Бронвен стояла рядом, разглядывая меня с озабоченно нахмуренным лбом.
– Вот, выпей это.
Она подвинула ко мне чашку. Над ней поднимался насыщенный ароматом кофе пар. Мне захотелось схватить ее и начать глотать этот напиток, насыщая организм кофеином и приводя себя в полное сознание, но я еще не могла доверять своим дрожащим рукам.
Бронвен переместилась поближе, ее морщинка превратилась в хмурый взгляд.
– Ты уверена, что с тобой все хорошо? Ты разговаривала во сне.
Я потерла руками лицо. Я была как пьяная, все еще не проснувшаяся до конца, и боялась, что соскользну в беспамятство.
– Что… что я говорила?
Бронвен пожала плечами.
– По-моему, ты звала кого-то по имени.
Укол полузабытого страха.
– Кого я звала?
– Я не могла разобрать, но ты казалась огорченной. Ты, наверное, видела сон.
Когда я закрыла глаза, чтобы вспомнить, темнота передо мной изменилась, и я мельком увидела тропинку в буше. Я бежала по ней и звала. Деревья по обе стороны были посеребрены лунным светом, их ветки тянулись ввысь, крепкие стволы клонились и стонали на ветру. Где-то впереди меня бежал в ночи ребенок, маленькая девочка, напуганная чем-то среди деревьев…
– Ты не хотела просыпаться, – сообщила Бронвен. – Я трясла тебя целую вечность. Ты была как в коматозе, я подумала, что с тобой что-то случилось. Мам, ты меня пугаешь.
Когда я обняла ее, она застыла и попыталась вывернуться. Потом смирилась и стояла покорно, без сомнения, дожидаясь, когда я закончу демонстрацию сентиментальной слабости.
– Прости, – прошептала я. – Прости, что напугала тебя.
Бронвен высвободилась и отступила на шаг, разглаживая складки на платье, озабоченно меня разглядывая.
– Все нормально, мама. Лучше себя чувствуешь?
– Конечно.
Я взяла чашку, поднесла к губам и погрузилась в поток ароматного пара, глубоко вдыхая его, пока из меня не выветрились последние остатки сна.
– Нормальный кофе?
– Да, хороший.
– Ты его даже не попробовала.
Я сделала глоток. Кофе был обжигающе-горячим, избыточно сладким, с глотком молока.
– Идеальный, – сказала я, с трудом найдя в себе силы на одобрительную улыбку.
Бронвен рассматривала бесформенный дневник, раскрытый передо мной на столе.
– Хорошее чтение? – спросила она, хмурясь.
Странно, как работает мозг. В своем оглушенном состоянии я забыла о читательском марафоне минувшей ночью. Он возник передо мной с внезапной ясностью: конкурс Гленды на лучший рассказ и откровения ее отца об Айлиш… И потом самое поразительное – его жестокое нападение на Хоба Миллера.
Боже, бедный Хоб.
Что бы он ни сделал, спровоцировав нападение Клива Джермена, это казалось чрезмерным наказанием. И преувеличенной реакцией для человека, которого дочь назвала «тихим». Потом я вспомнила. На кухне Клив кричал на Луэллу, потрясая клочком бумаги. И стоял в саду над Тони и орал: «Ты относил это по просьбе твоей матери?» Все дело в письме. Поэтому Клив и напал на Хоба, из-за письма? Были Хоб и Луэлла?..
Бронвен топнула ногой. Отвлеченная от своих непростых мыслей, я посмотрела на нее. Я понимала, ее раздражает, что я читаю дневник, который нашла она. Но после того, о чем я прочитала, мне оставалось благодарить вселенную, что дочь не проявила к нему большего интереса, по крайней мере до сего момента.
– Вообще-то он довольно скучный, – сказала я. – Просто какая-то болтовня.
– Чей он?
Я колебалась. Если она узнает, что это дневник Гленды, то подумает, что в нем могут содержаться какие-то сведения о ее отце, и настоит на чтении. Я взвесила последствия и решила, что, по крайней мере в данный момент, об этом лучшае умолчать.
– Понятия не имею, какой-то девочки.
– Могу я его прочитать?
Я глотнула кофе, изображая безразличие.
– Ну конечно. Когда я его добью. Однако это настоящее снотворное. Пустая трата времени. Сама не знаю, чего я так стараюсь.
– Ты читала его всю ночь.
– Не всю. Очевидно, что, когда ты меня нашла, я в этом мире отсутствовала.
Бронвен, прищурившись, посмотрела на меня.
– Мам, ты заснула за кухонным столом, уронив голову на руки, при включенном свете. Как же ты говоришь, что это скучное чтение?
Я допила кофе, чтобы не отвечать. Он обжег мне горло, но помог. Сердце забилось живее, и в голове прояснилось.
– Сегодня суббота, – вспомнила я, вскакивая из-за стола и отправляя дневник на полку к стопке книг с рецептами. – Сегодня пикник. На сколько мы с Кори договорились? На четыре? Сколько сейчас времени? Нам надо пошевеливаться, мне еще нужно купить колбаски…
– Расслабься, мама. Еще даже нет восьми часов. Утра, – добавила она, хмурясь.
Я с облегчением плюхнулась обратно на стул. Впереди еще значительная часть дня на подготовку. Надо съездить в магазин, приготовить салат, охладить пиво. Принять душ и освежиться. Накачаться кофеином и создать видимость нормальности к тому времени, когда все приедут.
Бронвен по-прежнему топталась рядом.
– Ты ничего не забыла?
Только тогда я заметила, что на ней новое розовое платье в горошек, которое она купила на подаренные к Рождеству деньги. На ногах хорошие белые сандалии. И причесана по-другому. С косичками с белыми ленточками она выглядела очень по-девчачьи, даже и не помню, когда она в последний раз их заплетала. Несмотря на рост, дочь казалась младше своих одиннадцати лет.
– Что происходит? – спросила я.
Она возвела глаза к потолку.
– Ты обещала, что мы навестим сегодня мою бабушку.
Меня накрыла знакомая эмоция. Чувство вины. Я забыла. Но благодаря напоминанию Бронвен я ощутила трепет нетерпения. Луэлла была прямой связью с Сэмюэлом и Айлиш. После рассказа Кори я подозревала, что Луэлла слишком слаба, чтобы выдержать расспросы о них, но в доме могут существовать другие, более тонкие свидетельства – фотографии или памятные вещицы, которые могут еще немного осветить историю Сэмюэла. Я понимала, что рановато планировать личный, доверительный разговор с женщиной, с которой я еще не познакомилась, но я не могла удержаться от надежды.
– Нет никакой гарантии, что она откроет дверь, – предупредила я в равной степени и дочь, и себя. – Вспомни, что я говорила тебе про ее отшельничество.
Бронвен перебросила косичку через плечо, как будто она ее раздражала.
– Есть вещи и похуже отшельничества, мама.
– Ей может не понравиться, что мы явились без приглашения.
Бронвен вздохнула.
– Под лежачий камень вода не течет, мам. Так всегда говорил папа, и я с ним согласна.
Прежде чем я успела придумать аргумент, она скрылась за дверью. Я слушала, как Бронвен протопала по длинной веранде и вниз по ступенькам – в сад. Когда из звуков остались только птичий щебет и шелест колеблемых ветром листьев, я подошла к окну и выглянула.
Небо из нежно-голубого сделалось аквамариновым. Капустные совки метались в воздухе, как невесомые обрывки бумаги. Я решила, что Бронвен побежала к палисандру на свою скамейку – без сомнения, считать минуты до нашей поездки на Уильям-роуд.
Ее рюкзак стоял прислоненный к кухонной двери – наготове для нашего отъезда. Я не удержалась и заглянула в него. Внутри лежала коробка конфет «Кэдбери роузез», которую мы купили, альбом с фотографиями, в основном Бронвен с ее отцом, открытка ручной работы, усыпанная блестками. «Моей бабушке», – написала дочь причудливыми буквами. Открытка вызвала у меня смешанные чувства: зависть, потому что она уже очень давно не делала открытки для меня; желание защитить, так как велика была вероятность, что наш поход к Луэлле закончится разочарованием; ревность – из страха, что моей дочери может понадобиться кто-то другой, чтобы заполнить пустоту, оставленную смертью отца; и вызывающий головокружение необъяснимый страх, что я могу ее потерять.
Безумие, решила я.
Однако не повредит активное сопротивление этой новейшей угрозе. Выхватив из ящика для инструментов секатор, я отправилась на улицу.
Клумбы вышли из берегов – покачивающиеся головки роз и гладиолусов, подсолнухов, маргариток и гербер создавали в резком свете полотно великолепно сочетающихся оттенков. Вились пчелы, и бабочки перелетали с листка на листок в поисках мягкого местечка для своих яиц.
Я пошла вверх по склону холма к морю кивавших цветов, прикидывая, какая комбинация произведет наилучшее впечатление. Большая охапка, решила я, яркая и дерзкая, переполняемая цветом и запахом. Колеблющиеся розы, веселые герберы, может, несколько веточек вечной лаванды; резкое и изысканное сочетание сельского сада и надежного очарования патриархального старого мира.
Может, мне и не под силу заполнить пустоту, но у меня есть отличная идея, как произвести впечатление на предполагаемую бабушку. «Если не можешь победить, – любила говорить тетя Мораг, – будь хотя бы во всеоружии».
* * *
Мы сто лет стояли перед дверью. Обе таращили глаза и нервничали. Бронвен прижимала к груди пышную охапку цветов, на плече висел рюкзак, топорщившийся от конфет и фотоальбома.
На веранде было прохладно, тенисто и темно под пологом белой глицинии и плетистой розы. Вид отсюда открывался приятный – буш и дальние холмы, красивый сад, но я нервничала. Мне казалось, что за нами наблюдают. Не знаю, как я это поняла, только чувствовала взгляд, устремленный на нас из-за закрытых окон, взгляд такой же любопытный, как и наши.
– Идем, – сказала я Бронвен. – Мы простояли здесь пять минут, думаю, она не откроет. Вполне можем ехать домой, вернемся в другой раз.
Бронвен сделала самое умоляющее лицо.
– А вдруг она где-нибудь на заднем дворе и не слышала, когда мы несколько раз позвонили вначале? Пожалуйста, мама, еще подождем?
Не успела я ответить, как она, дотянувшись, нажала на кнопку звонка. Приглушенные электронные колокола забормотали в глубине дома. Я ждала звука шагов, скрипа половиц, сотрясения открываемой двери.
По-прежнему тишина.
– Мы не можем стоять здесь целый день, – убеждала я. – Нам нужно подготовиться к сегодняшнему приему – семга сама не замаринуется, знаешь ли. Кроме того, в лютеранской церкви праздник. Может, заглянем по пути домой, вдруг там окажется Джейд?
– Нет.
– Ну же, Брон, твоя бабушка будет здесь на следующей неделе. Мы вернемся и предпримем новую попытку.
Не обращая на меня внимания, она вдруг забарабанила в сетчатую дверь.
– Бабушка! Бабушка, это я, Бронвен! – пронзительно закричала она. – Бабушка, пожалуйста, выходи, я что-то тебе принесла.
– Бронни, по-моему, это не самая лучшая идея…
Бронвен продолжала стучать. Сетчатая дверь сотрясалась и лязгала, производя ужасающий грохот.
– Бабушка, пожалуйста, выйди! Это Бронвен, твоя внучка. Я приехала из Мельбурна, чтобы увидеть тебя!
Я вздохнула:
– Брон, ты поднимаешь шум. Даже если Луэлла в доме, теперь она не захочет открыть. Что она может подумать?
Глаза Бронвен наполнились слезами.
– Мне все равно, что она подумает. Я просто хочу ее увидеть, поговорить с ней. Ты не понимаешь, что это такое, мама, я правда хочу с ней познакомиться.
– Тогда ты добиваешься этого неподходящим способом. Продолжая вот так себя вести, ты только ухудшаешь положение…
Раздался тихий щелчок.
Мы застыли. За дверью словно мышь заскреблась, а потом резко щелкнул поворачиваемый засов врезного замка. За сетчатой дверью дрогнула входная дверь. И распахнулась.
В тусклом полумраке прихожей стояла женщина. Она была высокой и полной; ее одутловатое лицо побледнело от волнения. Она приблизилась шаркающей походкой, вглядываясь сквозь сетку двери, моргая маленькими серо-зелеными глазами. На ней было платье в цветочек в стиле пятидесятых годов. Тронутые сединой волосы собраны в пышный пучок, украшенный бархатной лентой – белой, как и ленты в косичках Бронвен. Она была идеально накрашена, искусно, как кинозвезда.
Кажется, целую минуту она молчала, только пристально смотрела сквозь сетчатую дверь на Бронвен, будто на привидение. Когда она заговорила, голос у нее оказался высоким и мягким, хрипловатым:
– Гленда? Боже великий, моя Гленда… Это ты?
– Миссис Джермен? – быстро вступила я. – Луэлла, простите, что приехали без приглашения. Я Одри Кеплер, а это моя дочь Бронвен. Она дочь Тони…
Женщина взглянула на меня всего на секунду. Ее глаза, недоверчиво расширившиеся, снова вернулись к Бронвен. Дочь улыбнулась в ответ, ее глаза сияли.
– Бабушка? Мы принесли цветы. Надеюсь, они тебе понравятся.
С губ женщины сорвался вздох.
– Бронвен?
Луэлла покачала головой из стороны в сторону, словно не в силах уразуметь увиденное.
Бронвен протянула цветы:
– Это тебе, бабушка.
Сетчатая дверь со скрипом открылась, и Луэлла Джермен заморгала в неровном свете. Она разглядывала Бронвен, и ее глаза наполнились влагой. Две слезы перелились через край и покатились по ее пухлым щекам, оставляя дорожки в макияже.
– Моя дорогая девочка, – хрипло прошептала она. – Моя дорогая, дорогая девочка.
Затем она схватила Бронвен за руку, привлекла к себе и, не обращая внимания на цветы, заключила мою дочь в объятия своих больших пухлых рук.
* * *
Следом за Луэллой мы вошли в сумрачный коридор, восхитительно прохладный после уличного зноя. Через широкий арочный проход я заметила строгую гостиную с высоким потолком и белыми стенами, белизна которых подчеркивалась рисунками в черных рамках. Тяжелые шторы приглушали свет, просачивавшийся в высокие окна. Натертые полы блестели, как пролитые чернила, чинно стояли громоздкие кресла, а в застекленных шкафчиках красовались коллекции статуэток и серебряные кубки. Книжные полки прогибались под тяжестью бесчисленных книг.
Продвигаясь дальше по коридору, я уловила слабый запах чистящего средства, но вскоре он был вытеснен другими ароматами: благоуханием роз, исходившим от растрепанной охапки цветов, которую несла Бронвен, слабым затхлым запахом животного. Может быть, собаки. А также запахами мебельной полироли, лака для волос, свежеиспеченного торта.
Мы вошли в солнечную, желтую, как сливочное масло, кухню с двойными дверями, которые открывались на широкую веранду. Полки стеллажей из того же темного дерева, что и полы, были расцвечены ретронабором жестяных банок для продуктов. Великолепные часы середины прошлого века, в виде солнца, тикали на стене в уголке для завтрака – там стояли сосновый стол и четыре стула.
Записи в дневнике Гленды были еще свежи в моей памяти, и я невольно представила, как она и Тони завтракают за этим столом. Они отсчитывали свои утра и дни по этим часам, ели, смеялись и переругивались под этой крышей. Возможно, их сухие завтраки когда-то хранились в этих веселых цветных жестянках. Тони и Гленды уже давно не было в этом доме, и все же мне представлялось, что я ощущаю их затянувшееся присутствие, словно воздух так никогда и не сумел заполнить оставшуюся после них пустоту, и испытывала неловкость от пребывания там, где у меня не было прав находиться, зная при этом то, что мне не следовало знать.
– Какой сюрприз, – проговорила Луэлла, явно очарованная Бронвен. – Какой чудесный, чудесный сюрприз. Не могу поверить, что у меня есть внучка, красивая маленькая внучка… Наверное, я самая счастливая женщина в мире.
Глаза Бронвен, наблюдавшей за суетившейся в кухне Луэллой, светились радостью.
– Бабушка, я принесла показать тебе фотографии. В основном там я с папой, но и мама тоже есть.
– Правда? Мне не терпится их увидеть. – Луэлла все еще казалась немного ошеломленной, но сумела застенчиво улыбнуться Бронвен. – Если у твоей мамы есть время, возможно, я соглашусь показать и собственные снимки – твоего папы в детстве… и нашей дорогой Гленды. Знаешь, ты на нее похожа.
Бронвен кивнула:
– Я видела ее фото. Мы похожи, словно сестры, правда?
Судорожный вздох, потом едва слышно:
– В самом деле похожи.
Пока чайник закипал, Луэлла достала из застекленного шкафчика три чашки с цветочным рисунком и поставила на поднос. Ее пухлые короткие пальцы двигались проворно, собирая на нем к утреннему чаю чайные ложки, изящные тарелки, расписанные цветами кукурузы, хрустящие льняные салфетки, кувшинчик свежего молока, очаровательные старые серебряные вилочки для торта. Наконец она вынула из холодильника бисквитный торт с джемом, наполнила чайник кипящей водой. Единственное, что выбивалось из общей картины, были ее дрожащие руки. Нервы, предположила я, и чему тут удивляться? Двадцать лет без всякой компании, затворница в собственном доме, сохранившая минимальный контакт с внешним миром. Я была поражена, что напряжение проявляется лишь в легкой дрожи.
– Папа был известным художником, – болтала Бронвен, – по-настоящему талантливым… Он выиграл много наград и путешествовал за границу, у него было столько выставок… Ой, но ты, вероятно, уже об этом знаешь, да, бабушка?
Луэлла усмехнулась. Смешок получился приятный, гортанный и мелодичный.
– Ну да, – как бы заговорщицки сказала она Бронвен, – на самом деле я следила за карьерой моего сына по газетам. Он здорово прославился, правда?
– Его картины нравились всем, – согласилась Бронвен, – у него купили кучу работ, и он стал очень богатым. Он писал пейзажи; ранние были маленькие, размером с открытку… Мама говорит, что, по мере того как он набирался уверенности, его работы становились все больше и больше. Он называл их абстрактными, но если присмотреться, можно было увидеть деревья и реки, всякое такое. У вас есть какие-нибудь папины картины?
Она сделала достаточно долгую паузу, чтобы посмотреть на стены, заставив Луэллу снова рассмеяться.
– О да, дорогая. У меня есть несколько очаровательных акварелей – цветы и птицы, даже вид нашего дома с вершины холма. Они в гостиной, а несколько – в коридоре. Хочешь, сходи посмотри. Потом приходи на веранду, а мы разрежем торт.
Бронвен сорвалась с места.
– Помочь вам? – предложила я, когда Луэлла подняла поднос.
– Нет, спасибо, дорогая, он легче, чем выглядит. Хотя вы можете принести столовое серебро. И захватите ту пачку печенья с глазурью, вон там, милая.
За двадцать минут, что я провела в обществе Луэллы, я была приятно удивлена. Я ожидала увидеть тихую и серую, боящуюся собственной тени, возможно, даже до некоторой степени ненормальную женщину, но ничего такого в Луэлле Джермен не наблюдалось. Разговаривала она чопорно, но в голосе сквозила теплота. Она была крупной, но двигалась грациозно, как будто каждый жест, каждый ее шаг были отрепетированы.
Дружелюбие Луэллы служило добрым предзнаменованием еще по одной причине. Если мы так легко поладили в первую же нашу встречу, тогда, возможно, она в конце концов согласится поговорить и о своих родителях. Возможно, не сегодня… но уже скоро.
Взяв вилки и печенье, я через двойные двери – снабженные, отметила я, врезными замками, – прошла за ней на широкую тенистую веранду.
– Прекрасное утро, не правда ли? – с одышкой сказала Луэлла, разгружая поднос на большой стол из кедра. – Такое ясное и тихое, если не считать зимородков, которые трещат как сороки. Можно подумать, они только что услышали шутку века.
– И этот вид, – согласилась я, – от него дух захватывает.
С веранды позади двора взгляду открывался серо-голубой буш с королевскими пальмами, которые покачивались на теплом ветру, фиолетовые вулканические холмы, томящиеся на горизонте.
Сам двор не сильно изменился со времени фотографии Тони под араукарией. Шаткий штакетник, заросшая маргаритками лохматая лужайка, бельевая веревка, рядом с которой застали врасплох Луэллу и Гленду. Повсюду росли красные и желтые настурции – расползались каскадами под фруктовыми деревьями, пробивались сквозь садовые скамейки или низвергались из разнообразных кашпо, включая старую ванну на львиных лапах. Обрамляла вид великолепная араукария, распростертые ветви которой будто обнимали четыре угла неба. Земля у ее подножия была усыпана ковром из коричневых иголок и массивных шишек; за деревом скрывалась, в конце извилистой дорожки, высокая стеклянная теплица.
Резкий лай заставил меня быстро обернуться.
У моих ног стоял коренастый бультерьер, демонстрирующий два ряда желтых зубов. В испуге я сделала шаг назад, и пес зарычал. Он был белым, на голове – рыжевато-коричневая, в форме ладони, отметина. Глаза у него помутнели от возраста, а шерстка загрязнилась, но он казался бодрым. Его оскаленные зубы мне не понравились.
– Не обращайте внимания на Граффи, – сказала Луэлла, наклоняясь и легко касаясь пальцами макушки пса. – Он не привык к гостям… Садитесь же, милая, и чувствуйте себя как дома. Вам чай с сахаром?
Она занялась разрезанием торта, раскладыванием по тарелкам с щедрыми кусками десертных вилок. Молчание как раз не успело дойти до предела, когда на веранду влетела Бронвен. Она с шумом уселась на стул и с жадностью принялась за торт, глядя, как Луэлла наливает ей стакан лимонада. Когда торт был уничтожен, а стакан осушен, Бронвен подняла на колени рюкзак и достала принесенные для бабушки подарки.
Луэлла заахала при виде конфет и открытки, которую пристроила рядом со своей чашкой, не переставая качать головой от изумления и неожиданности. Большим носовым платком она промокнула глаза, но веселость улыбки подсказала, что это были слезы радости.
Час спустя Бронвен и ее бабушка все еще досматривали последний альбом, изучая школьные снимки Бронвен. Луэлла хотела знать все: что Бронвен больше всего нравится в школе, что ей дается хорошо, какие предметы – если такие есть, – идут туго. Она даже поинтересовалась именами одноклассников Бронвен, и дочь с готовностью их перечислила.
Я подавила сотый зевок.
Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не поддаться желанию залезть в сумку и взглянуть на часы. Сколько бы я незаметно ни ерзала, ни вытягивала шею, увидеть со своего места через открытую дверь кухонные часы мне не удавалось. Я начала нервничать. Нужно было успеть в магазин, приготовить барбекю. И я надеялась улучить минутку, чтобы привести в порядок оставшуюся часть дневника Гленды.
А пока время уходило.
Сославшись на необходимость посетить туалет, я покинула веранду. Ванная комната была старой, но чистой, отделанной белым кафелем, с пушистыми полотенцами и свежими кусками дорогого мыла. Окно выходило в сад за домом, на громадную араукарию и кусочек далеких гор. Как и окно в кухне, оно было снабжено решеткой и засовами.
Я вымыла руки над раковиной, строя гримасы бледному, с сонными глазами существу, которое таращилось на меня из зеркала. Сделала мысленную пометку добавить в список дел этого дня горячий душ и грязевую маску, затем вышла в коридор.
В этом крыле дома чувствовался более жилой дух, чем в чопорной гостиной и в столовой рядом со входом. В коридор выходили четыре двери в ряд, их латунные ручки блестели в приглушенном солнечном свете. Я остановилась перед первой комнатой, сгорая от любопытства узнать, что скрывается внутри. Наверняка не случится ничего страшного, если я быстренько взгляну?
В неподвижном воздухе плыли негромкие звуки. Звяканье чашки Луэллы, ее певучий голос, что-то говоривший. Веселое хихиканье Бронвен. Стрекотание цикад и скрежет когтей Граффи по доскам веранды, преследующего во сне кроликов.
Я взялась за ручку, повернула ее. Комната была выдержана в бледно-розовых тонах, с цветочными узорами и белыми стенами. Центральное место занимала двуспальная кровать, застеленная выполненным в технике синели покрывалом цвета мяты. Уютная, красивая комната, но ничем не примечательная. Еще большее сожаление вызывало отсутствие фотографий. Ни Тони или Гленды, ни покойного мужа Луэллы – Клива. Даже ни единого снимка самой Луэллы, и Сэмюэла тоже.
Следующая комната оказалась более скромной. Односпальная кровать придвинута к стене, синее стеганое покрывало недавно выстирано, подушка прислонена к изголовью. Рядом с изножьем кровати втиснут шаткий письменный стол, на котором одиноко лежит атлас. Единственной необычной чертой этой комнаты были рисунки, развешанные по всем стенам: бабочки, цветы, лягушки и гусеницы – маленькие наброски карандашом, несколько из них расцвечены поблекшей акварелью.
Комната Тони.
Несмотря на очевидное старание поддерживать ее в хорошем состоянии, дух печали и одиночества сочился из всех углов. Чувствуя себя незваным гостем, кем я и была, я вернулась в коридор, к следующей комнате.
Как и комната Тони, она поддерживалась точно в том виде, в каком была при жизни Гленды. Оклеенная обоями с желтыми розами, она была светлой и воздушной, как мечта. Свежезастеленная кровать, взбитые подушки. На сиденье под окном брошены любимые плюшевые мишки и тряпичная кукла из трикотажа. Кое-что указывало здесь на шестнадцатилетнюю девочку: напротив двери приколотый постер с Дэвидом Боуи, набор косметики, стопка потрепанных журналов «Долли», лежащих на туалетном столике, и школьный джемпер, брошенный на спинку стула перед ним.
Следующая комната была похожа на кабинет, хотя, судя по пыли, его уже давно не убирали. Кровать здесь отсутствовала, стояли лишь письменный стол и большое, глубокое кожаное кресло, рядом с ним – наготове старинная лампа. Книжные полки прогибались под тяжестью сотен книг – запыленная старая классика издательства «Пенгуин», кулинарные книги и справочники по садоводству, ряды зачитанных книжек в бумажных обложках на верхних полках, как голуби на насесте.
Единственным свидетельством того, что здесь когда-то была спальня, служил платяной шкаф, засунутый по запоздалом размышлении за дверь. Похоже, в свое время он принадлежал ребенку – выкрашен в голубой цвет, сверху стоит модель корабля.
Бормотание голосов, донесшееся с веранды, напомнило мне, что я отсутствую слишком долго, но я не могла устоять.
Подойдя к шкафу, я открыла дверцу.
В лицо пахнуло нафталином. С одной стороны было место для одежды на плечиках, пустое, за исключением россыпи высохшей моли. С другой – неглубокие ящики, в каких хранят белье. В верхнем в беспорядке лежали бумаги: документы на дом, извещения о тарифах, счета за ремонт бытовой техники. В следующем ящике я обнаружила скакалку, коробку из-под сигар, полную сухих роз, обратившихся в пыль, и коллекцию жестяных коробочек для пастилок, набитых ржавыми шпильками и перламутровыми пуговицами. В нижнем ящике лежал большой фотоальбом, стянутый черной лентой, чтобы не высыпались отвалившиеся страницы. Развязав ленту, я открыла альбом.
Согласно рукописному пояснению, первый снимок был сделан в 1931 году, а последующие располагались в хронологическом порядке. Это все было семейство Джерменов. На фотографиях, в основном размером со спичечный коробок, были запечатлены люди, лица которых расплылись от времени. Дети верхом на лошадях, мужчины с винтовками на плече, с собаками у ног, женщины с младенцами на руках. Я выискивала знакомые имена, но лишь спустя полдюжины страниц ситуация стала интереснее.
Над надписью «Клив, 1939 год, семь лет» красовалось пустое место – фотографию убрали. На следующей странице – новые пустоты там, где могли быть другие снимки: юный Клив и его отец на рыбалке в 1940 году; Клив рядом с отделением почты в 1942 году. Я перевернула еще несколько страниц и наткнулась на очередное пустое место; оно было подписано: «Клив и Луэлла в день свадьбы, 1968 год». Я перелистала альбом, пропуская фотографии Тони и Гленды в детстве, ранние снимки Луэллы, на которых она выглядела стройной и серьезной. Но затем пустых мест стало больше, чем снимков. Совершенно очевидно, что убрали все фотографии Клива – от детских до взрослых. Не пощадили даже семейные фото. Если в подписи значилось имя «Клив», фотография отсутствовала.
Я вспомнила, что Кори говорила мне о Джерменах и какой дружной, склонной к веселью семьей они были. Но разве не сказала она, что Луэлла попросила у Клива развода? Я задумалась. Это лишь показывает: не всегда вещи таковы, какими кажутся. Размышляя над этим, я снова завязала ленту и убрала альбом в ящик.
Когда я закрывала шкаф, на веранде вдруг яростно залаял пес.
Я выскочила в коридор и заставила себя помедлить минутку, чтобы успокоилось сердцебиение.
В этот самый момент я и увидела картину, написанную, разумеется, Тони – его уверенные линии и живые краски ни с чем нельзя было перепутать, даже в этой ранней работе. Маленькое произведение, не больше страницы из книжки карманного формата, было заключено под стекло в чрезмерно большую рамку, которая усиливала хрупкую красоту картины. Это была ботаническая зарисовка – местная росянка с золотистыми усиками и липкими малиновыми волосками. На блестящем листе даже сидела пойманная мушка. Пока я его разглядывала – затаив дыхание, прикованная взглядом так же крепко, как мушка, – всплыло воспоминание.
Это случилось летом, ясно сохранившись в памяти, потому что я забеременела Бронвен и чувствовала себя ужасно неловко, однако же светилась от радости, которой никогда раньше не испытывала. Мы с Тони гуляли в саду в нашем новом доме в Альберт-Парке, когда он заметил крохотную капустную совку, попавшую в паутину. К тому моменту, как мы ее нашли, совка извивалась слабо, ее тельце было обернуто липкими нитями, – большой золотистый паук-кругопряд потирал лапки на краю паутины. Тони настоял, чтобы мы остановились, и потратил не меньше десяти минут, освобождая несчастную совку, которая упала в траву и затерялась, без сомнения погибнув.
После этого Тони был подавлен. Помню, я гадала: всем ли художникам свойственны подобные странности? Это было в самом начале нашей совместной жизни, до того, как я узнала, что Тони относится как раз к таким.
Мои воспоминания были прерваны тявканьем с повизгиванием. Я поспешила вернуться на веранду. Отсутствовала я слишком долго и чувствовала, как краска вины ползет по шее. Луэлла догадается, что я всюду совала свой нос. Для прикрытия я придумала ложь и мысленно опробовала ее, чтобы она звучала естественно: «Понимаете, я последовала примеру Бронвен и пошла посмотреть на картины Тони. Надеюсь, вы не против, они такие милые, правда…»
Я могла не тревожиться.
Луэлла дразнила пса печеньем с глазурью. Она улыбалась, щеки пылали, а лицо покрылось испариной. Исчезла скромная, нерешительная женщина, которая открыла нам дверь часа два назад. Вместо нее появилась другая, расцветшая к жизни.
– А вот и вы, дорогая, – сказала Луэлла, увидев меня. – Бедный старый Граффи только что станцевал для Бронвен. Думаю, это его утомило.
Бронвен захихикала.
– Мам, ты бы его видела: он встал на задние лапы и прыгал по кругу, как толстый маленький человечек.
– Почему он так дышит? – спросила я, благодарная, что Граффи отвлек на себя внимание. – Он здоров?
Луэлла погладила бультерьера по голове.
– Он уже не так молод… Но посмотрите на его мордаху! Он же точно улыбается. Что ж, милый старый малыш уже много лет не развлекался.
Бронвен разглядывала свою бабушку с горячим, нескрываемым восхищением.
– Ты выглядишь не так, как на той фотографии, – вдруг заметила она.
Впервые с момента нашего знакомства сдержанность изменила Луэлле. Ее ослепительная улыбка померкла, лицо вытянулось. В ту минуту она выглядела старой, и за тщательно сооруженной маской мне почудилась перепуганная, одинокая женщина.
– Какой фотографии?
– На той, где ты с папой и тетей Глендой на задней лужайке. Мама нашла ее у нас дома. Папе лет десять, он стоит рядом с маленьким надувным бассейном, а ты и тетя Гленда вешаете белье на веревку.
– Только мы втроем?
– Да.
Луэлла подалась вперед и коснулась лица Бронвен.
– Не скажу, что помню этот снимок, милая. Может, ты принесешь его, когда придешь в гости в следующий раз, мне бы очень хотелось его увидеть.
Бронвен посмотрела на меня за разрешением, и я кивнула.
– Мы сделаем копии и с наших фотографий, – сказала я ей. – Уверена, твоя бабушка с удовольствием посмотрит на тебя в младенчестве, в первые годы в школе. А как насчет студийных фотографий, где ты с папой? Мы можем все их поместить в маленький альбом.
Бронвен улыбнулась, и мы обе посмотрели на Луэллу.
Она сидела, откинувшись на спинку стула; пухлые пальцы вращали кольцо на мизинце. На ее ресницах дрожали, как дождевые капли, слезы.
– Бронни, по-моему, твоя бабушка немного разволновалась. Может, ты погуляешь во дворе, пусть она немного отдохнет, а?
Вид у Бронвен сделался озабоченный, но она встала и уже повернулась, чтобы пойти к ступенькам. Но, не дойдя до них, метнулась к Луэлле и поцеловала бабушку в щеку. Затем сбежала по ступенькам и пересекла двор, спряталась в тени араукарии. Тишину нарушил лай – это Граффи выполз из-под стула Луэллы и заковылял вслед за ней.
– Луэлла, нам следует уйти. Мы засиделись.
– О нет! Нет, дорогая, прошу вас. На меня просто напала слезливость от волнения. Я приду в себя через секунду.
– Мы, наверное, устроили вам приличное потрясение, простите.
Луэлла смахнула слезы.
– Не нужно извиняться, Одри. Бронвен – прелестная девочка, я так рада, что вы привезли ее повидаться со мной. День выдался очень эмоциональный, и до вашего ухода я, полагаю, продержусь. Но вы еще приедете, не так ли? Как долго вы останетесь в городе? Боюсь, я настолько увлеклась моментом, что забыла спросить.
Я колебалась, затем мягко проговорила:
– Вообще-то, Луэлла, мы теперь здесь живем, не в Мэгпай-Крике. Мы здесь с декабря. Живем в Торнвуде.
Луэлла захлопала глазами. На мгновение она показалась ошарашенной, но затем ее лицо просветлело.
– О, моя дорогая. Это же чудесно. Чудесно! Но как?..
– Тони оставил мне это поместье по завещанию. Мы были вместе восемь лет, но так и не поженились. Не сложилось у нас. Мы расстались, когда Бронвен было шесть, хотя они часто виделись. Он всегда хорошо к ней относился, был великолепным отцом. Самым лучшим. Думаю, отдавая нам Торнвуд, он хотел навсегда обеспечить будущее Бронвен.
Луэлла кивнула. Я видела любопытство в ее глазах, чувствовала, что ей нужно услышать больше о взрослой жизни Тони, заполнить промежуток между его уходом из дома в четырнадцать лет и его смертью несколько месяцев назад. Но, как и я, она была слишком хорошо воспитана, а возможно, слишком осторожна, чтобы спрашивать.
Вместо этого она сказала:
– Вам, Одри, должно быть, трудно было воспитывать маленькую дочь одной. Вы прекрасно справились. Она – ваша заслуга.
– Это было легко, – призналась я. – Бронвен такая умница. Зрелая для своих лет. Иногда мне кажется, что она на тысячу лет впереди меня, будто это я ребенок, а она – взрослая.
Мое замечание призвано было поднять настроение, но лицо Луэллы стало печальным. Ее стул заскрипел, когда она пошевелилась.
– Тони тоже отчасти был таким, – сказала она. – Но был и странным. Пока другие мальчики гоняли в футбол или носились по округе на велосипедах, Тони уходил один в буш, собирал разные стручки и полевые цветы и рисовал их. Он был приветливым мальчиком, забавным и умным… Но в его натуре была и темная сторона. И это частенько заставляло вас спрашивать себя, на что он в действительности способен.
Она произнесла эти слова легко, но они почему-то меня задели, словно я упала на что-то острое, содрала кожу, поранила какой-то скрытый орган, а какой точно, определить не могла.
Я подыскивала слова, чтобы защитить Тони, объяснить, что он был хорошим отцом, несмотря на свои частые продолжительные отлучки из нашей с Бронвен жизни; что он был добросердечным, хорошим человеком, невзирая на его многочисленные недостатки. Но слова не приходили.
Наоборот, мне вдруг вспомнился мальчишка Тони во дворе. Стоит там, где сейчас стоит в тени араукарии Бронвен. Его темная голова склонилась над рисунком, он увлечен… Затем удивленно поднимает голову, когда тень его отца падает на листок. Злые слова, охотничий нож, жаркая, пыльная поездка в «Холдене» и, наконец, ужасное, опустошающее нападение, вынужденными свидетелями которого стали он и Гленда.
В тот момент я почувствовала, что внутри у меня образовалась брешь, провал, пропасть – как будто я проглядела что-то жизненно важное, но сколько ни пыталась, ухватить это не могла.
Глава 14
Бронвен настояла, чтобы мы украсили заднюю веранду бумажными фонариками и электрическими гирляндами, и, должна признать, эта причуда подняла мне настроение.
Наш визит к Луэлле получился крайне успешным. Бронвен распространялась о своей бабушке всю дорогу домой, не в состоянии сдержать восхищение. Она уже договорилась с Луэллой, что снова навестит ее завтра, в воскресенье. Я была счастлива за нее, но рядом с этой радостью таилось менее светлое чувство. Несмотря на мое собственное высокое мнение о Луэлле, я не могла отрицать, что взаимное притяжение между ней и моей дочерью вызвало у меня зависть.
Я поправила скособочившийся фонарик, затем нырнула в кухню за очередным подносом с едой. Когда я вернулась на веранду, Бронвен топталась у другого конца стола, снимая фольгу с картофельного салата. Когда я, приставив поднос к бедру, сгружала на стол другие накрытые фольгой блюда, она сморщила нос.
– Фу, что это за запах?
– Я ничем необычным не пахну. Лук или, может, свекла?
Бронвен устроила целое представление, принюхиваясь.
– Мам, это же ты! Ты подушилась!
Я вздохнула.
– И что? Теперь это преступление, да?
Она перестала снимать фольгу и недоверчиво на меня уставилась:
– Но почему?
– Так я хорошо себя чувствую.
Ее глаза расширились, словно я ответила ей на чужом языке.
– Раньше ты никогда не хотела хорошо себя чувствовать. Почему сейчас?
– Просто захотела.
Скомкав снятую фольгу, дочь прищурилась.
– Это для него, да?
В ответ на мое тупое молчание она пояснила:
– Для папы Джейд. Я так и знала, я была права. Все же он действительно тебе нравится.
Пламя свечей в фонарях колебалось, а из стереосистемы звучала одна из моих любимых песен, привязчивая, с оттенком фанка. Отряхнув руки о джинсы, я попыталась скрыться на кухне, но Бронвен шла за мной, как ищейка.
– Нечего меня игнорировать, мама. Ну ладно – духи, но эта блузка выдает тебя с головой.
Я остановилась у раковины и в смятении посмотрела на свой топ – шелковый, завязанный на талии, вырез смягчен узкой оборкой. Мне казалось, что она выглядит нормально, и это вдохновило меня чуточку усилить эффект ароматом. «Ванильный мускус» – душистое масло, которое я купила для поднятия моего упавшего духа после того, как меня бросил Тони. Не помогло, конечно, поэтому я засунула масло подальше.
– Что не так с блузкой? – спросила я, чувствуя себя глупо. – Ты постоянно жалуешься, что я никогда не прилагаю усилий.
Бронвен, подбоченившись, обдумывала мои слова.
– Ну есть усилия… и усилия. Должна сказать, ты и правда выглядишь хорошо. Для разнообразия, – многозначительно добавила она.
– Значит, ты одобряешь мою внешность?
– Конечно.
Она кинула комок фольги в мусорное ведро и вылетела из кухни, злорадно торжествуя про себя.
– Что ж, спасибо, – пробормотала я, сожалея о напрасно потраченном на одиннадцатилетнюю девчонку сарказме.
Схватив кухонное полотенце, я заткнула его за пояс джинсов на манер фартука, подошла к окну гостиной и выглянула.
Ни облака пыли. Ни следа автомобиля.
На кухонных часах значилось три сорок семь. Я прикинула, не разлепить ли с помощью пара еще несколько страниц дневника, чтобы наверстать историю Гленды. Ее мир так ярко ожил для меня после посещения дома, где она выросла. Я видела теперь солнечную кухню с громкими часами и застоявшимся ароматом выпечки, тенистую веранду и девичью комнату в конце коридора, оклеенную обоями с желтыми розами. Никакие рассказы Тони не помогли бы мне так близко, интимно с ней познакомиться. Узнать ее мысли, личные страсти, страхи. Отчасти я чувствовала себя худшим из преступников из-за чтения ее дневника, но для любых, даже незначительных сожалений было уже слишком поздно – история Гленды все больше меня захватывала.
Просигналил автомобиль. Мгновением позже светло-зеленый «Мерседес» Кори с ревом проехал между эвкалиптами по краю подсобной дороги, таща за собой бурный водоворот пыли.
Бронвен обогнала меня на передней веранде и уже сбегала по ступенькам. Она заверещала, увидев вылезающую из машины Джейд, и рванула вниз по склону ей навстречу. Девочки обнялись, как потерявшиеся и вновь обретенные родственники, затем побежали вокруг дома, смеясь, переговариваясь и крича – все сразу.
Я помогла Кори вытащить из багажника термопакет с чечевичными бургерами и соевыми колбасками, полагаю. Она привезла и пиво – две упаковки по шесть бутылок «Краун лагера». Как я и подозревала, Кори – мне по сердцу.
– Дэнни опаздывает, – сообщила она мне. Ее волосы блестели в лучах дневного солнца, как медная проволока. Вытащив из кармана смятую записку, она сунула ее мне в руку. – Он велел отдать тебе это.
Я разобрала ставший теперь знакомым почерк: «Одри, уехал посмотреть больного ягненка, скоро буду, привет. Дэн».
– Срочный вызов, – объяснила Кори. – Ему пришлось договариваться с сестрой, чтобы поехала с ним.
«О, вот как».
– С сестрой?
– Он подозревает, что у его маленького шерстистого пациента могут быть шумы в сердце, и часть обследования – прослушать сердцебиение стетоскопом. Это неизбежно, так как в данном случае только так можно наверняка узнать, все ли в порядке. У Дэнни целый арсенал первоклассных приборов, чтобы следить за пульсом, дыханием и измерять уровень кислорода в крови, но периодически нужно прослушивать пациентов. Поскольку он совершенно глухой, то нанимает в помощь ветеринарную сестру. Дэнни терпеть не может признавать ограниченность своих возможностей, но никогда не нарушает правила обследования. А стало быть, приглашает Нэнси.
– Разумеется.
– Она просто прелесть – только что из ветеринарной школы, местная девушка и немного фейерверк. Она вам понравится.
Я натянуто улыбнулась.
– Да, наверное… Надеюсь, вы голодны?
– Умираем с голоду.
– Отлично!
Я тяжело зашагала по дорожке, чувствуя себя глупо, пока перед мысленным взором вставал образ Нэнси: высокая блондинка, роскошная супермодель. Боже, фейерверк – а что именно это значит? Дэнни, вероятно, в нее влюблен, и кто его обвинит? Работают бок о бок, полагаются друг на друга ради важной информации. Подбадривают друг друга, когда дела идут плохо, празднуют маленькие победы. Что ж, удачи им.
– Ой, какая красотища! – Кори поднялась по ступенькам следом за мной и теперь стояла, с улыбкой оглядывая гостиную. – Я под впечатлением, Одри… Такого я совсем не ожидала.
Ее улыбка заразила меня, и я с радостью отвлеклась от Нэнси Фейерверк.
– Я знала, что тебе понравится, – сказала я, улыбаясь в ответ. – Идем, давай сгрузим все это на задней веранде, и я проведу для тебя экскурсию.
* * *
– Я все никак не могу успокоиться насчет мебели. – Кори изумленно оценивала столовую. – Ты права, Одри, она отнюдь не жуткая, она сногсшибательная. Умный ход – смешать свою мебель со старыми вещами Сэмюэла. – Она подошла к нескольким маскам, которые висели рядом с дверью. – Они откуда, из Африки?
– Они с реки Сепик. Тетя Мораг добыла их, когда жила в Новой Гвинее в пятидесятых годах.
– Тетя Мораг жила в Новой Гвинее?
– Родилась там. Ее родители были миссионерами.
– Потрясающе… Мне не терпится поговорить о милой старушке в мельчайших подробностях. Умираю, хочу все о ней услышать… Ой!
Она остановилась перед серией обрамленных фотографий: Бронвен, наряженная феей, ее крылышки искрятся в свете камина, пышная юбка украшена звездами из мишуры. Фотографии были сделаны на вечеринке у костра, которую мы посетили несколько лет назад. В три года Бронвен была нежной, как эльф, с копной льняных волос и резкими чертами маленького личика, радуя всех танцами без устали. Потом шла фотография шестилетней Бронвен в ботаническом саду в Дейлсфорде, окруженной божьими коровками.
– Одри, это твои?
– Да, ранние, на пленке, до того, как я перешла на цифру. Вот эта, – я показала на божьи коровки, – сделана в тот год, когда ушел Тони… Я чуть ли не дошла до фанатизма, пытаясь запечатлеть все, что делала Бронвен. Думаю, все еще надеялась, что Тони к нам вернется. Разумеется, этого так и не произошло, но в итоге у меня осталась куча отличных снимков.
Кори вздохнула.
– Тони всегда был немного придурком.
Я невольно улыбнулась, вспомнив, что Гленда называла его так же.
– Думаю, да.
– Однако милым придурком. У меня куча забавных историй о нем в детстве – он и Дэнни были не разлей вода, скорее как братья, а не лучшие друзья, настоящая пара шалопаев, всегда готовых к шалостям. – Она пристальнее посмотрела на фотографии Бронвен-феи, ткнула меня локтем. – Вот эти классные, подруга. Еще есть?
В студии я достала папку с более поздними работами, которые, по моему мнению, могли понравиться Кори: неформальные портреты, многие строго черно-белые – сикхская свадьба, старые сестры-близнецы в своем готическом особняке в пригороде Мельбурна Тураке, застенчивый старик еврей, демонстрирующий на камеру свое запястье.
– Вот чудной бедолага, посмотри-ка. – Кори наклонилась поближе, чтобы разобрать цифры, выжженные на руке этого человека. – Прекрасный снимок, но ужасно печальный. Боже, посмотри на это приятное старое лицо, такое доверчивое. Как может человек даже думать о доверии после того, через что он прошел?
Повосторгавшись еще минуту, она продолжила молча перебирать снимки. Мы обе посерьезнели. Момент показался подходящим, чтобы сказать ей, но я выбирала, с чего начать. Решила – с самого начала.
– Кори?
– Мм?
– Мы с Бронвен были сегодня утром на Уильям-роуд. – Пауза. – Познакомились с Луэллой Джермен.
Кори резко выпрямилась и посмотрела на меня, забыв о фотографии, которую держала двумя пальцами.
– С Луэллой? Вы с ней познакомились?
– Да.
По лицу Кори разлилась бледность, сразу проступили веснушки.
– Как… как она?
– Неуверенная какая-то, – припомнила я. – Нервничала поначалу, хотя, как только мы разговорились, она, похоже, расслабилась. Они с Бронвен моментально понравились друг другу, сразу сблизились. Луэлла все повторяла, как она рада, что мы заехали.
Кори вглядывалась в мое лицо, нахмурясь.
– Как она выглядела? В смысле, с ней все в порядке?
По тревоге в глазах Кори я поняла, что на самом деле она спрашивает: «Не перестала ли Луэлла за собой следить, не превратило ли ее горе в тень той женщины, какой она некогда была? Не довела ли она в затворничестве свой дом – и возможно, свой разум – до разрушения?»
– Она чувствует себя нормально, насколько я могла заметить. И прекрасно выглядит. В доме безупречная чистота, нигде ни пылинки… А по стенам у нее развешаны очаровательные старые рисунки Тони. Мы пили утренний чай на веранде. Большую часть времени они с Бронвен провели, разглядывая старые фотоальбомы. Наверное, Луэлле понравилось, потому что она пригласила Бронвен снова повидаться с ней завтра.
Кори только хлопала глазами.
– Признаюсь, я поражена. Боже, как бы мне хотелось возобновить наше знакомство, столько лет прошло. Думаешь, она справится? – Видимо, некая сдержанность в моем лице заставила Кори поспешно прибавить: – Эй, мне следует подождать. Пусть она сначала привыкнет к вашим встречам, прежде чем общаться с толпами посетителей. Может, через несколько недель, когда она окрепнет?
– Я поговорю с ней, – предложила я, – прощупаю обстановку. В один из дней ты можешь приехать с нами. Уверена, она будет рада тебя видеть.
Кори кивнула, но была явно потрясена.
– Должна сказать, я рада, что ты проигнорировала мое предостережение. Бедная старая Луэлла, самое время ей увидеть немного радости от жизни. Видит бог, долго…
Она вроде бы хотела сказать что-то еще, но вдруг умолкла. К моему изумлению, ее глаза наполнились слезами. Она сморгнула, не глядя теперь на меня, не глядя даже на фотографию, которую так и держала двумя пальцами.
Я преодолела порыв обнять ее за плечи, чувствуя, что она не из тех, кто принимает физическое утешение, а я была не из тех, кто его предлагает. Кроме того, тетя Мораг любила повторять, что обычно лучшее лекарство от всего – переключение внимания.
– Идем, – сказала я, оставляя фотографии, где они лежали, и сердечно похлопывая Кори по спине. – Давай-ка разожжем огонь, и я умираю от голода.
* * *
Когда мы добрались до кухни, к Кори уже вернулась ее обычная живость и жизнерадостность.
– Не знаю, куда запропал мой братец, – проговорила она, вскрывая термопакет и доставая кучу белых бумажных свертков, – но он задерживает представление. Может, начнем без него? Колбаски из тофу начинают волноваться.
Я посмотрела на часы. Почти пять.
– Ты права, к тому времени, как все приготовится, девочки дико проголодаются.
Я взяла блюдо с маринованными стейками из семги, и по пути к двери мы оказались у кухонного окна. Оно выходило на веранду, и через него хорошо были видны Джейд и Бронвен, которые сидели рядышком на крыльце задней веранды. Сидели они спиной к нам, тихо беседуя, касаясь головами, по очереди поворачиваясь, чтобы посмотреть друг на друга через старый фотоувеличитель, только с обратной стороны.
Кори толкнула меня локтем в бок. Приложила палец к губам, и мы остановились, чтобы послушать.
Джейд подкрутила объектив и передала его Бронвен.
– Элайза говорит, что будет хуже, когда исполнится пятнадцать, потому что тогда начнется паника насчет мальчиков. Папа уже демонстрирует признаки обеспокоенности при малейшем упоминании о каком-нибудь парне из класса.
Бронвен оторвалась от объектива и внимательно посмотрела на Джейд.
– Кто такая Элайза?
– Она девушка тети Кори. Я называю их тетя Кори и дядя Элайза. – Джейд сощурила темные глаза и лукаво улыбнулась. – Тетя Кори лесбиянка, ты не знала?
Бронвен пожала плечами:
– Теперь знаю.
Кори застонала и горестно на меня взглянула.
– Послужит мне уроком – нечего шпионить, – прошептала она. – Не самый достойный способ признаться…
Я не отреагировала. Все мое внимание было приковано к Джейд, потому что она не закончила. Судя по выражению лица Бронвен, я не единственная была захвачена неожиданным откровением.
Джейд явно наслаждалась.
– Ты когда-нибудь видела, как целуются две девочки?
Бронвен испуганно вытаращила глаза.
– Нет.
– Сначала немного противно, особенно когда они начинают лапать друг друга, но еще хуже, когда они…
– Джейд!
Кори резко постучала по стеклу, заставив девочек – и меня – вздрогнуть. Выйдя на веранду, он бросила сверток с колбасками на скамейку рядом с грилем.
– Что? – пожала плечами Джейд.
Кори устремила на племянницу взгляд прищуренных глаз.
– Разве я не объясняла тебе, что такое вежливый разговор? Одри и Бронвен не хотят слышать чудовищные подробности о моей личной жизни… по крайней мере, не перед обедом.
Джейд снова пожала плечами:
– Конечно. Где папа?
Сдержанный вздох.
– Опаздывает.
Разорвав бумажный пакет, Кори достала полдюжины вялых серых колбасок, разложила их на раскаленном гриле и потыкала лопаточкой. Плюхнувшись на соседний шезлонг, она сердито посмотрела на меня, очевидно ожидая моей реакции.
Я задержалась у гриля, размещая перечные кебабы в промежутках между колбасками Кори. Закончив с этим, я открыла две бутылки пива и протянула одну Кори. Она пристально посмотрела на меня, беря ее, но я лишь улыбнулась и села в шезлонг рядом с ней, увлекшись на мгновение длинным, неторопливым глотком пива.
Приятно было посидеть в компании. Приятно было видеть, как Бронвен развлекается вместе с девочкой своего возраста. Приятно было в тени на веранде слушать шипение барбекю и птичий щебет, не имея никаких срочных дел и – на данный момент – никаких гнетущих тревог. Я решила позволить себе, всего на один вечер, забыть о Сэмюэле и Айлиш и моих копаниях в их истории. Я ощущала, как ослабевают узлы моего неуемного любопытства и меня отпускает одержимость, оставляя для разнообразия в покое.
Момент этот длился недолго. В пахнущий луком и травами покой проник далекий рокот. Звук был едва уловим поначалу, похож на слабое гудение сбившейся с дороги пчелы, но нарастал по мере приближения автомобиля.
Я мысленно следила за его продвижением. Он у начала подсобной дороги, черная «Тойота» – грузовик с хромированными деталями колес и собачьей шерстью на сиденьях. Грохочет по изрытой ямами щебеночной дороге, то ныряя в тень деревьев, то выныривая из нее, едет вдоль края долины с ее чашей изумрудных пастбищ, прорываясь наконец сквозь эвкалиптовую рощу под домом, как это сделал часом ранее «мерс» Кори.
– Папа приехал! – закричала Джейд, и они с Бронвен вскочили и побежали его встречать.
Кори воспользовалась моментом и накинулась на меня, едва девочки выбежали за пределы слышимости.
– Одри, ты так ужасно шокирована?
Укол вины. Запись в дневнике Гленды о попытке Кори поцеловать ее вспыхнула в моем мозгу. Мне следовало тогда же признаться. О дневнике, обо всем. О конкурсе Гленды на лучший рассказ и признании Клива о том, что он знал Айлиш в детстве, о его ссоре с Луэллой, а затем о жестоком нападении на Хоба Миллера. О том, как Бронвен нашла в дупле жестяную коробку, и о том, как несколько дней спустя я застала Хоба шарящим в дупле, ищущим что-то.
Но я медлила слишком долго. Кори внимательно смотрела на меня, на лбу у нее обозначилась легкая морщинка.
– Конечно, нет, – сказала я. – В любом случае я вроде бы подозревала.
– О-о-о? Правда? Что же меня выдало? Ботинки, да? Элайза всегда говорит, что у меня слишком мальчишеский стиль в одежде…
Большое искреннее лицо Кори с россыпью симпатичных веснушек и в ореоле золотисто-рыжих волос находилось в нервирующей близости и почти заставило меня признаться. Вопрос эхом отразился в глазах Кори цвета молочного шоколада, но я не посмела открыть рот даже для того, чтобы ее успокоить. Мне страстно хотелось сказать правду и покончить с этим, отвести ее в мою комнату и выдвинуть нижний ящик прикроватного столика, предъявить покоробившийся от воды дневник, который когда-то принадлежал ее лучшей подруге.
Но я не могла сказать. Пока не могла.
Я подняла плечи, неудачно копируя непринужденное безразличие Джейд.
– Не из-за рабочих ботинок. Это была просто догадка.
– Понятно, – только и сказала она, и я поразилась, увидев, как облегченно расслабилось ее лицо.
Это натолкнуло меня на мысль, что гневная реакция Гленды тогда, много лет назад, у ручья, напугала Кори, заставила сомневаться в себе на каком-то критическом уровне. И в лучшие-то времена быть отвергнутой – горькая пилюля, но насколько же она должна быть горше для девочки-подростка, которая впервые раскрывает свое тайное «я»?
Кори все еще наблюдала за мной: очевидно, ей были любопытны мои мысли, как и ее – мне.
– Значит, ботинки нормальные? – с сомнением спросила она.
Несмотря на свои невеселые размышления, я вдруг засмеялась.
– Отличные. Более чем хорошие – на самом деле они даже красивые.
Кори застенчиво, в нехарактерной для нее манере, улыбнулась, улыбка становилась все шире, пока не засияла во всю силу.
– Ты погоди, я еще скажу об этом Элайзе. Она взбесится.
Мы улыбнулись и чокнулись бутылками, глотнули одновременно. Холодное и сладкое пиво заливало любое еще остающееся чувство вины из-за того, что я держала дневник Гленды у себя.
Как раз тогда на кухне раздался топот ног – двух маленьких пар в сандалиях, одной большой – в ботинках. Сетчатая дверь распахнулась. Джейд и Бронвен ворвались на веранду, сопровождаемые Дэнни.
– Почему ты так задержался? – потребовала у брата ответа Кори, не утруждая себя языком жестов.
Дэнни прижимал к груди букет темно-красных гладиолусов в розовой папиросной бумаге, бутылку красного вина, кучу бумажных пакетов с логотипом пекарни и громадную, в цветочек, коробку с печеньем. Поскольку руки были заняты, он был не в состоянии объясняться знаками и, отвечая Кори, пожал плечами и зашевелил губами, безмолвно объясняясь.
Я обнаружила, что чтение по губам – не самая сильная моя сторона, и понятия не имела, что он ей говорил. Заинтригованная, я не сводила глаз с его губ. Как он общается на работе, когда держит на руках больное животное? Как ему удается успокоить взволнованных владельцев домашних питомцев или обеспокоенных фермеров, которые не понимают языка жестов, не читают по губам? Со всеми ли он прибегает к запискам, как со мной вчера в церкви? Или ослепляет их своей лучистой улыбкой на тысячу мегаватт и надеется на лучшее?
Он переключил свое внимание на меня. Я пялилась на него, и ему, кажется, понравилось, что он меня за этим застукал. Широким жестом он протянул мне цветы и поймал в прожектор улыбки, о которой я только что размышляла.
Я рывком поднялась с шезлонга, выплескивая пиво себе на запястье, и через веранду направилась к Дэнни.
– Давайте я вам помогу, – сказала я, забирая цветы и вино и идя к столу. – Боже, какие красивые, и к тому же темно-красные, мои любимые, я просто обожаю гладиолусы. – Я закрыла рот, устыдившись. Я не только трещала как сорока, но и отвернулась от него – он не мог видеть моих губ, чтобы читать по ним.
Я услышала тихий смешок со стороны Бронвен и ругнулась себе под нос. Щеки у меня пылали. Сознавая, что они, пожалуй, состязаются в цвете с гладиолусами, я потянула время, передвигая тарелки, чтобы освободить место для вина.
– Что горит? – сказала Кори, вскакивая, чтобы проверить гриль. Раздалось сильное шипение и потрескивание, когда она с ворчанием стала переворачивать колбаски и кебабы. – Теперь можно положить стейки, – сказала она мне, – все остальное готово.
– Хорошо. – Я повернулась к Дэнни. – Спасибо за цветы, – неуклюже прожестикулировала я. – Рада, что вы здесь.
После того как освободился от пакетов со сдобой и жестянки с печеньем, он открыл вино. Помедлил, чтобы поймать мой взгляд, и ответил быстрым жестом: отодвинув ладони от лица, он согнутым пальцем ткнул себя в грудь:
«Спасибо, что пригласили».
Одет он был в бледно-зеленую рубашку и джинсы с налипшими на них сухими травинками. Выглядел он немного помятым, а его волосы – кудрявые, нуждающиеся в стрижке – были всклокочены, словно он расчесывал их пальцами. Мне живо представились они с Нэнси Фейерверк на сеновале: оба с порозовевшими щеками, кожа блестит от испарины, лениво улыбаются, отряхивая сено с одежды друг друга…
Я осознала, что опять таращусь на него, и, кашлянув, торопливыми жестами вежливо поинтересовалась:
«С вашей маленькой овечкой все хорошо?»
Лукавый взгляд, полуулыбка. Затем – большие пальцы вверх.
«Все хорошо».
Наступил момент неловкости. Дэнни перестал улыбаться, только его любопытный взгляд задержался на моем лице, как будто он ждал, что я вновь заговорю. Я судорожно придумывала, что еще сказать, о чем спросить, чтобы рассеять неловкость нашего общего молчания. Но вместо этого поймала себя на том, что перебираю черты его лица, сравнивая с Кори. У него были бледные веснушки, как и у сестры, и широкое, красивой формы лицо, но на этом сходство заканчивалось. Кожа у него была бледнее, глаза близки к изумрудному цвету, тогда как у Кори – светло-карие. В его темно-каштановых волосах, более светлых на концах там, где они выгорели на солнце, не было и намека на рыжину.
– Одри, твои стейки…
Я присоединилась к Кори у гриля и занялась раскладыванием замаринованных стейков на освобожденном для них месте. Влажные стейки встретились с горячей поверхностью с шипением, распространяя облака ароматного пара.
– Будут готовы через пять минут, – объявила Кори, вытирая лоб тыльной стороной ладони, и сделала глоток пива.
Я принесла винный бокал для Дэнни, наполнила его, чтобы опять не пуститься в болтовню, потом помогла Кори раздать еду. Колбаски из тофу – ей и Джейд, семгу – себе, Бронвен и Дэнни, перечные кебабы и кебабы из феты – всем.
Каким-то образом мы умудрились наесться до отвала под обсуждение разных тем: почему вегетарианские колбаски идеологически вредны; заменит ли однажды Джейд у своего отца ветеринарную сестру Нэнси; в какой именно момент Бронвен впервые осознала свою страсть к насекомым; и разве не здорово, что Одри согласилась сделать портрет Кори, – общаясь все это время на путаной смеси знаков, движения пальцев, чтения по губам и похожей на шарады жестикуляции.
В разгар трапезы я поймала себя на размышлениях о том, почему Дэнни никогда не пытается говорить, почему он редко издает вообще какие-то звуки – если не считать скрипучего смеха.
Я вспомнила свою глухонемую подружку из художественной школы, Ронду, ту, которая была полна решимости общаться вербально, хотя ее никогда не понимали. Она всегда говорила во весь голос, фыркала и хохотала над шутками, орала через улицу своим слышащим друзьям и, как правило, громко топала, будто пыталась – одной силой своей громкости – пробиться сквозь навязанные ее глухотой стены и более полно соединиться с остальным миром.
Дэнни же, казалось, чувствовал себя вполне непринужденно в своей тишине. Ему было комфортно беседовать с помощью записок, чтения по губам или жестов. Не переживая из-за случайных недоразумений. Кори сказала, что он терпеть не может признавать свою ограниченность. Но, возможно, дело не только в этом – возможно, он не чувствует необходимости пробиваться сквозь какие-то границы? Возможно, он счастлив, как есть?
Безумные мысли. Откуда мне знать, о чем в действительности думает Дэнни или что чувствует?
Когда еда закончилась, а тарелки были убраны, мы разлеглись в шезлонгах и передавали друг другу жестяную коробку, в которой, к моей вящей радости и благодарности, оказались потрясающие вишни в шоколаде, изготовленные Дэнни. Кори захватила контроль над кофейником, и скоро темный, сладостно-горький аромат кофе разбавил привкус лука в воздухе. Девочки скрылись где-то в саду, вероятно в тайном убежище Бронвен под палисандром. Я слышала их приглушенную болтовню, изредка перемежавшуюся хихиканьем.
– О, какое блаженство, – провозгласила Кори, потягиваясь в шезлонге, крутя в руках чашку с кофейной гущей и глядя на сад.
Шевелились тени, деревья сделались мрачными и таинственными. Комары пытались – безуспешно – просочиться через мою крепость из свечей с цитронеллой и спирали от москитов. Большие вялые мотыльки кружились вокруг нас, как пьяные, а полчища крохотных черных жучков-камикадзе бомбардировали конфеты, пиво, стол и внедрялись в волосы Кори.
Дэнни вздохнул, глядя на сестру, его руки задвигались слишком быстро, но я уловила – он говорил что-то о крике.
Кори сердито посмотрела на брата, потом на меня, подняв бровь.
– Он всегда жалуется, что я разговариваю слишком громко. Это так, Одри? Неужели я постоянно кричу?
Именно это она сейчас делала, но я так привыкла к ее громогласности, что уже почти ее не замечала. Но все равно мне пришлось сжать губы, чтобы не рассмеяться.
– Я бы не сказала постоянно, – ответила я, – но в основном. Но как Дэнни это отличает?
Она со вздохом расслабилась в шезлонге.
– Он говорит, что со своего места чувствует вибрации моего голоса. Ты можешь поверить этому парню? Хоть бы постыдился, учитывая, что в моей привычке говорить громко виноват он.
В ответ на мой вопросительный взгляд она объяснила:
– Когда мы были детьми, Дэнни кое-как различал слова, если мы кричали, прижав губы к его голове. Вот здесь. – Она постучала себя за ухом. – Думаю, эта особенность так у него и осталась.
Дэнни хлопнул в ладоши и сделал еще один быстрый знак.
Кори закатила глаза.
– Мне нужно слушать свою музыку громко, – возразила она, – это помогает мне думать. В любом случае у тебя нет причин для невежливости, ты жестикулируешь слишком быстро. Одри с трудом за нами поспевает. Бога ради, помедленнее.
Дэнни посмотрел на меня и вздохнул:
«Простите».
«О’кей», – ловко ответила я знаком.
Этот жест я репетировала перед зеркалом. Он казался хорошим универсальным знаком, удобной палочкой-выручалочкой в моменты, когда трудно было подобрать нужное слово. Это был один из немногих знаков, ставших теперь для меня привычными.
Улыбка Дэнни продлилась чуть дольше, чем следовало. Искорки в его глазах заставили меня заволноваться. Бывают же такие эффектные мужчины. Одну половину его лица скрывала тень, другая была освещена золотым светом фонарика. Я собралась уже отвести глаза, но тут Дэнни снова принялся жестикулировать, на сей раз медленно и четко.
«Ее крик вас не беспокоит?»
Я криво усмехнулась.
– Моя старая тетя Мораг говорила очень громко из-за ненадежного слухового аппарата. Думаю, я к этому привыкла.
Дэнни озадачился, но Кори пояснила мои слова несколькими быстрыми жестами. Поняв, Дэнни фыркнул – единственный звук, кроме хриплого, с присвистом смеха, который я от него слышала. И снова с улыбкой заговорил руками. На щеках появились ямочки, а глаза заблестели. Я против собственной воли не могла отвести взгляда от его лица, забыв о жестикулирующих руках.
Кори пустилась рассказывать очередную историю – что-то про то, как Дэнни и Тони нашли коттедж с привидениями.
– Эту хижину построили первые поселенцы, – объяснила она для меня, – очень давно, думаю, в тысяча восемьсот семидесятых. Это была довольно крепкая сторожка, спрятанная в буше рядом с границей национального парка. Мальчики иногда тайком там прятались, и однажды Дэнни пришел домой страшно бледный, больной от страха. Он сказал, что они с Тони видели там призрак женщины…
История меня заинтересовала, потому что проливала дополнительный свет на детство Тони. Но я смотрела на Дэнни, зачарованного рассказом сестры, на его внимательные глаза и серьезно сжатые губы, на его совершенные черты лица в трепещущем золотистом свете фонарика. И мысли почему-то снова увели меня в сторону. К моей жизни в колледже и к глухонемой соседке по комнате, Ронде. К концу первого семестра она обзавелась парнем. Он казался приятным, этот симпатичный хиппующий выпускник. Я радовалась за нее… пока ее парень не начал оставаться на ночь. Поскольку себя Ронда не слышала и не сознавала, что ее экстатические крики могут разноситься по всему дому, тонкие стены ее не смущали. Я же эту парочку проклинала. Находясь в соседней спальне, я вынуждена была накрывать голову подушкой, в равной степени шокированная и завороженная шумом, доносящимся из другой комнаты.
Подавшись вперед и зажав ладони между коленями, Дэнни наблюдал за сестрой. Полумрак лишь подчеркивал характерный для него взъерошенный, полудикий вид. Может, все дело было в растрепанных волосах или в серьезной складке губ, которые в любой момент могли сложиться в сногсшибательную улыбку. Может, дело было в том, что он никогда не говорил и что мои беседы с ним всегда оставляли у меня ощущение неспособности контролировать ситуацию. А может, просто за пять лет после ухода Тони я мало общалась с мужчинами – и, безусловно, никогда с такими опасно притягательными, как Дэнни Уэйнгартен.
Мои предательские мысли метнулись к сеновалу, но на сей раз Дэнни там был со мной – я стряхивала соломинки с его рук, широкой спины, я приглаживала пальцами эти неукротимые волосы…
Разумеется, Дэнни выбрал именно этот момент, чтобы взглянуть на меня.
Я почувствовала, что краснею, и быстро опустила голову, думая, как удачно, что на веранде так темно и фонарики дают только пятна света.
Когда внимание Дэнни вернулось к сестре, я посмотрела в сад. Солнце опустилось ниже, окрасив восточный горизонт в сине-фиолетовый цвет, а западный – в розовый. Пурпурно-серые холмы сделались темно-розовыми – пейзаж в точности как на одной из акварелей Тони.
Ни с того ни с сего Кори вспомнила, что ей нужно срочно позвонить, – подозреваю, это было с ее стороны уловкой, дабы оставить нас с Дэнни наедине. Пока ее голос доносился из кухни, взгляд Дэнни оставался прикованным к моему лицу, как будто разглядывать без единого замечания другого человека – самое естественное дело в мире.
Сначала это меня нервировало. Я перебирала возможные реплики, чтобы завязать разговор: сильно ли изменился Торнвуд со времен его детства? Часто ли они с Тони купались в ручье? Хотел ли он когда-нибудь стать городским ветеринаром? Все это звучало так банально, так далеко от того, о чем мне на самом деле хотелось спросить: «Между вами и Нэнси что-то есть? Почему вы не говорите? Вы действительно такая загадка, какой кажетесь?» Я стиснула зубы, потом попыталась улыбнуться. Когда это не получилось, я просто, в свою очередь, уставилась на него.
Наше молчание как будто бы не смущало и не беспокоило Дэнни. Возможно, он к этому привык, для него мир всегда был безмолвным. Я вспомнила, как вчера в церкви он сказал, что не всякая тишина одинакова, и начала понимать. Между нами возник покой, лишенный речи, свободный от разговоров, оттеняемый пением цикад и стуком жучков о бумажные фонарики Бронвен, приглушенной беседой Кори по телефону. И однако я остро осознавала его присутствие и не могла переключить внимание ни на что другое.
Его руки задвигались:
«Вы слышите девочек?»
Я кивнула, указывая в сторону палисандрового дерева. Прибегнув к объяснению на пальцах, я споткнулась на имени Бронвен, забыв о перекрещенных пальцах на «в» и испортив все дело.
«Тайное место Бронвен».
Дэнни кивнул:
«В Торнвуде их полно».
Пальцы у меня заплетались.
«Легко заблудиться».
«Вам здесь нравится?»
Этот вопрос вызвал у меня искреннюю улыбку.
– Обожаю это место, – сказала я, двигая пальцами перед сердцем. Провела рукой от живота к груди, затем обозначила разделительную линию пальцами. – Чувствую себя как дома.
Дэнни оторвал взгляд от моих губ и улыбнулся, глядя мне в глаза.
«У вас есть тайное место?»
Может, виной тому было выпитое пиво, а может, приятное послевкусие от конфет. Или жара, или легкое изнеможение после длинного, насыщенного эмоциями дня, или даже непривычное удовольствие от пребывания в компании. Неважно, по какой причине, но я вдруг встала и поманила Дэнни за собой. Мы спустились с веранды, прошли через густые заросли гортензии и попали на дорожку, которая вела в сад перед домом. Миллеры великолепно поработали. В сумеречном свете трава казалась зеленым ковром. Деревья избавились от неправильно росших веток и теперь стояли в тени, их опавшие листья шуршали у нас под ногами.
Когда мы дошли до увитой розами беседки, я повернулась к Дэнни:
– Не совсем тайное, но, бесспорно, мое любимое.
Он нахмурился, озираясь вокруг и, без сомнения, видя в беспорядке перепутанные голые плети и искривленные стебли, полусгнившие цветочные арки и высохший шиповник. Затем неторопливо подошел к скамейке внутри беседки и тяжело сел. Отломил, дотянувшись, ягоду шиповника с нависавшей арки. Растерев пальцами сухой плод, он высыпал труху на землю, затем посмотрел на меня. Я поняла, что он недоумевает – совсем как недоумевал Хоб, – почему я не выкопаю все эти старые розы и не посажу вместо них что-то другое?
Поэтому я подготовила оправдания: «Я жду зиму для новых посадок», «Я все еще изучаю каталоги растений с голой корневой системой, меня отвлекли другие заботы, в смысле, переезд», – и все прочее…
Но вопроса так и не последовало. Вместо этого Дэнни похлопал по скамейке рядом с собой, приглашая меня сесть. Достал блокнот, написал строчку, слова едва читались в полумраке:
«Я понимаю, почему вам здесь нравится».
– Да?
«Отличный вид».
– О… конечно.
Мгновение я поерзала, а потом пересела на дальний конец скамейки и проследила взгляд Дэнни, обращенный на долину.
Солнце скрылось за далекими, оставшимися от вулкана горами. Небо было черным, темнота поглотила сад. Ночь была роскошной, воздух тихим и теплым, в нем едва улавливались остатки ароматов нашего пира. Девочки теперь вели себя поспокойнее, но их бестелесные голоса плыли в тишине – приглушенным контрапунктом к эху громких, взволнованных переговоров Кори где-то в доме.
На моем запястье сомкнулись пальцы. Дэнни игриво тянул меня, пока я не села немного ближе. Он раскрыл мою ладонь и начал водить по ней пальцами. Вверх по руке до головы побежали мурашки, зазвенело в ушах. От Дэнни что-то исходило – не тепло, нет, но какая-то первобытная энергия, заставлявшая чувствовать себя странно и глупо, не совсем в своей тарелке.
Он постучал пальцами по моему запястью. Я опустила глаза. Затем поняла, что он делает. Он написал букву «В», затем «А». Я улыбнулась. Он отказался от блокнота, предпочтя мою руку. Я наблюдала за появлением слов: «Вам нужны новые розы».
Я засмеялась. Вообще-то захихикала. Как влюбленная дурочка. С каждой новой буквой по моей ладони и вверх по руке бежали новые мурашки, будоража нервную систему, одолевая мое сопротивление. Моего затылка и волос касались трепыхающиеся крылья бабочек. Я попыталась вырваться, но сильные пальцы Дэнни не отпускали меня.
«Я посажу их для вас».
Я покачала головой.
– Нет.
«Да, я даже куплю розы. Какой ваш любимый цвет, розовый?»
Когда он выписал завиток вопросительного знака, я узнала о себе смешную подробность: я боюсь щекотки.
– Нет! – почти выкрикнула я, вырывая руку. – Зеленый.
Дэнни отстранился. Он смотрел мне в лицо, его глаза скрывались в тени. Отломив прутик от ветки рядом со своей головой, он разломал его на кусочки, бросил их под ноги. Потер круговым движением грудь и постучал себя по подбородку, что означало: «Мне нравится это тайное место».
Я улыбнулась. Оно мне тоже нравилось.
* * *
– Вы только посмотрите на них, – сказала Кори позднее, когда мы задержались на передней веранде, наблюдая за девочками, которые в полуночи носились по траве внизу. – Смешные, как две мокрые курицы.
Мощный коктейль из чрезмерного возбуждения, чрезмерного количества шоколада и чрезмерного хихиканья в сочетании с поздним часом превратил двух обычно спокойных девочек-подростков в буйных дурочек. Дэнни пытался подогнать их к «Тойоте», чтобы завлечь туда Джейд и увезти домой, но они продолжали верещать и метаться из стороны в сторону, вопя что-то насчет преследования толпой призраков.
– Мне не следовало рассказывать им о коттедже с привидениями на земле Сэмюэла, – с сожалением проговорила Кори. – Кажется, я помню, что он похоже повлиял на нас с Глендой.
Я смотрела, как залитые лунным светом тени мечутся по лужайке.
– Да, история про старую хижину поселенцев получилась весьма зловещей.
– Надеюсь, у Бронвен не будет ночных кошмаров.
Я посмотрела на Кори:
– То же самое ты сказала мне при нашей первой встрече.
Она пожала плечами:
– Я знаю, но история Сэмюэла была настоящей. На самом деле в коттедже нет привидений. Хотя, – добавила она, лукаво подняв брови, – оно действительно существует… И если ты когда-нибудь его найдешь, берегись! – Она погрозила пальцем и зловеще захохотала.
Я шутливо толкнула ее плечом, потом снова перевела взгляд на фигуры внизу. Дэнни оставил попытки заманить Джейд в машину, решив, без сомнения, что самый разумный способ действий – дождаться, пока девочки выбьются из сил. Он спустился немного вниз по склону и стоял спиной к нам, всматриваясь в мрачную впадину долины, сунув руки в карманы, съежившись, словно от прохлады.
Кори ткнула меня локтем в бок.
– Спасибо, подруга.
– За что?
– Мы повеселились. Даже Дэнни получил удовольствие… для разнообразия.
Я переключила внимание на мужчину на краю сада.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что он остался. Обычно он в плохом настроении сваливает домой еще до начала праздника.
– Почему?
– Не каждый готов объясняться знаками, Одри. Не каждый делает усилие. Конечно, многие считают это необходимым, но, с другой стороны, с Дэнни не всегда легко общаться. Светские беседы вести с ним бесполезно, он говорит, что это пустая трата энергии, затем сердится, когда люди не обращают на него внимания. Он всегда был таким, даже мальчишкой.
– Я так понимаю, он не родился глухим?
– Нет, он перенес в младенчестве менингит. Подозреваю, с ним было бы так же нелегко, будь он слышащим. Хуже всего, конечно, было первое время, когда он учился разговаривать знаками, а мама и папа еще только перестраивали свою жизнь под воспитание глухого ребенка. Положение улучшалось медленно, он всегда выходил из себя, когда мы его не понимали. Беда в том, что его злость выражалась не в криках, как у большинства детей. По комнате летали тарелки, ложки, обувь. Однажды – к полному ужасу мамы – он запустил в нее стаканом с дедушкиной челюстью.
– Он кажется… не знаю, настороженным. Отчужденным. Только-только мы хохотали как безумные, а в следующую секунду он помрачнел. Надеюсь, я ничем его не обидела?
Кори хмыкнула и, нахмурившись, взглянула на силуэт брата.
– Видимо, надвигается гроза.
– Да?
– Он всегда чувствует, даже когда она еще за много миль отсюда. Возможно, улавливает запах, или чувствует ее, или – моя личная теория – ощущает изменение атмосферного давления. Но в любом случае никогда не ошибается.
– Он не любит грозы?
Кори покачала головой.
– Шесть лет назад его жена Марси погибла в грозу. Она выбежала за своей собакой, которая испугалась, и на нее упала ветка дерева. Это была громадная кривая ангофора… Во времена заготовок леса их называли делателями вдов. Древесина пробковая, но тяжелая, когда намокнет. Марси тоже была глухой, поэтому не услышала треск ломающейся ветки. Дэнни нашел жену придавленной, но пока он сбегал за пилой и распилил ветку, Марси умерла. Он винит себя, считает, что не должен был позволять ей выходить за собакой, должен был быстрее сдвинуть ветку. Он так себя и не простил.
– Это была не его вина.
– Да, не его. Но он же упрямый как осел. К тому же в это время года здесь бывает много гроз. У бедного старого Дэнни есть все основания для печали.
– Почему он не разговаривает?
Кори посмотрела на брата, стоявшего внизу, на темном склоне. Ее лицо смягчилось. В тусклом освещении веранды ее глаза больше не казались карими. Они посветлели, сделались теплыми и золотыми, как мед.
– По-моему, он делает это из чувства противоречия. А возможно, чтобы оказать сопротивление каким-то извращенным способом, понятным только ему одному. Больше всего он ненавидит, когда его считают слабым. В мире слышащих глухота – это инвалидность. Но пусть кто-нибудь попробует сказать Дэнни, что он инвалид. Если он не может говорить так ясно, как нормально слышащие люди, тогда уж лучше он не будет говорить вообще.
– Разве не стала бы его жизнь легче, если бы он попытался?
– О да, но даже не мечтайте сказать ему об этом. Последний из тех, кто попытался убедить его говорить, заработал перелом носа.
Я новым взглядом посмотрела на смутную фигуру на лужайке.
– Запомню, что не надо на него давить… Господи, это ведь не ты была, нет?
– Боже, нет! Учитель в школе. У парня были хорошие намерения, но Дэнни просто сорвался. Ему тогда было около пятнадцати. Тони сбежал за год до этого, и Дэнни не справлялся. Он настоял на том, чтобы ходить в обычную школу, хотя в те дни средняя школа в Мэгпай-Крике не имела соответствующего оснащения для глухих учеников. Его предупредили, настоятельно советовали вернуться в специальную школу в Брисбене. Слали письма домой, даже угрожали судебным иском – все без толку. В конце концов один из учителей попытался урезонить Дэнни и предложил помощь в оформлении заявки на грант для получения слухового аппарат и в обучении говорить, но Дэнни, в типичном для него духе, пошел на поводу у своих первобытных инстинктов и съездил бедолаге по физиономии.
– Немного чересчур, – заметила я.
Кори вздохнула.
– Для него быть глухим – не больше чем иметь зеленые глаза, когда у всех остальных они голубые. Он отказывается признавать ограниченность своих возможностей, что, должна сказать, к сожалению, не всегда служит к его выгоде.
– Однако ты должна восхищаться, что он придерживается своих убеждений.
Кори с сомнением хмыкнула.
– Но, полагаю, когда бедняга Росс О’Мэлли ждал у хирурга, чтобы ему вправили нос, он не аплодировал верности моего брата собственным убеждениям.
Я взглянула на Кори:
– Росс О’Мэлли? Он ведь сейчас преподает в начальной школе?
– Да, ты с ним, наверное, познакомилась?
– Пока нет. Его не было, когда у Бронвен начались занятия. У меня договоренность о встрече в понедельник.
Кори фыркнула.
– Повезло же тебе, посмотришь на чудака. Однако должна сказать, что у меня сохранились прекрасные воспоминания о Россе. Двадцать с чем-то лет назад он учил меня и Гленду в нашей средней школе. Тони – тоже.
«Тот самый Росс Гленды», – догадалась я.
– Какой он?
Кори достала из заднего кармана звякнувшие ключи.
– Немного чудной, но довольно милый. Какой-то запуганный, я думаю.
– Запуганный?
Она внимательно изучила ключи, взвесила их на ладони, потом посмотрела на меня.
– Вскоре после смерти Гленды Росс ушел из школы. Мы думали, что его перевели, но потом, год спустя, он вернулся. Я невольно гадала, не поразила ли его смерть Гленды больше, чем он показывал. Она была сто лет в него влюблена. Я жутко ревновала, ненавидела любого, кто отвлекал Гленду от меня. Но вернувшийся на следующий год Росс переменился: стал менее уверенным в себе, почти раздражительным. Как будто превратился в старика. Позднее я слышала, что в ночь смерти Гленды у жены Росса случился выкидыш, и вскоре после этого их брак распался. Неудивительно, что бедняга выглядел таким деморализованным.
– Думаешь, между ним и Глендой что-то случилось?
Кори отвела взгляд, переключив внимание на долину.
– Не знаю. Мы с Глендой вроде как поссорились и несколько месяцев до ее смерти не разговаривали. Я больше всего об этом сожалею, – тихо добавила она. Затем встряхнулась и хрипло рассмеялась. – Представить не могу, что между ними что-то было. Росс был ее первой серьезной любовью – к несчастью, единственной. В те дни он считался очень сексуальным, хотя, увидев его теперь, ни за что не поверишь…
Не знаю, что она собиралась сказать, но ее прервал на полуслове резкий сигнал клаксона. Внизу, на границе темноты, вспыхнули фары «Тойоты». Затем автомобиль покатил прочь по подсобной дороге, поглощенный вскоре черными деревьями. Мгновение спустя на веранду, топая, взлетела Бронвен, на ее бледном лице пылали алые пятна щек.
– Мама, Джейд тоже едет в школьный лагерь в следующую пятницу. Я не дождусь!
– Спокойной ночи! – проревела Кори на полпути по дорожке. – Увидимся в середине недели, а может, раньше.
Я не успела никому из них ответить, потому что Бронвен скрылась в доме, а Кори уселась в свой «мерс», нажала на клаксон, как ее брат, и с шумом покатила по подъездной дороге – свет ее фар то пробивался сквозь трясину теней, то исчезал, поглощаемый непроницаемым черным валом буша, который окружал Торнвуд и оберегал его от остального мира.
Я стояла в тишине, перебирая в памяти этот вечер: разговоры, душевность, вспышки веселья. Даже припомнила грустную нотку, на которой он закончился.
После хаоса нашей с тетей Мораг кочевой жизни я жаждала стабильности. И однако же меня всегда влекло к людям независимым и непредсказуемым. К художникам, музыкантам, поэтам. К изгоям, укрытым тенью необъяснимой тайны и при этом странно притягательным.
Как Тони. За исключением того, что он был лучшим в обоих мирах… или так я думала сначала. Уравновешенный и практичный. Вдохновляющий товарищ, внимательный возлюбленный. Организованный и амбициозный, контролирующий свой мир. Но стоило мне чуть-чуть поскрести поверхность, как проявлялся человек совсем другого сорта: вспыльчивый и скрытный, мучимый ночными кошмарами и долгими приступами молчания. В конце концов пропасть между нами оказалась слишком широкой.
После его ухода я утешала себя тем, что неопытность помешала мне разглядеть очевидное: Тони был художником и по натуре непредсказуемым. Я ошиблась в выборе, в следующий раз буду осторожнее.
Только следующего раза не последовало. Целых пять лет я была одна, ни разу не почувствовав даже малейшего интереса со стороны представителей мужского пола. За это время я составила и отшлифовала свое представление об идеальном мужчине: спокойный человек с простой профессией типа бухгалтера, без малейшего намека на художественные способности; заслуживающий доверия, надежный, возможно, даже немножечко скучный. Наверняка с ним было бы лучше, чем с тем, кто обещал быть с тобой навек, а потом сбежал и женился на другой.
Мне вспомнилось сияющее лицо Дэнни Уэйнгартена, его эффектные зеленые глаза, долгая улыбка. То, как завороженно он следил за историей из их детства, которую рассказывала сестра, а потом – как рассматривал меня, словно пытался понять, что происходит в моей душе. Мне припомнилось его прикосновение к моей руке, когда мы сидели в увитой розами беседке, от которого по телу побежали мурашки и шевельнулось желание, опутывающее своими запретными чарами мое сердце.
Я вздохнула и поспешила укрыться в доме.
После ухода Тони мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Как ни заманчиво свернуть с дороги в поисках хаоса и волнений, я не намеревалась когда-либо еще сбиваться с пути.
Глава 15
Когда они уехали, я быстренько прибралась и перемыла посуду. Фоном служило тихое проникновенное пение Ника Кейва, его замечательная Nocturama настраивала меня на задумчивый лад. Затем, все еще находясь под впечатлением о приятном вечере, налила в кастрюлю воды и поставила ее на огонь.
Скоро заклубился, увлажняя воздух, пар. Последние страницы дневника Гленды пришлось разлеплять дольше, чем первые. Начав с конца, я пробиралась к середине книжки. К моему разочарованию, большинство оставшихся страниц оказались пусты. Большинство, но не все. Если повезет, я прочту запись, рассказывающую, чем закончилось жестокое нападение Клива на Хоба Миллера.
Крадучись идя по коридору мимо комнаты Бронвен, я остановилась и прислушалась. Тишина. Я знала, что дочь не спит, и, услышав шелест страницы, догадалась, что Бронвен погружена в чтение.
Бесшумно, как кошка, я поспешила по коридору к себе, горя нетерпением наверстать упущенное.
* * *
Суббота, 11 октября 1986 года
Неделя со дня папиного нападения на мистера Миллера. На папу подали в суд по обвинению в нападении. Слушания в суде состоятся через три недели. Он не устает заверять нас, что всего лишь заплатит штраф, но я не понимаю, как можно напасть на человека, ранить его ножом и не сесть в тюрьму. Я боюсь. Боюсь за папу… И, стыдно сказать, теперь я немного боюсь его. С того дня он изменился. Отдалился как-то. Мне кажется, ему тоже страшно.
Почти пять недель со дня нашей ссоры с Кори. Она все еще со мной не разговаривает. То, что началось как дурацкое недоразумение, разрослось до нелепой ситуации, мы обе слишком горды, чтобы признать свою неправоту. Думаю, поцелуй был не так уж и плох. Если бы я знала, что из-за него потеряю подругу, да я бы поцеловала ее в ответ.
В следующую субботу у нее день рождения. Я купила ей книгу, которую мы обе любили в детстве. «Волшебный пудинг» Нормана Линдси. Немодно, я знаю, и, вероятно, у меня не будет возможности подарить ее Кори… но мне так хочется увидеть, как засветится ее лицо, и снова услышать ее смех, и я так скучаю по ее глупому фырканью, которое всегда меня смешит. Я красиво упаковала книгу и подписала открытку, но, думаю, она навсегда заваляется в нижнем ящике моего стола. Ох.
* * *
Воскресенье, 12 октября 1986 года
Сегодня утром я пошла в дедушкино поместье, сама не знаю зачем, просто двинула по дорожке в том направлении, обдумывая разные вещи, стараясь не плакать из-за тревоги за папу и из-за того, что он сделал мистеру Миллеру.
Начинают цвести полевые цветы. Скоро здесь будет сидеть Тони, рисуя карандашами и акварелью, хотя он мало занимался рисованием после того, как папа свозил нас к Миллерам. Он чаще обычного убегает из дома, но я знаю, что не ради рисунков. Он дружил с Миллерами, и, думаю, он никогда не простит папе его поступок.
День был знойный, поэтому в овраге я остановилась попить воды из ручья. К тому времени как я добралась до дерева с дуплом на краю дедушкиного сада, солнце палило нещадно, и я начала жалеть, что не осталась дома. От слез разболелась голова, и меня угнетало, что дедушкин сад такой заброшенный и заросший.
Я раздумывала, повернуть назад или нет, когда увидела кого-то впереди. Мужчину. Он держал в руке что-то, похожее на сложенный листок. Я слишком поздно его узнала. У меня засосало под ложечкой, но времени сбежать в буш и спрятаться не было. Я застыла на месте.
Он меня увидел.
– Гленда?.. – Голос у мистера Миллера был хриплый, как у вороны. – Мне жаль, девочка, так ужасно жаль. Брат сказал, что ты и Тони видели, что произошло…
Он бормотал как помешанный, но не это напугало меня. Голова у него была забинтована, на глазу кривая марлевая повязка – в пятнах засохшей крови, местами розовая, со впадиной на месте глазницы. Лицо было бледным и блестело от пота, ослепительно белели бакенбарды. Руки у него дрожали. Он выглядел опустошенным, мало похожим на человека, скорее на зомби, чем на живое существо.
– Передай это своей матери, ладно?.. – Он взмахнул листком бумаги, побуждая меня взять его. – Это всего лишь записка, чтобы она знала, что со мной все в порядке. Передашь ей, девочка?
Я отпрянула. Он выглядел не совсем нормальным. Голос у него дрожал даже сильнее, чем руки, и от него пахло «Деттолом» и копотью, может, немного по́том. Он казался хилым и немощным, безусловно из-за своей раны.
Раны, нанесенной моим отцом.
Еле поднимая ноги, я сделала шаг назад, а когда поняла, что мистер Миллер не собирается меня преследовать, повернулась и побежала. Всю дорогу домой я хватала воздух так, будто легкие у меня сузились до размера ореха. Я не могла дышать, не могла позволить себе думать. Только когда достигла безопасного пространства загона рядом с нашим домом, я позволила двум жгучим слезинкам повиснуть на ресницах и скатиться по щекам.
Спотыкаясь, я ввалилась в дом. По счастью, там никого не было – папа ушел на рыбалку, мама дежурила в больнице, Тони… бог знает где. Я швырнула свою одежду в бельевую корзину, хотя она не была грязной, и надела пижаму, забралась в кровать и натянула на себя одеяло. Жара была удушающая, но мне было наплевать. Лучше потеть в постели, пряча слезы в подушку и притворяясь, что подцепила какую-то заразу, – только бы не думать.
Однако он все стоял у меня перед глазами: нездоровое бледное лицо, трясущиеся руки. Волосы у него торчали в разные стороны, как у сумасшедшего. Один глаз синий, как осколок неба, другой спрятан под повязкой в розовых пятнах.
Накрыв голову подушкой, я зажмурила глаза. Случилось что-то очень неприятное. Мистер Миллер всегда хорошо относился ко мне и к Тони, раньше, когда мы постоянно носили ему чатни[11]. Что он сделал, что папа его возненавидел? Почему он так расстроен из-за того, что мы видели нападение, и почему он написал маме записку, что с ним все в порядке?
Записка.
Я села. Поискала глазами носовой платок, затем утерла нос рукавом. Перебирая день нападения, я вспомнила, как папа кричал на маму, размахивая листком бумаги. Затем во дворе он показал тот листок Тони: «Ты носил это по просьбе твоей матери?»
За всеми этими переживаниями я забыла – но теперь вдруг разом вспомнила: мама дала Тони конверт в тот день, когда я шпионила за братом с веранды. Конверт и – я совершенно уверена – немного денег. В конверте было письмо, которое каким-то образом попало к папе.
У меня возникло сильное внутреннее чувство. Если я найду письмо, которое так расстроило папу, оно наверняка объяснит, почему папа взбеленился и напал на мистера Миллера.
Разумеется, папа мог сжечь письмо или выбросить, но я так не думала. Он все хранит, настоящая белка в том, что касается памятных вещиц или подарков, маленьких свидетельств его прошлого. Куча коробок, банок и жестянок с разными вещами рассована у него по всему сараю. Он хранит ржавые болты, сломанные детали от механизмов, которые все еще собирается починить, старые велосипедные колеса, коллекцию старинных бутылок из-под колы. Заплесневевшие альбомы с марками, которые принадлежали дедушке Клаусу, пакетики с семенами, монеты и банкноты с довоенного времени.
Если папа спрятал письмо, тогда я точно знаю, где его искать.
* * *
– Ма-ам?
Я рывком села. Дневник свалился с колен и упал на пол. Бронвен, приоткрыв дверь, заглядывала в щелочку, в пижаме, взъерошенная и заспанная. Однако взгляд ее прояснился, когда она увидела, что я уронила.
Дочь вопросительно на меня посмотрела, затем сказала:
– Уже поздно. Я увидела свет, и мне стало интересно, чем ты занимаешься.
– Просматриваю уроки языка жестов. – Подняв с пола дневник Гленды, я бросила его на постель в кучу учебников. – Ну теперь в постель, да?
Она сердито посмотрела на меня и метнула взгляд на стопку книг.
– Ты, кажется, говорила, что он скучный?
– Что? А, ты об этом? – Я положила ладонь на вздыбившуюся обложку дневника, стыдясь, что первым пришедшим на ум ответом была новая ложь. Я отбросила эту мысль, ухватившись хотя бы за частицу правды. – Ну, наверное, я в итоге увлеклась.
– Тебе удалось выяснить, кому он принадлежал?
Втянув воздух, я посмотрела дочери в глаза и сказала:
– Все еще работаю над этим. – Зевая, я засунула ноги под одеяло, расправила вокруг себя простыню и переложила стопку книг на прикроватный столик. – Что ж, тогда спокойной ночи. – Дотянувшись до лампы, я выключила ее, погрузив комнату в темноту.
Едва щелкнула, закрывшись, дверь, как я опять свесила ноги с кровати и, навострив уши, стала ждать. Голые ступни зашлепали по коридору, скрипнула дверь Бронвен. Я досчитала до двадцати. Затем, взяв со столика дневник, в темноте пересекла комнату, тихонечко выскользнула за дверь, прошла по коридору и очутилась в уединении своей студии.
* * *
4 часа дня. Пятница, 17 октября 1986 года
Боже, о боже, и зачем только я стала его искать!
Во время перерыва на ланч я сказала мистеру Эбботу, что плохо чувствую себя из-за менструации, и он отпустил меня домой. Я знала, что там никого не будет. Папа в Брисбене на работе, у мамы допоздна смена в больнице, Тони где-то болтается. Идеально, подумала я. Взяв с подоконника запасной папин ключ, я пошла в сарай. Письмо я нашла очень скоро. Оно лежало в большой старой жестяной коробке, смятое и порванное на кусочки, но я даже не потрудилась его прочесть.
Потому что увидела кое-что другое.
Это была пухлая пачка конвертов с марками старого образца, перевязанная лентой. Я унесла письма к себе в комнату и часа два читала и перечитывала. И теперь я не знаю, что делать.
Мне нужно с кем-то поговорить. Может, с Кори. Мы вроде как в ссоре, но она нужна мне прямо сейчас. Это важнее, чем глупая ссора между подругами. Выше гордости. Мне нужно только сказать: «Прости, я тебя люблю и хочу снова быть твоей подругой». Она поймет, она хорошая. Я сейчас ей позвоню, как только сердце перестанет биться в горле и я сумею собрать мозги в кучу и говорить…
А может, следует поговорить с кем-то постарше, например, с учителем? Может, с Россом? Да, Росс подскажет, что делать. Потом я пойду к Кори и узнаю, нельзя ли немного у них пожить. Хотя бы на выходных. Я никого здесь не могу сейчас видеть.
По крайней мере, папу. И особенно маму.
Боже, боже! И зачем только я стала искать письмо.
* * *
6 часов вечера. Пятница, 17 октября 1986 года
Я тряслась как лист, когда звонила Россу. Сказала ему, что это срочно, и он ответил, что приедет и заберет меня. Вдалеке загрохотал гром, и первые брызги дождя смочили крышу. Мне хотелось только одного: забраться в большой теплый универсал Росса и попытаться снова почувствовать себя в безопасности. Мы еще не закончили разговор, когда я услышала, что на подъездной дорожке остановилась машина.
Поскольку у мамы вечерняя смена и дома она будет не раньше одиннадцати, я поняла, что это, должно быть, папа. Его взбесит, если здесь появится Росс, и я знала, что он никогда не позволит мне сесть с Россом в машину, пусть даже он мой учитель. Поэтому я сказала Россу, что встречусь с ним в дедушкином доме, где мы сможем поговорить наедине. Росс сказал, что будет там через полтора часа, и это все равно показалось вечностью, но затем он настоял, что отвезет меня к Кори, и я почувствовала себя лучше.
Поэтому я собрала сумку, удачно вспомнив в последнюю минуту про подарок для Кори, и оставила на подушке записку для мамы, что позвоню ей, как только попаду к Уэйнгартенам. Затем я вылезла в окно своей спальни и побежала вверх по холму в дедушкино поместье.
В настоящий момент я сижу, скрючившись, в полом дереве. Дождь начался через двадцать минут после моего ухода из дома, черт бы его побрал. Сначала он накрапывал, но к тому моменту, как я добралась до края дедушкиного сада, он поливал вовсю, и мне пришлось искать убежища внутри выгоревшего бука. Я промокла насквозь, и дерево воняет старой обугленной древесиной и мочой поссумов, но это лучше, чем сгинуть в потопе снаружи или съехать вниз головой по грязному склону.
Теперь я сижу здесь в темноте, только с маленьким фонариком, чтобы писать. Пачка писем лежит во внутреннем, с «молнией», кармане моей ветровки. Весит она немного, но ощущение такое, будто это кирпич. Мои мысли об этих письмах – полная путаница, я даже не могу о них писать. Каждый раз, когда я дохожу до них, мой разум отказывается функционировать. «Неправда, – говорит он. – Просто неправда».
Ветер свищет в деревьях, листья шелестят, а ветки стонут. Прошло полчаса, но дождь не унимается. У меня еще есть время до встречи с Россом. Пять минут у меня ушло на то, чтобы собраться, сорок – дойти сюда… Поэтому, думаю, он появится минут через пятнадцать, если, конечно, приедет вовремя. Сейчас мне нужно просто наплевать на дождь и побежать с холма к дедушкиному дому, но здесь нет электричества, и место жуткое, когда темнеет. Я достаточно напугана, после того как прочитала письма.
Глупо, но я постоянно вспоминаю то, о чем мне рассказала Кори, – про старую хижину на холмах, на границе с парком. Жуткая старая развалюха, я была неподалеку всего несколько раз, потому что меня от нее в дрожь бросает. Тони и Дэнни клянутся, что в ней водятся привидения. Правда, их это вроде не особо беспокоит, они постоянно там пропадают в сухую погоду, играя во что там играют в буше мальчишки – строят из себя беглых преступников или кого-то еще.
Ну, в общем, однажды Кори сказала мне, что видела старую хижину во сне. «Я стояла в дверях, – шепотом говорила она, – заглядывая внутрь. Было темно, и там кто-то находился. Я хотела убежать, но от страха не могла шевельнуться. В хижине было темно, но у окна стояла женщина. На нее падал лунный свет, и я увидела, что она вся в крови, и поняла, что она мертвая. Но вот что еще страшнее. Она, наверное, почувствовала, что я там, потому что оглянулась через плечо и уставилась на меня. Я с криком проснулась».
«Бедняжечка», – сказала я ей и потерла свои руки, чтобы прогнать мурашки.
«Но, Гленни, – прошептала она. – У этой женщины… у нее было твое лицо».
Черт, что за дура. Я до сих пор страшно боюсь. Не следовало такое писать. Одна вещь тревожит меня в связи с придумыванием разных историй: все эти повороты сюжета в повествовании, некоторые из них пугающие, некоторые грустные – каким образом писателю удается не пускать все это в свою жизнь? Росс говорит, что писателей – художников и музыкантов тоже – защищают их музы, но я что-то не уверена. Как-то раз я написала рассказ о девочке, у которой умерла мать, и вскоре после этого мама на неделю слегла в постель и отказывалась вставать. Я так перепугалась, думала, что она умрет. Хуже того, убедила себя, что это я убила ее своим рассказом. А потом в один прекрасный день она просто взяла и поднялась с постели, приняла ванну и вымыла голову, затем стала жить, как будто ничего не случилось. Но это заставило меня задуматься: какой же силой обладают слова?
Жаль, у меня нет этой силы сейчас, я бы заставила этот мерзкий дождь перестать сию же минуту. Я только высунула наружу голову. Пейзаж скрылся за пеленой дождя, деревья стоят темными пятнами, смутные, как привидения…
Черт. Опять привидения. Я забыла, каким зловещим может быть дедушкино поместье ночью. Сюда никто не приходит, кроме меня и Тони… И в тот раз, однажды, приходил мистер Миллер. В тот день он был немного похож на привидение – с этими всклокоченными белыми волосами и с повязкой на глазу, в пятнах крови, как персонаж из фильма ужасов…
Черт. Надо перестать пугать себя. Мне опять нужно попи́сать, я вся на нервах и вздрагиваю от каждой тени. Эй, дождь перестал грохотать по листьям, должно быть, он стихает. Я только что посмотрела на часы, у меня еще пара минут, чтобы сбежать вниз по холму и встретиться с Россом.
Боже, кто это? Кто-то зовет меня по имени.
Наверное, Росс приехал рано и пошел меня искать.
Постойте, я пойду посмотрю.
* * *
Это была последняя запись в дневнике. Я перелистала его, порвав по неосторожности несколько страниц в горячем стремлении найти хоть одну строку, одно предложение – что угодно. Но остальные страницы были пусты.
Я очень долго сидела в неудобной позе в свете настольной лампы, окруженная темнотой. Мысли метались, как мотыльки в бурю, швыряемые туда-сюда штормовым ветром моей нарастающей тревоги.
Я осознала, что только что прочла дневниковую запись, которую Гленда сделала в ночь своей смерти. Октябрь 1986 года, непосредственно перед шестнадцатилетием Кори. Я вспомнила кое-что еще из рассказанного мне Кори – о том, что Гленда ушла из дома из-за ссоры родителей. Только ссоры-то и не было. В тот день Гленда пришла домой из школы рано и нашла связку писем со старыми марками, перевязанную лентой, в сарае отца. Писем, содержание которых взволновало ее.
Возможно, речь шла о любовных письмах. От Хоба Миллера к ее матери?
По записям в дневнике я сделала вывод, что Гленда была ближе к отцу. Я могла понять, что найденные свидетельства предательства матери заставили Гленду искать поддержки у человека, заслуживающего доверия. Она позвонила Россу, оставила записку матери и сбежала через окно спальни.
А потом гроза. Дождь.
Полое дерево.
«Боже, кто это?»
На следующий день Луэлла обнаружила тело своей дочери в овраге, почти в миле от этого дерева. Гленда, по-видимому, погибла, разбившись о камни на дне оврага в результате падения с крутого склона при оползне.
Несчастный случай. Трагедия. Дело закрыто.
И однако…
Менее недели назад Бронвен нашла в дереве, в котором Гленда укрылась в ту ночь, ее спрятанный рюкзак. Разрешила ли встреча с Россом страхи Гленды, связанные с найденными письмами? Передумала ли она ехать к Кори и вместо этого направилась домой? Если так, почему тогда оставила свои вещи в дереве: одежду, косметику, щетку для волос, жестяную коробку с драгоценным дневником?
Я грызла обломанный ноготь на большом пальце. И снова у меня возникло чувство, что существует брешь, разрыв между фактами и моим пониманием их. Чего-то я не замечала, упускала важную связь… В какую бы сторону я ни обращалась, правда смещалась, меняла форму, превращалась в нечто темное и тревожащее.
Складывалась картина, которая совсем мне не нравилась.
Несчастный случай, который мог быть не случайным.
Смерть, которая не была тем, чем казалась.
Затем перед моим мысленным взором встал другой образ. Высокий нелепый человек балансирует на схожих с лестницей ветках полого бука на поляне. Его рука по локоть засунута в отверстие у развилки ствола, ищет то, что двадцать лет пролежало в темном дупле.
Глава 16
– Мам, а ты знаешь, что есть осы, которые охотятся на цикад?
Утренний воздух радовал прохладой и влажностью. Было восемь часов. Я только что вышла из душа и, накинув халат, прямиком проследовала к кофейнику. Бронвен уже сидела за столом – тарелка с тостом и джемом в пределах досягаемости, а сама уткнулась в затрепанную библиотечную книжку.
Насыпав в фильтр свежего молотого кофе, я поставила кофейник на плиту.
– Видимо, сейчас узнаю.
Бронвен откусила от тоста, прожевала и проглотила, ни на миг не отрывая глаз от страницы.
– Этот тип называется охотниками на цикад, они летают в верхушках деревьев и жалят цикаду, чтобы ее оглушить. Когда цикада падает на землю, оса садится на нее и едет на ней, как бы толкает вперед, отталкиваясь задними ногами, иногда даже на сто метров!
– Потрясающе.
– Самое интересное, после того как оса притаскивает добычу в свою нору и добавляет к целой куче оцепеневших цикад, она откладывает яйцо прямо в ее парализованное тело. Позднее, когда личинка вылупляется, у нее есть готовый источник питания. Вот и говори потом о всяких гадостях, – восхищенно добавила она.
Я уставилась в окно, пытаясь без особого успеха отогнать образ беспомощного существа, заточенного в отвратительной норе и ожидающего своей судьбы в качестве пищи для личинки.
– Спасибо, что поделилась, – пробормотала я, – ты меня просто осчастливила.
Бронвен не слушала. Она снова склонилась над книгой, откусывая с угла тоста, качая про себя головой в восхищении.
– Скорей бы рассказать Джейд.
Я оставалась у окна, пока варился мой кофе. После прочтения последней записи Гленды спала я мало, мучимая вопросом: почему она бросила свои вещи в полом дереве? И почему столько лет спустя Хоб Миллер отправился на их поиски?
Был один человек, который мог знать.
– Так как тебе нравится твой новый учитель? – спросила я Бронвен. – Мистер О’Мэлли, так, кажется?
Я, как обычно, ожидала рассеянного односложного ответа, поэтому удивилась, когда дочь вскинула голову.
– Он меня пугает, – мрачно сказала она.
Бровь у меня дернулась, но я знала, что расспрашивать не стоит. Едва уловив малейший намек на любопытство, Бронвен замолчит, и любые полезные сведения засосет черная дыра, куда отправляется вся информация, которую дочь считает слишком хорошей, чтобы делиться за так. Поэтому я налила кофе, делано уткнулась в газету, потом скучающим тоном осведомилась:
– Он настолько плох?
– Ой, мама, он полный псих. Джейд тоже его ненавидит, она говорит, что он ко мне пристает, и это правда. Он постоянно задает мне глупые вопросы, всегда на меня пялится. И на следующей неделе он едет в школьный лагерь, вот повезло-то. – Захлопнув библиотечную книгу, она сползла со стула и отнесла свою тарелку в раковину. – А почему ты вообще интересуешься?
– У меня завтра днем встреча с ним.
– Отлично, – уныло проговорила дочь, засовывая книгу под мышку и направляясь к двери. – Готовься, он вгонит тебя в депрессию.
– Он не может быть настолько плох, Брон, – возразила я. – Кори упоминала о нем вчера вечером. Он был ее учителем, когда она ходила в школу. Он и твоего папу учил.
Бронни удивленно оглянулась.
– Он учил папу?
– И твою тетю Гленду. Поэтому он на тебя и таращится, ты на нее похожа.
Громкий рев автомобильного мотора ворвался в нашу беседу. Мы с Бронвен переглянулись, затем бросились в гостиную и посмотрели сквозь жалюзи. Позади пышного куста каллистемона виднелось белое пятно машины, но других признаков присутствия нашего гостя, приехавшего без предупреждения, не было.
Мы обе вздрогнули, когда на заднем крыльце, а потом на веранде раздались тяжелые шаги. Этот звук повлек нас к кухонному окну, как пару металлических опилок к магниту, но наш визитер скрылся из виду в нише, защищавшей заднюю дверь. Раздался стук, и мы с Бронвен как безумные рванули посмотреть, кто же это.
* * *
По ту сторону сетчатой двери улыбался Хоб Миллер. Он был свежевыбрит, причесан, а стекло очков заклеено новой изолентой. Все та же поношенная рубашка была выстирана и до нелепости хорошо отглажена, словно Хоб все утро орудовал утюгом. В руках он держал потрепанную картонную коробку.
– Юная Бронвен дома? – спросил он без околичностей. – Я принес кое-что ей показать.
Бронвен ткнула меня в бок локтем и выглянула поверх моего плеча.
– Кто это?
Лицо Хоба засияло. Глаз сверкал, как синий бриллиант.
– Здравствуйте, юная мисс. Видели когда-нибудь птенца бубука?
Локоть снова воткнулся мне в бок, и на этот раз Бронвен умудрилась протиснуться мимо меня. Толкнув сетчатую дверь, она выскочила на веранду и, подбоченившись, встала, глядя на Хоба снизу вверх и изучая его чистую, но убогую одежду, заклеенное стекло, широкую улыбку и легкие прядки волос, избежавшие «Брилкрема», которым он намазался, и торчавшие теперь у него над ушами сальными клоками.
К моему изумлению, дочь наклонила голову набок и застенчиво улыбнулась в ответ.
– Что такое бубук?
Хоб издал звук – нечто среднее между смешком и вздохом удовольствия – и поставил коробку на настил веранды. Жестом фокусника, раскрывающего свой трюк, он откинул крышку, чтобы Бронвен могла заглянуть. Из середины свободно свернутого полотенца на нас смотрел недовольный маленький, похожий на пуховку для пудры птенец с огромными золотистыми глазами и желтовато-белым, с коричневыми пестринами оперением.
– Красивый малыш, правда? – сказал Хоб. – Несколько дней назад он упал с вашего фигового дерева. Я за ним присматривал, попросил молодого Дэнни Уэйнгартена осмотреть его на предмет переломов. Все оказалось в порядке, поэтому я подумал, что самое время положить его назад в гнездо. Хотите помочь?
Бронвен оторвала взгляд от совенка и повернулась ко мне.
– Можно, мама?
Я засунула руки поглубже в карманы халата. Я еще не определилась со своим отношением к Хобу. Внешне он казался добрым, возможно, я даже хотела бы изредка видеть его здесь. Но оставался вопрос с обыском дупла, а потом – отрицание знакомства с Джерменами, когда было совершенно ясно, что такое знакомство имело место.
На меня смотрели три сапфирово-синих глаза: широко раскрытый, полный надежды глаз Хоба и глаза моей дочери, в которых смешались любопытство и нетерпение.
Позднее я вспомню именно этот момент. Солнце жарило, но воздух по-прежнему был влажным и нежным, чуть напоенным сладким ароматом цветов и недавно подстриженной травы. Из тени сада звала птица-бич, а в маргаритках гудел целый рой пчел. Все мои чувства были обострены, словно я выпила слишком много кофе. И все равно я упустила одну вещь, совершенно очевидную…
Мгновение прошло. Хоб все еще смотрел на меня. Бронвен уже потихоньку продвигалась к ступенькам.
– Идемте, – со вздохом сказала я Хобу, указывая на коробку, – нет смысла задерживать возвращение бубука в гнездо.
Заметила ли я промелькнувшее на его лице облегчение, когда он наклонился, поднимая коробку, или это была игра теней, отбрасываемых лиственным покровом у нас над головой? Как бы то ни было, поведение Хоба изменилось, ошибиться я не могла. Он вдруг развеселился, сделался выше, а лицо помолодело.
Идя за ним по веранде, я представила его двадцать лет назад, лицом к лицу с Кливом Джерменом. Я видела его ясно – не мужчину средних лет, которого знала Гленда, а Хоба постарше, знакомого мне теперь: жалкого, в поношенной рубашке из фланелета и неряшливых рабочих брюках. Ходячую энциклопедию, спасителя выпавших из гнезда птенцов, эксперта по естествознанию, дружившего со здешним коренным населением. В моем видении он стоял на коленях у себя во дворе, скорчившись от шока и боли, схватившись за лицо, кровь с которого текла сквозь пальцы…
Жалость кольнула сердце – действенная смесь в соединении с моими нынешними дурными предчувствиями. Я напомнила себе о другом Хобе: его рука по локоть в старом буке ищет что-то, чего там уже нет.
* * *
– Вот поэтому совы летают бесшумно, – объяснял Хоб моей дочери. – Перья их крыльев очень мягкие, почти пушистые из-за маленьких, похожих на бахрому волосков по краю. Бесшумный полет дает им преимущество при охоте за добычей.
Он поставил коробку с ценным грузом на землю, достал из грузовичка лестницу.
Бронвен стояла рядом, руки в боки, и внимательно смотрела на развилку двух ветвей, где, как указал Хоб, находилось углубление для гнезда.
– Что они едят?
Прислонив лестницу к стволу, Хоб снял ограничитель и раздвинул ее, так что верхние перекладины уперлись в центральную развилку дерева.
– Ну, южная сова бубук, или мопок, как ее иногда называют из-за характерного крика, ест все что угодно. Маленьких млекопитающих, мышей например. Мелких птиц, лягушек, ящериц, крошечных летучих мышей. И обычные птичьи деликатесы вроде жуков и мотыльков.
Хоб сделал еще одну ходку к машине и вернулся с глубокой плетеной корзиной для пикника. Внутри находился ворох листьев и мягкой коры, пуха и прутиков – самодельное гнездо. Хоб поставил корзину на землю рядом с коробкой.
– Ты готова? – спросил он Бронвен.
Та кивнула и надела кожаные перчатки, которыми снабдил ее Хоб, затем опустилась на колени рядом с коробкой. Откинула крышку и озабоченно посмотрела на птенца:
– Он забился в угол, мистер Миллер… у него испуганный вид. Вы уверены, что мне можно его взять? Мать не отвергнет его, если от него будет пахнуть человеком?
– Так, ну вот. – Хоб попробовал, надежно ли прислонена к дереву лестница, передвинул ее поближе к стволу, затем бочком подобрался к Бронвен. Опустившись на землю рядом с ней, он оценивающе улыбнулся. – Птицы – хорошие матери, она его не бросит. Не сомневаюсь, что его мамаша прячется где-то в кроне и наблюдает за нами, ничего так не желая, как заполучить своего малыша обратно в гнездо и хорошенько его покормить. Приготовься, – добавил он, подмигивая Бронвен.
Бронвен колебалась, но после подбадривающего кивка Хоба сунула руки в корзину. Ее пальцы в перчатках нежно сомкнулись вокруг птицы. Бронвен ахнула. Лицо ее порозовело, глаза засияли благоговением и восторгом.
– Ой, как приятно! – сказала она, взглянув на Хоба. – Такой мягкий, я даже чувствую его косточки! Что мне теперь делать?
Хоб протянул корзину с импровизированным гнездом.
– Теперь осторожно, просто опусти его туда. Сначала он там покопошится, а потом успокоится.
Несмотря на неуверенность, Бронвен опустила птенца в корзину без происшествий. Как и сказал Хоб, крохотный совенок минутку повозился, жалобно пища, а потом зарылся в мягкий хлам и замолк. Хоб поманил меня, и мы втроем уставились на маленькую сову.
Ее пушистое оперение было желтовато-белым с коричневыми крапинами, лицевой диск – темно-коричневым. Золотистые глаза уставились на нас, агрессивно для такого маленького существа.
– Удачи, малыш, – сказала Бронвен, и мы стали следить, как Хоб карабкается по лестнице, помогая себе одной рукой, другой сжимая корзину.
Подобравшись достаточно близко к развилке, он поместил корзину между собой и стволом дерева. Мелькнули пушистые желто-белые перья, когда Хоб положил птенца в углубление между ветками. Минуту он горстями перекладывал листья и прутики из корзины в гнездо, и вот он уже спускался, клацая поношенными ботинками по перекладинам. Оказавшись на земле и увидев радостное лицо Бронвен, он улыбнулся.
– Как я и думал, там в гнезде вороньи перья. Проклятые помоечники, наверное, вытолкнули нашего маленького друга, пока его родители охотились. В любом случае сейчас он в надежных руках. Я видел его мать, наблюдавшую из листвы. Как только мы уйдем, она слетит вниз и покормит его.
Хоб заглянул в крону, и Бронвен последовала его примеру.
И опять я поймала себя на том, что изучаю старого мастера. Я была права, сегодня он постарался. Побрился, причесался, выстирал брюки, предпринял нечто похожее на попытку почистить обувь. Не модель с подиума, но таким презентабельным я его еще не видела. Возможно, сегодня был банный день или он собирался в город, но я не могла отделаться от подозрения, что он приложил особые усилия в ожидании встречи с Бронвен.
– Идем, Брон, – поторопила я, – нам уже пора ехать, ты ведь не хочешь опоздать?
Взгляд Хоба остановился на лице Бронвен, взгляд острый, как осколок голубого стекла. Хоб улыбнулся.
– В церковь едем, да?
Бронвен отряхнула с джинсов кусочки коры и листья.
– Я еду навестить свою бабушку, – с гордостью сообщила она ему. – Маму моего папы, она очень милая. Мы познакомились вчера и так хорошо провели время, что она пригласила нас и на сегодня.
Пока Бронвен говорила, лицо Хоба застыло, затем на нем появилось выражение, которое я поначалу не поняла. Лицо старика находилось в изменчивой светотени, не дававшей уловить это выражение, но я готова была поклясться, что в голубой глубине его глаза промелькнуло что-то похожее на надежду.
Это заставило меня задаться вопросом: уж не увлечен ли он Луэллой до сих пор? Да, я поняла это по его внезапному оживлению, по теплому румянцу, вспыхнувшему на морщинистых щеках. Должно быть, он любил ее все это время… Но что случилось между ними за годы после исчезновения Клива? Почему они не соединились? Не избегала ли его Луэлла, чувствуя, возможно, что он каким-то образом причастен к роковому падению ее дочери?
Хоб поймал мой пристальный взгляд и из вежливости опустил голову, изменил выражение лица и изобразил жалкую улыбку, больше похожую на гримасу.
– Значит, Луэлла чувствует себя хорошо? – спросил он.
– Очень хорошо, – весело проговорила Бронвен. – Вы ее знаете?
– Ах… Полагаю, можно сказать, что когда-то мы были друзьями. В прежние времена, – добавил он, робко взглянув на меня. – Она добрая женщина, твоя бабушка. Одна на миллион. Передай ей мои приветы, когда увидишься с ней… Сделаешь это, девочка?
– Конечно.
Я обняла Бронвен за плечи и подтолкнула в сторону дома.
– Что ж, до свидания, Хоб, – сказала я. – Спасибо, что вернули совенка домой. Очень мило с вашей стороны, что позволили нам понаблюдать.
Хоб поднял палец, словно хотел о чем-то спросить, но он слишком затянул со своим вопросом. Без дальнейших разговоров я вывела Бронвен из тени фигового дерева и повела по траве вверх по склону, в убежище мрачных теней веранды.
– Мам?..
В свои одиннадцать лет Бронвен была наблюдательной, чувствительной к изменениям в непредсказуемом климате настроений взрослых.
– В чем дело? Я сказала что-то не то?
– Нам пора ехать, – сказала я, многозначительно посмотрев на свое пустое запястье. – Ты же не поедешь в гости к бабушке в такой одежде, верно?
Моя уловка сработала. Дочь встревоженно посмотрела на свои джинсы, предприняла вялую попытку очистить их от оставшихся крошек коры.
– Конечно, нет. Ты же вчера вечером нагладила мое платье, помнишь? Кроме того, ба говорит, что важно всегда выглядеть наилучшим образом.
Я подняла бровь.
– Ба?
– Она предпочитает так, а не «бабушка» или «бабуля». Говорит, так более дружески, и я согласна.
Она чопорно улыбнулась кончиками губ, повернулась на пятках и исчезла в доме, с шумом захлопнув за собой сетчатую дверь.
Внизу во дворе ожил грузовичок Хоба. Старая машина производила немыслимый шум, когда ее изношенные механизмы кашляли и вздыхали. Из выхлопной трубы с треском вылетел заряд дыма, затем автомобиль дернулся вперед и с поразительной быстрой скоростью помчался по ухабистой подсобной дороге.
* * *
Втроем мы отнесли в сад с задней веранды дома Луэллы чизкейк, термос чая со льдом, чашки, тарелки и вилки, громадный плед и кипу фотоальбомов. Устроились в тени под араукарией на мягком ковре из опавшей хвои, и Луэлла раздала нам салфетки.
Вкус у пирога был божественный, чай освежал, а ветерок приносил аромат роз и жасмина. Граффи распростерся на травке на солнышке, лапы у него подергивались во сне. Наше мирное утреннее чаепитие имело все основания превратиться в воспоминание, на которое мы когда-нибудь оглянемся с улыбкой… и однако, несмотря на воскресенье, безоблачное небо и теплый душистый воздух, мои размышления не давали мне расслабиться.
Я думала о прочитанном в дневнике Гленды, о ее последней записи – как она вылезла в окно своей комнаты, чтобы встретиться с Россом в надежде, что он посоветует, как быть с тем, что она узнала из найденных писем.
Прислонившись к шершавому стволу дерева, я рассматривала лицо Луэллы, восхищалась ее атласной кожей, мягкой улыбкой и волосами, собранными в свободный пучок, – но сознавая также, что под радостью, сиявшей сейчас в ее глазах, таится целая жизнь в горе. Мне хотелось задать ей столько вопросов. Что было в найденных Глендой письмах, почему они вызвали у нее такой стресс? Она была шокирована, обнаружив, что у матери роман с Хобом, или письма раскрыли более страшные тайны? Возможно, если бы я узнала ответы на эти вопросы, то и другие недостающие части головоломки, связанной с роковым падением Гленды, встали бы на место?
Бронвен со своей бабушкой склонились над фотографиями.
– Вот та, о которой я тебе говорила, ба, – сказала Бронвен, вынимая снимок из альбома, который держала на коленях. – Здесь ты стоишь у бельевой веревки с тетей Глендой и папой. Смотри, ты выглядишь по-другому.
Луэлла сменила позу и взяла фотографию, держа ее на расстоянии вытянутой руки.
– Что ж, это было давно… Боже, на обороте указан восьмидесятый год. Я тогда была моложе, милая. И стройнее тоже! О-о-о, ты только посмотри на них: Тони еще совсем маленький, ему было восемь лет, когда сделали эту фотографию. А Гленде, беззаботной девочке, – десять лет.
Наступил, возможно, подходящий момент, чтобы направить беседу в страстно желаемое мной русло, но на глазах у Луэллы уже выступили слезы, и хотя она улыбалась, чтобы скрыть свои чувства, в ней явно ощущалась уязвимость, свидетельствовавшая, что ее горе всегда рядом. Я вспомнила слова Кори: «Луэлла всегда была замкнутой. У нее было сложное детство, вряд ли ее нынешнее душевное состояние располагает к общению».
Луэлла оторвала взгляд от снимка и посмотрела на Бронвен.
– Твой отец любил убегать один, чтобы рисовать, – сказала она. – У него был такой талант к искусству. И Гленда, моя дорогая Гленда… – Она снова посмотрела на фотографию, и ее плечи поникли. – Знаете, она хотела быть писателем. Всегда сочиняла разные истории, с тех пор как научилась говорить… Такая умная. И красивая, совсем как ты, Бронвен, дорогая… Но с таким взрывным характером, что у окружающих волосы дыбом вставали.
Луэлла издала звук, вероятно намереваясь усмехнуться, но он больше был похож на всхлип.
Этот звук подстегнул меня.
– Брон, милая, отложи на время фотографии. Ты рассказала своей ба о школьном лагере?
Лицо Бронвен засветилось, и она позабыла про альбомы, чтобы разразиться монологом о том, как она, Джейд и двадцать других детей из ее класса собираются в шестидневный поход в Национальный парк Маунт-Барни и что она никогда раньше не ходила в поход, но Джейд так разливалась, как это весело, и теперь она ждет не дождется…
Луэлла отерла слезу, а потом, будто почувствовав мое внимание, слабо улыбнулась мне. Это было чуть больше, чем взгляд, возможно, быстро промелькнувшая признательность, как бы говорившая: «Разве она не прелесть?»
До этого момента меня мучила тупая зависть по поводу прочной связи, возникшей между Бронвен и ее бабушкой. Девочка была счастлива – я видела это по сиянию ее глаз, по тому энтузиазму, с которым она делилась с Луэллой школьными новостями. Мне с таким жаром она никогда ничего не рассказывала.
Но сейчас, глядя, как Луэлла улыбается моей дочери с очевидной гордостью и восхищением, я почувствовала, что моя обида отступила. Тетя Мораг любила говорить, что люди бывают настолько ослеплены жизненными невзгодами, что забывают о счастливых моментах. Я с болью осознала, что превратилась в такого человека – который выискивает, что идет не так, вечно недоволен. А нужно всего лишь чуть изменить ракурс, чтобы увидеть жизнь свежим, благодарным взглядом. Я здорова, у меня любимая работа, а теперь и постоянная крыша над головой. А самое главное, у меня есть дочь, здоровая, крепкая. Живая.
И в этот самый момент разочарования в себе я поняла, что пора ослабить хватку, отпустить то, что невозможно контролировать. Я решила практиковать плавание по течению и глубокое дыхание и считать отношения моей дочери с ее бабушкой счастьем, которое есть. Поэтому я закрыла глаза и поудобнее привалилась к рельефной коре араукарии. Воздух был теплым, дневной ветерок – сладко-благоуханным. Сосновые иглы, чай с лимоном, слабый яблочный аромат только что вымытых волос Бронвен. Чизкейк, нагретая солнцем трава. И розы.
Моргнув, я бросила взгляд через двор. Там, в нескольких футах от нас, розовый куст поднимал свои плети по шпалере рядом с садовым сараем. Из-за зноя, характерного для конца января, немногочисленные цветы были маленькими и сухими, но мое внимание привлекла одна роза чуть ниже. Пышная и такая темно-красная, кровавого оттенка, что казалась почти черной.
Я встала, подошла и, наклонившись, вдохнула запах этого цветка.
Мое сердце совершило скачок.
Я неважно запоминаю запахи, и этот конкретный аромат вдыхала только один раз – но ошибиться я не могла. Сладкий густой аромат с острой ноткой корицы.
– Очаровательные, правда? – сказала Луэлла. – Вы любите розы, дорогая?
Обернувшись, я увидела, что она сидит одна на пледе. Бронвен ускакала прочь, чтобы обследовать полускрытую в зеленом уголке статую, и я слышала, как она разговаривает с Граффи. Я присоединилась к Луэлле, надеясь, что не выйду за границы дозволенного.
– Я действительно люблю розы, хотя не очень разбираюсь в садоводстве. Это особый сорт, не так ли? Такой великолепный аромат.
– Да. – Пауза. – Этот куст вырос из отводка, взятого из беседки в Торнвуде. Хотя сейчас старый куст умер, такая жалость, – добавила она. Посмотрела в сторону, выглядывая Бронвен среди гортензий, стремясь, возможно, напомнить себе, что любой дискомфорт, который она испытывает в моем присутствии, стоит того, чтобы его потерпеть.
– На днях я заехала в лютеранскую церковь, – сказала я, пуская пробный шар, чувствуя, как слегка участился мой пульс. – Такое затейливое старое здание, я подумала, что можно сделать несколько фотографий… – Я собиралась солгать; похоже, в последнее время я очень в этом наловчилась. Но вовремя себя одернула. – Вообще-то мне было любопытно посмотреть старые могилы. Одна в особенности привлекла мое внимание, потому что за ней недавно ухаживали. И на ней стояла ваза с розами… По правде, они были такие же, как ваши.
Наверное, Луэлла уловила что-то в моем голосе, потому что посмотрела на меня и нахмурилась. Я поняла, что она ждет продолжения.
Я вздохнула.
– Это была могила вашей матери, Луэлла. Простите, но мне было любопытно. С тех пор как я в Торнвуде, я… Короче, я не могу не думать на эту тему.
Она кивнула, но показалась мне скорее озадаченной, чем огорченной, моим признанием. Затем, все еще хмурясь, она сказала:
– Кто бы стал ухаживать за ее могилой? Пастор нанял кого-то? Вот уж не предполагала, что у них есть средства.
– О-о-о, я думала…
Она посмотрела на меня, и в глазах ее зародилось понимание.
– Вы подумали, что это я?
– Ну я… Да.
Она поникла, безвольно опустив пухлые плечи и руки.
– О нет, милая. Я никогда не хожу на кладбище. Ни мать свою не навещаю, ни дочь на пресвитерианском кладбище. Печальные места – кладбища, верно?
Ее простое замечание отозвалось во мне. Луэлла была крупной женщиной, но в этот момент показалась хрупкой, как птица, она сидела на пледе в явно неудобной позе, подогнув под себя ноги. Мне захотелось защитить эту женщину, облегчить ее горе и отогнать боль прошлого. Смешно, конечно. Кому это под силу, не говоря уже о чужом, в сущности, человеке. Кроме того, я не из тех, кто направо и налево раскрывает объятия.
– Боюсь, я опять разволновала вас, Луэлла. Простите, пожалуйста.
Она вздохнула.
– Ничего, Одри, милая. Вы не виноваты. Полагаю, вы и сами немного взволнованы, оказавшись замешанной в запутанные дела семейства Тони.
– Да, – согласилась я, выдавив улыбку. – Самую малость.
Луэлла тоже улыбнулась. Впервые с момента нашего знакомства меня коснулось тепло, которое она приберегала для Бронвен. Я осмелилась надеяться, что она приоткрывается, начинает мне доверять. Возможно, скоро даже захочет больше поговорить о своей матери и Сэмюэле.
– Знаете, – начала она и наклонилась чуть ближе, – когда мне было столько же, сколько Бронвен…
– Ба! – Бронвен впрыгнула с солнцепека в тень. – Знаешь что?
Луэлла оглянулась. Улыбнулась Бронвен и проворковала:
– Что такое, милая?
Я мысленно взмолилась, чтобы вмешательство Бронвен оказалось кратким и она исчезла так же быстро, как возникла, предоставив Луэлле возможность возобновить рассказ о том, что она хотела мне открыть. Но Бронвен плюхнулась на плед и, схватив тарелку, положила себе здоровый кусок чизкейка, без сомнения собираясь подкрепиться, а затем начала:
– Ты ни за что не угадаешь, что я делала сегодня утром. Я помогала вернуть в гнездо совенка бубука!
– Совенок бубука, – изумилась Луэлла. – Боже мой! Как ты ухитрилась это сделать?
У меня упало сердце. Это будет катастрофа. Я попыталась привлечь внимание Бронвен, но она была слишком занята своей бабушкой, даже не отрывала взгляда от Луэллы, когда замолчала, чтобы глотнуть лимонада. Затем она продолжила:
– На прошлой неделе он упал с большого фигового дерева на дворе перед домом, понимаешь? Мистер Миллер нашел его и показал Дэнни – это папа Джейд, – чтобы он проверил, не сломаны ли лапки или что другое. Ну совенок не пострадал, поэтому сегодня утром мистер Миллер забрался на дерево и положил его назад в гнездо… И я ему помогала. Мама-сова следила за мной с соседней ветки, а через несколько минут после того, как мы убрали лестницу, она слетела вниз, чтобы… чтобы… – Она умолкла.
Луэлла побледнела. Она пыталась изобразить интерес к рассказу Бронвен, но я увидела возникшие у нее вокруг глаз белые круги.
– Брон, – сказала я в наступившей тишине, – мне кажется, я оставила свои солнечные очки в машине. Дорогая, не сходишь за ними?
Дочь нахмурилась.
– Мам, они были у тебя в руке, когда мы приехали.
Я бросила ей ключи.
– И пока ты там, проверь, не оставила ли я открытым окно, иначе мы зажаримся на обратном пути.
Бронвен метнула на меня вопросительный взгляд, говоривший: «Что-то происходит, ты расскажешь мне позже, да?» Я кивнула в ответ на немой вопрос не потому, что имела хоть какое-то намерение просвещать ее, а просто чтобы избавиться от нее. Я подождала, пока она скроется за углом дома, прежде чем посмотреть на Луэллу.
– Хоб был в доме несколько раз, – сообщила я ей. – Он и его брат привели в порядок сад. Сегодня утром он спрашивал о вас и просил передать привет.
– Понятно.
Луэлла отрезала ломтик чизкейка. Пальцы у нее не дрожали, только движения сделались неровными, словно разом исчезла вся грациозность. Не спрашивая, она неловко шмякнула этот кусок на мою тарелку и отрезала другой себе. Отломила кусочек вилкой, поднесла ко рту. Прожевала механически, проглотила.
– Как он? – натянуто спросила она.
– Нормально. – Это было смешно. – Луэлла, с вами все в порядке?
– Не совсем.
Я вздохнула.
– Мы опять это сделали, да?
Луэлла гоняла свой кусок пирога по тарелке.
– Этого, видимо, следовало ожидать. Это так ошеломляет, у меня так давно не было никакой компании. Столько лет прошло, и тем не менее я обнаруживаю, что воспоминания несутся все быстрее и быстрее, и иногда я не могу их контролировать. Вы не виноваты, Одри. Но вы должны меня простить. Видеть вас и Бронвен так же чудесно, как и… Что ж, думаю, вы догадываетесь, что я не настолько хорошо подготовлена к волнениям.
– Учитывая обстоятельства, – тихо проговорила я, – мне кажется, вы справляетесь великолепно.
Она посмотрела на меня повлажневшими, расширившимися глазами.
– Тони рассказывал, что произошло между его отцом и Хобом Миллером?
– Я знаю, что у них была ссора.
Она кивнула.
– Это случилось примерно за неделю до того, как мы потеряли Гленду. У нас с Кливом вышла безобразная ссора. Он вылетел из дома, увез куда-то детей на машине. Только много позже я узнала, что он поехал к Миллерам. – Она помолчала, уставившись на крошки у себя на тарелке, словно пытаясь найти среди них правильные слова. Вздохнула. – Произошла драка. Хоб был ранен.
– Именно тогда он потерял глаз?
– Да. Потом Клив признался, что у него было нечто вроде припадка, что он потерял голову и хотел наказать меня за нашу ссору. Сюда приезжала полиция, Кливу предъявили обвинение и назначили дату судебного слушания. Только Клив до слушания не дошел, он исчез за неделю до него. Должно быть, случился новый припадок, потому что… Ну я так понимаю, вы знаете о том, что его машину нашли в запруде?
Я кивнула.
Лицо Луэллы стало каким-то измятым, щеки побледнели.
– Поэтому теперь я невольно думаю, не держит ли до сих пор Хоб, после стольких лет, зла на Клива – и на меня – за случившееся?
Ее упоминание о зле заставило меня снова подумать о возможной причастности Хоба к несчастному случаю с Глендой. Но я также помнила проблеск надежды, мелькнувший на его лице сегодня утром.
– Луэлла, я уверена, что не держит.
Она как будто не слышала, уйдя в какие-то свои мысли. С переднего двора донесся голос Бронвен, которая звала Граффи. В тишине ее голос показался странным и бестелесным, как воркование лесного голубя.
Вскоре после этого мы уехали.
Когда мы стояли перед домом, прощаясь, Луэлла пригласила нас к себе на следующую субботу. Бронвен с сожалением напомнила ей, что будет в школьном лагере, но мы сможем приехать в следующие выходные, если она не против.
Луэлла одобрительно кивнула, но я видела ее напряженное лицо и сгорбленные плечи. Она обняла Бронвен, схватив в охапку, потом изумила меня поцелуем в щеку.
– Спасибо, – прошептала она, затем, прежде чем я успела спросить, за что она меня благодарит, Луэлла открыла калитку и проводила нас до обочины, где мерцала на солнце моя темно-красная «Селика».
Пока мы отъезжали, Бронвен сидела подавленная.
– Мама, – сказала она, когда мы свернули за угол и оставили позади Уильям-роуд, – ба очень одинока, да?
– Думаю, да, Брон.
– Значит, хорошо, что у нее есть мы, да?
– Хорошо, – согласилась я, изо всех сил улыбаясь.
Но по пути до Торнвуда мрачное настроение возобладало.
Что-то в Луэлле возбуждало во мне сильное желание ее защитить, подобное желание я испытывала только к Бронвен. И в то же время она олицетворяла мрачную сторону прошлого Тони, прошлого, из которого мы с Бронвен – до сего времени – были исключены. Возможно, моя тоска по семье и нормальной жизни для Бронвен повлияли на мою рассудительность отрицательно, заставили принять поспешное решение. А возможно, я стала жертвой собственного любопытства. Все равно по какой причине, но я чувствовала, что совершенно не справляюсь.
Луэлла была малознакомым солнцем, вокруг которого вращались все остальные таинственные планеты: Айлиш и Сэмюэл, Гленда, Тони и Клив. Даже Хоб. Она находилась в центре семейной истории, которая становилась все более ужасной… и делалась для меня непосильной. Я хотела безопасного убежища и верила, что найду его в Торнвуде, но он, оказывается, был минным полем трагедии, обмана и горя, и, возможно, даже убийства.
Я посмотрела на Бронвен. Ее лицо раскраснелось от жары, на губах играла счастливая улыбка. По спине у меня пробежал холодок страха. Впервые со времени нашего переезда я задалась вопросом: а такой ли уж отличной идеей был переезд сюда?
Глава 17
Назавтра днем я приехала в начальную школу к двум часам на встречу с Россом О’Мэлли. Школа была маленькой, поэтому я легко узнала, как найти его кабинет: через двор, вверх по лестнице, затем по крытому переходу. Дежурный сказал, что Росса я найду на полпути.
Это была красивая маленькая школа – столы для ланча в тени деревьев, участки подстриженной травы, яркие цветочные клумбы, милые своей старомодностью классные комнаты, обшитые вагонкой. Когда появилась аллея, я нырнула в ее прохладную тень и замедлила шаг.
Меня до сих пор преследовала заключительная запись в дневнике Гленды. Последние фразы вызывали недоумение, и с какой стороны я на них ни смотрела, факты не складывались. Человеком, который наверняка знает, рассуждала я, был Росс О’Мэлли. Помог ли он разрешить вопрос с письмами, стало ли Гленде легче и она поспешила вернуться домой? Или в ту грозовую ночь был разыгран какой-то другой сценарий, сценарий, лучше объясняющий, почему такой опытный следопыт, как Гленда Джермен, погибла от падения?
– Здравствуйте.
Открылась дверь, в проеме, выжидательно глядя на меня, стоял мужчина – крупный и бледный, хорошо за сорок, с коротко стриженными волосами и светло-голубыми глазами.
– Вы, должно быть, мама Бронвен Кеплер, Одри, так? Я очень рад, что вы смогли прийти, я Росс О’Мэлли, учитель Бронвен. Прошу, входите. Вам, наверное, не терпится узнать, как Бронвен вживается в…
Парень – болтун, сообразила я и слегка улыбнулась с облегчением, проходя за ним в кабинет. Пока я стояла, оглядываясь вокруг, он продолжал говорить, объясняя, что сейчас класс Бронвен в библиотеке, которая, как выяснилось, любимое место Бронвен, и что она хорошо ладит с другими учениками, и как он доволен, что я отпустила ее в школьный лагерь в конце этой недели…
Довольная, что можно спокойно плыть на волне его монолога, я быстренько обозрела убранство комнаты. Пара разрозненных стульев, шкаф для документов, растение в горшке. Голый письменный стол – только компьютер и стакан с карандашами, что заставило меня подивиться, как я вообще умудряюсь чем-то заниматься в своей захламленной студии, похожей на помещение, в котором разорвалась бомба. Я уже собралась сесть на предложенный мне Россом стул, когда взглядом зацепилась за яркий, как драгоценный камень, сигнал.
Я устремилась к дальней стене.
– Ах да, – сказал Росс, бросая нить своего монолога и присоединяясь ко мне, – это другая причина, по которой я очень хотел с вами встретиться. Чудесно, не правда ли?
Это была маленькая акварель в простой рамке, изображающая нежный, похожий на чашку лепесток насекомоядного растения. Написанный полупрозрачными мазками, с малиновыми венами, пронизывающими его гордо вздымающийся капюшон, он был убедительно смертелен, несмотря на легкость исполнения, зловеще прекрасен, словно краски заключали в себе едва уловимую жизненную силу растения.
– Это рисовал Тони, – сказала я, не трудясь прочесть нацарапанную внизу работы подпись. – Недавно я видела похожие. Другие насекомоядные растения, росянки, пара венериных мухоловок. Не представляла, что у него такая тяга к плотоядным растениям… – Я прикусила язык, сознавая, что выдала, до какой степени не знала Тони, а сделав это, вероятно, обнаружила свои недостатки уже как мать.
Росс мялся около рисунка и близоруко его разглядывал.
– Тони всегда мне нравился, – сказал он. – Было время, когда Тони рисовал эти растения как одержимый – я находил их нацарапанными на полях его учебников, среди каракуль на классных записях, даже на сочинениях, которые он сдавал, – карандашом, чернилами, акварелью… Как будто они были тайной, которую он пытался разгадать. Он и знал о них все: откуда они происходят, почему приспособились к поеданию насекомых, а также как их разводить и ухаживать за ними. Он был кладезем знаний, очень умным мальчиком – и во многом некой загадкой.
Я посмотрела на него.
– Загадкой? Что вы имеете в виду?
Росс пожал плечами.
– Непредсказуемость, полагаю. Однажды он приехал в школу и перерыл свой стол, просмотрел книги. Зяблики и эвкалипты остались, но все страницы, на которых был хотя бы волосок росянки или хоботок насекомоядного растения, клочками полетели в корзину. Сложилось впечатление, что за одну ночь его одержимость плотоядными растениями закончилась и он больше не мог выносить их вида. Вот эта, – Росс указала на маленькую акварель, – была одной из последних им нарисованных. Он подарил ее мне, когда в предыдущее лето я брал его на охоту и учил стрелять.
– На охоту? – Я уставилась на Росса, думая, что ослышалась. Или что, возможно, он перепутал Тони с другим мальчиком.
– Простите, – быстро сказал Росс, – я заболтался, боюсь, у меня это отвратительная привычка. Вы приехали, чтобы узнать об успехах Бронвен, а я утомляю вас, удаляясь по дороге воспоминаний. Я искренне прошу прощения.
Он казался таким виноватым – брови сведены с выражением встревоженной озабоченности, могучие плечи подняты до самых ушей, – что я сжала губы, сдерживая отчасти новый поток вопросов, просившихся на язык, отчасти – торжествующую улыбку. Мы с Россом О’Мэлли в равной степени желали разного: один – распространяться о прошлом, другая – слушать. С его стороны это, возможно, было результатом долгих лет молчания – или новизны свежей аудитории. В любом случае я вдруг потеплела к этому неловкому человеку. В Россе и в самом было что-то от загадки, персонаж из дневника Гленды ожил. Необычный выбор возлюбленного для школьницы, однако мне вдруг приоткрылось его глубоко внутрь загнанное обаяние. Кроме того, Росс был потенциальным источником сведений об истории семьи Джерменов, к которому я жаждала припасть.
– Мне интересно послушать о Тони, – призналась я. – Просто меня удивило, когда вы сказали, что брали его на охоту. Тони, которого знала я, ненавидел огнестрельное оружие.
– Он всегда был мягким мальчиком, – согласился Росс. – Вы, наверное, были ужасно потрясены, когда он умер. Мне жаль.
Я кивнула, меня заинтересовало сказанное перед этим.
– Почему, как вы думаете, он порвал свои рисунки?
– Это осталось тайной… Хотя я подозреваю, как делаю всегда, когда ученик внезапно демонстрирует нехарактерное поведение, что возникли какие-то нелады дома. – Он посмотрел на меня. – Тони был моим фаворитом, я взял его под свое крыло. Полагаю, я видел что-то от себя в его трудолюбивой натуре. Он был беспокойным мальчиком и, полагаю, вырос в беспокойного мужчину.
– Беспокойного?
– О-о-о, понимаете, у художественных натур, кажется, всегда беспокойные души. Вот чем они завораживают всех остальных.
– Росс, мне неприятно спрашивать, но может быть хоть какое-то основание у слухов о том, что он виноват в несчастном случае, произошедшем с его сестрой?
Росс нахмурился.
– Нет, я бы поставил на это свою жизнь. Надеюсь, что никто не сплетничает.
Я покачала головой.
– Не представляю, чтобы он мог причинить кому-то вред, меньше всего собственной сестре. Но – и это прозвучит ужасно – если покончить с жизнью его вынудило чувство вины, угрызения совести за что-то, сделанное в детстве, – что ж, каким-то образом мне было бы легче это перенести. Если это не угрызения совести, тогда я должна спросить себя: не стала ли его смерть результатом замыкания у него в мозгу.
– И вы переживаете, не унаследовала ли Бронвен похожие склонности?
Я кивнула с благодарностью за понимание.
Росс вздохнул.
– Одри, мы не знаем, какие другие факторы действовали в жизни Тони перед его смертью. Депрессия, наркомания. Смертельная болезнь и нежелание, чтобы кто-нибудь о ней узнал. Мне кажется, генетику переоценивают: даже если Тони был душевнобольным, это не означает, что данная болезнь перейдет к Бронвен. Ваша дочь на редкость уравновешенная девочка. И не забывайте, Тони был только одним из двух ее родителей… Я уверен, что от вас она унаследовала много здоровых черт.
«Сомнительное предположение», – подумала я про себя. Но, по правде говоря, приободрилась, радуясь, что немного рассеялись мои страхи, касающиеся Бронвен. Доброта Росса О’Мэлли и его признание, что Тони был когда-то его фаворитом, породили у меня искорку доверия.
Я не смогла удержаться от вопроса:
– Вам и Гленда нравилась, да?
Росс, казалось, испугался.
– Это Тони вам сказал? Конечно, он… – Учитель быстро заморгал, ломая руки. – Ну что ж, Гленда была… Она была одной из моих учениц, но мы… я хочу сказать, что никогда…
Он еще и легко краснел, предательские красные пятна, выступившие на щеках, разоблачили его как неумелого лгуна. Он достал большой носовой платок, и я ожидала, что Росс высморкается. Лицо у него осунулось, глаза покраснели, словно он ослабел от усилия, затраченного на попытку обмана. Однако платок он использовал для того, чтобы протереть верх рамки, в которую был заключен рисунок Тони, и стекло, потом встряхнул его и убрал в карман. Затем, будто проигрывая внутреннее сражение со своей совестью, он вздохнул.
– Гленда Джермен действительно, – он выделил это слово, – мне нравилась. Между нами никогда ничего не было, вы понимаете. Она была шестнадцатилетней девочкой, больше чем на десять лет моложе меня тогдашнего, но мудрее многих людей вдвое старше ее. Моя жена была хорошей, доброй женщиной, и у меня никогда и в мыслях не было ее обмануть… но Гленда меня пленяла. У нас было так много общего, понимаете? Нам нравились одни и те же писатели, нас трогали одни и те же мысли, мы делились переживаниями по поводу рассказов, фильмов и…
Он резко умолк, обратив взгляд к рисунку Тони.
– Звучит ужасно, да? Но, полагаю, я был одним из тех, кто плывет по жизни, видя все в одном цвете. Миллион оттенков серого в жизни, моей жизни. Однообразной и предсказуемой. Единственной настоящей возможностью вырваться из скуки были кино, или театр, или придуманные истории, о которых я читал в книгах. Приключения, семейные драмы. Триллеры, преступления, романтические истории. Переворачивая страницы и растворяясь в другом мире или восхищаясь способностью других людей к самовыражению – чудесными рисунками Тони, например, или рассказами Гленды, – вот когда я чувствовал себя по-настоящему живым.
Росс замолчал. Пока он смотрел на ярко освещенное маленькое плотоядное растение, я рассматривала его – смущенная откровенностью, но при этом узнающая себя в этом описании. Было время, когда я существовала благодаря своей очарованности харизмой Тони, увлекаемая за ним на головокружительной скорости, теряющая собственную целеустремленность в лихорадочном изобилии его амбиций. С ним я чувствовала себя живой, вдохновленной. Без него – всего лишь половиной человека… или так мне тогда казалось. Оглядываясь назад, я вижу: мне не хватало уверенности признать, что моя версия жизни – пусть более тихая и куда менее драматичная, чем жизнь Тони, – столь же ценна.
Росс пожал плечами.
– Гленда была одной из тех людей, которых иногда вам выпадает счастье встретить. Они расцвечивают серость вашей жизни. Когда она умерла, из моего мира ушел свет.
– Вы говорили с ней в тот вечер, да?
Росс попытался не отреагировать, но от шока у него потемнели глаза.
– Вы хорошо подготовились, не так ли?
Должно быть, он подумал, что я заглянула в материалы полиции, в газетные архивы или старые свидетельские показания – что заставило меня задуматься, насколько он признался в своей причастности. Вероятно, по максимуму, судя по его неспособности лгать. Чтобы не растревожить его еще больше и не утратить доверие, которое могло между нами установиться, я решила сделать свое признание:
– Вы знали, что Гленда вела дневник?
Лицо Росса смягчилось, когда до него дошел смысл сказанного мной. Плечи расслабились, и он закрыл глаза.
– Боже, я и забыл. Дневник был у Тони?
Я покачала головой.
– Он был спрятан в поместье. Не так давно его нашла Бронвен.
В глазах Росса отразилась такая страсть, что мне стало жаль его. После всего, что он мне рассказал, он, наверное, до смерти хотел погрузиться в личные мысли Гленды, особенно в те, что могли касаться его.
– Последняя запись привлекла мое внимание, – призналась я. – Она сделала ее, пока ждала вас в поместье своего деда. Она написала, что тревожится из-за писем, которые нашла, и что она переговорила с вами и вы согласились встретиться с ней и обсудить этот вопрос.
Росс кивнул:
– Я вспоминаю, что она действительно нашла какие-то письма. Они расстроили ее, и она хотела поговорить.
– Что это были за письма?
– Она не сказала. Помню, я подумал, что все это немного таинственно, но по телефону у нее был такой юный голос, она показалась такой уязвимой и перепуганной. Я сочувствовал ей всей душой и сделал бы что угодно, только бы помочь. Поэтому я согласился встретиться, но… – Он посмотрел на рисунок Тони, и его лицо, осунувшись, постарело. Заговорив снова, он почти прошептал. – Но ничего не вышло.
– Вы не видели ее в Торнвуде?
Он покачал головой:
– Я поговорил с Глендой по телефону, а потом моя жена начала жаловаться на боли в животе. У нее было несколько месяцев беременности, поэтому я спешно повез ее в Брисбен. К несчастью, в ту ночь у нее произошел выкидыш. Это было ужасно, и я на какое-то время напрочь забыл о Гленде.
– Вы когда-нибудь сомневались в том, что смерть Гленды была несчастным случаем?
– Что вы имеете в виду?
– Она знала овраг, верно? Знала, какие его участки безопасны, а какие – ненадежны, каких участков следует избегать. Мне кажется странным, что она сделала такую роковую ошибку.
– Поэтому вы и спросили о Тони, да?
– Да.
Взгляд Росса скользнул в сторону, потом вернулся.
– Если кого и можно винить, Одри, то это меня. По телефону Гленда была очень расстроенной. Затем, когда я не пришел, она могла еще больше разозлиться и обидеться. Мне представляется, что она поспешила домой в плохом настроении, не разбирая дороги. – Снова достав носовой платок, он высморкался. – Нет, Одри, все указывает на несчастный случай. Ливень, промоина на краю оврага, ненадежный участок почвы, на который она наступила. Груда камней там, где ее нашли. О ее смерти всегда говорили только как о несчастном случае.
Он вздохнул, затем отвел рукав пиджака и состроил гримасу, взглянув на часы.
– Простите, Одри, мне нужно бежать, я опоздаю на урок.
Мы попрощались, и я задержалась в прохладе, наблюдая, как он торопливо идет по переходу и исчезает за углом. Затем уже и я медленно вернулась к «Селике», отягощенная мыслями о дневнике, засунутом в нижний ящик моего прикроватного столика. Скрытого в темноте, как и в течение двадцати лет до этого. Ни одна из записей Гленды не была убедительной, ни одну не приняли бы в суде в качестве доказательства моей уверенности, что девочка стала жертвой чего-то другого, а не рокового падения.
Но ведь неважно, что она написала, не так ли?
Факты складывались в другую историю. Вместе с рюкзаком, расческой и сменой одежды дневник Гленды два десятка лет пролежал, спрятанный в полом дереве в верхней части моего сада, в добрых сорока минутах ходьбы от того места, где – в ту грозовую ночь – ее падающее тело предположительно вызвало оползень.
* * *
В конце недели я остановилась у школьных ворот и выключила двигатель. Мы приехали на час раньше обычного. Рядом со мной возбужденно ерзала Бронвен. Она надела джинсы, новые туристические ботинки, на голову нахлобучила старую махровую панаму. Лицо ее блестело от крема с цинком.
Я протянула руку, чтобы расправить воротник на рубашке дочери.
– Помнишь, что я тебе сказала?
– «Все время держись рядом с учителями», – процитировала она, освобождаясь от моих рук и разглядывая толпящихся у ворот детей. – «Никуда не уходи одна, берегись змей и всегда наноси солнцезащитный крем».
– Знаешь, я буду по тебе скучать, – сказала я. – Раньше мы никогда не разлучались.
– Да, мам.
Бронвен была рассеянна, теребила сумку, готовая сорваться с места.
Я вздохнула, пытаясь утихомирить сосущее чувство под ложечкой.
– Ты уверена, что взяла все необходимое?
– Мама, не волнуйся! Мы с Джейд приглядим друг за другом. О, вот и она! Увидимся через неделю!
Поцеловав меня в раскрасневшуюся щеку, она схватила рюкзак и выскочила из машины, затем окликнула Джейд, пробиравшуюся к нам сквозь толпу.
Девочки, как обычно, поздоровались с преувеличенной радостью, затем надели рюкзаки и быстро пошли к поджидавшему автобусу. Учителя, среди них Росс О’Мэлли, начали выстраивать учеников неровными рядами. Я все ждала, что Бронвен обернется и помашет мне рукой, но она была слишком увлечена оживленным разговором с Джейд и худым светловолосым мальчиком. Пять минут спустя она уже поднималась в автобус, исчезая из виду, следом, толкаясь, поднималась процессия подростков.
Мою грудь сдавила тупая боль. Дочь ускользала от меня. Ей всего одиннадцать, но она уже покидает мою защитную орбиту, уходит в более широкий и – для нее, по крайней мере, – более интересный мир.
Сидя в нагретом солнцем автомобиле, я всматривалась в окна набитого битком автобуса, не мелькнет ли Бронвен, и невольно вспоминала, какой была в ее возрасте. Косички, гольфы и подержанные школьные жакеты, которые попадались тете Мораг в благотворительных магазинах. Тихая зубрила, книжный червь, болезненно-застенчивая. Я очень долго боялась, что Бронвен станет такой же застенчивой, но мои опасения оказались напрасными. Несмотря на отсутствие надежной отцовской персоны и присутствие помешанной на работе матери-затворницы, Бронвен получилась, как сказал Росс О’Мэлли, на редкость уравновешенной девочкой.
Заурчал двигатель, возвращая меня к действительности. Двери автобуса с шипением закрылись, громадная машина отъехала от обочины и, покачиваясь, выплыла на дорогу. В окнах замелькали пятна незнакомых лиц.
Затем, когда автобус сворачивал за угол, я увидела Бронвен в заднем окне, вместе с Джейд, почти прижавшихся лицами к стеклу. Обе они смотрели на меня, пытаясь привлечь мое внимание, яростно размахивая руками.
Мгновение спустя автобус с рокотом скрылся за углом, оставив позади себя только облачко редкого черного выхлопа.
* * *
Без Бронвен дом был пустым. По комнатам гуляло эхо, метались беспокойные тени. Я ловила себя на том, что топчусь у окна, глядя на темные деревья, растущие вдоль подсобной дороги. Или, зайдя в ее комнату, складываю, разворачиваю и снова складываю одежду, которую дочь разбросала во время спешных сборов в лагерь. Или пытаюсь прикинуть, что она делает именно сейчас, в эту раскаленную докрасна минуту.
Чем бы она ни занималась, я знала, что беспокойство обо мне в список этих занятий не входит.
Я ушла в студию в задней части дома и перебрала несколько последних фотографий, затем решила, что ничего не добьюсь, бродя из угла в угол. Поэтому я отправилась на поиски Гленды.
Я поднялась на холм, выбрав дорожку, которая вилась меж гранатовых деревьев и монстер до поляны, где рос полый бук. Лунный свет одел кору старого бука серебром, и его ветки мерцали белым на фоне черного бархата неба. Буш вокруг него казался чернильным скопищем теней.
Несмотря на проникающее во все углы сияние луны и узкий конус света моего фонарика, мне понадобился час, чтобы найти то, что я искала. Под нависшими ветками упавшего чайного дерева я нашла то, что осталось от старого рюкзака, грязного, полусгнившего, совсем пустого, если не считать пары червяков и тарантула.
Некоторое время я искала в кустах, направляя свет фонарика под листья папоротников и травяные кочки, поднималась вверх по холму, потом возвращалась назад на более низкие участки, все это время держа кривой старый бук в центре поисков. Прошло двадцать минут, прежде чем луч фонарика выхватил из темноты что-то блестящее и цветное.
Расческа была пластмассовой, ее просвечивающая розовая поверхность потрескалась и выцвела от времени. Бо́льшая часть зубцов отвалилась, однако несколько осталось, и я направила луч поближе и поискала пепельные волосы. Разумеется, их не было, поэтому я сунула расческу в продуктовый пакет, который захватила из дома, и продолжила поиски. Вскоре я собрала обрывки одежды, разнообразные предметы косметики, туалетные принадлежности, кошелек и остатки книги, изрешеченной мокрицами.
На обратном пути я остановилась у дерева. Его кора словно дышала в темноте. Обгоревший ствол выглядел зловеще. В шарящем луче моего фонарика метались тени, которые сложились в очертания тощей мужской фигуры, сдвигаясь и уплотняясь, пока в памяти не возникло со всей ясностью: Хоб Миллер балансирует на дрожащей ветке, дотянувшись до развилки двух ветвей, его рука, по локоть засунутая в дупло, ищет то, чего там уже больше нет. Письма или дневник – неважно, что именно. Больше всего меня беспокоило – он точно знает, где искать.
Прижав к груди продуктовый пакет, я уставилась в темноту.
Овраг в получасе ходьбы отсюда. На северной границе владения, назад в направлении к городу. Хорошо известен своей опасностью – оползнями, провалами почвы, промоинами.
И убийством.
Страх легкими пальцами пробежался по моей коже. Страх… и всепоглощающее желание увидеть этот овраг, побродить среди его теней, высоченных деревьев и лучей солнца, впитать его особенную атмосферу. Не с намерением что-то найти, но прочувствовать место, где Гленда – и ее бабушка за сорок лет до нее – прожили последние мгновения своих молодых жизней.
Глава 18
На следующее утро я двинулась в путь рано.
К тому моменту, когда я достигла вершины первого холма, у меня перехватывало дыхание, кожа горела от пота, волосы намокли под старой панамой Бронвен. Видавшая виды «минолта», которую я хранила для разных вылазок и фотографических заметок, висела на плече вместе с сумкой и фляжкой с водой, стукая меня при каждом движении.
Остановившись, чтобы оглянуться на пройденный путь, я смогла различить лишь крышу дома, поблескивавшую среди эвкалиптов, и более темную зелень окружавшего его сада. День был роскошным, небо цвета блеклого денима, в воздухе легкий запах прелой листвы и полевых цветов. Вспыхивали зеленым и темно-красным попугаи-лорикеты, перелетавшие с дерева на дерево, и резкими криками нарушали тишину. Когда я проходила под гигантским папуасским эвкалиптом, в небо взмыла стая зеленовато-желтых хохлатых какаду, вопивших, как нечистые духи.
Приятно было чувствовать себя окруженной только зарослями чайного дерева, мимозой с черными стволами и высоченными эвкалиптами. Вокруг на мили – никого, я могла быть единственным выжившим в апокалипсисе человеком, последней душой на земле, плывущей навстречу золотому утру. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что детьми Тони и Гленда бессчетное число раз ходили этой дорогой – по кратчайшему пути с Уильям-роуд в дом их деда, эта уединенная тропинка некогда звенела их криками, шумом и смехом.
В ночь своей смерти Гленда тоже прошла этим путем, расстроенная письмами, обнаруженными в сарае отца, с нетерпением ожидая встречи с Россом. Только Росс не появился, и Гленда выскочила из своего укрытия, чтобы встретиться – не с Россом, которого она ждала, – а с кем-то другим.
Я поежилась и ускорила шаг.
Десять минут спустя дорожка пошла вниз с холма. Раз или два она исчезала в промоинах оврага, и я вынуждена была спускаться по крутому склону, как краб – съезжая на заду и помогая себе руками, – пока не оказывалась на другой стороне. Я миновала несколько конических муравейников, торчавших из земли красными нарывами. Дальше ландшафт стал зеленым и диким, но в отдалении был слышен звон колоколов. Я остановилась и еще раз прислушалась, потом решила, что это, наверное, звук текущей воды. Достав данный мне адвокатом Тони аэроснимок, я изучила его, определяя возможные ориентиры, и поняла, что нахожусь вблизи оврага.
Идя на журчание воды, я продралась сквозь густой подлесок из папоротника и вьющихся кустов пандореи. Верхушки деревьев сплелись теперь в единый навес, густая мозаика их листвы рассекала солнечный свет на ленты. Тени под ногами были черными и источали новые запахи: гниющих растений и влажных деревьев. Повсюду из серо-зеленой травы высовывались цветные, как драгоценные камни, головки диких орхидей и колокольчиков – крохотные пурпурные, розовые, темно-красные и цвета индиго угольки.
Затем снова зазвенели колокола. Я заглянула в кроны деревьев, но не увидела там ни одной птицы. По мере моего углубления в заросли звон стал более частым. Вскоре меня со всех сторон окружил мелодичный перезвон. Птицы-звонари, догадалась я. Их флейтовые пересвисты и трели отзывались эхом, казалось, со всех сторон, словно пело само небо.
Дальше я попала на маленькую поляну. В самом ее центре стоял валун. Он был выше меня и напоминал акулий плавник. Его серая, цвета слоновьей шкуры, поверхность была украшена оборками лишайников и мхом. Одна плоская сторона была обращена к солнцу, другая погружена во мрак, и тень, которую он отбрасывал на усыпанную листвой землю, была влажной и похожей на надгробие.
По мере приближения к валуну у меня возникло сбивающее с толку ощущение, что я здесь когда-то давно уже была. Но это не соответствовало действительности. И тем не менее я видела это место как бы по памяти. Тогда поляна была темнее, более заросшей, деревья такими густыми, что создавали над головой непроницаемый навес. Тогда была ночь, и ветер рыдал, просачиваясь сквозь листья. «Нет, не надо! – кричал он. – Пожалуйста, не надо…»
Когда сознание прояснилось, я увидела, что сквозь кроны деревьев свисают длинные узкие ленты света, разгоняя глубокий мрак, царивший между крепкими черноствольными эвкалиптами. Солнечные лучи скользили по стеблям ажурных папоротников, превращая их в ослепительную зелень цвета лайма под призрачными белыми стволами внушительных речных эвкалиптов. «Собор, – подумала я. – Священное место, которое должно иметь большое значение для местных хранителей этой земли».
Стоя на этой зачарованной, погруженной в безвременье поляне, я нежилась в мягком свете, закутывалась в прохладное зеленое сияние, в объятиях головокружительной звенящей песни птиц-звонарей. Я была тенью среди миллиона других теней, которые идеальным строем вливались в более широкий поток.
Тогда почему мне здесь так не по себе?
Я пересекла поляну и подошла к краю оврага, осторожно посмотрела вниз. Стены оврага были крутыми, в промоинах. Деревья росли под прямым углом к стенкам оврага, их молодые побеги тянулись к свету. Валуны торчали из земли, как полузарытые черепа. Повсюду были поваленные деревья с торчащими вверх корнями, их стволы образовывали мостки над зияющими пустотами.
Один неверный шаг…
Вернувшись к валуну, я села в прохладной тени и достала фляжку. Сладкая и восхитительная в пересохшем горле вода тяжестью легла в желудок. Воздух был влажным, от жары я разомлела. Откинувшись назад, я закрыла глаза и выдохнула напряжение. Почувствовала, как соскальзываю в прошлое…
Было темно, так темно. Я лежала, подогнув под себя руки и ноги. Кожа горела, но кости заледенели. Приоткрыв веки, сквозь красную пелену я смогла разобрать лиственный узор на фоне лунного света. Пищали летучие мыши, гудели насекомые, ветер бормотал в ветвях. Снизу, из оврага, доносилось журчание ручья – биение жидкого сердца, вбиравшее в себя другие звуки и замедлявшее их, пока не осталось ничего, кроме чьего-то плача…
Я резко пришла в себя. Сердце колотилось, когда я поднялась на ноги. Повторяющиеся полугрезы становились более интенсивными, с более реальными ощущениями. Я знала, что эти грезы связаны с Айлиш – чувствовала ее присутствие, трущееся о мой разум, как голодный кот, заставляющее меня обратить внимание, – и однако не в состоянии была точно определить их порядок или смысл. Видения были пугающими, возможно, предупреждающими, словно Айлиш – из того царства, где она сейчас обитала, – пыталась меня предостеречь.
Засунув фляжку назад в сумку, я отошла от камня. Нависавшая еще мгновение назад тьма исчезла, на поляну вернулся дневной свет. Зловещее журчание ручья стихло – и однако все было не так.
Овраг казался почти потусторонним в своей красоте, и тем не менее я готова была бежать отсюда. Здесь, с разницей в сорок лет, погибли две молодые женщины: одна была жестоко избита, у другой были похожие раны, которые приписали роковому падению. То, что эти двое были бабушка и внучка, от меня не ускользнуло. Было ли это трагическим совпадением или сработали более страшные силы?
Птицы-звонари замолчали. Поляна как будто затаила дыхание. Даже пятна солнечного света на листьях показались замершими. Я больше не была частью целого. Точнее, я сознавала свою изоляцию. Взаперти среди деревьев, в нескольких милях от дома. Никто не знал, что я здесь. Никто. Во мне зашевелилась и начала подниматься тревога. А вдруг здесь со мной что-то случится? Что, если я умру? Бронвен окажется одна, станет сиротой, покинутой, подобно мне.
Не надо было сюда приходить. Я не нашла в овраге ни ответов, ни откровений о прошлом, – только тени и сырость, тайну и гипнотический лепет ручья, сочившегося из своего подземного источника, плещущегося на мелководье, некогда покрасневшем от крови.
Назад я торопливо пошла тем же путем. Покинула поляну и вернулась на извилистую грунтовую дорожку, которая вела на холм и далее в Торнвуд… или так я думала. Прошло несколько минут, прежде чем я осознала свою ошибку. Овраг исчез из виду позади меня, скрытый под кронами высоких эвкалиптов, задрапированных лианами-паразитами. В разрыве между деревьями внизу я заметила округлую вершину валуна в форме плавника. Лишайник, пятнавший его гладкую поверхность, сиял зеленым, черным и лавандово-серым в проблесках света. Захватывающее зрелище, но я не помнила, что видела его на пути туда.
А значит, я попала на поляну по другой дорожке.
Я в смятении посмотрела на уходивший вниз склон. Ни под каким видом я не собиралась туда возвращаться, снова пересекать полянку в овраге. В голове тут же промелькнуло жуткое ощущение пережитого мной у камня, мрачные, похожие на сон отрывочные видения, так меня напугавшие.
«Надо продолжать идти, – решила я. – Рано или поздно я выберусь на нужную дорожку». Пока важнее всего было увеличить расстояние между мной и призрачными тенями оврага.
Я возобновила подъем на холм.
В какой-то момент мне почудился приглушенный собачий лай, но в основном слышалось только мягкое шуршание лиственного мусора под походными ботинками, мое хриплое ритмичное дыхание и зловещая непрерывная песня птиц-звонарей.
* * *
Двадцать минут спустя я стояла на краю еще большей поляны в окружении рощи долговязых черноствольных эвкалиптов. Солнечный свет заливал открытое пространство, превращая ковер диких трав в серебро.
В дальнем конце поляны под прикрытием красных камедных деревьев стояла старая маленькая хижина, стены и крышу которой покрывала изъеденная временем, дождями и ветрами дранка из древесины черных эвкалиптов. Вдоль шаткой веранды росли розовые амариллисы, изогнутые кусты лаванды, даже куст ползучей розы с огромными темно-красными цветами – забытый садик при коттедже посреди дикого, пустынного буша. Я догадалась, что это та самая хижина, построенная в 1870-х годах первыми поселенцами, о которой говорила мне Кори.
Несмотря на возраст и удаленность, домик с виду находился в хорошем состоянии. Узкая веранда казалась непрочной, но ограждение было целым, а ведущие на нее ступеньки – крепкими. В дельнем конце стояло старое потертое плетеное кресло. Дранка потемнела от времени, хотя некоторые пластины выглядели более светлыми, обтесанными не так тщательно – как будто их вставили недавно.
Приблизившись, я увидела, что дверь приоткрыта. Стоя у нижней ступеньки, я заглянула внутрь хижины. Там было прохладно, темно и таинственно, но я заметила, что комната обставлена.
Как будто в ней кто-то жил.
– Здравствуйте?.. – позвала я.
Мой голос эхом отозвался в тишине, и я почувствовала себя глупо. Конечно, здесь никто не живет. Место слишком удаленное, слишком изолированное, нет ни дороги, ни электричества, ни водопровода, ничего напоминающего телефонную линию. Зачем здесь кому-то жить? Кроме того, напомнила я себе, это строение на земле Торнвуда. Если бы здесь кто-то жил, я бы об этом знала… или нет?
Я открыла скрипнувшую дверь.
– Есть кто дома?
Я почти ожидала увидеть у окна призрачную женщину из рассказа Кори, но там никого не оказалось. Помещение было маленьким и убого обставленным. У противоположной стены стояла полуторная кровать, потертое, но чистое армейское одеяло на ней было побито молью, грязная подушка взбита как надо. Рядом с кроватью располагался поставленный вверх дном деревянный ящик, на нем стояла толстая свеча в банке и с виду новенькая коробка спичек.
Я подошла к кровати, ущипнула фитиль. Острый, недавно горел.
Остальная мебель была ветхой и старой, но аккуратно расставленной. На глубокой полке выстроились жестяные коробки из-под патронов – на каждой маленькая белая наклейка с соответствующей надписью: порошковое молоко, спички, карандаши, чай, мука, свечи, веревка. Походный стол и стул притулились под маленьким окном без стекла. Рядом с окном я увидела древний ящик с сетчатыми стенками для хранения продуктов. Я заглянула внутрь. Эмалированные тарелки и чашки, банка джема, изготовленного еще до моего рождения, и ком заплесневелого хлеба.
Подойдя к окну, я выглянула наружу и увидела ржавую бочку с водой, приставленную к стене дома. Поблизости стояла другая бочка на сорок четыре галлона с железной решеткой вместо крышки – самодельная плита. Еще одна бочка была наполнена растопкой. Полагаю, кто-то устроил себе кухню в буше.
Шум за спиной заставил меня повернуться, но это оказался всего лишь лист, с шорохом влетевший в открытую дверь. Ветерок, который занес его сюда, благоухал солнечным светом и полевыми цветами, составляя освежающий контраст с царившим в хижине запахом плесени и грязи.
Когда мой пульс вошел в норму, я подвела итог. Спички, жестянки с провизией, аккуратно заправленная кровать, починенная крыша, бочка с водой, затхлость, которая явно не была – убеждалась я при каждом новом вдохе – запахом устроивших себе берлогу поссумов.
Хижина была обитаемой.
Я попыталась вспомнить, говорила ли что-нибудь адвокат Тони об аренде хижины поселенцев. Совершенно точно – нет. Стало быть, у меня незаконный захват. Я понятия не имела, как давно кто-то поселился здесь, но, судя по всему, давно. Я повернулась, чтобы уйти, в голове уже складывался план действий: первый шаг – сообщить в полицию, второй – написать в муниципальный совет заявление о выселении самозваных арендаторов. Когда я сама жила кочевой жизнью вместе с тетей Мораг, мы сполна получили свою долю уведомлений о выселении; странно было для разнообразия побывать в чужой шкуре. Но другого выхода я не видела: мы с Бронвен жили менее чем в миле отсюда – жутковато, когда у тебя на заднем дворе устроились неизвестные люди.
Я уже была на полпути к двери, когда увидела в темном углу старинный невысокий гардероб. Его резная отделка во многих местах откололась и отслоилась, одна из резных панелей свободно болталась. Я повернула ключ, тряхнула дверцу, открывая.
На верхней полке было устроено грубое святилище. Расставлены полукругом головки от крохотных старых фарфоровых кукол, потерявших цвет, словно выкопанных из земли, с чопорными викторианскими лицами в сколах. В центре полукруга помещалась резная деревянная шкатулка, а на шкатулке стояла потускневшая черно-белая фотография в рамке.
Я взяла рамку и повернула ее к свету. Это был любительский портрет молодой женщины, прислонившейся к дереву. На нее падал свет, и она улыбалась, ее очаровательное лицо светилось радостью. Фотография была выцветшей, покрытой пятнами серебра там, где проявитель не устоял перед временем, – но редкая красота женщины была очевидной. Длинные густые волосы, развевающиеся от ветра, идеальный овал лица, глаза, как темный миндаль. Платье по моде 1940-х годов облегало ее гибкую фигурку.
Я гадала, кто бы это мог быть и почему фотография заперта здесь, в этом мрачном шкафу, в глуши. Мне захотелось ее спасти. Опустить снимок в сумку и вынести на солнце. Хижина стояла на моей земле, рассуждала я. Скваттер[12] не имел права находиться здесь без моего согласия. А это наверняка означает, что хижина и все в ней по праву принадлежит мне.
Я провела по краю рамки. Что такого в этих старых портретах, почему меня так к ним тянет? Не ко всем, уточнила я. Только к одному этому. И к фотографии Сэмюэла в доме.
А затем я поняла. Не путем дедукции или исключения, поняла душой. Я поднесла снимок к окну.
«Прошу, согласись встретиться со мной, – писала она. – Сегодня вечером в нашем тайном месте… Я встречу тебя широкой счастливой улыбкой».
– Айлиш, – произнесла я, взволнованная этим открытием. – Что, скажи на милость, ты здесь делаешь?
Я была готова забрать фотографию. Но все же прислушалась к голосу совести. Можно солгать, когда на то есть достаточное основание, но воровство мне не свойственно. Может, скваттер живет на моей земле незаконно, но не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понимать: я нарушаю частное владение, вторгаюсь в личное пространство, и кто бы здесь ни жил, он совсем не обрадуется, обнаружив пропажу драгоценной памятной вещицы.
Я вернула фотографию на место и уже собиралась закрыть гардероб, когда мое внимание привлекло отделение, в котором вещи можно было вешать. К задней его стенке был прислонен деревянный черенок, который мог служить рукояткой какого-нибудь старого орудия, возможно топора. Тупой конец был запачкан черным, а сама засаленная рукоятка потрескалась и расщепилась. Непонятно, зачем хранить в доме топорище – особенно такое, место которому на свалке? Я провела пальцами по почерневшей части. Она была гладкой, как кожа. Почти теплой.
Я с отвращением отдернула руку.
Но, закрывая дверь гардероба, снова помедлила. Моим вниманием завладела деревянная шкатулка под фотографией. Поначалу я не придала ей значения, посчитав подставкой для маленького снимка в рамке, но теперь увидела, что ее покрывает резной узор из листьев и цветков вишни, и, очевидно, когда-то ящичек стоил дорого. Он был таким изящным, таким красивым и настолько здесь не к месту, что я сняла фотографию и вытащила шкатулку на свет.
Я села на кровать, поставила шкатулку на колени и подняла крышку. Пачка писем, перевязанных истершейся ленточкой. Я спросила себя, не те ли это письма, которые Гленда Джермен нашла в тот злополучный день в сарае своего отца, – письма, по моему предположению, разоблачающие роман Луэллы с Хобом Миллером. Но как только я взяла из пачки верхний конверт, все мысли о Гленде отошли в сторону. Марки были старыми. По-настоящему старыми, в основном трехпенсовыми, из сороковых годов.
И почерк – я узнала его в ту же секунду.
Там лежало, наверное, тридцать или сорок конвертов, в основном из просвечивающей бумаги для авиапочтовых отправлений, хрупкие от времени и использования. Я перебрала их и увидела, что значительную их часть написала Айлиш, адресуясь Сэмюэлу через штаб-квартиру Вторых Австралийских имперских сил.
На остальных конвертах значились имя Айлиш и ее улица – Стамп-Хилл-роуд. Марки были малайские, почти скрытые под жирными черными штампами штемпелями гашения. Еще на некоторых конвертах марок не было, только надпись: «В действующую армию». Все конверты были замусоленными, бумага мягкой и рыхлой, как будто их часто разворачивали и читали.
Мне до боли хотелось приступить к чтению, но я понимала, что это слишком рискованно – незаконный обитатель дома мог вернуться в любой момент, а я не хотела, чтобы меня застукали с поличным – особенно учитывая, что я намеревалась его выселить.
Значит, быстренько просмотреть?
Снаружи порыв ветра погнал что-то по крыше, напугав меня: обрывки листьев, веточки? Я затаила дыхание, прислушиваясь, но снаружи раздавались только трели вороны-флейтиста, стрекот цикад и мягкий шелест ветерка в сухой траве.
С бьющимся сердцем я наугад взяла из пачки одно из писем Сэмюэла.
* * *
30 ноября 1941 года
Надеюсь, у тебя все хорошо, Девушка-греза?
Писем от тебя пока не было. Просто смешно, сколько часов я потратил на мысли о том, что почта затерялась. Офицер по транспорту заверил меня, что мы на войне (в самом деле, приятель?), а следовательно, пропавшая почта – наименьшая беда на фоне общей картины. Но потом, когда я предоставил ему на выбор несколько вариантов того, куда он может отправить свою общую картину, он поспешил сказать, что подобные случаи редки.
Письма, как судьба, в конце концов находят дорогу к адресату, каким бы кружным ни был их путь. Поэтому я подожду и попытаюсь верить в почтовую систему, в общую картину, а в основном – в тебя, моя Айлиш… Ибо без веры, боюсь, это воняющее потом, осаждаемое москитами, шумное и непредсказуемое существование вполне может меня одолеть.
* * *
10 января 1942 года
Любимая, прошлой ночью я боялся закрыть глаза: а вдруг память о твоем лице покинет меня навсегда? Меня мучают сожаления, невысказанные слова снова и снова прокручиваются в голове, пока мне не начинает казаться, что я сойду с ума. Почему ты не написала? Неужели ты так скоро меня забыла? У меня болит сердце при мысли, что ты встретила другого.
Безумие, но я постоянно думаю о том первом дне, который мы провели в старой хижине, и как я распинался о дранке из черноствольных эвкалиптов и утомлял тебя историей о подземной емкости для воды, закопанной первыми поселенцами. Тебе было интереснее заставить меня поцеловать тебя, помнишь?
Признаюсь теперь, что я был несносным умником, сопротивляясь из чувства приличия, но – и я умоляю тебя простить мою откровенность, любимая, – все это время я думал: «Боже, как красива эта женщина, даже страшно, как сильно я ее люблю», а потом, чуть позже, я мысленно добавил: «Клянусь, не могу дождаться, пока мы поженимся». Все, разумеется, осталось невысказанным, скрытым под моей жалкой показной грубостью. Теперь я тоскую по тем дням, когда я спешил по тропинке к маленькой хижине, зная, что ты ждешь меня. Иногда моя тоска по тем счастливым временам похожа на физическую боль.
О, моя Айлиш, это письмо признаний, да? Как легко теперь изложить все это на бумаге, даже зная, что первым это прочтет цензор. Но, любимая, чем хороша война – благодаря ей спадает пелена самомнения, и ты ясно видишь единственное, что дает тебе смысл жизни. Для меня это единственное – ты.
Спокойных тебе снов, мой дикий воробушек, храни мое бедное старое сердце рядом со своим. Навсегда твой, Сэмюэл.
* * *
Я прервала чтение.
В этих письмах Сэмюэл представал совсем другим человеком по сравнению с созданным мной образом. Он не был – по крайней мере, на этом этапе войны – ни подлецом, ни мерзавцем и не повредился в уме или ожесточился. Судя по неприкрытым эмоциям его слов, он любил Айлиш. И я поняла: случившееся между ними после войны было связано не с карьерой Сэмюэла, а скорее с его страхом, вызванным отсутствием писем от Айлиш, – что она могла его забыть.
Я посмотрела через дверной проем на поляну и поняла, что пробыла здесь слишком долго. Солнце еще выше поднялось в небе, а урчание в животе напомнило, что завтрак был и прошел и пора отправляться домой.
Но я не могла. Пока не могла.
Мне нужно было прочесть хотя бы еще одно письмо.
Я выбрала опять из пачки от Сэмюэла. Пометка на письме: «АИС за границей» и дата «1 февраля 1942 года» – за две недели, мрачно отметила я, до падения Сингапура. Видимо, это было последнее письмо Сэмюэла до пленения.
* * *
Мой милый воробушек,
говорят, отсутствие новостей – хорошая новость, хотя неизвестные авторы этого высказывания никогда не ждали четыре месяца весточки от Девушки-грезы. Я до сих пор не получил от тебя ни единого слова, все в порядке, любимая? Я постоянно беспокоюсь, что, знаю, вызовет у тебя только смех. По крайней мере, надеюсь на это – заставит тебя рассмеяться весело, я имею в виду. Я лишь молюсь о том, чтобы не было новостей, о которых ты не решаешься мне сообщить. Айлиш, пожалуйста, пойми, что мне было бы гораздо легче получить от тебя сообщение о разрыве, чем вообще никаких вестей.
Ты сожалеешь о наших обещаниях, переменила ответ на мое предложение? Если так, я от всей души постараюсь понять, так как твое счастье стоит для меня на первом месте. Прошу тебя, милая, освободи бедного дурака от его страданий, достаточно нескольких слов.
Как Якоб? Здоров и бодр духом, по последним сведениям, дошедшим до меня от старой миссис Битлмен, – и она добавила, что ты чудесно пела в церкви на Рождество. Боже, как бы я хотел быть там и поддержать тебя, хотя я знаю, что пастор Лутц не поощряет выкриков с места.
Если будет возможность, мой Воробушек, пришли мне полный и подробный отчет о жизни дома, которого я жажду всеми фибрами души. Выше нос, Девушка-греза, я очень сильно тебя люблю.
* * *
Кто-то заскулил.
Я прервала чтение. Задержав дыхание, прислушалась. Мгновение до меня доносился только шум буша – болтовня лорикетов, жужжание мух и шелест листьев на ветру. Но потом этот звук раздался снова. Завывание, совсем как бессловесный, долгий вопрос.
Я сунула письмо, которое читала, в конверт и попыталась убедить себя, что ничего не было. Птица или скрип ветки, ложная тревога. Но затем мирную тишину разорвал собачий лай, за которым последовала хриплая команда, отданная мужским голосом.
Я вскочила, уронив на пол шкатулку с письмами. Упав на колени, я принялась сгребать их назад в ящичек, беспорядочно сминая в спешке. Один конверт отлетел чуть дальше, я резко потянулась к нему – и замерла.
В дверях метнулась какая-то тень, заслонив солнечный свет. Я рискнула бросить взгляд, но это, наверное, была птица или качнувшееся от ветра дерево, потому что я никого не заметила. Во всяком случае, пока.
Схватив далеко отлетевшее письмо, я сунула его в конверт и запихала всю эту пыльную кучу в сумку, затем окинула комнату взглядом, не осталось ли следов нарушения порядка. Разгладила складки на краю кровати, где я сидела, проверила пол на предмет незамеченных писем, затем подошла к двери и сощурилась от яркого света. Мгновение я слышала только сумасшедший стук своего сердца. Потом, откуда-то с другой стороны тишины, послышался хруст шагов и мужской голос. И тихое, предостерегающее рычание, от которого волосы у меня на затылке зашевелились.
* * *
Слетев со ступенек и бегом преодолев поляну, я бросилась в заросли чайного дерева, продираясь вперед. Я бежала, и «минолта» била меня по спине, а сумка норовила зацепиться за каждую ветку. Я с топотом неслась по неровной земле, обливаясь нервным потом. Вскоре я оказалась достаточно далеко и понадеялась, что убежала незамеченной. Замедлила шаги. Рискнула оглянуться через плечо.
Что-то белое мелькнуло на открытом участке освещенной солнцем травы, но лишь это я и увидела. Снова пустившись бежать, я метнулась вниз с холма, оскальзываясь на неплотно лежавших камнях, стремясь оторваться от бледного силуэта, гнавшегося за мной среди деревьев.
Затем я услышала предупреждающее рычание, и сзади в мою ногу вонзился какой-то снаряд. Боль возникла мгновенно, ошеломляя своей интенсивностью. Я споткнулась, рванулась вперед и навалилась на дерево, извернулась, задыхаясь, чтобы посмотреть на нападавшего.
Пес был коренастый и грязно-белый, его крепкое тело рябило мышцами, квадратная пасть широко разинута. Пес оскалился, демонстрируя крепкие белые зубы, сомкнувшиеся на моей лодыжке. Я лягнула его другой ногой, но мой обидчик лишь сильнее стиснул зубы. Задыхаясь от шока, я оступилась из-за подвернувшейся ноги и ударилась о дерево, ткнувшись в ствол лицом.
Пес завыл и глубже вонзил зубы. Мир накренился у меня перед глазами. Дерево поплыло в сторону, надвинулась каменистая земля. Каким-то чудом я нашарила ветку, обхватила ее, крепко сжала. Используя ветку как опору, я попыталась встать и вывернуться, но собака зарычала, и на этот раз я почувствовала, как натянулась и лопнула кожа повыше щиколотки. Ощутила жуткое трение, словно кость вывинчивали из плоти.
Ослепшая от боли и трясущаяся так сильно, что уже больше не доверяла своим рефлексам, я нащупала ремешок камеры, сорвала ее с плеча и со всей силы запустила в собаку. Но промазала, треснув камерой по стволу и потеряв в результате равновесие. Я едва не упала, меня затошнило, когда в поврежденной икре стрельнула боль, яркая, как вспышка молнии, отразившаяся в отвечающем за нервную реакцию участке мозга. Именно тогда, в тот миг парализующей растерянности я скорее почувствовала, чем увидела, движение в двадцати футах от меня в лучах солнца, падавших между деревьями.
Там стоял мужчина. Так неподвижно, что вполне мог быть сонным видением. Высокий, широкий в кости, сутулый, с лицом бледным, как луна, с блестевшей кожей…
Затем он исчез. Просто взял и исчез. Я моргнула, вернувшись взглядом в тень и забыв о мужчине, сосредоточившись на дворняге, которая с рычанием держала меня за ногу.
Второй удар получился у меня более точным. Собака взвизгнула, когда камера обрушилась ей на голову. Давление на мою ногу ослабло. Я высвободилась, а собака с рычанием снова бросилась на меня, но затем отскочила, когда я снова размахнулась «минолтой». Камера вырвалась у меня из рук и ударилась о землю. Собака зарычала, скалясь и обнажая запачканные розовым зубы, но не стала бросаться снова, а я не стала дожидаться, собирается ли она это сделать. Прижав к груди сумку, я повернулась и побежала.
Глава 19
Шесть швов, а позднее еще и укол против столбняка – мне было так жаль себя. Я оплатила счет в больнице и дохромала до своей машины, стоявшей внизу у холма. Свернув рецепт на болеутоляющее в четыре, а потом в восемь раз, я отправила его в бездну своей сумки-торбы и решила принять вместо него собственное безотказное средство против боли: путешествие в пекарню.
Была середина дня. Я стояла перед витриной пекарни, балансируя на одной ноге, как цапля, щадя пульсирующий комок боли в ноге. После утреннего злоключения я чувствовала себя опустошенной и страдающей, мучимой вопросами и стремящейся домой, чтобы устроиться на залитом солнцем широком подоконнике и поразмыслить над своей находкой.
Кто был тот мужчина, незаконно живущий в старой хижине, и почему он создал странный маленький мемориал в честь Айлиш? Ведь именно так это и следовало называть. Разложенные кукольные головки, попорченная старая фотография в потускневшей рамке, шкатулка с письмами… Они имели для него значение, но какое? Знал ли он ее? Или просто случайно нашел где-то письма и фотографию и полюбил их?
Я вспомнила розы, обвивавшие шаткую веранду этого домика, большие красные розы, и попыталась почетче их представить, но картинка получилась размытой. В то время мне слишком любопытно было заглянуть внутрь хижины. Но те же самые розы я видела до этого трижды: вокруг Сэмюэла на его страстном портрете в розовой беседке; карабкавшиеся на ограду в саду за домом у Луэллы; и в вазе со свежей водой на могиле Айлиш…
Кто-то тронул меня за руку. Я резко обернулась.
Дэнни Уэйнгартен протягивал мне записку: «Что с вашей ногой?»
От неожиданности я захлопала глазами.
– Что… Как вы?..
Волосы у него торчали во все стороны, одет он был в драную рубашку из фланелета, заставившую меня подумать, не совершил ли он набег на гардероб Хоба Миллера. В тени навеса над витриной пекарни глаза Дэнни приобрели темно-зеленый цвет воды океанских глубин. Он, хмурясь, смотрел на мою ногу, которую я все еще держала согнув, как цапля, потом написал: «Я чувствую запах антисептика. Что случилось?»
– Собака укусила, – выпалила я, все еще испытывая головокружение от его внезапного появления.
Протянув руку, он тронул сбоку мое лицо.
«Синяк под глазом, – прожестикулировал он. – Это тоже собака сделала?»
– Я упала, когда пыталась вырваться.
Морщинка на лбу Дэнни разгладилась. «С виду больно. Вы хорошо себя чувствуете?» – показал он знаками.
Я кивнула, не в состоянии говорить. Я не привыкла, чтобы кто-то за меня переживал, не привыкла, чтобы кто-то взламывал мою охранную систему. Но выражение лица Дэнни – обеспокоенность во взгляде, опущенные уголки губ, то, как заботливо он придвинулся ко мне… Внезапно я сделалась слабой, как котенок, ничего так не желая, как упасть в его объятия и разрыдаться.
Вместо этого я прочистила горло и пожала плечами:
– Ничего страшного. Все нормально.
«Как вы так расшиблись?»
Мгновение колебания. Затем я схватила его за руку и затащила в дверной проем пекарни, проверив, что перед фасадом пекарни пусто, и встав так, чтобы мое лицо видел только он один.
– На территории моего поместья незаконно живет какой-то мужчина. Вы знали, что на склоне холма, который обращен к оврагу, есть строение?
Дэнни сузил глаза, давая понять, что не понял.
Он подал мне блокнот, и я в двух словах рассказала о своих утренних приключениях: о прогулке до оврага, восхождении на холм, где я обнаружила старый дом, затем о том, как отважилась зайти внутрь и обнаружила, что там кто-то живет, но опустила часть о краже писем Айлиш и Сэмюэла.
«Я знаю это место, – сказал знаками Дэнни, потом забрал блокнот: – Маленькая хижина на поляне, мы с Тони часто играли там детьми. Счастливые воспоминания. Я приходил туда после его побега, но это уже было не то. Я много лет там не был. Думаете, там кто-то теперь живет?»
Я кивнула.
– Когда собака на меня напала, я его видела. Это было как вспышка… Высокий мужчина, у меня создалось впечатление, что ему больше шестидесяти лет. Не знаете, кто это может быть?
Дэнни покачал головой и написал: «Он позволил собаке на вас напасть?»
Я пожала плечами:
– Думаю, он был потрясен, обнаружив кого-то на своем пространстве… но да, он, пожалуй, не торопился отозвать собаку.
Глаза Дэнни потемнели. Он вырвал верхнюю страницу из блокнота и сунул в карман, затем начал писать на чистом листке. Написав всего лишь слово «Проклятый…», он остановился, заткнул блокнот за пояс и разразился потоком жестов, слишком сложных для меня, чтобы их понять. Я ожидала, что Дэнни замедлит движения или хотя бы поймет, что я отстала, и сообразит, что, может, пора вернуться к запискам, но он, кажется, лишь больше увлекался своим теперь уже монологом.
Я завороженно смотрела на него.
Густые волосы Дэнни торчали, как наэлектризованные, а выразительное лицо навело на мысль о грозовой туче. Но зацепили меня и держали его глаза, теперь не просто зеленые, но подобные изумрудному огню, сверкающему, как солнце на морской воде, темные, опасные и безумно красивые.
Он остановился так же резко, как начал. Сделал знак:
«Простите».
Я покачала головой, давай понять, что ничего не уловила из его вспышки.
Он вычеркнул слово «Проклятый» и написал: «Я рассержен. Я ругался. Я собираюсь повидаться с этим ублюдком, выгоню его с вашей земли».
– Но…
К моему удивлению, Дэнни схватил меня за руку, ободряюще погладил по тыльной стороне ладони большим пальцем. Затем нацарапал очередную записку:
«Я поеду туда сегодня днем, вы не против?»
– Нет, – сказала я. – Вы не обязаны…
Не в состоянии продолжать, я посмотрела в лицо Дэнни. Я не привыкла, чтобы кто-нибудь предлагал действовать от моего имени. Не привыкла, чтобы кто-нибудь меня защищал. Пьянящее чувство, которому я поначалу сопротивлялась, влекло меня, как мотылька, который летит на яркий свет.
– Это очень любезно с вашей стороны, Дэнни, но…
Я умолкла, когда к нам приблизилась молодая женщина. Она улыбнулась мне, занимая место рядом с Дэнни и дотрагиваясь до его руки, чтобы привлечь внимание.
Она сделала несколько быстрых жестов, из которых я не поняла ни одного. Затем посмотрела на меня, по-прежнему улыбаясь, и протянула изящную ладонь.
– Привет, я Нэнси, ветеринарная сестра Дэнни.
Она была именно такой, как я боялась. Высокая блондинка, эффектная, как супермодель. Пирсинг на губе, волосы заплетены в чудные косички, пришпиленные за ушами. На ней было красное, с вышивкой, платье-рубашка, стильно подпоясанное на ее стройной талии, дополненное по контрасту самой классной парой ковбойских сапог, какие я когда-либо видела.
– Одри, – почти прошептала я, пожимая ее руку, – приятно познакомиться.
Я была одета по собственной, заставляющей чувствовать себя весьма неловко моде: футболка «Харлей Дэвидсон», принадлежавшая когда-то Тони, и спортивные штаны Бронвен, ею отвергнутые.
– Вы живете в Торнвуде? – спросила Нэнси.
Я кивнула.
– Клево, – сказала она, – там великолепная местность. Как вы устроились?
Я была уязвлена. Она не только эффектна, но и вежлива. Да как мне с ней тягаться? Не то чтобы здесь имелось какое-то соперничество, но…
– Да нормально, – отозвалась я, но когда эти слова уже слетели у меня с языка, я вдруг осознала, что они не совсем верны. В Торнвуде было нормально, хорошо, как во сне, почти безупречно… до недавнего времени. Сначала меня увлекло желание доказать невиновность Сэмюэла, а потом – тайна дневника Гленды. Но время шло, и особенно теперь, после ужаса утреннего нападения собаки, жизнь в доме моей мечты начала немного отдавать кошмаром.
Нэнси одарила меня улыбкой, затем перевела взгляд на Дэнни, прикосновением снова привлекая к себе его внимание.
«Нам пора», – сделала она знак, потом улыбнулась мне, заиграв ямочками на щеках.
– Приятно было познакомиться, Одри. Как-нибудь увидимся.
Затем она ушла.
Дэнни написал в блокноте, передал мне записку.
«Я свободен позже сегодня днем. Схожу в хижину и разберусь с твоим скваттером».
«Я иду с вами», – знаками ответила я.
«Нет. Швы разойдутся».
– С ногой все в порядке! – Я встала ровно, твердо поставив ногу на землю, выдавила, поморщившись, улыбку. – Это всего лишь царапина. Правда, собачьи зубы едва повредили кожу. Не о чем беспокоиться, видите? – Я сделала несколько шагов на цыпочках на месте в доказательство своих слов. – Кроме того, – солгала я впридачу, – я опытный турист.
Дэнни так долго разглядывал мое лицо, что я заволновалась, не собирается ли он задрать на мне штанину и лично обследовать рану. Затем он написал в блокноте: «Как насчет пятницы? Даю вам несколько дней на поправку».
– Пятница подойдет.
Пятница очень подходила. Мне был любопытен мужчина, который – до сегодняшнего утра, во всяком случае, – владел письмами Айлиш и Сэмюэла времен войны. Любопытно и то, почему он создал мемориальную полку Айлиш… И не он ли принес розы на ее могилу? Безрассудно было бы встречаться с ним самой, но в компании Дэнни это означало значительный численный перевес.
Теперь Дэнни хмурился, явно не торопясь уйти.
Я пожала плечами.
– Что?
«Не ищите себе неприятностей», – показал он жестами.
– Конечно.
Он покачал головой и написал новую записку. «Вы похожи на овчарку-келпи, которая когда-то у меня была. Постоянно гонялась за машинами. Знаете, что с ней случилось?»
Келпи? С гримасой я взяла следующую записку: «Ее сбила машина».
Без дальнейших разговоров он повернулся и зашагал прочь. Я смотрела, как он переходит дорогу, догоняет на той стороне Нэнси. Он сделал несколько быстрых знаков, и Нэнси на все покачала головой. Потом они пошли по тротуару, стукаясь плечами, как пара спокойных старых друзей. Перед тем как им скользнуть в магазин металлических изделий, мне показалось, что я увидела его улыбку.
Мне захотелось броситься за ним вдогонку, сказать, что он все не так понял. Я не гоняюсь за машинами, обычно не гоняюсь; живя в Мельбурне, я так сильно старалась быть спокойной и надежной, обычной и милой, довольно, по правде говоря, скучной, но по мне Тони мог сверять свои часы. Только теперь, оставив все это позади и став владелицей Торнвуда, я изменилась. Проводя большую часть дней среди дикой природы, совершая массу опрометчивых поступков, с помощью которых я училась доставлять удовольствие себе, а не кому-то другому, я неизбежно должна была измениться. Но заглядывать в чужие дома, красть письма, подвергать себя опасности быть покусанной? Вообще-то мне это было не свойственно.
Может, я все же гонюсь за машиной, которая внезапно остановится и прикончит меня? Но не лучше ли гнаться за чем-то – за чем угодно, – чем не стоять беспомощно посреди дороги и ждать, когда тебя собьют?
Желание побежать за Дэнни было сильным, но я решила не навязываться. Дэнни был вне пределов досягаемости. Не только в смысле физической дистанции, но и эмоционально, духовно. Нас разделяли миры. Он был красивым и изменчивым, темной лошадкой, молчаливой загадкой, движимой необходимостью проявить себя, оставить свой след в мире.
Я была мышкой.
Скучной. Неинтересной. Бесцветной.
Хуже всего, зверски болела нога, и мне требовалось пирожное.
* * *
После сэндвича на тостах, за которым последовал и кусок липкого пудинга с финиками и несколько таблеток панадола, я принесла шкатулку с письмами в комнату Сэмюэла и села на кровать.
Втряхнув письма на покрывало, я отложила те, которые уже прочла, и стала разбирать остальные по датам, вынимая из конвертов листки ломкой старой почтовой бумаги и прикрепляя их скрепками к соответствующим конвертам. Некоторые помялись и запачкались после падения на пыльный пол хижины, и мне попалось несколько с темными, похожими на отпечатки пальцев пятнами… Засохшая кровь?
Я обратила внимание, что перерыв в письмах Сэмюэла длился с февраля 1942 года до декабря 1945-го. Этот промежуток меня не удивил. Его последнее письмо было отправлено, должно быть, всего за несколько недель до пленения.
Пятнадцатого февраля сорок второго года японцы совершили то, что союзники полагали прежде невозможным. Пройдя по полуострову Малакка, японская армия атаковала считавшийся неприступным порт Сингапура. Более ста тысяч союзников, включая семнадцать тысяч австралийцев, сдались в плен.
Этот критический удар – в соединении с бомбардировкой Дарвина четырьмя днями позже – положил конец мнимой удаленности Австралии от конфликта, охватившего остальной мир. Внезапно все принялись строить бомбоубежища позади домов, копать траншеи на школьных дворах, запасать в ожидании дефицита продукты, одежду и медикаменты. В ночное время по улицам ходили патрули, следя за строгим соблюдением закона о светомаскировке. Вся страна начала готовиться к теперь реальной возможности вторжения.
Взяв один из конвертов Айлиш из стопки, я развернула письмо и разгладила его перед собой на кровати.
* * *
6 февраля 1942 года
Дорогой Сэмюэл, я снова ходила на почту сегодня утром и мучила Клауса Джермена вопросами о пропавших письмах, но он всегда отвечает одно и то же: «Идет война, моя дорогая, задержки неизбежны».
Однако по его глазам я вижу, что он озадачен не меньше меня. Он заявляет, что в некоторые дни почты больше, чем может обработать почтовая служба. Добавь к этому трудности плавучих госпиталей, которые избежали воздушных атак, и ты получишь безошибочный рецепт запоздавшей почты.
Я избаловалась, пока ты учился в университете в Сиднее, я получала от тебя по несколько писем в неделю. Теперь, когда я так отчаянно хочу знать, что ты жив и здоров и в хорошем настроении, твое молчание пугает меня.
Однако я отказываюсь терять надежду. Я уверена, что ты жив, не спрашивай меня почему. Я знаю, что ты никогда меня не покинешь, даже умерев, поэтому неважно, по какой причине ты не отвечаешь на мои письма, я понимаю, что не пренебрежение заставляет тебя хранить молчание. Молюсь о твоем благополучии и чтобы мои письма и посылки каким-нибудь чудом попали к тебе, принеся хотя бы небольшое утешение.
* * *
14 июя 1942 года
Приободрись, мой дорогой Сэмюэл, потому что ты стал отцом здоровой девочки. Она пришла в мир во вторник 23 июня – девятифунтовый сверток совершенства. Я назвала ее в честь твоей матери Луэллы Джин, но я называю ее Лулу, потому что она такая маленькая кнопка с яркими глазами. У нее мои густые волосы, но в остальном ее сходство с тобой поразительно: большие умные глаза, решительный подбородок, молочная ирландская кожа. Она настоящая красавица, и хотя ей всего три недели от роду, я уже могу сказать, что голова у нее будет такая же светлая, как у ее отца.
* * *
Волна тепла пробежала по телу при этих словах, но странная печаль не покидала меня. Странно и удручающе было видеть имя Луэллы, написанное четким каллиграфическим почерком Айлиш, как напоминание о том, что мир прошлого реален… Пусть Айлиш давно ушла, но ведь когда-то она была плотью и кровью, молодой матерью с теми же страхами и надеждами для своей маленькой девочки, какие испытываю я в отношении своей. Объясняет ли это мою связь с ней? Или есть другая причина для ощущения, что важнейшая часть ее существа продолжает жить во мне?
* * *
17 сентября 1942 года
Сэмюэл, дорогой мой, как видишь по моему обратному адресу, я больше не живу на Стамп-Хилл-роуд. После того как папу в августе арестовали, инспекторы из бюро Содружества начали наведываться в неурочные часы – как раз ко времени чаепития, а однажды очень поздно вечером, без сомнения, стремясь застать меня врасплох, – чтобы проверить, как они заявляют, благополучие моего ребенка. Они изображали озабоченность моим семейным положением (или отсутствием такового) и допрашивали насчет отца ребенка, был ли он или нет тоже «цветным». Говорю тебе, у меня все время пылали щеки, и мне хотелось дать этим людям отповедь, но я держала язык за зубами. Я видела, как других маленьких детей со светлой кожей забирали у матерей-аборигенок, нанося такой удар по семьям, что те так и не оправились. Мысль о том, что кто-то заберет у меня Лулу, выше моего понимания – я знаю только, что должна предотвратить это любой ценой.
Однажды утром, когда приехали инспекторы, у меня случайно оказалась Эллен Джермен, она принесла отрез шерсти хаки для очередной швейной кампании Красного Креста. Эллен и в обычных-то обстоятельствах лучше на язык не попадаться, но в то утро она пришла в бешенство и дала им такую отповедь, что я до сих пор краснею при воспоминании о ней. Сэмюэл, эти мужчины не знали, как поскорее убраться! Прижимая к груди свои планшеты, они нырнули в автомобиль и умчались в облаке пыли.
После Эллен долго на меня смотрела. Затем сказала: «Не обижайся, Айлиш, дорогая, но давай-ка ты некоторое время поработаешь у меня и Клауса – только до возвращения Якоба?»
Я отказалась, но Эллен поспешила добавить, что, поскольку ее сестра заболела, в доме полно солдат на постое, а домработницу завербовала комиссия по трудовым ресурсам – готовить в военной столовой в Эмберли, она сбивается с ног. А это, заметила она в своей решительной манере, означает, что страдает ее добровольная работа для Красного Креста и что я должна считать мое пребывание в их доме жизненно важным вкладом в военную экономику. Кроме того, добавила она, заметив нерешительность, которая, вероятно, отразилась у меня на лице, она может помочь с присмотром за Лулу, а так как она дипломированная акушерка, то сможет обеспечить моей малышке наилучший уход.
Пока она говорила, я не сводила глаз со Стамп-Хилл-роуд, наблюдая, как все еще кружится пыль, которую подняла машина инспекторов Бюро. Зная, что в следующий раз, когда они приедут – или в следующий, или в следующий, – мне, быть может, так не повезет.
Я поблагодарила Эллен и сказала, что подумаю над ее любезным предложением. Но, Сэмюэл, я уже приняла решение. Как говорит папа: «Когда волк стучится в дверь, не стоит дожидаться, пока он спустится вниз по трубе».
* * *
31 октября 1942 года
Дорогой, ты никогда не догадаешься, где я: бумага лежит у меня на коленях, я сижу, прислонившись к большому камню, в его тени. Да, на нашей тайной, поросшей папоротником поляне рядом с оврагом!
Она такая же, как в последний раз, когда мы здесь были, – залита солнцем и звенит песнями миллиона птиц-звонарей, воздух восхитительно прохладен, а тени зеленые из-за всех этих папоротников, пробивающихся между деревьями, а самые красивые сейчас лишайники, такие яркие после дождя – золотые, розовые, серо-фиолетовые и сверкающие алые. Я оторвала несколько пластинок, вложу их в письмо, чтобы и ты полюбовался ими. Еще сорвала несколько листьев эвкалипта – крохотную частичку дома для тебя.
Лулу лежит здесь рядом со мной, в тени, сучит своими маленькими ножками на одеяле, которое я расстелила для нее, гулит, глядя на деревья в лучах солнца. Я называю ей птиц: птица-бич, серый сорокопут, мухоловка и свистун. Хотя ей всего четыре месяца, она внимательно смотрит на меня своими большими умными глазами, и я убеждена, что она понимает каждое слово.
У Джерменов все хорошо, хотя, признаюсь, отчасти они причина того, что я скрываюсь здесь. Я целый час иду сюда с коляской (потом еще двадцать минут несу Лулу до поляны по дорожке, которая поднимается по оврагу), но это того стоит. Не пойми меня неправильно, Джермены добрые. Пока я подметаю пол, стираю, сбиваю масло, чищу картошку или хожу с поручениями, Эллен сидит с Лулу, следит за ней и хлопочет над ней. Они с Клаусом обожают нашу маленькую девочку, и это хорошо, правда?
И все же бывают моменты, когда во мне поднимается ревность – это чудовище с зелеными глазами, как назвал ее Шекспир. В особенности в те минуты, когда улыбка Лулу кажется ярче, глаза – более живыми, смех – веселее, потому что рядом Эллен. А потом домой приходит Клаус и щекочет Лулу под подбородком, отчего она что-то весело лепечет, и юный Клив вносит свою лепту – причесывает ее, или рассказывает сказки, или щекочет за ушком, пока она не начинает ворковать, как птенец голубя. А я тем временем занята со шваброй, с метлой или подойником, смотрю на них, как из-за кулис, и представляю, с какой радостью я бы их всех удавила (но не мою Лулу, конечно!).
Поэтому я приношу Лулу сюда, на нашу волшебную поляну, и рассказываю ей сказки о птицах, ящерицах и о цветах, которые появляются из согревающейся земли. Я рассказываю ей о Буньипе – мифологическом животном у австралийских аборигенов, который танцует на мелководье в ручье далеко внизу, и о мудрых духах, которые следят за нами изнутри деревьев, и я придумываю истории о ее храбром папе, который ушел на войну, и о том, как счастлив он будет, когда вернется.
А ты вернешься, мой дорогой Сэмюэл, я знаю, что вернешься; в этом не сомневается ни мой разум, ни мое сердце.
* * *
24 апреля 1943 года
Не волнуйся, любимый, но вчера я упала.
Со мной все в порядке, глупо получилось, я слишком устала и была невнимательна. В общем, вчера вечером, после чая, я драила заднее крыльцо, поскользнулась в своих старых стоптанных туфлях на намыленной ступеньке и полетела вниз, неуклюже шлепнувшись на дорожку.
Я не пострадала, не считая нескольких царапин на голени – и, пока сидела, переводя дыхание, услышала вскрик в доме, вслед за которым послышалась лихорадочная возня. Не успела я подняться, как из дома выскочил юный Клив с бутылкой антисептика и громадным рулоном пластыря. Я попыталась возражать, но он упрямый парнишка. Протирая мне ободранную кожу ватным тампоном, он стал подробно рассказывать о том, что занимается на курсах оказания первой помощи в Кадетском корпусе.
– Разве ты не слишком молод для Кадетского корпуса? – поддела я, зная, что туда принимают с шестнадцати лет.
– Я высокий для своего возраста, – важно заявил он, затем все же признался: – Папа разрешает мне ходить в воскресный лагерь в Эмберли. Я еще не зачислен, но делаю все то же, что и ребята постарше. Мы учим азбуку Морзе и кучу других потрясающих вещей. Распознавание самолетов – вот мой любимый предмет. Как только мне будет достаточно лет, я запишусь в летчики.
Клянусь, Сэмюэл, этому мальчику десять лет, но словно бы все сорок, этакий маленький старичок-профессор, всем интересующийся и самый настоящий всезнайка – по правде говоря, он напоминает мне одного красивого молодого врача, с которым я знакома! А еще Клив прилежно собирает стеклянные бутылки, истертые шины и жестяные банки – все, что можно тем или иным способом повторно использовать для военной экономики. Пару лет назад он начал помогать своему отцу на почте, разбирая корреспонденцию до и после занятий, и сверх того он еще находит время, чтобы помочь мне по дому, прибирает за Лулу, вытирает посуду, колет дрова и кормит кур. Он становится весьма незаменимым.
Честно сказать, Сэмюэл, хотела бы я иметь пусть даже половину такого усердия, как у этого мальчика, или четверть такой энергии! Очень досадно, что Эллен невысокого о нем мнения – срывается на него из-за малейшего промаха, придирается и критикует его внешний вид. Я даже видела, как она унижала несчастного ребенка перед своими подружками по Красному Кресту. Иногда мне очень его жалко. Похоже, у него нет друзей его возраста, что, возможно, объясняет его стремление заполнить каждую минуту каким-нибудь делом.
В любом случае его энтузиазм трогателен, и с его стороны было очень любезно помочь мне после мыльной катастрофы, но его замечание насчет учебы на военного летчика огорчило меня. Я лишь надеюсь, что, когда возраст позволит Кливу записаться в армию, эта гнусная война уже давно закончится.
* * *
21 мая 1943 года
Здравствуй, любимый, ты получил мою пасхальную посылку? Я знаю, что тебе понравятся фотографии Лулу и ты сможешь сам воспользоваться сигаретами, мылом и съесть овсяное печенье или обменять. Мои кулинарные способности не выдерживают никакой критики, и юный Клив заявил, что мое печенье похоже на подметку, но я все равно его послала. Возможно, там, где ты находишься, оно тебя порадует. Еще посылаю носки, я сама их связала, и, боюсь, они получились лишь чуточку удачнее моего печенья.
Помимо помощи по дому у Джерменов, я начала работать на телефонной станции, выхожу в вечерние смены, пока Лулу (ей скоро год!) спит под бдительным присмотром Эллен. Моя смена заканчивается в десять часов вечера, и я, виляя, еду домой на велосипеде, объезжая наваленные повсюду проклятые мешки с песком, звоня в звонок, чтобы никого не сбить, передвигаясь по улицам только благодаря удаче, как иногда кажется. В этот час город погружен в непроглядную тьму, не горит ни один уличный фонарь, не светится ни одно окно. Машинам запрещено передвигаться после темноты, если нет специального маскирующего устройства на фарах, и хотя иногда я слышу в отдалении шум двигателя, я вижу только слабое пятно света на дороге. Кто бы подумал, что здесь, в Мэгпай-Крике, мы будем бояться бомбежек? Однако это правда, Сэмюэл, что после бомбардировок Дарвина никто из нас больше не чувствует себя в безопасности.
По дороге домой в среду мы узнали, что госпитальное судно Красного Креста «Кентавр» было торпедировано в море, неподалеку от острова Стрэдброук. Передают, что было убито или утонуло более 250 солдат и медсестер. Сколько оборванных жизней, семей, пораженных жесточайшим ударом! Клянусь, вся страна в шоке.
А здесь, у Джерменов, все идет своим чередом, в основном благополучно. Хотя на днях, вечером, Эллен обмолвилась, что в случае какого-то несчастья со мной – необязательно, конечно, что оно произойдет, поспешила добавить она, – они с Клаусом с радостью удочерили бы Лулу. Она, казалось, нервничала при этих словах, и у меня создалось впечатление, что она чего-то недоговаривает.
Я скрыла свое огорчение, показав красивое кольцо твоей матери и объяснив, что, как только ты вернешься из армии, мы с тобой поженимся. При этой новости Эллен прослезилась и поздравила меня, но я чувствую, что ее реакция – всего лишь верхушка айсберга. Трудно объяснить, но я начинаю припоминать другие ее как бы невзначай сделанные замечания. «Как ты молода, Айлиш, – говорит она и хмурится с деланой озабоченностью. – Всего девятнадцать лет, и совсем одна. Ты и сама-то кажешься почти ребенком». Совсем недавно она сказала: «Наша дорогая маленькая Лулу – солнечный луч в моей в остальном печальной жизни».
Я действительно стараюсь помнить, какой доброй она была и как спасла меня в тот день от инспекторов из Бюро и их бесконечных вопросов и бланков. И стараюсь помнить, что без моей работы у Джерменов я была бы беззащитна перед людьми, которые приходят с бледными сочувствующими лицами, разговорами о Библии и официальными объяснениями, а потом забирают твоего ребенка.
* * *
7 декабря 1943 года
Любимый, в последнее время я испытываю беспокойство, подгоняемая странным чувством, что время истекает. Эллен постоянно говорит мне, чтобы я снизила темп, чтобы не торопилась, не изнуряла себя, но я не могу иначе.
Вскакиваю с постели с проблеском зари, умываю, одеваю и кормлю Лулу – мне повезло, что она любит свою еду и не оставляет ни крошки из того, что я ей даю. Кажется, что, пока не наступит момент завалиться спать, я постоянно ношусь, как безмозглая курица: чищу, натираю, подметаю, собираю овощи, вытираю расплесканную воду, целую поцарапанные коленки, варю еду огромными кастрюлями или пеку хлеб для все увеличивающегося числа людей на постое у Джерменов.
Я ни минуты не сижу спокойно. Даже если бы я могла каким-то чудом найти время, чтобы дать отдых ногам, я бы им не воспользовалась. Внутри меня тикает бомба с часовым механизмом, отсчитывая секунды – до какого конца, понятия не имею. Я все возвращаюсь воспоминаниями к той ночи в домике поселенцев, к нашей последней ночи вдвоем. Сэмюэл, помнишь, как я расстроилась, увидев чье-то бледное лицо в окне? Настаивала, что это был призрак. Но в душе-то я уже тогда знала, что видела.
Я видела смерть, Сэмюэл. А смерть видела меня.
Эллен говорит, что во всем виновата война. Смерть и потери всегда близко. Мы смеемся, поем и болтаем друг с другом, веселые, как скворцы, но под маской жизнерадостности таится страх. Иногда я лежу ночью без сна, и мне кажется, что я слышу, как стонет, поворачиваясь вокруг своей оси, мир и тихо плачет. Всякий раз, когда закрываю глаза, я вижу только газеты: страница за страницей имена – погибшие и пропавшие без вести, юноши и женщины, которые никогда не вернутся. Эллен права – война изменила всех нас, и не всегда к лучшему.
Сегодня днем я оставила Лулу с Эллен и, надеясь развеять свое мрачное настроение, поехала на велосипеде на Стамп-Хилл-роуд, поднялась на холм до оврага. День был теплым, и ноги сами понесли меня по дорожке в поместье. Бедный старый дом зарос кустами лантаны и ежевики. Он кажется заброшенным с тех пор, как твой отец уехал к своим родственникам в Уорик.
Я хотела подобраться к окну и заглянуть внутрь, может, даже взять запасной ключ в прачечной и войти в дом. Помнишь, Сэмюэл, как ты всегда увиливал, когда я просила тебя показать мне дом? Ты говорил, что я принадлежу солнцу и теням сада, темная бабочка, слишком нежная и дикая, чтобы запереть ее в удушающих пределах пыльного старого домины… Кучу всякой чепухи, как я теперь понимаю. Сейчас мне интересно, что ты от меня скрывал? Или, возможно, это меня ты хотел скрыть – на тот случай, если без предупреждения приедет отец или какая-нибудь уважаемая дама нанесет неожиданный визит?..
Прости меня, любимый, это резкие слова. Но меня терзает одиночество, которое еще горше из-за твоего продолжающегося молчания. Я без конца прокручиваю в голове ужасающие сценарии, пока не прихожу к убеждению, что сошла с ума. Тем временем ты далеко и не в состоянии себя защитить. Если бы ты был здесь… О, Сэмюэл, если бы ты был здесь!
В дом я, конечно, не вошла. Меня позвала старая, увитая розами беседка, и я побежала по дорожке, откликаясь на зов. Я могла бы заплакать (на самом деле я заплакала), увидев, в каком она состоянии. Очаровательные старые розы поражены корневыми побегами и задушены сорняками, кусты усыпаны увядшими цветами, драгоценные плоды шиповника (горсть которого мы когда-то заварили и получили сладкий розовый чай, помнишь?) теперь высохли и почернели на солнце.
Я легла в беседке, утопая в траве среди колких опавших лепестков и колючих веточек, и зажмурилась из-за слепящего солнца. И тогда ко мне пришел ты, я видела тебя с закрытыми глазами, клянусь, ты стоял прямо там передо мной, в арке входа, такой же реальный, как в тот день, когда я сделала твой портрет.
Помнишь, это было вскоре после начала войны в 39-м году? Как-то солнечным днем твой отец устроил пикник в пользу Красного Креста в заросшем саду Торнвуда. Я притащила к вам папину фотокамеру и делала портреты по шиллингу за штуку для Военного фонда. Ты сунул мне хрустящую фунтовую бумажку и поманил в беседку, настаивая, что станешь самым первым моим клиентом.
Ты выглядел таким оживленным, улыбался этой своей кривой улыбкой, глядя только на меня. И я чувствовала, что первые головокружительные узы любви начинали связывать мое сердце. Как же я любила тебя в тот день, Сэмюэл… как я до сих пор тебя люблю.
Ты хоть когда-нибудь думаешь обо мне, милый? Есть ли розы там, где ты сейчас находишься, или там только грязь и мрак, кровь и страх? Возможно, я все равно передам их тебе – душистые бутоны и большие тяжелые цветы, сладкий шиповник, переполняемые нежностью и любовью, – и стану молиться: пусть, если иное невозможно, хотя бы они и я будем в твоих снах.
* * *
4 мая 1944 года
Дорогой Сэмюэл,
сегодня утром я проснулась поздно и обнаружила, что кроватка Лулу пуста. На долю секунды меня объял тошнотворный ужас – как будто та бомба с часовым механизмом перестала тикать, а я застыла в молчаливом затишье перед взрывом, – но затем я услышала донесшийся из кухни ее нежный смех.
Я пошла туда и увидела Эллен за кухонным столом с Лулу на коленях, а Клив сидел рядом с ними. Они ели огромные порции яичницы-болтуньи и тосты со сливочным маслом, нарезанные полосками.
Лицо Эллен светилось, и лицо Лулу тоже. Но самым необыкновенным было преображение юного Клива. Пока я стояла незамеченная в дверях, Эллен протянула свою худощавую руку и погладила Клива по щеке. Мальчик разомлел, огромными, как у щенка, глазами глядя на мать с изумлением и благодарностью. Разумеется, внимание Эллен снова переключилось на Лулу, которая полными горстями запихивала в рот яичницу, роняя бóльшую ее часть на свое красивое платье. Но Клив… Что ж, взгляд Клива не отрывался от матери.
Клянусь, Сэмюэл, я никогда не видела взгляда такой любви – чистой, безудержной, полной надежды. Я смутилась, став свидетелем подобного переживания. Оно казалось личным, и у меня сжалось сердце при виде отклика Клива на короткую ласку матери. Это был один из тех мимолетных, обманчиво незначительных моментов, которые повзрослевший Клив вспомнит как поворотный пункт в своей жизни.
Мне следовало бы порадоваться за него, но на меня нахлынуло чувство одиночества. Мое положение в жизни изменилось. Казавшееся реальным и надежным в мгновение ока сделалось непрочным, как паутина. Эллен, Клив и моя драгоценная Лулу составляли картину счастливой, дружной маленькой семьи, объединенной уютной близостью, а я была одинокой чужачкой.
* * *
2 марта 1945 года
Сэмюэл, любимый, наконец-то у меня есть для тебя какие-то хорошие новости. Папа возвращается домой! Вчера я получила от него письмо, он говорит, что приедет в Мэгпай-Крик в конце июня. Разумеется, мне хотелось помчаться на Стамп-Хилл-роуд и начать готовить дом к его приезду, но до июня еще далеко, поэтому я должна сохранять терпение.
Вчера вечером я показала папино письмо Эллен и рассказала о своем плане вернуться домой. Сначала она сделала вид, что рада, но я заметила, что на самом деле она расстроена. Она ходила по комнате, бросая на меня встревоженные взгляды и снова и снова спрашивая Клауса, не показалось ли ему странным письмо моего папы и не окажется ли так, что бедный старикан (папа пришел бы в ярость, услышав, что его так называют!) слишком болен, чтобы вернуться на Стамп-Хилл-роуд после суровых испытаний в лагере для интернированных, и слишком немощен, чтобы выдержать жизнь в доме с шумной трехлетней девочкой.
Лулу бойкая, но она не будет для папы бременем – совсем наоборот, я ожидаю. Папа всегда радостно расспрашивал о ней в письмах, его воодушевляла перспектива попробовать себя в роли слепо обожающего дедушки, который будет безумно баловать свою внучку. Уверена, живость Лулу взбодрит его, а не отправит в раннюю могилу, как, похоже, думает Эллен.
Позднее тем вечером, когда Эллен удалилась в свою комнату, потушили свет и дом затих, мне показалось, что я слышу плач. У меня упало сердце, радость от папиного письма пропала. Почему радость всегда так быстротечна? Еще долго после того, как плач Эллен заглушили другие звуки ночи и он сменился тихим храпом Клауса, я лежала без сна.
Я поняла, почему опечалена Эллен. Это никак не связано с тревогой за папино благополучие – просто она будет скучать по Лулу.
В полночь я спустилась вниз, чтобы приготовить себе чашку ячменного напитка. И кого же я нашла за столом в темноте, как не юного Клива? Он вздрогнул, когда я опустила штору и зажгла на кухне свет, и вытер лицо, но я успела увидеть, что оно блестит от слез.
– Что случилось? – спросила я.
– Ничего, – пробормотал он и, вскочив со стула, налил в чайник воды и поставил на огонь. Вернулся на стул и сидел поникший, избегая встречаться со мной взглядом.
– Клив, ты не заболел?
Он покачал головой.
– Почему ты сидишь здесь один, в темноте? У тебя завтра занятия в школе, уже очень поздно.
Он по-прежнему ничего не ответил, и мне стало как-то не по себе. В этом году ему исполнилось тринадцать, он превратился в крупного, неуклюжего подростка. По сравнению с другими детьми он казался стариком. У него была большая голова, коротко подстриженные жесткие волосы, морщина между светлыми бровями, в больших голубых, словно аквариум, глазах непрерывно, снова и снова возникали страх и тревога.
– Клив?
Он опять смахнул слезы с лица:
– Я не хочу, чтобы ты уходила.
Только тогда до меня дошло. Всплыла дюжина воспоминаний: Клив и его мать за кухонным столом, они всегда балуют Лулу, все трое – точь-в-точь картина счастливой семьи; бесчисленные уютные вечера вокруг радиоприемника – Клив играет с Лулу у ног матери; Клив и его мать по очереди читают перед сном на разные голоса сказку из книжки Лулу.
Клив и его мать.
– Мы же не можем остаться здесь навсегда, ты знаешь, – сказала я ему.
Клив кивнул, но потом поднял голову и посмотрел на меня. Мне стало страшно. Глупо, я, наверное, очень устала, но мне показалось, что я увидела в этих голубых глазах-аквариумах то, что меня обеспокоило. Презрение, может быть. Даже ненависть. Сэмюэл, я знаю, это звучит странно, но охватившее меня в тот момент чувство было очень похоже на страх.
Но момент прошел. Клив опустил голову, и я засомневалась в увиденном. Отбросив опасения, я сняла с плиты брызгающий водой чайник и сделала две чашки напитка. В любое другое время я бы села рядом с мальчиком, похлопала его по пухлому плечу, нашла бы слова утешения. Но не прошлой ночью. Едва поставив перед ним чашку, я торопливо пробормотала «Спокойной ночи» и прямиком отправилась в свою комнату.
* * *
16 марта 1945 года
О, Сэмюэл, у меня такое плохое настроение.
Сегодня вечером, через час после чая, когда мы усаживались вокруг приемника, чтобы послушать семичасовые новости, Лулу, которую я только что поцеловала перед сном и уложила в кроватку, раскричалась. Я бросилась в нашу комнату и выхватила ее из кровати, с ужасом обнаружив, что из ее бедной ручки течет кровь. Эллен нашла в кровати кусок коричневого стекла. Она гневно на меня посмотрела, словно я худшая в мире мать, что, боюсь, правда.
Рана оказалась неглубокой, но все равно мы суетились в панике, перемазались йодом и антисептической мазью, роняли пластырь, вату и бинты, пока комната не стала напоминать полевой госпиталь, но Лулу скоро успокоилась – храбрый маленький воин.
Клянусь, Сэмюэл, я понятия не имею, как стекло попало в кроватку моей малышки – я бдительно слежу за ее безопасностью. Клив топтался в дверях, наблюдая за происходящим с мрачной усмешкой. Помню, как я со злостью подумала: «Где же твоя проклятая бутылка с антисептиком?»
* * *
24 марта 1945 года
Сэмюэл, я опять стану обременять тебя своими напастями, прости меня, дорогой, мне больше не к кому обратиться, и я знаю, что ты поймешь.
Вчера поздно вечером я услышала, как Эллен разговаривала по телефону. Она не упоминала никаких имен, но несколько раз я услышала, как она сказала «ребенок» и «маленькая девочка», а потом «ситуация в целом крайне неудовлетворительная».
После этого я лежала не сомкнув глаз, прислушиваясь к скрипам и стонам дома, слезы остывали у меня на щеках. Сегодня утром я дождалась, пока закончится завтрак, прежде чем обратилась к Эллен. Я сказала ей, что забираю Лулу на Стамп-Хилл-роуд раньше, чем собиралась, чтобы подготовить дом к приезду папы.
Конечно, мы поссорились. Я не ожидала, что она так расстроится. Она ушла из кухни в слезах, а я чувствовала себя измученной. Всей душой я жалела о том, что сказала. Но, Сэмюэл, после того, как я случайно подслушала ее телефонный разговор вчера вечером, как я могла ничего не предпринять?
Поникшая, я осталась сидеть за столом. В дверях маячил Клив, глядя на меня.
– Что? – сказала я резче, чем хотела. – Чего уставился?
Сначала он не ответил. И опять у меня возникло ощущение, что он старше – много старше – своих тринадцати лет. За последний год Клив здорово вытянулся, почти сравнялся ростом с отцом, и стал почти таким же плотным. Прежде я этого не замечала. Полагаю, я взяла от его матери привычку не обращать на мальчика внимания.
– Ты можешь уйти, – с ненавистью произнес он. – По тебе никто скучать не станет. Но Лулу теперь принадлежит нам.
– Как ты можешь так говорить, Клив? Она моя дочь. Единственный человек, кому она принадлежит, – я.
– Мама говорит, что ты не годишься в матери.
Я смотрела на него, потеряв дар речи, и понадобилось несколько секунд, чтобы я смогла заговорить, а когда я это сделала, то сумела лишь прошептать:
– В таком случае она ошибается.
Но Клив уже ушел, я слышала, как он с топотом направляется по коридору в свою комнату, фальшиво насвистывая, как всегда делает, когда очень доволен.
Я долго сидела за столом. Вся дрожа. Сдерживая слезы. Заплакала Лулу, и к ней подошла Эллен, а я не могла шевельнуться. Я только сидела и думала о мужчинах в серых костюмах, с их планшетами, набитыми бланками, и об их черном автомобиле с поднятыми стеклами… И впервые с начала войны мне стало страшно. Не за себя, но за нашу маленькую девочку. Она моя жизнь, Сэмюэл, – ее милая улыбка, веселый голосок, жизнерадостность, – она важнее для меня, чем еда, вода или воздух. Если ее заберут, как я буду жить?
* * *
25 мая 1945 года
Мой любимый, как ты видишь по адресу, я все еще у Джерменов. Эллен заставила меня дать обещание остаться, пока она не найдет новую домработницу, как будто только этим я для них и была – наемной работницей!
Некоторое время назад я упоминала, как мы были заняты консервированием фруктов и приготовлением чатни для будущего киоска Красного Креста – еще одно благотворительное мероприятие для Фонда помощи солдатам. Эллен все еще не нашла домработницу мне на замену, поэтому я уступила и согласилась остаться, застряв в этом неприятном чистилище, тихо дожидаясь своего часа, пока на мое место не придет другая несчастная жертва.
О, Сэмюэл, все переменилось. После сегодняшней беды остаться я не могу.
Эллен взяла Лулу на собрание Красного Креста (где, не сомневаюсь, все они будут кудахтать над маленькой непоседой), и поэтому я воспользовалась моментом, чтобы законсервировать оставшиеся помидоры.
Клив пришел и начал тихо слоняться по кухне, играя с большим ножом, «случайно» скидывая на пол помидорную кожуру, мотаясь туда-сюда между раковиной и столом.
Громадная кастрюля с томатной лавой булькала на плите, и когда я начала разливать варево в стерилизованные бутылки, Клив подкрался сзади и подтолкнул меня под локоть.
Обжигающая жидкость попала мне на руку. От шока и боли я отпрянула назад и наступила на раздавленную кожуру помидоров, которую не потрудился убрать с пола Клив, несмотря на мои неоднократные напоминания. Я поскользнулась, почти потеряла равновесие, но каким-то образом удержалась на ногах, опершись на стол. Черпак вырвался у меня из рук и упал на пол.
Клив пронзительно закричал.
Я тут же повернулась. Первое, что я увидела, были кроваво-красные брызги на его школьной рубашке. Еще не оправившись от толчка, я подумала, что он, наверное, порезался большим ножом. Он согнулся, держась за лицо, ревя, как раненый вол. Затем я поняла: обжигающе-горячее содержимое черпака выплеснулось на него.
Я попыталась подтащить его к раковине, умыть и посмотреть, насколько страшны ожоги, но он вырвался и убежал.
Главная медицинская сестра в больнице сказала, что с ним все будет хорошо, хотя ожоги весьма серьезные и на его бедном лице могут остаться шрамы.
Сэмюэл, не могу описать, как я этим подавлена. По сравнению с ужасами, которые ты, не сомневаюсь, переживаешь в Малайе – или где бы ты ни был, – это может показаться тебе банальной раной. Но Клив ребенок, и из-за меня он на всю жизнь может остаться с отметиной.
Я посчитала за лучшее вернуться на Стамп-Хилл-роуд. Несмотря на свое обещание Эллен, я больше не могу оставаться здесь ни на минуту. Побег – ужасная трусость с моей стороны, но что еще я могу сделать? Здешние события как нарочно выставляют меня никудышной матерью. Мне страшно остаться одной и ждать милости от инспекторов… но еще страшнее оставаться здесь.
* * *
3 сентября 1945 года
Сэмюэл, наши репатриированные из Сингапура военнопленные уже в течение нескольких недель потихоньку возвращаются домой, и я начинаю волноваться. Где же ты, любимый?
Ни у кого нет от тебя вестей, никто не видел тебя после захвата Сингапура в 42-м году. Я написала в Красный Крест, но мне пока не ответили. Я даже поехала на поезде в Брисбен, дошла там до пристани и смотрела, как сходят с госпитальных судов раненые. Я умолила подвезти меня до Тувумбы, потом обратно в Брисбен, даже до Иноггеры, чтобы пройти там по палатам госпиталей для репатриированных, – все безрезультатно.
Любимый, чему же мне верить?
Я адресовала это письмо в Государственный архив в Сиднее, надеюсь, что каким-то чудом, если ты жив, письмо до тебя дойдет.
Сэмюэл, пожалуйста, будь жив. Пожалуйста, приезжай домой ко мне. Что бы ты ни пережил, мы справимся с этим вместе. И построим счастливую жизнь, как собирались, ты, я и Лулу. Мы забудем войну, и пусть большой мир какое-то время обойдется без нас… Что скажешь, любимый?
* * *
Следующее письмо, от Сэмюэла, едва можно было прочитать. Почерк стал неровным и нечетким, как детские каракули, по всей странице строчки шли то вверх, то вниз, бумага пестрела чернильными пятнами, а местами была прорвана пером. Вверху значилось: «Гринслопс» Брисбен» – насколько я поняла, это госпиталь для репатриированных, который построили в начале войны для возвращавшихся солдат.
* * *
3 декабря 1945 года
Айлиш, любимая,
я вернулся домой две недели назад. Не выразить, с каким облегчением я ступил на родную землю. Моей первой мыслью было увидеть тебя, моя дорогая, но я прикован к постели, по крайней мере до Рождества. Пожалуйста, не волнуйся за меня, в целом я чувствую себя нормально – просто немного истощен и малярия треплет, хотя персонал в «Гринслопс» хлопочет надо мной, как над новорожденным.
Госпиталь великолепен. Свежевыкрашенные стены и кровати (в цвет пахты), крахмальные простыни чисты до скрипа, потолки того же самого оттенка, что и кудрявый мох, растущий в овраге, нежно-зеленого, на который я могу радостно таращиться целый день (что зачастую и делаю). Здесь есть широкие веранды, где можно сидеть и смотреть, как мимо проплывает мир, или грезить о своей красивой девушке и о том, как сильно хочется ее увидеть (намек, намек).
Я слышал, что здесь есть даже посудомоечные машины, а также тележки с подогревом для развоза еды. Иногда мне кажется, что я попал совершенно в иной мир по сравнению с тем, с которым попрощался четыре года назад. Кормят превосходно, хотя медсестры немного ограничивают мои порции: полтарелки за раз, учитывая мое плохое пищеварение. Но, Айлиш, это вкусно, очень вкусно! Рагу с настоящим мясом, булочки со сливочным маслом, пудинг из саго и тушеный ревень. Я точно умер и попал в рай. Только здесь недостает одного ангела, ангела с милой улыбкой и глазами, сверкающими, как черные алмазы. Как скоро ты сможешь меня навестить, милая Айлиш?
Совершенно нереальное ощущение от пребывания дома – хотя я совсем не дома, но где-то в промежуточном пункте, своего рода лимбе[13], в приятном сне… во сне, от которого я страшусь очнуться.
Мне не терпится вернуться в Мэгпай-Крик. Мне страшно не хватает компании, смеха и веселости. И в то же время я этого боюсь. А вдруг я вернусь и обнаружу, что разучился добродушно шутить, общаться? Не сумею вписаться в общество? Приходится постоянно напоминать себе, что вместе с моей восхитительной Айлиш я смогу сделать все что угодно… И ты ведь до сих пор со мной, не так ли, любимая?
Не знаю, что ты слышала о моих приключениях – вероятно, ничего. Ходит столько противоречивых слухов, никто ни в чем не уверен.
Меня увезли на Борнео, после того, как отделили от моего батальона в 42-м году, и у меня не было возможности послать домой весточку. Полагаю, все парни считали меня погибшим, и в городе найдутся люди, которые удивятся, что я все еще жив. В октябре прошлого года, когда я добрался до Сингапура – на несколько месяцев позже остальных парней, – я столкнулся с одним знакомым. Ты помнишь Дейва Леггета с лесопильного завода? Он сообщил мне печальную новость о моем отце. Я был потрясен, узнав, что все это время папы уже не было, а я не знал. Можешь вообразить мое горе: папа был суровым человеком, мы никогда не были близки и все же очень друг друга уважали, и, думаю, можно сказать, что мы по-своему любили друг друга. Я ужасно по нему скучаю.
Это делает для меня еще более важной встречу с тобой, Айлиш. Я постоянно о тебе думаю. С тех пор как мы в последний раз поцеловались на прощание на платформе на Рома-стрит, в моей душе запечатлен этот образ: моя красивая девушка стоит там пыльным, жарким сентябрьским днем, слезы льются из ее глаз, а на соблазнительных губах дрожит улыбка… Не смейся, Айлиш, этот твой образ в моей голове был живее любой фотографии – хотя фотография, которую ты сунула мне в руку в тот день, путешествовала со мной, сделалась такой же необходимой для моего выживания, как еда, вода и воздух. Затерлась она, но только не память о тебе. «Черт, – думаешь ты, – этот олух превратился в сентиментального дурака». Полагаю, так и есть. Как могло быть иначе? Я люблю тебе так же сильно, если не в тысячу раз сильнее, как в тот день на вокзале, когда видел тебя в последний раз.
Айлиш, пожалуйста, приезжай. Или хотя бы черкни пару строк.
* * *
Я распрямилась, растирая затекшую шею. Вокруг меня были разложены десятки писем, но ни одно из них не добралось до адресата. Понятно, что в военное время почтовая служба ненадежна, но наверняка некоторые из писем попали бы к получателям? Перебирая пачку, я обратила внимание, что, хотя на всех конвертах Айлиш имелись марки, ни одна из них не была погашена. Озадаченная, я взяла следующее письмо. Оно было от Сэмюэла, снова из «Гринслопса», едва ли на полстранички.
* * *
6 января 1946 года
Айлиш, ты получила мое письмо?
Пока что я не получил ответа. Я звонил на почту, ответил сын Клауса и согласился передать мое сообщение. Это было больше двух недель назад. Должен ли я понимать твое молчание так, что ты не хочешь меня видеть?
Если ты встретила кого-то другого, если твоя любовь ко мне остыла, тогда прошу тебя, моя дорогая, напиши и естественным образом закончи наши отношения. Если мои письма кажутся тебе неуместными, попроси Якоба написать мне, если тебе самой неприятно писать.
* * *
5 марта 1946 года
Дорогая Айлиш!
Это всего лишь записка, чтобы уведомить тебя, что на следующей неделе я возвращаюсь в Мэгпай-Крик. Не сомневаюсь, что ты захочешь избежать неловкой ситуации. Не бойся. Я постараюсь вести себя цивилизованно, но если ты помолвлена или связана каким-то иным образом, учитывай мои чувства, если нам действительно случится встретиться.
Искренне твой, Сэмюэл Риордан.
P.S. Я возвращаю тебе фотографию, которую ты дала мне на Рома-стрит, мне невыносимо смотреть на нее.
* * *
Дневной свет угасал. На небе появились розовые полосы облаков, начали удлиняться тени деревьев. Я сидела на кровати Сэмюэла, положив пострадавшую ногу на подушку и уставившись на письма, которые писали друг другу он и Айлиш.
В 1940-х годах в маленьком почтовом отделении Мэгпай-Крика царила лихорадка из-за войны – стекались со всего света письма и открытки, отправлялись посылки. Я могла представить, как юный Клив Джермен приходит рано, до занятий в школе, затем возвращается туда днем, стараясь всегда быть первым за сортировочным столом. В суматохе этого хаоса ему легко было незаметно сунуть письмо в карман. Вначале его, возможно, одолевало любопытство, он прикарманивал письма, чтобы прочитать их без помех, несомненно собираясь потом вернуть. Но вместо этого он в итоге оставил их у себя.
Зачем? Чтобы наказать Айлиш? Отплатить болью за ту мнимую боль, которую она ему причинила? Или чтобы следить за любовью Айлиш и Сэмюэла, за любовью, которой неуклюжий и одинокий подросток был лишен?
Меня одолевали мрачные настроения. Насколько иначе сложилась бы жизнь Айлиш, если бы Клив не украл те письма? Судьба могла повести ее и Сэмюэла по счастливой дороге. Айлиш могла остаться в живых, выйти замуж за Сэмюэла, прожить полную радости жизнь, о которой мечтала. А Луэлла? Окруженная любящими родителями, превратилась бы она в женщину, обладающую силой и дальновидностью, чтобы предотвратить трагическую судьбу своей семьи?
Я устало сгорбилась.
Судьба. Рок. Все очень легко, когда смотришь назад. Собирая разложенные письма и раскладывая их по конвертам, я вынуждена была признать, что никто не мог этого знать. Любое принятое тобой решение, самое маленькое, кажущееся случайным или незначительным, может изменить твою жизнь к лучшему… или к худшему. Проблема в том, как узнать, какое решение приведет к беде, а какое окажется благоприятным?
Я уже хотела закрыть шкатулку, когда заметила письмо, которое еще не читала. Оно было засунуто за подкладку задней стенки, почти спрятано. Конверта не было, но я увидела по наклонному каллиграфическому почерку, что оно от Айлиш. Написанное в начале 1946 года и в такой спешке, что брызги чернил покрывали бумагу, как маленькие синие веснушки.
* * *
27 января 1946 года
Дорогой Сэмюэл!
Пишу в спешке, потому что мужество меня покидает. Я вернула револьвер, который ты дал мне в 1941 году. Я взяла ключ в прачечной и вошла в дом; надеюсь, ты не рассердишься. Оружие теперь заперто в таком месте, где ты точно его найдешь. Прости меня, любимый, но я не смела дольше его хранить.
Постараюсь объяснить, но, видимо, моя дилемма покажется тебе банальной. В свою защиту скажу: вспомни, что я воспитывалась в лютеранской вере и, несмотря на свои грехи, всегда пыталась действовать в жизни осторожно, не причиняя никому вреда. Но я больше не та беззаботная девушка, с которой ты тогда простился, Сэмюэл. Больше не та девушка, которая пряталась за твоей спиной на краю оврага или хихикала над бабочками, которых ты ловил. Я чувствую себя огрубевшей и маленькой, загоняемой в угол разочарованием и нарастающим необъяснимым страхом. У меня все то же тело и лицо, те же ноги, которыми ты когда-то восхищался… Но в последнее время, глядя на себя в зеркало, я заметила мрачность в своих глазах, которой никогда там раньше не было.
Вчера поздно вечером, незадолго до полуночи, я услышала кудахтанье в курятнике. Недавно мы потеряли четырех лучших несушек, и папа клялся, что видел в воскресенье лису, которая пролезла сквозь ограду с курицей в зубах. Бедный папа был так расстроен в тот момент, лицо у него покраснело, глаза остекленели, он взмок от волнения. Я подумала, что его сейчас хватит удар, и ужасно испугалась. Успокоить папу мне удалось, только пообещав, что я найду способ поймать и убить лису.
Да, любимый, ты не ослышался.
Папа, проведя два с половиной года в Татуре, вернулся тоже изменившимся человеком. Ты помнишь, как он говорил, что убийство калечит человеческую душу и что это делает нас не лучше животных? Что ж, Сэмюэл, годы войны ожесточили его бедное старое сердце. Особенно когда под угрозой оказалось наше скудное хозяйство.
Уйдя от Джерменов в мае прошлого года, я стала получать небольшой доход, выращивая на продажу овощи, продавая также яйца и свежесбитое масло. Еще я глажу и чиню одежду для некоторых наших приходских дам, но на наши яйца постоянный спрос, и мы не можем позволить себе потерять небольшой доход, который они приносят.
Поэтому, Сэмюэл, я достала твой револьвер и зарядила его, как ты показывал. Ночь стояла темная, безлунная, но сияния звезд было достаточно. Я подождала, пока глаза привыкнут к темноте, потом босиком прошла по дорожке до куриного загончика. Я слышала, как птицы разгребают солому и тихонько «переговариваются». Лиса, верно, была рядом. Кровь застучала у меня в ушах. Я никогда раньше и мухи не убила, не говоря уже о таком теплокровном животном, как лиса, но я решилась. Если не смогу ее убить, то хотя бы навсегда отпугну.
Я сжала револьвер обеими руками и взвела курок. Затем встала на изготовку и приготовилась ждать.
Ждала долго.
Револьвер потяжелел, руки заболели. Куры по-прежнему беспокоились, квохтали и шуршали соломой. Я чувствовала, как идет ночь, переместились звезды на небе. Лиса по-прежнему не показывалась. Через какое-то время я решила найти более удобное место, чтобы ждать всю ночь, если потребуется. Опустив оружие, я пошла по дорожке и, приближаясь к загончику, услышала шорох в дровяном сарае.
Повернувшись, я остановилась.
Дровяной сарай находился у меня за спиной, между тем местом у загончика, где я сейчас стояла, и домом. Это, в сущности, железный навес – три стены и крыша, набитый дровами и хворостом для растопки. Оттуда послышался тихий хруст, как будто по щепкам ступали маленькие когтистые лапы.
Я вернулась назад по дорожке, крепко сжимая обеими руками револьвер. Стараясь не производить ни звука, я приблизилась к дровяному сараю. Остановившись в открытом проеме, подождала, пока глаза привыкнут к темноте. В глубине сарая неясный сгусток темноты обрисовался на фоне более черной тьмы сарая. Я подняла револьвер и прицелилась в это пятно, задержала дыхание, положила палец на спусковой крючок и собралась, приготовившись к выстрелу.
Тень расправилась. Выросла в высоту. Повернулась ко мне, и оказалось, что я смотрю не на лису, как я думала, а на смутную фигуру человека. В течение мучительного мгновения ничего не происходило. Видимо, сказался шок, Сэмюэл. Прошло, наверное, не больше секунды, но мне показалось, что я стою на краю адской вечности.
– О боже, папа! – Револьвер едва не выпал из рук, когда потрясение миновало и пришло осознание. Я опустила оружие и направила его в землю, дрожа всем телом и обливаясь потом. – Я могла тебя убить!
Ответа не последовало, и, когда человек приблизился ко мне, я поняла, что это не папа. Я попятилась из дровяного сарая и сделала несколько шагов по дорожке. Мужчина вышел следом, и в тусклом свете звезд я увидела, что ошиблась: это был даже не мужчина. Мальчик.
Я не видела его больше полугода. Он стал выше и крупнее. Я быстренько подсчитала. Теперь ему уже четырнадцать, он все еще ребенок, но высокий и плотный, почти как его отец. Чувствуя укол вины, я отметила белесый блеск на его лице, словно расчерченном полосами лунного света. Когда я видела Клива в последний раз, его щеки и лоб опухли и были покрыты волдырями.
– Клив? – сказала я резко в страхе и ужасе, что едва не убила его. – Что ты здесь делаешь, крадясь в темноте? Эллен знает, что ты здесь?
Он переступил с ноги на ногу, но не ответил. Мне стало интересно, не за воровством ли я его застала, но затем вынуждена была признать, что в дровяном сарае нет ничего хоть сколько-то ценного.
– Ну? – спросила я, моя тревога сменилась раздражением. – Что с тобой? Почему ты не отвечаешь?.. Язык проглотил?
По-прежнему никакого ответа.
– Иди-ка ты лучше домой, – посоветовала я ему.
Я дрожала всем телом, каждую минуту борясь с подсупающей тошнотой. Почти свершившаяся катастрофа проигрывалась перед моим мысленным взором: револьверный выстрел разрывает тишину ночи, я стою на коленях на полу в дровяном сарае, напрасно пытаясь оживить истекающего кровью Клива…
Оружие словно корчилось у меня в руке, маслянистое и теплое, как животное, раздосадованное тем, что его лишили легкой добычи. Тогда я поняла, что револьвер – зло, и не захотела больше иметь никакого к нему касательства.
Клив вышел из полумрака и двинулся по дорожке, проскользнул мимо меня, все так же молча, и исчез, пройдя вдоль стены дома. Немного погодя я услышала скрип его велосипеда, а затем шорох шин по дороге.
Я долго не могла сдвинуться с места, Сэмюэл. Там, на дорожке, в свете звезд, дожидаясь, пока уляжется дрожь. Когда это произошло, я вознесла благодарственную молитву и повернулась, чтобы пойти в дом. Я уже сделала несколько шагов, когда вспомнила, как Клив прошмыгнул мимо меня, как воришка.
Это навело меня на мысль: а не воровал ли он на самом деле? Но что? В сарае ничего ценного не было. Дрова? Хворост? Но этого добра полно, разбросано везде – собирай бесплатно.
Одолеваемая любопытством, я прошла в сарай и зажгла керосиновую лампу, висевшую при входе. Огляделась, но не увидела ничего необычного. Аккуратные груды хвороста, бревна. Ящик с сосновыми шишками. Большие чурбаны, подготовленные для колки.
И старый папин топор, забытый на полу.
Со вздохом я наклонилась поднять его. Острый край мерцал серебром в свете лампы, стальная поверхность была испещрена пятнышками ржавчины. Топор слетел с топорища, и папа уже не одну неделю обещал его починить. Я постоянно ему об этом напоминала. Был только еще январь, но, Сэмюэл, ты же знаешь, как быстро подкатывает здесь зима, оглянуться не успеешь.
Я поискала топорище, намереваясь поставить его рядом с топором в качестве напоминания для папы. Я поискала среди заготовленных бревен и даже в ящике с шишками, но найти рукоятку не смогла. В итоге поневоле пришла к выводу, что ее украли… или, может, спрятали в каком-то немыслимом месте. Затем мной овладело странное чувство. Я оглянулась на открытый проем сарая, внезапно и необъяснимо похолодев.
Зачем Кливу могло понадобиться старое топорище?
Странный мальчик. Не знаю, что уж он там замышлял, но я едва его не убила.
* * *
Положив письмо на кровать рядом с собой, я сползла по стене, прислонившись к которой сидела. Затем повернулась на бок, глядя поверх неровной поверхности покрывала на листки почтовой бумаги с синими пятнышками брызг и потрепанными углами.
Я не знала наверняка. Слишком много времени прошло. Логика говорила, что никаких прямых улик нет. Однако передо мной открылась ужасная правда; моя уверенность была настолько сильной, что, казалось, я всегда это знала.
Я вспомнила газетную заметку, выкопанную в Интернете.
Посмертное вскрытие показало, что мисс Лутц били деревянным предметом, возможно, спицей колеса или битой…
Новая вспышка воспоминания: старинный невысокий гардероб, стоящий в темном углу хижины поселенцев. В его пыльном нутре я нашла засаленное топорище, конец которого потемнел от многих лет использования. Эта находка показалась мне тогда странной, ведь топорище должно лежать в дровяном сарае или под домом – не в шкафу, который явно был хранилищем памятных вещей.
Если только топорище не было такой же памятной вещью…
Лежа на кровати, я едва осознавала, что день уходит. За окном мелькали тени – птицы пролетали мимо, деревья качались, облака ненадолго закрывали солнце.
После долгих раздумий я решила никому ничего не говорить.
Клив мертв. Луэлла прожила шестьдесят лет, не зная имени убийцы своей матери. Каково ей будет теперь, всего через несколько месяцев после потери сына и когда она в таком явно слабом состоянии, узнать, что она вышла замуж и родила детей мужчине, который убил ее мать?
Глава 20
К пятнице нога болела уже меньше, но о моем сердце сказать того же было нельзя: он стало хрупким и слабым после прочтения писем Айлиш, не в состоянии биться с тем же настроением, что и раньше.
Хотя я знала, что письма не могли быть решающими доказательствами, для себя я не сомневалась: четырнадцатилетний Клив Джермен убил Айлиш. Мне ужасно хотелось разделить с кем-нибудь бремя этого знания и обелить имя Сэмюэла, но могла ли я так поступить, понимая, что мое разоблачение неизбежно ударит по Луэлле? Меньше всего мне хотелось увеличить и без того тяжкий груз ее горя.
Поэтому по тропинке, ведущей в овраг, я шла с тупой болью в груди. Мы с Дэнни покинули Торнвуд в восемь утра и находились в пути уже сорок минут. Нога заныла, особенно после крутого подъема, и как раз начала болеть, когда Дэнни дал сигнал остановиться и передохнуть.
Мы нашли каменистое плато с видом на высокие валуны, отбрасывавшие желанную тень. Отсюда открывался живописный вид – внизу, вплоть до бледно-голубого горизонта, простирались поросшие лесом холмы. Вдалеке среди деревьев мелькали едва заметные признаки цивилизации, как остатки затерянного мира: коричневые загоны и узкая грунтовая дорога, извивавшаяся в сторону востока. Ни следа шоссе или других домов. Под нами, к северо-востоку, я различила затененное деревьями углубление оврага.
Дэнни устроился на валуне и достал из кармана два мандарина, предложил один мне. Я примостилась поблизости на самой плоской поверхности, какую смогла найти, радуясь возможности дать отдых ногам. В приятном молчании я забросила кожуру в тень чахлого кустика алектриона, которому, судя по его виду, не помешала бы подкормка. Мандарин был чрезвычайно сладким, костлявым, исчез в мгновение ока. Я вытерла пальцы о джинсы, глядя на далекие холмы, а мыслями снова вернулась к письмам Айлиш.
Я представила, как Сэмюэл спешит по этой тропинке из Торнвуда на встречу с Айлиш в хижине поселенцев, – он вспотел при подъеме, и сердце бьется учащенно в предвкушении свидания. Сначала я думала, что они встречались в хижине, чтобы никто не знал об их отношениях. В конце концов, Сэмюэл был сыном богатого врача, а Айлиш – дочерью бедного лютеранского священника, наполовину аборигенкой, что в наши дни ничего не значит, но тогда, в 1940-х годах, вызвало бы скандал.
Теперь же, посреди этого живого безбрежного покоя, нежась в тепле солнечного дня, украшенного пением птиц, я поняла, что на самом деле влекло их. Здесь можно было дышать полной грудью. Ни одной живой души на многие мили вокруг, никто не судит, не устанавливает правила, настаивая потом, чтобы им следовали. Никто не критикует и не считает кого-то неподходящим. Никто не загоняет тебя в рамки, не связывает, не душит…
Что-то стукнуло меня сбоку по голове. Я дернулась, готовая увидеть ядовитого красноспинного паука, древесную змею или что похуже, но это была всего лишь мандариновая кожура размером с монету.
Я сердито посмотрела на Дэнни. Он наблюдал за мной – глаза сияют, волосы торчком, губы готовы улыбнуться. Достал блокнот, затем подошел и сел рядом.
«Нога нормально?» – захотел узнать он.
– Да, хорошо.
Он похлопал себя по карману, вытащил коробочку панадола и показал знаками: «Я на всякий случай захватил».
Мне стало так тепло.
– Спасибо, вы так заботливы. Пока со мной все нормально.
Он задумчиво посмотрел на меня, словно решая что-то. Затем написал: «Что случилось с Тони, почему вы расстались?»
Приехали, подумала я. Миллион ответов на этот вопрос. Тони устал от моих постоянных расследований, вопросов, моей потребности в одобрении. Ему надоело наше простое существование, и он отправился на поиски лучшей доли, богатства, славы и приключений. От жизни он хотел гораздо большего, чем могла предложить ему я…
Я вздохнула.
– Он встретил другую женщину.
«Бродяга», – проговорили пальцы Дэнни, но на его выразительном лице не отразилось ничего, кроме печали. Добавил в блокноте: «Он был идиотом».
Мне пришлось улыбнуться.
– Он нашел верную дорогу, вот и все. Кэрол, его жена, очаровательна. Она души в Тони не чаяла, ухаживала за ним. Помогала ему с карьерой, облегчала жизнь. Но не только это, конечно. Просто они совпали.
Дэнни казался задумчивым. Написал: «Вы встретили кого-то другого?»
Я покачала головой.
«Почему нет?» – знаками спросил он, изображая удивление.
– Слишком занята своей карьерой. Дочь воспитываю.
Снова в ход пошел блокнот: «А настоящая причина?»
Я не могла посмотреть ему в глаза, поэтому уставилась на чахлый алектрион. Заныла нога. Я прикинула, не проглотить ли пару таблеток панадола, чтобы приглушить боль, которая начинала нарастать. Затем все же пришлось признаться:
– Я так никого и не встретила… в смысле, ни с кем не совпала.
Дэнни кивнул, разглядывая мое лицо, словно моя откровенность предельно изумила его. Его явный интерес вызывал у меня желание продолжать разговор. Меня распирало любопытство в отношении Дэнни, и его неожиданные расспросы о Тони давали возможность задать ему в ответ вопросы более интимного свойства: почему ты вызвался пойти сюда со мной сегодня? Почему у меня такое чувство, будто ты со мной заигрываешь? И как ты справляешься с одиночеством, которое должен чувствовать из-за своей глухоты в такой крохотной провинциальной общине, как Мэгпай-Крик?
Но вместо этого я проговорила:
– Кори сказала мне о вашей жене. Мне жаль.
«Мне тоже, – вздохнул он и добавил на пальцах: – Плохо для Джейд».
– Она чудесная девочка. Они с Бронвен как две горошины в стручке.
Дэнни нахмурился, тогда я взяла блокнот и написала свое сравнение. Дэнни улыбнулся и сделал знак:
«Да, они как сестры, правда?»
Безумие, как невинное замечание может вогнать в краску. Смутившись, я изобразила интерес к севшей неподалеку сороке. Та затрещала, постепенно набирая громкость, пока стрекотание не полилось из ее горла сплошным потоком, вызывая у меня мурашки.
Витые ветки старого эвкалипта чернели на фоне лазурного неба, нежные серо-зеленые листья висели неподвижно, как будто затаили дыхание. Мне нравилось сидеть здесь, с Дэнни мне было спокойно. И однако в сердце моем шла война. Я была листком, подхваченным бурным потоком, который несло в какое-то очень желанное место, и при этом я жутко боялась. Скорость и быстрое развитие событий возбуждали – но я с этим не справлялась, страстно желая привычной безопасности твердой почвы.
Краем глаза я видела, что Дэнни откинулся назад, лениво запустил пальцы в свои растрепанные волосы, вздулись мышцы его рук. Я старалась не смотреть, но его пальцы начали двигаться в воздухе, и мне пришлось повернуть голову, чтобы прочесть сообщение:
«Это место наводит меня на мысли о Тони».
– Почему?
Дэнни взял блокнот: «Обычно мы сидели здесь, когда были детьми. По дороге в хижину, как мы сейчас».
Может, сработала красота окружающего нас пейзажа, или палящий зной, или легкая нервозность, какую я всегда испытывала в присутствии Дэнни. А может, виновата была тайна, поселившаяся в сердце, которая разъедала его изнутри, как червяк середину яблока, заставляя меня отбросить всякую осторожность и спросить:
– Почему, по-вашему, Тони никогда не поддерживал связь ни с кем отсюда? Ни с вами… ни даже со своей матерью? Я могу понять, что он скорбел по своей сестре, но мне странно, что он до такой степени отрезал себя от прошлого.
Дэнни пожал плечами. Долго смотрел на свои руки, потом написал в блокноте:
«В ту ночь, перед тем как убежать, он пришел попрощаться. Было поздно, Тони забрался ко мне в комнату через окно. Он казался больным, был бледен, обливался потом. Он сказал, что вынужден уехать, что он сделал нечто плохое».
Меня это поразило.
– Плохое?.. Например?
Он снова начал писать, заполняя маленькую страницу своими кривыми каракулями. Наклонив голову, я попыталась прочесть первую строчку, но тут он закончил, вырвал листок и с поклоном подал его мне.
«Я спросил, что случилось, но он мне не сказал. Он казался напуганным, постоянно оглядывался, вздрагивал от каждого звука».
Дэнни начал новую записку, но на середине остановился. Засунув блокнот и ручку за пояс джинсов, он начал быстро жестикулировать, почти лихорадочно, его жесты были точны, быстры и настойчивы. Не ругается ли он опять, подумала я, и смотрела как загипнотизированная.
Уверена, он сознавал, что я не понимаю, но, похоже, не в состоянии был ни остановиться, ни замедлиться. Его руки двигались с изяществом, рождая поток беззвучных слов: вот он проводит указательным пальцем по всей длине руки, ударяет кулаком в открытую ладонь, ребром ладони рассекает воздух. Стремительные, почти агрессивные жесты, которые – несмотря на мою неспособность их понять – были потрясающе звучны.
Раньше я считала, что язык глухих – сомнительная, абстрактная вещь. Жестикуляция требовала физического усилия, чтение по губам было в лучшем случае ненадежным, писать все – никакого времени не хватит, да и нудно. Оттенки интонации, теплота или холод человеческого голоса, резкость или нежность восклицания – все расцвечивает язык, дает ему многослойность подтекста, что важно для полноценного общения. Если эти нюансы недоступны, сглажены чередой жестов и беззвучных сигналов, как узнать наверняка, что тебя поняли?
И при этом, не улавливая ни слова, я четко и ясно понимала речь Дэнни. Его оживленное лицо, напряженные плечи, быстро двигающиеся руки, передававшие ощущение разочарования и печали, говорили красноречивее всяких слов.
Случилось что-то плохое, и Тони чувствовал свою ответственность. Что бы то ни было, страх Тони заразил и Дэнни.
Дэнни перестал жестикулировать и вытащил блокнот. Одна страница, вторая, третья. Он вырвал все эти страницы вместе, вложил мне в руку.
«Тони уговорил меня отвезти его на автостанцию, у него был полный карман мелочи, которую он взял в копилке у отца. После долгих споров я согласился. Я дал ему еще несколько долларов, затем отвез на моем велосипеде на станцию».
Я перешла к следующей странице, в спешке надорвав ее:
«Мы приехали слишком рано, поэтому ждали до утра. Когда первый автобус открыл двери, мы обнялись на прощание, и Тони уехал. Больше я никогда его не видел».
И следующая:
«Позднее до меня дошли слухи, что Тони поссорился с Глендой в тот вечер, когда она погибла, толкнул ее. Я рассказал Кори о его признании в каком-то плохом поступке. Она сказала: “Не обращай внимания, Тони никогда такого не сделал бы”. Она сказала: “Никогда никому не говори”. Поэтому я и не говорил. До сего момента».
Дрожащими пальцами я сложила записки и убрала их с глаз долой в карман, к остальным. Нога давала о себе знать, я машинально отмечала яркие вспышки пульсирующей и тянущей боли.
– До этого вы сказали, что Тони казался напуганным… Чего он мог бояться?
Дэнни собрал мандариновую кожуру, разбросанную у него под ногами, и зашвырнул под кустик алектриона к моей. Посмотрел на меня, щурясь от солнца, и прожестикулировал:
«Не знаю».
В светотени стало как будто жарче. Я прижала ладони к пылающим щекам.
– А плохое? Что он, по его словам, совершил? Что это могло быть?
Дэнни пожал плечами, переключив свое внимание с меня на верхушки деревьев. Я почувствовала, как он замыкается в себе. Наклонившись, я взяла его за запястье, заставив повернуться обратно и смотреть на мои губы.
– Вы думаете, это связано с несчастным случаем с Глендой?
«Нет».
– Тогда что?
«Хотел бы я знать».
Отвернувшись, чтобы скрыть раздражение, я кое-как поднялась на ноги, сердито уставилась на долину. Почти нестерпимо сдавило голову. Ощущение пространства и свободы, которым я наслаждалась некоторое время назад, ушло. Вместо него горел ярко-красный шар злости.
Почему Тони оставил нам Торнвуд? Он, должно быть, знал, что я влюблюсь в это место, захочу здесь жить. Комнаты с высокими потолками и великолепные коллекционные вещицы его деда, сад с его волшебными видами – все составляющие, знал Тони, от которых я сойду с ума.
Разве не знал он также, что я, по самóй своей натуре, заинтересуюсь прошлым? Его прошлым? Разве он не знал, что я потяну за ниточки, пока они не размотаются? И разве не приходило ему в голову, что мои открытия не только встревожат меня, но и бросят внушительную тень на Бронвен?
Моего виска коснулись пальцы.
«Все в порядке?» – захотел узнать Дэнни.
Я кивнула, но это было не так. Не совсем. Мои мысли метались от воспоминания к воспоминанию, подобно стрекозе, скользящей над мутным прудом: Тони, улыбающийся своей новорожденной дочери; Тони учит Бронвен пользоваться первым сачком; поездка на пляж, рыба с чипсами на берегу, ослепительно улыбающаяся пара карабкается на наблюдательную вышку Элвудского пляжа, от соленого ветра у них краснеют щеки…
Все это было ложью?
Дэнни встал передо мной. Заложил прядь волос мне за ухо.
«Вы сгорите. Забыли шляпу?»
Прежде чем я успела отступить в сторону, он провел пальцем у меня под глазом, смахивая слезу, которую я даже не заметила. Затем взял меня за руку. Его ладонь была теплой и сухой, пальцы сжались вокруг моих пальцев с такой смелостью, что у меня не нашлось сил этому противостоять. Дэнни повел меня с палящего солнца в тень красного камедного дерева по соседству. Он казался таким близким, его тело излучало гораздо больше жара, чем струилось от торчавших из земли камней. Я попыталась вытащить пальцы, но Дэнни не отпускал их. Поднес их к своей груди, прижал мою ладонь к сердцу.
Под моей ладонью его сердце неслось вскачь…
Сейчас был самый подходящий момент, чтобы отшутиться, отвлечься на что-то внешнее, посмотреть на пропитанные солнцем холмы; отстраниться, укутаться в ледяное безразличие – к чему побуждал меня здравый смысл.
Вместо этого я позволила гравитационной силе Дэнни притянуть меня ближе. Я чувствовала, как его неподвижность утихомиривает мои взвинченные нервы, чувствовала, как обволакивает меня его спокойная аура. Как и он, я впала в неподвижность. А потом, когда он внезапно и уверенно потянул меня к себе, обнял и крепко прижал, я испытала только облегчение. Размягчающее, как теплая ванна, полуусыпляющее облегчение…
На мгновение я забылась. Всем телом прижалась к Дэнни и вспомнила, что такое – почувствовать безопасность и полноту существования. Еще вспомнила, какое утешение – объятия нужного мужчины. Я выдохнула, чувствуя, как рассеиваются сомнения в отношении Тони, как отступают страхи. И как потихоньку возвращается доверие, пока я купалась в простом удовольствии человеческого контакта.
Затем я вдохнула. Свежий пот, солнечный свет, еле уловимый запах мыла. Собачья шерсть, машинное масло, нотки цитруса. И тогда я растаяла, забыв об опасности. Позволила себе почувствовать соприкосновение наших тел, разрешила себе урвать минутку наслаждения в объятиях сжимавших меня рук. Лишь отчасти сознавая, что вступаю на опасную территорию, игнорируя предостерегающие звоночки по мере того, как близость Дэнни опьяняла меня желанием.
Чуточку приподняв лицо, я ощутила шершавое прикосновение его бакенбардов к своей щеке. Я приняла еще одну дозу пьянящего аромата, не помня, вдыхала ли я когда-нибудь что-то столь же приятное. Дэнни тихонько вздохнул, и я поняла, что он тоже вдыхает мой запах; а потом я ощутила прикосновение его губ у себя за ухом, мягких и теплых на моей коже. Мне нужно было лишь немного отклонить лицо, приблизить свои губы к его губам, удовлетворить страстное желание узнать его вкус…
Я отпрянула, вырвавшись из его объятий. Споткнулась, швы на ноге натянулись, и она разболелась всерьез. Я неудачно поставила ноги, и под ними начали осыпаться камешки.
Один неверный шаг…
Дэнни схватил меня за руку. Я обрела равновесие и руку вырвала. Изумление на его лице сменилось смущением, потом пониманием.
«Все нормально».
Я посмотрела на него. Говорить я не могла, поэтому сделала знак:
«Нет. Не нормально».
В темных глазах Дэнни отразились мое же смешанное со смущением желание, моя растерянность… но я не отважилась бы вернуться к нему, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Мой мозг вычеркивал только что произошедшее, отсекая переживания и ощущение тепла, дабы восстановить остатки моей защитной оболочки. Мне хотелось обругать себя. Следовало заметить сигналы: книжки и диски по языку жестов, влюбленное хихиканье в розовой беседке, интерес, с которым я слушала рассказы Кори о Дэнни. Хуже – шелковая блузка и, помоги мне небо, духи.
Мне пришлось отвернуться, и, похоже, единственный путь отсюда был вниз. Но я пошла по дорожке вверх по холму, пересекая каменистое плато и продираясь сквозь заросли чайного дерева и растрепанную акацию, слепо и неизбежно выходя под палящие лучи солнца.
* * *
К тому времени, как мы вышли на поляну, где стояла хижина поселенцев, мой страх рассеялся, оставив после себя ощущение ужасной неловкости. Позади я слышала хруст шагов по сухой траве, и мне хотелось повернуться и объяснить, что я боялась снова потерять себя, попасть в любовную ловушку, которая наверняка – по крайней мере, для меня – закончится новой сердечной болью. Но я столько уже наворотила, что почла за благо просто идти вперед.
По мере приближения к старому домику, я отметила, каким пустым он кажется.
Потертое плетеное кресло по-прежнему стояло в дальнем конце веранды, и дверь была приоткрыта, как в тот день, когда я пришла сюда одна, но от самого места веяло нежилым духом. Я остановилась внизу у ступенек, позволив Дэнни пройти вперед, уже зная, что мы найдем внутри.
Мебель осталась, но незаконный жилец удалил все свидетельства того, что здесь кто-то жил. Он унес армейское одеяло, оголив матрас, в сетчатом ящике для продуктов больше не хранились заплесневелый хлеб и банка с джемом. Свечи, книги, эмалированные кружки и тарелки – все исчезло. Остался только затхлый запах земли и немытого человеческого тела. Листья, прутики и сор, нанесенный из буша, устилали пол, и комната казалась пыльной, словно дверь хижины годами стояла нараспашку, приглашая бури, штормовые ветра и циклоны оставлять свои визитные карточки, словно сюда десятилетиями никто не заходил, кроме поссумов, птиц да иногда ящериц.
Я стояла в дверях, наблюдая, как Дэнни осматривает помещение. Он с треском распахнул шкафчик – пусто, ни святилища, ни отвратительного сувенира в отделении с вешалкой. Скваттер наверняка заметил отсутствие шкатулки с письмами, и мне стало интересно, как он к этому отнесся. С раздражением на забравшего их человека… или просто порадовался, что прекратил свое незаконное пребывание на моей территории без конфронтации?
Я подумала, знал ли он о том, что Сэмюэл и Айлиш использовали хижину для своих тайных свиданий, – затем поправила себя: конечно, ему стало известно об этом из их писем. Я посмотрела вокруг свежим взглядом. Что почувствовала бы Айлиш, узнав, что через шестьдесят лет после ее смерти здесь кто-то жил – хуже, обладал ее личными письмами и фотографией, которую она когда-то подарила Сэмюэлу?
Я могла лишь гадать, как письма попали в хижину. Юный Клив, должно быть, припрятал их здесь после смерти Айлиш, из страха, что их у него найдут, и, вероятно, предполагая, что Сэмюэл будет избегать этого места из-за связанных с ним воспоминаний. Письма много лет пролежали здесь, собирая пыль в каком-то потайном углу, и увидели дневной свет, только когда их обнаружил ничего не подозревавший скваттер.
Однако что-то не сходилось. А как же розы? Или я совсем сошла с ума, или я права в своем предположении, что роскошные красные цветы, вьющиеся по перилам веранды перед хижиной, – те же, что и на могиле Айлиш?
Я вышла на улицу и села на ступеньки. Розы пожухли на безжалостном солнце, но я все равно наклонилась понюхать. Аромат был пыльным и слабым, но безошибочно узнаваемым. Темно-красные духи с ноткой корицы.
Дэнни протопал по ступенькам и встал рядом со мной, строча в блокноте:
«Ваша птичка улетела из клетки. Он замел следы. Хочет, чтобы мы думали, будто его никогда здесь не было».
– Почему?
«Может, он скрывается от закона? А может, это старый обитатель буша, который не любит оставлять следы».
В глаза мне Дэнни не смотрел. Казалось, теперь он меня опасался. Больше не флиртовал – сплошная серьезность, почти деловитость. Не то чтобы я винила его. Я подавала ему сигналы – учила его язык, выбрала для пикника самую красивую блузку. Возможно, даже пыталась, в своей неуклюжей манере, флиртовать в ответ. Но едва дошло до горячего, как я спряталась в кусты.
Он коснулся моей руки, чтобы привлечь внимание, и поманил пальцем. Следом за Дэнни я прошла к задней стене хижины, мимо резервуара для воды. Сорокачетырехгаллонная емкость была перевернута, поленница убрана. Землю вокруг вроде бы подмели.
«Он жил здесь некоторое время», – прожестикулировал Дэнни.
– Откуда вы знаете?
Он указал на старый водослив, залатанный куском жести, а потом – на крышу, где я разглядела более светлые пластины дранки.
– Он сделал ремонт, – сообразила я.
Дэнни кивнул, затем продолжил расследование, осмотрел кран на емкости для воды, а потом пошел к клубку перепутанных лиан. Интересно, думает ли он сейчас о Тони и их совместных детских вылазках? Тони был одиночкой, с радостью прятавшимся в своем творчестве, но у меня складывалась картина его дружбы с Дэнни. Они были как братья, по мнению Кори. Не разлей вода, постоянные шалости. Я так и видела их: Тони с его глазами как плошки и Дэнни с буйной копной волос. На душе потеплело. Моя сердечная боль после разрыва с Тони была жестокой, почти критической временами, но я ее пережила. И мое выживание доказало, что теперь я сильнее. Доказало ли? Я вспомнила, с какой легкостью растаяла в объятиях Дэнни на каменистом плато и каким восхитительно-правильным, искушающим было его объятие…
Я повернула назад, обходя поляну по периметру и направляясь на поиски своей «минолты». Пострадавшая старая камера восстановлению, без сомнения, не подлежала, но она была верным старым другом, и я хотела ее вернуть.
Нырнув в заросли чайного дерева, через которые я тогда продиралась, я шла по каменистой земле, пока не определила камедное дерево с гладкой корой, за которое цеплялась во время нападения собаки. Расширяя радиус поисков, я ходила кругами вокруг дерева, приподнимая пучки травы и ковыряя носком в углублениях у корней, осматривая палую листву и немного пройдя вниз по холму. Все напрасно.
Когда я вернулась к хижине, Дэнни все еще занимался поисками позади дома. Он отодвинул в сторону перепутанные лианы, под которыми обнаружилось низкое круглое сооружение, похожее на выступающий на несколько футов из земли верх закопанного в землю резервуара для воды. Стены резервуара были сделаны не из ржавого железа, а из дерева: глубокую круглую яму выстилали стоявшие вертикально толстые доски. Закрывалась она громадной плоской крышкой, сколоченной из толстых планок, прикрученных к круглой раме.
Дэнни написал в блокноте: «Это оригинальный водосборник, очень старый. Первые поселенцы выкопали его прямо в земле, обшив стенки досками, как у колодца. Мы с Тони часто снимали крышку и забирались внутрь. Море веселья, но если шел дождь, он быстро наполнялся. Наших родителей хватил бы удар, если бы они узнали».
Я улыбнулась, прочитав это. Расхрабрившись, коснулась руки Дэнни, чтобы привлечь его внимание.
– Прошу прощения за то происшествие.
Он долго смотрел на меня. Я начала думать, что он не понял моих слов и что, возможно, мне следует взять его блокнот и написать, хотя, разумеется, изложенным на бумаге словам будет не хватать теплоты моего извинения, которую я постаралась вложить в улыбку.
Дэнни прижал ладонь к моей щеке, легонько коснулся большим пальцем моих губ. Нельзя сказать, что он улыбнулся, но на щеках обозначились ямочки, и он подмигнул мне – и от этого кровь закипела у меня в жилах, а ноги подогнулись. Затем, без дальнейших слов, он пошел через поляну.
Я смотрела ему вслед. В очередной раз недоумевая: почему он всегда оставляет у меня такое опасное, такое возбуждающее чувство, будто я делаю что-то не то?
Глава 21
Назавтра днем, накачанная панадолом, чтобы успокоить нывшую ногу, я остановилась перед школьными воротами, дожидаясь Бронвен. Черную «Тойоту» – грузовичок Дэнни – я приметила дальше вверх по холму, под цезальпинией, украшенной кистями темно-красных цветов, но я сползла на сиденье пониже, радуясь возможности спрятаться. Наш несложившийся поцелуй на каменистом плато всколыхнул во мне чувства, в которых я до сих пор пыталась разобраться, и я была еще не готова к новой встрече с Дэнни.
Бронвен появилась, пробираясь сквозь толпу учеников и учителей. Она обнялась с Джейд и попрощалась с группой других детей, потом радостно помахала, увидев меня, и заторопилась к машине. Я сглотнула невольно вставший в горле комок. Распахнув дверцу, Бронвен забросила рюкзак на заднее сиденье и быстренько поцеловала меня в щеку. Дочь была уставшей, а ее одежда пыльной, перепачканной, в пятнах зелени, но лицо сияло, и ее переполняли впечатления.
Вместо обычного ужина перед телевизором мы сели за стол, и, жадно глотая пирожки-тако и салат, Бронвен представила детальное описание своей недели. Классные места для купания, которые они освоили, уроки приготовления еды в буше, ночные походы с фонариками, чтобы выследить поссумов, валлаби и сумчатых куниц. Закатывая глаза, она поведала об упавшей палатке, которую она делила с Джейд и двумя другими девочками, и возбужденно рассказала о призе за лепешку, которую они испекли в традиционной бушменской печи.
– Мистер О’Мэлли все знает о буше, – делилась она в приливе чувств. – Мы с Джейд считаем, что он похож на того парня из телепрограммы, который живет на природе и питается личинками и разной прочей гадостью.
– Мне казалось, ты его терпеть не можешь?
– Да, но на самом деле он такой клевый! Он показал нам, как переправлять грузы с помощью подвесного троса и переходить через реку. А однажды вечером он рассказывал нам смешные истории про папу и тетю Гленду, папу Джейд и тетю Кори, обо всех проделках, которые они устраивали в детстве. Мам, он такой забавный, ты не поверишь и половине того, что он говорит. – Она радостно вздохнула. – Что ты делала, пока меня не было?
Я вспомнила свой поход на холмы, обнаружение старой хижины поселенцев и последующее столкновение с собакой скваттера; вспомнила письма Айлиш и сделанное с их помощью шокирующее открытие о Кливе и украденном топорище; подумала о моем возвращении в хижину через несколько дней вместе с Дэнни Уэйнгартеном и о нашем почти поцелуе на каменистом плато… И решила, что некоторые истории лучше не рассказывать.
Поэтому я лишь пожала плечами:
– Да так, ничего.
– Что случилось с твоей ногой?
– Меня укусила собака.
– Мама! Да как тебя угораздило?
Я отрезала нам обеим еще по куску шоколадного торта.
– По неосторожности, полагаю.
* * *
В воскресенье после возвращения Бронвен из лагеря я отвезла ее на Уильям-роуд – провести день с Луэллой.
– Я с тобой не пойду, – сказала я, высаживая дочь у ворот. – Передай своей ба от меня привет, ладно? Веди себя хорошо, а я заберу тебя в четыре.
– Договорились.
Она торопливо поцеловала меня в щеку, схватила рюкзачок – сегодня набитый фотографиями из школьного лагеря, – и побежала по дорожке к передней веранде, где в дверях ждала Луэлла. Я помахала им обеим, развернулась в один прием и поехала в сторону города.
Это было трусостью, но я просто не могла встретиться с Луэллой.
Мне требовалось время переварить то, что я узнала о Кливе; время подготовиться к тому, чтобы смотреть в добрые зеленые глаза Луэллы и скрывать то, что мне известно. И мне требовалось время, чтобы собраться с силами против ужаса этого открытия, против вони, которая теперь сочилась из трещин Торнвуда. Я не могла даже радоваться своей правоте насчет Сэмюэла и его подлинных чувств к Айлиш.
Я не могла думать ни о чем, кроме как о пустых картонных коробках, сложенных под домом, и о том, насколько легче было бы просто снова сняться с места и найти другое жилье. С чуть менее богатой историей.
* * *
Ровно в четыре в тот день я зарулила на травянистую обочину перед домом Луэллы.
К моему удивлению, Бронвен стояла на верхней ступеньке веранды и махала мне рукой. Я начала махать в ответ, недоумевая, что она затеяла, когда сообразила, что она вовсе не машет, а манит меня.
Сердце у меня упало. Я вылезла из машины и пошла по дорожке.
Бронвен встретила меня внизу у ступенек и схватила за руку.
– Ба хочет показать тебе что-то потрясающее, – объявила она, таща меня через веранду в прохладную тень прихожей. – Сюрприз. Тебе понравится, мама, – добавила она, заметив мою нерешительность.
Луэлла встретила меня на кухне, развязывая фартук и рассеивая мои сомнения магнетизмом своей улыбки.
– Я заварила свежего чая, «Эрл Грей», который вы любите, милая. И мы только что вынули из духовки шоколадные пирожные.
Когда я набрала воздуху, чтобы вежливо отказаться, мои легкие наполнились шоколадно-сладким, дурманящим воздухом. Что-то во мне дрогнуло, и я услышала, как негромко отвечаю:
– Звучит чудесно.
Бронвен повела меня через кухню на веранду, где нас ждал накрытый стол – изящные фарфоровые чашки Луэллы стояли на своем месте рядом с блюдом свежих сконов и вручную нарезанных шоколадных пирожных, на которые я в предвкушении устремила взгляд, но Бронвен потащила меня мимо стола, вниз по ступенькам заднего крыльца и через сад к араукарии.
– Закрой глаза, мама.
Я неохотно повиновалась. Солнце согревало руки. Яркие лучи плясали на моих закрытых веках, отчего изнутри они окрасились в кроваво-красный цвет. Травинки щекотали мне ноги сквозь сандалии, я уловила сладкий аромат жасмина в пропитанном солнцем воздухе.
Мы остановились. Послышался скрежет отодвигаемой щеколды, и я почувствовала запах влажного тепла, почвы, удобрений и сырого бетона.
– Осторожно, не споткнись… Вот, теперь открой глаза.
Мы стояли в оранжерее Луэллы. Она выглядела старой, ее соорудили из уцелевших витражных окон. Располагалась она в тени гигантской араукарии, но ее западная стена целиком была обращена к солнцу – ленты желтого, пунцового и изумрудного света лились сквозь затуманенные стеклянные панели, создавая во влажном воздухе радуги.
Вдоль обеих стен оранжереи и по центру шли стеллажи с узкими проходами между ними. На стеллажах теснились сотни неглубоких цветочных горшков в лотках с водой. В горшках была представлена самая любопытная коллекция растений из всех, когда-либо мной виденных. В одних я узнала насекомоядные растения и росянки из ранних ботанических рисунков Тони. Другие были странными диковинками, какие встречаются на карнавалах – похожие на воздушные шары головы на тонких стеблях, массивные трубки с пурпурными венами и крышечками в оборках, гирлянды восковых цветов.
– Чудесно, правда, мама?
– О да.
Снаружи просачивались звуки: стрекот сорок и цикад, шорох ветра в ветвях араукарии, поскрипывание бельевой веревки. Был и другой звук – приглушенное жужжание где-то рядом. Я подошла к ближайшему стеллажу и стала рассматривать неглубокий горшок, в котором росла плоская розетка из листьев, покрытых блестящими розовыми волосками.
– Местная росянка, – сказала Луэлла. – Каждый из этих волосков покрыт липкой, сладко пахнущей жидкостью. Насекомые слетаются на этот запах, но прилипают и не могут спастись. Листок сворачивается вокруг несчастной мухи или мотылька и переваривает добычу.
Она прошла вдоль стеллажа и указала на другое растение. Пары сдвоенных листьев кивали с тонких стеблей; они казалась зияющими ртами, темно-красные внутри, с зубчиками по краю.
– Это венерина мухоловка, – проинформировала нас Луэлла. – Когда насекомое забирается между половинками листа, оно задевает нежные зубчики, и затем – хлоп! Ловушка наполняется жидкостью для переваривания, и начинается пир. – Она сделала знак Бронвен: – Дай мне твою ленточку из косички, милая…
Бронвен послушалась и потом завороженно смотрела, как ее бабушка разглаживает ленту в пухлых пальцах и вводит в пасть венериной мухоловки. Луэлла дернула ленту, и зубастые половинки листа захлопнулись. Бронвен от изумления наклонила набок голову, а я подавила внутренний смешок. Лента безвольно свисала из захлопнувшейся ловушки, напоминая длинный бледный язык.
Луэлла прошла дальше, указывая еще на одно растение. Это плавало в маленьком аквариуме. Над водой поднимался пучок узких стеблей, увенчанных желтыми цветками, как у горошка. В воде находился узел корешков, усаженных странными пузырьками, похожими на белые бобы.
– Это пузырчатка, – сказала Луэлла, наклоняясь, чтобы посмотреть сквозь стенку аквариума, и подзывая Бронвен. – Такой красивый цветок, но не обманывайся – он назван так из-за пузырьков, прикрепленных к корешкам, которые растут под водой. Каждый пузырек имеет снабженное дверцей отверстие. Посмотри поближе, может, ты увидишь пару длинных волосков… Да, это они, подойди ближе. Видишь там?
Бронвен казалась сбитой с толку, но кивнула.
– Когда волоски задевают, – продолжала Луэлла, – они воздействуют на дверцу пузырька, и та открывается, создавая вакуум. Добычу – в этом случае, вероятно, водное беспозвоночное, например дафнию, – растение засасывает внутрь пустого пузырька и переваривает. Восхитительно, не правда ли?
– Зачем они это делают? – выпалила Бронвен.
– Да потому что голодны.
– Но зачем они едят насекомых? Почему они не могут получать питание из почвы, как другие растения?
С довольным видом Луэлла вытерла носовым платком лицо.
– Ну эти маленькие красавцы приспособились расти в местности, где мало почвы или она бедна питательными веществами – в особенности на кислых болотистых почвах или на пустошах, где питательность почв бедна или отсутствует. – Она сунула платок назад за вырез платья. – Обычно этим растениям не хватает фермента под названием нитратредуктаза, который позволяет им усваивать вырабатываемый почвой азот… Вот почему хищные растения зависят от питательных веществ, добываемых из насекомых.
Бронвен мрачно смотрела на пузырчатку, но мое внимание привлекло другое растение.
У затененного участка стены стоял большой керамический горшок, из которого торчал пучок громадных трубчатых листьев, похожих на кувшинчики, возвышавшихся над всеми другими растениями. Высокие листья были перекручены и имели утолщение, напоминающее по форме капюшон кобры, с двумя лепестками, торчавшими на манер клыков.
– А это что, Луэлла?
– Ах да, этот великолепный экземпляр, один из моих любимых. – Она подошла к растению, ее лицо блестело от пота и светилось от удовольствия. – Это дарлингтония, которую обычно называют лилией-коброй, – восхитительна, не правда ли? Она относится к семейству саррацениевых, а по-другому – хищных растений.
Бронвен отодвинула меня локтем, проходя вперед.
– А они что едят?
– В основном тех, кто имеет глупость заползти в них, – обычно мух, комаров и ос. Муравьев, мокриц, чешуйниц. Понимаете, как у большинства насекомоядных растений, у них есть яркая визуальная приманка на краю ловушки – в данном случае эти похожие на клыки выступы, – а также искушающе сладкий нектар, который сочится из капюшона. Взгляни поближе, моя дорогая… Видишь маленькие белые пятнышки по сторонам трубок? Это прозрачные участки, фальшивые окошки. Насекомые попадают в ловушку, борются, но проваливаются все глубже из-за направленных вниз волосков, которые сталкивают их прямо в находящуюся внизу жидкость. Насекомое тонет, и постепенно его тело растворяется. В зависимости от вида хищного растения добыча расщепляется бактериями-резидентами или ферментами, которые вырабатывает само растение. Переваренное насекомое превращается в раствор пептидов, фосфатов, аминокислот, аммония, нитратов и мочевины – настоящий шведский стол важнейших питательных веществ!
Поглаживая самый большой раструб, Луэлла одобрительно вздохнула.
– Есть даже насекомоядные растения, которые накапливают личинки насекомых в своих хранилищах. Этими личинками питается пойманная добыча, а затем ее экскрементами питается растение. Мгновенное удобрение! Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь столь же изобретательном? – добавила она.
Бронвен покачала головой, явно пораженная до глубины души.
Я и сама испытывала что-то вроде благоговейного страха. Луэлла так гордилась своими растениями. Мне хотелось сказать что-нибудь лестное – но пока она рассказывала, мое воображение сорвалось с цепи. Я представила себя размером с жучка, карабкающегося по темно-красным клыкам лилии-кобры, прямиком в зияющую пасть. Я следовала бы по чудесной дорожке нектара, была бы введена в заблуждение прозрачными окошками, мерцавшими в приглушенном солнечном свете. Я, крохотная, продолжала бы свое роковое путешествие, направляемая вниз шелковистыми волосками, пока не начала бы скользить и катиться, не в силах остановить свое падение в глубокую лужу жидкости, и беспомощно плескалась бы там среди мушиных остовов и комариных оболочек.
– Что происходит… – Я прочистила горло. – Что происходит, если растение не поймает ни одного насекомого? Оно умирает от голода?
Луэлла пытливо на меня посмотрела.
– Боже, нет! Эти растения, помимо всего прочего, прекрасные приспособленцы. Например, зимой, когда численность насекомых сокращается, некоторые хищные растения выпускают особые неплотоядные листья, которые помогают поглощать питательные вещества из почвы, в любом случае временно. В этом-то и красота этих растений – они могут адаптироваться практически к любой окружающей среде, к любым обстоятельствам, даже могут погрузиться в спячку на несколько лет, если потребуется.
Ее лицо сияло от явного удовольствия. Она изменилась. Казалась моложе, живее, энергичное выражение лица сделало ее кожу светлее.
– Ты так много о них знаешь, – восхитилась Бронвен.
Луэлла улыбнулась.
– Полагаю, да, милая. Они меня пленяют, для изучения всегда есть что-то новое.
Я рассеянно посмотрела по сторонам. И только теперь поняла, откуда шло приглушенное жужжание, которое я отметила раньше. Солнце падало на соседний ряд растений-хищников, подсвечивая высокие трубчатые листья сзади и давая возможность увидеть крошечные извивающиеся тени внутри. Мухи, возможно, не одна сотня, свалившиеся в резервуар в основании каждого растения, жужжали, создавая ужасающе немузыкальную симфонию – одни гудели, как расстроенные виолончели, другие едва издавали слабое гудение.
В оранжерее внезапно сделалось чересчур жарко, от слишком влажного воздуха перехватило дыхание. Я стала потихоньку пробираться к двери, чувствуя на себе две пары любопытных глаз. С желанием оглянуться я справилась. Толкнув дверь, вышла на улицу и устремилась прямиком в прохладную тень араукарии.
Вдыхая свежий воздух, я пыталась очистить легкие от запаха оранжереи, но грубый, отдающий плесенью запах торфяных мхов и влажной почвы напомнил мне о хижине поселенцев, о загроможденной маленькой комнате и о тайнах, которые она хранила.
И опять мое воображение понеслось вскачь.
Теперь я оказалась внутри гардероба, в окружении щербатых, неряшливых фарфоровых лиц, глаза которых пристально смотрели на меня во мраке. Мое единственное утешение – мои письма – исчезли. А рядом, совсем близко, в темном отделении с вешалкой, стояло засаленное, почерневшее топорище…
– Мам?
Я повернулась, моргая, чтобы прояснилось в глазах. На пороге оранжереи стояла Бронвен, на ее лице была написана тревога.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
– Конечно. Но чашка чая мне действительно не помешала бы.
Засуетившись, Луэлла провела нас по лужайке назад на веранду, усадила вокруг старого кедрового стола. Однако даже после чая, после похвал шоколадным пирожным хозяйки, после возбужденной болтовни моей дочери о чудесном саде хищников, который мы только что видели, мои мысли неуклонно возвращались к хижине поселенцев.
Обнаружил ли скваттер фотографию Айлиш среди писем? Она ему понравилась? Или он знал Айлиш и она что-то для него значила? Люди, о которых упоминала в своих письмах Айлиш: Сэмюэл, ее папа Якоб, Клаус и Эллен Джермены и Клив, – все они умерли. В живых оставался только один человек – Луэлла, и либо она солгала насчет цветов на могиле своей матери, либо их оставил там кто-то другой.
И этим другим, с уверенностью чувствовала я, был мужчина, увиденный мной рядом с хижиной поселенцев.
Глава 22
Айлиш, март 1946 года
Мы спешили в темноте, я спотыкалась в своих выходных туфлях, Лулу вприпрыжку убегала вперед. Она весело напевала наполовину придуманный вариант богослужебного песнопения, которому научил ее папа. Хотя ей было поздновато бодрствовать – судя по положению луны в небе, время близилось к девяти, – она щебетала, как птичка, возбужденная нашей таинственной вечерней вылазкой.
– Не уходи с дорожки, – позвала я.
– Не буду, мама.
Она была очаровательным ребенком, добродушным и мягким, но иногда у нее случались вспышки раздражительности, не уступавшие моим. Подобно мне, она унаследовала густые каштановые волосы моей матери и веснушки моего отца, но не была тонкой в кости, как мы. У нее было круглое лицо, глаза широко расставленные, зеленые, как у ее отца; ноги худые, как у народа моей матери, но телосложение в целом крепкое, высокий рост.
Я ускорила шаги.
«Сэмюэл, ты увидишь, у нас опять все будет хорошо», – повторяла я про себя.
Над нами высились большие деревья, их тени скрадывали лунный свет. Черноствольные эвкалипты, красные камедные деревья были почти скрыты душившими их лианами; акмена и дикий жасмин пропитали ночь ароматами, дрожали на ветру банксии, а терн тянул свои сучья, чтобы зацепить нас иглами.
Я кляла свои туфли, сожалея, что пошла на поводу у тщеславия, а не прислушалась к голосу разума. Эти старые лакированные туфли я достала из коробки, где они пролежали почти всю войну. Они были на тонкой подошве и ободранными, поэтому я натерла их до зеркального блеска, но теперь глянцевая поверхность потускнела под слоем пыли. Каблуки подворачивались на камнях, я могла упасть при каждом следующем шаге. В довершение всего я опаздывала. Я вбила себе в голову, что, если заставлю его прождать несколько минут, он еще больше обрадуется, увидев меня, почувствует себя счастливым, когда я наконец приду. Мы ведь прождали почти пять лет – что значат дополнительные пять минут?
Глупо, глупо.
Пять минут каким-то образом превратились в двадцать.
Скинув туфли, я побежала босиком, стремясь сократить разрыв между мной и маленькой фигуркой, которая легко шла впереди. Стремясь добраться до оврага, где будет ждать Сэмюэл. Лулу услышала меня и, вздрогнув, обернулась. Потом улыбнулась.
– Мама? Мы играем в игру?
– Вроде того, – сказала я. – У тебя еще есть силы идти?
Она просияла и бросилась вперед. Я потрусила следом, сбивая ноги о камни, лодыжки подворачивались почти так же, как это было в туфлях. Я выросла босой. В миссии мы знали только земляные дорожки. Когда мне было десять лет и мама умерла, мы переехали в Мэгпай-Крик. Папа настаивал, чтобы я начала одеваться как положено. Носила платья с нижними юбками, перчатки. И шляпу тоже. Обязательно шляпу. Я в общем-то была не против. Ненавидела я туфли. Сколько бы я ни жаловалась, папа стоял на своем, и к пятнадцати годам мои босоногие дни остались в далеком прошлом.
Оглядываясь через плечо, я представляла себе маленький домик, в котором мы с папой жили на Стамп-Хилл-роуд. Папа спал, когда мы ушли, храпел у орущего радиоприемника – одна из его любимых передач сотрясала стропила.
Мне неприятно было обманывать его, но он наговорил о Сэмюэле разных вещей, которые меня огорчили, которые были неправдой. По его словам, Сэмюэлу может не понравиться, что его гордые ирландские черты отразятся, как в зеркале, на лице маленькой девочки-полукровки, но папа ошибался. Сэмюэл полюбит свою дочь, едва ее увидев. Его глаза засияют, и он громко засмеется. Обнимет Лулу, прижавшись заросшей щекой к ее пухлому личику, и заворчит от удовольствия…
Я остановилась, уперлась руками в колени, переводя дыхание.
Лулу умчалась вперед.
– Подожди! – позвала я.
Она притворилась, что не слышит, но я крикнула снова, и она остановилась на краю дорожки, глядя в небо, пока не услышала рядом мое пыхтение. Она посмотрела на мои босые ноги и нахмурилась.
– Мы уже почти пришли?
– Еще несколько минут, и мы на месте.
– Мы идем в то птичье место, да?
– Возможно.
– Обычно мы ходим днем.
– Но это особая прогулка. Вот увидишь.
Мы снова пошли по дорожке вверх по холму. Деревья здесь росли гуще, и их кроны смыкались у нас над головами. Окаймленная валунами и каменистыми выходами тропинка сузилась. Овраг зиял слева от нас, его склоны становились все круче, пока мы карабкались.
Лулу потянула меня за руку.
– С кем мы встречаемся, мама?
Я засмеялась, одновременно взволнованная, довольная и нервничающая.
– С одним особым человеком.
– Это маленькая девочка, с которой я поиграю?
– Гораздо лучше.
Она наморщила нос.
– Этот человек мне понравится?
– Обязательно.
– Почему ты мне не говоришь?
– Это сюрприз.
– Я не люблю сюрпризы.
– Этот тебе понравится. Обещаю.
Ей наскучили мои уклончивые ответы, и она снова умчалась вперед, напевая церковный гимн. Впереди она подобрала ветку эвкалипта и побежала вприпрыжку, размахивая ею над головой, как мечом.
Когда я была маленькой, мама рассказывала мне истории о духах, которые обитают в ночном буше: о хранителе Биами, злодее Буньипе и мудром Миррабука, который следит с неба. Мама учила меня уважать буш и его темное время, а я учила этому уважению свою маленькую девочку. Я пела ей песни духов и пересказывала легенды своей матери, пока они не стали частью существа Лулу, каким-то образом – верила я – оберегая ее.
Позади меня хрустнула веточка.
Я оглянулась, осматривая деревья. Не увидела ни качающейся травы или веток, ни блеска глаз в ночи. Ни тени валлаби или поссума. И все же волосы у меня на руках встали дыбом. Мы были не одни.
Я крикнула по-птичьи, и Лулу послушно побежала назад по дорожке ко мне, на ее круглом лице ясно читался вопрос: «Мама, что?..»
Ее взгляд метнулся мимо меня в темноту. Она нахмурилась, а затем ее глаза расширились. Лулу ахнула. Я кинулась к ней, чтобы обнять и защитить, но она оказалась слишком проворной. Вывернувшись из моих рук, как ящерка, она умчалась по тонущей в тени тропинке. Я бросилась вслед за ней, но остановилась как вкопанная, когда из кустов донесся шипящий звук.
Мне послышалось имя.
Мое имя. Я круто повернулась:
– Кто здесь?
Нет ответа.
– Папа, это ты?
Конечно, нет. Он никогда не стал бы красться за деревьями. Если бы он проснулся и обнаружил, что нас с Лулу нет дома, его раздраженный вопль мы услышали бы и здесь.
– Сэмюэл?
Ветер зашелестел листьями. Затрещали ветки. Я крепче стиснула ремешки туфель, ногти впились в ладонь. Какая глупость. Никто не шептал моего имени. В буше полно пустых звуков. Верхушки деревьев колыхались, сорная курица рылась в подлеске, змея вышла на охоту. Ничего такого, чтобы у человека от страха подкосились ноги.
Я повернулась к дорожке. Она была пустынна.
– Лулу?
Когда дочурка не ответила, я побежала. Птицы-бичи щебетали и свистели в своих гнездах, напуганные моим топотом, вспархивали с деревьев, хлопая крыльями в свете луны, как пернатые призраки. На бегу я звала дочь по имени, горло сдавливала паника. Где же Лулу?
Дорожка расширилась. Поляна стояла в пятнах лунного света. Высокий камень в ее центре выгнул спину навстречу ночи. Через несколько сотен ярдов эта площадка заканчивалась обрывом над оврагом. Его стены были крутыми, почти вертикальными – падение с обрыва было бы стремительным и неожиданным. Лулу хорошо знала поляну, мы приходили сюда с самого раннего ее детства. Только сейчас темно, все выглядит чужим, а она так напугана…
Присев на корточки на краю оврага, я осторожно посмотрела вниз. Ничего не было видно, только лунный свет на верхушках деревьев далеко внизу, слабый отблеск воды сквозь деревья. Небо словно бы потемнело. И ночные существа, шепчущиеся листья, прохладный ночной ветерок – все вдруг стихло.
И вдруг бормотание.
Я быстро повернулась, оглядывая деревья. Меня окутало серое облако страха, обострив чувства, но затуманив разум. Где Сэмюэл? Уже давно наступило время назначенной мной встречи. Неужели он вспылил и вернулся в поместье, злясь, что я заставила его ждать? Но он должен был понять по содержанию моего письма, как сильно я хочу его видеть…
Я похолодела.
Мое письмо. А если он его не получил?
Невозможно. Я собственноручно отнесла его к дверям торнвудского дома. Он решил проигнорировать его? Я поежилась, вспомнив пустоту в глазах Сэмюэла, когда мы стояли у аптеки сегодня утром; вспомнила, как он обвинил меня во лжи, сказал, что я его обманывала. Как он смотрел на меня, словно увиденное вызывало у него отвращение.
«Боже, Айлиш, ты пожалеешь…» – мелькнуло в голове.
Что-то шевельнулось на краю поляны.
– Лулу?..
Тьма дрогнула, распалась на части. От пространства между деревьев отделилась тень, медленно ступая к краю поляны, темная в неверном лунном свете. Человек. Не ребенок, не моя маленькая дочь. Крупнее. Он подплыл ближе, ступил на поляну. Лунные лучи заплясали на бледном лице. На лице, которое я с легкостью узнала – а как же иначе? Я изучила его почти так же хорошо, как собственное.
Его голос прорезал мрак:
– Здравствуй, Айлиш.
Словно никуда не спеша, он подошел ближе и спокойно остановился. Пристально глядя на меня, возможно дожидаясь ответа на приветствие.
Но мой взгляд упал на предмет, который он сжимал в руке. «Палка», – подумала я. Затем до меня дошло. Смерть, чье бледное, нелепое призрачное лицо я видела в окне хижины в свою последнюю ночь с Сэмюэлом, нашла меня.
– В чем дело, Айлиш, – проговорил он, делая ко мне еще один неторопливый шаг, – язык проглотила?
Он вышел на свет, и я увидела, что предмет в его руке был не палкой, а почерневшим топорищем.
Глава 23
Одри, февраль 2006 года
Меня разбудил приглушенный стук. Я села, моргая. В окно лился дневной свет, а на деревьях трещали сороки. Мне показалось, что я чувствую запах поджаренного хлеба.
Стук повторился. Кто-то стоял у задней двери.
Я посмотрела на часы у кровати и застонала, увидев, сколько времени: восемь сорок. Бронвен опоздает в школу. Выскочив из постели, я побежала по коридору в ее комнату. Там дочери не было. На кухне я нашла записку у кофеварки: «Не смогла тебя добудиться, соня, ухожу на автобус». Два крестика в конце – целует меня.
Испытанное мной облегчение, сопровождаемое уколом раздражения на себя, оказалось недолгим. В дверь застучали снова. Я шла открывать, ворча себе под нос, что если они настолько дураки, что продолжают так шуметь, тогда пусть увидят меня нечесаной и в убогой пижаме.
– Привет, Хоб.
Он с надеждой посмотрел поверх моего плеча.
– День добрый, Одри. Юная Бронвен дома?
– Так понедельник же, Хоб. Она в школе.
– Ну конечно, в школе, старый я дурак. Я принес ей подарочек. – Он протянул коробочку, нарядно завернутую в желтую бумагу, с прикрепленной открыткой. – Ничего особенного, просто подарочек по-соседски. Ничего, если я оставлю у вас?
Он снова нагладил свою фланелетовую рубашку и, на удивление, продел в петлицу цветок эвкалипта. У меня упало сердце. Несмотря на трудное начало наших отношений, Хоб вел себя безукоризненно-любезно после разговора в тот день, когда мы смотрели на долину. Он мне нравился. И был потенциальным источником информации о событиях, в которых я так хотела разобраться. Однако я не могла забыть, как застала его за обыском полого дерева… Не могла я ошибиться насчет слезы, которую он смахнул, когда впервые увидел Бронвен.
– Хоб, я должна вас кое о чем спросить.
– Что такое, деточка?
– Несколько недель назад вы расчищали сад, и я застала вас на холме, когда вы обыскивали старый бук… Вы же не ущерб от поссумов оценивали, не так ли?
Оживление Хоба растаяло у меня на глазах. Лицо осунулось, глаза затуманились.
– Ну это…
– А потом вы повели себя странно, когда я спросила, знали вы Джерменов или нет, и вы сказали, что нет, хотя ясно, что это не так.
Он переступил с ноги на ногу, несчастный взгляд был прикован к моему лицу. Затем он вдруг стал смотреть куда угодно: на свои башмаки, на пол веранды, на пышный побег виноградной лозы, свисавший над головой.
– Хоб, вы проявили такой интерес к Бронвен, и это, конечно, очень приятно, но я не перестаю себя спрашивать, не скрываете ли вы что-то от меня.
Он уставился на нарядно упакованную коробку, которую держал, с таким видом, словно надеясь, что она откроется и даст ответы.
– Ах, Одри, – сдавленно пробормотал он, – тут совсем ничего такого, уверяю вас, деточка, совсем ничего… Я хочу сказать, вам не о чем беспокоиться. Глупо с моей стороны, я не хотел огорчить вас или юную Бронвен. Я только хотел… О черт, мне ужасно жаль…
Он пробормотал что-то неразборчиво – вроде бы продолжал извиняться, – затем повернулся и быстро ушел.
Я сварила кофе и выпила его, стоя у кухонного окна и глядя, как Хоб идет по дорожке и потом исчезает за деревьями. Я вылила гущу в ведро, вышла на веранду и, прищурившись, посмотрела на холмы. Отсюда можно было различить лишь голый перевал на холме и извилистую желтую ленту, вьющуюся среди деревьев, – тропинку на вершине холма, соединяющую два наших владения.
Хоб ответа не дал, во всяком случае, не словами. Но его очевидное замешательство было красноречивее всяких слов. Он что-то затевал, то, что смущало его не меньше, чем меня.
Повернувшись, чтобы вернуться в дом, я увидела коробку Хоба, положенную рядом со ступеньками. Желтая оберточная бумага казалась грязноватой, садовый шпагат выглядел обтрепанным, но Хоб приложил усилия – бумага была облеплена красивыми стикерами в виде розовых бабочек, а самодельная открытка вырезана в виде божьей коровки.
Опустившись на колени, я прочла написанное внутри: «У каждого будущего энтомолога должен быть собственный аквариум для божьей коровки. Надеюсь, он тебе понравится, Бронвен, девочка. С наилучшими пожеланиями от Хобарта Миллера».
Я сорвала желтую оберточную бумагу. Сначала подумала, что это кукольный дом. При внимательном рассмотрении стало ясно, что это маленький аквариум с деревянными основанием и резными панелями – дерево было покрашено в белый цвет и украшено резьбой, во всех подробностях повторяющей чугунное кружево торнвудских веранд, которые шли вокруг усадебного дома. Внутри аквариума стояли маленький стул и стол с миниатюрной чашкой и блюдцем. Пол аквариума был усыпан цветами – бутонами розы и эвкалипта, настурциями, многие из них были поражены вкусной тлей. Среди этого щедрого угощения ползало множество алых, с черными точками божьих коровок. Хоб постарался от души. Впечатление – чудесное, Бронвен будет в восторге.
Я унесла маленький аквариум в кухню, поставила на рабочий стол, затем придвинула стул и заглянула внутрь.
«Чаепитие» было в самом разгаре. Довольные божьи коровки перепархивали с места на место, преследуя тлю или общаясь на краю чашки. Они выглядели такими непринужденными, так сосредоточенно хлопотали, что мои дурные опасения насчет Хоба начали рассеиваться. Неужели я составила о нем ошибочное мнение? Возможно, его интерес к Бронвен легко объяснить. Ясно, что он все еще испытывает чувства к Луэлле, поэтому его любопытство к ее внучке было вполне понятно.
Оставался еще вопрос, что он искал в дупле бука и почему отрицал знакомство с семьей Джерменов. Я помнила запись в дневнике Гленды, где описывался ее ужас в день, когда она столкнулась на дорожке с Хобом, у которого был забинтован глаз. Возможно ли, что она встретилась с ним в ту дождливую ночь у полого дерева, пока ждала Росса? И не получилось ли так, что Хоб снова напугал ее, чем и объясняется ее неосторожность у оврага?
Я прижалась лбом к аквариуму. Тихое шуршание божьих коровок меня успокоило, и я даже позавидовала им. Они были такие беспечные и умиротворенные. Вся их забота состояла в том, чтобы найти следующую колонию тли, а Хоб как следует об этом позаботился. Я тем временем запуталась в липких нитях сложной и мощной паутины – паутины семьи Тони. Дергалась то в одну сторону, то в другую в попытке освободиться, но только запутывалась еще больше.
И вместе с тем я находилась в плену не совсем против воли.
У моей семьи паутины не было. Существовали только я и Бронвен. Мы двое, летящие по жизни вместе, но, по сути, одинокие. И в отдельные моменты казалось, что лучше попасть в семью с проблемами, головоломками и слишком серьезной историей – чем совсем не иметь семьи.
* * *
Я пошла по дорожке на холм, через рощу гранатовых деревьев, мимо пустотелого бука и по тропинке, которая вела к голому перевалу на холме. Деревьев на перевале не было, только валуны и луг, испещренный огненно-красными и золотистыми полевыми цветами.
Я остановилась, помедлив в тени черноствольного эвкалипта, чтобы вытереть вспотевшее лицо. Дорожка Миллера лежала на другой стороне перевала. Приблизившись, я увидела знакомую худую фигуру, полускрытую в тени торчавших из земли камней. Внимание старика было приковано к долине.
Я проследила за его взглядом. Под нами почти до горизонта простирался в сторону севера густой бушленд, прерываемый только редкими участками изумрудной зелени. Гравийная дорога уходила, изгибаясь, на восток, чтобы соединиться с более широкой черной линией шоссе. Рядом находилось пустое пространство аэродрома.
Хоб смотрел на запад, и, значит, объектом его внимания мог быть только единственный дом, примостившийся у одинокой полоски грунтовой дороги. Это был белый дом, окруженный расчищенным участком буша, с примыкающим огороженным фруктовым садом. Роз со своего места я не увидела, но большую араукарию, укрывавшую своей тенью дом, узнала безошибочно.
Я и не представляла, что отсюда виден дом Луэллы.
Я зашагала к валунам, где стоял Хоб. Видимо, он услышал шаги, потому что вздрогнул и резко повернул голову. Его морщинистые щеки были мокры от слез. Достав из кармана платок, он вытер лицо и высморкался, затем повернулся и скользнул за скопление высоких валунов. Через несколько секунд он снова появился, но уже ниже по склону, торопясь по узкой дорожке в сторону своего дома.
Я позвала его, но когда он не ответил, побежала за ним.
Дорожка была крутой, заросшей лианами и ежевикой и усеянной камнями, одни из них опасно шевелились под ногами, другие наполовину торчали из земли. Только когда поверхность выровнялась и мы находились на полпути вдоль хребта второго, меньшего холма, я наконец догнала старика.
– Хоб?..
Он остановился, снова достал платок, чтобы протереть очки и промокнуть глаз, затем сунул скомканную тряпку назад в карман рабочих штанов.
– Хоб, вы хорошо себя чувствуете?
Он опустил голову, но кивнул, с трудом надевая очки. Только водрузив их на место, Хоб посмотрел на меня. Попытался улыбнуться, но улыбка получилась слезливой и несмелой.
– Я свалял такого дурака, деточка, и мне очень жаль. Сейчас пойду домой, и все будет хорошо.
Я вздохнула.
– Нет, Хоб, не сваляли. Но у меня складывается впечатление, будто происходит что-то, связанное с моей дочерью. И я хочу знать, что это такое.
Хоб долго смотрел на меня, прежде чем заговорить:
– Тогда нам лучше спуститься в дом. Вы имеете полное право знать правду. Мне не следовало говорить вам, но… Что ж, идемте, деточка, лучше с этим покончить.
И, ничего больше не объясняя, он заковылял по дорожке, единственное стекло его очков вспыхивало на солнце, плечи сгорбились, словно сияние дня вдруг стало слишком тяжелым бременем.
* * *
Старое бунгало Хоба было таким же ветхим, каким я его запомнила. Краска облупилась с дощатой обшивки, ржавая крыша вздыбилась и местами была залатана случайными кусками железа, а сад походил на аккуратную свалку металлолома. Огород превратился в райское место для сорняков, но среди них я углядела ровные ряды моркови и пастернака, громадные желтые тыквы.
Когда мы шли по узкой задней веранде, из двери вывалилась ватага желтовато-коричневых щенков келпи, принявшихся кусать Хоба за пятки и попытавшихся вскарабкаться вверх по моим ногам.
Хоб выхватил одну из маленьких собак и сунул под мышку, предлагая мне первой войти в дом.
Кухня встретила нас удушающей жарой и безупречной чистотой, несмотря на обветшалость отделки. Дощатый пол был подметен, начищенные медные краны раковины сияли золотом, сиденья грубых деревянных скамеек выскоблены, и нигде никаких крошек. Брат Хоба, Герни, сидел на корточках перед старой дровяной печью, подбрасывая поленья. На плите шкворчала сковорода – хлеб с беконом и аппетитная яичница-болтунья. Герни только взглянул на заплаканное лицо Хоба и принялся суетиться, выкладывая завтрак.
– День добрый, Одри… Хоб, брат, сделать тебе что-нибудь? Чайку попьешь? Бекон вкусный и свежий, есть хочешь?
Хоб отмахнулся от брата. После минуты мучительной нерешительности Герни вроде бы с облегчением потихоньку вышел через заднюю дверь и исчез в сарае.
Хоб отодвинул от стола стул и жестом предложил мне сесть. Устало опустился на стул напротив, стал отцеплять от рубашки извивавшегося щенка. Я ждала, что он заговорит, но молчание затягивалось. Только потрескивала пустая сковорода, жизнерадостно сопел щенок и где-то на улице заливался ненормальным смехом зимородок.
Хоб потянул щенка за уши, и тот закрутился как юла и попытался вцепиться острыми, как иголки, коготками в пальцы старика.
– Скоро нужно будет подыскать этим маленьким бандитам пристанище, – заметил он, по-прежнему не глядя на меня. – Альма прекрасная мать, обидно забирать у нее щенков, но сегодня есть законы, запрещающие держать слишком много собак в одном месте. – Он со вздохом опустил щенка на пол и мягко подтолкнул к двери. – Похоже, теперь есть законы почти на все, да только смысла нет почти ни в одном.
Выведенная из терпения пустой нервной болтовней Хоба, я взяла быка за рога.
– В тот день у полого дерева вы же не ущерб от поссумов оценивали, ведь так, Хоб?
– Да, деточка.
– И Джерменов вы знали.
Он вздохнул.
– Да. Я их знал.
Поднявшись, он открыл сетчатую дверь и носком башмака выпроводил щенка на улицу, где тот резво запрыгал вместе со своими братьями, которые хором тявкали и повизгивали. Хоб вернулся к столу и тяжело сел.
– Тони и Гленда регулярно приходили сюда, когда были детьми. Они появлялись почти каждое воскресенье с каким-нибудь гостинцем от их матери. С фруктовым пирогом или банкой кукурузной приправы – в цивилизованном мире трудно было найти приправу хуже, но этот жест много для меня значил. Понимаете, мы с Луэллой… я хочу сказать… О черт.
Он встал, подошел к плите и загремел сковородой, вглядываясь в ее жирные глубины. Выхватил из-под раковины газетный лист и протер дно сковороды.
– Вы ее любили, – сказала я.
– Любил, Одри. С самой первой минуты, как ее увидел, я сказал себе: «Эта девушка одна на миллион… и я на ней женюсь». Я безумно ее любил. И очень скоро узнал, что и она меня любит. Мы были ровесники, по пятнадцать лет… совсем еще дети, думаю. Но между нами было что-то хорошее, мы как бы принадлежали друг другу. Но мы не знали, что роман нашей юности был обречен с самого начала.
– Что случилось?
Хоб выбросил газету в мусорное ведро и повесил сковороду на крючок.
– Мы хотели пожениться, но решили сделать все прилично и подождать, пока Луэлле исполнится двадцать один год. Понимаете, во время войны Айлиш и Луэлла какое-то время жили у Джерменов, и Эллен Джермен, мама Клива, очень привязалась к маленькой Луэлле. Когда Айлиш погибла, Луэлла стала воспринимать Эллен как своего рода вторую мать и поэтому хотела получить ее благословение на брак.
Хоб открыл жестяную коробку из-под печенья и уставился на ее содержимое.
– Когда Луэлле было шестнадцать лет, умер Якоб. Она осталась совсем одна. Конечно, Эллен очень хотелось, чтобы Луэлла вернулась к ним в дом, но Луэлла отказалась. С домом на Стамп-Хилл-роуд у нее было связано слишком много воспоминаний. Это был ее дом, и она даже помыслить не могла покинуть его.
Но одинокая жизнь в уединенном маленьком доме подготовила почву для появления в ее жизни Сэмюэла. Он был единственным оставшимся у нее кровным родственником, но до той поры не особо с ней общался. Луэлла всегда говорила, что он винил ее в смерти матери, что никогда не любил ее, – чушь, в моем понимании, потому что как можно ее не любить?
Как бы то ни было, Сэмюэл отправил ее в шикарный женский колледж в Брисбене, купил ей модную одежду и завалил подарками. Она хорошо училась, желая порадовать Сэмюэла. Он был ее связью с матерью, и ей хотелось, чтобы он ее любил. К тому моменту, как ей исполнился двадцать один год, она превратилась в настоящую юную мисс… Сэмюэл посчитал ее гораздо выше таких, как я.
– Он помешал вам пожениться?
– Нет, девочка. О нет. Я сам все испортил.
Непомерно большими щипцами он переложил на тарелку полдюжины сухих домашних печений из жестянки и выбрал две чашки в цветочек.
– Но вы все равно ее любили, – сказала я.
– Совершенно верно, любил. Но когда Луэлле исполнился двадцать один год, шла развязанная янки война во Вьетнаме. Проклятый конфликт, я с самого начала был против этой войны. Втянули в нее и Австралию, а потом однажды вечером Сэмюэл присел ко мне в «Лебеде». Он ставил мне пиво за пивом, затем объяснил, как был бы счастлив, если бы мы с Луэллой поженились… но при одном условии. Он сказал мне: «Сынок, если ты сумеешь показать себя храбрым и достойным человеком, тогда я не только дам свое благословение, но и отпишу вам двадцать акров хорошей земли и дом, чтобы вам с Луэллой было с чего начать вашу совместную жизнь». Так он сказал, но я, как форель на вкусную муху, купился на это.
– Вы пошли в армию?
Хоб помрачнел.
– Ради Луэллы я хотел одобрения Сэмюэла. Я знал, как много значило для Луэллы заполучить его на нашу сторону. Поэтому я не раздумывая, как в омут, бросился в эту ужасную войну, несмотря на свои пацифистские настроения. Отправился, чтобы стать героем, совсем как старый Сэмюэл в сороковые, едва не сложив свою дурную голову в результате этой сделки и совершив поступки, которые никогда бы…
Он осекся. Минуту стоял молча, глядя на чайник. Когда же заговорил снова, его голос звучал негромко, почти шепотом:
– Вернувшись домой, я пристрастился к бутылке. Практически загубил себя. Нельзя было придумать более неправильного способа доказать свою состоятельность Сэмюэлу. Я понял, что загубил свой шанс, и поэтому почти совсем слетел с катушек. Алкоголь и таблетки… Я почти не спал два года, просто бродил по бушу, вопя во все горло, и вел себя как чертов псих. Если бы не бедняга Герни, я бы, наверное, умер от голода, или от ужаса и стыда, если такое возможно. – Хоб вытер губы ладонью. – Хуже всего, я оттолкнул Луэллу. Она хотела помочь, но и речи не было, чтобы я позволил ей увидеть меня таким слабым, конченым человеком. Я сказал ей, что свадьба отменяется. Разбил ее бедное сердце, вот что я сделал.
– И она вышла за Клива.
Хоб посмотрел в окно.
– Он был ей как брат. Полагаю, с ним она чувствовала себя в безопасности. Обаятельный был парень. Занятный, имел дар располагать к себе людей. И университетскую степень получил тоже. По геологии или истории, я забыл. Когда в шестидесятом году умер Клаус, Клив стал начальником почтового отделения, поэтому он мог предложить Луэлле все: деньги, безопасность, стабильное будущее. Сэмюэлу просто не терпелось отписать им свои двадцать акров.
– Но она никогда его не любила, да?
Хоб казался уничтоженным.
– Думаю, по-своему она его любила. У нее было очень доброе сердце. Однажды она рассказала мне, что мать Клива хотела девочку и поэтому не слишком любила своего сына. У Клива была потребность в любви, сказала она… потребность размером с черную дыру. Она думала, что своей добротой заполнит эту дыру. Чепуха, если вы спросите меня – жить с человеком, потому что ему что-то нужно. По моему мнению, Луэлла заслуживала лучшего.
– Вы так и не женились, да, Хоб?
Он покачал головой.
– Как я мог даже посмотреть на другую женщину после знакомства с Луэллой? Она была одна на миллион. Думаю, по-прежнему такая. Она была такой красивой. Внешне и внутренне. Никогда не пользовалась косметикой, носила не по моде длинные волосы. Одевалась просто. Но видеть ее улыбку, стоять рядом и купаться в душевной теплоте, которая, казалось, исходила от нее… Вы внутренне перерождались, каким-то образом становились лучше, исправлялись.
– Поэтому вы и продолжали с ней встречаться… После ее замужества, я имею в виду.
Лицо Хоба исказилось болью.
– Как я мог не встречаться, девочка? Она была моей жизнью. Мне понадобилось три года, чтобы прийти в себя. Я пошел к Луэлле и извинился за случившееся. Она призналась, что с Кливом у нее отношения не очень. Он был хорошим мужем, сказала она, но она все еще любила меня.
Хоб взял банку с этикеткой «ЧАЙ», отвинтил крышку и внимательно изучил травянистое содержимое банки.
– Поэтому мы разработали план, – продолжал он. – Луэлла сказала, что сможет продержаться в браке с Кливом еще год – пока мы не накопим достаточно денег и не сбежим в большой город. В Аделаиду, Мельбурн, может, даже в Перт. Меня всего переворачивало при мысли о том, чтобы уступить ее Кливу, ненавистно было даже подумать, что он к ней прикасается, требуя от нее того, что она хотела дать мне по доброй воле. Мне нестерпимо было видеть боль в ее глазах… Не счесть, сколько раз я заряжал винчестер и шел по тропинке к Уильям-роуд. – Он посмотрел на меня и нахмурился. – Не смотрите на меня так, деточка, я никогда не откликался на эти темные побуждения. Меня одолевали ревность, ненависть. Страх. На войне я убивал, и это вызывало у меня шок. Я не хладнокровный убийца. Даже если бы я и был таким, никогда не причинил бы Луэлле новой сердечной боли. Я уже достаточно ей навредил.
По мере того как каждый кусочек головоломки Хоба вставал на место, для меня стала проясняться и история Луэллы. Но откровения Хоуба не принесли удовлетворения, а лишь разожгли мое любопытство. Сложные узлы развязывались, но я чувствовала, что только больше запутываюсь, и это чувство мне нравилось.
– Что же случилось с вашим планом?
Хоб почесал в затылке.
– Я скопил кругленькую сумму. Мы собирались открыть свое дело и преуспеть в большом городе, продавая чатни и тому подобную выпечку домашнего приготовления. – Он покачал головой, улыбнулся. – В молодости Луэлла совершенно не умела готовить, она бы и воду сожгла. Но недостаток умения она компенсировала практичностью, закончила модные кулинарные курсы в Брисбене. Она любила помечтать о том дне, когда откроет свою маленькую пекарню, видели бы вы свет в ее глазах, когда она об этом говорила. Но этому не суждено было сбыться. Появились дети, и мы решили подождать, пока они подрастут. Клив начал что-то подозревать, а учитывая его натуру… Думаю, в конце концов Луэлла решила, что им троим безопаснее остаться.
– Безопаснее?
Хоб снял с плиты чайник и заварил чай.
– По словам Луэллы, обычно Клив был тихим человеком. Но он совершенно не умел справляться со стрессами. Если он чувствовал, что ему угрожают, или хотят унизить, или просто не обращают на него внимания, он выходил из себя. Очень сильно. Набрасывался на человека, а потом об этом сожалел.
Как это на себе испытал Хоб – хотя сомневаюсь, что Клив потом жалел о причиненном Хобу увечье. Я вспомнила письма Айлиш к Сэмюэлу. Со временем у нее возникла неприязнь к Кливу-мальчику, может, она даже немного стала бояться его по мере развития событий. Стекло в кроватке Лулу, угрюмость. Отвратительные слова, которые он наговорил, узнав об уходе Айлиш. А потом кража в дровяном сарае. Мне подумалось, что это не похоже на поведение человека, который срывается в неконтролируемом приступе ярости, скорее уж на действия человека, который долго и тщательно обдумывает планируемый поступок.
Хоб, казалось, целиком был занят раскладыванием печенья. Заглянул под крышку заварочного чайника, потом налил нам крепкой зеленоватой жидкости.
– Чай из лемонграсса подойдет, девочка?
Я рассеянно кивнула.
– Почему вы не воссоединились с Луэллой после исчезновения Клива?
Хоб поник.
– Видит бог, я пытался. Когда у Клива появились подозрения, нам с Луэллой пришлось прекратить наши свидания. Поэтому мы начали обмениваться письмами. Большой белый бук в Торнвуде, на полпути между нашими владениями, мы использовали как почтовый ящик. Такое романтичное, тайное место. С этого-то вся заваруха и началась. Клив, верно, следил, потому что обнаружил одну из наших записок.
Позднее, когда он исчез, надобность в секретности отпала. Я пошел к Луэлле, но она не открыла дверь. Я сам принес ей десятки писем, но она ни на одно не ответила. Я решил, что ее сердце разбито после потери Гленды. Я и сам обезумел от горя – но вынужден был уважать желания Луэллы. Ясно было, что она не хочет меня видеть. В итоге я оставил свои попытки. – Он выдавил улыбку. – Поэтому, когда появились вы и юная Бронвен, я подумал, что Луэлле это поможет. Я начал каждые несколько дней проверять дупло, убежденный, что это лишь вопрос времени, наступит день, когда я суну туда руку и найду письмо от Луэллы.
Меня как обухом по голове ударило. Я поняла, как сильно заблуждалась в отношении Хоба, как несоразмерно исказила факты и заставила себя думать худшее.
– В тот день вы осматривали полое дерево… Искали письмо от Луэллы?
Он кивнул.
– Конечно, там ничего не было. Полагаю, теперь я должен смириться, что она не хочет меня знать.
Я согрела ладони о хрупкую старую чашку, вспоминая страхи Луэллы, что Хоб может затаить на нее зло после нападения Клива.
– Не сдавайтесь, Хоб, – сказала я. – Я намекну Бронвен и подговорю ее замолвить за вас словечко. Они с Луэллой обожают друг друга.
Хоб просиял.
– Вы сделаете это, деточка? Правда?
– Считайте, что уже сделала.
– Ну тогда…
Он улыбнулся, глядя в чашку, поднимавшийся от нее пар затуманил его очки.
Мы сидели в тишине наших мыслей, слушая трели вороны-флейтиста. Я украдкой взглянула из-под ресниц на Хоба и увидела, что его улыбка сделалась печальной. Потерянные годы, чувство вины и скорбь жизни, которая каким-то образом свернула не туда, оставили отпечаток на его лице. Словно смерть Айлиш стала брошенным в темный пруд камнем, от которого до сих пор медленно расходились круги.
– Тони никогда не рассказывал о своей семье, – вдруг сказала я. – Только теперь я начинаю понимать почему.
Улыбка Хоба потухла. Он посмотрел на меня и кивнул.
– Смерть сестры страшно его потрясла, беднягу. Ему было всего четырнадцать, поэтому неудивительно, что он лишился душевного равновесия.
– Лишился душевного равновесия?
– Да, бедный мальчишка совсем спятил. – Хоб сунул палец под очки, потер пустую глазницу. – Понимаете, вечером накануне того дня, когда нашли тело Гленды, Тони пришел сюда часов около десяти. Несчастный парнишка был весь в крови. С безумными глазами, как будто увидел привидение. Он все повторял, что его сестра лежит под старым буком на краю дедовского сада – под тем самым проклятым деревом, которое мы с Луэллой использовали как почтовый ящик. Тони не знал, что случилось, твердил только, что Гленда истекает кровью и ранена, едва в сознании.
Конечно, мы с Герни побежали в Торнвуд. Листья под деревом были раскиданы, но Гленду мы не нашли. Тони был вне себя, больной от страха. Мы привели его назад сюда, и мне удалось влить ему в рот немного бренди. Бедный Тони дергался не хуже жабы-аги, сидел как на иголках. И был в крови – я подумал, что он поранился, но он не подпустил меня посмотреть. Настаивал, что пойдет домой на Уильям-роуд. Я предложил подвезти его, но он опять ударился в слезы, лепетал, что Гленда, наверное, оправилась настолько, что ушла домой через овраг. Я убедил его остаться переночевать. Успокоил его и уложил в задней комнате. Но он, видимо, вскоре сбежал. Утром его не было.
Хоб допил свой чай.
– В те дни полицейский участок в Мэгпай-Крике по ночам не работал. Я позвонил в Ипсвич, мне сказали, что при отсутствии жертвы нет смысла посылать патруль. Затем, когда на следующий день нашли Гленду, копы взялись за нас, как муравьи за каплю меда.
Я пристально смотрела Хобу в лицо. Версия событий в изложении Тони объясняла, почему Гленда оставила свои вещи в дереве. Но как ее тело оказалось в овраге, больше чем в миле оттуда?
– Полицию не удивило, почему Тони видел сестру в Торнвуде, однако ее тело нашли в овраге?
– Нам сказали, что у Тони от шока мозги поехали, что он перепутал места.
– Вам это не показалось странным?
– Клянусь, показалось, деточка! Но мы все были в ужасном шоке и горе. В таком состоянии плохо соображаешь. Позднее я неоднократно ходил в полицию, но из этого ничего не вышло.
Минуту он сидел, глядя на свои руки. Мне было интересно, о чем он думает; морщины на его щеках углубились, потемнели резче обозначившиеся складки у рта. Ощущение безнадежности витало над Хобом густым облаком.
– Примерно через месяц после смерти Гленды, – продолжал он, – Герни заметил исчезновение из сарая своего старого винчестера. Старина Герни был очень щепетилен в отношении своего оружия, всегда убирал его высоко на полку, подальше от греха. В наши дни ты, конечно, должен держать оружие под замком, что вполне оправданно, когда вокруг столько воров, но тогда закон был менее строгий. Мы несколько недель ломали голову над пропажей винчестера, пока до меня не дошло, что его, скорее всего, взял Тони. А потом, в прошлом году, когда Тони умер, копы наконец нашли старый винчестер Герни.
– Тони воспользовался винтовкой вашего брата?
На Хоба жалко было смотреть. Он закрыл лицо руками, провел пальцами по редким волосам.
– Именно так, деточка.
– Боже, – еле слышно проговорила я. Сердце у меня сжалось до размера горошины. Упало в колодец с неподвижной, холодной водой и утонуло без следа. – Бедный Тони.
Хоб вздохнул и отодвинулся от стола. Я поняла, что наша беседа окончена. Чай остыл, печенье лежало нетронутым на тарелке с цветочным узором. Казалось, в кухне зависло эхо печали. Затем Хоб поманил меня за собой в дверь и дальше, в глубь старого бунгало с его лабиринтом комнат и переходов.
Я словно попала в музей естествознания.
Каждый дюйм стен был покрыт картинами в рамах. Здесь были большие пейзажи 1950-х годов, коробки-витрины с жуками или бабочками, несколько потускневших фамильных портретов… и акварели, десятки их: зяблики, лягушки, цветы эвкалипта, стрекозы – великолепные образцы тончайшего внимания Тони к деталям.
На подоконниках и полках рядами выстроились коллекции бутылок; в грубых горках красовались старинные измерительные приборы, часы и компасы; с потолка свисали клетки с чучелами канареек и воробьев. На залитых солнцем окнах висели птичьи гнезда, а двери были украшены шкурами животных – кроликов, динго, кенгуру, даже проеденной молью шкурой рыжего келпи. Над нами, на широких планках для развешивания картин, я увидела поразительное собрание мумифицированных собак, кошек, кроликов, змей и нескольких зверьков, определить которых я не сумела. Ржавые детали от разных механизмов служили подсвечниками, ограничителями для книг на книжных полках, для дверей; подвеска из старинных серебряных ложек зазвенела, когда мы прошли под ней.
Узкий коридор привел нас в заднюю часть бунгало. Мы вошли в маленькую спальню. Две широкие кровати были втиснуты в небольшое пространство, разделенные только старинным прикроватным столиком. На стенах – сплошь акварели Тони: остроконечные листья короля бутылочных деревьев – брахихитона, голубые цветки ломандры, папоротник-нефролепис, черепаха; карандашные наброски разных мумифицированных существ, которые я уже видела.
Хоб обвел рукой стену рисунков.
– Юный Тони был талантливым ребенком… Полагаю, вы и так уже это знаете.
Я смотрела в изумлении и, не в силах устоять, произвела быстрый подсчет. Здесь висело, вероятно, сто изысканных маленьких картин. Я знала нескольких арт-дилеров, которые отдали бы все – и значительную сумму наличными – за любую из них.
– У вас впечатляющая коллекция.
Хоб кивнул, прошаркав мимо меня.
– Я так думаю, они кое-чего стоят, но у меня никогда и в мыслях не было их продать. – Он застенчиво на меня посмотрел. – Вы, наверное, считаете меня сентиментальным старым дураком.
Я покачала головой.
– Признаюсь, у меня у самой лежит под кроватью запас картин Тони. Я убрала их с глаз, когда он ушел, не в состоянии на них смотреть, но и расстаться с ними я не могу себя заставить.
Хоб перенес свое внимание на чернильный набросок черной бабочки на фиговом листе.
– Скажите мне, Одри, каким он был? Я знал его только мальчиком. Он был хорошим ребенком, но я никогда не видел его взрослым.
Я неловко переступила с ноги на ногу. После нашего разрыва пять лет назад я избегала встреч с Тони, не желая растревоживать болото обиды и неуверенности в себе, которые породила во мне его женитьба на Кэрол. В тех случаях, когда мы встречались на школьных праздниках, танцевальных выступлениях Бронвен и соревнованиях по нетболу, Тони сохранял вежливую отстраненность, словно полагал, что, держа меня на расстоянии, проявляет больше доброты. И все равно эти воспоминания после нашего разрыва никогда не могли затмить того общего, что было у нас в совместной жизни. Когда-то улыбка Тони была для меня ясным солнцем, согревающим в трудные времена и отвлекающим от разнообразных страхов. Он был веселым и внимательным, и я провела бесчисленное множество зимних ночей в его объятиях. Но самое главное, он подарил мне дочь, которая составляла для меня весь мир.
– Он был чудесным человеком, – совершенно искренне сказала я Хобу. – Самым лучшим.
На лице старика отразилась благодарность, он не успел отвернуться, и я увидела слезы у него на глазах.
Я внимательно посмотрела на его профиль. Под морщинистой кожей проступали безусловно знакомые очертания лица. Его сапфировый глаз, седые волосы, гибкость и рост… Прищурившись, я увидела в нем слабое отражение своей дочери.
– Хоб? – проговорила я. – Тони и Гленда были вашими детьми, да?
Хоб застыл, затем судорожно вздохнул.
– Да, деточка.
– Они знали?
Он покачал головой.
– Это было ради их же блага, понимаете? Мы подумали, что лучше подождать, пока они станут старше, покинут дом. Если бы Клив узнал, он этого не вынес бы. Он их обожал, они были для него всем.
– Но они же были вашими детьми.
Хоб улыбнулся – печальнее улыбки я в жизни не видела.
– И хорошими детьми к тому же. Я бы что угодно для них сделал. Все что угодно, лишь бы сделать их счастливыми, уберечь. Даже если это означало отказаться от них.
– Поэтому вы и сделали аквариум для Бронвен, да?
Хоб словно съежился в своей обтрепанной рубашке.
– Когда приехали вы с Бронвен, я увидел в этом для себя второй шанс. Простите мой чрезмерный напор. Я – старый дурак, теперь вижу, что мне нельзя было навязываться. Видимо, я настолько желал произвести хорошее впечатление, что все испортил.
Я не сразу проглотила вставший в горле комок.
– Не извиняйтесь, Хоб. Вы лишь проявляли доброту, а Бронвен несколько дней только и говорила про того бубука. Думаю, временами я чересчур ее опекаю, а это нелепо, потому что Бронвен гораздо крепче, чем я себе представляю. – В голову мне пришла идея, как помириться с Хобом. – Знаете, я подумывала, что хорошо бы Бронвен о ком-нибудь заботиться. Может, вы принесете ей пару щенков Альмы, а?
– Я сделаю это, Одри, уж можете не сомневаться.
Он улыбнулся, но как-то рассеянно. Подойдя к одной из кроватей, он опустился на колени и вытащил из-под нее маленький пыльный чемодан. Вскинул его на кровать, щелкнул замками и откинул крышку.
– Однажды Тони оставил его здесь. У меня сложилось впечатление, что он немного не ладил с Кливом, ссорился с ним несколько раз. Гленда и Клив были близки, но Тони… он всегда казался ближе к матери. – Хоб вздохнул. – Так или иначе, Тони было лет двенадцать, когда он появился у нас на пороге, заявляя, что пришел попрощаться. Он убегает из дома, так он сказал. Разумеется, я уговорил его войти, разубедил бежать. В конце концов он пошел домой, но старый чемодан оставил здесь.
Хоб сел на кровать, его лицо было искажено глубокой скорбью, которую я только теперь начала понимать.
– Оглядываясь назад, я жалею, что не отпустил его. Может, тогда он был бы избавлен от кошмара смерти сестры. Может, он и сегодня был бы жив.
Я села на кровать рядом с чемоданом.
– Никто этого не знает, Хоб.
Он не ответил, поэтому я поставила чемоданчик к себе на колени и стала перебирать вещи Тони. Клетчатые рубашки, пара поношенных джинсов, скатанные носки. Блокнот с набросками пером, кисть для рисования, завернутая в носовой платок, жестяная коробка с тюбиками акварели: знакомые сиреневые и зеленые, голубой и охра – все сухие и рассыпающиеся. На дне чемодана я нашла большую сигарную коробку. Резинка, когда-то стягивавшая ее, порвалась и отпала. Содержимое коробки вывалилось. Я рассматривала его, затаив дыхание: мужские часы, комплект ключей, бумажник с тиснеными инициалами С.Р.
– Это его деда, – сказал Хоб. – Вещи эти были при нем, когда он умер. Полицейские отдали их Луэлле, но ей они были не нужны. Она отдала их Тони, и – если не считать красок и рисунков, – эти реликвии были его гордостью и радостью.
Я нажала на ржавую застежку бумажника, и он открылся. У меня едва не остановилось сердце, когда я увидела фотографию. Это был выцветший черно-белый снимок молодой женщины. Лет шестнадцати, до боли красивой, овальное лицо в обрамлении длинных темных волос, миндалевидные глаза горят озорством.
Я знала ее. Я видела другой ее портрет чуть больше недели назад, запертый в темной пещере гардероба в старой хижине поселенцев.
– Айлиш, – выдохнула я.
Хоб взглянул через мое плечо.
– Нет, детка, – сказал он. – Это Луэлла.
Я поняла:
– Сэмюэл носил ее фото в бумажнике. До самой смерти.
– Совершенно верно.
– Должно быть, он все же любил ее.
Хоб взял тетрадь для рисования, принадлежавшую Тони, и стал рассматривать крохотного зимородка, живо выполненного тушью.
– Как он мог не любить ее, детка? – тихо проговорил он. – Как мог кто-то не любить ее? Она одна на миллион.
Глава 24
Луэлла в огромной широкополой шляпе, закрывающей ее лицо от солнца, в полотняных перчатках, работала в саду. Она помахала мне, увидев мой автомобиль, встретила у ворот, провела в сад, на удивление довольная.
– Одри! Какой приятный сюрприз, я как раз думала о вас с Бронвен, прикидывала, когда же увижу вас снова. – Она нахмурилась. – В чем дело, милая? Вы что-то осунулись.
– Я только что от Миллеров, – начала я, затем смешалась.
По дороге сюда я планировала провести свое расследование; мне столько нужно было узнать, столько вопросов вертелось на языке. Но увидела озабоченную улыбку Луэллы, уловила тревогу в ее глазах. Зная, что за этим фасадом таится постоянный страх услышать очередные дурные вести, я поймала себя на том, что необходим более ненавязчивый способ ее расспросить.
Мой голос звучал напряженно.
– У Хоба приличная коллекция художественных работ Тони, ведь так?
Улыбка Луэллы дрогнула.
– О, в самом деле?..
Нелепо, но у меня защипало глаза. Затем внезапно накатила злость – на себя, на Луэллу и, непостижимым образом, – на Тони.
– Почему вы не сказали мне, что Тони был сыном Хоба? – Я не узнала свой голос – чужой, искаженный и резкий. – Вам не кажется, что Бронвен следует знать своего родного деда? Я обращалась с Хобом ужасно, считая его интерес к моей дочери неуместным, может, даже извращенным… Только сейчас мне стало известно, что все это время он знал, что она его внучка, потому так себя и вел, а я наворотила таких дел. Как вы могли, Луэлла? Как вы могли скрыть это от нас?
Эта вспышка эмоций ошеломила меня, но Луэллу она, кажется, ничуть не смутила. Она особенно аккуратно положила секатор на край птичьей купальни и сняла перчатки. Руки у нее были маленькие и розовые, влажные. Она крепко сжала мою руку.
– Простите, милая. Я действительно сожалею. Каждый раз, видя вас и Бронвен, я пыталась собраться с духом, чтобы рассказать вам обеим о Хобе. И каждый раз у меня не получалось.
Напряжение покинуло меня, злость исчезла так же быстро, как возникла.
– Я так плохо с ним обращалась, Луэлла. Видели бы вы его несчастное старое лицо.
– Он переживет.
– Он все мне рассказал. Как вы познакомились в юности и как он воевал во Вьетнаме, а потом вернулся с расшатанной психикой, и как Сэмюэл повлиял на ваш брак с Кливом. Потом – письма в полости дерева и ваш план сбежать и продавать чатни, хотя вы были никудышной поварихой, чему я поверить не могу, потому что ваши пирожные просто… просто…
Слезы жгли глаза, и я вытерла их.
Луэлла достала из рукава скомканный носовой платок и протянула мне:
– У вас с Хобом было сегодня непростое утро.
– Да. Пожалуй, да.
Она вздохнула, потом повернулась и пошла по дорожке к дому. Уже у веранды она оглянулась.
– Идемте, – хрипло проговорила она. – Думаю, нам нужно выпить чего-нибудь крепкого. И я имею в виду не лаймовую настойку.
* * *
Луэлла налила херес в рюмочки из матового стекла. Я выпила тошнотворный напиток одним глотком, затем полезла в свою сумку-торбу и достала письмо. Передавая его Луэлле, я мысленно вознесла молитву, чтобы она поняла.
Луэлла с подозрением уставилась на смятую записку.
– Что это?
– Это от вашей матери. Она написала его Сэмюэлу после его возвращения с войны.
Луэлла взяла письмо, но не развернула сразу. Повернула его в одну сторону, в другую, очевидно озадаченная.
– Я нашла его в поместье, – объяснила я, старательно подбирая верные слова. – Сэмюэл прятал его за старой фотографией в рамке. Думаю, он не… Это было… о черт, Луэлла. Прошу, просто прочтите его.
Она целую вечность изучала мое лицо, потом поднялась. Следом за ней я спустилась с веранды и прошла в тень раскидистой сливы, где мы сели на садовую скамейку. Перечный запах раздавленных настурций окутывал нас. Где-то высоко в ветвях над нами пронзительно зажужжало насекомое, своим продолжительным воплем заставившее меня поежиться.
Луэлла с бледным лицом расправила письмо на коленях и начала читать.
Нас окутала тишина, нарушаемая лишь веселой песенкой сорокопута в ветвях араукарии и тихим поскрипыванием бельевой веревки. День был приятный, а херес немного снял нервное напряжение. Если бы мое сердце не билось так неровно, если бы от мыслей не шла кругом голова, я, наверное, свернулась бы клубочком на теплой траве и погрузилась от усталости в дрему.
Луэлла сложила письмо и откинулась на спинку скамейки.
– Оно датировано днем ее смерти.
– Да.
– Она написала, что приведет познакомиться с ним… кого-то особенного. Думаете, она имела в виду… – Луэлла сухо кашлянула. – Она имела в виду меня, верно?
– Я так думаю.
Запрокинув голову, Луэлла сосредоточенно посмотрела в небо. Кожа ее пухлой шеи была гладкой, как атлас. По дрожанию ее губ и розовым пятнам на щеках я поняла, что она находится сейчас в преддверии своего внутреннего шторма.
– Я ее не помню, – сказала она. – Точнее, помню смутно. После ее смерти я привыкла притворяться, что маленькая Лулу ушла на небо вместе с ней и что я другой ребенок. Я даже настояла, чтобы дедушка Якоб называл меня Луэллой, а не… Ох…
Шторм разразился. Лицо Луэллы сморщилось, из глаз хлынули слезы. Я колебалась лишь одно мгновение, обняла ее и держала, пока она плакала. Она была крупной, высокой и полной, но здесь, в тени сливы, казалась хрупкой и беззащитной, маленькой девочкой, безутешно рыдающей по своей потерянной матери. Я обнимала ее крепко, поглаживала по спине, успокаивала, как умела, звуками без слов, как обычно успокаивала свою дочь.
Она отстранилась, слабо улыбнулась мне.
– Знаете, когда я сказала, что не помню ее, это не совсем так. Полагаю, безопаснее убрать воспоминания прочь, запереть их там, где они не могут тебя ранить. Но, Одри, остался какой-то калейдоскоп. Вспышки тут и там, как обрывки сна. Я помню себя на травянистой поляне, сказочное место, где на деревьях множество птиц. И мама называет их имена – свистуны и вороны-флейтисты, крапивники, мухоловки. И я помню, что она всегда казалась печальной. Не скажу – подавленной, но за ее улыбкой часто стояла тень грусти. Кроме единственного раза, когда она светилась от счастья. – Луэлла посмотрела мне в глаза и попыталась улыбнуться, но на реснице у нее застыла слезинка. – Это была ночь ее смерти.
Что-то шевельнулось во мне, какая-то смутная надежда.
– Вы помните ту ночь?
Она кивнула.
– Расплывчато, но она всегда меня преследовала. Мы вышли из дома поздно, шли в темноте по тропинке. Сначала мне было страшно, но потом мама начала петь, и ее голос меня ободрил. Я только помню, что она постоянно загадочно улыбалась, как будто что-то скрывала от меня. Мы шли долго. Я не знала, куда мы идем. Теперь я понимаю, что она вела меня познакомиться… познакомиться с Сэмюэлом. – Она вгляделась в мои глаза сквозь мокрые ресницы. – Но есть в моей памяти то, что мучает меня до сих пор. Понимаете, в ту ночь я видела среди деревьев лицо. Большое, бледное лицо, как у призрака. Он меня напугало… и я убежала.
В тишине снова заверещало то насекомое в ветвях над нами. Невольно вспомнился рассказ Бронвен об осе – охотнице за цикадами. В этот момент я ощутила себя злополучной цикадой во власти такой осы, меня влекла сила любопытства, я не способна была удержаться и одновременно боялась того, куда это может привести.
– Луэлла, вы узнали это лицо? Может, кто-то знакомый, подруга матери?
Она сдавленно рассмеялась.
– Господи, нет. Оно было жуткое, как кошмарное видение, как гоблин или призрак. Мама часто пела мне песни о призраках, духах буша и высоких белых демонах, которые появляются ночью со своими огненными палками. Она была наполовину аборигенкой, понимаете? После Первой мировой войны дед Якоб основал маленькую миссию рядом с Таунсвиллем. Она начиналась как школа, но выросла из нее. Моя бабушка была самой старшей ученицей, очень способной, помогала младшим детям. Они с дедушкой полюбили друг друга. Хотели пожениться, но церковь сказала «нет». Поэтому они тайком жили вместе до смерти моей бабушки от скарлатины в тридцать третьем году. Много позже, когда мы потеряли маму, в городе нашлись настолько жестокие люди, что говорили, будто таким способом бог покарал дедушку за его грехи… Хотя как можно считать любовь грехом – выше моего понимания.
Я рассеянно кивала. Описанное Луэллой лицо преследовало меня. «Гоблин или призрак», – сказала она. Детское воспоминание, родившееся за десятилетия до моего появления на свет… Так почему мне кажется, будто это я была маленькой девочкой в буше той ночью? Словно это меня напугало чудовище! И почему я так ясно смогла вызвать в воображении образ большого бледного лица, являвшегося в моих снах?
Смешно.
И однако же я видела это лицо из кошмара. Не погребенным в далеком прошлом, к которому оно принадлежало, а совсем недавно. Всего около недели назад. Наблюдающее сквозь деревья, в пятнах солнечного света, бледное и похожее на луну, почти сияющее… И это был не призрак; мужчина из хижины поселенцев был очень даже живым.
Брешь, пропасть, которую я чувствовала, вздрогнула и начала смыкаться. Возможно, я что-то пропустила. Я подумала об украденных письмах, найденных в том гардеробе, с его святилищем из кукольных голов и фотографии Айлиш. На ум мне пришло треснувшее старое топорище, поставленное в отделение с вешалкой, – памятная вещь, некогда украденная из дровяного сарая. Я подумала о темно-красных розах, вьющихся вдоль перил веранды у хижины, и о том, как разительно они похожи на розы на могиле Айлиш.
Кто-то действительно ее помнил.
И когда разрыв в моем понимании сомкнулся еще больше, я осознала, кем может быть этот «кто-то». Но если Клив Джермен жив, разве он не связался бы с Луэллой, не дал ей знать, что жив?
Если, конечно, имел такую возможность.
Или желание.
По спине у меня пробежал холодок.
– Луэлла, у вас есть фотографии Клива?
– Я их сожгла. А что?
– Пару недель назад я оказалась в старой хижине поселенцев. Там кто-то жил. Мужчина. Я не очень хорошо его рассмотрела, видела только мельком. Он был какой-то неопрятный, словно много лет жил в суровых условиях.
Луэлла стала отряхивать юбку.
– Не совсем понимаю вас, милая.
– Я вот думаю, не Клив ли это.
– Это не может быть Клив. Он умер двадцать лет назад.
Я была готова к отрицанию. В конце концов, вопрос о ее муже наверняка был чувствительным. Однако я оказалась не готова к звучащей стали в голосе Луэллы… или к маске решительности, под которой скрылось сейчас ее лицо. Глаза выдали ее. В их прозрачных глубинах я увидела промелькнувшую тень, темный силуэт, который вполне мог быть пытавшейся выплеснуться наружу паникой.
– Найденное в запруде тело может принадлежать кому угодно. Заявление полицейских экспертов, что оно попало в воду примерно в то время, когда исчез Клив, не доказывает, что это он.
Луэлла моргнула. Я молилась, чтобы у нее не случился срыв. Я была не в том моральном состоянии, чтобы прямо сейчас оказывать поддержку; мне требовалось сохранить собственное самообладание.
– Встреча с кем-то в дедушкиной хижине, наверное, очень вас потрясла, – мягко, как ребенку, сказала она. – Но этот человек, этот скваттер… Он же ушел, вы сказали? Ах, Одри, люди постоянно там появляются и уходят. Сезонные рабочие, туристы, экологи. Он, наверное, просто бедный старый бродяга, укрывшийся там на несколько месяцев.
– У него было необычное лицо, – выпалила я. – Кое-где кожа, по-моему, неестественно блестела в лучах солнца.
Луэлла, помолчав, переспросила:
– Блестела?
Сердце у меня забилось сильнее, ладони вспотели. Я явно перегибала палку, но теперь не могла остановиться.
– Лицо у Клива было в шрамах, так?
– У Клива и правда были шрамы, но едва заметные, даже если вы стояли близко. Поверьте мне, Одри, вы не Клива видели в хижине. – Она добродушно улыбнулась и похлопала меня по руке, затем встала. – Я напугала вас своей историей про призрака. Ах, Одри, это было давно, всего лишь детское воображение. А теперь пойдемте в дом. У меня есть чизкейк, возьмете кусочек для Бронвен, я знаю, она любит полакомиться после школы.
Я догнала ее у ступенек задней веранды.
– Поэтому Тони и приехал домой, да? Он подозревал, что его отец все еще мог быть жив.
– Простите, милая. Вы решительно заблуждаетесь.
В ее голосе чувствовалось раздражение; я зашла слишком далеко и ступила на недружественную территорию. Но теперь я уже не могла дать задний ход.
– Тони и Клив не были близки, правильно? И это заставляет меня недоумевать, почему спустя двадцать лет Тони помчался сюда в состоянии, близком к шоку, не сказав ни слова своей жене? Что, если он подозревал что-то?
И без того измученное лицо Луэллы посерело. Она долго не сводила с меня взгляда, но я чувствовала, что она забыла о моем присутствии. Наконец она повернулась, поднялась на веранду и скрылась в доме.
Я пошла вслед за ней. На кухне Луэллы не было, но я слышала, как она передвигается в передней части дома. Захлопывая двери. Закрывая окна.
– Луэлла?..
Я нашла ее в гостиной, где она задергивала тяжелую штору. Ткань отрезала последнюю полосу света, и комната погрузилась в полумрак.
– Что вы делаете? – спросила я, хотя прекрасно видела, чем она занимается.
Луэлла не обратила на меня внимания. Очередное окно скользнуло в раме, с шумом опустилось. Очередная задвижка встала на место.
Сердце у меня застучало, как паровой молот.
– Вы мне верите, да? Это объясняет, почему на окнах задвижки, решетки. Вы всегда подозревали…
– Ничего подобного. Бога ради, Одри, я одинокая женщина. Разве я не имею права чувствовать себя в безопасности?
– Безопасность – это понятно, Луэлла… но у вас больше висячих замков, чем в Форт-Ноксе.
– В дом однажды залезли, – отмахнулась она. – Ничего не украли, по крайней мере ничего ценного. Обшарили сарай, взяли несколько инструментов, разный хлам. Вы же знаете, какая теперь обстановка, постоянно слышишь в новостях, что какие-то неуправляемые дети забрались в чей-то дом…
Мне вспомнилась одна запись в дневнике Гленды об отце: «Он все хранит… Куча коробок, банок и жестянок с разными вещами рассована у него по всему сараю». Я вспомнила письма, обнаруженные в хижине, и резную шкатулку, в которой их держали. Вспомнила почерневшее топорище с его сальным, похожим на кожу налетом. Кукольные головы, фотографию. И коробки от патронов с этикетками с указанием содержимого. Спички. Карандаши, чай, свечи, веревка.
Тот мужчина в хижине тоже все хранил.
– Возможно, залез к вам именно Клив?
Луэлла резко повернулась ко мне:
– Нет.
– Но судебная экспертиза еще не закончена. Останки из запруды могут принадлежать кому угодно.
Она закрыла глаза.
– Мне не нужны экспертизы, чтобы сказать то, что я и так знаю. Это он.
– Как вы можете быть так уверены?
Она пошла на кухню, закрыла заднюю дверь и повернула ключ в замке. Захлопнув окно, она осталась стоять в падающем сквозь листву солнечном свете.
– Я знаю, что он мертв, Одри.
– Но…
– Я видела, как он умер.
Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать услышанное.
– Но если вы видели это, тогда почему сообщили о его исчезновении? Почему вы никому не сказали?
Она стиснула ключи от задвижек в руках.
– У меня были свои причины.
Я уставилась на Луэллу. Почему она хотела, чтобы все думали, будто Клив жив, если знала, что он умер? Страшная мысль пришла ко мне. После чтения дневника Гленды я подозревала, что ее смерть – не несчастный случай. А услышав, как Тони, по его словам, нашел ее в полубессознательном состоянии под буком, я поняла, почему она так и не вернулась за своими вещами. Гленда была сильно ранена, значит, не смогла бы доползти до оврага, находившегося за милю от того места. Что позволяло сделать однозначный вывод: туда ее отнес кто-то другой.
Я посмотрела на Луэллу. Не пришла ли и она к тому же выводу? Поэтому она позволила полиции прийти к заключению, что смерть ее дочери была всего лишь трагическим несчастным случаем. Неужели она подозревала правду, а потом взяла дело в свои руки?
– Вы знали, – категорически заявила я. – Вы знали, что ее убил Клив.
Луэлла кивнула.
– Как?
– Тони сказал мне. Ранее тем вечером Тони нашел сестру на земле деда. Она была едва в сознании и все бормотала что-то, но Тони не разобрал ни слова. Он побежал за помощью, а когда вернулся в поместье деда, Гленда исчезла. Только спустя час он понял, что она пыталась сказать.
– Что это был Клив.
– Да.
На щеках Луэллы горели огромные пятна, словно кто-то наотмашь отхлестал ее по лицу. Повернувшись, она вышла в темный коридор.
Я нашла ее в комнате с цветочным узором на обоях. Опустив оконную раму, она заперла ее на замок и задернула шторы, погрузив комнату в сумерки.
– Поэтому вы и сожгли его фотографии.
Она снова кивнула.
– Зачем? – не могла не спросить я. – Зачем он это сделал?
– Я не знаю.
Слова вращались, переключали скорости, навсегда изменяя курс своего движения. Медленно, неизбежно меня притягивала гравитация нового понимания.
– О Луэлла… его убили вы?
Стоя здесь, она вонзила ногти в тыльную сторону другой руки. На суставах проступили кровавые полумесяцы.
– Видит бог, я бы хотела, – тихо проговорила она. – Но нет, это была не я.
– Тогда кто?
Она пересекла комнату и встала у двери.
– В ночь своей смерти Гленда направлялась к Кори. Она оставила записку, но разразилась гроза, и я волновалась. Она всегда звонила, сообщая, что добралась благополучно. Машина Клива стояла на подъездной дорожке, а в сарае горел свет, и я решила спросить, не звонила ли она, но когда я постучала, он не ответил. Это показалось мне странным, но я не обратила внимания. Когда Гленда так и не позвонила к восьми тридцати, я набрала номер Уэйнгартенов, но у них никого не было. Думая, что она решила срезать путь через владения деда и попала в дождь, я схватила зонтик и побежала за ней.
Луэлла повернулась и вышла в коридор. В ванной комнате она проверила окно, затем проследовала в комнату Тони и опустила жалюзи.
– Когда я добралась до оврага, то увидела какой-то предмет в центре поляны. Это был ботинок. Ботинок моей дочери. – Она качала головой, в глазах стояли слезы. – Я целый час искала ее, но опоздала. Моя драгоценная Гленда была мертва. Ее тело лежало на дне оврага наполовину в воде. Облепленное листьями и грязью, камешки прилипли к крови. А ее… ее голова, она была…
Луэлла выхватила платок и вытерла лицо, затем поспешила опять в коридор.
– Я лежала рядом с ней на дне оврага. Держала ее на руках, как делала, когда она была младенцем, баюкала ее. Не знаю, сколько я там находилась, кажется, вечность. Я слышала наверху, на поляне, топот и крики. Я очнулась… или скорее стряхнула с себя шок, на смену которому пришло что-то другое, что-то грубое, темное и полное ненависти. Гнев, я полагаю. Потому что поняла: ее смерть не была несчастным случаем.
– Как?
– Из-за ее ботинка. Того, что я нашла на поляне. Если бы Гленда упала случайно, ее ботинок лежал бы на краю поляны, а не в центре. И у меня было предчувствие, – тихо прибавила она. – Материнская интуиция.
Она вошла в комнату Гленды, я – за ней. Комната оставалась такой, как я запомнила. Обои с желтыми розами, заправленная кровать, компания мягких игрушек на широком подоконнике. Школьный джемпер перекинут через спинку стула у туалетного столика.
Луэлла взяла джемпер и поднесла к губам.
– Я побежала домой. Спотыкаясь, падая, вставая. Не зная, что сделаю, когда туда попаду. – Она встряхнула джемпер, сложила его заново и вернула на спинку стула. – Я нашла Тони в сарае. Флуоресцентная лампа мигала, а в воздухе стоял неприятный запах. Дымный, едкий. Тони был у двери. В руках он держал винтовку, старый винчестер. Бледный как полотно, мой мальчик… Я окликнула его. Подошла и встряхнула за плечи, но он не ответил, продолжая таращиться в глубину сарая. Я повернулась посмотреть, что его так заворожило, и увидела…
Я наткнулась на кровать и тяжело села. Розы словно сорвались с обоев и поплыли по комнате, вызывая головокружение.
– Клива, – прошептала я.
Луэлла подошла к окну. На ее лицо упал солнечный свет. Ее кожа была влажной, от пота или от слез – сказать я не могла.
– Мой муж был крупным. С возрастом он растолстел, поднять его было очень трудно. Мы кое-как дотащили тело вдвоем до «Холдена» и отвезли к запруде. Я перевалила его на водительское место и втиснула винчестер в ногах, чтобы, когда найдут тело, наличие винтовки объяснило выстрел. План был небезупречный, но я знала, что будет расследование. Я сняла машину с тормоза, и Тони помог мне столкнуть ее по склону в воду.
Позднее, когда все было кончено и мы вернулись домой, мы не могли смотреть друг другу в глаза. Я сказала Тони: «Никому ни слова». Не требовалось брать с него обещание молчать. Тони сидел вытаращив глаза, не в себе от потрясения. Жаль, я не попыталась его успокоить, думая только о том, как избавиться от всех следов Клива… особенно от улик, указывавших на Тони. Я знала, что нас будут допрашивать. Казалось, легче принести ведро и швабру и заняться уборкой, чем осмысливать ужас того, что мы сделали.
Луэлла опустила жалюзи. Поток света превратился в полосочки, в комнате потемнело.
– Уборку я закончила к одиннадцати утра. Приняла душ, вычистила кровь из-под ногтей, уложила волосы и сделала макияж. Даже погладила свежее платье. На удивление спокойным голосом я позвонила в полицию. Потом пошла в овраг попрощаться с дочерью.
Мы стояли в ломаной тени. Луэлла не плакала. Подступившие к глазам слезы отхлынули, только зрачки остались расширенными и влажными. Луэлла продолжала моргать, качать головой, словно пытаясь отгородиться от своего признания.
Мне и самой было не по себе.
Не по себе, но до оцепенения спокойно. Клив Джермен был плохим человеком. Он нанес своей семье непоправимый урон. Он был убийцей… но разве это извиняет поступок Тони? Оправдывает молчание Луэллы? Я пыталась сохранить беспристрастность, но перед глазами вставал овраг с его влажными листьями и ручьем, с прохладным зеленым воздухом, в котором витала еле уловимая вонь искалеченной плоти и пролитой крови. И безжизненное любимое тело, стынущая в ночном воздухе кожа, быстро тающие последние силы драгоценной жизни. Если бы судьба распорядилась иначе и это я нашла бы тело моей дочери – действовала бы я по-другому?
Я почувствовала вкус крови и осознала, что до мяса обгрызла ноготь на большом пальце. Спрятав в кулаке неприглядное зрелище, я украдкой посмотрела на Луэллу.
Глядя в никуда, она неподвижно стояла в многочисленных полосках света, проникающего сквозь жалюзи. Из высоко зачесанных волос выбилась прядь и прилипла к виску. Каждый раз, когда Луэлла моргала, прядь шевелилась.
– Что-то не сходится, – проговорила я. – Вы сказали, что положили у его ног винчестер, прежде чем столкнуть машину в воду.
– Да.
– Но в газетных сообщениях не упоминалось, что нашли винтовку.
Тихий вздох.
– Возможно, они решили не обнародовать такой огорчительный факт.
Я собралась с духом, понимая, что переступаю невидимую черту, но не в состоянии идти на попятный.
– Хоб сказал мне, что оружием, из которого застрелился Тони, был винчестер. Он сказал, что это винтовка Герни и что Тони украл ее в ночь смерти Гленды. Если это та же самая, из которой он убил отца, тогда я не могу понять, как она всплыла из утопленного «Холдена» и вернулась к Тони двадцать лет спустя.
Луэлла казалась застывшей, словно малейшее движение могло нарушить ее самообладание. Когда она наконец заговорила, голос зазвучал призрачно, похожий на выдох в тишине.
– Воспоминания со временем путаются. Это могла быть другая винтовка, я не помню.
– Но…
– Знаете, я ничего этого вам не сказала бы, если бы Тони был до сих пор жив… Но его нет, и Гленды нет. У меня ничего не осталось. Я не против, если вы решите сдать меня полиции, Одри. По правде говоря, я бы сочла облегчением больше не прятаться.
Я подошла к окну и посмотрела в щелочку. Ослепительный день казался ненатуральным. У меня было такое чувство, будто я целую жизнь нахожусь в этом душном мраке, придавленная тяжестью признания Луэллы. И все же что-то подсказывало мне, что она не до конца откровенна. Я отпустила полоску жалюзи.
– Не мое дело судить вас, – сказала я. – Если честно, я, вероятно, поступила бы так же.
Луэлла кивнула, но снова стала какой-то отчужденной, словно меньше всего нуждалась в поддержке. Засунув носовой платок за вырез платья, она неуклюже направилась ко мне. Накатил страх – не хочет ли она обнять меня? После всего сказанного я чувствовала себя взбудораженной и беззащитной, на грани срыва.
К моему облегчению, она прошла мимо, к окну, и поправила раздвинутые мной полоски жалюзи.
– Никогда не знаешь, как поступишь, дорогая, – прошептала Луэлла в пыльной тишине. – Пока не окажешься в центре событий, припертая к стене и не имеющая другого выхода. Просто никогда не знаешь.
* * *
Первое, что я заметила, когда вошла в дом, был запах. Затхлый и слегка отдающий гнилью. Я прошла по дому, открывая окна, надеясь, что свежий ветерок прогонит его, гадая, не разыгралось ли у меня воображение после ошеломляющего признания Луэллы. Но в коридоре запах казался сильнее и еще сильнее – в моей комнате. Я открыла другие окна, но запах оставался. Не сдох ли кто в нижнем ящике? Я стала искать, думая, что, может, мышь или засохший геккон…
Затем остолбенела.
На краю кровати лежала моя покалеченная «минолта», которую в последний раз я видела улетающей в кусты недалеко от хижины поселенцев. Я порылась в памяти. Может, я все же принесла ее и забыла об этом в состоянии шока? Черт, нет. Я увидела ее теперь – как она лежала в траве, увидела мельком, когда повернулась и побежала. У меня не было времени схватить ее. А это значит…
Он был здесь.
Этим объясняется затхлый запах.
Я промчалась по дому. Мои профессиональные камеры и ноутбук лежали на своих местах в студии, коллекция ценных старых объективов осталась нетронутой. Стереосистема и телевизор целехонькие стояли в гостиной; даже двадцатидолларовая бумажка, которую я выложила на стол, дабы проспонсировать предстоящий научный проект Бронвен, находилась там, где я ее оставила. В растерянности, сомневаясь в себе, я принялась метаться от двери к двери, от окна к окну в поисках места взлома и проникновения – но не находила ни разбитых окон, ни сломанных замков.
Вернувшись в свою комнату, я уставилась на «минолту». Вынула ее из футляра. На фильтре объектива красовалась трещина, крышечка отсутствовала. Что было странно, поскольку крышечка должна находиться внутри. Я потрясла футляр, чтобы убедиться, и оттуда вылетел квадратик бумаги.
Сделанная «полароидом» фотография.
Я прекрасно ее знала. Она была сделана мною пять лет назад, когда Бронвен было шесть, за несколько месяцев до того, как ее отец от нас ушел. Цветной снимок – она и Тони, улыбаются, безумно счастливые, в объектив, глаза светятся. Тони немедленно прибрал фотографию к рукам, сунул в бумажник, поклявшись хранить до дня своей смерти. И, судя по изгибу фотобумаги и обтрепанным уголкам, именно так он и поступил.
До дня своей смерти…
Точки начали соединяться, выстраиваясь в мозгу в цепочки понимания.
Тони имел все основания считать Клива мертвым. Он выстрелил в него, а потом помог матери сбросить его тело в запруду. Отчасти он признался Дэнни Уэйнгартену, зная, что тот никогда не проболтается. «Я сделал нечто плохое», – сказал он жестами, а на следующее утро сел в автобус и уехал навсегда. Двадцать лет он жил вдалеке, отсекая все связи с матерью и людьми, которых любил.
И тем не менее у него, видимо, оставались сомнения. А иначе почему обнаружение предполагаемых останков Клива заставило его вернуться?
Я изучала поблекшие лица на снимке: круглое, младенческое личико Бронвен и искреннюю улыбку Тони. Я всматривалась, пока изображение не начало расплываться, затем закрыла глаза и попыталась сложить все это воедино.
Ночные кошмары Тони, перепады настроения. Продолжительные периоды молчания. Вероятно, через всю его взрослую жизнь проходило подводное течение страха. Пока он не прочел о находке в запруде.
Он хотел увидеться с Луэллой, поговорить с ней. Вероятно, он посчитал, что матери будет страшно и ей понадобится поддержка, а может, хотел согласовать их показания на случай, если полиция начнет расследование. Он поехал на Уильям-роуд. Долго стучал в дверь, нервничал, тщательно планируя, что скажет матери после двадцати лет разлуки.
Но Луэллы не было дома, возможно, она ездила за покупками в Брисбен.
Тони решил подождать. Убил немного времени, прогулявшись до оврага… затем дальше по холму до старой хижины поселенцев, до места, связанного со счастливыми детскими воспоминаниями. И там, на поросшей травой поляне, в тот великолепный солнечный, звенящий птичьими песнями день он лицом к лицу столкнулся с кошмаром, от которого двадцать лет спасался.
Я пристально смотрела на снимок, зажатый в побелевших пальцах.
Тони обещал всю жизнь хранить его в своем бумажнике.
В груди у меня поднялась какая-то темная волна. Возможно, отрицание. И неожиданно, как эхо далекого сна, проплыл в голове отрывок из написанного Айлиш: «Я взяла ключ в прачечной и вошла в дом, надеюсь, ты не рассердишься».
Фотография выпала у меня из пальцев. Я бросилась в коридор, через кухню выбежала на заднюю веранду и спустилась с нее под дом – в прачечную. В ней ничем не воняло, ни следа, что здесь побывал кто-то, кроме нас с Бронвен. Все выглядело как обычно. Блестящая стиральная машина, подметенный кафельный пол, вместительные бетонные резервуары, веревка с бельем. И велосипед Бронвен с обмотанным рулем и ярко-красным сиденьем, прислоненный под полкой, которую она конфисковала для своих лотков с тутовым шелкопрядом.
На поиски ключа ушло меньше пяти минут – я обнаружила его на середине пыльной притолоки. Большой старый ключ был чистым, словно им недавно пользовались. Кроме того, что сильно потускнел, он ничем не отличался от блестящих, недавно сделанных ключей, с помощью которых мы с Бронвен попадали в дом.
Я прислонилась к дверному косяку, голова у меня шла кругом.
До сего момента я предполагала, что угроза таится позади меня. Погребенная в прошлом, отделенная от нас океаном времени. Я полагала, что мы защищены от любой реальной опасности, просто в силу того факта, что мы существовали здесь и сейчас.
Но, глядя на ключ у меня на ладони, чувствуя, как прохладный воздух овевает мои щиколотки, я услышала шепот, предостерегающий меня эхом далеких лет:
«Беги без оглядки как можно быстрее и как можно дальше…»
И когда холодные щупальца понимания обвились вокруг меня, я увидела, что открыла дверь, вход в темное и опасное место – и благодаря моим розыскам, благодаря моему неуемному любопытству эта дверь была теперь широко открыта.
Глава 25
Голос моей дочери сорвался на визг:
– Я не уеду из Мэгпай-Крика! Ты не можешь меня заставить!
Мы стояли на веранде. Был ранний вечер, и Бронвен так и не сняла школьную форму. Я старалась не смотреть на нее, старалась не замечать боли и обвинения в ее глазах. Наоборот, держась за перила, я сосредоточила свое внимание на зависшей над нами огромной, лилово-черной грозовой туче.
– Я приняла решение, Брон. Прости.
– Но почему, мама, ты можешь хотя бы сказать: почему?
– Мы здесь не прижились.
– Что ты имеешь в виду?
– Просто не прижились.
– Мам, я не могу уехать. А как же Джейд и тетя Кори? А как же ба? Мы ведь не можем собрать вещи и уехать, как будто они никогда не существовали.
– Прости, милая. Мне действительно жаль. Но нам придется уехать.
Бронвен судорожно вздохнула.
– Мам, я сделала что-то не так?
В ее голосе зазвучали слезы. Обхватив себя руками, она пинала опору перил. Я чувствовала запах ее тревоги, соленой и горькой, как слезы.
Сердце у меня сжалось, но я не могла пойти на попятный.
– Это никак не связано с твоими поступками.
– Тогда – с чем?
Я посмотрела на измученное лицо Бронвен и вдруг испугалась за нее. Попыталась улыбнуться, добавить энтузиазма в голос.
– Теперь, приведя это место в порядок, мы можем продать его за кругленькую сумму, только подумай, какую большую квартиру мы сможем купить, может, прямо у пляжа… Тебе же понравится, а? С видом на море, на все эти огни в заливе… Сможем возобновить нашу прежнюю жизнь с того момента, на котором остановились.
Бронвен отпрыгнула от перил.
– А что насчет моей жизни здесь? Я должна просто забыть, что она вообще была?
– Конечно, нет, но…
– Что ж, я не могу ее забыть и не стану! Возвращайся в Мельбурн, если тебе так хочется, а я остаюсь здесь. Буду жить с ба, она не против. Она с радостью пустит меня к себе.
– Брон, спорить не имеет смысла. Мы возвращаемся в конце недели.
Она злобно посмотрела на меня сквозь слезы.
– Ты ревнуешь к ба, поэтому так и поступаешь, да? Ты ревнуешь! Как ревновала к папе. Поэтому он перестал видеться со мной. Ты прогнала его своим нытьем и вечным недовольством. Он сбежал к Кэрол, только бы не видеть тебя… А теперь он умер!
Она повернулась, пересекла веранду и выбежала под дождь. Мгновение спустя она исчезла среди деревьев. Мне даже и в голову не пришло схватить зонтик, обуться или просто отпустить ее. Случай с «минолтой» был еще свеж в памяти, и возможность того, что мы больше не одни здесь, заставила меня помчаться вслед за дочерью.
Она примостилась на своей кедровой скамейке под палисандром, подтянув колени к груди и уткнувшись в них лицом. Ее хрупкое тельце вздрагивало, руки на фоне джинсов были похожи на белые лапки.
Я села рядом, дожидаясь, пока пройдет приступ рыданий. Дождь лился на голову, затекал под воротник и струился по спине. Сухая земля превратилась в грязь, чавкавшую под ногами. Обрадовавшись неожиданному угощению в виде меня и Бронвен, комары кусали нас за пальцы и лодыжки, темными облаками вылетая из-под скамейки.
Бронвен нашарила в кармане носовой платок.
– Неудивительно, что папа ушел. Иногда ты ведешь себя как настоящая стерва. Ты и у меня вызываешь желание уйти.
В грозовом сумраке Бронвен была неразличима, бледная, похожая на привидение фигурка, больше не моя дочь, а плод фантазии из моего сна. У меня упало сердце.
– Пожалуйста, не говори так.
Над нами грянул раскат грома. Двор озарился ослепительным светом, таким пронзительно ярким, что каждый листок, каждая травинка, каждая сверкающая капля дождя навеки отпечатались на моей сетчатке. Бронвен вздрогнула. Я потянулась к ней жестом, к которому не прибегала уже много лет, – погладить по голове, задержать ладонь на ее затылке…
Она отпрянула, смерив меня взглядом, сопоставимым с ледяным душем.
– Жаль, что умер папа, а не ты. Жаль, что ты жива, а он – нет. Я больше не хочу с тобой жить, мама. Я тебя ненавижу.
Вскочив, она побежала к дому.
В лиловом свете ее волосы казались пепельным пятном, из-за дождя она бежала, съежившись. Мне хотелось побежать за ней и сказать, что обида пройдет, что однажды она сможет думать об отце, не проваливаясь в жуткую зияющую пустоту его отсутствия. Мне хотелось сказать ей, что все будет хорошо, если только она свернется клубочком в моих руках и позволит развеять ее печали, как я обычно делала, когда она была маленькой…
Задняя дверь хлопнула, и в кухне замерцал неяркий свет. Должно быть, из-за грозы отключили электричество. Я видела, как поворачивается луч фонарика – расплывчатый конус света, то тускневший, то разгоравшийся, прыгал из комнаты в комнату, пока наконец не исчез, погрузив дом в черноту.
Когда дождь прекратился, сад взорвался какофонией шумов, которую издавали лягушки-быки, цикады, капли, падающие на мясистые листья. Воздух стал влажным, тень под палисандром гудела насекомыми.
Я же слышала только злые слова дочери. «Ты прогнала его своим нытьем и вечным недовольством… а теперь он умер… Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу…»
Я с трудом сглотнула. Смешно, что в горле у меня встал комок, что глаза горели, что сердце окутала тень. Прислонившись к влажному стволу палисандра, я подняла глаза, надеясь найти утешение в небе. Гроза прошла так же внезапно, как началась. Одна за другой уплыли последние лиловые тучки. На смену им пришла скромная россыпь звезд. Таких маленьких, не больше светящихся дырочек размером с булавочную головку, таких немногочисленных, что необъятность неба грозила их поглотить. Однако они продолжали сиять – горсть блесток, брошенных на бархат, упрямо льющих свой свет на землю даже перед лицом всей этой тьмы.
* * *
– Брон? Ты что-то совсем затихла. – Я прижала ухо к ее двери, прислушалась. – Милая, ты не спишь?
После нашей ссоры прошло больше часа. Я знала, что Бронвен все еще будет дуться, поэтому нам и требовалось поговорить. Или скорее это было нужно мне. Объяснить настоящую причину нашего отъезда и убедиться, что она поймет.
Когда Бронвен убежала в дом, я осталась сидеть под палисандром. Рассматривала звезды и следила за домом. Собирая себя в кучу после откровений этого дня.
Я осознала, насколько глубоко погрузилась в прошлое, одержимая умершими людьми, пренебрегая тем, что действительно важно: Бронвен, моими друзьями, жизнью, которая разворачивается именно сейчас. Я использовала свои поиски убийцы Айлиш – и неотвязное желание узнать правду о смерти Гленды – как предлог, чтобы не разбираться с запутанным узлом собственных дел. Потратила столько энергии, копаясь в жизни давно ушедших людей, тогда как моя собственная жизнь безвозвратно утекала сквозь пальцы.
Больше этого не будет, пообещала я. Больше никакой лжи. Никаких побегов в прошлое.
– Бронни?
Я тихо постучала в дверь и открыла ее. Прищурившись сквозь тени, я ожидала увидеть худенькую фигурку, свернувшуюся под одеялом, но кровать была аккуратно застелена, школьная форма брошена на полу. Со спинки стула свисала ленточка для волос – белая полоска в лиловых сумерках.
Я прошла по дому, шаря лучом фонарика в темных углах, зовя ее. Когда выяснилось, что в доме так же пусто, как в ее комнате, я поспешила с фонариком в сад, обыскивая тайные уголки дочери. В прачечную я заглянула в последнюю очередь. Пусто, только пустые бетонные резервуары, влажные футболки на веревке, корзинка для прищепок и полка с тутовыми шелкопрядами Бронвен.
И нет велосипеда.
Я бросилась наверх, в кухню, собираясь еще раз проверить дом. У нее хватило бы ума не уехать, не сказав мне, но ладони у меня вспотели, ко мне подкрадывалась паника. За окном было темно, и я все думала о «минолте» на краю кровати, и о старом полароидном снимке, засунутом в футляр, и о затхлом запахе.
Скваттер побывал здесь.
Воспользовавшись ключом из прачечной, он вошел в наш дом – и хотя он вернул камеру и не причинил в остальном никакого вреда, его вторжение в дом потрясло меня. Я планировала, что мы поедем к Кори и переночуем там, а потом утром, на свежую голову, поймем, что делать. Только теперь…
К кофемашине была прилеплена розовая бумажка.
Мам, я уехала к ба, пожалуйста, не приезжай за мной, я позвоню, когда буду готова вернуться домой. Мне жаль, что я сказала, что ненавижу тебя, на самом деле это не так, мне просто нужно некоторое время побыть в другом месте.
Люблю, Брон.Я смяла записку, прикидывая на ходу: сколько времени у нее займет поездка до Луэллы? Час, сорок минут? Как давно она уехала?
Я сняла трубку и набрала номер Луэллы, но связи не было; гроза еще ворчала в отдалении, должно быть, она оборвала связь. Схватив ключи от машины, я пошла к двери, ругая себя за то, что все это время просидела под палисандром, лелея свои обиды, пока Бронвен собирала рюкзачок, писала записку, садилась на велосипед и отправлялась в ночь.
Боже! Как же она, наверное, расстроилась. Я представила, как она едет в темноте, крепко сжимая руль на ухабистой дороге, лицо залито слезами, худенькие ноги изо всех сил крутят педали.
И он где-то там. Наблюдает. Ждет…
Я остановилась как вкопанная.
Вернувшись в дом, я прошла в комнату Сэмюэла, взяла из шкафа ключ и отперла ящик туалетного столика.
И уставилась в пустое пространство.
Револьвер Сэмюэла исчез.
Мне стало не по себе, к горлу подступила тошнота, я вся покрылась холодным потом. Кто бы ни залез в мой дом, этот человек, очевидно, все-таки обыскал его. Он нашел ключ от столика и знал, что искать.
А тем временем моя дочь едет на велосипеде сквозь темную ночь, одна, беззащитная, к дому своей бабушки. Два этих образа столкнулись в моей голове и наполнили меня смесью эмоций, каких я никогда прежде не испытывала. Первобытное желание защитить, драться, пожертвовать чем угодно ради безопасности Бронвен.
Я зашла в кухню, взяла из своей сумки письма Айлиш и сунула в задний карман джинсов. Они были истинной причиной появления здесь скваттера. Не возвращение камеры, а новая кража писем. «Минолта» и полароидный снимок были всего лишь визитными карточками.
На пути к двери луч фонарика выхватил мое лицо в зеркале в передней. Лицо серое, застывшее. Только глаза выдавали мои чувства. Расширенные и яростно горящие золотистым огнем, почти дикие.
Совсем не как у мыши.
* * *
Дом Луэллы съежился в темноте под араукарией. «Лендкрузер» хозяйки стоял на подъездной дорожке, но ни в одном окне не видно было проблеска света. Дом казался пустым, заброшенным.
Когда я остановилась на обочине, в свете фар появился знакомый предмет: велосипед Бронвен.
Заглушив двигатель, я выскочила и побежала к дому. Перепрыгивая через две ступеньки, я взлетела на веранду и забарабанила в парадную дверь Луэллы. Дверь распахнулась под ударом моего кулака, и я вошла.
– Луэлла? Брон, ты здесь?
Внутри дома, в этой пещере теней, гуляло эхо, было прохладно. Я уловила тот же запах, который отравил сегодня днем мой дом, – немытая кожа и нервный пот, еле уловимый древесный дым, – и он следовал за мной по коридору.
Ориентируясь по луне, светившей в дверь в дальнем конце коридора, я отыскала дорогу на кухню. Щелкнула там несколько раз выключателем, но ничего не произошло. За окном слышался вой ветра в ветках деревьев и далекий рокот грома. Часы в виде солнца тикали зловеще, в такт биению моего сердца.
Поспешив к дверям на веранду, я нащупала другой выключатель. Снова неудача. Двор за окном тонул в темноте. Чернильно-лиловое небо, как вокруг оси, вращалось вокруг араукарии, тени облаков быстро скользили по крыше оранжереи Луэллы. Падая на темные листья пандануса, лунный свет превратил лужайку в тигровую шкуру.
Я напряглась, оглядываясь через плечо. Волоски на руках встали дыбом. Я почувствовала, что за мной наблюдают. Краем глаза заметила движение в дверях. Темнота сомкнулась на том месте, где была фигура, которую, мне показалось, я заметила. Тени вновь превратились в безопасную пустоту. В дверях никто не стоял, но остаточное изображение фигуры отпечаталось у меня на сетчатке.
– Луэлла? Это вы?
Я подошла к стеллажу. Не желая рисковать, вытащила письма Айлиш из кармана и бесшумно положила в одну из ретрожестянок Луэллы. Затем прокралась к дверям, постояла несколько секунд, сосредотачиваясь. Выглянула, бросив быстрые взгляды вправо и влево по коридору. Затаив дыхание, почти ничего не слыша из-за грохота собственного сердца, я ступила в полумрак.
Запах был сильнее, в коридоре почти невозможно было дышать.
Миновав ванную комнату, я толкнула локтем дверь в комнату Луэллы, но там оказалось пусто. На полпути по коридору я заглянула в кабинет с его голубым гардеробом. Свет луны проникал в темноту, но эта комната тоже была пуста. Как и спальня Тони.
Комната Гленды выглядела по-другому. Сначала я подумала, что виновато, скорее всего, тусклое освещение; шторы были раздвинуты, лунный лик сиял в окне, маслянисто-яркий за железными решетками окна. Затем сердце у меня затрепетало.
Бронвен лежала на кровати Гленды, спала на покрывале, ее светлые волосы шелковым веером раскинулись по подушке вокруг головы. Бронвен казалась маленькой и беззащитной, тонкие руки сложены на груди, лицо смутно белело в темноте. Я подбежала к ней, от чувства облечения у меня подогнулись ноги. Схватив дочь за руку, я тряхнула ее.
– Бронни, это мама. Проснись, мы едем домой.
Она не пошевелилась, веки не дрогнули. Когда я наклонилась, чтобы взять ее на руки, то уловила слабый химический запах. Меня накрыла волна страха. Что сделала с ней Луэлла? Дочь находилась в глубоком сне. Ее накачали лекарствами?
Внезапно в воздухе разлилась вонь.
За моей спиной послышался шорох. Я выпустила Бронвен из рук, и она упала на кровать. Кто-то стоял позади меня, я уловила начало движения залитой лунным светом фигуры – рука занесена. Я рванулась в сторону, и первый удар пришелся мне по плечу.
Бросившись к кровати, я попыталась защитить свою спящую дочь. Следующий удар нанесли сбоку по голове. Из глаз посыпались, ослепив меня, искры. Комната накренилась. Я попыталась вскинуть руки, ватные, бесполезные. Стала клониться вперед, потом упала на колени. Я сражалась с волной черноты, пыталась вырваться из нее, тянулась к дочери, втискивалась между кроватью и нападавшим. На мгновение увидела освещенное луной лицо, которое я почти узнала, – большое, бледное и страшное. Лицо человека, которого, каким-то образом поняла я, мне следовало бояться.
Глава 26
– Очнитесь! Умоляю, Одри, очнитесь…
Моргая, я увидела в дрожащем свете свечи, что лежу на полу в темной комнате. Обвела взглядом желтые розы на обоях и потрепанные игрушки на широком подоконнике – медведей и тряпичную куклу из трикотажа, плакаты с поп-звездами за дверью.
Передо мной возникло женское широкое лицо, серое и влажное от пота. Смотревший на меня глаз был расширенным, зеленым. Второй заплыл синяком. Пухлые щеки измазаны, кажется, кровью.
– Луэлла?
Я попыталась сесть. В глазах потемнело, накатила волна тошноты. Голова трещала, но сквозь боль пришли проблески воспоминаний: фигура в темноте; вонь в воздухе, занесенная рука; искры из глаз. Затем я вспомнила спящую на покрывале Бронвен, безмятежную, как ангел, волосы раскинуты по подушке, тонкие руки сложены на груди.
Мой взгляд метнулся к кровати. Она была пуста.
Я с трудом села, пристально посмотрела в запачканное кровью лицо женщины, стоявшей рядом со мной.
– Где она?..
– Простите, Одри, мне ужасно жаль…
Придя теперь в себя, несмотря на звон в ушах и двоение в глазах, несмотря на шум в голове, я схватила Луэллу за плечи:
– Бога ради, Луэлла, где моя дочь?
Луэлла заплакала и сумела выдавить единственное слово:
– Похищена.
От ужаса меня обдало жаром. Свеча затрещала, скромные всполохи огня заметались по стенам, превратив желтые розы в золотые. Я встала, пытаясь унять рев в голове.
Луэлла вцепилась в меня холодными пальцами.
– Я попыталась позвонить в полицию, но телефонная линия повреждена грозой. И ни один автомобиль не действует. В вашей машине есть ключи, но двигатель не заводится. До города пешком два часа, а ближайшие соседи – Миллеры, и до них больше часа. Ах, Одри, я боюсь за нее, ужасно боюсь!
На последнем слове ее голос оборвался, и паника передалась мне. Меня словно сковало, я едва могла дышать. Перед глазами был только образ моей дочери, лежащей на кровати Гленды, – такой неподвижной, глубоко погруженной в сон. Я вспомнила исходивший от нее химический запах, а потом мужчину, которого заметила в дверях.
Я заставила себя успокоиться.
– Луэлла, ничего не могу разобрать. Говорите помедленнее. Я должна знать, что случилось. Расскажите все с самого начала.
Луэлла кивнула.
– Бронвен приехала около шести часов. В расстроенных чувствах. Она рассказала мне о вашей ссоре и что вы решили уехать из Мэгпай-Крика. Я сделала ей горячего шоколада и сэндвич, но не успела она даже кусок откусить, как в дверь постучали. Она подумала, что это, наверное, вы, поэтому я сказала, что сама поговорю с вами. Только за дверью никого не оказалось. Я вышла посмотреть, не стоит ли ваша машина на дорожке, но ее там не было. Потом послышался какой-то шум, и я почувствовала отвратительный запах, потом…
Луэлла дотронулась до затылка, показала кровь, влажно блестевшую на пальцах.
– Пришла в себя я внизу, в прачечной. Меня привел в чувство Граффи, который скребся под дверью. Я бросилась в дом, но Бронвен исчезла. Я искала везде, нашла вас лежащей здесь. А теперь ее увезли, и это я виновата.
Я ходила по комнате, пока она говорила, от окна к двери и обратно, слушая вполуха. Но последняя фраза привлекла мое внимание.
– В каком смысле виноваты?
Она поднялась, для равновесия хватаясь за мою руку холодными пальцами. От Луэллы исходил металлический запах крови.
– Я не все вам рассказала, – проговорила она. – В ночь смерти Гленды, после того как Тони застрелил отца, – позднее, у запруды, – Тони показалось, будто он что-то видел.
– Что?
– Сняв автомобиль с тормоза, мы стали толкать «Холден» вниз по склону, пока он не разогнался. В тот момент, когда мы его отпустили, Тони вскрикнул. Побежал за машиной, пока она катилась с берега. Я подумала, что от горя и потрясения он хочет и сам броситься в воду. Нос машины нырнул в запруду, и автомобиль начал быстро тонуть, но Тони настаивал, что видел, как его отец открыл глаза. Поэтому мы ждали. Полчаса, может, больше. Смотрели, нет ли пузырьков на воде. Я долго не сводила глаз с того места. Но Клив… Нет, он не выплыл.
– Но мог выжить?
Луэлла отпустила мою руку.
– Это возможно.
Я почувствовала, как меня охватывает паника безнадежности.
– Боже. Бронвен с ним.
Закрыв глаза, я попыталась просчитать ситуацию. Телефонной связи нет. И машин на ходу тоже. Я не могла терять время, идя пешком в город, только не сейчас, когда Бронвен все еще может быть рядом. До Миллеров час. Пока до них доберусь, будет слишком поздно. Следовало действовать сейчас.
– Идите к Миллерам, – сказала я Луэлле. – Не рискуйте, срезая путь через Торнвуд, идите по дороге. Хоб сообразит, что делать.
Луэлла уставилась на меня:
– А вы?
– Я иду за ними.
Я пересекла комнату, но когда взялась за дверную ручку, в ночи раздался громкий выстрел.
Луэлла вскрикнула. Ее лицо медленно повернулось, как гипнотически поворачивается вслед за солнцем подсолнух. Я и сама проследила ее взгляд, и мы вместе уставились на окутанный лунным светом вид за окном. Темнел холм позади сада, терялась между деревьями грунтовая дорога, поднимавшаяся вверх по склону.
– Овраг, – прошептала я.
Побежала в кухню, достала из банки пачку писем и сунула в карман. Затем распахнула заднюю дверь и вгляделась в ночь. Луна сияла среди плывших рядами лиловых грозовых облаков, из-за которых небо корчилось и громыхало в мучениях. В воздухе стоял едкий запах озона, а деревья высоко на склоне холма мотались из стороны в сторону, как хвосты разозленных котов.
Еще не до конца пришедшая в себя Луэлла стояла рядом, протягивая мне какой-то предмет – охотничий нож в кожаных ножнах с костяной рукояткой. Маленький и тяжелый, но лезвие прочное, хорошо смазанное, угрожающе острое.
– Это отцовский, – сказала она, вглядываясь в мое лицо, здоровый глаз наполнился слезами.
Я прицепила нож к ремню и, сбегая по ступенькам, услышала вдогонку тихий голос Луэллы в темноте:
– Сделайте что угодно, Одри. Только приведите ее домой невредимой.
* * *
Извилистая дорожка на склоне холма за домом Луэллы была туннелем темноты. В густых зарослях ползучих растений, которые стенами стояли по обе стороны, надрывались цикады, тени липли к черноствольным эвкалиптам, над головой проносились, пикируя, летучие мыши.
На бегу меня стали одолевать безумные мысли. А если я действую чересчур поспешно? Что, если Бронвен не там, а на полпути к Брисбену со своим похитителем, в краденом автомобиле, или направляется на север бог знает куда?
Услышанный мной выстрел до сих пор эхом отдавался в ушах. Я пыталась убедить себя, что стрелять могли охотники на кенгуру, фермер, отстреливающий лис, служба контроля за дикими собаками, но никакие доводы не изменяли фактов: моя дочь захвачена, а мужчина из хижины поселенцев вооружен.
Склон расширился, и впереди появилось широкое, похожее на полку каменистое плато, представлявшее собой естественный мост через овраг. Ущелье здесь суживалось, его крутые стены заросли терновником и колючим папоротником, ручей журчал где-то далеко внизу. Когда я перешла на другую сторону, дорожка отклонилась влево и повела меня с холма. Чуть дальше я нашла просвет между деревьями и очутилась на поляне.
Она оказалась меньше, чем я запомнила. Серебристая лужайка, огороженная по периметру эвкалиптами с черными стволами, в центре неясно вырисовывался высокий выгнутый валун, похожий на могильный камень. Я поискала следы пребывания здесь людей – дорожку примятой травы или, может, обрывок одежды, но ничего не было. Я приблизилась к камню, прислушиваясь, затаив дыхание, не различу ли голоса, приглушенный крик, – но только мягко шумел дождь, скрипели ветки, завывал ветер. Над головой прокричал бубук, а со склона, откуда-то снизу, донесся жуткий топот валлаби в темноте.
Я направилась к краю оврага, в панике подошла слишком близко. Кусок земли отвалился, и в пустоту посыпались камешки. Я отступила назад. Земля была вроде бы надежной, но при ближайшем рассмотрении я увидела, что это смертельная ловушка. По границе плоской каменной плиты у обрыва шла трещина – зигзагообразная линия разлома, порожденная годами засухи, а теперь углубленная дождем. Один неосторожный шаг, и примыкающий к камню пласт земли обвалится.
Двигаясь по краю, я нашла более прочный участок земли и посмотрела вниз, страшась того, что могла увидеть.
Далеко внизу из крутых стенок росли молодые деревца, их тонкие стволы были освещены луной. Вздрагивали под дождем папоротники, а мертвые деревья торчали над пропастью, как мостки. Со всех сторон вокруг меня выпирали из земли огромные серые валуны, создавая видимость надежности, но это была иллюзия: один шаг – и край обрыва рухнет вниз.
Еще одно копье молнии рассекло небо. В ее вспышке я увидела каждый листок, каждый камень, каждый кривой сук на сухих деревьях, каждую кроличью нору и блестящую паутину так же отчетливо, как при ясном солнце. Мгновение спустя все опять погрузилось во тьму.
В отдалении хрустнула на земле ветка. Я повернулась слишком быстро и поскользнулась, из-под ноги в овраг посыпался новый водопад земли и камней. Пока я торопилась к валуну в центре поляны, до меня донеслись другие звуки – осторожный шорох и шевеление в подлеске, будто кто-то пытался подобраться незаметно.
Трясущимися руками я выхватила из ножен охотничий нож Луэллы. Тетя Мораг говаривала, что женщине бессмысленно носить оружие, поскольку в случае нападения его, вероятнее всего, вырвут и обратят против нее же. Сейчас же, накачанная адреналином и страхом, я чувствовала, что рукоятка старого ножа стала единным целым с моей ладонью. Расстаться с ним меня заставил бы только ядерный взрыв.
Луна зашла за облако, поляна скрылась почти в полной темноте. В неожиданном мраке ожили мои страхи. Я вообразила другую, давнишнюю ночь на этой поляне, ночь, которую видела множество раз. Когда-то Айлиш стояла там, где сейчас стояла я, в лунной тени высокого валуна. Темнота вдоль лиственного периметра поляны менялась, как это происходило и сейчас, и тени словно обретали плоть, меняли форму, возможно, даже принимали очертания человеческой фигуры.
Еще одна молния полыхнула в глубинах неба. Ночь разверзлась, и в краткий миг я увидела движение среди деревьев. Кусты у дальнего края поляны задрожали, будто потревоженные дуновением ветра. Тьма заколыхалась, распалась и снова слилась воедино. Затем от мрака отделилась одинокая тень и медленно пошла через поляну ко мне.
Глава 27
Я узнала его сразу же.
Потому что – несмотря на изменчивый лунный свет, несмотря на туманную пелену дождя, несмотря на то, что я лишь раз мельком видела его до этого, – длинная череда лет, последовавших за детством, не очень сильно изменила Клива Джермена. Описание мальчика, данное Айлиш, по-прежнему соответствовало мужчине.
Волосы его не торчали больше щетиной, а отросли и были собраны в хвост, тускло серебрясь в свете луны. Лицо у него было в точности как я представляла: морщина между светлыми бровями, большие глаза, в которых плескалось беспокойство, белесый оттенок кожи. Однако теперь он оброс неопрятной бородой и носил бесформенную куртку и джинсы. Правую руку он плотно прижимал к боку. Не повреждена ли она, подумала я, потом предположила, что он что-то прячет, возможно револьвер Сэмюэла.
– Здравствуй, Одри. Ты принесла их?
Его голос потряс меня. Мягкий голос образованного человека. Вежливый. Совершенно не соответствующий его убогой, неряшливой внешности.
Свободной рукой я достала из кармана пачку писем и подняла, затем снова спрятала.
– Сначала я хочу увидеть ее, – стала торговаться я. – Хочу убедиться, что ей не причинили вреда. Тогда вы получите свои письма.
– Справедливый обмен.
Я ждала, что он шевельнется. Ждала, что повернется и зашагает в сторону уходившей вверх по холму дорожки, возможно оборачиваясь и подзывая меня. Но он продолжал неподвижно стоять среди теней и смотреть на меня.
Неужели я ослышалась? «Справедливый обмен», – он сказал. Его письма в обмен на Бронвен. Тогда почему он медлит? Почему мы не идем к ней?
– Где она? – невольно спросила я.
– Отбрось нож в сторону. Тогда мы сможем поговорить.
Оказалось, что никакого ядерного взрыва не потребуется – помог простой, старый, заурядный страх. Я забросила охотничий нож в тень у обрыва.
– Я отдам письма, только когда увижу, что с ней все в порядке.
– Сейчас с ней все в порядке, у тебя еще есть время. Но сначала мне кое-что от тебя нужно.
– Что?.. – Я поморщилась от своей готовности, прозвучавшего отчаяния в моем голосе. – Чего вы хотите?
– Значит, ты прочла письма?
Я кивнула. В глубине сознания всплыли его предыдущие слова: «Сейчас с ней все в порядке, у тебя еще есть время». Время на что? Что он имеет в виду?
Он подошел ближе.
– Ты искательница правды, не так ли, Одри? Я чувствую это в тебе. Тобой движет любопытство к прошлому – страсть, которую разделяю и я. Но если ты прочитала эти письма, то знаешь историю только с ее стороны. Тогда как моя версия остается нерассказанной.
Висок пронзила острая боль. Я пыталась уразуметь, что он говорит. Сердце забилось неровно, ладони взмокли. Понимание пришло. В итоге это будет непростой обмен. Клив забавлялся мной, играл в какую-то жестокую игру, подобно кошке, вонзающей когти в перепуганную мышь.
– Сюда едет полиция, Клив. Если вы сейчас же не отведете меня к ней, они ее найдут. И вы отправитесь в тюрьму.
Над ним заплясали тени, когда он шагнул ближе.
– То же говорила и Гленда. Но тогда я в тюрьму не сел, не сяду и теперь. Я перерезал телефонные провода, Одри. И в Торнвуде, и на Уильям-роуд, а мобильные телефоны здесь не берут. Разве что ты послала сигнал SOS телепатически?
– Луэлла пошла за помощью.
– Тогда тебе лучше помолиться, чтобы она не спешила. – В голосе Клива прозвучала угроза. – Если кто-нибудь помешает нам, прежде чем мы закончим, тогда наша милая маленькая Бронвен все равно что покойница.
Я вздрогнула, потеряв самообладание.
– Что вы с ней сделали?
– Поместил ее кое-куда на хранение.
– Что вы имеете в виду?
– Она – моя страховка. Если сделаешь, как я скажу, она останется в живых. Но если будешь заниматься ерундой и болтать про полицию, что кто-то пойдет в тюрьму или прочий бред, тогда я стану тянуть время. А если я стану тянуть время, наша милая девочка… – Он провел пальцем по шее.
Я похолодела. Десятки образов промелькнули перед глазами. Моя дочь лежит, скорчившись, на полу в хижине, кровь льется из смертельной огнестрельной раны, или лежит на дне оврага, ее тело избито и переломано в результате падения, или она находится в какой-то темной расщелине, на подбородке подсыхает рвота, а сердце постепенно замедляет свою работу от смертельной дозы лекарства.
– Никакой полиции, – заверила я и, как бы сдаваясь, подняла дрожащие руки. – Я сделаю, что вы скажете, я просто хочу, чтобы она была в безопасности.
Сверкнула молния, но вдалеке, ее света хватило ненадолго. Выступило бледное, как у трупа, лицо Клива, затем снова ушло в тень. Лиловые сумерки вернулись, но прежде я разглядела предмет, который он до сих пор прятал, – деревянную палку, едва различимую в непрочном лунном свете. Она потрескалась и почернела, была отполирована за многие годы до гладкости. Я помнила ее на ощупь по посещению хижины – почти теплое старое дерево, засаленное. Покрытое кровью, поняла я позже. Кровью Айлиш. Может, и кровью Гленды. Собирался ли теперь Клив добавить и мою? И кровь Бронвен?
Понимание охватило меня с такой могучей силой, что мое внутреннее и внешнее «я» разделились. Я почувствовала, что время искажается, меняя очертания и форму. Оно бежало теперь не вперед, а назад. Назад на шестьдесят лет, когда гремел ручей и перекликались птицы-звонари и другая женщина стояла в тени высокого камня и дрожала за свою жизнь.
Я просто поняла: по какой-то причине Клив собирался меня убить.
Я мгновенно вспомнила Бронвен в тот день на кухне у окна, с морщинкой тревоги на лбу. «Если ты погибнешь, – сказала она тогда дрожащим голосом, – что будет со мной?»
Теперь ее слова приобрели новое значение. Если я умру или лишусь способности двигаться, моя дочь больше не понадобится Кливу как страховка. Паника заставила меня закрыть глаза; я снова увидела его палец, проводящий по шее в молчаливом предостережении. Я отстранила панику и оценила свои возможности.
Я бы дралась, если бы считала, что у меня есть шанс выстоять. Или побежала бы, если бы точно знала, что убегу. Помчалась бы в хижину, чтобы найти дочь, а потом… Что потом? Кливу шел восьмой десяток, но, полагаю, по силам он был куда моложе. Он знает местность и скоро обошел бы меня. Я никогда раньше не пользовалась ножом в целях самообороны, а в прошлом Клив уже действовал топорищем. И, напомнила я себе, он вооружен.
На ум пришло кое-что из сказанного им, и я поняла, чего он от меня хочет: «Ты знаешь историю только по ее рассказам… тогда как моя версия остается нерассказанной».
– Вы сказали, что у нас общая страсть к прошлому, – произнесла я, борясь с дрожью в голосе. – Мы говорили об Айлиш.
– Да.
– Вы ухаживаете за ее могилой. Оставляете ей розы.
– Это были ее любимые.
– Что с ней случилось? В смысле – что случилось на самом деле?
Он шагнул ближе.
– Ты хочешь знать о той ночи, когда она умерла?
Я кивнула.
Его взгляд переместился на высокий валун, изогнутый, как плавник, с пятнами бледного лишайника.
– Это был март сорок шестого года, – сказал он. – Сэмюэл вернулся домой с войны, худой и изможденный, настоящий оборванец. Позднее я узнал, что они с Айлиш, встретившись на улице в то утро, поссорились. Сэмюэл переживал из-за этого, и папа хотел его подбодрить. Поэтому он пригласил Сэмюэла к нам домой выпить пару бутылок пива. Конечно, пара превратилась в несколько пар. К восьми часам в тот вечер они расчувствовались до слез, орали во все горло песни и предавались воспоминаниям, как два старых матроса. Примерно в это время отец позвал меня. Велел отнести записку Якобу Лутцу на Стамп-Хилл-роуд. «Скажи этому нелюдимому старому простофиле, чтобы шел сюда, – сказал мой отец. – Да пусть не забудет принести пару бутылей своего лучшего пива».
Пока Клив говорил, я тайком поглядывала на край поляны. До оврага было шагов десять. Земля вдоль обрыва была ненадежной. Если бы мне удалось удержать внимание Клива на событиях прошлого, я смогла бы заманить его на край оврага, на ненадежную каменную пластину с трещиной и пластом осыпающейся земли.
Переступив с ноги на ногу, я сделала полшага назад.
Клив передвинулся в освободившееся пространство и продолжал:
– Мне как раз исполнилось четырнадцать лет. В моих глазах Сэмюэл Риордан был героем. После чтения его писем мне казалось, что я его знаю, и я странным образом чувствовал свою близость к нему. Мне не хотелось покидать компанию, но я послушно сел на велосипед и поехал на Стамп-Хилл-роуд. Я стучал очень долго. Наконец сдался, но когда собрался уходить, дверь открыл Якоб, пьяный и всклокоченный. Где-то в доме работало радио, треск стоял оглушительный. Якоб, наверное, спал и теперь был зол как черт. Он сказал мне, что именно я могу сделать с приглашением отца, поэтому я сел на велосипед и поехал домой.
Пока он говорил, я отступила еще на полшага назад.
Клив рассеянно передвинулся вслед за мной.
– Тогда-то я и увидел Айлиш. А с ней – маленькую Лулу. Они шли по дорожке, которая вела через овраг в Торнвуд. Для Лулу поздно было гулять, и что-то подсказало мне, что Айлиш идет повидать Сэмюэла. До его отправки на войну они обычно встречались как раз здесь, у оврага. Но в тот вечер Сэмюэл сидел пьяный у нас… и совершенно не в том состоянии, чтобы с кем-то встречаться.
– Значит, это вы встретились с ней вместо него, – предположила я, отодвигаясь еще на полшага к оврагу.
Клив остался на месте, поглощенный своей историей.
– Я поспешил за ней, срезав путь через склад лесопилки и между деревьями, следовал по пятам. Затем Лулу убежала, и Айлиш запаниковала. Я нашел ее здесь, на поляне… совсем так, как нашел сегодня вечером тебя, Одри. Она звала своего ребенка, обезумев от тревоги. Я никогда не видел ее такой напуганной и такой красивой. – Он вздохнул и покачал головой, приближаясь ко мне. – Я только хотел с ней поговорить. Сказать, что мама скучает по маленькой Лулу. Мы все по ней скучали, – с горечью добавил он. – Но Айлиш ничего не желала слушать. Она разозлилась, начала обвинять меня в разных проступках. А потом сказала, что я напугал маленькую Лулу и заставил убежать в буш, и теперь она потерялась. Она и другие слова говорила… жестокие слова. Которые глубоко меня ранили. Думаю, тогда-то на меня и опустилась эта серая пелена. Я не помню, как поступил, не помню даже, что прошло какое-то время между тем, как стали стихать ее крики, и наступлением тишины. Когда я наконец проморгался сквозь пот и слезы и посмотрел вниз, мне стало нехорошо от того, что я сделал.
Над нами грянул гром, и в последовавшей за ним ослепительной вспышке я увидела лицо Клива. Оно перекосилось, превратившись в гротескную маску, залитую дождем, а может слезами.
– Я не плохой человек, – сказал он, и его слова почти потонули в раскатах грома. – И не хотел причинить вред. Но я был нездоров. Даже ребенком я знал: со мной что-то не так. Папа мало что замечал, с головой погруженный в свою работу. Мама, наверное, считала меня чудовищем. А Айлиш… Я полагал, что она другая. Такой же изгой, как я. Мне представлялось, что она понимала… Но в конце она оказалась такой же, как и все остальные.
Клив замолчал, и я надеялась, что он не станет продолжать. Меня смущало, что историю Айлиш – историю, которую я так жаждала услышать, – рассказывает теперь он. Я уже чувствовала, как ядовитая энергия его слов проникает в мою кровь, отравляет меня, но вынуждена была поддерживать разговор.
– Вы только что сказали, что на вас опустилась серая пелена. Что это значит?
Судорожно вздохнув, Клив подошел ближе.
– Это трудно объяснить. Неприятное ощущение, как будто у тебя распухает мозг. Потом подступает тошнота, и все вокруг делается серым. Затем… – Он пожал плечами. – Как только это начинается, я теряю контроль над собой. После того первого раза, с Айлиш, я убедил себя, что это больше не повторится. Шли годы, и я был уверен, что серая пелена исчезла и что со мной все будет хорошо. Я был счастлив, и это сдерживало болезнь.
Одна из дневниковых записей Гленды промелькнула у меня в памяти – о солнечном воскресном утре, когда она наблюдала за Кливом, сажавшим лук. Ее отчет был написан с такой любовью к человеку, которого она считала своим отцом, что мое сердце сжалось от боли.
– Однако серая пелена опустилась снова, не так ли?
Клив не сводил с меня взгляда через лунную поляну, его глаза казались дырами в светлой глине.
– С Глендой получилось тяжело. Ты не представляешь, как тяжело. Она была моей девочкой. Она любила меня, а я… я боготворил землю, по которой она ступала.
– Что же случилось?
– Она нашла письма. – Пауза. – Совсем как ты, совала нос куда не надо. И, как ты, она взяла их и прочла. А потом сбежала. В тот вечер шел дождь, поэтому она укрылась в полом стволе дерева в конце сада Сэмюэла. Я хотел только поговорить, но прочитанное в письмах сбило ее с толку. И разозлило, думаю. Она сказала, что я сяду в тюрьму, что письма – доказательство. Пообещала, что расскажет Луэлле, а потом весь город узнает, что это я, а не Сэмюэл, убил ее бабушку. Разумеется, мы страшно поругались. Наговорили столько дурных слов. А следующее, что я увидел, как она… она…
По мере того как до меня доходили его слова, я поняла, в ослепительной вспышке взгляда в прошлое, что придуманная мной история смерти Гленды неверна. Я-то решила, что найденные ею письма были от Хоба Миллера к его матери, и стала заниматься Хобом, когда на самом деле это были письма Айлиш, те самые, которые я обнаружила в хижине. Письма, которые Клив украл с почты, будучи мальчиком, и хранил среди своего хлама в сарае. Затем украл снова, через несколько лет после своей мнимой смерти, изобразив кражу со взломом. Письма, ради которых он убил.
Я сунула руку в задний карман джинсов и холодными, влажными пальцами коснулась пачки. Некоторые конверты были в темных пятнах – пятнах крови, как я и подозревала. Крови Гленды – это я теперь знала.
Клив ладонью вытер пот с лица.
– Я без конца щупал ее пульс. Мне все казалось, что я его нашел… затем он исчезал у меня под пальцами. Помню, как я бежал вниз по холму в дом Сэмюэла, думая найти там одеяло, чтобы завернуть ее. Какое-то время я стоял в саду, молясь, чтобы это было жутким кошмаром, пытаясь очнуться. Но когда снова поднялся на холм, то увидел ее, лежавшую в грязи, где я ее оставил. Я опустился на колени и прикоснулся к ее лицу, сказал, что люблю ее… И тогда она заговорила. Даже не заговорила, вздохнула, но у меня подпрыгнуло сердце. Она была жива.
Подхватив ее на руки, я побежал домой. Луэлла училась на медсестру, я подумал, она сообразит, что делать. Я скажу, что Гленда упала, что там был оползень. В надежде, что у Гленды возникнет амнезия, и она забудет, что я натворил, и мы снова будем счастливы.
Конечно, – просипел он, – этому не суждено было случиться. Добравшисься до оврага, я заметил, что кое-что изменилось. В ее теле появилась неподвижность, которой не было раньше, тень, где несколько секунд назад был свет. Ее сердце, понимаешь? Ее бедное сердце остановилось.
Минуту я слышала только дождь и шелест ветра в листьях. Я загоняла внутрь слезы – слезы страха, гнева и печали – и пыталась понять, как мог любящий отец обрушиться на свою дочь с такой неописуемой жестокостью. Неужели любовь действительно так непостоянна? Или Клив использовал это слово для описания какого-то другого чувства, которое только напоминало любовь?
Клив подвинулся ближе.
– Когда я вернулся домой, там было пусто. Я пошел в сарай. Достал из ящика свое старое ружье и зарядил. Сел на стул и уперся лбом в дуло. Легче всего на свете было бы нажать на курок, положить конец боли, которую я испытывал… Сейчас не помню, сколько я там просидел, помню только, что меня отрезвил шум – козодой звал в темноте свою подругу. Прошел, наверное, не один час. Я замерз, тело болело. Но в голове прояснилось. Я не хотел умирать, поэтому решил пережить ужас содеянного. Разрядил и убрал винтовку, затем собрался вымыться.
Я только начал раздеваться, когда дверь сарая распахнулась. Это был Тони. Я велел ему проваливать… затем увидел, что он вооружен. В руках он на изготовку держал старый винчестер, двадцать второй калибр. Бог знает, где он его взял. Помню, я подумал: «Хорошо, что этот идиот понятия не имеет, как заряжать ружье». Затем я взял свои слова обратно. Тони поднял винтовку, прицелился этой проклятой штуковиной прямо мне в лицо. «Ты ранил Гленду», – сказал он. Только это: «Ты ранил Гленду». А затем спустил курок.
Над головой ударил гром, заставив меня вздрогнуть. Клив посмотрел в небо, потом на меня. Он хмурился, словно забыл, зачем я здесь.
– Маленький ублюдок, – спокойно произнес он, протирая глаза от дождя. – Мне понадобилось двадцать лет, но все же я его прикончил.
Но он прикончил Тони не теперь. Он прикончил его много раньше, когда тот был четырнадцатилетним подростком. Жестокость Клива изуродовала душу Тони и обрекла на жизнь, полную кошмаров, неуверенности и страха. Хуже того, поведение Тони в сарае в ту ночь могло убедить его, что он унаследовал жестокую натуру Клива. Не поэтому ли много позже, когда появилась Бронвен, Тони стал от нее отстраняться? Не из-за ее сходства с его умершей сестрой, а страшась того, что он может с ней сделать?
– Тони был хорошим человеком, – сказала я, и сердце мое забилось, как паровой молот, когда я еще отступила к краю оврагу. – Просто жаль, что в ту ночь он плохо прицелился.
Клив кивнул, шагнув вслед за мной.
– Я часто думал о том же. Но желание выжить – сильный инстинкт, Одри. Неважно, каким несчастьем обернется жизнь, не всегда легко с ней расстаться.
– Он застал вас в хижине, да? Вы убили его, чтобы защитить себя, – не было ни серой пелены, ни отключки. Вы знали, что Тони сдаст вас полиции, и поэтому хладнокровно застрелили его.
– Он застал меня врасплох, – сказал Клив. – У меня не было выбора.
Еще один фрагмент головоломки встал на место, фрагмент, который не первый день терзал меня.
– Та винтовка, винчестер. Это из нее Тони выстрелил в вас двадцать лет назад, так? Вы вернулись к «Холдену» и достали ее.
– Дрянная вещь была, – раздраженно отозвался Клив, – ее постоянно заклинивало из-за того, что она долго пролежала под водой. Ты права, я достал ее, вычистил и хранил все эти годы, но никогда не собирался использовать ее против Тони. Я никогда не думал о мести, просто хотел, чтобы меня оставили в покое.
Мои мышцы свело от напряжения, тело намокло от дождя и пота. Я чувствовала себя неопрятной, грязной. Я больше не хотела слушать отвратительный бред Клива, но до края оврага оставалась еще пара шагов.
– Я поохотился, – продолжал Клив. – Только положил добычу на разделочную колоду, когда мой старый пес залаял. Я оглянулся как раз вовремя и увидел, что из-за хижины выходит Тони. Он сразу же узнал меня, несмотря на бороду и лохмотья, в которых я хожу. Он попятился, и я понял, что он хочет убежать, поэтому я схватил винтовку и бросился за ним, мне удалось оглушить его ударом приклада. В кармане я нашел ключи от машины и бумажник – и в нем его фотографию с красивой маленькой девочкой. Снимок я взял себе, а все остальное положил на место и пошел на поиски машины, которую и нашел на повороте на Уильям-роуд. Я тащил его всю дорогу, тяжелый был, сволочь. Усадил на водительское место, подперев старым другом винчестером. А потом сказал «прощай».
В груди у меня поднялась холодная ярость. Я вспомнила лицо Бронвен в тот день, когда я сообщила ей о смерти отца, как она съежилась и закрыла лицо руками, слезы текли между пальцами, худенькие плечики вздрагивали. При всех своих недостатках Тони был достойным человеком и прекрасным отцом, преданным Бронвен, пока чувство вины и страх не изгнали его из ее жизни.
Кливу Джермену за многое придется ответить.
– Как вы живете, – сказала я, – причинив людям столько горя?
Клив издал неразборчивый звук.
– Я никогда никому не хотел вреда. Я же сказал тебе, они меня провоцировали. Айлиш и Гленда – тем, что говорили ужасные слова. Угрозы и обвинения. Я чувствовал себя преданным. Я любил их, но возненавидел.
Последние слова были больше похожи на рычание. Я вздрогнула. Он стоял достаточно близко, и я увидела побелевшие нити шрамов на морщинистой щеке и остекленевшие глаза. Интересно, сколько оставалось до серой пелены, до ярости? До потери контроля над собой?
Я стояла в шаге от края оврага. Совсем рядом с каменной плитой и коварным пластом земли, так что краем глаза видела темный зигзаг смертельной линии разрыва. Потные ладони горели, сердце билось судорожно, отдаваясь болью в висках, когда я попятилась в ту сторону.
Лицо надвигавшегося Клива блестело от дождя, в сыром воздухе стояла вонь немытого тела. Рука, которую он держал прижатой к боку, взметнулась вперед, и топорище влажно блеснуло в лунном свете. Он протянул свободную руку.
– А теперь – мои письма, Одри.
Дождь прекратился. Луна вышла из-за нагромождения облаков и залила поляну желтым светом.
– Мы так не договаривались. – От страха мой голос зазвучал резче. Я знала, что до этого дойдет, но все внутри похолодело, я не была готова. – Вы получите их после того, как я увижу свою дочь.
– Мы ни о чем не договаривались, Одри. Ты не в том положении, чтобы договариваться.
Он набросился на меня неожиданно, топорище описало в воздухе дугу и обрушилось вниз. Я отскочила, собираясь перемахнуть через подмытую землю и приземлиться на твердом участке подальше в сторону, но деревяшка задела мое плечо. Я споткнулась, избегая осыпающегося края оврага, и упала на колени в грязь. Клив бросился снова, но я откатилась в сторону, и удар топорища пришелся мимо.
Я вскочила, тяжело дыша от страха. Увидела тускло блестевшую полоску в тени, в нескольких футах от меня. Это был мой нож. Я кинулась к нему, наконец дотянулась до него и схватила.
Следующий удар я увидела, но не сумела отреагировать достаточно быстро.
Топорище ударило меня по ребрам, я пошатнулась и выронила нож. Клив ударил снова. Я вскрикнула, когда деревяшка опустилась на мое бедро. Боль прострелила позвоночник, ноги у меня подкосились. Откатываясь в сторону, я почувствовала спиной жесткую рукоятку ножа. Сдвинувшись, схватила его и поползла, пытаясь получить передышку от непрекращающихся ударов Клива. Мне удалось подняться на ноги и почти лицом к лицу встретить его следующую атаку.
Я неуклюже замахнулась ножом, но опять страх замедлил мои рефлексы.
Клив увернулся из-под самого ножа, легко избежав встречи с лезвием. Затем бросился на меня с другой стороны. Я попыталась пригнуться, но споткнулась и едва не упала, в последнюю секунду вскинув руку для защиты от удара. Он пришелся на предплечье, нож выпал из пальцев, и подступила черная волна тошноты. Ноги сделались как ватные, и я почувствовала, что сейчас повалюсь на землю.
Клив снова бросился на меня, на этот раз замахнувшись сбоку, и попал длинным топорищем по бедру. Я вскрикнула, падая на колени и защищая руками голову. Новый удар пришелся на плечи, и я упала под тяжестью боли. Клив с рычанием опять ударил меня по ребрам. Я задохнулась и оказалась словно подвешенной в безвоздушном пространстве. Никогда еще мне, свернувшейся в комочек, оглушенной жестокой болью, не было так страшно. Моя дочь была неизвестно где, беззащитная в темноте, а я была бессильна ей помочь. Мне предстояло умереть ужасной смертью в этом кошмарном месте на краю оврага. Я содрогнулась, с ужасом осознавая, что история взяла надо мной верх, что время пошло вспять и я была здесь раньше…
Я почувствовала, как сливаюсь с Айлиш. Мои судорожные всхлипы стали ее слезами, оглушительное биение сердца отзывалось таким же ритмом в ее жилах. И ее страдание стало моим. Ее сломанные ребра, перебитые запястья и пальцы, ее мысли, затуманившиеся и сменившиеся беспамятством. Рот наполнился кровью, она давилась криками, зная, что никто не услышит, но все равно надеясь на помощь… А потом перед глазами растеклась темнота и медленно пришло осознание того, что это конец и что теперь она может только свернуться в тени в комок и ждать, когда ее найдет смерть.
Но я была не Айлиш.
И будь я проклята, если умру, как она.
Вырвавшись из прошлого, я поднялась на колени и поползла по размокшей земле. Лунный свет коснулся лезвия ножа, я дотянулась до него и крепко сжала его рукоятку.
Клив подошел и встал надо мной. Глаза у него были стеклянные, губы в белых пятнах пены. Накрыла ли его сейчас серая пелена? Или он в полном сознании, прикидывает, как меня прикончить? Словно издалека я наблюдала, как он вскидывает топорище и замахивается.
На сей раз я была готова. Увернувшись от удара, я полоснула Клива по пальцам. Он взревел, ослабив хватку. Я бросила нож, обеими руками схватила топорище и, собрав силы, вырвала его из окровавленных пальцев Клива. Затем швырнула в овраг.
Клив смотрел, как оно взлетает, описывает дугу и исчезает в темноте.
Повернувшись ко мне, он сунул руку в карман куртки и достал револьвер Сэмюэла. Держа его двумя руками, прицелился в меня.
– Отдай мне письма, Одри. Передай их спокойно и медленно.
– Иди к черту.
– Ну, давай же. Не хочу еще больше испачкать их кровью.
Адреналин хлынул в мои жилы. Слух обострился. Я услышала, как Клив взвел курок, услышала шорох его ладони, поудобнее обхватывающей рукоятку, шершавое движение пальца, снявшего предохранитель и устроившегося на изгибе курка. Я услышала, как он делает вдох, а затем задерживает дыхание, готовясь выстрелить.
Сердце забилось медленнее. Мозг переключил скорость и обострил сознание. Вот он, конец, и однако я больше не боялась. Сунув руку в задний карман джинсов, я достала письма Айлиш и высоко их подняла.
– Они тебе нужны? – спросила я, срывая с пачки ленточку. – Тогда возьми их сам.
Движением кисти я подбросила письма вверх и в сторону оврага. Они не полетели плавно и исчезли бесшумно, как это было с топорищем, – нет, пачка распалась, и каждое письмо полетело по своей траектории, сероватые листы шелестели и трепетали, как стая умирающих белых мотыльков, – одни были подхвачены ветром и отнесены недалеко, другие повисли на ветках, большая же часть устремилась во влажную тьму.
Клив вскрикнул и невольно шагнул вперед. Прямо на подмытую каменную плиту.
Земля вздрогнула, неустойчивый камень начал сползать. Должно быть, Клив понял, что происходит, потому что повернулся ко мне и выстрелил. Пуля прошла высоко, я почувствовала, как она пронеслась мимо, но потом ее темная сила каким-то образом заставила меня крутануться, земля ушла из-под ног, и вот я уже лежала лицом вниз на краю оврага, уставившись в зияющий провал свежей земли, где мгновение назад стоял Клив.
Исчез. Он исчез.
От шума в голове я едва не потеряла сознание, но заставила себя собраться. Все закончилось. Клива больше нет, упал и разбился насмерть. Мне следовало бы испытать облегчение, но не было ничего, кроме тупой боли. Бронвен где-то там, в ночи, и меня преследовали слова Клива: «У тебя еще есть время». Как давно он это сказал? Час назад? Сорок минут? Что он имел в виду – время на что? И не истекло ли оно уже?
Смаргивая с глаз влагу, я поймала себя на том, что таращусь на черную тень в нескольких дюймах от моего лица. Она медленно обрела форму, и, когда зрение прояснилось, я поняла, что смотрю на револьвер Сэмюэла. Я потянулась к нему…
Из тьмы под обрывом взметнулась рука и, как тисками, сжала мое запястье. Я вскрикнула от страха и попыталась вырваться, поворачивая свою руку и перекатываясь на бок. Движение вызвало взрывную волну боли и тошноты. Мое плечо горело и ныло, на один момент боль вокруг сустава стихала, затем в следующий нарастала, ослепляющая, пронизывающая, жгучая.
Я смутно поняла, что ранена.
Пальцы Клива вокруг моей кисти сжались сильнее. Я почувствовала, что он увлекает меня вниз своим весом, тащит к краю. Я пошарила рукой, чтобы зацепиться, ухватиться за что-то, но вокруг были только рыхлая земля и расшатавшиеся камни.
Посмотрев вниз, я увидела его. В падении он приземлился на ствол мертвого дерева, которое торчало из стенки оврага под наклоном вниз. Его выбеленная дождями и ветрами поверхность была в сучках от обломившихся веток. Дерево это опасно покачивалось под тяжестью Клива.
Снова он потянул меня за руку. Не имея за что зацепиться, я перевалилась через рыхлый край и съехала вниз по склону. Упав на ствол дерева, я столкнулась с Кливом, и он потерял равновесие. Соскользнул со ствола и повис, но руки моей не выпустил. Под его тяжестью у меня вывернулся сустав, и я завопила от боли.
Клив висел над пропастью, его свободная рука хваталась за пустоту. Носком ноги он нащупал выбоину в скалистой стенке оврага, но внизу открывался головокружительный провал – густые кроны деревьев, невидимое под ними каменистое русло ручья. Скоро Клив утянет нас обоих в бездну, и мы рухнем на поджидающие внизу камни. Мое тело тряслось от мощнейшего напряжения, пока я сопротивлялась превосходящей гравитации Клива, но силы быстро иссякали.
Если он упадет, упаду и я.
– Скажи мне, где она, – прохрипела я. – Мне нужно знать, что с ней все будет хорошо.
Клив пристально смотрел на меня, в его волосах застряла грязь, они были влажны от пота, рядом с ухом сочился кровью порез. Клив тяжело дышал. В уголках губ скопилась слюна. На побелевшем от шока лице корчились нитки шрамов, проступавших на влажной коже.
– Слишком много времени прошло, – сказал он. – Ты опоздала.
– Где она?
Подала голос одинокая птица-звонарь. В буше вокруг нас было чудовищно тихо. Единственными звуками было резкое дыхание и скрип дерева, когда ствол напрягся под бременем двух наших тел.
– Все кончено, – сказал Клив, и в его голосе послышалось облегчение.
– Для тебя – может быть. Но не для меня.
Я на удивление легко ослабила мертвую хватку, с которой держалась за дерево. Расцепила ноги, расслабилась. Сила тяжести сделала остальное. Своим весом Клив немного протащил меня вниз по стволу, и это короткое перемещение лишило его опоры в скале. Он бешено замахал рукой и попытался ухватиться за меня, но я отстранилась. Морщинистая кора оцарапала меня, я почувствовала, как на ребрах сдирается кожа, что-то твердое вонзилось мне в живот. Затем кратким, головокружительным рывком мы сползли еще на фут по стволу – навстречу верхушкам деревьев внизу. За миг до того, как оторваться от дерева, я успела ухватиться свободной рукой за обломок ветки. Наше движение остановилось.
Клив откачнулся от стенки оврага, с искаженным от потрясения лицом хватая пальцами воздух, и с угрозой посмотрел на меня:
– Ты идешь со мной, Одри.
Изогнувшись, я рванула руку вверх, сжимая зубы от нестерпимой боли. Пальцы Клива сдвинулись к моему большому пальцу, и я почувствовала, как что-то сдвинулось в запястье, услышала треск кости.
– В твоих снах.
– Нет, моя дорогая, – дрожащим голосом проговорил Клив, на его губах заиграла дрожащая улыбка. – В твоих…
Потом он закрыл глаза и разжал пальцы. Взлетел крик – видимо, мой, – когда я в ужасе уставилась в пустоту, где еще мгновение назад был человек, но теперь… теперь…
Теперь я была одна.
Глава 28
Треск ломающихся веток, шелест оборванных листьев, глухой стук падающих камней и комьев земли и стремительное падение тела, с шумом летящего в темное чрево оврага, на камни внизу…
Я попыталась отрешиться от этого, но мои чувства как будто лишь обострялись. В воздухе пахло сырой землей, поломанным папоротником, кровью. Влажный ветерок оставил скользкую полоску на моей коже. Листья шептали, дождевые капли шлепались на мясистые листья, в далеке в ручье шуршала листва.
Я плыла, легкая, как листок.
Потом что-то заставило меня поднять глаза. На краю оврага под нависающим деревом стояла в тени молодая женщина в белом платье. И, хотя я не видела ее лица со своего места на стволе дерева, – необыкновенно красивая. За последние месяцы я так часто о ней думала, что, пожалуй, знала ее. Нас разделяли время и тьма, но на мгновение мне показалось, что и она меня знает. Подняв руку в прощальном жесте, она повернулась и растворилась среди деревьев.
Я провела рукой по лицу, стирая с него влагу – то ли кровь, то ли слезы.
Отдышавшись, проверила руки и ноги. Все конечности, кроме левой руки, более или менее действовали. Я коснулась плеча, и мир перевернулся. Когда он снова встал на место, я собрала остатки сил и – думая только о дочери – начала карабкаться вверх.
* * *
Покинув поляну, я пошла по извилистой тропе, ведущей к хижине поселенцев. Снова зарядил дождь, по лику луны проносились черные тучи. Ночь казалась вечной, но после моего ухода от Луэллы вряд ли прошло больше часа.
На мне остались только лифчик и джинсы. Разорвав футболку на полосы, я забинтовала рану на плече. Револьвер Сэмюэла, который я подняла на уступе над оврагом, я заткнула сзади за пояс джинсов. Оставался один патрон, и я молилась, чтобы мне не пришлось его использовать.
Любой шум: треск ветки, жуткие крики птиц-бичей, потревоженных в своих гнездах, – заставлял меня резко обернуться, изучить взглядом прячущиеся в тени деревья, которые отделяли меня теперь от поляны. Я гадала: упал Клив или мне это только пригрезилось? Может, он скрывается в грозовой тьме, идет за мной?..
Его слова не давали мне покоя. «У тебя еще есть время».
Пока я тащила свое избитое тело вверх по склону холма, страх вытрепал все нервы. Я не забыла о выстреле, раздавшемся ранее в ночной тиши. Опять я переживала, что все это время Бронвен, смертельно раненная, лежала на полу хижины и жизнь вытекала из нее, просачиваясь в трещины пола. От этой картины у меня разрывалось сердце, мутился разум, впрыскивая в кровь химическую смесь страха и адреналина.
Я почти дошла до поляны и побежала по траве к хижине. Ворвавшись внутрь, обыскала пыльное, погруженное во мрак помещение. Сердце у меня упало. В комнате было слишком тихо, слишком спокойно. Узкая кровать с продавленным матрасом, пустые полки, стол со стульями под окном… Ясно было, что здесь никто не появлялся с того дня, как я поднялась сюда по склону холма вместе с Дэнни. Выйдя на улицу, я окинула взглядом поляну. Она была пуста. С деревьев струилась вода, воздух был наэлектризован после грозы, но я не увидела ни следа пребывания здесь Бронвен.
По другую сторону разбитого у веранды садика я заметила земляной холмик. Подошла к нему. Трава была срезана, остро пахло свежей землей, а по сторонам холмика все еще бежали струйки воды.
Здесь что-то закопали.
Снова я подумала о винтовочном выстреле, который мы слышали, поставившем в ночи одиночный, жесткий акцент. А потом мне представилось, как Бронвен едет на велосипеде по темной дороге, обмотка руля впивается в хрупкие ладошки, волосы развеваются за спиной.
Упав на колени, я принялась разгребать влажную землю. Руки перепачкались, колени вязли в пропитанной водой земле. Я не могла унять панические сдавленные рыдания. Пальцы наткнулись на какое-то тело.
Податливое. Мягкое. Еще теплое.
Окинув взглядом неподвижное тельце, я поняла, что, наверное, сплю и не могу проснуться, привести в порядок мысли и понять, что же я вижу.
Шерсть.
Я глотнула воздуха, наполняя легкие, пытаясь разогнать туман в голове. Панические всхлипывания стихли, прекратились. Прилив жаркого, почти болезненного облегчения. Через некоторое время осколки мира собрались вокруг меня, начали складываться воедино.
В лунном свете лежала собака Клива. Она показалась мне большой и страшной в тот день, когда напала на меня среди чайных деревьев. Теперь же я видела, что это всего лишь джек-рассел-терьер, маленький, с коротким и толстым туловищем, безвольный и неподвижный, с заляпанной грязью белой шерстью.
Клив застрелил своего маленького товарища, возможно предчувствуя собственную гибель в овраге. А возможно, он сделал это, предупреждая меня. Вернулось чувство облегчения, но и страха тоже. Если он так поступил с верным четвероногим другом, что же он мог сделать с Бронвен?
Поднявшись на ноги, я обежала хижину снаружи, зовя Бронвен. Деревья вокруг скрывались за косыми струями дождя, дальние холмы тонули в серой дымке.
Резервуар для воды позади хижины переполнился. Вода, булькая, лилась по водоотводной трубе на перевернутую емкость на сорок четыре галлона.
«Думай. Ты должна думать», – приказала я себе.
Клив сказал, что она его страховка, что он поместил ее куда-то на «хранение». Солгал ли он, была ли она вообще в хижине? Боже, она может быть где угодно…
– Одри!..
Из-за деревьев появился человек и пошел через поляну ко мне. В своем оглушенном состоянии я ощутила немыслимый проблеск надежды. Но, конечно, это была не Бронвен. Сквозь серую завесу дождя я различала высокий рост человека, широкие плечи. Мужчина быстро приближался. Кто это? Клив? Неужели он выжил после падения в овраг?
Вытащив старый револьвер из-за пояса джинсов, я сжала его обеими руками и выкрикнула предупреждение:
– Стой! Не подходи ближе!
Он продолжал надвигаться.
Взведя курок, я прицелилась. Снова прокричала предупреждение, но мужчина не остановился, продолжал приближаться, и мое сердце, кажется, взрывалось при каждом его новом шаге.
Я снова закричала, когда его расплывающаяся тень на сумеречной поляне оказалась рядом со мной. Мой палец рефлекторно нажал на курок. Раздался оглушительный треск выстрела. Вспышка озарила широкое лицо в обрамлении буйно торчащих волос, полные губы и темные глаза, в шоке уставившиеся на меня.
Он метнулся в сторону, затем пропал из виду.
Я побежала за ним. Несясь вдоль стены хижины, я обыскивала взглядом открытое пространство, затем обратила внимание на веранду. Там никого не было. Я уже хотела развернуться, когда стальные руки схватили меня сзади. Я закинула голову, пытаясь вырваться, но тело пронзила свежая боль. Мужчина удивленно заворчал. Рывком отодвинул меня на расстояние вытянутой руки. Сжал мои пальцы, выкрутил из них револьвер и отшвырнул его подальше в грязь. Затем повернул меня лицом к себе.
Понадобилась целая вечность, чтобы у меня перестала кружиться голова. Еще одна вечность, чтобы осознать произошедшее. Вода, стекающая по его волосам, расширившиеся зеленые глаза, бледное, измученное лицо. Никогда раньше я не видела его злым. Сначала я подумала, что его злость относится ко мне. На лбу у него красовалась ссадина, струйка крови стекала по коже. Как в тумане, я поняла, что это моих рук дело.
Дэнни взял мое лицо в ладони и всмотрелся в него, затем привлек меня к себе и обнял. Я не подозревала, насколько замерзла, пока меня не окутал его жар. Жар, разрушивший чары моего ужаса. Я обняла Дэнни здоровой рукой и теснее прижалась к нему. У меня так давно этого не было, а моя потребность в утешении была такой огромной, что я льнула к нему, как маленькая девочка, чувствуя, как хрупкие стенки моей защитной оболочки наконец-то осыпались.
Мы оторвались друг от друга, но он стоял близко, касаясь кончиками пальцев моего опухшего лица, хмурясь на пропитавшуюся кровью повязку на плече, пожимая мои холодные пальцы.
– Я не могу найти Бронвен, – сказала я, стуча зубами.
«Сюда едет полиция», – показал он жестами.
– Как это?
«Луэлла дошла до Хоба. Они позвонили в полицию, потом мне».
– Возможно, мы уже опоздали.
«Нет, – сделал он резкий жест. – Мы ее найдем».
Дэнни взял меня за руку и повел к хижине. Я вспомнила, как мы были здесь в последний раз, наш неудачный поцелуй на каменистом плато, а затем как он показывал мне резервуар, устроенный в земле еще первыми поселенцами, где они с Тони…
– О боже, только не это.
Я побежала, шлепая по грязи, за дом, Дэнни следовал за мной. Подземный резервуар едва виднелся сквозь дождь. Его низкие деревянные стенки почернели от воды, и капли дождя плясали на круглой крышке, делая его похожим на полузатопленный деревянный бассейн на заднем дворе.
Я ухватилась за тяжелую дощатую крышку, но влажные пальцы безуспешно скользнули по треснувшему ободку. Вода выплескивалась из-под крышки уже некоторое время, судя по канавке, образовавшейся у основания резервуара. Это могло означать только то, что он полон до краев.
И Бронвен была там.
Я опоздала.
Рядом со мной Дэнни уже сдвигал тяжелую крышку и наконец сумел стащить ее с резервуара и откинуть в сторону.
Я уставилась вниз. Черная вода билась о внутреннюю стенку круглой ямы. Поднялся запах затхлой воды, и я наконец вскрикнула.
На поверхности воды виднелось запрокинутое лицо моей дочери, бледное и призрачное. Вода рябила у ее щек, молочно-белые волосы свободно колыхались вокруг головы. Казалось, она цепляется за стенку резервуара, но у нее было такое пепельно-серое лицо и она выглядела такой маленькой и неподвижной, что у меня замерло сердце. Все поплыло перед глазами, прежде чем я догадалась обратить внимание на то, дышит ли она, открыты ли у нее глаза. Она жива?..
Я прыгнула в резервуар, испытав в темноте шок от холода, наглотавшись темной воды, обхватила дочь и подтолкнула ее навстречу протянутым рукам Дэнни.
– Мам?..
Ее голос донесся из другого мира. Пронзительный и дрожащий, словно слабое призрачное эхо. Я попыталась ухватиться за него, поймать его нити, чтобы добраться по ним до Бронвен, отыскать ее в лабиринте тьмы, которая теперь окутывала меня.
Дэнни завернул Бронвен в свою рубашку, затем наклонился над резервуаром, схватил меня за руку и вытащил из воды. Я ощутила под собой твердую землю, почувствовала в своих руках дрожащее тело своей дочери.
– О мама!..
Бронвен содрогалась от рыданий, она была холодной как лед. Я прижала ее к себе, она обняла меня за шею и тоже приникла ко мне. Горячие слезы обожгли мне лицо, ее или мои – не знаю. Я только знала, что она здесь, со мной, дышит, живая, в безопасности.
– Ах, милая, прости меня, прости…
– Нет, мама. – Холодные губы шевельнулись около моей щеки, согрели теплым дыханием. – Это я должна просить прощения. Я не должна была говорить тебе те слова, не должна была убегать… – Она вдруг отстранилась, с расширившимися глазами коснулась моего виска ледяными пальцами. – Твое бедное лицо. Ох, мама, это все я виновата… Он сказал, что собирается с тобой разделаться.
Я схватила ее пальцы, попыталась согреть их своим дыханием.
– Ты не виновата, Бронни. Понимаешь? Это все никак с тобой не связано. Он был плохим человеком, больным, но его больше нет. Ты в безопасности, мы обе в безопасности.
Бронвен кивнула, погладила меня по макушке. Лицо у нее было в грязи, кое-где поцарапано, глаза как плошки, сапфировые радужки огромные, почти черные. Слезы катились по ее щекам. Капли дождя повисали на светлых ресницах.
– Я знаю, что он сделал, – прошептала она, прижимаясь губами к моему лицу. – Он сказал мне. Он убил папу, да?
Я похолодела, услышав, как буднично она говорит об этом, но дочь всегда была уравновешенной, как и Тони. Она опять заплакала, не отрывая взгляда от меня. Однажды я расскажу ей то, что узнала о Тони, и почему он почувствовал необходимость уйти из ее жизни. Но не сейчас. Это будет позже. Много позже. Вместо этого я крепко прижала ее к себе, даже не пытаясь словами остановить ее слезы, не пытаясь утешить. Пусть выплачется. Я молча обнимала дочь, пока она не успокоилась.
Наконец Бронвен вытерла глаза тыльной стороной ладони и обняла меня за плечи. Прильнув, поцеловала по-матерински в макушку – как я обычно целовала ее миллион лет назад, когда она была маленькой девочкой. Дочь изо всех сил обняла меня.
– У нас все будет хорошо, да, мама?
– Да, Брон, – пообещала я. – Все будет хорошо.
Оглянувшись через плечо, я увидела, что Дэнни с потемневшим от переживаний лицом поднял большой палец вверх, и кивнула. Я попыталась улыбнуться, но губы у меня дрожали. Слезы, собиравшиеся, кажется, целую вечность, наконец выкатились из глаз. «У нас все будет хорошо, – поняла я. – У нас все будет хорошо».
Я притянула дочь к себе и всего на один бесценный момент позволила себе поверить своим словам.
Глава 29
Айлиш, март 1946 года
Листья и небо. Только это я могла видеть. Я пыталась повернуть голову набок, но навалилась огромная тяжесть. Мне показалось, что я уснула. Но нет, мои глаза были открыты. А иначе как я могла видеть листья и небо?
Вокруг потрескивал, просыпаясь, буш. Было предрассветное время, пели цикады, а в какой-то далекой болотистой низине ворчали лягушки-быки.
Посмотрев в сторону, я увидела волну длинных волос. Моих волос. Почему-то от их вида у меня упало сердце. Волосы были спутаны, с приставшими листьями и комочками земли. Пряди свалялись из-за чего-то темного и липкого и издавали странный запах. Надо мной возвышался валун, его серые края были покрыты лишайником. Позади валуна изгибался каменистый край грунтовой дорожки. Рядом земля была укрыта тенью, местами блестевшей, как будто там разлили что-то жидкое.
Я снова попыталась шевельнуться. Ничего не вышло. Я лежала на спине, неудобно подогнув под себя руки и ноги. Голова покоилась на камне. Я чувствовала только пронизывающий до костей холод. Попыталась поежиться, но тело не откликнулось. Не то чтобы мне было неудобно. Скорее я ощущала себя разобранной по частям. Мне хотелось крикнуть, но даже если бы удалось хотя бы вздохнуть, знаю, никто меня не услышал бы…
Я ошиблась.
Приблизились шаги. Затем рядом со мной опустился на колени мужчина. Заскорузлыми пальцами он ощупал мое лицо, потрогал плечи, провел по рукам. Он прикоснулся ко всему моему телу, к каждому его дюйму. Я чувствовала исходивший от его ладоней жар.
– Айлиш, – произнес он.
Его лицо попало в поле зрения. Его любимое лицо. Он улыбался. Если бы я могла шевелить губами, то улыбнулась бы в ответ и умолила бы его взять меня на руки, прижать к себе, прогнать холод с помощью своего живого тепла.
Словно прочитав мои мысли, он поднял меня, как поднимают спящего ребенка. Затем наклонился и поцеловал меня, его губы были именно такими, какими я их запомнила, – теплыми и упругими, многообещающими. Я почувствовала покалывание на губах. Уголек мигнул и разгорелся; мое застывшее тело стало оживать, кровь быстрее побежала по венам.
Сэмюэл двинулся в путь, но вместо того, чтобы спуститься вниз с холма в сторону старого поместья своего отца, пошел в горку. По папоротниковой тропинке, между нависающими арками листьев орляка, огибая большие, покрытые лишайником валуны. По коридору из казуарин, влажные ветви которых кланялись и вздыхали на ветру. Вокруг нас собирались тени, а над нами переливались на солнце верхушки деревьев. Между листьями виднелись яркие круглые просветы голубого неба.
Листья и небо. Всегда листья и небо.
– Сэмюэл, – прошептала я, – куда мы идем?
– В наше тайное место, конечно.
Конечно.
Он снова поцеловал меня, вызвав новый прилив тепла. Затем, к моему радостному удивлению, он выпустил меня из объятий и поставил на ноги. Поначалу я немного пошатывалась на подкашивающихся ногах, как новорожденный жеребенок. Но когда Сэмюэл взял меня за руку и повел по тропинке, я приноровилась к нему и скоро уже поспевала за его широкими, уверенными шагами.
На ходу я упивалась пряным ароматом пижмы и эвкалипта, коры и мятых листьев, наслаждаясь более темными запахами земли, растительных соков и камня.
С каждым вздохом я набиралась сил.
Небо посветлело. Вдруг вспыхнул, словно приблизив небеса, рассвет. Теперь я слышала птиц, посылавших свои звонкие песни в голубое утро, хор хрустальных нот, возносившихся высоко и чисто, как небо.
Птицы-звонари, мои птицы-звонари, их голоса, как звезды, звали меня домой.
Глава 30
Одри, март 2006 года
Над двором лютеранской церкви занимался великолепный день. Пара изумрудно-серых широкоротов снялась с ветвей соседнего камедного дерева и промелькнули на фоне неба. Мне стало интересно, те ли это самые, которых я видела в тот день, когда пришла искать могилу Айлиш… И если так, то они, возможно, и не птицы вовсе, а стражи другого, скрытого мира.
Я передвинулась на скамейке, замерзнув в тени, несмотря на палящее солнце. Прошло три недели после той ночи в овраге. За этот короткий промежуток времени я постаралась отвлечься от событий, едва не лишивших меня дочери. Что оказалось нелегкой задачей, ведь осталось так много вопросов.
Сначала была полиция, потом – детективы. Затем, с большей настойчивостью, чем все следователи, вместе взятые, – средства массовой информации. «Кто он был?» – хотели они знать. Родственник, друг семьи? Почему похитил мою дочь и справляется ли она с последствиями этого события? Собираюсь ли я остаться в поместье после сурового испытания или продам его и уеду?
Я отвечала как могла. Воспоминания о той ночи были отрывочными и кошмарными. Снотворное держало эти грезы в узде, и мы с Бронвен решили просто оставить ту ночь в прошлом и сосредоточиться на лучших временах, которые, верили мы, ждут нас впереди. У нее это, казалось, получилось. У меня же… что ж, я знала – потребуется некоторое время, чтобы вспышки воспоминаний сделались менее частыми и наконец прекратились.
Обнаружение в овраге тела Клива, а также мой рассказ о том, что я узнала, ускорили судебную экспертизу останков, найденных в затопленном «Холдене» Клива Джермена. Тело принадлежало бродяге, числившемуся в Тувумбе пропавшим, – мужчине лет двадцати пяти, который был неоднократно судим за хранение наркотиков. По-видимому, он «бродяжил» в отдаленных горных районах национального парка, чтобы ухаживать за посадками марихуаны. Так он и встретился с Кливом. Физических повреждений на скелете не обнаружили, и полиция упомянула о вероятности смерти от удушения или отравления, но эта деталь – как и столько других теперь – была навсегда погребена в прошлом.
По темным уголкам оврага полиция собрала разлетевшиеся письма, которые я бросила туда во время своей схватки с Кливом. С них были сняты копии, а оригиналы вернули мне, хотя сержант позднее признал, что событий, о которых рассказывалось в письмах Айлиш, было бы недостаточно, чтобы по закону предъявить обвинение Кливу в каком-либо преступлении, – юный Клив мог стащить возможное орудие убийства, но это не означало, что он им воспользовался. А вот что окончательно решило для них дело, так это частичные отпечатки пальцев, снятые с винчестера, найденного рядом с телом Тони, – старой винтовки Герни Миллера, которую Клив достал из затопленного «Холдена», когда запихивал на водительское сиденье своего выращивавшего коноплю дублера. Отпечатки пальцев показали полное совпадение с отпечатками пальцев человека, чье безжизненное тело подняли со дна оврага, – человека, которого местный сержант лично опознал как Клива Джермена.
– Эй, подруга, что хмуришься?
Скамейка заскрипела, когда рядом со мной устроилась Кори. По соседству с моим букетом розовых и белых диких маргариток она положила огромную охапку гербер. Поцеловала меня в щеку и мягко пожала здоровую руку.
– Ты опоздала, – ответила я, до смешного радуясь ее появлению. Затем протянула ей листок бумаги.
– Что это? – воскликнула она. – Ты заразилась от Дэнни писанием записок? – Она поднесла ее к глазам, притворяясь, что с трудом разбирает мой мелкий почерк, и громко прочитала: – Кори и Элиза, пикник в Торнвуде, в субботу днем, колбаски из тофу обеспечены. – Она ткнула меня локтем в бок. – Ой, Одри, я рада, что ты решила остаться. Дэнни и Джейд просто настолько…
Она со вздохом мечтательно закатила глаза.
Я засмеялась и, схватившись за ребра, ругнулась, и это рассмешило Кори, и потом мы обе сидели и хихикали. Минуту спустя она посерьезнела.
– Так что же это за подарок для меня, про который ты говорила?
Достав из сумки два плоских свертка, я отдала их Кори.
Она развернула первый и нашла книгу «Волшебный пудинг» Нормана Линдси. С любопытством посмотрела на меня.
– В детстве я любила эту книгу. Как ты узнала?
– Разверни второй.
Внутри лежала другая книжка, поменьше, покоробившаяся и пострадавшая от воды. В ярких лучах солнца ее запачканная обложка с пушистым котенком и розовыми розами казалась пострадавшей от непогоды.
Улыбка Кори дрогнула.
– Что это?
– Дневник, – ответила я. – Я нашла его – или, скорее, нашла его Бронвен – в Торнвуде.
Явно заинтригованная, Кори переводила взгляд с меня на дневник и обратно. Затем расстегнула застежку, жадно пробежала глазами по аккуратным строчкам наклонного почерка, покрывавшим страницы.
– О-о-о, – проговорила она. – Ах, Одри.
Долгое время мы сидели в молчании. Над нами шумно болтали широкороты. Листья эвкалипта шелестели под нежным ветром, наполняя воздух пикантным зеленым ароматом. Кори рассматривала страницы, не читая – это будет потом, – а просто касаясь расплывшихся от воды строчек, изумленно качая головой. Из глаз текли слезы, но дрожащая улыбка не покидала ее губ.
Наконец она вздохнула, закрыла дневник и прижала его к груди.
– Спасибо тебе, Одри. Ты даже не представляешь, что это для меня значит.
– Мне кажется, представляю, – призналась я. – Некоторые фрагменты тебе будет тяжело читать, но, думаю, Гленда хотела бы, чтобы ты их прочитала.
Залитое слезами лицо Кори блестело. Она тыльной стороной запястья вытерла глаза и неловко обняла меня.
Донесшийся с церковного двора крик заставил нас обеих обернуться.
Луэлла принесла старинную дедовскую камеру-бокс «брауни» и позвала нас фотографироваться. Кори помахала, но мы еще посидели, с удовольствием наблюдая. Луэлла суетилась, пытаясь призвать Джейд и Бронвен к какой-то видимости порядка, чтобы она могла их сфотографировать. Девочки, по своему обыкновению, носились как угорелые – только на этот раз за ними гонялась свора резвых щенков келпи, которым, похоже, хотелось быть во всех местах сразу.
– Посмотри на них, – со смехом сказала Кори. – Уж Хоб-то найдет способ избавиться от лишних щенков. Попомни мои слова, мы можем забыть о спокойной жизни. Надеюсь, Луэлла понимает, во что ввязывается.
Я посмотрела через кладбищенский двор на бабушку Бронвен. Сегодня Луэлла согласилась позднее встретиться с Хобом. Ее лицо светилось, и, несмотря на еще не полностью сошедший синяк под глазом, она выглядела спокойной и красивой. Трудно поверить, что только вчера она прочла украденные письма своей матери. Одно время я думала, что правильнее будет не отдавать их ей, правильнее – защитить ее от правды. Но я вспомнила ее лицо в ту ночь, когда похитили Бронвен. Сначала шок, потом стальной блеск в глазах, когда она вложила мне в руку охотничий нож своего отца с тихими словами, очень похожими на приказ: «Сделайте что угодно, Одри. Только приведите ее домой невредимой».
Восторженный вопль снова привлек мое внимание к Бронвен и Джейд. Они наконец-то уселись плотной группой перед камерой, но только для того, чтобы тут же с криками вскочить, когда громадная бабочка опустилась на охапки роз, которые обе они держали.
Кори встала, по-прежнему прижимая к груди дневник.
– Идем, – сказала она, помогая мне подняться и беря наши букеты. – Чего они там одни веселятся?
Она была, разумеется, права.
В конце концов, день был роскошный. Небо – кобальтовый купол, солнце – восхитительно жаркое, а утро наполнено обещанием.
Было воскресенье, и все мы принесли цветы для Айлиш.
* * *
Позднее, сидя в своей тихой солнечной студии, я позвонила Кэрол. Она следила за событиями по теленовостям и газетам, и полиция уведомила ее о продолжающемся расследовании обстоятельств смерти Тони. Поскольку средства массовой информации раздули из этих событий невесть что, я подумала, она имеет право узнать простую правду.
Я рассказала, как обнаружила дневник Гленды и как он помог мне узнать правду о ее убийстве. И как, в свою очередь, это помогло мне узнать, что на самом деле случилось с Тони.
Когда я закончила, она тихо плакала.
– Спасибо тебе, Одри, – проговорила она сквозь слезы. – Тони был прав насчет тебя.
– Что ты имеешь в виду?
– Он часто говорил: «Одри – девушка одна на миллион». Теперь я понимаю почему.
Мы повесили трубки, и я сидела в тишине. Старый дом потрескивал. Снаружи две сороки затейливо стрекотали дуэтом. Какое-то время я сидела как в ступоре, охваченная печалью Кэрол и своей. Потом мысли успокоились. Меня охватило чувство облегчения, теплое и успокаивающее, как вода в ванне. Я закрыла глаза, и передо мной предстала красивая молодая женщина, которую я видела на том краю оврага. Теперь она улыбалась. Предвечернее солнце блестело на ее волосах, золотило кожу. Потом она повернулась и скользнула между деревьями, быстро исчезая в сиянии света.
Эпилог
Мир спит, небо совсем темное. Окно в моей спальне открыто, шторы отдернуты. Теплый ночной воздух льется в комнату, принося пикантный душистый запах листьев эвкалипта и роз. На много миль вокруг нет никаких соседей, никто не подглядывает за нами, кроме поссумов и птиц.
Скоро солнце прогонит ночь. Пробуждение от прозрачных предрассветных лучей – от первого проблеска зари, как выражалась Айлиш, – стало одним из любимейших удовольствий.
Самое же любимое – слушать, как рядом со мной спит мужчина.
Я протягиваю руку, и он здесь. Большой и теплый, абсолютно настоящий. У меня начинает вырабатываться привычка засыпать под звук его ритмичного дыхания, под охраной его объятий или плотно прижавшись к его теплой спине. И когда сон наконец приходит, я осторожно, на цыпочках пробираюсь сквозь свои грезы.
Молча, чтобы не потревожить умерших.
Он снова разговаривал со мной прошлой ночью. Одно слово, произнесенное так тихо, что я едва не пропустила его.
– Любимая, – сказал он, а затем его пальцы переплелись с моими, он потянул меня к себе, его руки крепко обняли меня. Голос у него грубоватый, неторопливый, приятно хриплый. Скрипучий, как утверждает он, из-за целой жизни молчания. Я считаю, что если он собирался за всю жизнь сказать только одно слово, то выбрал верное.
Признательность
Написание романа никогда не является трудом одиночки, и мне бы хотелось тепло поблагодарить людей, чье участие сделало возможным появление этой книги.
Моего агента Селву Энтони – за ее ценный вклад в саму историю и литературные советы, а также за стойкую веру в меня на протяжении многих лет. Селва, ты дорогой друг и пример – спасибо тебе от всего сердца!
Моего издателя Ларису Эдвардс – за ее преданность и упорную работу, и потрясающую команду издательства «Саймон энд Шустер». Моих талантливых редакторов, проницательность которых помогла мне совершенствоваться как писателю: Селену Хэнет-Хатчинс, Дрю Кейс, Кейт О’Доннелл и Роберту Айверс.
Рассела Тейлора – за то, что является для меня опорой, и за его любовь, веру и поддержку в течение многих лет. Сару Кларк, Меррилин Грей и Джулиана Дэвиса – за слова ободрения. Дэна Митчелла – за предоставленный мне дом в буше и за его любовь, дружбу и продолжающееся вдохновение. Бет и Норма Митчеллов – за их доброту и гостеприимство и за то, что позволили мне познакомиться с чудесными военными мемуарами Норма.
Иена Ирвина – за то, что был источником литературных знаний и здравого смысла; Джозефину Пеннисотт – за то, что взяла меня под свое крыло; Меган Инвуд – за позволение позаимствовать имя ее дочери; Стюарта Ратвена – за то, что помог разобраться с местностью вокруг Буны; и Хейли и Льюка – за напоминание о том, что истории (и жизнь) должны приносить удовольствие!
Моей маме Джинетт – за воспитание во мне любви к книгам и за ее мудрость и неизменную веру в меня; моему папе Берни – за жизнь, полную памятных историй и рассказов; моей сестре Кейти – за ее бесчисленные маски (чтобы удалить морщинки, появившиеся из-за того, что она меня смешила!); и моей сестре Саре, которая всегда была моим самым преданным поклонником – даже когда успех казался далекой и несбыточной мечтой.
Моя любовь и благодарность всем вам.
Анна РомерСноски
1
Книга пророка Исаии, 29:4.
(обратно)2
Буш (от англ. bush – кустарник) – неосвоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником.
(обратно)3
Фланелет – бумажная ткань с ворсом, сходная с фланелью.
(обратно)4
Жеода – округлое или овальное геологическое образование с твердой корой и полостью, заполненной кристаллическими минералами.
(обратно)5
Килим – тканый безворсовый двусторонний ковер ручной работы.
(обратно)6
Поссумы – животные из семейства сумчатых млекопитающих, обитающие в Австралии, Новой Гвинее, на Тасмании и др. Название получили за сходство с американскими опоссумами.
(обратно)7
Как слово «ресница» по-английски.
(обратно)8
Приключения Алисы в стране чудес. Пер. Н. Демуровой.
(обратно)9
Речь идет о стуле, спроектированном американскими дизайнерами мебели супругами Рэем (1912–1988) и Чарлзом Имз (1907–1978).
(обратно)10
Пикули – смесь консервированных мелких овощей: чеснока, огурцов, моркови и т. д.
(обратно)11
Чатни – традиционные индийские соусы.
(обратно)12
Скваттер (сквоттер) – человек, вселившийся незаконно в незанятый дом или поселившийся неправомочно на незанятой земле.
(обратно)13
Лимб – в католицизме место пребывания не попавших в рай душ, не совпадающее с адом или чистилищем.
(обратно)


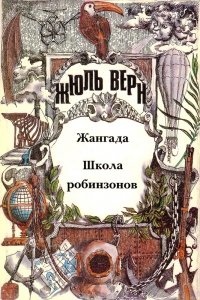

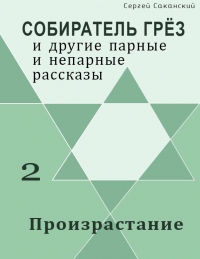
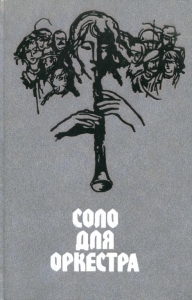

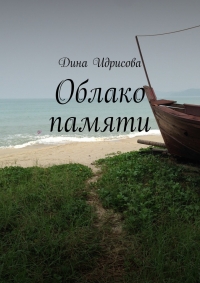


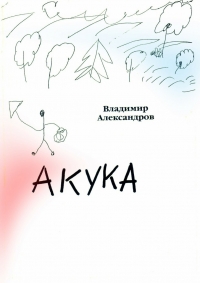
Комментарии к книге «Тайны Торнвуда», Анна Ромер
Всего 0 комментариев