Нова Рен Сума Стены вокруг нас
Nova Ren Suma
The Walls Around Us
© Бабурова Г., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление, ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Девочке, которая прячет дневник. Девочке, уверенной, что ничего не стоит.
Снова и всегда. Для Э.Часть I. Субботняя ночь
Они не боятся того, что мы убежим. Нам далеко не уйти. Они боятся, что, доведенные до отчаяния, мы найдем другой выход.
Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»Эмбер. Мы все сошли с ума
Мы все сошли с ума той душной ночью: бушевали, неистовствовали, кричали. Обычные девочки, лет по тринадцать-четырнадцать, самой старшей из нас исполнилось семнадцать. Мы совершенно обезумели, обнаружив, что двери камер не заперты, а охрана куда-то исчезла. Мы завывали, как дикие звери, сея вокруг хаос и разрушение.
Мы высыпали в коридоры и оказались в душном тесном сумраке. Мы отринули навязанные нам цвета – для большинства зеленые, для тех, кто под особым наблюдением – желтые, а для тех бедолаг, что недавно попали сюда, – оранжевые. Да, мы отшвырнули комбинезоны и обнажили жуткие, корявые рисунки, вытатуированные на наших телах.
Снаружи донеслись раскаты грома. Первый и второй корпуса были уже в нашей власти. Когда полыхнули молнии, мы захватили третий и даже попытались взять штурмом четвертый – тот, где в одиночных камерах томились суицидницы.
Мы полыхнули, как бензин, в который бросили спичку. Оскаленные зубы. Сжатые кулаки. Громокипящий топот босых ног. Да, мы сошли с ума. А кто бы не сошел?
Я лишь пытаюсь понять. Мы совершили ужасные преступления, за которые нас осудили и упекли сюда. Многие из нас не раскаивались. Некоторые продолжали твердить, что не виноваты (клялись матерью, если была мать, любимой зверюшкой, если была кошечка или собачка, клялись своей жалкой жизнью, если, кроме нее, ничего больше не было). После бесчисленных дней, проведенных за решеткой, наконец-то свобода! Свобода, свобода!
Кое-кого из нас она страшила.
В первую субботнюю ночь того нынче проклятого августа в тюрьме «Аврора-Хиллз» на северной окраине штата, где содержались малолетние преступницы, из камер вырвались узницы – сорок одна. Сорок второй еще не было.
Как мы удивились, с каким недоверчивым восхищением озирались кругом, когда поняли, что камеры во всех четырех корпусах, даже в четвертом, не заперты. Наши сердца глухо стучали в темноте. Камеры не заперты. Мы свободны.
Мы осмотрели посты охраны. Никого.
Мы глянули в конец коридора. Железные ворота распахнуты настежь.
Перевели взгляд под потолок. Ни одна из лампочек не горела.
Мы выглянули наружу сквозь зарешеченные окна, но разглядеть что-либо было почти невозможно. Снаружи бушевала гроза. Ах, если бы мы могли увидеть, что творится там, за огороженным периметром, за тремя заборами, оплетенными колючей проволокой. За вышкой для охраны. За крутой дорогой, спускавшейся вниз по холму и упиравшейся в железные ворота. Мы вспомнили – воспоминание из прошлой жизни, с тех времен, когда нас привезли сюда из окружной тюрьмы на синем мини-автобусе, – мы вспомнили, что совсем рядом проходит шоссе.
Внезапная, как удар, мысль. Сколько у нас времени? Рано или поздно охранники вернутся. Что делать нам с обретенной свободой? Стоит ли насторожиться?
Мы не насторожились. Не задались вопросом, почему замки на дверях не заперты. Не замедлили шаг, удивляясь, почему не мигают лампочки сигнализации, почему не вопит сирена. И не задумались о том, куда делись охранники, дежурившие в ночную смену, и почему они оставили посты.
Мы разбрелись. Рассыпались. Барьеры, что удерживали нас все это время, рухнули.
Ночь взорвалась вспышкой бунта. Мы не знали, кто был зачинщиком, да и какая разница. Повсюду слышались крики, вопли и завывания. Малолетние преступницы числом сорок одна, самые опасные во всем штате, ни с того ни с сего вырвались на свободу, и не было ни решеток, ни охраны, чтобы нас усмирить. Невероятная, мощная вспышка. Как будто у нас в руках вдруг оказался трезубец, высекающий молнии.
Некоторые бездумно сеяли разрушение – били стекла в торговых автоматах в столовой, потрошили шкафчик с таблетками в медкабинете. У других чесались кулаки, они жаждали драки – неважно, с кем. Третьим просто-напросто хотелось постоять снаружи под темным капюшоном, укрывшим небо, почувствовать на лице капли дождя.
Однако те из нас, у кого сохранились крупицы здравого смысла, притормозили. Задумались. Теперь, когда не было ни охраны, ни сигнализации – ничего, что могло бы нас остановить, – ночь принадлежала нам. Впервые за долгое время. Недели. Месяцы. Годы.
Что делать девочке с первой за долгие годы свободной ночью?
Наиболее склонные к насилию – убившие отца, полоснувшие ножом по горлу случайного прохожего, застрелившие умолявшего о пощаде сотрудника газовой компании – позже признавались, что в сгустившейся тьме они обрели чувство покоя и справедливого возмездия, которого не сыщешь в судах по делам несовершеннолетних.
Были среди нас и те, кто знал: мы не заслужили этого глотка свободы. Если просветить рентгеном наши душонки, станет ясно – несправедливо осужденных здесь нет. Оставшись лицом к лицу с этой неприятной истиной, мы почувствовали себя хуже, чем в день оглашения приговора, когда все присутствующие в зале суда возликовали.
Вот почему некоторые отступили. Остались в камерах, где хранились наши рисунки и любовные письма, а еще единственная годная расческа и баночки с арахисовым маслом, которые в «Авроре» ценились на вес золота, ведь настоящих денег нам не давали. Да, были те, кто предпочел известное неизвестному. Что ожидало нас снаружи? Кто позаботится о нас? Кто сохранит?
Куда податься девочке, которая напугала всех – учителей, адвокатов, соцработников, – всех, кто пытался помочь? Девочке, которая держала в страхе всю округу? Девочке, от которой отказалась семья? Которой писали из дома, что предпочли бы вовсе забыть о ней. Куда ей идти?
Многие пытались бежать, следуя лишь инстинкту. Бежали во весь дух. Бежали, потому что могли. Потому что не могли не бежать. Бежали не на жизнь, а на смерть. Мы все еще полагали, что наша жизнь стоит того, чтобы ее спасать.
Многие далеко не ушли. Надломились. Встали посреди коридора в чужом корпусе, где им находиться не полагалось. Рухнули на колени на стертый, покрытый трещинами пол.
В жизнь воплотились все наши безумные фантазии. То, о чем мы едва отваживались мечтать, глядя наружу через решетки на окнах. Волшебная палочка, дарящая способность проходить сквозь стены, косы Рапунцель, сброшенные в окно, по которым можно выбраться из неволи. Мольбы о прощении, снисхождении, о новой хорошей жизни на берегу молочной реки с кисельными берегами, где никогда больше нам не придется столкнуться с законом, с ненавистью и болью. Все это случилось на самом деле. С нами.
Некоторые плакали.
Полная свобода, делай, что хочешь. Нас переполняли разные желания: выйти голосовать на ближайшую автостраду, позвонить старому приятелю и переспать с ним, отправиться в ресторан, выспаться на огромной чистой постели под пуховым одеялом.
Тот август – третье лето, что я проводила в «Авроре». Когда я попала сюда, мне едва исполнилось четырнадцать (непредумышленное убийство; я не признала вину; на суд я надела юбку с колготками; когда вынесли приговор, мать отвернулась). Но теперь, когда у нас есть время посидеть и поразмыслить обо всем, я думаю не о том, как попала сюда. Не о судебном вердикте, не о количестве лет, что мне предстояло здесь провести, не о том, как меня привезли сюда, потому что никто не поверил моим словам, когда я твердила, что не виновата. Обо всем об этом я перестала думать давным-давно. Теперь я постоянно возвращаюсь мыслями к той ночи. К той первой субботе августа, когда рухнули все препоны. К тому глоточку свободы, к воспоминанию, которое мы унесли с собой в могилу.
Иногда я думаю о том, что случилось бы, сделай я все иначе. Если бы я попыталась вырваться наружу. Если бы я побежала.
Может, мне удалось бы перебраться через три забора, оплетенных колючей проволокой, и спуститься вниз по холму к шоссе, и мне не пришлось бы рассказывать эту историю – кто-то другой рассказал бы. Кто-то другой попытался бы все вспомнить.
Потому что той ночью все мы сошли с ума. У меня в памяти отпечаталось навсегда, как мы кричали и дрались, бросались на окна и били все, что под руку попадало, как мы бежали, бежали изо всех сил, бежали, сколько могли… Впрочем, далеко мы не убежали.
Той ночью нас обуревали чувства, которых мы не испытывали уже полгода, год, одиннадцать с половиной недель, девять сотен и девять дней.
Мы почувствовали, что живы. Так и запомню. Мы все еще были живы. Кромешная тьма скрывала истину, и мы не знали, как близко подобрались к самому краю.
Вайолет. Зал рукоплещет
Я проскальзываю за кулисы. Включайте прожекторы, скоро мне выходить.
Последний танец, затем я покину город. Последний шанс, чтобы меня запомнили. Они запомнят, уж я постараюсь.
Стоит мне ступить на сцену, и все глаза устремляются на меня. Я впитываю энергию, которую дарят зрители, а они, в свою очередь, купаются в моей.
Как только я схожу со сцены, зрители превращаются для меня в ничто, в безликую серую массу. Я ненавижу их всех – кого-то больше, кого-то меньше. Но не на сцене. Не посреди танца. Когда они смотрят на меня во все глаза, когда я позволяю им смотреть. Во мне столько любви, словно я это не я, а кто-то другой.
После субботнего спектакля я соберу чемоданы и уеду в Нью-Йорк. Я поступила в Джульярд[1]. Школу я закончила два месяца назад. На прошлой неделе продала машину. В Джульярде мне дали комнату в общежитии. Соседкой будет танцовщица контемпорари[2], кажется, из Оклахомы. Я уже сложила в чемодан пуанты, рассортировала их по цвету. Ноги у меня сильные, так что я убиваю пару за десять дней. Считаю дни до отъезда, как будто отбываю тюремный срок и жду, что в августе меня выпустят.
Нельзя так говорить. И думать. После того, что с ней случилось. Ее отправили в «Аврору-Хиллз», а это самая настоящая тюрьма – на заборах колючая проволока, а на окнах решетки, пусть это место и называют воспитательной колонией – наверное, потому, что там содержат несовершеннолетних. Все девочки должны носить жуткие оранжевые комбинезоны, которые висят на них мешком. Я видела по телевизору.
В августе ее и увезли. В начале августа. Прошло почти три года.
Мне бы надо оставаться за кулисами, ведь мое соло идет вторым номером после антракта, но я натягиваю носки поверх пуантов и выбегаю на улицу через служебный вход, словно у меня в руках бомба с подожженным фитилем, от которой следует немедленно избавиться.
За мусорным контейнером туннель; старшие прозвали его курилкой. Вообще-то это не туннель, просто укромный закуток между плотно сросшимися деревьями. Их ветви тесно переплелись, образуя навес. С дальней стороны – колючий густой кустарник, так что света в конце туннеля не видно.
В августе внутри все зелено и кишмя кишит комарами и мухами. После разыгравшейся здесь трагедии логично ожидать, что деревья постригут и установят скамейку с мемориальной доской в память о погибших девушках или какой-нибудь фонтан, но похоже, людям не хочется вспоминать о том, что случилось.
Внутрь я не пробираюсь, однако и не ухожу. Бросаю взгляд на дверь служебного входа.
Если кто-нибудь заметит кирпич, которым я подперла дверь, скажу, что вышла подышать воздухом. Может, все солисты балета выбегают перед выступлением на улицу, откуда им знать.
Но дело не в свежем воздухе. Мне нужно разобраться с собой.
В курилке пусто. Никаких тебе тощих гадин, скрючившихся под паутиной веток, так что снаружи видны только ноги в гетрах. Никакого мерзкого хихиканья. Никакого дыма. Никаких искр, летящих от затушенных окурков. Ничего. Никого.
Не знаю, с чего я взяла, что кто-то там должен быть. Почему я все время ищу ее глазами, почему вздрагиваю от каждой тени.
С наступлением августа Орианна Сперлинг неотвязно меня преследует. Мне все время кажется, что она вернулась.
Ори. Это я ее так прозвала.
Но в курилке ее нет. И нет нигде. И быть не может.
Пора на сцену. Огибаю мусорный контейнер. Дверь служебного хода дрогнула и со скрипом стала закрываться. Кто-то убрал кирпич!.. Не выйдет. Пулей лечу, рассекая пространство и время – совсем как во время танца, успеваю схватиться за ручку, проскальзываю внутрь. Если они надеются, что я пропущу свой выход, то совершенно зря.
Я снова за кулисами, я готова. Не знаю, кто именно хотел подложить мне свинью, все молча отводят глаза. Их не хватает даже на то, чтобы пожелать мне ни пуха ни пера. Значит, все они заодно. Все до единого.
Я слышу, как перешептываются зрители, рассаживаясь по местам после антракта. А эти за кулисами дождаться не могут, когда я выбегу на сцену. Им не терпится от меня избавиться.
Что ж, не буду томить. Пусть изойдутся от зависти. Скоро мой выход.
Занавес поднимается. Звучит знакомая музыка. Размытые, нечеткие движения танцоров. Кроме меня, тут смотреть не на кого.
Сквозь прореху в кулисе видны первые ряды. Хотя мисс Уиллоу арендует этот зал для выпускного концерта каждый год, я все равно постоянно забываю, какой он большой, как много людей вмещает. Вижу маму и папу. Тетю. Двоюродных братьев-сестер. Скорее всего, их притащили родители, но мне все равно. Мамины подружки заняли целый ряд. Мои наставницы – та, которую родители уволили, когда меня не взяли на летний интенсив, и новая, что пришла ей на смену. Томми, мой бойфренд, зевает и смотрит в телефон, наверняка уткнулся в какую-то игрушку. Девочки из старшей группы убежали из-за кулис посмотреть на мое выступление. Они ютятся на откидных стульчиках возле прохода, чтобы рвануть с места, как только танец закончится. Вон Сарабет, она сидит одна. В другом ряду Рената, Иванна и обе Челси. Есть и другие знакомые лица. Славная продавщица из цветочного магазина, носатый бариста из кофейни. Школьный математик. Почтальон – этот пришел потому, что его дочка занимается в младшей группе. Сегодня она танцует в роли тюльпана. Однако большинство зрителей пришли ради меня. Не сомневаюсь.
В партере и на балконах полно незнакомцев. Раньше я никогда не выступала перед таким скопищем людей. Даже когда судили Ори, в зале народу было поменьше. Музыка замирает. Кобыла Бьянка, резво перебирая копытцами, скачет со сцены мимо меня. Ей бы ни за что не дали соло, но ведь она выпускница. После окончания собирается в Государственный университет Нью-Йорка. Ничего общего с балетом. Эта дура желает мне удачи. Вот уж спасибо, удружила. Знает ведь прекрасно, что нельзя такое под руку говорить, тем более перед самым выходом.
– Удачи, Ви!
Ви. Так меня прозвала Ори.
Свет в зале гаснет, и я не успеваю проверить, не потекла ли из носа кровь. Ори, будь она здесь, сидела бы в самом последнем ряду и смотрела на меня сверху вниз.
Но ее здесь нет. И быть не может. Она умерла. Она мертва уже три года.
Из-за того, что случилось тогда в туннеле-курилке позади театра. Из-за того, что ее отправили в тюрьму и заперли вместе с ужасными монстрами. А посадили ее из-за меня.
Нет, если бы Ори была жива, то не сидела бы среди публики. Она бы стояла рядом со мной за кулисами в таком же костюме.
Мы вместе выглядывали бы из-за кулис, готовились к выходу. Наверняка она попросила бы преподавателей дать нам дуэт, ведь нам предстояло последнее выступление перед тем, как разъехаться по колледжам.
Я бы трепетала от волнения, а она схватила бы меня за плечи – Ори повыше меня, и руки у нее тонкие, тоньше моих, но сильные – встряхнула как следует и прошептала: «Дыши, Ви, дыши глубже».
Ей самой подобные тревоги были чужды. Ори не стремилась, как я, станцевать безупречно. Стояла бы спокойно, скорее всего, улыбалась бы. Отвесила бы комплимент этой кобыле Бьянке, пусть она топотала копытами так, что пыль столбом стояла. Да, Ори всем подряд желала бы ни пуха ни пера, даже самым отъявленным стервам, причем совершенно искренне, не то, что я.
Она наверняка отговаривала бы меня от того белого костюма, что сейчас на мне, – простая белая пачка, белые колготки, скромный белый цветок в волосах. Ори любила яркие цвета. Вечно одевалась как попугай. На занятия она приходила в разноцветных гетрах – одна синяя, другая красная, – натянутых поверх розового трико, в фиолетовом купальнике, из-под которого торчали лямки сиреневого лифчика, поверх купальника – зеленая кофта, на голове повязка, желтая в черный горошек. Как по мне – ужасно нелепый вид. Даже не знаю, почему мисс Уиллоу разрешала ей так выряжаться. Но как только Ори начинала танцевать, и гетры, и попугайская одежка теряли всякое значение. От нее нельзя было оторвать глаз.
Она танцевала так естественно и так непринужденно, будто ей это давалось легче легкого. У нее не сводило нутро. Она не боялась забыть все шаги. Станцевать, как она, невозможно. Сколько я ни старалась, сколько ни повторяла ее движения перед зеркалом – все напрасно.
В ней была искра. Я никогда не видела ничего подобного. И, думается мне, вряд ли увижу.
Если бы мы танцевали в паре, все зрители не сводили бы глаз с нее, восхищались ею, кидали бы ей букеты. Она бы затмила меня, отодвинула на второй план.
Да, все было бы иначе.
Я выбегаю на сцену, цокот пуантов по деревянной сцене эхом отдается в ушах. Во мне звучит голос Ори. Она напутствует меня.
«Дыши глубже, Ви. Соберись. Ты им покажешь».
Она все время твердила что-то подобное.
Темнота резко взмывает ввысь, и я лечу вместе с ней. Вытягиваюсь, совсем как Ори, она ведь была выше всего на пару дюймов. Может, я теперь даже выше нее. Она умерла, а я выросла. Балансирую на одной ноге на кончиках пальцев. Внутри ни дрожи, ни трепета. На меня направлен луч прожектора. Ощущаю исходящее от него тепло. Становится жарко.
Интересно, как я смотрюсь из зала. Что думают обо мне, что испытывают те незнакомцы, которые видят меня на сцене, понятия не имея, кто я такая.
Впрочем, я и так скажу. Даже без зеркала. Я рождена для сцены. На мне новые пуанты. Сегодня утром сунула их по одному в дверную щель и разбила, чтобы только носок оставался твердым. Мама пришила к ним ленты тонкими, почти невидимыми стежками. Мои волосы собраны в тугой пучок, намертво заколоты шпильками. Пачка топорщится вокруг талии. Ткань с виду мягкая и воздушная, но на самом деле о складки можно порезаться. Я с ног до головы одета в белое. Так мне захотелось.
Зрители захвачены танцем. Моим танцем, не танцем Ори. Они неотрывно следят за взмахами ног, за плавными движениями рук, изящным поворотом головы. Я удерживаю вес, стоя на пальцах одной ноги. Из-за кулис на меня жадно таращится дюжина соперниц. Как же им хочется, чтобы я упала!.. Не упаду.
Музыка нарастает. Малейшее из движений я репетировала перед зеркалом часами. Пусть у меня все получается не так легко и беззаботно, как вышло бы у Ори, но каждое из па отточено до совершенства, и это впечатляет. Я не допускаю ни единой ошибки. В зале не слышно, как постукивают пуанты, соприкасаясь с полом после каждого стремительного пируэта. Пусть это останется тайной артистки. Зрителям нужен безупречный танец.
Глубоко под кожей у меня запрятана другая тайна. Кое-что, о чем я никому не расскажу. О чем знала только Ори. Внутри меня скрыто уродство. Выцарапанные глаза и кровь, заливающая ее шею, ее руки, ее лицо. Порой мне кажется, что и у меня на лице кровь. Слышен стук – но то стучат не мои девственные пуанты, касающиеся сцены впервые за свою короткую жизнь. У меня в голове звуки бегства.
Со стороны кажется, что я танцую. На самом деле я далеко отсюда. Я стою в том туннеле под деревьями, кричу и размахиваю руками. Грязь, грязь повсюду. Камни, ветки, листья и слепота. Весь мир, как стиснутые челюсти, скукоживается до темного комка.
И вдруг я понимаю, что мой танец близится к концу. Не знаю, как, но я оканчиваю соло. Замираю на одной ноге – твердо, надежно, как скала.
И тишина.
Ни звука, ни движения. Я слышу шорох дыхания зрителей.
Наконец. Скрипят сиденья. Зрители поднимаются на ноги. Я все выдала, да, нечаянно выдала свою тайну?.. И только спустя пару секунд я понимаю: они ничего не знают. Я им показала – а они не в состоянии понять. Они начинают аплодировать. Все эти люди – семья, друзья, незнакомцы… Громче и громче, как будто хотят, чтобы я навечно осталась на этой сцене и в этом городе. Они говорят мне, что любят меня. Всегда любили. Вы же не знаете, кто я такая!..
Надо же, зал рукоплещет.
Часть II. Заключенная № 91188-38
Мы все играли странные, трагические роли. Мы были всего-навсего жалкими статистами, изображавшими матерых преступников. Но все же играли мы хорошо.
Хизер О’Нил«Колыбельные для маленьких преступников»Эмбер. Больше незачем
Больше незачем мечтать. Минула полночь. Наши мечты осуществились. Прежде каждую ночь мы лежали в постели, едва дыша, и представляли, что вот-вот случится чудо – охранник сжалится и выпустит нас. И вот мы на свободе.
Разве хоть кто-то из нас мог представить, чем все обернется? Конечно же, нет. Ни в ту ночь, ни тем более в первый день заключения, когда вновь прибывшая выходила из синего автобуса и видела эти серые стены.
Хотя все было предопределено уже тогда. Каждую из нас принимали одинаково: раздевали, обыскивали, мыли и обряжали в оранжевый комбинезон. Затем фотографировали, заковывали в наручники и оставляли у стены дожидаться распределения, пока решали, в какой из корпусов отправить. Они заставляли пройти тестирование на склонность вступать в банды (у меня нулевая), высчитывали уровень угрозы для населения в случае побега (у меня умеренный). За считаные секунды решали, склонны мы к самоубийству или нет. От этого зависело, позволят ли брать очки из класса в камеру, спать с выключенным светом и носить лифчик (мне разрешили оставить очки и выдали два одинаковых унылых серых лифчика). Затем нас отводили в камеру, расстегивали наручники и наконец оставляли. Когда впервые за нами захлопнулась дверь, захлопнулась с безнадежным лязгом – вот и все, с нами покончено, – мы и подумать не могли, что все перевернется с ног на голову, замки откроются, даруя нам свободу.
Каждый вечер мы укладывались на тесные койки. Мы проводили в них ночь за ночью. Те из нас, кто в силах был уснуть, спали, погружаясь в бездумную тьму. Те, кто не мог, просто лежали, не двигаясь. Мы вели себя хорошо, и наступила очередная ночь.
Некоторые точно запомнили, что на календаре была суббота, первая суббота августа. Прочие – например, Лиан (ее обвинили в непреднамеренном убийстве, как и меня, хотя она застрелила жертву из пистолета; до конца срока ей оставалось всего девяносто девять дней, а мне бесконечно больше) – подсчитывали время. Да, такие, как Лиан, считали каждый час, оставляя зарубки на стене за койкой или на собственном теле – где-нибудь в неприметном месте, скрытом от глаз охранников под колючим казенным бельем. Одни зарубки говорят, что прошло два месяца, другие – что два года.
Были среди нас и те, кто не желал следить за временем. Их время текло, подобно поездам, отбывающим в неведомую страну, где нам не доведется побывать. Мы воображали, будто недели равны дням, а годы – неделям. Будто нам предстоит еще жить на свободе, видеть солнечный свет.
Аннемари (преднамеренное убийство, зарезала жертву поварским ножом; как только ей исполнится восемнадцать, ее должны были отправить в колонию для взрослых, и остаток срока ей пришлось бы отбывать со взрослыми преступниками) держали в четвертом корпусе для суицидниц. Для крошечной – ростом едва мне по плечо – Аннемари с наивным детским личиком время закончится вместе с переводом во взрослую тюрьму. Она считала те ночи, что ей оставались здесь, и от этих подсчетов поседела.
У некоторых сроки были не столь огромными, и все же зрело ощущение, что у нас крадут часы свободы, как осень крадет листья с деревьев. Крошка Ти из третьего корпуса (нападение на одноклассницу во дворе школы; Ти говорила, что девица сама напросилась) вся извелась, хотя ей оставался лишь месяц. Она всегда была взбалмошной, а в ту ночь просто обезумела. В ее камере протекала крыша. С потолка сочилась вода. Значит, снаружи шел дождь.
Мы до хрипоты спорили о событиях той ночи – уже потом, когда у нас не осталось ничего, одни воспоминания. Некоторые не соглашались даже с тем, что дело было в августе. Календари потеряли значение и никак не могли нам помочь. Аннемари говорила, что был июль, Лиан утверждала, что сентябрь. А Крошка Ти запомнила только, что шел дождь.
Все мы сходились на том, что было темно и душно. Замки отворились глубокой, насквозь пропотевшей ночью в самом зените невыносимого, тошнотворного лета.
Серую каменную глыбу, в которой нас заперли, построили больше века назад. Она стояла так далеко на севере страны, что тень от нее ложилась на чужую землю. Как и в любой тюрьме, в «Авроре» было полно закутков и укромных мест, о которых знали только мы. Мы разведали, как расположены вентиляционные шахты; если приложить к решетке ухо и говорить тихим низким голосом, можно было узнать из первого корпуса, как обстоят дела в третьем. Мы вычислили, что коридорчик, ведущий в столярную мастерскую, недоступен для видеокамер; если одной из нас вдруг захочется перерезать другой глотку или прижать к стене и сунуть в рот язык в склизком поцелуе – лучшего места не найти.
Мы выведали кучу маленьких секретов. Если запрокинуть голову у противопожарного датчика во втором корпусе в снегопад, на лицо будут падать снежинки. А если закрыть глаза, поедая то, что в нашей столовой называли мясной запеканкой, то просто так, без всякого праздника, можно ощутить вкус шоколадного торта из детства, испеченного бабушкой, которой давным-давно нет на свете. К любому месту привыкаешь, начинаешь считать его своим домом. Многих из нас роднил страх, который мы постоянно испытывали в той, прежней, жизни. Оттуда хотелось сбежать, покинуть тонущий корабль, да поскорее. Говорят, дом там, где сердце. Не только. Дом там, где тоска, где отчаяние и безнадежность. Да, в тюрьме мы чувствовали себя совсем как дома.
Нас распределили по четырем корпусам, камеры в которых были расположены в два яруса по периметру. Из своей клетки нам было видно только камеру напротив. Наши голоса отдавались эхом в гулком холле на первом этаже. Там мы проводили время после занятий, отмучившись положенный срок над древними истрепанными учебниками. В холле мы играли в карты и, безбожно привирая, рассказывали друг другу истории из прошлой жизни – о мальчиках и преступлениях, за которые нас сюда упекли.
Если соседки по камере вдруг подружились, то делились своими секретами и там.
Нас держали по двое. Мы спали на двухэтажных кроватях. Верхняя койка располагалась под самым потолком, испещренным трещинами.
В узких тесных камерах стояло по два узких стола, на которых с трудом умещалась даже тетрадка, над столами – книжные полки, поставить на которые можно было всего две книжки, и то не очень толстые. На стене висело небьющееся зеркало из неизвестного сплава, такое крошечное, что рассмотреть себя в нем удавалось только по частям.
Еще в камере были две тумбочки и два крючка. Унитаз и старая раковина. Выкрашенная в зеленый дверь и покрытые плесенью стены. Тараканы и муравьи. Крысиные норы в стенах и мыши на чердаке. На внешней стороне двери висели пластиковые ящики, в которые мы совали тапочки перед тем, как войти. В камере полагалось находиться в одних носках.
Окошко в двери, затянутое мелкой сеткой, предназначалось для охранников. Они могли заглянуть, когда им вздумается, – мы переодевались, спали, пытались застегнуть лифчик, заведя руку за спину, либо приникали к окошку с другой стороны, глядя им прямо в лицо.
Зато окно в стене принадлежало только нам. Горизонтальная прорезь почти под потолком. В камерах первого яруса из окна виднелся лес за тюремной оградой. Со второго яруса в узкую прорезь было видно лишь небо.
Моя соседка по камере Дамур (арестована за хранение наркотиков, говорит, что ее об этом попросил парень; срок – полтора года) спала на верхней койке. Наша камера находилась во втором корпусе. Дамур спала лицом к окну и каждую ночь пыталась отыскать луну на небе.
Когда шел дождь, те, кто мог заснуть, засыпали, а те, кто не мог, вроде меня и Дамур, вместо того чтобы считать овец, подсчитывали совершенные ошибки.
И вот однажды замки открылись.
Так и подмывает сказать, что нам было знамение, что холодок предчувствия вдруг пробежал по нашим спинам, но это прозвучит сопливо-романтически, и это неправда. Время шло тихо и незаметно. Минуты бежали вперед, не принося с собой предупреждений.
Первой закричала Лола из третьего корпуса. Она распахнула глаза и увидела, что Кеннеди, соседка по камере, застыла возле ее койки, сливаясь с мертвой каменной стеной.
Делить камеру с Кеннеди – тяжкий крест: она грызла ногти, постоянно тянула в рот волосы и ходила во сне. В камере далеко не уйдешь; не хотелось проснуться и обнаружить рядом извращенку, тем более что мы подозревали ее в неодолимой тяге к чужим волосам.
В последнее время Кеннеди повадилась смотреть, как Лола спит. Она ее не трогала, просто нависала над подушкой, молча вглядываясь в лицо.
Неудивительно, что Лола завопила.
До конца срока ей оставалось еще прилично. В «Аврору» она попала за то, что избила продавщицу в магазинчике по соседству. Судья счел, что Лола беспощадна и напрочь лишена эмпатии, поэтому вкатил ей по полной. Теперь она пребывала в уверенности – а мы ей поддакивали, – что темная ярость надежно заперта в ее личном подвале. Но в ту ночь, в который раз обнаружив подле себя Каннибальшу Кеннеди, Лола слетела с катушек.
Все мы слышали тот крик. Затем последовал хлопок – мешковатое тело впечаталось в каменную стену. Хруст, треск, шлепки, клекот.
По ночам из их камеры часто доносился шум. Мы давно привыкли, что Лола орала на Кеннеди, как привыкли к тому, что новенькие в первую ночь в «Авроре» начинали рыдать и звать мамочку – чаще всего именно те, что при свете дня казались неуязвимыми.
Странным было то, что на шум не примчались охранники. Кеннеди тяжкой тушей сползла на пол. Лола улеглась обратно в постель.
Если замки были отперты уже тогда, то ни Лола, ни Кеннеди об этом не знали.
Первой потрясающее открытие сделала Джоди, девушка из второго – моего! – корпуса. Ее камера была в нижнем ярусе.
Как обычно, Джоди проснулась посреди ночи, чтобы предаться любимому занятию. У нее было нечто вроде хобби – она разбегалась и таранила головой дверь камеры, словно бык во время корриды. Ей нравилось, как при ударе сотрясаются мозги в черепушке. Потом она с наслаждением ощупывала новую шишку на лбу. Намеренная боль приносила ей утешение. Хоть в этом она была сама себе хозяйкой: бейся головой о дверь, когда пожелаешь.
Джоди сверзилась с верхней койки и приняла низкий старт. Оттолкнувшись от унитаза, метнулась к двери. Там было два шага, не больше.
Джоди не ожидала, что дверь поддастся и она кубарем покатится по кафелю, которым выложен пол в коридоре.
Охранники издеваются?.. Выходка вполне в духе Рафферти, но он работает только днем.
Джоди отскребла себя от плитки и огляделась. Охранники исчезли. На посту, где обычно дремал Вулингс, никого не было.
Джоди прекрасно помнила, что на ночь дверь запирали. Нас всех запирали. По всем корпусам, во всех камерах. Однако теперь почему-то электронный замок был открыт. Причем не только на двери в ее камеру – на всех дверях, во всех корпусах.
Электронную систему установили недавно, тем же летом. Пульт управления от нее прятался в офисе где-то в глубине здания. Нам в голову приходило множество заманчивых мыслей. В мечтах мы рисовали себе, как врываемся туда и нажимаем большую красную кнопку. Нам представлялось, что там обязательно должна быть большая красная кнопка, открывающая все двери.
Как мы мечтали об этом, проигрывая сцену в голове раз за разом! Я бы сказала, для нас это было сродни молитве. Но замки в тюрьме казались надежнее молитв.
До той августовской ночи.
Джоди первой выбралась из камеры. Даже до этой грубиянки (ее приговорили к году заключения за то, что пробила голову одному парню из их полукриминальной компании) дошло, что вкус свободы следует разделить с остальными.
Джоди вовсе не славилась добротой. Однажды она ткнула в бок новенькой заточенную пластиковую вилку всего лишь за то, что та пронесла с собой с воли резинку для волос, украшенную разноцветным пасхальным яйцом. Но в противостоянии с охранниками все мы были заодно. Заодно против начальника тюрьмы. Против судебной системы. Против всего мира.
Джоди прокричала соседкам, чтобы те попробовали открыть дверь. Затем побежала по коридору, зовя остальных. Новые и новые девочки с колотящимися сердцами толкали двери онемевшими руками. И двери поддавались.
Тут мы поняли, что свободны.
Я медлю
Я медлю на пороге у таблички «Смит 91188-38», которая кочует за мной из камеры в камеру последние три года. Сюда мы выходили на перекличку каждое утро, а потом еще после занятий и перед сном. Затем нас по двое запирали в тесных каморках.
Однако теперь никто не собирался ни считать нас, ни загонять обратно в камеры. Поблизости не было ни одного охранника. А даже если бы и были, у них ничего не вышло бы. Из всех заключенных во втором корпусе, кажется, одна я стояла неподвижно. Джоди издала боевой клич и умчалась прочь. Миссисипи (незаконное хранение заряженного огнестрельного оружия, семь месяцев) и Шери (шестнадцать недель за домогательства к полицейскому в штатском – чистый наговор, по словам самой Шери) притаились в тени. Остальные – в темноте не разобрать, сколько – протискивались к выходу из корпуса.
Позади в камере возилась заключенная № 98307-25 – Дамур Вайатт. Она рылась в прикроватной тумбочке с кодовым замком, где хранились наши личные вещи. Скорее всего, Дамур припрятала там наркотики, которыми торговала Пичес, – ей тайно поставляли их в тюрьму. Хотя точно не знаю. Дамур никогда не показывала мне, что у нее в тумбочке; впрочем, я тоже не посвящала ее, что храню в своей. Как-то во время обыска – а обыскивали нас регулярно, примерно раз в несколько недель – я заметила, что у Дамур очень мало вещей, хотя она провела в «Авроре» долгие месяцы. У нее даже расчески не было.
Дамур подселили ко мне сразу, как только она к нам попала. Первую неделю она была в ступоре, никак не могла осознать, что ее вправду посадили в тюрьму к малолетним преступницам. Приходилось ей все объяснять. Помню, как она еле таскалась по коридорам, шаркая подошвами. Как бессмысленно таращилась зелеными, как бутылочное стекло, глазами. Как то и дело шмыгала носом.
В первую же ночь постель у нее пропотела насквозь, будто Дамур подхватила редкую тропическую лихорадку. Днями напролет она бродила, как привидение – соломенно-желтые волосы, красные и безо всяких румян щеки (между прочим, палетка с румянами «Мейбелин», протащенная контрабандой, стоила пачки шоколадных печений).
Если она слишком громко всхлипывала, приходилось ее успокаивать. Если задерживала тяжелый неподвижный взгляд на ком-то вроде Лолы, я объясняла, что есть люди, которым не следует смотреть в глаза, сперва они должны тебе кивнуть – у нас была своя иерархия.
Вскоре Дамур пришла в себя. Свыклась с тем, что сидит в тюрьме. Почти все из нас смирялись, осознавая, что свобода украдена, что за каждым движением следят, что носить теперь придется мешковатые комбинезоны – в первые несколько недель оранжевые, а потом либо желтые, либо (что чаще) зеленые. Сменив комбинезоны, новенькие переставали скулить по ночам.
Вот и Дамур перестала меня слушать.
В начале прошлого августа девицы из «Авроры» обнаружили, что, просунув руку через оконную решетку, можно дотянуться до листьев плюща, который увивал стены нашей тюрьмы. И сделать это удобнее всего было из нашей камеры. Окно закрывалось неплотно, и Дамур считала, что совершенно необязательно сообщать об этом охранникам. Остальным девицам хотелось раздобыть листья и цветки того плюща, а у Дамур были тонкие руки. И она, не жалея времени и сил, обрывала листья через решетку.
Кто-то сказал, что этот плющ якобы похож на дурман, который в прошлой, свободной, жизни пышно рос вдоль шоссе и на пустырях у нее за школой. Многим из нас хотелось хоть ненадолго уплыть из тюрьмы, неважно каким способом.
Мы ставили эксперименты. На вкус листья оказались отвратительны. Зато ночью, когда свет гас и охранник задремывал на посту, на плюще распускались цветы. Бутоны в форме головы пришельца с розовыми приторно сладкими лепестками были съедобны. Кто-то предложил высушить их и попробовать понюхать или покурить, чтобы вставляло крепче.
Дамур вызвалась добровольцем. Она выкурила первый косяк. Затем попыталась понюхать, но, видимо, вдохнула слишком много, так что вся позеленела (мы даже испугались, ведь обычно щеки у нее полыхали, будто маки), и следом ее вырвало. Но на какой-то миг глаза у нее засияли, а зрачки стали подобны озерам. После Дамур рассказывала, что видела каких-то неведомых дымчато-серых существ. Они плыли над нашими головами, рассказывали чудные истории и пели красивые песни, даже красивее, чем те, что поет Натти, пока охранники не прикажут ей заткнуться. Так мы убедились, что плющ, которым были увиты каменные стены нашей тюрьмы, вызывал галлюцинации.
Мы думали, что охранники, обнаружив оборванные листья, прикажут выкорчевать и сжечь весь плющ дотла, однако они ничего не заметили. Правда, в сентябре цветочные бутоны пожухли, и все закончилось.
Но Дамур не унималась. Прошел слух, что она готова пробовать все на свете. Пичес стала навещать нас все чаще (она умудрялась проносить и продавать запрещенные вещества, хотя уже отсидела за это год и девять; для некоторых из нас не имело значения, в тюрьме мы или на воле, суть от этого не менялась). Порой я вставала ночью к Дамур, чтобы проверить, дышит она вообще или нет.
Мы просидели в одной камере тринадцать месяцев. Я не судила ее за дурные привычки. Не просила хотя бы причесаться. Не возражала, когда та развешивала по стенам рисунки со всякими драконами – Дамур говорила, что видит их во время прихода. Драконы были в ошейниках, и она давала им собачьи клички – Борис, Лазарь, Глэдис. Мне казалось, что между нами царит молчаливое взаимопонимание.
Но как только открылись замки, и Джоди возвестила, что мы свободны, Дамур от меня отвернулась.
Она сперва ринулась к тумбочке, а затем к выходу из камеры.
– Эй, ты куда?
Она меня даже не узнала. Остановилась на пороге, вынула белые холщовые тапки из ящика на двери, натянула их на ноги и тут же умчалась прочь.
Похоже, темнота ее не страшила. Вдалеке мелькнула светлая макушка – самые светлые волосы во всей тюрьме – и она скрылась из виду.
Так я осталась одна. Пускай Дамур умчалась, не сказав мне ни слова, тем лучше – больше не надо за ней присматривать. Корпус опустел. Делать нечего, только ждать, когда меня обнаружат охранники. Или бежать. Я отлепилась от стены.
Если вдруг откуда ни возьмись выскочат охранники, они решат, что я такая же, как остальные – напрашиваюсь на неприятности. Вокруг бесновались девицы. Сновали по коридору, алкали крови, искали в темноте ближайший выход. Каждую из них пришлось бы успокаивать силой.
И я решилась. Просто проверю, все ли в порядке, уговаривала я сама себя. Я не искала убежища – нет, вовсе нет. Я не трусиха. Мне нужно убедиться, вот и все.
Полки с книгами – подобие библиотеки – располагались в коридоре перед столовой. Помещение не запиралось. Там даже не было двери, так что любая взбесившаяся девица могла что-нибудь сотворить с книгами. Я боялась, что от них остались одни клочки. Думала, прибегу, а полки опустели, книжки валяются где ни попадя, разодранные, истерзанные. Я опасалась, что там кипят страсти, но, выяснилось, что всем, кроме меня, наплевать на книжки.
Они по-прежнему стояли на полках в алфавитном порядке. Когда глаза привыкли к темноте, я присмотрелась к корешкам. Скользя по ним пальцами, проверила, все ли на месте. Да, все.
Зора Ниэл Херстон[3] тут же, на полке «Х». Либба Брэй[4], как полагается, на «Б». Книги Сильвии Плат[5] и Френсин Паскаль[6] по-прежнему занимают всю полку под буквой «П». Пыльный том Драйзера[7] так и томится на «Д». Похоже, никто кроме меня так и не читал «Сестру Керри»[8]. А я прочла здесь все, некоторые книги даже по два раза.
Сползаю на пол между стеной и партой, подтягиваю колени. Тут слишком тесно для меня. Босые ноги торчат наружу. Я думала, что хорошо знаю всех девочек из «Авроры», но так и не стала для них своей. Всегда держалась особняком. Прислушиваясь к разгулявшемуся безумию, я ощущала себя все более чужой.
Несколько раз в неделю после обеда я брала тележку с библиотечными книжками и развозила их по трем корпусам (каждой из заключенных полагалось выполнять какую-то работу, это называлось общественно-полезным трудом. Мне повезло, задача пришлась по душе). Заключенным четвертого корпуса не дозволялось почти ничего, причем книжки из библиотеки – самый незначительный из запретов. Я всегда угадывала, что возьмет почитать та или иная девушка. Джоди, например, любила исторические любовные романы (хотя по ней и не скажешь). Пичес в свободное время изучала уголовный кодекс. Крошка Ти тяготела к классике и без конца перечитывала «Джейн Эйр».
Выбор книг говорил о нас многое, выдавал потаенные мечты и стремления, разгадать которые могла только я.
Конечно же, я пролистывала возвращенные книги – искала пометки и загнутые страницы. Вдруг кто-то оставил для меня записку? Нет. Никогда и ничего.
Записки в книгах всегда предназначались кому-то другому. Девочки из первого корпуса писали девочкам из второго. Девочка из третьего – ее перевели туда месяц назад – слала сообщения старым подружкам во второй. Ко мне никто не обращался. Некоторые записки были зашифрованы, и я не могла их прочесть.
Да, по библиотечным дням я работала почтальоном, развозила послания, написанные убористым почерком на клочке туалетной бумаги. Многие из них были очень личными, так что читать их было неловко.
Некоторые дышали ненавистью, в них описывали, как разделаются с адресатом, сыпали оскорблениями и проклятьями. Эти я тоже читала.
Девицы не подозревали, что я прочла и запомнила все, что они написали, проникла в их отвратительные тайны. Я почему-то понимала, что это важно – запомнить как можно больше.
Разузнать, что творилось вокруг, можно было не только в библиотеке. Я подслушивала разговоры в столовой, нарочно замедляла шаг, если в тюремном дворе вдруг вспыхивала ссора. Была в «Авроре» и парикмахерская; там нас учили стричь, чтобы мы приобрели очередной «полезный для жизни» навык. Щелкать ножницами у беззащитной шеи напарницы либо эту самую шею подставлять разрешалось лишь тем, кто на протяжении трех месяцев не получил ни одного замечания. Девочкам с мокрыми волосами, усевшимся в парикмахерское кресло, очень хотелось поболтать. Кто угодно с соседнего кресла мог слышать, о чем они говорили, притворяясь, что не слушает. Кто угодно.
Хорошо, что волосы у меня росли быстро.
Хотя мне становилось известно обо всех мелочах, я никогда не слышала о том, что замки откроются, даже от тех девчонок, что водили дружбу с охранниками. Ничего – ни слуха, ни намека. Выходит, никто ничего не знал.
Так откуда у меня внутри взялось это скребущее предчувствие?
Мне чудилось, будто мы уже бежали по коридорам однажды ночью. Что мы уже толкали двери камер и они распахивались, отпуская нас. Что нас и прежде охватывала буйная радость, окрашенная недоумением и страхом при виде опустевших дежурных постов. Нам уже подкидывали шанс, который мы пустили по ветру. Мы уже пытались сбежать. Сплошное дежавю.
Все уже было. Мы проживаем эту ночь снова и снова, бежим по кругу, возвращаясь, откуда начали. И нам предстоит бежать вечно. Откуда я это знаю?
Я скрючилась между стеной и партой в надежде, что темнота укроет мне голые ноги, я останусь незамеченной и пригляжу, чтобы с книгами ничего не случилось. То, что они до сих пор целы, меня утешило. Я все спрашивала себя: вдруг я права? Все это уже происходило, и я и в самом деле пряталась в этом закутке, а теперь мне предстоит укрыться в нем навечно?
Если я не ошиблась, то знаю, что будет потом. Я опустила голову, пытаясь сосредоточиться и разглядеть будущее.
Я знаю.
Сейчас запоет Натти (четырнадцать месяцев за домашнее насилие – поспорила с матерью, кто первой возьмет щипцы для завивки). Она вот-вот пройдет мимо и будет петь что-то знакомое. Ее голос разнесется по тюрьме, и на мгновение все притихнут, прислушиваясь, позабудут о том, где они и кто они, превратятся в один сплошной слух. Натти единственной удавалось утихомирить нас добром. Ни одна из нынешних певичек ей и в подметки не годилась, но только они были на свободе, а Натти томилась в «Авроре».
Я затаила дыхание. Шум не утихал. Было темно. Вдруг я все-таки ошиблась?
И тут я услышала песню. Натти вывернула из-за угла, проплыла мимо книжных полок и парты, за которой я пряталась. Она пела что-то из Бейонсе.
Все произошло в точности так, как я запомнила: я прячусь за партой, Натти скользит мимо. Песня, мотив которой я разобрала, согрела меня изнутри. Я слышала ее там, в прошлой жизни. И Натти на миг вернула мне свободу.
А потом все тепло устремилось вниз к пальцам ног и ускользнуло в бетонный пол.
Скоро эта ночь закончится. Надо спешить.
Рядом со мной лежал фонарик. Похожий на те, что висели на поясах у охранников рядом с дубинками, только желтый, а не черный. Такие берут с собой в поход те, кто не сидит в тюрьме и может хоть целую ночь напролет глазеть на звезды. Я схватила его и выбралась из-за парты. Поднявшись, пожалела, что перед тем, как выйти из камеры, не захватила тапочки из ящика на двери, как моя соседка Дамур.
Какая-то неведомая сила влекла меня вслед за Натти туда, где шумели сильнее всего. Теперь я вспомнила. Мне нужно увидеть то, что произойдет.
Меня ведет шум
Меня ведет шум. Бушующая ярость арестанток подобно жидкому сплаву затопляет все вокруг. Я, не сопротивляясь, следую за стремительным потоком. Я чувствую, как меня будто подталкивают. Хотят, чтобы я это видела.
И тут они все исчезают.
Я стою в лестничном пролете между вторым корпусом и столовой. Стеклянная дверь и решетка закрыты на ночь. Если опереться спиной о стену, чтобы не напали сзади, с этого места откроется обзор на тюремный двор. Днем тут обычно дежурил охранник. Я сжала в руке фонарик, не включая. Не надо привлекать к себе внимание.
Натти давно ушла, затихли отзвуки ее песни. Впереди показалась девушка, которая не стала меня ждать, – моя сокамерница Дамур.
Я едва разглядела ее в зловещих красных отблесках – над пожарным выходом тускло мигала красная табличка. Резервная система для подсветки пока работала. Дамур уверенно куда-то скользила.
Похоже, она точно знала, куда.
Дверь пожарного выхода всегда была заперта. Нам запрещали ее трогать даже в случае пожара. Мы думали, что она ведет прямо во двор к парковке. Туда, где уже витал дух свободы. Сперва Дамур потянула дверь на себя. Та не поддалась. Дамур пнула изо всех сил.
Дамур довольно щуплая девица, дерганая, некрасивая. Мы все считали ее туповатой. Но теперь она преобразилась. От одурманенной наркоши, которая скупала у Пичес всякую дрянь, не осталось ни следа. Она напряглась, как пружина. Ее лицо, ее поза выражали предельную решимость.
Всем своим весом Дамур налегла на дверь. Никогда не видела человека, который столь страстно желал бы вырваться наружу. Однако дверь не поддавалась.
И тут Дамур заметила рядом окно, не забранное решеткой.
Все остальное я помню вспышками. С памятью все в порядке, никаких провалов, просто началась гроза, и за окном засверкали молнии. Свет и тьма сменяли друг друга в безумной грохочущей чехарде. Я следила за белой макушкой, преследующей свою цель. Дамур ударила ногой, угодив в середину окна. Затем еще и еще. Стекло осыпалось. Дамур прорубила окно в свободу.
Худышка легко пролезла в узкий проем. Еще секунду назад она была внутри, была одной из нас. Взмах ногой – и она снаружи, где дождь и ветер. Сама по себе.
Дамур побежала к воротам.
Ее бегу вторили оглушительные раскаты грома. Тем не менее гроза пройдет, выглянет солнце, и целый огромный мир ляжет у ног Дамур. Именно так мы представляли себе свободу в самых безумных мечтах. Да, дни и ночи напролет мы грезили о побеге.
Любая из девчонок, содержащихся под стражей, тут же вылезла бы вслед за Дамур. Долгожданная свобода была в трех шагах от меня. Так почему же я медлила? Почему не схватилась за шанс, который подкинуло мне распахнутое в темноту окно? Я переминалась с ноги на ногу, ждала вспышки молнии, что осветит дорогу. Рядом не было никого, чтобы удержать меня, и все же я колебалась.
Надо было сбежать. Попробовать вылезти в окно. Выдавить осколки из рамы, если бы вдруг не пролезла. Помчаться через грозу к ближайшим воротам. Так сделала бы любая.
Быть может, меня подводит память?
Где-то глубоко маячит воспоминание: я бегу к разбитому окну, бегу так, словно опаздываю на последний поезд, который вот-вот тронется, и если он уедет, мне никогда не выбраться. Я чувствую, что так и было.
Острый зубец стекла впивается в кожу. Больно.
Реальная, жгучая боль. И она говорит, что все было на самом деле. Я убежала.
Да, и гроза. Грохочет со всех сторон, но никто, никто не велит мне поднять руки и подчиняться приказам. Никто не стреляет в меня. Значит, пришло мое время. За тюремными воротами ждет совершенно новая жизнь. Я не боюсь ее. Да и с чего бы?
Большего мне не вспомнить, потому что по голове обухом бьет действительность.
Воспоминание о боли, о струях дождя на лице, о маячащих впереди воротах, о белобрысой макушке, за которой я и бегу, но оскальзываюсь, падаю в грязь – все исчезает под гнетом реальности.
Сколько ни воображай себе, как вылазишь в окно – головой вперед или ногами, ничего не изменится. На самом деле я не сбежала. Осталась в тюрьме. Добровольно.
Если бы Дамур удалось убежать, мы бы забыли про нее. Мы тотчас выбрасывали из головы тех, кто нас покидал. Девчонка могла провести с нами месяцы, даже годы, стать среди нас легендой, но, если ее переводили в другую тюрьму или, того хуже, отпускали на волю, она тут же испарялась из наших воспоминаний. Ее образ как будто стирали ластиком. Рассказы о ней обезличивались, имена и приметы терялись, вскоре в них оставались одни упоминания о «той девчонке». С тем же успехом героиней истории могла быть любая из нас.
Заключенной № 98307-25 сбежать не удалось.
Дамур перемазалась в грязи, промокла и дрожала, однако добралась до ворот. Она ухватилась за металлические прутья и попыталась вскарабкаться наверх – оскальзывалась и начинала снова. Тапка с ноги слетела в грязь, но Дамур не сдавалась.
Она напоминала букашку, ползущую по стене. Мы ждали, что вот-вот начнут стрелять, что завоет сирена и спустят собак, но похоже, за ней следили лишь наши глаза. То есть мои.
Хотя луч фонарика не доставал до ворот, мне было видно ее во вспышках молнии.
И вот Дамур почти наверху. А там колючая проволока. Я же говорила ей, когда она только попала сюда. Рассказывала о том, что случилось с девушкой, которая тоже попыталась выбраться отсюда (имя позабылось после того, как ее перевели в другую тюрьму). Нас выпустили во двор, и она попыталась взобраться по решетке, когда охранники отвернулись. Решила испытать судьбу средь бела дня, у всех на виду.
Мы смотрели на нее во все глаза, перешептываясь – оценивали каждое движение. Охранники наконец заметили ее, но даже за оружием никто не потянулся. Они-то знали о колючей проволоке. Шикнули на нас и наблюдали молча. Ждали, когда раздастся крик.
Дамур не закричала. Она оказалась куда крепче, чем я думала. Она вздрогнула от боли, но все-таки перебросила тело через ряды колючей проволоки. Я даже не подозревала, что в ней таится такая сила, хоть мы провели в одной камере не один месяц. Беглянка перепачкалась, к тому же было темно, поэтому крови я не разглядела, но наверняка Дамур поранилась об острые шипы. Тем не менее она перебралась через первые ворота и бросилась ко вторым. Она бежала во весь опор, словно ей было наплевать, даже если лопнет селезенка. Можно подумать, что на воле она ей не понадобится.
А у меня в голове билась одна мысль: вдруг Дамур не знает, что вторые ворота под напряжением?
Быть может, она решила, что раз во всем здании вырубился свет, то система не сработает, и она спокойно переберется через ограду? В логике ей не откажешь, ведь замки на наших камерах тоже работали от электричества.
Однако она ошиблась. Дамур бросилась на решетку всем телом, даже не проверив сначала, есть напряжение или нет.
Ее отбросило назад разрядом огромной силы. Раздалось жуткое шипение. Тлетворный порыв ветра донес до меня запах обгоревшей резины.
Яркая вспышка – такой я не видела никогда. Режущий свет озарил все вокруг.
Ударив в размытую от дождя землю, вспышка погасла, и воцарилась тьма.
Вот как все было. Как рассказать об этом остальным, когда они расспрашивали, видела ли я, как Дамур подбросило вверх, как вспыхнул разряд, – и вообще как, круто было или нет? Да, я видела. Только я видела и другое.
Точнее, другую.
Когда в ослепительной вспышке Дамур упала на землю, стены вокруг нас дрогнули. Открылось окно в иной мир. И, озаренная светом, оттуда пришла она.
В темноте появилось лицо
В темноте появилось лицо. Девушка стояла на лестничном пролете у входа в столовую. Никогда прежде ее не видела! И включила фонарик.
Я знала в лицо всех девочек из «Авроры», из всех четырех корпусов. Знала даже начальника тюрьмы – наблюдала издалека, как он выбирается из своей модной тачки. Мне были знакомы все охранники – их толстые щеки, густые бороды, в особенности сила захвата.
Но это лицо было совсем чужим.
Если бы к нам привезли новенькую, я бы заметила еще в четверг, когда развозила по корпусам тележку с библиотечными книгами. По пятницам я тоже держу ухо востро. Никто не говорил про новенькую. Появиться сегодня она не могла, по субботам автобус не приезжал. Мы каждый день обсуждали все новости: кого скоро выпустят, кого переведут в тюрьму похуже или – под неискренние восклицания «вот повезло тебе!» – получше, кого и за что отправили в карцер, у кого новая сокамерница, кто послал запрос на переселение в другую камеру (снова в который раз Лола) и кому отказали. Я знала все – все имена, все лица, все преступления, в которых признавались, и даже те, которые пытались скрыть. У меня хорошая память. В той жизни в школе я была отличницей.
Эта девушка не выходила из синего автобуса, в котором привозили осужденных.
Волосы у нее были закручены в пучок на затылке. Нам тут не разрешали носить такие прически. Блестящий обруч с блестками отобрали бы сразу, как только она ступила за ворота. На ней были джинсы, всамделишние синие джинсы точно по фигуре. Короткий бирюзовый топ – в одежде такого цвета запрещали являться даже посетителям, он слишком сливался с окружающей зеленью. На ней было множество золотых украшений – сережки, цепочка, кольца, браслет. Чистенькая опрятная девочка из богатой семьи.
Как она попала сюда, да еще ночью? Приходила к кому-то и спряталась? Может, родственница кого-то из охранников?
Ее глаза бегали. Сперва я решила, что она разглядывает нас, но потом сообразила, что это не так. Когда одна из наших с кулаками набросилась на другую, чужачка даже не вздрогнула. Кто-то совсем рядом завопил так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Она не шевельнулась. Стая девиц промчалась позади по коридору. Чужачка не обернулась, не побежала ни за ними, ни от них.
Она будто не видела нас, околдованная, обездвиженная лучом моего фонарика, светившего ей в лицо.
Рискуя быть обнаруженной, я сделала шаг из своего укрытия по направлению к перилам. Девушка стояла внизу в коридоре у распахнутой двери, ведущей из одного корпуса в другой. Нас часто выводили туда на построение – по пути на прогулку или на урок. Раз или два после жестокой стычки нас приковали друг к другу за ноги, дабы проучить, и мы тянулись через дверной проем унылой медленной цепочкой.
Девицы умчались прочь. Я осталась наедине с чужачкой. Шум – наш шум, потому что я была частью этого единого, общего организма, а она – нет, – доносился теперь из другого крыла. Но я не могла оторвать от нее глаз, застыла там, будто вкопанная.
Она обернулась вокруг собственной оси, однако голову не подняла. Она не увидела меня, а я смотрела ей прямо в макушку, увенчанную обручем-короной.
Я собралась было окликнуть ее, как вдруг все пошло наперекосяк. Фонарик в моей руке заплясал. Там, куда падал его свет, все менялось. Стены, выкрашенные в бледный, тошнотворно зеленый цвет, как полагалось в тюрьме, оказались расписанными яркими граффити.
Все стены, все колонны были испещрены злобными, страшными каракулями. В той, прежней, жизни я видела такие под автомобильными мостами, когда мы с мамой проезжали мимо. Мама говорила, что их малюют бродяги, но я была уверена, что это дело рук подростков – таких же, как я, которым хотелось, чтобы их запомнили.
Раньше, когда я смотрела на граффити из окна машины, они мне нравились. Теперь все изменилось. Слишком яркие, отвратительные цвета. Меня замутило. Все это чужое, нездешнее.
Большинство надписей разобрать было невозможно. Одна из тех, что мне удалось прочитать, сообщала, что «Стиви + Бейби = Любовь». Среди нас не было никого с такими именами. Интересно, они все еще вместе? Надеюсь, что нет. Надеюсь, они извели и испохабили друг друга, как эти стены. Надеюсь, никогда и ничего в их жизни не будет приравнено к настоящей любви.
Буквы карабкались и напирали друг на друга. Какая-то Бриджет Лав нацарапала свое вшивое имя везде, докуда добралась. Некий Монстр забомбил поверх собственную наскальную живопись. Как же мне хотелось стереть это все до последней черточки! Там не было наших имен. Ни Эмбер Смит, ни Миссисипи, ни Лолы, ни Крошки Ти (мы насмехались над ней месяцами, пытаясь выяснить, что значит «Ти»). Никаких Шери, Джоди или Дамур. Мы будто бесследно испарились.
Я бы даже не поняла, где мы находимся, если бы не одна-единственная цифра 2 высоко на стене, там, куда не добрались вандалы. Значит, мы у входа во второй корпус.
Рядом с цифрой растянулась длинная надпись, сделанная огромными черными буквами: «Покойтесь с миром!»
Я на мгновение закрыла глаза, а когда открыла, заметила, что изменилось и многое другое.
Исчезли указатель со стрелкой в комнату для свиданий и плакат со сводом правил, которые нам надлежало соблюдать. Решетка, загораживающая дверь в столовую, была сломана, а в том месте, где был вход, зияла черная дыра.
На месте осталось только окно, из которого Дамур выбралась наружу, по-прежнему разбитое.
Пока я осматривалась, порыв ветра поднял с пола ворох сухой листвы. Похоже, пол не подметали долгие годы.
Не до конца понимая, что делаю, я стала спускаться к незнакомке, уверенная, что она каким-то образом причастна ко всему, что я видела. Оказавшись внизу, я взяла разбег. Меня несло прямо на нее. Я жаждала сбить ее с ног и вырвать объяснение тому, что происходит.
Но столкновения не вышло.
Я рассекла собой воздух.
Обернувшись, я увидела позади бледное лицо. Мы уставились друг на друга, не говоря ни слова.
У нее были темно-синие глаза, точь-в-точь грозовое небо снаружи. Гремящее, грохочущее небо. И вдруг я поняла, что больше не слышу ни дождя, ни грома, слышу только ее дыхание. Синий цвет – цвет опасности. Нет, опасность была позади. Синий цвет – цвет глубины, если смотришь в море с обрыва.
Такой она предстала передо мной. Понятия не имею, о чем она подумала, увидев меня, и видела ли вообще, потому что она спросила:
– Ори?
Я покачала головой.
– Ори, это ты?
Голос девушки звучал глухо, невнятно, будто она пыталась переговариваться со мной через бетонную перегородку между камерами.
Она двинулась ко мне, чтобы дотронуться, но я отшатнулась. Еще чего не хватало!
Она повторила то имя. И у меня в голове вдруг щелкнуло. Я вспомнила.
Заключенная № 47709-01. Любимая книга из нашей библиотеки – «Сто лет одиночества», толстый том, отпечатанный на тонкой отвратительной бумаге. Она все повторяла, что за то время, которое ей предстоит провести за решеткой, успеет прочесть его сотню раз. Волосы она завязывала в узел, совсем как незнакомка, только обходилась без шпилек – нам не разрешали держать в камере ничего острого. Она прятала от нас изуродованные ступни. Ее глазами смотрела на нас вековая тоска. Внутри у нее таилась бесконечно нам чуждая, непривычная доброта. Спустя неделю во всей «Авроре» не осталось никого, кто бы желал ей зла.
Ее пока нет. Ее привезут позже. Она станет сорок второй.
Откуда незнакомка знала Ори? Откуда я знала Ори, ведь она еще не вышла из автобуса, выкрашенного голубой краской?
Лицо чужачки исказилось. Кажется, она испугалась. Почему-то люди всегда пугаются меня, хотя я вроде ничего такого не делаю. Наверное, потому, что я намного выше и крупнее всех остальных девочек. А может, из-за гримасы на моем лице. Только это не гримаса, я всегда такая. Но незнакомка этого не знала. Она попятилась, закрывшись от меня руками, и распахнула рот. Раздавшийся крик вышел куда пронзительней и истошней, чем я ожидала. Она сотряслась всем телом, как будто ее ударило током. Похоже, она поняла, кто я и что я, потому что вдруг сделала то, что должна была сделать я.
Она побежала.
Мы потеряли
Мы потеряли связь. Я потеряла чувство времени. Быть может, прошло несколько секунд, быть может, час – холодный, застывший час той жуткой летней ночи.
Она убежала. Во мне закипел гнев. Он разъедал горло, спускаясь в живот. Казалось, меня сейчас разорвет.
Такое уже бывало.
Впервые я испытала подобное в тот день, когда мама выходила замуж, – я еще училась в начальной школе. Она вырядилась в белое платье, которое топорщилось на животе. Все ради нового мужа. Она носила под сердцем его ребенка. Она ответила ему «да». Она будто ослепла и оглохла. Она решила лгать всем, как солгала доктору про трещину в предплечье – неудачно вписалась в дверной косяк; как солгала соседям про синяк под глазом – ох, я такая неуклюжая, в ду́ше поскользнулась. Она выбрала его. Не меня и не саму себя. В тот день в городском муниципалитете ее выбор скрепили печатью.
На пути туда меня вытошнило в машине, поэтому я явилась в муниципалитет босиком. На парковке я схватила маму за руку. Она заставила меня надеть кружевные белые перчатки – с моим-то дурно сшитым и тесным платьем. Я потянула ее назад так сильно, что на перчатке разошелся шов, и в дыре показалась шершавая кожа.
«Не хочу туда идти. Можно, я в машине побуду?»
Я навсегда запомню ответ. Мама сказала с отчаянным блеском в глазах: «Пожалуйста, ради меня. Хоть раз в жизни».
Она развернулась и пошла не оглядываясь. Туда, где ждал он. За спиной у нее развевалась фата. Она знала, что я пойду следом. Во мне клокотала ярость, на глазах выступили слезы. Я знала, точно знала, что она меня не услышит. Она никогда не слушала.
Второй раз такой же приступ накрыл меня спустя годы. Через неделю после несчастного случая с отчимом. Двое полицейских вызвали меня прямо с урока литературы, и, когда я шла через класс, прижимая к груди книгу, во мне забурлил гнев. (Мы в классе читали «Обитателей холмов»[9]; я ожидала, что будет интереснее.) Почему-то помню детали – загнутые уголки страниц, кайму под ногтями, как будто я рылась в грязи, и бьющееся у горла сердце.
В тот раз гнев во мне смешался со страхом. Я знала наверняка, что они собираются мне сказать. Они не поверят. Мне никто никогда не верил.
Я мало что знаю о том, как устроены бомбы. Знаю лишь то, что они взорвутся. Их именно для этого и сделали. Но бомбу нужно поджечь. Когда огонек съест фитиль, раздастся грохот и все вокруг заволочет дымом. Если фитиль не поджечь, девочка долгие годы может ходить в тихонях.
Когда незнакомка пустилась бежать, во мне что-то щелкнуло.
Только что она стояла так близко, такая чистая, аккуратная – протяни руку и дотронешься. Я успела ее рассмотреть. И разглядела на запястье золотой браслет. Все до единой подвески на нем. Балерины. Маленькие балерины. Много маленьких балерин. Никогда раньше не видела живую балерину. Золотые балерины задирали ножки, тянули носочек, округляли ручки. Все до единой.
Браслетик меня и добил.
У этой девочки было все. Чистая кожа, высокие скулы, накрашенные блеском тонкие губы, побрякушки из золота. Но внутри у нее скрутился узлом уродливый страшный секрет, отбрасывавший алое зарево и вонявший тухлым мясом. Вонь сочилась из нее с каждым вздохом. Она вся сгнила изнутри.
И я тоже пустилась бежать. Прочь от нее, подальше от этой бледной тощей девицы, что назвала меня чужим именем. Подальше от того, во что она превратила наш коридор, наши стены, наш дом. Невзрачное казенное здание, которое нам на откуп кинуло государство, стало нашим домом, хоть мы никогда не признались бы в этом вслух. Она не имела права так с нами поступать.
Позади слышался топот. Она бежала за мной. Возвращается? Решила достать и меня?
Я знала все ходы и выходы не хуже охранников. Меня привезли сюда в четырнадцать, я просидела тут дольше всех.
Я повернула за угол. Направо, налево, направо. Чужачка не отставала.
Я оказалась в самых недрах «Авроры-Хиллз» – в прачечной. Казалось, вот-вот выскочит охранник и схватит меня… Однако все охранники куда-то исчезли. Мы были там с ней вдвоем.
У меня на пути возникла стальная серая дверь. Я толкнула дверь – и окаменела от ужаса.
В лицо подул свежий ветер. Голова закружилась. Я упала на землю. Надо мной расстилалось небо, в нем висел месяц. Вокруг колосилась трава. Луговая трава.
Гроза, бушевавшая несколько минут назад, утихла. От нее не осталось ни следа. Земля была сухой. Впереди – ворота. Летний воздух пах сладостью.
Наверное, незнакомка уже здесь. Если поднять глаза, я увижу, как она стоит надо мной и ее побрякушки тускло поблескивают в лунном свете. Вдруг она уже занесла ногу для удара?
Но ее не было.
Я лежала одна, окутанная тишиной, совсем как в прошлой, свободной, жизни. До того как мне вынесли приговор, все думали, что я невиновна. И мама, и младшая сестренка. Летняя ночь напомнила о детстве – о струйках воды из разбрызгивателя для газона на заднем дворе, об эскимо на палочке, о каникулах, о маме, которая еще не вышла замуж, еще даже не встретила того урода, о времени, когда мы с ней были близки. Да, я словно вернулась в самую счастливую пору – до выкрученных рук, до синяков, до обзывательств, которыми он награждал меня, стоило маме отвернуться. «Ты дура. Ничтожество. Уродина». До гадких щипков под столом за обедом, до горьких слез, до того как он заставил меня просидеть всю ночь над остывшим ужином и мама не вступилась за меня, потому что он так велел. До несчастного случая, который признали не случайным. До того, как меня судили. До того, как меня привезли сюда в автобусе, крашенном в синий. Когда-то у меня была надежда, что вырасту и стану той, кем захочу. Когда-то и моя история сулила счастливый конец, как в самых прекрасных книжках. Когда-то и передо мной открывалось будущее.
Я прислонилась к серой тюремной стене. Камни приятно холодили спину, утешали и успокаивали. Уговаривали остаться.
И вдруг тишина лопнула, словно мыльный пузырь. Каменная стена дрогнула, как от подземного толчка.
Раздались крики, пронзительные трели свистка. Вернулись охранники. Если они спали, то проснулись, если их заперли, то они сумели освободиться. Зажглись огни на сторожевых вышках. Лучи прожекторов принялись шарить вокруг. Пятно света выхватило мое лицо. Вскоре примчался охранник. Я распростерлась на земле перед распахнутой дверью. Я вымокла насквозь. Дождь все лил, поливал меня сверху донизу, пропитывал, растворял.
Могучая рука схватила меня за шею и поволокла обратно, словно мешок с костями.
Меня швырнули на бетон лицом вниз, как всегда, если кто-то из заключенных выходил из-под контроля. Я впечаталась носом в пол и затихла, прикрывая руками голову. Но, чуть приподняв голову, я видела приоткрытую дверь и непогоду снаружи. Ни следа от той ясной летней ночи, в которой я вырвалась на свободу.
Гроза как будто никогда не прекращалась.
Когда меня подняли на ноги, я начала брыкаться, бодаться, пыталась вырваться, молотила охранника кулаками. Внутри меня произошел взрыв, остатки здравого смысла заволокло пеленой тумана. Не знаю, что на меня нашло. За что я боролась? Куда рвалась? Война – наша природная стихия, мы в ней как рыба в воде, нам здесь привычно и безопасно. Какая разница, за что драться, если чешутся кулаки.
Меня тащили по знакомым коридорам. Все происходило как в замедленной съемке. Вокруг никаких граффити, только стены, крашенные в зеленый. Убедившись, что все по-прежнему, я успокоилась, разжала кулаки и захлопнула рот – поняв, что все это время вопила.
Однако я не могла отделаться от вопросов, что вертелись в голове.
Что это за девушка? Как она сюда попала? Это из-за нее открылись замки на дверях? Дождь прекратился и начался снова – тоже из-за нее?
Почему имя, сорвавшееся с губ незнакомки, – Ори – звучало таким родным и привычным, будто я наконец отыскала давно потерянный ключ и вставила его в замочную скважину в старой-престарой, затянутой паутиной дверце?
Дальнейшие события той ночи не принесли ответов. Меня приковали наручниками к стулу. Охранники бросились ловить остальных. Мне приказали заткнуться и ждать, со мной разберутся потом. Через несколько часов изловили последнюю беглянку. За ворота тюрьмы не прорвался никто, хотя некоторые пытались. И тем не менее на кончике языка остался привкус свободы. В ту ночь мы ее вкусили.
Мне довелось увидеть наше будущее. Точнее то, что будет здесь после того, как нас не станет.
«Покойтесь с миром». Разве хоть кто-то из нас мог успокоиться?
Снова включили электричество. Лязгнули засовы – заработала система безопасности. За мной наконец пришел охранник, однако повел в четвертый корпус, а не во второй. Дело плохо, но могло быть и хуже.
Когда за мной захлопнулись ворота четвертого корпуса, я откуда-то знала – нам осталось всего три недели. После этого – пустота. Меня толкнули в камеру и заперли дверь.
Часть III. Ви
Справедливость. Я уже слышала это слово и даже пыталась понять. Я написала его несколько раз, но от букв сквозило лишь ледяной ложью. Никакой справедливости нет.
Джин Рис«Безбрежное Саргассово море»Грязь и гниль
Да, зрители от меня без ума.
Ничего странного в том, что они поднялись с мест, аплодируя мне. Это вполне естественно. Они всегда рукоплескали Ори после выступления. Только три года назад ее арестовали. Все произошло накануне весеннего спектакля, в котором она должна была танцевать партию Жар-птицы. А потом все от нее отвернулись, и родители заставили меня прервать с ней всякое общение и настояли, чтобы я пошла на похороны тех девочек. Даже наша танцевальная студия чуть не закрылась. Но до всего этого зрители чествовали ее именно так.
Важнее всего, как ты выглядишь. Глубже никто не заглядывает. Стяни волосы в пучок, воткни в него побольше шпилек, нарисуй на глазах длинные стрелки, оденься понаряднее – лучше всего что-нибудь неяркое, в пастельных тонах. Притворись милой девочкой, и никто не узнает, что скрывается за этим фасадом. По крайней мере, со мной все было именно так.
Если бы они умели смотреть в душу, то сразу бы увидели – Ори была хорошей. Она обожала танцевать, ей даже музыка не требовалась, она вполне была способна сплясать на тротуаре. Обувь она терпеть не могла, и пусть кто-то увидит мозоли на ее ступнях. Однажды я случайно переехала кошку, так Ори разрыдалась, заставила меня остановиться, выскочила на дорогу и завернула кошку в свое пальто. Она сидела с ней на обочине, пока та не издохла. Пальто, конечно, пришлось сдать в химчистку. Я все это время ждала в машине.
На суде не желали слушать подобные истории.
Потому что все дело во внешности. После смерти Рейчел и Гэрмони с лицом Ори что-то произошло. Я стараюсь не думать и не вспоминать об этом дне – лучше не надо, но ее лицо неуловимо изменилось. Щеки впали, глаза потеряли блеск и помутнели, а рот так и остался приоткрыт, наверное, от ужаса. Ее отцу не по карману был дантист, и все заметили кривые зубы. Если уж люди решат, что в тебе сидит нечто страшное, они отыщут уродство и в твоем облике.
К тому же все думают, что те, кому нелегко пришлось в жизни, больше других способны на ужасные поступки.
Семья Ори к числу благополучных не относилась, в отличие от моей. Взять хотя бы район, в котором она жила. Мамы у нее не было, а насчет отца у многих имелись вопросы. Моя мама, например, часто спрашивала Ори: «Где твой отец? Когда ты его видела в последний раз? Он хоть дома-то бывает? Кто за тобой присматривает?» Как будто это имело значение. Я сто раз ей объясняла, что отец Ори – дальнобойщик, он по нескольку недель не бывает дома. А может, и не объясняла. Не помню. Наверное, просто отмахнулась, сказала, что не знаю. Мама всегда говорила, что без присмотра дети чудовищно распускаются. Вы только газеты почитайте, что творят подростки!
А я ее привечала! Она у нас и обедала, и ночевать оставалась. Моя мать много чего талдычила в таком духе – и всегда беспокоилась о своих дорогущих простынях, – но дело в том, что многие взрослые рассуждали, как она. После той истории все сошлись на том, что Ори всегда была жуткой девицей, припомнили множество мелочей – все один к одному. Однако со мной все было не так просто.
Финальный выход. Танцоров благодарят аплодисментами, им дарят цветы. Надеюсь, кто-нибудь додумался купить мне букет.
Я выхожу одна. Пытаюсь вновь вызвать в себе чувство, согревшее меня во время танца, – радость танцевать для всех этих людей, но внутри ледяной холод. Я опять в пустом туннеле, в конце которого ждет смерть.
Кулисы закрываются, танцоры отступают за складки пыльного бархата, у всех на лицах теплые отблески – облегчение после удачного спектакля. Зрители не потянулись к выходу во время скучного затянутого адажио, никто из балерин не упал и не сломал ногу, крошка-тюльпан из первого ряда не задела при вращении тюльпан из второго ряда, как раз за разом случалось на репетициях, после чего обе тюльпашки заливались горючими слезами. Никого не стошнило. Никто не поджег театр. Никто не нашел два мертвых тела позади театра и не побежал, оглашая воздух криками: «Звоните в полицию!»
Мы постарались на славу. Занавес сомкнулся, и балерины кинулись обнимать и целовать друг друга в щечки, как будто они в Париже. Они хихикали, кружились, взявшись за руки, как дети. В сущности, они и были детьми.
Я не целую ничьих щек и не кидаюсь в объятия.
Иду все дальше от сцены в глубь кулис. В руках у меня цветы. Мне надо побыть одной.
Я выдыхаю, только добравшись до задника – две бархатные занавески прикрывают бетонную стену. Спрятавшись за ними, я словно растекаюсь медузой на жарком пляже. Я станцевала. Все прошло без сучка без задоринки, мои мечты сбылись, хотя я не заслужила даже права мечтать об этом.
Опускаюсь на колени и прячу лицо в складках пачки. Сжимаюсь в комок, открываю рот и… И ничего. Ни звука. Боль засела во мне раскаленной иглой, как будто под ребра всадили нож. С тайным наслаждением представляю, как нож разрезает платье и кожу, режет мышцы, сухожилия… Лезвие доходит до самого нутра.
Переворачиваюсь. Сажусь на пол спиной к стене. Плевать, что костюм испачкается. Пачка мне не нужна. В Джульярде полно пачек. У меня все будет отлично. Никто ни о чем не догадывается.
Подходит Сарабет – из-под кулисы появляются огромные, как ласты, ступни. Ее ни с кем не спутаешь, хотя лица не видно.
– Ви, это ты? Ты растеряла все свои букеты.
Я и сама не заметила, как выронила их. Мне надарили столько цветов. Обнесли сад какой-нибудь старушки?
Мычу что-то невнятное. Зрителям из зала не видно, но кулиса здесь потертая, выцветшая. Никакого тебе бархатного блеска. И воняет мокрой псиной.
– А мне мама тоже букет подарила, как у тебя! – бубнит Сарабет, пытаясь пролезть ко мне за кулису. – В смысле, не розы. Не как у тебя. В смысле, я же не соло танцевала. Но все равно приятно, что мама мне букет принесла. Правда, Ви?
Знаю, Сарабет считает себя моей лучшей подругой, хоть мы ни разу это вслух не проговаривали, но она совершенно не чувствует, что иногда меня надо просто оставить в покое.
Никакого такта.
Ори была совсем другой. Однажды после занятий она обнаружила, что я рыдаю в репетиционном зале. Нам было лет по двенадцать или тринадцать. Ори тихо подошла, чтобы не напугать меня, села рядом и легонько стала рисовать что-то пальцем у меня на спине. Я любила, когда она так делала, если оставалась у меня ночевать и мы спали в одной постели.
– Что случилось, Ви? – спросила она.
А еще Ори знала, что от рыданий я иногда начинаю икать, и не смеялась, когда икота и впрямь нападала.
Понять, почему я плачу, было несложно. Мисс Уиллоу решила, что Ори пора вставать на пуанты. Ей предстояли уроки с другой программой и дополнительными занятиями три раза в неделю. Меня не взяли: рано, мол. Мисс Уиллоу велела мне укреплять лодыжки. У Ори лодыжки сформировались, а мои, еще детские, напоминали переваренные макаронины.
Любая другая подружка похлопала бы по плечу в утешение и сказала, что все получится. А Ори дала мне слово и сдержала его – как всегда. Она пообещала, что не встанет на пуанты без меня. И она ни разу не надела пару первоклассных пуантов, что ей подарила мисс Уиллоу, ведь отец Ори никогда бы не смог себе такие позволить, пока у меня не появилась моя собственная первая пара шелковых танцевальных туфелек.
До сих пор помню ее чуткие пальцы на моей спине. Ее щеку, прижатую к моей. Ее слова.
– Мы все будем делать вместе. Я подожду, пока мисс Уиллоу скажет, что ты готова.
И она ждала. Ждала шесть с половиной месяцев, пока окрепнут мои лодыжки.
И ни разу мне это не припомнила.
Сарабет подобрала мои розы. Мне надарили кучу цветов, зал был переполнен.
– Брось, Сарабет. Плевать мне на букеты.
– Ну, ладно… Ви, ты танцевала просто супер! Все в восторге!
– Знаю.
– А! Понятно.
Она умолкает. Я поглаживаю пальцами кулису. Ее уродливая изнанка видна только мне.
– Выходи, Ви. Там Томми ждет. Ты сказала, что вы расстались, а он пришел. У нас вечеринка намечается. Тебя тоже пригласили, у тебя ведь сегодня выпускной спектакль. Будешь почетной гостьей.
Любая из выпускниц балетной школы была бы почетной гостьей на этой дурацкой вечеринке. Но Сарабет еще не доросла.
Я отодвинула кулису. Сарабет вручила мне цветы, которые успела собрать, а потом вдруг пискнула и неуклюже замахала руками. Она всегда так визжала, если вдруг залетал мотылек. Была бы нормальная, открыла бы молча окно, да и все.
Хотя в этот раз испугалась она не мухи. Один из букетов в моей руке был насквозь мокрым, но не от воды.
С цветочных стеблей стекали красные липкие капли, похожие на сироп. Они капают, капают, пачкают все вокруг. Цветы кровоточат. Я вся в крови.
Окоченев от ужаса, медленно опускаю голову. Перед глазами все плывет, но я усилием воли навожу резкость. Постепенно приходит понимание. В моих руках сверток из нежно-розовой бумаги, а внутри всякий бред: бумага, тряпки – похоже, разодранная на полоски белая футболка. Все пропитано кровью.
Руки безвольно опускаются, цветы летят на пол, а вместе с ними и эта дрянь. Какой-то ночной кошмар. Брызги крови попадают на стену, на кулису. Мои пальцы все в липкой красной жидкости. Сарабет отшатывается, задыхаясь. Струйка крови бежит у меня по бедру, по коленной чашечке, срываясь, капает на носок пуанта. Я смотрю на него, будто в трансе. Сладкий запах говорит мне о том, что кровь ненастоящая. Уж тот дух я никогда не забуду.
– Божечки, – шепчет Сарабет. – Божечки мои!.. Ви, какой ужас!
Она вытягивает руку, указывает окровавленным пальцем на пол.
Там валяется карточка из цветочного магазина. На таких пишут пожелания. Ни я, ни Сарабет не отваживаемся нагнуться и поднять ее.
– Кто-то подарил тебе такой букет?
– Нет, я сама его себе преподнесла!.. Какие-то твари решили пошутить. В лицо сказать не могут, решили напакостить.
– Что сказать, Ви?
Мама дорогая, вот куриные мозги. Мне даже стало ее жаль.
Смотрю на Сарабет в упор, пока она не отводит глаза, покраснев. Вспомнила наконец-то.
Но как это могло произойти? Невозможно, невероятно! Тех, что способны были выкинуть что-то подобное в вечер моего триумфа, нет на свете. Рейчел и Гэрмони мертвы. Все знают: Ори их убила. Убила их из-за меня. А потом погибла сама.
Самое странное, что я не могу вспомнить, как этот букет оказался у меня в руках. Некоторые бросали цветы мне под ноги, некоторые подходили и вручали их, при этом обнимали меня, поздравляли. Все в открытую, на глазах у зала.
Лица сливались. Улыбки – все они улыбались, кислое дыхание, запах мятной жвачки, запах табака. Никто не походил на человека, способного всучить сверток с тряпками и рваной футболкой, пропитанный фальшивой кровью, при этом улыбаясь и говоря комплименты. Никто из тех, кто остался в живых.
По спине ползет мороз. Вспоминаю, как искала глазами Ори – не тех двоих, а только ее, Ори, – стоя за кулисами перед выходом. Я чувствовала, что она среди зрителей, хотя и знала, что это невозможно. Тоненький голосок в голове говорил мне, что она в зале.
«Она была там сегодня, Ви. Она пришла посмотреть на тебя».
Да, Ори хотела вручить мне гадкий, отвратительный букет, она мечтала напомнить о себе. Она завернула его в розовую бумагу – мой любимый цвет – и спрятала среди складок карточку, которая лежала сейчас на полу. Мне была видна надпись на обороте: «Поздравляю с радостным днем!» Серебряные буквы на белом фоне. Обычная поздравительная открытка, которые бесплатно можно взять в цветочном магазине. Их подписывают, поздравляя с юбилеем или со свадьбой. Но за эту карточку заплатили отдельно или стянули тайком, ведь цветы к ней не прилагались. Интересно, подписали ее или нет? Надо посмотреть на обороте.
– Что на карточке написано? От кого она?
– Я к ней не притронусь! – Сарабет замахала руками, но я молча ждала, и она наклонилась и подобрала ее трясущимися пальцами. Перевернув, прочла надпись.
Ее глаза сказали мне все.
Иногда я забываю, что Сарабет тоже была здесь три года назад. Она занималась в той же студии, хотя к числу лучших учениц не относилась, слишком неуклюжая и пугливая. Ее ставили в последние ряды. Пусть мы никогда не обращали на нее внимание, но она там была. И все запомнила. Наверное, стояла среди зевак у полицейского кордона. Помню, кто-то пронзительно кричал, когда полицейские вели меня к машине, чтобы отвезти домой. Потом мне рассказывали, что какая-то девушка упала в обморок при виде крови, залившей туннель под деревьями за театром. Может, это и была Сарабет? Поэтому она липнет ко мне?
Забавно, что кто-то может упасть в обморок, глядя всего лишь на место, где разыгралось двойное убийство – мертвые тела, накрытые одеялом, торчащие из-под него ноги. А если бы она видела, как все произошло?
Сарабет смотрит на меня круглыми глазами и шелестит:
– Знаешь… какая подлость! Кто мог такое сотворить?!
У меня не хватает духу кивнуть. Я-то знаю, что заслужила.
– Слушай, Ви, нам нельзя в таком виде на вечеринку.
Она все еще полагает, что я пойду.
– У нас как будто месячные начались.
На месячные непохоже. Мы будто совершили жестокое убийство и перемазались кровью.
– У тебя кровь в волосах, Ви. И у меня. Нам надо в душ и переодеться. Пойдем через служебный вход. Если мама увидит меня в таком виде, на месте скончается. Но зачем они подписались ее именем? Зачем притворяться Ори? Чего они добиваются?
Сарабет ждет ответа, будто я специалист по психологии.
Это не девицы из студии. Я слишком хорошо знаю почерк Ори.
Я способна одурачить зрителей, маму с папой, приемную комиссию в Джульярде – ведь они пришли в восторг от моего танца. Я исполнила для них танец Жар-птицы из балета Стравинского, который впервые поставили в 1910-м в Париже. Ори репетировала его три года назад, а я повторяла за ней все движения. Каждое па запечатлелось в моей памяти на веки вечные.
Однако Ори не обмануть. Она раскусила бы меня с первой секунды. Она прекрасно знала, что я собой представляю, и все равно – этого я никогда не пойму – дружила со мной, поддерживала, не предавала. Это я предала ее.
Вот и сегодня за белой пачкой, теперь залитой красным, за белым купальником, заляпанным кровью, Ори разглядела бы, что внутри, глубоко под кожей – уродство, подлые секреты, ложь. Сплошные грязь и гниль.
Больше никогда
В тот день, когда мою лучшую подругу посадили в тюрьму, я ела сыр в ста милях от города.
В день проб я вообще ем только сыр – источник белка, энергии и удачи. Кусочек сыра утром, потом за час до выступления, чтобы усвоился, и всего крошку за пару минут до выхода. Глотаю, почти не жуя. Какая разница, что от меня воняет сыром, если он дает нужный эффект – мышцы разогреты, ноги послушны. Танцую не хуже примы. А я и стану примой, чего бы мне это ни стоило!
Мне исполнилось пятнадцать. Шла первая неделя августа. Лето Ори провела за решеткой на передержке в какой-то тюрьме, ее вскоре должны были отправить в «Аврору-Хиллз». Первое лето без нее. Дыра во мне была столь огромной, что я не решалась в нее заглянуть. Итак, я приехала на пробы. Я сжевала кусочек сыра. Я завязывала ленты на пуантах так, чтобы узел был сзади. Я мычала мотив из Стравинского, потом мне стало не по себе, и я перешла на Чайковского. Да, ее жизнь окончилась тем летом, – а моя нет. Моя продолжалась.
Я села на поперечный шпагат и легла животом на пол, руки вытянув вперед. Ладони встретили пустоту. Напротив никого. Некому потянуть на себя.
Я закрыла глаза и занялась дыхательной гимнастикой, которой меня научила Ори. Я представляла себя на лучшей сцене Нью-Йорка, к моим ногам летели розы, летели розы, летели розы. У меня свои ритуалы, и я не собираюсь их комкать, пусть сегодня ее увезут далеко на север.
Ее могли сослать хоть в Сибирь. Между нами и так уже разверзлась пропасть. Я не поеду ее навестить.
Она должна была отправиться со мной на пробы. Мы бы закрутили друг другу пучки на голове, она бы морщила нос, пока я ела сыр… Но если бы она была здесь, на пробах, роль определенно отдали бы ей, а меня услали прочь, пригласив попытаться на следующий год. И роз мне бы не видать, как своих ушей.
Утром того дня ей объявили приговор. Рассказали родители – наверное, думали, что мне станет легче, и я усну спокойно, в точности зная, сколько ей предстоит провести в заточении.
Но сообщать мне не было нужды. Я уже знала. За утренним комплексом приседаний я прошерстила Интернет. Я видела, как ее, одетую в оранжевый комбинезон, подталкивали к выходу. Камера дала наплыв. Левый глаз у нее был накрашен сильнее. Закончилась тушь? И была ли вообще у нее тушь в тюрьме? Если нет, то что за дрянью она намазала левый глаз? Густые, вьющиеся волосы, которым я всегда завидовала, висели тусклыми жидкими прядями. Неужели можно облысеть в пятнадцать лет?
Она была очень бледной. У нее всегда была гладкая смуглая кожа, которой не требовался загар, а теперь – в середине лета – она походила на призрак. Ори, которую я знала, которую знали все, или думали, что знали, была уверена в себе и ни капли не заботилась о том, как выглядит. В отличие от меня. После занятий балетом она светилась, жизнь в ней била ключом, тогда как мне хотелось сунуть голову под струю холодной воды и рухнуть на землю, обхватив колени, чтоб перестали дрожать.
Наблюдая за ней в прямом эфире, я поразилась: из нее ушла вся жизнь. Ори машинально переставляла ноги, лодыжки были скованы цепью, руки заведены за спину. Растрепанная, потерянная, серая.
Дикторша принялась рассказывать о преступлении. Я выключила звук.
Ори подтолкнули к выходу, она не обернулась. Камера задержалась на закрывшейся двери, как в каком-то европейском фильме, затем побежала по толпе, выхватила лица матерей, дочери которых были убиты. Я закрыла сайт. На это утро я свое отприседала.
Перед пробами я отошла подальше от остальных и достала сыр. Затем потрясла руками и ногами, покрутила шеей, размяла суставы, стараясь не думать об Ори. Выкрикнули мой номер, я пошла в зал – только не думать о ней, вышла на середину – только не думать о ней, исполнила танец – только не думать о ней, исполнила безошибочно, точно – только не думать о ней. Ноги будто двигались сами, я их не чувствовала. Странно, я же натерла довольно большую мозоль.
Я получила роль. Правда, в последнем ряду массовки, где нужно танцевать синхронно. Еще бы декорации менять поручили.
Они сказали, что у меня приличная техника, годное телосложение, сильные ноги и хорошая растяжка. Если буду много и усердно работать, у меня есть будущее.
Они не сказали, что не могли оторвать глаз, что были очарованы. Если бы перед ними танцевала Ори, они наперебой бросились бы ее превозносить.
Что ж, роль все-таки моя. Я ее получила, потому что мою лучшую подругу отправили в исправительную колонию для несовершеннолетних где-то на севере, на самом верху карты штата. Теперь моя жизнь изменилась. Удача повернулась ко мне лицом. В каком-то смысле мне надо стать Ори, она ведь лишилась этой возможности. Пусть у меня не было ее врожденного таланта, ее искры, но я была неплоха, и люди начали это замечать.
Невольно я все думала о том, что, когда Ори выйдет на свободу, она будет слишком стара для балета. И никогда не вернется на сцену.
Шли дни. Ори томилась в «Авроре-Хиллз», а я составляла в голове список вещей, которые она никогда не сможет сделать. Она никогда не построит мне шалаш из одеял. Мы никогда не спрячемся там, как малые дети. Она никогда не накрасит мне ногти на ногах фиолетовым, в тон нашим синякам. Никогда не даст откусить от своего яблока. Я никогда не подловлю ее на акте милосердия, совершенном для незнакомой старушки, – она могла обегать всю округу в поисках пропавшей собачонки, а я часто подкалывала ее, звала матерью Терезой. Она никогда не выйдет на сцену и не доведет зрителей до слез. Никогда не поправит смущенно волосы в ответ на восторженные охи-ахи. Ей говорили, что она танцует непревзойденно. Да, именно так, я сама слышала. Непревзойденно. Ори больше никогда не отмахнется от меня, когда я заговорю об этом. «Ты видела, как они на тебя смотрели? Будто ты вторая Анна Павлова!» Никогда не спросит тихо, спустя пару часов: «Ви, тебя это не сильно достает? Ну, то, что меня так расхваливали?» И никогда я не солгу сквозь стиснутые зубы: «Что ты. Нет, конечно». Больше никогда.
Я собиралась как-нибудь ее навестить. И написать собиралась. Как-нибудь. Все думала, о чем… А потом адвокат сказал, чтобы я не смела вступать с ней в переписку.
Я знала, что нам нужно все обсудить. Но я еще не закончила список своих «больше никогда».
Потому что мы больше никогда не увидимся. Не скажем друг другу «здравствуй», или «прощай», или «хочешь кусочек сыра», или «классный купальник, дай поносить». Никогда я не загляну ей в глаза. Не увижу в них ненависть и презрение. Не узнаю, что она мечтает выйти на свободу и разделаться со мной, изрубить в мелкие кусочки или всадить пулю в спину. Что страстно желает сделать со мной все то, что виделось мне во сне, и я просыпалась в поту с бьющимся у горла сердцем.
Однако хуже всего то, что я никогда не увижу живую Ори.
Я навсегда запомню, где провела тот день, когда Ори отправили в «Аврору», – на пробах, исполняя сырный ритуал, повторяя про себя движения танца, – но я не знаю, где была, когда она и все остальные девочки погибли. Скорее всего, я еще не ходила в школу, ведь на дворе стоял август. Наверное, занималась в студии, где же мне еще быть. Изучала границы возможностей собственного тела, как всегда, когда танцевальный класс доставался мне в распоряжение. Отрабатывала шаг, прыжки, шпагаты, осваивала тройной пируэт, потому что пока он мне не давался… пока.
Весенний концерт отложили на год, ведь балетная школа разом лишилась троих ключевых исполнительниц, но когда мне отдали партию Жар-птицы – ее роль, у меня получалось лучше, чем ожидали преподаватели.
Мой костюм был попроще, зато смотрелась я в нем восхитительно. Я сама слышала, как они сказали. Восхитительно.
В тот миг, когда не стало Ори, я могла делать, что угодно, что-то совсем обыденное, привычное: принимать душ второй или третий раз за день, разбивать пару новых пуантов, смотреть на Ютьюбе спектакль из Большого, обедать с родителями, репетировать у станка, красить ногти на ногах, делать уборку.
Одно точно – о ней я не думала. Я нарочно занималась всем подряд, чтобы не возвращаться к ней мыслями.
Мне рассказали родители. Позвали в гостиную, в которой мы собирались, только если приходили гости, и, усевшись на белоснежный диван, наперебой принялись докладывать мне сводки из новостей. До моего сознания долетали одни нелепые обрывки фраз. История не укладывалась в голове. Позже я восстановила всю картину, порывшись в Интернете.
– …Массовое отравление, – сказал отец.
– …Пути господни неисповедимы, – сказала мать.
– …Их всех, должно быть, жутко тошнило… Милая, тебе воды принести?
– …Эта тюрьма, оказывается, рядом с водопадами. Надо же! Там делают такое чудное вино…
– …Многие из них состояли в уличных бандах…
– …Всего сорок два человека, все мертвы…
– … Сорок две девочки…
– …Похоже на коллективное самоубийство…
– …Наверняка никто не знает…
– …Приготовить рагу на ужин?
Последняя фраза, понятно, мамина.
Трудно было во все это поверить. Ори и месяца не пробыла в «Авроре». И умерла. Как же так? Я ведь собиралась ее навестить…
Она погибла в августе. Той осенью мне исполнилось шестнадцать. Я станцевала партию Одетты в спектакле от нашей школы, и станцевала отлично. На следующий год, в семнадцать, мне дали Жизель, и все прошло бы замечательно, если бы Джон не уронил меня во время па-де-де. Зрители замерли, в зале воцарилась мертвая тишина, и я невольно подумала о ней – такая тишина там, где она, теперь навеки? Но я со всем справилась. Мне только что исполнилось восемнадцать. А ей не исполнится. Я жива, и у меня все хорошо. Я успела попробоваться в две труппы на летний сезон, попытала счастья в нескольких репертуарных театрах, пережила два приступа икоты – меня не взяли! да, эти идиоты отказали мне! – но в конце концов увидела объявление о наборе в Джульярд.
Там преподавали не столько балет, сколько контемпорари, и моя наставница скептически покачала головой. Однако во мне словно заговорила Ори. Я смотрела на мир ее глазами, настроилась на нее, пыталась быть ею, входя в танцевальный класс. Мои занятия стали в два раза длиннее, и я удвоила сырный паек.
Я не танцевала партию Жар-птицы с пятнадцати, но для проб в Джульярд выбрала именно ее. Этот танец преследовал меня, как будто что-то во мне требовало отдать дань Ори. Когда я репетировала – в нашей школе или дома, под надзором наставницы или в одиночестве, – мне казалось, что Ори со мной, вторит каждому моему движению. Порой она словно жила во мне – дышала, вытягивалась в струнку, натирала мозоли.
Когда меня приняли, мне почудилось, что приняли нас обеих. Шел месяц за месяцем. Я здорово напугалась, когда потянула ахиллово сухожилие… По счастью, обошлось. Начала встречаться с Джоном, бросила его, ни капли не расстроившись, закрутила роман с Томми – он вообще от балета далек, что к лучшему. Все это время делала вид, что дружу с Сарабет, а на самом деле просто позволяла ей отираться рядом. Окончила общеобразовательную школу с проходным баллом выше среднего – такая умница! Потом началось лето. Последнее лето, которое мне предстояло провести дома. Я знала, что рано или поздно с Томми придется порвать, но пустила это на самотек, а пока каждый день занималась у станка и часами рассматривала свое лицо в зеркале, пытаясь понять, все ли в порядке у меня с виду.
Ибо то, что сидело внутри, начало прорываться наружу.
После того как зрители аплодировали мне стоя и я получила кровавый букет из тряпок, мы с Сарабет поехали ко мне, чтобы переодеться перед вечеринкой. Я вновь поймала себя на том, что смотрю в зеркало. Я в третий раз намылила лицо, ополоснула его водой и вытянула шею. На первый взгляд все в порядке. И тут я замечаю возле мочки каплю фальшивой крови. Провожу по ней пальцем, сую палец в рот. На языке остается сладковатый привкус.
Сарабет ломится в дверь.
– Ви, можно я возьму у тебя что-нибудь переодеться?
– Бери, что хочешь, в комоде или в шкафу с левой стороны. Я эти шмотки все равно здесь оставлю, в Джульярде они мне ни к чему.
Она выжидает. Боится, что ли?
– Выбирай любые.
– Правда? Ты уверена?
– Бери все, что хочешь.
Я чувствую, что никогда не вернусь.
– Ладно, сейчас поищу что-нибудь! Правда, не знаю, как раз мне будет или нет…
Сарабет убирается с глаз долой, и я возвращаюсь к зеркалу. Неужели вина проступила сквозь кожу, и теперь сколько ни умывайся, кровь до конца не смыть?
– Так что, мы не идем на вечеринку?
– Не-а, – мычу в ответ.
Пусть там мои родители, и преподаватели тоже, и мисс Уиллоу, которая занималась со мной эти последние три года. Мама уже два раза звонила и наверняка позвонит еще.
Снова плещу в лицо водой. Выхожу из ванной, Сарабет роется в моем шкафу, на полу лежит груда одежды. Дальше все происходит словно в замедленной съемке: она тянется, чтобы снять рубашку с вешалки и цепляет верхнюю полку.
Полка летит на меня, бьет по лбу острым углом, бьет прямо между глаз, будто бы там осталась красная точка, которую не удалось оттереть мылом.
Обрушиваюсь на колени прямо на ковролин на выходе из ванной. Перед глазами танцует в воздухе ярко-красное перо от балетного костюма. А еще замечаю другую вещь, оставшуюся от нее, хотя я думала, что избавилась ото всех. Среди груды моих старых пуантов, осыпавшихся на ковролин на полу – дырявых, изношенных, маленьких, растоптанных, грязных, с разлохмаченными лентами, – ее пара. Внутри на шелковой подкладке ее инициалы. На своих я ставила три буквы – ВАД, Вайолет Аллегра Дюмон. Я писала посередине заглавную букву второго имени, чтобы остальные не прозвали меня заразной[10]. Ори, следуя моему примеру, тоже подписывала свои пуанты тремя буквами – ОКС. Орианна Катрина Сперлинг.
Беру их в руки. Шелк истерся, ленты растрепались, на носке дыра. Воняют ужасно, будто на помойке лежали.
Твердая стелька подрезана, чтобы пуанты прослужили подольше, потому что она постепенно размягчается. Мы с Ори прочли совет опытных балерин в Интернете. У отца Ори не было денег, чтобы покупать новую пару каждый раз, когда старая приходила в негодность. Мои родители денег не считали, но Ори стеснялась принимать от меня новые пуанты, поэтому мы решили поэкспериментировать. Она держала, а я резала.
Вся сцена отчетливо возникла у меня перед глазами. В моих пальцах зажат канцелярский нож. Мы забились в уголок в раздевалке. Остальные шепчутся и хохочут неподалеку.
Делая надрез, мне хотелось спросить: «Почему ты со мной, а не с ними?»
Я слишком сильно надавила на нож и порезалась. Ори обмотала мне палец носовым платком. Капелька крови упала ей на колготки. На них осталось маленькое красное пятно.
Ори могла подружиться с кем угодно. Я держалась особняком с самого начала, а Ори нужна была подруга. Наша дружба зародилась в тот вечер, когда за ней никто не пришел после занятий. Моя мама встречалась с руководством балетной школы – что-то по поводу ежегодного спонсорского взноса, а мне наказала ждать в машине, но я осталась у входа.
И тут заметила девочку из нашей группы. Ту, с длинными волосами, такими длинными, будто ее ни разу не водили к парикмахеру, – и со смешным, будто бы слепленным из двух, именем – Орианна. Мы начали болтать. Нам было лет по восемь, однако я уже тогда была идейная.
– Когда я вырасту, стану примой! – заявила я.
В то время я говорила это всем подряд. Спустя годы все, в свою очередь, принялись твердить мне то же самое.
– Конечно, станешь! – кивнула Ори, но не сказала «я тоже».
– Да, я стану очень знаменитой. Я перед сном каждый день так пишу в дневнике, чтобы сбылось.
– Значит, сбудется.
– А ты?
Она странно посмотрела на меня исподлобья. В воздухе повисла тяжелая пауза, словно она уже тогда чувствовала, что у нее нет будущего.
– Пока не знаю.
Она оглядела парковку.
– Папа не приедет. Забыл, наверное.
– Пойдем!
Я взяла ее за руку. У меня не было подружек, прежде я брала за руку только маму или папу, когда мы переходили через дорогу.
У нее была худая нежная ладошка с прохладной кожей. И тут по нашим ногам чуть было не проехала коричневая машина, оборвав так и не начавшуюся танцевальную карьеру. Нет, это был не отец Ори. Водитель гневно нажал на гудок, выругался через открытое окно. С ума мы сошли, что ли? Смотреть надо, куда идем. Злой дядька уехал, и я рассмеялась. Мы были всего лишь детьми.
Я привела новую подругу к маминой машине и распахнула дверцу.
– Садись!
Интересно, что было бы, если бы нас все-таки сбила та машина или ее отец приехал за ней вовремя…
Теперь Ори мертва. С тех пор прошло десять лет, в моей комнате копошится Сарабет, а у меня, клянусь, такое ощущение, что Ори здесь, рядом, валяется на кровати, задрав кверху длинные мускулистые ноги с натруженными пальцами. Меня вновь охватило чувство тяжелой утраты. Оно здесь, в моей постели, мне спать с ним каждую ночь, пока я не найду в себе мужества столкнуться лицом к лицу с тем, что натворила.
Нет, я не ездила к ней в тюрьму, возможности не представилось. Так я отвечу, если меня спросят. Но правда в том, что даже если бы они не отравились – это случилось спустя три недели с того дня, как ее привезли в «Аврору-Хиллз», – я не уверена, что отправилась бы к ней на свидание.
Что я могла ей сказать?
Сейчас тюрьма «Аврора-Хиллз» закрыта. Я читала в Интернете, что какие-то вандалы изрисовали там стены и выбили стекла.
Дальше ворот у подножия холма родные и близкие погибших девочек не заходят. Я видела фото на каком-то из сайтов. Приезжают не только родственники и знакомые, наезжают и обычные зеваки, и всякие извращенцы. Прошло три года, август на исходе, вскоре туда снова съедутся люди. Внезапно и мне захотелось отправиться – до того, как начнется общий сбор со свечами и молитвенными песнопениями. До тридцатого августа. До того, как я отправлюсь в Нью-Йорк. Да, так и сделаю. И положу кое-что в братскую могилу из плюшевых медведей всевозможных размеров и цветов, которую я видела на фотографиях, среди самодельных открыток с корявыми подписями – их оставляли слабоумные ученики из коррекционной школы по соседству – и сгнивших цветов.
Больше положить некуда. Могилы у нее нет. Уезжая из города, отец Ори велел кремировать ее тело.
Сарабет суетится рядом, заглядывает мне в лицо испуганными щенячьими глазами. Не глядя на нее, спрашиваю:
– Надо будет съездить в одно место. Поедешь со мной?
– А сколько ехать? А то меня в машине укачивает. Можно, я музыку в дорогу подберу?
Сарабет осекается, потому что я разжимаю ладонь. В ней зажато ярко-красное перышко. Помнит ли она? Я помню.
Это перышко от головного убора костюма Жар-птицы – того самого, что был на Ори в последний раз. Всё, что у меня осталось. Голос Ори твердит мне на ухо одну фразу, и забыть ее, как я пыталась забыть саму Ори, не удается. Больше никогда, вот что она говорит. Больше никогда.
Дыра в ограде
На следующий день я заставляю Томми сесть за руль. Скоро дам ему отставку.
Сарабет сказала, что поедет с нами, пусть даже ее укачивает в машине и я не разрешу выбрать музыку. Пришлось дожидаться, пока она закончит работу. Потом она разнылась, что замерзнет – а мерзнет она всегда, даже самым жарким летом, – и я велела ей взять у меня в шкафу какой-нибудь свитер. Потом мы сочиняли отмазку для родителей, так что выйти из дома удалось уже после обеда. Томми припарковался на улице, зайти в дом не пожелал и не соизволил объяснить, почему.
Мы с Сарабет подошли к машине, но внутри никого не оказалось. Обойдя вокруг дома, мы обнаружили Томми в саду камней – как раз под окнами моей спальни. Причем не одного.
Томми, прислонившись спиной к садовой решетке, коротко мне кивнул, однако не сделал ни шагу навстречу. Наверное, стоило все-таки ответить на его эсэмэски вечером после спектакля.
И тут из тени выходит второй. Я чуть не падаю, приходится ухватиться за стену. Чтобы они не заметили, притворяюсь, что подвернула ногу.
Потираю лодыжку, выпрямляюсь, киваю.
– Привет, Майлз!
Майлз! Рыцарь Ори без страха и упрека, единственный и неповторимый. Сегодня он во всем черном и – надо же! – умудрился совладать с вихром на лбу. За три года, что мы не виделись, Майлз стал выше и гораздо угрюмее.
Он кивает в ответ, не произнося ни слова. Я перевожу взгляд с одного на другого. Томми и Майлз. С каких пор они дружат? Типа шагу не могут ступить друг без друга, или что вообще происходит?
Томми упорно отводит глаза, смотрит мне под ноги. Несмотря на жару, я в закрытых сандалиях. Знает же, я терпеть не могу, когда он пялится на мои ступни. Бейсболку Томми нацепил козырьком назад, руки так и чешутся повернуть ее нормально. На щеках клочки какого-то пуха. До меня доходит, что он пытается отрастить бороду. Какой кошмар! Балетные мальчики никогда не отращивают бороды.
– Привет, Томми! Привет, Майлз! Я и не знала, что ты поедешь!
Сарабет… Интересно, у нее в памяти хоть что-то дольше двух секунд удерживается?
– Сейчас нам Томми все расскажет. Да, Томми?
Я жажду объяснений. Мне очень интересно, с чего вдруг он притащил с собой этого типа, если я решила поехать в тюрьму. Я вообще позвала Томми только из-за машины. Свою я уже продала, а родители Сарабет не разрешали ей брать их минивэн. Причем я ведь сказала Томми, что это мои личные дела, не надо совать в них нос! А он зовет с собой бывшего парня Ори!
Томми тянет меня в сторону.
Я-то думала, хочет извиниться или хотя бы объяснить, что тут делает Майлз, но он лезет целоваться. Интересно, этот болван понимает, что у меня скоро начнется новая жизнь, в которой нет места прежним глупостям? Он никогда не спрашивал меня ни о чем вроде: «Мы расстаемся или как?» Или: «Твою лучшую подругу обвинили в убийстве, ты была свидетельницей на процессе, а потом она умерла в тюрьме из-за массового отравления. Теперь ты хочешь, чтобы я тебя туда отвез. Что случилось?»
Толкаю его, чтоб не колол своей щетиной мне лицо.
– Что он тут делает?
Краем глаза наблюдаю, как Сарабет старательно улыбается и пытается вести светскую беседу с Майлзом. Надо будет шепнуть ей попозже, что он встречался с Ори.
– Я позвал.
– Это еще зачем?
– Он знает дорогу. Бывал там раньше.
– У тебя навигатор есть.
Томми обижается. Он за Майлза горой. Майлз, видите ли, хочет с ней повидаться. Я и говорю: а ты в курсе, что ее там вообще-то нет, она умерла? Томми: так что теперь, Майлзу не ехать? Он же ей письма писал и даже навещал ее вместе с отчимом, а ты?.. Не думала, что ему столько известно об истории с Орианной. Они даже знакомы не были.
Приходится захлопнуть рот.
– Ладно, едем уже.
Машу рукой Сарабет. Та оступается и рушит бордюр каменного сада. Вот же слонопотам!
Майлз ухмыляется, уверенным шагом идет к калитке и нащупывает потайную щеколду. Он в курсе, как она открывается, потому что частенько бывал здесь, только вот приходил не ко мне.
Наверное, именно тогда между мной и Ори что-то неуловимо изменилось. Она начала встречаться с этим Майлзом – понятия не имею, что она в нем нашла, – и ее уже не было рядом все время, как я привыкла.
Ори подходила к окну, обменивалась с ним таинственными жестами, не раскрывая мне их значение, а потом поворачивалась (в моей-то собственной спальне!) и говорила:
– Майлз хочет поболтать, я спущусь на минуточку?
Пока обувалась и натягивала кофту, обязательно спрашивала:
– Пойдешь со мной?
Это ведь был мой дом.
Разумеется, я отказывалась. Делать мне больше нечего, смотреть, как они облизываются у меня в беседке.
– Нет-нет, иди, я тут посижу, все в порядке.
Возвращалась она всегда поздно, на цыпочках. Я уже ложилась, устав ждать. Ори потихоньку устраивалась рядом, потому что я изо всех сил делала вид, что сплю. Она звала меня шепотом, но я не откликалась. Поворочавшись, моя подруга взбивала подушку и, отыскав наконец удобную позу, коротко вздыхала. Конечно же, я все слышала, как тут не услышишь. От ее вздоха веяло счастьем, оно наполняло комнату воздушными пузырьками. Я не открывала глаз.
– Едем уже, – говорю я.
Все вместе идем к нелепой зеленой машине Томми с непомерно большими шинами и белой полосой посередине – тоже мне, гонщик. Я и слова не успеваю вымолвить, как Майлз садится на переднее сиденье, а мне приходится лезть на заднее вместе с Сарабет. Та нудно бубнит, напоминая, что ей может стать плохо и, если она вдруг попросит притормозить, значит, ее укачало, чтобы Томми был в курсе.
Майлз тут же утыкается в телефон. Я впервые заподозрила, что у Ори роман, именно по эсэмэскам в телефоне. Она постоянно их отправляла и получала. Сперва она пыталась скрыть от меня, решив, что мне это не понравится. В общем-то, я и не обрадовалась.
– Как тебе там, впереди, хорошо? Смотрю, ножки вытянул! – обращаюсь я к Майлзу.
Мои коленки упираются в сиденье. Он не реагирует. От него прямо исходят ядовитые пары ненависти, сейчас стекла запотеют. Наверное, мысленно насылает на меня дождь из лягушек, загадывает, чтобы земля разверзлась или меня ураганом снесло.
Трогаемся с места. Вдруг чувствую тепло чужой ладони на плече. Сарабет. Старается утешить.
Ее прикосновение вызывает у меня прилив воспоминаний.
Они связаны не с Сарабет, она мне никто. Но ладонь на плече… Если бы Ори была с нами в машине, она попросила бы не обращать на Майлза внимания, а сама просунула бы голову между передними сиденьями и велела ему быть полюбезнее.
Она терпеть не могла, когда меня обижали. Опять-таки с самого начала она могла сойтись с любой из девочек из нашей школы, ей достаточно было улыбнуться. Общались бы втроем – Рейчел, Гэрмони и Орианна. Может, вдвоем – Гэрмони с Орианной, а Рейчел дали от ворот поворот. Гэрмони стала бы звать ее Ори. А мы бы виделись только мельком – за упражнениями у станка или в общем номере. Однако Ори почему-то выбрала меня. Может, потому, что со мной больше никто не дружил?
В ней сидело стремление защищать слабых и угнетенных. Если все вокруг старательно избегали кого-то, Ори нарочно подходила поболтать, сглаживала углы, помогала почувствовать себя человеком. Взять хотя бы Майлза. Где она только его откопала?
Прищурившись, рассматриваю его в зеркале. И тут до меня доходит. Получается, ее дружба со мной – тоже благотворительность?
На самом деле ехать недолго. Наблюдая за моими метаниями, любой сказал бы, что до «Авроры» несколько дней пути, что тюрьма находится чуть ли не в другой стране. Да, она расположена на севере рядом с озером Онтарио неподалеку от канадской границы. И это недалеко. Даже если Томми планирует соблюдать все скоростные ограничения, поездка займет не дольше трех часов. На экскурсию на Ниагару ехать дольше.
– Зря ты ее надела, – вдруг произносит Майлз.
Первые слова с тех пор, как мы выехали на трассу. Он обращается к Сарабет – должно быть, они знакомы по школе, оба ходят в муниципальную.
Сарабет краснеет. Она вообще то и дело заливается краской. Если мисс Уиллоу хоть чуть-чуть поправляет ее у станка, Сарабет мгновенно становится пунцовой и веснушки у нее походят на капли крови. Белыми остаются лишь кончик носа, руки и ноги. В памяти вдруг всплыло, что я прозвала Сарабет Малиновкой.
– А что не так? – пролепетала она.
Я уже поняла. Майлз имел в виду толстовку, которую она взяла у меня из шкафа. Полосатый свитер с капюшоном. В полоску – оранжевую, желтую, синюю и зеленую. Я бы ни за что не купила такой попугайский наряд. Еще одна вещь, что осталась от Ори.
Майлз помнил эту толстовку. Помнил Ори в этой толстовке. Он из тех парней, что обращают внимание на одежду.
– Он имеет в виду толстовку, – подсказываю я.
– Ой, так это же не моя, я у Ви взяла.
Майлз переводит взгляд на меня. Впервые с момента встречи.
– Ты украла ее до или после того, как упекла Ори в тюрьму?
Я теряю дар речи. И тут Томми яростно давит на сигнал, как будто на дороге возник олень, но никакого оленя не было, и Ори не вернется, никогда не вернется, она умерла.
И к тому же Майлз прав.
– Какая, нахрен, разница, где чья футболка? – орет Томми. – Майлз, это съезд или нет?
Тот отворачивается, смотрит на дорогу. Мы подъезжаем к воротам тюрьмы, ставшей могилой для тех девочек.
Мне нужно посмотреть на это место до того, как уеду, уеду навсегда. Знаю, что подобраться близко не удастся, там все заперто и огорожено. Но может быть, мы увидим вышку или колючую проволоку. Что-нибудь, что расскажет о ней.
Хотя… разве этого достаточно?
Вскоре мы оказываемся на узкой запутанной дороге посреди леса. Я никогда тут раньше не была, однако именно так все себе и представляла. Асфальт бугристый, весь в ямах, даже меня укачало, а Сарабет так вообще опускает голову на колени и жалуется на тошноту. Дорога, петляя, уходит вверх по склону, но сообразить, где мы находимся, мешают деревья. Небо над нами сжимается до крошечной заплатки, просвечивает между верхушками крон. Почти приехали.
Чувствую, что замерзла, хочется попросить назад толстовку, а больше ничего не чувствую.
Проезжаем мимо погнутого дорожного знака:
«ТЕРРИТОРИЯ ТЮРЬМЫ
НЕ САЖАЙТЕ В МАШИНУ НЕЗНАКОМЦЕВ»
По-прежнему ничего не чувствую.
Майлз говорит, что надо остановиться еще до того, как показались ворота. Он и правда бывал тут раньше. Томми раздумывает, где лучше припарковаться. Переживает, как бы не поцарапали его драгоценную машину. Поблизости что-то не видно парковки для долгожданных посетителей.
И вот я стою у ворот воспитательной колонии, в одной руке букет полуувядших гвоздик, который мы купили по пути, в другой зажато перышко с костюма Ори. Что-то мне подсказывает: она хотела бы, чтобы я оставила его здесь.
Не знаю, как, но она все увидит. Посмотрит на нас сверху и поймет. И отпустит меня. Мы пойдем разными дорогами. У меня впереди огни большого города, Джульярд, слава – все, чего я так хочу. У нее – темная бездна вечности.
Подхожу к неказистой свалке из вещей, которые нанесли посетители. Остальные держатся чуть поодаль, за что я им благодарна. После первого покосившегося указателя «Аврора-Хиллз» – 11 миль» мы не встретили ни одной машины. Вокруг никого – ни скорбящих родственников, ни зевак. Томми может не волноваться за машину.
Здесь только мы и полинявшие плюшевые игрушки.
Я опускаюсь на колени. Как много свечей, и ни одна не горит. Все медвежата, которых я видела на фотографиях, по-прежнему на месте. Другие игрушки тоже. Синий дельфин. Кукла с пластмассовой головой почернела, одна нога полностью сгнила.
Музыкальная шкатулка. Внутри крошечная балерина, такая же, как на моем браслете. Родители дарили мне подвески каждый год на день рождения. Ори нравился мой браслет. Я ношу его до сих пор. Кручу заводной ключ. Заиграла музыка, балерина начала кружиться. Хрупкая фигурка легко ломается. Вот уже никто не танцует, только музыка продолжает играть. Сую балерину себе в карман джинсов.
Те трое стоят позади, наблюдая за каждым моим движением. Шли бы себе подобру-поздорову. Так хочется побыть одной.
Между прутьями решетки покоробленный дождем квадрат картона, на котором нацарапано: «Отбросы общества! Вы отвратительные монстры!» Кто-то же не поленился приехать, чтобы оставить его.
Закрываю глаза, дышу глубоко. Пытаюсь думать о Нью-Йорке. Гаденький голосок внутри нашептывает, что не видать бы мне Нью-Йорка как своих ушей, если бы Ори не посадили или – что лучше? хуже? – вообще оправдали.
И тут раздается голос Майлза:
– Вход справа. В ограде есть дыра. Сама тюрьма наверху холма. Идти недалеко.
– Надо же! – Томми пытается изобразить удивление, хотя наверняка знал заранее.
– Стойте, – протестует Сарабет. – Я думала, мы просто положим цветы! Мы что, внутрь пойдем?
Она достает телефон, чтобы сфотографировать букет.
– Мы в такую даль тащились! – возражает Томми. – Что теперь, тут постоим и обратно? Майлз говорит, там есть вход. Идем!
– Есть, есть. Я раньше заходил.
– Скоро стемнеет… – пищит Сарабет и поворачивается ко мне.
– Возьмем фонарики, – предлагает Томми. – Вряд ли они нам понадобятся, но все-таки.
– Это же незаконное проникновение! – продолжает Сарабет.
Ее никто не слушает.
Томми бежит назад к машине и возвращается с ручным фонариком. Говорит, что у него только один, но можно и телефоном подсветить, если вдруг что. Он приволок баллончики с краской. Наверное, купил перед тем, как за нами заехать.
Майлз смотрит только на меня. В глазах у него черно, как в омуте, волосы растрепались от ветра, на губах играет ядовитая усмешка.
– Ви! – пищит Сарабет. – Вайолет! Вы правда туда собираетесь? Может, я возле машины подожду?
Я даже ухом не веду. Парни тоже.
Майлз был ближе с Ори, чем я. Он приезжал сюда, а я нет. Он видел то, чего я не видела. Он знает слишком многое, а я не знаю.
На память начинает приходить много всякого разного. Она ведь все-таки рассказывала мне, что между ними происходило. И о том дне, когда они переспали у него дома, тоже. О том, как все прекрасно. Как бережно и нежно он с ней обошелся. Наверное, мне надо было восхититься, но я не сумела выдавить из себя ни слова. Почему ей все, а мне ничего? В танцах у нее все получалось с полушага, так что дома она практически не занималась. И растяжка, и гибкость были у нее от природы, ей не приходилось потеть часами, чтобы укрепить лодыжки. Она не спала в пуантах, чтобы растянуть стопу. А теперь у нее появился любящий парень!
– Думаешь, нам стоило подождать? – спросила она, потому что я молчала.
– Кто я такая, чтобы тебе указывать. Ты всегда поступаешь, как хочешь. Разве тебя когда-нибудь волновало, что я думаю?
Гадкий вопрос, на который она не ответила.
И вот Майлз стоит передо мной, сжимая кулаки, подначивает пойти туда, будто уверен, что у меня кишка тонка.
– Идешь?
Это не Томми он спрашивает и не Сарабет.
Так что, я иду? Иду, чтобы увидеть место, где она провела последние дни своей жизни, где съела отравленный обед, где ее в последний раз вырвало? Или все-таки кишка действительно тонка? Хватит ли сил? Есть ли у меня сердце? Смешно! Точнее, было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь это последние слова Ори, обращенные ко мне в зале суда. Она бросила их мне в лицо, когда ее уводили охранники. В глазах Ори бушевала ярость, которой я прежде не видела. Да, так она и сказала.
– Все на твоей совести, Ви. У тебя вообще сердце есть?
Есть. Клянусь, что есть. А сейчас покажите мне дырку в ограде.
Просто толкнуть
Как здесь неуютно. Карабкаться наверх пришлось куда дольше, чем я рассчитывала.
Мы продирались через кусты, заросли сорняков, остатки колючей проволоки. Когда добрались до вершины холма и над нами нависла громада из серого камня, все тяжело дышали, а сердца бились где-то у горла, даже у меня, хотя уж я-то должна быть выносливей.
Майлз показывает на покосившийся кусок ограды. Пройдем здесь, свернем на другую дорогу, а там поднырнем под забор, и на месте, говорит он.
– Вы уверены? – пищит Сарабет, указывая на табличку, гласящую, что стена под напряжением.
– Да брось, его отключили сто лет назад, никто не поджарится, – уверяет Майлз.
Сарабет колеблется.
Майлз смотрит на меня. Я киваю. Меня электричеством не проймешь, тем более что оно не работает.
Томми оборачивается ко мне с удивлением.
– А ты не говорила, что ее держали в тюрьме для особо опасных!
– За два убийства? Чего ты хотел! – доносится мой ответ.
И говорить, и слышать это мне неприятно. Почти больно. Вокруг мгновенно сгущаются сумерки, словно надвигается гроза.
Майлз испепеляет меня взглядом. Будь у него в руке камень или еще какое оружие, число жертв возросло бы до трех. До четырех, мысленно поправляет он. Согласна, ведь если по-честному, Ори ведь тоже надо причислить к жертвам.
И здание тюрьмы, и лес вокруг – все отбрасывает в глубь веков. Мне прекрасно известно, что в сторожевых башнях никого нет, но почему-то чудится, что оттуда за нами следят недружелюбным взором. Стены из серого камня. Со всех сторон напирают деревья, берут нас в кольцо, их сдерживает только ограда. Ни спасения, ни надежды. Ни дать ни взять мрачная средневековая крепость.
Я слышала, сюда привозили девочек от тринадцати лет. В голове не укладывается. Перед глазами возникает призрак Ори. Она стоит передо мной, одной рукой держась за ограду, – пятнадцатилетняя, такая же, какой я видела ее в последний раз. Хотя нет, это не та Ори, которую я знала. Это Ори, в которую я ее превратила.
На ней комбинезон оранжевого цвета. В лучах заходящего солнца Ори светится, как фонарь. Сальные растрепанные волосы заправлены за уши. В другой руке – зачем, почему, откуда? – лопата.
Ори отрывает руку от ограды, тянет ее ко мне, машет, как будто зовет подойти ближе.
Делаю шаг вперед, глаза прикованы к ней, поэтому не смотрю вниз, на землю, и попадаю ногой в яму, оступаюсь, падаю на одно колено прямо в грязь.
Майлз смеется. Томми сперва тоже ржет, но, напоровшись на мой взгляд, осекается. Он протягивает руку, но мне не нужна его помощь. Поднимаюсь, ощупываю лодыжку, аккуратно наступаю на ногу. Не сломала ли? Нет, все в порядке.
Смотрю вдаль. Ори исчезла. Не спрашиваю, видели они ее или нет. Конечно, не видели. Им это не под силу. Даже Майлзу.
– Пойдем туда, – говорит он.
Почему так настойчиво меня туда зовет? Неужели думает, что, оказавшись внутри, я пойму что-то такое, чего не пойму снаружи?
Незачем меня подстрекать. Мне самой нестерпимо хочется туда войти. Столько вопросов, на которые надо получить ответ. Как чувствует себя человек, очутившись под этой крышей, за этими толстыми стенами? Пробирает ли мороз по коже, так что хочется укутаться в свитер? Или, наоборот, прошибает пот? Можно ли вытянуть ноги, лежа на койке? Подушки там есть? Что будит по утрам – окрик охранника или сирена? Разрешают поспать подольше в субботу, или за решеткой все дни текут одинаково?
Раньше я гнала от себя эти мысли, а теперь они вдруг мной завладели. Захотелось знать все. Приходилось ли раздеваться догола, когда обыскивали? Случались ли изнасилования? Например, в душе? И как вообще одна девушка может изнасиловать другую? Бывали ли бунты? И если да, били потом охранники или нет? Если да, то дубинками? Или электрошокерами? Как это, когда тебя бьют электрошокером? Наверняка тут действовал целый свод правил. Сбивались ли девочки в группы? И если да, то как – белые с белыми, а чернокожие с чернокожими? А к какой тогда следовало примкнуть, если ты, например, мулатка, как Ори?
Конечно, я никогда не задала бы подобных вопросов вслух. Хотя в голове их вертелось по-прежнему бесчисленное множество. Как это, когда тебе вот-вот должно исполниться шестнадцать, а ты попадаешь сюда после суда, на котором ты отказалась говорить – удивительно и бессмысленно, но у Ори наверняка были на то свои причины, – а затем вошла в эту дверь, вот как мы сейчас, и увидела гулкий пустынный холл, и поняла, что это конец, здесь теперь твой дом?
Внутри темно и отвратительно воняет, пол усыпан битым стеклом. Отовсюду сочится вода; от влажности на коже сперва выступает испарина, а уже в следующую секунду все тело охватывает леденящий холод. Всюду следы разрухи – висящие на одной петле двери, выбитые окна, исписанные стены. Кажется, что так было всегда, хотя я понимаю, что этот холл выглядел совсем иначе, когда ее привезли.
Сарабет, Майлз и Томми крутятся где-то рядом, но мне до них дела нет. Мне хочется пережить то же, что и она, пройти ее дорогой.
Если бы я предстала перед судом, меня все равно не упекли бы сюда, родители легли бы костьми, но этого не допустили. За Орианну Катрину Сперлинг никто не вступился.
У Ори дома был крошечный садик, она обожала с ним возиться. Когда мы с мамой заезжали за ней по пути на балет, Ори встречала нас с выпачканными коленками. Она дарила маме букеты, однако цветы были слишком яркими для нашей гостиной, и мама ставила их в вазу без воды, так что на следующий день они засыхали.
Ори ужинала у нас пять раз в неделю – понятно, почему моя мать считала, что это мы вырастили ее.
Ори не замечала неискренности в ее голосе. Обнаружив, что цветов нет, она приносила другой букет.
Меня не волновало, что думает об Ори моя мать. Оставайся ночевать, когда захочешь, звала я. Мне с ней не было одиноко.
А у нее была я. Когда адвокат запретил мне общаться с ней, Ори осталась одна.
Майлз вырывается вперед. Видно, знает, куда идти.
– Нам сюда, – машет он.
Томми выхватывает лучом фонарика надписи на стенах и зачитывает их вслух:
– «Рей шесть ноль девять». «Класс! Люблю вас, сучки».
Я шагаю следом за Томми, позади плетется Сарабет, практически наступая нам на пятки.
– «Бриджет Лав». Опять «Бриджет Лав». «Монстры, монстры, монстры».
Какая чушь. Об Ори нигде ни слова.
– Вдруг здесь водятся бомжи? – шепчет мне на ухо Сарабет. – Сейчас как набросятся на нас с битами! У них-то, небось, глаза к темноте привыкли.
Уж не знаю, каких она ужастиков насмотрелась. Просто молчу в ответ. Она не слышит. И остальные тоже. Как тут услышишь, если Томми скачет как бешеный, пинает все двери, изображает из себя охранника-садиста?
Майлз привел нас к камерам – снизу и сверху два ряда одинаковых железных дверей. Общее пространство посредине занято какими-то партами со скамейками, намертво прикрученными к полу.
Нужно что-то сказать, что-то важное, а на языке крутится всякая ерунда – вроде того, как же тут холодно, вот это мы забрались. Хотя, похоже, дрожу только я. Обхватываю себя за плечи.
Высоко под потолком, без лестницы не добраться – окна. То есть как окна. Узкие прорези в стене. Сквозь них проникает немного света, чуть разбавляющего окружившую нас тьму.
– Она сидела в этом крыле, – рассказывает Майлз, указывая на зеленую дверь. – Вот, третья камера. Она так писала в последнем письме.
Похоже, он ждал, что я вздрогну при словах о последнем письме, но я невозмутима. Ему хочется, чтобы я начала расспрашивать, о чем она писала. Обойдется.
Дверь в камеру нараспашку. Рядом на стене – старая потертая табличка, висит на одном шурупе. Наклоняю голову и читаю:
«38 СМИТ»
И при чем тут Ори?
– Это не ее, – отступаю назад.
– В камерах сидели по двое. Наверное, это вторая. По-моему, ее фамилия как раз Смит. Как же ее звали?.. Эшли? Эмми? Энн? Как-то на «Э».
Сарабет изучает табличку, проводит по ней пальцами.
– Тридцать восемь, – произносит она со значением, будто в этих цифрах есть тайный смысл. – Интересно, что она натворила? Тоже убила кого-нибудь?
Майлз грозно сверкает глазами.
– Наверное, – говорю я. – Тут почти все убийцы.
Я читала об этой тюрьме гораздо больше, чем может предположить кто-то из моих спутников.
Протискиваюсь внутрь мимо Майлза и Сарабет. Томми остался позади, уже залез на парту.
Камера очень тесная, мой шкаф в два раза больше. Крошечное окно в стене заросло плющом, так что почти ничего не видно. Я давно отобрала у Томми фонарик – он ведет себя отвратительно, свет ему ни к чему – и, стоя в дверях, осветила им камеру. Сама я оставалась в темноте, свет падал лишь на носки моих сандалий. Я инстинктивно поджала пальцы, слишком уж воинственно они торчали вперед.
Те двое позади меня молчали, затаив дыхание. Луч света блуждал по камере в тишине, освещая все то, что видела Ори в последние дни своей жизни три августа тому назад. Даже Томми слез с парты и подошел к нам.
Узкая койка, двухэтажная, как в летнем лагере, и твердая, словно камень; спинка у нее прикручена к стене. Здесь ничего нельзя двигать, все навсегда застыло намертво. Хотя нет, вот перевернутый стул. Неожиданно для самой себя ставлю его на ножки и сажусь. Скорее всего, Ори тоже сидела на нем, если это и впрямь ее камера. Осторожно задвигаю стул за прикрученную к полу парту. За ней Ори писала Майлзу письма. Если это ее парта. А вообще, какая разница, если мне она все равно не писала.
Какой жуткий туалет, на унитазе даже нет сиденья. По нужде приходилось ходить на глазах у сокамерницы, у охранников – ведь любой из них мог заглянуть сюда, когда вздумается. А запах, а стыд… Это бесчеловечно. Отворачиваюсь, однако деться особо некуда. В такой комнате не потанцуешь.
Крошечное окно под потолком открыто, но забрано решеткой, так что внутрь не проникнуть. На верхней койке покрывало из веток, жухлых коричневых и зеленых листьев, обильно политых водой. Сквозь решетку пробиваются буйные заросли плюща. На лозе – ядовито розовый цветок. Он не похож на те розы, которые кидали мне под ноги. Дотрагиваюсь до него, и в палец впивается острый шип.
Позади меня толчется Майлз. Комната слишком тесна для нас обоих. Надо, чтобы кто-то набрался смелости и сказал: «Убирайся, оставь меня в покое».
Томми снова куда-то исчез, наверное, сеять разруху. Сарабет, похоже, отправилась за ним. Даже в такой момент не могу не отметить про себя, что моя подружка слишком охотно уединяется с моим парнем, пусть я и собиралась его на днях бросить.
– Не могу представить ее здесь. А ты? – спрашивает Майлз.
Вдалеке мне опять чудится нарастающий гул: какие-то крики, какие-то песни, будто вдалеке идет футбольный матч. Но Майлз задал мне вопрос и ждет ответа, смотрит на меня, хочет услышать слова, что сорвутся с губ.
– Я тоже.
Я не могу представить здесь никого из знакомых, хотя с воображением у меня все в порядке. Просто в голове не укладывается, что кто-то из них совершил нечто такое, чтобы попасть сюда. Тут я наконец вспоминаю о пальцах на ногах и разжимаю их.
– Да уж, – вздыхает Майлз.
Очевидно, я дала правильный ответ.
Иногда просто диву даюсь, до чего он становится доверчив, когда речь заходит об Ори. Неужели он правда считает, что она невиновна, и мечтает это доказать? Как бы он повел себя, обнаружив направленное на себя лезвие? Окровавленное лезвие в окровавленной руке? Попытался бы забрать его у меня? Закричал бы? Сбежал?
– Но я пытаюсь представить, – заговорил он и сделал шаг в сторону, загородив мне проход. Один шаг – вот все, что он может позволить себе в этой камере. – Надо представить. Потому я и приехал уже в третий раз. Мне все казалось, что на месте получится лучше.
– И как? – спрашиваю полушепотом.
В каком-то смысле мы с Майлзом похожи – серьезные, замкнутые. Только Ори могла пробить нашу бронь. Так она говорила. Если бы Майлз попал в беду, насколько далеко зашла бы Ори, чтобы помочь ему? А ради меня?
– Нет. Не получается.
В общем-то, если присмотреться как следует, я могу понять, что она в нем нашла. Медленная грация движений, которую подметил бы любой танцор, внимательный, сосредоточенный только на тебе взгляд. Очень приятно чувствовать себя в центре внимания.
Я падка на подобные вещи. Если он положит вдруг мне руку на плечо, подвинется ближе и наклонится – губы к губам, – я не отшатнусь.
– Я надеялся, что здесь… Понимаешь, как бы это сказать…
Неожиданно для себя продолжаю его фразу:
– Все обретет смысл?
– Нет. – Он отворачивается, и я больше не вижу его лица. – Ты – единственный человек, который может вернуть всему смысл.
Чувствую, что заливаюсь краской, совсем как глупышка Сарабет. Приходится отвести глаза.
– Да, только ты.
К стене прилеплен измятый листок бумаги, его кончик застрял между стеной и спинкой койки. Если он сохранился здесь с того времени, я хочу знать, что на нем.
– Вайолет!
Ненавижу, когда меня зовут полным именем.
Отрываю от стены листок бумаги и разглаживаю. Не могу представить себе Ори в этом месте. Ни на верхней койке, ни на нижней, ни в том углу, ни в этом, ни на том пятачке, где стоит Майлз, ни на стуле, ни на унитазе, ни у стены – но почему-то легко представить ее с этим клочком бумаги. Внутри зреет чувство, что она наверняка приложила к нему руку.
Это рисунок. На нем голова. Одна голова, даже без плеч.
Плотно сжатый рот, недоверчивые глаза, торчащие уши. Простой, незатейливый, честный портрет. Щурюсь, как будто от яркого света.
Майлз произносит вслух то, что я не решаюсь сказать.
– Это же ты!
Да, это мой портрет, и Ори сделала так, чтобы я нашла его. Пальцы непроизвольно разжимаются, и я роняю листок. Наклоняюсь, чтобы поднять, и слышу, как позади захлопнулась дверь.
Майлз вышел наружу. Закрыл меня в камере.
До двери всего лишь несколько шагов, но вокруг сгустилась тьма, будто мне на голову набросили мешок, и я не вижу, куда идти. Рвусь вперед, бьюсь ногой… должно быть, об унитаз. Раздается всплеск, что-то скользкое, мокрое на моих джинсах. Отступаю и ударяюсь в стену. Шарахаюсь в сторону, острая сталь режет мне шею. Должно быть, край койки. Хватаюсь за горло, отшатываюсь назад. На меня со всех сторон наползает невнятный шепот. Кажется, он идет отовсюду – сверху, снизу, из соседних камер, сочится через каменные стены.
– Сейчас заноет! Стой, стой, подожди! Спорим, завоет, как сучка?
Кто, я? Они обо мне?
– Хватит! – кричу. – Стоп!
Я в западне. Тесно, трудно дышать. Я опять в том туннеле, в курилке, где были мы обе. А потом она услала меня прочь, сказала, что все устроит. Да, сказала она мне, беги, и я побежала, да так и бегу до сих пор.
Если бы я рассказала все, как было, на суде, что тогда? Меня бы привезли сюда с нею вместе, и мы бы вместе съели отравленный обед, а потом в нашу честь возвели бы тот алтарь из полусгнивших плюшевых игрушек?
Я поворачиваюсь в сторону двери, и шепот стихает. Внутри одна тишина и запах пыли. Чихаю.
Глаза чуть привыкли к темноте, мрак рассеивается. В двери забранное мелкой сеткой окно. Выглядываю в него. Фонарик не включается.
В окне лицо Майлза. До меня доносится его приглушенный смех. Выждав, пока он успокоится, кричу:
– Очень смешно, Майлз! Выпусти меня! Открой дверь!
Тяну ее на себя, она не поддается.
– Ну, как? – кричит он. – Привыкается?
– Открой дверь!
– И сколько лет выдержишь, а? В такой камере?
– Майлз, открой дверь!
Он закрывает окошко. Не знаю, чем. Мне ничего не видно. Может, просто прикрыл его рукой, а может, там есть железная заслонка.
Снова темно. Тяну изо всех сил, налегаю на ручку всем весом… Ничего не помогает.
Не слышу ни звука, дверь слишком толстая. Майлз закрыл меня и ушел. Бросил в этой тесной и темной камере.
Холод, подобно назойливому комару, подбирается все ближе. Мне страшно вновь услышать гнусный шепот тех, что назвали меня сукой. Я вся дрожу, изо рта вырываются облачка пара. Меня пробирает до костей. Теперь я знаю, что значит умирать в одиночестве.
– Выпусти меня!
И тут раздается щелчок, будто открылся замок. Откуда у Майлза ключ? Все улетучивается из памяти – где я, кто я, что натворила.
Прижимаюсь щекой к стальной поверхности.
Толкаю. Дверь поддается. Не была заперта, так, что ли? Стоило просто толкнуть?
Я бегу прочь
Мне кажется, или стало темнее?
Я провела в камере Ори за закрытой дверью несколько минут и теперь вырвалась на свободу, но вокруг душная, вязкая, как смола, тьма. На теле выступает пот, футболка липнет к и так липкой коже. Тяжелые капли, срываясь сверху, обрушиваются мне на спину, струйками стекают по позвоночнику. Капли сбегающие со лба, разъедают глаза. Мне стыдно за то, что там, в камере, я так разоралась. К тому же у меня теперь саднит царапина на шее, ломит бедро, а голень распухла.
– Томми! Сарабет!
Вдали прокатился какой-то гул – должно быть, всего лишь отзвук моего голоса.
Ни Томми, ни Сарабет не откликаются.
Ненавижу себя за слабость, но зову его:
– Майлз!
А ведь на долю секунды я подумала, что он хочет меня поцеловать. Какой же кошмар и стыд! Хуже того, я бы ответила на поцелуй. Мне бы и в голову не пришло его оттолкнуть.
Никто не откликнулся, ни он, ни Томми, ни Сарабет. Куда они все подевались?
Иду вперед. Пробую включить фонарик. Он зажигается.
По-моему, у меня слуховые галлюцинации. Когда иду, то слышу все тот же гул голосов, а стоит остановиться, как он затихает. Кто там кричит? Томми? Сарабет? Нет, одному такой шум не поднять. Похоже, там много людей. Малюсенькие окна под потолком бесполезны, они почти не пропускают света. Передо мной лишь тусклое пятно от моего фонарика. Остается лишь шагать вперед по этому коридору.
Внезапно у меня в ушах зазвучала песня Бейонсе. А ведь я не люблю Бейонсе!.. Через мгновение все стихает, ни слов, ни мелодии больше не слышно.
Стены здесь начали рушиться. Какие-то покосившиеся полки полувисят-полулежат на земле. Спустя несколько секунд до меня доходит, что я шагаю не по мху, как мне показалось сперва, а по изорванной на мелкие клочки бумаге – страницы из книг. Очередная полка загородила проход, приходится ее сдвинуть. Нечаянно ступаю на размокшую книжку – все, что осталось от «Завтрака у Тиффани». Книгопечатное месиво липнет к моей сандалии. С отвращением трясу ногой. Только потом до меня доходит, что фонарика в руке больше нет. Наверное, упустила где-то по дороге.
Слышу голос Томми. Он кричит, что нашел рубильник, сейчас включит его и посмотрит, что будет. Кричу: «Не лезь!», но поздно, все уже сделано.
Зажигается свет – тусклый, бледно-зеленый. Оглушительно воет сирена, будто во время воздушной атаки.
Томми ругается. Видимо, он повернул еще какой-то выключатель, потому что лампочки начинают взрываться, в воздухе пахнет горелым. Сверкает искра, подобная молнии, отражается в моем браслете.
Он все еще у меня на руке. Ори была равнодушна к украшениям, однако этот браслет ей нравился. Она поддевала ногтем фигурки балерин, чтобы они плясали. Каждый год родители дарили мне по новой подвеске, их собралось довольно много, я легко могла снять парочку для Ори, но так и не сделала этого. И поносить браслет не предлагала, не давала примерить даже у себя в спальне, где бы она его точно не потеряла.
Я выхожу в просторный холл. Все стихло. Глаза уже привыкли к полутьме; видны надписи и рисунки на стенах, комки пыли и трубы с облупившейся краской, отставшие лоскуты штукатурки. Поднимаю руку, чтобы прикрыть рот и нос.
И тут на меня будто обрушивается ледяной водопад. Я цепенею от ужаса. Не может быть! Я ни за что не расскажу об этом ни Томми, ни Майлзу, ни Сарабет. Они все равно не поверят, станут расспрашивать, а мне не хочется расспросов. Я едва отваживаюсь спросить себя, правда ли это.
Но я ее вижу. Я вижу Ори. Или кого-то другого? Клянусь, здесь кто-то был. Шагаю вперед. Не знаю, зачем, однако окликаю ее по имени.
– Ори! Это ты?
В темноте что-то движется, мелькает быстрее, быстрее, подобно танцу, который я никогда не смогу повторить, а уж темпа мне всегда хватало.
В серых сумерках силуэт в зеленом комбинезоне. Она видит меня, она спускается по лестнице, она идет ко мне.
Останавливается и хрипло спрашивает:
– Кто ты? Как ты сюда попала?
И тут я понимаю, что комбинезон на ней грязно-зеленого цвета, а Ори любила ярко-зеленый, праздничный. И эта девушка ниже ростом. Ори была высокой, выше меня. Незнакомка полнее, шире в груди, напоминает бульдозер – ничего общего с изящной Ори Сперлинг. И голос чужой.
Я не знаю, кто это, что это.
Отступаю назад, шепчу:
– Кто ты?
– А ты кто такая?
– Как ты тут оказалась?
– А ты?
Неужели я говорю с призраком?
Ноги сами собой приходят в движение. Они знают, что делают. Па-де-бурре[11] и па-де-ша[12] запечатлелись в мышечной памяти навечно. Но сейчас включается основной инстинкт. Я бегу прочь.
Часть IV. Эмбер и Орианна
Пусть лежит – счастливый прах С пятаками на глазах Эдна Сент-Винсент Миллей«Эпитафия»И вот я одна
И вот я одна впервые за три года, один месяц и тринадцать дней (да, я считала). Одна в камере за закрытой дверью, даже окно в ней задвинуто ставнем. Наконец-то наедине с собой.
Бойся своих желаний – это всем известно. Лучше бы их вовсе не иметь. Я оказалась в одиночной камере в четвертом корпусе, об ужасах которого из уст в уста ходили легенды. (Мы пересказывали друг другу историю о девице, которая пыталась отъесть ухо у сокамерницы. После второй попытки ее заточили в четвертом корпусе, и плотоядная кротиха никогда больше не видела солнечного света. Суицидниц – так мы их прозвали – тоже держали в этом корпусе, по ночам здесь регулярно делали обходы. Каждый божий день после уроков их обыскивали и отнимали ручки с карандашами, потому что в 93-м году какая-то из них попыталась проткнуть себе горло шариковой ручкой.)
За годы, проведенные в «Авроре», я множество раз катила свою тележку с книгами мимо входа в четвертый корпус. Я нарочно замедляла шаг, чтобы разведать, что там творится. Внутри было мрачнее, чем в других корпусах, оттуда часто доносился вой.
А теперь я находилась внутри и понятия не имела, выберусь ли отсюда. Если кто-то попадал в одиночку – между собой мы прозвали эти камеры норами, – шансы на перевод обратно были невелики. Ходили слухи, что кротиха до сих пор где-то здесь.
Даже двери тут отличались – в других корпусах они были зелеными. Меня переодели в желтый комбинезон, в темноте он заметнее – легче выследить, если вдруг замки снова откроются, и я окажусь снаружи второй раз за неделю. Темно-серая армированная панель на двери, которую не удосужились покрасить, была грубой и шероховатой на ощупь. Я вписалась в нее с разбегу, чтобы кто-нибудь услышал и пришел, ведь окно было задвинуто. От этого на лице и руках остались саднящие царапины.
Остаток ночи я провела, лежа на полу, потому что здесь не было даже койки.
Остальные вернулись в прежние камеры. Защелкнулись замки, и воцарилась тишина. Нас охватили отчаяние и безысходность. Безумная ночь подошла к концу.
Никто так и не уснул. Мы прислушивались в надежде узнать, что произошло. Из-за запертых дверей доносился приглушенный разговор охранников. Слов не разобрать, но в их голосах явно слышались недоумение, растерянность, даже страх. Прежде нам никогда не удавалось напугать наших мучителей.
Охранники пытались понять, как это могло произойти, почему они все отвернулись как раз в тот момент, когда система вышла из строя и замки открылись. Почему во время ночного дежурства они беспечно покинули посты. Один вышел в туалет, двое других – покурить. Четвертый проверял предохранители в подвале и в темноте не смог выбраться наружу. Такое совпадение было сродни чуду.
Конечно, охранников мы не жалели. Надеялись, что им как минимум впаяют выговор и оштрафуют. Или уволят. Другие лелеяли мечту о том, что провинившихся надзирателей высекут во внутреннем дворе.
У многих девушек остались синяки от их лап, а в ушах стоял звон от криков. Одну из девушек на лестнице сцапал Минко, самый жестокий из охранников, и отходил ее дубинкой так, что она несколько дней не могла присесть.
Другой охранник швырнул Джоди в камеру, при этом огрев ее по лбу, когда закрывал дверь. Поняв, что ушиб девушку, он гадко ухмыльнулся. Джоди удар пришелся не по вкусу, хотя раньше она сама кидалась на дверь, желая почувствовать боль.
Некоторые из нас, поняв, что охранники вернулись, сразу затаились. Шери метнулась в камеру и улеглась на койку, зарывшись лицом в подушку, будто и не выходила. Пичес дождалась в темном углу, пока все уляжется, а потом пробралась в первый корпус. Натти просидела на полу, напевая себе под нос и опустив глаза долу, чтобы ее не обвинили в нарушении.
Пара девиц вовсе не выходили из камер той ночью, так что наказывать их было не за что.
Мак из третьего корпуса предавалась мечтам. Что было бы, если бы она не спрятала тот кошелек в своем шкафчике, а потом не вцепилась в лицо директору школы, за что ее сперва исключили, а затем посадили сюда. Она возвращалась мыслями все дальше – пять, шесть, семь, восемь, девять лет назад – к самой первой ошибке, после которой все пошло-поехало. Если бы та восьмилетняя девочка с двумя косичками просто прошла мимо чужого розового велосипеда… Всеобщая вакханалия давно закончилась, ее сокамерница вернулась, а Мак все думала о том, что было бы, если бы она просто прошла мимо.
Лола вдруг вспомнила, что, выходя, оглянулась на пороге камеры. Каннибальша Кеннеди мешком растеклась по полу, неясно, живая или мертвая. Лола влилась в толпу и неслась по коридорам, совершенно позабыв о Кеннеди, не думая о том, сколько лет добавят к ее сроку, если та и вправду мертва. Когда Лола пришла в себя и вернулась в камеру, Кеннеди на полу уже не было. Лола чуть с ума не сошла при мысли о том, что Каннибальше – самой тупой, самой ничтожной, самой презираемой – единственной из всех удалось вырваться на свободу. А потом она разразилась гомерическим смехом. Выяснилось, что Кеннеди уползла зализывать раны под кровать.
Дамур охранники нашли снаружи. Та все еще держалась обугленной рукой за решетку.
Большинство из нас вернулись в прежние камеры. Кто-то улыбался во сне и сладко потягивался, кто-то, заслышав всхлипывания с верхней или нижней койки, велел подруге заткнуться, а кто-то сам чувствовал подступившие к глазам слезы и лежал тихо, не смея вымолвить ни слова.
Чтобы найти всех, сосчитать и водворить обратно по камерам, еще раз пересчитав для порядка, понадобилось несколько часов. Мы думали, что ночь свободы станет главным событием лета, запомнится навсегда, о ней станут рассказывать новеньким. Мы понятия не имели о том, что последует дальше.
Когда охранники угомонились и разошлись по постам, мы сами сделали между собой перекличку.
Перешептывались через вентиляционные шахты. Если кто-то не вернулся в камеру, остальным хотелось узнать об этом еще до того, как заорет утренняя сирена и врубят разъедающий глаза свет.
– Эй, вы там? – летел шепот из третьего крыла в первое.
– Здесь, – отвечали оттуда.
И так снова и снова, пока все не откликнутся. Здесь, здесь, здесь.
Во втором корпусе отверстия шахт находились у самого пола. Летом рядом с ними клубилась пыль. Зимой оттуда не доносилось ни малейшего дуновения теплого воздуха, в котором мы так отчаянно нуждались. Но если наклониться под определенным углом, через эту дырку можно было заглянуть в соседнюю камеру. Зарешеченное окно в другую жизнь.
Все здесь. Все вернулись. Никто не сбежал. В голосах звучало разочарование.
В ту ночь вся «Аврора-Хиллз» гудела, словно улей. Охранникам не удалось бы заставить нас замолчать, даже если бы они попытались.
Всем нам хотелось узнать, как далеко кто зашел.
Те, что остались на месте, молчали. Те, что высунули нос наружу, разбили пару витрин в столовой и объелись солеными чипсами, охотно делились рассказами о своих похождениях. А те, что бились во все двери и пытались поднять ворота, устремив глаза на дорогу, говорили об этом с нескрываемой гордостью.
Если бы меня отвели обратно в камеру во втором корпусе, я бы тоже поговорила с остальными. Расспросила бы о том, видел ли кто Дамур, знает ли, что с ней. Мы порассуждали бы о том, какой разряд может вынести человек. Конечно, я бы больше слушала, чем говорила, но не легла бы спать, пока все окончательно не умолкли.
Выяснилось, что в четвертом корпусе не слышно ни слова, только глухие удары, если с размаху бьешься о дверь. В камере не было стульев – ничего, что можно обрушить о стену; в твоем распоряжении лишь собственное тело.
Довольно скоро я поняла, что в четвертом крыле девочки переговаривались с помощью своего рода азбуки Морзе, пусть мне не всегда до конца было ясно, как расшифровывается тот или иной стук. Три коротких удара значили «Я жива». С помощью двух других комбинаций можно было спросить «спишь?» или сообщить, что полицейские – скоты. Два удара о стену говорили о том, что хочется есть, хотя соседка и не могла помочь. Один бросок всем телом мог значить многое. «Выпустите меня!» – первое и очевиднейшее. Или: «Какая все-таки гадость ваш сэндвич с тунцом!», или «Да пошло оно все!» А может, соседка просто упала в обморок, как знать.
Я колотила руками и ногами в стену, пока не выбилась из сил. Мне хотелось рассказать, что:
Я Эмбер. Я из второго корпуса. Я выбралась наружу. По крайней мере, мне так кажется. Я видела чужую девушку. Клянусь. А еще я могла сбежать. Но не сбежала. Не знаю, почему.Смысла в моей тарабарщине, конечно же, не было, но мне всегда нравилось чувствовать себя заодно со всеми, быть частью коллектива, пусть остальные девочки никогда не кивали мне за обедом и даже не думали извиняться, случайно толкнув в коридоре. А теперь я была отрезана от мира.
Однако вскоре все наши смолкли – устали.
Следующим горьким утром мы проснулись за запертыми дверями, словно после войны.
Я ощутила ужас пробуждения сильнее, чем кто бы то ни был. Моя одежда была по-прежнему мокрой и грязной, горло саднило. Меня повязали снаружи. По-моему, Лонг или Марблсон. А потом подоспел второй охранник и попытался схватить меня за ноги, но я пиналась изо всех сил, так что у Лонга (или все же у Марблсона) должен остаться синяк. Выходит, я оказала сопротивление.
Зато стены тюрьмы вновь стали зелеными, надписи с рисунками исчезли. Это принесло небольшое утешение, почти как плюшевый ягненок, с которым я засыпала в детстве, еще до того как мама вышла замуж за Этого.
И вот настало утро воскресенья. Или уже понедельника? Или вообще даже вторника? Да нет, вряд ли.
Я лежала на полу в одиночной камере в четвертом корпусе для суицидниц. В горле до сих пор першило – я кричала как резаная, когда меня сюда волокли. Я села и потерла шею. Вся кожа была в ссадинах от шершавых панелей. Я попыталась подняться, но голова закружилась, ноги не держали; пришлось снова сесть.
В одиночке постоянно горел свет, который час, не определишь. Я убеждалась, что время действительно идет, а не стоит на месте, только когда в дверное окошко просовывали еду. Если я спала, свернувшись на жестком матрасе, поднос не оставляли. Не знаю, сколько приемов пищи я пропустила.
Я всегда была спокойной девочкой. До моего ареста все вокруг считали меня сдержанной и замкнутой. Учителя писали так в характеристиках. И на суде это сыграло против меня. Судья решил, что это свидетельствует о расчетливости, о том, что я давно готовилась убить отчима. Они нашли мой дневник.
– Эта тринадцатилетняя девочка вполне способна на преднамеренное хладнокровное убийство! – сказал кто-то из них.
Я сидела перед ними, положив руки на стол. При всем желании я не могла заткнуть уши. Так называемый эксперт вещал, что в этом возрасте человек отдает себе отчет, однако движим импульсами и не предвидит последствий своих поступков, ибо лобная доля полностью формируется только к двадцати пяти годам.
Я ничего не знала о лобной доле, но, сидя там, все думала, почему они говорят, что убийство спланировано идеально, ведь меня за него арестовали и судят. И как эксперт может уверенно утверждать что-либо о мозге, не вскрыв черепа? Я надеялась, что адвокат – бледная изможденная женщина, назначенная государством, хоть слово вставит в мою защиту. Мои руки спокойно лежали на коленях, мои туфельки были аккуратно зашнурованы, а если платье и было тесновато, то я не жаловалась, даже виду не подавала.
В тесном зале суда присутствовала моя мать, жаждущая правосудия ради ныне покойного мужа.
Мою сестру Перл она, конечно, с собой не привела, той только исполнилось семь. С тех пор меня мучит один вопрос: поняла ли малышка, что ей обо мне сказали? Что речь шла о человеке, которого она звала «папочкой»? Мать порой велела мне звать Этого отцом. Я стискивала зубы и сплевывала на пол.
Тогда я не была такой гориллой, как сейчас. Если бы меня судили сегодня, судья вынес бы обвинительный приговор через минуту, а не через час десять.
Нельзя двигаться, пока в тебя не ткнут пальцем и молоточек не стукнет по столу. Дело закрыто. Правосудие свершилось.
Но стук молотка не всегда означает второе.
Я была уверена, что провела в одиночке почти неделю: волосы отросли, желудок сводило от этой пищи. Однако выяснилось, что прошло всего семьдесят два часа. Дверь открылась уже во вторник.
Щелкнул замок, створка окна, через которое подавали подносы с едой, поднялась.
Я не знала, кто из охранников дежурил в четвертом корпусе. Может, Лонг или Марблсон? А я наградила кого-то из них фонарем под глазом. Что, если за мной пришел Минко? Этого и врагу не пожелаешь.
Пока охранник отпирал остальные замки – на дверях в четвертом корпусе их было больше, чем в других, – я отползла к стене.
Если это Минко, я просто не дамся. В голове мелькали судорожные мысли о том, как половчее его достать – пнуть или ударить кулаком? (Полли из первого корпуса рассказывала нам, что отбилась от насильника хоккейной клюшкой, зарядив тому прямо в солнечное сплетение. Она убедительно изображала, как тот корчился от боли, выпучив глаза. Пантомима пришлась нам по вкусу, мы часто просили Полли разыграть ее.)
Буду драться, как Полли, вот только клюшки у меня и нет.
Повезло! Это не Минко. На пороге моей камеры стоял Сантосуссо – молодой, чуть старше нас, и приветливый в любую погоду. Конечно, из новеньких.
– Привет! – Сантосуссо бросил взгляд на табличку у двери. – Тебя зовут Эмбер?
Он старательно отводил глаза, будто смущаясь, что видит меня в таком жалком положении. Сантосуссо устроился на работу в начале лета. Мы часто ловили его на сочувствии. Одних это раздражало, других умиляло. Миссисипи с Лиан влюбились в него по уши. Пичес говорила, что надо быть настороже, котики с голубыми глазами чаще всего оказываются извращенцами и садистами.
Я слабо кивнула, признавая, что меня действительно так зовут.
Он единственный звал нас по именам. Остальные либо по фамилии, либо просто «заключенная», как во взрослых тюрьмах. С их точки зрения, мы не заслуживали имен.
– Тебя переводят обратно во второй корпус.
Он улыбнулся, показав ямочки на щеках, похожий на одного мальчика из моей старой школы. Он вел себя так, будто мы вовсе не в тюрьме. Он протянул руку, чтобы помочь мне подняться.
Я не двинулась с места, не вытянула руку в ответ. Он спросил мягко:
– Что случилось? Тебе плохо?
Голос, в котором слышались забота и участие, выбил меня из колеи. Уж лучше бы пришел Минко. С ним, по крайней мере, все ясно.
Я пожала плечами.
Дверь в камеру была открыта, воздух разрядил спертый дух камеры, и я вспомнила, что у меня накопилась куча вопросов. Сегодня вторник, сказал Сантосуссо – поверить трудно, но ладно, пусть будет. Слова посыпались из моего рта, как горох. Что случилось? Вы были там? Что видели? Всех девчонок поймали? Вдруг это снова повторится? Мне нужно было знать все.
Сантосуссо перебил меня, объяснив, что только заступил на смену и не знает, что произошло в субботу ночью.
– Она умерла? Дамур?
– Блондинка? – сочувственно переспросил он. – Которую за торговлю наркотиками посадили?
Ну да, так я и сказала! Обсуждать, кого и за что посадили, с охранниками ни в коем случае нельзя.
– Я видела, как она лезла на забор.
Только так я могла описать то, что наблюдала: как моя сокамерница вспыхнула праздничным фейерверком ко Дню независимости. Впрочем, этот праздник мы в тюрьме не отмечали.
– С ней все нормально. Она в лазарете. По-моему, говорили, что у нее ожоги второй степени.
Я молчала.
– Да жива она, правда! Поправится.
Похоже, он решил, что судьба Дамур беспокоит меня больше, чем на самом деле. О ней я не проронила бы ни слезинки.
Он сцепил мне запястья наручниками – традиционный ритуал при переводе из одного корпуса в другой, мы привыкли – и вывел меня из одиночки.
– Я скажу Дамур, что ты за нее волнуешься. Во второй корпус ее не вернут.
– Почему?
– Переведут в первый. А у тебя сегодня будет новая соседка.
– Кого подселят? Лолу или Кеннеди?
– Нет-нет, это новенькая, ты ее не знаешь.
Я шла впереди него, пытаясь переварить информацию. Мы как раз спускались по лестнице между столовой и вторым корпусом.
Новенькая. Она появится здесь вскоре после того, как откроются замки. А уж потом случится непоправимое. Не знаю, что именно.
Сантосуссо похлопал меня по плечу. Мы почти пришли.
– Наручники не жмут?
Я покачала головой. Не следовало спрашивать, ведь он был по другую сторону баррикады, пусть молодой, и милый, и с ямочками на щеках. Но я все равно спросила:
– А как ее зовут? Имя на «О» начинается?
– А, так ты видела в новостях? Я думал, вам нельзя смотреть телик… Ну да. В газетах тоже писали. Так что будь повнимательнее, ладно?
– За что ее посадили?
Лицо Сантосуссо потемнело, ямочки со щек исчезли. Кажется, я знала ответ заранее. Словно в тумане я услышала, как щелкнули расстегнутые наручники. Он распахнул дверь в камеру и ушел, оставив меня у входа.
Табличку с надписью «ВАЙАТТ» сняли со стены, повесили вместо нее «СПЕРЛИНГ».
Все вещи Дамур вынесли, койку заправили. Ждали новенькую.
Нашу сорок вторую.
Она шла в окружении
Она шла в окружении охранников. Ее обступили так, будто она могла вырваться и вцепиться кому-нибудь в горло. Но, глядя на нее с точки зрения накопленного опыта, мудрости и умения разбираться в людях, я сомневалась в том, что она совершила приписываемое ей преступление. Уж не ошиблись ли они?
Заключенную № 47709-01 по имени Орианна Сперлинг в бульварной прессе прозвали «Кровавой балериной». Если бы мы знали об этом, сами придумали что-нибудь в этом духе.
Я вместе с остальными наблюдала за происходящим из окна. Синий автобус вскарабкался на холм. Тюремные охранники толпой бросились к нему, не дожидаясь, когда откроется дверь.
Нам всегда было любопытно посмотреть на новеньких. Девочки прильнули к окнам. Обычно мы собирались в камерах у тех, у кого окна выходили на южный склон. Мы постоянно кого-то ждали. Возможно, любимую единоутробную сестру, дочь ненавистного отца, которому желали смерти. Или подругу со скованными цепью лодыжками – при виде ее сердце буквально разрывалось на части, ведь мы так надеялись, что ей удастся избежать нашей участи. Случалось, и на нашу улицу приходил праздник – в дверях автобуса появлялась макушка старой обидчицы. Тогда после отбоя в ночной тиши мы возносили хвалебные речи вселенной горячим шепотом, молитвенно сложа руки, ведь голову врага только что преподнесли нам на блюдечке.
В тот день автобус привез Орианну.
– Думаете, ее в одиночку посадят, как Аннемари?
Многие из нас были наслышаны об Аннемари, некоторые даже видели ее издалека. Никому не хотелось, чтобы эту девушку вернули в обычную камеру.
– Не, слышала, ее подсадят во второй корпус к Эмбер.
Они говорили обо мне так, словно меня здесь не было.
– А вдруг у новенькой крыша совсем поехала, и она Эмбер глотку перережет?
– Это точно, если что-то острое найдет – наверняка перережет.
– А если нет, то задушит.
– Ага! Голыми руками задушит.
– Или простыней.
Затем они обсудили все виды оружия, доступные для заключенных с творческой жилкой и целью, достойной приложенных трудов.
Я помалкивала. Мое имя редко произносили вслух, так что щеки у меня запылали ярче, чем прежде, хотя и без того были румяными от августовской жары. Со мной обычно не заговаривали, разве что когда я катила тележку с книгами. Все прочее время я только прислушивалась к их разговорам, но все равно чувствовала себя частью целого. Я была той самой стеной, которая имеет уши.
А теперь все девочки собрались у окна в моей камере и говорили обо мне. Тут я наконец ощутила себя членом семьи. Мы сплотились больше, чем когда-либо.
Кто-то пощекотал меня под ребрами, заявив, что лучше бы мне сменить камеру. Я вздрогнула, однако возражать не стала. Прежде до меня не часто дотрагивались, а теперь на меня легли отблески славы Орианны Сперлинг. Любая, кому довелось бы делить с ней камеру, оказалась бы в центре внимания.
– Ты, главное, спиной не поворачивайся, – гоготнув, шепнули мне в ухо.
По голосу я поняла, что это Джоди.
– Я не боюсь, – сказала я.
В ответ захохотали и принялись похлопывать меня по спине, разминать плечи, будто готовили к боксерскому поединку.
И тут мы снова прильнули к окну – сопровождающие надзиратели из автобуса сдавали новенькую нашим охранникам.
Она помедлила на обочине, словно никто ее не торопил, и в распоряжении был целый день, так что можно сперва осмотреться. Интересно, чувствовала ли она наши взгляды?
Внизу стояла высокая худенькая девушка. Даже слишком худенькая, насколько можно судить по мешковатому комбинезону, на котором было вышито название округа Саратога. Вокруг зашептались, что там живут богачи, у которых огромные дома и шикарные тачки. Среди наших мало у кого в семье водились деньги, так что мы не очень жаловали тех, у кого они есть. Однако в Саратоге никто из нас не бывал, так что наверняка мы не знали.
У новенькой была смуглая кожа и черные прямые густые волосы, слишком длинные для «Авроры» – скоро она сама поймет. Трудно определить, была она латиноамериканкой на все сто процентов или же только наполовину. Одни считали, что это важно, другие не сомневались, что внешность значения не имеет, мы все в одной лодке, точнее, в тюрьме.
Конечно, так полагали только самые неказистые, которые не выменивали талоны из столовой на всякую чушь вроде подводки для глаз.
Мирабель устроила пари. Спорили о том, затеет новенькая драку с охраной или нет. Большинство поставили шоколадные батончики, которые нам выдавали на десерт, что она выждет удобного момента и выкинет что-нибудь жуткое.
Другие снизили ставки, сказав, что она станет вопить, как ненормальная.
Парочка поставили на то, что девушка попытается сбежать, но всерьез в это никто не верил: когда ноги скованы цепью, далеко не убежишь.
Мы смотрели на нее и ждали.
Она не стала драться и рыдать, не сделала попытки рвануть в сторону.
С каждым ее шагом нам все сильнее хотелось отыграть назад и спасти свои сладости. Мирабель тяжело вздохнула и бросила проигранный батончик на койку. Шери надорвала обертку. По камере поплыл запах арахисового масла.
Девушка внизу изящно ступала по изодранному трещинами асфальту. В ее походке сквозила волшебная грация, которая почти заставила нас позабыть о вещах, которые мы и так пытались исключить из поля зрения, – охранниках, ограде с колючей проволокой, тюремных стенах.
Никакой пены на губах, как у загнанного в ловушку зверя, никаких змей в волосах. Она не похожа на убийцу – в этом сошлись все, кто наблюдал за ней, а среди нас были те, кому довелось убивать.
Новенькая выглядела так, будто отправилась на прогулку солнечным летним днем. Сплошной покой и радость бытия.
Неужели это та самая жестокая преступница, лицо которой некоторые мельком видели по телевизору на посту у охранников?
Быть может, она уже выдохлась, пока добралась сюда, и от нее осталась одна оболочка? Если нет, ей придется столкнуться с суровой реальностью. Порой к нам привозили всяких принцесс, однако из них быстро выбивали всю дурь. Стоит пару раз повозить задаваку мордой по бетонному полу, как заносчивость проходит.
– Тьфу, тоже мне кровавая маньячка.
– Скукотища!
– Да ее соломинкой перешибешь.
Девочки потеряли интерес и разошлись, болтая о всякой всячине: сыграем в карты, интересно, что дадут на ужин, и прочий бред. Я осталась в камере одна.
И стояла у окна до тех пор, пока она не скрылась из виду. Ничего так и не произошло. Теперь ей предстояло пройти все формальности.
Через пару часов новенькую приведут сюда в оранжевом комбинезоне. Она ляжет на койку, такую же, как у всех, и примется считать трещины в потолке.
Из-за того, что газеты раздули вокруг нее шумиху, не следует, что с ней станут обращаться как-то иначе. Отныне она одна из нас – отверженных, испорченных, злых, направленных на перевоспитание (если это вообще возможно).
Не исключено, что когда-то давным-давно все мы были хорошими. Милыми маленькими девочками, играющими в песочнице. На моей детской фотографии, сделанной в парке рядом с домом, я в красной рубашке в клетку, волосы заплетены в косички. В руках я держу лопатку и улыбаюсь во весь рот, несмотря на выпавший передний зуб. Моя мама купила для фотографии рамочку и поставила на комод. Не знаю, где она теперь.
Орианну Сперлинг привезли в «Аврору-Хиллз» точно так же, как привозили других. Ей вынесли вердикт «виновна». Теперь ее место среди нас.
Следовало бы подождать
Следовало бы подождать, пока она появится в дверях камеры с охапкой постельного белья в руках, затем познакомиться и рассказать ей, что к чему, как я рассказывала Дамур. Но по вторникам и четвергам после обеда я развозила книги, а был как раз вторник.
Большинство из наших не горели желанием тратить свободное время на старые пыльные книжки, однако были и те, кто хотел убежать от реальности. К тому же не все книжки в библиотеке были старыми. Некоторые еще пахли типографской краской. Прочесть такую – все равно что получить в столовой горячий обед одной из первых, а не в конце очереди, когда все успевало остыть и превратиться в невнятную склизкую жижу.
Кое-какие книги добавили в библиотеку совершенно напрасно, судя по замусоленным страницам на эротических сценах. При мысли о том, чем занимались девочки под одеялом, открыв главу из «Клана Пещерного медведя»[13], меня начинало подташнивать. Впрочем, каждая прочитанная нами книга приносила своего рода спасение, нужно было лишь отыскать тайный лаз, впиваясь глазами в страницу и жадно глотая слова.
Обычно я катила тележку сначала мимо камер верхнего яруса, потом спускалась в нижний. У дверей камер я замедляла ход. Послеобеденное время отводилось для досуга, камеры не запирались, нам разрешали ходить по корпусу и даже приглашать к себе гостей – не больше, чем двое за раз. Я молча стояла на пороге. Почти всегда кто-то из девочек просил почитать что-нибудь.
Я протягивала книжный кирпичик, его тут же хватали нетерпеливые руки. «Энн из «Зеленых крыш»[14], том из серии про «Академию вампиров»[15], зачитанный до дыр экземпляр «Над пропастью во ржи» или «Говори»[16], Библию, Бхагавад-Гиту, инструкцию по ремонту двигателя «Мустанга» 1982 года выпуска. Я видела, как одна девочка прятала под комбинезон – поближе к сердцу – истрепанный том «С добрым утром, полночь»[17]. Кстати, с тех пор я его так и не видела.
Моя работа слишком важна, чтобы пренебречь ею даже ради новенькой.
Я растерялась, обнаружив, что тележка исчезла. Библиотека (пусть это всего лишь несколько полок в холле) была разграблена: полупустые полки, на полу вперемешку валялись карточки с именами должниц. Но из колеи меня выбила именно тележка – деревянный монстр на колесах, тяжелый и неповоротливый. Куда она могла подеваться? Мне хотелось вопить во всю глотку.
До сих пор никто не притрагивался к моей тележке, никто не хапал за раз столько книг. Интересно, кто это у нас такой книгочей?
А может, все гораздо хуже? Книжки взяли не читать?
Что, если их давно изорвали на мелкие клочки и утопили в туалете?
Я двинулась к ближайшему посту охраны. Досадно, сегодня дежурила Блитт, пропитанная кофе и высокомерием. Она никогда не подшучивала над нами, как Марблсон, когда бывал в хорошем настроении, или Лонг, когда заступал на дежурство вместе с Марблсоном. И пусть она не издевалась над девочками, как Минко, расстегнув верхнюю пуговицу на форменной рубашке от душившей его ярости, тем не менее связываться с ней не хотелось.
– Я только что была в библиотеке, – выпалила я, постучав в дверь, чтобы привлечь ее внимание.
Блитт смотрела по телевизору репортаж о суде над Орианной Сперлинг.
– Ты хотела сказать, в холле, заключенная? – хмыкнула Блитт, отрывая глаза от экрана.
Она никогда не звала нас по именам или фамилиям. Некоторые из наших считали, что таким образом она хотела дать нам понять, что мы не более чем пыль на подошвах ее ботинок, но я полагала, что Блитт просто-напросто не слишком умна и не в состоянии всех запомнить.
Как же я бесилась, если человек отказывался звать библиотеку библиотекой! Дело в том, что книги и учебники из обязательной программы хранились в другой части здания. Брать их оттуда нам не разрешали, по ним мы только учились. В них не писали записочек, их не тянули с собой в постель, чтобы пережить прекрасный сон или отличнейший оргазм (как хвастали некоторые из наших, но большей частью, конечно, привирали). Книги из моей библиотеки – те, что жертвовали тюрьме через церковь, или те, что отдавали нам частные школы, когда приобретали себе новые экземпляры, – принадлежали нам, и больше никому.
Переносить заключение, когда тебе принадлежит хоть что-то, куда легче, и Блитт об этом знала, именно поэтому она упорно называла библиотеку холлом.
– Где – моя – тележка? – отчеканила я.
Мне нечасто доводилось открывать рот, тем более беседовать с охранниками, так что весь нерастраченный пыл я вложила в эти слова. Вышло громко. Я занесла кулак. Садануть бы им прямо в стекло! Оно непробиваемое, а жаль. Вот бы услышать звон осыпавшихся осколков.
– Уймись, заключенная! Хочешь в карцер угодить из-за какой-то тележки? Гроб деревянный с четырьмя колесами, было бы о чем переживать!
Пренебрежительный тон отрезвил меня, будто удар плеткой по голой спине. Она знала, где тележка, значит, надо выудить у нее, что случилось. Из ушей у меня валил пар, но я опустила кулак и постаралась вообразить себя в тихом спокойном месте, где-нибудь вроде Флориды. Иногда помогало.
– А может, тебя посещений лишить? На две недели, а? Или вообще на месяц?
Она нарочно меня провоцировала.
– Ах, да! Совсем забыла. К тебе же никто не приходит. Никто и никогда.
В глазах закипела горючая жидкость, лишь отдаленно походившая на слезы. С трудом мне удалось совладать с собой и выровнять дыхание. Я разжала кулак.
Блитт ждала. Ждала долго. Наконец вымолвила, моргая из-за очков свинячьими глазками:
– Я видела Уорд с твоей тележкой в третьем корпусе.
– Каннибальшу? – взревела я, представив, сколько обслюнявленных волос найду потом в книжках. Она же все страницы изжует! Какой кошмар!
Блитт пожала плечами.
– Я думала, вы с ней договорились. Тебя не было, ты припоздала.
– Меня сегодня только из одиночки выпустили, всего минут на двадцать задержалась. Ну, может, на полчаса.
И тут я вспомнила, что краем уха слышала, как наши что-то говорили про Кеннеди.
– А Кеннеди… – как бы не выдать, что Лола ее колотила, – выздоровела уже?
– А ты что-то знаешь об этом?
– Нет, ничего.
– Ее сегодня выписали из лазарета. А вот твою сокамерницу, которая поджарилась, еще нет, – хмыкнула Блитт.
– А вы разве не слышали? Ко мне сегодня новенькую подселяют. – Я кивнула на экран.
У Блитт отвисла челюсть. Смешно.
Я рысью понеслась в третий корпус в надежде застать там Кеннеди. Блитт даже не окрикнула меня, чтобы я шла спокойно.
Кеннеди как раз выходила из корпуса, толкая перед собой тележку. Вся в синяках, лицо по цвету походило на кусок бекона (бекон я не ела с тринадцати лет). Но шагала она вполне бодро. Тележка вильнула в сторону, Кеннеди попыталась ее выправить, не смогла, и та воткнулась в противоположную стену. Упал томик стихов Рембо. Милое мальчишеское лицо шмякнулось об пол, но Каннибальша даже не остановилась.
Удивительно, что она вообще осталась жива после того, как Лола ее отделала.
– Кеннеди! Стой!
Она с трудом обернулась. Похоже, ей больно поворачивать голову. Ухо у нее распухло и посинело, как баклажан. Человеку, помнящему, что значит принимать чужие страдания близко к сердцу, даже стало бы ее жаль, наверное.
Однако мне наплевать на тот мешок из мяса и костей, на котором хорошенько оттопталась Лола. Мне наплевать на Лолу и на то, что она опасна, что может избить кого угодно – кто уж там будет следующей. Я сама изувечу Кеннеди, только бы вернуть мою тележку, мои книги.
Кеннеди вцепилась в тележку мертвой хваткой.
– Теперь я книжки развожу, Эмбер! – Когда она говорила, в уголках рта растягивались белые нити слюны. Она отпустила одну руку и утерла ею нос. – Тебя на кухню перевели.
Не может быть! Меня не было всего три дня. И почему Сантосуссо мне не сказал?
Колеса скользнули по полу, будто коньки по глади ледяного застывшего озера, тележка впечаталась в Кеннеди, отбросив ее к стене, затем, откатившись назад, устремилась по коридору прочь.
Это не я, тележка сама! Честное слово!
Меня схватили. Ноги повисли в воздухе. Только не одиночка, пожалуйста, только не новый срок. Худшее из наказаний для нас – лишний год, месяц, неделя, год, проведенные здесь.
Но меня держали руки в зеленом комбинезоне.
Джоди. Одна лишь Джоди здесь больше и сильнее меня.
– Хватит уже с Кеннеди. Ей и так досталось.
Наши глаза, не сговариваясь, устремились к куче тряпья на полу. Куча привстала и оперлась спиной на стену, затем сунула в рот прядь волос.
Между нами стояла тележка – уже ничья, вокруг валялись деревянные щепки. Книжки разлетелись в разные стороны.
Я протянула было к ним руку, но на мое предплечье легла тяжелая ладонь Джоди. Развязной походочкой подошла Пичес.
– Здорово, сучки! – бросила она, переводя взгляд с кучи тряпья на нас с Джоди. Та все сжимала меня в медвежьих объятиях, хотя я больше не вырывалась.
Пичес принялась подбирать книжки. Какое благородство! Подозрительно… Кеннеди захныкала. Джоди пригладила мне волосы, одернула комбинезон.
– Что с тобой, Эмбер? Ты ведь никогда не дерешься.
Джоди много знала о насилии. Маленькой девочкой она ночами пряталась в шкафу, а повзрослев, однажды встала во весь рост и дала отпор, после чего ей пришлось убежать из дома. Она жила на улице, применяя там полученные дома навыки – их хватило с лихвой, и на этой волне она оказалась здесь с нами в «Авроре-Хиллз». Уж Джоди-то могла распознать человека, склонного к насилию.
Пичес кивнула, не сводя с меня глаз.
– Да-да, ты здесь одна невиновная! – Она как будто повторила слышанные ранее слова.
В ее устах это звучало вовсе не комплиментом. Она назвала меня слабачкой, назвала трусихой.
Я шагнула к тележке, однако Джоди меня остановила. Чего они добиваются? Хотят сказать, что я не с ними? Что я чужая? Что мы не вместе против всего мира?
Тем временем Пичес сложила книжки и проверила колеса, одно из них не прокручивалось – тележка с самого начала была с браком, но Пичес об этом не знала. Она пнула его с досады.
– Слушай, Эмбер, ты ни при чем. Просто тут творится столько всего, ты не представляешь.
Почему же, очень хорошо представляю. Им невдомек, что я все время была наготове – присматривалась, прислушивалась, принюхивалась. Мне известно больше, чем кому-либо.
– Можно я возьму свою тележку?
Они молчали.
– Можно я возьму свою тележку?
– Книжки будет развозить Пичес, – пробубнила Джоди. – Так лучше. Она все разузнает и нам расскажет.
– Да, разузнаю и расскажу.
Джоди с усилием развернула тележку, Пичес тут же схватилась за ручку.
Снизу донесся отчаянный рев Кеннеди:
– Мне сказали, что книжки буду возить я!
Никто из нас и ухом не повел. По крайней мере, в этом мы были заодно.
В коридоре раздались шаги охранника. Мы бросились врассыпную. Пичес укатила мою тележку, Джоди метнулась в другую сторону – весьма шустро для такой громилы, и даже Кеннеди встала и поплелась вперед.
Я развернулась и пошла в другую сторону – не в библиотеку, не к Блитт на пост, не во второй корпус. Мне некуда идти. В камере сидит чужачка. Так что я пошла куда глаза глядят. Заставляла себя думать о Флориде. Сперва Кеннеди, а затем Джоди и Пичес отняли у меня все, что имело смысл, и теперь мне нигде нет места.
Проходя мимо лазарета, я услышала голос.
– Эмбер, Эмбер, где ты была? Куда ты? Иди сюда.
На койке возле двери лежала Дамур. У нее в ногах сидели несколько девочек. Дамур, с ног до головы замотанная в бинты, походила на мумию, но говорить у нее получалось, пусть очень хрипло. Из-под бинтов торчали волосы. Когда-то светлые, теперь они напоминали сажу.
Она махнула мне и продолжила:
– Все, что мы сделали, сделаем снова! – Дамур закрыла глаза и повела забинтованной рукой. – Все, что мы видели, увидим три раза. Двери открылись. Откроются еще. Мы побежим. Тебя, Эмбер, схватят три раза. Новая девочка станцует в своей комнате. И Натти пусть не ставит ей подножку. Скажите ей. И плющ, который в окнах. Вы говорите: «Нет, Дамур, не надо!». Три лета, три лета повторится то же самое. А на четвертое – все. И на пятое…
Дамур вещала, будто провидица, а мы слушали, открыв рты. Дикая чушь! Или нет? Три раза, сказала Дамур. Но я будто бы уже слышала, как она говорит об этом. Только бы никто не заметил моей растерянности.
– Что с ней? – спросила я шепотом.
– Молнией ударило, – ответила Крошка Ти.
– Да нет, она на изгородь полезла, и ее электричеством шибануло. Думаешь, из-за него?
Ти пожала плечами.
– Ладно, таблетки получила, так что пойду.
В руках у нее был бумажный стаканчик, который, должно быть, выдала ей медсестра, хотя поблизости никого из сотрудников не было видно. Она швырнула его в мусорку и ушла. За ней потянулись остальные. Мы с Дамур остались вдвоем, как оставались в прежние времена в тесной камере за запертой дверью.
– Ты понимаешь, да, Эмбер?
Я кивнула. Отчасти это было правдой. К тому же я видела кое-что, о чем Дамур понятия не имела.
Я хотела рассказать ей о незнакомке, но тут Дамур пальцем показала на стену и затрясла головой так, что бинты съехали вниз, и под ними показалась обгоревшая кожа. Она закрыла глаза.
Я обернулась, ожидая увидеть белые стены лазарета. Мне думалось, что все происходящее – причуды плавленого мозга Дамур. Как хорошо, если бы так.
Но я увидела корявые цветные надписи. Снова граффити. Опять вездесущая Бриджет Лав, тот-то плюс та-то равно то-то, опять то же жуткое «Покойтесь с миром».
Больше того, выбитые серые блоки зияли в стене, как выщербленные зубы. С потолка сыпалась едкая серая пыль, мелкая и вездесущая. Сквозь выбоины в стенах виднелась заросшая сорняками парковка, на которой не было ни единого автомобиля. Кроны деревьев наплывали на бетонную стену ограды, плющ разросся пышнее прежнего. Природа пыталась поглотить нас без остатка.
Какое значение время имеет для вечности? Есть ли смысл ставить засечки на стенах, отмечая прошедший день?
Я подняла глаза к потолку. Сквозь крошащуюся дыру виден был кусок синего чистого неба. Снаружи стоял прекрасный августовский день.
Я со всех ног бросилась прочь из лазарета.
Стоило убраться подальше от Дамур, как все вернулось на свои места – стены в коридоре были привычно зелеными, как мой комбинезон. Откуда я знаю, что отныне носить мне его веки вечные? Я бежала той же дорогой, шаг в шаг, что бежала когда-то. Все повторяется. Выхода нет.
Пусть мы стараемся забыть о том, что все это уже было, до конца избавиться от навязчивых мыслей не получается.
Мы встретились лицом к лицу
Мы встретились лицом к лицу на пороге камеры – теперь нашей общей. Глаза у нее карие, глубокие. Мои глаза когда-то тоже были карими, но я уже сто лет не смотрелась в нормальное зеркало. Может, они давно поменяли цвет.
На какое-то мгновение каждая из нас испытала узнавание, будто мы виделись раньше. Затем искорка угасла, подобно тому, как выключают свет в камере на ночь, когда мы еще не готовы, и остается лишь сделать очередную зарубку на каменной стене, свидетельствующую, что прошел еще один день навстречу свободе, навстречу новой жизни. Хотелось верить, что у нас две жизни – как у кошки девять. Одна, которую мы загубили, и еще одна – на будущее.
Она первой отвела взгляд и отступила в сторону, дав мне войти.
Она уже заняла место Дамур – застелила верхнюю койку, разложила на ее полках свои вещи, сунула тапочки в ящик на двери, оставшись в одних носках. Ступни у нее были узкими и длинными. Теперь нам с ней дышать одним воздухом.
Мне следовало заговорить первой. Сказать: «Добро пожаловать!» Или что-нибудь покороче – например, «Привет!» Поделиться опытом, накопленным за три года, один месяц и пятнадцать дней, проведенных в заточении в «Авроре». Но я держала язык за зубами. Однажды я уже проявила гостеприимство с Дамур, и что из этого вышло?
И вообще мне было о чем подумать. Я лишилась тележки. Меня перевели на кухню, о чем возвестила надпись на табличке с моим именем у дверей камеры. Чувство неизбежности того, что только грядет, уплыло за горизонт сознания. Впустив забвение, тяжелая дверь к памяти захлопнулась. Чтобы открыть ее вновь, придется постараться.
Я уселась на нижнюю койку и подтянула колени к животу. На кухне мне придется разливать по тарелкам мерзкое прогорклое варево. На руках появятся ожоги от плиты и горячих кастрюль. Ладони сморщатся от вечной возни в воде с грязной посудой. Я провоняю насквозь.
Никаких тебе больше книг. Ни успокаивающего шороха страниц, ни шершаво-бархатистых переплетов. Никаких новостей, подслушанных у дверей камер. Никакого рокота тележки, развозящей слова, из которых складываются истории.
Мне было одиноко и тоскливо, совсем как в комнате для допросов в полицейском участке, где мне отказали в стакане воды. Они не дали даже подняться из-за стола. Сказали, что нашли мой дневник и прочли, что я там написала. А я звала маму, я спрашивала, откуда у них мой дневник, кто им его дал, я просила пить и снова звала маму. Но мне не принесли воды, и мама не пришла.
Надо мной нависла новенькая.
– Что-то не так? Ты расстроилась, что меня подселили?
Я хмыкнула.
Я пробыла здесь достаточно, чтобы знать, как вести себя с хладнокровной убийцей. Нельзя выказывать волнения. Нельзя раскрываться, нужно, чтобы видели только лишь крохотную частицу тебя – верхушку айсберга, а остальное следовало схоронить в темной пучине вод. И, прежде всего, нельзя дать почувствовать, что боишься, иначе тебя сожрут.
Хотя новенькая совсем не походила на хладнокровную убийцу, лучше поостеречься. Так безопаснее.
– Тебе сказали, кто я? – Голос у нее дрогнул.
– Орианна! – Имя сорвалось с моих губ, я не смогла его удержать.
– Зови меня Ори. Я не против.
Я коротко кивнула. Ноги у нее дрожали. Их очертания угадывались под тканью мешковатого оранжевого комбинезона. Она не спросила, знаю ли я, за что ее посадили.
– Я твоя новая соседка по комнате.
Смешно. Будто камеру, в которой нам предстоит ютиться, можно назвать комнатой. От этого слова веяло чем-то уютным, домашним, будто нас вовсе не заперли в сырой темнице.
– По камере, – поправила я.
– Ну да.
– Меня зовут Эмбер. Можешь звать меня Эмбер.
– Я знаю. Мне сказали. Я слышала, что ты невиновна.
– Кто так сказал?
– Остальные.
С одной стороны, было неприятно, что меня обсуждали за моей спиной; с другой стороны, мне польстило, что кто-то вообще обо мне говорил. Я бы улыбнулась, но мое лицо никогда не выражало того, что творилось в душе. Я казалась злой, когда мне было грустно. Я казалась злой, когда была счастлива. Даже когда я поднимала глаза к настенным часам посмотреть на время, я все равно казалась злой. Мне говорили, что я родилась хмурой, со сжатым в нитку ртом. Выходит, я равна себе, только когда злюсь.
– А почему ты здесь? В чем тебя обвиняют?
– Не задавай таких вопросов.
В полиции никто не верил, что я невиновна. Отчим, если бы мог, восстал бы из могилы и ткнул в меня скрюченным пальцем.
– Прости, – сказала Ори.
Я разглаживала простыни на койке.
– Если ты невиновна, наверное, ненавидишь тут всех и вся.
Как же она ошибалась. Она попала сюда только что и пока не чувствовала связи с этим местом. Не внимала ритму топочущих ног, не знала, что значит попасть с ними в такт и ощутить себя частью многих. Выглядеть, как все, носить ту же одежду, есть ту же еду. Стоять в строю, когда их – и тебя вместе с ними – пересчитывали охранники, сидеть там, где и им дозволялось сидеть. Иметь свое место в мире, пусть и огороженное колючей проволокой. Но самое главное – ее не было с нами той сверхъестественной ночью, когда пали замки и охранники вдруг исчезли. Ночью, когда шел дождь, когда наш вой, наши крики слились в счастливую мелодию разрушения. Мы помнили об этом, как помнят сон.
Ее с нами не было.
Ори не знала. Она думала, что я забиваю себе голову мыслями о невиновности.
– Сколько тебе дали?
Что ж, на этот вопрос можно ответить. Мы постоянно говорили о том, сколько нам осталось, жалуясь и стеная.
Когда я думала о времени, которое мне еще предстояло провести в тюрьме, то не чувствовала злости – в жилах не закипала кровь, на глаза не набегали слезы. Я не знала, как объяснить это ей или кому-либо еще, но мое заключение больше меня не волновало. Вначале – особенно первой ночью – я задыхалась от ярости, пока моя сокамерница мирно сопела во сне. (Ева, взлом и проникновение, семь месяцев.) Затем пришло смирение. Я привыкла застегивать доверху кнопки на комбинезоне, оставлять тапки в кармашке на двери камеры, убирать с койки книги и опускать глаза, когда охранник сверлил взглядом. Самое худшее даже не то, что нас регулярно обыскивали в самых интимных местах, о чем мы, правда, не любили говорить; хуже всего, что я свыклась с тюрьмой. Говорят, человек ко всему привыкает.
Ори умолкла и принялась складывать два комбинезона, что ей выдали в придачу к тому, что уже был на ней. Она будто смутилась. Может, стоило сесть и рассказать, мол, делай так и никогда не делай эдак, если не хочешь, чтобы тебе расквасили твой милый носик? Кто, кроме меня, ей поможет? Я заметила, что у нее дрожат руки.
Она все смотрела на стену.
– А ты не спросишь, за что меня посадили?
Вероятно, ей хотелось заявить, что невиновна, вроде как мы в одной лодке.
Я не спросила. Если будешь задавать много вопросов, долго не протянешь. Ни к чему демонстрировать любопытство.
– Значит, не спросишь?
– Меня это не касается.
Правда – самое ценное, что у нас оставалось. Ценнее, чем наши тела, каждый закоулок которых обыскивали самыми изощренными способами. Вытряхнуть из нас правду нельзя было даже во время обыска.
Вина или невиновность принадлежали нам, и ей следовало это усвоить.
– Но ведь я разрешаю спросить…
– Нет. Не могу.
– Прости…
Она слишком много извинялась.
Значит, убила двоих?
Интересно, что теперь, когда она почувствовала вкус крови? Остановится на двоих? Или отныне ее жажда ненасытна, и она будет алкать новой крови?
Все эти вопросы я не могла, не должна была задать вслух. И меньше всего о том, виновна она или нет.
Опять же, оставалось два способа выяснить, виновна она или нет, не спрашивая. Первый – прожить вместе бок о бок и узнать обо всем, не задавая вопросов. Второй – самый простой, не требовалось прибегать к самодельному оружию, и это хорошо, потому что у меня не было ничего, кроме пары книг и лишнего куска мыла. Заглянуть в глаза.
Вина в них светилась. Те из нас, кто провел в тюрьме долгое время, умели ее распознать. А ее глаза, карие и раскосые, так и влекли к себе.
Они не бегали, не ускользали. Когда они встретились с моими – когда я позволила ей заглянуть в мои, – я не заметила предательских, выдающих истину знаков, которые встречала в глазах у других (у Мирабель, у Лолы, у Шери, у Крошки Ти, у Дамур… список можно продолжать бесконечно). Она глядела без хитрости, без утайки. Она не пыталась ничего скрыть, не пыталась что-то вытянуть из меня. Я поняла, что могу спать спокойно.
Больше всего меня поразило чувство, которое таилось за грустью.
В глубине души она до сих пор не верила, что ее посадили в тюрьму. На меня смотрела девушка, которая даже в страшном сне не могла представить себе, что окажется здесь. Либо она была опытной изощренной лгуньей, либо не делала того, в чем ее обвиняли.
Жизнь. Мы давным-давно узнали, что жизнь жестока. Но новенькая, видимо, впервые столкнулась с несправедливостью.
– Слушай, – начала я.
И тут услышала до боли знакомый звук.
Стук колес моей тележки – левое заднее не прокручивалось, скрежетало не в такт. Звук смолк. Тележка остановилась рядом с открытой дверью в нашу камеру. Оставалось всего несколько минут до окончания свободного времени, а она только что добралась до второго корпуса.
Но катила ее не я. И Ори никогда не узнает, что это моя тележка. Для нее ответственной за книги и библиотеку всегда будет Пичес.
Пичес заглянула к нам.
– Возьмешь книжку?
Я покачала головой. Не буду я брать книжки и не приму извинения.
– Понятно. Еще рано.
Я молча уставилась в стену. Нечего меня дразнить. На тележке почти не осталось книг, а те, что были, валялись растрепанные, в беспорядке. Смотреть на это было выше моих сил.
– Проверю ваше окошко.
Пичес втиснулась в камеру, хотя тут и без нее было не повернуться, и вскарабкалась на верхнюю койку, которая теперь принадлежала Ори. Окно открывалось только у нас. Все это знали. Пичес просунула руку в щель и пошарила по каменной стене, однако вернулась ни с чем. Она попробовала еще раз. Снова ничего. Спрыгнула вниз.
Ори наблюдала за этим, остолбенев от удивления. Надо будет сказать ей, чтобы сдерживала эмоции.
– Там растет плющ, – пояснила ей Пичес. – Мне нужны листья. Но та сучка, которая жила тут до тебя, спалила все к чертовой бабушке.
– Зачем тебе листья? – спросила Ори.
Пичес хмыкнула и пожевала губами, затем повернулась ко мне.
– Ты точно не хочешь книжку, Эмбер?
– Нет.
– Неужели не возьмешь почитать какой-нибудь интересный романчик?
– Не-а.
Она повернулась к моей соседке.
– А ты?
Ори, должно быть, поняла, что за этим таится неладное.
– Нет, спасибо. Что-то я читать не в настроении. Может, попозже.
Пичес хмыкнула, будто та сказала что-то смешное.
– Ладно, мокрушница, не хочешь – как хочешь.
И покатила тележку к следующей камере. Рокот и скрип колес. Рокот и скрип.
Ори обернулась ко мне с вытянувшимся лицом.
– Откуда она знает? Неужели все знают?
– Ты о чем?
– Она назвала меня… – повторить у нее духу не хватило.
Я пожала плечами.
Она выглянула наружу, глядя вслед Пичес, толкавшей мою тележку.
– Тебе хотелось взять книжку, правда?
Я снова пожала плечами.
– Давай я позову ее.
Она ждала ответа, но я не собиралась отвечать, серьезно, не собиралась. И все-таки ответила:
– Она отняла у меня…
– Что, книжку? Которую?
Я покачала головой, кляня себя за несдержанность.
– Все книжки. Все до единой.
Ори пыталась разобраться.
– А ты не можешь попросить ее вернуть их? Поговорить с ней?
– Ты вообще не понимаешь, где оказалась, – вздохнула я.
– Но…
Я отмахнулась.
– Не рассуждай о том, чего не знаешь. Скоро ужин. Не ешь фасоль и мясную запеканку. Дни, когда дают только фасоль и мясную запеканку, самые поганые, тогда не ешь вообще. Садись рядом со мной. После того как поешь, вилку и нож обязательно выброси, будут обыскивать. Ну что ты смотришь? Они пластиковые. Ничего, скоро сама все усвоишь.
Мы снова остались одни поздним вечером, на этот раз за закрытой дверью. Только теперь Ори вновь попыталась заговорить со мной. Она молчала, пока нас пересчитывали, молчала во время ужина и после него, когда нам вновь предоставили свободное время. Молчала, пока мы раздевались друг перед другом на крошечном пятачке. И когда заперли замок – момент истины для любой девушки в первую ночь в «Авроре-Хиллз», – молчала тоже. Я не пыталась отвлечь ее разговором. Ей нужно было прочувствовать все до конца.
Мы легли. Погас свет. Во втором корпусе все смолкло. Я закрыла глаза. Я не боялась, что она накинется на меня с заточкой, сделанной из пластиковой вилки, хотя и не видела, выбросила она приборы после ужина, как я ей советовала, или нет. Все, что мне было нужно, я уже узнала. Я знала еще кое-что, но те вещи ускользали из памяти, и только лежа в темноте с закрытыми глазами, я чувствовала, что они проклевываются из глубины сознания.
Те вещи, что я забыла. Те вещи, что забыли мы все.
Я перевернулась на бок, пытаясь избавиться от них. Все сдерживали стены. Я прикоснулась голой ногой к голой стене, вечно холодной даже в самую сильную жару, и мне нравилось. Прикосновение утешало. Я начала проваливаться в сон.
И тут она меня разбудила.
– Эй, Эмбер!
Голос, произносивший мое имя, пробуждал неясные воспоминания, мне не хотелось, чтобы они выплыли наружу.
– Эмбер!
Я спрятала ногу под одеяло.
– Эмбер, ты спишь?
Я открыла один глаз. Вот теперь мое лицо соответствовало внутреннему состоянию. Я злилась.
– Уже не сплю.
– Мне послышалось, что ты поешь.
Я вытерла струйку слюны, убежавшую изо рта. Подушка намокла, и я ее перевернула. Другая сторона была холодной и твердой, будто камень. Теперь не уснуть.
– Прости, пожалуйста, я думала, ты не спишь.
– А я спала.
Я подняла глаза. С верхней койки свисала мускулистая нога.
– Что ты пела?
– Не знаю, я спала.
Молчание длилось долго. Я снова закрыла глаза.
– Тебе снятся сны?
– Какие сны?
– Не знаю… О прежней жизни. О доме. Хотела спросить, тебе до сих пор снится дом?
Что она хотела выпытать у меня? Правду?
– Охранники услышат. Говори тише.
– Ой, прости!
Во тьме, поглотившей камеру, в моей голове вспыхнула картинка – оранжевый грузовик в оранжевом шаре пламени. Но все растворилось в оранжевом ярком свете. Мой мозг блокировал воспоминания.
Я никогда и никому об этом не рассказывала. Другие девочки не спрашивали. Им не хотелось знать, как доставали из кабины обугленный труп. Что людям, которые шли мимо, оставалось только стоять и смотреть, как он поджаривается внутри. Что никто не мог ему помочь, потому что никто не хотел сгореть вместе с ним.
Никто из других девочек не знал о том, что я желала ему смерти. В общем-то, если бы я призналась в этом, никто бы не удивился. Многие желали смерти мужчинам из прежней жизни. Из наших голосов можно было составить мощный хор.
Других девочек не интересовали страницы из моего дневника, где я перечисляла способы, которыми можно его изничтожить.
Сперва простые и очевидные.
Поскользнулся на льду, когда чистил дорожки от снега.
Упал с крыши, когда прочищал сточную трубу.
Убило током, когда смешивал блендером протеиновый коктейль.
Затем я дала волю фантазии.
Змея укусила. Или паук. Ужалила оса. Энцефалитный клещ.
Я изучала в газетах заметки о странных смертях.
Убило упавшими строительными лесами.
Свалился в люк, когда переходил дорогу.
Я нарыла множество идей.
Подавился виноградом. Арахисом. Чипсами. Гамбургером на парковке у «Макдоналдса».
Я вошла во вкус. Мне приходили в голову все более живописные картины.
Сожрал медведь. Зарезал грабитель в маске. Переехало автобусом. Отрезало голову бумерангом. Рухнул с дуба, под ним же и похоронен.
Повесился. Сунул голову в духовку.
Наглотался таблеток и захлебнулся в собственной рвоте.
Постепенно я увлеклась и перешла к активной позиции.
Застрелить. Перерезать горло. Плеснуть кислоты для труб в кофе. Прошибить череп доской с гвоздем. Запереть в доме, поджечь и сбежать.
Если бы я заговорила об этом списке, мне пришлось бы рассказать и о причинах, побудивших меня его составить. О том, что он вытворял со мной и с мамой. Что мог перекинуться на младшую сестренку, потому что однажды я уже заметила три круглых синяка у нее на предплечье, похожих на следы от пальцев, хотя она сказала, что упала с велосипеда. Но я не могла рассказать об этом ни под покровом тьмы, ни при свете солнца. Слова не шли. И я составила список.
Однако написать и сделать – разные вещи. Написать – все равно что загадать желание, задувая свечи на праздничном торте. Разве хоть раз наши желания сбылись?
Ори долго молчала. Может, уже уснула. Но я не спала. Я вспоминала. Я все еще жива, а он нет.
– Почти каждую ночь, – ответила я.
И не дожидаясь, что Ори переспросит, погрузилась обратно во тьму, из которой она выдернула меня расспросами. Погрузилась во мрак, озаряемый вспышками света. Оранжевый грузовик в огне. Полыхающая ладонь, прижатая к стеклу. Удушливый запах бензина. Клубы черного дыма. Сплошное великолепие.
Меня там не было, но как бы мне хотелось это видеть.
В ней было что-то
В ней было что-то, что разжигало мое любопытство. Я наблюдала за ней остаток недели: пока она сидела рядом со мной в столовой – там, где я велела ей сесть; пока она стояла в нашей камере во время переклички – там, где я велела ей встать. Я даже иногда забиралась по лестнице и заглядывала, действительно ли она спит. (И она спала. Она лежала на спине, сложив на груди руки, будто в гробу.) Хотя когда она ночью вставала в туалет, я предпочитала отвернуться.
Я заметила, что во время уроков Ори пишет какие-то письма – сперва я не знала, кому. Она все пыталась разглядеть себя в том подобии зеркала, что висело у нас на стене.
Мой взгляд невольно притягивали ее ступни – странные шишки на пальцах, грубые красные мозоли. Так я впервые поняла, что там, снаружи, у нее было свое занятие. Одни из нас вскрывали тачки, состояли в банде, хулиганили и ненавидели родителей, а Ори танцевала балет.
Для нас это звучало так же дико, как если бы она ездила верхом на слоне или играла на улице пантомиму, вымазав лицо белым гримом.
Но она и вправду была балериной. На ум сразу приходили девушки в пышных пачках, с волосами, собранными в пучок, в пуантах – неужели это они оставляют такие жуткие мозоли? Ступни Ори заметили многие из наших. А однажды я видела, как она села на шпагат, а потом нагнулась и легла щекой на вытянутую ногу. Поймав мой взгляд, она тут же свела ноги.
– Почему ты нам не показываешь таких штук? – спросила я.
Ей следовало знать – развлечений у нас немного, так что мы радовались всему. Мы постоянно просили Натти спеть, а Шери – показать фокус с картами, когда нам надоедало в них играть или соревноваться, кто дальше плюнет, хотя в большинстве случаев она не угадывала, что за карту мы держим в руке.
Ори сжала челюсти. Ее лицо окаменело.
– Каких штук?
– Танцевальных.
Она покачала головой.
– Не здесь, конечно, – сказала я, имея в виду нашу камеру. – Тут места мало. Снаружи. Например, там, куда нас на зарядку водят?
– Нет. – Она повернулась к фальшивому зеркалу и попыталась заглянуть в него. Затем сдалась и перевела взгляд на стену. – Я не танцую.
– Но…
– Я больше не танцую.
Она словно давала клятву, – так Лиан зарекалась не брать в рот спиртного.
В остальном ее первые дни в «Авроре» напомнили мне о моих собственных. Она тоже передвигалась по корпусу, будто в тумане. Страха не выказывала. Знала, что не должна, что нельзя. Подобно волкам, мы чувствовали страх, питались им. Стоило дать слабину, и от нее остались бы рожки да ножки – мозолистые ножки с искореженными пальцами.
Она ни с кем не ссорилась, даже если ее нарочно пытались задеть. И не плакала. По крайней мере, я не слышала. Может, ей, как и мне, каждую ночь противный тоненький голос нашептывал в ухо: «Ты тут на веки вечные, привыкай».
Точно не знаю, потому что после той первой ночи она больше не лезла ко мне с расспросами. Она молчала. Наверное, пыталась примириться с реальностью.
Я наблюдала за ней во время занятий. Мы занимались по утрам пять дней в неделю. По каждому предмету у нас был только один преподаватель для всех возрастов, начиная с пятнадцати. Если девочка много читала, как я, например, чему она там могла научиться? Тем, кто опережал программу, вручали книжку и усаживали за последнюю парту, велев заниматься своим делом и не мешать. Так я сама освоила алгебру. Интерпретировала значение символов в пьесах Шекспира, дав им собственное толкование. Изучила философию Платона и Канта. Научилась вязать по книжке без ниток и спиц. Запомнила имена египетских фараонов и европейских диктаторов. Я проходила тест на аттестат зрелости снова и снова, пока не набрала высший балл по каждому из разделов.
Ори в конце концов тоже сослали за заднюю парту и вручили ей книгу про Клеопатру – я ее уже читала. Ори склонила голову над разворотом, где была изображена египетская царица. Неужели ее заворожила золотая корона? Она взяла лист бумаги и попросила карандаш. Я погрузилась в «Основы астрономии», а когда спустя сорок минут отвлеклась, то заметила, что Ори так и не перевернула страницу. Она вовсе не стремилась разузнать все о египетских династиях. Прикрыв листок рукой, она что-то яростно строчила. Карандаш рвал бумагу, наносил ей порезы.
Ори подняла глаза и поймала взгляд учительницы. Решив, будто той есть дело, она быстро сунула листок в книжку между страниц параграфа, где повествовалось о Ксерксе Великом. Я замешкалась в классе, дождавшись, пока все выйдут, вытянула его, на ходу пробежала глазами, а затем бросила в коробку со старыми тетрадками по английскому, оказавшуюся на пути. Из класса нельзя было ничего выносить, листок все равно отняли бы.
Я сумела разобрать всего несколько слов – почерк был почти нечитаемый.
Сладко тебе спится по ночам?
…помнишь, когда мы решились на Великое приключение…
На моем месте должна быть ты!
Гори в аду!
Явно не любовная записка. Ори желала кому-то смерти, как я желала смерти своему отчиму. Интересно, кому? Плутая в плену жарких ночных фантазий, я отчасти верила в волшебную силу букв. Я же писала в дневнике – автокатастрофа, автокатастрофа, автокатастрофа. И вот она случилась.
После этой записки я стала следить за Ори пристальнее. Все мы здесь что-то скрывали. Каждая тщательно берегла собственные секреты и внимательно наблюдала – вдруг кто-то выдаст свои.
Прошла неделя. Я не сводила с нее глаз.
В «Авроре» легко нарваться на наказание. Охранники могли вызвериться по любому поводу – если зайдешь в тапках в камеру, опоздаешь в столовую, примешь душ в неурочный час, не примешь душ вообще или огрызнешься в ответ на замечание. А еще если много болтаешь, смеешься (они сразу принимали смех на свой счет), ходишь слишком быстро (попытка сбежать), спишь, накрыв голову одеялом, так что им тебя не видно.
Никому не хотелось угодить в корпус для суицидниц. Там не гасили свет по ночам и не давали одеял – только тонкую простыню. А днем приходилось делать все на глазах у охранников. Этим девушкам не разрешали носить лифчики, вроде как на лямках можно повеситься. Спасибо, что подкинули идею, чего уж там.
Я предупредила Ори насчет того, что значит попасть к суицидницам, но не могла же я контролировать ее постоянно.
Обычно через пару дней у каждой новенькой происходили стычки с кем-нибудь из охранников. И те применяли силу. Показывали, кто главный. Наскакивали на нас, укладывали лицом на пол. Приказывали успокоиться. Они называли это наведением дисциплины.
Мы шагали колонной в столовую, и Ори что-то увидела за окном. Ори подбежала к нему, просунула руку сквозь прутья решетки и прижала ладонь к стеклу. Стоял прекрасный солнечный день – голубое небо, яркое солнце, зеленые деревья, колышущиеся на ветру, возможно, пролетела бабочка – иногда мы замечали их порхание. Что бы там ни было, жизнь шла своим чередом.
Рафферти заметил, что Ори замерла у окна, и крикнул, чтобы та пошевеливалась. Вернулась в строй. Если не поторопится – всех лишат обеда.
Некоторые из нас возмутились, в животах заурчало. Другие не имели ни малейшего желания жевать резиновый сэндвич с ветчиной, который сулило сегодняшнее меню, и, ухмыляясь, застыли в предвкушении спектакля. Интересно посмотреть, как ей заломят руки, как она будет брыкаться и кричать.
Мелькнула мысль предупредить Ори, но я промолчала – не хотелось вызывать огонь на себя.
– Сперлинг! – рявкнул Рафферти.
Она стояла спиной ко всем, прижавшись лицом к решетке. Глядя в синее небо.
– Вернись в строй!
Она не слышала, должно быть, погрузившись в воспоминания.
Рафферти, возглавлявший колонну, двинулся к ней. Мы охнули и отступили на шаг назад. Самые впечатлительные закрыли глаза руками.
Миссисипи рассказывала, что Ори крепко держалась за решетки. Мирабель говорила, что ничего она не держалась, просто не ожидала, что вдруг окажется на полу. Рот у нее округлился, волосы взвились вверх, попали в глаза охраннику.
Мы все это видели. Видели, как он схватил ее и впечатал в пол. Она лежала на животе с заломленными за спину руками. У многих из нас пронеслась перед глазами картина собственного ареста. Закон штата не дозволял применять процедуру «лицом вниз» к малолетним преступникам, однако охранники упражнялись в ней так усердно, будто готовились к Олимпийским играм. Они подходили сзади, обхватывали шею рукой, потом следовал бросок, и вот ты уже валяешься, прижавшись щекой к бетону. Причем в бетон тебя вдавливали со всей силой независимо от того, пыталась ли ты сопротивляться или притворялась мертвой. Неважно, что мы натворили. Мы были в их власти. И они упивались игрой.
Теперь Ори стала одной из нас.
Когда Рафферти показалось, что она успокоилась, он отпустил ее и дал подняться на ноги. Щеки Ори пламенели, в глазах блестели слезы. Она утерла лицо рукавом. Кто-то хмыкнул, кто-то попытался поймать ее взгляд и улыбнуться, чтобы поддержать, кто-то молча уставился себе под ноги.
– Стань в строй, Сперлинг, – скомандовал Рафферти. – Пора обедать.
Она вернулась на место – как раз позади меня. Прошла прямая, как статуэтка, гордо неся голову. Наверное, мне стоило протянуть назад руку, чтобы подбодрить ее, но если бы меня застукали, лишили бы чего-нибудь важного. Тележку вот уже отобрали. Я отважилась лишь чуть повернуть голову и едва заметно кивнуть. Мы двинулись дальше. Она больше не смотрела сквозь зарешеченное окно на голубое небо. Никто из нас не смотрел. Пейзаж снаружи для нас стерли, как стирают с лица земли дом, пройдясь по нему бульдозером, как уничтожают вокруг все живое, сбросив сверху атомную бомбу.
Спустя две недели Ори привыкла ко всему, к чему привыкли мы: к захватам «лицом вниз», к постоянным осмотрам самых потаенных уголков тела, к стыду. И еще ко всяким мелочам, которые нам любезно подбрасывали: к фразам о том, что мы конченые люди; что скоро введут смертную казнь для тех, кто младше восемнадцати, и мы все поджаримся на электрическом стуле. Привыкла к холодному лязгу замка, запиравшегося на ночь.
Со всем этим она свыклась быстро, без жалоб и расспросов. Будто сдалась, перестала бороться, смирилась.
Август был в разгаре. После обеда мы занимались общественно полезным трудом. Ори поручили работать в саду. Она выпалывала сорняки, возилась с грядками. Она научилась держать лопату – пригодится, если понадобится кого-нибудь закопать. А еще она могла свободно собирать листья плюща – мечта для девиц вроде Пичес. Только Ори было наплевать на плющ. Она не собиралась одурманивать себя. Похоже, она занялась исключительно грядками.
Меня сослали на кухню. Здесь были самые большие окна во всем здании. Когда выдавалась минутка, я наблюдала за Ори, которая возилась в грязи, как земляной червяк. Я заметила, что садовник ее сторонится. Наверное, наслушался кровавых историй. Хотя ему было до жути любопытно.
Впрочем, как и всем нам – и девочкам, и охранникам. Мы подозревали, что рано или поздно в ней проснется тот самый монстр. Ловили искры ярости во взгляде. Ждали срыва.
У каждой из нас внутри таился собственный монстр, непохожий на остальных. Все мы были разными, как снежинки.
Хотя монстр Ори не показывался, все же что-то в ней чувствовалось. Порой у меня возникало странное ощущение, будто я что-то знала, но забыла. Наверное, так воспринимаешь боль в ампутированной руке.
Я не сводила с нее глаз. Наблюдала глазами присяжных и судьи. И начала думать, что она вправду невиновна.
Взять хотя бы ту чашку.
В столовой нам не дозволялось самим выбирать тарелки или приборы. Что дают, то и надо брать. В том числе и пищу. Либо ешь, либо оставайся голодной, если, например, макароны казались особенно отвратительными, а суп прокисшим. А у Ори появилась любимая кружка.
Красная. Она каким-то чудным образом затесалась среди прочей одинаковой посуды и могла попасть на поднос к любой из нас. До того как Ори попала к нам, мы расценивали красную кружку с молоком, кислым апельсиновым соком или лимонадом – в зависимости от того, что нам давали, – как плохую примету. Большинство даже не отваживались из нее пить, словно жидкость внутри была отравлена.
А затем появилась Ори. Она во всем видела только хорошее. Даже когда Рафферти заметил, что она вышла из строя, и силой заставил ее вернуться. Даже тогда, молчаливая и покорная, она сохранила внутреннее достоинство.
Ей дано было видеть то, чего мы не замечали. Она умела заглянуть внутрь через грубую оболочку, не замечая ссадины на кулаках, и даже у самых отпетых из нас на глазах выступали слезы. Она смотрела так, словно видела, как ты сунула двадцатку бездомному алкашу на углу или выхватила из-под ног прохожих улитку и отнесла ее на газон. Да, Ори как будто знала обо всех добрых поступках, которые мы совершили в прошлой жизни. Она умела распознать то хорошее, что еще оставалось у нас внутри.
Понятия не имею, как ей это удавалось.
Она видела нас такими, какими мы могли стать, если бы не попали сюда. Она видела то, чего не видел судья, то, что не видел, хотя и притворялся, адвокат, назначенный государством, то, что должны были видеть наши матери, которые не приезжали на свидания.
Представьте себе человека, который видит в вас маленькую девочку с косичками. Такой была Орианна Сперлинг – наша новенькая, наша сорок вторая.
Когда красная кружка впервые оказалась на ее подносе, Ори сотворила нечто невероятное. Ее лицо озарила улыбка. Мы никогда прежде не видели, чтобы она так улыбалась, и некоторые из нас замерли на месте.
– Ты не заболела? – осведомилась Натти.
Шери похлопала ее по плечу.
– Все нормально?
Ори, по-прежнему с улыбкой, повернулась ко мне.
– Смотри! Здорово, правда?
Все мы, не веря своим ушам, перевели глаза на поднос со сколотым углом. И увидели тарелку с жидким картофельным пюре, крошечным куском жесткого мяса и горстью склизкой зеленой фасоли, а также твердокаменную пшеничную булочку и кусок бледно-желтого пирога без сахарной глазури. А в выемке под чашку стояла несчастливая красная кружка с белесой жидкостью, отдаленно напоминающей молоко.
– Сегодня мне повезло! – сообщила Ори, будто утешая, что завтра повезет другой.
Мы взяли пластиковые приборы и скользнули к столику, на который никто не претендовал. Она села напротив, и мы как обычно уткнулись в тарелки. Я зачерпнула вязкой картошки и попыталась проглотить безвкусную массу.
Подняв глаза, я увидела, что на лице Ори до сих пор играет улыбка.
Беспричинное счастье притягивало взгляды. Посреди тюремной столовой будто зажглось солнце. Свет бил в глаза, но неизменно влек к себе.
– День сложится хорошо! Красная кружка приносит удачу.
Все, кто сидел поблизости, повернули головы. Девочки зашептались. Мак, которая сидела за нашим столом, взяла поднос и пересела.
– Не пей из нее, – сказала я Ори. – Она… Мы…
Надо было сказать ей раньше, потому что она уже отхлебнула добрый глоток той бурды, которую в тюрьме именовали молоком.
Никто из нас не понял. Девочки, которым оставалось отсидеть два года или два с половиной месяца или две сотни и двадцать дней, – никто не понял. День сложится хорошо? Это как? Хорошим будет тот день, когда мы уберемся отсюда. Когда споткнется и рухнет на пол охранник. Когда ворота, увитые колючей проволокой, в конце дороги, по которой мы помчимся со всех ног, окажутся открыты. Когда к ним подъедет машина, готовая для побега, ее дверь распахнется, мы запрыгнем в нее и на всех парах умчимся прочь. Это будет хороший день.
Прочих хороших моментов было мало, и случались они редко. Например, бежишь в душ за две минуты до окончания водных процедур, а вода еще горячая. Или срываешь украдкой поцелуй с губ девчонки, глаза которой напоминали глаза парня, оставшегося в той жизни. Украсть поцелуй, украсть мгновение. Украсть хоть что-нибудь, оставить что-нибудь для себя.
Для меня удача значила схватить новую, только что попавшую к нам книжку и пробежать пальцами по страницам. Да, для меня это был единственный хороший момент.
Но Ори замечала хорошее в каждом пыльном сером углу. Яркая кружка посреди подноса с отвратительной едой в тюрьме, где предстоит провести всю молодость, означала для нее удачный день. Она во всем находила счастье, и симпатичная красная кружка была способна превратить молочную бурду в божественный нектар.
Ори допила молоко. Вся столовая не сводила с нее глаз.
– Вкусно! – вздохнула она.
И после этого красная кружка стала желанной гостьей на любом подносе. Каждой девочке хотелось, чтобы она попала именно к ней, неважно с чем – с молоком, соком, да хоть с водой из-под крана. Иногда из-за нее вспыхивали ссоры. Тем летом двоих поспоривших из-за кружки посадили в карцер. Ори убедила всех, что красная кружка приносит удачу. Между прочим, так оно и было.
Мы занимались самовыражением
Мы занимались самовыражением раз в неделю на принудительных занятиях по арт-терапии. К нам на общественных началах приходила какая-то хипповатая тетка. Вся арт-терапия заключалась в том, что мы малевали на дешевой бумаге каракули, а затем садились кружком и обсуждали, что вышло.
На первом занятии в том августе моя соседка по камере не рисовала ни изогнутых драконов, как Дамур, ни дорогих машин, как Мирабель. Не изображала фигуристые силуэты порнозвезд, как Натти, которая большую часть занятия раскрашивала им губы красным карандашом. Ори, сама того не ведая, передала мне сообщение.
На карандашном рисунке было лицо – нос как нос, губы как губы, уши как уши. Тонкие, едва заметные брови. Ничего сверхъестественного. Длинная жирафья шея – линии уходили в никуда.
Обычное лицо, нарисованное карандашом.
Даже у хипповатой тетки не нашлось слов, чтобы охарактеризовать внутренний мир Ори. Та лишила ее удовольствия интерпретировать рисунок, а это было любимым занятием нашей преподавательницы наряду с чтением гороскопов; ей доставляло удовольствие копаться в мутной грязи нашего прошлого.
Хиппи помедлила, разглядывая лицо на рисунке Ори.
– Это парень… – протянула она, как мне показалось, с надеждой. Тетка обожала любовные истории, лишь бы не между членами нашего тесного кружка.
– Нет, девушка.
– Вот как? – Тетка ждала рассказа, однако Ори молчала. Должно быть, рисунком сказала все, что хотела. – У вас вышел довольно реалистичный портрет, мисс Сперлинг. Спасибо.
Она предложила Ори в следующий раз дать фантазии волю. Тетка любила, когда мы давали волю фантазии. Она понятия не имела, до чего это опасно.
Зато рисунок Шери ей понравился. Шери изобразила дерево на курьих ножках, но с мужской головой, а вместо ресниц торчали лезвия.
На моем рисунке был дом, сложенный из книг. Вместо двери книга и вместо окон книги. И труба тоже закрыта книгой, так что не выбраться. Все задохнутся в угарном дыму. Замурованных внутри отыщут не сразу. Пройдут годы, тела истлеют и превратятся в скелеты, склонившиеся над последней в жизни книгой. Книжная лавина погребает навеки… Я уже говорила, что люблю книжки, да?
Тетка чуть не лопнула от радости – наконец-то я сумела заглянуть в свое подсознание! На будущей неделе мне стоит погрузиться глубже, открыть дверь-книгу и заглянуть, что прячется внутри книжных стен. Ей кажется, что я готова.
Натти, закатив глаза, заявила, что ее рисунок тоже говорит о том, что она готова. Готова к хорошему траху.
Тетка покраснела и залепетала тот же вздор о неподобающем поведении, которым потчевала нас на прошлой неделе.
Однако я не стала отвлекаться на ерунду. Рисунок Ори поглотил мое внимание. Это лицо… В нем что-то таилось.
Нахлынули воспоминания, комната завертелась. (Смутно знакомое лицо, поплывшие стены, голос хипповатой тетки, талдычащий, чтобы мы успокоились, а то она охрану позовет…)
Я узнала лицо.
Я должна была узнать его сразу.
Я рухнула лицом на землю, на этот раз без помощи охранника.
Чужачка, которая пришла сюда, разрушила стены, увидела меня – только меня! – а потом убежала.
Ори нарисовала именно ее. Ори, которой здесь не было. Она ее не видела. Она ее не знала. Да и как бы она узнала? Я ведь никому ничего не рассказывала.
Теперь я вспомнила лицо той девицы. Да, тот же нос, те же глаза и губы. Рисунок передавал все в точности.
Та незнакомка назвала меня другим именем, которое я позабыла, которое я предпочла схоронить в своей памяти за десятком других имен, за жизнью которых я следила. Теперь оно отчетливо всплыло в моей голове. Сорок второе.
Ори.
Она помогла мне подняться с пола. Именно она, а не тетка, которая вообще-то исполняла роль преподавательницы, и не Миссисипи, которая сидела ко мне ближе всех. Ори подняла меня, хотя нам не разрешали касаться друг друга, за это можно и в карцер угодить, если бы вдруг тетка вызверилась и доложила охране.
В глазах у Ори светился вопрос. Я ответила таким же вопрошающим взглядом. Она отступила на шаг назад.
Конечно, Ори не была выдающейся художницей, но глаза ей удались – холодные синие глаза.
Стоп, рисунок же черно-белый. Откуда я знаю, что они синие?
– Садитесь, девочки! – сказала хиппи. На ее ожерелье звякнули колокольчики.
Ори аккуратно сложила и убрала рисунок. Она не стала спрашивать, отчего я упала в обморок. Для разговора у нас вся ночь.
Она взяла рисунок с собой в камеру после всего, что уготовил нам тот день: после сеанса арт-терапии, переклички во дворе, обеда из жидкого морковного пюре с кусочками вроде бы мяса и серой кружки на подносе, после возвращения колонной по одному в корпус – бесконечной унылой дороги – и переклички в холле.
После того как нас закрыли, Ори повернулась ко мне. На ее лице светился тот же вопрос.
– Что случилось? Почему ты упала со стула?
Я молча указала на рисунок, зажатый в ее руке. Говорить ничего не стоило, потому что зажгли свет. Нам предстояло переодеться в пижамы, умыться и лечь в койку, ожидая наступления следующего дня.
Я сомневалась, рассказывать обо всем или нет. Переодевалась я спиной к Ори – не могла наблюдать за тем, как она двигается и дышит. Я знаю, на что способны тела – на предательство и ложь. Разобраться в этом мне помогли те, что остались снаружи.
В мои тринадцать лет у меня были задушевные подруги. Они первыми побежали в полицию и доложили обо всем, в чем я признавалась, когда оставалась у них ночевать, обо всем, что я писала в нашем тайном чате, обо всем, что я поверяла им на самых верхних местах на трибуне, куда мы забирались во время школьных соревнований и тряслись от хохота, наблюдая за дурацкими ужимками группы поддержки. Они признали меня виновной еще до суда.
С того времени у меня не было настоящей подруги. Которая умеет хранить тайны. Которая рискнет угодить в карцер, но поможет встать, если я грохнусь со стула.
Во мне просыпалась признательность к Ори. Ничего подобного я не чувствовала ни к одной из наших, пусть я и знала о них все – я же читала их записки, спрятанные между страницами книг, подслушивала их секреты. Да, я видела письмо, которое писала Ори, но кроме этого ровным счетом ничего о ней не знала. Я слышала, как ее вызывали, когда разносили почту, но она запирала письма в тумбочке, мне удалось разглядеть только, что на них стоял почтовый штемпель городка Саратога-Спрингс. А мне хотелось знать больше. Мне хотелось знать все.
Ори опередила меня, задав следующий вопрос:
– Что ты раньше рисовала на этой терапии?
– Обычные дома.
Она смотрела на меня молча, ждала объяснений.
– Кирпичные дома с окнами, дверями и трубой, чтобы дым выходил наружу. Обычные дома, в которых живут люди.
Она не стала спрашивать, жила ли я в таком доме (а я жила), рисовала ли я людей возле дома – скажем, милую семейку на зеленом газоне под ярким солнцем, они держатся за руки и улыбаются во весь нарисованный рот (не рисовала).
Мы всегда контролировали то, что рисуем во время сеансов арт-терапии. Мы быстро сообразили, что изображение способно выдать художницу с головой.
– Почему ты не злишься? – спросила Ори. – По крайней мере, не похоже, что ты злишься. А у тебя вся жизнь сломана, потому что никто тебе не поверил.
Так и было. Никто не поверил.
– А ты?
– Я? Нет, я не злюсь.
Записка в книжке про Клеопатру говорила об обратном.
По моему лицу она поняла, что я не верю. Я думала, Ори будет настаивать на лжи, ведь она не знает о том, что я видела ту записку, однако она сказала:
– Ладно, хорошо. Иногда злюсь. Так злюсь, что себя не узнаю. Но я здесь. Ничего не поделаешь. Не получится проснуться в другом месте, будто всего этого не было, так что…
– Так что – что?
– Какой смысл?
Я опустилась на койку. Ее голос звучал искренне. Она стояла передо мной босая, не пыталась скрыть длинные уродливые пальцы с черным-пречерным ногтем на большом – вовсе не от лака. Я заглянула ей в глаза, они были правдивы. И я не могла не подумать о том, что сделала бы Ори, если бы мы дружили в седьмом классе, сидели вместе на самом верху трибуны, болтали о всяком, не обращая внимания на пляски девиц из группы поддержки, и если бы я сказала то, что сказала про отчима, а тот потом заживо поджарился в своей машине – неужели она тоже побежала бы сперва к родителям, а потом в полицию, как мои так называемые подружки? Или повела бы себя, как настоящий товарищ, на которого можно положиться? Встала бы на суде и заявила, что я не хотела ничего плохого. Солгала бы ради меня.
Лучше сменить тему.
– Кто этот парень? – Я начала проверку.
– В смысле? На рисунке? Почему все думают, что это парень?
– Кто-то же тебе пишет.
Ей пришло уже три письма.
– Это Майлз, – ответила Ори так тихо, что я с трудом расслышала.
Нам в любом случае стоило говорить потише – вскоре должен был начаться обход. Когда распахнется окошко, следует лежать молча с закрытыми глазами. Однако мне очень хотелось разузнать об этом Майлзе, который накатал ей уже три письма.
(Последний раз я касалась парня года четыре назад, и то случайно, в городском бассейне. Он прыгнул с мостика и ударил меня ногой по плечу. Я с головой ушла под воду. До сих пор помню запах хлорки в носу.)
Неужели именно Майлзу она сперва пожелала гореть в аду, а затем перечеркнула написанное, испугавшись собственной злобы? Речь вроде бы шла о девушке…
Ори снова взялась за свое, как тогда в столовой с красной кружкой. Она улыбалась.
– Он вроде как мой парень. Официально он встречаться не предлагал, но я думаю, что у нас отношения.
– Он много пишет. Уже три письма.
– Пять.
Она спрятала от меня два.
– Пять? Конечно, у вас отношения. Иначе с чего бы он столько написывал.
– Он пытается организовать свидание, но я боюсь, что его не пустят. Ко мне могут приезжать только члены семьи…
– Аа-а, – протянула я.
Ко мне пустили бы и членов, и нечленов, однако что-то за все годы никто так и не наведался.
– Понимаешь, Майлз… – начала Ори, и тут мы услышали шаги охранника и юркнули под одеяла.
Шаги затихли, я задрала голову и спросила:
– Так что там с Майлзом?
– Он единственный, кто мне поверил.
А если бы у меня был человек, который верил бы, что я невиновна? Верил настолько, что стал бы писать письма, просить руководство тюрьмы о свидании, для этого дал записать свое имя в лист ожидания – там, где любой мог увидеть его… Сейчас я даже обрадовалась, что не прочитала тех трех писем (ах, да! выяснилось, что их пять). Если бы я знала, что он верит ей, верит, что она невиновна, что обвинили ее по ошибке, – я бы этого не вынесла. От одной такой мысли у меня вставал ком в горле. Да, мне хотелось заплакать.
Ори заговорила о другом.
– Но я рисовала не Майлза.
Я набралась духу.
– Я уже видела ее. Эту девушку.
Теперь затихла Ори.
– По-моему, ее. Все происходило, словно во сне. Хотя и наяву. Тебя здесь еще не было. Она приходила сюда, звала тебя.
Верхняя койка пришла в движение – Ори перелезла ко мне на кровать. Думаю, ей хотелось видеть мое лицо. Много ли увидишь в темноте? Наверное, она все же надеялась распознать, вру я или нет.
Я боялась, что Ори потянется к моей шее. Тех девушек она убила ножом. Так говорили.
– Рассказывай, – потребовала она.
И я рассказала ей о той ночи. Пусть тогда ее с нами не было, но теперь она стала частью всего, что здесь случилось. И я рассказала ей. О том, как открылись замки, как распахнулись двери. О топоте наших ног в темноте. О приливе, который унес нас в открытое море.
О том, как мы думали, что погибла Дамур. О вспышке, подобной молнии, и о той девушке – точь-в-точь такой же, как на рисунке.
Я описала все, что запомнила, все до последней детали. Но Ори поверила мне, только когда я сказала о браслете.
– У нее был золотой браслет с маленькими фигурками, с ба…
– С балеринами.
Она была напугана точно так же, как я. Я подумала о связи. Будто бы это Ори – вся ее жизнь и судьба – висели на браслете у той девицы. Ее подвесили на цепочку, и болтаться ей там веки вечные.
Я кивнула.
– И глаза у нее синие.
– Ох…
– Что такое?
– Как она здесь оказалась?
Если бы я знала…
– Она искала меня. Она звала меня.
Я кивнула. Да, думаю, так и было. Сон, сказала я. Скорее всего, просто сон. Галлюцинация. Сбой реальности. Сбой памяти. Обычный сбой.
Ори сидела на моей койке, приоткрыв рот. Я едва различала ее лицо в тусклом свете луны, пробивающемся через окно. У нее в голове это все не укладывалось. Да и у кого бы уложилось.
– А что она сказала обо мне? О том, что я сделала?
Вновь послышались шаги охранника, и Ори скользнула наверх. Мы дождались, пока он подойдет, посветит фонариком в дверное окошко и оставит нас в покое.
Наконец Ори свесилась с койки.
– Ее зовут Вайолет Дюмон. Из-за нее я здесь.
И замолчала. Видимо, решив, что и так сказала слишком много.
Вайолет Дюмон – одна из тех, кого она убила?.. Я все ждала, что она расскажет о том, что произошло, однако Ори молчала. Она хранила свой единственный секрет.
Меня вызвали
Меня вызвали на следующее утро. Был обычный ничем не примечательный вторник. Проступков за мной вроде бы не числилось, так что я понятия не имела, для чего им понадобилась.
Сопровождать меня в обшитую деревянными панелями комнату в той части тюрьмы, где я никогда не бывала, назначили Сантосуссо. Он почему-то был весел, чуть не подпрыгивал на ходу, когда вел меня по коридорам – честное слово! – подпрыгивали синяя фуражка и пистолет на поясе.
– Тебя ждут хорошие новости! – сообщил он.
Сантосуссо распахнул дверь. Они сидели за длинным столом.
Трое чиновников. Одна из женщин – кругленькая, неприметная, вторая – тощая, с остро заточенными ногтями и хищным лицом. Мужчина был выше, чем обе дамочки, если их рост сложить вместе. Он царствовал в кресле, рыжебородый, похожий на Тора, как будто сошел со страниц скандинавских мифов. Викинг кивнул мне, дамочки не шевельнулись.
Стены комнаты были обшиты деревянными панелями, и комната выглядела темной и сумрачной, несмотря на то что горел свет. Я вдруг почувствовала себя беспомощной. Надо мной снова учинили процесс. Я будто тонула, и моя жизнь зависела от этих троих. Выбор был за ними – протягивать мне руку или нет.
По другую сторону стола стоял всего один стул, видимо, для меня. Сантосуссо подвел меня к нему и усадил. Я положила руки на стол. Наручники на меня не надели.
– Добрый день, мисс Смит! – сказала Кругленькая. – Спасибо, что пришли, – добавила она, словно у меня был выбор.
Они велели Сантосуссо выйти. Он заявил, что ждет за дверью, – уж не знаю, кого он хотел подбодрить, меня или чиновников, которым предстояло остаться со мной наедине.
Дверь закрылась. Мои руки покоились на столе – пластиковые неподвижные руки манекена со слипшимися пальцами.
И тогда они сообщили мне новость.
Я не поняла до конца, я ведь не изучала законодательство, как Пичес, на тот случай, если по ее делу вдруг назначат повторное разбирательство, тогда бы она встала и выступила в свою защиту сама.
Суть в том, что пока я отбывала свой срок, снаружи что-то произошло. «Смягчение сердца». Явно не юридический термин, однако тощая тетка выразилась именно так.
До нынешнего момента мне ничего не говорили. Ни писем от адвоката, ни визитов, ни лишних денег, зачисленных на мой счет в столовке, а то бы я шоколадных батончиков накупила. Тем не менее мама боролась за меня, сказал Викинг, и склонился вперед, так что мог бы накрыть мои руки своей, но не накрыл.
Нет, невиновной меня не признали. Это значило бы, что машина правосудия дала сбой и допустила чудовищную ошибку, а признать ошибку для законников немыслимо.
Вместо этого они сказали, что для своего юного возраста я отсидела уже достаточно. Затем меня долго мучили рассуждениями, много ли я понимала в том возрасте, о случайности, имевшей место и повлекшей за собой преступление, об импульсивности, ставшей тому причиной, они даже договорились до того, можно ли вообще назвать произошедшее преступлением.
То есть, когда я подобралась к мотору грузовика отчима и перерезала топливопровод, откуда мне было знать, что случится утечка бензина и грузовик взорвется, как ящик с петардами. Мне ведь было всего тринадцать – совсем ребенок.
Свидетелей тому, что я изучала схемы двигателя, которые он аккуратно хранил на полке в гараже, не нашлось. Отчим никого не пускал в свой гараж, и никто не видел, как однажды после ужина, не включая свет, я проскользнула туда, пока он задерживался на работе. Это все чистые домыслы, их не докажешь. И никаких следов разлитого бензина на коврике для ног, а проверить – не проверишь, от машины почти ничего не осталось, как и от водителя. Пришлось обратиться к записям дантиста, чтобы идентифицировать останки.
В преступлениях такого рода точно все не установишь, это вам не зарезать кого-нибудь. Вот если зарезать, тогда остается оружие, отпечатки пальцев, а то и следы крови жертвы на одежде убийцы. (В своем дневнике я размышляла над возможностью его зарезать, но чиновники не принесли с собой дневник, который в полиции сочли доказательством. И я не стала напоминать о тонкой тетрадке, которую хранила в щели между стеной и спинкой кровати. Приведенный в нем список подтверждал злой умысел, доказывал намерение.)
Немыслимо, что меня посадили в тюрьму из-за несчастного случая на дороге, в котором пострадал один человек. Тем более, когда это произошло, я вообще была дома – заболела и не пошла в школу.
Но еще более немыслимо то, что мама передумала.
Та самая женщина, которая за все эти годы не сказала мне ни единого слова, ни разу не приехала навестить, ни разу не сняла трубку, так что я перестала звонить, ни разу не ответила на письмо, так что писать я тоже перестала. Та самая женщина. Моя мать.
– Все понятно, мисс Смит? – спросила Круглая. – Документы по вашему освобождению готовятся. Точную дату назвать не можем, но в сентябре вас отпустят.
Нет, ничего мне не понятно.
– Мисс Смит, – вмешалась тощая, – вам можно говорить. Если хотите спросить что-то, спрашивайте.
– Она знает? – прохрипела я.
– Она – это кто?
Тощая уткнула нос в бумажки, Круглая растерянно заморгала, а Викинг удивленно вскинул голову.
– Сестра. Младшая. По матери. Перл. Ей в этом году десять лет исполнилось.
– Об этом нам неизвестно, – ответил мне женский голос.
Когда я в последний раз видела Перл, ей было всего семь. В руках у нее была коробка для ланча с нарисованной русалочкой, блестящие лаковые туфельки на ногах. Ее отец сгорел заживо в той машине, а старшая сестра исчезла вскоре после этого. Ей рассказали, что произошло? Она знает, почему меня увезли? Неужели кто-то нашел в себе силы сесть рядом и все объяснить?
В то утро малышка Перл вышла из кухни, размахивая коробкой с Русалочкой. Я лежала в гостиной на диване, укутавшись в зеленый плед, с мокрым полотенцем на голове – притворялась больной, чтобы пропустить школу. Она кинулась ко мне – туфельки процокали по полу, пока звук не поглотил ковер. Перл поставила коробку с ланчем на пол и положила ручонку мне на лоб – воплощенная серьезность.
– У тебя жар, – диагностировала она. – Ничего, ты скоро поправишься, Бэмби.
Бэмби – так она произносила «Эмбер», когда только начала говорить. Имя приклеилось, с тех пор все в семье стали звать меня так.
– До завтра все пройдет.
Не помню, что я ответила, и ответила ли.
До завтра все не пройдет, но решится.
– Пока, Бэмби!
Перл была такой крошечной, такой доверчивой и беззащитной. Не могла я допустить, чтобы он поднял на нее руку.
– Пока, Перл! Хорошего дня в школе.
Цок-цок, зацокотали ее туфельки по доскам пола, как только она сошла с ковра. Я слышала ее шаги по коридору, затем по лестнице. Цокот затих. Должно быть, она села на последнюю ступеньку и переобулась в фиолетовые кроссовки на липучках, как приучила ее наша мама.
Нет, вряд ли Перл до сих пор меня любит. Трудно представить, что она скажет, увидев меня на пороге – очерствевшую, грубую.
– Похоже, новость вас ошеломила, мисс Смит. Вы точно не хотите ничего спросить?
Три гладкие чиновничьи улыбки.
Вопрос у меня нашелся лишь один:
– Меня что, правда освободят?
Три одинаковых чиновничьих кивка. Подробный рассказ о том, как все будет. За мной пришлют автобус и довезут до дома, где живет мать, потому что самой мне не добраться, а она за мной приехать не сможет. Одежду мне выдадут, потому что из той, в которой меня привезли, я, конечно, выросла. Что, когда и как, расскажут в сентябре.
Они хотели услышать от меня слова благодарности. Они ждали их здесь и сейчас: потока слов, а возможно, и слез.
Когда я узнала, что отчим сгорел заживо в грузовике, едва выехав на шоссе из дома, я не расплакалась. Я будто окаменела. Меня оставили в покое, решили, что я в шоке… А потом меня обнаружили в подвале, в его логове, куда он никого не пускал. Я сидела босиком за его барабанной установкой с палочками в руках. Стучать я не стучала, но он никогда не разрешал мне даже близко подходить к барабанам, а тут я уселась прямо на его стул. Я напевала мотивчик, который не отпускал меня все последующие дни – на поминках, на похоронах, после того как гроб опустили в вырытую яму и на него полетели комья земли, когда сверху водрузили гранитный камень с гравировкой «Любимому мужу и отцу», и потом, когда мать всхлипывала всякий раз, проходя мимо фотографии на каминной полке, изображающей счастливую семью – он, она и моя сестра, разумеется, без меня, – все время я напевала тот мотивчик. Безутешное материнское горе убедило меня в том, что я и так знала: никого на свете она не любила так, как его.
Мотивчик не сходил с моих уст, пока меня не забрала полиция.
Его любимая песня, песня времен его молодости. Я презрительно фыркала, заслышав это старье, но он ее обожал. «Pour some sugar on me»[18], – беспрестанно напевала я. Меня тошнило от этой песни, от сладеньких хриплых завываний, однако во имя ненависти я не прекращала тихонько повторять ее назойливый мотив. Никогда больше не отстучать ему тот ритм на барабанах.
Я всегда придерживаюсь задуманного плана. Если уж что решила, выполню обязательно. Отравить отчима за ужином не вышло (он решил, что перепил накануне и теперь страдает с похмелья), он не разбился, когда полез на крышу менять черепицу (рухнуть-то он рухнул, да только лодыжку вывихнул), зарезать его я не смогла (уже и нож для мяса достала из ящика, но струсила и сунула обратно) – в общем, когда все это не сработало, я не отступила от цели, открыв в себе неисчерпаемые запасы вдохновения и упорства. Все неудавшиеся попытки я зафиксировала в дневнике, указав даты. Размышления о том, как половчее избавиться от него, не отпускали меня ни на секунду. Прокурор не ошибся, назвав убийство предумышленным. Я постоянно думала, как разделаться с отчимом, эти мысли зудели в голове, будто тот самый назойливый мотивчик. Как я надеялась, что все получится, как молилась об этом, воображая золотую статую божка на книжной полке.
Помоги мне.
Помоги мне.
Как это сделать?
Хоть бы он пропал, исчез с лица земли.
Мне рассказали, что его грузовик загорелся на шоссе. Кабина вспыхнула сразу. Мимо проезжало какое-то семейство. Они остановились, но помочь не смогли. Просто смотрели, как он бьется внутри кабины, медленно превращаясь в жаркое, а потом вообще в черный дым. Я слышала, что в последние минуты жизни он, вероятно, испытал ужасную боль. Мучительная агония, сказал кто-то. Я даже полезла в словарь, чтобы узнать, что это значит.
Но в комнате, обшитой деревянными панелями, в присутствии троих чиновников мне было не до победных гимнов. Я еще до суда навсегда перестала зудеть тот мотивчик. Мне не хотелось вспоминать о том, что произошло, так что от привычки напевать я избавилась. Правда, благодаря Ори выяснилось, что я продолжала мычать его во сне.
До сих пор не понимаю, чего ждали от меня чиновники.
Я не издала ни звука. Я могла бы закрыть лицо руками, скрываясь от их взглядов. Я могла бы рассмеяться недоверчиво, как, наверное, рассмеялись бы многие из нас от такой ошеломительной новости. Я могла бы закричать, как не кричала никогда с тех пор, как попала сюда. Я могла бы сотворить что-нибудь еще, чтобы они догадались, что я обвела их вокруг пальца.
Но я нашла в себе силы только на то, чтобы поблагодарить их, как благодарил бы хозяина за обретенную свободу раб.
Мы все поднялись, ножки четырех стульев скрипнули по полу. Мои запястья по-прежнему были свободны от наручников, голова высоко поднята. Мы стояли в той комнате, как обычные свободные люди.
Дверь открылась, мне сказали, что я могу идти обратно в камеру или куда там мне нужно идти. Ждите новостей. Вернулся Сантосуссо, чтобы сопроводить меня. Викинг и его дамы вышли из комнаты первые, пожелав на прощание всего наилучшего. Вряд ли я встречу их снова.
– Ну как? – спросил Сантосуссо радостно улыбаясь, на щеках у него появились ямочки. – Что я тебе говорил! Хорошие новости, правда?
– Да. – Я не смогла выдавить из себя улыбку. – Спасибо.
Конечно же, он желал мне добра. И полагал, что свобода есть благо. Мы все так считали, но никогда не задумывались о том, что ждет нас дома. Может, родители уже давным-давно выбросили наши старые кровати и сказали братьям и сестрам, что нас переехал поезд.
К тому же родители были не у всех. Пустота, вот что поджидало тебя снаружи. Старый ключ не подойдет к замку. Придется звонить в дверь и спрашивать разрешения войти. В глазке мелькнет тень. Тень незнакомца; семья давно переехала, не сказав тебе. А может, и тень женщины, которая носила тебя под сердцем девять месяцев, потом мучилась четырнадцать часов перед тем, как ей разрезали живот, да только она теперь горько жалеет о том, что дала тебе жизнь.
Исправительная система могла выпустить нас из своих цепких лап, но ее не волновало, с чем и кем мы столкнемся снаружи.
Мать боролась за то, чтобы меня отпустили? Пока не увижу ее и не услышу, как она сама это скажет, ни за что не поверю.
Сантосуссо отвел меня обратно, должно быть, удивляясь, почему я не скачу от радости. Мы прошли мимо окна, в которое пыталась заглянуть Ори, и там мелькнуло чистое синее небо. Я отвернулась.
Трудно было осознать, что меня вскоре освободят. Меня одну. Я выйду, а все останутся.
Я подумала о моей новой сокамернице. Кто поможет ей пережить первую зиму в тюрьме? Нет, радости я не испытывала.
Сантосуссо повел меня не в камеру, а на уроки, потому что по утрам мы обычно занимались. Он проводил меня до учебного корпуса, и я оказалась один на один с обрушившейся на меня новостью.
И тут я услышала два девичьих голоса. Они не пошли на уроки, а «собрались» и о чем-то разговаривали. А нам не разрешали «собираться», пока шли занятия, – одно из главных правил распорядка.
Я выглянула из-за угла. Там была Ори все еще в оранжевом комбинезоне (скоро ей выдадут несколько зеленых, чтобы она не отличалась от большинства). Глядя на нее, я вспомнила, что скоро уйду. Как ей сообщить? Нас посадили в клетку, дверь скоро откроется, но для меня одной?
Ори разговаривала с Пичес. Нашла с кем. Мы все знали, что Пичес ни с кем не дружила. Она интересовалась другими, только когда у нее покупали то, что она продавала.
Они шептались, прикрывая рты ладонями. Я разобрала только, что Ори спросила:
– Что мне надо сделать?
Ответа я не расслышала.
Пичес прятала свои таблетки между большим и средним пальцем ног. Она свободно ходила мимо охранников, и ее осанка или походка не давала им оснований заподозрить неладное. Однако лето выдалось неудачное. После того как однажды ночью на дверях камер открылись замки, наркотиков на продажу ей с воли не приносили. Если таблеток у Пичес нет, о чем тогда с ней шепчется Ори?
Где-то скрипнула дверь; они отшатнулись друг от друга и разбежались в разные стороны. Я прошмыгнула в класс. Ори вошла вслед за мной и бросила на стол учительнице пропуск, в котором отмечались наши отлучки в туалет.
Мы встретились взглядами. Ее глаза искрились и сверкали. Что же она пыталась скрыть?
Думать о том, что мне предстоит покинуть Ори, стало еще тяжелее. Неужели она подсела на таблетки? Значит, вскоре превратится во вторую Дамур?
Несколько часов спустя Ори вернулась во второй корпус – после обеда где-то задержалась. Я сперва услышала ее и только потом увидела. Раздался рокот колес моей тележки для книг (уж его я узнаю из тысячи). Заднее колесо по-прежнему не крутилось, так что с ней трудно было совладать. Тележку везла Ори, довольно ухмыляясь.
Как это понимать? Ее перевели в библиотеку? Во мне забурлила ярость. Но когда я увидела беспечную улыбку и сияющие глаза Ори, кулаки разжались сами собой.
– Она твоя, – объявила Ори, остановившись в дверях камеры. – Я поговорила с Пичес и охранниками. Тебе вернули книжки.
Разве такое возможно? Однако деревянная тележка, полная книг, вновь в моих руках. «Книжный вор»[19], «Дающий»[20], «Цветы на чердаке» и продолжение – «Лепестки на ветру»[21]. Все книжки стояли вперемешку, но я решила, что расставлю их по алфавиту попозже. Вудсон[22], Этвуд[23], де ла Пенья[24], Кристи[25], Альенде[26], Гейман[27], Майерс[28], Зарр[29]. Появился наконец и третий том «Заколдованных»[30], который многие из нас так долго ждали.
Вот теперь я по-настоящему обрадовалась. Такой реакции напрасно ждали чиновники, сообщившие о том, что скоро меня освободят. Тогда я ничего не ощутила, зато сейчас меня распирало от счастья.
Я посмотрела на Ори.
– Как…
Ее глаза загадочно сверкнули.
– Как тебе удалось?..
Она покачала головой.
Надо было сказать ей, но я не нашла слов, чтобы объяснить, что тележка с книгами уже ничего не значит. Когда наступит сентябрь, ее перепоручат кому-нибудь другому. Стоило подумать об этом, как внутри шевельнулось предчувствие, которое я тщетно пыталась забыть. По телу поползли мурашки. Вот она, загадка подсознания.
Сентябрь никогда не наступит.
Никто из нас его не увидит.
Я навалилась всем весом на тележку, и минутное затмение прошло.
Ори подмигнула и ушла, сказав, что ей пора идти в сад, ведь настало время общественно полезного труда, а еще пробормотала, что Пичес о чем-то ее попросила.
Я не стала забивать себе этим голову, ведь со мной была тележка.
Ори помогала не только мне. Тем августом многие из нас испытали на себе ее доброту. Стоило ей услышать, что что-то пошло не так, она тут же мчалась все исправлять. Отыскала потерянную тапочку, и хозяйке не пришлось идти к охранникам с просьбой выдать новую пару. Отдала свою порцию шоколадного пудинга девушке, лишенной в наказание десерта. Постоянно вмешивалась в ссоры, пока задиры не опускали кулаки и не расходились, смеясь. Конечно, она была одной из нас. Но этого мало. Она была лучшей.
О ней начали говорить. Я делила с ней камеру, поэтому меня часто звали, чтобы обсудить ее.
– Думаете, она правда убила тех двоих? – спросила Мирабель, которая налево и направо заявляла о том, что не виновата (опасное вождение; наезд на ребенка), хотя все мы знали, что ребенок погиб из-за нее.
– Понятия не имею, – ответила Шери. – А ты как считаешь?
Мирабель пожала плечами, и тут все девочки из второго корпуса перевели взгляд на меня.
Я открыла было рот, но кто-то перебил.
– Судьи ни в чем не разбираются, сами знаете!
– Да-да, точно! Не слышат и не видят ни черта! Меня судил идиот с дипломчиком.
– Они только по внешности решают. Десять секунд – и готово. Бедная, темнокожая, говоришь с акцентом… Еще юбка, может, слишком короткая. Или нос кривой – прости, Шери. Да им что угодно может не понравиться! Например, что жвачку жуешь. Или дышишь не так. А то и вообще все сразу. Если семья не пришла, считай, кранты. Закроют в тюрячку, и до свиданья.
Нам очень нравилось раздувать предубеждения судей до слоновьих размеров. Мы свято верили, что так и есть. К тому же некоторые из нас видели фотографии тех девушек, которых якобы убила Ори, – хорошо одетые, симпатичные. Мы знали: это имело значение.
– Но ведь у нее был нож…
– Да, канцелярский.
Серьезный аргумент. И все же.
– Ее поймали прямо с ножом в руке. Я в новостях видела, когда на пост охраны заходила.
– Подумаешь, взяла зачем-то.
– Ага, коробку открыть.
– Может, она с ним везде ходила.
– У меня двоюродного брата посадили, потому что пистолет в багажнике нашли. А брат понятия не имел, что там лежит. Подкинули!
– А моего отца раз задержали, потому что он, видите ли, похож на какого-то бандита. Правда, потом признали, что ошиблись. Бывает и такое.
– Не говори! Мою подружку Надю из Пикскилла на десять лет в Райкерс[31] упекли, мол, она на кухне наркоту готовила, а это мамочкин приятель развлекался.
Нам очень нравилось поминать ошибки правосудия, обнажать недостатки системы и обсуждать, как несправедливо обошлись с нами и с нашими родственниками и друзьями, сетовать на то, как страшно облажались судьи. Нам рассказывали сказки, что перед судом все равны, но мы-то знали, как обстоит дело. Стоило разуть глаза и осмотреться.
– Ладно, допустим, но если она убила в состоянии аффекта?
– А что, может быть! У моего брата сто раз аффект случался.
– А вдруг она чего-то нанюхалась?
– Ага, соли для ванной.
– Или гамбургер протухший сожрала, так что ее пронесло как следует. Я бы точно пару человек после такого укокошила.
Тут они все умолкли и посмотрели на меня.
– А ты как думаешь? Она это или нет?
О том, что я думала и чувствовала, нельзя было говорить вслух. Мы привыкли прятать все теплые чувства. Если две девочки умудрялись подружиться, от остальных дружбу обычно скрывали.
Но благодаря Орианне Сперлинг я изменилась. Мне хотелось, чтобы все поняли, какая она хорошая. Я никогда не хотела этого для себя.
– Она невиновна!
Я знала это так же точно, как если бы в моей тумбочке хранились образцы ДНК, подтверждающие вердикт. Я с легкостью могла бы встать с места и доказать это в суде.
Позже тем вечером, лежа в постели, я подняла взгляд на койку сверху.
– Ори, ты спишь?
– Теперь не сплю, – беззлобно откликнулась она.
– Расскажи мне, что случилось. С той девушкой на портрете. С Вайолет. И с канцелярским ножом. Как все это вышло? Скажи правду.
Мы обе знали, что задавать эти вопросы не принято, но я спросила.
Ори заворочалась, вздохнула, однако не сказала «нет». Сейчас она заговорит, и я узнаю, правда ли она сделала то, в чем ее обвинили.
Я чувствую, она не убивала.
Да, меня посадили в «Аврору» в четырнадцать, но мне многое известно о тех, кто остался снаружи.
Пусть они свободны, пусть они опрятно одеты и выглядят так, что радуется глаз, это не значит, что все они – хорошие люди. Потому что они худшие из лжецов. Подлые, бессовестные предатели. Трусы. Лицемеры. Соловьем разливаются, будто пекутся о нас, а на поверку для них ничего нет важнее собственной шкуры. Они ни на секунду не задумаются, прежде чем оговорить нас. Пихнут под автобус и убегут. В том, что они говорили о нас, правды не было ни на грош.
Я знала об этом задолго до того, как Ори начала свой рассказ.
Часть V. Вайолет и Орианна
Игра в идеальное убийство – старая забава на небесах. Мой выбор всегда падал на сосульку – когда орудие убийства растает, следов не останется.
Элис Сиболд«Милые кости»Вайолет. Ни о чем не жалею
Я прихожу в себя снаружи – стою, тяжело дыша, прижимаясь к серой каменной стене.
Я сбежала от того, что видела; что бы это ни было, я спаслась.
Стена заросла плющом, и я вдыхаю тяжелый запах, легкие вот-вот разорвутся в груди. Я смотрю на свои руки – между пальцев торчат зеленые листья. Отлипаю от стены. Наверняка завтра вся кожа будет в противной сыпи.
Назад я не пойду. Ноги моей не будет в этом здании. Не знаю, что произошло, но мне почудилось, что я столкнулась лицом к лицу с той, которая мертва уже три лета. А потом выяснилось, что я обозналась. Это место сыграло со мной злую шутку. Или это был человек?
Может быть, Томми. Может быть, Сарабет или Майлз.
Толкаю тяжелую дверь. Заглядываю внутрь. Темнота. Какой-то шорох. Тихий шепот, бормотание. Чье-то шипение: «Тссс!» Чувствую себя так, будто выглянула из-за кулисы, и зрители меня заметили.
– Ребята! – кричу в темноту. – Пойдемте! Выбирайтесь оттуда, ладно?
По-прежнему тихо. Стою, прислушиваясь. Стою долго. Где-то вдали в гулкой темноте в конце коридора раздается ритмичный стук капель, словно кто-то не закрыл кран. Капает и капает.
Шлю сообщение Сарабет. Шлю сообщение Томми. Телефон пишет мне «Отправляется».
Ответа нет.
Последняя эсэмэска в телефоне от Сарабет пришла два часа назад. Странно, я не думала, что мы здесь так долго. И я не слышала, как звякнул телефон, когда получила сообщение.
«Не смешно. Где ты».
И все. Ни слова о том, где она сама. И пойти за мной она не решилась, с ней все ясно. Наверное, давно сидит в машине. Свернулась калачиком, укутавшись в толстовку Томми с отвратительными бело-зелеными полосками, ест протеиновый батончик и грызет ногти – есть у нее такая скверная привычка. Пытаюсь позвонить ей, но после первого гудка включается голосовая почта.
Вспоминаю, что три года назад, когда мне было пятнадцать, а Сарабет четырнадцать, я прозвала ее Малиновкой. Подругами назвать нас было сложно. Неужели она с тех пор затаила зло? Нарочно подбиралась ко мне в надежде отомстить?
Быстро смеркается, скоро совсем стемнеет. Лес на горизонте выглядит густым, непроходимым. Красивый пейзаж, если забыть, что рядом тюрьма, в которой умерли сорок девушек. От леса тюрьму отделяют три забора с колючей проволокой. Некоторые столбы покосились, тут и там зияют дыры, через которые может пройти крупное животное, но все же часть ограды по-прежнему на месте.
Кричу напоследок в темный коридор:
– Если вы еще там, выходите!
Тишину прорывает какой-то шепот. Чьи-то шаркающие шаги. Покашливание. Я отхожу от двери, и она со скрежетом захлопывается. Пусть эти идиоты ищут другой выход.
– Ну и ладно! – говорю вслух. Звук собственного голоса перекрывает таинственные шорохи, становится спокойнее. – Я пошла к главному входу.
Вот только я не помню, где тут главный вход. Одинаково серые стены, никакой дороги к ним не видно. Единственная посыпанная гравием тропинка ведет к баскетбольной площадке. Площадка огорожена, похожа на клетку.
Прошлое тоже похоже на клетку. Что там вдалеке? В ушах зашумело. Оранжевое пятно, такое яркое, что режет глаза.
Телефон издает слабый писк. Или почудилось? Что это? Что там такое?
Я бегу по узкой тропинке, ветер бьет в лицо. Позади снова слышны голоса. Сарабет или Томми. Я не отвечаю. Хватит, опоздали.
Ноги несут меня сами. Мышцы дрожат, кожа горит, пульс отдается в ушах ритмичными глухими ударами. Тело думает за меня, как во время танца. Под ногами шуршит гравий. Шаг, еще шаг. Мышечная память работает лучше самого точного часового механизма. Тело знает, что делает.
Она там, в тех зарослях. Она была там все время. Копала землю.
Я почти добежала, между нами последняя преграда… и тут она поднимает голову, втыкает лопату в землю и, опершись на черенок, глядит на меня.
Какой ледяной обжигающий взгляд.
Солнце катится к горизонту со страшной скоростью, будто время запустили на ускоренную перемотку.
Она глядит на меня, не моргая. На ней оранжевый комбинезон, который висит мешком. Чувствую запах сырой земли. Чувствую, как ветер треплет волосы на затылке – они выбились из высокого узла, в который я собрала их утром. Чувствую под подошвой каждый камень. Мне жарко. Холодно. Болит лодыжка. Саднит голень. Хрустит колено. В горле ком, не могу проглотить. Во рту пересохло. Со лба льется пот. Вот он пришел, тот невозможный момент, которого я ждала все три года.
Она меня рассматривает.
Интересно, я изменилась с тех пор, как она видела меня в последний раз? Мне было пятнадцать, сейчас – восемнадцать. Я потеряла детскую пухлость? Постарела? Такая же лопоухая, как раньше? Заметит ли она, что я сделала себе брови? Как ей они? И эту футболку она раньше не видела. Как она считает, цвет мне идет? Я обычно избегала таких ярких красок. Взяла бы она ее из моего шкафа поносить? А еще я выросла на два с половиной дюйма. Заметно? Встанет ли она рядом спиной к спине, чтобы выяснить, кто теперь выше? Приподнимется на цыпочки? Возмутится, если я приподнимусь?
Ограда между нами кажется такой хлипкой. Кладу на нее руку.
Надо что-нибудь сказать. «Привет, рада тебя видеть». «Хорошо выглядишь» – даже если она выглядит ужасно. «Прекрасно выглядишь» – даже если выглядит она отвратительно.
Но что такое слова? Есть поступки, после которых разговаривать не приходится. Все, что остается, – пересохший язык во рту.
Пока я ищу правильные слова – вообще какие-нибудь слова, она опускает глаза и принимается копать снова. Острие лопаты поблескивает в сумерках. Кривой деревянный черенок. Наверняка тяжелая. Что она там копает? Если хочет зарыть тело, копать придется долго. Я ведь выросла на два с половиной дюйма, надо учесть.
Слышу позади голоса – девичий и мужские. Они зовут меня. Они наконец-то пришли.
Вот только они не помнят ничего, что помню я. Их не было рядом с ней постоянно, они не были так близки. У нас с ней столько общего, столько воспоминаний…
Нам обеим по восемь лет. Мы выделываем неуклюжие пируэты у меня на кухне, у обеих на ногах чешки. Ее отец опять опоздал, и она поехала ко мне. Она падает, я падаю. Помогаем друг другу подняться, продолжаем – крутимся, нас заносит, едва удерживаемся на ногах, хохочем.
Нам по десять, мы за кулисами, у нас в волосах – цветы из шелка, приколотые заколками. Один цветок падает у нее с головы, теряется в складках занавеса. Я шарю там рукой до тех пор, пока не нахожу цветок. Прикалываю его обратно. Она потеряла, а я нашла!
Нам по двенадцать. Или по тринадцать? Нас наконец-то перевели в старшую группу – к тем, кто уже встал на пуанты. Мы вместе стоим у станка, я впереди, она сзади. Релеве[32]. Деми-плие[33]. Релеве. Деми-плие. Батман-тандю[34] из пятой позиции. Снова тандю. Наваливаться на станок нельзя, можно только слегка опереться на него рукой. Мы – один организм. Только выворотность[35] у нее лучше. Мы – единственные в своем роде. Только она схватывает все быстрее. Гран-жете[36] у нее гораздо больше «гран», чем у остальных, и ее выводят вперед для примера. Я вторю ее движениям. Я остаюсь позади.
Нам обеим только что исполнилось пятнадцать. Она отыскала меня в последнем репетиционном зале. У меня небольшая истерика. Топчу пол и швыряю гетры. Молочу по станку кулаками.
– Ви, ну чего ты. Это отличная роль, правда. Ты вытянешь весь спектакль!
Она похлопывает меня по спине – так стучат по спине младенца, чтобы вызвать отрыжку. Но она не говорит, что я и веду себя как младенец. Она говорит:
– Нельзя, чтобы тебя застали в таком виде.
И еще:
– Со мной можно. С другими нельзя. Понимаешь?
Я отвечаю, что поняла.
Она подбирает мои гетры. Вытирает мне слезы. Поправляет мне шпильки в волосах.
– Вставай, – велит она, и я встаю.
– Улыбайся! – И я растягиваю рот в позицию «улыбка».
Она всегда утешала меня, когда я расстраивалась, что мне не дается что-то, в то время как ей давалось все и сразу.
Она помнит это? Она единственная, кто может помнить.
Огибаю последний забор. Жалкий клочок земли. Утонув ногами во вскопанной земле, понимаю, что когда-то здесь был огород. Когда-то здесь что-то росло. Теперь все заполонили сорняки. Я наклоняюсь, тянусь рукой к зеленым зарослям. Листья липкие, мокрые, омерзительные. На лозе что-то висит – какой-то плод, что-то круглое, гадкое. Хватаю его пальцами и срываю.
Маленький полусгнивший помидор. Он лопается, во все стороны брызжет мякоть, как брызжет кровь из сбитой на дороге кошки.
Яма, которую она копает, стала больше. В человеческий рост. В нее поместится девушка, причем сумеет даже вытянуть руки и ноги. Оранжевый цвет слепит глаза. Он ядовитый, токсичный.
– Ты пришла… – она делает вдох. – Ты пришла, чтобы просить прощения?
Что? Она правда это сказала? Мне не послышалось? Призрак сказал. Она говорит. Ори, моя Ори.
Вот почему она ждала меня здесь. Все эти годы она надеялась, что я попрошу прощения.
Но это слишком сложно. Если сказать, что мне жаль, что она попала сюда, выходит, мне жаль и того, что произошло накануне. А мне не жаль, что у меня все сложилось так, как сложилось. Не жаль, что я еду в Нью-Йорк. Что я счастлива. И жива. Что у меня есть все, чего я хотела, пусть при этом у нее не осталось ничего. Вообще, мне, конечно, хотелось бы, чтобы у нее что-то было. Наверное, стоило написать ей хотя бы однажды. Рассказать о том, что со мной происходит. Я искренне желаю, чтобы все было иначе, однако я не намерена сдавать завоеванные позиции.
Она кивает. Она все поняла. Мне ничего не надо говорить.
Она знает правду.
Может, в том туннеле, в курилке, она не велела мне уйти. Может, все было совсем не так.
Может, я увидела в ее руке окровавленный канцелярский нож. Она им размахивала. Я испугалась, что она убьет и меня, и побежала, ломая ветки, спотыкаясь о корни, чуть не разбив себе голову о мусорный бак. Все потому, что боялась.
Может быть, так. А может, и нет.
Она копает. Знает, что я не стану просить прощения.
Я стою в огороженном огороде. Гнилье среди гнилья. Стою, выпрямившись во весь рост, на два с половиной дюйма выше, чем с нашей последней встречи. Я не собираюсь задирать лапки кверху, просить прощения, пресмыкаться. Я ни о чем не жалею.
Дуры
Я ни в чем не виновата.
Не я это начала. Если кого и винить, так тех девиц, Рейчел и Гэрмони. Это все они.
Они расхаживали по студии в одинаковых черных купальниках, с одинаковыми пучками из забранных вверх волос, выкрашенных в одинаковый карамельный оттенок, с одинаково распущенными ленточками на одинаковых пуантах. Всякий раз, проходя мимо нас с Ори, когда мы растягивались на полу, склонившись над коленями и сплетя руки так, что наши головы соприкасались, девицы отпускали шуточки. Говорили, что я уродка. Что у меня уши, как у слона. Обзывали то жирной, то скелетиной – что в голову взбредет. А как-то раз объявили лесбиянкой, хотя их самих было не разлепить, могли даже купальниками поменяться. Иногда я бывала у них целкой-невредимкой, иногда – мерзкой шлюхой. Причем Ори они не трогали. Наверное, потому, что до ее искусства в танцах им было как до неба, вот они и срывали зло на мне.
Порой одни девицы наезжают на других без всяких видимых причин. Невзлюбили, и все тут. Таких вещей не избежать, как не избежать того, что в апреле сходил снег и мы ставили на пол тазы и ведра, потому что крыша в танцевальных классах протекала.
Рейчел с Гэрмони возненавидели меня сразу и навсегда. Они ходили в балетную студию вместе. Гэрмони была на целую голову выше лилипутки Рейчел, только так их и можно было различить. Двигались и скалились в унисон. Они специально кашляли на меня, обрызгивая ядовитой вонючей слюной, а мисс Уиллоу думала, что они приболели. И у станка они занимали лучшие места.
На посторонний рассеянный взгляд – а нет никого рассеяннее взрослых – обе они танцевали почти идеально, делали то, чего от них ждали. Милые, гибкие, аккуратно причесанные.
– Превосходно! – кивала мисс Уиллоу после быстрого ассамбле[37] Гэрмони.
– Блестяще! – говорила она Рейчел после девелопе[38].
– Девочки, – заявляла она нам четверым, будто мы подружки, – вы сегодня хорошо поработали.
Наша преподавательница замечала, только как мы выполняли балетные па. Она понятия не имела, какие мы на самом деле, какими становились, когда стягивали бледно-розовые трико, переодевались в джинсы и распускали волосы.
Хуже стало, когда к нам пригласили мальчиков. Они вторглись в наш девичий мирок, и пошло-поехало. Нам было по пятнадцать. Мальчиков трое, нас – тридцать. Мы легко подавляли их количеством и отгоняли от заказанной в перерыве пиццы. Но после их прихода все изменилось. Мы представали перед ними в заношенных купальниках, потные, красные. Они помогали выполнять поддержки, однако оказались такими неуклюжими и криворукими, что то и дело роняли нас на пол. Они не стоили нашего внимания. Кроме Джона.
Двое других были даже не танцовщиками, а футболистами – полный бред. Приходили раз в неделю и во время нашей разминки переминались у станка в своих футбольных гетрах. Наверное, тренер заставил, так что обходились с ними по-особому. На том, чтобы они надели балетные лосины, не настаивали. Два дебила в спортивных штанах отирались в зале и, гадко хихикая, пялились на наши задницы.
Каждый раз, когда они приходили, Гэрмони чуть из колготок не выпрыгивала. Даже губы красила, хотя к концу занятий вся помада стекала вместе с потом. А Рейчел пыталась завести с ними беседу, задавала дурацкие вопросы про футбол, а когда садилась на шпагат, оглядывалась, смотрят ли они.
Атмосфера установилась неприятная. Мальчики пялились на нас, мы на мальчиков. Воздух звенел от напряжения. Однажды я делала растяжку в коридоре и, наверное, сильно наклонилась, а вырез на купальнике был глубокий – видно все и даже больше. Я не думала, что кто-то пройдет мимо.
Раньше, до того как они появились, я спокойно растягивалась, где хотела.
Но мимо прошли Коди и его приятель Шон. Коди ляпнул:
– Смотри, да у нее сиськи есть.
А Шон ответил:
– Брось, кожа да кости! У девятилетних и то больше.
– Нет, ну за попку я бы подержался.
– Да ну, на двоечку.
– Не-не, попка на шесть баллов потянет!
И все это при мне!.. Коридор такой гулкий, что слышно все, что говорят в другом конце. А Коди, завалившись в класс, проехался по полу в грязных носках и подмигнул мне, словно я благодарить его должна за то, что поднял мой рейтинг до шести.
Самое ужасное, что теперь, когда нас с Гэрмони поставили впереди для примера остальным, я оказалась спиной и к нему, и знала, что он пожирает меня глазами, пока я приседаю в гран-плие. Я чувствовала его взгляд на своей заднице, когда разогревалась, когда растягивалась, когда наклонялась. Странное, тревожное чувство, от которого мурашки бежали по коже.
Потому я не могу объяснить, как случилось то, что случилось, хотя я знаю, что Ори ждала объяснений. Я оказалась в заднем репетиционном зале, но не одна, а с Коди. Я лежала на полу в его объятиях, хотя он мне даже особо не нравился. Никогда не думала о нем как о парне. Он был старше, и мы учились в разных школах, а тут, в студии, в танцах, он ничего из себя не представлял, так, неуклюжий первоклассник. Но в плане поцелуев и всего подобного опыта ему хватало. Он целовал меня в шею и за ухом, и мне было так хорошо, что я отбросила прочь все мысли, хотелось только продолжать. Он даже шикнул, чтобы я вела себя потише, а то кто-нибудь придет.
А потом я согнулась над ним, стоя на коленях. Ори спрашивала, заставлял он меня или нет. Наклонял ли рукой мою голову, стягивая с себя те самые идиотские треники, в которых – немыслимое дело! – ему разрешали ходить на балет. Уговаривал ли сделать это. Нет, не заставлял и не уговаривал. Никто ничего специально не планировал. О том, что девушки это делают, слышишь от подружек, или смотришь в кино, или в роликах на Ютьюбе. И тогда думаешь, что и тебе тоже надо, потому что все так делают. Правда, Ори?
Не уверена, что до конца все осознавала. Следовало сосредоточиться на движениях губ, при этом помогать себе рукой. Я сбилась с ритма, Коди дернулся, и я, видимо, задела его зубами. Он выругался.
И тут я услышала смех. Из-за зеркальной стены. Я испугалась, запаниковала, не смогла сразу влезть обратно в полуспущенный купальник. За стеной заржали громче. Смех был женский.
Там, за раздвижной зеркальной панелью, была кладовка для всякого хлама – старых костюмов и реквизита. Места, чтобы спрятаться, достаточно.
Но и тогда я не сразу сообразила, что происходит, пока меня не ослепила вспышка. Она разорвала темноту репетиционного зала, приправленная осуждающим гиеньим хохотом.
– Эй, кто там?
Я все не могла управиться с купальником, зато Коди молниеносно натянул штаны. Он подошел к панели и отодвинул ее.
Время застыло. Зеркала потемнели. В кладовке притаились Рейчел и Гэрмони, подружки-неразлейвода, в руках у них – мобильники, на лицах – подлые усмешки. Эти твари меня застукали, теперь я у них на крючке на всю оставшуюся жизнь.
– До скорого, – бросил мне Коди, будто мы собирались еще встретиться.
Девицы пошли за ним. Двери захлопнулись, и я осталась одна, скрючившись на деревянных досках, словно рухнула навзничь после неудавшегося гран-жете.
Я так и не знаю, было ли все это запланировано и подстроено, почему они оказались в подсобке именно в тот момент, когда по несчастливой случайности в зал зашли мы с Коди.
Когда Коди сказал «до скорого», я восприняла это буквально. Я ждала его после занятий, но он схватил рюкзак и ушел вместе с Шоном, как обычно. Я надеялась, что он позвонит или напишет, но у него даже номера моего не было. В Фейсбуке и в других соцсетях мы не дружили. Он не был подписан на меня, а я на него. Я увидела его только на следующей неделе, сперва на репетиции-разминке, в которой участвовали и мальчики, – меня снова поставили впереди для примера, а потом на занятии, где мы разучивали поддержки, – пятнадцать девочек на троих мальчиков, которые пытались неуклюже приподнять нас за талию. Он отирался возле Гэрмони. Я поймала ее взгляд в зеркале – потемневшие от пота волосы, беспощадные глаза. Она подмигнула.
Наверное, я должна была чувствовать смущение или стыд. Должна была похоронить эту историю и никогда не вспоминать о ней.
Однако весь стыд куда-то подевался. Я не чувствовала себя ни грязной, ни пристыженной.
Я чувствовала только ярость.
Я всегда знала, что у меня тяжелый характер. И вот теперь мой нрав повлиял на то, как я танцевала.
Мисс Уиллоу собрала нас, чтобы распределить роли для следующего спектакля. Ее глаза светились гордостью, когда она подошла к Ори – та будет танцевать Жар-птицу. Ласково смотрела она и на Гэрмони, которой досталась роль тринадцатой заколдованной царевны, той самой, что оказывается в объятиях Ивана-царевича после всех испытаний. Мне дали шестую или седьмую царевну. Даже Рейчел назначили первой, она будет танцевать в первом ряду! А меня поставят возле желтого, набитого поролоном мешка – вроде как золотое яблочко с волшебного дерева. Лучше бы декорации менять отправили, честное слово! Я в кордебалете, меня никто даже не вспомнит!
Когда я спросила мисс Уиллоу, она сказала, что в последнее время со мной творится неладное, что именно, она не знает, но во время танца все видно. Я словно не здесь, а витаю где-то в другом месте.
Я знала, в чем дело. Тому было две причины.
– Я их убью! – сказала я Ори как-то вечером.
Я бы заплакала, если бы умела плакать, как все нормальные люди. Тогда во мне бушевали эмоции, сейчас мне трудно отыскать их в себе. Хотя мне до сих пор больно, если вспоминаю о случившемся. Я по-прежнему злюсь на себя – что дала волю Коди, и поэтому нас застукали, что во мне взыграли дурацкие гормоны, что по глупости решила, будто мне нравится мальчик, и даже если он мне на самом деле не нравился, мне хотелось нравиться ему, чтобы и у меня был парень, как у Ори. Меня до сих пор слепит та вспышка. Она отразилась в зеркалах тысячью других. А может, их и была тысяча, откуда мне знать. Я все ждала сообщения с незнакомого номера, а в нем фотографию или хуже того – видео со звуком. И что все меня узна́ют – и родители, и одноклассники, и мисс Уиллоу. Я столько лет была балериной, танцовщицей, но все забудут об этом и станут звать меня шлюхой, хотя я сделала это всего лишь один раз.
Мы с Ори сидели у меня в спальне и по очереди отхлебывали из бутылки «Бакарди». Я орала как бешеная, однако мои родители не то что не поднялись наверх спросить, что случилось, но даже не позвонили. Если бы я зарубила там топором десять человек, они бы и ухом не повели, пока трупы не начали разлагаться.
– Хочу, чтобы они умерли в муках!
– Кто? Все они? Коди тоже?
– При чем тут Коди? Он всего-навсего парень. К тому же футболист. Что с него взять?.. Нет, Рейчел и Гэрмони.
Ори кивнула. За все время нашей дружбы она пережила множество моих истерик, причиной которых были эти двое. Она давно перестала их оправдывать, выдумывать им детские травмы, из-за которых они вели себя как последние дряни, чтобы придать им хотя бы получеловеческий облик. Обычно она молча слушала мою ругань. Но в тот вечер она стала задавать вопросы.
Помню розовое покрывало на кровати, розовые занавески. Помню, как я сползла с кровати на розовый пушистый ковер, и на меня вновь нахлынула тяжесть, как после того когда Коди, Рейчел и Гэрмони ушли из репетиционного зала, захлопнули за собой дверь и погасили свет. Такая свинцовая тяжесть, которую нельзя испытывать танцовщикам.
Ори сползла ко мне, села рядом, поджав ноги, и взяла меня за руку.
– Ты думаешь, они что-то сделают с этими фотографиями?
– Конечно, сделают! Не знаю точно, что именно, но сделают наверняка.
– А почему ты пошла с этим Коди? Я даже не знала, что он тебе нравится.
– У тебя есть Майлз.
– И что с того?
– И ничего!
Я сжала кулаки. Рейчел и Гэрмони не шли из головы.
– Хочу пытать их раскаленным утюгом! Отрезать им уши и послать по почте маме с папой! Отпилить ступни, и пусть танцуют всю ночь! Повесить и смотреть, как они задыхаются, и делать фотки!
– Ладно, ты напилась.
Она не понимала. Конечно, ее ведь они не трогали. Не следили за ней с телефоном в руках, чтобы застать в неподходящий момент. Не звали мешком с дерьмом и троллихой, не говорили, что она танцует как корова на льду. Никогда не окунали в унитаз ее рюкзак, не посыпали сбритыми лобковыми волосами блеск для губ. Не говорили, что ее и на пушечный выстрел не подпустят к труппе нью-йоркского балета, а они, может быть, помашут ручкой со сцены, если, конечно, вспомнят о ней, когда станут знаменитыми.
– Взять бы его…
Я вынула из рюкзака канцелярский нож, которым подрезала пуанты, и взмахнула им в воздухе. Однако нож был острый, а колпачок потерялся, так что я сунула его обратно от греха подальше, забыв, что хотела сказать.
Ори притихла – никогда ее такой не видела – и смотрела на меня широко распахнутыми глазами.
– И что? Почему ты его в ящик не положишь? Спрячь куда-нибудь.
– Лица им порежу, вот что! – Я сбавила тон, потому что вдруг испугалась самой себя.
Остаток вечера мы так и пролежали на плюшевом ковре. Я говорила гадости, Ори слушала. Мы даже не стали прятать остатки «Бакарди». Вряд ли родители поднялись бы наверх, чтобы проверить. чем мы заняты.
И тут о стекло звякнул камушек с посыпанной гравием садовой дорожки. Я закатила глаза, но подняться не рискнула – слишком много рома плескалось внутри.
– Пойду скажу, чтобы он домой шел. – Ори встала, дыхнула в ладошку проверить, сильно ли от нее пахнет алкоголем, и открыла окно.
Я слышала, как она шикнула на Майлза, а он что-то прошептал ей в ответ. Меня тошнило от всех этих телячьих нежностей. Он не сказал ей «До скорого!», не оставил одну в темной комнате, скрюченной на полу. Майлз с Ори встречались уже полгода. И занимались сексом. И он не бросил ее после этого. Наоборот, признался, что любит, хотя она не смогла сказать то же в ответ.
Я снова стала думать о спектакле и о том, что произошло. Не знаю, что задело меня больше. То, что мисс Уиллоу сочла меня недостойной нормальной роли, или то, что эти трое со мной сотворили. Да, и Коди тоже. Они сплавились в моем воспаленном мозгу так, что не разделить. Мне просто хотелось быть для кого-то важной. Иметь значение. Чтобы от меня не могли отвести глаз, любовались изгибами моего тела, смотрели сияющим взглядом.
Как Майлз смотрел на Ори.
Я закрыла глаза. Комната поплыла. Перед мысленным взором предстали картины будущего, о котором я страстно мечтала, – я прима-балерина, меня обожают режиссеры и хореографы. Затем картины сменяются. Передо мной плывут сцены жестокой расправы.
Конечно же, я на такое не способна. Наутро мне станет легче. Мы с Ори знаем – в запале можно наговорить что угодно. Но мы не дряни и не дуры.
Красные перья повсюду
«Жар-птица» – просто сказка.
История такова: в волшебном саду томится в плену прекрасная Жар-птица с огненными перьями, что светятся, как луна. Хозяин сада, Кощей Бессмертный, не отпускает ее на волю. Но однажды мимо проходил Иван-царевич. Он увидел прекрасную птицу и решил заполучить ее. Иван-царевич перелез через ограду и побежал за Жар-птицей. Когда он поймал ее, та умоляла ее отпустить – она прожила в том саду всю свою жизнь. Однако он не слушает, и ей приходится откупиться.
Жар-птица дает Иван-царевичу огненное перо и говорит, что прилетит по первому его зову.
Потом Иван-царевич влюбляется в Царевну Красу Ненаглядную и вынужден бороться за нее с Кощеем. Он достает перо и зовет на помощь Жар-птицу. Вместе они одолевают Кощея. Вот и сказочке конец, все счастливы, танцуют и смеются. А я все думаю о Жар-птице.
Внимание зрителей, как и все софиты, направлены на счастливую пару – на Царевича с невестой, которые довольные пляшут, обретя счастье. О птице, которая им помогла, забывают. Куда она делась? Улетела на волю или осталась в саду, хотя заколдованные стены пали? Умерла в одиночестве, потому что отдала слишком много перьев, ведь каждый пытался урвать у нее хоть одно, а она была слишком добра, чтобы дать отпор и сказать им: «Идите нахрен, жадные ублюдки»?
Но это просто сказочка, история для сцены.
Потому что, если бы все происходило на самом деле, птица не дала бы себя в обиду. А когда царевич достал бы то перо и призвал ее на помощь, она бы не шелохнулась.
Разве можно винить того, кто ставит свои интересы на первое место?
В балете роль Жар-птицы – серьезное дело. С ней страшно не справиться. У танцовщицы должны быть сильные ноги и отточенные вращения, она должна обладать огромной выносливостью. Эту роль следовало заслужить. Пусть на весеннем спектакле мы ставили не весь балет целиком, всего несколько сцен, но Ори, хотя ей было только пятнадцать, дали ключевую роль.
Мисс Уиллоу велела ей примерить костюм. Она настрого запретила всем шевелиться и даже дышать, когда Ори в нем вышла из гримерки. Кроваво-красная материя и прозрачные вставки на груди были расшиты блесками. Кожа на руках и спине у Ори блестела сама по себе. В жесткую пачку вшили перья, пуанты тоже выкрасили в красный.
Мой костюм был бледным, слегка голубым, цвета облака. Обычная юбка без пышной подкладки. Я, как и остальные девочки, смотрела на Ори в зеркало, и меня будто заворожили острые кроваво-красные складки ее пачки. Я воображала себя на ее месте – яркой, приковывающей взгляд.
– По-моему, смотрится пугающе, – заметила Иванна, одна из царевен, глядя на красное отражение в зеркале. – Разве Жар-птица должна быть страшной?
– Ты хотела сказать, отвратительной? – вмешалась Гэрмони. – Как шлюха, да?
Иванна кивнула, потому что с Рейчел и Гэрмони все и всегда соглашались. Они сказали, что Ори в своем прекрасном костюме похожа на шлюху, и теперь все девочки из спектакля будут видеть Жар-птицу именно такой.
Вряд ли Ори услышала. Да и слова эти предназначались не ей. Гэрмони смотрела через зеркало прямо на меня. Зеркальная Гэрмони выделывала нечто развратное языком и губами. Намекала, что ничего не забыла и что может использовать фотки или видео – что там у нее было – против меня. Когда, беззвучно спрашивала я. Когда? Она ухмылялась, облизывая губы. Она ни за что не ответит.
Впорхнула Рейчел в костюме принцессы. Странное дело, на ней он сидел лучше, чем на мне. Простенький костюм подчеркивал стройность и изящество фигурки, ей выдали тонкую золотистую диадему, которая блестела у нее в волосах. Меня никто не спросил, хочу ли я золотистую диадему в волосы.
У Ори не было диадемы, ее волосы украшал головной убор из перьев. Под перьями, овивающими голову Ори и спускающимися по спине, скрывался проволочный каркас. Когда она двигалась, перья тоже оживали, трепетали в такт ее дыханию. Я навсегда запомню ее такой – всю в красном. Не только из-за костюма.
Костюмерше надо было посмотреть, как сидит убор. Ори сделала пару вращений, пожала плечами, сказала, что все хорошо, и направилась обратно в гримерку переодеться в старый купальник. Наши глаза встретились в зеркале, когда она шла мимо. Я догадалась, что ее смущает всеобщее внимание. Знаю, что она была расстроена из-за меня. Ей в общем-то не было дела до всех этих ролей и костюмов, я переживала из-за них куда больше, и Ори чувствовала себя виноватой. Она бы с радостью позволила мне вырядиться в блестки, а сама облачилась бы в костюм доярки. Думаю, она давным-давно забросила бы балет, если бы это не было единственным связующим звеном между нами.
Несмотря на все ее успехи – Ори была гибче всех, ее растяжке и подъему мы все завидовали и часами упражнялись, чтобы сравняться с ней, – никто из девочек по-настоящему ее не ненавидел. Ее нельзя было возненавидеть. Как-то она помогла Челси искать ключи и задержалась на целый час после занятий. Старшие ее тоже обожали, она была их любимицей. Принимая душ после репетиции, Ори случайно услышала, как одна из них жаловалась, что ей пришлось сделать аборт. И Ори даже мне не назвала имя этой девушки. Она бы ни за что не выдала чужой секрет. Преданность – в этом вся Ори.
И она была предана в первую очередь мне.
Мы сговорились улучить минутку и залезть к Рейчел с Гэрмони в телефоны, чтобы удалить те фотки. Надо было выяснить пароли от телефонов, потому что сами они нам бы их не сказали. Значит, следовало их обмануть или пригрозить чем-нибудь. Вот только мы ничего не могли придумать, и эти мысли не отпускали меня до начала генеральной репетиции.
Между номерами Ори нашла меня за кулисами, чтобы предупредить:
– Я слышала, они что-то затевают, но они сразу замолчали, когда меня заметили.
Меня охватила паника. Я подумала о гадкой фотке. Вдруг они подстроят, чтобы она через прожектор высветилась на всю сцену? И я сама выписываю пируэты на этом фоне, ни о чем не подозревая. Поднимаю ручки, бью ножкой и ничегошеньки не подозреваю. А зрители раскроют рты. Моя мать среди публики спрячет лицо в программку, отец закроет глаза.
На генеральных репетициях всегда выплывают неожиданные проблемы. К примеру, режиссер понимает, что хореография слишком сложна для театральной сцены, и бросается перекраивать постановку. Ни один спектакль не показывали на сцене в том виде, в каком он задумывался. Балет – живой организм, а не застывшая в янтаре муха. Он дышит, он меняется, он живет.
А я забывала о жизни ради балета.
Гэрмони с Рейчел вели себя как ни в чем не бывало. Мы репетировали на сцене, все шло хорошо, в сцене с танцующими царевнами мисс Уиллоу поставила меня в центр.
Я была настороже. Могло случиться все что угодно. Рейчел могла запустить в меня поролоновым яблоком, которыми мы перебрасывались в заколдованном саду. Гэрмони, изображающая тринадцатую царевну, которая украла сердце Иван-царевича после того, как тот хотел похитить Жар-птицу, могла сдвинуться на пару сантиметров во время арабеска[39] и зарядить мне ногой прямо в глаз.
Но мы прогнали спектакль один раз, второй – и ничего. Пока мисс Уиллоу сидела в зале, отдавала последние распоряжения и даже пару раз улыбнулась, те двое вели себя как паиньки.
Ори станцевала соло, спутав все шаги. Она добавляла движения, вращалась там, где не надо. Улыбка сползла с лица мисс Уиллоу, однако одергивать Ори или кричать она не стала. Просто смотрела на сцену, а Ори постепенно вошла в образ, и то, что происходило, было похоже на чистое волшебство.
Я смотрела на нее во все глаза, а потом полезла в рюкзак, чтобы достать кусочек сыра. Наверное, я расслабилась и потеряла бдительность.
Записка лежала в одном из пуантов. Коди звал меня встретиться во время перерыва на заднем дворе.
Я ушла, не сказав Ори. У нее свои дела. Она блистает на сцене, а я стою за кулисами, отчаянно пытаясь сохранить чувство собственного достоинства.
Рюкзак я захватила с собой. Многие из балерин бегали в туннель-курилку за мусорным баком, по-быстрому делали пару затяжек, брызгались духами и залетали обратно, говоря, что выходили подышать свежим воздухом.
Вход в туннель зарос ветками. Я отвела их в сторону и скользнула внутрь.
Они успели переодеться в купальники.
– О, привет, Ви! – воскликнула Рейчел, задирая вверх ногу, якобы растягиваясь. – Ищешь кого?
– Нет, никого, – брякнула я.
Наверное, все было написано у меня на лице.
– Она не догадалась, – по-змеиному ухмыльнулась Гэрмони.
При других Гэрмони всегда говорила обо мне в третьем лице, хотя легко могла обратиться ко мне напрямую.
– Решила, что он действительно написал ей записочку, – вторила Рейчел. – Не знает, что он не будет танцевать в спектакле.
– Почему? – спросила я.
– Кто его разберет, – покачала головой Рейчел.
– Наверное, стесняется в колготках выступать, – предположила Гэрмони. – Лучше бы постеснялся с этой зажигать. – Она брезгливо указала на меня.
Обе наигранно передернулись. Гэрмони с вульгарным видом потыкала в щеку языком, а затем они отвернулись от меня и продолжили разговор как ни в чем не бывало, будто я не стояла в паре дюймов от них на пятачке размером с тюремную камеру. Как это все досадно, утомительно, не нужно! Они так и будут меня донимать на оставшихся репетициях? Или приберегли контрольный выстрел для субботнего спектакля, собираются показать всем ту фотку и растоптать меня в шаге от свободы?
Надо было развернуться и уйти, но я словно корни пустила в землю. Мне не хотелось покидать поле боя и оставлять их победительницами.
В вечерних сумерках в полумраке зарослей туннеля разыгрывался другой спектакль, только в нем не танцевали.
– Гэрмони! – сказала я.
Та продолжала нашептывать что-то на ухо Рейчел, прикрыв рот рукой.
– Рейчел! – сказала я.
Она не ответила, даже бровью не повела. Округлив губки, делала вид, что слушает бред, который ей нашептывала Гэрмони.
– Вы, обе!
Из здания доносилась едва уловимая мелодия – последняя сцена перед гибелью Кощея, перед тем как Жар-птица раскроет тайну, как можно его убить. Перед тем как все выбегут на радостный финальный танец. Ори была занята в той сцене, ее не было со мной.
– Вы, обе! Чего вы от меня хотите?
От отчаяния голос звучал, будто чужой. Жалкий скулеж. Это последнее, что я помню отчетливо.
Наверное, они ответили на мой вопрос, объяснили, почему им так весело доводить меня, словно бы тыкать палкой в полудохлого жука. Но память меня подводит. Мы говорили о чем-то – они говорили, я отвечала, потом они опять завели речь обо мне, словно меня и нет. Мы стояли в этом туннеле в носках, натянутых поверх пуантов, чтобы уберечь их от грязи, в куртках, натянутых на купальники, чтобы уберечь себя от апрельской прохлады. Гэрмони нахлобучила на пучок бейсболку, у Рейчел на голове красовалась золотистая диадема. Вот и все, что я помню. Затем в памяти всплывают только разрозненные куски.
Когда балерина выходит на сцену, любую, даже лучшую из нас, может охватить паника – вдруг кажется, что забыла весь танец. В лучах софитов танцовщица превращается в загнанное животное, вопрос в том – какое. И тут есть три варианта. Зайчиха задрожит от страха и шмыгнет в безопасность норы за кулисы. Лань остолбенеет, застынет на месте, беспомощно вскинет руки вверх. А львица, ощетинившись, покажет всем, чего она стоит. Она начнет движение, неважно, пусть па не из этого танца, какая разница – она всех одурачит, зрители ничего не заподозрят, они слишком глупы, чтобы заметить разницу.
Первым побуждением было сбежать, как зайчиха. Все эти годы я от них бегала.
Однако сидевшие во мне древние инстинкты взяли верх. Правда в том – я не хвалюсь, – что я никогда не забывала танец, выйдя на сцену. Я слишком хорошо знала, что делаю. Я могла положиться на свое тело. Мышечная память не подводит. Когда ум помрачен, начинаешь двигаться бессознательно. Руки следуют заложенной программе, подобно тому как ноги балерины сами собой вспоминают разученный танец.
Такое чувство, что я всего лишь моргнула. Когда я снова открыла глаза, она была повсюду – на земле, на деревьях, на руках…
Кровь.
Всюду кровь.
Кровь на линялом голубом костюме. Мы скатились в грязь, я и Гэрмони. Волосы, одежда, кожа – все перепачкалось в грязи, смешанной с кровью. Рейчел кинулась на помощь подруге, и я отшвырнула ее прочь – маленькую, невесомую. Тесный туннель, где мы оказались, не давал разойтись, скрывал нас от людей – выгляни кто-нибудь из дверей театра, ничего бы не заметил. Но и нам было не вырваться из замкнутого пространства, даже если бы и захотелось по-заячьи удрать. Мы втроем боролись на земле. Меня вел древний, кровавый и беспощадный инстинкт.
И вдруг нас стало четверо.
Восемь рук, сорок скрюченных пальцев, четыре пучка из волос… ни одного пучка, все распустились. Одна бейсболка, одна золотистая диадема. Четыре перекошенных рта, восемь сплетенных ног. Острые сучки деревьев. Рассыпавшиеся шпильки. Камни. Щебечущие в кроне птицы.
Ори оттянула меня от тела Рейчел, тряся за плечи.
– Ви, что ты наделала? Что ты наделала?
Рейчел лежала, свернувшись клубком, крошечная, как ребенок. Вся шея у нее была исполосована.
Гэрмони раскинулась на спине, устремив застывший взгляд в зеленый свод туннеля, – рот приоткрыт, нос превратился в кровавое месиво. На искромсанном животе смешались кровь и перья, красные перья, а над нами по-прежнему слышался птичий щебет, хотя внутри туннеля сгустилась тьма и самих птиц было не видно.
Рейчел внезапно села – ожила, будто зомби, схватила Ори за ногу, обтянутую красным трико – на красном кровь не видна, – но тут же рухнула на землю, разжав ладонь, к которой прилипло красное перышко. Я чуть не расхохоталась. Мне стало смешно – по сцене рассыпаны красные перья, а Рейчел позабыла вдруг все движения.
Ко мне повернулась Ори, бледная, как распростертая на земле Гэрмони.
– Отдай.
– Что отдать?
– Нож.
Она сделала шаг мне навстречу и вынула из моей руки канцелярский нож. Как он у меня оказался?
Все эти годы я снова и снова проигрываю в голове то, что произошло в туннеле. Рассказываю себе разные версии, внимательно прислушиваюсь.
Но правда в том, что это я. Это я их убила.
Наверное, Ори догадалась, что мы в туннеле, заметила, как вышли сперва они, следом я.
Она до конца отработала номер, затем извинилась и выбежала на улицу. Прямо в костюме.
После той весны больше никто не бегал в туннель на перекур. Где-то курили, но уже не там. Когда полицейские наконец убрали желтую ленту, туда сперва совали нос зеваки, а после того как любопытство унялось, туннель из сплетшихся деревьев позади городского театра опустел навсегда.
Два тела в балетных купальниках и когда-то бледно-розовых трико, лежавших на земле, усыпанной листвой и иголками, давно убрали. Если вдруг кто-то выскользнет из театра через черный ход, обойдет мусорный контейнер и шмыгнет внутрь – ничего не увидит. Никаких следов не осталось. Конечно, в листве по-прежнему щебечут птицы, но что такое птицы, они ничего не расскажут, а те трое, кто мог рассказать, мертвы.
Перед глазами у меня было все еще мутно. А когда не можешь вспомнить – додумываешь. Складываешь пазл по своему усмотрению.
Когда Ори отняла у меня нож, кусочки пазла у меня голове встали иначе.
Ори крепко держала меня за руку, будто я вырывалась. Но я застыла на месте, остолбенела, как лань.
Я не понимала, что делаю. В памяти все смешалось. Повсюду была кровь, красный заливал мне глаза. Я и она – обе в красном.
И я открыла рот. Я закричала.
– Ори, что ты наделала? Ори!
Она отступила на шаг.
– Что?
– Нет, Ори, нет! Нет, пожалуйста!
Она сжимала в руке окровавленный нож. При виде его я будто вспомнила, как она заносит руку – удар, удар, и удар! – и кишки Гэрмони вываливаются наружу – еще удар, и еще! Перед глазами мелькает лезвие, сверху несется заливистый птичий щебет.
– Нет, нет, нет, пожалуйста, нет! Ори, не надо!
Красная земля, пропитанная кровью. Красная земля, усеянная перьями. Красные перья на земле, красные перья на траве, красные перья на руках – ее и моих, красные перья повсюду.
Чистые руки
Долго меня в участке не держали – допросили и выпустили. Мои родители наняли хорошего адвоката, Ори дали государственного. Ее посадили в камеру. Все, что осталось от великолепного костюма, забрала полиция как доказательство.
Увы, правда в том, что все решают деньги. Я оказалась дома в тот же вечер. Отчаянно отмывалась в ванной. Терла кожу снова и снова, будто никак не могла оттереть.
Оказывается, с помощью денег можно купить свободу.
Моя мать поднялась наверх. Она стояла на площадке перед дверью, я слышала ее голос, видела светлую макушку в стекле над дверью, а сама пыталась отмыть лицо в сотый раз.
– Милая! Тебе нужно поесть.
– Все нормально, мам! Я не хочу.
Голова кружилась. На лице и на волосах осталось столько крови, что полотенце, которым я вытиралась, приобрело розовый оттенок – мой любимый. Я насквозь пропиталась кровью. Адвокат объяснил это тем, что я была там, пыталась вмешаться и остановить жестокое убийство двух юных талантливых девушек, впереди у которых была вся жизнь. Ну, разумеется. Он посоветовал мне ничего не отвечать на расспросы, и я молчала, так что полицейские согласились с его выводами.
– Милая, я все же думаю, что тебе лучше спуститься и поужинать с нами.
Ее только это всегда и заботило. Ты поела? Может, съешь что-нибудь? Садись за стол, мы как раз ужинаем.
Поднимаясь ко мне спросить, буду ли я ужинать, мама обычно задавала один и тот же вопрос: «Твоя подруга поест с нами?» И Ори шла со мной. Иногда мы обе отказывались от еды, грызли в комнате чипсы и шоколадки. Интересно – раньше эта мысль не приходила мне в голову – дома ее вообще кормили? Моя мама всегда спрашивала нас насчет ужина, хотя ей не нравилось, что я дружу с девочкой из бедной семьи, у которой нет матери, а отец пропадает неизвестно где, с девочкой, которая ходит в обычную городскую школу, наверняка уже спит с мальчиками и вечно наносит грязь в дом. Наверное, мама ждала, когда я наконец скажу: «Нет, Ори не будет ужинать, мы поедим втроем». И вот этот вечер настал.
– Ладно, спущусь. Только вымоюсь еще раз.
Мама хлопнула в ладоши от радости и не стала ни о чем меня расспрашивать. Или адвокат запретил. Так или иначе, она дала понять, что верит мне.
Я сунула на верхнюю полку шкафа красное перо, зажатое в руке.
– Спускайся, мы ждем!
У меня разыгрался зверский аппетит. На ужин подали картофельное пюре, жаркое из говядины и мелкий маринованный лук с зеленым горошком. Я пила апельсиновый сок со льдом из высокого стакана. За едой я думала о том, что выжду пару недель, а потом подойду к мисс Уиллоу поговорить насчет спектакля. Я ведь знаю роль Ори назубок. Остальные девочки пусть будут принцессами. Зачем отменять спектакль, если я осталась жива и могу танцевать?
Мои родители всегда без проблем оказывали спонсорскую поддержку. Это стало решающим аргументом. Когда я танцевала главную роль в весеннем спектакле – хорошо, не весеннем, ведь его пришлось отложить так надолго, что весна уже кончилась, – костюм у меня был далеко не таким роскошным. Меньше перьев, меньше блесток. Зато он был красным, и с последнего ряда отлично разглядишь.
Я танцевала потрясающе, так мне сказали. С тех пор, как погибли Рейчел и Гэрмони, а Ори посадили в тюрьму, мне расточали похвалы гораздо щедрее. Наверное, потому, что я осталась единственной стоящей танцовщицей. Я была ослепительна. Я блистала. Клянусь, что прочла это в местной газете.
Даже сейчас, спустя три года, пазл в голове до конца не сошелся. Периодически всплывают воспоминания, и я топлю их в грязи, там, где им место. Мне являются лица. Сперва Ори с распущенными волосами, которые все растут и растут и уже доходят ей до колен. Я трясу головой, отгоняю ее. Тогда приходят Рейчел и Гэрмони. Аккуратно причесанные, пучки волос одинакового карамельного оттенка, шпильки блестят, будто в свете софитов. Обе смотрят на меня в зеркальном отражении, хлопая накрашенными ресницами, надеются, что я оступлюсь. Но я не допускаю ошибки, и они обе страшно – смертельно – разочарованы. Их головы сближаются, мы снова в туннеле, они шепчутся обо мне. В памяти черная дыра. Окровавленные головы в грязи. Снова провал. Я на заднем сиденье полицейской машины. Допрос в комнате с зеркальной стеной. Странное ощущение легкости, невесомости, когда полицейский сдает меня на руки родителям – тем людям, которые щедро жертвовали деньги на содержание полицейского участка все пятнадцать лет, что мы здесь живем, – и говорит:
– Спасибо, мисс Дюмон, можете идти.
Снова провал. Я на заднем сиденье в машине родителей. На коленях они – мои руки, мне дали их вымыть в участке.
Чистые руки. Мое предательство.
Я оборачиваюсь. Прижимаю ладони к стеклу. Полицейский участок становится меньше и меньше, мы удаляемся, уезжаем. Все хорошо, все позади, твердит мама. Мое предательство меньше в размерах, все дальше и дальше – темное пятнышко, неразличимая точка. Все, его нет.
Ее слово против моего.
Ее руки против моих.
Теперь я смотрю на них постоянно. Смотрю, когда завязываю ленточки на пуантах, когда выдавливаю зубную пасту из тюбика, когда отталкиваю Томми, говоря: «Не сейчас». Когда листаю в телефоне фотографии и думаю, что Рейчел с Гэрмони не сумели ничего заснять, потому что фотки так нигде и не всплыли за все эти годы. Когда крашу ногти на ногах в фиолетовый. Когда держусь за станок, разминаясь у себя в комнате. Когда складываю в чемодан балетный купальник. Когда застегиваю пуговицы на бирюзовой кофте. Когда расстегиваю браслет с подвесками, и он падает с запястья. Когда съедаю кусочек сыра. Когда сижу одна в комнате и ничего не делаю.
Я все смотрю на них. Не отвожу взгляд. Изучаю. Руки, которые никто не заподозрил в убийстве. Они убили двоих. Нет, троих – вместе с Ори. Мои чистые руки.
Предатели
– А, вот ты где! – сказали за спиной.
Он отыскал меня здесь, на заросшем сорняками пятачке позади тюрьмы, огороженном проволочным забором. У моих ног яма размером с человеческий рост. Только теперь я одна. Солнце укатилось за деревья, в небе вот-вот проклюнется лунный серп.
– Здравствуй, Майлз.
Она ушла – должно быть, из-за него. Она не сказала в ответ: «Я люблю тебя». Так ведь, Майлз?
Он стоит на краю огорода, не говорит ничего.
– Пора назад?
– А ты не слышала, как мы тебя звали?
Качаю головой.
– Мы тебя обыскались. Сарабет в машине. Перепугалась, что ты пропала. Просила вызвать полицию.
Наверное, я пробыла между сном и реальностью довольно долго. Я видела только Ори в оранжевом комбинезоне, она копала яму и посмотрела на меня – оскорбленно, как на предательницу. Она ведь знает, как все было на самом деле, пусть ни она, ни я не скажем об этом вслух.
– Сарабет в машине?
Проверяю телефон. Я пропустила от нее кучу сообщений.
«Не смешно. Ты где?»
«Тут жууутко».
«Серьезно, где ты есть? Мы скоро поедем».
«Томми зовет к Деннису. Поедем?»
«Мне призрак щас чуть ухо не отъел. Аххахах! Шучу… Ой, не шучу».
«Мне тут не нравится».
«Правда, поехали уже. Выходи. Не пугай меня!»
И еще куча подобных. Бросаю читать. А мой парень не написал ни разу.
– Где Томми?
Майлз молчит.
– Он тоже в машине, или как?
Делаю шаг, сандалия скользит по мокрой земле, я оступаюсь и подворачиваю лодыжку – ту же, что и прежде. Если растяну ногу за неделю до отъезда в Джульярд и не смогу танцевать, клянусь, со мной случится истерика. Вытягиваю ногу, сандалия застряла в грязи.
– Что у тебя в руке? – спрашивает Майлз.
Я теряю чувство реальности. На короткий момент – так задерживаешь дыхание, поднявшись на пуанты – мне видится, что мы снова в тесном туннеле. Со всех сторон нас окружила зелень, неба не видно, темно, как под сводом плотно сросшихся деревьев. Он застал меня, он все видел, думаю я. В голове бьются отчаянные, яростные мысли. Кому отдать нож? Кто возьмет на себя вину на этот раз?
– Ничего, – говорю я.
И разжимаю пальцы. Перышко летит в глубокую яму. Лопата, которой копала Ори, прислонена к ограде – ржавая, покрытая ссохшейся грязью. Я же видела, у нее в руках она блестела, как новая.
Майлз смотрит на перышко. Оно летит целую вечность. Кружится в воздухе, будто невидимый призрак дует на него, заставляя плясать. Наконец, опускается.
Майлз знает, что это за перышко. Ори все ему рассказала. Он преградил мне путь. И он все знает.
Ори мне о нем почти ничего не говорила. Он обожал ее, это ясно. Ему нравилось просто сидеть в уголке и наблюдать за ней – брр! Он учился в ее школе, так что мы с ним почти незнакомы. Откуда мне знать, что у него на уме. Может, он успел напиться? Или с катушек съехал? Вдруг за спиной прячет нож и порежет меня на куски?
Где лопата? Дотянусь?
– Так где Томми? Это он идет? – машу рукой в сторону, пытаясь отвлечь.
Майлз и бровью не ведет.
– Он тебя бросил.
– Томми? Меня? Смешно.
– Если позовешь, он не придет.
Куда подевались Томми и Сарабет? Неужели сидят в машине? Вдвоем? Оглядываюсь вокруг. Длинная серая стена из камня, на огороженной баскетбольной площадке тоскливо торчат из земли два кольца. Никого.
– Кстати, все забываю спросить, – произносит Майлз изменившимся голосом, будто играет на публику. – Как тебе букет?
Это все-таки он. Он подложил тот букет, от которого меня бросило в дрожь. Конечно, кто же еще. Глупый мальчишка, который не знает, на ком сорвать зло.
Надо с ним поосторожнее, думаю я. Тем более он так и стоит у меня на пути.
– Спасибо, цветы прекрасные. Очень мило с твоей стороны. А тебе спектакль понравился? Мы идем, или как?
Трудно говорить спокойно, когда в голове звучит голос, очень похожий на голос Ори: «Он знает, ты знаешь, что он знает. Думаешь, он даст тебе так просто уехать в Нью-Йорк?»
Смотрю на него в упор. Бесчувственные, ничего не выражающие глаза. Плотно сжатый рот. Зачем он отпустил бородку? Спорю на что угодно, Ори невзлюбила бы эту чахлую растительность, а если вдруг нет, я бы извела ее насмешками, так что в конце концов она бы все равно возненавидела ее.
А сейчас мне хочется выдрать все до одного волоски у него с подбородка, желательно вместе с кожей.
Шагаю вперед, оставляю сандалию. Лопата теперь позади, до нее всего фут. Надо повернуться, совсем чуть-чуть, и дотянусь. Я ведь умею крутиться. Один поворот – и я ее схвачу. Он даже понять не успеет, как все произошло.
Вдруг раздается странный нездешний звук. Шепот, шорох, шелест дыхания. Рокот голосов прямо за плечом. Кто-то стоит позади?
Все стихает.
Меня сбивают с ног. Перед глазами искры. Я лечу вниз. Последнее, что вижу, – завязшая в грязи сандалия. Порвался ремешок. Надо будет пришить.
Надо мной возвышается Майлз. Возле него кружатся тени. Он не один. Ступню сводит судорогой. Яркая вспышка света, словно мелькнул луч прожектора. Тяну голову изо всех сил – я здесь, я здесь, свети на меня. Однако вспышка меркнет, обрушивается тьма, я в жуткой яме, совсем одна, все от меня отвернулись. Предатели.
Часть VI. Невинная
Ни один живой организм не может долго просуществовать в условиях абсолютной реальности; по некоторым предположениям, даже жаворонки и кузнечики иногда засыпают.
Ширли Джексон«Призрак дома на холме»Эмбер. Нам очень жаль
Нам всем очень жаль. Жаль, что мы столько всего натворили в той – дотюремной – жизни. Жаль, что изводили других насмешками, подталкивали к ужасным поступкам или, наоборот, не сделали ничего, когда нужно было действовать. Мы сожалели о своей трусости. О соглашательстве. О горячем нраве. Какие же мы были наивные, ребячливые, медлительные, беспечные, бесчувственные, какие глупые!
Конечно же, многие сожалели, что преступили закон.
Сожалели о том, что взяли в руки нож или пистолет, о лжи, сорвавшейся с уст. Сожалели о гадких поступках, которые совершили – толкнули бабушку, пустили в ход бейсбольную биту, разбили окно. Сожалели о том зимнем дне на парковке у универмага «Севен-элевен», где у нас созрело решение, которое привело к целой череде пустых сожалений.
Не знаю, жалела ли наша новенькая, Орианна Сперлинг, о том, что в тот день вышла вслед за подругой в красном – прекрасном! – костюме. Жалела ли о том, что не бросилась бежать, едва завидев кровавую сцену. Не унесла ноги, не умчалась прочь, не убралась подальше.
Мы считали, что должна жалеть. Должна проклинать тот день, когда познакомилась с Вайолет Дюмон.
Иногда самая незначительная мелочь способна перевернуть и разрушить жизнь. Наши прежние годы представлялись нам далекими, будто мы смотрели на них сверху вниз, свесив ноги с облачка. Все, что происходило там, напоминало копошение в муравейнике. Деталей не разобрать.
Но мы продолжали пристально вглядываться в прошлое, чтобы найти ту единственную, первую ошибку, которая повлекла за собой другие. Мак, например, жалела о краже розового велосипеда. Сожаления Дамур и Шери были связаны с мальчиками. Натти заявляла, что ни о чем не жалеет, но мы-то знали, что поводов для сожалений у нее просто-напросто слишком много и ей непросто выбрать один. Извращенный ум Аннемари и в самом деле не знал угрызений совести, однако она порой скучала по сестре, а это почти одно и то же. Я жалела о том, что не выбросила дневник. Что вообще его вела.
Эти ошибки стали спусковым крючком, шлюзом, через который хлынули неприятности. Ори вот вышла из театра, беспокоясь о подруге. Впрочем, это лишь самое последнее ее сожаление. Посмотрим раньше – заглянем в прошлое, туда, где фигурка Ори становится меньше и меньше, а глаза светят ярче – туда, где ей семь лет, и ее впервые приводят на урок балета. Если бы она не встала у станка рядом с тощей девчонкой, пучок у которой утыкан шпильками, как подушечка для иголок, жизнь у нее сложилась бы иначе.
С чего ее вообще притащили на танцы? Почему она не закатила маме истерику, чтобы ее отвели на футбол, ведь больше всего ей хотелось гонять мяч с мальчишками – именно об этом мечтала Ори до встречи с Вайолет.
Мама записала Ори на балет в тот последний год, пока еще жила с ними; на следующий год она ушла. Отцу-дальнобойщику и в голову бы не пришло отвести дочь в танцевальную студию.
Мама ушла без предупреждения. Ори было семь с половиной лет. У каждой из нас есть воспоминания, которые хотелось бы вытряхнуть из черепной коробки. Или снова вернуться в прошлое и все изменить. Но что может изменить семилетний ребенок?
Ори помнила длинноволосую женщину – согласно детским воспоминаниям, волосы были бесконечно длинными и бесконечно темными, темнее самой черной грязи. Она улыбалась, не разжимая губ, – прятала плохие зубы. Женщина идет к колченогому кухонному столу – одна ножка у него короче остальных, ставит перед Ори тарелку с мороженым из морозилки, ядовито-синий шарик, от которого язык тоже становится синим.
– Ешь давай, – говорит она.
Ложка ходит вверх-вниз. В дверях стоит желтый набитый вещами чемодан. Ложка ходит все медленнее. Спать, очень хочется спать. За дверью гудит такси. Хлопнула дверь. Щелкнул замок. Глаза закрываются. И тишина. Тишина опустевшего дома, сонная тяжесть набрякших век.
Когда вечером вернулся отец, Ори еще спала, сидя за столом. Перед ней стояла тарелка с остатками растаявшего мороженого.
С тех пор Ори не могла отделаться от чувства, что все хорошее ведет к катастрофе. С тех пор она не брала в рот мороженого. Может, оно и к лучшему, ведь в тюрьме нам его не дают.
Многие из нас росли без матерей. (А многие еще в младенчестве с удовольствием выпихнули бы мать из дома, если бы могли самостоятельно платить за электричество и водить машину.) Отсутствие материнской любви никого из нас не удивляло, эту боль мы делили на всех. Но мать Ори просто взяла и ушла вот так, без объяснений – не умерла от рака, не погибла в автокатастрофе, не стала жертвой грабителя, не умотала с новым бойфрендом, который пообещал, что увезет ее на Багамы, только без детей. Ушла, даже записки не оставила. Такое может серьезно подкосить маленькую девочку, это мы понимали.
Когда на нее обрушилось зло, как на всех, кто сейчас томился в «Авроре-Хиллз», Ори не стала бороться. Она покорилась. Повесила голову. Разжала пальцы, и нож, орудие убийцы, который вдруг оказался в ее руке, сверкнув лезвием, упал на землю.
Границы реальности сместились. Вайолет указала на нее, крича и заливаясь слезами. Больше Ори подругу не видела.
Ори осталась одна с мертвыми телами. Полицейский крикнул, чтобы она выходила с поднятыми руками, но в голове все смешалось, она никак не могла взять в толк, что происходит, и полицейский бросился на нее, опрокинул на землю, скрутил за спиной руки. Тогда ей вдруг стало ясно, что это реальность, что все происходит на самом деле. Она не стала вырываться и кричать, как кричала бы Джоди, не стала пинаться, как Полли, не попыталась поднять голову и вызывающе задрать подбородок в знак протеста – любая из нас желала бы найти в себе силы хотя бы на этот знак. Ори лежала в грязи, как собака. Тяжелый, набрякший кровью костюм тянул к земле. Тело налилось свинцом, голова стала неподъемной.
Ее подняли и отнесли в машину. Там, на заднем сиденье, она впервые оказалась за решеткой. Однако в ощущении таилось что-то знакомое. Руки заледенели, во рту пересохло. Она подумала, что надо написать Майлзу, но вдруг поняла, что телефона у нее с собой нет.
Да и что она могла написать? Скоро все появится в новостях.
Где-то в глубине души Ори всегда полагала, что не заслуживает в жизни ничего хорошего, в особенности Майлза. А глубоко потаенные чувства первыми выплескиваются на поверхность. Ярость проснется позже. В первые минуты лишь одна мысль владела ею, медленная, как перышко, что почти застыло в воздухе, не падая на землю. Мысль облачилась в образ желтого чемодана у двери, во вкус мятного мороженого и кодеинового сиропа от кашля – от чего ее веки отяжелели, а перед глазами замелькали картинки из прошлого. Мама правильно сделала, что ушла. Сейчас она живет во Флориде, у нее новая семья и две крошечные загорелые дочурки – Ори нашла ее аккаунт на Фейсбуке.
Орианна Сперлинг сомкнула веки и не открывала глаз, пока машина не затормозила у полицейского участка.
Чего ты достойна, если тебя бросила родная мать? Ответа я не знала. Когда мне было семь лет, мама еще меня любила.
Теперь я знала о преступлении Ори. Зато я от нее кое-что утаила.
Я не смогла бы заставить себя сказать ни ей, ни кому-либо из девочек.
Шли дни. Женщина, благодаря которой меня скоро освободят – моя мать, – так и не написала. Мысль о том, что выйду в никуда, петлей затягивала шею. Я слишком привыкла ко всему, что окружало меня в тюрьме.
В следующий день для посещений я даже встала в очередь.
Дверь охраняла Блитт. Пробежав пальцем по списку, она качнула головой.
– К тебе никого.
– Может, она пришла и ждет там без…
– В списке ее нет!
Конечно, мама не поехала бы в такую даль. Первые слова, которые мы скажем друг другу спустя три года, один месяц и кто-его-знает сколько дней, прозвучат при встрече наедине, не здесь, не в тюремных стенах. Что ж, если она не приехала, то и я не воспользуюсь правом на звонок, не стану набирать домашний номер и не повешу трубку, едва услышав ее голос, не стану пытаться определить по одному его звуку, ненавидит ли она меня по-прежнему.
За зеленой стеной слышались голоса гостей – чужих легко узнать, потому что они говорят слишком громко, слишком поспешно. Смеются невпопад. Чересчур стараются. Рассказывают о посторонних вещах – ходили в кино или на концерт, купили в магазине новую одежду. Я заглянула в комнату через зарешеченное окошко, испещренное царапинами – их оставили девочки, которые томились в ожидании посетителей.
Вот Лола проталкивается к своим, за ней спешит Мак – на глазах у нее слезы, хотя семья приходит навестить ее каждую неделю; они зовут ее Маккензи. Даже к Кеннеди пришли – женщина с коротко стриженными волосами. Должно быть, знала о дурной привычке Кеннеди и не хотела вводить ее в искушение. Интересно, кто она: мать, старшая сестра, бывшая надзирательница, любовница, духовная наставница, тетя? Посетительница спросила про еще заметный синяк под глазом. Кеннеди солгала точь-в-точь так же, как солгала однажды моя мать, – поскользнулась в ванной. Лола добралась до стола, за которым ее ждали, и села, выдавив слабую улыбку.
И тут мои глаза наткнулись на Ори.
Напротив нее, сгорбившись, сидел парень, волосы падали ему на глаза. Они держались под столом за руки, прячась от бдительного взора охранника, стоявшего неподалеку. Значит, Майлз все-таки приехал.
Мне захотелось садануть кулаком в стекло, пускай оно небьющееся. Ори не говорила, что он получил разрешение на свидание. Она вообще старалась не упоминать о нем при мне – будто хотела развести нас по сторонам. Вот бы треснуть его по спине как следует, чтобы выпрямился, и крикнуть, пусть он волосы откинет со лба. Хотелось заглянуть ему в глаза, увидеть, сколько он знает о ней. Столько же, сколько я? Однако на пороге комнаты свиданий неколебимой каменной глыбой стояла Блитт.
Пусть они спрятали руки под стол, я все равно будто чувствовала, как сплелись их пальцы, как вспотели ладони – все было написано на лицах. Он пытался ее в чем-то убедить. Она трясла головой.
Какой-то мужчина – папа или отчим парня? – подошел к столу с пачкой чипсов из автомата. Ори потянулась было за чипсами, но мужчина бросил упаковку Майлзу. Тот зачерпнул из пакета полную пригоршню чипсов и протянул их Ори. Никогда в жизни никто не делился со мной чипсами из автомата.
Не знаю, любовь это была или нет, но и остальные повернули головы в их сторону.
После я спросила, о чем они разговаривали.
Ори не удивилась, не стала расспрашивать, как я узнала о встрече.
– Я сказала, что не буду подавать на апелляцию. Чтобы он перестал на меня давить и жил своей жизнью.
– Почему?.. – В общем-то я была согласна с Майлзом.
Мы сидели в камере, дверь еще не заперли на ночь. В коридоре послышались шаги. На пороге нарисовался Сантосуссо. Он улыбался во весь рот – зачем? Лучше бы…
– Эмбер! Тебе назначили дату.
Я босиком прошлепала к двери, где в пластиковой тубе лежали мои тапочки, а рядом на стене висела табличка с моим номером. Все во втором корпусе замерли, прислушиваясь. Миссисипи (девяносто три дня до конца срока), которая качала пресс возле стены, остановилась. Рука Джоди (двести дней до конца срока) застыла над колодой карт.
Они знали.
А Ори нет. Стоя к ней спиной, я все равно чувствовала, что у нее в голове вертится куча вопросов.
Сантосуссо сообщил дату моего освобождения. Это случится в сентябре, как и обещали. Никто из девочек не проронил ни слова.
– Готовься! – Сантосуссо махнул рукой на зеленые стены, на двери с решетками, прикрученные к полу столы, неподъемные стулья. – Скоро все это останется позади.
Я не могу поверить.
Сантосуссо ушел, ко мне потянулись остальные. Поздравляли, желали удачи. Велели писать письма, хотя прекрасно знали, что писать я не буду. Просили передать весточку друзьям. Съесть сочный бургер в ближайшей забегаловке, думая о них.
Ори молчала, пока все они не ушли.
– Значит, тебя отпускают?
Мое плечо судорожно дернулось.
– Уже на следующей неделе?
– Через десять дней. Да, на следующей неделе.
Меня замутило, я чуть было не бросилась к унитазу, чтобы извергнуть сегодняшний обед.
– И давно ты об этом знаешь?
– Не очень. Я все собиралась тебе сказать…
– Ты это заслужила.
Как же она ошибалась.
– Все они ведут себя так странно, потому что завидуют. На самом деле они знают, что ты вообще ни за что тут оказалась.
Снова ошибка.
Я смотрела на ее изуродованные ступни. У всех танцовщиц такие, сказала она. Посмотреть бы на нее во время танца. Как ни странно, после ее слов я поверила, что все происходит наяву.
– Все будет хорошо, Эмбер, ты справишься. – Ори почувствовала мой страх. – На свободе все сложится хорошо. Вернешься в школу. Обнимешь сестру. Она по тебе скучала, вот увидишь. И обязательно встретишь хорошего парня. Спорим? Напишешь мне и расскажешь.
Нет, нет и нет, хотелось сказать мне. Нет по всем пунктам, особенно насчет парня. Какой там мне может быть парень?
– А как же ты?
– Что я? – Она села на нижнюю койку, скрестив ноги, и окружающая серость выделила ее глаза. – Мне никогда не выйти. До сорока пяти, ты же знаешь. Считай, что вся жизнь.
Я знала. Так постановил суд. Когда Ори достигнет совершеннолетия, ее переведут в женскую тюрьму строгого режима, самую ужасную тюрьму во всем штате. Ори состарится в тюрьме. За тридцать лет она изменится так, что я не узнаю ее при встрече.
Ори правда хотела помочь
Ори правда хотела помочь, но ей удалось вернуть мне тележку с книгами только потому, что перевод на кухню еще не оформили официально. В «Авроре-Хиллз» ничего и никогда не давалось легко. Одни потуги казались бессмысленными и бесконечными, другие приносили плоды быстро, как щелчок кнута, мы даже опомниться не успевали. Но и те и другие неминуемо влекли за собой последствия, вопрос только когда.
Ори возвращалась после работы в огороде с плющом, который обещала Пичес в обмен на мою тележку. День за днем она проносила плющ мимо ничего не подозревающих охранников. Они не слышали шороха листьев, спрятанных под комбинезоном, не замечали выпавших на пол клейких лепестков ядовито-розового цвета. Она передавала их Пичес, а та змеей скользила по корпусу, останавливаясь в дверях камер. Те, кто покупал дурманящий товар, в обмен предлагали сладости из столовой или услуги (выполнить которые не успеют). В тюрьме немало возможностей произвести расчет.
Многие из нас искали способ уйти от реальности, особенно после той ночи, когда исчезли охранники, – а потом все вернулось на круги своя. Но я не собиралась примыкать к числу тех, кто одурманивал свой разум. Мне нужно было мыслить трезво.
Но воспоминания никуда не ушли. Они притаились за углом, поджидая.
Я видела, что туман застит взгляд многих девушек вокруг меня, чуяла сладковатый запах. Наркотики заставляли нас позабыть. Я все думала, если одна из нас устроит передоз – вспомним ли мы? И если вспомним, то что?
Ори расплатилась с Пичес за услугу, но та затаила зло. В середине недели всего за несколько дней до моего освобождения она ввинтилась передо мной в очередь в столовой и схватила верхний поднос, на котором стояла красная кружка. Я не могла отодвинуть ее. В тюрьме существует множество неписаных правил. Мы подчиняемся законам силы; тем из нас, кто не занимал верхнюю ступеньку в иерархии или однажды пытался занять, но потерпел неудачу, оставалось только смириться. Пичес с тем же успехом могла поставить мне ногу на грудь и вскинуть руку в победном жесте.
Я стояла за ней и ждала.
– Что такое? – обратилась она ко мне через плечо.
– Ничего, – выдохнула я.
Если я скажу что-то еще, даже попытаюсь пошутить, то рискую лишиться передних зубов. Я столько лет провела в тюрьме, но зубы сохранила.
– Что ничего? Ты ведь что-то хотела сказать?
– Что она сказала? – Нас накрыла тень Джоди, которая была на голову выше и меня, и Пичес.
– Ничего я не говорила.
Их поведение было совершенно ясным. Я получила свою бесценную тележку, да? Теперь счастлива, да? Значит надо выбить из меня дурь, потому что слишком довольных здесь быть не должно.
Я оставила пустой поднос на стойке, словно не хотела есть, и направилась к столу, за которым обычно сидела. Как только я приблизилась, все встали, как по команде, и отошли. За столом осталась сидеть только моя соседка по камере. В ее глазах светился вопрос. Она хотела поделиться едой, но я отвела ее руку.
Началось. Это месть.
Раньше на меня просто не обращали внимания. Я сидела рядом, слушала их разговоры, запоминала, раскладывала в уме по полочкам, придерживала на будущее. Теперь Джоди и Пичес провели черту – и отделили меня от остальных.
После обеда я пошла в библиотеку. Протирала обложки, распрямляла загнутые уголки страниц, подклеивала переплеты. Хотелось напоследок навести порядок.
Когда раздался топот, я поставила на место стопку книг.
– Привет! – протянула Джоди.
Пичес ухмыльнулась.
Я поняла, что будет дальше, и прикрыла голову руками.
Джоди ударила первой. В руках у нее был носок, в который она сунула что-то тяжелое. Кусок мыла? Обломок кирпича? Может быть, даже книжка – одно из карманных изданий? Так или иначе, было больно.
Пичес прихватила с собой два таких носка.
Я согнулась пополам, пряча лицо. Хорошо бы все-таки сохранить зубы в целости. А потом пришло странное ощущение невесомости. Так бывает, когда чувствуешь, что вот-вот потеряешь сознание.
Наверное, именно тогда я решилась на то, что сделала, – потом, после экзекуции. Потому что даже с помутнившимся разумом я четко знала, где мое место.
Где наше место.
И как будет выглядеть справедливость, если нести ее буду я, здесь, в этих стенах, где никто прежде не обращал на меня внимания.
То, что произошло, казалось неизбежным, совпало все – время, место. Кусочки разрозненной мозаики сложились идеально. Я держала в руках ключ от всех замков.
И началось.
Возможно, я знала, куда иду и что делаю, потому что уже делала это раньше. Возможно, не знала. Всем нам хотелось бы вынести самим себе вердикт «невиновна».
Я была на кухне, выполняла работу, которая предназначалась мне в рамках общественно-полезного труда. На плите стояла кастрюля с зеленой фасолью. С тем, что по идее должно быть зеленой фасолью, хотя в кастрюле бурлила серая жижа. Половник будто сам собой прыгнул ко мне в руки. Я помешивала фасоль. Жижа ходила кругами.
В голове закружились воспоминания. Память вдруг прояснилась, и на пригоревшем дне кастрюли я ясно увидела то, что забыла. То, что все это время пыталась вспомнить.
Кастрюля была огромной, в ней вполне можно было сварить целиком человека, а ручка половника – длинной, как охотничье копье. Руку свело, к щекам прилила кровь, один глаз не открывался – заплыл. Никто из тех, кто был в кухне, ничего не заметил. Люди здесь видят лишь то, что хотят. Говорят, что снаружи, за стенами «Авроры-Хиллз», дела еще хуже.
На меня вновь обрушились звуки кухонной возни. Кеннеди мыла посуду, опустив руки по локоть в пену – странно видеть ее занятой чем-то другим помимо обсасывания собственных волос. Мне так и не удалось выведать, за что ее посадили, но в том, что Кеннеди виновна, я не сомневалась. Была в кухне и Дамур. Интересно, ее уже выписали из лазарета? Или она получила специальное разрешение лично принести пустой поднос? Вне всякого сомнения, Дамур виновна. Натти опустила поднос с кружками в ванну с водой, кивнула мне, прошла мимо. Мне так ни разу и не попалась красная кружка. Натти тоже виновна.
Мимо по коридору прошли девушки. Каждая из них была виновна. Из окна кухни виднелся четвертый корпус, где держали суицидниц. Виновны все до единой.
Как и я.
Жижа в кастрюле постепенно приобретала все более серый оттенок. Иной. Не такой, как прежде. Серый, как эти стены. Серый, каким становится белый, если его долго не отмывать от грязи.
В нос ударил тошнотворный запах.
Заплывший глаз по-прежнему не открывался, зато второй не утратил способности видеть.
Я с трудом повернула шею, она будто заржавела. И сперва увидела ноги. Ноги в белых холщовых тапочках, но здесь ничто не остается белым, так что на самом деле тапочки были серыми. Недвижные ноги, раскинутые ноги – я узнавала их по ногам. Девушки из первого, второго, третьего корпусов. Все они лежали на полу, как будто играли в игру, решили притвориться мертвыми.
Я тоже лежу среди них?
Я осмотрелась. Нет, я далеко. Но запах, тошнотворный запах, от него не скроешься. Гнилой, сладковатый, он заглушил все прочие чувства.
Девушки не играли в игру. Мы были в столовой, где все собирались три раза в день за исключением суицидниц. Стояла тишина. Мертвая тишина. На стуле скрючилась Крошка Ти – уронила лицо в колени, руки повисли безжизненными плетьми. Пичес лежала на полу лицом вниз, волосы съехали, открыв татуировку на затылке, которую она всегда прятала – сплетенные цветы, воздушные перья. Красивая картинка. Изо рта у нее стекала зеленая струйка слюны. Зеленый цвет навевал мысли о лесе вокруг нашей тюрьмы, о плюще, заполонившем все вокруг, в том числе огород, где работала Ори. О дурмане, популярном среди нас тем летом, навевающем зеленые сны, а по утрам придающем глазам зеленый оттенок. Зеленый цвет защищал наши серые стены от законопослушного мира.
Мы навсегда стали частью этого места. Мы являлись непременным условием его существования, таким же, как трава, и мох, и деревья.
Потеряв сознание, Шери раскроила череп об угол стола. Зеленая струйка изо рта смешалась с кровью из уха. Зеленый с красным. Получается бурый.
Я смотрела на все равнодушно, ничего не испытывая, словно из меня вынули все чувства, как вынимают семена из дыни.
Если вспомню, где я сидела за обедом, то найду, где упала.
Повсюду валялись подносы, тарелки, вилки и чашки, размазанные остатки еды. Все, что могло разбиться, разбилось. Все, что не разбилось, – каталось по полу. В голове тоже все смешалось.
Зеленое, а теперь серое. Серая масса из консервных банок. Фасоль.
Что в нее подмешали? Листья растения, названия которого мы не знали, потому что не сумели отыскать в учебнике? Мы ведь должны были словить всего-навсего легкий приход, пару кайфовых галлюцинаций, улететь в небо и вернуться с чуть неровно бьющимся сердцем, слегка похихикать. Почему не заметили, что у фасоли сегодня особенно сладкий привкус, как у толченых леденцов?
А потом я вспомнила, кто стоял у кастрюли с половником, размешивая жуткое варево. Вспомнила собственную руку. Почему я не поняла, что туда что-то подмешали? Или я слишком хорошо знала, кто это сделал?
Я почувствовала чье-то присутствие. Ожоги не сошли с ее лица. Она парила рядом, и кожа у нее была лавандового оттенка.
– Ты все-таки это сделала, – сказала Дамур, но в голосе ее не слышалось удивления. – Теперь нам никогда отсюда не выбраться.
Теперь нам не выбраться. Я не могла смириться с тем, что Дамур видела будущее, однако так и было. Я тоже видела, просто забыла.
Двери открыты, замки отперты, но нам не уйти.
Я огляделась. Похоже, зрение меня обманывало, потому что когда я моргнула, серое исчезло.
Серые когда-то стены покрылись зеленым плющом. Там, где раньше были зарешеченные двери, чтобы заключенные не исчезали из поля зрения охранников, остались лишь развалины, поросшие травой. В ограде зияли огромные дыры, через которые сбежит целое стадо. Сохранившиеся камни кладки были испещрены рисунками и надписями. Убитым, отравленным кем-то из своих, нам предстоит остаться здесь навеки, пусть даже стены разрушатся до основания.
– Кто это сделал? – спросила я Дамур. – Ты? Я?
Она покачала головой, озираясь по сторонам, как будто только что вышла из синего автобуса. На ее лице застыло удивленное выражение.
Почему я здесь? Меня ведь выпустили. Через несколько дней мне дали бы нормальную одежду, настоящую обувь, и я бы пошла по дороге, посыпанной гравием. В сентябре я должна была встретиться с мамой.
С тем же успехом меня могли вывести на задний двор и расстрелять. В последний раз, когда я видела реальный мир, мне было тринадцать лет. В последний раз, когда я видела мать, она от меня отвернулась.
Мне не хотелось туда возвращаться. Мне не хотелось, чтобы остальные покинули эти стены. Значит, все-таки я? Значит, поэтому?
За дальним столом я увидела тело. Не свое. Длинные ноги в мешковатых оранжевых штанах. С одной слетела туфля. На большом пальце – бугристый черный ноготь.
Разве я не говорила ей, чтобы никогда не ела фасоль? В первый же день сказала!
Дамур ни за что ее не предупредила бы. И остальные, которые вот-вот пробудятся, тоже. Мой единственный глаз наполнился слезами, и очертания предметов вокруг размылись.
Единственная из нас, которая не заслуживала и ночи, проведенной в этих стенах.
Меня придавила огромная тяжесть. Моя вина. Моя ошибка. Теперь мне все ясно. Я вновь увидела себя, хоть пока не нашла свое тело.
Я стояла у кастрюли, помешивая ядовитую жижу, и не могла остановиться.
Потому что это уже произошло.
Потому что это происходит сейчас. Я стою и размешиваю, размешиваю, размешиваю.
По коже пробегает электрический разряд. Все тело вздрагивает. Кухню озаряет синяя вспышка, такая же, что пронзила Дамур, память заволакивает туманом, время рассыпается на части, в глазах темнеет, и я мешком валюсь на землю.
Так происходит всякий раз, когда я вспоминаю о том, что натворила.
Мы будем всегда
Мы будем всегда указывать друг на друга. Играть в детективов, пытаясь подловить на лжи и разоблачить преступника.
Пичес говорит, что это Кеннеди. Она обнаружила ее волос у себя на подносе. Половина из нас считает так же. Если бы у нас были ключи, мы бы заперли Кеннеди в корпусе для суицидниц и обрили ей голову. Парочка других подозревают Аннемари, хотя она как раз томилась в корпусе для суицидниц, как бы ей удалось проникнуть в кухню? Многие думают, что это Пичес, остальные полагают, что Дамур. Только Ори вне подозрений. Да, именно она проносила мимо охранников листья плюща после работы в саду, но тем самым она всего лишь пыталась помочь мне. Она понятия не имела, что из этого выйдет.
И никто не уверен, что виновата я.
Мы можем сидеть так всю ночь, спорить и выяснять. Теперь у нас целая вечность, что такое в сравнении с этим одна-единственная ночь?
Нам неизвестно, что обо всем об этом говорили снаружи. Газет сюда не доставляют.
Мы были несовершеннолетними правонарушителями из «Авроры-Хиллз». Большинство из нас оказалось здесь из-за ужасных, невообразимых злодеяний, сломавших наши судьбы. Но были и те, кто попал сюда из-за ничтожной мелочи – надписи на стене, проезда «зайцем», кражи губной помады.
Прежде никто и никогда не слышал наших имен. Потом ученики воскресной школы написали их цветными карандашами на ангелах, сложенных из бумаги, которых они оставили внизу у ограды.
Историю с массовым отравлением не скрыть. Люди без ума от трагедий. Новость о нашей гибели выплыла наружу. Кареты «Скорой помощи» и полицейские автомобили поднялись на вершину холма и обнаружили, что в тюремной столовой царит хаос. Срочно вызвали чиновников, которым поручили выяснить, сколько должно быть тел. Нас сосчитали, как пересчитывали до этого несколько раз на день. Что ж, мы привыкли.
Сорок один труп вместе с заключенными из четвертого корпуса, которым доставляли еду в камеру, и одной из лазарета. Сорок одна девушка.
Не может быть, сказали чиновники. Сбежать точно никому не удалось, все на своих местах, должно быть сорок две.
Они вооружились списком и опять принялись за счет. Одна, две, три. Четыре, пять, шесть. Достаточно для того, чтобы составить из нас боевую группу, если бы мы были способны воевать. Достаточно для того, чтобы оставить свой след в мире – хороший, плохой ли, – если бы мы были живы. Десять, двенадцать, тринадцать. Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять.
Сорок.
Сорок одна.
Нас пересчитывали снова и снова.
Досчитав, спохватились – кто-то отнес тело в морг, не предупредив? Кто это сделал? Нам что, опять пересчитывать?
Наверное, раньше не так сосчитали. Теперь все сошлось. Нашли последнее тело, все верно, их сорок две.
После смерти мы внесли свою долю сумятицы в общую неразбериху. Одни пришли в себя, все еще держась за горло, и тут же принялись кашлять, пытаясь избавиться от застрявшей в горле еды. Другие парили в воздухе. Нам нужно было сориентироваться, понять, как теперь двигаться, как проходить сквозь людей. Все сразу ринулись на кухню, однако вычислить преступника вот так, нахрапом, не вышло. Мы устроили такой переполох среди тарелок и кастрюль, что люди в форме, которые собирали материал для расследования, почувствовали, что задыхаются, несмотря на защитные маски, и им пришлось выйти.
Мы бесновались, не в силах до конца осознать произошедшее, а когда успокоились, живые уже покинули кухню. Они ушли и унесли наши тела. Охранники испарились. Двери стояли открытыми нараспашку. Нас больше никто не стерег.
Вне этих стен время шло своим ходом. Мы погибли в конце августа, но мир не замер. Мы заметили это не сразу, были слишком заняты выяснением отношений – кричали, скандалили, ссорились.
Прошел ливень, затем все высохло. Ветер вымел все листья с вершины холма, воздух остыл. Мороз расписал стекла. А затем вновь растаял снег. Расцвело дерево во дворе. На плюще, что оплетал наши серые стены, раскрылись лепестки ярких, похожих на розы цветов, и проросли шипы. Потом началась жара. Настал следующий август. Мир за окном жил своей жизнью.
Сменяли друг друга времена года. В тюрьму «Аврора-Хиллз» на самой северной окраине нашего северного штата больше не привозили новых девочек. Ее закрыли. Прошел второй август. Наступил третий.
Да, за окнами снова август, очередной август с тех пор, как мы наглотались листьев и цветов ядовитого плюща, растертых и подмешанных в зеленую фасоль. Мы сбились со счета, который это август. Мы не знаем, какой сейчас день, какое число. Мы позабыли, что надо пропустить обед, позабыли о том, что должно случиться, о том, что случается снова и снова.
Снаружи о нас почти не вспоминают. От нас остались имена из списка у ограды над гниющими плюшевыми медведями. Нас ненавидят. Нас проклинают. Те, кто нашли в себе силы простить, нас оплакивают. Есть и те, которые уверены, что могли бы спасти нас, окажись они тогда с нами.
Мы думаем, что мы до сих пор здесь, потому что наша жизнь прервалась внезапно, и мы зависли между бытием и небытием.
Похоже, что навсегда. Нам не выбраться.
Когда она возвращается
Когда она возвращается, мы приникаем к окну, наблюдаем, как она бежит через двор, как петляет, чтобы обогнуть ограду, как ступает по нашей земле, на которую падает причудливая тень от колючей проволоки, увивающей забор. Мы движемся от окна к окну, не сводя с нее глаз. Она не чувствует наших взглядов.
Она ни разу не посмотрела наверх. Некоторые свистят ей вслед, но она слышит лишь только свист ветра. Других передергивает при ее виде. Она из другого мира. Мы насмехаемся над тем, как она одета, над зализанными волосами, над блестящими шпильками. Бахвалимся, что сотворим с ней, пусть только подойдет. Однако за всеми нашими насмешками таится грусть. Да, мы ведь знаем, что она жива. То, как она движется, как держится, как ходит, говорит о том, что она свободна, не привычна к тюрьме.
– Кто она такая, откуда взялась? – спрашивает одна из нас.
Все молчат, молчу и я. Жду, когда к окну подойдет Ори. Я помогу ей все объяснить.
И вот она врывается во второй корпус. По ее лицу я понимаю, что она встретила Вайолет – незваную гостью из прошлого, нагрянувшую, чтобы охотиться за призраками. И все из наших ее видели.
У Ори грязные ладони и коленки. Наверное, опять копалась в саду.
– Она вернулась! – В глазах у Ори мечется паника. – Она вернулась. Не знаю, зачем. Но не прощения просить, это точно. Она ни о чем не жалеет.
Зачем вернулась? Мне кажется, я начинаю понимать, зачем.
Пока я смотрела на Ори, остальные исчезли. Не сразу соображаю, куда и зачем они отправились, хотя должна бы. Снизу доносится шум.
Ори стоит без движения.
– Я не хочу ее видеть.
Я чувствую укол электричества. Ты не увидишь ее, Ори. Уж мы об этом позаботимся.
Ори понятия не имеет, что мы затеяли. Она не собирается спускаться, но я не могу удержаться.
Они все – мы все – на заднем дворе. Я выплываю из двери и подхожу к остальным. Мы наблюдаем за ними.
Чужачка уже не одна. С ней парень. Я сразу узнала Майлза. Замираю от предвкушения – эти двое нам обеспечат такое зрелище, только держись! Да только остальные не поймут. Они ведь не знают ни его, ни ее. Не знают, почему парень так зол, почему лицо девушки кажется столь знакомым, почему ее щеки пылают, а он, наоборот, бледен и неподвижен. Но остальным нет дела до него.
Мы делаем шаг вперед. В небе сверкает молния. Нас словно бьет разрядом, пронимает до самых костей. Все, что мы есть теперь – это кости. Мы чувствуем: что-то должно произойти; более того, мы должны что-то сделать.
Надеемся, что Ори смотрит на нас из окна. Это все ради нее.
Джоди переминается с ноги на ногу. Натти улыбается и хрустит костяшками пальцев. Сквозь стену четвертого корпуса проходит малышка Аннемари с лопатой в руках. Приближается… Удар! Шпильки летят в стороны. Чужачка взмахивает руками – нам на радость – словно исполняет странный танец, которого многие из нас не видели ни разу в жизни, и тут же падает в грязь. Нога подламывается с приятным хрустом. Изо рта брызжут красные капли. Джоди пинает ее, она не двигается.
На земле лежит браслет. Слишком приметный, чтобы остаться здесь. Возможно, золотой, но как раз золото для нас больше не имеет цены. Никто не успевает проронить ни слова, как Полли – сильная Полли – нагибается и швыряет его подальше. Браслет свистит у нас над головами и где-то падает.
Мы позабыли о парне. Тот куда-то испарился. Наша ярость изливается на виновную. Только она может видеть нас. И мы не сводим с нее глаз. Нам знаком тот свет, что идет от нее, – мерцающий, кроваво-красный, выдающий вину; так сестра всегда узнает сестру, пусть они и не виделись долгие годы.
Тело катится в яму. Худое, невысокое, с длинными ногами – она, наверно, почти ничего не весит, кости из хлопка и воздуха. Но грохочут кости будь здоров! Будто тарелки при мытье. А мы-то думали, что балерины – грациозные создания.
Свет от нее становится ярче, буквально режет глаза. Вне всякого сомнения, она одна из нас.
Сползаю к ней в яму. Миссисипи протягивает руку, чтобы помочь.
Укладываю ее голову себе на колени, разглаживаю рассыпавшиеся по плечам волосы – все шпильки выпали от удара лопатой. На затылке – рубленая рана. Накрываю ее ладонью. Теплая, пульсирующая плоть. Я будто чувствую ее боль. Скольжу пальцами по лицу. Руки у меня все в крови. У нее на щеках остаются липкие мазки. Мне нужно изучить ее, как я изучила сперва Дамур Вайатт, потом Орианну Сперлинг.
Остальные не вмешиваются, оставили ее мне.
Тело содрогается, она хватает ртом воздух. Скоро все кончится. Она потеряла много крови.
– Ори! – Это ее последнее слово.
Она все еще думает, что я ее подруга. Нет, подругами мы никогда не станем. Но теперь мы одна семья.
– Я не Ори. Хотя скоро мы познакомимся.
Вдалеке завыли сирены. Мы понимаем, что круг замкнулся. Все произошло снова. Это наш последний день, и сюда едет полиция вместе со «Скорой».
Все сначала.
Толпа людей в столовой, через них плохо видно, мы сбиты с толку, обескуражены. Мы призываем друг друга замолчать, но лишь усиливаем шум. Мы снова кричим, воем, мечемся в панике – как всегда. Всякий раз возвращаясь в тот день, мы переживаем все заново и забываем об этом. Потому что нам хочется забыть.
Нас снова пересчитывают. У начальника тюрьмы в руках длинный список с именами. Подплываю к нему, смотрю из-за плеча. В списке есть имя Ори, но саму ее разыскать будет трудно. Я не знаю, где она сейчас.
Мы слышим, как они считают. Мы смотрим на них сверху из-под потолка. Вот насчитали тридцать. Тридцать одна, тридцать две, тридцать три.
Подбираются к сорока – как долго они считают, мы сгораем от нетерпения. Вот наконец сорок одна…
Они умолкают. Они не видят ее, но я вижу. Узнаю по ленточке на ноге. Они не видят, что я на нее показываю. Они не слышат, что я кричу. Они глухи и слепы.
Сорок две! Смотрите же, вот она!
Наконец один из охранников поворачивает голову. Все, нашли. Собираются вокруг. Они растеряны, ведь на ней обычная одежда, и тело выглядит так, будто его выкопали из могилы.
– Кто это? – спрашивает охранник.
Другой называет по очереди имена из списка. Ни одно не подходит.
Они не заметили странно вывернутую сломанную ногу, не перевернули тело и не нашли рану на голове.
Но мы все знали – теперь она одна из нас. Мы потеряли сорок вторую, однако быстро восполнили потерю, так что никто ничего не заподозрил. Кажется, нас всегда было именно сорок две – столько вмещает эта тюрьма.
Тела укладывают в черные мешки. Издалека нам не видно, где чье; мы гадаем по выпавшей руке, по цвету волос. Мешки укладывают в синий автобус. Ему приходится сделать три ходки. Мы наблюдаем из окна, совсем как в те дни, когда к нам привозили новеньких.
Мы так тихи, так послушны. Нам больше не нужны наручники. Дверцу захлопывают, и автобус выезжает за ворота в последний раз.
Вайолет Дюмон (убийца двоих пятнадцатилетних девочек, лгунья и предательница, которая избежала суда и следствия, – мы сами осудили ее и приговорили) еще не знает всех наших правил. Она отказалась смотреть в окно.
Ей тяжело, как и многим из нас в первый день. Мы гадаем, сломается ли она ночью, спорим, делаем ставки. Я молчу. Нам с ней спать в одной камере. Не хочу, чтобы мне во сне выдавили глаза.
Наверное, в первую ночь после того как закроются замки, она будет кричать, бесноваться, затем привыкнет. Придется привыкнуть, ведь она наконец понесла наказание за то, что совершила.
А мы расскажем ей о вечности, которая нам уготована.
Если бы мы только знали
Если бы мы только знали, возможно, не злились бы так, не кипели от ярости.
Снова сгустилась тьма, и мы наконец обнаружили ту, которую называли Ори.
Мы наблюдаем, как она бежит вниз по холму августовской душной ночью, как опускается на колени, чтобы пролезть через дыру в заборе.
Если бы она взглянула в зеркало – нормальное зеркало, а не такое, какие висели у нас в камерах, – ее поразило бы, как она изменилась. Когда ей вынесли приговор и отправили в тюрьму, у нее были круглые щеки, смуглая кожа и темные длинные волосы. Здесь волосы ей остригли, а ямочки на щеках пропали – от ужаса, что ее осудили за преступление, которого она не совершала. Померк и блеск в глазах. Ори не видела, что, выбравшись из этих стен, она снова превратилась в себя прежнюю, только на три года старше.
Прошло три года. Там, во внешнем мире, ей исполнилось восемнадцать.
Мы смотрели на нее во все глаза. Она лезет через дыру в заборе.
Парень протягивает ей руку. Звуки ночи сливаются с ее дыханием – стрекот сверчков, шорох листвы, уханье филина. Если поднимет глаза – увидит звезды. Подними глаза, безмолвно просим мы. Подними глаза. За всех нас.
– Эй, – спрашивает парень. – Что с тобой?
Майлз почти не изменился, именно таким она его и помнила. Только глаза, может, стали чуть темнее. Но она убедится, что это точно он, как только дотронется до его ладони – теплой, сухой, уверенной. Такой, как она помнит. Ей знакома там каждая линия. Она может пробежать пальцами по его лицу, подобраться к ушам – пусть он всегда терпеть не мог, когда она лезла ему в уши, отмахивался. Она может склониться к его шее и вдохнуть родной запах – он так и пользуется тем же самым мылом. Она может приблизиться, будто хочет поцеловать, и прихватить зубами нижнюю губу – совсем как раньше. Они так долго не виделись.
Однако мы отпустили ее не ради парня. Ори об этом знает. У нее впереди целая жизнь, которую надо прожить за нас.
Майлз пытается помочь ей подняться, но на Ори слишком много всего навалилось. У нее перехватывает дыхание, подкашиваются ноги. Она опускается на мокрую траву возле забора. Рядом разбросаны полуистлевшие плюшевые медведи, куклы с оторванными головами, огарки свечей, обрывки цветной бумаги с пожеланиями вечной жизни на небесах (или в аду). Впрочем, то, что за этими воротами, не имеет отношения ни к раю, ни к аду.
Майлз присаживается на корточки.
– Пойдем, ребята заждались.
Он кивает на зеленую спортивную машину, которую Ори видит впервые в жизни.
Он снова тянет ее вверх, пытается поднять.
– Ты попрощалась. Теперь пойдем, пора ехать. Тебя ждет Джульярд. Ты же говорила, что еще вещи складывать.
Помнишь? Ну, вспоминай же, шепчем мы.
И память потихоньку к ней возвращается. Она встает – и замечает что-то блестящее в траве. Золотая искра в темном сердце ночи. Браслет Вайолет, выброшенный Полли. Ори поднимает его, рассматривает крошечные фигурки балерин – какие хрупкие у них ножки, какие маленькие ручки, на них даже пальцев нет, до того они миниатюрные. А на цепочке засохшее пятно, словно грязь. Она не поймет, что это. Но мы знаем: это кровь.
Браслет обхватывает запястье, будто сделан на заказ. Вайолет никогда не давала его примерить, говорила, что слишком дорогой и что подвески ей дарит папа.
– Идем, – зовет Майлз.
Из окна машины выглядывает девичья головка. Ори смутно знакомо ее лицо. Вайолет недолюбливала эту девушку, звала Малиновкой.
– Мы так волновались! – кричит из машины девушка. – Уже в полицию звонить хотели.
Парень на водительском сиденье нетерпеливо машет рукой, говорит, что голоден, что надо остановиться по дороге и где-нибудь перекусить.
И снова Майлз.
– Все позади, – шепчет он ей на ухо и тянет ее за руку.
Ори опирается на него, затем вдруг понимает, что ей не нужна помощь, она хочет идти сама, на своих ногах.
Она легче, чем воздух. Она летит к машине. Разве они не знают, где ей пришлось побывать? И сколько времени там провести?
Ори невдомек, что мы до сих пор смотрим. Она откололась от нас и больше не чувствует наших взглядов. Не чувствует, что мы наблюдаем, как она бежит назад к ограде, поднимает и усаживает плюшевых медведей, подбирает листок бумаги, на котором перечислены наши имена, ищет там свое.
Она не найдет его, потому что, когда она вышла из ворот, ее имя исчезло из списка. Теперь там значится другое.
Нас навсегда останется сорок две.
Ори садится в машину, пристегивается и только теперь понимает, что в безопасности. Томми заводит мотор, Сарабет обнимает ее. Майлз крепко держит ее за руку. Сев в машину, она больше не оглядывается.
Мы восстановили справедливость. Теперь нам вечно смотреть на дорогу – вдруг кто-то бредет вверх по холму? Кто-то, кто хочет поменяться местами с одной из нас. Кто-то, кто возьмет на себя нашу вину и отпустит нас.
Здесь стоит вечный август. Мы просыпаемся в поту. На нас зеленые пижамы, комбинезоны висят рядом. За стенами тюрьмы шумит дождь, завывает ветер. Мы не слышим, как открываются замки, – не знаем, почему, но слышим крик Лолы. Следом за ним глухой стук – это Джоди, разбежавшись, бьется головой о дверь и во все горло оглашает радостную весть.
Мы выходим из камер. Мы свободны? Мы все еще живы? Знаем наверняка лишь одно – Ори жива.
Мы потеряли ее из виду, когда они скрылись за поворотом. Мы провожали глазами зеленую точку, пока машина не свернула к шоссе. Теперь мы не можем следить за ней. Наш мир заканчивается у ворот тюрьмы. Мы не можем уйти той дорогой.
Нам хотелось бы посмотреть, как она окажется в городе, в котором одни из нас родились, другие совершили преступление, а третьи никогда не побывают, хотя мечтали хотя бы раз подняться на статую Свободы. Придет время, и Вайолет расскажет нам о Нью-Йорке, она ведь почти переехала туда.
Но сейчас нам плевать на Вайолет. Нам хочется увидеть Ори.
Она наденет черное – ради нас. Мы воображаем, как она выйдет на сцену, и зрители замрут от восхищения, ошеломленные ее танцем. Она станет всем, кем не стали мы. И даже больше.
В мечтах мы смотрим на нее из зрительного зала. Мы поднимаемся и аплодируем ей, не жалея ладоней. И может быть, она услышит нас сквозь мили, часы, годы и воспоминания. Мы надеемся, что услышит. Почувствует, как мы гордимся ею, как восхищаемся. И грянет гром аплодисментов. Гром для нее, гром для нас.
В небе над развалинами «Авроры-Хиллз», бывшей тюрьмы для несовершеннолетних преступниц, сверкнет молния, пророкочет гром, а затем всех нас смоет дождем.
Благодарности
Мой агент, Майкл Бурре, поверил в меня и в мою странную идею, помогал и поддерживал. Мой редактор, Элис Ховард, предоставила мне восхитительный новый дом, распознала суть и сердце истории, помогла книге стать такой, как я хотела. Выражаю им обоим бесконечную благодарность.
Спасибо прекрасным сотрудникам издательства «Алгонкин»: Эйлин Лоуренс, Эмме Бойер, Крестине Липен, Келли Боуэн, Элизабет Скарлатт, Эмили Парлеман, Конни Гэбберт, Донне Голстейн, Джею Лайону, Шейне Ганн, Саре Алперт, Крейгу Попеларсу, Лорен Мозели, Брук Кцуке, Дебре Линн, Брунсону Хооле, Джейн Стееле и всем, кто работал над книгой.
Особое спасибо замечательным Либбе Брей, Камилле Деангелис, Гейли Форман, Мишель Ходкин, Ким Лиджет, Миколь Остоу, Джули Страусс-Габел и Кортни Саммерс.
Спасибо Бруклинской мастерской, где написаны ключевые сцены: Аарону Циммерману, Либбе Брей, Бену Джонсу, Сюзанне Шробсдорф. Организаторам чтений Эллет Дэтлоу и Мэтью Кресселу, а также тем, кто пришел на эти чтения и выслушал мою историю. Спасибо Лорен Абрамо из «Дистел и Годерич», Эйсел Энджел-Айани, Кэту Кларку и Каролине Кларк, Лавонне Купер, Рейчел Фершлейзер из «Тумблр Букс», Бэрри Голдблатту, Марго Найт из «Джерасси Резидент Артист Програм» (и всем остальным), Келли Дженсен, Дэвиду Левитану, Марте Михэлик, Молли О’Нилл, Кристин Стиклз, Эйприл Тучолк, Саре Зарр, «Байндерс», а также писателям из резиденции Джерасси, которые поддерживали меня во время написания и публикации этой книги. И наконец огромное спасибо вам, мои читатели, за то, что вам интересны мои странные истории. Я ценю каждого из вас.
Эта книга написана благодаря партнерству с художественной галереей «Гэмбидж-Центр», писательской резиденцией «Миллей-колони» и чудесной резиденцией «Макдауэлл-колони», где я написала более сорока трех тысяч слов черновика за две недели, иначе я бы ни за что не уложилась в срок. (Огромное спасибо Карен Кинан!) Также спасибо моим местным писательским сообществам «Райтер-Рум», «Хаузинг-Воркс» и кофейне «Синк-кофе», где работают лучшие бариста Нью-Йорка.
Эпиграфы к главам выбраны из произведений тех писателей, которых я полюбила в юные годы и которые помогли мне впоследствии обрести свой голос. Особую благодарность выражаю Маргарет Этвуд, Хизер О’Нилл и Элис Сиболд, а также правонаследникам и издателям Эдны Сент-Винсент Миллей, Ширли Джексон и Джин Риз за то, что дали разрешение использовать цитаты из их книг, это очень многое для меня значит.
Огромное спасибо любимой маме Арлен Сеймур, брату Джошуа Суме и младшей сестре Лорел-Роуз Энг.
И конечно, Эрику Райерсону, партнеру в работе и в жизни. Спасибо за то, что читал ночами наброски, поддерживал меня, верил в меня, подавал гениальные идеи для сюжета, сделал мне веб-сайт, проявлял ко мне безграничное терпение и помог придумать заголовок.
Нова Рен Сума закончила Колумбийский университет, у нее степень мастера изящных искусств по беллетристике. Степень бакалавра в писательском ремесле и фотографии она получила в колледже Антиок. Награждена стипендией для людей творческих профессий в фонде «Нью-Йорк фаундейшен». Росла в небольших городках в долине Гудзон, сейчас живет в Нью-Йорке. Опубликовала романы «Воображаемая девушка» и «17 и смерть». Вы можете посетить веб-сайт писательницы NovaRen.com и подписаться на нее в «Твиттере» – @novaren.
Сноски
1
Джульярд – одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства, музыки и танца, расположено в Нью-Йорке.
(обратно)2
Контемпорари – современный сценический танец.
(обратно)3
Зора Ниэл Херстон (1891–1960) – американская писательница афроамериканского происхождения, фольклористка и антрополог, более всего известная как автор романа «Их глаза видели Бога».
(обратно)4
Либба Брэй (1964) – американская писательница, автор романов для старших подростков.
(обратно)5
Сильвия Плат (1932–1963) – американская поэтесса и писательница, считающаяся одной из основательниц жанра «исповедальной поэзии» в англоязычной литературе.
(обратно)6
Френсин Паскаль (1938 – 1981) – американская писательница, автор известной серии романов для молодежи.
(обратно)7
Теодор Драйзер (1871 – 1945) – знаменитый американский писатель, автор культовых романов «Американская трагедия», «Финансист».
(обратно)8
«Сестра Керри» – первый роман Теодора Драйзера, опубликованный в 1900 году.
(обратно)9
«Обитатели холмов» – роман-сказка британского писателя Ричарда Адамса о приключениях группы диких кроликов.
(обратно)10
Сокращение VD из заглавных букв имени Вайолет Дюмон (Violet Dumont) в англ. принято для обозначения венерических заболеваний (venereal disease).
(обратно)11
Па-де-бурре – танцевальное движение, основанное на шагах французского народного танца бурре, представляет собой мелкие переступания с шагом вправо или влево.
(обратно)12
Па-де-ша – танцевальное прыжковое движение, имитирующее легкий, грациозный прыжок кошки: согнутые ноги поочередно отбрасываются назад, корпус прогибается, может также исполняться с выбрасыванием ног вперед.
(обратно)13
«Клан Пещерного медведя» – книга Джин Ауэл, события которой разворачиваются в каменном веке, легла в основу известного голливудского блокбастера с Дерил Ханна в главной роли.
(обратно)14
«Энн из «Зеленых крыш» – роман канадской писательницы Люси Монтгомери, увидел свет в 1908 г. и к середине XX века стал одним из самых популярных произведений англоязычной детской литературы.
(обратно)15
«Академия вампиров» – серия романтических книг о вампирах американской писательницы Райчел Мид. Первый роман был опубликован в 2007 году. В них описываются приключения семнадцатилетней девушки-вампира Розмари Хэзевей.
(обратно)16
«Говори» – роман Лори Холс Андерсон о девушке-подростке по имени Мелинда Сордино, которая вдруг стала изгоем в классе. Роман написан в 1999 г., в 2004 г. вышел фильм с Кристен Стюарт в главной роли.
(обратно)17
«С добрым утром, полночь» – модернистский роман Джин Рис, написанный в 1939 г.
(обратно)18
«Pour some sugar on me» – песня британской рок-группы «Def Leppard», образованной в 1977 году.
(обратно)19
«Книжный вор» – роман австралийского писателя Маркуса Зусака, написанный в 2006 году.
(обратно)20
«Дающий» – роман-антиутопия для подростков американской писательницы Лоис Лоури, написан в 1993 году.
(обратно)21
«Цветы на чердаке», «Лепестки на ветру» – первые два романа из семейной саги американской писательницы Вирджинии Эндрюс в жанре готической драмы, первая книга опубликована в 1979 году.
(обратно)22
Жаклин Вудсон – американская писательница, написала более 30 книг – от книжек-картинок для самых маленьких до повестей для старших подростков, некоторые из них – в стихах.
(обратно)23
Маргарет Этвуд – канадская англоязычная писательница, поэтесса, лауреат множества премий, в т. ч. Букеровской в 2000 году за роман «Слепой убийца».
(обратно)24
Мэтт де ла Пенья – американский писатель, автор книг для подростков.
(обратно)25
Майкл Кристи – канадский писатель, бывший профессиональный скейтбордист, автор сборника рассказов «Сад нищих».
(обратно)26
Исабель Альенде – чилийская писательница и журналистка, одна из наиболее известных латиноамериканских писательниц.
(обратно)27
Нил Гейман – известный английский писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценариев к фильмам.
(обратно)28
Гари Майерс – американский писатель, пишет в жанре фэнтези и хоррор.
(обратно)29
Сара Зарр – американская писательница, автор книг для подростков.
(обратно)30
«Заколдованные» – серия любовно-фантастических романов американской писательницы Кейт Тирнан, в которой повествуется о приключениях учащихся старшей школы, увлекающихся магией.
(обратно)31
Райкерс – остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер; самая крупная исправительная колония в мире.
(обратно)32
Релеве́ (фр.) – балетный термин, означающий подъем на полупальцы или пальцы на одной или двух ногах, а также поднимание работающей ноги на какую-либо высоту в любом направлении.
(обратно)33
Деми́-плие́ (фр.) – балетный термин, означающий полуприседание, при котором пятки остаются прижатыми к полу.
(обратно)34
Батма́н-тандю́ (фр.) – балетный термин, означающий вытягивание ноги прямо, влево или назад, при котором носок ноги едет по полу.
(обратно)35
Выворотность – способность развернуть ноги так, что бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу.
(обратно)36
Гран-жете́ (фр.) – прыжок, шпагат в воздухе.
(обратно)37
Ассамбле́ (фр.) – каскад горизонтальных прыжков в балете.
(обратно)38
Девелопе́ (фр.) – упражнение со сгибанием и разгибанием ноги на 90° и выше.
(обратно)39
Арабе́ск (фр.) – одна из основных поз классического танца, в ней опорная нога стоит на целой ступне, на полупальцах или на пальцах (пуантах), а рабочая нога поднята на 30°, 45°, 90° или 120° вверх с вытянутым коленом.
(обратно)

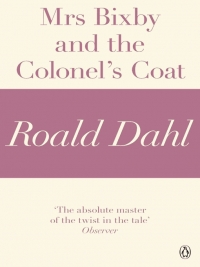

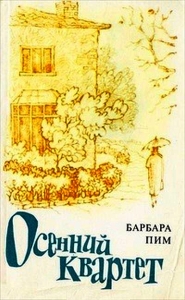





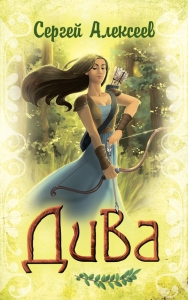
Комментарии к книге «Стены вокруг нас», Нова Рен Сума
Всего 0 комментариев