1
Козлоборода расстреляли утром, в дождь, при попытке к бегству. Караульный на вышке заметил и полоснул пулемётной очередью по сутулой спине – как плетью хлестнул. Козлобород повис на колючке корявым вопросительным знаком, и кровь его расцвечивала грязь в тона порченного мяса. Отдыхающие, толпясь у контрольной полосы, бросали выжидающие взгляды на административный корпус, на третий этаж, где едва угадывались за тёмным окном тяжёлые синие портьеры – тщились разглядеть (скорее – угадать) в провале кабинета лик Самого. Но Сам то ли игнорировал происшествие, то ли обозревал его последствия из самой глубины помещения, незримый, неведомый, непреходящий, как небытие.
Явились двое из хозкорпуса, в драных робах, с грязной скрипучей тачкой, сдёрнули Козлоборода с колючки, забросили на тележку и укатили в кочегарку, которой в очередной раз посчастливилось стать на время крематорием.
– Вот уж от кого не ожидал… – просипел Тошнот.
– Да он давно с катушек съехал, – сказал Дылда. И, чуть помедлив, добавил: – Без дозы, оно известное дело.
Иона промолчал. Козлобород был хороший мужик и на хмари вовсе не сидел. Но вступать в пререкания не хотелось, а тем более с Дылдой, с этим психом.
«Прощевай, братка», – мысленно прошептал Иона, провожая глазами тачку, на которой жалобно крючился вопросительный знак неживого Козлобородова тела. И голос Козлоборода отвечал ему тихим шёпотом: «Жизнь – трамвай без права пересадки, остановок нет, идём экспрессом. Не менжуйся, дорогой товарищ, как-нибудь допилим до конечной. Только помни, что бы ни случилось, что бы там ни вышло по дороге: как и прежде, лучшим контролёром остаётся совесть пассажира». Прощевай.
От столовки мокрый ветер вместе с дождевой пылью принёс запах молочной рисовой каши и кофе с молоком. Кофе – это хорошо. Кофе – это как раз то, что необходимо больному организму в такое вот дождливо-сопливо-кровавое утро.
Тачка с Козлобородом завернула за угол кочегарки, и бедолага тут же был забыт. Нет, не забыт, конечно, но событие его смерти на время уступило едва ли не главному событию жизни, её эликсиру, экстракту, сути – завтраку. Отдыхающие, вымешивая обутками вязкое, сочное тесто грязи и приглушённо гомоня, потянулись к приземистому иззелена-белому зданию столовки, чьи подслеповатые окна призывно подмигивали им белизной мятущихся на сквозняке занавесок.
2
Козлобородова попытка побега не принесла ничего хорошего ни ему самому, ни остальным. Режим снова был ужесточён – ну так разумеется, а чего же ещё было ждать. Уже к обеду вывесили свежий приказ Самого: в связи с участившимися случаями делинквентного поведения отдыхающих, выход на территорию санатория осуществляется только в сопровождении трёх ответственных лиц из числа медперсонала; коллективные игры, такие как футбол, баскетбол, волейбол, лапта перемещаются со спорткомплекса на малую внутреннюю площадку (это с асфальтовым-то покрытием!); комендантский час переносится с 22:00 на 21:00.
Жалость к бесталанной Козлобородовой судьбе незаметно, но быстро сменилась на «Чёрт бы его побрал, дурака шального!»
В полдень созвали экстренное собрание, и главврач – основной глашатай Самого, – с подслеповатой суровостью глядя сквозь толстые линзы очков, долго и прочувствованно рассказывал о том, как не жалея сил медперсонал борется за здоровье отдыхающих и привычно не ждёт никаких проявлений благодарности, но закономерно ожидает хотя бы такой элементарной вещи, как соблюдение режима, внутреннего распорядка и требований администрации.
– Да крыша у него поехала от хмари, – пробубнил Дылда свою заунывную версию.
– Это у тебя она поехала давно уже, – долетел от женской половины звонкий голос Дрофы, вечной Козлобородовой заступницы и, как говорили, полюбовницы. Наверняка сейчас уже многие прикидывали, кому теперь отойдёт Дрофа. Женщин в санатории катастрофически не хватало, и случались за них непримиримые кровавые битвы. На чём угодно могут договориться мужики, с чем угодно примириться, пока дело не коснётся бабы.
Главный постучал карандашом по графину, пресекая готовую вспыхнуть словесную баталию. Псих Дылда всегда заводился с пол-оборота, и плевать ему было, кто перед ним – грудастая волоокая Дрофа, хиляк и плакса Слюнтяй, авторитетный Ездра или косая сажень в плечах Виннету, который мог бы сломать Дылду одним неловким движением. В общем, псих. Иона так и звал его про себя и всегда удивлялся, почему этого невысокого в общем-то, флегматичного на вид, с желтушного цвета кожей сморчка зовут Дылдой, когда сам бог велел звать его Психом или на худой конец Пиявкой. Впрочем, Пиявка уже имелась – в женском корпусе. Ну так и что, вот была бы пара!
Пока после главного выступал зам с организационными вопросами, Иона отключился. Он снаружи дремал, а внутри думал о Козлобороде.
Какой чёрт дёрнул его на бессмысленный рывок? Ведь накануне Иона с ним разговаривал, и ни словом ни пол-словом не обмолвился Козлобород о своих намерениях. Да и были ли намерения? А то, может, правда – крыша поехала? Внезапный импульс. Непонятный толчок… Козлобород, конечно, был мужик серьёзный, задумчивый, тихий, поэт, на импульсы как-то не очень падкий, но ведь известно же: как раз в тихом-то омуте черти и водятся.
И всё же – нет, нет, не верится.
А может, прав Дылда: обдолбался Козлобород втихую хмарью? Захотелось забыться, улететь хоть на час от этой золотушной осени на пустынном астероиде санаторского бытия – голом и лысом астероиде, несущемся сквозь бесконечную тьму и дождь по направлению к «все там будем».
Обдолбался, говоришь? А если и так, но с одним нюансом – против воли обдолбался? Могло такое быть?
Могло теоретически. А практически – кому и зачем это было бы надо?
Накатила привычная изжога – бессмысленная и беспощадная, как реклама средства против изжоги. Забурлила, задымилась, поднимаясь к самому горлу; волнами пошла бессильная отрыжка. Печально-задумчивое лицо Козлоборода заколыхалось, подёрнулось рябью, как чёрный кисель заброшенного пруда под нахлынувшим дождём, растворилось в дымном мареве изжоги.
Под заунывное бормотание зама Иона думал теперь о другом. Он думал: из ночи в ночь снится мне этот сон. Трамвай, едущий без остановок по странному городу, по безжизненной промзоне, до конечной. Профессор, Клещ, Юдифь, ещё какие-то люди. Слепые голуби. Издыхающая собака. Печь.
И почему не оставляет ощущение, что это было со мной на самом деле? Было? Когда? Где? В каком из миров? Какую часть своей неприметной жизни я то ли заспал, то ли забыл, то ли и не помнил никогда?
И снова выплыли откуда-то из галактической тьмы подсознания навязчивые строки чужих недопонятых стихов:
… Рождённый ползать, ползу на брюхе туда, где души, как стены глухи, где пыль и ветер по переулкам, и тусклый сумрак в пространстве гулком. Там всё напрасно и всё – навеки, и нет людей там – лишь человеки. Там слепы мысли, и птицы слепы, и крылья ржавы, и ржавы скрепы…Проклятая изжога…
Говорят, побеги случались и раньше. Но успешного, вроде, не было ни одного. А может, и были, но администрации выгодней, чтобы никто их не помнил. Как бы то ни было, ни одного упоминания об успешном подрыве санаторский эпос не сохранил. Да и бессмыслица это полная, побег – всем известно. Ну сдёрнешь ты за колючку, ну, положим, даже случится такое чудо, что пройдёшь ты пустошь, что не увидит тебя и не срежет очередью пулемётчик на вышке, что пронесёт тебя в Гадских топях, что не задохнёшься в Тухлой пади и не сгинешь в прожорливых колхозных полях, ну, и дальше что? А дальше, человече, начинается промзона. И это тебе уже не пустошь. Там полудохлые собаки, там слепые голуби размером с коршуна, но страшней злободюймов на триста, там живые цеха… А чего ты лыбишься? Живые цеха – это не фигура речи, это реальность нашего времени. Про техноплазму слышал?.. То-то и оно. Представь себе: печи, прокатные станы, химфарм, марганцевый, цеха переработки, ползучие провода и кабели – под напряжением, конечно – и всё это живое, всё работает, шевелится, пыхтит, дышит, гудит и скрежещет. И ни души кругом. Пойдёшь ты туда? Конечно, пойдёшь, всё равно больше деваться некуда: либо туда, либо обратно. Вот там тебе и каюк. И хорошо, если в прокатный стан затянет или кабель подползёт, не заметишь – смерть будет не лёгкой, но хотя бы скорой. А представь, если на химфарм забредёшь? А если голуби, собаки? Вот где помучаешься и смерть примешь медленную и страшную.
Так что успешный побег – это понятие растяжимое и неопределённое до крайности. Назови это успешным стартом, оно будет верней, хотя это как посмотреть опять же, ибо что такое успех старта без успешного финиша – гитика, и всё.
3
Палаты в санатории были разного размера, были и одиночки и парные и на троих-четверых. Если тройки, четвёрки и парные ещё как-то пользовались спросом, то одиночки не признавал никто. А самой густонаселённой всегда была палата на десять койкомест, в которой проживал весь цвет мужской части санатория.
После наступления комендантского часа все, кто жаждал общения, собирались в «десятке», подтягивались сюда из «камер» малой населённости, бывало даже и обслуга, что помельче, заглядывала на огонёк. Курили, обсуждали дневные новости, мерились диагнозами, играли в карты и в нарды, пели под гитару. После отбоя, когда гасили свет, начиналось самое интересное – задушевные разговоры за жизнь.
В тот вечер было как-то особенно тихо. Песен не пели, не стучали зары, не шлёпали о стол карты – только дымили кто чем да разговаривали вполголоса.
Сначала говорили о Козлобороде. Говорили с сожалением, потому что мужик был хотя и сам по себе, и себе на уме, но – уважаемый. Все санаторские песни вышли из-под его пера, все самые злые хохмы про санаторскую жизнь отскочили от его зубов и все самые дохожие бабы сохли по нему.
С Козлобородовой смерти сам по себе разговор свернул на санаторскую жизнь, на администрацию и Самого. А когда разговор заходил про Самого, тут он попадал в такое поле неопределённости, что даже авторитет велемудрого Ездры или дотошного Клопомора не всегда был решающим доводом.
«Сам» был директором санатория. Никто никогда его не видел, но все знали, что он есть, не могло его не быть, поскольку раз есть санаторий, значит должен быть у него и директор. Ну вот как представить себе корабль без капитана? Роту солдат без командира? Королевство без короля? Бабу без…
В общем, у санатория был директор, это определённо. Но на этом определённость и заканчивалась, а дальше начиналась сплошная неразбериха.
Вот, например, возьмём хотя бы то, что если человека никто никогда не видел, то есть он или нет? Если его нет, то откуда на стене информации приказ о новом комендантском часе за его подписью? А если есть он, то… ну да, именно: почему никто и никогда его не видел? Впрочем, если верить слухам, то были такие, кому довелось повидать светлый лик Самого, но почему-то к повидавшим причисляли только тех, кого давно уже не было в живых, а значит, и спросу с них никакого.
– Говорят, это Гуркало, – сказал кто-то. – Был такой профессор известный, гениальный хирург. Он когда на пенсию вышел, когда глаза и руки уже отказывать начали и скальпель с пилой стал путать, его, вроде, сюда директором отправили. Ну а чего: место тёплое, особых умственных напряжений не требуется, и опять же свежее мясо всегда под рукой, если захочется тряхнуть стариной и покопаться в кишках.
– Псих он, – уверенно сказал Тощий. – Пусть он хоть трижды профессор будет и гений, всё равно – псих.
– Или наоборот, – возразил Чомба, – это мы тут все психи.
– Мы-то – само собой, – ввернул Дылда. – Достаточно на тебя посмотреть, чтобы не сомневаться.
– Только психу придёт в голову, – продолжал Тощий, – устроить из санатория такую республику. Но Сам – не Гуркало, про того я слышал, тот, вроде, даже до кипеша не дожил. Не поручусь, конечно, потому как самолично его не соборовал и не отпевал.
С дальней кровати, из тёмного угла, пробубнили избитую истину:
– Никто не знает, кто он. Сам да и Сам, и всё тут. Его никто и не видал сроду.
– Да видели его, – вступил Антипод. – Видели. Початок видел, и Котофеич тоже. Из второго заезда.
– Эка ты, – покачал головой Ездра. – Из второго заезда. А ты-то откуда знаешь, Антиподушка? Ты их до евоного кабинета провожал? А? Провожал? Не-ет. Может, в камине у Самого сидел, пока они там толковали? Сидел? Не-ет. А значит, слова твои – самое что ни на есть пустое балабольство. И спросить не у кого – иных уж нет, а те далече. Где теперь Котофеич? А? Знаешь?
– Ну знаю, – нахмурился Антипод.
– «Ну знаю», – очень удачно, с издевательской бубнявой интонацией передразнил Ездра. – Про Початка я уж и не поминаю: хоть и не к ночи дело, а таки ну его.
– А камина у него нет, – прокашлял Тошнот. – Нет у него никакого камина. Враки это всё.
– Откуда знаешь? – прищурился Ездра.
– Термидор говорил. Он там в ремонте участвовал.
Ездра рассмеялся.
– Кому говорил Термидор? – презрительно спросил он, просмеявшись. – А? Кому? Тебе лично?
– Нет, – потупился Тошнот.
– Конечно, нет, – кивнул Ездра. – А кому он говорил? А?
– Кому-нибудь, – пожал плечами Тошнот.
– «Кому-нибудь», – снова очень удачно и ещё более бубняво передразнил Ездра. – Тьфу на вас, зелень!
Ездра был старожилом и хранителем преданий, ему было позволительно и плюнуть. Кому-нибудь другому не спустили бы и надавали по губёшкам, чтобы не плевался, а вот на Ездрино «тьфу» Тошнот только улыбнулся жалкой ползучей улыбкой и снова пожал плечами, дескать: ну брякнул, да, признаю. Хотя уж Тошнота-то зеленью назвать было никак нельзя.
– Я тебе, друг ситный, больше скажу, – продолжал Ездра, раскуривая отсыревший бычок (сразу завоняло костром, на который писает гурьба мужиков). – Не было никакого Термидора. Не было. Миф он, евангелие, эпос – Манас, Калевала и Олонхо в одном флаконе. Прожевал? Можешь проглотить.
– Говорят, был, – возразил кто-то из тьмы палаты, кто-то из не спящих и прислушивавшихся к разговору.
– Говорят, курей доят, – отмахнулся Ездра. – Мы тож доить пошли, да титек не нашли. Ты если не брехло пустопорожнее, так покажись – выйди вот сюда, встань передо мной, как лист перед травой, и доложи коллективу ясно и чётко: мол, я, такой-то и такой-то, удостоверяю, что самолично видал Термидора, говорил с ним, курил с ним одну цибарку и сиживал на соседнем очке. А?
Ездра прислушался на минуту, словно ожидал, что вот сейчас заскрипит кровать, прошлёпают по полу босые ступни, и явится пред взором его незримый спорщик. Нет, конечно же, Ездра этого не ожидал – так только, позировал для вящей убедительности и собственной важности. Он совершенно отчётливо знал, что никто не выйдет и не скажет.
– То-то и оно, – кивнул он, переждав эту томительную паузу. – Не было никакого Термидора.
– Но с другой-то стороны, – неожиданно вступил Молчун. – С другой-то стороны, Ездра, откуда тебе знать про камин? Ну, ладно, Термидор – Калевала, положим так. А ты сам кто? Тебя ведь тоже в кабинете у Самого ни разу не было. Так может, и ты этот, как его, Олонхо?
– Не было, – усмехнулся Ездра. – Это ты в точку попал, Молчун, прямо в пупочку, в самый, это, анус истины пальцем забрался. Может, я и Олонхо, твоя правда. Да только я, в отличие от многих прочих, Молчун, и от тебя в отличие – видел План. Термидора бог не привёл видеть, а вот План – видал.
На этом всегда погружающем палату в почтительное молчание напоминании снаружи заиграли пятую прелюдию Рахманинова. Шепелявый, гундосый и неверный, подрагивающий граммофонный звук падал из громкоговорителя на столбе и разносился над погружённым во мрак дождливой безлунной ночи санаторием. Прелюдия вплеталась в шорох дождя, проникала в рыхлые древние стены корпусов, стелилась над грязью, взлетала и уносилась в небо вслед за дымком из трубы кочегарки, который нынче так сладко пах жареным мясом…
А наутро выпал снег.
Мелкие крупинки его мешались с грязью, тут же таяли, но снег был так напорист, что в конце концов столбы, на которые натянута была колючка, напялили белые шапки, побелели и мусорные баки, и крыши, и старая жёлтая развалюха-молоковоз, застывший на приколе возле продкорпуса. Всё было белым.
И только земля оставалась чёрной.
4
Кундри перехватила Иону следующим утром, после завтрака. Они сталкивались раньше, и даже говорили пару раз, и однажды у них даже чуть не дошло до этого самого, но Иона вовремя вспомнил тогда, что за Кундри ухлёстывал Андроид, а сама она, как и многие другие бабы, страдала по Козлобороду. Андроида Иона уважал, поэтому в последний момент увильнул, только прошёл по самому краю греха. Кундри не обиделась. Не принято было в санатории обижаться – не то, дескать, нынче время и место не то, а на обиженных, как известно, воду возят, и помирают они раньше – так и помирают обиженными. Кому какая от этого польза?
– Правду говорят, что Козлобород под хмарью подорвался? – спросила она, отозвав Иону в сторонку в столовском фойе.
– Дылда, мать его, психа! – выругался Иона. – Да нет, конечно. Ну, я думаю, что нет, не могло такого быть, не из тех был Козлобород.
– А веришь, что он ни с того ни с сего взял и на подрыв пошёл?
– Почему спрашиваешь? – нахмурился Иона.
– Потому что неправду чую, – нехорошо усмехнулась Кундри. – Бабская интуиция, говорят, убойная штука.
– Ну и чего ты хочешь? Правды? Её не знает никто.
– Правды не бывает, – усмехнулась Кундри, а чёрные глаза её не улыбались – из них лезла наружу ледяная стужа. – Чего хочу, не знаю. Знаю, чего не хочу.
– Ну, и чего?
– Оставаться здесь не хочу. И отсюда можно уйти, – сказала она. – Если хочешь пойти со мной, скажу как.
– Нет, Кундри, – покачал головой Иона, – нет, уйти отсюда нельзя. Да и зачем? Что делать там? Вот ты от чего лечишься?
– По женски.
– По женски… – повторил Иона. – Ну и кто тебя там будет лечить? Промзона если только – она от всех болезней лечит, но лечение у неё… да что я буду рассказывать, сама знаешь.
– Ага, знаю. Только враньё это всё. Нет никакой промзоны. В смысле, промзона есть, но ничего такого в ней нет – ни живых проводов, ни душегубок, ни голубей…
– Есть, – возразил Иона. – Голуби точно есть, я сам видел. Они слепые. Но им глаза и не нужны.
– Видел, и – живой?
– Это долгая история. Это было ещё до всего.
Кундри пожала плечами. Видно было, что она не верит, и ни в чём слова Ионы её не убедили.
– Почему ты ко мне подошла? – задал Иона вопрос, который с самого начала разговора вертелся у него на языке. – Почему не к Андроиду или Чомбе, например?
– Ты был другом Козлоборода. Однажды он сказал мне: если тебе нужен будет помощник в любом деле, бери Иону. Так что ты мне завещан, Иона.
– Завещание из меня… не очень.
– Ладно, не прибедняйся. Или на комплимент нарываешься? Козлобород тоже знал, что отсюда можно уйти, и знал как. Поэтому я никогда не поверю, что он так тупо пошёл на колючку.
– Уверена?
Губы Кундри перекосила пренебрежительная ухмылка.
– Языком трёкать в привычках не имею, – сказала она.
Заметив пристальное внимание к ним санитаров, Кундри потянула Иону за рукав, вывела на улицу, отвела за угол.
– Что-то намечается, – сказала она.
– Что? – недоверчиво спросил Иона.
– Откуда я знаю. Но белые суетятся слишком, что-то готовят. Сдёргивать надо отсюда. Я бы одна пошла, но одной в промзоне не выжить. Пойдёшь?
За угол завернул санитар. Резко остановился от неожиданности, завидев их. Кундри соображала быстро – прежде чем санитар поймал их в фокус своего взгляда, она уже припала, присосалась к Иониным губам.
Санитар усмехнулся, покачал головой, повернул обратно.
Кундри не торопилась оторваться от Ионы, язык её, живчик, блуждал в его рту, скользил по губам, по зубам. Иона не сопротивлялся, старательно отвечал на поцелуй, но нигде ничего в нём не дрогнуло. Не его была женщина Кундри.
Наконец она оторвалась от него, перевела дыхание, развязно улыбнулась.
– Хоть бы пощупал, – произнесла с весёлым укором.
Иона улыбнулся.
– Ладно, не жмись, – продолжала она. – Ну так что, пойдёшь со мной?
– Нет, – сказал Иона. – Боюсь я тебя.
5
Восстание началось как-то само собой, без плана, без предводителя, без лозунгов, но – с кровью. А как же иначе, какое восстание без крови и зачем оно тогда?
Кровь брали когда администрация чуяла недоброе, когда ощущалось какое-нибудь брожение в умах. Тогда объявлялся всеобщий день Донора, отдыхающих загоняли в терапевтический корпус и выкачивали по два стакана кровушки, а у тех, что поздоровей – у Молчуна, Виннету, Сто-Метров-Кролем и у Дефлоратора – брали по три. Конечно, никакого шоколада, горячего чая и спиртяги не полагалось. Обескровленные отдыхающие с саванно-бледными лицами ползли в корпуса и падали на кровати, стонали, блевали и матерились. Администрация вздыхала свободно. Никто не знал, кому и зачем надобилось столько крови, подозревали, конечно, что дело тут нечисто, ворчали, но до протеста не доходило – всё-таки, донорство дело святое. Да и какой протест без поллитры крови?
Вот до этого дня, до восстания, никто ничего точно не знал, а теперь всё узналось, благодаря Пузу, который по какой-то надобности крутился на дворе за хозблоком и видел, как санитары выливали на землю кровушку – вот так брали и выливали из какого-то грязного корыта животворную жидкость.
Пузу не поверили и наладили целую делегацию из тех, что легче всех перенесли день Донора – проверить. Бледные делегаты собрались, поползли кое-как. Вернулись с докладом, что да, несколько литров крови вылито во дворе терапии – стоит кровушка лужами, загустевает, и уже лакали из той лужи два местных кобеля.
Но даже и тут ещё сомневались: ну, мало ли, неизвестно же, что там за кровь. Может, старая, некондиционная, с истекшим, эт само, сроком годности. А может, свинью резали на хозблоке (хотя непонятно тогда, почему свинячьи кровя выносят из терапии, в день-то Донора как раз). Ну не хочется человеку верить в худшее, такая уж натура.
Но мало-помалу свели концы с концами и поняли, что надо действовать. О восстании, конечно, речи ещё не шло. Для начала взяли языка – Молчун сходил в отделение и притащил за шиворот мелкого санитарчика, испуганного не на шутку и слегка помятого в процессе пленения. Язык подтвердил, что да, забранная кровь никак не используется, потому что во-первых нездоровая она, а во-вторых, санаторий не больница и тут условий подходящих нет для её хранения и переработки – ну не колбасу же кровяную варить, в самом-то деле. Зачем в таком случае производят забор крови у отдыхающих, этого санитар пояснить не смог, но предположил правильно: для того, видать, чтобы не было поползновений к бунту. Так значит, этсамо, администрация бунта боится? – был вопрос. Боится, отвечал санитарчик, ещё как боится. Особенно в эти дни. А что с этими днями не так? – спросили его. Ну как же, сказал медработник, из-за Козлоборода этого вашего, которого порешили. Мало ли чего, вдруг контингент вздумает учинить беспорядки. Администрация и санитаров уже под ружьё поставила. Это как же? – спросили. – В каком таком смысле? Да в самом прямом, огорошил санитарчик: вооружили всех свободных от дежурства и держат в полной боевой готовности. А чем вооружили-то, шприцами да клизмами, что ли? – улыбнулись над незадачливым языком. Зачем же клизмами, – ухмыльнулся и он. В санатории полно оружия посолидней: винтари есть, и «калаши» и чего посерьёзней найдётся. Это откуда же столько всего? – насторожились отдыхающие – уж больно натурально держался санитарик, обычно не врут с таким видом. Пулемёт на вышке – это да, это известное дело, но чтобы вот так… А всё оттуда же, – сказал боец шприца и ваты. – Со складов. Раньше тут был военно-полевой госпиталь и часть стояла воинская. А у части был, как полагается, арсенал. Ну, и где же вся эта музыка хранится? – поинтересовались у языка. В подвале, под админкорпусом. Но вам туда не попасть, даже и не думайте. Там постоянная охрана и дверь кодовая.
Тут начали вспоминать предыдущие дни Донора и пытались увязать их с перипетиями санаторской жизни. И да, выходило так, что эти кровавые дни устраивались в периоды особой психологической напряжённости среди отдыхающих, вызванной теми или иными событиями – побегом, как нынче, ужесточением режима, наказаниями, очередным снижением качества питания. И про склады и воинскую часть что-то смутно вспомнилось – да, было что-то такое, ходили слухи.
Вот тут и зародился бунт – по старой русской традиции совершенно бессмысленный и столь же беспощадный.
6
Как-то само собой случилось, что во главе повстанцев оказался Ездра. В командование вошли также Харя-Кришна, Сто-Метров-Кролем и Клопомор – мужики бывалые, тёртые калачи, суровые и несговорчивые, все бывшие вояки.
Весь личный состав разбили на четыре взвода. Командование приняли на себя всё те же Харя-Кришна, Клопомор и Сто-Метров-Кролем. Четвёртый взвод доверили Дефлоратору, а Ездра, естественно, принял на себя верховное командование.
Прежде всего надо было вооружить личный состав созданной армии, потому что заточки, арматура и палки, оплетённые колючкой – это, конечно, хорошо, но хорошо для рукопашной, которая, как известно, есть последний аргумент пехотинца. Чтобы добыть что-нибудь посерьёзней, следовало в первую голову снять часового с вышки, тем самым заполучив для начала пулемёт и одновременно обезопасив себя от огня на поражение. Задача не из простых, тем более – средь бела дня, когда с вышки просматривается вся территория от края до края.
На вышке дежурили по-очереди два вэвэшника, разжалованные из рядов за превышение служебных полномочий. Чомба рассказывал, что видел как-то, случайно, рожу одного из них – и это была, по его словам, рожа прирождённого убийцы, даже глаза которого не отражают света – настолько они бездушны и мертвы. А уж Чомба-то к поэзии склонен никогда не был, а тем более не был трусом, у которого глаза велики, так что словам его приходилось верить. Второго стрелка не видел никто и никогда, и даже сомневались, что этот второй существовал на самом деле, что он не такой же полу-миф, как Сам.
Проблему караульного вызвался решить Виннету. Этот бугай, в плосконосом смуглом лице которого действительно было что-то индейское, с любым холодным оружием обращался так, что апачи и сиу топтались за углом, нервно раскуривая трубку мира. Виннету вооружился своим томагавком – кухонным разделочным топориком, когда-то давно украденным из хозблока, прихватил с собою Чомбу и Тошнота, и все трое ушли в дождь.
Достоинством вышки было её расположение – на взгорке, взятом в загородку из всё той же колючки, в которой оставалась небольшая калитка для входа-выхода караульных. Просто так подойти к ней было нельзя и любая попытка проникнуть за ограждение уже могла рассматриваться как акт агрессии со стороны отдыхающих. К недостаткам вышки относились самодельность (собрали её кое-как санитары под руководством кардиолога – бывшего плотника) и небольшая высота. Вот малая высота и сыграла роковую для караульного роль. Когда Чомба и Тошнот, старательно изображая из себя пьяных, в обнимку, горланя какую-то похабщину, прокуролесили пустырь и прислонились к колючке с противоположной от входа в загон стороны, часовой быстро перенёс внимание и своё и пулемёта на них. Тогда-то Виннету и метнулся крадучись к калитке. Брошенный его рукой томагавк врубился караульному в затылок. Через минуту Виннету уже карабкался по лестнице на вышку. Ещё через минуту вся прилегающая территория находилась под контролем повстанцев.
Возможно, белые прохлопали бы начало переворота и всё прошло бы с меньшей кровью, если бы Виннету, опьянённый лёгкой победой, не дал длинную очередь по административному корпусу.
Индеец, что с него взять, дикий человек.
7
В корпусах поднялся переполох. Наши, услышав пальбу, высыпали на пустырь, увидели сигнализирующих Чомбу и Тошнота, увидели Виннету на вышке, который орал что-то по-индейски и, не жалея патронов, поливал администрацию свинцом.
– Отставить огонь! – закричал Харя-Кришна. – Беречь патроны, индейскую твою мать!
С той стороны, наверное, не сразу согласились поверить, что началась война. Может, подумали сначала, что караульный с ума сошёл от вечной тоски и одиночества на вышке. Метались меж корпусами белые халаты, кричали что-то, незнамо зачем затарахтел администраторский уазик и рванул к продмедскладу, приютившемуся на отшибе – видать, боялись белохалатники за запасы спирта и перловки.
Потом послышался первый выстрел. Видно было, как пуля выковыряла из стенки вышки толстую щепку. Виннету присел, огрызнулся короткой очередью и стал быстро спускаться. И вовремя, потому что откуда-то из-за административного блока вдруг жахнул гранатомёт, и вышка превратилась в огрызок. Виннету, хоть и оглушённый, с обалдением и азартом, написанных на смуглой роже, успел прыгнуть на землю, подбежал к Ездре, потряхивая добытым пулемётом, но сказать в запале ничего не мог, только забористо матерился.
– Дурак ты, паря, – холодно сказал Ездра. – Приказ открывать огонь был? Правильно, не было. А какого же лешего, ирод ты кочерыжечный?
Но разбираться было некогда. Поднятая огнём Виннету суета мало-помалу схлынула, переходя в торопливые военные приготовления.
– Надо пробиваться к оружию, – сказал Харя-Кришна. – В подвал, про который говорил санитарик.
– Давай, – кивнул главнокомандующий.
Харя-Кришна выхватил у Виннету пулемёт, быстро поверил боезапас, досадливо покачал головой. Потом бегом повёл свой взвод в обход админкорпуса. Вооружённые кто чем, отдыхающие шли на явную смерть – один пулемёт с едва ли половиной боезапаса мало оставлял шансов восстанию.
Но боевая опытность Харя-Кришны, отчаяние недавних доноров и внезапность сделали своё дело. Дверь в подвал оказалась не закрытой. Спустились вниз. Ошарашенный санитарик, выполнявший роль часового у входа, был слегка контужен и обезоружен. Теперь у повстанцев был ещё и карабин о пяти патронах.
Охрана оружейного склада состояла, вопреки словам пленного, всего из двух человек – видать, не успели белохалатники привести свой гарнизон к готовности номер раз. Один из охранников – тучный санитар затрапезно-хохлятского вида – дрых на кушетке, храпя издыхающим боровом. Другой со смурным видом покуривал. Единственную сложность представляла собою решётка, отгородившая подступы к оружейке. Но после того как Харя-Кришна велел Слюнтяю пальнуть из доставшегося ему карабина, санитар и откинул засов и отдал ключи от оружейки. У санитаров были при себе два «калаша» с непристёгнутыми даже магазинами. Вот такая война.
8
Взводу пришлось вступить в боестолкновение сразу по выходе из подвала. Целая толпа санитаров направлялась сюда за пополнением боекомплекта. Несколько человек сопровождения были вооружены и немедленно открыли огонь. Был убит на месте Скоморох, а Китаёзе оторвало два пальца, но слава богу, на левой руке.
Гранатами вынудили санитаров отступить за хозкорпус, сильно проредив их ряды, и стали петлять между женских корпусов, отходя к своим. Бабы орали, визжали, высовывались в окна, бросали бойцам всё, что могло сойти за оружие, но по бабской привычке больше споспешествовали переполоху и суете, нежели делу.
Каждый из наших нёс по две-три, а то и четыре единицы вооружения. Тащили ящики с патронами. Огрызаясь на ходу огнём, уже в последний момент увидели, что другая группа белых халатов брошена им наперерез. Если бы не Харя-Кришна, увязли бы в бою и вряд ли добрались бы до своих, но талант бывалого вояки выручил: взвод разбился на две группы. Одна повесила на себя всю тяжесть амуниции и по возможности быстро продолжила бросок к своим позициям, другая прикрывала огнём столь яростным и деловитым, что посланная на перехват группа не выдержала и отступила.
Когда дошли до своих, были встречены радостными воплями. Оказалось, что от трёх взводов тут оставалась едва ли половина личного состава: безоружные повстанцы выдержали атаку до зубов вооружённых лекарей под командованием ЛОРа. Отбивались всем, что, будучи брошенным, могло так или иначе травмировать. Отбились. Но не стало многих незаурядных бойцов вроде Штыря, Алаверды, Пончика, Колченога…
Бойцы быстро разобрали оружие и выдвинулись на позиции. Старая, уже года два незарытая траншея теплотрассы вполне сошла за окоп.
Видели, как противник занимает позиции. Вооружены белые были хорошо, но и наши теперь тоже не из рогаток готовились стрелять, да и численный перевес пока ещё оставался на нашей стороне, несмотря ни на что.
Заняли позиции, изготовились и притихли, посматривая друг на друга. Потом затянувшуюся непонятную паузу прервали труженики клистира и карболки – выкинули импровизированный белый флаг из куска марли, воздетого на жердь. Помаячили этой тряпкой, потом вылезли из окопа три до зубов вооружённых санитара, самим видом своим позорящих высокое звание человека в белом халате. Это была охрана парламентёра, на роль которого назначен был рентгенолог – лысый толстун и коротышка, еврейчик бог знает в каком поколении.
Со стороны отдыхающих выступил под охраной Дылды, Пуза и Тошнота сам Ездра, как ни сопротивлялся этому штаб, говоря, что не дело главнокомандующему так подставляться.
Сошлись на нейтральной полосе, под чутким вниманием стволов и оптических прицелов с обеих сторон.
– Я буду краток, – сказал рентгенолог после торопливого рукопожатия. – Руководство санатория требует прекратить нарушение общественного порядка на территории вверенного ему лечебного учреждения. Вам предлагается добровольно сдать оружие и вернуться в корпуса. Гибель сотрудника, обеспечивающего охрану санатория, администрация спишет на трагическую случайность, благо родных у него нет.
– Интересно девки пляшут, Рафаилыч, – усмехнулся Ездра, словно не замечая, как рентгенолога передёрнуло от подобного панибратства, – интересно ты излагаешь, но как-то, это, не в строчку. А гибель Козлоборода вы на куда спишете, ась?
– Кого? – рентгенолог так натурально сыграл неведение, что Ездра бы ему обязательно поверил, если бы своими глазами не видел труп убиенного товарища. – О чём вы говорите, Ездра?
– Ага, – кивнул Ездра, словно другого ответа и не ожидал. – А свежеубитых осьмнадцать человек по какому, это, списку у вас пойдут, ирод ты кочерыжечный? А кровушку нашу тоже спишете? Сколько же литров вы из нас выкачали за всё время, упыри!
– Послушайте, Ездра, – запыхтел рентгенолог краснея и выдавая дипломатическую несостоятельность свою, – я не уполномочен отвечать на ваши вопросы. И переговоры с вами по полной форме вести я тоже не уполномочен. Видите ли, мне поручено лишь передать вам требование администрации. Я как бы передал, моё дело маленькое. Я не знаю ни про какого Козлоборода, и о каких человеках вы тут толкуете, я тоже не знаю и ничего не могу вам прокомментировать. Если вы уяснили наши требования, то, пожалуй, на этом мы и разойдёмся. Я не дипломат и не военный, я, видите ли, рентгенолог, врач в третьем поколении, а потому…
– Где Сам? – в упор спросил Ездра, не слушая.
– Кто? – снова не понял еврейчик.
– Сам где, я спрашиваю? – повторил Ездра. – Почему Сам не пришёл с нами, это, потолковать? Ты, Рафаилыч, так и передай своему, это, командованию: говорить мы будем только с Самим, а на рентгенологов и прочих проктологов нам время тратить несподручно. И в ответ на ваши требования мы двигаем свои. Первое: вы возвращаете оружие в оружейку и отправляетесь по своим рабочим местам. Второе: вы не препятствуете никому из наших бойцов, коли желающие найдутся, покинуть территорию заповедника, в смысле санатория. И третье: вы открываете женские корпуса и не препятствуете всем желающим из числа баб присоединиться к мужской части населения либо же двинуть за территорию. Вот так-то, Рафаилыч.
Рентгенолог отёр выступивший на лбу пот, пожевал губами, косясь на собеседника. Улыбнулся бледной и жалкой улыбкой. Нет, не дипломат, конечно, и не вояка ни разу. Еврей в третьем поколении.
– Вы же неглупый человек, Ездра, – мягко и устало-вежливо заговорил Исаак Рафаилович, – вы должны понимать, что без надлежащего лечения отдыхающие скоро не только утратят боеспособность, но некоторые могут утратить и облик человеческий и даже жизнь бренную. Я уполномочен администрацией, несмотря на сложившееся положение, обещать всем больным продолжение назначенного лечения. Мы готовы принять на своих позициях всех, кто намерен не прерывать курса лечения; в обычное время их будут ждать инъекции и пероральные лекарственные средства, а также все назначенные процедуры и обычный уход. Тем же, кто почему-либо опасается, мы готовы передать всё необходимое для самостоятельного приёма лечения или прислать санитаров.
– Ага, ага, – усмехнулся Ездра. – Вы передадите, конечно. И что станется с тем, кто проглотит переданное? Ась? Ты, Рафаилыч, вместе с администрацией своей за дураков нас держите? Чтобы мы, это, из рук врага принимали лечение? Нет, дорогой ты мой человек, тут я тебе прямо хочу указать на постигшее вас роковое заблуждение. Отныне и пока в руках ваших вместо кружки Эсмарха мы зрим автомат Калашникова, ни один наш боец не станет иметь с вами дела и говорить на другом языке, кроме как язык автоматных очередей, так и передай. И пока мы не увидим Самого, вот здесь же, где ты сейчас потеешь, хотя на улице и дубак, – должно, со страху, – никакого разговору у нас не получится. На этом хочу сказать тебе адью, мусью Рафаилыч и, как говорится, шолом тебе в алейхем.
И сказав так, Ездра с достоинством повернулся и двинулся к своим позициям. Дылда и Пузо остались стоять, зыркая на охрану вражеского переговорщика и стояли, пока Ездра не удалился шагов на двадцать, и рентгенолог не повернулся к ним сутулой спиной – уходить.
А через полчаса, как дошло до администрации всё сказанное Ездрой, как обдумали, видать, результаты переговоров, так и началось.
9
Бой был позиционный. Пойти в атаку белые не решились. По всем правилам провели артподготовку, забросав позиции отдыхающих гранатами из подствольников и пару раз ударив из миномёта, который на третьем разе разорвался, покалечив двух обслуживающих его санитаров и убив третьего, стоявшего аж метрах в десяти. Техника была старая, положенного обслуживания сроду не проводилось – отсюда и результат. В общем, артподготовку провели, но в атаку пойти так и не собрались. Что ни говори, а эскулап – не солдат, ходить в штыковую – не его спецификация, как прокомментировал Ездра, вселяя в бойцов бодрость.
Лежали и перестреливались, но перестреливались от души, без лени. Особенно же санитары не жалели боезапаса, поскольку арсенал оставался под их контролем. Попытка одного взвода наших пробиться к нему успехом не увенчалась.
Главным же средством борьбы на текущем этапе медперсонал счёл даже не подавляющий огонь на поражение, а идеологическую, пропагандистскую борьбу.
– Иона, сволочь такая! – кричал в мегафон главный врач. – Если у тебя язва прободает, я тебя своими руками удавлю, ты понял?
Молчун дал на голос короткую очередь.
– А ты, Антипод, – не унимался главный. – Ты в курсе, что будет с тобой после пропуска двух доз? В курсе? Выблюешь печень свою, но даже и собаки не станут жрать её, ибо гниль смрадная и черви.
– А я её тебе в пасть затолкаю, ты – сожрёшь, – пробормотал Антипод, вылавливая в прицел белый халат, что мелькал за мусорными баками. Хлёстко ударил выстрел. Белый халат нелепо вздрыгнул ногами и повалился в ближайшую лужу.
– Чукча охотник, – довольно произнёс Антипод, – белка стрелять, глаз попадать.
И тут же дёрнул головой, словно в порыве нахлынувшей скромности напрочь отказываясь от своих слов. Прыснули от его головы в сторону какие-то мелкие красные насекомые, испуганные мошки-блошки, осели на землю, на приклад снайперки, на лапищу лежащего рядом Молчуна. Молчун проводил сосредоточенным взглядом тело Антипода, что тяжёлым кулём повалилось на дно окопа, равнодушно отёр покрасневшую руку о штаны.
– Аккурат в лоб поцеловала, – констатировал Ездра. – Аккурат в третий глаз, в глаз, это, Шивы.
Нервно загоготал Дылда. Слюнтяй было подхватил сухой, как каракумский песок смех Дылды, разбавил его своим водянистым и по-бабски визгливым хохотком, но быстро сник под тяжёлым взглядом Молчуна.
Бой разворачивался не на шутку. Начавшись малой кровью и почти с мальчишеским задором, он, как в любой гражданской войне, постепенно приобретал характер остервенелый, затяжной, когда уже любой крови не кажется слишком много, а отдельные лица противника, которые ещё вчера были хорошо тебе знакомы и узнавались не без приятности, утрачивают человеческие черты и всякую индивидуальность, превращаясь в смазанное и безликое белесое пятно, глядя на которое ты знаешь и понимаешь только одно – это враг.
– Ездра, – надрывался мегафон голосом главного, – слышь, Ездра, ты там у них за главного? Ну так поторопись, родимый, начинай потихоньку сдавать полномочия – тебе жить осталось на раз пёрнуть. Попрощайся с личным составом, завернись в простынь и ползи в сторону отвала. Тапки белые не забудь.
– Складно чешет, – проворчал Дефлоратор, выискивая в прицел орущего главврача. – Где эта гнида прячется, не пойму.
– Нам бы артиллерию, – пожалел Тощий. – Хоть на пару-тройку бы снарядов. Хватило бы накрыть этого пентюха.
– А ты, Молчун, – переключился главный на следующего пациента. Молчун, услышав свой позывной, вздрогнул и матюкнулся сквозь зубы. – Ты-то знаешь ведь, что с тобой станет, а? Знаешь, Молчун, конечно, ты ведь один раз пропустил дозу. Слышь, Ездра, если Молчун останется без дозы, вам там всем мало не покажется. Умоетесь кровью.
– О чём он толкует? – оживился Слюнтяй, с опаской поглядывая на Молчуна. – Слышь, Молчун, о чём это он, а?
– Да почём я знаю, чего этот ушлый балаболит, – нехотя отозвался Молчун. – С панталыку сбивает, должно.
– Ты, Молчун, лучше честно скажи, чего нам от тебя ждать? – вступился и Тошнот.
– Прекращайте, – сурово оборвал Ездра. – Что, не понимаете, что враг пытается внести в наши ряды смуту, деморализовать, это, и ослабить дух? За Молчуна я лично ручаюсь. А если что, так я же его и кончу, как поручитель, прямо, это, в лобешник ему налажу, – и Ездра качнул стволом «калаша».
– Слюнтяй, – с ласковым смешком позвал главный. – Слюнтяйчик, у тебя там как сердчишко, ещё не заходится? Нет? Ну, ничего, ты подожди ещё часок-другой. Через часик к тебе Кондратий придёт. Ездра, вы этому хлюпику хотя бы курить не давайте, а то ведь он и Кондратия не дождётся без инъекции-то.
Главный, кажется, выдохся, замолчал ненадолго. Зато трескотня выстрелов усилилась, приобретая всё большее остервенение. Потом и выстрелы стихли. Время подкрадывалось к полднику. Обед уже провоевали. Белые, наверное, небольшими партиями покидали позиции, чтобы добежать до столовки, выпить полагающийся кефир с булочкой.
На осинах за складами вдруг заполошно закричали галки, застрекотали сороки, разорались так, будто сорочий бог объявил им немедленный конец света. Комьями падал с ветвей сбитый птицами тяжёлый снег.
– Не к добру это, – пробормотал Ездра. – Слышь, Молчун, твари божьи на людей гомонят. Я так располагаю, беляки нам в тыл, это, решили зайти. Давай-ка ты со своей базукой повертайся в ту сторону. И ты, Дылда, слышь, и ты тоже Тошнот. Слюнтяй, давай с ними. Чомба, возьми Антиподову снайперку и – туда же.
– Ты, Ездра, в будённые что ли записался? – сварливо окрысился Дылда. – В чапаи?
– Куда я записался – не твоего ума дело, – спокойно отозвался Ездра. – Тебя туда и посмертно не запишут, так что делай, что тебе велено, Дылдушка, или вали из окопа – и без тебя преодолеем.
Дылда скривил презрительно-насмешливую мину, пожевал губами, но дальше дерзить не решился, а послушно повернулся и шагнул к другой стороне окопа, уставился на осиновую заросль и даже руку козырьком поднёс ко лбу, шутовски изображая Илью Муромца.
И тут из осин явился – внезапно как-то, словно рос там, рос и вот, наконец, вырос – конь непонятной белесой масти, на котором подбоченясь сидел всадник в драной фуфайке и битом молью малахае с торчащими в стороны ушами.
– Это чего за конь, …? – изрёк Тошнот.
– Конь блед, – поправил Ездра.
Не сразу, но рассмотрели, что всадником был санаторский дурачок Чиполлино. В руках он держал горн и, кажется, пытался выдуть из него то ли резвую пионерскую «Зорьку», то ли скорбный «De profundis».
– Он за нас или за них? – раздумчиво бросил Чомба.
– Он за мир во всём мире, – ухмыльнулся Тошнот.
– Первый Ангел вострубил, – нараспев произнёс Иона, – и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
– Ишь ты! – поджал губы Дылда. – А может, этот – не первый?
– С остальными всё – ещё хуже, – покачал головой Ездра.
– Так чего, шмальнуть что ли? – вопросил Чомба, припадая к прицелу и разглядывая в него всадника.
– Нет! – подпрыгнул Ездра. – В ангелов не стреляют.
– Ещё как стреляют, – усмехнулся Дылда. – Ангелов-то и ставят к стенке в первую очередь.
– Вспомнил! – сумрачно улыбнулся Иона. – Вспомнил же… И ангел в белом, на взлёте снятый, роняя перья (иль клочья ваты?), рванётся криком по-над обрывом и рухнет в бездну комком бескрылым…
– Это ты к чему? – уставился на него Ездра.
Иона лишь пожал плечами. Откуда он знает, к чему это, зачем и почему. Почему именно так, а не иначе.
– Ангел в белом и с ватой в руках – это про них, что ли? – кивнул Дылда в сторону противника в белых халатах.
– Нет, клочья ваты – из моей фуфайки, – возразил Молчун.
– На ангела ты не тянешь, Молчун, – усмехнулся Дылда.
– Так ангел же – Чиполлино, – напомнил Тошнот.
– Запутали всё, – покачал головой Ездра. – Всё запутали и перепутали, глупни.
– Антипода убили, – слезливо пробубнил Слюнтяй, ещё десять минут тому назад смеявшийся над этой смертью. – А он мне семь сигарет должен был.
Снова донеслись неумелые сиплые звуки горна, в который, краснея от натуги, вдувал свою многострадальную душеньку Чиполлино. Коняга под ним тряско рысил в сторону вражеских окопов, прямо через линию фронта.
– Покайтеся! – крикнул он. – Во имя всех святых и грешных – покайтеся! И да будет праведникам жизнь собачья, а собакам – собачья смерть!
– Убьют дурака, – покривился Молчун.
Все притихли, ожидая, что вот сейчас гавкнет с той стороны «калаш» и повалится Чиполлино со своего буцефала в хлябкую грязь. Но та сторона молчала, словно понимая и разделяя с отдыхающими величие момента.
– Сейчас шарахнут, – произнёс Дылда, когда Чиполлино снова поднёс к губам мундштук горна и выдул хриплую зябкую ноту, будто призывая ту сторону и вправду «шарахнуть». Нота упала на землю и замерла мёртвой птицей с торчащим – в одну восьмую – хвостом.
Но та сторона и в этот раз промолчала.
– Ядрёно полено, – отчётливо проговорил Чиполлино, в наступившей громкой тишине достигая голосом в обе стороны от линии фронта, – труба не играет ни в какую. Хоть плачь.
И он действительно заплакал со всей возможной горечью, и голова его затряслась, так что уши малахая затрепетали. И были они как чудаковатые бессильные крылья этого неприкаянного ангела, давно разучившегося летать и забывшего, что́ такое седьмое небо. А может, он и не помнил, и не знал никогда.
Из-за бруствера на той стороне высунулась голова завхоза. Он что-то кричал, сложив руки у рта рупором и делал непонятную отмашку в сторону ангела. Видать, на той стороне тоже полагали и ждали, что в Чиполлино шмальнут с этой. Но вообще-то довольно глупо было бы так думать. Тем не менее, завхоз, презрев безопасность, высунулся уже по грудь и всё кричал что-то.
С нашей стороны грохнул выстрел. Фонтанчик грязи брызнул у самого плеча завхоза. Тот сердито показал отдыхающим кулак и скрылся в окопе.
– Плохо бьёт, шпала, – сердито покачал головой Андроид, дёргая затвор карабина образца бог весть какого года.
– Это глаз у тебя плохо бьёт, – усмехнулся Дылда.
Глаз у Андроида был один. Второй был когда-то выбит в пьяной студенческой драке собратом по филфаку. Закоренелый очкарик Андроид тогда преломил очки свои, снял дужку, подточил, подправил, приделал шнурок и получил вполне себе монокль, который и носил с тех пор.
Сейчас Андроид смерил Дылду презрительным взглядом своего единственного глаза, сплюнул и решил не удостаивать эту сухопарую язву ответом. Филологи и доктора наук – они такие. А Дылда – что такое Дылда? Так, быдло бесхозное.
А Чиполлино всё плакал, ничего не замечая и не слыша. Очень уж, видать, обидно ему стало. Конь блед стоял теперь смирно и, понуро повесив голову, смотрел в грязь, смирившись с отсутствием перспективы, да прядал ушами, прислушиваясь к сорочьему граю.
Антипода уволокли в конец окопа и там присадили на ящик патронов. Да так удачно присадили, что казалось, будто Антипод просто утомился немного, отошёл от позиций в сторонку – покурить в покое. Слюнтяй, вдохновлённый идиллической картиной, даже цибарку недокуренную вложил ему в губы, как символ отпущения всех долгов. Так и сидел Антипод, дымил цибаркой, будто живой, и посматривал на всё своим третьим глазом.
В разрыве ползущих туч вдруг вымелькнуло на мгновение солнце, скользнуло бледно-жёлтым оком по позициям и снова спряталось, не желая видеть всю эту мерзость. Тёмная, как санаторская будущность, туча заботливо укутала в себя зазябшее светило. А может, сожрала, сволочь такая.
А через минуту пошёл дождь, тяжёлый какой-то, смурной, липкий, сеющийся вкривь и вкось, будто спьяну. Он быстро засеял всё вокруг тоскливой безнадёгой, и сразу стало ясно, что война – она, всё-таки, большая гадость, как ни возьми.
Чертыхаясь и ругая дождь, Слюнтяй пытался раскурить очередную самокрутку, но едва у него появилась надежда на нужный исход этого дела, дождь тут же наподдал. Слюнтяй плюнул в сердцах и спрятал подмокшую козью ножку в карман.
От дамского корпуса донеслось пение. Женская половина отдыхающего общества, будучи не в силах помочь мужикам в окопе, решила хотя бы так – морально – поддержать их. Неуверенно начатая «Лучинушка» оборвалась на полуслове и сменилась гордым «Варягом». И с этого момента песня гремела почти непрерывно – дойдя до конца, она делала полный поворот кругом, возвращалась к началу и снова: наверх вы, товарищи, все по местам!
Минут через десять та сторона попыталась подавить воспрянувшее единство: из громкоговорителя на столбе полилась традиционная Рахманиновская прелюдия номер пять – видимо, любимый опус Самого. Два этих столь разноплановых произведения сливались под косым дождём воедино, являя собою вечное диалектическое единство и борьбу противоположностей.
И тогда белые пошли в атаку. Жахнул со стороны столовки гранатомёт. Брызнули свинцом сразу несколько стволов. Полетели, звеня, стёкла; пули, чмокая и щёлкая, выводя невнятные вензеля, расковыряли салатово-белую штукатурку, затихли в толще, остывая, медленно отходя в сонную вечность.
10
И тут Иона проснулся.
– Выспался? – улыбнулся навстречу его пробуждению Антипод, дымя цибаркой.
– Кажется, – пробормотал Иона протирая глаза.
– Хлебнёшь? – вопросил Козлобород, протягивая пластиковую бутылку, в которой что-то плескалось.
– Тебя же убили, Козлобород, – сказал Иона, принимая бутылку и отхлёбывая. Он уже готов был сморщиться от спиртовой горечи, но в бутылке оказался вишнёвый кисель из концентрата – не кисель даже, – не сваренный, а просто разбавленный водой порошок. – И тебя тоже убили, Антипод, зря ты лыбишься.
– Крепко же тебя придавило, – усмехнулся Козлобород.
– Долго жить будете, – бросил «убитым» Чомба, сидевший тут же за чисткой «калаша».
Иона глотнул ещё из бутылки. Кисель облепил нёбо и зубы нехорошей кислой плёнкой. Захотелось сплюнуть. Он сунул бутылку Козлобороду и принялся озираться по сторонам.
Над территорией стелился рваным застиранным покрывалом то ли туман, то ли дым. В стороне горело что-то, догорало, и тошнотворно тянуло оттуда палёной резиной. Чёрными пятнами застыли на не стаявших лужах снега чёрные вороньи трупы. Одна из ворон, не окончательно превращённая в труп, но лишь в половину его, орала и трепыхалась в грязи, пытаясь подняться на крыло, оставшееся у неё в единственном числе. Вдалеке, за хозблоками выла собака – или Мохнатый, или Жук. Два яростных зоофила, не упускавшие возможности пристроиться к побратиму сзади.
– Что, атака сорвалась у них? – спросил Иона.
– Атака? – Козлобород отхлебнул из бутылки, крякнул. – Да, вроде, не ходили ещё.
– А Чиполлино? – спохватился Иона. – Чиполлино живой?
– Как это? – покривился Чомба. – Ты, дружбан, просыпайся давай. Чиполлино уж два месяца как положили. На перевале.
Рассыпался мелким дробным смешком Слюнтяй, с задорной едкостью поглядывая на Иону.
Иона попытался вспомнить перевал и когда это было. Дурацкая, замутнённая коротким пересыпом после двух суток без сна память выворачивала всё шиворот-навыворот, и не понять было, есть ли что-то общее между Козлобородом, Чиполлино и перевалом. Перевал, вроде, был до санатория, в какой-то другой, прежней, жизни. И в той жизни не было ни Козлоборода, ни Чиполлино. Или были? Ошмётки воспоминаний метались под черепом, как вспугнутые выстрелом птицы, кричали, граяли, каркали, свиристели, ухали, мать их, и только ещё больше сбивали одурманенную память с толку.
Да, точно, перевал – был. А Чиполлино – не было. А если был Чиполлино, то… то, значит, не было перевала?
Тут вдруг отчётливо вспомнилось: «Уралы», застывшие на узком серпантине, разрывы фугасов, треск автоматных очередей, чей-то крик рядом. Иона повернул голову, чтобы увидеть, кто кричит. Но увидеть почему-то не получалось. Голос был знакомый, но определить его принадлежность тоже не выходило.
Иона замотал головой. «Ты никогда не был ни на какой войне, – сказал он себе. – Какой к чёрту перевал, какие «Уралы» и фугасы?.. Или был?.. Был, конечно, был. На том перевале остались Иштван – весёлый хохловенгр из Прикарпатья, братка Козлобород, Молчун, Кундри… Стоп… Какая Кундри? Кундри-то здесь при чём?»
И тут ухнуло совсем рядом. И Иона проснулся.
11
Белые приближались короткими перебежками, залегали, плевались автоматными очередями, кричали что-то, поднимались и снова – бегом. Разрыв брошенной с той стороны гранаты превратил Дылду в шпигованного зайца с непонятным скошенным на сторону лицом. Заяц был худой и жилистый, вид имел неаппетитный, рваный какой-то, поломанный. Чуть подальше корчился и орал Слюнтяй, прижимая к животу остатки руки. Орал, пока залетевшая с той стороны жужжащая красная муха не уселась на голове его, возле самой скулы. Слюнтяй немного ещё похрипел тягостно, замерзая взглядом, уставившимся на тучи, и с облегчением отошёл.
Справа зарокотала Молчунова «базука» – старенький «РПК».
Иона выловил в прицел белое пятно, присевшее за опрокинутым мусорным баком, жахнул по нему. Пятно не исчезло. Иона сделал ещё выстрел. Потом прицелился получше и саданул в третий раз. Пятно неподвижно маячило на том же месте, как навязчивая галлюцинация. Иона даже глаза протёр и всматривался до слезы, пытаясь понять, человек это в белом халате скорчился за баком или просто что-то белесое брошено там. Но зрение отказывалось конкретизировать. Труп это был, наверное, вот что.
Откуда-то от водонапорной башни хлестнул одиночный выстрел. Слышно его было хорошо, потому что звук пришёл сверху. Иона посмотрел в ту сторону. Башня торчала на окраине, за женскими корпусами, на территории, которая сейчас была ничейной и лежала в стороне от линии фронта.
Иона ещё и глаз не отвёл, а оттуда прилетел звук нового выстрела.
– Снайпер бьёт, – определил Дефлоратор и растерянно поскрёб заросший щетиной квадратный подбородок.
– Только по ком? – задался вопросом Тощий.
– Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, – заржал Чомба.
– По ним, – Ездра кивнул в сторону противника.
И он был прав, потому что белые тут же саданули по башне с нескольких стволов, а кто-то ещё и шарахнул из гранатомёта.
– Ишь, как осерчали, – усмехнулся Ездра. Должно, Вильгельм этот Телль прижмурил у них одного-двух.
– Из наших в той стороне никого нет, – сказал Дефлоратор, кивнув на башню. – У них в рядах измена, что ли? Хорошо бы.
– Разберёмся, – Харя-Кришна выпустил клуб самокруточного дыма. – Главное, что не по нам бьёт меткострел, а по ним.
Белые медленно приближались. Суетливо забрасывали наши позиции гранатами, которые, однако не доставляли особых хлопот, поскольку бросались неумелыми руками.
– Уж не в рукопашную ли собрались эскулапы? – предположил Андроид.
– Это их ошибка, – ухмыльнулся Харя-Кришна. – У нас и бойцы для такого дела попригоднее и численный перевес имеется.
– Командование у них дурни, – добавил Дефлоратор, – вот и весь сказ.
– Погля́, – заржал Пузо, – они в перчатках, вояки.
И действительно, если присмотреться, можно было различить на многих руках обычные медицинские перчатки. А на шее терапевта якобы разглядели даже стетоскоп. Но то была, скорей, шутка – ведь это ж надо совсем быть идиотом, чтобы в такой амуниции идти в бой, а в терапевте Поливанове ничего не было ни идиотского, ни клоунского. Так что, в общем, это шутка была.
Подпустив белых до столовской линии, Ездра вдруг скомандовал атаку.
Поднялись резво и с готовностью. Белые дали рассеянный залп. Повалился Дефлоратор – фуфайка на груди у него взлохматилась, будто по ней провели граблями. Снесло половину черепа Клопомору, так что и опознать его нельзя было бы после боя. Молчуну перебило колено и он повалился обратно в окоп, исторгая вечное своё молчание в злостной хуле небесам.
Те, кого не положили на подъёме, с рёвом ринулись в рукопашную, готовые раздавить, смять, растерзать, воздеть на штыки. И ведь смяли бы, вне всякого сомнения растерзали бы этих хилых интеллигентишек, которые сроду не держали в руках ничего тяжелей спринцовки и ничего же страшней скальпеля. Раздавили бы их как попавший под ногу помидор, если бы не санитары, среди которых была пара-тройка весьма дюжих.
Иона, вдруг оказавшийся в самом центре бурлящей, как забытый на плите суп, заварухи, отмахнулся от чьёго-то штыка, врубил кому-то прикладом и отошёл в сторонку, чтобы согнуться там, исходя желчной рвотой.
Металась в толпе дерущихся смерть, плясала, кривлялась и била в бубен, как сумасшедшая шаманка. Мелькали над полем битвы, подобно валькириям, вороны. Воины кричали, разрывая животы, матерились, загоняя в горла штык-ножи, хакали, дробя прикладом вражеский лоб. Издавая неожиданно по-бабски визгливый боевой клич, махал невесть откуда взявшейся саблей Виннету. Выползал из битвы на коленях Тошнот, волоча за собой красную гирлянду кишок. Дрыгался на земле Чомба, тяжело и неохотно прощаясь с жизнью, зажимая ладонью дырку на груди, будто надеясь перекрыть дорогу душе, что рвалась отлететь. Но душа, как вода, которая всегда найдёт себе дорогу, прорвалась через глотку и вышла из разверстого в последнем стоне рта, и так и остался лежать Чомба с раскрытым широко ртом. Валялся неподалёку с перерезанным горлом еврей в третьем поколении Исаак Рафаилович Фельдман. Здоровенный детина-санитар, известный под позывным Бугай, сидел в грязи и смотрел удивлённо на отрубленную шуйцу свою, которую держал в деснице. Видать, мозговал, смогут ли её пришить здесь, в санатории, или придётся ехать в область, а то и куда подальше. Пришлось– куда подальше: Пузо походя ткнул его штыком под затылок, из милосердия, должно, а может, в отличие от санитара, не питал никаких надежд на способности отечественной медицины.
И посреди всего этого месива и варева метался конь блед, на котором трубил в свой горн Чиполлино.
А потом вдруг пронёсся над битвой истошный вопль: «Га-а-зы-ы-ы!»
Белые организованно дёрнули из подсумков заготовленные противогазы, натянули на бледные лица большеглазые маски, и тут же схлынули, отошли от рукопашной, залегли, изготовившись к стрельбе. Наши, не подготовленные к химической атаке совершенно никак, заметались, заорали, засуетились и вдруг бросились врассыпную, видя, как наползает с подветренной стороны жёлто-белесое облако смерти. Как ни пытались Ездра и Сто-Метров-Кролем придать хотя бы вид организованного отступления этому бесславному бегству, ничего не получилось. Недавние солдаты превращались в растерянное стадо и бежали, бежали. Бежали к админкорпусу в надежде добраться до оружейки, до спасительных комплектов химзащиты. У подвала их ждал второй, никем раньше не виденный, вэвэшник с пулемётом и четверо санитаров с «калашами». Желающим получить противогаз предлагалось для начала разоружиться и сдаться в плен. Харя-Кришна попытался было вернуть в ряды дисциплину и повести бойцов за собой в последнюю атаку, но вэвэшник предусмотрительно саданул по нему из пулемёта, переломил командира пополам.
12
– Ну, вот и всё, – устало сказал Ездра, проводив глазами бегущее воинство и усаживаясь на пустой ящик от патронов. – Конец, – добавил он, обозрев поле битвы.
Иона, сплёвывая горечь изжоги, подошёл, взял его за плечо, заставляя подняться.
– Уходить надо, – сказал он, кивнув на подползающее газовое облако.
Ездра равнодушно поднялся, и они побрели, выходя из-под ветра, в сторону женских корпусов. За ними шёл, пятясь, прикрывая спину главнокомандующего, Виннету с окровавленной саблей. С той стороны хлопнул выстрел. Виннету дёрнулся, приняв на грудь несколько граммов смерти, но даже и не думал повалиться, тем самым вынуждая врага сделать ещё выстрел. И ещё. Стреляли почему-то именно в Виннету – а ни в Ездру, ни в Иону не целили. Видать, глубоко обидел кого-то индеец во время рукопашной, и мститель никак не хотел простить ему этой обиды. И дал четвёртый выстрел. Но ещё с минуту не могло дойти до буйной головушки Виннету, что он убит, и краснокожий продолжал отступать, шатаясь, как пьяный, но держа наготове саблю. А потом вдруг стукнуло ему в голову: «Да я ж, кажись, убит, ёж твою…» и повалился безбашенный индеец красной своею мордою в грязь. И тут же снежная пыль деловито принялась покрывать его спину в подпалённой фуфайке, словно заранее приготовленным саваном.
Иона с Ездрой затерялись меж женских корпусов, уходя от всё расширяющегося газового облака. Когда повернули к водонапорной башне, навстречу им шагнул из-за угла давешний Вильгельм Телль. Это была Кундри. На плече у неё висела снайперская винтовка с перемотанным ветошью прикладом. Кровавая ссадина на щеке.
– Надо уходить за территорию, – сказала она.
– Кто бы не знал, – меланхолично отозвался Ездра. – Ясное дело, что надо. Только – как?
– Через канализацию, конечно, – сказала амазонка, поправляя винтовку. – Я проведу.
Ни Ездра, ни Иона не задавались вопросом, какая может быть в санатории канализация и почему она должна вести непременно за территорию, послушно пошагали за Кундри.
Обогнув корпус №3, забирая всё время в сторону от ветра, она повела их к продмедскладу, где всё так же торчал «Уазик» и толклись возле него трое белохалатников. Так вот почему рванули они туда сразу в начале боевых действий! Значит, не суматохой и не желанием предотвратить грабёж спирта объяснялась эта странная экспедиция.
Когда они вышли на финишную прямую, белохалатники схватились было за оружие, но предупредительный выстрел снайперки отбил у них всякое желание сопротивляться, тем более, что тройка отдыхающих была готова к боестолкновению и держала стволы наготове, а им понадобилось бы перевести автоматы из-за спины в боевое положение. Чёрт ведь знает, дадут нападающие им время на это – скорей всего, нет.
Подойдя, белохалатников разоружили.
– Зря вы это, – сказал один из них – худенький сморчок, метр с кепкой – окулист, который всегда так смешно подпрыгивал, стоя у своей таблицы с указкой и тыча ею в буквы, и сердился, если называли неправильно. – Останемся без спирта – не будет инъекций.
– Ну, этой-то я и без спирта инъекцию могу сделать, – похабно ухмыльнулся хамовитый санитар Ермолаев, подразумевая Кундри. – И шприц у меня всегда наготове.
Та, ни слова не говоря, небрежно двинула его прикладом как раз в этот самый шприц, так что Ермолаев сложился пополам и спешно присел на корточки, краснея лицом и натужно матерясь. Окулист осуждающе покачал головой, причём осуждение его явно относилось к санитару.
– Что вы намерены делать? – спросил он у Ездры.
– Для начала я отстрелю задницу каждому, кто будет бежать слишком медленно, – ответила вместо Ездры Кундри.
– Куда бежать? – не понял окулист.
– К своим, – бросила та, поднимая винтовку.
Два раза объяснять не пришлось: окулист и за ним другой санитар рванули в сторону админкорпуса. Подбитый Ермолаев тоже быстро пришёл в себя и показал всю прыть, на какую только был способен после пережитой травмы. Проводив их взглядом, Кундри пошла вдоль склада, завернула за пристройку-холодильник. Там, всеми забытый (а может, никому и не известный) ржавел канализационный люк.
Из громкоговорителя полилась, растекаясь над территорией, примешиваясь к падающему снегу, традиционная рахманиновская прелюдия.
– Победу празднуют, – криво ухмыльнулся Ездра. – Радуются, это, ироды. – И Кундри: – Это где ж ты, деваха, так пулять научилась?
– Где учили, там и научилась, – скупо улыбнулась Кундри.
Ездра покивал головой, пробурчал что-то.
Стали корячиться поднять крышку. Когда подняли, пахнуло из тёмной глубины таким смрадом, что головы у всех троих закружились, а Кундри едва не вывернуло тут же.
– Сто́ит ли? – задумчиво произнёс Иона, заглядывая в вонючий мрак. Голос его провалился в глухую бездну и растаял в ней – сошёл с ума, задохнулся, умер от десятилетиями копившихся в ней газов.
– Другой дороги нет, – сказала Кундри, опустилась на край люка, свесила ноги во тьму. И штаны на ней сразу стали волглыми от поднимавшихся снизу удушливых испарений.
И хорошо, что не успели они спуститься в эту клоаку, потому что наверняка и сгинули бы в ней, и никто бы даже не узнал, где похоронены их белые кости. Так что можно сказать, что спасли их белохалатники, явившиеся на крыше склада, от верной смерти. Но не всех спасли, потому что когда заорали белые с крыши, Кундри, словно только этого и ждала, оттолкнулась от края люка и ухнула в вонючую тьму колодца. Только её и видели.
13
Их завели в админкорпус. Они ни разу здесь не были, поэтому во все глаза смотрели по сторонам – на облезлый линолеум, крашеные в зелёный цвет стены, на банкетки вдоль стен, на строгие двери кабинетов, на буфет, мимо которого их провели и откуда так тягуче пахло кофе и булочками. Ездру толкнули в сторону, потащили куда-то, а Иону, даже не дав проститься с боевым товарищем, повели дальше в сопровождении главврача и двух охранников-санитаров.
Поднялись на второй этаж, а потом и на третий. Миновали актовый зал, в котором кто-то неумело бренчал на пианино, прошли мимо бильярдного стола в просторном фойе, свернули в широкий коридор и замерли перед величественной дверью.
Главврач потянул ручку, открыл, ступил внутрь. Послышались голоса, обменявшиеся парой реплик. Снова появился главный, кивнул: заводи. Охранник стволом автомата подтолкнул Иону, и тот вошёл в просторный кабинет, пропахший хорошим табаком, всё тем же кофе (только уже, кажется, с коньяком) и кожаной мебелью.
Со стены задумчиво и строго смотрел в душу Сергей Васильевич Рахманинов. Целый стеллаж под портретом был уставлен пластинками, компакт-дисками, магнитофонными кассетами и древними бобинами. Иона не сомневался, что всё это – пятая прелюдия в разных исполнениях. Противоположная стена была занята картой звёздного неба. Одно созвездие, образующее подобие корявой буквы «М» кто-то жирно выделил красным фломастером. Иона сморщился, пытаясь вспомнить название этого созвездия, но не смог.
За столом сидел Сам. Сидел и с любопытством смотрел на Иону. И ничегошеньки в нём не было мифического, потустороннего, легендарного – ну ничего. Маленький, сухонький, лысенький, с острой бородкой, с добрыми лучистыми глазами.
По мановению его руки главврач и охрана, топоча, покинули кабинет.
– Ну, здравствуй, Иона, – сказал Сам.
Он мило и забавно картавил: «здъавствуй». Голос у него тоже был сухонький, дряблый, невзрачный, совсем не подходящий для директора целого санатория. Подслеповатые глазки созерцали пленника – без неприязни, без излишней серьёзности, которая, в общем-то, подошла бы к случаю, и, что самое обидное – без всякого интереса.
– Ну, здравствуй, Сам, – в тон отвечал Иона. И даже скартавил так же.
Губы Самого перекосила беглая усмешка, он, кажется, едва удержался от весёлого смешка, проглотил его в самый последний момент, чтобы не развеивать ощущения серьёзности момента.
– Ну что, Иона, опять бедокуришь? – вопросил Сам, выждав минуту-другую.
– Это ты о чём?
– Буянишь, говорю, опять? Мы же договаривались с тобой, что будешь вести себя тихо и неприметно, не станешь баламутить других психов.
– Каких психов? – нахмурился Иона. – Или ты своих лекарей имеешь в виду? Так это точно – психи.
– С кем поведёшься, – улыбнулся Сам. – Говорят, все психиатры немного того.
– А что, у нас в санатории и психиатры есть?
– У вас в санатории? – на этот раз Сам не выдержал, рассмеялся.
– Иона, Иона… – с горечью произнёс он, когда смеяться надоело. – Нет тебе выхода из чрева кита, в которое упаковал тебя твой бог? И ты, бедный, сидишь во мраке зловонного брюха, задыхаешься, утрачиваешь последние проблески разума, теряешь облик человеческий, и скоро, наверное, сдохнешь… Нет никакого санатория, Иона, – улыбнулся Сам. – Это всё твои болезненные видения и бредовые фантазии. Глюки, попросту говоря. Ты же псих и наркот, Иона. Конченый. С самой войны, если поверить, что ты был на какой-нибудь войне, а не сбрендил в период постпубертатного своего кризиса личности. Теперь вот ломка у тебя. И делириум почти. Только без тременса, – губы Самого тронула усмешка. – Нет никакого санатория, а есть – психушка. Вспоминай, Иона, вспомни наш последний разговор.
– Врёшь, – замотал головой Иона, не желая верить в сказанное. – Врёшь, сучок. Это тебя – нет, потому что никто никогда тебя не видел.
– Ну ты это… – дёрнул щекой Сам. – Ты не груби, милейший. Сучок… ишь ты. Кто тут из нас двоих сучок, это тебе главный врач объяснит. На ближайшей процедуре. Но в одном ты прав, Иона: меня тоже нет. Ничего нет. Есть только твоё безумие.
– Нет, – стоял на своём Иона. – Врёшь ты всё. Я не наркот и не чокнутый, я – язвенник.
– Ага, и трезвенник, – рассмеялся Сам. И такой у него заливистый и простодушный получился смех, и так он при этом весело хлопнул себя по колену, что где-то внутри души своей скорбной Иона готов был ему поверить.
– Нет никакого санатория, – повторил Сам. – Есть лечебница для наркотов, алкашей и психов вроде тебя, Дылды этого вашего, Тошнота… тьфу! прости, господи, что за погоняла у вас…
– За что вы Козлоборода убили? – оборвал Иона.
– А? – Сам снова дёрнул щекой – тик, наверное. – Кого убили? Да ты совсем того… с колеи съехал, милейший.
– Если я съехал, так зови сюда Козлоборода, – вцепился Иона взглядом в приторно добродушное лицо Самого. – Пусть он подтвердит. Слабо?
– Ага, сейчас и позову, – усмехнулся Сам. – Давай ты мне ещё командовать тут будешь. Козлобородом ты бредил с самого поступления сюда, пока не посадили тебя на нейролептики и не наступила ремиссия. Я так понял, был у тебя на небывалой войнушке дружок с таким… с таким позывным. Его убили в каком-то будто бы бою, когда вас зажали на несуществующем перевале. Припоминаешь? Нет? А ты напряги, напряги перловку в голове. Это твоя постоянная фантазия, значимая, сильный твой раздражитель, Иона, так что за здорово живёшь забыть её ты не мог.
Ионе не надо было напрягать «перловку», чтобы вспомнить эти свои тошнотные сны с горящими «Уралами», киселём в пластиковой бутылке и улыбающимся Козлобородом – улыбающимся за минуту до того, как пулемётная очередь наложила на его спину аккуратный стежок…
– То-то же… – сказал Сам, понаблюдав выражение лица Ионы.
– Всё равно я уйду отсюда. Мы уйдём.
Сам улыбнулся отеческой улыбкой.
– Вы, дорогой мой Иона, все до единого сидите у нас под колпаком. Понимаешь? Администрация знала, что за контингент «отдыхает» в стенах, как ты говоришь, санатория, и принимала некоторые меры на будущее. Назови меня жестоким, но я бы назвал меня дальновидным: каждому из вас, каждому, Иона, всем до единого, наравне с профильным лечением основного заболевания давались препараты несколько иного направления. Все эти препараты во-первых, вызывают привыкание, и во-вторых, они… несколько… как бы тебе это сказать, чтобы сильно не огорчить… они несколько видоизменяют и подгоняют под себя психосоматику пациента.
– Твари! – не сдержался Иона.
Сам улыбнулся, развёл руками.
– Ну, ты уж, Иона, сразу прям так вот… Все мы твари, Иона, все. И мы, и вы, и все другие – все твари божьи, и в этом смысле мало чем отличаемся от любой другой твари. Разве что нас господь якобы возлюбил, непонятно за что, и возвысил, а в остальном прочем разве мы чем-то отличаемся от блох, хорьков, волков или глистов? Жрём всё, что шевелится, боремся за выживание, по-возможности гадим всем, кто не согласен с нашей жизнью и точно так же гадит нам, заискиваем перед хозяином, совокупляемся и снова жрём…
– Твари, – повторил Иона уже спокойно. – Но газом живых людей травить, как крыс – это что такое? Больных людей травить газом!
– Каким газом? – сморгнул Сам.
– Откуда я знаю, каким. Который пускали.
Сам посмотрел на Иону как будто с глубоким сожалением.
– Как далеко оторвался ты от реальности, дружок, – покачал он головой. – Санаторий, газ, убитый Козлобород… Непоправимо далеко. Жаль.
– Пожалел волк кобылу…
– Кофею хочешь?
– С метемпсихозолом? – усмехнулся Иона.
– Нет, с коньяком, – не уловил Сам. Потом резко поднял голову, уставился на Иону вопросительно: – Как ты сказал?
– Угадал, да?
– Метемпсихозолом? Ты это вычитал где или сам придумал?
Иона пожал плечами. Он начал уставать от дурацкого разговора, вдобавок снова распалялся желудок, которому давно пора было поесть и принять таблетку.
И тут Сам произнёс тихо и неторопливо, нараспев:
И смотрят жадно из тьмы и мрака, как две луны, два пустые зрака, и чьи-то руки в озябшем сердце ключ повернут и откроют дверцу. За этой дверцей я прячу душу — в одну восьмую всемирной суши, в одну двадцатую океана — неизлечимую мою рану. И эти руки души коснутся… Эх, тут бы взять бы мне и проснуться! Но снова, снова ползу на брюхе туда, где склепы – пусты и глухи.– Ты тоже их знаешь?! – опешил Иона. – Откуда? И знаешь, что́ в конце?
– В конце? – Сам воззрился на Иону, задумчиво шевеля губами. – В каком конце, дружок? Нету у безумия начала, нету у безумия конца. А вот ты задумайся лучше, откуда я эту белиберду знаю.
– Что ты с нами сделаешь? – спросил Иона.
– С кем – с вами? – дёрнул головой Сам.
– Со мной, с Ездрой. Вот только Кундри тебе уже не достать, Сам – тут тебе облом выходит.
– О господи… – покачал головой Сам. – А они-то тут при чём? Ты их породил, ты их и убьёшь. И Кундри – тоже.
– Не понял, – мотнул головой Иона.
– А что тут непонятного, – пожал плечами Сам. – Нет никакого Кундри и Ездры никакой нет. Где они? – Сам шутовски стал озираться по сторонам, заглянул под стол. – Алло, Кундри, Ездра, а ну вылезайте! Вылезайте, сволочи такие, из головы бедного Ионушки!
– Скот, – небрежно бросил Иона. – Ездру оставили там, внизу, на первом этаже. А Кундри – тю-тю! – добавил он с нескрываемым злорадством.
Сам с выражением скуки на лице подпёр голову руками, посидел молча, задумчиво разглядывая Иону.
– Устал я от вас, психи, – произнёс он с неизбывной печалью. – Как вы мне все надоели! Ну не ту я специализацию выбрал, не ту, да. И что, должен теперь мучиться до скончания века? Ведь говорил мне батюшка: не ходи, Володя, в психиатры, не надо, иди в ортопеды, продолжай династию. Не послушал. Возомнил себя чёрт знает кем, Ганнушкиным, Крепелиным, Бехтеревым…
Он нажал кнопку в столе. Дверь открылась, явился главврач и два те же охранника.
14
Иона с Ездрой сидели в тиши и тьме кладовой, приспособленной под камеру временного содержания.
– Когда я его видел, он был другой, – сказал Ездра после того как Иона описал ему свою аудиенцию.
– Видел? Его же никто и никогда…
– Видел, видел, – хитро улыбнулся Ездра. – Единождый раз, лет пятнадцать тому, ещё до всяких, это, санаториев. Он уже тогда в карательной психиатрии трудился в поте лица своего. Вот и говорю, это, другой он был, не такой, как ты расписал. Ну, да оно и понятно: моложе он тогда был лет на пятнадцать. Бороды, это, не носил, точно помню. Стареет, ирод кочерыжечный, хиреет на непростой государевой службе.
– Почему – государевой? Это же не учреждение.
– Ещё как учреждение, – звонким шёпотом возразил Ездра. – Для консервации и постепенного уничтожения неугодных. Мы тут все, это, неугодные, понимаешь? – прошептал Ездра.
– Кому? – не понял Иона.
– Режиму, кому же ещё, – усмехнулся Ездра. – Нас тут гнобят по-тихому. Уничтожают, это, психически, а если повезёт, так и физически. Держат на всякой дряни – наркота, нейролептики, психотропы, или что там ещё у них в науках открыто.
– Я с режимом вообще никак… никогда, – недоумённо поднял брови Иона.
– Это тебе так сейчас кажется, здесь, в изменённой реальности. Глюки бывают у тебя?
– Глюки?
– Ну, там, минные поля, к примеру, виселицы, диковинные города, ещё что-нибудь, не знаю.
– Война… – вздрогнул Иона. – Война вспоминается. Только я не помню, был я на самом деле на войне или не был. Иногда помнится, что был. В плену был. А иногда понимаю умом, что не был я ни на какой войне, какой там к собакам плен. Я же бомжом был. Из трамвая.
– Ну вот, – довольно кивнул Ездра. – Вот, видишь. Это, стало быть, тебе уже сломали память, историю твою переписывают потихоньку, смешивают реальности. Можешь быть уверен, друг ситный, что не был ты никогда, это, бомжом. Да и на войне не был – какой из тебя вояка. Видел я, как ты палил, это, нынче в белый свет, как… Хотя тоже не факт, что это не следствие обработки. Если они память могут сломать, то, может, им, это, и былые навыки – раз плюнуть.
– Бред какой-то, – недоверчиво мотнул головой Иона. – Что-то не клеится, Ездра.
– Это, паря, смотря каким клеем клеить.
– То есть, ты хочешь сказать, что на самом деле нас нет? Так, что ли?
– Есть, куда же мы денемся, – покачал головой Ездра, досадуя на непроходимую Ионову тупость. – Мы-то как раз – есть. А нету тех, кем мы, это, были. По-настоящему. Есть Ездра, Иона, Дылда – нелюди, без прошлого, без будущего, это, без ничего. Ну, прочухал?
– Нет, – замотал головой Иона. – Нет, всё равно не клеится. Это мне Сам примерно то же самое говорил. Нет, говорит, никакого санатория…
– Сам? – опешил Ездра. – Так и сказал?
– Так и сказал. Это, говорит, глюк, а ты сам, говорит, наркот и псих.
– Хитро!
– Ты ведь видел План, Ездра? – спросил Иона.
– План-то? – прищурился Ездра. – План…
– Что там, Ездра?
– Да ничего.
– Что там?! – Иона схватил его за грудки и затряс, вытряхивая правду, припрятанную за душой, да и саму душу готовый вытрясти, если понадобится.
– Да ничего там, говорю же, – неожиданно отрезал Ездра, сдёргивая с себя Ионины руки. – Ничегошеньки. Нет никакого плана, парень, вот так-то. Чистый лист. Карт, стало быть, бланш.
– Как это? – поник Иона.
– Да так это, – огрызнулся Ездра, оправляя фуфайку. – Разворачиваю я эту портянку, она размером с теннисный стол, а там – ничего. Один только, это, заголовок: «План санатория „Лета“». Я уж и так рассматривал и этак, думал, может, постёрлось или засекречено как-нибудь. Ничего. И не было никогда. Чисто. Табула, это, раса и карт бланш, вот так-то.
– Лето…
– Ну да. Лета.
– Знаешь, что сказал мне Сам? Сказал, что вас нет – ни тебя, ни Кундри. Вы есть только в моей голове.
– Хотел бы я, чтобы это оказалось правдой, – усмехнулся Ездра.– Да только вряд ли так карта ляжет.
– Знаешь, иногда я сам сомневаюсь во всём, – сказал Иона. – Начинаю думать и перестаю понимать, где правда, а где вымысел. Глюки, как говорит Сам.
– А вот задумываться-то, паря, и не надо, – кивнул Ездра. – Не надо задумываться. Если начнёшь задумываться, как тот баран, то тут тебе, это, и конец. На то у них и расчёт, чтобы заставить тебя сомневаться. Где, это, начинается сомнение, там и конец тебе. Нет, ты живи так, будто всё путём, всё нормально вписывается в обыденность твоей жизни. Что бы ни случилось, – всё путём, говори себе, ничего, это, особенного не происходит, и баста. А если начнёшь сравнивать, это, анализировать да прикидывать, бывает так на самом деле или не бывает, – добра не жди. Поедешь крышей, никто тебе не поможет. А им того и надо, чтобы поехал, для того нас тут и мурыжат.
– Не понимаю, Ездра, ничего не понимаю, – Иона потёр лицо ладонями.
– Самое позднее на рассвете нас уконтрапупят, – сказал Ездра. – Наширяют какой-нибудь дрянью так, что ни тяти, ни мамы не вспомним. Это как стопарь принять. Так что бежать надо, паря.
– Как и куда бежать?
– Неважно, – мотнул головой Ездра. – Отсюда. Туда.
– Ты же знаешь, это невозможно.
– А что в этом мире вообще возможно, кроме невозможного? – усмехнулся Ездра.
Дверь открылась. На пороге возник главврач. За его спиной лыбились охранники. Пленные уставились на вошедших, недоумевая, чего им ещё понадобилось.
– Выходи, – велел главный.
– Кто? – спросил Ездра.
– Оба.
– Куда? – поинтересовался Иона.
– На процедуры, дружок, – усмехнулся главный, – на процедурки, процедурочки, – и повёл стволом автомата для ясности.
Ездра, закряхтев, поднялся.
– Не пойду, – сказал Иона. Ему вдруг стало страшно. Он не был сейчас готов ни к смерти, ни к пыткам, ни к инъекции какой-нибудь дряни, после которой он закатит глаза под лоб и начнёт пускать слюни, медленно, но верно становясь растением.
Ездра покосился на него неодобрительно, покачал головой.
– Не срамотись, – сказал. – Идём. Хуже чем есть, всё равно не будет.
– Здравая речь, – усмехнулся главный. – Давай, Иона, будь мужиком. Тебе ведь по-любому придётся с нами пойти, разница только в плюс-минус боли и обиде. Ты же, вроде, только псих и язвенник, но не мазохист, нет?
Иона тяжело поднялся.
15
Их вывели на улицу, где снежная крупа опять сменилась дождём. Обойдя админкорпус, повернули к медкорпусу, к тому, крайнему, у самого склада, в котором, говорят, располагались физиокабинеты до того, как под них построили новое здание. Потом, вроде, прежний корпус забросили и использовали под старую медтехнику. Но ходили и слухи, будто там устроили что-то вроде публичного дома для медперсонала и водили туда из женского корпуса тех, что по-податливей и готовы за укол хмари, стакан спирта с настоящим бифштексом и послабление режима наплевать на свою бабскую честь.
Иона подставил дождю лицо, шёл задрав голову, рискуя завалиться в грязь. Ездра ухмылялся каким-то своим мыслям, шагая рядом. Под стволами автоматов, оказывается, все чувства и мысли становятся обострённей, чётче, ясней – вот что открыл для себя Иона. Он смотрел в серое небо, нависавшее так низко, что можно было разглядеть каждую нитку в полотне застилавших его туч, и думал о том, что в предвидении смерти даже такое невзрачное хмурое зрелище вдруг стало удивительно притягательным, уютным, невообразимо прекрасным.
– Что, Иона, с белым светом прощаешься? – хмыкнул главврач не без издёвки. – Свет нынче не очень белый для такого случая, вот беда.
И тут откуда-то хлестнул выстрел. Главный как шёл, так и повалился, не пикнув, не дёрнувшись напоследок. Вот же неплохой был врач, душевный, а пошёл против народа – и валялся теперь в грязи, и в дыре на его затылке клокотала кровь.
Охранники задёргались, заметались, пытаясь определить, откуда пришла за главным смерть. Пока пытались, ударил ещё один выстрел. Оставшийся в живых санитар метнулся под укрытие ближайшего корпуса, пуляя со всей дури по сторонам.
Иона с Ездрой не стали дожидаться, пока белохалатники переполашатся, повыбегают из корпусов и начнут искать неведомого стрелка – бросились к продмедскладу.
– Стоять! – крикнул ополоумевший санитар и наверняка хотел дать вслед очередь, но не дал. Пуля, прилетевшая по его душу, ударила прямо в глаз, как белку, чтобы шкурку не попортить, и, проделав в мозгах аккуратный тоннель, вынесла половину затылка. Поползли из тесноты черепа в грязь красные червячки.
Теперь Иона и Ездра увидели, как по крыше склада быстрой тенью скользнула к пожарной лестнице Кундри.
Когда забежали за корпус, она уже ждала их, стоя у канализационного люка, грязная, как сто чертей и воняющая, как десяток выгребных ям.
– Ну, это, и благоухаешь ты, – пропыхтел запыхавшийся Ездра.
– Скоро и ты так будешь, – отозвалась Кундри и, не теряя времени, кивнула на люк: – Лезьте.
Первые пару минут сознание мутилось, хотелось тут же упасть и сдохнуть, чтобы не вдыхать удушающий смрад. К горлу подступала тошнота, и вырвало бы обязательно, если бы было чем. Кундри, нырнувшая в люк следом, не торопила – она уже прошла через этот первый момент адаптации и понимала состояние мужиков. Но всё же нетерпеливо переминалась с ноги на ногу в зловонном иле.
– На месте не стойте, – бросила она спутникам. – Перетаптывайтесь хотя бы, а то затянет.
Как ни муторно было, они послушались и, зажимая носы, принялись топтаться в чавкающем месиве. И правда, оно затягивало ступни, как болото, и выдернуть ногу с каждой секундой неподвижности становилось трудней.
– Ну, всё, пошли, – бросила Кундри, – пока граната не прилетела.
Не успели сделать и десяти шагов в вонючей тьме коллектора, низко пригибаясь, чтобы не ссадить затылки о бетон трубы, как сзади послышалось непонятное движение, звук приземлившегося тела, хлюпанье жижи под ногами. Потом захрипел кто-то, забулькал, исходя рвотой.
Кундри шедшая впереди, с прибором ночного видения на голове повернулась, подняла снайперку.
– Эй, ты кто? – бросила она неизвестному, скорчившемуся в слабом столбе света под люком. Ответом ей были выворачивающие душу звуки блюющего горла.
– Если не отзовёшься на счёт пять – стреляю, – предупредила Кундри.
– …ждите… я… это… си… лог… – И снова: «уа!… буэ!..»
Голос был женский.
Больше всего Кундри хотелось выстрелить в нежданную незваную попутчицу и припустить, насколько это возможно, бегом, пока не добежали до люка белохалатники. Но половая солидарность, очевидная беспомощность, безоружность и неопасность несчастной остановили её. В конце концов, это могла быть беглянка из женского корпуса или из наряда по кухне. Во всяком случае, на женщине не было белого халата, а была простая незатейливая куртёшка.
– Ладно, бог с ней, – сказала Кундри, опуская винтовку. И скомандовала: – Ходу, мужики, ходу!
Мужики, мало-мальски отдышавшиеся и пообвыкшиеся с вонью, последовали за Кундри.
– Постойте, – крикнула им вдогонку незнакомка. – Я с вами.
И, увязая на каждом шагу, кое-как двинулась следом.
– Дождёмся, – сказал Ездра.
– Зачем она нам? – возразила Кундри.
– Нам без надобности, – отозвался Ездра с недовольством. – Она – себе нужная. И богу, наверно, тоже, раз он её сохраняет.
– Я не бог, – буркнула Кундри. – Мне-то она на кой сдалась?
– А если на ней жучок какой-нибудь? – предположил Иона. – Чтобы отследить нас.
– Не было у них, это, времени такое замутить, – уверенно сказал Ездра. – Ждём.
Кундри, которая по праву считала себя главной как минимум на этом отрезке пути неодобрительно прищёлкнула языком. Остановившись на секунду, решила всё-таки показать норов и снова двинулась вперёд, бросив: «Догоните, в общем».
– Ты кто? – спросил Ездра, когда женщина кое-как дошлёпала до них и остановилась, тяжело переводя дыхание.
– Психолог, – выдавила она.
– Психолог? – изумился Ездра. – Это что за зверь такой? Что-то мы тебя сроду не видели. И не слыхивали даже про такое чудо.
– Вы и Самого сроду не видели, – ответила женщина.
– Теперь уже видели, – возразил Иона.
Она ничего не сказала, только многозначительно и криво усмехнулась, но в темноте они этого увидеть не могли.
– А зачем вы с нами? – спросил Иона.
– Мне прямо здесь рассказывать? – съязвила женщина.
– Это верно, – хмыкнул Ездра. – Идём.
16
Из коллектора выбрались спустя не меньше чем два, а то и три часа движения в вязком смраде. Повалились тут же в мокрую траву и хлябь и просто дышали, дышали, дышали, постанывая от наслаждения. Потом, правда, распробовали, что воздух здесь, в топях, не много-то вкусней, но не перестали жадно его хватать.
Санаторий остался далеко в стороне, но поскольку Гадские топи представляли собой болотистую равнину, ещё можно было рассмотреть на горизонте торчащую водонапорную башню, огрызок караульной вышки и блеклые пятна крыш.
– Неужели ушли? – произнёс Иона.
– Нет ещё, – сказала Кундри. – Если смотреть с водонапорной в бинокль, мы тут как на ладони. И снайпер, думаю, тоже до нас дотянется. Идти надо.
– Удивляюсь я на тебя, деваха, – улыбнулся Ездра. – Откуда ты такая взялась?
– Я всегда была. А взялась – вот она, – Кундри кивнула на психологиню. – И мне тоже интересно, откуда, а главное – зачем. Но сейчас выяснять не будем. Поднимаемся и идём.
Иона посмотрел на Ездру: как он воспринимает то, что Кундри, кажется, решила взять командование на себя.
А Ездра, похоже, никак не воспринимал. Молча поднялся и пошёл вслед за новоявленной командиршей.
– Я иду первая, – сказала та. – За мной Ездра. Потом новенькая. Иона замыкает. Идём шаг в шаг, мы в Гадских топях. – Кундри неприязненно посмотрела на психолога: – Всё понятно?
Психологиня молча кивнула.
При свете дня, при сумрачном, но всё же свете, она оказалась чуть обрусевшей кореянкой. Или вьетнамкой. Или китаянкой. В общем, у неё была типичная внешность пришелицы из тех поднебесных краёв, где утренняя свежесть и восходящее солнце, и мелкие черты этой внешности были лишь слегка укрупнены и утяжелены русским влиянием. Было ей, кажется, хорошо за тридцать, но ведь и в хорошо за тридцать можно оставлять сомнения в своей профпригодности. Вот и она оставляла. Во всяком случае, глядя на неё Иона был склонен сомневаться, и он сомневался: уж очень не пронзительный, не психологический был вид у этой розы Шарона. Быть может именно ввиду её профнепригодности, никто никогда её и не видел. Числилась психологом, а работала какой-нибудь прачкой – прачки такому санаторию гораздо нужней, чем душеведы, очевидно же.
Ионе понравилось то, что кивнула она на вопрос Кундри без всякого подобострастия, без торопливости слабого и подчинённого, однако и никакой женской стервозной завистливой поперечности – когда назло – не мелькнуло в её глазах, и даже взглянула-то она на Кундри мельком, как на человека, произнесшего нечто совсем незначительное и не очень уместное.
Выстроились и пошли.
Идти было тяжело. Полумёртвая, бледно-зелёная с желтоватыми пятнами растительность, как старая тряпка, брошенная на землю, путалась в ногах, хрустела мёрзлыми стеблями – противно, будто идёшь по скопищу тараканов или по полуистлевшим костям. Поднялся промозглый ветер и приносил с запада тошнотворный смрад топей. Иногда, или то казалось Ионе, за спиной его слышались будто чьи-то шаги. Пару раз он испуганно оборачивался, но никого не увидев, плюнул на этот морок, хотя и стоило ему это значительных усилий и морозца, который холодной струйкой стекал от затылка в штаны. Потом к шагам прибавились чавкающие и квакающие звуки, а по временам – сопение и фырканье, как отфыркивается собака от неприятного запаха.
– Вы что-нибудь слышите? – не выдержав, обратился Иона к шагающей впереди психологине.
– Вас слышу, – отозвалась та через плечо.
– Это понятно. А ещё что-нибудь?
– Свой внутренний голос, – она, кажется, усмехнулась, – который подсказывает мне, что я вляпалась в нехорошую историю и обзывается дурой.
Дура, не дура, но присутствия духа она не теряла. И способность к юмору в таких обстоятельствах тоже дорогого стоит.
– Вы не могли бы… нет, только не сейчас, не сразу, а по моей команде – оглянуться? Когда я скажу, резко и внезапно обернитесь и загляните мне за спину. Хорошо?
– Зачем? – голос её немного напрягся, захрустел, как та мёрзлая трава под ногами.
– Временами я слышу посторонние звуки. В смысле, звуки, которых слышать не должен. В смысле, не не должен, а… Ладно, неважно. В общем, как будто за нами увязалось какое-нибудь животное.
– Хорошо, – неуверенно отозвалась психолог. – Я готова… Если только… если вы пообещаете, что я не увижу там что-нибудь жуткое.
– Ёкарного бабая? – усмехнулся Иона.
– Ну, наподобие.
– Думаю, что это будет лиса, не больше, – успокоил Иона.
– Ну, лисичка – это не страшно. Лисички мне нравятся. Только я не понимаю… а сами вы не можете?
– Я оглядывался. Ничего. Это как у Рассела, помните? Про стол и кенгуру.
– А-а… Угу. Но почему вы думаете, что я что-нибудь увижу?
– Потому что спина – моя, а взгляд – ваш.
– Ага… Логично.
– Конечно, вы можете сказать: твои глюки, Иона, тебе и оглядываться… Вы ведь тоже думаете, что я псих?
– А вы? – она обернулась, чтобы глянуть ему в лицо. В по-восточному скошенных глазах её блеснули искорки весёлого интереса, из-под которых, впрочем, тёмными пятнышками пробивалась и неподдельная тревога.
Иона зябко передёрнул плечами, отвёл глаза.
– Приготовьтесь, – сказал он.
Психолог отвернулась. Видно было, как сразу напряглась и окостенела её спина. Кажется, она всё восприняла серьёзно – не было в её спине ни наигранности, ни насмешки, ни…
– Давайте! – скомандовал Иона, через несколько шагов поймав очередное фырканье.
Она резко обернулась всем корпусом, заглядывая ему за спину. Остановилась, с явным облегчением пожала плечами:
– Ничего.
– Понятно.
Впереди обернулась Кундри.
– Эй! – окликнула она. – Команды останавливаться не было.
Иона почему-то разозлился на неё. Он всегда относился к Кундри хорошо, но он никогда не видел её вот такой – мужиковатой, что ли, деловитой, и не думал, что она способна такой быть. Возможно, это его и злило. И с чего она решила, что знает всё про Гадские топи, как здесь нужно ходить и как не ходить? Будто каждый день моталась на Промзону и обратно… И Ездра, так легко отдавший бразды правления в руки этой бабы, тоже вызывал праведное возмущение. Впрочем, Ездра тот ещё жук, умница и хитрец, каких мало – он вожжи без надобности не возьмёт, а уж если посчитал, что надо взяться за гуж, то взявшись, не станет говорить, что, мол, не дюж, и без необходимости поводьев не выпустит.
Ладно, посмотрим…
Пошли дальше. Не сделали и десяти шагов, как снова за Иониной спиной начался разгул, но теперь он старался отрешиться и не обращать на звуки внимания, как и на холодок, сквозивший в позвоночнике.
Разговор начала психолог – она сбавила шаг и приняла чуть в сторону, так что они с Ионой шли теперь почти бок о бок.
– Вы и сейчас слышите эти звуки? – спросила она.
Иона прислушался.
– Нет… кажется, нет.
– Значит, это было ваше одиночество.
Он улыбнулся.
– Одиночество похоже на безумие?
Она внимательно заглянула ему в лицо. Ответила:
– Во всяком случае, между ними много общего. Не советую вам концентрироваться на вопросе своего психического здоровья. Знаете, если ты долго смотришь в бездну…
«И смотрят жадно из тьмы и мрака, как две луны, два пустые зрака, и чьи-то руки в озябшем сердце ключ повернут и откроют дверцу. За этой дверцей я прячу душу – в одну восьмую всемирной суши, в одну двадцатую океана – неизлечимую мою рану…
Душа – это рана, нанесённая… Кем или чем? Богом?..
Да, если ты долго смотришь в бездну, она, зараза, тоже начинает смотреть в тебя. Нужно не смотреть ей в глаза. Ни ей, ни Кундри, ни Ездре. Если они моя бездна, как утверждает Сам, то лучше не смотреть в них, не встречаться с ними взглядом. Нету у безумия начала, нету у безумия конца… Одна, значит, получается, сплошная середина, без начала и конца, а, Сам? Ловко придумано!»
– Почему я никогда вас не видел? – спросил Иона.
Психолог помолчала.
– Потому что раньше меня здесь не было.
– А когда появились?
– Когда вы прыгнули в эту… клоаку.
– А что вы делали до этого?
– Держать строй! – прикрикнула Кундри, бросив злобный взгляд на психологиню. Та торопливо заняла своё место впереди Ездры.
– Не знаю, – бросила она через плечо.
17
Привал устроили, когда санатория уже не видать было на горизонте даже в прицел снайперки Кундри. Расселись на кочках, выбирая места повыше и подальше от топких лужиц, шагнув в одну из которых, можно провалиться по колено в стылую липкую жижу, вытолкнув на поверхность полусгнивший труп жабы, воробья, а то и зайца. Костёр развести было не из чего – вокруг, на сколько хватало глаз, расстилалась однообразная кочковатая равнина – грязная тряпка без всяких признаков растительности, если не считать пучков осоки, мха да редкой жухлой травы.
Костёр развести было не из чего, зато у Кундри в подсумке нашлись три бутерброда с сыром. Даже два полиэтиленовых мешка, а каждый был сложен для верности ещё вдвое, не предохранили хлеб от пропитывания вонью, затоплявшей канализацию. Чтобы съесть доставшуюся ему долю, Ионе пришлось задерживать дыхание, пока жевал, и выдыхать зловоние изо рта, вдыхая только носом. Вонь Гадской топи, доносимая ветром, была всё же не столь мерзкой, как привкус у этого бутерброда.
Горизонт таял в дождливой мороси и в тумане, ползущем с Гадской топи, заволакивавшем пространство рваными белыми нитями, отчего окружающее пространство съёжилось, сгустилось вокруг, вычленив из себя четырёх человек, словно актёров на сцене, занятых в спектакле, но не ведающих даже, есть ли в зале зрители.
– А теперь, – сказала Кундри, когда бутерброды были кое-как съедены, – наша новенькая немного расскажет нам о себе.
И многозначительно огладила, оправила ветошь, которой был обмотан приклад винтовки.
Роза Шарона подняла на неё свои чёрные глаза, медленно улыбнулась. Спросила:
– А что рассказывать?
– Кто ты? Откуда взялась? Зачем? – Кундри выстрелила вопросами, загибая на каждом палец.
– Я психолог, – пожала плечами кореянка. – Как и вы все, взялась из его подсознания. Взялась затем, чтобы вывести вас и себя отсюда и вернуть в обычный мир.
Наступило молчание. Иона заметил взгляды, которыми уставились на эту розу Ездра и Кундри – так смотрят на человека, в котором только что вдруг определили чокнутого, как на ребёнка, который отмочил забавную штуку, но чёрт его знает, ка́к следует к этой штуке относиться и не стоит ли показать дитяти психиатру.
Наконец Кундри прочистила горло и участливо вопросила:
– Как ты сказала? Из его… подсознания? Что за прикол?
– Я понимаю, что буду сейчас нести, с вашей точки зрения, полную ахинею, – улыбнулась роза, – но так или иначе, рано или поздно, я должна буду вам это сказать… В общем… только не считайте меня шизофреничкой… в общем, на самом деле нас сейчас тут нет.
– А где мы? – быстро спросил Ездра, прежде чем психологиня успела пойти дальше.
– Нас тут нет, – повторила она, кивком головы давая понять, что с вопросами следует пока погодить. – Как не существует этой равнины, промзоны, до которой вы хотите дойти, и санатория.
– Что-то знакомое, – пробормотал Иона. – Где-то я уже это слышал.
Психологиня не обратила на его слова никакого внимания и продолжала:
– Есть только сон. Сновидение. В котором – санаторий, эта равнина, промзона и мы с вами.
– Неумно, – вставила Кундри.
Но роза Шарона игнорировала и её.
– Есть сон, – продолжала она, – есть человек, которому он снится, есть так называемые аватары реальных людей, как, например, я, и есть фантомы – персонажи на самом деле не существующие, которые суть целиком и полностью порождения фантазии спящего. Я не знаю, кто из вас настоящий, а кто фантом, могу поручиться только за себя.
– А кто ещё может за тебя поручиться? – усмехнулась Кундри.
– Никто, – вполне серьёзно отозвалась психологиня, не давая вовлечь себя в перепалку и словесные игры. – Плохо то, что фантому ничего не грозит, кроме окончания его существования вместе с окончанием сна, а вот аватару в этом сне грозит всё, в том числе и фантом, который может, например, убить его из снайперской винтовки… – При этих словах глаза Ионы и Ездры невольно опустились на снайперку, лежащую на коленях Кундри. А психолог меж тем продолжала: – Аватар умрёт, но умрёт по-настоящему, то есть вместе с ним умрёт реальный человек. Точно так же убьёт его и окончание сна. Ежедневно в мире сотни и тысячи людей умирают в чужих снах, умирают по-настоящему.
– Похоже на бред, – сказала Кундри, взглядом ища согласия Ездры и Ионы. – И что, они действительно думали, что мы поверим в такую туфту?
Как ни в чём не бывало, психолог продолжала:
– Будем называть человека, которому мы снимся, «Спящий». Или, если хотите, «Сам» – вам так привычней, – добавила она с усмешкой. – Так вот, санаторий – это, скажем так, его сознание. А сейчас мы находимся на территории подсознания. Это смертельно опасно, потому что если сознание ещё хоть как-то контролирует себя, то здесь… здесь мы во власти инстинкта, спонтанного рефлекса, случайного движения нейронов, калейдоскопа образов, воспоминаний… Вы никуда не уйдёте. Отсюда невозможно уйти. Промзона будет тянуться километры и километры, бесконечно. И если даже она окажется конечной, – то́, что последует за нею, будет ещё более ужасным. А быть может, искривление пространства выведет вас обратно к санаторию. Но… санатория не будет. А когда Спящий проснётся, для вас вообще всё кончится, вас просто не станет. Не станет нигде – ни в этом псевдомире, ни в подлинной реальности.
– Ну… однажды мы всё умрём, – улыбнулся Ездра.
– Да, – быстро кивнула психолог, словно ждала этой фразы. – Однако, нормальный человек не торопится сделать это по доброй воле, лет за сорок до естественного конца.
– Сорок… – хмыкнул Ездра. – Ты мне льстишь, девонька.
– Как бы то ни было, – сказала она, – ваша смерть – вопрос решённый, вопрос нескольких минут сна, которые для вас могут растянуться по ощущению на дни, недели и месяцы, но это ничего не меняет. Вы умрёте, как только он проснётся, если…
– Если?.. – надавил Ездра, видя, что психологиня умолкла.
– Если вам не помочь.
– Чушь какая-то, – покачала головой Кундри. И повернулась к Ездре: – Лажа. Чувствую, что всё это лажа.
– Короче, что ты предлагаешь, товарищ доктор? – усмехнулся Ездра. – Наверно, должны мы, это, дружно покончить с собой? Или вернуться в санаторий?
Она покачала головой.
– В него невозможно вернуться. Если случится искривление пространства и выведет вас обратно, это будет уже не тот санаторий. Или будет не санаторий вовсе. Или ничего не будет.
– Ну, так что же нам всё-таки делать? – настаивал Ездра.
Она помедлила, потом достала из кармана болоньевой куртки небольшой кожаный несессер. Открыла. В аккуратные кармашки были вложены несколько ампул с бесцветной жидкостью, а в петли – одноразовые шприцы.
– Это называется «сыворотка пробуждения». Научное название из двадцати восьми букв ничего вам не скажет. Один укол, и вы покидаете этот… этот мир.
– И переходим в лучший, да? – всхохотнул Ездра. – Немного потусторонний, но всё же лучший.
– Нет, – серьёзно ответила психологиня. – Вы возвращаетесь в свою реальную жизнь. Возвращаетесь в свой сон.
– Это как?
– Вы засыпаете здесь, то есть переходите из его сна в свой собственный. Здесь остаётся лишь спящий фантом – образ, не имеющий с вами уже никакой связи.
– А кому мы снимся? – спросил Иона.
– Спящий – один из вас.
– Ну и кто же это? – спросил Ездра.
– Я не знаю, – ответила психологиня, и взгляд её остановился на Кундри.
Щёлкнул предохранитель винтовки.
– И думать забудь, – сказала Кундри, – что я позволю тебе ширнуть кого-нибудь этой дрянью. Если совсем невтерпёж, начни с себя. Тебе, поди, тоже не хочется умирать в чужом сне, а?
– Но ведь получается, если ввести сыворотку спящему, – сказал Иона, – всем остальным тут же конец?
– Да. Поэтому наша главная задача – определить, кто же из нас Спящий. Кому мы могли бы сниться.
– Тебе, голуба, – улыбнулся Ездра. – Тебе, конечно, кому ж ещё. Я о тебе ни слыхом не слыхивал, ни видом тебя не видывал отродясь, так чего бы мне тебя во снах рассматривать?
– Не всегда нам снятся только те люди, которых мы знаем, – возразила психолог. – Поэтому я и веду речь об аватарах и фантомах.
– Резонно было бы предположить, что нас помнит Сам, – сказал Иона.
– Нет, – качнула головой психолог. – Это было бы слишком просто. Нет, не Сам. Тем более, что никакого Самого нет. Уже нет.
– Ну да, ну да, – усмехнулась Кундри. – Всё та же старая байка: Самого нет, никто и никогда его не видел.
– Никто и никогда, – вполне серьёзно отозвалась психологиня.
– Я видел, – сказал Иона. – Сегодня.
Психолог покачала головой, но возражать не стала.
– Нас четверо, а ампул у тебя – пять, – прищурился Ездра.
– Значит, нас пятеро, – сказала психологиня и повернулась в сторону санатория.
Все проследили за её взглядом и увидели пятого. Чей-то неразличимый пока силуэт медленно приближался, перепрыгивая с кочки на кочку в Гадской топи.
Кундри поднесла к глазу оптический прицел, некоторое время рассматривала неизвестного. Потом убрала прицел и усмехнулась.
– Угадайте, кто это. У вас три попытки, – сказала она.
– И угадывать неча, – сказал Ездра. – Это Сам.
– Раз, – буркнула Кундри с довольной улыбочкой.
– Ну, значит… Харя-Кришна, – предположил Ездра. – Этот чёрт из любой передряги выберется.
Кундри отрицательно качнула головой.
– Не выбрался, – сказала она. – Его перед оружейкой положили. Ты что, не знал?
Ездра посмурнел, осунулся, будто разом выдохнул из себя часть оставшейся ему жизни.
– Задачка не сложная, – произнёс Иона. – Козлобород это.
Кундри перевела на него удивлённый взгляд.
– Ну ты даёшь, Иона! – сказала она. – До такого даже я не додумалась бы. Но – нет, незачёт.
– Тогда кто же? – спросил Ездра.
Кундри ухмыльнулась:
– Скоро увидите.
– Это Чиполлино, – произнесла психологиня без всякого выражения. – Так, кажется, вы его зовёте?
– В точку, – Кундри вздрогнула и покосилась на розу Шарона с любопытством.
Они сидели молча до того самого момента, когда уже и невооружённым взглядом можно было разглядеть увальня Чиполлино, бегущего к ним по кочкам и размахивающего руками, и что-то кричащего.
– Откуда бы тебе знать, голуба моё, кто это, если вы не в паре? – радушно улыбнулся Ездра психологине. – Или зрак у тебя такой вострый? Объясни.
– Долго объяснять.
– Время у нас есть, – сказал Ездра. – Вот чего у нас полно, так это времени.
– Нет. Как раз времени у нас и нет. Совсем. Спящий находится в стадии быстрого сна. Всё ваше пребывание в санатории укладывается в несколько минут сновидения. Я не знаю сколько их осталось, этих минут, или, может, секунд, но он вот-вот либо проснётся либо перейдёт в следующую фазу сна. Разумеется, вас он перестанет видеть.
– И что? – спросил Иона. Спросил, хотя и сам догадывался, в чём тут дело и что станет говорить психологиня. Другое дело, что веры к ней у него не было.
– Когда сменится сон, вы… вас тоже не станет, ведь вы ему снитесь.
– Чушь! – со злостью бросила Кундри. – И ты хочешь, чтобы мы поверили в эту… в такой бред? Вы там что, совсем за идиотов нас держите?
Психологиня небрежно пожала плечом.
– В конце концов, я не несу ответственности за ваши жизни, – сказала она устало. – Если вы не поверите мне и решите остаться… ну, это ваше право. По меркам вашего времени жить вам осталось… неделя, две, месяц… Но на самом деле, конечно, меньше: промзону вам не пройти. И напоминаю: спящий – один из нас.
– Ну и ладно, сказал Ездра, поднимаясь. Надо двигать дальше, недосуг тут рассиживаться.
Подошёл Чиполлино, остановился в нескольких шагах, с улыбкой глядя на них.
– Ну что, Чип, – кивнула ему Кундри, – что там в санатории?
– В санатории, – радостно кивнул Чиполлино, улыбаясь ещё шире. – Ле́карный бабай.
– Эт точно, – рассмеялся Ездра. – Точнее и не скажешь.
18
Тухлая падь встретила их мокрым снегом, вдруг посыпавшим с серого неба, и вонью падали. Трупы лисиц, ворон, зайцев разной степени разложения попадались на каждом шагу. Один раз показался даже человеческий скелет, наполовину занесённый грязью и заросший чахлой травой. Останавливаться и проверять, правда ли это был человек, не стали. Была одна деталь, от которой по позвоночнику Ионы сбежал зябкий холодок, а душу вдруг затопила безнадёга: совершенно отчётливо было видно, что у лисиц, которые пали, кажется, совсем недавно и не были ещё тронуты тлением, глаза закрыты бельмами. И та лисица, которая нарвалась на них у широкого оврага и, заскулив, бросилась наутёк, тоже явно была слепа. Во всяком случае, она один раз упала, запнувшись о какую-то корягу, и один раз наткнулась на дерево. Облезлая, грязная и неимоверно тощая, она, кажется, доживала последние свои часы. Люди проводили её настороженными взглядами и растерянно переглянулись. И только дурачок Чиполлино улыбался, ничего не замечал и всё бубнил что-то себе под нос.
– Слепая, – многозначительно произнёс Ездра, останавливаясь.
– Они тут все слепые, – Иона кивнул на труп енота, валявшийся неподалёку. Из оскаленной пасти с мелкими зубами вывалился обрубок языка, будто откушенного в предсмертной агонии. Остекленевшие глаза были затянуты белой плёнкой.
Подтянулись остальные, собрались в круг. Чиполлино присел на корточки возле мёртвого енота и, развесив мясистые губы, что-то бормоча, созерцал его и гладил пальцами грязную свалявшуюся шерсть, сбивал с неё снежную корку.
– Слепая лиса, слепой енот, слепые вороны… – Ездра перевёл взгляд на психолога. – Как сие объясняет наука?
Женщина пожала плечами и зябко поёжилась под едким взглядом Кундри.
– Это проявление каких-то подспудных страхов спящего, – сказала она не слишком-то уверенно. – Или скрытых комплексов. Или это его излюбленные символы. В любом случае, психика его… нездорова.
– Что за излюбленные символы? – спросила Кундри.
– Ну, понимаете… как бы вам это объяснить… У каждого человека есть своя система символического обозначения. Например, для одного символ любви – это цветок, поставленный в пустую бутылку, в которой нет воды. Таков его опыт любовных отношений или такова эмоциональная окраска, образ, порождаемый в его сознании словом «любовь». При этом совсем необязательно, чтобы в его жизни был опыт несчастной любви, просто он так видит, чувствует, представляет, он смиряется с тем, что любовь преходяща. Для кого-то символ, скажем, тоски и безнадежности – догорающая свеча, а для кого-то – старая мельница со сломанными крыльями. Смертельную болезнь может символизировать запах старого белья, хранящегося в бельевом шкафу годами, а беспочвенный страх – слепой енот. В общем, это трудно объяснить, всё это глубоко индивидуально и бесконечно вариативно.
– Значит, это дохлятина – символ его страха? – не отставала Кундри.
– Не обязательно. Я просто привела пример. Добавлю, что стремление к культивированию подобных символов особенно свойственно индивидам с самыми разными типами деградации личности…
Её взгляд скользнул по Чиполлино. Тот улыбался и подставлял открытый рот под падающую с неба крупу, потом возвращался к забаве с дохлым енотом.
– И чем глубже деградация, тем причудливей эти символы и тем их больше, – добавила психологиня. – Возможно, если разобраться в этой символике, мы смогли бы понять, кто из вас спящий.
– И? – подняла бровь Кундри. – Поймём, и что мы сделаем?
Психолог снова пожала плечами.
– Я знаю, чего не сделаю, – сказала она. – А что сделаю – не знаю. Это зависит от того, кто из вас спит.
– А спящий знает, что он спящий? – спросил Иона.
– Нет, конечно, – ответила она. – Он точно так же воспринимает всё происходящее как реальность. Вы ведь, когда спите, не осознаёте, что спите.
– Бред, бред, бред, – зло прошипела Кундри. – Какая лажа! Только не говорите, – повернулась она к Ионе и Ездре, – только не говорите мне, что вы верите во всю эту туфту. Ясно, что её, – гневный тык пальцем в психологиню, – подослал Сам, чтобы она запудрила нам мозги, ширнула нас этой своей гадостью и привела обратно, как бычков на верёвочке.
– Сложно, – улыбнулся Ездра. – Слишком это всё сложно, вот что плохо. За каким Самому морочиться такими финтами, скажи мне де́вица, если он может просто отправить по нашему следу десяток санитаров?
– Так значит, ты ей веришь Ездра? – опешила, кажется, Кундри.
Ездра пожал плечами, пожевал губами, молча обежал взглядом лица присутствующих.
– Хрен его знает, – неопределённо буркнул он. – Один умник сказал: сомневайся во всём, но больше всего в том, во что очень хочется поверить.
– Кто такой Сам, которого я видел, но которого не существует? – спросил Иона, глядя психологине в глаза. – Как его зовут на самом деле?
Она ответила недоуменным взглядом, пожатием плеч.
– Самсон, – изрёк вдруг Чиполлино.
Все повернулись к нему. Прежде чем психологиня тоже перевела взгляд с Ионы на Чипа, он заметил в этом взгляде… нет он не смог бы определить значение этого выражения – того неопределимого, что мелькнуло в её глазах лишь на долю мгновения.
– Чего? – произнёс Ездра. – Какой Самсон? Который древний еврей?
– Наверное, Чип хочет сказать, что Сам – это сон, – сказала психолог. – Сам – сон.
– А не слишком сложно для дурака? – вставила Кундри.
– Самсон, – кивнул Чиполлино, и улыбка его стала ещё шире. – Самсон.
Он сложил руку в кулак, оттопырил большой палец и мизинец, поднёс к уху.
– Самсон.
– Наверное, он имеет в виду «Самсунг», – предположила психологиня. – Телефон. Видите, как он сделал руку?
– А при чём тут «Самсунг»? – покосилась на неё Кундри.
– Откуда я знаю.
– Ты же психолог, – не приняла Кундри ответ. – Вот и объясни.
– Ты же психолог… – раздумчиво повторил Ездра слова Кундри. – Ты, девка, наверное занималась Чипом, а? По спецификации-то своей?
– Да, – неуверенно ответила психологиня.
– Ну вот, ну вот, – радостно кивнул Ездра. – Вот ты и расскажи нам всю, так сказать, Чиполлинову подноготную. Чего он хочет нам сказать про Самсунг? Или, это, про Самсона? Какие такие травмирующие воспоминания кишат в его больной головушке? А мы послушаем.
– Я не знаю, – покачала головой психолог. – Вы забываете, что мы – сон. Во сне прошлое забывается очень быстро. Или искажается, и ты начинаешь помнить то, чего никогда не было. Я не могу гарантировать, что общалась с Чиполлино. Но в любом случае, он не коммуникабелен и не контактен, вы же видите.
– Но как же так? – прошептал Иона. – Ведь вы сказали…
Она прожгла его таким взглядом, что он невольно замолчал.
– Что? – насторожилась Кундри. – Что не так, Иона?
– Ничего, – мотнул головой тот, после минуты раздумья. – Меня что-то клинит…
Кундри не сводила с него долгого изучающего взгляда.
– Что не так? – повторила она свой вопрос тоном, не оставляющим никакой надежды на то, что Иона сможет увильнуть от ответа.
Нет, думал между тем Иона, нет. Нельзя ей говорить. Да, эта роза Шарона сказала, что появилась в санатории перед нашим прыжком. А теперь говорит, что общалась с Чиполлино. Неувязочка. Но Кундри этого говорить нельзя.
Он не мог бы объяснить себе причину такого решения. Это было на уровне ощущения. Нет, он ни минуты не верил этой странной женщине, якобы психологу, но и Кундри – она… что-то с ней было не так.
19
Порядок следования теперь поменяли. Впереди по-прежнему шла Кундри. За ней Ездра. Потом Чиполлино. За ним психологиня. Иона завершал колонну.
О Тухлой пади ходили самые жуткие слухи. Но только теперь Иона задумался: а откуда они брались? Ведь никто из отдыхающих никогда в пади не бывал и быть не мог. Наверное, все эти байки-страшилки сочинялись персоналом, чтобы поменьше было среди контингента желающих сделать ноги.
Холодало, и мокрый снег постепенно опять перешёл в колючую твёрдую перловку, которая шуршала по фуфайке и терзала лицо – от её бесчисленных уколов непрерывно хотелось чесаться. Откуда-то, вслед за медленным ветром, наползал туман. Зловоние усиливалось.
Иона наблюдал маячившую впереди спину психолога в голубой болоньевой куртке и…
Стоп! – подумал он. – А разве ещё час назад эта куртка была не коричневой?
Он напряг память, пытаясь вернуться назад, к тому моменту, когда впервые увидел эту розу Шарона, но память рвалась и расползалась, как мокрая промокашка, как ветошь наподобие той, что покрывала приклад снайперки, небрежно заброшенной сейчас Кундри на плечо. Память рвалась в лоскуты, сложить которые обратно в правильную картину никак не получалось. Вместо этого вдруг медленной рыбой в омуте сознания проплыли тусклые строки:
… И там, где выцветший полустанок в фонарном мареве двух перронов, всё оборвётся – под скрип вагонов, и лязг затвора, и скрежет нервов. В момент меж истинно и неверно, я стану тенью в прицеле взгляда, и, не додумав своё «не надо!», — паду, усну на изломе бега… И будет сон мой белее снега. И в этом сне мне отмерят вечность — непреходящую бесконечность в одно исполненное желание, в одно не сделанное признание, в одну пятнадцатую касания, в одну двадцатую расставания…Ему вдруг стало по-настоящему страшно. И тошно. Он и сам не мог бы конкретизировать и объяснить свой страх. Может быть, пугала явно ощутимая нереальность происходящего. А быть может, страшило то, что всё происходящее действительно способно оказаться реальностью?
Иона прибавил шагу, поравнялся с женщиной.
– Послушайте, – вполголоса сказал он, поближе к её уху. – Послушайте, если правда всё, что вы говорили… Скажите, кто мы на самом деле? Я имею в виду, существуем мы в реальной жизни или нет?
– Да, конечно, те, кто не фантомы, они вполне реальны, – тоже вполголоса отозвалась психолог, с трудом переводя дыхание, морщась и судорожно сглатывая, словно из последних сил сдерживая рвоту.
– Но почему именно мы? Я имею ввиду, почему именно нас он видит во сне? Значит, мы с ним были знакомы в реальной жизни?
– Трудно сказать. Скорей всего, да. Вполне возможно, что в реальности вы его брат, коллега… ученик. Кундри может быть фантомом, образом его строгой матери из детства, например. Ездра… Ну, он тоже кто-нибудь из знакомых.
– Ничего не понимаю. Но где тогда наши… ну, как это сформулировать…
– Где ваши тела? – подсказала она. – Не знаю. Быть может, кто-то из вас сейчас лежит в коме, кто-то просто спит, кто-то при смерти… Я не знаю. Думаю, главное, чтобы ваше сознание было как-нибудь отключено. По большому счёту явление сна ещё совершенно не изучено, поэтому я не могу утверждать определённо. Я читала, что бывали случаи… в общем, даже находясь в сознании, человек может быть вовлечён в чужое сновидение.
– Чёрт… Если там я лежу при смерти, то… лучше бы мне и не возвращаться, пожалуй… Нет, я не могу поверить.
– Понимаю. Понимаю, поверить в это трудно. Но вы попробуйте вспомнить.
– Что?
– Себя. Ну, детство своё, например. Или то, что было с вами до санатория. Как вы попали сюда. Вообще, себя, как личность.
– Я помню, но… но иногда…
– Иногда вы не можете отличить, какие ваши воспоминания относятся к реальности, а какие – ко сну, да? Или к непонятным психическим сбоям.
– Ну да, примерно.
Она понимающе кивнула:
– В том-то и дело.
– Нет, я не верю вам! – с неожиданной злостью выпалил Иона и тут же бросил взгляд на идущих впереди. Но никто, кажется, не услышал, а Чиполлино если и услышал, то всё равно ничего не понял. – Нет, не верю, – приглушая голос, продолжал Иона. – При нашей встрече Сам намекал, что мы все тут на психотропах. Если это правда, то перебои в памяти вполне понятны, ведь так? И запутать нас проще простого, и лапши на уши навешать? А что там в ваших ампулах, знаете? Конечно, знаете: там те же самые нейролептики. Только не очень ловко всё это придумано, совсем уж на идиотов рассчитано, это вам Кундри правильно заметила. Что-то здесь Сам не додумал. Но что за эксперимент вы над нами проводили? И зачем?
– Не говорите ерунды, – сказала психолог. – Можете мне верить, можете не верить – дело ваше. Моё дело показать вам истинное положение вещей, но заставить вас верить я не могу. К тому же… к тому же наверняка не все действующие лица этого сна – аватары. Вот я разговариваю с вами и не могу быть уверенной, что вы настоящий, а не фантом. И не могу быть уверенной, что вы – не он сам, что вы не Спящий.
– Ха! – Иона засмеялся. – А в себе вы уверены?
Она бросила на него странный косой взгляд, но ничего не ответила.
– А вот если ввести вашу эту сыворотку фантому, что с ним будет?
– Фантому?.. – психологиня растерялась. – Не знаю. Да какая разница…
– Ничего-то вы не знаете… Ну, хорошо, ладно, пусть всё так, но объясните, почему вы уверены, что Спящий – один из нас?
Она пожала плечами.
– Ну, это как раз совсем просто, неужели сами не догадались? Потому что сон не может раздвоиться. Понимаете? Нет? Ну вот, вы сейчас находитесь здесь и не можете знать, что происходит, например, в санатории, так? Сюжет сна не может ветвиться, понимаете? Нельзя видеть во сне место, в котором тебя нет. Во сне, как и в жизни, строго действует закон единства времени и места, и спящий всегда видит только ту реальность, в которой находится сам. И поэтому реально только то, что спящий видит в данный момент. Если бы он, Спящий, остался в санатории, вы были бы мертвы, не дойдя до Топи. Понимаете теперь, почему невозможен был побег из санатория? Как только персонаж покидает сцену сна, он умирает – выпадает из реальности сновидения, перестаёт сниться Спящему и больше не существует.
– Понимаю. То есть, если мы снимся ему и он нас видит, значит он здесь. А санаторий… получается, что его уже нет и все там мертвы? То есть, там нет ничего и никого?
– Наверняка, – кивнула она. – Он перестал их видеть, и они… исчезли. Сновидение не существует само по себе, это всего лишь спонтанная функция мозга. Нет уже ни тех людей, ни санатория, ни места, где он стоял.
– Угу. Но в эту вашу схему не укладывается одно обстоятельство…
– Чиполлино? – подхватила она. – Да, я уже подумала об этом. Он мог следовать за нами от самого санатория. Спящий видел его, а мы – нет.
Иона замолчал. Да, эта женщина не похожа была на… не похоже было, что она дурит ему мозги – слишком уж всё продумано и слишком неправдоподобно, чтобы не быть правдой. Совсем не похоже на экспромт, на байку, которая сочиняется по ходу пьесы. И она весьма не глупа, очевидно, – схватывает на лету. Но бога ради, как можно поверить в тот бред, который она несёт!
– Вы поможете мне? – спросила она, почти прижимаясь к Ионе и понизив голос едва не до шёпота.
– В чём? – напрягся Иона.
– Поможете мне справиться с этой женщиной?
– С Кундри?!
– Тише! Да. Она очень опасна. Из-за неё могут погибнуть все.
– Нет. Бред какой. Вы хотите, чтобы я помог вам убить Кундри?.. А потом – Ездру, да? Он ведь тоже жутко опасен. А уж про Чиполлино я и не говорю – это сам дьявол. Ну а потом вы как-нибудь справитесь со мной, да?..
– Убить?! Господи… Я не знаю, как убедить вас, как помочь вам поверить мне, – растерянно проговорила психолог. – Ну что же мне делать? – лицо её сморщилось, словно она сейчас заплачет.
Иона пытливо косился на неё, всматривался в каждое движение на её лице. Но он, в конце концов, не физиогномист, не психолог, не… Он… А, собственно, кто он?
– Я ведь тоже могу умереть, – сказала она тихо. – Точно так же, как и вы, если вы не фантом, конечно, но вы не фантом, я знаю. Так же как и вы, я ему снюсь сейчас, а моё тело лежит в клинике.
– В клинике? Какой клинике?
– Что?
– Вы сказали, что ваше тело лежит в клинике.
– Да?.. Не знаю. Это… Не знаю, почему я это сказала. Поймите… это сон, а во сне… во сне не всегда говоришь то, что думаешь…
– И не всегда думаешь, что́ говоришь?
– Да.
Вот-вот, именно, думал Иона, ты не учла одну вещь… Одну маленькую вещь. Всё у тебя выходит складно, всё продумано, за исключением одного. Ведь если мы ему снимся, значит мы – функция его мозга, мы – порождения его фантазии, а значит, и наши поступки, мысли, слова, желания – тоже. И то же самое – ты. Каждое твоё слово вложено в твои несуществующие уста Спящим. И то, что ты якобы «оттуда», и зачем ты здесь, ему тоже известно. И знает он то, что я сейчас думаю – ведь это он и думает за меня. И весь наш диалог выстроен его мозгом, от слова до слова. Бред, правда? Если только тебе поверить, выходит полный бред, абсолютно не совместимый ни с какой реальностью. Ну не глупо ли пытаться убедить в такой ерунде умственно полноценных людей? Или мы – не полноценные? Или… всё это какой-то эксперимент?
Говорить ничего этого вслух он не стал. Он и так, кажется, слишком разболтался с нею. Он только спросил:
– А что будет, если вы промахнётесь и введёте сыворотку спящему? Он проснётся, и мы умрём?
– Я не знаю, – пожала она плечами. – Вполне возможно.
20
Когда остановились на очередной привал, Кундри подсела к Ионе. Наклонилась к самому уху, спросила:
– Что она тебе пела?
– Всё то же, – пожал плечами Иона. – Жизнь – сон, ничего нет, мы в матрице чужого сознания и всё такое.
– Ты ей поверил?
– Нет, конечно. Всё это полный бред. Не знаю, на кого рассчитаны эти сказки. У человека должна напрочь отсутствовать критичность восприятия, как функция, чтобы поверить её россказням.
– Критичность?.. – хмыкнула Кундри. – Восприятия?.. Говоришь как она, а?
– Нормально говорю.
– Или она – как ты.
– Кундри!
– Не ори. Может, она – это ты, а? Или ты – это она? Кто из вас чья функция?
– Кундри, твою мать, иди в…
– Да ладно, ладно, не бледней, – усмехнулась снайперша и легонько хлопнула его по плечу. – Ты, главное, не напрягайся. И не расслабляйся. Держи баланс.
– Где ты набралась всего этого?
– А ты – своих функций?
Некоторое время они молча и сосредоточенно искали что-то в лицах и взглядах друг друга. Потом Кундри улыбнулась краешком губ, словно подводя черту:
– Может быть… прижать её?
– Прижать?
– Ну… прикладом по пяткам. У Ездры есть спички. Есть нож.
– Пытать?!
– Тише! Ты чего такой громкий, а? Тише… Ведь ясно же, что она тут не просто так. Она должна убрать нас. Или вернуть. Но я не дам ей сделать ни того, ни другого. И если надо будет по пяткам, то… я готова.
В этом Иона не сомневался. За последние часы он узнал Кундри лучше, чем за все предыдущие… Предыдущие – что? Месяцы? Годы? Сколько? А где они, эти годы? Если бы вспомнить…
Со своего места поднялся Ездра, подсел к ним, тщательно выбрав не самую хлябкую кочку. Оглянулся на психологиню, которая сидела спина к спине с Чиполлино, бездумно уставясь в пространство.
– Шепчетесь? – бросил лукаво. – Такое, смотрю, промеж вас собеседование происходит, что аж пар столбом. Дай, думаю, приму участие, во избежание разрыва котла.
– Какого котла? – опешил Иона.
– А? – Ездра перевёл колкий взгляд на его лицо. – Да никакого. Это я так образно выражаюсь, паря. А ты чего подумал?
– Тебе ведь тоже не нравится эта дамочка? – перешла к делу Кундри, обращаясь к недавнему полководцу.
– Нравится, не нравится – это не те категории какими оперирует моё сознание, – изрёк Ездра.
– Что? – нахмурилась Кундри.
– А ты чего думала, девонька, – усмехнулся главнокомандующий. – Ты думала, я так не умею? Умею… Это меня и настораживает. В тебе вон тоже, смотрю, разные умения открылись, каких не бывало сроду, а?
Кундри непонимающе покачала головой.
– Я ей не верю, – покачал головой Ездра. – Понятно дело, я ей не верю. Разве можно поверить в её байку. Я знаю, что был большой кипеш. Что́ случилось с природой и людями, я не знаю. Если бы знал, то слепые лисы меня, может, и не удивляли бы.
– Какой кипеш? – непонимающе дёрнула бровью Кундри.
– Большой, – повторил Ездра. – Третий, это, ангел вострубил, и пала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Имя ей «полынь». И третья, это, часть мировых вод сделалась полынью, и многие умерли от тех вод, потому что они стали горьки.
– Это ты к чему? – не поняла Кундри.
– Апокалипсис, – вставил Иона.
Ездра перевёл на него грустный взгляд.
– Когда жахнуло, я не знаю, как я выжил. Не помню. И как, это, сюда попал – тоже не помню.
– А детство своё помнишь? – спросил Иона.
– Чего? – главнокомандующий уставился на него. Только теперь Иона заметил, как стар этот человек, до чего измождён и нездоров.
– Вот я совсем не помню своего детства, – сказал Иона, словно извиняясь. – Ну, так, может, смутно, отдельные моменты. Но я не уверен, что это моменты именно моего детства. А ты помнишь себя десятилетним?
Ездра задумался.
– Давно это было, – невесело улыбнулся он через минуту. – Ох, давно, ребятушки!.. Разве всего упомнишь. Вот проживёте с моё – узнаете.
– Я про полынь не поняла, – сказала Кундри.
– Ты, девонька, это, расскажи мне, как попала сюда? – улыбнулся Ездра. – Откуда? И зачем?
– С поезда, – просто ответила Кундри. Так просто ответила, что Ездра невольно дёрнул головой и посмотрел на снайпершу как-то искоса, как удивлённый пёс или испуганный конь, а Иона воззрился на неё так, будто наконец-то всё понял – всю свою жизнь недолгую и напрасную понял в один момент.
– Поясни, – изрёк Ездра.
– А чего пояснять. Я в электричке ехала, на работу. Я работала этим… как его… В общем, на работу ехала, в ночную смену, на электричке. А тут… Короче, на перевале нас обстреляли ду́хи…
– Какие духи, рыбонька? – участливо перебил Ездра. – На каком перевале? Ты в ночную, это, смену через перевал ездила?
– Ну да… – неуверенно отозвалась Кундри.
– И часто у вас духи на электрички нападали?
– Не знаю… – растерянно ответила Кундри. – Бывало.
– Ездра, не лезь, – сказал Иона. Он был как-то напряжён, так что даже и не заметил грубости, которую позволил себе в отношении главнокомандущего. С Ездрой так не разговаривали. – Давай дальше, Кундри.
– Дальше… Ну, там стрельба поднялась, электричка встала, потому что они пути подорвали впереди. Если бы…
– Как перевал назывался? – спросил Иона.
– Назывался?.. Сехсин… нет… как его… Сумсил… Не помню я!
– Может, Самсон? – вставил Ездра. Ионе даже тени насмешки не послышалось в этой реплике – Ездра был, кажется, абсолютно серьёзен.
– Нет, – покачала головой Кундри, – причём тут Самсон. Самсон – это был доктор наш…
– Какой доктор? – впился в неё взглядом Иона.
– Доктор… – тупо повторила Кундри. – Его зажало в дверях и он звал меня. Я к нему, а тут очередь. Если бы вертушки наши не прилетели, нас бы всех там…
– Это сон, – сказал Ездра. – Ты, девонька, сон свой нам рассказываешь.
– Какой сон? – Кундри глянула на него растерянно и зачем-то погладила снайперку, лежащую на коленях.
– Кошмарный, – коротко ответил Ездра.
– Никакой не сон, – покачала головой Кундри. – Когда я к нему, к доктору то есть, побежала, тут – очередь. Меня садануло, я под лавку забилась и сидела там, и видела, как он умирал… доктор… а потом… потом здесь. Меня сюда с перевала отправили. По ранению.
– А куда тебя, это, «садануло», рыбонька? – спросил Ездра.
– Сюда, – Кундри приложила руку к правому бедру чуть выше колена.
– Покажешь? – прищурился Ездра.
– Штаны снимать, что ли?
– Зачем снимать? – улыбнулся Ездра. – Закатать можно.
– Иди в задницу, Ездра, – отрезала Кундри и поднялась. Скомандовала: – Встаём, двигаем дальше!
Иона с опаской пробежал взглядом по лицу Ездры. На нём, вопреки опасениям, не проступило ни досады, ни злости, ни мстительной усмешки. Ездра сидел и задумчиво улыбался, глядя себе под ноги – будто разговаривать с ним в таком тоне было делом самым обычным, будто он чмо из-под койки, а не верховный.
И ещё Ионе вспомнилось, как Кундри на вопрос «Ты от чего лечишься?» ответила: «По женски».
21
Они шли весь остаток дня, до самой ночи, когда Кундри по каким-то одной ей ведомым признакам определила, что Тухлая падь кончилась. Ночь провели в овраге, дно которого покрыто было сухим бурьяном. Долго утаптывали жёсткие стебли полыни и чертополоха, устраивая себе ложа.
Когда уже улеглись все, Чиполлино, который присел в стороне, обхватив руками колени и подтянув их к груди, вдруг задрал к небу лицо и протяжно завыл по-волчьи на луну, повисшую в небе размытым пятном неясно-желтушного цвета. Первые минуты этого царапающего душу воя никто не произнёс ни слова – все были ошарашены и только молча уставились на Чипа. Слушая его завывание, Иона смотрел не в лицо безумца, который то вытягивал губы трубочкой, то разводил их чуть не к самым ушам, жутковато обнажая клыки, – он смотрел на луну. Он даже старательно протёр глаза, пытаясь рассмотреть, но какая-то пелена, застилавшая ночное светило, не ушла, и луна осталась бледно-жёлтым неясным пятном, словно карандашный рисунок ребёнка, старательно размазанный пальцем или бумажкой для придания размытости очертаний и схожести с настоящим лунным светом.
Психолог, которая заметила что-то в лице Ионы, тоже перевела взгляд на луну. И точно также потёрла глаза, и прищурилась и помотала головой. Значит, и она видела то же самое, что Иона.
А Чиполлино продолжал выть, пока Кундри злобным окриком не одёрнула его. Тогда Чип перевёл на снайпершу бессмысленный взгляд и улыбнулся идиотской улыбкой.
– Не умеет рисовать Самсон, – сказал он вдруг, когда все уже забыли про его выходку и засопели, готовясь отойти в сон, переметнуться из одного мира-сна, чужого и чуждого, в другой – свой собственный.
– Не умеет рисовать Самсон, – повторил безумец с довольной жизнерадостной улыбкой. – Не умеет рисовать.
– Заткнись, Чип, – велела Кундри. – Заткнись, ляг и спи.
Полчаса спустя все спали. Протяжно посапывала Кундри. Храпел Ездра. Роза Шарона дышала тяжело и часто – наверное, ей снился нехороший сон. Тогда Иона осторожно подполз поближе к Чиполлино, который лежал без сна, не сводя глаз с луны, повисшей над ними и по-прежнему затянутой маревом. Потянул сумасшедшего за рукав.
– Чип, эй, Чип… Скажи, Чип, кто нарисовал луну?
– Нарисовал, – безумным эхом, не поворачиваясь, равнодушно отозвался Чиполлино. – Самсон.
– А кто это? Ты можешь сказать, кто это – Самсон?
– Самсон. Доктор это. Плохой доктор. Он умер. Так она сказала.
– Кто?
– Она, – Чип приподнялся на локте, поискал глазами среди спящих и указал пальцем на психолога. Потом неуверенно перевёл палец на Кундри. И опять на психолога.
– Она сказала, – произнёс Чип плаксивым голосом, растревоженный собственным бессилием. – Она врёт. Она сама. Сама.
– Что – сама, Чип?
– Сама она. Врёт. Самсон.
Сказав так, Чип отвернулся и засопел тяжело, сдерживая слёзы, но не сдержал – горько заплакал, кусая пальцы и всхлипывая, и почему-то пукая…
Наступившее затем утро было непередаваемо серым. Самый воздух, казалось, утратил прозрачность и приобрёл собственный цвет – это был серый цвет лежалого трупа, или свинца, или пепла. Со сна и на голодный желудок всех потряхивало. Чип стучал зубами, прыгал и хлопал себя по бокам, но не переставал жизнерадостно улыбаться. Откуда-то наползал запах гари – далёкий, почти не ощутимый, но от этого не менее тревожный смрад то ли кокса, то ли жжёной резины.
– Это Промзона воняет, – сказала Кундри.
– А как она может вонять, если она мёртвая? – спросил Иона.
– Мёртвая, – кивнула Кундри, – потому и воняет.
В другое время Иона, может, и усмехнулся бы шутке, но – не сейчас. По слухам, промзона действительно была мёртвой, если, конечно, не считать живых-мёртвых собак, ползучего провода, поющих кранов, свистящих труб, слепых голубей и прочих радостей параноика. Она была мёртвой в том смысле, что все цеха её давно остановились, печи остыли, дверные петли заржавели, люди, если они там когда-нибудь были, покинули территорию. Поэтому запах гари не должен был и не мог доноситься из промзоны. Если только там не поселились какие-нибудь бомжи. Но что бомжам делать в этом царстве ржавого металла, ползучих проводов, живых-мёртвых собак и так далее?
Теперь по команде Кундри выстроились иначе: она впереди, за ней Иона, потом Чип, следом психолог, замыкал Ездра. Иона не знал, чем вызвано такое перестроение. Он попытался вспомнить, как шли поначалу и как потом. Не получилось. После сна минувшие события затянулись дымкой, будто случились они не вчера, а несколько лет назад. Сейчас он с трудом мог бы вспомнить кабинет Самого, эпическую битву с персоналом, бывших своих со-палатников, оставшихся лежать в грязи там, в пустоте и мраке (если верить этой странной розе Шарона), которые когда-то были санаторием.
Вот смотри, думал он (думал бессмысленно и неотвязно, будто жевал жвачку), в созвездии Кассиопеи, ты знаешь, пять звёзд. Так? Ну, допустим. Кто такая Кассиопея, я не знаю. Москва-Кассиопея помню. И всё. Ещё есть Лебедь, и в нём тоже, кажется, пять. Или нет? Неважно. Лебедь-то тут при чём? К нему ещё Рак полагается и Щука. Рак есть, а щуки – нет. В каком ещё созвездии пять звёзд? Не знаю. Ладно, возьмём Кассиопею, как самое очевидное. Она похожа на букву «М». Или на «W». Как посмотреть. Ну, и к чему это ты?.. Это я к тому, что нас тоже пятеро. И она знала, что нас должно быть пятеро, потому что у неё пять ампул. Заранее знала… Группа «Кассиопея» – так нас назвали бы, если бы когда-нибудь написали про нас книгу. Как про разведчиков… Нет, как про подопытных кроликов. А теперь скажи-ка мне, скажи, в каком порядке располагаются звёзды в Кассиопее и как их зовут?.. Кто бы их знал… К чертям эту дрянь… А кто у нас начинается на «М» или на «W»?.. К чертям…
Вчера Чип говорил что-то про доктора… про Самсона… Ну и что, к чёрту и Чипа. Убогий он… Всё к чёрту. Жрать охота. И того гляди, изжога навалится, давить станет… Эй, Сам, переставай думать в моей башке всякую дрянь, лучше дай пожрать… И от изжоги чего-нибудь.
Пока Кундри отходила за ближайшую кочку, чтобы там присесть, а Ездра пытался втолковать Чипу, за кем и как ему надо будет идти, Иона обратился к психологу:
– А какой у вас позывной?
– Что, простите? – не поняла та.
– Ну, мы ведь с вами до сих пор не знакомы. Вы-то нас, вроде, знаете…
– А-а, прозвище? – улыбнулась она. – Таилиэта.
– Таилиэта?.. Звучно. Инопланетно. Почти как Аэлита.
Она пожала плечами.
– А я думал – Кассиопея, – продолжал Иона, заглядывая ей в глаза.
Ну, заглянул ты в эти чёрные провалы, ведущие в никуда, в бездну бездн. И что? И ничего ты там не увидел. И в лице её ни один мускул не дрогнул.
– Кассиопея? – улыбнулась она. – Почему – Кассиопея?
Иона не успел ответить, потому что вернулась Кундри.
– Построились и пошли! – скомандовала она, подтолкнув Иону в плечо, к его месту в строю, и неприязненно глянув на психолога.
Не шли и десяти минут, как снова посыпал снег. Небо заволокло непроглядной хмарью, и висела она так низко над головами, что казалось, кто-то набросил сверху старую, стиранную-перестиранную простыню, с разводами, оставленными иссохшим вонючим стариком, который страдал недержанием мочи, а потом на этой казённой простыне дома престарелых и помер. И даже дышать стало тяжело, будто до неба и в самом деле можно дотянуться в прыжке, и кислорода между тобою и простынёй не осталось совсем. Да ещё эта вонь, которая с каждым шагом вперёд становилась явственней и тошнотворней. И только та же, покрытая снежной крупой, ломкая жухлая трава под ногами, и ни одного деревца вокруг, ни взгорка, ни оврага – ничего, кроме бесконечной серой пустоши. Кажется, что Санаторий стоял среди безлюдных земель, где-то на необитаемом острове в центре необитаемой планеты. Может, прав Ездра? Может, упала однажды с неба звезда Полынь, и только он, Иона, прохлопал этот момент? Ну или как раз в ту минуту он потерял сознание, или эта самая звезда стёрла у него память. Впрочем, Кундри тоже ничего об этом не помнит. Может, психологиня права, и они?.. Нет, бред!
По ходу движения из туманного марева впереди, по всей ширине горизонта медленно выползали ломаные серые очертания зданий, труб, ограждений, вышек… Там начиналась промзона. Но до неё ещё топать и топать. И никто не скажет тебе наверняка, стоит ли это делать.
Примерно через час вышли к реке, пересекавшей путь от горизонта до горизонта.
Эта река – речушка, метров пяти шириной – несла свою воду совершенно бесшумно, не было слышно ни всплеска, ни журчания, ни хлюпанья. Жидкость была чёрная, тяжёлая и маслянистая на вид, больше напоминающая сточные воды. Смрад, который поднимался от неё с едва заметными нитями пара, подтверждал это предположение. Вот эта, наверное, вонь и преследовала их с самого утра, не давая дышать. Берегов у речушки почти не было, словно она однажды заполнила собою овраг, а не пробивала себе русло год за годом и столетие за столетием.
– Речка! – изрёк Чиполлино с таким довольством собой, словно демонстрировал всем остальным мощь своего интеллекта. И, задумчиво посмотрев на чёрную воду, добавил: – Стикс.
Из чьих угодно уст готов был бы Иона услышать подобное, но не от дурачка Чиполлино, который не умел внятно выразить ни одной мысли, даже если она и возникала когда-нибудь в его бестолковой головушке. Куда уж тут таким ассоциациям! Но с другой-то стороны, не всегда же, наверное, Чиполлино был дурачком… Да и был ли когда-нибудь?!
Иона, поражённый этой мыслью, получше присмотрелся к Чипу, к его толстым слюнявым губам, глазам без всякого признака мысли, расплывчатому лицу…
Да нет, дурак, несомненно.
– Устами младенца, – крякнул Ездра.
– Надеюсь, она не глубокая, – сказала Кундри. – Шест бы какой-нибудь – глубину промерять.
– Ты хочешь переходить её вброд? – спросил Иона.
– А у тебя есть другие предложения? – сухо отозвалась Кундри.
– Если это Стикс, то где-то должен быть, это, и Харон, – усмехнулся Ездра. – Поорать, можа, покликать?
– Не надо орать, – Кундри передёрнула плечами, будто от холода.
«А ведь не такая уж она непробиваемая, какой хочет казаться, – подумал Иона. – Её, кажется, тоже гнетёт вся эта серость».
– Что будем делать-то? – спросил он. – Может, разделиться и пойти в разные стороны, поискать мост какой-нибудь?
– Разделяться мы не будем, – отрезала Кундри. – Никаких мостов не видать до самого горизонта. А этот ручей вряд ли будет глубже метра.
– Ну-ну… – изрёк Ездра. – Если это натуральная речушка, то, может, оно и так. А если её прорыли специально, это, под промзону, для стока, то… ухнем мы туды, девонька, и до самого, это, центра земли. Ага.
Кундри некоторое время смотрела задумчиво то на Ездру, то на речку, то сурово-вопросительно поглядывала на психолога, словно требуя у неё ответа и объяснения внезапному препятствию. Роза Шарона, прочитав значение её взгляда, зябко пожала плечами.
– Меня больше беспокоит химический состав этой… жидкости, – сказала она, морщась от зловония, которое принёс порыв ветра с того берега. – Может быть, она и не глубокая, но… выйдем ли мы из неё такими же, какими войдём. И выйдем ли?
Да какая тебе разница, – мысленно усмехнулся Иона, – если всё это только сон!
Их сомнения неожиданно и решительно развеял Чиполлино. Он вдруг нелепо подпрыгнул на месте, а потом уверенно шагнул в чёрную вязкую жидкость. Остановился, замер на мгновение, то ли прислушиваясь к ощущениям от этой жуткой влаги, объявшей ноги, то ли обретая точку опоры. Сделал ещё шаг. И, взмахнув руками, не успев даже испугаться и только издав напоследок звук, похожий на икоту, ухнул в эту таблицу Менделеева с головой.
Повисла тишина. Никто не шелохнулся, не произнёс ни слова. Не слышно было ни взбулька, ни всхлипа реки, проглотившей нежданную добычу.
Все замерли и молча ожидали появления Чиповой головы над маслянистой поверхностью реки. Но прошла минута, другая, а голова так и не появилась.
– Унесла дитё река, знать, судьбинушка така, – произнёс Ездра.
И тут голова Чипа почти бесшумно возникла над течением, улыбающееся лицо его повернулось к стоящим на берегу, рот жадно, со стоном втянул воздух, рука махнула, то ли успокоить, то ли в попытке ухватиться за ничто, и бедолага снова ушёл под воду.
– Даже утонуть не может без этой своей идиотской улыбки, – зло сказала Кундри.
И тут же, с громким шумом Таилиэта плюхнулась в воду и исчезла в её черноте, оставив за собой лишь едва заметное волнение, какое вызвала бы муха, упавшая в тарелку супа.
– Вот и правильно, – кивнула Кундри. – Надеюсь, она не умеет плавать. – И деловито бросила: – Уходим!
– Куда? – напрягся Ездра.
– От этих, – Кундри кивнула на воду. – Я не знала, как от них избавиться. Спасибо, сами догадались.
– Ты совсем того? – уставился на неё Иона. – А если кто-то из них Спящий?
Кундри смерила его хмурым взглядом.
– Тебя, Иона, она, похоже, сумела обработать, да?
– Я никуда не пойду, – отрезал он.
Собственно, и не успели бы они никуда уйти, потому что две головы – Таилиэты и Чипа – появились над водой. С мокрых волос их стекали на лицо потоки грязной жидкости. Чип улыбался и одной рукой держал за волосы психологиню. Другой он начал грести к противоположному берегу.
– Молодец, Чипушка! – крикнул ему Ездра. – Ждёт тебя медаль за спасение, это, утопающих из дела рук самих утопающих.
Иона кивнул и первым ступил в воду.
Жидкость была противно тёплой, густой и тяжёлой, вонючей и скользкой, так что плыть в ней было тяжко и тошно (а плыть – пришлось, потому что на втором шаге илистое дно ускользнуло из-под ног обрывом, который – кажется, прав Ездра – намекал на неимоверную глубину. Вот потому-то, похоже, Чип и не выныривал так долго, что пытался достать до дна.) Иона чувствовал себя мышью, попавшей в кисель. Плавать он и в обычной-то воде был не мастер, а уж в этой жиже его уже через несколько секунд обуяла паника – ему казалось, что река втягивает его в себя, как живой организм, норовит проглотить и переваривать, переваривать дни, недели и месяцы, прежде чем выплюнуть на неведомый берег в неизвестных пространствах грязные кости.
И едва он выбрался на противоположный берег, где уже тряслись от холода Чип и роза Шарона, сразу же без сил повалился на хрусткую мёрзлую траву. И вонючая грязь потекла изо всех его потаённых мест, и тут же пустопорожне вырвало желчью, а потом за дело взялся холод – устремился под одежду, под кожу, под мясо – до самых костей.
– Вы… вы… вы дум…маете эт-то Ч-чип? – кое-как выговорил он рискуя прикусить язык – так его трясло.
Роза Шарона не ответила, только пожала плечами.
И на кой чёрт она кинулась спасать Чипа, если плавать не умеет? Это хорошо ещё, что Чип не такой дурак, каким выглядит…
После купания необходим был костёр. И слава богу, в овраге неподалёку нашлись какие-то трухлявые влажные обломки, которые поначалу напрочь отказывались гореть, и только мастерство Ездры помогло тщедушному огоньку, добытому ценой жизни десятка спичек, набрать силу.
Фуфайки пришлось сбросить, потому что у них не было никаких шансов просохнуть. Психологине с её курточкой было проще – лёгкая болоньевая куртёшка без подкладки. Теперь у розы Шарона все преимущества: через час куртка просохнет и снова будет какой-никакой защитой от холода, а остальным, в рубахах да пуловерах…
Сидели впятером вокруг чахлого костра и тряслись молча, бездумно, пока огонь делал своё дело, и лишь когда мало-мальски согрелись и хлебнули по глотку спирта из фляги, невесть откуда извлечённой Кундри, лишь тогда ожили, зашевелились мысли.
– Похоже, ничего в этих местах страшного, – сказала Кундри. – Все эти жуткие россказни оказались байками ни о чём. Это чтобы мы за колючку не лезли. Так ведь? – повернулась она к психологине. Та не ответила даже взглядом.
– Но почему-то людей в округе нет, – возразил Иона.
– А что людям тут делать? – развела руками Кундри. – Местность для жизни не очень пригодная.
– И деревьев нет, – наставила Иона. – И птиц. Только слепые лисы да дохлые еноты. А?
Кундри пожала плечами:
– Экология тут, похоже, не очень. Вот и всё.
– И ни одной дороги, – продолжал Иона. – В санаторий продукты что, самолётом завозили? А нас туда на чём доставили? Что скажешь?
– А что я? Ты вот у неё спроси, – Кундри кивнула на Таилиэту. – Она тебе объяснит, что всё дело в сне.
Иона повернулся к розе Шарона.
– Сделаете мне укол? – спросил он.
Брови психологини удивлённо поползли вверх.
– Нет! – сказала Кундри. – Никакого укола она тебе не сделает, Иона. И думать забудь, понял?
– Ты, Кундри, не много на себя берёшь? – Иона грустно посмотрел на неё, даже улыбнулся краешком губ. – Валишь, наваливаешь… а унесёшь столько?
– Сколько унесу.
– Я за себя пока ещё сам могу решить.
– И я за тебя пока ещё решить могу, – усмехнулась Кундри. – Лучше уж тогда я ей укол сделаю. Вот из этой штуки, – рука её нежно погладила приклад винтовки.
– Даже так? – прищурился Иона.
– Не сомневайся.
В лице психолога ничего не изменилось, словно речь шла не о ней. Она с любопытством переводила взгляд с Ионы на Кундри и обратно, вслед за их репликами, читая выражения лиц. Но, кажется, не слышала или, по крайней мере, не вникала в сказанное, а думала о чём-то своём. Потом вдруг повернулась к Чипу, погладила его по мокрой голове, поцеловала в щёку.
– Спасибо, Чипушка.
– Чипушка, – расплылся в идиотской улыбке Чип.
22
Промзона наплывала медленно – поднималась, будто вырастала из земли ломаными линиями, зубцами и нелепыми закорючками цвета ржавчины – уже различимы были отдельные здания, трубы, мосты и подъёмные краны. Эти последние внушали особенно неприятное чувство – своей абсолютной мёртвой неподвижностью. А ещё – в голову такого журавля было бы очень удобно посадить снайпера. Видимо, о том же думала и Кундри, потому что то и дело останавливалась, чтобы поднести к глазам оптику и осмотреть один за другим краны, крыши, трубы. И скулы её покрывались нервными пятнами.
Строй теперь не держали, дистанцию тоже – шли вразброд, уставясь себе под ноги, во всём положившись на чутьё Кундри. Слабый и медленный, но ледяной и не стихающий ни на секунду ветер полз следом, как терпеливая гиена, которая ждёт своей минуты и знает, что рано или поздно эта минута наступит; поднимал вялую позёмку из снежной крупы, обрывков жухлой травы и клочьев рыжевато-бурой шерсти – то ли енотовой, то ли уже промзоновских собак.
Иона брёл, отрешившись от мира, целиком уйдя в разговор с психологиней. Он не уловил момента, когда и как она втянула его в этот выморочный, ненужный и пугающий разговор. Отметил только, что она как-то ловко проникла в его мысли, подстроилась, подладилась к ним, разом поняв, о чём он сейчас думает, и очаровала, увлекла, затянула в омут непонятной и какой-то ненужной беседы, как русалка увлекает за собой неосторожного купальщика.
– Я ненавижу время, – говорил он. – Я всегда ненавидел его, даже в те годы, когда о времени вообще не думают, потому что его впереди навалом, когда воспоминаниям ещё не тесно в твоей голове, зато мечты и чаяния толпятся в ней – не продыхнуть, когда совесть зовёт тебя не по имени-отчеству, с холодной вежливостью, а лишь изредка окликает с наигранной и ласковой материнской суровостью… Да, даже тогда я ненавидел его, время. Почему? Не знаю. Ведь время-то тогдашнее, прошедшее, или вернее даже давнопрошедшее – das Plusquamperfekt – было замечательное, в отличие от настоящего.
– А вы тоже делите время на прошлое, настоящее и будущее? – перебила психолог.
– А как ещё можно его разделить? – усмехнулся Иона. – Мы живём в трёхмерном мире, а значит, и время у нас тоже трёхмерно.
– На первый взгляд, – кивнула роза Шарона. – Но если присмотреться хорошенько?.. Можно увидеть, что на самом деле время неделимо. Будущее – его почти не существует, случится оно или нет – всегда под вопросом. Настоящего не существует, оно есть только в человеческом понимании, которое слишком медленно и склонно оперировать отрезками времени побольше – днями, месяцами и годами, историческими периодами и эрами, в лучшем случае часами и минутами, а потому стремится максимально обездвижить время, задержаться на происходящем, растянуть текущее мгновение, чтобы успеть хотя бы наспех осмыслить его, а заодно и отодвинуть от себя неопределённость будущего с его неизбежным концом всего… Но на самом деле этого мгновения настоящего нет – оно либо ещё будущее, либо уже прошлое. И что же остаётся у человека? А остаётся у него только прошлое. Только будучи уверенным в своём прошлом он может доказать хотя бы самому себе, что существует на самом деле. Преврати прошлое человека в выдумку, заставь его усомниться в адекватности воспоминаний, подсунь ему иной вариант былого, вместо того, с которым он живёт – и всё, он сойдёт с ума в попытках остаться в границах реальности, в безуспешных стараниях убедить себя и других в собственном существовании. Да что там – в существовании мироздания даже. Ведь человек не мыслит мироздания без себя.
– Значит, вы считаете время одномерным? По вашему, на самом деле существует только прошлое?
– На самом деле и его не существует, – улыбнулась психолог. – Ведь оно уже прошло. Возможно, давно прошло и стало плюсквамперфектом, как вы выразились. Оно существует только в сознании человека, в его памяти. Вот тут-то мы и упираемся в вопрос достоверности этого самого прошлого и адекватности этой самой памяти. По крайней мере, прошлое – не то настоящее прошлое, которого нет, а то каким человек хочет его помнить – это всё, что есть у него. Всё, что время позволяет ему иметь.
– Ну хорошо… А как же быть с людьми, потерявшими память? – нашёлся Иона. – Они же как-то живут и не сходят с ума от возможной нереальности себя.
– Это другое, – пожала плечами Таилиэта. – Они не помнят своего прошлого. Скажем, ни один человек не способен вспомнить себя в возрасте нескольких месяцев, но это не мешает нам жить. Примерно то же и с людьми, пережившими тотальную амнезию. Другое дело, когда вы помните своё прошлое и вдруг лишаетесь уверенности в том, что помните именно своё прошлое, а не приснившуюся вам однажды или придуманную кем-то за вас жизнь. Понимаете? Ужас наступает тогда, когда вы не можете отделить своё реальное прошлое от вымышленного. Вы, например, помните, что учились в школе номер двадцать семь, в девятом «гэ» классе и любили девочку Аню, сидевшую за соседней партой. И вдруг выясняется, что в школе номер двадцать семь нет и никогда не было классов под литерой «гэ», и на фотографии вашего класса, которую вы откапываете в куче хлама на чердаке, нет ни одной Ани. Вы идёте на очередную встречу выпускников, на которую не ходили вот уже двадцать лет, и никто там не разделяет ваших воспоминаний, на вас странно смотрят и перешёптываются за вашей спиной. Что это? – думаете вы. Я сошёл с ума? Но – когда: тогда, в девятом классе «гэ», когда любил несуществующую девочку Аню, или сейчас, когда приписал себе вымышленное прошлое?.. Когда вы сошли с ума? Ведь вы почти не сомневаетесь в своём сумасшествии, вам только важно понять – когда это случилось, и в каком месте заканчивается реальность и начинается безумие. И больше всего вас бесит именно невозможность это выяснить. Вы не можете даже понять, безумны ли вы на самом деле, или всё происходящее – просто чудаковатая цепь событий, у каждого из которых есть банальное объяснение, нужно только увидеть его. Вы думаете: у Бога так легко получилось отделить свет от тьмы одним усилием воли, почему же я не могу? Так ведь, Иона?.. Вот тут-то и приходит вам в голову спасительная мысль: сон! Всё это затянувшийся дурацкий сон. Нужно всего лишь проснуться, и всё встанет на свои места, всё снова пойдёт своим чередом, и девочка Аня из девятого «гэ» опять будет жарить на кухне омлет на завтрак и варить кофе, запах которого донесётся к вам в спальню, где на смятых простынях вы стряхиваете с себя последние обрывки нелепого сна…
– Так значит… значит, она всё же стала моей женой? – перебил Иона.
– Я не знаю, – пожала плечами Таилиэта. – Я просто хочу, чтобы вы проснулись, Иона. Но вы, вы, кажется, этого не хотите.
– Ну хорошо, – упрямо мотнул головой Иона, – хорошо, вот вы говорите, что я не могу отделить свет от тьмы одним усилием воли, как Бог, хорошо… Но тогда…
– Что? – роза Шарона остановилась, воззрилась на него непонимающим взглядом. – Вы о чём, Иона?
– Как о чём?.. Всё о том же. О предмете нашего разговора.
– Какого, Иона?
– Вы что, не помните, о чём мы с вами только что говорили?
– Только что? А мы разве о чём-то говорили? – нахмурилась Таилиэта.
– Ну как же… – недоверчиво улыбнулся Иона. – Вы мне про девочку Аню толковали. Из школы номер двадцать семь. Которой не было.
– Не было – девочки или школы?
– Нет, школа, вроде, была…
Тревожный взгляд психолога метался по его лицу, и вопрошающее выражение давало понять, что она то ли сомневается в серьёзности Ионы, то ли теряет и без того шаткую веру в его здравомыслие.
– А вы помните, в какой школе вы учились? – спросила она вдруг.
– Я? – опешил он. – В какой школе учился?.. Ну так это… Помню, вроде.
– Помните?
– Да, кажется. В… в двадцать седьмой?
– И девочку Аню помните?
– Что?..
– Я спрашиваю, девочку Аню тоже помните?
– Не знаю. Вы же сами сказали, что не было никакой девочки.
– Я ничего не говорила. Мы с вами не разговаривали, Иона, милый, не пугайте меня, прошу вас. Мы шли рядом, вы что-то бормотали себе под нос всё время. Я думала… думала, вы стихи читаете или напеваете что-то…
– Нет, ну как же… – попытался улыбнуться Иона. – Вы же мне целую лекцию прочитали про… про это…
– Про это? Я про это не так много знаю, Иона, – улыбнулась роза.
– Ну-у… про то, как незаметно для самого себя сходишь с ума.
– С ума сходишь всегда незаметно для себя. Обычно сумасшедший самым последним узнаёт, что он сумасшедший.
«Значит, она хочет сказать, что я сам с собой разговаривал, что у меня крыша едет. Ну-ну…»
– А сейчас мы с вами действительно разговариваем? – улыбнулся он. – Или я продолжаю сходить с ума?
– А вам самому как видится?
Ни одного прямого ответа на поставленный вопрос, – с ниоткуда взявшейся тоской думал Иона. – Одни лишь дутые сентенции, изрекаемые с глубокомысленным видом, уклонизмы и встречные вопросы… Да, похоже, я и вправду продолжаю разговор с самим собой, ведь уклонизмы и сентенции – это мой стиль.
А чего ты удивляешься? – обратился он к себе в следующий момент. Ведь это твоя всегдашняя манера. Ты ведь чокнутый, Иона, чокнутый. Тебе и Сам то же говорил. А потом его не было. Сначала он тебе говорил, а потом его не было. Или… или сначала его не было, а потом он тебе говорил?
А ведь точно! – подумал он. Ведь правда. Не происходило у нас с нею никакого разговора. С чего бы ей разыгрывать подобный нелепый спектакль?
А Анечку я любил, ещё как любил – первой любовью, невинной, нетронутой, нецелованной, свежей и сочной, как земляника на прогретом солнцем холме. Я и сейчас её люблю, девочку Анечку из девятого «гэ». И неважно, что выросла она в… А в кого она выросла? В Кундри, надо полагать. В Кассиопею. Но это не важно ни разу, потому что в моей памяти – которая спит со всеми подряд, шлюха, да что там, её вообще не существует, потому что это не моя память а – Самого или кого там ещё – в моей памяти Анечка навсегда останется той девочкой, самой первой, самой главной, самой притягательной и несбыточной, как мечта человека, лежащего при смерти. Вот так-то, Сам. И не тебе решать.
Идущие впереди остановились. Придя в себя, Иона увидел, что Кундри и Ездра застыли возле какого-то перекошенного указателя, вкопанного в землю.
– Что там? – встревожилась психолог.
– Сейчас узнаем, – буркнул Иона.
– Вот такие, значит, дела, – сказал Ездра, когда Чиполлино и Иона с психологиней подошли и встали рядом, уставясь на ржавый лист жести, лет полсотни тому назад приколоченный к покосившейся жердине. Зелёной выцветшей краской, разнокалиберными буквами на нём было намалёвано:
ACHTUNG!
Zutrit ins Promzoneteritorium
nur mit Spezpropusk
ВНИМАНЬЕ!
вход на територию пром. зоны
только по спецпропускам
– Ну что, – усмехнулся Ездра, – пропуска, это, у всех при себе?
– Мой – здесь, – отозвалась Кундри, качнув снайперкой.
23
Они прошли ещё не меньше двух километров по не тающей хрусткой снежной крупе, покрывавшей землю, прежде чем увидели перед собой заводские корпуса в полный рост. То, что они были мертвы, замечалось сразу, как и то, что жизнь не покинула их. Это была другая жизнь в старой реальности, или это была новая реальность в старой жизни, но то как застыли эти мутные зрачки-стёкла в глазницах окон и безжизненные взгляды их не отражали ничего, кроме сумрачной вечности, то как дышали рты распахнутых настежь дверей, как настороженно молчали облезлые стены и как гудели готовностью натянутые нервы проводов – всё говорило о том, что это громадное животное ещё живо, оно затаилось, прикинулось мёртвым, и ждёт. Ветер, весь день кравшийся следом, теперь вырвался вперёд, засвистел и загудел тоскливо в битых окнах и дверных проёмах, белыми змеями заскользила между цехами позёмка. Иона зябко поёжился, потянул носом холодный воздух, провонявший железом, гарью и небытием.
– Ну, вот, значит, – произнёс Ездра, безнадёжно пытаясь получше завернуться в куцую брезентовую куртёшку. – Она самая и есть, промзона. Последняя, это, препона на пути к новой жизни.
«Со старой бы разобраться», – подумал Иона.
Где-то далеко-далеко – или послышалось? – хрипло взвизгнул паровозный гудок. Плеснула с какой-то из крыш серыми брызгами голубиная стая, прошуршала низко над самыми головами людей, обдав, как показалось Ионе, вонью то ли разложившейся плоти, то ли мокрой ржавчины. Один из голубей на всём лету врезался в трубу, что росла над ближайшим цехом, и шлёпнулся на землю трепыхающимся куском мяса, и медленно осыпались следом белые и сизые перья, потерянные при ударе.
Там слепы мысли, и птицы слепы, и крылья ржавы, и ржавы скрепы… – думал Иона. О каких скрепах речь? О скрепах мира, конечно. Проржавели они давно, и уже не держат мир, и вся эта неловкая конструкция расползается на глазах, как во сне, и рушатся все устои, законы и правила… Если они вообще были… Да-да, отсюда и ощущение нереальности, сна.
А стая, пронесшись над двухэтажной дощатой хибарой-бараком с надписью во всю стену жёлтой масляной краской «СКЛАДЪ», развернулась и пошла обратно в их сторону, снижаясь, явно беря в прицел своих слепых глаз. За несколько секунд до того как случилась бы атака, вмиг всё понявшая и оценившая Кундри бросила короткую команду «Ложись!» и успела ещё толкнуть наземь улыбающегося Чиполлино. Попадали на твёрдую, кочковатую и пропахшую снегом землю, накрывая голову руками. Просвистели над головой крылья, обдав потоками и завихрениями воздуха.
Пока стая поднималась в воздух и делала круг, заходя для нового пике, они по команде Кундри бросились к ближайшему цеху и едва успели добежать до распахнутых массивных дверей. Один голубь, однако, сумел дотянуться до розы Шарона – ударился в голову, запутался в волосах, бессильно цепляясь за них коготками на скрюченных лапах, затрепыхался, забил крыльями, норовя клюнуть, но в глаз попасть не мог и только оставлял на лбу стремительно наливавшиеся кровью точки, а неподвижные бельмастые глаза его равнодушно смотрели в пустоту. Психологиня завизжала, затрясла головой, пытаясь избавиться от лютой птицы. А Ездра подошёл спокойно, неторопливо выплел озверевшего голубя из силков психологовой причёски и небрежным движением свернул ему голову. Отбросил забившуюся в конвульсиях птицу на бетонный пол, в кучу непонятного хлама, возле которой валялась съеденная ржой совковая лопата.
– Голубь… – пробормотала психолог враз побелевшими губами, с выражением неимоверного изумления. – Это же голубь…
– Птица, это, мира, – кивнул Ездра.
– Вот так-то, – сказал Иона, многозначительно глядя на Кундри. – Вот тебе и враньё.
Но не восхититься смекалкой и скоростью реакции этой женщины не мог. Конечно, она была молодец. И вдвойне молодец ввиду того, что не верила.
Кундри ничего Ионе не ответила, но по выражению её глаз видно было, что ни удивления, ни оторопи, ни страха по поводу происходящего она испытывать не намерена, и ничегошеньки очевидная нереальность случившейся реальности не изменит в её движении к намеченной цели. Не верила, да, ну и ладно, – невозмутимо отвечал её взгляд, – я, может быть и сейчас не верю. Плевать на это, пока оно не мешает мне идти дальше. Так что – забей.
Когда стих шум крыльев – а голуби несколько минут ещё кружили над входом, не оставляя, видать, надежды дождаться свою добычу – Кундри же и вышла первой под небо, держа наготове винтовку. Огляделась, уже совершенно успокоившаяся, что было видно по размеренности облачков пара на каждом выдохе, и кивнула остальным.
– Двигаемся быстро, по одному, короткими перебежками, – скомандовала она. – Смотрим по сторонам, рот не разеваем, ушами не хлопаем и не звучим никак. Я иду первая, Ездра замыкает.
Так и двигались. Сначала Кундри делала рывок от очередного укрытия до следующего, намеченного ею. За нею, оглядев небо и ближайшие крыши, бежал Иона, таща за собой Чипа. Дожидались бледную розу Шарона с исклёванным лбом и запыхавшегося Ездру, после чего отдыхали пару минут и делали новую перебежку, до следующего выбранного Кундри укрытия. Такой способ передвижения был, разумеется, крайне медлен, но зато относительно безопасен, правда только до тех пор, пока не вышли на огромный пустырь, заваленный кучами мусора и заросший ломким сухим бурьяном. Тут до ближайшего укрытия было не меньше трёх сотен метров, так что волей-неволей пришлось идти торопливым шагом, вдоль бетонного забора, ограждавшего территорию, поминутно скользя и спотыкаясь или увязая ногами в мотках проволоки, опасливо оглядывая небо и окрестности.
Тишина здесь, на пустыре, стояла особенно стылая, мёртвая, гнетущая, не сулившая ничего хорошего. Земля была исчерчена полосами, словно кто-то бессмысленно, часами, хлестал по ней верёвкой. Иона не сразу догадался, что следы эти оставлены ползучими проводами. В кучах всевозможного хлама соседствовали довольно странные для промзоны вещи: вот попалась на глаза латунная табличка с гравировкой «Д-ръ Левинзонъ Яковъ Арнольдовичъ. Женскiя болѣзни», вот подвернулся взгляду двуручный меч изрядно проржавевший и вряд ли уже пригодный для убийства, однако грозно упершийся остриём в грудь юноши-манекена с могучим торсом и полным отсутствием ног, там зеленел древностью бюст Тараса Шевченко с дырявой кастрюлей, надетой набекрень, здесь – отделяемая ступень с красной надписью «USSR», к которой неведомый шутник прилепил коряво выписанные «уся, но долечу». Повсюду густо была разбросана полусгнившая макулатура, начиная от производственных журналов и подшивок ведомостей, и заканчивая томами из собрания сочинений Ленина и кипами журнала «Работница». Довершали эту бессвязную дикую пляску эпох и укладов надувной крокодил, когда-то зелёный, а теперь облезлый, покорёженная детская коляска без колёс, и будённовка с большой красной звездой, вкривь и вкось напяленная на голову бронзового Самсона, раздирающего пасть бронзовому же льву. Всё это напоминало скорей вековую городскую свалку, чем заводской пустырь.
– Чем же на самом деле занималась промзона? – вопросила психолог, тоже обратившая внимание на разнобой в артефактах свалки. – Что это было?
– Кузница была, – усмехнулся Ездра. – Здесь ковалось счастье народов.
– Только вопрос странноват и не по адресу, – вмешалась Кундри, бросив на Таилиэту едко-внимательный взгляд. – Мы же во сне, подруга, а? Так что это ты лучше объясни-ка нам, что всё это значит с точки зрения всякого там сознания и без сознания.
Психологиня откровенно смутилась и, кажется, растерялась от этого неожиданного замечания. А Иона подумал: но ведь права же Кундри, права, не в бровь попала, а в глаз, в самую, это, как сказал бы Ездра, пупочку правды. Бабу, сказал бы он, не проведёшь, баба – она сердцем видит.
Вот такая у тебя получилась оговорочка, думал он, глядя на смущённую психологиню, вот такая нехорошая вышла заминка. Так что же, всё враньё, значит? Весь твой огород про сон – это туфта, и в ампулах у тебя метемпсихозол, а никакая не «сыворотка пробуждения». И значит, правильно полагала Кундри, что заброшена ты к нам Самим с целью диверсии. Так ведь, Кассиопея? Давай же, скажи что-нибудь…
О том же, наверное, думал и Ездра, потому что тоже поглядывал то на розу Шарона вопросительно, то – многозначительно – на Иону. Иона кивнул в ответ его взгляду.
И тут Чип сказал:
– Ох, больно-то как…
Взгляды соскользнули с психолога и сошлись на Чиполлино.
Провод, видимо, упёрся в кость, а конец у него, наверное был зазубрен, поэтому не соскользнул сразу с кости и не пошёл в обход её.
Бедолага Чип стоял и смотрел на то как медленно краснеет, пропитываясь кровью, штанина, и даже не делал поползновений переступить, отдёрнуть ногу, отпрыгнуть, сделать хоть что-нибудь для спасения себя и избавления от неожиданной боли. Стальной оцинковонный провод, четвёрка, похоже, выполз из кучи мусора и впился в Чипову ногу, в щиколотку, чуть выше ахиллесова сухожилия и упёрся, наверное, в кость. Во всяком случае, слава богу, он не двинулся вверх по кости, чтобы выбраться наружу откуда-нибудь в лучшем случае у Чипа из задницы, а в худшем – из глаза. Видно было, что он замер и не движется, и только покачивается чуть-чуть из стороны в сторону, как комар, проникающий жалом в кожу, – пытается соскользнуть с неожиданного препятствия и продолжить движение.
Кундри сообразила первой. Она метнулась к Чипу, моментально наступила на провод и оттолкнула дурачка плечом так, что тот отлетел на несколько шагов и, обиженно улыбаясь, завалился на кучу мусора.
Иона ожидал, что провод тут же сменит цель и атакует Кундри, но тот не сделал никакого движения – лежал, прижатый ступнёй снайперши к куче хлама. И даже когда Кундри, с занесённым для удара прикладом винтовки, осторожно убрала ногу, провод не шевельнулся.
А может быть, он и не живой был вовсе, а просто дурачина Чип сам напоролся на торчащий из кучи мусора кусок проволоки. Как бы там ни было, выяснять это ни времени, ни желания не было, поэтому после того как психологиня наскоро забинтовала ногу Чипа, двинулись дальше. Но некоторое время шли с оглядкой: не двинется ли провод вослед.
И всё же, и всё же… – думал Иона, – в какой реальности бывают живые провода? Бывают они в какой-нибудь реальности? Нет. Думаю, что нет. Только во снах и в фильмах ужасов они бывают. А значит, не был этот провод живым. Или его вообще не было – он только снится кому-то, как и мы… А ошибка Таилиэты… это просто срыв. Ведь невозможно видеть сон и не воспринимать его как реальность, не верить в происходящее. Так?.. Так.
За пустырём-свалкой открылась сеть морщинистых асфальтовых дорожек, пересекавших друг друга, как улицы некоего микро-города. Дорожки петляли и путались, огибая пни, которые когда-то, видимо, были тополями и клёнами, оживлявшими обстановку возле здания управы и представлявшими собой небольшую зелёную зону отдыха для управленцев. Когда и зачем спилены были деревья оставалось загадкой. Быть может, это случилось во время какой-нибудь очередной революции…
24
Маленькое зданьице управы прижалось к полуразвалившемуся бетонному забору. Хилое, одноэтажное, с мутными стёклами окон в старых, рассохшихся деревянных рамах. Заросшие плесенью и мхом стены, когда-то давно выкрашенные в салатовый цвет, теперь были серыми, с зеленоватыми разводами, словно кто-то, страдающий гайморитом, ежедневно приходил сюда, чтобы высморкаться на эту прелую штукатурку.
Сколько кабинетов, сколько начальников могло поместиться в этаком сарае? Неужели достаточно, чтобы отсюда можно было управлять целой промзоной, растянувшейся на бог весть сколько километров? Не верилось.
Трухлявое крыльцо, норовившее развалиться под следующим шагом, безбожно скрипело и стонало под ногами, когда они по нему поднимались.
Кундри, держа наготове винтовку, пнула дверь, и та, взвыв, будто от боли, петлями, распахнулась в тёмный простылый коридор; с треском ударилась о стену ручка и отлетела вместе с хлопьями иссохшей краски. Пыль на линолиуме в ёлочку почти скрывала рисунок, но трудно было определить давность смерти Промзоны по толщине слоя этого серого бархата. И когда они ступили на линолеум, пыль поднялась вокруг, так что можно было вообразить себя лунным первопроходцем. Зачихал Чиполлино, смешно теребя нос. Кундри яростно взглянула на него.
Узкий промозглый коридор с тремя-четырьмя дверьми, как кишка, пролегшая от желудка с табличкой на двустворчатой двери «Актовый зал» до ануса-выхода.
Проходя, Кундри легонько толкала каждую дверь, тут же прижимаясь к стене, держа наготове винтовку, но ни одна из них не открылась. Уходя, былые сидельцы-скитальцы этих кабинетов, кажется, неспешно вынесли мебель, выключили свет, воду и газ, попрощались с исшарканными полами и насквозь протёртым линолеумом, наглухо закрыли двери…
Ан нет, впрочем. Последняя перед актовым залом открылась. И как выяснилось, никто не выносил мебель и ничего не выключал.
Прислонился к стене тесного кабинета максимум на две персоны огромный несгорающий сейф с потёками масляной краски на боку. Притихла в углу за ним швабра, поставленная в мятое цинковое ведро, на дне которого заростала буйной плесенью тряпка. Тут же стоял стол с разбросанными по нему бумагами, карандашницей, коробкой скрепок, счётами и арифмометром «Феликс». Стул такой древний, что мог бы сниматься в фильмах про гражданскую войну, был отодвинут так, словно старик-счетовод в намотанном на шею старом шарфе, в толстых очках с коричневой древней оправой, сидящий за этим столом, вышел на минуту – курнуть, утробно покашливая и сплёвывая в угол, или кряхтя налить себе кружку кипятку, и сейчас вернётся. И только толстый слой пыли, покрывший это вековой давности седалище, разрушал возникавший образ матёрого гроссбухера. Если таковой и был, то давно уже помер (в том самом доме престарелых, на той самой простыне). В противоположном углу размеренно капало из медного крана в эмалированную, с разводами ржавчины, раковину.
На подоконнике томился давно помутневший стакан в облезлом латунном подстаканнике, а через стопку из трёх или четырёх гроссбухов от него стояло радио – дешёвый пластмассовый, пожелтевший от времени говорунчик выпуска семидесятых годов прошлого века, способный поймать пару каких-нибудь захудалых станций. Громкость была убавлена, что, однако, не мешало услышать бормотание диктора от самой двери. Бодрым голосом он командовал: «Продолжаем гимнастику. Руки вперёд, ладони на уровне груди. Начинаем махи руками вперёд и в стороны. И-и… ррраз-два!.. ррраз-два!.. Руки вместе, в стороны, вместе, в стороны… Не торопитесь, следите за дыханием… ррраз-два… ррраз-два…»
Ездра вдруг принял на себя роль клоуна, вообще-то ему не свойственную и как бы не по чину: вытянул руки, взялся приседать. Весело загыгыкал Чип, враз забыв про боль в ноге и хромоту, и тоже замахал руками, как ветряная мельница. Кундри смотрела на них, и в равнодушном взгляде её не мелькнуло ничего. Зато в глазах психолога не таяли снежинки страха.
– Лучше бы подумали, откуда здесь этот брехальник, – холодно сказала Кундри.
– Да какая нам разница, – отозвался Ездра. – Правда же, Чип?
– Ррраз-два! – радостно пропыхтел тот, разгребая застоявшийся казённый воздух. – Ррраз-два!
А Ионе было жутко. Действительно, откуда здесь приёмник? А главное, почему эта рухлядь, покрытая многолетней пылью, работает? Кто её включил? Сколько лет – или столетий? – одиноко транслировал он мёртвому кабинету далёкую до нереальности жизнь, пока капли из крана год за годом точили раковину? Или кабинет не мёртв?
– Гляди веселей, друг Ионушка, – ухмыльнулся Ездра, размахивая руками. – Чего приуныл, дружок? Всё нормально, это же только сон.
– Сон? – недоверчиво переспросил Иона.
– Конечно, – кивнул Ездра, не прекращая нелепых своих упражнений. – Вон и наука тебе подтверждает, – он кивнул на психологиню, которая стояла, сдвинув брови, погрузясь в раздумья. – Эй, наука, это ведь сон? – окликнул её Ездра.
– Что? – Таилиэта подняла на него взгляд. И, словно не слышала вопроса, произнесла: – Кажется, я понимаю… Да, я знаю, кажется… Дело в том, что…
– Не мямли, – прикрикнула Кундри. – И если ты хотела что-то нам сказать, то говори.
– И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода, – прошептал Иона.
– Чего? – перевела Кундри взгляд на него.
– Привет! Мы будем счастливы теперь, и навсегда, – ответил он.
– Ты хочешь сказать, это конец? – спросила Кундри. И снова посмотрела на психолога: – А? Конец, да?
Она так крепко сжала в руках винтовку, что побелели пальцы.
– Всё когда-нибудь кончается, – пожала плечами психолог. – Сон, жизнь, война, мир, песня, любовь, свет, тьма, ожидание, надежда, прошлое, насто…
– К чёрту! – оборвала Кундри.
– К чёрту! К чёрту! – радостно забубнил Чиполлино. – Самсон! К чёрту!
А Иона вспоминал: хочу быть незлобным ягненком, ребенком, которого взрослые люди дразнили и злили, а жизнь за чьи-то чужие грехи лишила третьего блюда.
– Ррраз-два!.. Ррраз-два! – жизнерадостно командовал ведущий. – Остановились, опустили руки, отдыхаем…
– Ладно, – сухо сказала Кундри. – Что-то мы здесь зависли. Надо двигать дальше.
И подойдя, ударом приклада размозжила приёмник, только полетели вокруг чёрные пластиковые лохмотья. Диктор поперхнулся последним своим жизнерадостным «раз-два!» и обиженно умолк.
– О чём вы думаете? – спросил Иона психологиню, задумчиво созерцавшую обломки.
– Я думаю о том, что происходящее всё больше и больше похоже на сон.
– А сначала было меньше?
– Меньше. Сон становится всё более бессвязным. Бредовым.
– Вас это беспокоит?
– Близка смена фазы. Спящий в любое мгновенье может проснуться. Как только происходящее дойдёт до вершины невероятия, до чьей-нибудь смерти, он наверняка проснётся.
– Кто проснётся? – Ездра перестал махать руками. – Кто?
– Самсон, – улыбнулся Чиполлино.
25
«Цех первичной обработки» представлял собой здоровый простуженный ангар с огроменной печью непонятного назначения, со множеством боковых помещений и закоулков, куч мусора и стылой металлической вони с тошнотворной примесью то ли медной гари, то ли чего-то химического.
Этот цех проглотил их как-то внезапно и сразу. Едва ступив в него, они тут же потеряли друг друга из виду в вязком сумраке и как ни окликала их потом Кундри, они не могли выйти на её голос – то натыкались на стены, то падали, запнувшись о кучу железного хлама, то голос Кундри обманывал их, эхом отражаясь от стен, перекликаясь сам с собою и заводя совсем не в нужную сторону. Кундри хотела посветить им, но только шипела и материлась, уничтожая одну не желавшую гореть спичку за другой, пока не извела весь жалкий их остаток. Не хотели они гореть, и всё тут. Может, атмосфера в этом цехе была такой. А может, и к лучшему, что ни одна спичка не загорелась, а то ведь чёрт его знает, что тут разлито в воздухе, чем это так тошно воняет – возьмёт да ухнет так, что и маму помянуть не успеешь.
Иона слепым котёнком тыкался то в одну стену, то в другую. Сначала он делал это с поспешной суетливостью, торопясь немедленно найти выход, словно вот-вот должен был случиться с ним приступ клаустрофобии. Потом взял себя в руки и принялся медленно поворачиваться на одном месте, пядь за пядью исследуя пространство. И выход нашёлся. И оказалось, что он всего лишь забился в какой-то закуток, в котором пахло сыростью и размеренно шлёпали о цеметный пол падающие ниоткуда капли.
Выбравшись из этой ловушки, он услышал неясный шелест голосов неподалёку, но непонятно в каком направлении, потому что звуки здесь имели способность многократно отражаться и преломляться в загогулинах переходов и капканах стен.
Потом, на пятом-шестом его шаге во мрак, потянуло вдруг откуда-то потоком душного спёртого воздуха и разговор стал явственней.
– Вы поможете мне? – услышал он за темнотой подрагивающий голос психолога.
– В чём? – отозвался голос Ездры. В нём слышалась напряжённая готовность бежать не глядя или бить не спрашивая.
– Поможете мне справиться с этой женщиной? – осторожно произнесла роза Шарона.
– С Кундри?!
– Тише! Да. Она очень опасна. Из-за неё могут погибнуть все.
– Нет. Что за бред, девонька… Ты, стало быть, хочешь, чтобы я, это, помог тебе грохнуть Кундри?.. А потом Иону, да? Он ведь тоже, это, край как опасен. Про Чиполлино я и не говорю – это сам дьявол, как пить. Ну а там ты уж как-нибудь со мной, стариком, управишься, так?..
– Убить?! Господи… Я не знаю, как убедить вас, как помочь вам поверить мне, – растерянно отвечала психолог. – Ну что же мне делать?
Наступила минутная тишина, которую Иона слушал, пытаясь разглядеть в сумраке силуэты и лица. Но увидеть их не удалось.
– Я ведь тоже могу умереть, – тихо произнесла наконец Таилиэта. – Точно так же, как и вы, если вы не фантом, конечно, но вы не фантом, я знаю. Так же как и вы, я ему снюсь сейчас, а моё тело лежит в клинике.
– В клинике? Какой клинике? – отозвался встревоженный голос Ездры.
– Что?
– Ты сказала, дескать, тело твоё лежит в клинике.
– Да?.. Не знаю. Это… Не знаю, почему я это сказала. Поймите, Ездра… это сон, а во сне… во сне не всегда говоришь то, что думаешь…
– И не всегда, это, думаешь, что́ говоришь, ага?
– Да.
Потом, после минутного молчания, Ездра что-то долго бормотал, но Иона уже не мог расслышать слов, бормотание Ездры походило на скороговорку монаха, быстро читающего молитву, на шум ветра, на шорох прибоя или гул дальнего-дальнего камнепада. Слушать его, не понимая, стало вдруг так невыносимо, что Иона закрыл ладонями уши и долго стоял уперевшись лбом в холодную пыльную стену.
Когда он отошёл от неё, всё уже, кажется, закончилось. Над цехом повисла тишина, наполенная скрипами, шорохами, неясным сопением и приглушённым лязгом, будто работал неподалёку некий механизм. Далеко в промзоне выла собака, и протяжный этот унылый вой вытягивал душу предчувствием или даже обещанием чего-то очень плохого. Потом на несколько секунд вырвался в небо и слился с собачим воем протяжный заводской гудок. В соседнем помещении перекликались Ездра и Чиполлино. Ни Таилиэту, ни Кундри слышно не было. И не видно было ни зги в этом сумраке, в этой почти космической тьме.
Ощупью он долго пробирался вдоль стены, не убирая от неё руки, осторожно переставляя ноги, до рези в глазах бессмысленно вглядываясь во мрак, пока за очередным поворотом вдруг не ударил в глаза взрывом сверхновой тусклый свет запылённой лампочки, болтающейся под потолком тесного помещения, похожего на закуток-слесарку.
Вынырнула из темноты откуда-то сбоку Кундри, остановилась в шаге, тяжело дыша и вглядываясь в лицо Ионы так, словно хотела или наоборот боялась увидеть в нём ответ на все вопросы мира, на которые если не сейчас, то никогда уже не будет отвечено.
– Что? – невольно произнёс Иона, тускнея под её занозящим взглядом.
– Где все? – вопросила она, пробегая глазами по фигуре Ионы сверху вниз и обратно, будто сомневалась, что это действительно он и сличала теперь с образом в памяти.
– Не знаю. Собака выла, слышала?
– Какая собака?
– Не знаю, какая. И гудок заводской. Тоже не слышала?
– Нет.
– Странно…
Кундри вдруг сделала шаг ближе, толкнула в грудь, прижала спиной к шершавой бетонной стене, приблизила своё лицо к Иониному. Он почувствовал запах давно не чищенных зубов, стянутого жаждой рта.
– Чего? – произнёс он. – Ты чего, Кундри?
Она дышала часто, дыхание было неровным, подрагивающим, суетливым.
– Только не ори, – сказала она. – Этим не нужно слышать.
– Не орать? – улыбнулся Иона. – Бить будешь, что ли? Или насиловать?
Она ещё плотней прижалась к нему, прошептала в самое лицо:
– Ты тоже думаешь, что я… ненастоящая?
– Нет, я так не думаю, – опешил Иона. – Ты настоящая, Кундри.
– Правда?
– Да. А кто думает, что ты не настоящая?
– Поцелуй меня…
– Ну вот, а говорила, что не будешь насиловать…
– Поцелуй меня, Иона.
– Сначала покажи правое бедро.
– Бедро? – её брови дёрнулись вверх. – Правое? А почему – именно правое? Тебя только от правых ляжек штырит? Вообще-то, у меня есть места и получше.
– Я знаю. Покажи, – настаивал Иона.
Кундри не шевелилась, замерев, глядя Ионе в глаза. Во взгляде её читался… страх, да. Кундри боялась! Но – чего?
– Покажи, – повторил Иона, впитывая её страх, наполняясь им и чувствуя внезапно, что этот страх делает его самого решительней и неуязвимей.
– Ну? – нажал он.
– Нет. Я боюсь, – сказала Кундри, и губы её задрожали, а зрачки заметались в тесноте глазниц, пытаясь утаить назревавшие слёзы. – Нет. Вдруг… вдруг там ничего нет?
– Где?
– На ноге. У меня на ноге. Вдруг там ничего нет? Я… я тогда с ума сойду. Я убью себя.
«Это что? – думал Иона, вглядываясь в страдальческое выражение лица снайперши. – Что это? Истерика? Игра? Да нет, слишком тонко для этой… Кассиопеи. Нет, амазонки. Слишком тонко.
– Хочешь, я скажу тебе всю правду? – прошептала Кундри.
– Прямо всю? – улыбнулся Иона. Но улыбка вышла откровенно натужной, потому что ему тоже вдруг стало страшно. Слово «правда» иногда может испугать похлеще пистолета. – Может, не всю для начала? Всю сразу я не переживу.
Кундри не улыбнулась. Она не сводила с лица Ионы глаз.
– Я знаю, кому мы снимся, – сказала она.
– Ну и… кому?
– Типа ты не знаешь?
– Не знаю, Кундри.
– Тебе. Мы снимся тебе, Иона. И ещё, знаешь? Я не настоящая. Как только ты проснёшься, меня не станет. Совсем. А я не хочу, чтобы меня не было. Я молодая, красивая. Я хочу жить. Хочу детей. Так что ты не просыпайся подольше, ладно? Не просыпайся, пока я не состарюсь и не умру. Тебе так тоже будет лучше.
– Значит… значит, на ноге у тебя… ничего нет?
– Нет.
– Однако ты не сошла с ума.
– Сошла. Иначе я бы ничего тебе не сказала. Разве не так?
– Значит… значит ты ей поверила?
– Кому?
– Ну, этой, розе Шарона.
– Какой розе, Иона?
Он заглянул в её пустые стеклянные глаза. Да, они были сейчас пустые и стеклянные.
– Кундри… Психолог. – пробормотал он. – Таилиэта. Ты… ты хочешь сказать, что её нет?
– Её нет, никакой, ни той, ни этой, – произнесла она голосом, напоминавшим скорее отклик горного эха, но в голосе этом звучали паника и вдруг явившаяся откуда-то безнадёжность. Потом, он жадно потянула ртом воздух и закричала: – Не просыпайся, Иона. Стой! Иона! Не просыпайся! Не просыпайся!!!
Её крик, почти визг, ворвался в его уши. Иона невольно оттолкнул её, дёрнулся в сторону, и тут же услышал щелчок предохранителя и увидел чёрный глаз винтовки, уставившийся ему в лицо.
– Эй! – просипел он, чувствуя, как холодная змейка страха выползла откуда-то из живота, поднялась и стиснула кольцами сердце. – Подожди, Кундри, не дури. Если ты выстрелишь, сон кончится.
– Не просыпайся, Иона!
– Я не проснусь, – закивал он. – Конечно, я не проснусь. Только ты не дури. Всё будет хорошо, Кундри.
– Если ты проснёшься, меня не станет.
– Я не проснусь, Кундри. Обещаю.
За её спиной послышался шорох, осторожные шаги, чьё-то дыхание. Кундри немедленно отпрыгнула в сторону, разворачиваясь, выискивая в прицел новую цель.
Иона не стал дожидаться, чем всё закончится – рванулся в темноту цеха.
Ему показалось, что рванулся. Но только ноги вдруг отказали и не хотели двигаться. Их наполнила истомчивая слабость, к ним вдруг оказалась привязанной пудовая гиря; мышцы обмякли, сердце как будто перестало биться, стало пустым и дребезжащим. «Как вода я пролился, и стало сердце моё как воск». Таилиэта, та или эта, ни той, ни этой, Иона и она.
Кое-как волоча ноги, словно увязая в болотном месиве, он сделал несколько неверных шагов, каждое мгновение ожидая выстрела. Споткнувшись обо что-то, повалился, едва не разбив голову, и пополз. Он загребал руками, обдирая запястья и колени о рассыпанный по бетону мусор, и ему представлялось, как с усмешкой на губах Кундри шагает следом, и ствол винтовки покачивается над его затылком.
Однако Кундри, кажется, было не до него. Она с кем-то разговаривала. Но её собеседника по голосу он определить не мог. Да он его и вообще не слышал. Может, Кундри разговаривала сама с собой? Впрочем, на неё было не похоже.
Тогда Иона с трудом поднялся и, держась за стену, двинулся вдоль неё, безуспешно вглядываясь во мрак маленького цеха без окон и дверей. Навстречу тянуло густым тошнотворным запахом разложения и… псины, да.
Иона остановился, посмотрел назад, силясь разглядеть что-нибудь в блёклости стен, но темнота в той стороне, откуда он только что пришёл, стала непроницаемой, будто где-то закрыли дверь или вдруг наступила ночь. Зато тускло засветился проход справа, словно в конце задымлённого бетонного тоннеля зажгли свечу.
Ему показалось, что с той стороны, где он оставил Кундри донёсся вскрик. Он ждал выстрела, а не этого слабого женского крика, похожего то ли на возглас удивления, то ли на стон.
Что-то случилось с Кундри… До неё добралась во мраке Таилиэта со своей иголкой? Или Чип, обуянный приступом безумия? Или Ездра, осознавший вдруг всю правду? Ту самую всю правду, которую Кундри пыталась поведать?
Плохо одно: без Кундри и её винтовки им не выбраться отсюда.
Неясный шорох внезапно ударил из мрака по барабанным перепонкам, как выстрел. Иона вздрогнул.
Кто там? – хотел спросить он, но вовремя понял, что лучше не подавать голоса. Мало ли – кто… Полоумная роза Шарона со шприцем на взводе ничего хорошего ему не сулит. И неизвестно, что хуже: она, или не менее полоумная Кундри со снайперкой. А Ездра… Он никогда особо не доверял этому типу себе на уме, готовому перешагнуть через кого угодно – через сколько угодно кого угодно… И Чип… Ну, тут вообще всё ясно.
Да, он, Иона, оказался в компании полоумных, среди четвёрки психопатов, каждый из которых повёрнут на своём. И у каждого найдётся повод подобраться в темноте к Ионе. Если даже сейчас такого повода нет, то что стоит психопату его придумать.
Бежать. Нужно бежать отсюда, одному. Пусть эти психи делают, что хотят в этом сне или в этой реальности так похожей на сон. Пусть они до скончания всех в мире снов бродят в этих пустошах, оставшихся после падения звезды, пусть замерзают в этих пустынных цехах, лишённых дахания жизни и наполненных дыханием смерти, пусть задыхаются под небом-простынёй, на которой кое-как намалёвана луна… или что там на ней намалёвано…
Впереди, в непроглядном мраке кто-то заплакал. Иона, не отпуская вспотевшей ладонью шершавую стену, волоча ноги, чтобы не запнуться, пошёл к источнику едва заметного света, что выбивался из тьмы контуром невысокого прямоугольника – наверное, там была дверь. Удивительно, что свет не мог пробиться во мрак цеха, в котором подрагивал от напряжения Иона, он оканчивался этим контуром, словно обрезанный ножом.
Снова был звук похожий на всхлипывание.
– Кундри, ты здесь? – тихонько окликнул он.
Из освещённого прохода послышалось то ли сопение, то ли шорох тела, ползущего по усыпанному цементной крошкой полу.
– Кундри! Ездра!
Осторожный лязг и скрежет. Потом звук, похожий на звонкое шуршание по цементу отпущенной металлической проволоки, которая быстро скручивается обратно в спираль.
Ползучий провод?..
«И смотрят жадно из тьмы и мрака, как две луны, два пустые зрака…»
– Кундри…
Неуверенно держась на ногах, из прохода появилась облезлая собака. Хвост её вяло покачивался. То ли она пыталась казаться дружелюбной, то ли зад её заносило при каждом шаге – последствия пареза или бог знает чего. Была ли она слепа – Иона даже задаваться этим вопросом не стал: разумеется, слепа.
Собака оскалила редкие зубы, а хвост её продолжал приветливо покачиваться. Мшисто-ржавого цвета шерсть торчала и свисала с тощего тела клочьями. Сумасшедшая псина.
В следующую минуту позади первой явилась ещё одна – такая же, сестра-близнец, с похожей на старый мох шерстью, наполовину облезлая. Слепая. Она встала рядом с первой, и казалось, что она наползла на первую, что они пересеклись, как два объекта в компьютерной игре с плохой графикой. И лапы обеих были зримо напряжены, словно животные готовились к прыжку. Белёсые незрячие глаза уставились в одну точку где-то над Иониной головой.
Когда появилась третья – на вид близнец первых двух, – у Ионы перехватило дыхание.
Потом была четвёртая. Пятая. Шестая…
Иона бросился обратно, туда, где осталась Кундри. Но хода не было. Неожиданно гладкая и холодная стена встретила удар его тела. На минуту он опешил, отступил на шаг, потом бросился на стену, закричал и принялся молотить в неё кулаками, слыша хриплое дыхание и рык за спиной и чувствуя, как шерсть на загривке поднимается дыбом и у собак и у него самого.
– Откройте! Откройте, твари! – кричал он. – Сам! Открой! Кундри, помоги! Псы! Здесь эти псы! Слепые! Сам! Они сожрут меня!
– Опять, – крикнул кто-то где-то. – В помывочной. – И это не было голосом ни Кундри, ни Ездры. Тяжёлый мужской голос, смутно знакомый, но не определимый наверняка.
Дверь распахнулась. Ворвались санитары с прищуренными взглядами, источающими недобрую готовность. Иона повернулся к ним, примеряясь встретить первого боковым справа. Но тот ловко увернулся и обхватил Иону за шею, двинул ему коленом в пах, ударил спиной о стену так, что дыхание зашлось. Иона охнул, поджимая ноги, стремясь опуститься на пол. Но опуститься ему не дали. Торопливо и кое-как выдернули в коридор и потащили по нему волоком, как пленного красноармейца на расправу, и били на ходу кулаками, пыхтя, злобствуя, матерясь. Иона смотрел в линолеум ёлочкой, по которому волочились его поджатые ноги без носков, в одном растоптанном казённом тапке (второй спал в процессе борьбы) и серых застиранных штанах, и считал удары, падавшие на спину, живот, голову.
26
Огонь плескался поверх досок от разбитого кузова Урала и ящиков из-под ОФЗ, то прятался, то выпрыгивал снова, как игривый рыжий котёнок. Шипели, падая в костёр капли моросящего дождя.
Они сидели вокруг на серых от влаги камнях и смотрели в огонь.
– Что-то задолбало это всё, – сказал Чомба.
– Что – всё? – спросил Козлобород.
– Да всё… Перевал этот задолбал. Дождь задолбал. Грёбаные сипаи задолбали. Сгущёнка задолбала. Курево это дерьмовое… – он смял и бросил в огонь опустошённую пачку, вздохнул, сунул последнюю сигарету в рот.
– Бывает, – кивнул Антипод.
– Особенно по молодяни, – вставил Дылда.
– Особенно перед смертью, – взоржал Тошнот.
– Хреновая шутка, – сказал Дефлоратор.
– Да ладно, – отмахнулся Тошнот.
– Эта войнушка ещё отзовётся нам, – покривился Козлобород.
– В смысле? – прищурился Дефлоратор.
– Ну… Знаешь, как это бывает частенько… сегодня из тебя сляпают героя, коли уж так карта легла, а завтра, по нужде – ублюдка.
– Ну, это ты зря, – помотал головой Антипод. – Нам ещё памятники ставить будут.
– Кресты скорей, – ухмыльнулся Дылда.
– На братских могилах не ставят крестов, – сказал Чомба, передавая Ионе бутылку с кисельной болтушкой. – И вдовы на них не рыдают.
Иона потянул из бутылки приторную бурду, провонявшую химической вишней, до одурения сладкую, с крахмальной мучнистостью, сразу осевшей на зубах.
– Самая гадская мысль – что всё зря, – сказал Чомба.
– Что – всё? – кольнул его взглядом Антипод.
– Да всё, – отмахнулся Чомба. – Убиваем зря. Нас убивают зря. Кому и на кой хрен это надо? Точно не нам. Но убивать будут – нас.
– Что-то ты сегодня разнюнился, – сказала Кундри. – Правда, не к добру это.
– Кундри! – воскликнул Иона. – Кундри… Ты – здесь?
– А где мне быть? – она удивлённо взглянула на него. – Чудной ты какой-то сегодня, Иона. Случилось что?
– Да он всегда чудной, – ухмыльнулся Тошнот. – Он же считает, что ему это всё снится – дурной сон всё это, типа. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, ага, Иона? Но тут я согласен, да, на дурной сон это больше всего и смахивает.
– Мы не во сне, мы – в аду, – вставил Антипод. – В адских топях.
– В гадских, – поправил Иона.
– Да не один ли хрен, – хмыкнул Антипод. И тут же повалился на землю, сброшенный с ящика взрывной волной.
Разом загремело со всех сторон, затрещали очереди, будто тысяча гремучих змей упала с неба на перевал. Заметались меж налетевшими стаями посвистывающих смертоносных птичек люди, дёргая затворы автоматов, оскаливаясь в рожу смерти, крича, призывая и матерясь.
Иона отползал к укрытию, волоча за собой автомат и видя, как с бешеной скоростью вращается на камнях пробитая пластиковая бутылка с мутной вишнёвой гадостью, брызгающей из неё по сторонам подобно крови. Как падает на землю Дефлоратор с огромной дырой в шее. Как подлетает в воздух поднятый и тут же сломанный взрывом Чомба, так и не успевший натянуть каску.
Огрызнувшись раз-другой короткой очередью в сторону ближайшего склона, Иона, стиснув зубы, поднялся и, петляя, помчался к навалу из камней и мешков с песком. Перепрыгнул через чьё-то искорёженное тело, повалился на землю и, раздирая спину об острые камни, покатился в укрытие. Только разве укроешься тут, когда летит в тебя со всех сторон света… Это благо ещё, что сторон – всего четыре; а если бы больше? И ведь в тебя летит, только в тебя, а ты – один как перст на всей этой долбаной планете, несущейся чёрт знает откуда, чёрт знает куда и зачем, во мраке вечности, в котором все эти Кассиопеи, солнца, стрельцы, альфы и омеги, иные формы и иные разумы, и всем им плевать на тебя, на жалкую твою жизнёшку, которую вот сейчас отнимут у тебя на веки вечные и ничего взамен не дадут – ни альфы, ни омеги, и не будет у тебя ничего больше и никогда.
Вывернулся откуда-то Козлобород, увидел Иону, крикнул ему что-то не слышное за грохотом, и побежал к блиндажу, на ходу меняя у автомата магазин.
Адовой вороной каркнул совсем близко пулемёт, положил на спину Козлоборода аккуратный стежок. Козлобород даже не охнул, повалился на колючку, окружающую блокпост.
Иона заорал, залил то место, откуда слышен был пулемёт, свинцом, преодолевая позыв подскочить и бежать к Козлобороду – вдруг ещё можно чем-то помочь. Вдруг хотя бы попрощаться можно ещё успеть.
Рвануло совсем рядом. Прилетевший осколок – горячий, с неровными рваными краями, снёс Ионе полголовы. Так ему казалось ту долю секунды, пока он падал и прежде чем сознание угасло в нём, как финальный кадр нелепого фильма.
27
После укола как обычно все разошлись. И только Чиполлино оставался рядом – сидел возле койки на стуле, мерно покачивался и улыбался каким-то своим мыслям, или безмыслию. Билась в окно почуявшая недалёкую зиму вялая муха. Она давно уже утратила смысл и волю, она смирилась и приняла, а вся её битва с равнодушным стеклом, за которым стынет осень, – не более чем безысходность.
Иона перевёл взгляд с мухи на Чиполлино. Бедолага продолжал мерно раскачиваться, сосредоточенно уставясь в одну точку где-то правее ножек Иониной кровати. Чипу хорошо – у него нет настоящего. Нет будущего. А главное – у него нет прошлого. В общем, у него нет жизни. Индивидуальности нет. Он – биомасса. Он как тот фантом, про каких говорила Таилиэта. Каким считала себя Кундри. Кончится сон бога, которому все мы снимся, кончится и Чип.
«Но и ты тоже кончишься, когда проснётся Бог», – сказал кто-то внутри Ионы.
Значит, не так, тут же повернул Иона вспять, значит проснётся тот человек, которому снится Чип, и…
«Выходит, и ты тоже ему снишься вместе с Чипом, этому человеку», – перебил голос.
Иона хотел что-то возразить, но мысль, потребная для возражения, внезапно испарилась – это начинала, кажется, действовать инъекция.
– Чиполлино, – позвал он. – Эй, Чип.
– Чип, – улыбнулся тот, переставая раскачиваться и обращая к Ионе свой пустой и прозрачный взгляд. Собственное имя всегда вызывало у Чипа улыбку. Как, впрочем, и всё остальное.
– Видишь, Чип, – осень? – сказал Иона, снова переводя взгляд за окно, на съежившиеся от холода рыжие тополя и вязы. – А скоро зима.
– Зима, – кивнул Чип. – Зима. Скоро.
Наваливалась хмурая вялая тоска, как всегда бывает после укола. Скоро эта тоска перерастёт в тошнотворную сонливую слабость, когда не хочется шевелиться, не хочется думать, говорить, даже дышать. Не хочется ничего, будто ты уже умер. Нет мыслей, нет желаний, нет чувств, а значит, ты действительно мёртв. Но это потом, потом, хотя и скоро уже. А сейчас он – как та муха, что с тупым и безнадёжным упорством всё бьётся и бьётся в стекло. И он даже не вздрогнул, не подскочил, не улыбнулся, когда дверь в палату открылась и вошёл – весь в белом, как ангел вечности – Ездра. В белом халате, с деловитой папкой под мышкой, в солидных очках на носу.
– Эй, эй, эй! – донеслось из коридора раньше, чем Ездра успел прикрыть за собой дверь. – Гражданин, минуточку!
Ездра с солидной вежливостью придержал дверь, отошёл в сторонку, пропуская в палату санитара – грузного, красномордого, вечно потного Ермолаева.
– Вы гражданин по какому поводу? – строго насупился Ермолаев, протягивая руку, готовый уже взять Ездру за рукав и вывести из палаты в коридор, а если понадобится, то и дальше. – Вы как сюда попали?
– Через служебный вход попал, – спокойно отвечал Ездра. – Я из области. Вас, наверное, не проинформировали, любезный.
– Из какой такой области? – хмурился Ермолаев. – Никто мне не информировал.
Произнёс он это не очень уверенно, явно сознавая, что рискует превысить невысокие свои полномочия. Но посторонний в помещениях – это вам… А вот возьмёт он, Ермолаев, да сходит на пост сейчас и поинтересуется, кто пропустил чужака.
– Из области, – повторил Ездра. – Из Ганнушкина.
– Из области, не из области, а документы у вас какие есть? – напирал Ермолаев.
– Вы, любезный, при какой должности тут состоите? – чуть строже сказал Ездра, словно бы начиная терять начальственное терпение. И даже взглядом смерил санитара с головы до ног.
– При санитарной, – опешил Ермолаев и принялся потеть вдвое против обычного.
– При санитарной… – повторил Ездра будто бы в раздумье. – Вы, милейший, вот что… вы найдите-ка мне главврача вашего. Интересно как-то меня встречают в этом заведении… Я вам тут кто?..
– Доктор Сам отдыхает, – сник санитар и забегал глазками, явно желая быть сейчас в другом месте.
– Что значит – сам отдыхает?.. – дёрнул бровью Ездра.
– Самсон, – улыбнулся Чиполлино.
Ермолаев бросил на Чипа быстрый взгляд, кивнул:
– Сам – это, значит, фамилия такая. У зав отделением, – пояснил он гостю. – Кореянка она. Сам Сон Ли. Отдыхает сейчас после ночного дежурства.
– Ах, вот оно что. Тогда, может быть, не стоит беспокоить доктора…
– Это ничего, ей не привыкать, – вернулся к подозрительности Ермолаев и повернулся к двери. – Сей момент позову… Вот и разберёмся, – добавил он себе под нос.
– Сам, – прошептал Иона, бледнея. – Сам!
Когда санитар ушёл, после некоторых раздумий оставив-таки за собой дверь открытой нараспашку, посетитель вздохнул свободней. Он первым делом закрыл дверь, потом подошёл к Чиполлино, потрепал его по волосам, наклонился к нему:
– Привет, Чип, старина, – сказал он.
Чиполлино широко улыбнулся:
– Привет.
Гость повернулся к Ионе.
– Ну, как ты?
Иона с усилием поднялся, распахнул объятия.
– Ездра!
Они обнялись.
– Ездра! Ну, когда? Скоро? Когда ты вытащишь меня отсюда?
Ездра улыбнулся, кивнул.
– Скоро, дружище, скоро. Мы работаем над этим.
– Что там Кундри?
– Всё хорошо, Иона, – кивнул Ездра и снова повернулся к Чипу. – Ну что, Чип, как себя чувствуешь?
– Да ничего, – отозвался Чиполлино, закатывая рукав пижамы. – Вот только то лапы ломит, то хвост отваливается.
Ездра хмыкнул.
Он достал из кармана кожаный несессер, открыл. В аккуратные кармашки были вложены несколько ампул с бесцветной жидкостью, а в петли – одноразовые шприцы. Ездра выдернул один, сорвал пластиковую упаковку. Извлёк одну ампулу, быстро взломал, встряхнул, постучал пальцем, посмотрел на свет. Набрал в шприц два кубика жидкости, выдавил воздух. Ампулу сунул в специальное отделение несессера. Из другого отделения достал клочок ваты и пластиковую капсулу со спиртом. Вскрыл. Между тем Чиполлино отошёл к своей кровати, улёгся.
Иона отсутствующим взглядом наблюдал за происходящим. Медленно, но уверенно наступала обычная после инъекции метемпсихозола реакция. Медленно, но быстрей, чем он предполагал – наверное, вкатили полуторную дозу. Медленно, но очень невовремя.
Это всегда походило на барахтанья утопающего: то всплытие на недолгие мгновения, жадный глоток воздуха и – погружение в холодный сумрак без доступа кислорода, без звуков, запахов и света – только невыносимая тяжесть давит на плечи, вынуждая прилечь, забыться. Приход Ездры вызвал недолгое оживление – глоток воздуха, а теперь введённый препарат набирал силу: до Ионы едва доносились голоса Ездры и Чипа, словно через толщу воды; было трудно дышать, навалилась бесконечная усталость, когда не хочется делать ничего, даже если тебя станут убивать вот прямо тут и прямо сейчас.
Ездра мельком взглянул на него, перевёл вопросительный взгляд на Чиполлино.
– Ну да, – ответил тот на взгляд. – Как обычно.
Ездра подошёл к кровати, склонился над Чипом. Жало шприца уверенно впилось в кожу, быстро нащупало вену. Красные кровяные нитки потянулись в прозрачный цилиндр, окрашивая бесцветную жидкость. Плунжер медленно сдвинулся с места. Чиполлино улыбнулся, глубоко вздохнул.
– Ездра, – позвал Иона, который, кажется, снова вынырнул на мгновение из омута, в котором тонул. – Значит, вы всё-таки поверили ей?
– Кому, старина? – спросил Ездра, не отвлекаясь от инъекции.
– Ну, этой, психологине. Розе Шарона. Решили проснуться?
– Ну всё, – произнёс Ездра, извлекая иглу и не глядя на Иону, будто не слышал его вопроса. Чип согнул руку в локте, устало закрыл глаза.
– Ездра, – снова позвал Иона всё более слабеющим голосом.
– Что, старина?
– Ездра, скажи… Скажи, Ездра…
Он напрочь забыл, что хотел спросить. В голове крутилось бесконечное «За этой дверцей я прячу душу – в одну восьмую всемирной суши, в одну двадцатую океана – неизлечимую мою рану…», и снова, и снова да ладом.
– Скажи, Ездра…
– Ложись, старина, ложись, – Ездра потрепал его по плечу, потом заботливо заставил улечься, забросил на кровать его непослушные ноги, накрыл одеялом, погладил по голове. – Тебе нужно прилечь, старик. Сейчас тебя станет плющить.
– Да… – промямлил Иона. – Скажи, Ездра… Кундри… Сам…
– Ну, всё, – Ездра повернулся к Чипу. – Мне пора.
– Ты обратно, в санаторий? – спросил Иона.
– … Э-э… Да.
– Как там?
Ездра пожал плечами.
– Всё по-прежнему, старик. Всё по-прежнему. Спи.
Словно подчиняясь приказу Ездры, тут же явился сон, набросил на голову Ионы ватное одеяло. Через это одеяло до него глухо и потусторонне донеслось:
– А ему? – это голос Чипа, кажется.
– Нет. – Ездра. Наверняка Ездра.
– Нет?
– Нет.
– Он что?..
– Да.
– Неужели фантик?
– Да. Ну, всё, до встречи на том свете, Чип.
Иона хотел что-то произнести, но пока губы его согласились разлепиться, а горло протолкнуть воздух, он уже забыл, что предполагал сказать. А ватное одеяло на голове как будто стало плотнее, мешало дышать, мыслить, хотеть…
За Ездрой хлопнула дверь, и это было последнее, что пробилось в сознание Ионы, прежде чем он провалился в глухую пустоту.
Музыки он уже не слышал.
А над корпусами плыли волны аккордов – накатывали, бились о берега тишины, отползали, и снова шли валом. Как окончание всех в мире снов, звучала пятая прелюдия Рахманинова.
Эпилог
– Ездра отошёл, – сказал Антипод. – Отправился вослед за Чипом.
– Ну, отошёл и отошёл, – пробубнил Тощий с деланным суровым равнодушием. – Видать же было, что у него без шансов.
– Камнями надо будет привалить, – Молчун указал глазами на серую простыню неба, на которой, словно брызги чёрной туши, рисовалась воронья стая.
– Сделаем, – кивнул Антипод. – Аккурат мавзолей выйдет.
Сделали. Мавзолей не мавзолей, но курган вышел добротный, вместительный, так что уложили в него всех, от Терминатора до Чипа.
Постояли молча, приняли по полсотне граммов, покурили.
Потом отошли к последнему раненому, доживающему свои недолгие, видать, остатние часы-минуты. Однако, впрочем, не их это дело – те самые часы и минуты считать. Временем Бог распорядится – это в его руках несуществующее будущее, минувшее настоящее и давно минувшее прошлое, а их дело – сам погибай, но товарища из беды выручай.
– Жив покуда, – пробубнил Тощий, присевший рядом с носилками, чтобы пощупать у лежащего на них пульс, приподнять веки над закатившимися зрачками. – Силён, – сказал он одобрительно. – А с виду не скажешь.
– Это да, – кивнул Дылда. – Если бы мне крышу так подрезало, я б давно сдох.
– Нет, Дылда, ты бы не сдох, – ввернул Тошнот. – У тебя башка деревянная.
– Хватит зубоскалить, – оборвал их Молчун. – Нашли время… Уходить надо.
– Куда уходить? – удивился Дылда. – А блок-пост как же?
– Да никак, – Молчун пожал плечами. – Сколько надо было, мы продержались. Имеем право теперь.
Замолчали, отрешённо поглядывая по сторонам, друг на друга, на курган, на серое небо. А занудный дождь моросил и моросил, окрашивая камни в чёрное. Просеивалась сквозь дождевые капли, как через сито, снежная крупа, напоминающая о скором первом снеге. Зябко потряхивало ледяным ветерком, что явился откуда-то из-за гор и теперь норовил забраться поближе к тёплым телам – погреться.
– Ну, уходим, так уходим, короче, – пожал плечами Антипод. – С тебя спросится, значит, тебе и решать, Молчун.
– А Самсон где? – спросил Тощий.
– Да поди всё дрыхнет, сурок, – зло усмехнулся Дылда. – Ладно хоть сипаев не проспал, а то бы я его своими руками кончил.
– Замри, кончатель, не сикати, – бросил Антипод. – Тебе не поспать двое суток, так уж поди и кончалка отвалилась бы, а Самсон – ничего, молодцом смотрит.
– Ладно, всё, кончаем трёп, – обрезал Молчун. – Дылда, буди Самсона. Уходить пора.
Первыми к носилкам встали Антипод и Тощий. Подняли и понесли, не заботясь плавностью хода – не до этого. Впереди ещё часы и часы марша, так что нужно беречь силы, а не тратить их на подлаживание шага под рельеф местности.
В последний раз оглядев растерзанный блок-пост, повернулись и пошли, больше уже не оглядываясь. Да и чего было оглядываться: таких блок-постов, этих временных приютов, «домов», «санаториев» было уже столько!.. и будет ещё столько же, если не больше. А может и меньше, много меньше. Ну, это кому как повезёт опять же…
У носилок менялись каждые полчаса, чтобы не выматываться понапрасну, не оттягивать руки до дрожи, потому что кто его знает, в какую из грядущих минут потребуется держать в этих руках калаш. Медленно проползали мимо минуты, за ними кое-как волоклись часы, вставала впереди беспросветная замуть из дождяной мороси, блёклой крупы и серой дымки.
Когда уже наползли с запада сумерки, они остановились, опустили носилки на асфальт у трамвайной остановки.
Образовался рядом гражданин в синем пиджаке на одной пуговице, прервал суетливый шаг свой, наклонился над лежащим, заглядывая в лицо.
– Что с ним? – спросил он конторским бюрократическим голоском. – Товарищу плохо? Или… пьяный, поди?
– Ты проходи, мужик, не толпись тут, – мрачно отозвался Молчун.
Гражданин в синем пиджаке нервно дёрнул головой, смерил Молчуна пролетарофобским взглядом, проворчал что-то себе под нос, опасаясь, видимо, сказать такое громко, и посеменил прочь, зажимая подмышкой портфель.
Трезвоня, вывернул с Ганнушкина трамвай, раскачиваясь и скрипя подкатил к остановке. Высыпала из него шумная стайка пионеров-переростков, гомоня и не по возрасту аршинно матерясь, двинулась к кинотеатру «Октябрь» – сбежало, видать, с уроков славное будущее великой страны.
– Заносим, – бросил Молчун, когда иссяк скудный поток выходящих пассажиров.
Кряхтя, подняли и кое-как протащили носилки в холодные внутренности этого дребезжащего катафалка.
– Следующая – Кольцо, конечная, – прохрипел в динамиках голос вагоновожатого, которому давно, видать, всё осточертело. – Вкруговую не садимся, вагон пойдёт в депо.
– Вези уже, не балаболь, – пробормотал Тощий. – Какая там круговая…
В динамиках что-то обиженно щёлкнуло, потом загудело под полом, набирая обороты, потом, наконец, весь этот простылый катафалк, этот трамвай без права пересадки дёрнулся, заскрежетал, заскрипел и пополз к конечной.

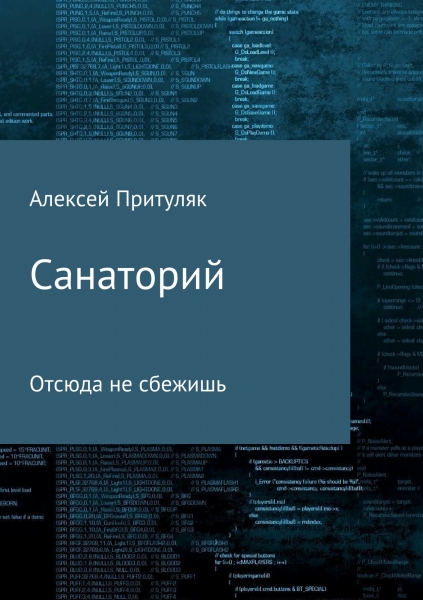
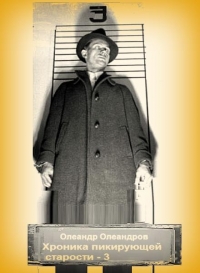



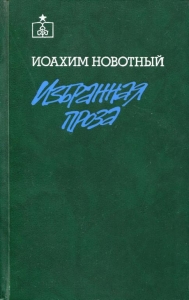






Комментарии к книге «Санаторий», Алексей Анатольевич Притуляк
Всего 0 комментариев