Чарльз Мартин Моя любовь когда-нибудь очнется
Charles Martin
The Dead Don’t Dance
Copyright © 2014 by Charles MartinThis translation is published by arrangement with Random House, a division of Penguin Random Hoise LLC.
© Гришечкин В., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
***
Чарльз Мартин покорил своим обаянием и писательским талантом женщин многих стран мира. Он с непринужденным изяществом изображает тонкие грани человеческой души, и в особенности ему удаются женские образы, что есть величайший дар для автора-мужчины. Романы Чарльза Мартина переведены на 17 языков. Его книга «The Mountain Between Us» вошла в список бестселлеров по версии «New York Times», а права на экранизацию приобрела компания «20th Century Fox».
***
«Впечатляющая история духовного поиска и бескорыстной любви, на которую отважится далеко не каждый».
RT Book Reviews
***
«Любовь долготерпит, милосердствует, не мыслит зла. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
(1Кор. 13:4–8)
***
Посвящаю Кристи.
Спасибо, что поделилась со мной теплом.
Без него я бы замерз.
Глава 1
В прошлом ноябре, в самом конце, когда бобы вымахали на четыре фута, кукуруза поднялась на восемь, а лилово-синие цветы глицинии пожухли и побурели, наконец-то задули по-зимнему холодные ветра. За считаные дни они выдули летний зной и духоту. А сегодня ночью разбудили Мэгги. Перевернувшись на другой бок, она толкнула меня в плечо и прошептала:
– Пойдем поплаваем?!
Часы показывали два ночи. На небе сияла полная луна, и я сказал:
– Пошли.
Толчок в плечо обычно означал, что Мэгги знает что-то такое, чего не знаю я, и в этом не было ничего удивительного. С тех пор как мы познакомились, я не раз убеждался в том, что ей известно много такого, о чем я не подозревал.
Мы выбрались из постели, разыскали в шкафу пару полотенец и, взявшись за руки, стали спускаться к реке. Когда до берега было уже совсем недалеко, Мэгги высвободила руку и побежала вперед, к обрыву, сбросив на ходу полотенце, которое я подобрал. Лишь на мгновение ее изящный силуэт замер на высоком обрывистом берегу, и вот уже Мэгги ласточкой летит с обрыва в до краев наполненную сияющим лунным светом реку, которая широкой полосой пересекла нашу часть Южной Каролины.
Бросив полотенца на берегу, я тоже вошел в воду чуть правее обрыва, где берег становился совсем пологим. Вода была теплой – намного теплее, чем воздух. Плотное, чуть волнистое песчаное дно нехотя подавалось под моими ступнями, а возле моих колен то и дело шмыгали стремительные уклейки. Сделав несколько шагов, я развернулся спиной вперед и, зажмурив глаза, навзничь повалился в воду. На несколько секунд я погрузился с головой, но почти сразу снова встал во весь рост, чувствуя, как вода стекает по моим шее и плечам. Глубины здесь было всего по пояс, но в тени берега вода казалась черной, как нефть. Я смотрел на нее и думал о том, каким долгим и жарким выдалось прошедшее лето. Впрочем, у нас в Диггере летний сезон часто бывает долгим, поэтому прохлада, которую принесли осенние ветра, казалась долгожданной и приятной.
Мы плавали в темной речной воде, пока не устали. Наконец мы выбрались на берег, постелили полотенца на мелком белом песке и легли. Голова Мэгги покоилась на моем плече. Луна перестала подглядывать за нами и скрылась за верхушками кипарисов.
Какое-то время спустя, когда мы обнявшись возвращались домой, Мэгги уже знала, что сегодня ночью мы зачали сына. Я же узнал об этом только месяц спустя, когда она танцующей походкой спустилась с крыльца и отыскала меня на кукурузном поле. Улыбаясь, Мэгги сунула мне под нос узкую бумажную полоску с розовой линией.
Вскоре я стал замечать кое-какие перемены. Начались они в нашей второй спальне, которая раньше была кабинетом, а теперь превратилась в детскую. В один прекрасный день Мэгги вернулась из скобяной лавки с двумя галлонами голубой краски для стен и галлоном белой для потолка и карнизов.
– А если будет девочка? – спросил я.
– Будет мальчик, – уверенно ответила Мэгги, протягивая мне малярную кисть.
Мы постелили на пол какие-то старые простыни и принялись валять дурака – совсем как Том и Гек. К вечеру мы оба с ног до головы перемазались голубой краской, и, хотя стены почти не изменились, начало, как говорится, было положено.
Запах краски гнал нас из дома, поэтому воскресенье мы посвятили поездке по «гаражным распродажам»[1]. В одном месте мы нашли детскую кроватку за шестьдесят долларов, вполне приличную, только на верхних перекладинах боковых решеток отпечатались маленькие ямки – следы зубов. Мэгги провела по ним пальцами, словно Хелен Келлер[2], читающая книгу, напечатанную шрифтом Брайля.
– То, что надо, – сказала Мэгги.
Кроватку мы поставили в углу детской, а после обеда поехали в Чарльстон – в так называемый оптовый детский супермаркет. Лично я никогда в жизни не видел столько детских вещей в одном месте. А если говорить откровенно, то до этой поездки я понятия не имел, что половина из них вообще существует. Когда мы вошли в автоматические стеклянные двери, записанный на пленку голос над нашими головами произнес: «Добро пожаловать в «Детский мир»! Если у нас чего-то нет, значит, вашему ребенку это не нужно!» Прослушав это сообщение, я начал смутно подозревать, какие неприятности меня ожидают, но было уже поздно. Мэгги схватила сразу две тележки, толкнула одну из них мне и, состроив свою самую свирепую «охотничью» гримасу, скомандовала:
– Ну, вперед!
Не успели мы добраться до конца первого прохода, а моя тележка была уже полнехонька. Мы скупали памперсы, салфетки, пустышки, шнуры и цепочки для пустышек, подставки для бутылочек, бутылочки для бутылочек, чтобы они медленней остывали, масло от сыпи, крем от сыпи, присыпку от сыпи, погремушки, одеяла, пеленки, автокресло, столик для переодевания, пластиковые контейнеры, чтобы хранить в них все, что мы купили, «кенгурушку», крем и присыпку специально для «кенгурушки», пинетки, фланелевые чепчики для тепла и маленькие книжки-раскладушки с забавными картинками. Вскоре я бросил подсчитывать в уме предстоящие расходы и только кивал, повторяя: «Да, мэм, конечно, мэм!» – каждый раз, когда Мэгги указывала на очередной загадочный предмет, который имел для нее (но не для меня) огромное значение. Она могла сотню раз повторить: «Ты только посмотри на это!» и «Правда же, он миленький?». Я смотрел, но ничего «миленького» не видел, хотя и допускал, что жена разбирается в детских вещах намного лучше меня.
Когда мы добрались наконец до касс, наши тележки было уже невозможно разглядеть под грудами пакетов, кульков и коробок.
Но именно возле касс какой-то гений розничной торговли разместил самых больших и дорогих плюшевых медведей. Не заметить их было просто невозможно. Мэгги заметила. Поправив свой мешковатый рабочий комбинезон, она несколько раз моргнула большими карими глазищами и произнесла глубоким, соблазнительным шепотом:
– Ди́лан, я знаю – этого медведя зовут Гекльберри!
Я рассмеялся в ответ. Что мне еще оставалось?
Укладывая покупки в кузов нашего грузовичка, я невольно вздохнул с облегчением, полагая, что на этом наши траты закончились, но это было не так. Мы все еще оставались на стоянке, а совсем рядом с «Детским миром» расположился магазин одежды для будущих мам, мимо которого Мэгги пройти просто не могла. Одержимая покупательской лихорадкой, она еще в течение часа наносила нашему семейному бюджету удар за ударом, а я только подставлял руки, когда Мэгги снимала с вешалки очередную обновку. Только когда из-за кипы платьев и комбинезонов, которые я держал перед собой, я уже не видел, куда иду, она направилась к примерочной. Там, впервые на моей памяти, дежурная продавщица велела мне пройти внутрь вместе с женой. Мэгги закрыла дверцу, задвинула щеколду и одним движением рук собрала волосы на макушке в колышущийся «конский хвост».
В течение следующего часа моя жена примеряла обновки, а я охал и ахал на все лады. Единственным источником света в примерочной была утопленная в потолок сороковаттная лампочка, но каждый раз, когда Мэгги поворачивалась ко мне спиной и, приподняв «конский хвост», просила расстегнуть ей «молнию», лучи света обливали ее высокую (пять футов и восемь дюймов), ладную фигуру серебристым сиянием, похожим на волшебный порошок феи Динь-Динь, который блестел и в ее светлых, вьющихся волосах, и на покрытой легчайшим пушком шее, и на мокрой от испарины верхней губе, и на прямых, загорелых плечах, и в ложбинке между лопатками, и на стройных бедрах, и на тонких, сухих, как у газели, ногах и крепких икрах.
Господи, как же я ее любил!!!
Шорты, брюки, платья, сарафаны, лифчики для беременных, лифчики для кормящих, поддерживающие пояса, нижнее белье для шести месяцев, белье для девяти месяцев, толстовки, кофты, жакеты – им не видно было конца. Примеряя очередную вещь, Мэгги засовывала под пояс специальную «восьмифунтовую» подушку и, положив руки на бедра и привстав на цыпочки, оглядывала себя в зеркале.
– Как ты думаешь, я выгляжу не слишком толстой?
– Господи, Мэг, да ни один мужчина в здравом уме не ответит на этот вопрос утвердительно!
– Дилан, не увиливай! – Она направила на меня указательный палец. – Я хочу знать твое мнение!
– Мое мнение: ты прекрасна!
– Если ты врешь, – заявила она, вздергивая подбородок и высоко поднимая брови, – то будешь сегодня спать на диване!
– Как вам будет угодно, мэм.
Когда Мэгги выходила из примерочной, она была окружена сиянием, которое источает абсолютное большинство беременных женщин. Похоже, моя жена чувствовала себя полностью готовой к предстоящим родам, и я нисколько не жалел тех трехсот семидесяти семи долларов, которые мы потратили.
Следующие несколько месяцев были наполнены для нас обоих светом и яркими красками, словно Бог поместил нас внутрь своей семицветной радуги. Хло́пок, бобы, кукуруза, горох и дыни превращали землю в пестрое лоскутное одеяло, окаймленное зелеными плетями пуэрарии, пышно разросшейся вдоль обочин старого каролинского шоссе. Древние дубы – узловатые, раскидистые, кишащие красными жуками и насквозь пропитанные историей, – чуть покачивали кронами над свежевспаханной землей. Наивные, немного безрассудные, мы с оптимизмом глядели в будущее и улыбались друг другу, когда Мэгги брала мою руку в свою и клала себе на живот.
На третьем месяце мы впервые отправились на ультразвуковое исследование. К этому времени у Мэгги начал появляться животик, которым она ужасно гордилась. Когда в комнату вошел врач, она уже лежала на кушетке с пристегнутым к животу монитором для наблюдения за состоянием плода и держала меня за руку. Врач включил аппарат, выдавил ей на кожу специальный гель и принялся водить по животу Мэгги пластиковым датчиком. Услышав, как бьется сердце нашего ребенка, Мэгги заплакала.
– Дилан, ты слышишь? – прошептала она. – Это же наш сын!
В конце четвертого месяца акушерка из женской консультации подтвердила то, что Мэгги интуитивно знала с самого первого дня. Она лежала на том же самом столе, а акушерка водила по ее животу ультразвуковым датчиком. В какой-то момент она остановилась и показала на экран, где подрагивало изображение плода.
– Вот, смотрите, – сказала она. – Это мальчик. Похоже, у него уже сейчас есть, чем гордиться.
Я не выдержал и упал на колени рядом со смотровым столом. В двадцать девять лет я впервые заглянул в живот своей жены и увидел нашего сына. Он показался мне огромным, как сама жизнь. Я видел, как бьется его сердце, видел, как он ворочается, словно давая рассмотреть себя со всех сторон.
– Эй, парень!.. Привет!..
Так я начал беседовать с животом Мэгги. Чуть не каждый вечер, когда дневные хлопоты оставались позади, я разговаривал с моим подрастающим сыном. Это происходило уже в кровати, где мы лежали все втроем. Я поднимал рубашку Мэгги, обнажая живот, прижимался губами к бархатистой, как персик, коже в районе пупка и начинал говорить. О чем? Да обо всем… О футболе, о девушках, о школе, об урожае, о тракторах, собаках, кукурузе, приятелях, о листьях, цветах и обо всем, что только приходило в голову. Мне хотелось, чтобы сын уже сейчас знал мой голос, и через несколько дней он действительно начал пинаться, стоило мне произнести несколько слов. Я ощущал эти слабые толчки губами. Прежде чем пожелать мальчугану спокойной ночи, я обычно пел ему «Джонни – Апельсиновое семечко», «Папа любит своего сыночка», «Маленький паучок» или «Иисус любит меня».
Иногда, когда ребенок начинал брыкаться посреди ночи, Мэгги клала мою ладонь к себе на живот. Она ничего не говорила, но я сразу просыпался, стоило мне почувствовать тепло ее тела и маленькую пяточку, которая упиралась в стенку ее живота изнутри.
Несколько ранее, на очередной «гаражной распродаже» я обнаружил древнего деревянного коня-качалку. Игрушка требовала серьезного ремонта, но я все равно ее купил, привез домой и устроил в амбаре столярную мастерскую, а Мэгги велел держаться подальше. Через неделю я принес коня в дом и поставил в детской рядом с кроваткой. Он был тщательно проклеен, выкрашен белой краской и до блеска отполирован. Увидев его, Мэгги вдруг разрыдалась. Думаю, именно тогда до меня окончательно дошло, что моя жена стала другим человеком и что избыток новых гормонов повлиял не только не ее тело, но и на разум.
Какое-то время спустя у Мэгги действительно стали появляться неожиданные и довольно-таки странные желания.
– Дорогой, – произнесла она однажды низким, соблазнительным шепотом, – мне почему-то очень хочется свежего, натурального арахисового масла, а еще – ежевичного мороженого. «Хеген датс» ведь самый вкусный, как ты считаешь?
Я только кивнул и отправился на поиски, не представляя, как трудно будет найти свежеотжатое натуральное арахисовое масло в десять часов вечера. Когда пару часов спустя я вернулся, Мэгги ждала меня на веранде. Сидя к качалке, она нетерпеливо притопывала ногой и размахивала ложкой. Я снял крышки с контейнеров, и мы, усевшись на ступеньки крыльца, принялись в две ложки уничтожать десерт. Покончив с мороженым, Мэгги мечтательно посмотрела на меня.
– А как начет чизбургера? – спросила она.
К шести месяцам Мэгги сделалась очень беспокойной и легковозбудимой. Любая мелочь могла вывести ее из себя. Как-то утром, разглядывая себя в зеркале, она вдруг закричала во все горло:
– Господи, какой кошмар! Дилан Стайлз, иди немедленно сюда!
Обычно Мэгги зовет меня по имени и фамилии, только когда я сделаю что-нибудь не то. Например, забуду опустить сиденье унитаза, оставлю незакрытым тюбик с зубной пастой, не вынесу вовремя мусор, не сумею уничтожить всех пауков и тараканов в радиусе двух миль или попытаюсь тайком сделать что-нибудь запретное и попадусь. Сейчас по ее интонациям я сразу понял, что на чем-то погорел. Я только никак не мог взять в толк – на чем.
Когда я вбежал в ванную комнату, Мэгги стояла на цыпочках перед раковиной умывальника и, подавшись вперед, изучала в зеркале свой подбородок. Махнув в мою сторону увеличительным стеклом, она спросила с неподдельным страданием в голосе:
– Что это такое, по-твоему?
Я взял увеличительное стекло, посмотрел – и не сдержал улыбки. На подбородке Мэгги я увидел один-единственный черный волос длиной примерно в треть дюйма.
– Если хочешь знать мое мнение, – ответил я, – то, по-моему, у тебя начала расти борода. Шикарная, черная как смоль, курчавая борода, которой позавидовал бы и царь Навуходоносор…
Да, я знаю, что этого говорить не стоило, но удержаться я не мог.
– Выдерни его! Немедленно! – взвизгнула Мэгги и шлепнула меня по плечу.
Выдвинув ящик туалетного столика, я достал оттуда швейцарский армейский нож и ногтем открыл маленькие щипчики.
– Знаешь, Мэг, если у тебя действительно вырастет борода, тебя с дорогой душой возьмут на работу в любой цирк.
– Дилан Стайлз! – Мэгги покачала у меня перед носом чуть согнутым указательным пальцем. – Прекрати надо мной издеваться, иначе тебе придется всю оставшуюся жизнь спать на диване!
Наверное, я все-таки немного перегнул палку, однако чувствовал – я обязан заставить Мэгги взглянуть на происшествие под другим углом, поэтому протянул ей свой крем для бритья.
– Вот, возьми. Очень хорошо для чувствительной кожи.
Через тридцать секунд мы уже валялись на ковре в гостиной: я свернулся клубком, как еж, а Мэгги старалась выдернуть те немногие волоски, которые еще оставались у меня на груди. Наконец она решила, что я достаточно ощипан, и подняла кулачки к груди словно боксер, изготовившийся ко второму раунду.
– Лучше заткнись, Дилан Стайлз, и выдерни этот омерзительный волос из моего подбородка!
Развернувшись к свету, я удалил злосчастный волос и, положив его на ладонь, отправился на кухню. Меня распирало от смеха. Мэгги осталась в ванной и еще с час изучала в зеркале свое лицо, ища на нем другие признаки оволосения по мужскому типу.
Еще пару недель спустя ее живот стал таким большим, что сто́я она уже не видела пальцев ног. Ребенок рос не по дням, а по часам, и иногда мне казалось, что Мэгги для смеха засунула под платье баскетбольный мяч. Ей, однако, было совсем не смешно. Как-то раз я снова застал ее перед зеркалом – Мэгги растерянно разглядывала себя, сжимая в руке открытый флакончик лака для ногтей. Увидев меня, она вдруг разрыдалась.
– Ты больше не будешь любить меня, Дилан! Я стала безобразно толстой!
Она так горько рыдала, что я взял ее за руку, усадил на диван, принес стакан холодной воды с долькой лимона, а потом сам покрасил ей ногти на ногах. Это было единственное, что я мог придумать в данной ситуации.
Мэгги была на седьмом месяце, когда я однажды вернулся домой довольно поздно и вдруг услышал, как она плещется в ванне, разговаривая сама с собой на повышенных тонах. Заглянув в ванную, я увидел, что Мэгги держит в руках розовый станок, пытаясь побрить ноги. Ей было очень неудобно, она уже порезала лодыжку, поэтому я сел на краешек ванны, отобрал станок, взял за пятку и побрил своей жене обе ноги.
Срок Мэгги приближался к семи с половиной месяцам. В один из дней я сел обедать (Мэгги настояла, что хочет сама приготовить еду) и обнаружил на столе какой-то пакет из плотной коричневой бумаги. Развязав ленточку, я обнаружил внутри зеленую футболку с вышитой на груди надписью «Лучший в мире отец». В течение целой недели я носил эту футболку каждый день и снимал только на ночь.
С каждым днем Мэгги становилось все тяжелее передвигаться, но она все равно вышила легкий балдахин для кроватки и собственноручно укрепила его на двух шнурах. Рисунок представлял собой огромные бейсбольные и футбольные мячи и крошечных веснушчатых мальчиков в зеленых шортах. Я решил не отставать и купил в магазине уорнеровский футбольный мяч для игроков младшей лиги, а также детскую бейсбольную перчатку. Все это я положил в кроватку. На полу рядом с ней я расставил несколько игрушечных машинок, детскую железную дорогу и строительные кубики. Должен сказать, что после всего этого украшательства в детской почти не осталось места для нашего сына.
В последние три месяца беременности Мэгги быстро утомлялась, и я часто просил ее хотя бы немного спать днем. Несколько раз мне удавалось ее уговорить. Недели за две до запланированной даты родов (врачи утверждали, что это должно произойти первого августа, плюс-минус несколько дней) руки и ноги Мэгги стали отекать еще больше, а груди набухли и стали очень чувствительными. За неделю до ожидаемой даты начались ложные схватки, и врачи велели Мэгги больше отдыхать, подложив под ноги подушки.
– Поменьше волнуйтесь, – сказали ей. – Это может продолжаться несколько дней.
Уж не знаю почему, но со временем мне стало казаться, что теперь, когда у Мэгги вырос живот и она не очень хорошо себя чувствует, ей будет не до меня. Я имею в виду физическую близость… Это казалось мне естественным и логичным, поэтому я попытался как-то подготовиться к вынужденному воздержанию. Я пытался запретить себе даже думать об этом, но все оказалось совершенно не так, как мне представлялось. Буквально за три дня до родов Мэгги разбудила меня нашим условным знаком – похлопыванием по плечу.
Седьмого августа начались настоящие схватки. Случилось это, когда Мэгги утром вышла в кухню. Я увидел, как она вдруг покачнулась, потом схватилась за разделочный столик, прикусила губу и зажмурилась. Что дело серьезное, я понял сразу. Стараясь не поддаваться панике, я достал из шкафчика наш «больничный чемоданчик» и схватил в охапку медведя Гекльберри. Через пять минут мы уже мчались в больницу. Я гнал наш грузовичок со скоростью девяносто миль в час, свирепо рявкая гудком на каждую машину, которая попадалась нам по пути. В конце концов Мэгги не выдержала и, опустив руку мне на бедро, прошептала:
– Дилан, не гони так. Время еще есть.
В приемном покое родильного отделения нас уже ждала акушерка. Она сразу отвела Мэгги наверх, а я загнал грузовичок на стоянку и поспешил следом. Когда я поднялся на второй этаж, мою жену уже осматривал врач.
– Два сантиметра, – сообщил он, стягивая с рук тонкие резиновые перчатки. – Поезжайте домой, отдохните как следует, а завтра я вас жду.
– Как – завтра?! – Я не верил своим ушам. – Вы не можете отсылать нас домой. Моя жена рожает, понимаете вы это?!
Врач улыбнулся.
– Я все понимаю, но только это будет не сегодня. Ну а чтобы вы ездили не зря… сводите-ка вашу жену в хороший ресторан, пообедайте как следует, а потом возвращайтесь домой. И вот еще что… – Он вручил Мэгги пару каких-то таблеток. – Это ослабит схватки.
Подсаживая Мэгги в кабину грузовичка, я сказал:
– Ну, выбирай, куда бы тебе хотелось поехать.
Мэгги широко улыбнулась, как-то очень плотоядно облизнулась и махнула рукой вперед. Через пять минут мы уже сидели в «Бургер Кинг». Мэгги в один присест уничтожила двойной «Воппер»[3] с сыром, большой пакет картошки фри, чизбургер и шоколадный коктейль. Я осилил только половинку чизбургера и два пакета картошки.
Этой ночью Мэгги спала беспокойно. Она то впадала в дрему, то снова просыпалась. Я вообще не спал. Лежа рядом с ней в темноте, я смотрел на ее лицо, изредка отводя в сторону ее пышную, как у Одри Хепберн, челку, чтобы она не лезла в глаза, которые были у Мэгги еще красивее, чем у Бет Дэвис[4].
Около шести утра Мэгги снова закусила губу от боли, и я отнес ее на руках в грузовик.
– Четыре сантиметра, – сказал врач, опуская подол ее платья. – Пора вам, дорогая моя, немного прогуляться.
Что мы и сделали. Мы обошли все этажи и все коридоры больницы и даже прошлись вокруг здания. Когда шесть часов спустя мы снова входили в больницу через ортопедическое отделение, Мэгги неожиданно застонала и мертвой хваткой вцепилась в перила лестницы. Колени у нее подгибались, и я, схватив стоявшее поблизости кресло на колесах, нажал на кнопку вызова лифта. Подъем на второй этаж занял несколько секунд, но все это время я приплясывал на месте от беспокойства.
Когда мы появились в коридоре родильного отделения, врач на сестринском посту разговаривал с кем-то по телефону. Увидев лицо Мэгги, он сразу бросил трубку и махнул рукой в конец коридора, где находилась родильная палата. Там Мэгги сразу уложили на стол и прикрепили к животу монитор для наблюдения за плодом. Пока врач производил все необходимые манипуляции, я поддерживал ей голову и шептал слова ободрения.
– Ну, Мэгги, расслабьтесь, – сказал наконец врач и, достав откуда-то длинный пластиковый крючок, похожий на вязальный, велел акушерке смазать его гелем. – Сейчас мы вскроем околоплодные оболочки, отведем воды и начнем колоть питоцин.
«Вы никогда не засунете эту штуку в мою жену!» – подумал я, но Мэгги вздохнула и так сильно сжала мою руку, что костяшки ее пальцев побелели.
– …Благодаря этому схватки начнутся скорее, но… – Врач сделал паузу, когда ему на руки хлынула желтоватая жидкость. – …Но будут более болезненными.
– Это ничего… – проговорила Мэгги, пока акушерка смазывала ее правую руку спиртом и вводила иглу капельницы.
Минут через пятнадцать начались боли. Я по-прежнему сидел рядом с кроватью, прижимал ко лбу Мэгги мокрое полотенце и сражался с растущим в горле комком. Приближалась полночь. Мэгги обливалась потом и с каждой минутой все больше бледнела. Я позвал акушерку и попросил что-нибудь сделать.
Через несколько минут в палате появился анестезиолог.
– Как насчет того, чтобы немного ширнуться, мэм?.. – предложил этот остряк-самоучка.
– Я готова, – не моргнув глазом, ответила моя жена.
По команде врача Мэгги села и наклонилась вперед, насколько позволял ей живот. Анестезиолог зашел сзади и воткнул ей эпидуральный катетер прямо в позвоночник. Почти в ту же самую секунду снова начались схватки, Мэгги застонала, но даже не пошевелилась.
Господи, спаси и помилуй мою жену!
Наконец Мэгги разрешили снова лечь. Тяжело дыша, она откинулась назад, согнув ноги в коленях. Еще один спазм сотряс ее тело, потом подействовала анестезия. Плечи ее расслабились, ног она и вовсе не чувствовала, а я подумал, что, будь у меня сейчас миллион долларов, я бы отдал его весь, до последнего цента, этому человеку, избавившему мою жену от мучений. Да что там, я готов был поцеловать его прямо в губы!
Следующие два часа оказались легче, чем предыдущие два дня. Мэгги и я смотрели на монитор, наблюдая за ходом каждой схватки («О, вот это было отлично!»), прислушивались к сердцебиению плода, смеялись, спорили, какое имя выбрать малышу, и старались поменьше думать о том, что́ ждало нас в ближайшее время. Я чувствовал себя как во сне; мне странно было думать, что через считаные минуты или часы наш сын окажется здесь, с нами. Рука Мэгги лежала в моей руке, и на душе у нас было хорошо и спокойно.
Примерно в половине второго у роженицы в соседней палате начались проблемы, и ее в срочном порядке повезли на экстренное кесарево сечение. Я еще никогда не слышал, чтобы кто-то кричал так, как она, и не знал, что́ подумать. К сожалению, Мэгги тоже услышала эти животные крики, и они очень подействовали на нее. Она, конечно, старалась не подавать вида, но я знал, что ей страшно.
В два пополуночи врач обследовал Мэгги в последний раз.
– Десять сантиметров, полное открытие, – сообщил он. – Прекрасно, Мэгги, начинайте тужиться. Осталось немного – ваш сын появится на свет уже сегодня.
Мэгги держалась молодцом, и я совершенно искренне ею гордился. Она тужилась, а я считал: «Один. Два-а… Три-и…». Я считал, а она прижимала подбородок к груди, крепко зажмуривалась и, изо всех сил сжимая мою руку, напрягала мышцы живота, стараясь помочь нашему сыну появиться на свет.
Все это было два дня – и целую жизнь – назад.
Глава 2
Небольшая одноместная палата, куда нас поместили, находилась в самом конце длинного, пустого коридора, и ее окна выходили на больничную парковку. В палате было темно. Единственным источником света служили экраны и сигнальные огоньки нескольких медицинских приборов, к которым была подключена Мэгги. Единственным звуком были сигналы ее пульсометра, да изредка – доносящиеся из коридора шаги санитарки, которая несла ведро, пахнущее «Пайн-солом»[5] и мочой. Койка Мэгги стояла у стены, и я решил передвинуть ее к окну, чтобы на нее падал лунный свет. Ворочая кровать, я случайно отсоединил несколько приборов, и на сестринском посту тут же сработал сигнал тревоги.
Через несколько секунд в комнату вбежала бледная дежурная сестра. Увидев, что я спокойно сижу рядом с кроватью и держу Мэгги за руку, она остановилась как вкопанная. Похоже, сначала сестра хотела высказать мне все, что думала, но сдержалась и молча взялась за работу, спеша восстановить все, что я разрушил. Когда все было готово, она достала из встроенного шкафа шерстяное одеяло и, накинув его мне на плечи, спросила:
– Принести вам горячего кофе?
Я покачал головой, и она ушла, предварительно похлопав меня по плечу в знак ободрения и сочувствия.
Мэгги «спала» или, точнее, лежала без сознания с са́мых родов, и я обтер ее плечи и лицо влажным полотенцем, а потом потрогал пальцы на ногах. Они были холодными, и я, порывшись в нашем «больничном чемоданчике», разыскал теплые носки. Осторожно надев их на Мэгги, я накрыл ей ноги вторым одеялом, потом закутал как следует и, пересев ближе к изголовью, заправил растрепавшиеся волосы ей за уши. На коже за ушами я обнаружил остатки запекшейся крови и, в очередной раз смочив полотенце теплой водой, еще раз протер ей лицо, шею и плечи.
Я не помню, болели ли у меня руки, помню только, что только с третьей попытки сестра попала мне иглой в вену. Мэгги срочно нужна была кровь – и как можно больше, а поскольку у нас с ней была одна группа, я заставил врачей взять у меня крови на пинту больше, чем берут обычно у доноров-добровольцев. Медсестра, производившая забор крови, знала, что Мэгги она необходима. Когда я не дал ей вытащить иглу из своей вены и велел качать дальше, она только посмотрела на меня поверх очков, открыла для меня еще одну банку кока-колы и снова взялась за шприц.
В родильную палату я вернулся с повязками на сгибах обоих локтей. Сев на прежнее место, я смотрел, как моя кровь вливается в жилы Мэгги.
Сейчас, в струящемся из окна лунном свете, я увидел, как на лбу Мэгги, точно между бровями, появилась маленькая морщинка. Я видел ее, наверное, уже тысячу раз. Она была верным знаком того, что Мэгги пытается что-то понять или принять какое-то решение. Протянув руку, я осторожно коснулся ее лба, задержав пальцы на несколько секунд. Почти сразу морщинка разгладилась и исчезла, а дыхание Мэгги стало ровнее.
– Мэг?..
Я взял ее руку в свою, думая о том, какие у нее сильные, мозолистые пальцы и как мало они подходят такой красивой женщине, как моя жена. Пульсометр издавал короткие ритмичные сигналы, и я думал о том, как бьется ее сердце, прислушивался к звуку дыхания и ждал, что ее большие карие глаза вот-вот откроются и Мэгги взглянет на меня.
Но ее ресницы не дрогнули, веки не поднялись.
Отвернувшись, я бросил взгляд на стоянку за окном, но там не было ничего, на что стоило бы смотреть. Южная Каролина – одно из красивейших мест во всем богом созданном мире, в этом легко убедиться, просто взглянув на могучие плети глицинии, которую не в силах заглушить даже самые густые заросли травы и сорняков. Но на автомобильной стоянке муниципальной больницы Диггера, хоть она и находилась на земле прекраснейшего в мире штата, не было ровным счетом ничего примечательного, поэтому я отвернулся от окна и снова стал смотреть на Мэгги. Я вспоминал реку, вспоминал сиявший в глазах жены мягкий свет, вспоминал ее улыбку, ее тонкий стан и то, как вода, стекая по гладкой коже, собиралась крупными каплями у нее на животе.
– Мэг, – позвал я негромко. – Пойдем, окунемся?..
Глава 3
День сменялся ночью, наступал новый день, потом снова приходила ночь, а я боялся закрыть глаза, боялся даже моргнуть, чтобы не пропустить момент, когда Мэгги очнется и взглянет на меня. За это время в палату, где она лежала, несомненно, заходили другие люди, но я их не видел, не замечал. Помню, – правда, довольно смутно, – только Эймоса, который, кажется, клал мне руку на плечо и говорил что-то вроде: «Не беспокойся, за фермой я присмотрю!» – да еще в одну из ночей я, по-моему, ощущал запах пивного перегара – такой могучий, что он мог исходить только от моего приятеля Брайса, но в остальном весь мой мир в течение недели состоял только из меня и Мэгги. Все прочее казалось мне призрачным, нереальным, несуществующим. Все, что не имело отношения к моей жене, расплывалось, теряя всякое значение и материальность.
На седьмой день, вскоре после полудня, врач вызвал меня в коридор, чтобы ознакомить со своим прогнозом. На его лице была написана такая глубокая озабоченность, что мне сразу стало ясно: ему очень непросто говорить мне то, что он собирался сказать, хотя за годы он уже должен был набить руку, сообщая скверные новости родственникам пациентов.
– Я буду с вами откровенен, Дилан… – начал врач.
Мгновения, в течение которых я ждал продолжения, тянулись как дни.
– К настоящему моменту ваша жена вышла за пределы того временно́го промежутка, который считается наиболее перспективным в смысле возвращения пациента в сознание. Чем дольше мисс Мэгги будет оставаться в своем нынешнем полурастительном состоянии, тем сильнее будут проявляться у нее так называемые непроизвольные мускульные реакции. К несчастью, эти реакции связаны не с пробуждением сознания, а с продолжающейся активностью спинного мозга. В течение следующих трех-четырех недель вероятность того, что ваша жена придет в себя, будет составлять около пятидесяти процентов. Месяца через полтора-два эта вероятность уменьшится еще вдвое, а по истечении и этого срока… – Врач покачал головой. – Разумеется, все это чистая статистика. Чудеса случаются, но, к сожалению, это бывает нечасто.
Ближе к вечеру в палате Мэгги появился больничный бухгалтер, отвечавший за своевременную оплату счетов пациентами.
– Мистер Стайлз? Я – Тентуистл, Джейсон Тентуистл, – представился он, протягивая руку для пожатия.
Должен сказать, что мистер Тентуистл мне сразу не понравился, но руку я ему все-таки пожал.
– Мне хотелось бы обсудить с вами, гм-м… некоторые финансовые вопросы.
Слегка прищурившись, я посмотрел на него.
– ???
– Видите ли, коматозные пациенты требуют долговременного пребывания в условиях стационара, а ваш текущий счет…
Дальше я слушать не стал – я просто ударил его так сильно, как только мог. Наверное, я еще никогда и никого не бил так сильно. Чуть погодя застилавшая мне глаза багровая пелена немного рассеялась, и я увидел, что мистер Тентуистл скорчился на полу. Его очки были разломаны на три части, нос расплющен и свернут набок. Из его ноздрей фонтаном хлестала кровь, и я, схватив мистера Тентуистла за ноги, вытащил его в коридор. Мне не хотелось, чтобы он закапал кровью пол в комнате Мэгги.
– Эй, Дилан! Ты что, валяешься здесь с тех самых пор, как уехал из больницы?
Я открыл глаза. Склонившееся надо мной лицо казалось смутно знакомым.
– Дилан?.. Ну-ка, очнись! – Мясистая чернокожая ручища довольно чувствительно хлестнула меня сначала по одной, потом по другой щеке.
Это было мне определенно знакомо.
– Эймос?..
Он отвесил мне еще одну пощечину.
– Ты с нами, парень, или думаешь симулировать дальше?
Должно быть, я застонал, потому что Эймос схватил меня за плечи и, оторвав от земли, как следует встряхнул.
– С тобой, с тобой, – пробормотал я, болтаясь в его руках. Голова у меня разламывалась от боли, а мир вокруг вращался чересчур быстро. Руки Эймоса затормозили мир, но в висках продолжали палить пушки.
– Ты провалялся здесь с тех пор, как уехал из больницы? – повторил Эймос, приближая свое лицо вплотную к моему, отчего его черты еще больше расплылись.
– Наверное. А когда я уехал из больницы? – тупо спросил я.
– Во вторник, – ответил он.
Мне на лицо легла тень его широкополой шляпы, и я уставился на нее во все глаза – мне вдруг почудилось, что шляпа похожа на ястреба с распростертыми крыльями.
– А сегодня какой день? – снова спросил я, продолжая таращиться на шляпу.
– Четверг. – Эймос сморщил нос и помахал ладонью у себя перед лицом. – Ну и воняет от тебя, дружище!.. Хорошо хоть, еще дождь прошел, – добавил он. – Что же ты тут делал все это время?
Я потянулся к трактору, ухватился за поперечную тягу колеса, которую мой дед погнул двадцать один год назад, когда корчевал пни, и попытался встать, но не смог. Некоторое время я думал, но так и не смог припомнить ничего конкретного.
– Четверг?.. – тупо повторил я.
Я подтянул колени к груди, почесал шею, потер лодыжки. Под джинсами обнаружились четыре припухлости, похожие на синяки.
Эймос подозрительно прищурился.
– Четверг?! – Прилив крови к голове заставил меня покачнуться. Вокруг все снова закружилось, и я повалился на землю, уткнувшись лбом в кукурузный стебель, проросший из муравьиной кучи.
Эймос поддержал меня за плечи и помог снова сесть.
– Лучше не трепыхайся, Дил. Ты слишком долго проторчал на солнышке, вот тебе башку-то и напекло. Так сколько ты тут паришься?
Вообще-то Эймос разговаривает по-английски достаточно правильно. Только со мной он позволяет себе прибегать к жаргону, который в ходу у фермеров из южнокаролинского захолустья. За двадцать пять лет дружбы мы даже создали своего рода собственный язык. Говорят, на таком же особом языке разговаривают друг с другом супруги, прожившие вместе достаточно долго.
– Я… Мне нужно вернуться в больницу, – пробормотал я.
– Не спешите, мистер Кукурузное Поле, ваша Мэгги никуда не денется. – Он постучал согнутым пальцем по пластиковому стеклу тракторного топливомера. – Как и этот старый трактор… Сначала тебя нужно как следует вымыть – ты так грязен, что полностью сливаешься с землей. Если бы не Блу, я бы до сих пор искал тебя по всей округе.
Блу – это голубой австралийский хилер, самая умная собака из всех, которых я только знаю. Сейчас ему семь лет. Вообще-то, это чисто пастушья порода, но Блу всегда спит в ногах нашей с Мэгги кровати.
Я с силой потер глаза и еще раз попытался сосредоточиться. Ничего не вышло. Эймос поднял руку, словно собираясь отряхнуть мою рубашку от мусора, но посмотрел на меня внимательнее и передумал.
– В моем грузовике мало бензина. Где твоя машина? – спросил я. – Можешь довезти меня до больницы?
Видя, что я возвращаюсь к жизни, Блу соскочил с трактора, облизал мне обе щеки и, усевшись у меня между ногами, положил голову мне на колено.
– Да, могу, – ответил Эймос, тщательно выделяя голосом каждое слово. – Но не повезу. Тебя ждет работа, так что возьми себя в руки и…
Его слова показались мне полностью лишенными смысла.
– Работа? Какая работа? – Я в растерянности огляделся по сторонам. – Но ведь я работал… работал до тех пор, пока не появился ты. – Я столкнул голову Блу с колена. Он – отличный пес, но слишком слюнявый, особенно когда он чем-то очень доволен или просто рад. – Хватит, Блу, перестань!
Но Блу меня проигнорировал – только перекатился на спину, так что все четыре его лапы оказались в воздухе, и, вывернув голову под невероятным углом, вывалил из пасти розовый язык.
– Вот что я тебе скажу, Дилан… – Эймос приосанился, взявшись обеими руками за свой форменный ремень. (Если кто не знает – Эймос работает помощником шерифа, поэтому носит и ремень, и шляпу, и значок, и все, что полагается.) – Мне сейчас не до шуток, так что… – С этими словами он сдвинул шляпу на затылок и поправил кобуру. – Я искал тебя все утро, объездил все поля и пастбища… все твои тридцать пять сотен акров! – Он слегка повысил голос и экспрессивно взмахнул руками, ни дать, ни взять – рыбак, рассказывающий о последней рыбалке. Когда Эймос хочет, он может быть чертовски выразительным.
– Десять минут назад, когда я в сотый раз за утро проезжал мимо этого поля, я заметил, что ржавое ведро с болтами, которое твой дед называл трактором, по-прежнему торчит аккурат посреди кукурузы, но… но с утра картина немного изменилась. Если точнее, в картине, которую я уже видел, появилась новая деталь, которая привлекла мое внимание. – Наклонившись, Эймос почесал Блу за ушами. – Да-да, это был он… Твой пес сидел на капоте этой старой развалины, словно хотел, чтобы я его увидел. Я сразу подумал: «Эге, вон оно что! Один идиот, промучившись неделю в аду, в конце концов сбежал из больницы и решил сделать вид, что работает». – Подобрав горсть земли, Эймос швырнул ее в кукурузу. – Вот что я тебе скажу, Дилан Стайлз… – Он выразительно посмотрел на кукурузные ряды, которые шли не по прямой, как полагается, а напоминали, скорее, след пьяной змеи на песке. – …Ты хоть и образованный, но все равно дурак. Мне без разницы, что ты – профессор… Я – твой друг и скажу тебе прямо: ты – хреновый фермер и большой идиот.
Сам Эймос, между прочим, далеко не дурак, и пусть полицейский значок не вводит вас в заблуждение. Работу в офисе шерифа он получил потому, что сам этого хотел, а вовсе не потому, что не мог найти ничего другого. Эймос никогда и ни от кого не принимает ничего, что могло бы сойти за подаяние. Я – исключение, но только потому, что я – старый друг этого черного, как голенище, великана, который к тому же не только ясно мыслит, но и умеет выражать свои мысли предельно четко. Эймос на год старше меня, поэтому мы учились в разных классах, но в старшей школе мы вместе играли в основном составе футбольной сборной на позиции ранингбэков[6]. Болельщики прозвали нас Мело́к и Гуталин – по цвету кожи.
Должен признаться, что на поле Эймос был быстрее и сильнее, и он ни разу не допустил, чтобы меня свалили или отобрали мяч. Частенько я своими глазами видел, как он блокировал сразу двух лайнбэкеров противника или толкал их на защитника сейфти, расчищая мне путь к зачетной зоне. Да и самый первый свой тачдаун я тоже сделал исключительно благодаря ему. До сих пор я помню, как поймал пас, вцепился сзади в форму Эймоса и крепко зажмурился… Мой путь к славе составил восемь ярдов, и все это расстояние Эймос тащил меня за собой, словно паровоз. Открыв наконец глаза, я увидел, как у меня под ногами промелькнула проведенная белым линия – граница зачетного поля; когда же я поднял голову, чтобы взглянуть на ревущие от восторга трибуны, мой друг скромно отошел в сторону, чтобы не мешать мне наслаждаться победой.
Кажется, в том же году «Бойцовые петухи» предоставили ему полную стипендию. Уже на четвертом курсе Южнокаролинского университета Эймос попал в Третью сборную лучших игроков студенческих команд, но это было еще не все. С самого первого дня в университете он изучал уголовное право и судопроизводство и со временем стал превосходным специалистом, а после окончания учебы вернулся домой и поступил на работу в офис шерифа округа Коллтон. С тех пор Эймос носит значок помощника шерифа, а в прошлом году на рукаве его форменной рубашки появились сержантские нашивки.
Протерев глаза, я крепко сжал голову руками. Мир вокруг снова начал вращаться, да и муравейник, который я разворошил, не способствовал возвращению душевного и физического покоя. Во всяком случае, ноги у меня начали чесаться, словно под джинсы проник уже не один десяток муравьев.
– Я… э-э-э… – Мой голос неожиданно куда-то пропал, а то, что осталось, напоминало сиплый шепот заядлого курильщика. – Здесь вообще есть еще кто-нибудь, кроме тебя?.. Ну, с кем я мог бы поговорить насчет больницы?.. И кстати, ты сегодня утром пил кофе? Я смертельно устал и совершенно не помню, как я сюда попал, но у меня такое… такое чувство, что ты надо мной издеваешься. А если ты надо мной издеваешься, это верный знак, что сегодня ты кофе еще не пил…
От этих моих слов Эймос начал слегка заводиться и даже снова перешел на язык фермеров и полевых рабочих.
– Конечно, я еще не пил свой утренний кофе – и все из-за тебя! Из-за этого твоего фокуса с исчезновением мне пришлось целое утро колесить по округе, прочесывая этот паршивый клочок земли, который вы с Мэгги почему-то зовете фермой. Может для вас, Стайлзов, это и ферма, но, по-моему, это одно сплошное недоразумение! Хотел бы я знать, какого черта после бессонной недели в больнице ты решил наверстать упущенное именно здесь, посреди кукурузного поля? Неужели ты не нашел для сна места получше? По твоей милости я испачкал брюки, порвал рубашку, поцарапал ботинки и вымазался в свинячьем дерьме… Никак в толк не возьму, почему вы до сих пор не зарезали эту скотину! Никакого проку от нее, только вонь и…
– Это ты про Пи́нки?
– Про кого же еще?! Откуда бы иначе вокруг вашего дома взялись эти горы дерьма? – Эймос обвиняющим жестом показал на свои ботинки. – За всю жизнь я не видел свиньи, которая бы столько гадила. Тебе надо послать ее на какой-нибудь конкурс – вот увидишь, она возьмет первое место! И чем только вы ее кормите?!
– Эймос… Э-эймос… – Я запнулся. Зубы у меня лязгали, голос дрожал, да и всего меня трясло, несмотря на палящие солнечные лучи. – Сейчас, наверное, уже градусов девяносто[7], и у меня адски болит голова. Кроме того, у меня везде чешется и… Помоги мне добраться до дома, пожалуйста! Я немного отдохну, приведу себя в порядок, а потом как-нибудь доберусь до больницы… Мне очень нужно… просто необходимо быть с Мэгги!
К чести Эймоса, он всегда знал, когда надо остановиться.
– Идем, Дилан. – Он помог мне подняться и подставил плечо, чтобы я мог на него опереться. – Я уже говорил, что тебе не мешает как следует вымыться?
– Г-говорил…
Мы продрались сквозь кукурузу и заковыляли к дому. Эймос отдувался и потел, но все же улучил минуту спросить:
– Ты говоришь, что не помнишь, как сюда попал – это я уже понял. Но хоть что-то ты должен помнить?
– Я помню… – отозвался я, нацеливаясь на крыльцо своего дома. – Помню, как сидел с Мэгги. Потом в палату заявился какой-то сукин сын из больничной администрации. Он хотел знать, как я собираюсь оплачивать счета. Когда он спросил, знаю ли я, во сколько обойдется держать Мэгги в больнице, я… Словом, я сделал то, что сделал бы на моем месте любой нормальный мужчина, – развернулся и нокаутировал этого умника, этого гребаного…
Эймос поднял ладонь.
– Достаточно, я все понял.
– …Потом я выволок его в коридор, где им занялась сестра, которая обычно ухаживает за Мэгги. Мне показалось, она не особенно спешила приводить этого субъекта в чувство. Видать, они там, в больнице, любят этого мистера Пент… Тентуистла горячо и нежно. – Тут я ненадолго опустил глаза, чтобы посмотреть на костяшки правой руки. Они были разбиты в кровь, да и вся кисть немного распухла, так что удар, похоже, действительно вышел что надо.
– Ну а что было потом… потом не помню, – закончил я.
Пока я говорил, Эймос подтащил меня к дому еще на несколько шагов. Не глядя на меня, он сказал:
– Сегодня утром служащий муниципальной больницы Джейсон Тентуистл обратился в офис шерифа с жалобой на некоего Дилана Стайлза, который выбил ему пару зубов, сломал нос, подбил глаз и разбил очки. Он обвинял упомянутого мистера Стайлза в нанесении побоев и хотел написать заявление… – Эймос по-прежнему смотрел не на меня, а на дверь моего дома, но его губы тронула улыбка.
– Пришлось сказать этому типу, что мы все крайне ему сочувствуем, но, поскольку свидетелей происшествия нет, мы не можем ничего сделать. – Эймос неожиданно остановился и, взяв меня обеими руками за плечи, развернул лицом к себе. – Я все отлично понимаю, Дилан, но ты… ты все равно не имеешь права избивать людей, которые заботятся о твоей жене.
– Но он вовсе о ней не заботился! Он просто…
Эймос снова остановил меня движением руки.
– Может, дашь мне закончить?
– Нужно было врезать ему еще сильнее. Нужно было сломать ему челюсть, этому ублюдку!
– Так. Этого я не слышал. – Эймос перевел дыхание, потом обнял меня за пояс, и мы сделали еще несколько шагов. Страшная мысль неожиданно пришла мне в голову. Я остановился и посмотрел Эймосу прямо в глаза.
– Эймос, что с Мэгги? Ты ничего от меня не скрываешь?
Он покачал головой.
– Никаких перемен, Мелок. Физически… физически она даже чувствует себя лучше. Кровотечение, во всяком случае, прекратилось. Что до остального…
– Я сам доеду до больницы, – решил я. – Правда, придется толкать мой грузовик до ближайшей заправки вручную, так что будет, наверное, лучше для нас обоих, если ты перестанешь упираться и отвезешь меня туда.
Эймос вздохнул, потом снова подставил плечо и поволок меня к дому. Уже у самого крыльца он сказал:
– Ладно, отвезу, но только после того, как ты сходишь на собеседование. – Крякнув, он помог мне подняться на крыльцо.
– Собеседование? – Я сел на верхнюю ступеньку и потер затылок. – Какое еще собеседование?
Эймос в очередной раз вытер вспотевший лоб, поправил рубашку и двумя руками, – этак, по-шерифски, – подтянул пояс с пистолетом. Только проделав все эти манипуляции, он сказал:
– Собеседование с мистером Уинтером в профессиональном колледже[8] Диггера. Если ты ухитришься не сесть в лужу и пройдешь собеседование, тебя примут туда на временную работу. Будешь преподавать литературный английский по расширенной программе. Твой курс, если я правильно запомнил, называется «Анализ текста и литературное творчество».
Мне потребовалось не меньше минуты, прежде чем слова «курс» и «преподавать» дошли до сознания.
– Какой курс, Эймос? Я что-то ничего не понимаю! Неужели ты не можешь говорить по-человечески?!
– Я и говорю по-человечески, профессор Стайлз. Примерно через два часа вы должны встретиться с деканом Уинтером и побеседовать с ним о предмете, который вам предстоит преподавать в ПКД. – Он улыбнулся и снял темные очки. – Ну, дошло?
Эймос называет меня профессором крайне редко. Соответствующую диссертацию я защитил несколько лет назад, однако об этом мало кто знал, поскольку я оставил преподавание после того, как окончил аспирантуру. Своими достижениями на научном поприще я гордился, но мне отнюдь не хотелось, чтобы об этом знали все соседи, да и кукурузе, которую я выращивал, моя ученая степень была абсолютно до лампочки. Быть может, она даже предпочла бы иметь дело не с доктором филологии, а с простым деревенским парнем, который крепко держит в руках руль трактора и не дает ему вилять из стороны в сторону.
– Так, давай-ка по порядку… – проговорил я, сильно тряхнув головой в тщетной надежде избавиться от застилающего мозг тумана. – Для начала скажи: отвезешь ты меня в больницу к Мэгги или нет?
– Ты что, Дилан, совсем меня не слушаешь? – Эймос, казалось, искренне огорчился. – Я же только что сказал тебе человеческим языком: профессор Дилан Стайлз-младший намерен в самое ближайшее время вернуться к своей преподавательской деятельности. Он будет читать курс литературного английского в профессиональном колледже Диггера… Но сначала он должен встретиться с деканом Уинтером, который будет ждать его в своем кабинете… – Он нахмурился и посмотрел на часы. – …Через час и пятьдесят семь минут. И не спорь, – добавил Эймос, бросив на мое лицо быстрый взгляд. – Им нужен нормальный преподаватель, а тебе нужна нормальная работа. И тому есть несколько причин… – С этими словами он достал из кармана рубашки сложенный в несколько раз листок бумаги и сунул мне в руку.
– Назови хотя бы одну, – с вызовом сказал я.
– Легко. – Эймос вытер вспотевший лоб крошечным носовым платком. – Во-первых, налоги. Во-вторых, проценты по займу. И то и другое ты должен оплатить в конце будущего месяца, а я очень сомневаюсь, что твоя так называемая ферма принесет тебе что-то, кроме убытков. Профессия преподавателя – это была твоя страховка на самый крайний случай, а сейчас, по-моему, и есть этот крайний случай.
– Но, Эймос, у меня уже есть работа. – Я широко развел руки в стороны, словно стараясь обхватить ими и дом, и поля вокруг. – Я работаю здесь. И кстати, откуда ты знаешь, когда мне нужно будет платить налоги и проценты?
Опустив взгляд, Эймос ткнул пальцем куда-то себе под ноги.
– Мы с тобой выросли на этой земле, Дилан. На этом поле мы когда-то гоняли мяч. Вон там, возле крыльца, ты однажды разбил мне губу… А в двух сотнях ярдов отсюда, за этим полем и грунтовкой, находятся мой дом и мои поля. – Он действительно махнул рукой в направлении своего дома. – Я отлично знаю, что́ все это для тебя значит, и мне очень не хочется, чтобы вы с Мэгги потеряли дом и все остальное. – Эймос сплюнул. – Вам будет нелегко это пережить, да и мне тоже будет не особенно приятно, если ваша ферма окажется в чужих руках, так что… так что лучше не спорь. Ты много работал, чтобы получить хорошее образование, так пусть теперь твое образование поработает на тебя, так что ступай в дом, прими душ, пока ты еще в состоянии платить за горячую воду, и отправляйся на собеседование.
– Но я должен узнать, как себя чувствует Мэгги, – снова сказал я.
– Она жива, и с ней все более или менее в порядке. Состояние стабильное, больше того – в физическом плане Мэгги стало намного лучше. Что же касается того, придет она в себя или нет, то я ответить на этот вопрос не могу. Все в руках божьих. – И Эймос посмотрел на небо.
– Понятно. – Я немного помолчал. – Ладно, расскажи-ка мне поподробнее насчет этого идиотского курса, который я должен читать…
Пока я учился в аспирантуре, мне пришлось читать лекции и вести семинары в двух разных университетах – правда, только в качестве приглашенного преподавателя. Это было необходимо для того, чтобы мы с Мэгги могли хоть как-то сводить концы с концами, к тому же я наделся, что преподавательский опыт обеспечит меня работой и после защиты диссертации, но, когда аспирантура осталась позади, выяснилось, что найти место не так-то легко. Со временем у меня даже появилось такое чувство, что дело было вовсе не в моей квалификации, а в моем происхождении. Никто не хотел брать на преподавательскую работу человека, который вырос на ферме в глухой провинции.
Не сумев найти работу в избранной области, я вынужден был вернуться, так сказать, к корням, в том числе и в буквальном смысле – я имею в виду расчистку и раскорчевку полей, которые за время моей учебы успели изрядно зарасти. Мне, разумеется, было далеко до деда, которого в наших краях прозвали Папа Стайлз; никто не ломился в мои двери, чтобы спросить совета, как выращивать кукурузу, как бороться с паршой на яблонях и чем лучше удобрять сладкий картофель, и все же нам с Мэгги в течение трех лет более или менее удавалось зарабатывать себе на хлеб. Работа была не из легких, но мы не бедствовали, и Эймос отлично это знал. Ему также было прекрасно известно, что, получив один щелчок по носу, я отнюдь не горел желанием повторить попытку. Если бы какой-нибудь престижный университет предложил мне возглавить кафедру английского языка и литературы, я, быть может, еще подумал бы, но унижаться, выпрашивая ставку внештатного преподавателя в муниципальном колледже низшей ступени, мне не хотелось. Как мне казалось, для простого фермера это было слишком много, а для филолога с ученой степенью – слишком мало.
– Я же уже говорил – ты должен читать курс литературного английского в колледже Диггера. В аудитории номер один, – зачем-то уточнил Эймос. – Ты уже преподавал этот курс, так что тут для тебя не должно быть ничего нового.
– Но почему я должен его преподавать? – перебил я. – Если сложить то, что я рассчитываю выручить за будущий урожай, с деньгами от аренды двух пастбищ и соснового леса, который мы сдаем заготовителям хвои, то мы, как мне кажется, выкарабкаемся. И вообще, сейчас мое место рядом с Мэгги, а не в аудитории номер один, где мне, без сомнения, придется нянчиться с дюжиной тупоголовых дебилов, не сумевших поступить в нормальный университет.
Эймос покачал головой.
– Мне пришлось за тебя просить, Дилан, так что не надо теперь ставить меня в дурацкое положение. И не вздумай задирать нос перед этими ребятишками, потому что они не единственные, кто не сумел поступить в «нормальный университет», – отрезал он (мой друг порой бывал излишне прямолинеен, но, надо отдать ему должное, чаще всего ему все же удавалось заставить меня засунуть свою гордыню подальше и поступить как надо, а не так, как мне хотелось). – Кроме того, идея была не моя, а Мэгги.
– Мэгги хотела, чтобы я преподавал?!
– Она увидела в какой-то газете объявление о наборе внештатных преподавателей и позвонила мистеру Уинтеру. Это было примерно месяц назад. Она хотела поговорить с тобой после того, как родится ребенок, но…
– Понятно, – прошептал я, чувствуя, как меня прошиб пот. – Она не успела.
– Что касается твоей налоговой ситуации и необходимости выплачивать проценты по займу, то… Одна моя знакомая из нашего компьютерного отдела проверила, по моей просьбе, твою кредитную историю… которая, кстати, оказалась совершенно безупречной. И мне бы не хотелось, чтобы ты ее испортил.
Я тряхнул головой, сражаясь с приступом тошноты.
– Черт бы побрал и тебя, и твоих знакомых! – пробормотал я. – Доброжелательные идиоты!.. Без них жизнь была бы намного спокойнее.
– Не стоит попрекать меня моими знакомствами, Дилан. Кроме того, тебе прекрасно известно, что я всегда соблюдаю правила. Именно поэтому некоторые мои знакомые находятся за решеткой, причем заслуженно. И главное – они сами это понимают.
Это было абсолютно верно, и сейчас старый приятель только напомнил мне о том, что я отлично знал. Весь город, не исключая тех, кого Эймосу приходилось задерживать, не сомневался в его справедливости и честности. Думаю, большинство нарушителей закона в наших краях хотели бы, чтобы их арестовывал именно он, а не кто-то другой. При этом каждый из них, что бы он ни натворил, мог быть уверен, что получит по заслугам – именно по заслугам, но не более того. Эймос был служителем закона в буквальном смысле слова, и законом он никогда не злоупотреблял.
– Кроме того, так хотела Мэгги, – напомнил Эймос шепотом.
Я только головой покачал. Прошедшие три дня полностью выпали у меня из памяти, но за это время я ухитрился основательно вываляться в свиных экскрементах. Часть из них перекочевала на руки и на рубашку Эймоса. Несколько раз он пытался почиститься, но только хуже все размазал.
Перехватив мой взгляд, Эймос сказал:
– Да, Дилан, я выпачкался в свином дерьме, но я по-прежнему тот же. У меня есть форма, есть рация, дубинка, большой заряженный пистолет и значок помощника шерифа. Всем этим я очень дорожу, но, если бы я мог поменяться с тобой местами, колебаться я бы не стал. К сожалению, я не могу стать тобой, поэтому я просто прошу: ступай домой, вымойся как следует, побрейся, смени одежду и поезжай на собеседование. К тому же, мне кажется, что в глубине души ты знаешь – так будет лучше для тебя… – Он окинул взглядом мои кукурузные поля и добавил: – …Для тебя, для Мэгги и для твоих плантаций.
Иногда я бы предпочел, чтобы Эймос не был настолько откровенным и прямым человеком.
– Кто… кто сейчас с Мэгги? – выдавил я.
– До недавнего времени с ней был я, потом меня сменила сиделка. Она – очень приятная девушка, дочь местного пастора. Не волнуйся, она будет хорошо заботиться о твоей жене. Пойми, Дилан, сейчас ты ничего не можешь сделать для Мэгги, ее жизнь – в руках Божьих. Я этого не понимаю, и мне это не очень нравится, но… Пойми, ни ты, ни я ничего изменить не можем. Нам остается только ждать и надеяться… а пока мы ждем, нужно позаботиться о том, чтобы на почтовом ящике перед твоим домом и дальше красовалась фамилия Стайлз, а не чья-то чужая. Чтобы этого добиться, ты должен пойти на работу в колледж. Вопрос только в этом. И не надо говорить мне, будто ты поклялся никогда не преподавать. Это чушь собачья! – Эймос сплюнул и ткнул пальцем мне в грудь. – Ты – профессор, а никакой не фермер, вот и делай то, что́ получается у тебя лучше всего. Или ты думаешь, Бог случайно послал тебе такую бабушку? Ты думаешь, Он ошибся и она учила тебя всяким книжным премудростями только для того, чтобы ты мог хранить их в себе, ни с кем не делясь?
Он поставил одну ногу на ступеньку, уперся в колено локтем согнутой руки и добавил уже совсем другим тоном:
– Я очень, очень в этом сомневаюсь, дружище. Да, я знаю, что тебе очень нравится быть фермером, но ты не Папа Стайлз, по крайней мере, еще не стал им. Можешь и дальше прятаться от всех в своей кукурузе, но это будет просто стыд и позор. Стыд и позор! В общем, вставай и иди мойся, пока я сам не окатил тебя водой из шланга.
Я отворил сетчатую дверь и ввалился в дом, бормоча себе под нос:
– Чтоб тебе провалиться, Эймос!.. Чтоб тебя укусил бешеный енот!
– Эй! – крикнул мне вслед Эймос. – Я только выполняю обещание, которое дал твоей жене. Это ты на ней женился, а не я, и если хочешь жаловаться… – Он махнул рукой в ту сторону, где находилась больница. – …Жалуйся ей!
– Для этого мне нужно туда попасть.
– Попадешь, только сначала побеседуй с мистером Уинтером. – Эймос улыбнулся, проворчал себе под нос что-то неодобрительное и отправился на кухню, чтобы вымыть нашу старую кофеварку.
Глава 4
Я был единственным ребенком в семье и появился на свет довольно поздно, когда меня уже не ждали. Когда я все-таки родился, родители сочли это настоящим чудом: отцу тогда было уже сорок два, а маме – сорок. Я до сих пор помню обоих, но, к сожалению, воспоминаний у меня немного: отец погиб в автомобильной аварии, когда мне было лет пять, а мама умерла от сердечного приступа полгода спустя, рухнув на пол прямо в универмаге, куда она отправилась покупать для меня овсяные хлопья.
Вскоре после маминой смерти меня взяли к себе бабушка и дед. Они растили меня до восемнадцати лет, пока я не окончил школу и не отправился в колледж. Несмотря на отсутствие родителей, недостатка в любви я не испытывал никогда – бабушка и дед об этом позаботились. У обоих были поистине неисчерпаемые запасы любви, которую они щедро изливали друг на друга, на меня и на свой дом.
Небольшой фермерский дом на две спальни дед построил своими руками больше шестидесяти лет назад. Полы он настелил из магнолиевых досок двенадцатидюймовой ширины, которые подогнал и соединил друг с другом на «ласточкин хвост», обойдясь без единого гвоздя. Полы получились крепкими, хотя и немного скрипучими. С годами на них появились кое-где глубокие царапины, и только в гостиной, где мои дед с бабкой частенько танцевали в одних чулках под музыку оркестра Лоренса Уэлка, пол так и остался гладким, отполированным чуть не до зеркального блеска.
Стены дедушка – вслед за нашими соседями я стал звать его Папой, да он и был мне отцом – сделал из восьмидюймовых кипарисовых досок, потолок – из четырехдюймовых дубовых планок, соединенных «в паз и гребень», а крышу покрыл гофрированным железом. Сколько я себя помнил, снаружи дом всегда был белым, с зелеными наличниками и жалюзи. Почему Папа красил его только белой краской? Так нравилось бабушке, а он не имел ничего против.
Помню, как-то летом Папа стоял на стремянке и, наверное, уже в сотый раз красил белой краской нижнюю дощатую поверхность свеса крыши. Поглядев на меня, он неожиданно сказал:
– Запомни, сынок: никогда не спорь с женщиной о том, каким должен быть ее дом. Запомни это накрепко, потому что это ее дом, а не твой. – И, махнув кистью куда-то в направлении кухни, Папа шепотом добавил: – Пусть я его и построил, но, если честно, нам с тобой очень повезло, что она позволяет нам в нем жить!
И теперь, когда бы я ни подумал о нашем доме, я вспоминаю его именно таким – сверкающим свежей белой краской и зелеными наличниками, утопающим в цветах, прохладным в любую жару благодаря легкому сквозняку, который врывался в кухонную дверь и вырывался из парадной двери, подпертых двумя отслужившими свое каминными кочергами.
У Папы были свои пристрастия. В частности, он был неравнодушен к рабочим комбинезонам из джинсовой ткани, к карманным ножам и к рисовым хлопьям «Райс криспиз». И если любовь к хорошей одежде и хорошим ножам свойственны большинству фермеров, то рисовые хлопья были его, так сказать, индивидуальной причудой. Обычно Папа доставал из буфета сковородку, наполнял ее хлопьями до краев, сверху клал резаные персики, заливал полупинтой сливок и уничтожал все в один присест. Не удивительно, что первыми словами, которые я сумел прочесть, когда выучил буквы, были «рисовые хлопья».
Дедушка и бабушка появились на свет в бедных фермерских семьях и не получили хорошего образования. Их юность пришлась на годы перед Великой депрессией, когда доллар еще чего-то стоил, поэтому им приходилось работать не покладая рук, чтобы не умереть с голода. О высшем образовании они и не помышляли, но не воображайте, будто мои бабушка и дед были малограмотными, ограниченными людьми. Напротив, они всегда стремились к знаниям, только добывать их им приходилось не за школьной партой и не в университетской аудитории. Папа изучал агрономию, пользуясь любыми книгами и брошюрами, какие только мог достать, и добился прекрасных успехов, совмещая теорию с практикой: за шестьдесят с лишним лет, на протяжении которых мой дед обрабатывал свой земельный участок, он почти никогда не оставался без урожая. Со временем его известность распространилась довольно широко – бывало, люди приезжали в Диггер за несколько десятков миль, чтобы только встретиться с ним и попросить у него совета. Сроки посева и подкормки, лучшие удобрения, борьба с вредителями – Папа щедро делился своими знаниями с каждым, кто обращался к нему за помощью.
Пока дед пахал и боронил, бабушка готовила и шила. Но поздно вечером, сняв фартук и повесив его на заднюю сетчатую дверь, она открывала книгу. У нас, конечно, был телевизор, но я всегда предпочитал слушать бабушку. После того как диктор программы новостей сообщал, что в мире все спокойно, Папа выключал телевизор, и бабушка начинала читать нам вслух.
Если, возвращаясь из школы, я видел, что Папа работает на тракторе, я бежал к нему через пастбище, взбирался на колени и слушал, как он рассказывает о преимуществах многоуровневого дренажа, о том, каким был сегодняшний рассвет, о запахе послеполуденного дождя, о вкусе молочной кукурузы – и о бабушке. Когда наши волосы покрывались слоем пыли, а шеи обгорали под лучами клонящегося к закату солнца, мы невольно начинали принюхиваться, ловя в воздухе запахи приготовленного бабушкой ужина. Еще какое-то время спустя Папа разворачивал трактор, и мы мчались к дому, словно две гончие, которых неотвратимо влечет запах дичи.
Как-то утром, когда мне было лет двенадцать, я собирался в школу. Перед тем как отправиться в душ, я сделал погромче приемник, настроенный на волну местной рок-н-ролльной станции. Ее ведущим был тогда довольно развязный диджей, кумир всех моих сверстников, да и мне он тоже нравился. Не успел я, однако, отправиться в ванную, как в мою комнату заглянул Папа. Приподняв бровь, он уменьшил громкость и сказал:
– Сынок, я редко указываю тебе, что ты должен делать, но сегодня я скажу тебе вот что… Ты можешь слушать это… – Он показал на приемник, который после поворота рукоятки настройки передавал музыку кантри. – Или это… – Папа немного повернул ручку, настроив приемник на местную евангелистскую станцию, и из динамика полились религиозные гимны. – Но не то, что́ ты слушал только что.
Сейчас я понимаю, что в тот день дед сделал для меня очень много. Фактически, он определил мою жизнь на много лет вперед. Послушайте песню Вилли Нельсона[9] «Моими героями всегда были ковбои», и вы поймете, что́ я имею в виду. Папа ничего мне не навязывал, он просто познакомил меня с теми песнями, которые любил сам, и дал мне возможность сделать свой выбор. И я его сделал. Любопытно, что примерно в то же самое время, переключая программы нашего пыльного «Зенита», который принимал всего три канала, я наткнулся на сериал «Придурки из Хаззарда»[10]. Заглавной музыкальной темой фильма оказалась песня, которую исполняли те же голоса, которые я хорошо знал по радиопередачам, и это каким-то образом укрепило мою уверенность в Папиной правоте.
Очень скоро я стал планировать свою неделю таким образом, чтобы освободить вечер пятницы. Папа и бабушка смотрели «Придурков» вместе со мной, потому что дальше по программе показывали «Даллас», а им очень хотелось узнать, кто стрелял в Джей Ара[11]. Но с восьми до девяти телевизор был только моим. Я буквально влюбился в Бо и Люка Дьюков и частенько подражал то одному, то другому. С Папиной помощью я даже купил гитару, научился играть на ней «Мамы, не давайте детям становиться ковбоями», а моей любимой обувью стали на многие годы ковбойские сапоги со скошенными каблуками.
Как и большинство жителей Библейского пояса[12], Папа работал от зари до зари шесть дней в неделю, оставляя воскресенья исключительно для Бога, для бабушки и для меня. Воскресное утро мы проводили в церкви, а на обед лакомились бабушкиными жареными цыплятами или свиными ребрышками. После обеда мы спали час или два, а потом спускались к реке, насаживали на крючки земляных червей и удили лещей или просто слушали, как после наступления темноты разносится над рекой протяжное «тви-и» каролинских уток[13].
О Боге Папа почти никогда не говорил вслух, зато он очень любил возводить церковные шпили. За те пятнадцать лет, что я прожил с ним и с бабушкой, он организовал и провел не меньше двенадцати кампаний по возведению шпилей в близлежащих церквах. Пасторы и священники со всей округи звонили ему и просили помочь, и, насколько мне известно, Папа никогда никому не отказывал. Для него не имело особого значения, к какой конфессии относится та или иная церковь, зато он очень живо интересовался тем, какой высоты должен быть шпиль. Чем выше – тем лучше, так считал Папа. Ближайшая церковь со шпилем его работы находится всего в миле от нашего дома; Папа воздвиг его по личной просьбе пастора Джона Ловетта, и ему было абсолютно наплевать, что с формальной точки зрения она относится к слывущей возмутительницей спокойствия Африканской методистской епископальной сионской церкви, над входом в которую начертано крупными буквами: «Сошествие Святого Духа – не событие, а продолжающийся процесс».
После того как я побывал на четвертом или пятом строительстве шпиля, я спросил:
– Папа, почему тебе так нравится строить именно церковные шпили?
Он улыбнулся, достал карманный нож, открыл малое лезвие и, глядя поверх окружающих нас полей и пастбищ куда-то очень далеко, начал тщательно вычищать застрявшую под ногтями грязь. Наконец Папа сказал:
– Чтобы не сбиться с пути, некоторым людям – и мне в том числе – нужны надежные ориентиры, которые видно издалека.
Я уже учился на первом курсе университета, когда бабушка тяжело заболела. Узнав об этом, я примчался домой как можно скорее, хотя для этого мне не раз пришлось превысить разрешенную скорость. Взбежав на заднее крыльцо, я услышал, как Папа, стоя на коленях возле бабушкиной кровати, прошептал:
– Боже, прошу тебя: дай мне прожить с этой женщиной хотя бы еще один день!
Они прожили вместе шестьдесят два года, и вот музыка смолкла и огни погасли. Закончился их бесконечный танец на отполированных до зеркального блеска магнолиевых полах гостиной. Одиночество нанесло Папе смертельную рану, и три недели спустя он последовал за бабушкой. Врач сказал мне, что его сердце – вполне здоровое, не имевшее никаких изъянов – вдруг остановилось ни с того ни с сего. Теперь я думаю – врач просто не смог подобрать подходящую медицинскую терминологию, чтобы описать смерть от разбитого сердца, но это было уже не важно. Папа умер. И это было единственным, что имело значение.
В детстве мне всегда хотелось побывать на Дальнем Западе. Когда бабушка и Папа скончались, я счел это подходящим предлогом, чтобы пуститься в дорогу. Бросив колледж, я отправился в путь, держа курс на закатное солнце. В детстве мы с Папой пересмотрели почти все классические вестерны, поэтому открытое пространство прерий было исполнено для меня бесконечного обаяния. Кроме того, где-то там, на западе, находились легендарные Скалистые горы, на которые я тоже был не прочь взглянуть.
На протяжении нескольких недель я ехал все вперед и вперед, глядя, как за окнами моей машины одна гора сменяет другую. Я видел Большой каньон и даже омочил ноги в Тихом океане. В те времена – как, впрочем, и сейчас – я был очень нетребователен в пище и неприхотлив в смысле бытовых удобств, поэтому питался я почти исключительно арахисовым маслом, а спал в кузове своего грузовичка вместе с Блу. Мы согревали друг друга, и даже ночной холод был нам нипочем.
Мы были уже в Нью-Мексико, когда у меня закончились деньги, поэтому волей-неволей нам пришлось повернуть назад. В Диггер я вернулся спустя год после смерти Папы и был неприятно поражен тем, как изменился наш дом за время моего отсутствия. Мне он всегда казался незыблемым, неподвластным времени и неуязвимым для любых перемен, но сейчас я увидел, что сад заполонили сорняки, что краска на стенах облупилась, жалюзи перекосились, а столбы изгороди подгнили и повалились, потащив за собой колючую проволоку. И все же вода из нашего колодца оставалась все такой же холодной и вкусной, в доме было сухо, а легкий сквозняк, который я устраивал по бабушкиному способу, открывая одновременно парадную и черную двери, по-прежнему приносил в комнаты прохладу даже в самые знойные августовские дни. Несомненно, Папа знал, что делал, когда строил этот дом.
Почти полтора месяца я мыл окна, вывозил мусор, красил стены, скоблил полы, приводил в порядок канализацию и водопровод, смазывал дверные ручки и петли, ставил новые столбы и заново натягивал проволоку. Немало времени я потратил на трактор – мне очень хотелось снова привести его в рабочее состояние. Звук его двигателя напоминал бы мне о Папе, но машина слишком долго простояла без дела под открытым небом, поэтому большинство шлангов и патрубков в двигателе и других системах просто сгнили или прохудились. Пришлось слить все рабочие жидкости, заменить свечи и прерыватель, купить и поставить новые шланги. В конце концов с помощью кувалды, неизвестной матери, и Эймоса, которому я время от времени звонил, чтобы посоветоваться, я все же сумел завести трактор и с тех пор наслаждался его басовитым урчанием.
Однажды по дороге в скобяную лавку я столкнулся с Мэгги. Мы вместе учились в старшей школе, но никогда не «встречались», как встречаются современные юноши и девушки. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу не признать, что с моей стороны это было довольно глупо. Впрочем, в школе я был слишком занят: охотился, рыбачил, играл в футбол, так что времени на девушек – а если говорить откровенно, то и на учебу, – у меня совершенно не оставалось. Любовь к учебе пришла ко мне с большим опозданием. Любовь к женщине – еще позже.
Папа как-то сказал мне, что до того, как он встретил бабушку, у него было такое ощущение, будто его сердце – это сложная головоломка, в которой не хватает доброй половины фрагментов. Повстречав Мэгги, я сразу понял, что́ он имел в виду. Большинство моих знакомых мужчин любят описывать, какая у их жены фигура (с фигурой, кстати, у Мэгги все в полном порядке), но в ту, первую встречу меня больше всего поразили ее густые, как у Одри Хепберн, волосы, и глаза, как у Бет Дэвис.
После еще двух или трех «случайных» встреч в скобяной лавке я набрался храбрости и пригласил Мэгги на свидание. Будь я немного посмелее, то сделал бы ей предложение уже через пару недель, однако я отчего-то робел. В итоге мне потребовалось почти полгода, чтобы сделать решительный шаг. Я купил Мэгги кольцо, и мы поженились. В свадебное путешествие мы поехали на остров Джекил. Там мы много гуляли по берегу, смотрели на океанские волны и бросали в воду камешки. Именно тогда Мэгги убедила меня продолжить учебу. Вскоре я начал заниматься на вечерних курсах в филиале Южнокаролинского университета в Уолтерборо. После смерти бабушки и Папы я махнул на себя рукой, но Мэгги помогла мне выбрать якорь, поднять паруса и выправить курс.
Мне всегда нравилось писа́ть, а благодаря бабушке у меня это неплохо получалось. Можно даже сказать, это было единственным, что я умел делать хорошо. После окончания вечерних курсов меня приняли на первый курс, и я выбрал своей специализацией английский язык. Моей мечтой был диплом в области литературного творчества. Правда, для этого нужно было много трудиться, но я был уверен, что у меня все получится. Тогда мне казалось – это и есть мое призвание.
В течение первых трех лет учебы я написал несколько рассказов и разослал их в журналы, куда обычно посылают свои «шедевры» все, кто мечтает стать писателем. Я имею в виду «Сэтердей ивнинг пост», «Нью-Йоркер» и тому подобные. До сих пор у меня хранится папка с отказами, которые я получал с завидной регулярностью. Как только папка наполнилась, я перестал посылать свои рассказы куда бы то ни было.
Но Мэгги продолжала в меня верить. Как-то раз, когда я заканчивал последний курс в филиале Южнокаролинского университета, она распечатала несколько моих рассказов и отправила в Виргинский университет вместе с заявлением о приеме в магистратуру. По какой-то причине на этот раз ответ оказался положительным. Меня не только приняли в магистратуру, но даже обещали оплатить учебу и учебные материалы. До сих пор не знаю, в чем было дело: то ли администрации понравился мой стиль, то ли они поняли, что я не в состоянии заплатить за весь курс, но, как бы там ни было, деньги для меня нашлись.
Так мы с Мэгги выбрали новую цель, новую вершину, к которой следовало стремиться. В университет я вернулся в значительной степени окрыленный своей удачей, однако прошло совсем немного времени, и мои иллюзии развеялись как дым. Бабушка сумела привить мне любовь к литературе, к художественному слову, и я вообразил, будто мне удастся достичь в этой области каких-то особенных глубин или, если угодно, высот. Увы!.. Магистратура отнюдь не походила на маяк, который указывал бы мне путь к вершинам писательского мастерства. Если бы не профессор Виктор Грейвз – старый, скрюченный карлик, с оглушительным смехом, который скорее пристал бы напившемуся рома здоровяку-матросу, – я бы, наверное, не выдержал и послал подальше и магистратуру, и свою будущую диссертацию. Но Виктор взял меня под свое крыло и помог дотерпеть до конца.
Когда моя магистерская диссертация была готова, он уговорил меня не мешкая приступить к написанию докторской. Защититься я не особенно надеялся, но что мне оставалось? Я мог двигаться только в одном направлении – вперед. Я подал заявление и три недели спустя получил письмо, в котором администрация университета уведомляла меня о том, что тема моей диссертации утверждена и что я зачислен в докторантуру. Мэгги поместила это письмо в рамочку и повесила на стенку над моим столом, но, даже видя его собственными глазами, я долго не мог поверить, что подобное происходит со мной. Я?.. Учусь в докторантуре?.. Да нет, не может такого быть! Это чья-то неумная шутка. Такие парни, как я, не пишут докторских диссертаций! И все же в письме было ясно сказано, что университет заинтересован во мне и в моей работе, причем заинтересован настолько, что администрация снова готова была оплачивать мою учебу. И это было очень кстати, потому что без такой финансовой помощи я был бы вынужден отказаться от своей мечты. Но мне выделили стипендию, и я снова засучил рукава.
И снова мне на помощь пришел Виктор Грейвз. Благодаря ему в моей голове начал брезжить свет, и в конце концов я понял, насколько мудрым и дальновидным человеком была моя бабушка.
Конечно, нам с Мэгги приходилось нелегко. Мы снимали крохотную однокомнатную квартирку, или, точнее сказать, каморку, под самой крышей в доме рядом с университетским кампусом. Пока Мэгги обслуживала столики в студенческом кафе, я работал грузчиком в Единой службе доставки посылок[14]. Мои смены начинались рано утром, а Мэгги работала главным образом по вечерам, поэтому на протяжении двух с лишним лет моей учебы в докторантуре мы виделись разве что по праздникам и выходным.
Несмотря на поддержку Вика Грейвза, который продолжал помогать мне чем мог, довольно скоро я убедился, что моя бабушка знала историй гораздо больше, чем большинство специалистов-литературоведов способно прочитать за целую жизнь. Кроме того, она не только понимала художественные произведения глубже, чем они, но и обладала особым талантом: бабушка могла научить любого понимать их так же хорошо, как она сама. Такая способность действительно встречается редко: отнюдь не каждый человек, который что-то очень хорошо знает – или думает, что знает, – способен передать свои знания другим.
К сожалению, за лощеной внешностью и академическими манерами, за звучными титулами и научными степенями большинства моих преподавателей скрывались самые обыкновенные халтурщики, писатели очень средней руки, которые даже под дулом пистолета не смогли бы написать ничего достойного. Будучи начисто лишены какого-либо литературного таланта, они получали злобную радость, когда им удавалось погасить искру способностей в других. Мне не хотелось стать таким, как они, и я надеялся, что крестьянская практичность, которую я перенял от Папы, поможет мне передать будущим студентам бабушкин талант и защитить их от яда разочарования и цинизма, царящих в окололитературных и академических кругах.
Уволившись из Службы доставки, я начал преподавать английский на первом и втором курсах своего же университета. Мне нравилась работа в аудитории, нравилось читать лекции и общаться со студентами на семинарах. На занятиях я стремился прежде всего познакомить своих слушателей с чудом Слова, с могуществом Языка, и иногда мне казалось, будто я могу не только заинтересовать приходивших ко мне на лекции парней и девчонок своим предметом, но и раздуть кое в ком из них искру таланта. К сожалению, непрекращающиеся интриги, тайное соперничество и конфликты сделали мою преподавательскую работу довольно мучительной и едва не довели меня до бутылки. Говорят, что перо сильнее меча; от себя добавлю, что оно и в большей степени обагрено кровью.
Печально, но факт: среди коллег-литераторов и литературоведов я почти не встречал людей, способных понять чудо, очевидцем и участником которого я становился каждый раз, когда слушал у очага бабушкины неторопливые рассуждения и рассказы. Большинство литераторов были холодными, черствыми педантами, каждый из которых, затворясь в башне из слоновой кости, изливал на окружающих собственные недовольство и досаду. Создать что-то свое эти люди были не в состоянии по причине обыкновенного отсутствия таланта, неспособности сказать что-либо свежее, оригинальное, не заимствованное у пыльных авторитетов, поэтому они только и делали, что разрушали чужое, боясь, как бы на небосклоне не появилась новая яркая звезда, в лучах которой станут очевидны их творческая импотенция и убожество мыслей. И пока я из кожи вон лез, стараясь научить студентов не просто использовать вечные темы, которые столь ярко раскрывали в своих произведениях величайшие мастера слова, но и пропускать сюжеты о любви, надежде или прощении сквозь свои сердца и выражать свои мысли и чувства доступным и ясным слогом, мои коллеги взбирались на пустые ящики трибун и, приподняв брови, вопрошали: «Да, конечно, но что автор хотел сказать на самом деле?!» Мне лично они напоминали аптекарей, которые, пытаясь определить свойства лекарства, превращают его в порошок и разглядывают под микроскопом, вместо того чтобы просто проглотить таблетку и посмотреть, как она подействует.
Оказавшись в положении стального шарика внутри постмодернистского автоматического бильярда, я довольно скоро расстался с последними иллюзиями. Я никогда не делился своими сомнениями с Мэгги, но в этом не было нужды. Она читала меня как раскрытую книгу, а может, просто знала. Только после защиты мы с ней откровенно поговорили, после чего я засунул подальше свою гордыню и, поборов отвращение, разослал два десятка заявлений о приеме на работу в самые разные высшие учебные заведения, разбросанные по всему американскому Югу. Я облизывал марки, наклеивал на конверты и опускал в ящик в надежде, что на каком-то другом пастбище трава окажется зеленее, но мне не повезло. Когда последнее письмо с вежливым отказом пришло из колледжа низшей ступени моего родного городка, мы с Мэгги уволились – она из кафешки, я из университета, – собрали мои книги и вернулись сюда.
Виргиния бывает очень красива, особенно летом, но по сравнению с Южной Каролиной она просто замарашка. Не успел я переступить порог родного дома, как мне стало совершенно очевидно: моя любовь к фермерскому труду имеет гораздо более глубокие корни, чем те, которые я успел пустить, пока преподавал в университете. И все же, глядя на раскинувшиеся поля, где я знавал немало счастливых деньков, я чувствовал, что мне будет недоставать моих студентов, наших горячих споров и дискуссий, а также тех редких, но драгоценных моментов, когда я замечал в ком-то из слушателей вспыхнувший огонек таланта. Да, думал я, всего этого мне будет не хватать, но только этого – и ничего больше.
Когда мы поселились на старой Папиной ферме, вода в колодце припахивала тухлыми яйцами, из водопроводных кранов постоянно капало, отчего мы чувствовали себя так, словно попали в плен к древним китайцам, решившим испробовать на нас свою знаменитую водяную пытку, а оба унитаза текли. И все же Мэгги не жаловалась. Ей очень нравился узкий, предназначенный для топки углем камин, нравились передняя и задняя веранды, нравились даже сетчатые экраны на входных дверях, которые то захлопывались на сквозняке со звуком ружейного выстрела, то принимались громко скрипеть, хотя петли я регулярно смазывал. Но самыми любимыми ее развлечениями были стук ночного дождя по жестяной крыше и «бабушкин ветерок», как я привычно называл сквозняк, проносившийся через весь дом от парадной до черной двери.
Я никогда не измерял наш дом, но навскидку могу сказать, что его площадь, включая обе веранды, составляла где-то около тысячи двухсот квадратных футов. Немного, но зато это был наш дом. Кроме того, под этой крышей на протяжении шестидесяти двух лет обитала настоящая любовь, а это тоже что-нибудь да значит.
Трактор был в полном порядке. Я вернулся к нему, как ребенок возвращается к любимому велосипеду, на котором только-только выучился ездить и у которого лишь недавно отвинтили страховочные колеса. Как только мне представилась такая возможность, я прыгнул за руль, понюхал воздух, пытаясь определить, не грозит ли нам в ближайшее время дождь, и поехал к реке. Всю дорогу я рыдал, как дитя. Папа хорошо меня вышколил, и теперь, стоило мне скинуть с себя ржавые кандалы академической науки, вырваться из пыльных, затянутых паутиной университетских аудиторий, как вернулись полученные навыки. Я вспомнил, что и как нужно делать, чтобы вести хозяйство. В первый наш год я продал опавшую хвою[15] с полутора тысяч акров посаженного Папой соснового леса, сдал два земельных участка (по две с половиной тысячи акров каждый) двум фермерам-любителям, проживавшим в Уолтерборо, а оставшиеся пять тысяч акров засадил соевыми бобами. К концу года, когда урожай был продан, выяснилось, что мы даже кое-что заработали.
Когда я не без некоторой растерянности сообщил об этом Мэгги, она посмотрела на фотографию Папы, стоящую на каминной полке, потом погладила кончиками пальцев кожу в уголках моих глаз и сказала:
– У вас одинаковые морщинки.
Я воспринял ее слова как похвалу. Как и Папе, мне нравилось смотреть, как что-то растет, будь то трава, деревья или дети.
Кстати, вскоре после этого Мэгги и разбудила меня толчком в плечо и предложила пойти искупаться. До сих пор я помню, как лежал на песчаном берегу, как голова Мэгги покоилась у меня на груди, а я смотрел на капельки воды, скатывавшиеся по ее коже, и думал, что Бог может порадоваться за нас. По крайней мере, я думал, что Он радуется.
А потом случились эти роковые роды…
Всю неделю, проведенную мной с Мэгги в тщетной надежде, что она очнется, тело моего сына находилось в местном похоронном агентстве, которое сохраняло его для погребения. Мы с Эймосом просто подъехали туда в моем грузовичке и забрали холодный металлический гробик. Предъявив клерку оплаченную квитанцию, я прошел через двойные тамбурные двери в морг, снял гроб с низенькой подставки и отнес к грузовику. Эймос уже открыл задний борт, и я осторожно поставил гроб в кузов. Пока мой приятель благодарил клерка за то, что он дал нам несколько лишних дней, я забрался в кузов и сел, прислонившись спиной к кабине и зажав гроб между коленями, чтобы во время езды он не елозил по настилу.
Эймос закрыл задний борт, сел за руль и повез меня назад, на ферму. Через двадцать минут мы были уже на месте. Под раскидистым дубом на склоне речного берега, рядом с местом упокоения моих деда и бабки, я выкопал экскаватором еще одну могилу, а яму забетонировал.
Эймос остановил грузовичок неподалеку от нашего маленького семейного кладбища. Я взял гроб сына на руки, и мы вместе подошли к могиле. Некоторое время мы стояли на краю ямы и молчали, потом Эймос слегка откашлялся, и я опустил гроб на землю рядом с собой. Как только у меня освободились руки, Эймос протянул мне Библию. В последний раз я читал ее довольно давно, быть может, в прошлое Рождество. Мэгги очень любила читать те главы Евангелия, где описывалось рождение Христа.
– Что я должен читать?
– Псалом сто тридцать восьмой.
С помощью указательного пальца я раскрыл Библию примерно на середине. Тонкая бумага сминалась под руками, страницы трепетали на ветру, поэтому я не сразу нашел нужное место. Наконец я наткнулся на 138-й псалом и прочел:
– Господи! Ты испытал меня и знаешь.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю,
Ты разумеешь помышления мои издали.
…Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя…
Горло у меня перехватило, я замолчал, и Эймос продолжил по памяти:
– …Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. …Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. …В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
Закончив, он низко опустил голову, а руки сложил перед собой. Ветер набрал силу и толкал нас в спины. Прошло еще какое-то время, и Эймос запел глубоким, низким голосом «О, благодать!»[16], но я его не поддержал.
Пока мой друг пел, я стоял на коленях рядом с моим сыном и, положив голову на гроб, думал о всех тех вещах, которых в его жизни не было и уже никогда не будет. О бейсболе. О тракторе, которым я учил бы его управлять. О картинах, которые он рисовал бы вместе с Мэгги, окуная в краску пальцы. «Можно взять твою машину на сегодняшний вечер, папа?» Первые шаги. Первые девушки. Рыбалка. Насморки, простуды, купание в реке, сказки на ночь, песок в песочнице, школьные каникулы, важная и ответственная роль старшего брата… Я думал обо всем этом и о многом другом, о чем мы говорили и мечтали вместе с Мэгги. Тогда это казалось таким реальным, словно уже осуществилось, и вот все растаяло, исчезло, и я остался один в холодном и пустом месте.
Голос Эймоса, который продолжал петь «О, благодать!», вернул меня к действительности, поскольку каждый новый куплет он ухитрялся исполнить намного громче, чем предыдущий. Наконец гимн закончился, но Эймос еще не все сказал.
– Ты не против, если я спою еще одну штуку?
Я покачал головой, и Эймос снова запел, глядя в сторону реки:
Что ждет меня – пучина бед Или покой земной? Душа не ропщет, не кипит, Покуда Ты со мной…Насколько я знал, после колледжа Эймос как минимум дважды в неделю пел в церковном хоре. Кроме того, он увлекался церковной историей и обожал выяснять обстоятельства, при которых были написаны те или иные гимны. Много лет назад, когда мы сплавлялись по реке на нашем плоту, Эймос рассказал мне, как был сочинен гимн «Покуда Ты со мной», который он сейчас исполнял. Эту историю я помнил до сих пор. И сейчас, прижимаясь лбом к холодному металлическому гробу моего сына, я вспомнил историю Хорейшо Спаффорда, написавшего этот гимн.
Как рассказывал Эймос, Спаффорд был юристом из Чикаго. Однажды он решил съездить вместе с семьей в отпуск в Европу. Семейство уже погрузилось на пароход, отправлявшийся в трансатлантический рейс, когда Спаффорда срочно вызвали по очень важному делу. Не видя другого выхода, он отправил свою жену и детей в Англию, планируя присоединиться к ним позднее, когда закончит дела. Увы, жестокий шторм потопил корабль, и все четверо его детей утонули. Как потом рассказывали очевидцы, когда пароход уходил под воду, все четверо стояли на носу, крепко держась за руки.
Жена Спаффорда умела хорошо плавать, поэтому ей удалось спастись. Едва оказавшись на суше, она отправила мужу телеграмму всего из двух слов: «Спаслась одна».
В отчаянии адвокат сел на первый же пароход, идущий в Европу. Когда судно достигло того места, где утонули его дети, капитан привел Спаффорда на нос. «Здесь. Это случилось здесь», – сказал капитан и ушел, оставив его на палубе в одиночестве.
Мне очень хотелось знать, что Спаффорд чувствовал в эти минуты, как он себя повел. Сдался ли он? Упал ли на колени? Насколько сильным было его желание броситься с корабля в море? Прыгнул бы он, если бы на берегу не ждала его жена? Я бы на его месте наверняка прыгнул, спеша утопить в океанской пучине и свою боль, и все свои несчастья, но Спаффорд оказался крепким орешком. Он поднялся с колен, вытер слезы, еще раз обвел взглядом холодный, равнодушный океан и вернулся в каюту, чтобы написать прекрасный духовный гимн.
Каким человеком нужно быть, чтобы писать стихи, стоя над тем местом, где в морской глубине навеки сгинули четверо твоих детей? Каким человеком нужно быть, чтобы вообще что-то писать, когда только недавно умер твой ребенок? Как бы там ни было, когда в конце путешествия Спаффорд сошел на европейский берег, готовое стихотворение уже лежало в его кармане. Впоследствии кто-то положил его на музыку, и теперь Эймос пел этот гимн над могилой моего сына.
Еще в самом начале врачи в больнице сказали, что Мэгги, возможно, долго не проживет. Но мне эти слова показались лишенными смысла. Что значит «возможно»? Просто скажите мне, умрет она или нет! С другой стороны, если бы не это несчастное «возможно», за которое я сейчас цеплялся как за соломинку, я бы сам улегся в готовую могилу с гробом сына в руках, а Эймос пел бы гимны над нами обоими.
Тем временем Эймос закончил петь. Его лицо блестело от слез и выступившего пота, который каплями катился по его лбу. Я опустил гроб в могилу, и Эймос взялся за лопату.
– Подожди, – сказал я.
Вернувшись к грузовичку, я взял с переднего сиденья медведя Гекльберри, отряхнул от пыли, поправил у него на шее красную «бабочку», а потом опустился на колени рядом с могилой и положил игрушку на гроб.
Потом я тоже взялся за лопату. Я не швырял землю, а осторожно высыпал ее в могилу, прислушиваясь к тому, как она глухо стучит по запаянному металлическому гробику. Я старался действовать как можно осторожнее, и все равно яма заполнялась слишком быстро.
Минуты шли. Наконец Эймос отложил лопату, вытер лицо, снова надел солнечные очки и вернулся к грузовичку. Я заканчивал работу один, и холодный пот ручьями стекал у меня по спине, хотя температура воздуха приближалась к девяносто восьми[17]. И только когда над могилой поднялся небольшой аккуратный холмик, я выпрямился и посмотрел на свои руки – на «линии жизни» и «линии удачи», на свежие мозоли и вены, которые чуть синели на ладонях и надувались на запястьях. Именно в этот момент я впервые заметил крошечные темные чешуйки – частички свернувшейся крови, которые задержались в волосяных лунках. Кровь высохла, накрепко приклеившись к коже и смешавшись с темными веснушками.
Это была кровь Мэгги.
Я схватил в каждую руку по пригоршне земли и крепко сжимал, пока она не стала вытекать с обеих сторон кулака, как песок из песочных часов. Земля была чуть влажная, крупнозернистая и пахла… землей.
Я подумал, что обязательно должен рассказать Мэгги о похоронах. Повернувшись, я зашагал к дому, и листья кукурузы легко касались моих локтей, словно хотели утешить или высказывая беззвучные слова соболезнований. На ходу я яростно втирал в левое предплечье землю с могилы сына, используя ее как грубое чистящее средство, пока не покраснела и не засаднила кожа. Черные частички засохшей крови исчезли, но из нескольких свежих царапин проступили новые рубиновые капли.
Глава 5
Летний театр Диггера, построенный шесть лет тому назад, слывет одной из самых надежно охраняемых тайн Южной Каролины. Он находится в десяти милях от моего дома и еще дальше от всех других домов. Раковина театра возвышается над сосновыми и смешанными лесами, словно гигантская труба, и занимает почти три акра земли, бо́льшая часть которых, впрочем, отведена под автостоянку. Тот, кто возвел здесь это сооружение, явно интересовался не столько количеством зрителей, сколько качественной акустикой. Впрочем, и в процессе строительства, и во время шумной рекламной кампании, предшествовавшей открытию театра, имя его владельца так и осталось неизвестным.
Теперь летний театр используется не больше трех дней в году. Все остальное время он просто тихо разваливается. Когда-то здесь выступали Гарт Брукс, Джордж Стрейт, Рэнди Трэвис, Винс Джилл и Джеймс Тейлор[18], исполнявшие композиции в стиле кантри и блуграсс. Никакого электричества, никакой «фанеры»… Впрочем, выходили на эту сцену и совсем другие люди – например, Джордж Уинстон, а однажды здесь выступал сам Брюс Спрингстин[19], но и он пел в сопровождении одной лишь акустической гитары. Я знаю это точно, потому что купил билеты, и мы с Мэгги вместе пошли на этот концерт.
О том, кто мог построить этот театр, в городке ходит немало слухов и предположений. Называются имена некоего «большого человека» из Чарльстона, у которого денег больше, чем здравого смысла, разведенной миллионерши из Нью-Йорка, построившей театр в пику своему бывшему супругу, а также сентиментального промышленника из Калифорнии, чьи предки когда-то жили в нашем округе. Разные люди придерживаются разных версий, все зависит от личных вкусов и предпочтений вашего собеседника. И только мне, по чистой случайности, удалось узнать правду.
Как-то я возвращался домой очень поздно – было что-то около двух пополуночи, – и вдруг до моего слуха донеслись звуки волынки. Любопытство оказалось сильнее усталости, и я, оставив грузовичок на обочине, продрался сквозь подлесок и поднялся на холм, где стоял театр.
Слух меня не обманул. На сцене стоял крепкий широкоплечий мужчина в клетчатом шотландском килте и солдатских ботинках и вдохновенно играл на волынке. Я сел в первом ряду и слушал его около получаса, но потом все-таки поднялся на сцену и подошел к полуголому музыканту. Он заметил меня не сразу. Наконец его взгляд случайно упал на меня, и он, перестав играть, одернул юбку и пожал мою протянутую руку. Мы разговорились. Где-то в середине разговора эксцентричный музыкант, по-видимому, решил, что я ему по душе, и назвал свое имя. Звали его Брайс Кай Макгрегор. В качестве дополнительной информации он сообщил, что надевает килт каждый раз, когда ему приходит охота поиграть на волынке. Впрочем, Брайс тут же добавил, что после семи-восьми банок пива он иногда забывает об этом предмете туалета, к тому же летом в шерстяной юбке бывает слишком жарко.
Волосы у Брайса были огненно-рыжими, лицо чуть не сплошь покрывали веснушки, а взгляд ярко-зеленых глаз был пронзительным, словно лазерный луч. Сложением он походил не то на шахтера, не то на тролля – один сплошной, крепкий мускул, однако Брайс вовсе не был уродлив, хотя, на мой взгляд, он мог бы следить за собой получше.
Еще я узнал, что дом Брайса находится среди невысоких холмов к северу от города. Жил он в старом кинотеатре для автомобилистов, точнее – в снятом с колес старом прицепе-трейлере. Кинотеатр закрылся больше пятнадцати лет назад, но Брайс по-прежнему оставался его постоянным клиентом, регулярно устраивая себе вечерние сеансы, во время которых он смотрел все, что подсказывала фантазия. Раньше кинотеатр назывался «Серебряный экран», но сейчас три его экрана были, скорее, грязно-белыми, к тому же в левом верхнем углу самого большого из них зияла приличных размеров дыра – когда-то в него с размаху врезался крупный гриф. К несчастью для себя, падальщик зацепился за полотно когтями, запутался и повис вниз головой, в панике хлопая крыльями. Брайс приставил к экрану с обратной стороны лестницу, взобрался наверх и застрелил птицу из ружья двенадцатого калибра. (Настоящий гринписовец, мать его так!..) Как сказал мне Брайс, он буквально надел левый ствол грифу на голову и только потом нажал курок. «Падальщик стал падалью» – так он прокомментировал случившееся.
После захода солнца Брайс частенько усаживался в кузове своего грузовичка, пил пиво и смотрел одни и те же старые фильмы, которые ему когда-то нравились. Теперь я знаю, что у него в трейлере скопилось больше ста катушек с самыми разными фильмами, но больше всего Брайсу по душе классические вестерны с Джоном Уэйном.
В обычном кинотеатре для автомобилистов зритель сидит за рулем своей машины, повесив динамик или колонку на стекло дверцы. В грузовике Брайса боковые стекла давно выбиты, к тому же ящик-охладитель с запасом пива не помещается на переднем сиденье, поэтому Брайс въезжает в кинотеатр задом и устраивается в кузове, где стоит старое садовое кресло.
Большинство колонок в старом кинотеатре давно сломаны, провода оборваны, поэтому, запустив проектор, Брайс разъезжает по площадке до тех пор, пока не найдет работающий динамик. Когда искомое найдено, он приматывает динамик скотчем к заднему борту или прямо к ручке пивного охладителя. Поиски эти занимают, однако, довольно много времени, поскольку Брайс обычно бывает настолько пьян, что не может вспомнить, где в последний раз он обнаружил работающий динамик. Разъезжая по площадке, он часто задевает или даже опрокидывает столбы, на которых висят динамики, отчего его старенький пикап выглядит как после падения с обрыва, но Брайсу на это наплевать, поскольку в город он почти никогда не ездит, даже за продуктами. Все, что ему необходимо, он покупает по Интернету, что, если вдуматься, выглядит как еще одна странность моего знакомого. Бо́льшую часть времени Брайс бывает сильно пьян, однако в случае необходимости ему все же удается найти и включить компьютер, и через пару дней белый доставочный фургон сгружает у порога его трейлера полдюжины коробок и ящиков. Исключение из своего правила не ездить в город Брайс делает, только когда пиво заканчивается раньше, чем появится очередной доставочный грузовик.
В городке его считают либо бунтарем, либо разочаровавшимся во всем вьетнамским ветераном. Но Брайс не бунтарь, просто он – другой, не такой, как все, и живет в своем собственном мире. Как он однажды мне сказал, бунтовать ему надоело много лет назад. На всем белом свете у Брайса нет ни одного близкого человека – ни семьи, ни жены, ни детей. Про таких говорят – «один, как перст». Посмотрите это выражение в словаре, и вы поймете, что за человек Брайс Макгрегор. Про свою юность он никогда не рассказывает, но по некоторым пьяным намекам я понял, что Брайс бросил школу в старших классах, отправился на вербовочный пункт и, прибавив себе годков, записался в армию. Вскоре его отправили во Вьетнам, на главную войну его жизни.
Во Вьетнаме Брайс попал в подразделения Сил специального назначения, и, насколько мне удалось узнать, скучать ему не приходилось. В своем трейлере, в чулане, он хранит коробку из-под патронов пятидесятого калибра, в которой лежат его вьетнамские медали, числом семнадцать. Брайс показал их мне однажды вечером, когда мы смотрели «Зеленые береты». Он, впрочем, сразу сказал, что пять из них – не его, они принадлежат его другу, который не вернулся домой. Из этого следовало, что сам Брайс был награжден двенадцать раз. Медали были самого разного цвета – пурпурные, бронзовые, серебряные. Но пурпурных было больше всего[20].
Как и большинство мальчишек, побывавших на настоящей войне, Брайс вернулся из Вьетнама не таким, как раньше. Он стал другим и оставался таковым уже несколько десятилетий – жил один, пил пиво, играл на волынке и смотрел старые фильмы. Единственным источником его дохода был наследственный траст-фонд, но об этом я расскажу чуть позже.
После нашего случайного знакомства в летнем театре я стал время от времени навещать Брайса. В большинстве случаев я заставал его на смотровой площадке старого кинотеатра – стоило мне войти в ворота, и я сразу замечал его коренастую фигуру в кузове грузовика. Чаще всего Брайс был голышом, то есть на нем не было вообще ничего, кроме высоких армейских ботинок и – иногда – шотландского килта. Если он не смотрел фильм, то играл на волынке, дуя в трубки до тех пор, пока от натуги его лицо не становилось красным, словно спираль прикуривателя. В большинстве случаев Брайс был пьян как сапожник, но «О, благодать!», «Тысяча пивных бутылок на заборе» и «Пивнуха» в его исполнении были вполне узнаваемы. Наши встречи чаще всего заканчивались тем, что мы вместе смотрели какой-нибудь старый вестерн. Устроившись в кузове его развалюхи, мы пили пиво и смотрели на экран в полной тишине или, если нам удавалось отыскать работающую линию, прислушивались к хрипу и треску, которые изрыгала стоящая между нами колонка. Скверное звуковое сопровождение или его отсутствие Брайса не волновало – большинство старых фильмов он знал наизусть.
Как и я.
Вскоре после того знаменательного дня, когда Мэгги, столкнув меня с парадного крыльца, сунула мне под нос узкую бумажку с розовой полоской, мы отправились к Брайсу. Почему-то нам казалось, что ему тоже будет приятно узнать наши новости. С тех пор как я познакомил своего приятеля с Мэгги, он относился к ней с какой-то особенной нежностью. Почему – я точно не знал. Лишь иногда, когда я об этом задумывался, мне приходило в голову, что Брайс, возможно, устал от множества смертей, и теперь его с непреодолимой силой влекло ко всему хрупкому и полному жизни. А Мэгги была именно такой – хрупкой на вид, но жизнь в ней буквально бурлила и била ключом.
Держась за руки, мы постучали в дверь трейлера и услышали, как Брайс, бранясь на чем свет стоит и поддавая ногами пустые пивные банки, пробирается к выходу. Когда дверь распахнулась, выяснилось, что на Брайсе ничего нет, кроме солдатских ботинок и широкополой соломенной шляпы. Увидев Мэгги, он, впрочем, сунул руку за дверь и, схватив вставленную в рамку киноафишу с лицом Джона Уэйна, прикрылся ею от пупка до колен.
Я слегка подтолкнул жену локтем, и она, привстав на цыпочки, шепнула Брайсу на ухо:
– У нас для вас новость! Дилан скоро станет папой!
Брайсу понадобилась целая секунда, чтобы осознать услышанное, но, когда это все-таки произошло, его и без того расширенные алкоголем зрачки сделались большими, как бутылочное горлышко. В следующее мгновение его глаза метнулись из стороны в сторону, потом Брайс поднял вверх палец и… медленно закрыл дверь перед нашими носами.
Что ж, чтобы иметь право считать Брайса другом, приходилось мириться с его чудачествами.
Шум за дверью подсказывал нам, что Брайс обшаривает трейлер в поисках штанов. И действительно, не прошло и пяти минут, как дверь снова отворилась. На Брайсе была растянутая футболка, надетая как шорты: ноги в ботинках он просунул в рукава, а подол натянул до пояса и затянул ремнем, чтобы не сваливался. Шейное отверстие находилось, таким образом, на уровне колен и болталось при каждом движении.
Не произнося ни слова, Брайс маленькими шажками приблизился к Мэгги, опустился на колени и осторожно приложил ухо к ее животу, словно вор-медвежатник, выслушивающий механизм облюбованного сейфа. Несколько секунд спустя он обнял ее обеими руками за талию и прижался сильнее. Надо вам сказать, что больше всего на свете Мэгги боится щекотки, поэтому, когда руки Брайса сдавили ее ребра, а ухо впечаталось в живот, она сразу начала хихикать. Должно быть, смех Мэгги мешал ему расслышать то, что он хотел, и Брайс стиснул ее сильнее. Мэгги, однако, рассмеялась еще громче. Вскоре она уже хохотала вовсю и так сильно дергалась, пытаясь высвободиться, что он просто подхватил ее на руки и, перебросив через плечо, словно мешок с картошкой, продолжал прислушиваться, не обращая внимания на то, что Мэгги дрыгала ногами и лупила его кулачками по спине.
– Брайс Кай Макгрегор! – выкрикивала моя жена в перерывах между приступами истерического хохота. – Немедленно поставьте меня на место, сэр!..
В конце концов Брайс все же опустил ее на ступеньки и кивнул с важным видом, словно действительно только что убедился в наличии ребенка в животе у Мэгги. Потом он снова поднял вверх палец и исчез в трейлере, но вскоре вернулся, держа в руках банку пива и два грязноватых пенополистироловых стакана. Вскрыв пиво, он налил крошечный глоток в стакан Мэгги, чуть побольше – в мой, и отсалютовал нам остатком. Встав в тени большого экрана, мы чокнулись – полистиролом об алюминий – и выпили за нашего сына. Поставив стаканчики на землю, мы уже двигались к проволочной изгороди, когда Брайс крикнул нам вслед:
– Мэгги, какой ваш любимый фильм?
У настоящих девушек-южанок есть только один любимый фильм. И каждая из них смотрела его не меньше десяти тысяч раз. Он прочно вошел в их плоть и кровь, стал частью тела и души, и если вы прислушаетесь хорошенько, то услышите, как во сне они шепотом повторяют из него целые диалоги. Да и с точки зрения чисто практической, житейской пример Скарлетт О’Хара влияет на их мысли и поступки так же сильно, как Библия, а может быть, даже сильнее.
Прежде чем ответить на вопрос Брайса, Мэгги присела в реверансе, придерживая воображаемое платье, картинно захлопала ресницами и наконец произнесла с самой соблазнительной южной растяжечкой:
– Конечно, про Ретта Батлера!..
Брайс вопросительно взглянул на меня, но я ничем не мог ему помочь и только пожал плечами.
– Выпутывайся сам, приятель.
Брайс почесал в затылке. Не прошло и минуты, как лицо его просияло, словно у него в голове включилась мощная лампочка.
Недели через две сотрудники Единой службы доставки сгрузили перед нашим парадным крыльцом два внушительных размеров ящика, сообщив, что посылка доставлена непосредственно от производителя – крупной фирмы, специализирующейся на мебели в южном «плантаторском» стиле.
Глядя на ящики, я было подумал, что Мэгги решила приобрести в интернет-магазине какие-то вещи для детской, но она, как всегда угадав мои мысли по выражению лица, сказала:
– Нечего так на меня смотреть. Я тут ни при чем.
Потом мы вскрыли плотный картон. Внутри, завернутые точно мумия египетского фараона в восемь слоев пузырчатой упаковки, покоились кресло-качалка ручной работы и такая же колыбель на изогнутых полозьях. Ни открытки, ни хотя бы визитной карточки мы не нашли и, желая удостовериться, что это сокровище действительно наше, позвонили в компанию-производитель. Нас соединили с владельцем, который сказал, что некий мужчина, который, судя по выговору, «совершенно точно» не мог быть жителем Южной Джорджии, осведомлялся, может ли компания изготовить для леди-южанки удобное кресло, чтобы поставить его в детской.
«Мы можем изготовить все, что угодно, – ответил клиенту владелец фирмы, – но будет гораздо лучше, если вы дадите нам более точные указания». На следующий день в компанию поступила экспресс-почтой видеокассета с фильмом – угадайте, с каким. К кассете был приклеен желтый стикер, на котором таинственный заказчик изложил свою просьбу – сделать такую же мебель для детской, как в фильме (за исключением кроватки). Кроме того, заказчик заплатил двойную цену за срочное изготовление и доставку, поэтому в течение недели мастера на фабрике проводили обеденные перерывы за просмотром нужного фрагмента, а потом долго спорили о конструкции и о деталях кресла для Мэгги и колыбельки для малыша.
Мэгги очень хотела поблагодарить Брайса, но так, чтобы не поставить его в неловкое положение. В конце концов она приготовила ему свиное жаркое с картофелем. Кроме того, зная, что Брайс – сладкоежка, она купила ему лимонный пирог. Написав благодарственную записку, она отнесла подарки к Брайсову трейлеру и оставила у дверей.
Следующие два дня Мэгги провела, раскачиваясь в кресле и подталкивая пустую пока колыбельку большим пальцем ноги. На третью ночь я дождался, пока она крепко уснет, и перенес ее на нашу супружескую постель. Утром, когда я проснулся, Мэгги лежала со мной, а рядом с кроватью стояли качалка и колыбель. Когда она вставала, чтобы перетащить их сюда из детской, я совершенно не слышал.
Глава 6
День снова выдался жаркий, но я все равно опустил закатанные рукава рубашки. Войдя в аудиторию на втором этаже, я открыл окна, расставил ровными рядами парты и вытер доску. Вскоре в дверях стали появляться мои студенты. Они оглядывали парты, и каждый выбирал себе место соответственно собственным склонностям и характеру. Правда, в аудитории было жарко, как в печке, поэтому большинство подсаживалось поближе к окнам, откуда сочился более или менее прохладный воздух.
Прозвенил второй звонок, и я слегка откашлялся.
– Доброе утро.
Студенты разглядывали меня лениво, без особого интереса. На несколько секунд в аудитории установилась неловкая тишина, но мне она показалась достаточно красноречивой. «Мы хотим сидеть здесь не больше твоего, приятель, так что давай-ка покончим с этим делом поскорее», – вот что означало это молчание.
Я выждал еще немного, полагая, что в аудитории вот-вот появятся опоздавшие. Когда этого не произошло, я взял со стола журнал посещаемости и прочел первое имя в списке.
– Алан Скрэггс?..
– Здесь.
В первый же год моей преподавательской карьеры я постарался выработать в себе привычку запоминать студентов по месту, которое они занимали в аудитории. Это очень помогало, поскольку их характеры, склонности, способности раскрывались далеко не сразу. Когда Алан сказал: «Здесь!» – я машинально отметил про себя: «Второй ряд от окна, в середине. Читает книгу».
– Эй, послушайте! Вы пропустили меня!
Я оторвал взгляд от журнала.
– А ты у нас кто?
– Мервин Джонсон. – Говоривший с довольным видом откинулся на спинку стула. – Видите ли, профессор, по алфавиту «Д» идет раньше, чем «С».
В каждом классе или учебной группе обязательно есть свой клоун. И как правило, он проявляет себя достаточно быстро.
– Видишь ли, Мервин, я не всегда начинаю с первых букв алфавита.
– А-а, тогда ладно… – Мервин оглядел остальных студентов, словно приглашая их посмеяться вместе с ним. – Я просто подумал, может, вы забыли. – И он улыбнулся, продемонстрировав два ряда белоснежных зубов, а я вернулся к списку.
– Рассел Диксон-младший?
– Я.
Звучный, более низкий, чем у Мервина, голос раздался слева от меня. «Ага, первый ряд у окна. Рослый, широкоплечий. Сидит боком, смотрит в окно. На меня даже не обернулся».
– Юджин Бэнкс.
– Здесь.
«Левая сторона рядом с окном, через два стола от Рассела-младшего. На меня тоже не смотрит».
– Понятно. Мервин Джонсон?
– Туточки. – Это был мой знаток алфавита. «Средний ряд, первый стол. Несомненно, любит быть в центре внимания. Оттопыренные уши. Постоянно улыбается. Высокий, атлетически сложенный, одет в спортивный костюм. Шнурки на обуви болтаются».
Контраст между душной аудиторией, где не было даже кондиционера, и спортивным костюмом привлек мое внимание.
– У тебя такой вид, словно ты недавно проснулся. Тебе не жарко?
– Кому, мне? Нисколько! – Мервин экспансивно взмахнул руками. – Я всегда так хожу. Это мой стиль.
Парень явно старался продемонстрировать независимость, выставить себя этаким крепким орешком. Что ж, посмотрим…
– Аманда Ловетт?
– Да, сэр. Мы оба здесь. – Приятный, мелодичный голос донесся от самого окна. «Левый ряд, между Расселом и Юджином. Ловетт… Дочь священника?»
– Оба?.. – переспросил я.
– Да, сэр, – повторила Аманда и погладила себя по животу. – Я и Джошуа Дэвид.
Должен признаться, я стыжусь своей первой реакции. По какой-то причине я решил, что Аманда – человек распущенный или, выражаясь деликатнее, не слишком строгих правил. Эта мысль пришла ко мне раньше, чем я сообразил, что не должен так думать о совершенно незнакомом человеке.
– Значит, его зовут Джошуа Дэвид?
– Да, сэр, – в третий раз сказала Аманда, продолжая прижимать ладонь к круглящемуся животу.
– В таком случае, – кивнул я, – я попрошу вас проследить, чтобы молодой человек не опаздывал на занятия.
Аманда улыбнулась так широко и искренне, что у нее на щеках появились две миловидные ямочки.
– Да, сэр.
В аудитории раздались негромкие смешки. Кто-то из сидевших у окна повторил: «Да, сэр!», тем насмешливо-издевательским тоном, который так хорошо получается у некоторых подростков.
Я поднял голову и подождал, пока они отсмеются.
– Кейтлин Джонс?
– Просто Кой, профессор, – поправил меня тихий голос из дальнего угла аудитории. Я посмотрел в том направлении и увидел девушку, чье лицо было почти полностью скрыто длинными распущенными волосами и большими солнечными очками.
– Кой? – переспросил я.
– К-о-й.
– Если бы вы сняли очки, я сумел бы лучше вас рассмотреть.
По ее губам скользнуло что-то вроде улыбки.
– Наверное. – Она, однако, не пошевелила и пальцем, чтобы исполнить мою просьбу. Рассел, Юджин и Мервин снова засмеялись, но я не стал настаивать. Первое занятие – не самое лучшее время, чтобы пытаться расставить все точки над i. Я закончил перекличку, сделал несколько пометок и, отложив список, прислонился спиной к доске. Да, я снова стоял перед студенческой аудиторией, но на этот раз я оказался здесь не по своей воле. Меня заставили, вынудили пойти на это жена и лучший друг.
– Меня зовут Дилан Стайлз.
– Скажите, профессор, вы – доктор наук или просто преподаватель? – перебил меня Мервин.
– Доктор.
– Может быть, нам стоит звать вас доктором?
Мне не нужно было заглядывать в свои заметки, чтобы вспомнить его имя.
– Мои студенты, Мервин, звали меня мистер Стайлз, профессор Стайлз или доктор Стайлз. Выбирай, что тебе больше нравится.
Мои слова застали его врасплох. Видя, что я вовсе не шучу, Мервин пробормотал:
– Ну, пусть тогда будет «профессор»…
– Вот и договорились. – Я сделал небольшую паузу. – Моя жена… – Тут я осекся. Начало явно было выбрано не самое удачное, но делать было нечего, приходилось продолжать. – Моя жена зовет меня просто Диланом, но администрация колледжа не одобряет, когда студенты зовут преподавателей просто по именам, так что остальные могут выбрать из списка, который я только что огласил. Я буду читать вам курс литературного английского, который называется «Анализ текста и литературное творчество». Если кому-то из вас почему-то кажется, что он оказался здесь случайно, можете просто встать и уйти – или не приходить на следующее занятие, чтобы не ставить себя в неудобное положение. То же самое относится и к тем, кто не хочет слушать этот курс.
На этот раз меня прервал голос с последней парты в левом, ближайшем к окну ряду. Его владелец носил длинные, до плеч, косички-дреды, свалявшиеся как войлок. Входя в аудиторию, он проходил мимо моего стола, и я почувствовал исходящий от него сильный запах табака и чего-то еще. Возможно, гвозди́ки. Что бы это ни было, воняло от него капитально. Глаза у парня как-то подозрительно блестели, а белки́, испещренные красными прожилками, напоминали дорожную карту.
– Знаете, профессор, по-моему, никому из нас не хочется здесь торчать, да еще в такую жару. Почему бы нам не свалить прямо сейчас?
По комнате снова пронеслась волна веселья. Мервин шлепнул ладонью по поднятой ладони Рассела и хлопнул по плечу Юджина. Я заглянул в свой список и начал сначала.
– А ты у нас, кажется, Би-Би? – сказал я, идентифицировав смутьяна. – Что ж, похоже, что именно из-за своего нежелания «здесь торчать» ты и очутился в этой аудитории во второй раз. Скажи, ты действительно решил повторить уже сделанную однажды ошибку? – Я оглядел аудиторию. – Кстати, остальных это тоже касается. Я никого здесь насильно не держу и держать не собираюсь. Если хотите уйти – уходите сейчас.
Смех сменился тишиной. Разглядывая вытянувшиеся, посерьезневшие лица студентов, я подумал, не слишком ли круто я за них взялся.
– Ну, с этим всегда успеется… – сказал кто-то в середине правого ряда, и я быстро сверился со своей шпаргалкой, где было отмечено, кто где сидит. Шарлен Грей.
– Скажите, мистер Стайлз, – спросил кто-то еще, – это не к вашему деду съезжались за консультацией все окрестные фермеры? Я слышал, он давал людям советы по дороге в скобяную лавку и обожал строить церковные шпили. Говорят, шпили всех окрестных церквей – его рук дело. Люди прозвали его Папа Стайлз…
– Твоему описанию соответствует немало людей, но в данном случае ты попал в точку. Это действительно мой дед, хотя я и звал его Папой, как большинство наших соседей. И он действительно знал толк в растениях и почвах и был неравнодушен к шпилям.
Мервин откинулся на спинку стула, вскинул подбородок и показал пальцем куда-то на потолок.
– Скажите мне вот что, профессор… Как получилось, что внук простого фермера, пусть даже он разбирался в кукурузе и умел строить церковные шпили, учит нас литературному английскому? Я хочу сказать… – Он поочередно обернулся сначала через одно, потом через другое плечо, словно призывая остальных в свидетели. – …Не очень-то вы похожи на профессора! С чего вы взяли, будто сможете чему-то нас научить?
На этот раз в аудитории установилась настоящая тишина, словно кто-то невидимый нажал клавишу «Пауза». Всего три с небольшим минуты прошло с начала занятия, а мои отношения с группой уже уперлись в тупик.
Больше всего меня удивило не то, что Мервин задал мне этот вопрос. Если не считать очков в тонкой золотой оправе, которые я надеваю для чтения, я действительно выгляжу как человек, чье место за рычагами трактора, а не на преподавательской кафедре. Коротко подстриженные светлые волосы, клетчатая рубашка, выгоревшие джинсы «Рэнглер» и ковбойские сапоги – все это плохо сочетается с преподаванием литературного английского, так что вопрос, в общем-то, был закономерным. Конечно, Мервин мог бы выразить свою мысль поделикатнее, но в целом его недоумение было вполне оправдано. Откровенно говоря, я и сам несколько раз спрашивал себя о том же самом. Поразило же меня другое – то, что у Мервина хватило смелости этот вопрос задать.
– Как получилось, что я учу вас английскому? – повторил я. – Думаю, я просто оказался под рукой как раз тогда, когда колледжу потребовался преподаватель соответствующего профиля. Если хотите знать подробности, обратитесь к декану Уинтеру. А теперь давайте вернемся к нашему предмету, – добавил я, чувствуя, что теряю почву под ногами. – Итак, наш курс включает…
– Но мне вовсе неинтересно, что скажет декан Уинтер, – снова перебил меня Мервин. – Я хотел бы знать, что скажете вы, профессор.
По аудитории снова пронеслись тихие смешки и хихиканье. Мервин, свободно расположившись за своим столом, смотрел на меня чуть ли не с чувством собственного превосходства. Как и хотел, он оказался в центре всеобщего внимания и теперь получал удовольствие, играя заглавную роль в своем маленьком спектакле.
Я подошел к его столу и встал так, что мыски наших ботинок почти соприкасались. Честно сказать, я не знал, сумею ли выразить свою мысль так, как следовало бы; сейчас мне вообще было не до педагогических изысков. Телом я был в аудитории, но душа моя рвалась в больничную палату к Мэгги, и сосредоточиться на своей непосредственной задаче было довольно трудно. Тем не менее я все-таки решил попробовать. Сделав глубокий вдох, я сказал:
– Если тебе так хочется строить из себя шута, Мервин, валяй, действуй. Я не возражаю. – Я показал рукой на остальных. – Думаю, в этой аудитории конкурентов у тебя не будет… Что меня действительно заботит, так это то, сумеешь ли ты успешно сдать экзамены по окончании курса. Быть может, тебе это невдомек, Мервин, но твое умение смешить окружающих является вторичным по отношению к твоей способности последовательно мыслить и ясно излагать свои мысли в письменной форме. Надеюсь, мы поняли друг друга? – С этими словами я облокотился о стол обеими руками и, наклонившись, посмотрел парню прямо в глаза.
Это сработало. Мервин нехотя кивнул и сразу же отвернулся. Я заставил его раскрыть карты, и остальные это увидели. Больше того, я выставил Мервина на посмешище, что, строго говоря, является крайней мерой, прибегать к которой следует только в самом сложном случае. Впрочем, я своего добился: никто из студентов больше не шуршал бумажками, не пытался соревноваться со мной в остроумии и не таращился в окно.
Что ж, посмотрим, что будет дальше.
Выпрямившись, я вернулся к своему столу и, присев на край столешницы (мне это было необходимо, так как у меня отчего-то подгибались колени), прочел еще несколько организационных объявлений и вкратце познакомил слушателей с учебным планом. Студенты слушали внимательно, и я понял, что выиграл первое очко.
Пожалуй, для первого занятия этого было достаточно.
Мое знакомство со студентами, включая препирательства с Мервином, а также организационные вопросы, заняли от силы минут пятнадцать. Закончив, я сказал:
– Здесь слишком жарко, чтобы вы могли нормально соображать, так что на сегодня мы, пожалуй, закончим. Жду вас во вторник. – Я собрал со стола бумаги и начал укладывать их в небольшой рюкзачок, который нашел дома на антресолях. – У каждого из вас должен быть экземпляр учебной программы, рекомендую внимательно ознакомиться с тем, что там написано. Я не могу просветить вас на этот счет, потому что я ее не составлял. До встречи.
Мои ученики дружно двинулись к выходу, переглядываясь и перешептываясь на ходу. Вскоре аудитория опустела, а я подумал: «Вот странно, на урок они собирались минут десять, а сейчас их как ветром сдуло, и тридцати секунд не прошло. Может быть, я сказал им что-нибудь не то?»
Единственным, кто задержался возле моего стола, была Аманда Ловетт. Положив ладонь на живот, она спросила:
– Скажите, профессор, это не вас я видела на прошлой неделе в больнице? Вы были в палате на третьем этаже, где лежит одна коматозная пациентка – красивая молодая женщина… Кажется, ее зовут Мэгги.
Когда я учился водить машину, меня очень интересовало, что произойдет, если врубить заднюю передачу, когда летишь по шоссе со скоростью семьдесят миль в час. Каково это будет? Разумеется, я так и не решился на подобный рискованный эксперимент, но сейчас я получил довольно полное представление о том, что я мог бы тогда испытать.
– Да, это был я, – проговорил я после довольно продолжительной паузы.
Аманда тоже продолжила не сразу. Было видно, что она тщательно подбирает слова. При этом ее взгляд, устремленный мне в лицо, ни на мгновение не ушел в сторону.
– Я подрабатываю в больнице ночной сиделкой, и я… я как раз работала, когда вы… то есть когда ваша жена поступила в родильное отделение. – Свободной рукой Аманда принялась теребить «молнию» своего рюкзачка. – Я очень вам сочувствую, профессор. Когда бывает моя смена, я ухаживаю за вашей женой – меняю белье, купаю и все такое… – Она снова помолчала. – Надеюсь, вы не возражаете, но… когда вас нет, я разговариваю с мисс Мэгги. Мне почему-то кажется, что… В общем, если бы я сама лежала в коме, мне бы хотелось, чтобы со мной кто-нибудь разговаривал.
Когда она это сказала, я на своей шкуре почувствовал, что испытал король, когда мальчишка на улице крикнул: «А король-то голый!»
– Профессор?.. – Аманда пристально смотрела на меня сквозь очки. Ее лицо было всего в паре футов от моего. Кожа у нее под глазами была мягкой и ровной, ничуть не морщинистой, и ее покрывали крошечные капельки пота. Глаза были красивыми, и меня это почему-то удивило. – Я действительно вам сочувствую, профессор. Мне очень жаль вашу жену и вашего сына. – С этими словами Аманда закинула рюкзачок за плечо и двинулась к выходу из аудитории, а я остался стоять возле стола, по-прежнему чувствуя себя голым. Единственным моим утешением было то, что Аманда, по-видимому, сама не сообразила, что́ она сделала. Я понял это по ее глазам.
У самой двери Аманда обернулась.
– Я больше не буду разговаривать с мисс Мэгги, если вы не хотите. Мне, конечно, следовало бы сначала спросить у вас, но я подумала…
– Нет, – поспешно перебил я, машинально перебирая оставшиеся на столе бумаги. – Разговаривайте с ней… пожалуйста. Если вам нетрудно, конечно.
Аманда кивнула и вышла. Провожая ее взглядом, я вдруг понял, что на ней надета точно такая же блузка, какую Мэгги примеряла в магазине для будущих мам. Быть может, даже та самая.
Я сел на стул и стал смотреть в окно. Почему-то я не чувствовал абсолютно ничего.
Глава 7
Мало кто знает, что Брайс Макгрегор является одним из самых богатых жителей Диггера. В свое время его отец изобрел некое приспособление, имевшее отношение к более надежной сцепке железнодорожных вагонов друг с другом. Изобретение оказалось на редкость удачным и принесло семье целую кучу денег. Стороннему человеку может показаться, будто столь прозаическая вещь, как улучшенное сцепное устройство, вряд ли способна кого-то озолотить, но Брайс как-то сказал, что отцовское приспособление используется чуть ли не в каждом железнодорожном вагоне, произведенном за последние полсотни лет. Думаю, это многое объясняет. Во всяком случае, Брайс каждую неделю получает соответствующий чек, а то и не один. Производители, купившие лицензию на изобретение Макгрегора-старшего, продолжают выплачивать авторское вознаграждение его сыну.
Года три назад, когда мы с Брайсом пили пиво у него в трейлере (редкий случай!), я обратил внимание на разбросанные где попало почтовые конверты. Один из них был вскрыт, а его содержимое валялось на полу. Это был чек на двадцать семь тысяч долларов. Увидев, что я верчу чек в руках, Брайс сказал:
– Возьми эти деньги, если хочешь. Я получаю такие чеки каждую неделю. Иногда на бо́льшую сумму, иногда на меньшую, но в среднем получается по двадцать пять – двадцать семь кусков в каждом конверте.
Через пару минут Брайс отключился. Видно, в тот день он выпил на одну банку пива больше, чем следовало.
Подушку я отыскать не смог, поэтому сложил вместе пару свитеров и подсунул Брайсу под голову. Мой приятель оглушительно храпел. Кроме того, ему не помешало бы принять душ, поэтому я открыл все окна, а уходя, не стал закрывать дверь. К старому кинотеатру, где жил Брайс, никто никогда не ходил, и мне казалось, что свежий воздух принесет ему больше пользы, чем вреда.
Сам Брайс вряд ли помнил, о чем мы с ним говорили, но у меня разбросанные по всему трейлеру конверты не шли из головы. На полу Брайсова жилища валялось как минимум четверть миллиона долларов в банковских чеках. Тот чек, который он предлагал мне взять, я, разумеется, оставил вместе с остальными. Его деньги были мне не нужны, да и рассказывать кому-то о наследстве, которое досталось Брайсу от отца, я не собирался – настоящие друзья должны хранить чужие секреты. Вместе с тем мне не хотелось, чтобы кто-то попытался обвести Брайса вокруг пальца, пользуясь тем, что он, мягко говоря, не всегда бывал достаточно трезв. Диггер, конечно, совсем небольшой городок, но и в нем нашлось бы немало охотников до чужого, готовых без колебаний ободрать Брайса как липку.
Несколько недель спустя, выехав на тракторе боронить дальнее поле, я снова задумался о своем друге. Мне казалось совершенно неправильным, что один из самых богатых людей Южной Каролины живет в трейлере рядом с давно закрытым кинотеатром для автомобилистов, расхаживает нагишом и хлещет дешевое пиво. Если никто о нем не позаботится, сказал я себе, это может кончиться плохо.
На следующий день я отправился к Брайсу и собрал все конверты, какие только смог найти. Мой приятель мылся раз в неделю, и я позаботился о том, чтобы мой визит пришелся как раз на такой день. Когда от Брайса стало пахнуть чуточку меньше, мы втроем – он, я и Блу – погрузились в мой грузовичок и поехали в Чарльстон, к человеку, который, по словам Брайса, заправлял его наследственным траст-фондом.
Человека этого звали Джон Кэглсток, и он был худым коротышкой с розовыми щечками и носом картошкой, на кончике которого чудом удерживались круглые очки. Формально Кэглсток не мог распоряжаться средствами фонда, однако он все же позаботился о том, чтобы денежки не лежали без дела. Основанная им фирма собирала лицензионные платежи, выполняла распоряжения Брайса и занималась другими делами по обслуживанию капитала, получая за это неплохие комиссионные. Кстати, то, что Брайс вообще отдавал какие-то распоряжения, стало для меня неожиданностью, однако он делал это достаточно регулярно, проявляя при этом завидную твердость и решительность. Во всяком случае, все его приказы мистер Кэглсток выполнял точно и в срок.
После нашей встречи-совещания – главным образом, благодаря всем тем лестным вещам, которые наговорил обо мне Брайс, – мистер Кэглсток стал столь же беспрекословно выполнять мои распоряжения. Кроме того, приятель представил меня своим троюродным братом, и мистер Кэглсток тут же притащил целый ворох документов, которые я должен был подписать. Я пытался отказываться, говоря, что на самом деле мы вовсе не родственники, но Брайс велел мне не возникать и подписывать. Тогда, сказал он, ему больше не придется таскаться за тридевять земель в этот, как он выразился, «паршивый городишко».
В общем, я внимательно прочитал документы, уловил суть и поставил свою подпись. Начиная с этого дня фирма Кэглстока не могла совершать ни одной сделки без моего одобрения. Так распорядился Брайс. Тратить деньги Брайса на свои личные нужды я не мог, зато получал право контролировать деятельность Кэглстока и следить за тем, куда его фирма намерена инвестировать средства фонда. Брайс считал такой порядок оптимальным.
С тех пор мистер Кэглсток звонил мне примерно раз в месяц. Мы подробно обсуждали все новые проекты, и я – очень вежливо – разрешал или запрещал ему совершать те или иные сделки с деньгами фонда.
Здесь нужно сказать, что чем больше я общался с Брайсом, тем отчетливее понимал, что под маской эксцентричного пьянчужки скрывается человек с живым и острым умом, который – во всяком случае, в периоды, так сказать, «просветления» – хорошо знает, чего хочет. Думаю, тот день, когда мы ездили в Чарльстон, как раз совпал с одним из таких периодов.
Как бы там ни было, за три года моего ежемесячного общения с мистером Кэглстоком Брайс заработал огромные средства, практически удвоив свой наследственный фонд. Оглядываясь назад, я понимаю, что это произошло скорее благодаря удачно сложившейся рыночной конъюнктуре и предпринятым мистером Кэглстоком исследованиям, а не благодаря моим усилиям. Должен сказать прямо, этот парень отлично знал свое дело, и я сумел многому у него научиться.
Как-то Мэгги спросила меня, есть ли у Брайса завещание, и я ответил, что не знаю. Впоследствии я навел справки и выяснил, что никакого завещания в природе не существует. У Брайса просто не было никого, кому он мог бы оставить свое состояние. Нам с Мэгги это показалось неправильным, и я отправился в трейлер к Брайсу, чтобы обсудить с ним эту проблему.
– Скажи, – начал я, – если вдруг ты завтра умрешь, кого бы ты хотел видеть на своих похоронах?
Не моргнув глазом, он ответил:
– Горниста[21].
Нам с Мэгги это, естественно, ничего не дало. Между тем оставшийся нерешенным вопрос был далеко не праздным – особенно для меня, поскольку я добровольно взвалил на себя непростую обязанность заботиться о Брайсовых деньгах. Таким образом, и завещание – хотя бы отчасти – тоже было на мне, а я решительно не знал, что делать. В самом деле, кому можно завещать сорок или пятьдесят миллионов, если парень, который ими владеет, молчит, словно воды в рот набрав? У меня, разумеется, не было никакого желания разыгрывать из себя всемогущего Бога, однако нам с Мэгги все же казалось, что мы сумеем распорядиться деньгами Брайса лучше, чем государство. В конце концов, мы призвали на помощь мистера Кэглстока и составили документ, согласно которому все имущество и активы Брайса должны были достаться детям погибших солдат, которые служили с ним во Вьетнаме в одном подразделении. Большинство из этих детей – сейчас уже давно взрослых – не знали и даже никогда не видели своих отцов, зато Брайс хорошо их знал и помнил. Их личные «собачьи жетоны» – штук пятнадцать или больше – хранились в его трейлере в патронном цинке вместе с наградами.
Кто-то, возможно, спросит, почему я всем этим занимался, если мне не нужны были Брайсовы деньги. Наверное, потому, что сам Брайс то ли не мог этого сделать, то ли просто не сделал, а мне очень не хотелось, чтобы шайка чарльстонских юристов признала его неспособным управлять собственными делами и обобрала до нитки. Теперь же, когда средства фонда удвоились, никто не мог бы обвинить в некомпетентности ни его, ни меня. Больше того, благодаря мне и Кэглстоку вся эта братия тоже неплохо заработала.
Кстати, не уверен, что Брайс знает, какую роль я в действительности сыграл в управлении его деньгами. Странно, но факт. Обычно Кэглсток звонил мне, мы советовались, а потом помещали два-три миллиона в те или иные акции, чтобы заработать для Брайса еще несколько сот тысяч. При всем при этом лично я по-прежнему не знаю, где взять деньги, чтобы заплатить налог на нашу с Мэгги собственность. А ведь благодаря мне Брайс еженедельно, а иногда и ежедневно, зарабатывает в виде процентов на вложенный капитал куда больше, чем я способен заработать за год.
Прошлой ночью над Диггером пронесся торнадо. Он поднял в воздух пару коттеджей, разломал их на куски и разбросал в радиусе нескольких миль. Сам я ничего не слышал, но очевидцы рассказывали – шум стоял, словно от мчащегося на огромной скорости товарного поезда. Сделанный мною телефонный звонок убедил меня, что больница не пострадала, и, успокоенный, я решил взглянуть на разрушения. Сев в машину, я покатил в город.
Моим глазам открылась странная картина. С одной стороны дороги Диггер оставался точно таким же, как и накануне, – во всяком случае, никаких разрушений я не заметил. С другой стороны город имел такой вид, словно Бог прошелся по лицу Земли опасной бритвой шириной в пару миль. Как мне рассказали, одного мужчину разбудил звонок соседа, сообщившего, что его трактор валяется вверх колесами в соседском огороде, то есть примерно в миле от того места, где владелец припарковал его накануне. Несколько человек проснуться и вовсе не успели. По предварительным оценкам, таковых было трое.
Вернувшись домой, я доделал все дела, прибрался во дворе, привел себя в порядок и поехал к Брайсу. К тому моменту, когда я достиг вершины последнего холма, с которого был виден старый кинотеатр, наступил ранний вечер, и Брайс стоял на пороге своего трейлера в килте и солдатских ботинках. В одной руке он держал волынку, а в другой – открытую банку с пивом, из которой то и дело прихлебывал.
– Доброе утро, Дилан, – сказал он, когда я подъехал ближе, и улыбнулся. Его бочкообразная, бледная грудь сверкала в лучах клонившегося к закату солнца. Насколько я знал, часов Брайс уже давно не носил, поэтому иногда его вечера затягивались до ночи, а утра́ начинались в тот час, когда ему доводилось проснуться.
– Доброе утро, – сказал я, отворяя дверцу, чтобы Блу мог подбежать к Брайсу, обнюхать его колени и пару раз вильнуть хвостом – таков был их обычный приветственный ритуал. – Вот, решил заехать, посмотреть, как ты пережил ураган. Все на месте, ничего не унесло?
– Все в порядке, приятель, никаких проблем, – отрывисто проговорил Брайс. Иногда его провинциальный шотландский акцент становился просто чудовищным.
Оглядываясь по сторонам, я, однако, заметил, что один из экранов, который Брайс уже давно не использовал, разорван сверху донизу. Брезент, когда-то натянутый на фанерную подложку, болтался и хлопал на ветру, и я увидел, что фанера тоже проломлена и расщеплена примерно до половины.
– Этот, похоже, скоро совсем завалится, – сказал я, показывая на пострадавший экран.
– Угу, – согласился Брайс и снова отхлебнул пива. – Только это не имеет значения. Мне хватит и одного. – Он швырнул опустевшую банку на землю и, повернувшись, исчез в трейлере. Когда Брайс вернулся, в руках у него была паяльная лампа. Под моим изумленным взглядом, он пересек центральную парковочную площадку, прошел на боковую парковку и приблизился к деревянному сарайчику у основания сломанного экрана. Там он разжег лампу, отрегулировал пламя и направил на старые доски. Спустя несколько секунд от досок повалил дым, показались языки пламени. Еще через пару минут ветер подхватил их, раздувая огонь, который почти сразу добрался до нижней кромки экрана. Вспыхнул старый брезент, загорелись фанерная подложка и дощатый опорный каркас. В считаные минуты огонь охватил все сооружение.
Брайс тем временем снова вернулся в трейлер. Вышел он оттуда уже без паяльной лампы, зато в каждой руке у него было по банке пива. Одну из них он протянул мне, и мы стали смотреть, как догорает деревянный каркас экрана. Когда от него остались одни головешки, Брайс отсалютовал мне своим пивом:
– Ну, за искусство!
Уже давно стемнело, когда я наконец завел грузовичок и тронулся в обратный путь. Когда я проезжал мимо летнего театра, в нем было тихо и темно, и я, немного подумав, свернул на обочину. Машина остановилась, Блу поднял голову, зевнул во всю пасть, тяжело вздохнул, как умеют только собаки, и перебрался в кузов. Я заглушил двигатель и некоторое время сидел в полной тишине.
Однажды после концерта в летнем театре мы с Мэгги долго не могли уснуть. Мы лежали в кровати, слишком взбудораженные, чтобы отдыхать, да и в ушах у нас еще звенело от музыки и аплодисментов. Мы обливались потом, буквально утопали в чернильном мраке жаркой и душной летней ночи – и не могли сомкнуть глаз. В какой-то момент Мэгги спросила, почему я молчу, и я решил воспользоваться случаем и рассказать ей о том, что было у меня на уме.
– Когда я вижу выходящих на сцену музыкантов, – сказал я, – я часто думаю о Маленьком Барабанщике – о том, как он стоял и, робея, предлагал Царю Царей свой дар. Единственное, что у него было. Мне всегда хотелось знать, как это происходило. Нарушал ли тишину только звук барабана или животные в хлеву переступали с ноги на ногу, шуршали подстилкой, жевали сено?.. Где был в это время Иосиф?.. Спал ли Иисус перед тем, как улыбнуться?.. А улыбка… Что Он почувствовал, когда маленький мальчик стал играть для Него на своем барабане? Иногда… иногда мне хочется, как Маленькому Барабанщику, вывернуть свою душу наизнанку, выжать ее до капли… а потом вдруг почувствовать, что это – чем бы «это» ни было – и есть мой единственный, мой скромный и самый драгоценный дар.
Приподнявшись на подушке, я показал рукой в черноту за окном – туда, где находился летний театр.
– Все эти артисты и музыканты, которые стоят перед публикой… нет, перед всем миром, когда в воздухе еще звучат последние ноты… Мне кажется, именно в эти секунды они осознают, что делают то самое дело, ради которого появились на свет. Это видно по их глазам, по их лицам. Их дар принят, и они знают, чувствуют, что такое настоящая жизнь. Те несколько мгновений, когда поклонники начинают аплодировать, а Царь Вселенной улыбается, – это и есть жизнь. Я… я иногда спрашиваю себя, каково это – сыграть на своем барабане для великого Царя, для Бога? Что чувствовал Маленький Барабанщик? Может быть он, как Паваротти, отложил ноты и, остановившись на середине такта, прислушался к затихающим звукам? Понял ли он, какое волшебство, какое чудо происходит в эти мгновения, или оно так и осталось незамеченным?..
Я думал, Мэгги высмеет меня, может быть, даже скажет, чтобы я перестал нести чушь. Но Мэгги не стала смеяться. Когда я замолчал, она провела ладонью по моим волосам, закинула на меня руку и ногу и прижалась грудью к моей груди.
– А у тебя было когда-нибудь такое чувство? Ну, такое, о котором ты только что говорил?
– Думаю, да.
– Когда?
Прежде чем ответить, я некоторое время смотрел на потолочный вентилятор, загипнотизированный оптическим обманом, когда кажется, будто слишком быстро вращающиеся лопасти начинают крутиться в обратном направлении.
– Когда я преподавал. К сожалению, это случилось всего один или два раза, но это было. И я до сих пор помню, что́ я тогда испытал.
После этого разговора прошло несколько дней, и вот как-то вечером Мэгги уложила в большой бумажный пакет бутерброды, усадила меня в грузовичок, завязала мне глаза и куда-то повезла.
– Куда мы едем? – спросил я.
Мэгги, не отвечая, продолжала сосредоточенно крутить рулевое колесо, и после пятнадцати минут крутых разворотов и «кратчайших путей» мы наконец прибыли на место. Остановив машину, Мэгги взяла меня за руку и подвела к каким-то воротам. Там она некоторое время звенела ключами, отпирая довольно-таки ржавый (судя по звуку) замок. Наконец она справилась с ним и, освободив звякнувшую цепь, со скрипом приоткрыла одну створку. Мы двинулись дальше и ярдов через сто достигли каких-то ступеней. Когда мы поднялись на самый верх, я сразу почувствовал, что пол у меня под ногами стал другим – ступени были бетонными, а сейчас я шел по какому-то более мягкому, возможно, дощатому, покрытию, под которым, похоже, была пустота.
Мэгги провела меня еще на несколько футов вперед, потом развернула и прижала к моим губам палец, призывая к молчанию, хотя вокруг и без того было очень тихо.
А потом Мэгги отошла от меня. Я слышал, как она спустилась по лестнице, а я остался стоять, как столб, на прежнем месте. Пока я гадал, где мы и что вообще происходит, Мэгги вдруг закричала во все горло:
– Браво! Браво! Бис!
Ее крик настолько меня испугал, что я сорвал с глаз повязку и увидел, что стою на сцене летнего театра, а моя жена со свечой в руках бегает туда и сюда вдоль передних рядов, размахивает руками и вопит, как индеец. На креслах первого ряда она рассадила штук пятнадцать вырезанных из картона людей, каждый из которых тоже держал в руке горящую свечу. Мэгги кричала и улюлюкала еще минут десять, продолжая размахивать руками и пританцовывать, как человек, нашедший золотую жилу, или как фанат на концерте кумира.
Когда мне удалось наконец ее успокоить (а это тоже заняло немало времени), мы сели во втором ряду, закинули ноги на спинки первого и, поедая бутерброды с индейкой, стали смотреть шоу, которое разворачивалось только в нашем воображении. Когда, доев последний бутерброд, я наклонился, чтобы поцеловать Мэгги, у нее в уголках губ осталась горчица. До сих пор я ощущаю этот вкус.
Что я хочу сказать… Понимаете, Мэгги могла высмеять меня, могла даже выставить дураком, пытающимся разобраться в вещах, которые не имеют ко мне никакого отношения, находятся вне… Но она поступила иначе. Она привезла меня сюда, вывела на сцену, а сама попыталась изобразить толпу моих преданных поклонников, хотя, бегая с воплями вдоль кресел, где сидели только картонные болванчики, она не могла не чувствовать себя глупо.
И вот я снова оказался здесь. Я смотрел на поблескивающую в лунном свете раковину летнего театра, и перед глазами все расплывалось. Наконец я открыл дверь кабины, спустился по склону холма и перемахнул сетчатый забор. Пройдя по центральному проходу, я поднялся на сцену и повернулся лицом к залу. Лунный свет отражался от спинок кресел и блестел, как десятки, сотни горящих свечей, но я так и не издал ни звука. У меня не было слов – только слезы, но мне не хотелось проливать их здесь, пусть даже в зале не было ни одного зрителя.
Сдерживаясь из последних сил, я лег на шершавые доски сцены, пытаясь скрыться от демонов, питавших мои сомнения.
Глава 8
Кафедра английского языка назвала мой курс «Анализ текста и литературное творчество» в явной надежде, что именно этим студенты и будут заниматься в течение первого семестра. Специфика предмета, который мне предстояло преподавать, состояла в том, что начиная с первого же занятия студентам необходимо было работать с полной самоотдачей, развивая соответствующие навыки и накапливая знания, чтобы в конце семестра успешно написать зачетную работу. Тот, кому вздумалось бы филонить, рассчитывая на удачу, на везение, рисковал нажить серьезные проблемы (неудовлетворительный результат на зачете означал как минимум необходимость прослушать тот же учебный курс во второй раз), и большинство моих студентов, кажется, это понимало. Учебный план, правда, предполагал еженедельные, а то и ежедневные контрольные работы, за которые также выставлялись оценки, и все же итоговый результат почти исключительно зависел от зачетной работы в конце семестра.
Поразмыслив над всем этим, я решил сделать одно из трех еженедельных занятий факультативным. Уже на втором нашем занятии я сказал:
– Основным, можно даже сказать решающим, аспектом вашей зачетной работы будет вовсе не ее тема. Тем – интересных и важных – существуют тысячи и десятки тысяч. Ваша задача заключается в том, чтобы поставить правильные вопросы. Если вопрос будет слишком общим, таким же общим, банальным будет и ответ, но если вы зададите конкретный, продуманный вопрос, ответ почти наверняка окажется таким же конкретным и ясным. Мне нужно, чтобы вы научились задавать вопросы – точные, неожиданные, оригинальные. И если у вас вдруг возникнет сомнение в том, насколько правильно вы ставите вопрос, приходите в четверг, и мы попробуем разобраться вместе.
Все это я говорил совершенно серьезно – мне всегда нравились острые вопросы, нравились горячие споры и дискуссии. И все же в данном случае меня куда больше интересовало другое – кто появится на занятиях, если я дам студентам возможность выбора.
Не пришел никто.
Это могло означать одно из двух. Либо эти парни и девушки уверены, что умеют задавать правильные вопросы, либо им наплевать. Как в действительности обстоит дело, должна была показать зачетная работа за семестр. Мне оставалось только дождаться Рождества, чтобы узнать ответ на свой вопрос.
В больницу мы с Блу приехали около четырех пополудни. Поднявшись в палату, я увидел, что волосы Мэгги тщательно расчесаны, и понял, что накануне Аманда отрабатывала очередную ночную смену.
Солнечные лучи заливали Мэгги ярким, безмятежным светом, а отсутствие видимого напряжения на ее лице подсказывало мне, что ей это нравится. Да, я был уверен, что она хоть и лежит без сознания, но все сознает, что ее покой – лишь кажущийся, что она спит и в то же время бодрствует.
Больше всего на свете мне хотелось ее разбудить. Толкнуть в плечо и посмотреть, как она потягивается, зевает, тянется к кружке на ночном столике, отпивает кофе, а потом отправляется в хлев или идет к реке, чтобы смотреть, как плещутся под берегом лещи и охотящиеся окуни, или слушать, как пересвистываются в небе каролинские утки. Да, я хотел ее разбудить, поэтому сел на кровать рядом с Мэгги и поцеловал в щеку, но она даже не пошевелилась.
Врачи утверждали, что у человека в таком состоянии, как у Мэгги, мозг функционирует совершенно нормально, что бы это ни означало. «Единственное, что нам остается, – только ждать, – говорили они. – Иногда шок имеет самые странные и необъяснимые последствия». Короче, «наука пока бессильна», но мне было от этого нисколько не легче. Я считаю, если ученые в состоянии отправить человека на Луну, расщепить атом, пересадить сердце от человека к человеку, победить полиомиелит или построить стоэтажное здание, значит, они должны суметь разбудить мою жену. Я хорошо помнил, как быстро все произошло: только что она плакала и тянулась к нашему сыну, потом ее стошнило, а через минуту Мэгги уже лежала без сознания. Но объяснить, почему так получилось, я не мог.
Сегодня я сидел с Мэгги, пока не зашло солнце. Блу все это время спокойно лежал на сложенном одеяле, которое кто-то постелил в углу. И тот же самый «кто-то» поставил рядом с одеялом миску с водой. Похоже, персонал больницы признал за Блу право находиться в одной палате с Мэгги, хотя всего через несколько дней после неудачных родов мой новый приятель Тентуистл прислал сиделку, чтобы сказать мне: он, мол, намерен вызвать ветнадзор, чтобы убрать из палаты моего «грязного пса».
– Видите ли, мэм, – вежливо ответил я сиделке, показывая на Блу. – Я много раз говорил ему, чтобы он уходил, но он не слушается. Понимаете, этот пес и эта женщина неразлучны. Они не могут друг без друга.
Сиделка доложила о нашем разговоре Мистеру Администратору, и тот исполнил свою угрозу – вызвал специалиста из ветнадзора. Он не учел только, что в нашем округе инспектор ветнадзора работает на общественных началах и что занимает эту должность не кто иной, как мистер Картер, отец Эймоса. Когда мистер Картер разобрался, о какой собаке идет речь, он сложил два и два и ответил рьяному мистеру Тентуистлу:
– Нет, сэр, эта собака очень нужна вашей пациентке, так что оставьте-ка вы ее в покое.
Продолжая держать Мэгги за руку, я сделал глоток остывшего кофе.
Моя жена никогда не была излишне сентиментальной и не любила «слюнявых нежностей», как она выражалась, зато ей очень нравилось, когда я гладил ее по ногам. В своем ночном столике она постоянно держала увлажняющий крем, который покупала в одном из бесчисленных отделов торгового центра. Вы наверняка знаете, о каких отделах речь. Серьезной косметики там нет, зато полно кремов, ароматических свечей, морской соли и прочей ерунды, которая годами загромождает полки в вашем шкафчике в ванной. Мне запах этого крема не особенно нравился, но Мэгги была от него в восторге. Она утверждала, что от него пахнет жимолостью. Назывался этот крем «Нежное масло для тела».
У меня от рождения не слишком хорошее обоняние. Нет, я могу почувствовать аромат гардений, запах жареного бекона или тех духов, которые Мэгги называет «Вечность», но в целом я предпочитаю ориентироваться в окружающем мире, не полагаясь на возможности своего носа. Мэгги, напротив, способна унюхать все что угодно. Много раз, заезжая в торговый центр, мы останавливались перед парфюмерным прилавком, и Мэгги, закрыв глаза, безошибочно различала ароматы восьми сортов духо́в. Мне же казалось, что все они пахнут одинаково.
Но неделю назад я принес «Нежное масло» в больницу и положил в тумбочку Мэгги. Сейчас я открыл ящик, свинтил с тюбика колпачок и, передвинув свой стул поближе к изножью кровати, осторожно снял с Мэгги носки и начал втирать крем ей в кожу. Я начал с пяток, потом перешел на свод стопы, смазал кожу между пальцами и наконец перешел к лодыжкам.
У Мэгги очень красивые ноги. Пальцы на ногах аккуратные, с небольшими, янтарного оттенка мозолями и коротко подстриженными ногтями. Я, бывало, шутил, что, если поменять ей пальцы местами, никто этого не заметит, потому что, мол, они все равно одинакового размера.
А еще у нее сильные ноги – с изящной пяткой, высоким подъемом и мускулистыми икрами. Рабочие ноги, как я их называю. Мэгги – прирожденная бегунья. У нее длинный, летящий шаг; когда мы время от времени делаем пробежку вдоль реки, мне кажется, будто она вовсе не касается земли. Но бег – это ее, так сказать, хобби. Основное занятие и главная любовь Мэгги – это ее сад, поэтому она ковыряется в земле и что-то сажает гораздо чаще, чем бегает.
В первые дни в больнице я просто не знал, как вести себя с Мэгги. Порой я робел, словно подросток на первом свидании, а порой держался с ней, как Папа держался с бабушкой после пятидесяти лет совместной жизни. Иногда я сидел на кровати и разговаривал с Мэгги, а иногда молчал. Бывало, легкий массаж ног заменял мне любые разговоры, но подчас я просто не знал, что сказать.
Несколько раз, когда я входил в палату, морщинка на лбу Мэгги говорила, что моя жена пребывает в некоем внутреннем напряжении. Сегодня эта морщинка тоже была, но исчезла вскоре после того, как я начал массировать и смазывать кремом ее ступни. Кто знает, что́ пребывающие в коме люди слышат, чувствуют, переживают в своем, недоступном для нас мире? Наблюдение за морщинкой на лбу Мэгги убедило меня в том, что они вовсе не спят, то есть не все время спят. Я не врач и вообще не специалист, но иногда, стоило только перешагнуть порог палаты, я сразу понимал, что Мэгги бодрствует. Я был абсолютно уверен в этом, хотя ее глаза были закрыты, а тело – неподвижно. Я видел, что она не спит, по ее лицу. Порой я мог определить это по ее рукам, но чаще – по лицу. В другие разы, когда я приходил, Мэгги выглядела спящей, и я сразу понимал, что она действительно спит. В такие моменты все ее тело казалось полностью расслабленным.
Сейчас я еще немного помассировал ей икры и почувствовал, как Мэгги соскользнула в сон. Напряжение оставило ее, а я так и не узнал, чем оно было вызвано. Нет, о похоронах я ничего ей не говорил, но она, я думаю, знала. Чувствовала.
В девять на наручных часах проходившей по коридору сиделки сработал будильник. Я проснулся и обнаружил, что сижу сгорбившись на стуле, и что моя голова покоится на подушке Мэгги рядом с ее головой. Я вытер с губ липкую слюну и некоторое время продолжал сидеть в темноте, чувствуя, как касается моего лица ее дыхание. В небе за окном висела полная луна, и сияли крупные звезды; лишь далеко на востоке их заслоняли редкие облака, в целом же, ночь была ясной и немного ветреной – настоящая южнокаролинская серенада звездного света. Будь мы сейчас дома, мы сидели бы, завернувшись в пледы, на передней веранде и любовались ночным небом.
Наконец я поднялся, натянул одеяло на плечи Мэгги, проверил, не сползли ли с ее ног носки, потом положил открытый тюбик крема на тумбочку рядом с койкой и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Только оказавшись в коридоре, я заметил записку, которую Аманда прикрепила скотчем к дверному косяку. «Приходите сегодня вечером на службу в нашу церковь. Начало в 19:30. Папа будет читать проповедь. Я оставлю вам место. Аманда».
Я оторвал записку от двери, перечитал ее во второй раз и подумал:
«Вот уж кому не позавидуешь! Она же дочь священника; наверняка Аманда оказывается в центре внимания каждый раз, когда появляется на людях!»
Мы с Блу прошли по коридору к выходу, и полная пожилая сиделка, читавшая за столом дежурной, оглядела меня поверх очков и кивнула на прощание. От этого движения серебряные цепочки, прикрепленные к дужкам ее очков, слегка качнулись, а потом снова повисли вдоль щек, подчеркивая квадратную нижнюю челюсть и двойной подбородок.
Спустившись по лестнице, мы вышли на стоянку. Я завел мотор грузовичка, Блу запрыгнул в кабину, и мы выехали с территории больницы через главные ворота. Уже на шоссе я смял в кулаке записку Аманды и выбросил ее в окно.
Примерно в половине десятого я миновал последний перед моим домом поворот дороги. Здесь мне в глаза бросилась церковь пастора Джона Ловетта. Насколько я знал, она была построена в 1952 году, и с тех пор каждое воскресное утро возле нее повторялась одна и та же картина, напоминающая карнавальное шествие. Задолго до того, как в половине одиннадцатого утра начинали звонить колокола, ближайший к церкви участок шоссе оказывался забит десятками разодетых по-праздничному женщин самых разных возрастов, комплекции и цвета кожи, которые в сопровождении мужей, детей и родственников шагали прямо по проезжей части, торопясь занять места на церковных скамьях.
А шляпы? Это попахивало настоящим шоу! Вы в жизни не видели столько разных шляп одновременно! Мне рассказывали, что иногда пастор Джон даже прерывает службу, чтобы похвалить чью-то новую или особо красивую шляпку. Женщинам это нравится. Нравятся им и его проповеди, хотя говорят, что в них он особо налегает на ожидающие нераскаянных грешников адские муки. Впрочем, некоторые считают, что пастор Джон никого не пугает, а просто рассказывает все как есть, и за это его тоже любят и уважают.
Обычно в церкви собирается довольно много народу – белых и черных, мужчин и женщин, детей и стариков, – и, если вы проезжаете мимо, когда паства поет гимны, стекла вашей машины начинают дребезжать – и не только летом, но и зимой, когда входные двери закрыты. Хорошо еще, что шпиль над церковью высок и прочен, в противном случае он мог бы обрушиться от одного только шума. Пение, хлопанье в ладоши, иногда даже танцы… Хотите послушать церковные гимны в хорошем исполнении? Ступайте в церковь пастора Джона, будете довольны.
Сегодняшний вечер, как и вечер каждой среды, не был исключением. Церковь была битком набита, и я невольно сбросил скорость, а потом и вовсе остановился на обочине – прямо напротив эймосовской «Краун Виктори». В машине работала рация, и я слышал шорох статики, сквозь который пробивались далекие квакающие голоса.
– Центральный, как слышишь? Говорит семьсот двенадцатый.
– Докладывай, семьсот двенадцатый. Что у тебя?
– Говорит семьсот двенадцатый. У меня здесь… – Мимо моих окон промчался восемнадцатиколесный трейлер с грузом сосновых бревен, поэтому продолжения радиообмена я не услышал, а если бы и услышал, то все равно не понял бы кодовых фраз, которыми изъяснялись дежурные полицейские. Когда Эймоса назначили помощником шерифа, он сказал: «Знаешь, Дилан, если я не выучу переговорную таблицу так, чтобы от зубов отскакивало, меня замуруют в диспетчерской, где я буду до конца жизни просиживать штаны и пить скверный кофе из автомата». И в течение следующей недели или двух Эймос не расставался с пачкой учебных карточек, которые он называл букварем патрульного и носил в нагрудном кармане рубашки, то и дело доставая, чтобы освежить в памяти тот или иной код.
Да, полиция разговаривает на своем языке. И наверное, это хорошо. Если бы на мой автомобиль вдруг упал телеграфный столб, мне бы меньше всего хотелось, чтобы мною занимался помощник шерифа, изъясняющийся цветистыми и напыщенными фразами. В критической ситуации и я, и любой другой человек предпочли бы натасканного профессионала, который сумел бы в нескольких словах объяснить диспетчеру, куда нужно направить спасателей и «Скорую», чтобы в срочном порядке доставить пострадавшего в больницу. Эймос, кстати, сказал, что меня, скорее всего, вышибли бы из полиции под зад коленом после первого же выезда на происшествие, и, наверное, он прав. Я бы наверняка стал живописать диспетчеру драматизм ситуации вместо того, чтобы коротко и ясно изложить, что необходимо сделать. Так уж я, видно, устроен – замечаю, в какой цвет покрашены стены, но не вижу самого здания.
Судя по тому, сколь неторопливой была полицейская радиоперекличка, нынешний вечер в Диггере выдался спокойным. Да и с чего бы ему быть иным, подумал я, если абсолютное большинство жителей городка собралось сегодня в церкви – об этом можно было судить хотя бы по тому, что все парковочные места поблизости были заняты. Машины заполняли даже грунтовую площадку над сливным трубопроводом.
Оставив свой грузовичок на обочине, я перешел через дорогу и направился к церкви. В притворе меня встретил одетый в строгий костюм-тройку церковный служка – седой, представительный джентльмен лет семидесяти пяти. Улыбаясь во весь рот, он придерживал двери, пока я не вошел, а я подумал, что еще никогда не видел у человека столько зубов одновременно. Кроме того, они были неестественно ровными – наверное, его челюсть можно было использовать вместо линейки, чтобы чертить идеально прямые линии.
Сам я был одет в старые джинсы, поцарапанные сапоги и фланелевую рубашку, которую торопливо пытался заправить за пояс. К счастью, стригусь я достаточно коротко, так что причесываться мне почти не приходится: даже когда мои волосы в беспорядке, выглядят они достаточно пристойно.
Крошечный притвор, фактически промежуток между входными и внутренними дверями, был совершенно пуст, если не считать меня и Мистера Зубастика, который спросил, являюсь я прихожанином или гостем. Сначала я хотел соврать, но потом мне показалось, что церковный притвор, расположенный точно под шпилем, построенным моим дедом, не самое подходящее для этого место. Не глядя на Мистера Зубастика, я сказал, что гость.
Сквозь застекленную часть двери, ведущей в среднюю часть храма, я увидел пастора Джона, который не спеша двигался по проходу между скамьями. На нем была пурпурная мантия, а в правой руке он держал довольно потрепанную книгу. С тех пор, когда я видел его в последний раз, пастор заметно постарел, а его волосы совсем побелели.
Служка бесшумно отворил дверь и шагнул вперед. Слева и справа от прохода, на скамьях с прямыми спинками сидели, тесно прижавшись друг к другу, три или даже четыре сотни человек. Опоздавшие – те, кому не хватило места, – устроились на складных стульчиках вдоль стен, в проходе и позади скамей, и я невольно подумал, что, окажись здесь пожарный инспектор, пастору Джону не миновать крупного штрафа.
Дальняя от меня стена имела полукруглую форму; там размещалась алтарная часть с ограждением, на ее краю стояла кафедра, на которую только что поднялся пастор Джон. За его спиной я увидел орга́н, возле которого стояли сорок или пятьдесят человек, которые время от времени восклицали: «Аминь!» и «У-ум-хумм!» (или что-то в этом роде). Церковные скамьи, похоже, делали какие-то умпа-лумпы[22] – настолько они были маленькие. Впрочем, мне не показалось, будто размеры скамей здесь кого-то волнуют. Сиденья на них, кстати, были мягкими, но я лично посидел бы и на жестких – было бы где повернуться.
Пока я предавался этим праздным размышлениям, служка зашагал по центральному проходу, явно намереваясь провести меня к самой кафедре, где на первом ряду сидела Аманда, рядом с которой – о чудо из чудес! – оставалось единственное на весь храм свободное место. Я пытался остановить Мистера Зубастика – я откашливался, окликал его громким шепотом, хотел даже свистнуть, – но Аманда обернулась, увидела меня и стала двигаться на скамье, чтобы освободить побольше места. Делать было нечего, и я пошел за служкой, продолжая по инерции бормотать себе под нос какие-то слова.
Добравшись до переднего ряда, служка обернулся ко мне и кивнул. При этом он не переставал улыбаться, и я невольно вздрогнул при виде его многочисленных зубов. Чувствуя, что моя рубашка начинает липнуть к телу, я поспешил усесться на указанное место.
– Здравствуйте, профессор, – шепнула мне на ухо Аманда, снова складывая руки на животе. – Я так и думала, что вы зайдете.
Я опустил глаза и ничего не ответил. Разглядывая ковер под ногами, я заметил, что Аманда скинула туфли. Понять, почему она это сделала, было нетрудно: ее ноги, от природы довольно маленькие, отекли и распухли, как у слона. Подняв взгляд, я увидел, как пастор Джон, прервавшись на середине фразы, взмахнул руками и приложил палец к губам, призывая паству к тишине.
Когда собравшиеся затихли и перестали шептаться обо мне, пастор Джон сказал:
– Позвольте представить вам профессора Дилана Стайлза, который только что присоединился к нам. Как вы знаете, мы уже несколько недель молимся о его жене Мэгги, которая тяжело больна…
– Точно, – сказал кто-то за моей спиной. На другом конце зала кто-то пробормотал что-то вроде «Ум-гум», а еще дальше, но слева от меня, женский голос произнес:
– Аминь.
Перейдя к противоположному краю алтарного возвышения, пастор сказал:
– Пожалуйста, не забудьте поприветствовать профессора, когда мы закончим. – Он улыбнулся, посмотрел на меня, снова перевел взгляд на свою паству и добавил: – Но не раньше!..
Пастор Джон слегка развел руками и снова повернулся ко мне. Пот струился по его лицу, как вода из неисправного крана.
– Добро пожаловать, сынок…
Мне показалось, что он хотел добавить что-то еще, но промолчал. Вместо этого он без малейшей паузы продолжил свою проповедь прямо с того места, на котором прервался минуту назад, слегка постукивая Библией по кафедре. Судя по реакции остальных, я появился в кульминационный момент его речи. Минут через пять, приведя аудиторию в состояние, близкое к маниакальному неистовству, пастор Джон закончил и опустился в широкое, украшенное затейливой резьбой кресло рядом с хором.
Заиграл орган, и я почувствовал, что подмышки у меня промокли насквозь. В церкви, как и в моей аудитории в колледже, было невыносимо жарко. Несколько женщин обмахивались сложенными газетами, стараясь не отставать от потолочных вентиляторов, которые лишь гоняли с места на место горячий воздух. Со лба у меня тоже текло, и я поминутно вытирал его рукавом рубахи.
Вскоре органная музыка оборвалась, и на алтарном возвышении установилась тишина, нарушаемая лишь шорохом облачений хористов. Подняв голову, я увидел, что служки выводят хор к ограждению алтаря. Это могло означать только одно.
Причастие.
Остановившись у перил, хористы дружно опустились на колени. Пастор Джон прочел молитву, после которой его помощник двинулся вдоль облаченных в пурпурные одеяния хористов, вкладывая каждому в сложенные ковшиком руки белые облатки.
– Тело Христово, Хлеб Небесный… – повторял он.
После того как хористы проглотили святой хлеб, настал черед пастора Джона. Держа в руках большую серебряную чашу, он тоже двинулся вдоль рядов:
– Брат Майкл, прими Кровь Христову… Сестра Энни, вкуси от Чаши Спасения…
Когда он закончил, хористы так же дружно встали с колен и вернулись на свои места. Там они сели и, слегка покачиваясь в унисон с самодельными веерами женщин, начали негромко петь. Как и мое кукурузное поле, церковь пастора Джона никогда не замирала в покое.
В следующую минуту рядом со мной снова появился Мистер Зубастик. Деликатно, но настойчиво он манил меня за собой, сгибая и разгибая ладонь, но я продолжал смотреть прямо перед собой, делая вид, будто не замечаю его знаков.
– Не бойтесь, профессор, – шепнула мне Аманда. – У нас не как у католиков. Вы можете причаститься вместе с нами.
Тем временем прихожане, сидевшие в первом ряду с противоположной стороны прохода, вставали и по одному подходили к ограждению. Мистер Зубастик снова поманил меня рукой, и я слегка нахмурил лоб.
Пастор Джон сделал знак органисту, который тотчас перестал играть, а сам повернулся к алтарному ограждению. Не глядя ни на кого конкретно, он обратился сразу ко всем:
– Вам всем прекрасно известно, как я отношусь к тому, что́ происходит на этом святом месте… – Пастор взмахом руки показал на перила алтаря. – Поэтому, прежде чем вы подойдете сюда, каждый из вас должен хорошенько подумать о том, зачем он здесь. – Его речь звучала отчетливо и твердо, слова были точны, и за каждым чувствовалась глубокая внутренняя сила. Выдержав крошечную паузу, пастор Джон переложил чашу из одной руки в другую, достал носовой платок и вытер щеки и лоб.
– Каждому из вас предстоит сделать выбор… Вы можете подняться со скамьи и пройти по проходу вслед за другими прихожанами, мимоходом осуждая тех, кто в среду вырядился в лучшее воскресное платье. Вы можете думать о том, насколько вы проголодались, и мечтать, что́ и сколько вы съедите, когда выйдете отсюда. Потом вы встанете на колени, кивнете, получите кусочек хлеба и глоток вина и вернетесь на свое место с мыслью о том, что хлеб черствый, а вино – дешевое… – Пастор Джон снова вытер лоб платком, а потом аккуратно сложил его и убрал в карман. – Либо… – Он снова переложил чашу в другую руку. – Либо вы можете встать и приблизиться к этим перилам с трепетом и страхом… – Глухой ропот и перешептывания в толпе стали громче. – …Держась за рассохшиеся балясины, вы прислоните к перилам свою сумку или пакет, чтобы преклонить колени… – Пастор Джон возвысил голос, с легкостью перекрывая поднявшийся ропот. – …Вы сложите руки, чтобы с благоговением принять частицу Тела Господня, вы положите ее на язык и почувствуете, какая она сухая и твердая, вы проглотите ее и почувствуете, как в вас нарастает странный голод. Потом настанет черед чаши… – Пастор обеими руками поднял чашу высоко над головой, и я заметил, как под облачением вздулись его крепкие мускулы. – …Вы сделаете глоток и почувствуете жар огня и сильный виноградный запах, ощутите, как впиваются в ваши локти острые щепки, вы поднимете взор и увидите этот крест! – Пастор, не оборачиваясь, показал себе за спину. – И тогда вы просто протянете руку и коснетесь окровавленных мозолистых ног, почувствуете, как живая, красная и липкая кровь струится по вашим пальцам, затекает под ремешок часов и скапливается в сгибе локтя. Вы склоните голову и прильнете к Его ногам, пробитым грубым, ржавым гвоздем, вы ощутите смертную дрожь Его членов, вы вложите персты в рану на Его боку и увидите запекшуюся кровь на Его челе, истерзанном колючими шипами, вы вдохнете запах уксуса и желчи, коснетесь Его исхлестанной спины и услышите хрип, заглушающий звук Его дыхания!..
Пастор Джон сделал длинный, глубокий вдох.
– …И если после этого вы найдете в себе силы, чтобы поднять взгляд, вы ощутите на своем лице дыхание Господа. Именно в этот момент, если вы сами этого захотите, вы увидите самих себя – увидите со всеми вашими гнойниками, бородавками, прыщами и шрамами. Именно там, под неровной и грубой кожей, наросшей на едва заживших ранах, скрываются терзающие вас демоны, но теперь – после того, как вы причастились Тела и Крови Христовой, – вы можете их изгнать!..
Хор запел громче, но голос пастора по-прежнему звучал спокойно и уверенно, успокаивающе и твердо.
– Братья и сестры! – Пастор Джон опустился на колени и протянул собравшимся в зале людям чашу. – Только Причастие поможет вам справиться с легионом бесов, которые питают ваши сомнения, раздувают гнев, взращивают в ваших душах горечь, уныние и маловерие. Только Причастие поможет вам изгнать их… Всех до единого, – добавил он совсем тихо и поднялся, вытирая пот со лба.
После этих его слов в храме стало так тихо, что можно было услышать, как упала булавка. Только хористы продолжали чуть слышно шелестеть своими одеяниями.
– Братья и сестры! – снова воззвал пастор. – Бесы стараются погубить вас. Они стремятся убить ваши тела, лишить вас всего, что не причиняет вам боли. Здесь, у этого ограждения, вы отдаете больше, чем получаете. Здесь вы возвращаете себе то, что принадлежит вам. Здесь вы убиваете то, что убивает вас. А потом, изгнав в жестокой битве с собой темную силу, вы возвращаетесь… – Пастор Джон показал на скамьи и складные стульчики. – …Возвращаетесь покрытые кровью, но не раненые, изменившиеся – и те же самые, шатающиеся, но непоколебимые. Испокон века добро сражается со злом, и каждый человек – живое поле этой великой битвы. Рядом с нами – нет, среди нас! – найдется немало страждущих братьев и сестер. Почти у каждого из нас есть в душе темный чуланчик, в котором мы взращиваем собственных демонов. У разных людей эти чуланчики могут быть разного размера, но все они полны чудовищ. Большинство из вас знает, какие твари обитают в моем чулане. Я сам рассказывал вам об этом – и не один раз. То, чего я вам не рассказывал, можно найти в моем полицейском досье. Оно вовсе не засекречено, доступ к нему открыт. Каждый, кто захочет, может его прочесть.
Эти слова заставили меня бросить быстрый взгляд на Аманду, но ее лицо оставалось безмятежно спокойным, хотя и блестело от испарины.
– Братья и сестры! – продолжал пастор Джон. – Между скамьями, на которых вы сидите, и этим алтарем, между мягкими бархатными сиденьями и рассохшимися перилами ограждения может быть и двадцать футов, и миллион миль – дело не в расстоянии, а в том, каких взглядов придерживается сам человек.
Он повернулся и, неторопливо пройдя к концу ограждения, остановился в ожидании.
Шум в зале снова возобновился. Мистер Зубастик опустил ладонь мне на плечо. Сидевшие рядом с Амандой прихожане вставали со своих мест, но никто из них не решался первым выйти к алтарю.
Я тоже поднялся.
Сделал три шага и опустился на колени. Или, точнее, упал. Будь ограждение чуть дальше, и я не знаю, как бы я до него добрался. Аманда встала на колени рядом со мной. Я глядел прямо перед собой, но старался делать все, как она. Вот она вытянула вперед сложенные ковшиком – одна ладонь поверх другой – руки, и я повторил ее движение. Помощник пастора осторожно положил на мою ладонь крохотную облатку. Если он при этом что-то и сказал, я этого не услышал. Тем временем Аманда отправила Святой Хлеб в рот, плотно сжав губы. Сам я сначала взглянул на облатку, потом положил на язык. Хлеб был грубый, сухой, но я все равно проглотил его. Должно быть, от голода у меня заурчало в животе, потому что краем глаза я видел – Аманда улыбается.
Потом передо мной появился пастор Джон, он протягивал мне чашу.
– Это Кровь Христова, которую Он пролил за тебя, Дилан. Пей ее в воспоминание о Том, Кто умер на кресте.
И он поднес холодную серебряную чашу к моим губам.
Я сделал глоток.
Вино было прохладным, но мои язык и горло горели, словно я глотнул жидкого огня.
А пастор уже перешел к Аманде.
– Прими Самого Иисуса, дитя… – Он положил ладонь ей на лоб и негромко прочел молитву.
Когда я открыл глаза, у ограждения я был один. Даже не знаю, сколько я там простоял, но когда я обернулся, остальные прихожане уже вернулись на скамьи, и все четыреста пар глаз были устремлены на меня. Я поднялся с колен и поспешно сел на свое место рядом с Амандой. От волнения я не рассчитал, опустившись на сиденье с довольно громким стуком, и смутился еще больше.
Аманда сидела, закрыв глаза. Она была совершенно неподвижна, и на лице ее вновь лежала печать покоя. Только потом я спохватился, что до сих пор не видел Эймоса. Осторожно оглядевшись, я наконец заметил его. Эймос сидел через проход от меня, в дальнем конце второго ряда, и внимательно следил за каждым движением пастора. Его форменная одежда была довольно заметной, в свете ламп поблескивал служебный значок, но ни ремня, ни пистолета в кобуре на нем, по понятным причинам, не было.
Было без десяти одиннадцать, когда пастор Джон прочел последнюю молитву. Хор запел что-то вдохновляющее, и прихожане поднялись со своих мест. Некоторые направились к выходам, но большинство окружило меня. За считаные секунды я очутился в центре внимания десятков человек, каждый из которых хотел обменяться со мной рукопожатием, сказать несколько ободряющих слов.
Эймос спас меня минут через десять. Обняв за плечи, он повел меня к боковым дверям.
– Ну, проф, – проговорил он на своем «фермерском» языке, – как насчет смутузить по чизбургеру?
– Нет. – Я немного помолчал. – Я не голоден.
– Брехня.
– Как-как? – переспросил я, вопросительно глядя на него.
– Брехня, – повторил он. – Не далее как несколько минут назад твой желудок довольно громко сообщил всем присутствующим, что ты умираешь от голода и срочно нуждаешься в сочном, жирном, канцерогенном чизбургере с беконом, соленым огурцом и секретным эймосовским соусом.
– Н-нет… – Я сунул руку в карман в поисках ключей от машины. – Спасибо, но нет. Не сегодня.
И, оставив Эймоса болтать с несколькими десятками прихожан, которые только что слышали его описание чизбургера, я пошел к машине. Сев в кабину, я завел мотор и, машинально отметив еще одно место, сквозь которое просачивались в салон выхлопные газы, включил передачу и поехал домой.
Свернув на подъездную дорожку, я объехал дом со стороны кухни и, поставив грузовичок на траве, поднялся на крыльцо задней веранды. Не успел я открыть сетчатую дверь, как в ноздри мне ударил запах Мэгги – запах ее присутствия, который на кухне был особенно силен. От этого запаха мое одиночество еще больше усилилось, превратившись в терзающую сердце тоску. Не в силах войти в пустой дом, я взял с передней веранды одеяло и отправился в заросли кукурузы. Там я лег прямо на землю, прижал к себе Блу и попытался назвать по именам своих демонов.
Глава 9
Когда я проснулся, солнце только-только показалось над верхушками деревьев. Я замерз и весь дрожал, а у моих ног копалась в земле Пинки.
Пинки появилась у нашего порога года два назад. Едва взглянув на нее, я подумал, что теперь бекона для завтраков нам хватит месяца на три, но Мэгги помахала у меня перед носом указательным пальцем и твердо сказала:
– Только попробуй ее тронуть, Ди́лан Стайлз, и будешь месяц спать на диване!
Так Пинки поселилась в нашем амбаре. Соответственно изменилось и наше дневное расписание, в котором появились теперь пункты «Утреннее кормление свиньи» и «Вечернее кормление свиньи». Я так и называл ее – «свинья», хотя над дверцами загона Мэгги специально для меня написала ярко-красной краской: «Пинки».
Пинки я кормил собачьим кормом из больших пакетов или зернами кукурузы, а иногда – и тем и другим, хотя на самом деле она ела все, что не прибито гвоздями. А иногда и то, что прибито. Когда Пинки пришла к нам, она весила фунтов восемьдесят и крайне нуждалась в хорошем ду́ше и помощи ветеринара. Сейчас она весит больше трехсот фунтов и требует, чтобы ее окатывали из шланга не реже одного раза в неделю.
Нет, никогда мне не понять, как может человек столь трепетный и нежный, как моя жена, любить такую уродину. Впрочем, Пинки отвечает ей взаимностью, а вот меня ненавидит. Проклятая свинья не упускает ни единой возможности испражниться мне на ботинки или сделать исподтишка еще какую-нибудь гадость. Но, повторюсь, Мэгги она просто обожает. Вы бы слышали, как радостно она (свинья) визжит и хрюкает, когда Мэгги чешет ей уши и живот! Блаженствуя, Пинки катается на спине по всему загону, а потом – в знак благодарности! – трется боками о рабочий комбинезон Мэгги. Но Мэгги не возражает. Должно быть, моя жена – святая.
Не раз я наблюдал, как она опускалась на корточки посреди загона, а чертова свинья, задрав хвост, выковыривала из углов своих многочисленных отпрысков и подталкивала их рылом к Мэгги, чтобы та чесала и гладила их всех по очереди. И Мэгги гладила, пока поросенок не начинал корчиться и визжать от удовольствия. Время от времени Пинки не забывала подсунуть морду ей под руку, чтобы получить свою порцию ласки, или заталкивала поросенка под ее бедра – не иначе, для того, чтобы Мэгги было на что опереться. Как правило, вся процедура занимала не меньше тридцати минут, после которых моя жена благоухала хлевом до конца дня. Прошлым летом запах оказался столь силен, что мне пришлось окатить из шланга саму Мэгги, но она только смеялась и визжала еще громче Пинки.
Мэгги вообще любила нашу ферму. Ей нравилось в ней все, начиная с поскрипывающих полов и заканчивая скрипящими на всю округу сетчатыми экранами. Ей нравилась шелушащаяся краска, нравилась передняя терраса, нравились Папины качели, нравился запах сена в сарае, нравилось, как цветет хлопок, нравился короткий спуск к реке, нравился могучий дуб возле амбара, ствол этого дуба был шире, чем капот моего грузовика, нравился наш колодец и его вода с запахом серы, нравилась растущая не слишком ровными рядами кукуруза, кланяющаяся легкому, теплому ветру.
Пожалуй, кукуруза нравилась Мэгги больше всего. Каждый вечер, когда с реки начинало тянуть прохладой, Мэгги уходила на переднюю веранду с чашкой травяного чая и долго стояла там, глядя, как под ветром ходят волнами мягкие верхушки кукурузных стеблей. А лунными летними ночами, когда Мэгги долго не могла заснуть или просыпалась, разбуженная Блу, который почуял оленя, она брала одеяло, тихонько прокрадывалась на крыльцо и сидела на ступеньках, глядя, как лунный свет сочится между темными стеблями и освещает песчаную почву под ними.
Наступало утро, и я, выглянув в окно, видел, что Мэгги крепко спит, прислонившись к опорному столбу. Стоило мне чуть приоткрыть сетчатый экран, как Блу поднимал голову, лежащую у нее на коленях, а Мэгги открывала глаза, улыбалась, не произнося ни слова, сбрасывала одеяло – и вдруг стремительно срывалась с крыльца, хихикая на бегу, точно школьница, который вышла из церкви после утомительной и скучной службы. Я пускался следом, и мы вместе неслись вдоль кукурузных рядов к реке. Там Мэгги головой вниз прыгала с обрыва в глубокую, темную, покойную воду, и нам с Блу не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру, словно мы все снимались в рекламном ролике «Горной росы».
Одним из любимейших блюд Мэгги была кукуруза под белым соусом. После купания она срезала десять или пятнадцать початков, несла их на кухню и вылущивала зерна прямо в сливкосбивальную машину. Правда, после еды Мэгги порой выглядела так, словно кто-то швырнул в нее целую кастрюлю кукурузной каши, но по лицу каждый бы понял, насколько она довольна и счастлива.
Когда я заканчивал свою диссертацию, Мэгги поздно вечером часто заходила ко мне в кабинет и без всяких слов ставила на стол рядом со мной блюдечко шоколадного мороженого, чашку кофе или что-то еще, что было мне необходимо, чтобы продолжать писать. Если Мэгги видела, что я уперся в тупик и готов швырнуть чертову диссертацию в огонь, она брала меня за руку, вела на крыльцо, усаживала на качалку и приказывала дышать ровнее и смотреть, как ветер играет рыльцами кукурузных початков. Спустя примерно полчаса Мэгги слегка толкала меня ногой под зад и приказывала возвращаться к столу. Я послушно шел в кабинет и с новыми силами набрасывался на работу.
Всего этого мне очень не хватает!
Увидев, что я поднял голову, Пинки перестала рыть, навострила уши и громко хрюкнула, обдав меня соплями и слизью. Прежде чем я успел отреагировать, свинья, победно задрав хвост, уже бежала обратно к хлеву характерной чарли-чаплинской трусцой. Как она оттуда выбралась, я понятия не имел, но готов поспорить на что угодно: чтобы предотвратить повторные побеги, придется купить пару бревен потолще.
Поднявшись с земли, я отряхнул от песка лицо и одежду. И то и другое показалось мне холодным и сырым, и я поежился.
Когда я вошел в хлев, Пинки уже собрала вокруг себя своих малышей и вообще сделала все, чтобы держать меня на порядочном расстоянии. Набрав в ведро немного свежей кукурузы, я попытался подойти ближе, но Пинки проворно развернулась, заслоняя поросят своей тушей, и в очередной раз обгадила мне ногу. В конце концов я плюнул, высыпав кукурузу на пол, повесил ведро на крюк, как следует запер амбар и пошел к дому.
Свинья и есть свинья! Что с нее возьмешь?!.
Дома я сварил себе кофе и потратил почти тридцать минут, изучая план аудитории, вспоминая, кто где сидит, и пытаясь связать внешность и характер с именем того или иного студента. Я, правда, понимал, что это поможет мне только в том случае, если студенты будут каждый раз садиться на одни и те же места. Гарантировать этого никто не мог, однако мне было хорошо известно, что студенты – такие же рабы привычек, как большинство людей. Взять, для примера, церковь… Вы когда-нибудь пытались сесть на чужую скамью – особенно в незнакомом храме? Как-нибудь попробуйте. Тот, кто сидит на этой скамье постоянно, непременно даст вам понять тем или иным способом, что вы заняли чужое место.
На занятия я пришел довольно рано, но, не успел я провести в аудитории и двух минут, как на пороге появилась Аманда. Она улыбнулась мне, но тут же нахмурилась, когда ее взгляд упал на мое предплечье.
– Что у вас с рукой, профессор?
Я поспешно опустил закатанный рукав рубашки, браня себя за то, что не сделал этого раньше. (Впрочем, кто же знал, что Аманда явится на занятия вскоре после меня?..) На моем левом предплечье зияла довольно обширная рана, покрытая не до конца подсохшей, все еще сочащейся сукровицей коркой.
– Ничего особенного… Небольшое столкновение с одной очень строптивой свиньей, – солгал я. На самом деле я сам нанес себе эту рану, когда пытался землей стереть с руки засохшую кровь Мэгги. Грубая земля пополам с песком расцарапала кожу, в царапины попала грязь, и рука воспалилась, но я не придавал этому значения. Пожалуй, только сейчас до меня дошло, что рана у меня на руке бросается в глаза.
Аманда, похоже, поняла, что я что-то недоговариваю.
– Когда будете в больнице, найдите меня: я промою вам рану и как следует забинтую. Ведь вы же не хотите получить заражение крови, правда? Я хорошо знаю, как это бывает. Даже пустячная царапина может причинить немало неприятностей, если не заняться ею вовремя.
Потом Аманда села на прежнее место – у окна в левом ряду, а я засунул раненую руку поглубже в карман. Лучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь листья магнолий, успели основательно нагреть воздух в комнате. Потолочные вентиляторы были настроены на «легкий бриз», но растущая температура заставила меня переключить их на «сильный ветер». Только после этого начало ощущаться хоть какое-то движение воздуха.
В аудиторию вошел Мервин, и я сказал:
– Доброе утро.
– Угу… – отозвался он. Очевидно, сегодняшнее утро не казалось ему добрым. Я слышал, как Мервин пробормотал себе под нос: – Черт, здесь жарче, чем под хвостом у енота!
Следующим появился Рассел. Кивнув мне на ходу – «Доброе утро, профессор!», – он сел в левом ряду, потер глаза, промокнул лоб полотенцем и уставился в окно.
Кой бесшумно скользнула в дверь и, не сказав ни слова, заняла прежнее место в дальнем углу аудитории. Покамест все мои студенты демонстрировали верность рутине.
Я двинулся вдоль прохода к дальней стене и, остановившись у предпоследней парты, улыбнулся как можно приветливее.
– Доброе утро, Кой. У вас просто замечательные солнечные очки, но, боюсь, из-за них вы не заметили, что в аудитории есть кто-то еще.
Кой робко улыбнулась и, поглядев на меня поверх очков (мне были видны лишь белки́ глаз), чуть слышно прошептала:
– Извините… Доброе утро, профессор.
Отдав, таким образом, дань приличиям, она снова наклонила голову и, прижав ко лбу ладонь, продолжила читать раскрытую перед ней книгу.
Я вернулся к доске, сосчитал сидящих за столами студентов, сверился со своей схемой и, повернувшись к аудитории лицом, уселся на край стола, свесив ноги. Студенты сразу поняли, что я собираюсь что-то сказать, и притихли, устремив на меня подозрительные взгляды.
– Итак, приступим. Достаньте листок бумаги и…
Аудитория разочарованно застонала.
– В чем дело? Разве я не говорил вам на прошлом занятии, что сегодня мы будем писать контрольную работу?
Рассел обернулся к Аманде, которая уже положила перед собой листок бумаги и карандаш.
– Слушай, не одолжишь листочек? Я сегодня забыл…
Листок попросил и Мервин. У Юджина и Алана бумага нашлась.
Все мои контрольные работы состояли из десятка вопросов. За семестр студентам полагалось написать около двадцати контрольных, однако выставленные за них оценки составляли не больше пяти процентов итоговой оценки, так что особенно трястись из-за одного-двух лишних баллов не имело смысла. Правда, тем, кто не пропустил ни одной контрольной, я собирался накинуть к итоговой оценке еще десять процентов, однако никто из студентов об этом не знал. Как бы там ни было, придуманная мною система работала достаточно неплохо. Сознание того, что по пройденному материалу предстоит писать контрольную, вкупе с нежеланием на ней провалиться, заставляли таких, как Мервин, читать или по крайней мере просматривать тексты, которые иначе они не взяли бы в руки.
– Вопрос первый, – сказал я, и мои студенты, склонившись над партами, взяли карандаши на изготовку. – Как вас зовут?
Все рассмеялись, а Мервин сказал:
– Вы с самого начала пришлись мне по душе, профессор!
– Вопрос второй. Откуда вы родом?
Мервин улыбнулся и облизал губы. Аманда быстро написала ответ и снова посмотрела на меня. Кой писала не поднимая головы. Насколько я мог судить, даже выражение ее лица нисколько не изменилось. Рассел забросил ноги на ближайший стол.
– Вопрос номер три. Ваш любимый цвет.
Мервин, поняв, что контрольная не такая уж страшная, и почуяв шанс отличиться, начал воспринимать меня чуть серьезнее.
– Молодцом, проф!
– Вопрос четвертый. Почему?
– Что-что? – Лицо Мервина напряглось, отразив искреннее недоумение. – Что «почему»?.. Я что-то не врубаюсь.
Остальные писали без комментариев. Мервин, однако, ждал объяснений, и я повторил вопрос в более доступной форме:
– Напиши, почему этот цвет – твой любимый.
Мервин покачал головой.
– Но как вы будете оценивать, правильный или неправильный ответ я дам?
Рассел, Юджин, Алан, Би-Би, Эм-Эм и Джимбо ждали, что я скажу. Остальные яростно писали.
Я покачал головой.
– Можете не спешить. Я дам вам столько времени, сколько понадобится.
Мервин опустил голову и пробормотал вполголоса:
– Откуда мне знать, почему мне больше всего нравится тот или иной цвет? Он мне просто нравится, и все!..
– Вопрос номер пять…
Мервин стремительно поднял руку.
– Погодите, я еще не написал!
– Ты сможешь вернуться к этому вопросу в конце занятия. – Я поднял голову и посмотрел на остальных студентов. – Итак, пятый вопрос: какую профилирующую дисциплину вы выбрали в качестве специализации?
Выдержав паузу, я продолжил:
– Почему?
Мервин швырнул карандаш на стол и посмотрел на меня с нескрываемым отвращением.
– Подождите, профессор! Я не успеваю!
– Седьмой вопрос. Сколько у вас братьев или сестер?..
В аудитории становилось все жарче. Солнце поднялось еще выше и шпарило вовсю. Вентиляторы гоняли раскаленный воздух, не приносивший никакого облегчения.
– Вопрос восьмой. Сколько вам лет?
– Кажется, такие вопросы задавать нельзя… – пробормотал Мервин.
Я улыбнулся.
– Ты же не на собеседовании, и я не собираюсь брать тебя на работу. Просто ответь на вопрос. Это нетрудно.
Несколько человек рассмеялись, а Мервин надулся.
– Вопросы девять и десять. Расскажите о вашей жизни. На эти вопросы можете отвечать до конца занятия.
Мервин снова поднял руку.
– Что значит – рассказать о моей жизни? На это может уйти слишком много времени.
– Напиши что успеешь. Или лучше так: расскажи мне о себе то, что кажется тебе самым важным. То, что́, по твоему мнению, я обязательно должен о тебе знать, хорошо?
И снова его рука взлетела вверх.
– Мервин, пиши!..
– Но, профессор!.. – не сдавался он.
Я посмотрел на Мервина. Высокий. Худой. Подтянутый. Похоже, в отличной форме. Наверное, достаточно быстрый. Краем уха я слыхал, что в футбольной команде колледжа он играет корнербеком[23].
– Ты быстро бегаешь, Мервин?
– А при чем тут это?
– Ну скажи, за сколько ты пробегаешь сороковник?[24]
Мервин запрокинул голову и некоторое время задумчиво вращал глазами, словно пытаясь понять, что за подвох может скрываться в моем вопросе. Наконец он сказал:
– За четыре и четыре.
– Отлично, – кивнул я. – А теперь давай посмотрим, умеешь ли ты работать мозгами и пальцами так же быстро, как ногами.
Мервин улыбнулся, расслабился и принялся писать.
Глава 10
Я стоял в ду́ше и вдыхал горячий пар, когда на крыльце раздались тяжелые шаги Эймоса. Незадолго до этого я закончил чистить хлев, и от меня здорово воняло, поэтому выходить из душа я не торопился. Но снаружи донесся скрип пружин, потом – стук захлопнувшейся сетчатой двери, и голос Эймоса спросил:
– Дилан, ты готов?
– Готов? – переспросил я, выглянув из душевой кабинки.
– Слушай, Мело́к, когда ты наконец заклеишь окна тонированной пленкой? – Заметив, как я, обернувшись полотенцем, прошмыгнул из ванной в комнату, Эймос снова надел свои зеркальные очки. – Этот ультрафиолет меня просто убивает. А вот тебе не помешает чаще бывать на солнце, а то ты стал совсем белый. Не бойся, легкий загар тебе не повредит.
Мои дальние предки были шотландцами. В Америку они попали через Южную Каролину, некоторое время жили в Теннеси и наконец осели в Техасе. Казалось бы, жаркое техасское солнце должно было сделать их смуглокожими, но этого не произошло. Должно быть, до того, как отправиться за океан, мои предки слишком долго жили в шотландских горах, и их кожа осталась белой как снег. За всю жизнь я ни разу не загорел, зато обгорал регулярно.
Обезопасив глаза от вредоносного воздействия ультрафиолета, Эймос по-хозяйски полез в холодильник, но тот был пуст.
– Ты что, совсем ничего не жрешь? Этак тебя скоро ветром начнет носить!
– В буфете есть арахисовое масло, джем и банка тунца, – отозвался я из-за двери.
Эймос захлопал дверцами буфета, загремел тарелками и вилками, потом снова заорал во все горло:
– Эй, приятель, скоро ты там? Мне надоело ждать!
Я отозвался, натягивая футболку:
– Не знаю, зачем ты приперся, но что-то мне подсказывает – мне это не понравится. Когда в последний раз у тебя была такая серьезная морда, дело кончилось тем, что я попал в преподаватели колледжа, из которого мне не терпится сбежать. Что ты придумал на этот раз? И кстати, почему ты здесь?.. Разве ты не должен работать – патрулировать дороги, бороться с преступностью и наркотрафиком?
– Ах, Дилан… – Не отрывая взгляда от четырех ломтей хлеба, на которые он аккуратнейшим образом намазал арахисовое масло, Эймос покачал головой. Бутерброды с арахисовым маслом и джемом были для него не закуской, а событием. Нет – Событием! Он не готовил, он священнодействовал. Слишком много масла – и бутерброд будет трудно есть. Слишком много джема – и он выйдет слишком сладким. Слишком много и того и другого – и не будет чувствоваться вкус хлеба. Эймос, кстати, терпеть не мог пшеничный хлеб из цельносмолотого зерна. Он предпочитал белый – тот, который обычно насаживают на рыболовный крючок или кидают уткам.
Судя по тому, как артистично Эймос обращался с ножом, он был в прекрасном расположении духа, но что привело его в столь радужное настроение, я не знал. Когда мы оба были моложе, Эймос слыл настоящим озорником, но после того, как его взяли на работу в офис шерифа, стал куда серьезнее (профессиональное заболевание, как пить дать!). С другой стороны, я понимал: стоит только показать преступникам, что ты – нормальный человек с нормальными человеческими чувствами, и они постараются застать тебя врасплох, чтобы бросить в придорожном кювете с серьезной огнестрельной раной.
Нет, я вовсе не хочу сказать, что Эймос постоянно ходил хмурым и насупленным, сурово сжимая челюсти каждый раз, когда ему рассказывали смешной анекдот. Но именно такого Эймоса – веселого, озорного – я знал с детства. И именно такого Эймоса мне необходимо было видеть сейчас, хотя по прошлому опыту я знал: когда у моего друга в глазах прыгают чертики – жди неприятностей. Впрочем, это было до того, как он получил значок.
– Эймос, – начал я, – скажи, когда в последний раз мы с тобой попадали в беду?
– Сегодня вечером, – беспечно отозвался он, вальсируя по кухне с бутербродом в руке (второй был у него во рту). Только сейчас я обратил внимание, что Эймос одет в обрезанные до колен джинсы с прицепленным к поясу пейджером, выгоревшую и порванную бейсболку с логотипом тракторной фирмы «Джон Дир» и рваную футболку с надписью «Охраняется Кимбером»[25].
Все это могло означать только одно.
Мы поплывем по реке.
Когда Эймосу было двенадцать, а мне – одиннадцать, мы построили плот. Это желание возникло у нас под влиянием прочитанного месяцем раньше «Робинзона Крузо», после которого мы перешли к «Приключениям Гекльберри Финна». На постройку плота у нас ушел почти месяц. Мы, впрочем, поступили умнее, чем Робинзон, выбрав для плота несколько молодых кедров[26], росших непосредственно у берега, так что, когда мы их срубили, они упали прямо в воду. Мы с Эймосом никак не могли взять в толк, почему старина Роб взялся рубить гигантское дерево так далеко от воды, не подумав предварительно о том, как он доставит готовую лодку к океану. Нам эта мысль пришла в голову, когда Робинзон только начал выдалбливать ее из древесного ствола.
– Он же не сможет спустить ее на воду! – сказал я, а Эймос поддакнул:
– Да, как он будет ее тащить? Это ж какая силища нужна!
И мы оказались правы. Каноэ старины Робинзона так и осталось в лесу, где он его построил.
Отрубив у наших кедров верхушки, мы связали в плот стволы, каждый из которых был около фута в диаметре, и сплавили вниз по ручью. Добравшись до реки, мы загнали наш плот на мелководье и закрепили, чтобы его не унесло течением. Бо́льшую часть работы мы проделали, не вытаскивая плот на берег. Кедровые стволы мы покрыли настилом из трех десятков более тонких деревьев. Их мы раскалывали вдоль, а плоскую сторону строгали и шкурили, благодаря чему у нас получилась настоящая, ровная палуба, да и кругляши испода плотнее прилегали к кедровой основе. В общем, у нас получился очень неплохой плот – даже Папа так сказал.
На настиле, имевшем размер двенадцать на двенадцать футов, мы построили шалаш, в котором можно было спать, и даже поставили в нем небольшую дровяную печку. Мы мечтали доплыть на нашем плоту до Мексиканского залива, но осуществлению этих грандиозных планов помешало то обстоятельство, что наша река в залив не впадала.
Весила наша конструкция, наверное, около тонны, а когда нижние бревна намокли и напитались водой – даже больше. Кедровая древесина и сама по себе очень тяжелая, поэтому наш плот имел осадку не менее восьми дюймов. Обычно мы спускались на нем вниз по реке – так далеко, как только могли уплыть за ночь, а на обратном пути цепляли плот к какой-нибудь самоходной барже, которая шла на север за грузом сои, кукурузы или какой-нибудь другой сельскохозяйственной продукции, которую местные фермеры хотели переправить на железнодорожный терминал в Брансуике. За лето мы перезнакомились почти со всеми капитанами барж, так что никаких проблем с возвращением у нас не возникало. Частенько мы плыли по реке день или два, купались, ловили рыбу, ели то, что попадалось на наши удочки, курили маисовые трубки, как Робинзон и Гек, блевали после курения, спали вволю, а вечером воскресенья забрасывали конец на проходящую баржу, и она доставляла нас обратно домой. Двигаясь на буксире, мы за каких-нибудь пять-шесть часов покрывали расстояние, на которые у нас уходило два или три дня самостоятельного плавания.
Впрочем, так бывало не всегда. Иногда во время наших путешествий мы причаливали к берегу и рыбачили несколько часов подряд, а порой и весь день. Все зависело от того, насколько хорошо клевала рыба. Потом мы снова отправлялись в путь и останавливались, только когда нам снова приходила охота порыбачить. Порой мы заплывали настолько далеко, что нас посещало смутное желание бросить плот, однако, жалея свой труд, мы так и не решились на столь радикальный шаг. Слишком много сил и сэкономленных денег было вложено нами в эту груду бревен. Кроме того, за отсутствием на баржах команды их капитаны были не прочь с кем-нибудь поболтать, что в подавляющем большинстве случаев избавляло нас от необходимости подниматься вверх по течению на веслах.
Только раз – исключительно ради спортивного интереса – мы попробовали это проделать. Спустившись по реке миль на двенадцать, мы переночевали на берегу, а потом, вооружившись тяжелыми, длинными веслами, попытались подняться по течению вверх. Не тут-то было!.. Мы были весьма прозорливы относительно несбыточных планов Робинзона, но не сумели предвидеть всех трудностей своего обратного путешествия. Впрочем, так часто бывает: об одних вещах думаешь, а другие упускаешь из вида.
А потом, лет пятнадцать тому назад, я неожиданно нашел в амбаре старый сорокасильный подвесной мотор «Энвируд», принадлежавший еще Папе. Это было даже странно – столько раз я играл или работал в амбаре, но заметил его только сейчас. Мы с Эймосом достали мотор и отвезли в город, в мастерскую Бобби, который ремонтировал всякую мелкую садовую технику. Бобби провозился с двигателем неделю, меняя шланги и сальники, но в конце концов его усилия увенчались успехом. Двигатель заработал и тарахтел довольно бодро.
Бобби также помог нам сделать из металла специальную стойку для двигателя. Просверлив бревна плота насквозь, мы закрепили ее на корме длинными болтами и подвесили мотор. В тот день нам с Эймосом казалось, будто на землю переместился рай! Двух пятигаллоновых канистр с бензином с избытком хватало, чтобы вернуться домой даже после трехдневного плавания. Больше того, иногда мы начинали наше путешествие с того, что поднимались по реке миль на десять-пятнадцать на моторе, а потом сплавлялись обратно. Старенький «Энвируд» стал, таким образом, существенным подспорьем, значительно расширив географию наших поездок, и все-таки он не был для нас главным. Ведь мы строили плот вовсе не для того, чтобы ходить на моторе. Мы мечтали сплавляться по реке вместе с течением.
Сплав по реке – это нечто совершенно особенное, ни на что не похожее, почти волшебное. Это как танец со своим внутренним ритмом, который то ускоряется, то замедляется, и, чтобы не оступиться, нужно обладать достаточно тонким слухом. Каждый, кто когда-нибудь путешествовал по реке на плоту, поймет, что́ я имею в виду. Да, вы движетесь медленно, бесшумно и плавно, но скорость и направление выбираете не вы. Никто не может управлять рекой. Человек, который отправляется на плоту вниз по течению, должен полностью довериться чему-то куда более могучему, чем он сам, и при этом не бояться оказаться между Где-то и Нигде, потому что реке безразличен пункт вашего назначения. Главное для нее – сам процесс. В противном случае все реки были бы абсолютно прямыми, как линии, соединяющие две точки в пространстве.
Я уже говорил, что у каждой реки есть свой ритм, своя музыка, и вы либо танцуете под нее, либо нет. Не имеет никакого значения, мужчина вы или женщина: в этом танце ведет всегда река, и если вы сбиваетесь с ритма, то в этом только ваша вина, потому что река ни для кого не меняет свою музыку. Хотите искупаться? Купайтесь! Хотите посидеть с удочкой? Пожалуйста! Хотите спать? Спите на здоровье. Хотите двигаться быстрее или замедлить ход? А вот это – извините… У реки только одна скорость, и она не будет мешкать, дожидаясь вас. И точно так же она не потечет быстрее ради вашей прихоти, разве только пройдут обильные дожди и вода поднимется.
Мы с Эймосом заключили договор с рекой много лет назад. Мы построили плот, оттолкнулись от берега – и ни разу об этом не пожалели. Дождь или вёдро, солнце или облака, ветер или безветрие, тепло или прохлада, полуденный зной или сырой туман по ночам – все это не имело для нас никакого значения. Мы были мальчишками, и нам очень нравилось плыть туда, куда несет река. А реку заботило только, чтобы мы двигались в ту же сторону, что и она, да еще, пожалуй, наше умение плавать, потому что ей не хотелось, чтобы мы погибли.
Реки противоположны смерти, несовместимы с нею – именно поэтому они всегда текут. Вы можете утонуть, погрузиться на дно и пролежать там несколько дней, все больше разбухая и надуваясь. Вы можете зацепиться за корягу, и тогда окуни и густера́ обглодают ваши нос и губы, но рано или поздно река все равно выбросит вас на берег. Вода вытолкнет вас, выплюнет, как кит – Иону. Утонув, вы никогда не попадете туда, куда течет река, и это только справедливо, потому что ее танец – сама жизнь, а мертвые не танцуют.
В наше самое первое, трехдневное путешествие на плоту, мы по очереди читали друг другу вслух «Приключения Гекльберри Финна». Нашим любимым местом была глава, в которой Гек, сидя на плоту, размышляет, выдать негра Джима бывшей хозяйке или нет. Его слова: «Ну, что ж делать, придется гореть в аду!» – стали нашим девизом.
Как и для Гека, для нас плот стал своего рода территорией свободы. Пока я читал, Эймос валялся на настиле и слушал или пытался курить трубку. Поначалу он кашлял и плевался не хуже «Энвируда», но потом освоился и, кажется, даже начал получать от курения удовольствие. Я почти не курил, но пробовал жевать табак. Увы, привыкнуть к этой дряни я так и не сумел. Стоило мне отправить жвачку в рот, как меня тут же выворачивало наизнанку. Почему, несмотря на это, я продолжал свои попытки, до сих пор остается для меня загадкой. Возможно, в глубине души я был мазохистом. Кроме того, мне казалось, что раз Джоси Уэлс и Джон Уэйн могут жевать табак, значит, и я смогу. Не сразу до меня дошло, что моя жизнь – не кино. Моя жизнь была реальной, и в ней хватало невырезанных эпизодов вроде тех, когда я вынужден был свешиваться с края плота, чтобы не заблевать настил.
Вкратце говоря, мой танец с рекой был далеко не романтичным, чего не скажешь об Эймосе. С моей точки зрения, он сумел подойти к идеалу так близко, как только возможно.
Я проворно натянул первые попавшиеся под руку шорты и схватил свой любимый складной нож, доставшийся мне от Папы, – настоящий «Кейс траппер» с двумя лезвиями и желтой ручкой.
– Давай пошевеливайся, – снова завел свое Эймос. – Вечно мне приходится тебя ждать!
Вскоре мы уже выскочили из парадной двери и направились к амбару. Пинки подстерегала нас у дверей и сразу же попыталась сбить меня с ног, толкнув мощным боком. Она была фунтов на сто тридцать тяжелее меня, и, если бы я не был готов к нападению, мне, пожалуй, не удалось бы устоять на ногах.
Эймос рассмеялся, а я отогнал Пинки.
– Кыш! Пошла прочь отсюда!
– Никогда не видел таких злобных свиней, – заметил Эймос, глядя, как Пинки с хрюканьем бегает вокруг своих отпрысков.
– Сегодня она еще мирно настроена, – отозвался я. – А вообще-то это не свинья, а сам сатана.
«Энвируд» висел на небольшой подставке, которую я сделал для него много лет назад. Честно говоря, мы давно им не пользовались, но время от времени я все же заводил его просто для того, чтобы послушать звук. Сейчас мы погрузили его в тачку – на самом деле это была скорее двухколесная тележка для навоза, но мы предпочитали называть ее тачкой, – и захватили пару жестянок с бензином. Этого количества должно было хватить, чтобы вернуться домой после однодневного путешествия.
Вокруг давно стемнело, но тропинка вдоль кукурузного поля была видна достаточно хорошо. Лунный свет блестел, отражаясь от песка, в высокой траве и еще более высокой кукурузе бесшумно скользили тени, и Блу вприпрыжку бежал рядом с нами.
– Что у тебя с рукой? – спросил Эймос, когда настал его черед катить тачку, и кивком показал на мое предплечье. – Не хочешь показаться врачу?
– А-а, это ерунда, просто… Я перекладывал в амбаре кое-какие вещи, а тут Пи́нки снова выбралась из хлева и как даст мне сзади под коленки!.. В общем, я не слишком удачно упал…
– На твоем месте я бы давно отправил эту тварь в Смитфилд, чтобы из нее там наделали сосисок, только боюсь, она слишком жесткая.
– Вот тут ты прав на все сто, – согласился я.
Примерно через полмили мы вышли к берегу реки – к небольшой укромной бухточке, где мы держали плот. В полнолуние вода всегда поднималась, поэтому вывести его на середину реки можно было без особого труда. Но когда мы стали разбирать ветки – и те, которые сами упали на плот, и те, которые мы на него уложили, чтобы скрыть от посторонних взглядов, – нам показалось, что их было гораздо меньше, чем в прошлый раз.
– Сдается мне, кто-то побывал на борту, – сказал я. – Смотри, веток совсем мало.
Эймос кивнул, задумчиво глядя на плот.
– Иногда человеку хочется побыть одному, – ответил он.
– Так это был ты? И когда ты на нем плавал?
– Примерно месяц назад. Мне надоело сидеть, смотреть, как ты держишь Мэгги за руку, и чувствовать себя бесполезным и никчемным, вот я и решил немного проветриться.
– Понимаю. Я и сам порой чувствую себя абсолютно бесполезным.
Потом Эймос установил мотор и спрятал жестянки с бензином в шалаш. Мы построили его очень хорошо, поэтому внутри было сухо – даже спички не отсырели и прекрасно зажигались. Что ж, когда мы тронемся в путь, это будет очень кстати. Огонь и дым позволяли отгонять комаров и москитов, а в наших местах, откуда было рукой подать до болот Сокхатчи, москиты вырастали до размеров небольшого слона.
Схватив шест, я прыгнул на плот и оттолкнулся от берега. Почти сразу плот налетел на полузатонувшие стволы старых кедров, и Эймос покачал головой.
– Стареешь, Дилан…
Не отвечая, я сильнее налег на шест, и Эймос, стоявший посреди плота, потерял равновесие и едва не полетел в воду.
– Эй, полегче! Если бы я утопил свой пистолет, я бы выколотил из тебя пыль прямо здесь, посреди реки. Для этого мне даже не пришлось бы приставать к берегу.
Я рассмеялся.
– Не такой уж я и старый. Ты, конечно, можешь надрать мне задницу даже сейчас, но сперва тебе придется меня догнать, Мистер-Пончик-С – Сахарной-Пудрой!
Я, впрочем, немного преувеличивал. На самом деле Эймос был в неплохой спортивной форме. Правда, после окончания университета он набрал несколько фунтов – десять или двенадцать, насколько я мог судить, – но это был не жир, а главным образом мускулы. Кроме того, у него начали редеть волосы на макушке, поэтому теперь Эймос брился наголо. Он утверждал, что так ему прохладнее и вообще удобнее – меньше мороки. На самом деле Эймос – очень красивый мужчина (я, правда, никогда ему об этом не говорил), к тому же он следит за собой и проводит в тренажерном зале не меньше четырех часов в неделю. Сейчас, при свете луны, отражавшемся от его выбритой макушки, Эймос напоминал мне чернокожего Мистера Пропера с рекламной картинки, только пониже и пошире в плечах, и я порадовался тому, что мы с ним – на одной стороне.
– Слушай меня, недомерок, я всего-то на десять фунтов тяжелее своего игрового веса, а вот ты… Сколько ты весишь? Фунтов сто семьдесят? – Он окинул меня взглядом прищуренных глаз.
– Сто шестьдесят восемь, – сказал я.
– Я так и думал. Это значит, что ты на тридцать фунтов легче своего игрового веса!
– Возможно, но я все равно могу обогнать тебя на любой дистанции, хочешь – на короткой, хочешь – на длинной, – рассмеялся я.
– Рано или поздно ты мне все равно попадешься, и тогда берегись! – сказал Эймос, поигрывая бицепсами. – Я сделаю из тебя рулет по-каролински.
– По-моему, ты зарываешься, Гуталин!.. – заявил я. – Да и руки у тебя наверняка уже не такие сильные, как когда-то.
Вместо ответа Эймос сделал два быстрых шага, наклонился, схватил меня под коленки и с силой толкнул. Все это заняло у него не больше секунды или полутора, но я все равно пролетел по воздуху футов пятнадцать и плюхнулся в воду. Вынырнув, я сразу поплыл обратно к плоту и вскарабкался на него. Нечто подобное я проделывал уже сотни раз, так что мне было не впервой. Усевшись на настил перед шалашом, я выжимал рубашку и смотрел, как Эймос орудует шестом.
Как же это было здорово – вновь оказаться на плоту!
На протяжении нескольких часов мы почти не разговаривали – просто плыли по течению, глядя на звезды, на луну, на темнеющие берега с редкими огнями. Примерно в три пополуночи Эймос первым нарушил молчание. Вынув трубку изо рта, он спросил:
– Ты думаешь о том, о чем я подумал?
Я знал, что имеется в виду. Ведь что бы он ни говорил, именно ради этого Эймос предложил мне прокатиться на плоту. Как и всякому настоящему другу, ему хотелось знать, что у меня на душе, но он не мог просто прийти и начать задавать вопросы, боясь причинить мне боль. Да и мне было бы слишком больно отвечать. Таким образом, для откровенного разговора нам нужны были река, луна и несколько проведенных в молчании часов, за которые Эймос созрел для своих вопросов, а я – для ответов.
Подняв взгляд, я сказал:
– Если Мэгги сейчас в раю, если она качает нашего сына, болтает с Папой, с бабушкой и другими нашими родственниками и поглядывает на меня с небес, значит… значит, она уже не вернется. А ведь я могу прожить еще лет пятьдесят!.. – Я покачал головой. – Даже не знаю, как это у меня получится без нее.
После этого мы еще некоторое время плыли молча, прислушиваясь к тому, как плещет вода о старые кедровые бревна. Где-то на берегу заухала сова, а в воздухе еле уловимо запахло горящими углями и жидкостью для розжига. Эймос продолжал стоять на корме с шестом в руках, но он не греб и вообще не шевелился – только мокрые от пота плечи поблескивали в свете луны. Текла река, текли минуты, но мы по-прежнему молчали.
Должно быть, мой ответ показался Эймосу недостаточно внятным, поскольку он решился задать еще один вопрос:
– Я вижу, что ты держишься… пока держишься. Я только не пойму, что дает тебе силы…
Я плеснул на лицо немного воды и потер глаза.
– Силы мне дает только одна вещь – мысль о том, что Мэгги рано или поздно очнется. И если она очнется, а меня не будет рядом… то есть не будет вообще, а не в тот конкретный момент, когда она придет в себя… Нет, я не хочу, чтобы ее ждало такое же будущее, какое сейчас светит мне. Ни в коем случае!
Блу спал на настиле рядом со мной. Время от времени его уши настороженно приподнимались, но он не открывал глаз. Еще миль пять мы проплыли в полном молчании – только слегка плескала вода за кормой, когда Эймос погружал в нее шест. Ночь была очень теплой и душной, поэтому я время от времени окунал голову в воду, а потом наслаждался прохладными струйками, стекавшими по шее и по груди. Эймос снова раскурил трубку, и в свете вспыхнувшей спички я увидел на его щеках блестящие мокрые дорожки.
Перед рассветом мы немного подремали, а потом забросили удочки. Довольно скоро нам попалось несколько лещей и пара-тройка окуней. Около полудня мы зажарили часть рыбы и с аппетитом пообедали. Когда же над рекой снова начали сгущаться сумерки, мы раскочегарили «Энвируд» и двинулись в обратный путь. Было уже около полуночи, когда мы пристали к берегу в нашей бухточке.
– Возьми рыбу себе, – сказал я, когда мы добрались до моего крыльца, и протянул Эймосу кукан с добычей. – Я не голоден.
Эймос кивнул и посмотрел на меня так, словно хотел что-то сказать, а потом вдруг воздел верх указательный палец, как человек, который вспомнил о каком-то важном деле. Открыв багажник своей патрульной машины, Эймос достал довольно большую картонную коробку и поставил ее на ступеньку.
– Вот… Мэгги купила эту штуку в антикварном магазине в Уолтерборо и оставила у меня, чтобы ты ее не нашел. Думаю, она хотела подарить ее тебе, когда ты начнешь преподавать, но… В общем, я не знаю, что теперь с ней делать, вот я и привез ее тебе. – Эймос поглядел куда-то в сторону – туда, где за кукурузным полем текла невидимая река. – По-моему, Мэгги даже открытку написать не успела.
И он отвернулся, но я успел заметить крупные слезы, закапавшие с его квадратного подбородка. Кивнув в такт каким-то своим мыслям, Эймос добавил совсем тихо, словно боялся, что его голос пронесется над кукурузой и достигнет Диггера:
– Если разобраться как следует, если отбросить все постороннее, то… – Опустив голову, он начал загибать пальцы: – Все, что остается и нам, и любому другому человеку, это вера… надежда… и любовь. – Эймос уставился на три загнутых пальца. – Вроде бы немного, но… Почему-то мне кажется, что мы справимся. Все втроем.
Я посмотрел, как Эймосова «Краун Виктори» перевалила через дорогу и свернула на подъездную дорожку перед его домом. Потом я погасил свет, принял душ и, завернувшись в полотенце, долго стоял в гостиной, глядя на картонную коробку, которую он мне отдал. Прошел почти час, прежде чем я сел на пол и разрезал коричневый упаковочный скотч. Внутри, завернутый в грубую мешковину, лежал барабан с туго натянутыми кожаными мембранами и две выструганные вручную барабанные палочки.
Всю дорогу до больницы я рыдал как ребенок.
Глава 11
Я считаю себя хорошим преподавателем. В частности, это означает, что я не требую от студентов ничего такого, что я не стал бы делать сам. Например, я не стал бы прыгать в холодный бассейн, не попробовав предварительно воду. Эймос слеплен из другого теста. На улице может быть тридцать градусов[27], и вода в бассейне может быть затянута льдом, но Эймос все равно скажет: «Главное – прыгнуть и покончить с этим. А согреться можно потом». Мне это не подходит. Особенно, если впереди маячит перспектива замерзнуть или простудиться.
Нет, прежде чем начать действовать, я люблю как следует обдумать, что́ я собираюсь предпринять. Так сказать, сродниться с идеей… Если дать мне время подумать, я способен примириться практически с чем угодно, но я терпеть не могу, когда меня сначала толкают в прорубь, а потом, пока я еще стучу зубами, спрашивают: «Ну, как оно тебе?» Я просто не знаю, «как оно», пока не пройдет какое-то время. Вразумительный ответ я могу дать только после того, как взгляну на пережитый опыт в зеркало заднего вида.
Формально мой курс включал три основных тестовых задания. На деле же кафедру английского языка интересовало только одно из них – аналитическое исследование. Каждый, кто написал эту работу успешно, переходил на следующий курс. Соответственно, эта работа должна была иметь заданный объем и отвечать вполне определенным критериям. Что же касалось первых двух тестов, то они были оставлены на откуп преподавателю, то есть я совершенно официально мог давать своим студентам задания, которые наилучшим образом отвечали бы их (и моим) нуждам.
Я хорошо понимал, что, прежде чем пускаться вплавь, им нужно «попробовать воду». Иными словами, им нужно освоиться с материалом, чтобы, столкнувшись с проблемой, не впадать в ступор, а наоборот – использовать свои способности, сообразительность и знания, чтобы преодолеть трудности. Мне же нужно было как можно лучше узнать каждого, понять, кто на что способен, соотнести личность с особенностями индивидуального стиля и получить своего рода образец, с которым я мог бы сравнивать их последующие работы. Мне нужно было знать, кто готов работать, а кто – нет. Кому мой курс по плечу, а кто не потянет. Первое тестовое задание и было тем самым пробным камнем, благодаря которому я надеялся получить ответы если не на все, то по крайней мере на большинство своих вопросов. Кроме того, первая работа должна была стать своеобразной проверкой «на вшивость». Мне нужны были самостоятельные, а не списанные из Интернета работы.
И я задал своим студентам автобиографическое эссе. На самом деле это довольно простая работа, она по силам каждому. Кроме того, она не требовала никаких глубоких исследований: каждый из моих студентов по определению прекрасно разбирался в любых вопросах, касавшихся собственной биографии. Единственными моими пожеланиями были максимальная честность и хорошее чувство юмора.
Бо́льшую часть субботы я провел в больнице, читая Мэгги вслух работы моих студентов. В своих эссе они описывали самые разные вещи – школьные выпускные балы, автомобильные аварии, жаркие летние ночи, проведенные с загорелыми, грудастыми женщинами, и многое другое. При этом никто из них не проявил задатков писателя-фантаста – все события выглядели реальными и были описаны достаточно честно.
Мервин написал о том, как он в последний раз играл в футбол в старшей школе. Его команда стала чемпионом страны, а сам Мервин – лучшим игроком года (в своей возрастной категории, естественно). Как я и ожидал, письменным английским он владел далеко не в совершенстве, но свойственные ему остроумие и легкость нрава, которыми Мервин отличался на занятиях в аудитории, отразились в работе почти без потерь. Он писал так, как говорил, и я счел это неплохим началом. Хорошее начало рождает надежду, а мне хотелось надеяться, что Мервин меня не разочарует.
Аманда писала о своем детстве, которое она провела в Диггере, писала о своем отце и о его прошлом, о своем желании стать сиделкой и ухаживать за тяжелобольными людьми. Упоминала она и о своей беременности. Стиль был сжатым, но предельно информативным – таким же, как и ее устная речь. Каждый, кто прочел бы ее трехстраничное эссе, мог узнать об Аманде буквально все. Впрочем, нет, не все. К своему удивлению, я не нашел в эссе никаких, даже косвенных упоминаний об отце ее будущего ребенка, и это заставило меня задуматься о причинах подобной скрытности.
Алан очень живо описал свою машину – «Шеви Камаро» 1969 года выпуска. Он нашел ее на свалке и перевез к себе в гараж, где она два года простояла на чурбаках. Алан разобрал машину буквально по винтику, а потом собрал снова. Салон, покраска, кузовные работы, двигатель, трансмиссия… Многие детали и узлы ему приходилось ремонтировать, восстанавливать или заказывать новые взамен полностью негодных. Алан потратил на свою машину немало денег и еще больше труда и в конце концов получил настоящий выставочный экземпляр. Это, кстати, была вовсе не фигура речи – к своему эссе он прикрепил копию сертификата победителя ежегодного смотра классических ретромобилей в Уолтерборо. К сожалению, стиль Алана был беден и довольно коряв, но, даже несмотря на это, ему удалось донести свою идею до потенциальных читателей. Кроме того, многочисленные следы резинки, которой Алан пользовался, чтобы стереть не устраивавший его вариант, свидетельствовали, что и на свое эссе парень потратил немало времени и труда. Похоже, он прекрасно понимал, что его авторский стиль хромает и что работать над ним придется не меньше, чем над древним «Камаро» – и это тоже внушало мне определенные надежды.
Юджин посвятил эссе своему прошлогоднему «Весеннему пикнику» в Атланте[28]. Живописуя походы по барам, ночевки в грязных отелях, перепихоны на заднем сиденье «Олдсмобиля» и мучительное расстройство желудка, он не упустил – и не опустил – ни одной детали, упомянув даже «Волшебные пальцы» – прибор, который за четыре четвертака обеспечивал постояльцу пять минут неверных решений[29]. Работа Юджина только подтвердила то, что я подозревал: передо мной был достаточно интеллигентный парень, которому, однако, еще только предстояло найти для своего ума иную точку приложения, нежели очередная девушка или очередная вечеринка. Помимо всего прочего, эссе обнаруживало одно интересное свойство характера Юджина, о котором он сам, похоже, пока не подозревал. С моей точки зрения, у парня был настоящий предпринимательский дар. Он обладал уникальной способностью подмечать и учитывать малейшие детали, обращать к своей пользе любую, даже заведомо проигрышную ситуацию и произносить нужные слова в нужное время. Похоже, за Юджина мне даже переживать не стоило. Я был уверен, что он успешно закончит курс, а потом и колледж. Такова была его цель, и можно было не сомневаться, что своего этот парень добьется.
Тихоня Кой, скрывавшаяся в дальнем углу аудитории за длинными волосами и темными очками, сдала мне эссе размером всего в полстранички, хотя я специально оговорил объем: не меньше трех страниц. Наверное, мне никогда не понять, почему некоторые студенты поступают подобным образом. Им велят написать эссе размером не меньше трех страниц, а они приносят несколько предложений и при этом вполне убеждены, что этого вполне достаточно. Ну ладно, допустим, они считают, что три страницы – это прихоть преподавателя, но почему они не могут хотя бы попытаться выполнить задание, пусть даже исключительно ради того, чтобы облегчить себе жизнь? Кроме того, я всегда считал: раз ты согласился участвовать в игре, то по крайней мере соблюдай правила, но многим почему-то кажется, что для них закон не писан.
В своем ультракоротком эссе Кой попыталась спрятаться за размытыми формулировками точно так же, как она прятала глаза за стеклами больших темных очков, однако ее несомненные писательские способности сыграли с ней злую шутку. Удерживая читателя на расстоянии с помощью тщательного подбора слов и игры со структурой предложений, Кой невольно демаскировала свой талант. Ее стиль меня просто поразил – передо мной был почти готовый писатель. Увы, мне пока оставалось неясным, что́ она скрывает и почему, поэтому мои надежды относительно ее будущего были достаточно туманными.
Все остальные работы были более или менее одинаковыми: они содержали достаточно много сведений, но казались суховатыми, как официальные информационные бюллетени. Было совершенно ясно: студенты пытались дать мне то, что́, как им казалось, я от них хочу, в несомненной надежде, что я отвечу любезностью на любезность и выставлю им хорошие оценки.
Последним в стопке оказалось эссе Рассела. Откровенно говоря, беря его в руки, я ни на что особенное не рассчитывал. В свое время я встречал немало таких расселов, а с несколькими даже играл в одной команде. Одаренный спортсмен, красавчик, он не особенно нуждался в высшем образовании хотя бы потому, что выйти в люди Рассел мог и без него. Его билетом в лучшую жизнь была Национальная футбольная лига[30]. Несмотря на то, что он был всего лишь второкурсником, к нему, как мне сказали, уже присматривались скауты[31] нескольких профессиональных клубов. Все это означало только одно: рано или поздно Рассел переведется из Диггера в другое, более престижное учебное заведение. Правда, бакалавриатом парень ограничиваться не собирался, однако, с его точки зрения, мой курс был ему абсолютно не нужен, во всяком случае – на текущий момент. Вот если он порвет коленные связки или травмирует мениск, тогда да, тогда литературный английский ему понадобится. Но не сейчас.
Я налил себе еще кофе и, положив ноги на край кровати Мэгги, стал тихонечко раскачиваться в такт гудению кардиомонитора. Прохладный ветер с шуршанием нес по пустой парковке обрывки целлофана и газет и врывался в распахнутое окно. «Фермерский альманах», номер которого я получил буквально на днях, предсказывал самую холодную за последние двадцать лет зиму. Что ж, подумал я, для разнообразия и это неплохо, к тому же Мэгги нравились холодные зимы. Одной из тех вещей, которые мы оставили в Виргинии и по которым она до сих пор скучала, был снег. Мне, правда, тоже нравилось смотреть, как с небес падают крупные, мохнатые снежинки, но я терпеть не мог, когда снег превращался в гололед и сугробы или начинал таять. Другое дело – Мэгги. Она обожала снег и готова была валяться на нем до одурения или зарываться в него с головой.
Наконец я открыл эссе Рассела и начал читать. К моему несказанному удивлению, его работа оказалась на редкость искренней. Искренностью была напоена каждая строка, каждое слово, и я невольно спросил себя, с чего бы ему быть настолько откровенным? Откровенность означала, что Рассел вовсе не был неуязвим, а каждый, кто демонстрировал свою уязвимость, мог быть ранен, мог быть побежден. Молодые, честолюбивые футболисты, находящиеся в самом начале перспективной карьеры, ни в коем случае не должны были проявлять то, что бросилось мне в глаза, как только я прочел первые несколько строк эссе Рассела. К концу второй страницы я уже готов был публично извиниться перед парнем – похоже, я его недооценил.
Рассел ничего не скрывал.
В своей работе он писал о своих родителях и о прошлогодней решающей игре, которую его команда проводила на своем поле. Отец и мать Рассела специально приехали на матч из Роанука, сняли номер в гостинице, пошли на матч и простояли полтора часа под проливным дождем, глядя, как играет в футбол их сын. В тот вечер отец Рассела серьезно простудился. На следующий день они всей семьей отправились домой, чтобы вместе отпраздновать День благодарения.
Еще Рассел писал, что его отец всю жизнь проработал на железной дороге. Отвлекаясь от футбольной темы, он несколько раз возвращался в собственное детство, вспоминая, как по выходным они с отцом играли в мяч, как ходили на рыбалку, как разговаривали обо всем на свете или просто проводили время вместе.
Не знаю, сознавал ли это сам Рассел, но из его эссе следовало, что у них с отцом было нечто такое, о чем большинство отцов и сыновей могут только мечтать – дружба. Не хотелось бы прибегать к избитым клише, но эти двое любили друг друга по-настоящему.
Увы, простуда, подхваченная отцом Рассела во время футбольного матча, превратилась в тяжелое воспаление легких. Вскоре после праздников он скончался.
Две вещи меня буквально потрясли. Во-первых, я понял, что мне будет трудно, почти невозможно оценить эссе Рассела по принятой в колледжах системе. Его работа оказалась одной из тех редчайших вещей, которые оценке просто не поддаются. Во-вторых, мне было совершенно очевидно, что отношения между Расселом и его отцом основывались на глубокой искренности, доверии и… нежности. Возможно, они даже обнимали друг друга на сон грядущий.
Описание смерти отца тоже вышло у Рассела и подробным, и убедительным. Хриплый кашель, мокро́та с кровью, морщины на отцовском лице, страх в глазах матери и последний поцелуй перед смертью… Такие вещи нельзя просто перечислить – их нужно выстрадать, пропустить через себя и только потом выплеснуть на бумагу.
Отложив эссе, я снова взял в руки чашку с остывшим кофе и стал смотреть, как за окном несутся по небу облака. Рассел… Он вложил в эту работу всего себя – все свои двести восемьдесят с лишним фунтов. Его могучие плечи, густой бас и привычка безучастно смотреть в окно ввели меня в заблуждение, и я скоропалительно отнес парня к категории тупых спортсменов, однако именно Рассел сумел сделать то, чего не удалось больше никому из студентов.
Его простая и непритязательная на первый взгляд повесть тронула меня до глубины души.
Глава 12
Я проснулся на стуле в палате Мэгги и почувствовал разлитый в воздухе аромат магнолий. Настало воскресенье, и яркое утреннее солнце играло на ее лице, которое почти обрело свой естественный цвет.
В палату заглянула Аманда.
– Доброе утро, профессор, – приветливо поздоровалась она. – Не хотите глоточек апельсинового сока?
Я кивнул и потер глаза, прогоняя остатки сна.
– Спасибо, с удовольствием.
Аманда исчезла, но сразу вернулась. Поставив на столик стакан с соком, она проверила капельницу и датчик давления на руке Мэгги и снова вышла, не забыв почесать Блу за ушами.
Было около десяти часов, когда Аманда вернулась, неся в руках пачку марлевых салфеток и флакончик антисептика. Показав на мою руку, она сказала:
– Давайте я почищу и забинтую вашу рану, пока она не воспалилась.
Я посмотрел на свое предплечье и поспешно опустил закатанный рукав.
– Нет, не сто́ит. Это ерунда.
– Послушайте, профессор… Если бы у меня возникли какие-то сложности с эссе, я бы обратилась к вам за помощью, так?.. Это то же самое, только наоборот. – Она показала на мою руку. – Что было, то давно прошло… Пора бы вам перестать переживать.
Она придвинула второй стул, села и закатала рукав моей рубашки. Работала она молча и быстро. Залив рану перекисью водорода, Аманда осторожно удалила всю грязь, а потом смазала больное место какой-то коричневой жидкостью, которая щипала так, что я едва не выругался вслух.
– Знаете, профессор… – сказала Аманда, внимательно рассматривая мою руку, которую она время от времени протирала вымоченным в бетадине ватным тампоном, – сегодня во второй половине дня папа будет крестить в реке нескольких наших братьев и сестер. Он приглашает и вас… Ваш друг шериф тоже приедет – папа просил его помочь нашим пожилым прихожанам.
– Вы считаете, что без помощи Эймоса я не в состоянии даже окунуться в воду?
– Нет, сэр, что вы! Я просто подумала, что вы захотите прийти. Крещение – это всегда праздник. Потом будет пикник, на который наши прихожане всегда приносят целые горы вкусной еды. – Аманда улыбнулась.
– Как ваш малыш? – спросил я, кивком головы показывая на ее живот. – Джошуа Дэвид, кажется?..
– Он растет, – ответила Аманда и снова улыбнулась. – Я думаю, ему нужен строительный материал для косточек и всего остального, поэтому в последнее время у меня просто волчий аппетит. Я ем буквально все, что под руки попадется, – добавила она, продолжая обрабатывать мою руку.
– Скажите, вы разговариваете с Богом, когда бываете в отцовской церкви? – спросил я напрямик.
– Я разговариваю с Богом везде, – серьезно ответила Аманда. – И делаю это почти постоянно… – Она немного подумала. – Да, и в папиной церкви тоже. – Аманда задумчиво поиграла локоном. – А вы, профессор? Вы часто беседуете с Богом?
– Нет. Я перестал обращаться к Нему с тех пор, как Он перестал меня слушать.
Собрав использованные салфетки, тампоны и флаконы с лекарствами, Аманда встала и направилась к двери. На пороге она остановилась.
– Крещение начнется в два – на берегу чуть ниже папиной церкви, – сказала Аманда. – Вы увидите автомобили.
– Вы действительно думаете, что мне нужно, э-э… погрузиться или как там это называется?
– Нет, сэр, просто мне показалось, что вам будет приятно побывать на празднике. На крещение всегда собирается довольно много людей, и все поют и радуются… А как миссис Бакстер готовит жареных цыплят! Просто пальчики оближешь!
– Нет, все-таки скажите, вы серьезно думаете, что мне нужно омыться от грехов? – не отступал я.
Аманда вернулась к изголовью кровати Мэгги.
– Не только вам, профессор. Каждый человек должен когда-нибудь очиститься, смыть с себя скверну.
– Хватит ли воды в реке?
Аманда поправила волосы Мэгги, заправив ей за ухо выбившуюся прядь.
– Дело не в воде, профессор. Чтобы стать чистым, не обязательно принимать ванну.
С этими словами она ушла, а я наклонился вперед и, положив голову на простыни рядом с рукой Мэгги, снова задремал.
Глава 13
Я уже много лет езжу на стареньком полуторатонном грузовичке, который знаком мне до последней гайки. Его проблемы мне тоже хорошо известны. Большинство из них я способен устранить с помощью обыкновенного молотка, пассатижей и мотка проволоки. Я знаю, как устроен прерыватель-распределитель, могу отрегулировать карбюратор, проверить все восемь цилиндров, поменять ремень привода газораспределительного механизма и сменить масло. Порой у меня просто в голове не укладывается, как может автомобиль не нуждаться в профилактике и мелком ремонте после стотысячемильного пробега. Что это за машина? Напичканный компьютерными чипами саморегулирующийся и абсолютно бездушный агрегат – вот что это такое! Когда я познакомился с Мэгги, у нее была машина иностранного производства, и, пока я учился в магистратуре, мне постоянно приходилось с ней возиться. Вскоре после окончания моей учебы она сдохла окончательно, и мы продали ее на автосвалку за три сотни баксов, где ее разобрали на запчасти. Помню, когда мне впервые пришлось менять в ней масло, я потратил чуть не полдня только на то, чтобы найти, где у нее находится масляный фильтр. И даже когда я его отыскал, добраться до него у меня получилось далеко не сразу – я ведь не цирковой акробат и не «человек-змея» с руками из резины. Нормальные человеческие руки просто не приспособлены для такой работы.
Мой грузовичок сделан так, чтобы простые парни вроде меня могли без проблем менять масло в двигателе через каждые несколько сотен миль. Машина Мэгги была спроектирована таким образом, что для замены масла мне приходилось нанимать за тридцатку профессионального автомеханика, и тот откручивал маслофильтр с помощью специального инструмента, который сам по себе стоил девяносто восемь долларов.
Мой «Шеви С-10» 1972 года выпуска – одна из лучших, как мне кажется, моделей концерна «Дженерал моторс». У него длинный, вместительный, частично ржавый кузов, прорванное в нескольких местах сиденье и мощный двигатель, который жрет масло, как я не знаю что. Выглядит мой «Шеви» достаточно подержанным, но только потому, что ему действительно очень много лет. Однако в этом нет большой беды. Если двигатель начинает «звенеть», я останавливаюсь на обочине и регулирую угол зажигания, а потом еду дальше. Иногда – особенно по утрам – мне требуется несколько минут, чтобы просто завестись, но я не возражаю. Что тут такого особенного?.. Я нажимаю стартер, чуть-чуть прибавляю газ – и двигатель, кашляя, плюясь и рыча, оживает, по крайней мере еще на день.
Когда-нибудь на спидометре будет и двести тысяч миль. Думаю, это предельный срок. Не будет больше ни чихания, ни кашля, ни дымного шлейфа из выхлопной трубы. Тогда я просто поставлю рычаг скоростей на нейтраль и буду двигаться дальше накатом, насколько хватит инерции разгона. Впрочем, это уже не про автомобиль, а про меня…
Конечно, мне не раз приходила в голову мысль о капитальном ремонте. Сменить салон, покрасить кузов, перебрать двигатель… Все это было вполне осуществимо, но каждый раз я думал: «Нет, черт возьми, не стану я этого делать! У моего грузовичка есть свой характер, и не мне его менять».
Откровенно говоря, если бы у Мэгги был выбор, она предпочла бы не ездить на моем грузовичке. И это еще мягко сказано. Да она просто смеется надо мной каждый раз, когда я поднимаюсь в кабину.
– Не могу поверить, что это твоя машина, Дилан Стайлз! – говорит она. – Ну и убожество! Когда ты куда-нибудь на ней едешь, ты похож на героя сериала «Сэнфорд и сын». Тебе бы еще погрузить в кузов какую-нибудь старую мебель, и ты сможешь снимать собственные комедии!
Я пытался объяснить ей, что Ред Фокс в сериале вообще-то ездил на «Форде», но Мэгги не желала ничего слушать. Она просто качала головой и говорила:
– Подумать только: я вышла замуж за человека, влюбленного в старый грузовик, который одного возраста со мной! Наверное, мне нужно быть довольной, ведь это не другая женщина, а просто куча ржавого железа, которая почему-то до сих пор ездит!
На самом деле я не то чтобы влюблен в «Шеви». Просто этот грузовик как нельзя лучше соответствует моему характеру и образу мышления. К примеру, я могу забросить в кузов какую-нибудь вещь и забыть о ней до тех пор, пока она мне не понадобится. Мне нравится, как скрежещет его стартер, как с лязгом захлопываются дверцы, как скрипит, открываясь, задний борт, как попердывает на холостом ходу углеволоконный глушитель. Мне нравятся дверные замки, которые надо закрывать вручную, нравится, что у руля есть свободный ход, нравится клаксон, потому что у него очень громкий звук. Мне даже нравится, как на неровной дороге мой грузовичок начинает побрякивать всеми своими железными внутренностями! «Шеви» доверяет мне самому считывать показания приборов (а это можно сказать не о каждой машине), и это мне тоже нравится, как нравится и то, что у крышки бензобака нет страховочной цепочки, благодаря чему она снимается полностью. И конечно, мне нравится, как «Шеви» слушается руля и нажатия на газ или тормоз.
Я слышал, что некоторые люди на полном серьезе наслаждаются так называемым «запахом нового автомобиля». Но мне нравится запах моего старого грузовичка – запах масла, пыли, пота, перегретых выхлопных газов, запах сена, свиного корма и… аромат цветов. Да-да, именно цветов! Оставьте на ночь окна в кабине открытыми – пусть она подышит, а утром сотрите с сидений прохладную росу, и вы обязательно его почувствуете. Говорят, автомобили пахнут бензином. Это не так. Автомобили, особенно старые, впитывают те запахи, которые их окружают.
В мае я стараюсь ставить мой грузовик как можно ближе к зацветающим гардениям Мэгги, так что их ветви лезут в открытые окна, а лепестки сыплются на сиденье и приборную доску. А утром, когда я сажусь в машину, в кабине пахнет Мэгги. Ну скажите честно, разве может «запах новой машины» сравниться с ароматом гардений моей жены?
Было около двух часов, когда я сел в кабину своего грузовичка, чувствуя, как от голода у меня подводит живот. Запустив двигатель, мы с Блу медленно выкатились с больничной стоянки на дорогу. Опустив стекло, я высунул наружу левую руку и подставил ладонь горячему ветру, который казался еще горячее после того, как пронесся над разогревшимся на солнце передним крылом. Свежая повязка, которую сделала мне Аманда, была толстой и довольно тугой, и я почувствовал, как рука под бинтами начинает пульсировать.
Почти милю я ехал вдоль припаркованных машин, прежде чем впереди показалась церковь. Обогнув последний поворот перед прямым участком, пересекавшим ведущую к моему дому грунтовку, я увидел и реку. Сбавив скорость, я проехал мимо церкви и сразу заметил длинную вереницу спускавшихся к воде людей: женщин в белых платьях и мужчин в шортах и футболках. На первый взгляд здесь было человек двести, а может быть, и больше. Я поискал взглядом Эймоса, но не нашел – вероятно, он был уже внизу, в воде, – зато я заметил пастора Джона, который, поддерживая Аманду под локоть, помогал ей перебираться через выползающие на тропинку дубовые корни. Свободной рукой Аманда поддерживала снизу свой круглящийся живот.
Свернув к дубовой роще, я заглушил двигатель и некоторое время слушал пение поздних августовских кузнечиков – однообразное, гипнотическое, знойное стрекотание, которое способно свести человека с ума или погрузить его в глубокий, летаргический сон. Блу, заскулив, высунулся из кузова и смотрел на меня в окно, но я продолжал мешкать и по-прежнему сидел в кабине, обливаясь по́том и не делая попыток хотя бы расстегнуть ремень безопасности.
– Ну хорошо, – проговорил я наконец. – Мы только на минуточку. Поглядим, что и как, – и назад.
Пройдя через дубовую рощу, мы устроились на мшистом пятачке чуть в стороне от толпы прихожан. Справа от нас – немного выше по течению – стояло на берегу десять или пятнадцать складных столиков для пикника, накрытых клетчатыми скатертями. Столы ломились от мисок и подносов с жареными цыплятами, сладким картофелем, капустным салатом и чем-то еще, что, судя по доносящемуся до меня запаху, было персиковым пирогом. От этого зрелища и ароматов вкусной еды мой голод сделался еще острее.
Неподалеку какой-то мужчина присел на корточки рядом с сыном, который, спустив штанишки, выписывал на воде свое имя. Тем временем человек тридцать прихожан во главе с пастором Джоном зашли в реку и встали кружком по пояс в воде. Вот пастор положил ладони на плечи женщины в белом платье, которая пронзительно визжала, воздев руки к небу. Пока мы с Блу смотрели, он трижды погрузил ее с головой, и каждый раз, когда голова женщины снова появлялась над водой, она невнятно выкрикивала:
– Аллилуйя!!!
После третьего погружения пастор Джон передал женщину Эймосу, который помог ей выбраться на берег и протянул полотенце.
Женщина оказалась почти такой же массивной и широкой в кости, как мой приятель, хотя и была ниже его ростом. Не пряча слез, которые ручьями текли из ее глаз, она крепко обняла Эймоса и расцеловала в обе щеки, потом стала целоваться с большой группой прихожан, которые, по всей видимости, приходились ей друзьями и родственниками. Глядя на них, я подумал, что все эти люди, похоже, действительно любят друг друга.
Пастор Джон между тем продолжал таинство крещения, а Эймос стоял рядом с ним и улыбался во весь рот, готовый прийти на помощь. Я обратил внимание, что кого-то пастор погружал в воду всего один раз, некоторых – дважды, а кого-то – как женщину в белом платье – трижды. Одного мужчину он погрузил в воду четыре раза; вероятно, тот действительно в этом нуждался. В последний из этих четырех разов пастор продержал крещаемого под водой не меньше тридцати секунд, так что под конец тот забарахтался, беспорядочно размахивая руками. Только тогда пастор помог ему вынырнуть и, крепко обняв новокрещеного, передал его Эймосу, а тот вывел мужчину на берег, вручил полотенце и усадил на траву рядом с какой-то женщиной, которая с готовностью подставила ему в качестве опоры свое плечо.
Пастор Джон знал свое дело, поэтому крещение трех десятков прихожан отняло у него не больше часа. Я, однако, не сказал бы, что он торопился. Напротив, эта работа ему, похоже, нравилась, поскольку пастор буквально сиял, да и другим членам группы он тоже не давал скучать. Каждый раз, взяв кого-то за руку или за плечо, чтобы погрузить в воду, пастор вспоминал вслух один-два неблаговидных случая из жизни крещаемого, непременно добавляя несколько слов о том, как этот человек сумел раскаяться и, отказавшись от греха, начал возрастать в благодати. Когда же пастор Джон заканчивал свою короткую речь и переходил к погружению, прочие члены общины дружно аплодировали и вскидывали руки к небесам.
То, что происходило на реке, очень мало напоминало кропление, посредством которого, как я раньше думал, совершается в методистской церкви таинство крещения. Пастор Джон не только погружал крещаемых с головой, но и не стеснялся разбрызгивать воду во все стороны, так что даже стоявшие на берегу прихожане скоро промокли до нитки, благо день был очень жарким.
Последним из группы крещаемых был мальчуган лет девяти или десяти. Пастор Джон взял его на руки, прижал к себе и, стараясь подбодрить, слегка потерся носом о его нос. Когда же мальчишка признался, что боится нырять, пастор Джон погрузился вместе с ним. Они уходили под воду трижды, а когда вынырнули в последний раз, пастор подбросил мальчика над головой, а потом передал стоявшему рядом отцу, который бережно опустил сына обратно в воду.
Когда крещение закончилось, пастор Джон начал читать молитву. Те, кто стоял рядом с ним в воде, снова взялись за руки; прихожане на берегу тоже держали друг друга за руки или простирали ладони к небу, словно призывая Божью благодать на только что крещенных братьев и сестер. Прислушавшись, я понял, что пастор молится и о тех, кого он только что крестил, и о тех, кто еще не был крещен, но остро в этом нуждался; под конец же пастор попросил Господа благословить пищу на столах.
Надо признаться честно, молиться он умел, и умел хорошо. Я не заметил в нем ни позерства, ни желания показать себя лучше остальных. Его молитва была совершенно особенной – глубоко личной, убедительной и вместе с тем предельно простой и понятной, без религиозной зауми. Можно было подумать, пастор обращается не к непостижимому Богу, а к кому-то из близких друзей, стоящему в толпе рядом с ним.
Наконец он закончил, вся группа выбралась из реки и ринулась к столам с едой. Словно по какому-то сигналу, неслышному, но понятному большинству присутствующих, женщины заняли места возле столов и начали разливать сок и чай, передавать тарелки и накладывать на них жареных цыплят, свежие булочки и салат. По всему было видно, что им это не впервой – каждая отлично знала, что и как нужно делать.
В течение каких-нибудь пяти минут каждый из двухсот человек получил еду, стакан с чаем или соком и место, где можно было присесть. Не успел я им позавидовать, как за моей спиной хрустнула под чьей-то ногой сухая ветка.
– Я принесла вам перекусить, профессор…
Я сидел на земле, прислонившись к стволу дуба, и разглядывал сухие стебельки одного из самых любимых растений Мэгги – папоротника-многоножки. В наших краях его называют бессмертной травой, потому что это растение-паразит, растущее в трещинах древесной коры, бо́льшую часть года выглядит окончательно и бесповоротно засохшим, но стоит только пролиться дождю, как его бурые, ломкие от сухости листочки наливаются яркой и сочной зеленью. Услышав голос Аманды, я оторвался от созерцания папоротника и обернулся.
– Привет, Аманда. – Я посмотрел на Блу, который вылизывал девушке щиколотки. «Спасибо, Блу», – подумал я.
– Мне показалось, что вам не помешает немного подкрепиться.
– Спасибо, но я вовсе не голоден.
– Не позволяйте ему ввести вас в заблуждение, мисс Аманда! – донесся от ближайшего стола голос Эймоса. – Дайте ему тарелку, и он слопает все в один присест, а потом попросит добавки. Не беспокойтесь, у него живот давно присох к спине, так что теперь он не отличает боли в желудке от боли в пояснице! – С этими словами Эймос помахал мне надгрызенной цыплячьей ножкой и улыбнулся блестящими от жира губами. «Я ем цыпленка, и мне это чертовски нравится!» – вот что означала его улыбка.
Аманда тоже улыбнулась и протянула мне большую тарелку, на которой лежала целая гора еды – всего понемножку, но зато с каждого блюда, – а также стоял большой пластиковый стакан, до краев наполненный чаем.
– У нас здесь только один сорт чая, – добавила Аманда извиняющимся тоном. – Надеюсь, вы пьете с сахаром?..
Тарелка с едой весила, наверное, фунтов пять; я с трудом удерживал ее двумя руками. Стакан с чаем пришлось поставить на мох. Блу бросил вылизывать лодыжки девушки и, подобравшись поближе ко мне, задрал морду, обнюхивая дно тарелки.
– Я видела, как вы подъехали, – сказала Аманда. – Я так и думала, что вам захочется прийти.
– Вот как?.. – Я понятия не имел, что тут можно сказать. Моим первым побуждением было бросить тарелку и удрать, но я замешкался, а потом стало уже поздно. Аманда подвела меня к столу, за которым сидел ее отец, и я, поставив тарелку на краешек, начал отщипывать крохотные кусочки цыпленка, изо всех сил стараясь не торопиться. На самом деле я мог бы проглотить цыплячью ножку вместе с костями и не подавиться.
Пастор Джон, как видно, не любил терять время даром.
– Рад вас видеть, сын мой, – сказал он, протягивая мне руку. – Я знаю, мистер Стайлз, что вы – преподаватель моей дочери, но… Скажите, мы раньше не встречались?
– Да, мы встречались. – Я кивнул. – Кажется, я так вас и не поблагодарил, но на похоронах моего деда вы прекрасно справились со своей работой, так что спасибо.
– Ах да, конечно!.. Папа Стайлз! Как я сразу не сообразил?! Ваш дед был прекрасным человеком, одним из лучших, кого я знал. Он предпочитал работать не языком, а руками – прекрасное и редкое качество! Рядом с такими людьми и сам стараешься поменьше болтать и побольше делать… – Прищурившись, пастор Джон посмотрел на торчащий из-за верхушек молодых дубов шпиль, потом перевел взгляд на меня, ожидая моей реакции.
– Что ж, дед и на меня оказал большое влияние, – ответил я, отправляя в рот еще кусочек цыплячьего мяса. – Хотя моя работа как раз и состоит в том, чтобы болтать.
– Кстати, насчет вашей работы… – Тон, которым это было сказано, застиг меня врасплох. – Мне показалось, что в последнее время Аманда тратит слишком много времени на ваши домашние задания.
Он улыбался, но за его улыбкой скрывалось что-то еще. Что – я не знал, но это не имело значения: я все равно не собирался обсуждать с ним успехи Аманды. Во всяком случае, не сейчас. Вступить в дискуссию с отцом студентки, да еще в присутствии посторонних, было бы с моей стороны серьезной ошибкой.
– Вот и хорошо, – сказал я, жуя.
Пастор Джон слегка приподнял брови.
– Что именно – «хорошо»? Хорошо заставлять мою дочь заниматься бесполезной работой? – Он сложил ладони перед собой и слегка потер их одну о другую. – Или хорошо указывать ей, что́ она должна думать и как?..
Взгляд пастора был слишком пронзительным, и я в очередной раз пожалел, что не обратился в бегство, пока у меня еще была такая возможность. А теперь я влип. Я увяз по уши и сам это понимал. Отчего-то жареный цыпленок, приготовленный миссис Бакстер, перестал казаться мне изысканно вкусным.
– Нет, сэр. У меня не было намерения указывать вашей дочери, что́ она должна думать.
Пастор Джон внимательно рассматривал мое лицо то сквозь бифокальные, то сквозь нормальные линзы своих двухфокусных очков, а то и вовсе глядел на меня поверх них. Наконец он слегка наклонился вперед и негромко проговорил:
– В таком случае, сын мой, каково же было твое намерение?
Возможно, я слишком проголодался, возможно, слишком устал. А может, мне просто было все равно. В любом случае мой ответ был своего рода серебряной пулей, которую я выпустил в надежде добиться максимального результата. Отставив в сторону тарелку, я вытер губы салфеткой и сказал:
– Я хочу всего лишь научить вашу дочь мыслить. Я хочу научить ее проверять каждую свою мысль, анализируя путь, который привел ее к тем или иным умозаключениям. А еще я хочу дать ей подходящие инструменты для анализа и размышлений. Если я сумею это сделать, ее письменная речь очень скоро приобретет собственную неповторимую форму и стиль. – Я глотнул чая, съел еще кусок цыпленка и твердо закончил: – Таково было и есть мое намерение, сэр.
И я снова взял в руки тарелку с остатками цыпленка. Наверное, мне было необходимо напомнить кое о чем и самому себе, поскольку, прежде чем пастор Джон успел открыть рот для ответа, я ткнул в его сторону цыплячьей ножкой.
– И еще одна вещь, сэр… – Я сделал крохотную паузу. – Я никогда не задаю большие домашние задания только для того, чтобы меня считали требовательным преподавателем. Я вообще не гонюсь за объемами, ненавижу ставить оценки за работы и не наклеиваю маленькие серебряные звездочки на зачетные проверочные работы, которые дают право перейти на следующий курс. Куда больше меня интересует сам процесс обучения, нежели его результаты. Мне хочется видеть, как ваша Аманда будет совершенствовать свои способности. Ну а если быть откровенным до конца, то меня не интересует даже, с чего она начнет и к чему в конце концов придет. Это, извините, уж ваша забота, а не моя!
Совершенно неожиданно мой голос, отразившись от поверхности воды, вернулся ко мне гулким эхом, и я осознал, как тихо стало вокруг, как внимательно слушают меня остальные и как много я сказал. Куда больше, чем намеревался. Похоже, голод и усталость сыграли со мной злую шутку.
Пастор Джон откинулся на спинку складного стула, снял очки, протер стекла носовым платком и снова взглянул на меня. Без очков глаза у него сразу сделались какими-то беззащитными и добрыми. Улыбнувшись, он кивнул и пробормотал «Так-так!..» таким тоном, словно разговаривал не со мной, а с кем-то, кого я не мог видеть. Наконец он хлопнул меня по колену и сказал:
– Добро пожаловать домой, сынок! Дай мне знать, если тебе что-то понадобится. – Поднявшись, пастор Джон положил руку мне на плечо. – И еще одно, профессор… Я очень скучаю по вашему деду. Сегодня вы напомнили мне о нем… нет, вы напомнили мне его, и это было вдвойне приятно. Думаю, ваш дед мог бы вами гордиться.
Все, кто собрался на берегу, давно затихли, прислушиваясь к нашему разговору. Похоже, наши голоса разносились среди дубов достаточно далеко.
– …Впредь вы можете давать моей дочери любые домашние задания. И если Аманда почему-либо не оправдает ваши ожидания и не станет, какой вы хотите, что ж… дайте мне знать, и мы что-нибудь придумаем. – И, дружески потрепав меня по плечу, пастор Джон начал обходить столы, чтобы перемолвиться одним-двумя словами со своими прихожанами.
Эймос вскочил со своего места и, схватив тарелку с цыпленком, пересел на стул пастора рядом со мной.
– Слушай ты, маленький задавака! Я привез тебя сюда вовсе не за тем, чтобы ты читал свои лекции моему пастору! – Он улыбнулся и ткнул мне в лицо дочиста обглоданной куриной косточкой. – Тебе надо научиться хотя бы говорить вполголоса!
– А что? Я сказал что-нибудь не то? – спросил я, чувствуя куриный жир у себя на щеках.
– Дело не в том, что́ ты сказал, а как ты сказал. А еще в том, что ты вообще это сказал. Ну, насчет твоей «работы» и того, что тебя интересует «процесс». Слышал бы ты себя со стороны, приятель!
– Не забывай, Эймос, ты тоже виноват в том, что я вынужден заниматься этой работой, так что не мешай мне делать ее так, как я умею. Или ты хочешь заняться ею вместо меня?
– Не-а. Не хочу. – Эймос снова заговорил с южной растяжечкой. – Думаю, проф, ты пока справляешься.
– Вот и давай будем заниматься каждый своим делом. Ты будешь арестовывать людей, а я буду учить их думать, чтобы тебе не приходилось их задерживать и сажать в тюрьму.
Эймос поднялся.
– Пойду-ка попрошу добавки. Ты тоже давай, не стесняйся. После той лекции, которую ты тут закатил, у тебя наверняка разыгрался зверский аппетит. – Он вытер с подбородка жир и, повернувшись, заорал во все горло:
– Аманда! Проследи-ка, чтобы этот парень поел как следует. Чтобы он даже пошевелиться не мог!
За последующие тридцать с небольшим минут я опустошил еще две тарелки и наелся так, что едва мог подняться со стула. Мой живот раздулся, как мяч, и я с трудом сдерживал острое желание расстегнуть ремень. За сегодняшний день я набрал фунтов восемь, не меньше. То же самое относилось и к Блу, для которого сегодняшний день стал одним из счастливейших в жизни.
Постепенно толпа прихожан начала редеть. Пикник подошел к концу, и я, не без труда поднявшись с низенького стульчика, помог Эймосу убрать со столов и отнести сами столы в церковь, где мы прислонили их к стене в притворе. Когда я уже направлялся к своему грузовичку, пастор Джон поблагодарил меня за помощь, а Аманда сунула мне в руки еще две большие тарелки со всякой всячиной. Думаю, таким образом пастор и его дочь хотели мне что-то сказать, но я слишком отупел от еды и плохо соображал.
На пищевой пленке, в которую были упакованы тарелки, Аманда написала «Профессор» и «Блу». Кроме них, Аманда вручила мне молочный кувшин со сладким чаем. К этому моменту я выпил уже достаточно жидкости, и мне так сильно хотелось в туалет, что я едва не оттолкнул кувшин, но в последний момент справился с собой и неловко зажал его под мышкой. Попрощавшись с пастором и Амандой, мы с Блу забрались в грузовик и отъехали. Я гнал машину, пока не убедился, что от церкви нас больше не видно. Тогда я остановился на обочине в том месте, где река подходит почти вплотную к шоссе, выскочил из кабины и, бросившись к воде, рывком расстегнул «молнию» на джинсах… Ну наконец-то!.. Облегчение, которое я испытал, не поддается описанию. Скажу, пожалуй, лишь то, что весь процесс занял у меня одну минуту и пятьдесят пять секунд. Для меня это был новый личный рекорд.
Еще на подъездной дорожке к дому я услышал, как Пинки возмущенно визжит и брыкается в амбаре. В отличие от меня, она явно хотела есть. Когда я наполнил ее кормушку кукурузными зернами, Пинки хрюкнула, словно хотела сказать:
– Ну наконец-то! И где тебя только носило?!
Вечер застал меня на веранде, где я раскачивался в кресле, прислушиваясь к звону цикад и думая о Мэгги, о своих студентах и о том, как неуютно я стал чувствовать себя в собственном доме. В последнее время в нем было так тихо, что мне просто не хотелось заходить внутрь. В этом ли дело или в чем-то другом, я сказать не мог, но от этой тишины у меня начинало чесаться все тело, словно я голышом влез в заросли крапивы. Только сейчас я понял: в моем доме поселился кто-то безмолвный, невидимый, чужой. Этот незнакомец или, скорее, незнакомка заняла место Мэгги и начала переставлять, переделывать на свой лад все, что было нами любимо. Куда бы я ни повернулся, куда бы ни взглянул – повсюду я замечал следы присутствия этой чужой женщины, которая хоть и не спешила показываться мне на глаза, но вела себя так, словно все здесь принадлежало ей одной. Вне себя от ярости я обежал комнату за комнатой, обыскал весь дом, но ни разу не увидел ничего, кроме юркнувшего за угол краешка ее тени. Наконец мне показалось, что я загнал ее в ванную. Поспешно захлопнув дверь, я запер щеколду и крикнул из коридора:
– Собирай вещички и уходи! Тебе здесь не место, ясно?!
Я никогда не жил и тем более не спал ни с одной женщиной, кроме своей жены, и не собирался начинать сейчас. Зажмурив глаза, я крепко сжал кулаки и крикнул еще громче:
– Мэгги вернется, слышишь? Обязательно вернется! А ты проваливай!..
Выбежав на веранду, я поплотнее захлопнул сетчатую дверь, свистнул Блу, и мы вместе двинулись через кукурузное поле к реке.
Глава 14
Когда на следующий день – уже после обеда – у меня дошли руки заглянуть в почтовый ящик, у подножия столба, на котором он был укреплен, валялся целый ворох рекламных листков. Ящик, разумеется, был полнехонек; открыв его, я выгреб оттуда все бумаги и прижал к груди, словно охапку хвороста для растопки. На самом дне ящика я обнаружил официального вида конверт. Понятненько… Счет от «Визы».
Я терпеть не мог, когда приходили подобные конверты, и мысленно скрежетал зубами каждый раз, когда обнаруживал их в ворохе почты. Счета я оплачивал с тех самых пор, как полтора года назад решил устроить Мэгги сюрприз. Ей всегда хотелось побывать в Нью-Йорке и посмотреть «Ривердэнс»[32], и я об этом хорошо знал. И надо же было такому случиться, что, как раз тогда, когда я ломал голову над тем, какой подарок преподнести жене, этот коллектив выступал в Нью-Йорке с премьерой новой программы. Вечером, когда Мэгги легла спать, я засел за компьютер и, порыскав по Интернету, заказал самые дешевые билеты на самолет, забронировал номер в гостинице и купил билеты на шоу.
Мне было невероятно трудно держать язык за зубами, но я мужественно молчал все две недели и лишь в пятницу утром, накануне решающего уик-энда, слегка толкнул Мэгги под ребра и прошептал на ухо:
– Вставай, милая, и поскорее собирайся. Наш самолет вылетает через три часа.
Как я и ожидал, Мэгги лишь нетерпеливо дернула плечом и, натянув одеяло на голову, продолжала спать. Я успел принять душ, но она так и не проснулась, несмотря на настойчивый сигнал будильника. Тогда я взялся за край одеяла и рывком сдернул его с кровати. Мэгги вздрогнула и, сев на постели, отчеканила, не открывая глаз:
– Дилан Стайлз, ты отлично знаешь, что сегодня – единственный день, когда я могу выспаться. Убирайся! Оставь меня в покое.
Ее волосы разметались и торчали во все стороны, на левой щеке краснел рубец от подушки. Мгновение спустя она снова рухнула на кровать и, повелительно махнув мне рукой в сторону двери, спрятала голову под подушку.
Пришлось подсунуть билеты на самолет и на шоу под самый нос Мэгги. Это сразу заставило ее проснуться.
Выходные мы провели в Нью-Йорке. «Ривердэнс» мы смотрели с середины третьего ряда, и должен признаться, что наблюдать за выражением лица Мэгги мне было не менее интересно, чем за ирландскими танцорами. На следующий день мы отправились гулять по городу. Разинув рты, мы бродили по улицам, совсем как в фильме «Тупой и еще тупее», гуляли в Центральном парке, побывали на острове Эллис[33], постояли у подножия «Эмпайр-стейт-билдинг», а потом поднялись на лифте на смотровую площадку на крыше и помахали оттуда статуе Свободы. Мэгги была в восторге – мой сюрприз-путешествие произвел на нее неизгладимое впечатление. Я тоже был счастлив, потому что была счастлива она. Правда, поездка обошлась нам в тысячу четыреста шестьдесят девять долларов, но оно того стоило. Я, во всяком случае, ни о чем не жалел, ни тогда, ни потом, и все же получать счета, которые нужно было как-то оплачивать, было чертовски неприятно.
Вскрыв конверт, я пробежал глазами платежную квитанцию. Судя по цифре, проставленной в самом низу, я расплатился за первые сутки нашего пребывания в Нью-Йорке. Оставалось выплатить еще столько же.
Бросив счет на пол кабины, я завел мотор и включил передачу.
Проехав мимо церкви пастора Джона, я свернул на шоссе с твердым покрытием и, поднявшись на холм рядом с пастбищем Джонсона, пересек железнодорожные пути. До города я добрался как раз в тот момент, когда Фрэнк – владелец «Скобяной лавки Фрэнка» – вешал на двери своего магазина табличку с надписью «Вернусь через 10 минут».
За десять минут можно было успеть выпить чашечку кофе, поэтому я перешел через площадь, купил газету и сел за столик в дальнем углу «Кафе Айры».
Не успел я опуститься на стул, как рядом с моим грузовичком затормозила полицейская патрульная машина, за рулем которой сидел Эймос. Оглядевшись по сторонам, он увидел меня в кафе и ткнул в мою сторону зубочисткой. Через минуту он уже входил в кафе.
– Привет, Айра, – поздоровался он с хозяйкой кафе, которая жарила за стойкой яичницу.
– Привет, сладенький. Посиди немного вон там, с мистером Тихоней, о’кей? Я скоро освобожусь.
Эймос подошел к моему столику и сел напротив.
– Здорово. Ты как здесь?
Я показал ему на закрытую дверь лавки Фрэнка на противоположной стороне площади.
– Мне нужно купить скобы для бороны.
Эймос обернулся через плечо и покачал головой.
– Что, Фрэнк снова повесил свою табличку «Буду через десять минут»?
– Угу. – Я раскрыл газету на финансовой странице.
– Как поживает наша девочка? – спросил Эймос.
– Пока без изменений. Я поеду в больницу, как только наш мистер «Вернусь-Через-Десять» поможет мисс Уайт справиться с ее неотложной проблемой.
– Главная беда этого городишки состоит в том, что здесь всё про всех знают.
– Угу.
Айра подошла к нашему столику и чмокнула Эймоса в щеку.
– Что тебе принести, сладенький?
Приятель посмотрел на меня.
– Мне очень нравится, что она зовет меня «сладенький». – Эймос повернулся к Айре: – Большую яичницу. Добавь три… нет, четыре яйца сверх обычного – сегодня я что-то проголодался. А к яичнице – пару булочек и капельку того отличного меда, который Джордж крадет у соседа.
Высокий парень в белой футболке и болтающихся на бедрах шортах крикнул, обернувшись через плечо:
– Клевета! Это мои пчелы!
– Да, но они собирают мед на соседских цветах! – заорал в ответ Эймос.
– Так он заявил судье! – загремел Джордж. – Но разве я могу отвечать за то, куда летают мои пчелы?! Не могу же я выдрессировать их, чтобы они облетали стороной участок этого придурка!
Эймос заржал, а Айра повернулась ко мне. Она была неотъемлемой частью городка, его достопримечательностью. В этом кафе она работала столько, сколько я себя помнил, и даже дольше, поэтому было ничуть не удивительно, что Айра знала о каждом жителе Диггера всю подноготную. Сказать ей что-либо было все равно, что объявить об этом по радио: через считаные часы ваша новость становилась достоянием всего городка.
Помимо всего прочего, Айра была, наверное, одной из самых колоритных фигур в Диггере. Одевалась она очень ярко, причем вся ее одежда – юбка, блузка, туфли, – все было одного цвета, благодаря чему Айра походила на свежий мазок краски. Сегодня, к примеру, она предпочла желтовато-зеленый цвет, похожий на кожуру спелого лайма.
– Привет, Айра, – поздоровался я.
– Привет, Дилан. Как поживаешь? – Наклонившись, Айра запечатлела у меня на лбу влажный поцелуй. – Как делишки?
– Спасибо, все в порядке, – ответил я, вытирая лоб.
– Выглядишь ты не очень… Лицо у тебя, во всяком случае, такое, словно кто-то помочился в твои кукурузные хлопья, – заметила она с прямо-таки революционной прямотой. Это, впрочем, тоже было особенностью ее характера: Айра терпеть не могла эвфемизмов, к тому же она десять лет была замужем за моряком торгового флота.
– Принеси мне, пожалуйста, кофе и пару булочек, ладно?
– Подождешь минут пять, сладенький? Я как раз достану из духовки очередную партию.
Минут пять или десять мы с Эймосом болтали о всяких пустяках, потом Айра вынесла в зал тарелку с гигантской яичницей и блюдо с дюжиной горячих, исходящих ароматным парко́м булочек. Поставив их перед нами, она налила свежего кофе. Я ждал, что она оставит на столе чек, но Айра только подбоченилась и сказала, глядя на меня в упор:
– Только попробуй сбежать отсюда, Дилан, пока ты и твой приятель не съедите все, что я приготовила. Ты меня понял, мистер?
– Да, мэм, – ответил я. На самом деле еды на нашем столике хватило бы на пятерых.
Эймос загадочно улыбнулся и, вооружившись вилкой, разделил яичницу пополам.
– Давай ешь, – сказал он, запихивая в рот горячую булочку, с которой стекал мед. – А я пока расскажу, как вчера вечером устроил в окрестностях городка Самую Настоящую Полицейскую Погоню!
– Что случилось? – Отщипнув кусочек яичницы, я положил его на хлеб.
– Часов в десять вечера я собирался остановить одного парня за превышение скорости, но он не захотел останавливаться. Он ехал на большом четырехдверном «Лексусе» и, наверное, решил, что мои сигналы к нему не относятся… В общем, не успел я опомниться, как мы уже летели по И-95 со скоростью больше ста двадцати миль в час. В какой-то момент парень, видать, сообразил, что по-хорошему я от него не отстану, пересек разделительную полосу и, не снижая скорости, помчался по проселкам. Я, естественно, за ним… Мак, который заведует у нас гаражом, сказал сегодня утром, что я почти угробил двигатель и испортил комплект новых покрышек, но это пустяк… Главное, я все-таки догнал этого обормота на «Лексусе», правда, только после того, как он изрядно помял крылья, ободрал с бортов всю краску, а под конец эффектно припарковался прямо посреди утиного пруда возле фермы старины Паркера. Видел бы ты, как эта тачка взлетела в воздух после того, как он на полном ходу врезался в стог сена! – Эймос сделал паузу, чтобы отправить в рот очередную булочку с медом. – Водитель, к счастью, успел выбраться из кабины и провел ночь за решеткой, но его шикарной машине конец, – проговорил мой друг, жуя. – Нет, никогда мне не понять таких типов! Если бы парень остановился, я бы выписал ему штраф всего-то на сотню баксов, но он предпочел удрать. В итоге вдребезги разбил машину, которая стоит тысяч восемьдесят, и к тому же провел ночь в тюрьме. Я уже не говорю о том, что́ сделает с ним судья Хэнд, когда прочтет мой рапорт. – Эймос сокрушенно покачал головой. – Похоже, весь мир сошел с ума, Дилан, что бы ни говорили некоторые.
– А что сказал этот парень, когда ты вытащил его из пруда?
– Ничего. Он просто стоял и смотрел, как его тачка за восемьдесят тысяч шлет со дна пруда последнее «прости» в виде пузырей и масляных пятен. Кстати, выглядел он вполне прилично, я бы даже сказал, респектабельно: костюм, галстук и все такое… Но я все равно надел на него наручники и посадил на заднее сиденье своей машины. По дороге в участок я спросил, какого черта ему вздумалось удрать, но он понес какую-то околесицу о том, что полиция-де всегда к нему придирается. Тогда я поинтересовался, не кажется ли ему, что семьдесят две мили в час – слишком много для шоссе, где разрешенная скорость – пятьдесят пять, и знаешь, что́ этот придурок мне ответил?
– Нет, не знаю. Что?
– Он сказал: «Это зависит от человека. Для одного – много, а для другого – в самый раз». Я ему говорю: «Сэр, закон есть закон, и он одинаков для всех». Ух, как ему это не понравилось!.. Он долго молчал, потом понес что-то про своего адвоката, который вытащит его в два счета, но знаешь, что я тебе скажу? Этот парень по-прежнему в тюрьме, а я – здесь, ем булочки с медом и яичницу. Ну а ты почему молчишь?
– Потому что я тоже ем. Между прочим, это моя пятая булочка, так что, если ты и дальше намерен болтать…
Эймос улыбнулся. Весь подбородок у него был в меду.
– Отличные булочки, правда?.. – Он показал столовым ножом в направлении кухни. – С Айрой приятно поговорить, да и готовить она умеет как никто в этом городе, вот только ругается как… Ничего подобного я в жизни не слышал! Вот что могут сделать с человеком тридцать лет работы в придорожном кафе, друг Дилан. Тридцать лет работы официанткой, да еще этот ее морячок…
– Кому ты рассказываешь! Здесь не только Айра знает всё обо всех, но и все знают о ней…
Минут через сорок пять Фрэнк появился перед своей скобяной лавкой. Глядя на свое отражение в витрине, он поправил волосы, снял с двери объявление и отпер замок.
– Фрэнк вернулся. – Я кивком показал за окно.
– Мне тоже пора. Судья Хэнд ждет не дождется, когда я появлюсь. Нет-нет, я сам заплачу Айре, а ты обними за меня Мэгги.
– Обязательно.
Именно в этот момент меня пронзило острое чувство вины за то, что на протяжении целых сорока пяти минут я не вспоминал ни о Мэгги, ни о своем сыне, ни о том, что моя жена лежит, как овощ, в больнице, питаясь через трубочку и испражняясь в пакет. Эта вина, словно чугунное ядро, провалилась куда-то в желудок, и я поспешно вышел из кафе. Едва очутившись на улице, я свернул в узкий переулок справа от входа, и меня стошнило всем съеденным и выпитым. Привалившись к кирпичной стене, я вытер губы рукавом рубашки, и тут меня накрыло второй волной, хотя желудок был уже почти пуст. Наконец рвота прекратилась, я вытер испачканные мыски ботинок о джинсы и, вернувшись к машине, поехал в больницу. О Фрэнке и о том, зачем мне нужно было его видеть, я совершенно забыл.
В больнице я потихоньку проскользнул в палату. Блу, обогнав меня, запрыгнул на кровать и уткнулся носом в ноги Мэгги.
– Привет! – прошептал я на ухо жене, но она молчала, а я подумал, что мог бы отдать все, что угодно, даже ферму, лишь бы услышать ее голос.
– Здравствуйте, профессор, – шепотом поздоровалась со мной Аманда, входя в палату. Ее появление нарушило наше безмолвное уединение втроем, и я слегка выпрямился.
– Добрый вечер.
– Не беспокойтесь, я всего на минутку. – Она проверила питательную трубку Мэгги и на цыпочках двинулась к выходу. Прежде чем исчезнуть за дверью, Аманда повернулась ко мне и прошептала:
– Извините, профессор, но завтра я не смогу прийти на занятия – мне нужно к врачу. Я звонила вам домой и оставила сообщение на автоответчике на случай, если не застану вас в больнице. – Она кивнула. – Но завтра во второй половине дня я снова буду здесь на дежурстве.
– Хорошо. – Я кивнул. – Спасибо, что предупредили.
Аманда ушла, и в палате снова сгустилась тишина. Даже Блу не выдержал и тихонько заскулил. «Эй, хозяин, – словно хотел сказать он, – не молчи! Ей необходимо как можно чаще слышать твой голос».
И я снова взял Мэгги за руку.
– Если бы ты только знала, Мег, как мне хочется услышать твой голос!
И тут меня осенило.
Автоответчик!
Я схватил телефон и набрал наш домашний номер так быстро, как только позволял старый дисковый аппарат. На четвертом гудке Мэгги взяла трубку.
– «Здравствуйте, это дом Дилана и Мэгги Стайлз. К сожалению, сейчас мы не можем ответить на ваш звонок, но, если вы оставите нам сообщение, мы обязательно перезвоним. Желаем вам всего доброго. До свидания».
Я дал отбой и тут же снова набрал свой номер. На этот раз я зажал трубку между плечом и щекой; одной рукой я вращал диск, а другой держал Мэгги за кончики пальцев. Блу подполз ближе, положил передние лапы мне на колени и, тихонько поскуливая, лизал телефон. После восьмого звонка на собственный автоответчик я наконец опустил трубку на рычаги, с силой растер лицо ладонями и стал смотреть в окно.
Глава 15
После того как занятие закончилось, я еще в течение часа проставлял оценки за контрольные, потом собрал вещи и вышел из здания. Я уже шагал через двор по направлению к своей машине, когда меня одолело любопытство, и я свернул к ограде стадиона. Футбольная команда колледжа тренировалась на дальней от меня, восточной половине поля. Закинув сумку в кабину, я прошел через ворота и двинулся к линии схватки. Мне хотелось не столько рассмотреть игроков, сколько услышать, почувствовать игру, уловить ее запах.
– Что это вы поете, профессор?.. – раздался позади меня знакомый густой бас, и я, вздрогнув, обернулся. Передо мной стоял Рассел. Он возвышался надо мной, как Гулливер над лилипутами.
– Я? Пою?.. Тебе, наверное, послышалось. Я просто… – Ладно, признаю́: я солгал.
Рассел улыбнулся.
– Не послышалось. Вы точно что-то напевали. – Он смотрел на меня в упор, и его потная, зеленая от травы улыбка была… весьма располагающей.
– Ну, может быть… Иногда я сам не отдаю себе отчета… – завилял я. – А с кем вы играете на этой неделе?
– Мне очень понравилось то, что вы пели. – Рассел приподнял брови, изо всех сил старясь не улыбаться. – Спойте еще немного.
– Говорю тебе, Рассел, я совершенно не умею петь! И не люблю. Иногда я действительно напеваю себе под нос, но… но это звучит ужасно.
– А мой отец любил петь. Особенно ему нравились блюз и старые религиозные гимны. Он так часто их пел, что иногда путал одно с другим. Например, он мог петь о девушке, которую когда-то знал, и тут же начинал воспевать божественную благодать… – На его лице снова проступила улыбка. – Так вы не ответили на мой вопрос, профессор. Вы пели или что?..
– «Пели или нет», Рассел.
– Хорошо, сэр. – Рассел покладисто улыбнулся. – Так вы пели или нет?
– Да, пел, – признался я, разглядывая футбольное поле.
– Я так и понял. А что вы пели?
Сейчас мне меньше всего хотелось болтать с Расселом. Одно дело – общаться со студентами в аудитории, и совсем другое – вне ее. Сами студенты, как правило, не видели разницы или притворялись, будто не видят. Очень скоро они захотят вести посторонние разговоры и в аудитории, и если я поддамся, уступлю, тогда моему преподавательскому авторитету конец. Нет, ни в коем случае нельзя панибратствовать со студентами, иначе они очень скоро забудут, кто из нас учитель, а кто – ученик.
– Я пел, – ответил я, собравшись, – колыбельную песню, которую моя жена Мэгги любила напевать нашему сыну еще до того, как он появился на свет.
– И какие там слова?
– Слушай, разве ты не должен быть где-нибудь там?.. – Я кивком показал на футбольное поле. – …Валять кого-то в грязи и ловить мячи?..
– Вы не ответили на мой вопрос, профессор. – Рассел покачал головой и опустил свою ручищу мне на плечо.
Должен признаться, улыбка у него была самая располагающая. Почти такая же, как у пастора Джона. Эта улыбка преодолевала любые барьеры, любые препятствия. Даже если бы кто-то заново отстроил стены Иерихона, улыбка Рассела с легкостью бы их обрушила.
– Скажу тебе откровенно, Рассел, – проговорил я, многозначительно покосившись на его ладонь на своем плече, – я не стал бы петь тебе колыбельную даже за все сокровища мира. – И, шагнув вперед, к ограде, я встал там, скрестив руки на груди и делая вид, будто меня очень заинтересовала «схватка».
– Извините, профессор, – проговорил Рассел на своем лучшем английском, – но это не слова песни!
Этот ответ обезоружил меня настолько, что я рассмеялся и, наступая на вывалившиеся из стены кирпичи, вернулся к нему.
Рассел снова улыбнулся.
– У вас очень хороший смех, профессор. Прямо жаль, что вы так редко смеетесь. Что, если бы вы постарались делать это почаще, а?..
«Неужели вся современная молодежь такая? – подумал я. – Он раздел меня почти донага, и ему все мало».
– Так какие же в ней слова, в этой колыбельной? – не отступал Рассел. – Скажите!
– Нет.
– Ну, профессор, вам что, жалко?.. – Стараясь подчеркнуть свою искренность и добрые намерения, Рассел начал жестикулировать. – Почему вы сердитесь? Мы ведь просто разговариваем, как друзья, а вы не хотите спеть мне вашу песенку.
– До свидания, Рассел. Иди лучше на поле и сбей кого-нибудь с ног. Увидимся на следующем занятии.
– Я носился по полю с самого утра, так что теперь могу и постоять. Видите ли, профессор, я умею сшибать противников с ног, а эти парни – нет. Может, все-таки споете, а?.. Я ведь слышал, как вы пели, когда я подошел.
– А как поживает твоя тестовая работа? Дело движется?
– Меняете тему, да, профессор? Но ведь мы не в аудитории, мы – на футбольном поле. – Рассел снова принялся махать руками, как человек, которому не хватает слов. – На случай, если вы не знаете, что это такое, я объясню. Вот это – трава, это – мяч, это – защитные щитки, а это – пот. Я вспотел, понимаете?.. Здесь, у этой ограды, кончается колледж и начинается игра… и давайте не будем их смешивать. – Улыбка Рассела стала еще шире. – Ну что, споете вашу песенку или мне попросить вас сделать это в аудитории? В конце концов, я крупнее вас, и…
– И что? – перебил я. – Да я завалю тебя в два счета!
– Посмотрим, как это у вас получится. – Рассел притопнул по траве своими шиповками четырнадцатого размера.
Каждый раз, когда я стоял рядом с Расселом, я невольно замечал, насколько этот парень велик и силен. Он был выше меня ростом минимум на семь дюймов, а весил фунтов двести девяносто, причем все это были мускулы и почти никакого жира (ну, может быть, процентов восемь, не больше). С надетыми под футболку наплечниками он и вовсе производил устрашающее впечатление, и я, честно говоря, был рад, что мне не нужно играть против такого, как он.
– Эй, Рассел!.. – крикнул с дальнего конца поля тренер, подбородок которого был испачкан в коричневом табачном соке. – Раз ты все равно не бегаешь, постой за квотербека!
Я присел на ближайшую скамейку, а Рассел протрусил на поле и «сел на колено» лицом к схватке. Одним глазом он следил за тренером, а другим – за мной. О, этот парень умел делать вид, будто он очень внимательно слушает! Пот ручьями стекал по его лицу, и я понял, что здесь Рассел в своей среде. Жара, защитные накладки, боль от ушибов… Рай, да и только!
Не знаю, что на меня нашло, но я сдался и запел.
Я пел колыбельную – ту самую, которую так часто пела Мэгги. Должно быть, мне и самому хотелось ее услышать. Сначала я пел очень тихо, почти шепотом, но Рассела это, конечно, не могло устроить.
– Профессор! – крикнул он, продолжая одним глазом следить за полем. – Это не считается! Я вас совсем не слышу! – В подтверждение своих слов он поднес к уху согнутую ладонь.
И я запел по-настоящему, запел так, словно обращался к животику Мэгги. Допев последний куплет, я моргнул, чтобы смахнуть с ресниц выступившие слезы, и взглянул на Рассела. Я ожидал насмешки, но ошибся.
– Все в порядке, профессор, – сказал он, застегивая шлем. – В полном порядке. – Не глядя на меня, он затянул подбородочный ремешок. – Вы в порядке…
Я так и не понял, почему он избегал смотреть на меня. Быть может, заметив блестевшую в моих глазах влагу, он побоялся меня смутить, а может, просто не хотел, чтобы я видел его намокшие ресницы.
– До встречи на занятиях, Рассел.
– До встречи, профессор, – отозвался он, поворачиваясь ко мне спиной.
Я услышал характерный щелчок, с которым застегивался подбородочный ремень шлема, и Рассел потрусил прочь. Глядя ему вслед, я вновь поразился тому, какой он большой и сильный: чем бы ни кормили его в детстве родители, все пошло ему впрок. Не знаю только, в какие астрономические суммы им это обошлось – особенно в подростковом возрасте, когда мальчишки начинают есть много и жадно.
Наконец я покинул тренировочное поле, забрался в кабину своего грузовичка, запустил двигатель и поехал в больницу. Переезжая через старые железнодорожные пути, я бросил взгляд назад, на футбольное поле, и снова увидел Рассела. Он присоединился к схватке, завалил ранингбека и теперь держал под одной мышкой мяч, а под другой – его шлем. Ранингбек, оглушенный столкновением, распростерся на траве и только тряс головой, а вокруг хлопотали три тренера.
Спустя несколько минут я вдруг поймал себя на том, что продолжаю мурлыкать себе под нос нашу с Мэгги колыбельную.
Глава 16
Я отпустил группу вскоре после полудня, чувствуя, что буквально утопаю в собственном поту. Студенты, впрочем, чувствовали себя не лучше – от зноя (а в аудитории было еще жарче, чем на улице) нас всех основательно разморило. Если верить календарю, вот-вот должен был начаться октябрь, но удушливая летняя жара стойко сопротивлялась прохладным осенним ветрам, которые налетали на город ближе к вечеру, а днем снова сдавали позиции. На каждом занятии я мысленно клялся купить кондиционер и вставить в окно, чтобы в аудитории стало хотя бы чуточку прохладнее. Если бы я исполнил собственное обещание, то – готов спорить на свой грузовичок! – схема рассадки студентов сразу бы изменилась. Все они – даже Кой – собрались бы вокруг прибора и с жадностью хватали ртами холодный, кондиционированный воздух.
Прежде чем выйти из аудитории, Аманда бросила взгляд на мою руку и с неодобрением покачала головой.
– Давайте-ка я вам еще раз ее перебинтую, – сказала она и, не прибавив больше ни слова, скрылась в коридоре.
Я поглядел ей вслед, опустил закатанный рукав и, засунув больную руку поглубже в карман, стал собирать вещи. Направляясь к двери, я вдруг заметил Кой, которая, оказывается, по-прежнему сидела на своем месте, и едва не споткнулся от неожиданности. Я был уверен, что ухожу последним. Присмотревшись, я увидел, что она сложила руки перед лицом, словно хотела, но не решалась что-то сказать. Я решил прийти ей на помощь.
– Что-то вы сегодня молчали, – заметил я как можно непринужденнее.
– Не только сегодня.
– Верно. – Я улыбнулся, ожидая, что Кой скажет что-нибудь еще. Тянуть из нее каждое слово клещами я не собирался.
– Профессор… – Она положила на колени сумку с учебниками. – Я много пишу и… Гм-м… Не могли бы вы взглянуть и высказать свое мнение? Мне хотелось бы знать, стоит ли продолжать.
Я подошел к ней и облокотился о соседний стол.
– Разумеется, я могу посмотреть, но, пожалуйста, не считайте меня судом последней инстанции. Я могу сказать, что вы пишете прекрасно, но кому-то другому ваша работа вовсе не понравится, и наоборот: то, что вы написали, может показаться мне полной ерундой, тогда как остальные будут в восторге. Мое мнение – это только мое мнение, а мне, к несчастью, нравятся вполне определенные вещи. Но… что я люблю, то люблю. Вы понимаете, что я имею в виду?..
Кой кивнула.
– Да, кажется, понимаю… – Она достала из сумки толстую, довольно потрепанную тетрадь. Судя по виду, ей было уже несколько лет. Немного поколебавшись, Кой сунула тетрадь мне в руки и молча вышла.
Я открыл тетрадь. Ее страницы были засаленными, пожелтевшими, ломкими от времени, но на них были написаны слова – тысячи, десятки тысяч слов. Похоже на дневник, подумал я. Мне хотелось тут же начать читать, но я решил, что делать это вот так, на ходу, не стоит. Я убрал тетрадь в свой рюкзак и вдруг увидел, что Кой вернулась и стоит в дверях.
– Профессор… – Она медленно подняла руку и показала на рюкзак, который я уже забросил за спину. – В этой тетради… в ней вся я. – Кой отвернулась на мгновение, потом снова посмотрела на меня и… сняла темные очки. На ее лице, словно два изумруда, сияли большие зеленые глаза.
«Вот так сюрприз!.. Интересно, зачем ей понадобилось скрывать ото всех такую красоту?»
Кой шагнула вперед, набрала в грудь побольше воздуха.
– Пусть… пусть это останется между нами, хорошо?..
– Кой… – Ощупью найдя в рюкзаке тетрадь, я достал ее и взвесил в руке. – Если вы спрашиваете, готов ли я хранить в секрете все, что я узна́ю из вашего дневника, то ответ здесь может быть только один. Да. Конечно. Но если речь идет о доверии, то это совсем другое дело. Доверие – это выбор. Доверие нужно заслужить. Сам я доверяю далеко не каждому, да и вы, я думаю, тоже. Заслуживаю ли я вашего доверия? Это можете решить только вы – не я. И у вас должны быть для этого основания. Если вы просите меня прочесть ваш дневник, значит, вы мне доверяете…
Почти минуту Кой стояла неподвижно, глядя себе под ноги. Наконец она чуть приподняла голову, посмотрела куда-то в конец коридора и снова надела очки. Поудобнее подхватив сумку, она подошла ко мне, забрала тетрадь и, не прибавив больше ни слова, зашагала прочь.
Быть может, я обошелся с ней чересчур жестко, быть может, нет. Кто знает?.. Сам я знаю только одно: большинство людей предстает наиболее уязвимыми именно в своих дневниках. Они изливают на бумагу всю душу. Порой для таких людей дневник – это единственный друг и собеседник, единственный, кто готов их слушать, и единственный, с кем им хочется разговаривать. И мы говорим, говорим до тех пор, пока рука способна держать перо, а потом, опустошенные, выговорившиеся, ложимся спать, идем на занятия или возвращаемся к повседневной работе – или к чему-то другому, от чего пытались бежать.
Вернувшись домой, я некоторое время бесцельно бродил по комнатам, пока не решил, что поеду в больницу, когда на дежурство заступит вечерняя смена. Но вместо этого я вдруг с удивлением обнаружил себя свернувшимся на качалке на передней веранде, где, открыв глаза, наблюдал за тем, как раннее утреннее солнце золотит нежные кукурузные метелки. Последним, что я помнил, была все та же кукуруза, ряды которой кланялись поднявшемуся ветру.
Прищурив глаза от яркого света, я опустил голову и вдруг увидел на полу рядом с креслом-качалкой дневник Кой и придавленную камнем записку:
«Не хотела будить вас, профессор. Извините за вчерашнее. Прочтите, пожалуйста. Кой».
Я отправился на кухню, сварил кофе и, держа в руке дымящуюся кружку, вернулся в кресло. Кое-как справившись с желанием ехать в больницу, я раскрыл тетрадь на первой странице.
К полудню я прочел дневник целиком. В нем оказалось множество стихов, еще больше коротких виньеток-описаний, эпизодов и случаев из жизни. Ни начала, ни конца в общепринятом смысле в дневнике не было. Больше всего он напомнил мне подборку моментальных снимков или сделанных по горячим следам зарисовок, не объединенных даже формальным общим контекстом.
Когда я перевернул последнюю страницу, у меня оставался только один вопрос: что, ради всего святого, эта девушка делает на моих занятиях? Насколько я мог судить, Кой от природы была одарена очень щедро. Нет, я вовсе не имею в виду, что у нее был «прекрасный стиль» или что она «в совершенстве владела языком». У Кой просто был талант. Настоящий талант, без дураков.
И вот, сидя на крыльце и держа в руках душу и сердце своей студентки, я мог найти только два правдоподобных объяснения ее дару. Либо Кой была своего рода пишущим Биллом Гейтсом и обладала врожденной гениальностью, по какой-то причине не замеченной ее школьными преподавателями, либо с ней что-то случилось. И это что-то должно было быть достаточно неожиданным и серьезным, чтобы в одночасье лишить Кой обычной девичьей сентиментальности, заменив ее холодной отстраненностью Снежной королевы и… черными очками.
Дневник Кой пробудил во мне давние, почти забытые эмоции, которые я несколько раз испытывал, пока учился в начальной школе, и которые очень редко посещали меня в период моей так называемой взрослой жизни. Восторг, благоговение, изумление и трепет – вот что я чувствовал, когда мы с нашей школьной учительницей музыки мисс Эдвардс добрались до Моцарта. Читая дневник Кой, я испытывал то же самое. Мне просто не верилось, что столь молодая девушка смогла создать столь изящные, тонкие, зрелые вещи.
Наконец я отложил дневник и, чувствуя, что у меня пересохло во рту, отхлебнул горький, давно остывший кофе. Вкус был отвратительным, и меня едва не стошнило, но я вспомнил, что Мэгги любила холодный кофе. Утром она частенько наполняла им свою кружку, которая потом стояла несколько часов, пока перед обедом Мэгги ее не выпивала. Она утверждала, что в середине дня ей просто необходима инъекция кофеина. Я не возражал, мне только было непонятно, почему кофе непременно должен быть холодным, если сварить свежую порцию не так уж долго. Внезапно мне стало любопытно, и я вновь взял кружку и понюхал. Кофе простоял рядом со мной не меньше трех часов, и я поднес его к губам и сделал большой глоток. Холодные, крупные крошки кофейной гущи застревали у меня под языком, потом хлынули в горло. Да, подумал я, у холодного кофе совсем другой, особенный вкус… И в ту же секунду ледяной кулак одиночества снова обрушился на меня и размазал по полу, как букашку.
Когда я подошел к дверям больницы, термометр при входе показывал девяносто восемь градусов[34], и на чистом, голубом небе не было ни единого облачка. Несмотря на удушающую жару, на мне была черная футболка с длинным рукавом. Блу, высунув язык, следовал за мной по пятам.
В больнице было прохладно и тихо. Мэгги – моя спящая красавица, которую я никак не мог разбудить, – все так же лежала на своей койке. Совсем недавно кто-то расчесал ей волосы и покрасил ногти. Когда же я приподнял одеяло на ногах Мэгги, чтобы проверить, не холодные ли у нее ноги и не нужно ли надеть ей носки, то обнаружил, что тот же человек покрасил моей жене ногти и на ногах.
Мэгги всегда спала в носках – даже в самую жару. Она терпеть не могла, когда у нее мерзли ноги. Если же по какой-то причине Мэгги забывала надеть носки, тогда она упиралась холодными ногами мне в спину или в живот, в зависимости от того, на каком боку я спал, а это не нравилось уже мне.
Пока я предавался воспоминаниям, Блу быстро облизал Мэгги лодыжки, ткнулся холодным носом ей в ладонь, обнюхал волосы и устроился в ногах кровати.
Мэгги и в самом деле выглядела так, будто спала. Ее лицо сохраняло безмятежное выражение и никак не подтверждало мрачные пророчества врачей о «необратимом повреждении мозга» и о том, что она «может никогда не проснуться». Период, когда, по словам врача, вероятность выхода из комы составляла пятьдесят процентов, давно миновал; теперь шансы уменьшились еще в два раза. А всего несколько дней назад врач сказал мне, качая головой:
– Я не пугаю вас, Дилан, я просто не хочу внушать вам необоснованные надежды. Будьте готовы к худшему.
Но, несмотря на столь пессимистический прогноз, Мэгги не производила впечатления безнадежно больной или умирающей. Она была похожа на… на мою жену в воскресенье утром. Казалось, Мэгги вот-вот проснется и мы вместе поплывем на плоту вниз по реке.
На всякий случай я все-таки достал из пластикового кармана на спинке ее кровати медицинскую карту и, с трудом разбирая неудобочитаемые докторские каракули, прочел последние новости о состоянии здоровья Мэгги. Изменений не было, и я, открыв окно, швырнул бумажку как можно дальше. Она закувыркалась в воздухе и в конце концов спланировала в сверкающий на солнце пруд тремя этажами ниже. Я провожал ее взглядом и думал о том, что на окне нет решеток. В палате для «овощей» решетки ни к чему – коматозные пациенты из окон обычно не бросаются.
Повернувшись к Мэгги, я поцеловал ее в лоб. Кожа у нее была теплой, и пахло от нее моей женой.
– Привет, Мэг! Это я!.. – шепнул я, садясь. Она не ответила, да я и не ждал ответа. Просто раньше, когда я целовал ее в лоб, шептал: «Привет, Мэг!» – и ставил кофе на столик возле кровати, она обычно просыпалась, поворачивалась на бок и, положив голову мне на колени, протяжно зевала и спрашивала, чем я собираюсь сегодня заняться.
Мэгги всегда спала очень крепко. Порой, просыпаясь посреди ночи, я видел, что она лежит на спине, а ее ладонь покоится тыльной стороной на лбу, словно даже во сне Мэгги о чем-то напряженно размышляла или пыталась вспомнить что-то чрезвычайно важное. Из-за этого на ее переносице, прямо между глазами, появлялась легкая озабоченная морщинка, и я, склонившись над Мэгги, осторожно целовал ее в щеку, убирал руку со лба и клал ее вдоль тела, а потом кончиками пальцев прикасался к этой морщинке. Проходила минута, и кожа на переносице Мэгги разглаживалась, морщинка исчезала, а все тело расслаблялось. Если же я не просыпался, эта напряженная складка сохранялась на лбу Мэгги до утра, и, вставая утром, она невольно вскрикивала от боли в сведенной шее. Я всегда знал, что это свидетельствовало только о том, насколько глубокой и серьезной натурой была моя жена. Сложная простота или простая сложность, вот она какая – моя Мэгги. Парадокс. Средоточие крайностей, которые чудом остаются в равновесии.
Опустив голову на подушку рядом с Мэгги, я глубоко вздохнул. За всю нашу супружескую жизнь это был едва ли не первый раз, когда она не возражала против того, чтобы у нас была общая подушка. Я бы не рискнул воспользоваться ее беспомощностью и сейчас, но мне слишком хотелось слышать ее дыхание, чувствовать запах, слушать, как сухо трутся друг о друга под одеялом ее ноги. Я хотел быть со своей женой, только и всего!
Нет, речь идет вовсе не о физической близости, хотя голос плоти звучал во мне достаточно громко. Я этого не отрицаю, да и какой смысл? Я – мужчина, а Мэгги – моя жена. Я люблю ее. Но после неудачных родов, после кровотечения, после всего, что пришлось предпринять врачам, чтобы Мэгги не умерла прямо в родильной палате, должны были пройти месяцы, прежде чем мы снова смогли бы быть близки. И это – в чисто физическом плане, а ведь есть еще и эмоциональная сторона, которую нельзя не учитывать! Мэгги на удивление сильная женщина, но все же не настолько.
И сейчас, когда я говорю, что хотел бы быть со своей женой, я имею в виду нечто совсем другое. Я говорю о том, что́ бывает, когда в серых предрассветных сумерках вы открываете глаза и видите, что голова вашей любимой женщины лежит на подушке совсем рядом и что вы вдыхаете воздух, который только что побывал в ее груди. Я говорю о том, что́ вы испытываете, когда, закрыв глаза, продолжаете чувствовать, как ее дыхание щекочет ваши ресницы. Я говорю о том, что́ вы чувствуете, когда вы снова начинаете погружаться в сон, продолжая дышать одним воздухом.
Когда стемнело и мой пустой желудок начал подавать громкие протестующие сигналы, в палате появилась Аманда, толкавшая перед собой небольшую тележку.
Блу, успевший перебраться на пол – на одеяло в углу, – приподнял голову и насторожил уши.
– Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, мисс Мэгги. Привет, Блу… – Аманда остановилась рядом со мной, взяла меня за руку и принялась засучивать рукав футболки. Я поморщился и попытался высвободить руку, но Аманда держала крепко.
– Если вы не дадите мне вас перебинтовать, – сказала она, – я позову врача, пару самых сильных медсестер и вашего друга – помощника шерифа. Выбирайте, профессор: либо мы сделаем это с минимальным шумом, либо мы все равно это сделаем, но со скандалом.
Я вздохнул и протянул больную руку.
Почти сразу выяснилось, что рукав моей футболки местами присох к ране, и на нем проступили небольшие пятнышки гноя и сукровицы. Держа меня за запястье, Аманда методично резала бинты, отделяя и закатывая рукав. Довольно скоро я почувствовал боль и увидел, что моя рука под бинтами превратилась в гноящийся кусок мяса.
Пока я морщился и шипел, Аманда как ни в чем не бывало разговаривала с Мэгги.
– Не беспокойтесь, мисс, – говорила она. – Я позабочусь о его руке, пока вы сами не сможете ею заняться. Слава богу, профессор Стайлз часто бывает в больнице, где я могу его перевязать. Я умею перевязывать, мисс Мэгги, не волнуйтесь. Думаю, его рука в конце концов заживет, хотя, на мой взгляд, ваш муж не очень-то хорошо заботится о себе. К сожалению, когда он не в больнице, я ничего не могу сделать… – Тут Аманда посмотрела на меня. – Знаете, мисс Мэгги, у меня складывается впечатление, что мистер Стайлз постоянно теребит свою рану, когда его никто не видит. Так ведут себя люди, которым хочется поскорее от чего-то избавиться или что-то забыть, поэтому будет очень хорошо, если вы придете в себя как можно скорее. Иначе мистер Стайлз может довести себя до такого состояния, что уже не сможет пользоваться рукой.
Она наложила на рану свежую повязку, потом протянула мне раскрытую ладонь, на которой лежала какая-то таблетка.
– Проглотите-ка вот это.
Потом Аманда ушла, а еще какое-то время спустя я задремал. Было уже два пополуночи, когда меня разбудил Эймос. Тронув меня за плечо, он сказал:
– Просыпайся, соня, и пойдем, выпьем кофе.
Пока я продирал глаза и вытирал мокрый подбородок, Блу усиленно лизал мою лодыжку. Голова у меня все еще была будто ватой набита, но лекарство, которое дала мне Аманда, подействовало: рука почти не болела.
Прежде чем покинуть палату, я поцеловал Мэгги и положил ладонь ей на лоб.
– Увидимся завтра, родная. Спасибо, что позволила мне полежать на твоей подушке. Обещаю, если ты очнешься, тебе больше никогда не придется этого делать.
Выйдя из больницы, мы с Эймосом перешли на противоположную сторону улицы, где находилось круглосуточное кафе. Когда-то это была «Вафельница» – ресторан быстрого обслуживания сети «Ваффель-Хаус», теперь же вывеска над входом гласила «Закусочная Эла. Открыто 24 часа». Удивительно, но, когда бы я туда ни заходил, за раскаленным, пышущим жаром грилем непременно стоял сам Эл. Когда этот парень спал, так и осталось для меня загадкой.
Эймос и я сели за столик, заказали кофе, а я взял еще две порции омлета.
– Как там наша Мэгги? – спросил Эймос.
– Без изменений.
– Слушай, а что это за история с твоей рукой?
– С рукой?
– Можешь мне объяснить, откуда у тебя эта рана на руке и почему она никак не проходит?
– Я просто поранился, когда работал в поле и…
– А твоя сиделка сказала мне не так.
– Аманда? Она-то откуда знает? Ее там, кажется, не было!
– Она говорит, что от раза к разу твоя рана становится хуже, к тому же теперь ты начал ее прятать. Ей даже пришлось забинтовать ее покрепче, чтобы ты не мог ковырять.
– Ради всего святого, Эймос! На часах три ночи. Неужели мы не можем поговорить о чем-нибудь другом?
– Как тебе твоя группа? – без малейшей паузы спросил Эймос.
Я поднял на него взгляд.
– Слушай, разве ты не должен сейчас спать у себя дома, дежурить или заниматься еще какими-нибудь важными делами?
– Я как раз на дежурстве.
– То есть деньги, которые я плачу в виде налогов, идут на оплату таких вот дежурств?
– Как тебе твоя учебная группа?
– Ты ведь не отстанешь, верно?
– Не отстану, покуда речь идет о тебе. – Эймос улыбнулся. Даже в полутемном кафе было хорошо видно, как сверкнули его крупные белые зубы.
Я протер глаза.
– Наверное, я должен быть за это благодарен, но я не…
– Ты уже знаешь?
– Знаю?.. Насчет чего?
– Насчет Аманды.
– Может, хватит говорить загадками, Эймос? Я хочу спать, и у меня нет никакой охоты разгадывать твои ребусы.
– Так ты знаешь насчет Аманды?..
– А что тут знать? Да, у меня в группе учится милая, добрая, беременная дочка священника, которая всегда садится за первую парту. И да, та же самая дочь священника является ночной сиделкой моей больной жены. Все это я знаю очень хорошо. Ну, и что с того?
– Все верно, Дилан, только… только это еще не все. Неужели ты не спрашивал себя, как эта милая, добрая, привлекательная и незамужняя дочь священника умудрилась забеременеть?
– Как все люди, я думаю. Знаешь, подобные вещи меня как-то не очень интересуют.
– А напрасно. Бьюсь об заклад, ты решил, что Аманда – просто еще одна среднестатистическая мать-одиночка.
Я снова протер глаза и стал смотреть на темную улицу за окном.
– Очень тебя прошу, Эймос, хватит ходить вокруг да около. Давай к делу, в чем бы оно ни заключалось.
– Так вот, полгода назад Аманду Ловетт похитили, увезли миль за семь от города и привязали к дереву в глубине болот Сокхатчи. После этого ее изнасиловали… двое, а может быть, и трое мужчин. Через неделю ее бросили на лужайке перед отцовским домом. Желаешь знать подробности?
– Нет. – Я покачал головой. Того, что только что сообщил мне Эймос, было вполне достаточно, чтобы я представил себе всю картину. – Я понял.
– Та самая девушка, которая лечит твою руку, расчесывает волосы твоей жене, стелет одеяло для Блу и приносит тебе по утрам апельсиновый сок, была зверски избита и брошена полумертвой перед дверьми собственного дома. Она не умерла, но вскоре стало ясно, что она беременна… – Эймос откинулся назад. – Диггер – маленький город, и любые новости здесь разносятся быстро, но вы, Стайлзы, всегда держались сами по себе. И сейчас, насколько я могу судить, мало что изменилось. – Он вынул изо рта зубочистку и показал ею на меня. – Хочешь, я отвечу на твой следующий вопрос?
– Валяй.
Эймос снова сунул зубочистку в рот и движением языка переместил ее в другой уголок губ.
– Я мог бы тебе сказать, но будет лучше, если ты услышишь это от самой Аманды. Спроси у нее при случае.
– Ты привел меня сюда посреди ночи только за тем, чтобы сказать, что я должен задавать вопросы самой Аманде?
– Угу.
– Но почему?
– Потому что тебе будет нелишним узнать: в мире хватает людей, которые страдают не меньше твоего и которые, как и ты, вынуждены сносить беды и невзгоды. Жизнь вообще жестокая штука, так что… добро пожаловать на землю, сынок.
– Спасибо. Мне, конечно, станет гораздо легче, если я узнаю, что другим так же плохо.
Я расплатился за кофе и яйца, и мы с Блу вышли, а Эймос остался потрепаться с Элом. Когда я завел мотор своего грузовичка, Гарт Брукс по радио пел дуэтом с Мартиной Макбрайд, но я выключил приемник и ехал домой в тишине, нарушаемой лишь застрявшим в покрышке камешком, который ритмично постукивал по асфальту при каждом обороте колеса.
Глава 17
По словам Мервина, в пятницу вечером должна была состояться самая важная в году игра. «Большое дерби», как он выразился. Я всегда знал, что у каждой команды есть свой неудобный соперник (не обязательно чемпион), играть с которым очень трудно, а побеждать – еще труднее. Для Диггера таким соперником была команда из профессионального колледжа Южной Каролины.
Мы с Блу выбрали место у ограды рядом с железнодорожными путями и стояли примерно на уровне зачетной линии. Трибуны, разумеется, были битком набиты болельщиками. Я знал, что при виде собак некоторые люди начинают нервничать, поэтому пристегнул к ошейнику Блу поводок.
Блу посмотрел на меня как на помешанного.
– Извини, приятель. Это ненадолго, всего на часок.
Прислонившись к сетке ограждения, я поднял взгляд и посмотрел на табло. Шла третья четверть[35], команда ПКД выигрывала у колледжа Южной Каролины со счетом 27:20. Фактически один тачдаун. От того же Мервина я знал, что преимуществами нашей команды были высокая скорость и вполне приличный квотербек. У южнокаролинцев был отличный ранингбек по фамилии Тампер. Кроме того, у обеих команд была неплохо поставлена защита.
Вся защита Диггера была сейчас на поле. Рассел находился на дальнем от меня краю на позиции защитника. Вот южнокаролинцы отбросили мяч, и их квотербек двинулся влево – на тот край поля, за которым присматривал Рассел. Рассел без труда блокировал нападение и столь энергично атаковал квотербека, что, не избавься тот от мяча, дело закончилось бы потерей двадцати или более ярдов.
В одно мгновение игроки рассыпались по полю, пытаясь подобрать отброшенный квотербеком мяч. Болельщики на трибунах повскакивали с мест, засвистели, замахали руками и загремели трещотками, сделанными из молочных бутылок, внутрь которых были брошены несколько мелких монет. Из образовавшейся в какой-то момент свалки неожиданно появился Мервин с мячом в руках. Он несся по ближнему ко мне краю поля с такой скоростью, что его ноги превратились в размытое пятно. Когда Мервин пролетал мимо меня, я успел заметить его зубы, оскаленные в улыбке свирепой радости. Зачетную линию он пересек, опередив ближайших преследователей ярдов на десять, и, приземлив мяч, исполнил замысловатый танец, какого я никогда прежде не видел. Прибежавший Рассел подхватил приятеля на руки и подбросил высоко в воздух, после чего и они, и остальные игроки защиты прошествовали к скамейке. Счет стал 32:20.
Я что-то бормотал себе под нос насчет «быстрых ног», когда позади меня раздалось:
– Добрый вечер, профессор.
Этот мягкий, соблазнительный голос я узнал практически сразу и обернулся скорее из вежливости, чем по необходимости.
– Здравствуйте, Кой. Сегодня, я вижу, вы без очков?..
Плавным движением Кой опустила на нос очки, сидевшие у нее на голове высоко надо лбом.
– Почему – без?..
– Вот так-то лучше, – заметил я. – Без очков я вас еле узнал.
Команда ПКД ввела мяч в игру ударом с центра и остановила южнокаролинцев на двадцати двух ярдах.
– И что вы здесь делаете? – спросила меня Кой.
– Смотрю футбол, – ответил я, показывая на поле.
– А с трибун разве не лучше видно?
– Лучше, но я боюсь за Блу. Он не очень любит шум.
– Вот как?.. – Она опустилась на колени и почесала Блу за ушами. – Можно задать вам вопрос, профессор?..
– Какой?
– Личный. – Кой снова улыбнулась. – Что с вами случилось?
– Случилось? – удивился я. – В каком смысле?
– Я имела в виду, почему вы – такой молодой, привлекательный, начитанный – вдруг стали преподавать английский группе неудачников?
– Вы считаете себя неудачницей? И остальных тоже?..
– Бросьте, профессор. В конце концов, мы взрослые люди и прекрасно знаем, что к чему.
– Что ж… Вообще-то я преподавал и раньше, но потом занялся фермерством. Когда… когда возникла непредвиденная пауза, мне подвернулась эта вакансия, я подал заявление, и меня приняли, чтобы я преподавал вашей группе.
– А я слышала, дело было не совсем так.
– Не совсем так?
– Не совсем так, и даже совсем не так, – проговорила Кой, ловко подражая моим интонациям. – Насколько я знаю, один из ваших друзей – этот здоровяк, помощник шерифа, – нашел вас полумертвым на кукурузном поле. Кстати, сегодня он тоже где-то здесь… – Приподняв голову, Кой посмотрела куда-то на противоположную сторону футбольного поля и прижала палец к губам. – Между нами, мистер Эймос довольно симпатичный, хотя этот его огромный пистолет немного меня пугает. Так вот, ваша жена знала, что вы можете преподавать, а ваш друг знал, что вы – отвратительный фермер. Говорят, они сговорились за вашей спиной и засунули вас в этот колледж – к нам, второгодникам и неудачникам.
Я кивнул.
– Я вижу, вы прекрасно осведомлены о некоторых, гм-м… обстоятельствах моей жизни. А как насчет вас, Кой? Какие обстоятельства привели в этот колледж вас?
Она снова сдвинула очки с носа почти на самую макушку.
– Ну, это не так важно, – поспешно сказала Кой. – Видите ли, профессор, я… я просто решила вас немного подбодрить, понимаете? Вы, наверное, и сами знаете, что в колледже вы выглядите белой вороной. В буквальном смысле, профессор! Я хочу сказать, что вы чуть ли не единственный белый человек в той вонючей дыре, которая лишь по недоразумению зовется профессиональным колледжем Диггера… – Она слегка приподнялась на цыпочки и махнула рукой кому-то в толпе. – Вот я и решила, что дружеская беседа будет вам приятна.
– Ах, вот что это было! – сказал я, улыбаясь. – Дружеская беседа!..
– Ну да. Слышали бы вы меня, когда я настроена враждебно. Это просто ужас какой-то! – Она принялась играть со своими сережками.
– Нет уж, увольте… Давайте лучше беседовать по-дружески, как сейчас.
– Согласна. – Кой шагнула вперед и, слегка коснувшись меня плечом, встала рядом, положив подбородок на сложенные поверх ограды руки. – И все-таки, что вы здесь делаете?
– Я действительно люблю футбол, Кой. Ведь я и сам когда-то играл… Ну а кроме того, мне хотелось своими глазами увидеть, действительно ли наши великие спортсмены так хороши, как я постоянно слышу от Мервина.
– Мервин, конечно, хвастун, но, можете мне поверить, на самом деле они даже лучше, чем он рассказывает. Вон там, на балконе… – Она показала на ложу прессы, расположенную выше основных трибун. – Там сейчас сидят полтора десятка скаутов из лучших команд страны. А люди на крыше – это репортеры, которым положено освещать игру. Их выставили из ложи прессы, чтобы освободить место для скаутов, представляете?!
Я проследил за ее взглядом и невольно задумался о том, какое будущее ждет Мервина и Рассела. Похоже, что не пройдет и трех лет, и их жизни круто изменятся.
Я снова повернулся к Кой.
– Вы, кажется, хотели знать мою историю? Все очень просто. Мы с женой вернулись в эти края после того как закончили учебу в университете. Несмотря на ученую степень, мне не удалось найти место преподавателя, так что пришлось обратиться ко второй специальности – к фермерству. Но, как вам совершенно правильно сказали, фермер из меня никудышный, во всяком случае – пока. Были и другие причины… В конце концов моя жена с помощью моего друга Эймоса нашли для меня эту работу – преподавать литературный английский в колледже Диггера. Вот, собственно, и все.
– Нет, не все. Расскажите мне то, что́ я еще не знаю…
– Ну хорошо…
У Южной Каролины, находившейся на сорокаярдовой линии Диггера, оставалась последняя, четвертая попытка, чтобы пройти оставшиеся семь из положенных десяти ярдов и получить новые четыре попытки для продолжения атаки. Точный пас – и мяч попал к Тамперу, который, наклонив голову и выставив плечо, протащил его на одиннадцать ярдов. Южная Каролина получила свои четыре попытки, но теперь до зачетного поля ПКД оставалось не сорок, а двадцать девять ярдов. Во время первого паса Мервин бросился было из своего угла на помощь команде, однако, как и большинство корнербеков, обладающих отменной скоростью, но не имеющих ни физической возможности, ни особого желания таранить противника, парень попытался опрокинуть нападающего, просто схватив его за руку. Возможно, он видел этот прием у Диона, который действительно умел его исполнять; у Мервина же ничего не вышло. Тампер пробежал, почти не заметив его, – пробежал фактически по нему, – и принес своей команде сразу семь ярдов. Мервин поднялся с газона, подтянул ремешок шлема и, прихрамывая, побрел к бровке – похоже, ему нужна была передышка. Рассел, которому передышка не требовалась, стоял среди запасных игроков, ожидая очередного выхода на поле.
– Кой… – Я посмотрел на девушку. – На моих занятиях вы валяете дурака, теперь я знаю это точно. То, что я прочел в вашем дневнике, во много раз лучше того, что вы делаете в классе. Почему?
Она картинно захлопала ресницами.
– Почему?.. Да потому, что учебные работы ничего не значат!
Я кивнул.
– Допустим. С другой стороны, у вас – настоящий, большой талант, но вы его совершенно не используете.
– Возможно, но…
– Что – «но»?
Она снова положила подбородок на сложенные руки и стала смотреть на противоположный край поля.
– Вы, профессор, отлично разбираетесь в литературе, но, когда дело касается людей, вы порой не понимаете самых элементарных вещей. Поглядите вокруг!.. Где мы с вами находимся? В Диггере. В самом что ни на есть южнокаролинском захолустье! Мне никогда отсюда не выбраться – я это точно знаю. Я застряла в этой клоаке на всю жизнь, и вам это тоже прекрасно известно. Не зря наш городок стоит на бывшем болоте!
– В болоте действительно можно утонуть, но можно и выбраться… – Я немного помолчал. – Все зависит от того, какой выбор сделает сам человек. Я уверен, что вы сможете выбраться, но… но это вряд ли произойдет, если вы и дальше будете сдавать мне незаконченные работы и халтурить на занятиях. Когда вы писали свой дневник, вы относились к нему иначе.
Кой отвернулась и снова надвинула очки на глаза.
– Я… я постараюсь выбраться. – Резко повернувшись, она торопливо зашагала прочь. – До свидания, профессор.
Она ушла так же, как и пришла – одна, держась подальше от трибун.
До конца матча оставалось две минуты. ПКД все еще был впереди на десять очков и держался вполне уверенно. Впрочем, за две минуты могло случиться еще многое. В конце концов, у Южной Каролины был Тампер, который за сегодняшнюю игру принес своей команде ярдов двести, а может быть, даже больше. С другой стороны, я твердо знал, что эти ярды он заработал главным образом на противоположном от Рассела краю поля.
Вот южнокаролинцы ввели мяч в игру. Их квотербек подобрал его на семи шагах и технично отпасовал к дальней бровке. Он, однако, не заметил Мервина, который был закрыт другими игроками и к тому же прекрасно рассчитал свой прыжок. Мервин перехватил мяч на десяти ярдах, сделал несколько обманных движений и снова вернулся к боковой линии, где сейфти, сделав пару удачных блоков, расчистил пространство для атаки. Тампер, срезав угол, двинулся было на перехват, но его уложил на газон Рассел. Мервин тем временем сделал еще три шага и был таков.
Танцевать он начал еще на десятиярдовой линии, потом на бегу перебросил мяч через перекладину ворот. Боковой судья выбросил флаг, вынося ему предупреждение за чрезмерную эмоциональность, но Мервину было уже все равно. Он протанцевал к самой боковой линии, где тренер и товарищи по команде в восторге хлопали его по плечам и по шлему. Вырвавшись от них, Мервин вскочил на скамью и, повернувшись лицом к трибунам, воздел обе руки вверх, поднимая «волну». Зрители отозвались восторженным ревом. Люди вскакивали на сиденья, кричали и вопили, сыплющаяся из трещоток мелочь со звоном прыгала по ступенькам, и я подумал, что в понедельник, когда Мервин придет на занятия, его будет непросто угомонить.
Глава 18
Я сидел в темной гостиной и напряженно прислушивался в надежде уловить хотя бы отзвук голоса Мэгги, когда хлопнула входная дверь-экран и в комнату танцующей походкой вошел Эймос. Стояла середина ноября, канадские ветры принесли к нам с севера холодный арктический фронт, и температура упала до двадцати трех градусов[36]. Не знаю, действительно ли во всем был виноват этот арктический фронт, но холод стоял такой, что, выйдя на улицу без перчаток, я едва не отморозил себе пальцы. И это был не предел – по радио сказали, что ночью температура может опуститься еще градуса на три-четыре.
Рядом со мной валялся на полу старый кархартовский комбинезон, болотные сапоги и налобный фонарь. Толстый вязаный свитер был уже на мне – я надел его, чтобы лишний раз не растапливать камин. Эймос окинул меня одобрительным взглядом, кивнул и, не говоря ни слова, повернулся и двинулся обратно к двери. Я подобрал с пола свое снаряжение и, выйдя вслед за Эймосом на улицу, закинул вещи в кузов его внедорожника. Уже в кабине, отогревая руки над решеткой включенной на полную мощность печки, я подумал о том, что зима наконец-то наступила и что Мэгги была бы рада.
Блу остался дома. Прежде чем выйти из комнаты, я повернулся к нему и поднял ладонь, словно регулировщик, останавливающий поток машин. Блу все понял. Тяжело вздохнув, он запрыгнул на диван и отвернулся с обиженным видом. Во всей его позе сквозило молчаливое осуждение, но я только покачал головой.
– Не сегодня, – сказал я как можно тверже. – Не хочу, чтобы ты пострадал.
В ответ Блу только тихонько заскулил и спрятал мокрый нос под диванные подушки.
Когда мы приехали в магазинчик Уилларда, парковка была уже битком набита грузовичками, пикапами, собачьими клетками и людьми в оранжевых жилетах, бейсболках с логотипами фирм-производителей сельхозоборудования, в теплых джинсовых комбинезонах и высоких болотных сапогах. Почти все жевали табак, используя чашки из-под кофе вместо плевательниц. Термометр на бензоколонке показывал уже двадцать два градуса, но, наверное, только из-за того, что, пока мы ехали, поднялся холодный ветер.
Пару недель тому назад Эймос похвастался, что купил отцу к новому сезону какие-то особо теплые болотные сапоги. Сейчас, не успел он поставить свой «Экспедишн» рядом со старым отцовским «Фордом», мистер Картер тотчас подошел к нам. На нем действительно были новенькие сапоги на эластичных подвязках.
– Отличные сапоги, Эйм, – сказал он. – В таких хоть за лосем гоняйся!
– Я рад, что тебе нравится, – ответил Эймос, и мистер Картер положил руку ему на плечо. Вместе они двинулись к магазину Уилларда, а я последовал за ними.
Мистер Уиллард с улыбкой распахнул перед нами двери – должно быть, он заметил нас в окно. Когда мы вошли, он повесил табличку «Закрыто» на крючок с присоской, прилепленный к средней панели окна.
После того как мы с Эймосом налили себе по кружке горячего кофе и наполнили облупленный зеленый термос, выглядевший так, словно он слишком долго валялся в кузове грузовика, кофемашина мистера Уилларда почти опустела. Пока мы с ней возились, мистер Картер снова вышел во двор, взобрался на собачью клетку, закрепленную в кузове его «Форда» и, привлекая к себе внимание, несколько раз ударил гвоздем по пустой жестянке из-под кофе. Подтянув повыше «молнию» на куртке, он поднял воротник, сунул руки в карманы и заговорил:
– Ну вот, можно начинать! Подходите-ка поближе, чтобы мне не орать на весь двор… Да, вот так будет лучше. – При каждом слове у него изо рта вылетали густые клубы пара – до того холодно было на улице. – Только ты, Джим, не стой так близко от моей выхлопной трубы – я не хочу, чтобы ты снова отрубился, и не желаю слышать от тебя никаких жалоб, когда мы зайдем глубоко в болото!
Мистер Картер улыбнулся, Джим смущенно переступил с ноги на ногу, а остальные рассмеялись. Фамилия Джима – Биггинс. Многие зовут его Бэггинсом или просто Бильбо, но на самом деле этот рослый здоровяк – полная противоположность забавным хоббитам. Джим владеет городской автомобильной свалкой, а в сезон холодов еще и приторговывает дровами, снабжая ими и местных, и кое-кого в Чарльстоне. За семь лет не было случая, чтобы у него закончились дрова, и не было случая, чтобы в Диггере кто-нибудь остался без топлива. Дрова Джим продает дешево, и многие из тех, кому газ не по карману, благодарны ему за то, что он не дал им замерзнуть.
Несколько лет назад он в течение нескольких недель вкалывал практически без выходных по много часов в день только потому, что по телевизору объявили – мол, Южную Каролину ждет долгая и суровая зима. В один из дней, вернувшись домой после очередной двойной смены, он переоделся в комбинезон и болотные сапоги и отправился вместе со всеми охотиться на енотов. Не успели мы зайти в болото, как Джим начал засыпать буквально на ходу. Мы ведрами вливали в него кофе, но ничего не помогало, и к тому моменту, когда собаки загнали на дерево крупного енота, Джим уже крепко спал, свернувшись клубочком прямо на земле, у подножия старого кипариса.
В Джиме шесть футов и шесть дюймов, а весит он фунтов триста. Вытащить его из болота нам было не под силу, поэтому мистер Картер и остальные продолжили охотиться, а мы с Эймосом в течение нескольких часов охраняли сон Джима. Мы развели костер и сидели возле него, попивая кофе, пока он наконец не проснулся. Поднявшись во весь свой рост, Джим несколько раз тряхнул головой, извинился, и мы повели его домой. С болота мы вышли, когда до рассвета оставался всего час.
С тех пор мне ни разу не приходилось платить за дрова: Джим просто не брал у меня денег. Тем не менее дрова в нашем амбаре не переводились. Каким-то чудесным образом они появлялись там каждой осенью в достаточном количестве.
– Я рад приветствовать всех, кто согласился принять участие в первой в этом году охоте на енотов! – Стоя на собачьей клетке в кузове пикапа, мистер Картер обращался к собравшейся на парковке толпе охотников, словно председатель правления крупной корпорации – к ежегодному собранию пайщиков. – Похоже, сегодня как раз подходящая ночка! – добавил он, разглядывая безоблачное небо и повисшую над горизонтом полную луну.
Охота на енотов в Диггере – это религия, культ, нечто священное, что на протяжении поколений передается от отца к сыну. А отец Эймоса к тому же уже несколько лет владеет лучшими енотовыми гончими в штате. В течение последних двенадцати или даже пятнадцати лет он неизменно становился победителем или, в крайнем случае, занимал почетное второе место во время Большой Охоты, которая традиционно проходила на болотах Сокхатчи. Мистер Картер буквально жил этой охотой, она вошла в его плоть и кровь. Ничто не могло его остановить. На улице мог свирепствовать ураган, срывающий крыши с домов и ломающий верхушки деревьев, но стоило ударить первым заморозкам, и мистер Картер грузил пять или шесть своих лучших гончих в кузов и ехал к магазинчику мистера Уилларда.
Не стоит заблуждаться: принять участие в первой охоте сезона можно только по приглашению, а мистер Картер весьма и весьма разборчив. И если вы все-таки получили приглашение, то лучше вам быть в хорошей форме и не отставать от основной группы. Если вы в состоянии прошагать без остановки десять или пятнадцать миль, да еще в хорошем темпе, тогда все в порядке. Если нет, во второй раз вас могут и не пригласить.
Мистер Картер очень гордится своими собаками, способными охотиться всю ночь и бо́льшую часть утра. Его питомник – настоящее, хотя и небольшое, промышленное предприятие, функционирующее на строго научной основе. Двенадцать собак живут в двенадцати просторных вольерах, приподнятых на четыре фута над землей. У каждого пса есть собственная конура, собственная миска и автоматическая поилка. Раз в месяц мистер Картер ездит в «Уолмарт» и покупает там от семи до десяти семидесятифунтовых мешков сухого корма «Альпо». Дюжина крупных собак производит огромное количество отходов, поэтому каждое утро мистер Картер включает свою мини-мойку и моет из шланга бетонный пол в вольерах, а экскременты собирает в пятигаллонное ведро и выбрасывает в канаву, которую он выкопал с помощью своего погрузчика-экскаватора. За пятнадцать лет мистер Картер перекопал почти все свое пастбище, зато теперь у него растет самая высокая и сочная трава во всем Диггере.
За последние без малого два десятка лет только одна собака мистера Картера погибла от укуса змеи, он специально учит своих питомцев держаться от них подальше. Ранней весной, как только пригреет солнышко и погода станет достаточно теплой, мистер Картер ловит гремучую или мокасиновую змею, которая переползает шоссе или плывет вдоль речного берега. Замотав змее пасть скотчем, он пускает ее в отдельный вольер, где уже сидит собака с прикрепленным к ошейнику электрошокером. И это вовсе не слабенький аппарат из зоомагазина, с помощью которого домашние хозяйки отучают своих болонок брехать на прохожих. Крупного пса такой шокер только пощекочет, поэтому мистер Картер использует мощные устройства, которые действительно работают, и работают эффективно. Их разряд в буквальном смысле валит собаку с ног, поэтому мистер Картер называет свой метод дрессировки электрошоковой терапией и верит в него, как в Господа Бога, а может быть, даже сильнее. Когда мы с Эймосом были маленькими, он даже грозился испробовать электроошейники на нас, если ему покажется, что подобная мера необходима для нашего правильного воспитания. После этого мы стали особенно осторожны, то есть очень старались, чтобы мистер Картер не узнал о наших проделках.
Но вернемся к обучению собак. Как только змея с замотанной пастью оказывалась в вольере, собака начинала действовать так, как подсказывал ей инстинкт. Она стремилась обнюхать непонятный предмет, но стоило ей приблизиться к змее, и мистер Картер включал ошейник на половинную мощность. «Тубо!» – командовал он, и собака то пятилась назад, то снова продвигалась вперед мелкими шажками, искоса наблюдая за змеей. Змея, в свою очередь, тоже наблюдала за собакой и, свернувшись кольцом, несомненно, мечтала о том, чтобы ее пасть не была надежно замотана липкой лентой.
В конце концов собака, которая даже представить себе не могла, что шлангообразное существо в углу вольера способно убить ее одним укусом, снова приближалась к змее и пыталась схватить ее зубами. Вот тут-то мистер Картер и нажимал большую красную кнопку на пульте дистанционного управления. Взвизгнув, собака подскакивала на прямых лапах фута на три вверх, а потом, поскуливая, забивалась в самый дальний угол вольера. Некоторым хватало одного раза, некоторым приходилось объяснять, что к чему, еще раз, но в конце концов мистер Картер добивался своего: во время охоты ни одна из его собак даже не пыталась обнюхать случайно встреченную змею.
Вот такое лекарство от любопытства.
Несколько лет назад приятель мистера Картера, который жил в Чарльстоне, привез ему особенно упрямого кунхаунда по кличке Гас. Это было крайне несимпатичное, хотя и чистокровное существо – косое, как козел, и тупое, как бревно. Как сказал мистер Картер, прежнему владельцу просто надоело с ним возиться, вот он и решил избавиться от Гаса, подарив дальнему знакомому.
Чтобы излечить собаку от глупости, мистер Картер поймал шестифутовую гремучку, замотал ей пасть скотчем и посадил в один вольер с Гасом. Тупая псина тотчас попыталась схватить змею зубами – и получила мощный разряд. Трижды мистер Картер нажимал большую красную кнопку, так что в конце концов Гас все же понял, в чем подвох. Правда, электроошейник едва его не прикончил, но истина все же добралась до его тупых мозгов. К счастью, Гас выжил. Он здравствует и сейчас, и за все время ни разу не схватил змею и ни разу не был ею укушен.
Пока я предавался воспоминаниям, мистер Картер пнул клетку, чтобы заставить замолчать сидевшую в ней собаку, и продолжил:
– Я рад, что вы все смогли прийти на первую в этом году охоту. Сегодня с нами нет Джона Стоттона – его Эмме нездоровится, но он обещал, что присоединится к нам в ближайшие выходные. Пастор Джон поехал в Чарльстон на бракосочетание. А еще… – Он посмотрел на Эймоса. – Кого я пропустил, сынок?
– Сэма, – вполголоса подсказал Эймос.
– Ах да, Сэм Ревел уехал по делам в Колумбию. Он, как и все остальные, просил передать вам свои извинения. Пока не подошли Батч Уокер и его ребята: у них куда-то забрели несколько коров, и они их ищут. Если поиски не затянутся, они обязательно нас догонят.
Для охоты на енотов нужен хороший фонарь, поэтому каждый год мы все участвуем в негласном соревновании на лучшее, скажем так, осветительное устройство. Выбрать подходящий фонарь непросто – это тоже целая наука. Каждый охотник должен учитывать три вещи: вес фонаря, его мощность и время работы батарей. В прошлом году одобрительных хлопков по плечу удостоился Джон Биллингсли, который пришел на охоту с фонарем «Ку-Бим» мощностью миллион свечей на груди и с рюкзаком, в котором поместились четыре литиевых аккумулятора от ноутбука «Эппл». В обычной жизни Джон занимается продажей компьютеров, и, по слухам, в этом году он грозился довести мощность своего фонаря до двух миллионов свечей. С моей точки зрения, это, пожалуй, уже чересчур, но Джон принадлежит к тем людям, которые не понимают, когда можно – и нужно – остановиться. Насколько мне известно, он – единственный в нашем городе, кто меняет компьютер каждые три месяца, вне зависимости от того, есть ли в этом какой-то практический смысл или нет. Джон обожает технические новинки, и в его туалете на бачке унитаза громоздятся кипы компьютерных журналов; в некоторые из них он даже посылает свои статьи. Одно хорошо – все «устаревшие» компьютеры, которые Джон «списывает», попадают в городские школы.
Сегодня Джон тоже участвовал в охоте. Когда он выбрался из своего грузовичка, то был похож на ходячий маяк, и мистер Картер не преминул это отметить. Встав на самый край собачьей клетки, он окинул взглядом толпу охотников и показал на Джона Биллингсли.
– Думаю, никто не будет возражать, если в этом году мы снова признаем Джона обладателем лучшего фонаря. Джонни, ты превзошел самого себя!
Услышав эти слова, Джон широко улыбнулся, а несколько стоявших рядом с ним парней одобрительно похлопали его по спине.
– Каждый, кто жалуется на плохое зрение, должен держаться поближе к Джону! – продолжал мистер Картер. – Только будьте осторожны: его фонарь слишком похож на прожектор в аэропорту. Берегитесь самолетов, которые могут пойти на посадку, ориентируясь на его свет!
Когда смех затих, мистер Картер добавил более серьезным тоном:
– Джентльмены! Вот уже три года мы не охотились на южной окраине Сокхатчи. Думаю, сегодня мы отправимся именно туда. Никто не возражает?..
Последний вопрос был задан исключительно для проформы. Авторитет мистера Картера никогда не подвергается сомнению. Да и то сказать: первая охота сезона – это его шоу, и все это отлично знают.
Когда никто не отозвался, мистер Картер удовлетворенно кивнул.
– Отлично. А теперь скажи-ка мне, Джимми, – обратился он к мужчине в вылинявшем зеленом комбинезоне, – та паршивая сука – Салли, кажется? – она сегодня с тобой?
– Да, сэр, – почтительно отозвался Джимми.
– Хорошо. Она прекрасно работает с Бэджером, их мы и пустим первыми. Надеюсь, все помнят, что первый зверь сезона идет для притравки собак, так что, когда мы окружим дерево, те, у кого слабый желудок, должны держатся подальше, чтобы не хвалиться харчами. Все ясно? – Мистер Картер сложил руки и слегка нахмурился, словно сверяясь с воображаемым списком. – Связь будем держать по седьмому каналу. Если прием будет слабым, переходим на четырнадцатый. У всех есть напарник?..
Какой-то парень в задних рядах поднял руку.
– У меня нет, сэр.
– Хорошо, Фрэнк. У меня тоже нет, так что будешь со мной. Кто-нибудь еще?
Никто не отозвался, и мистер Картер соскочил с клетки в кузов, потом на землю и рысцой побежал к кабине. Шестнадцать двигателей взревели одновременно, заурчали глушители, а к небу поднялись клубы дыма и пара. Первым тронулся с места старенький «Форд» мистера Картера, следом за ним выехали со стоянки и остальные машины.
Думаю, сними кто-то эту сцену на видео, и из нее получилась бы отличная реклама. В нашей колонне было пятнадцать грузовичков и пикапов – пятнадцать «Фордов» и «Шевроле» разных моделей, разных годов выпуска, разной степени потрепанности. Не хватало только звуковой дорожки – песни Боба Сигера, Алана Джексона или Джорджа Стрейта, а так нас вполне можно было показывать перед понедельничным футбольным матчем.
Выбравшись на шоссе № 42, мы доехали до развилки Максуини-Форк и свернули направо – на Саут-Салк-роуд. Через четыре мили мы добрались до Гантерс-Хоул и остановились под раскидистой кроной могучего виргинского дуба, служившего чем-то вроде межевого знака, обозначая границу болот.
В Диггере о болотах Сокхатчи рассказывают самые невероятные вещи. Золото конфедерации. Индейцы. Погибшие влюбленные. Немецкие шпионы времен Первой и Второй мировых войн. Вьетнамские партизаны. Восемнадцатифутовые аллигаторы. И так далее, и так далее… Черная стоячая вода, стофутовые кипарисы с гирляндами мха на ветвях, повитые туманом бездонные «окна», запах гниющей травы и упавших деревьев служили прекрасным фоном для любой фантастической истории, и в историях недостатка не было. Все, на что только способна была человеческая фантазия, все шло в дело, так что со временем о болотах Сокхатчи стало почти невозможно придумать что-нибудь новое – что-то такое, что еще не фигурировало в том или ином виде в мифах и легендах, которые рассказывали в Диггере об этих опасных и неприветливых местах.
Каждый, кто отправляется в Сокхатчи, обязательно должен иметь напарника и исправную рацию. Заблудиться в этих краях – раз плюнуть; такие случаи происходят у нас не реже одного раза в год, но если у тебя есть партнер, с ним будет не так тоскливо, а по рации можно поговорить с другими людьми. Правда, заночевать на болоте (а это еще то удовольствие, уж поверьте на́ слово!) доводится далеко не каждому, кто сбился с пути, но нередко горе-путешественники выходят из Сокхатчи в пятнадцати-двадцати милях от того места, где они зашли.
Само болото имеет площадь свыше сорока квадратных миль – очень однообразных миль. Сколько бы вы ни шли, картина вокруг вас почти не меняется, а никаких ориентиров на болоте нет. Никто из жителей Диггера не может похвастаться, будто «знает» Сокхатчи как свои пять пальцев, даже мистер Картер. Он неплохо ориентируется на окраинах, как и большинство местных, но и только. Нам с Эймосом в этом отношении тоже нечем похвастаться. Правда, в свое время мы выкопали на болоте немало конфедератского золота и даже построили на кипарисах несколько домов по образцу, взятому из книжки «Швейцарский Робинзон», однако и наш опыт имеет вполне определенные пределы, за которые лучше не выходить.
И еще одно… Когда заходит солнце, на Сокхатчи опускается темнота, но это совсем другая темнота – не такая, как в городе, не такая, как в других местах. Даже если ночь звездная и ясная, стоит только ступить под темный полог кипарисовой листвы, и все меняется в один миг. Как бы хорошо вы ни были знакомы с тем или иным участком болот, с приходом темноты все вокруг становится другим, и вы уже с трудом находите обратную дорогу. И чем бы вы ее ни помечали – оранжевой геодезической лентой или хлебными крошками, – обступивший вас со всех сторон мрак заставляет на каждом шагу сомневаться в том, что вы выбрали правильное направление и движетесь назад, к твердой земле, а не в самое сердце топи.
В Гантерс-Хоул мистер Картер открыл дверцы собачьих клеток. Бэджер и Салли стремительно выскочили на траву и помчались в темноту. Мы ждали, стоя на холодном ветру возле подрагивающих на холостом ходу капотов машин, переступая с ноги на ногу и прислушиваясь к одиночным взлаиваниям собак, доносившимся до нас из мрака все тише по мере того, как увеличивалось расстояние. Полмили… миля… чуть больше… Разговоры прекратились. Каждый, кто хотел что-то сказать, использовал язык жестов или чуть слышно шептал. Нет, мы не боялись спугнуть добычу, просто мистер Картер терпеть не мог, когда кто-то разговаривал, пока он прислушивался к лаю Бэджера, ставшему к этому времени совсем далеким и слабым, словно ультразвуковые сигналы, которыми обмениваются летучие мыши или подводные лодки в бездонных и мрачных океанских глубинах. В тишине ухо мистера Картера продолжало ловить малейшие обертоны собачьего лая, что на таком большом расстоянии было нелегко. Пару минут спустя я почти перестал различать голос Бэджера, не говоря уже о том, чтобы судить о его тональности, и как раз в этот момент губы мистера Картера дрогнули и стали растягиваться в улыбке, а я уже давно знал, что его лицо может сказать мне куда больше, чем собачий лай.
Через секунду мистер Картер улыбался уже во весь рот. Бэджер вдалеке залаял совсем по другому – громче, решительнее, злее. Этот лай – настоящая музыка охоты, пьянящая и торжествующая – означал, что собака почуяла наконец то, ради чего ее так долго обучали и натаскивали. Как только Бэджер залаял по-новому, мистер Картер, чья рука лежала на крышке собачьей клетки, сдвинул защелку, и еще пять собак стремительными молниями метнулись в темноту, в одно мгновение растворившись в ней, словно ду́хи. Единственным признаком того, что они мне не почудились, был оглушительный, азартный лай всей пятерки. И тут же, словно по сигналу, все охотники заглушили двигатели и включили фонари.
Мистер Картер повернулся ко мне.
– Дилан, подержи-ка мой «винчестер».
Я с готовностью протянул руку. Именно из этой старой винтовки 61-й модели[37] мы с Эймосом когда-то регулярно упражнялись в стрельбе по пустым алюминиевым банкам, именно из нее мы еще в детстве подстрелили с дюжину енотов и добыли сотни полторы белок. Одним словом, «винчестер» мистера Картера был мне хорошо знаком.
Схватка собаки с енотом – вещь довольно жестокая, причем енот обычно побеждает, если вовремя не прийти псу на помощь. Мистер Картер никогда не мешкает – слишком много он видел на своем веку слепых собак, которым повредил глаза рассвирепевший енот, и, понятно, ему не хотелось, чтобы пострадали его собственные гончие. Даже Гас. Вот почему, схватив в руки несколько собачьих поводков, мистер Картер захлюпал по болоту следом за сворой.
Мох и трава на кочках замерзли и хрустели под сапогами, мокрую землю тоже покрывал тонкий слой льда. Мы с Эймосом шли за мистером Картером, остальные – за нами. Наша охотничья партия, преследовавшая семь собак и как минимум одного енота, ворвалась в болото, разгоняя темноту потоками света общей мощностью свыше семи миллионов свечей, ибо, помимо Джона Биллингсли, среди охотников хватало изобретателей, стремившихся во что бы то ни стало усовершенствовать фабричные фонари. Низ древесных крон был освещен ими, словно взлетная полоса крупного аэропорта – куда бы мы ни поглядели, повсюду было светло как днем. И только там, куда мы не глядели, по-прежнему клубился плотный чернильный мрак.
Когда идешь по болоту Сокхатчи, очень важно смотреть, куда ступает твоя нога. Сейчас, впрочем, мы следовали за мистером Картером, который прокладывал для нас дорогу. Несмотря на свои семьдесят четыре года, двигался он на редкость проворно. По мере того как лай становился громче, мистер Картер все ускорял шаги, так что, когда минут через двадцать мы достигли большого дерева, отец Эймоса уже практически бежал, разбрызгивая сапогами черную воду и битый лед.
Оказавшись под деревом, мистер Картер первым делом привязал Бэджера и передал поводок Салли ее хозяину, Джимми. Обе гончие были давно притравлены на енотов и не потерпели бы посягательств на свою добычу со стороны молодых собак: хотите сразиться с енотом, считали они, найдите своего, а на этого пасть не разевайте. Кроме того, из всей своры один только Гас мог бы отважиться напасть на енота, но он был слишком молод и неопытен; в борьбе со зверем один на один у него не было шансов. Остальных собак необходимо было сначала притравливать – об этом мистер Картер напомнил нам еще в городе.
После того как Бэджер был надежно привязан в сторонке, мы подняли фонари и устроили феерическое лазерное шоу, обшаривая лучами плотную крону, а Гас и четыре молодых собаки окружили ствол и неистово лаяли, задрав морды. Кому-то может показаться, что заметить енота на дереве довольно просто – знай работай фонарем и жди, пока среди ветвей не сверкнут большие оранжево-желтые глаза. На самом деле все не так просто: самые старые и матерые еноты Сокхатчи никогда не стали бы старыми и матерыми, если бы так запросто подставлялись под выстрел, поэтому прошло минут десять, прежде чем Эймос заметил в листве небольшой разрыв. Сквозь него проглянул краешек луны, и в ее свете красиво засеребрился густой темно-серый мех. Крупный енот сидел на коротком кипарисовом суку, и вид у него был довольно уверенный. Если он и был напуган, то лишь самую малость.
Эймос обернулся ко мне с таким видом, словно хотел задать какой-то вопрос, потом протянул руку, и я вложил в его ладонь отцовский «винчестер». По команде мистера Картера все охотники погасили фонари. Остался только один – тот, что был в руках у него самого. Мистер Картер направил луч света на зверя, и Эймос тотчас выстрелил (эти двое всегда были отличной командой).
Пуля попала именно туда, куда целился Эймос – точно в заднюю левую ляжку, – и енот начал падать.
Вы, быть может, думаете, что раненый енот, свалившись с высоты сорока-восьмидесяти футов – оглушенный, напуганный, заработавший пару сломанных ребер и сотрясение мозга в придачу – просто сдохнет на месте или в крайнем случае перевернется на спинку и сдастся окружившей его своре из пяти или шести кунхаундов? Ничего подобного! Упав на землю, енот подскакивает, как мячик, фута на три-четыре вверх и стремительно атакует ближайших к нему собак. И хорошо, если после этой атаки у собак останется хотя бы пара здоровых глаз на всю компанию! Особенно часто страдают от енотовых когтей молодые, неопытные псы, которые подбегают к еноту чересчур близко, чем он и пользуется.
Охотники встречаются, обмениваются рукопожатиями, хлопают друг друга по спинам, пьют кофе, натягивают высокие сапоги, обвешиваются ружьями и фонарями, едут на болото, выпускают собак, долго месят грязь, добираясь до старого двухсотфутового кипариса, но думают они при этом не о фонарях, не о собаках, не о погоне и даже не о том, что в болоте можно и потеряться. Единственное, о чем они думают, это о том, что будет делать енот, когда свалится с дерева на землю.
Нет, если собаки загоняют енота на дерево, вероятность того, что зверю придется плохо, достаточно велика. И все же из каждых десяти раз, когда охотники настигают енота, ему удается уйти в восьми или девяти случаях. Я до сих пор поражаюсь той ожесточенной борьбе, которая происходит между стремящимся удрать енотом и собакой, чья работа заключается в том, чтобы не дать ему этого сделать. Природа против природы… У крапчатых кунхаундов лучший в мире нос, зато еноты – единственные звери, умеющие мыть пищу и взбираться на деревья, которые выше бобового стебля, выращенного Джеком из волшебных зернышек. В своей жизни мне не раз приходилось шагать прочь от ствола огромного кипариса, хотя я точно знал, что на верхушке затаился отличный, крупный енот. Мы просто не могли разглядеть его в листве, чтобы произвести верный выстрел. Такое случается достаточно часто, поэтому поголовное истребление енотам не грозит.
Падая, енот, которого сбил выстрелом Эймос, задел пять или шесть сучьев и ударился о землю с громким, тупым стуком. Как я и ожидал, он тут же подскочил, зашипел, оскалился, махнул лапой, снова приземлился и мохнатым шаром ринулся на Гаса, чьи раскосые глаза – я готов поклясться! – на мгновение перестали косить. Увернувшись от удара лапой, пес пружинисто оттолкнулся задними лапами и прыгнул, вцепившись еноту в голову. Я видел, что его зубы глубоко ушли в шею зверя.
Схватка была окончена.
Две из оставшихся четырех собак схватили енота за задние лапы и принялись грызть. Остальные две рвали тело зверя. Полумертвый после падения, раненый выстрелом из винтовки и почти придушенный Гасом, который продолжал сжимать челюсти у него на горле, енот все же собрал остатки сил, чтобы атаковать ближайших к нему собак. Две из них получили болезненные царапины на носу, а третья – глубокую рану возле правого глаза. Мистер Картер не вмешивался, но очень внимательно наблюдал за схваткой, оценивая результаты своей дрессировки и готовясь вынести решение.
Гас тем временем лег брюхом в грязь и положил передние лапы на то, что осталось от енота, который давно перестал дышать. Он так и не разжал зубы, глубоко ушедшие в горло добычи, пока мистер Картер не скомандовал ему «Куш!». Гас послушался и лег рядом. Мертвый енот распростерся перед нами, вокруг него плавали в лужицах болотной воды тонкие окровавленные льдинки. Наконец мистер Картер шагнул вперед и ткнул стволом винтовки в глаз зверя. Если бы енот моргнул, он бы тотчас нажал спусковой крючок.
В воздухе пахло торфом, мхом, енотами, собаками. На охоту я начал ходить лет с двенадцати и успел за это время привыкнуть ко многому, но сегодня вид крови и разорванной плоти был мне невыносим. Несколько кровавых брызг попали мне в лицо и сейчас медленно стекали по щеке. Я машинально вытер ее рукой и поднес пальцы к глазам. Кровь была красная, липкая, все еще теплая. Холодный ветер быстро высушивал ее, и она, словно краска, застывала на лице, на ладони, в складках кожи на запястье. Вытирая лицо во второй раз, я уловил даже ее железистый запах.
– Ты идешь? – спросил меня Эймос.
– Сейчас, секундочку…
Эймос достал из кармана носовой платок, обмакнул в лужу и протянул мне.
– Вот, возьми. Так будет удобнее.
Болотная вода была чистой, холодной и пахла кипарисовыми корнями. Я вытер лицо Эймосовым платком, потом опустился на колени и снова погрузил его в воду, смывая следы крови.
– Пусть будет у тебя, – сказал Эймос.
Сидя на корточках, я еще дважды окунал платок в лужу и вытирал лицо. Водяные капли срывались с моего подбородка и падали обратно, оставляя на поверхности быстро исчезающие круги. На ветру мое мокрое лицо начинало замерзать, но я все же пересилил себя и еще раз плеснул на него водой, чувствуя, как несколько тонких струек протекли по моей шее под свитер. Наконец я поднялся, выдохнул большое облако беловатого пара и вытер лицо рукавом.
Когда я огляделся, мистер Картер и остальные охотники почти исчезли из виду (последним в группе шел Джон Биллингсли со своим мегафонарем) и только Эймос по-прежнему стоял в нескольких шагах и испытующе меня разглядывал. Со всех сторон нас обступало темное и молчаливое болото, в пронзительный и свежий запах которого вплетались сладковатые ноты собачьего пота и енотовой крови.
– Ты в порядке, приятель? – тихо спросил Эймос.
Луна поднялась над верхушками деревьев, она светила ярко, как прожектор, серебря недвижимую воду Сокхатчи. Опустив взгляд, я даже разглядел на ее поверхности свое неясное, расплывающееся отражение.
– Врач сказал Мэгги, что она может начинать тужиться, – медленно проговорил я. – Она тужилась, а я считал. Кажется, уже на счет «три» показалась головка… головка моего сына. Не вся, я видел только макушку. Внезапно врач побледнел, а глаза у него стали большими, как пятидесятицентовые монеты. Я слышал, как он приказал сестре срочно подать какой-то акушерский инструмент… забыл, как он называется. А Мэгги все смотрела на меня, и вид у нее был ужасно усталый. Я пытался утешить ее, успокоить, но ведь я и сам не знал, что происходит! Врач сказал, чтобы она продолжала тужиться, а сам надел этот похожий на вантуз инструмент на голову моего сына. Через минуту или, может быть, через две головка вышла вся… но она была какой-то неправильной формы и совсем синяя. Мэгги не могла ее видеть, зато она видела мое лицо. Не знаю, что она по нему прочла, но это наверняка было не то, что она ожидала. Тут прибежали еще две акушерки, они оттолкнули меня и стали нажимать Мэгги на живот, чтобы вытолкнуть ребенка, потому что она была совсем измотана и сил у нее почти не осталось. Врач отдавал какие-то распоряжения, вокруг нас суетились еще какие-то люди… Потом я вдруг услышал громкий плеск, и врач передал моего сына акушерке. Сам он продолжал тянуть пуповину, которая оставалась внутри Мэгги, и ее кровь текла по ногам, по простыням, по клеенке… А потом Мэгги вдруг обмякла, и глаза ее закрылись.
Где-то вдали коротко залаяла одна из собак. Другая отозвалась ей из еще большего далека́.
– На столе у входной двери акушерка и другой врач пытались оживить нашего ребенка. Они делали ему массаж сердца, надевали на него кислородную маску, но ничего не помогало – он оставался неподвижным, синим… Тут Мэгги открыла глаза, увидела, какой он синий, и начала плакать. Еще какое-то время спустя она вся побелела, глаза закатились, и ее вырвало. Это был… это был последний раз… Больше она в себя не приходила.
Эймос с беспокойством переступил с ноги на ногу. Его нижняя губа как-то подозрительно задрожала, а сапоги ушли в болотную жижу еще глубже.
– Потом в палату вихрем ворвался еще один врач. Он на бегу надевал хирургическую маску. Меня он оттолкнул, я упал в угол и лежал там в луже крови Мэгги. Первый врач ввел ей в вену какое-то лекарство, второй пытался остановить кровотечение. Меня как будто парализовало – тело мне совершенно не подчинялось, но я слышал, что происходит вокруг. Кто-то крикнул, что у Мэгги упало давление, я услышал жужжание дефибриллятора, и врач скомандовал: «Всем отойти! Разряд!» Раздался треск, ручонки моего сына взлетели вверх, тело выгнулось дугой и снова обмякло. Врач, принимавший роды, торопливо накладывал швы. Так прошло еще несколько минут, потом врачи сняли маски и стали смотреть на часы. Никто даже не стер с тела моего сына беловатый гель, санитарка просто завернула малыша в одеяло и унесла, а я так и не подержал его на руках. Мне никто этого не предложил, а попросить мне как-то в голову не пришло. Тем временем состояние Мэгги немного стабилизировалось. Мое – тоже. Во всяком случае, я кое-как поднялся с пола и только тут заметил, что руки у меня грязные и липкие. И лицо тоже. Я наклонился над Мэгги и увидел, что рвота застряла у нее в волосах. Тогда я схватил полотенце или простыню, не помню, и стал как сумасшедший вытирать ей подбородок, щеки и шею, потом подсунул ей под голову подушку и заправил волосы за уши. Пока я с ней возился, врач не отрываясь смотрел на мониторы, на которых, должно быть, отражалось состояние моей жены, но он ничего мне не объяснял, а спросить я боялся…
Пока я говорил, последний отблеск могучего фонаря Джона Биллингсли окончательно погас вдали, луна зашла за облако, и нас вновь окружил мрак. Я изо всех сил напрягал зрение, силясь рассмотреть хоть искорку света между деревьями, но не видел ничего. Ночь казалась осязаемо плотной, шатер листвы над нашими головами давил, словно тяжкий груз, и я вдруг почувствовал себя очень одиноко.
– Во вторую ночь… где-то около полуночи… В общем, я отрубился. Просто свалился там, где стоял. Когда я очнулся, то увидел, что лежу на больничной койке рядом с Мэгги. Одна из сиделок сказала, что меня поднял с пола и перенес в кровать здоровенный, бритый наголо помощник шерифа, который двое суток просидел в коридоре у дверей палаты. Потом… потом врачи мне кое-что рассказали… Я узнал, что Мэгги потеряла почти половину всей своей крови, что головка у моего сына была четырнадцати сантиметров в диаметре, а животик – восемнадцати, и что он весил одиннадцать фунтов и четыре унции[38]. Остальное, я думаю, тебе известно…
Еще какое-то время мы стояли молча – не знаю, какое, но достаточное, чтобы как следует замерзнуть. Наконец Эймос поднял вверх руку с тремя вытянутыми пальцами. Вздернув подбородок и выпятив дрожащую губу, он прошептал:
– А теперь пребывают сии три…[39]
Я кивнул, и мы вместе вышли из болот Сокхатчи.
Домой мы возвращались на машине Эймоса, включив печку на максимум. Электронный термометр на зеркальце заднего вида показывал восемнадцать градусов[40], кофе в моем термосе остыл и отдавал алюминием.
Сворачивая на мою подъездную дорожку, Эймос спросил:
– Скажи честно, я должен за тебя беспокоиться?
Я покачал головой.
– Уверен?
Я кивнул.
– Ну ладно… – Он опустил руку мне на плечо. – Обними ее за меня, хорошо?
Закрыв за собой дверцу, я поднялся на крыльцо и услышал, как колеса Эймосовой машины хрустят по замерзшему гравию.
Глава 19
– Профессор?
Я поднял голову, и солнечный свет на мгновение ослепил меня. Почти одновременно с пробуждением в нос мне ударили запахи мочи, «Пайн-сола» и волос Мэгги, в одно мгновение напомнив, из чего теперь состоит моя жизнь. Кое-как разлепив глаза, я увидел Аманду, которая, присев на стул рядом, разматывала бинты на моей больной руке.
– Доброе утро, – поздоровалась она шепотом. – Не хотелось вас будить, но через час начинаются занятия, на которых нам предстоит сдавать наши исследовательские работы, а вы… В общем, я подумала, что вы, возможно, захотите перекусить, прежде чем идти на урок. – И она показала на столик за моей спиной, на котором стояла тарелка с омлетом и сосисками и дымились свежеподжаренные тосты. – Но только сначала я должна вас перевязать.
– Спасибо, Аманда. Мне уже в общем-то лучше.
Аманда сняла последний слой бинта и критически осмотрела мою рану.
– Рука действительно выглядит лучше, – подтвердила она. – Но я думаю, придется мне поперевязывать вас еще недельку. Просто на всякий случай.
Я кивнул.
Аманда подняла палец, словно собираясь что-то сказать, но вдруг задумалась. Ее чистый лоб покрылся морщинами, словно она и впрямь размышляла о чем-то очень серьезном. Наконец она снова показала на стол.
– Блу уже поел, – сказала она. – Правда, это еда из больничного кафетерия, так что она не особенно вкусная, но зато горячая. А это чего-нибудь да стоит.
– Спасибо, – снова сказал я и отвернулся. Я действительно был благодарен ей за завтрак и даже за перевязки, и все-таки я бы предпочел, чтобы у меня была возможность сначала почистить зубы.
– Вот что я вам скажу, профессор… – продолжала Аманда, слегка поглаживая меня по руке. – Боюсь, теперь у вас останется шрам на всю жизнь. Вы слишком запустили вашу болячку, так что мне даже пришлось сказать о ней врачу. И знаете, что он ответил? Он сказал, что вам необходимо оставить ее в покое, иначе всю жизнь придется носить на́ людях одежду с длинным рукавом.
– А что еще он сказал, этот доктор? – спросил я, разглядывая повязку и стараясь не слишком глубоко вдыхать насыщенный бетадиновыми пара́ми воздух.
– Он сказал, что вы должны перестать то и дело ковырять вашу рану и что я должна ему сказать, если вы и дальше будете это делать.
Я кивнул и повернулся к Мэгги. Не глядя на Аманду, я негромко проговорил:
– Эймос рассказал мне о том, как вас… похитили. – Я немного помолчал. – Я не знал. – Тут я посмотрел на нее. – Поверьте, я искренне вам сочувствую.
– Я сама себе сочувствую, – с невозмутимым видом ответила Аманда и неожиданно рассмеялась. – Нет, серьезно! Я почти каждый день сочувствую сама себе!
– Почему? – спросил я. – Из-за ребенка?
– Ради всего святого, конечно же, нет! – воскликнула она и, откинувшись немного назад, тихонько похлопала себя ладонью по животу, забавно скосив глаза. – Он-то ни в чем не виноват, профессор! И он не имеет никакого отношения к тому, что случилось со мной. В данном случае минус на минус не дает плюс… – На сей раз Аманда слегка подалась вперед, словно никак не могла разглядеть выражение моего лица. – Я жалею этих парней, кем бы они ни были и где бы они ни были сейчас. Возможно, им даже не придется больше встретиться ни со мной, ни с моим отцом, ни с дядей Эймосом, хотя я почти уверена, что рано или поздно он их поймает. Так или иначе, им обязательно придется отвечать за то, что они сделали, – не в этой жизни, так в следующей, потому что Бог все знает и все в его руках. И, отвечая на ваш следующий вопрос, сразу скажу: нет, я не питаю к ним ненависти. И конечно, я не могу ненавидеть этого маленького, еще не родившегося мальчишку!
– Но… – Я никак не мог правильно сформулировать свой вопрос.
– Что «но», профессор? – Аманда улыбнулась. – Хорошо, я скажу, если вам обязательно надо это услышать… Я, как вы помните, готовлюсь стать сиделкой. Эти двое делали все, что было в их силах, чтобы я не забеременела, но мое тело не знало, что я не должна зачать. И к тому моменту, когда меня привезли в больницу, мое тело уже сделало то, для чего оно было предназначено.
Я хотел задать еще один вопрос, но мне не пришлось этого делать.
– Нет, профессор, – покачала головой Аманда. – Об этом варианте я даже не задумывалась, и вовсе не из-за отца-священника, не из-за религиозных запретов или каких-то других подобных соображений. Я приняла это решение сама, на меня никто не давил. При этом я вовсе не горю безумным желанием стать еще одной матерью-одиночкой, о которых мне приходилось много читать в газетах. Я не хочу быть «среднестатистическим явлением», во всяком случае, не таким. Конечно, когда-то я мечтала о том, чтобы в моей жизни все было как полагается… – Она улыбнулась. – Ну вы понимаете – свадьба, белое платье, цветы, красивый молодой мужчина и только потом – ребенок. Но… – Она слегка повела плечами. – И все это обязательно будет. Мне нужно только немножечко подождать. Мой любимый мужчина где-то рядом, и он обязательно нас найдет.
Поднявшись, она шагнула к кровати и погладила Мэгги по ногам.
– Можно задать вам еще один вопрос? – спросил я.
– Конечно. А то даже как-то невежливо получается – все время говорю я одна.
– Вы не похожи на сумасшедшую.
– Это утверждение, а не вопрос. Верно, профессор?
Помимо своей воли, я улыбнулся.
– В таком случае ладно, вот мой вопрос… Почему? Почему вы так спокойно со мной разговариваете вместо того, чтобы выбежать на лужайку перед отцовской церковью и стоять там, грозя небу кулаками?
Аманда покачала головой.
– Бог прекрасно знает, что́ я чувствую и что́ думаю, даже если бы я каждый день не рассказывала Ему об этом. И Он мне помогает… – Она приподняла брови и улыбнулась. – Иначе как, по-вашему, я смогла бы все это вынести? – Аманда поглядела в окно. – Да, в первые несколько недель я вела себя как безумная. Мы с папой много спорили, я плакала и даже кричала, но что мне это дало? Как бы я ни надрывалась, криком ничего не изменишь. Мои истерики не помогут ни избавиться от беременности, ни поймать тех двух парней. Сколько бы я ни каталась по полу и ни визжала, я уже не смогу ни повернуть время вспять, ни вернуть себе то, что потеряла. Быть может, сейчас во мне говорит мой отец, но я совершенно уверена: если бы мы могли ставить Господа перед выбором, Он бы предпочел, чтобы мы спорили и даже кричали друг на друга, а не молчали, замкнувшись каждый в своем горе. А я кричала довольно много, профессор, можете мне поверить… – Аманда выпрямилась, упираясь кулачком в расплывшуюся талию. – Но теперь это позади, пора засучить рукава и заняться делом. Хотя… – Она несколько раз подняла и опустила ресницы и лукаво улыбнулась. – Хотя я ничего не исключаю.
Некоторое время мы оба молчали, наконец Аманда снова подняла вверх палец, похожий на восклицательный знак.
– Вы меня не спросили, профессор, но я все равно скажу… Если Господь действительно таков, каким Он, по Его собственным словам, является, значит, Ему будет по силам справиться и с моими истериками и… и со всеми моими вопросами.
Держа Мэгги за руку, я продолжал молчать. Аманда снова похлопала ее по лодыжкам, потом повернулась и направилась к двери.
– Профессор…
– Да? – Я взглянул на Аманду.
– Извините, что я столько говорю о себе, но… – Она снова улыбнулась и, облокотившись на дверной косяк, слегка расслабила одну ногу, давая ей отдых. – Я знаю, что у других людей тоже бывают тяжелые времена, но вы спросили, и я ответила.
Послышался шорох, и, когда я снова взглянул на дверь, Аманды уже не было. Блу старательно лизал мне колено, а тарелка с омлетом, сосисками и тостами выглядела очень… привлекательно. Капельница, через которую Мэгги вводили питательные растворы, была уже наполовину пуста, так что мы с ней позавтракали в молчании.
До девяти оставалось всего несколько минут, когда я поцеловал Мэгги в лоб, проверил, не сползли ли носки, аккуратно сложил подстилку Блу и отправился на занятия. Шагая по коридору больницы, я вдруг подумал о том, какой толстый слой бинта наложила Аманда на мою руку, она стала теперь напоминать бейсбольную биту. Судя по размеру повязки, на то, чтобы ее снять, могло уйти не меньше двадцати минут.
Глава 20
День благодарения[41] я встречал, сидя на веранде и принюхиваясь к легкому ветерку в надежде уловить запах традиционной индейки. Увы, все мои усилия были тщетны; только из одинокого очага далеко на юге доносился до меня едва ощутимый аромат праздничного ужина.
На коленях у меня лежала стопка самостоятельных работ, которые мои студенты, как и положено, опустили в мой ящик к пяти часам вчерашнего вечера. За праздники я надеялся их просмотреть, выставить оценки и снова раздать, чтобы в оставшиеся до конца семестра недели студенты успели их переписать и исправить.
В прошлом, когда я преподавал семи различным группам одновременно, у меня выработался свой метод проверки письменных работ, который, как мне казалось, придавал процессу максимальную объективность. Начиная читать тест или самостоятельную работу, я старался не смотреть на имя и фамилию написавшего ее студента до тех пор, пока не будет выставлена оценка. Кроме того, каждую работу я читал не менее двух раз, что помогало мне не ошибиться самому и заметить рациональное зерно даже в самом безнадежном случае. Иногда, если я был в курсе выбранной студентом темы, я догадывался, чье эссе попало мне в руки, но такое случалось редко. По большей части, я понятия не имел, с чем или, вернее, с кем имею дело в том или ином случае.
Покачиваясь в качалке в такт неспешному колыханию кукурузы, я сосредоточил все внимание на четырех работах, которые выделялись среди прочих отнюдь не низким качеством или убожеством мысли. Напротив, это были очень хорошие, просто отличные работы!
Каждую из них я прочел уже дважды и все еще оставался под впечатлением от прочитанного, однако в мою душу начали закрадываться кое-какие сомнения. Наконец я взглянул на имена авторов, и мои сомнения сразу окрепли, превратившись в уверенность. Не может этого быть, думал я. Только не эти четверо. Только не в этом году и, пожалуй, даже не в ближайшее время. А может, и вообще никогда.
Прочтя по второму разу остальные работы, я снова крепко задумался и продолжал размышлять над возникшей ситуацией все воскресенье и весь понедельник.
Ответ на мои вопросы был прост и лежал, что называется, на поверхности, но в этом-то и заключалась проблема. «Как мне поступить? Выразить сомнение в честности этих четырех студентов, обвинить их в плагиате и надеяться, что они признаются?.. Я преподаватель, и у меня есть определенные обязанности. Долг, наконец… Я думаю, что они виновны. Нет, я знаю, что они виновны. А это означает, что всем четверым – конец. Стоит мне только об этом заикнуться, и их выгонят без всякой жалости. Таков порядок. Такова политика администрации колледжа…»
В общем, все было не так просто, как может показаться.
Некоторые студенты уверены, что профессорско-преподавательский состав получает зарплату из тех денег, которые они вносят за обучение, поэтому в них растет убеждение, будто лекторы, руководители семинаров и научные руководители перед ними в долгу. Они считают, будто одно то, что они появляются на занятиях, само по себе достойно восхищения, поэтому выполнять полученные от преподавателя задания им вовсе не обязательно. Разумеется, не все студенты такие. У меня было немало настоящих, способных, талантливых учеников, о которых любой преподаватель может только мечтать, потому что открывать таланты и помогать вчерашним подросткам развивать свои способности – это наша работа. Но были и другие…
Вот почему я угробил все выходные, размышляя о смошенничавшей четверке. Эти парни ступили на путь обмана и даже не особенно это скрывали. Сказать им об этом?.. Но голос в моей голове твердил, что за подобные обвинения студенты нередко подают на преподавателей в суд – и выигрывают. Я сам знал несколько таких случаев. С другой стороны…
Да, если быть откровенным до конца, в моей голове звучал не один, а два голоса. Первый бубнил: «Просто верни им работы и забудь. Какое твое дело? В конце концов, эти парни обманывают не тебя, а себя – это их будущее, и они вольны делать с ним что захотят. У тебя хватает и собственных забот!» Второй голос коротко и тихо спрашивал: «Постой-ка, приятель. Что это ты задумал?»
О, этот второй голос был достаточно суровым, он говорил весьма нелицеприятные вещи, и мне приходилось тратить немало сил, чтобы хотя бы не слушать его, не говоря уже о том, чтобы заставить его замолчать. «Я ведь просто приглашенный преподаватель, – возражал я. – Эти ребята никогда больше меня не увидят. Единственное, что им нужно, это получить хорошие оценки, а мне – мне нужно как-то дотерпеть до конца семестра, чтобы иметь возможность заплатить по счетам».
Но в глубине души я все равно знал, что все мои возражения – ложь.
Вот почему я сидел на веранде, раскачивался в качалке и перечитывал сомнительные работы в четвертый, в пятый раз, стараясь набраться уверенности. Это, кстати, оказалось не особенно трудно. У меня было четыре работы и четыре жизни, четыре судьбы, которыми нужно было правильно распорядиться.
Всего-то навсего…
Когда студенты вошли в аудиторию, я раздал им проверенные работы – все, кроме четырех. Внимательно посмотрев на их авторов – на каждого по очереди, – я сказал:
– Ваши работы меня приятно удивили. Очень хорошие работы. Можно сказать, великолепные. Если вас не затруднит, задержитесь немного после занятий, я хотел бы побеседовать с вами подробнее.
Этого оказалось достаточно, чтобы до конца занятия все четверо прикусили языки. Ни один из них даже не пикнул. Мервин озабоченно кусал губу, Рассел хмуро смотрел в окно, а Юджин и Алан о чем-то напряженно размышляли.
Но вот занятие закончилось, студенты ушли, и только моя четверка комбинаторов сидела передо мной за партами, что-то косноязычно мыча. Каждый старался справиться с беспокойством, но им это не удавалось.
– Итак, – начал я, – ваши работы действительно произвели на меня прекрасное впечатление. Именно поэтому вы сейчас сидите здесь. Я хотел бы, чтобы каждый из вас рассказал мне о своем исследовании. С кого начнем?
Мервин вскинул на меня взгляд.
– Разве вы их нам не вернете? – спросил он.
– Пока нет. Сначала я должен задать вам несколько вопросов. – Произнося эти слова, я держал упомянутые работы перед собой, медленно, хотя и немного нервно, тасуя их словно карты в колоде. – Ну ладно, – проговорил я после небольшой паузы. – Начнем с тебя, Юджин.
Юджин был достаточно умен. Его отличали развитое чувство юмора и неуемное любопытство, поэтому на моих занятиях он был достаточно активен, задавая неожиданные и острые, хорошо сформулированные вопросы. Мне он нравился, да и среди однокурсников Юджин, похоже, пользовался уважением. Во всяком случае, остальные к его словам всегда прислушивались.
Услышав, что я обращаюсь к нему, Юджин вскинул голову, сполз по спинке стула вниз и наградил меня самым искренним взглядом, словно хотел сказать: «Почему с меня? Я ведь ничего плохого не сделал!»
– Расскажи мне о своем исследовании, Юджин. Ты отлично поработал, я доволен. У тебя и впрямь получилось отличное эссе. Расскажи мне о нем немного.
– Ну… Вообще-то, я навалял его довольно давно, так что многое у меня из башки уже выветрилось. Чего бы вам хотелось узнать? Скажите, может, я и припомню… – Юджин намеренно перешел на студенческое арго, стараясь скрыть свое беспокойство. Я был в этом уверен, потому что знал: на самом деле этот парень умеет разговаривать не хуже студента привилегированного частного университета.
– Для начала расскажи мне, откуда ты взял основную идею своей работы.
– Сейчас я уже не помню точно… Кажется, несколько недель назад я спрашивал у вас, нельзя ли мне написать работу об этих двух стихотворениях, и вы ответили: да, можно.
– Да, я помню. Ладно, попробуй изложить свою основную идею в сжатой, концентрированной форме. Буквально в двух словах.
Молчание.
– Хорошо, тогда объясни, как ты пришел к тем выводам, которые ты делаешь в своем исследовании.
– Я… я не знаю. Говорю же вам, это было давно, и… – Каждый раз, когда Юджин начинал что-то говорить, его руки оживали. Они словно помогали языку и двигались все быстрее по мере того, как я задавал Юджину новые и новые вопросы. Остальные трое тоже заволновались, должно быть, прикидывали, как отвечать, когда я возьмусь за них.
– Ну, допустим… Напомни-ка мне, какие два стихотворения ты взял для анализа. Хотя бы названия.
– Я не помню названий. В одном было что-то про пароход, а в другом…
– Кто их написал?
– Дикинсон… Эмили Дикинсон! – воскликнул он почти радостно.
– Прекрасно. Почему ты остановил свой выбор именно на этих стихах?
Нет ответа.
– Ладно, ты пока подумай. Я вернусь к тебе чуть позже.
Юджин вздохнул, но отнюдь не с облегчением. Просто пока я засыпа́л его вопросами, он дышал через раз. Я видел, что голова у него все еще идет кругом, однако постепенно Юджин приходил в себя. Должно быть, начинала брать свое предпринимательская сторона его натуры, которая пыталась найти выход из безнадежной ситуации. Я почти не сомневался, что в конце концов парень предложит мне сделку, но был намерен выставить максимально жесткие условия.
Пока же я на время оставил его в покое и повернулся к Мервину.
– Теперь ты, Мервин…
О нем я уже кое-что знал. Из всех первокурсников, которые когда-либо поступали в колледж Диггера, Мервин был, наверное, самым желанным – в первую очередь, конечно, для тренеров студенческой команды. Я был почти уверен, что к окончанию второго курса он получит предложение подписать профессиональный контракт. Не было у меня сомнений и в том, что Мервин сумеет подняться по крутой спортивной лестнице достаточно высоко, если ему удастся не травмироваться и сохранить здоровье. Помимо блестящих способностей к футболу, Мервин обладал отличным чувством юмора – ему всегда удавалось рассмешить меня, и тогда я искренне радовался, что в моей группе есть такой студент.
Месяца три назад я читал студентам лекцию, а Мервин в это время болтал с каждым, кто готов был его слушать. В какой-то момент я прервал себя на середине предложения и, посмотрев на Мервина в упор, проговорил таким тоном, какого он еще никогда от меня не слышал:
– Скажи, Мервин, каким качеством должен обладать корнербек, который хочет играть – и играть хорошо – в Национальной лиге?
В одно мгновение в аудитории стало тихо, как в могиле. Все молча смотрели на меня, и только Мервин рассмеялся и, запрокинув голову назад, сказал весело:
– Быстротой, конечно. Быстрые ноги – вот что ценится в Лиге превыше всего!
Он огляделся по сторонам, явно гордясь собой и требуя всеобщего восхищения за то, что он так быстро и правильно ответил на мой вопрос. То есть это он думал, что правильно, и не он один. Юджин одобрительно хлопнул его по спине, и Мервин с довольным видом развалился не стуле.
Тогда я сказал:
– Нет. Многие парни способны пробежать сорок ярдов за четыре и три, но они не в Национальной лиге, так что дело не в скорости.
Мервин выпрямился, а я повернулся к аудитории:
– Ну, кто поможет Мервину правильно ответить на мой вопрос? Какое качество необходимо каждому хорошему корнербеку, чтобы его пригласили играть в команду Национальной лиги?
Несколько мгновений в аудитории царила тишина, потом студенты начали неуверенно выкрикивать с мест:
– Цепкие руки!
– Физическая сила!
– Острые глаза!
– Быстрая реакция!
– Готовность к жестким контактам с противником!
– Нет, – сказал я. – Все это нужно, но это не главное. – Я снова повернулся к Мервину. – Ну, Мервин, попробуй еще раз.
Он поднял голову, немного сполз по спинке стула и сказал как-то не очень уверенно:
– Хороший корнербек должен быть внимательным и должен уметь слушать…
– Правильно, Мервин. Дион Сандерс был одним из величайших игроков вовсе не потому, что бегал сороковник за четыре и две десятых секунды, а потому, что умел слушать – слушать партнеров, тренера, противника. Вот я и хочу, Мервин, чтобы ты тоже научился слушать – хотя бы на моих занятиях. Надеюсь, ты не против?
С тех пор Мервин слушал на занятиях больше, чем говорил. Он даже задал несколько дельных вопросов. И сейчас, когда я повернулся к нему, Мервин продемонстрировал завидную реакцию, не дав мне продолжить начатое предложение. Показывая на свою работу, он проворчал:
– Профессор Стайлз, я сам написал свое исследование.
– В таком случае, – парировал я, – тебе, наверное, будет совсем нетрудно рассказать мне о нем. В чем заключается твоя главная идея?
– Я не помню точно, но я сам писал свою работу. – Как и Юджин, этот тоже заговорил с просторечными, почти развязными интонациями, пытаясь замаскировать то, что было невозможно спрятать. – Сам!
– Ну, вот хотя бы здесь, на первой странице… – Я открыл тонкую папку, в которую была вложена его работа, и показал на первый параграф. – Здесь ты пишешь о единении некромантии и похоти. Как ты это понимаешь?
– О негро… О чем?
– О не-кро-ман-тии, Мервин. Ты же сам использовал это слово – вот оно, в этом предложении. Как я понял, это и есть твоя главная идея – вызов духов умерших ради удовлетворения плотского желания.
Мервин заерзал на сиденье стула, решительно тряхнул головой, но тут же неопределенно крякнул и снова оплыл, сгорбился.
– Ладно. Возьмем вот это место… – Я показал на другую страницу. – Здесь ты пишешь о философии Аристотеля. Это довольно обширная тема, так что давай поговорим хотя бы о его метафизике.
– О к-какой физике? – визгливым фальцетом переспросил Мервин.
– О ме-та-фи-зи-ке Аристотеля.
Молчание. Остальные трое тоже сидели совершенно неподвижно и молчали. Батареи отопления в аудитории грели вовсю, но разливающийся по моему телу жар не имел никакого отношения к температуре в комнате. Мое сердце тоже стучало слишком часто и громко, и на мгновение я испугался, что они могут его услышать, но нет. Только кто-то шаркнул ногой по пыльному полу.
– Профессор Стайлз, я действительно сам написал эту штуку, просто я не помню подробностей, вот и все!
– Хорошо, давай попробуем сначала. Какова была твоя главная идея?
Молчание.
– К какому заключению ты пришел?
Ничего.
– Как ты назвал свое исследование?
Мертвая тишина.
– Ладно, ты пока подумай, а я побеседую с Аланом.
Алан являлся на занятия одним из первых и всегда выполнял домашние задания. С ним у меня никогда не было проблем. Он задавал хорошие, дельные вопросы и не перебивал других. По школьной привычке он даже поднимал руку, если хотел высказаться. Свои волосы Алан заплетал в десяток косичек и мечтал после окончания колледжа работать в фирме брата. Скажу честно, этот парень мне нравился. Похоже, у него было непростое детство, но он, по крайней мере, вырос честным человеком.
Работа Алана привлекла мое внимание еще и тем, что она немного отличалась от остальных трех. Нет, ни секунды я не верил в то, что он написал ее самостоятельно – его стиль изложения никогда не отличался ни четкостью, ни логичностью построений, – зато я не сомневался, что Алан сам набрал это эссе на компьютере и распечатал.
– Расскажи мне о своем исследовании, Алан.
Он довольно бойко перечислил несколько самых ярких и парадоксальных моментов, которые, должно быть, запомнились ему лучше остального текста. Минуты через три Алан закончил и выжидательно посмотрел на меня, сложив руки перед собой. Его глаза говорили, что он не виноват, но в то же время они не заявляли со всей определенностью, что он невиновен.
– Молодец. А ты случайно не скажешь мне, что означает вот это слово? – Это был какой-то научный термин; я даже сомневался, правильно ли я его произнес. О том, что он означает, я понятия не имел. Алан тоже. – Хорошо, как ты построил свое исследование?
Нет ответа.
– Откуда ты взял всю ту информацию, которую использовал в своей работе?
– Из одной книги.
– Но в тексте ты не отметил и не взял в кавычки ни единой цитаты. Как я должен догадываться, откуда взята та или иная мысль? Нет, ты хорошо поработал над своим исследованием и к тому же изложил свои мысли ясно и просто, но ведь должен же я знать, откуда ты почерпнул основную идею!
На самом деле Алан, должно быть, не слишком хорошо успевал в начальной школе. Его письменный английский был ужасен: корявый стиль, самые простые слова написаны с ошибками. Если судить по предыдущим двум эссе, Алан даже под угрозой смертной казни не смог бы написать правильно ни одного слова из той работы, которую я держал в руках, за исключением разве что собственного имени.
Когда я прочел его исследование в первый раз, то сразу увидел: парень решил дать мне то, что, как ему казалось, я от него хотел. Он не понимал – как не понимали и остальные, – что со своими студентами я работаю, ориентируясь вовсе не на среднестатистические требования, предъявляемые к учащимся колледжей начальной ступени, а исходя исключительно из персональных знаний, умений и способностей каждого. Они этого не знали. Или просто не хотели в это поверить. Возможно, в этом была моя вина. И возможно, именно по этой причине мы разговаривали сейчас здесь, в пустой аудитории, а не в кабинете декана.
– Что означает это предложение, Алан? – Я прочел вслух одно предложение из середины работы и взглянул на парня.
– Оно означает, что ту штуку, о которой идет речь, можно найти только в космосе и что, когда она смешивается с другими элементами, бывает вот такой результат. – Алан не был тупицей. У него была хорошая голова, и свою тему он знал. Он даже понимал, что́ было написано в его исследовании – не все, но процентов восемьдесят. Другое дело, что сам Алан никогда бы не смог выразить эти мысли и идеи такими словами.
– Тогда почему в своей работе ты не написал так, как сейчас сказал мне? Почему прибег к сложной научной терминологии?
Алан сделал круглые глаза.
– Но, профессор, по-научному же звучит гораздо лучше! – воскликнул он, показывая на свое эссе. – Если б я опять писал своими словами, вы снова поставили бы мне низкий балл, как за прошлые работы.
– Тогда чьими словами ты писал? Я, например, этого не знаю, поскольку ты не обозначаешь цитаты и не делаешь ссылок на первоисточники.
– Я сам все написал, только старался выбрать слова поученее.
– Видишь ли, Алан, то, что́ ты говоришь сейчас, немного отличается то того, что́ ты говорил мне раньше. То ты пользовался «одной книгой», то ты писал все сам… Как же было на самом деле?
Алан нахмурился. Было видно, что он думает, думает изо всех сил.
– Хорошо, подумай пока, а я побеседую с Расселом.
За прошедшие несколько месяцев Рассел сделался моим любимцем. Я знаю, у настоящего преподавателя не должно быть любимчиков, или, по крайней мере, он не должен в этом признаваться, но… Этот парень был прирожденным лидером. И это было видно сразу – видно по его лицу, по его движениям, по его словам. Он был вежлив, добр, любознателен и немного наивен. Кроме того, ему нравились мои занятия, и до недавнего времени я льстил себя надеждой, что и ко мне он тоже относится с симпатией.
– О чем ты писал в своем эссе, Рассел.
К этому времени Рассел уже знал, какая процедура ему предстоит, поэтому ответил почти без задержки:
– Я посвятил его телевидению и тому, как оно влияет на детей.
– Хорошая тема. Расскажи мне о ней поподробней.
Рассел немного подумал.
– Вообще-то мне немного помогала моя сеструха.
– Ничего страшного, Рассел. Я же говорил: вы всегда можете обратиться за помощью, если она вам понадобится. А теперь расскажи мне о своей работе.
Молчание. Юджин и Мервин, похоже, были сыты моим допросом по горло, и по ним это было хорошо заметно: оба недовольно хмурились. Перехватив мой взгляд, Юджин пискнул:
– Я написал свое эссе давно, но я написал его сам!
– Ладно, пока Рассел думает, начнем сначала. Юджин, расскажи мне хоть что-нибудь о своем исследовании.
Я не поленился повторить всю процедуру с самого начала – сначала с Юджином, потом с остальными двумя, и с каждой минутой меня все сильнее охватывали беспокойство и… страх. Я проигрывал; во всяком случае, я не добился того, чего хотел, а в данном случае это было равносильно поражению. Проигрывать мне не хотелось, и не только из самолюбия, но и по другим причинам, так что в конце концов я основательно разозлился. Отложив четыре работы в сторону, я сказал:
– Никто из вас не хочет мне ничего сказать? Ты, Рассел?.. Или ты, Мервин? Совсем-совсем ничего?..
Молчание. Тяжелое, плотное, оно было похоже на кирпичную стену, которую невозможно пробить голыми руками.
– Юджин, расскажи мне о выбранных тобою стихотворениях. Я уже понял, что одно из них принадлежит перу Эмили Дикинсон. С какой точки зрения ты пытался его анализировать?
Тишина. Ни один из четверки не произнес ни слова, но их непроизвольные жесты и телодвижения были достаточно красноречивы. Похоже, обмен невербальной информацией шел полным ходом. Не издав ни звука, Рассел, Алан, Мервин и Юджин пришли к некоему общему решению, и я догадывался, что это может быть за решение. До них наконец дошло, что, если они выступят против меня единым фронтом, у них будет гораздо больше шансов выйти сухими из воды, чем если каждый из них будет пытаться выкрутиться в одиночку.
Юджин первым нарушил молчание. Усмехнувшись мне в лицо, он проговорил неприятным, гнусавым голосом:
– Говорю вам, профессор: я написал это эссе давно – как только вы нам его задали, поэтому прямо сейчас я уже не помню всех подробностей. – Он ткнул в мою сторону пальцем, и мне захотелось напомнить ему, что показывать пальцем на людей, в особенности на тех кто старше по возрасту или занимает более высокое положение, невежливо. – Но я его написал! – Юджин неуверенно хихикнул и, откинувшись назад, развалился на стуле с таким видом, словно последнее слово осталось за ним.
Я снова повернулся к Мервину.
– Давай поговорим о твоей работе. Итак, откуда ты все-таки почерпнул свои замечательные идеи?
Мервин ссутулился, засопел и, отвернувшись, стал смотреть в окно.
– Алан, объясни, пожалуйста, почему стиль и структура этого эссе так сильно отличаются от твоих предыдущих работ?
Нет ответа.
– Рассел?..
Я снова взял их работы в руки, выровнял легким ударом о стол и снова положил перед собой. Четыре пары глаз с неослабевающим интересом следили за каждым моим движением. Я посмотрел в окно, потом не спеша повернулся к ним.
– Спрашиваю в последний раз, джентльмены: никто из вас не хочет ничего мне сказать?
Они знали, что́ я имею в виду. И я знал, что они знают. А они, в свою очередь, знали, что я знаю, что они знают.
Пат.
Я переводил взгляд с одного лица на другое и не представлял, что еще сказать, как достучаться до их душ. В конце концов я взял со стола злополучные папки с работами.
– Думаю, вы отлично знаете, как это называется…
Ни один из них не посмел взглянуть мне в глаза.
– …И вам прекрасно известно, как посмотрит на это администрация колледжа.
Тишина.
– Ну, Юджин, как это называется?
Он выпрямился.
– Я не знаю, профессор, но я сам написал свою работу. Мне нужно прослушать этот курс чтобы благополучно закончить обучение, поэтому я сам написал свою работу.
Юджин предлагал мне сделку, которую ему отчаянно хотелось заключить, но он еще не знал моих условий.
– А ты, Мервин? Как бы ты это назвал?
– Я тоже сам писал свое исследование.
– Алан, ты?..
– Я… я сам напечатал это эссе.
Рассел был последним, к кому я обратился.
– Ну а как бы ты назвал подобное, Рассел?
Он не шелохнулся. Не произнес ни слова. Кажется, даже затаил дыхание. Эти ребята нашли выход, я – нет. Они могли одержать надо мной верх и знали это – во всяком случае, подобный исход казался им вполне вероятным. Если ни один не признается – я проиграл. Точка.
Я взял в руки работы, потянулся к рюкзаку, словно собираясь убрать их, потом снова положил на стол и посмотрел на Рассела. Стоит ли мне пытаться разыграть единственный оставшийся у меня козырь, гадал я. Очень, очень тихо я спросил:
– Скажи, Рассел, а как бы назвал это… твой отец?
Рассел дернул головой, словно я его ударил, и крепко зажмурился.
– Я не… Зачем вы, профессор?! – С этими словами он провел по лицу своей могучей ладонью, заморгал и, опустив голову, уставился в стол перед собой. Его сильные плечи опустились, он вздохнул, широкая грудь поднялась и снова опустилась. Через мгновение Рассел вскинул голову и посмотрел мне прямо в глаза.
– Он назвал бы это жульничеством, сэр.
Шах и мат.
Мервин и Юджин заметно загрустили, сдулись, как проколотые шины. Алан молчал.
– Спасибо, Рассел. – Я кивнул. – Я тоже назвал бы это именно так.
Поднявшись, я обошел стол и уселся на край, болтая ногами. Четверо студентов остались на прежних местах. Головы у них были опущены, но исподлобья все четверо поглядывали на меня. Время словно остановилось. Секунды тянулись как резина.
После довольно продолжительного молчания я в очередной раз повернулся к Расселу.
– Прежде чем мы продолжим, я хотел бы сказать тебе одну вещь… Только что ты продемонстрировал такую честность и силу духа, каких я не видел уже давно. Я не оправдываю то, что ты сделал, но твои слова… В общем, спасибо, Рассел. Если бы ты только знал, как ты меня порадовал!
И я повернулся к Алану.
– Ну а как бы ты назвал свой поступок?
Он вздохнул, трагично приподнял брови и проговорил со смирением и искренностью в голосе:
– Жульничеством, сэр.
Я перевел взгляд на Мервина, который еще больше ссутулился на своем стуле. Он словно не мог поверить, что Рассел сломался первым.
– Мервин?
– Я был не прав, сэр. Я сжульничал.
– Ты, Юджин?
– Я тоже. – Юджин вскинул голову с таким видом, словно сам удивился своим словам, но в глазах у него сквозило облегчение. Он не только был готов расплачиваться за собственную глупость, но и радовался тому, что выход из сложной ситуации нашелся. В том, что он будет соблюдать мои условия, у меня не было ни малейших сомнений.
Продумывая сегодняшний разговор, я понимал: чтобы иметь возможность маневра, мне необходимо добиться признания. Полного и откровенного признания. Но главной трудностью в игре, которую я затеял, было то обстоятельство, что я понятия не имел, что мне сделать с моими студентами. Политика администрации колледжа в подобных случаях была решительной и жесткой. Немедленное исключение. Никаких оговорок или поблажек.
Немедленное исключение… Несколько мгновений я размышлял над тем, что́ это может означать для сидевших передо мной парней. Нет, позиция колледжа не казалась мне несправедливой или чрезмерно суровой, просто мне представлялось не совсем правильным, что приглашенный преподаватель, фактически – человек посторонний, может иметь такую власть над судьбами студентов. С другой стороны, я получил эту власть только потому, что Рассел, Юджин, Алан и Мервин сами отдали ее мне. Теперь, если бы я поступил так, как требовали мои служебные обязанности, Мервин и Рассел мигом лишились бы своих спортивных стипендий, Алан не стал бы первым из членов своей семьи, получившим высшее образование, а Юджин так и не прослушал бы курс, необходимый для успешного окончания колледжа.
В какой-то момент я едва не пожалел о том, что заварил эту кашу. Куда проще было бы просто раздать им работы, выставив за них положительные оценки. Какой-то голос у меня в голове твердил, что лучшее, что́ я мог сделать для них и для себя, это отправить всех четверых в канцелярию колледжа, но поступить так означало бы просто умыть руки. К чему бы это привело? К ненависти? Не знаю. Очень может быть.
И, повернувшись к студентам, я спросил:
– Меня очень интересует один вопрос… Как бы вы поступили на моем месте?
Юджин, наш предприниматель, заговорил первым – заговорил еще до того, как остальные успели сообразить, что́ я предлагаю.
– Я бы разрешил нам переписать наши… в общем, эти работы. Да, точно!.. – Он поднял руки ладонями вверх, и его глаза широко раскрылись.
– Ага! – поддакнул Мервин.
– Да, я мог бы это сделать, – подтвердил я. – Но, мне кажется, поступи я так, и мы потеряем одну важную вещь, а именно – взаимное уважение. – Я помахал перед их носами папками с эссе. – То, что вы сделали, было проявлением неуважения. Вы решили, что сможете меня обмануть, что мошенничество сойдет вам с рук. Вы надеялись, что сможете и дальше безнаказанно бездельничать и валять дурака. Я считаю это оскорблением и не намерен делать вид, будто ничего не произошло, так что просто «переписать» не получится.
Мервин, не желая упустить свой шанс, поспешно сказал, постаравшись, впрочем, придать своему голосу максимум почтительности:
– Но, профессор, вы же с самого начала держите себя с нами так, словно мы – тупые дебилы, которые все равно не смогут написать ничего путного. Вот нам и стало казаться, что старайся не старайся, все равно выйдет ерунда на постном масле!
Я перебил его, прежде чем он успел договорить про «постное масло».
– Прекрати, Мервин! Я не выношу, когда кто-то прикидывается жертвой, тем более что ты говоришь неправду. Я оставался с вами после занятий, я помогал вам переписывать неудачные работы, я читал вам лекции и учил вас, стараясь при этом относиться к вам со всем возможным уважением. В свою очередь, мне хотелось бы, чтобы вы отнеслись к моему курсу с такой же серьезностью и ответственностью, с какими вы относитесь к другим учебным дисциплинам, которые читают вам в стенах этого колледжа. Во всех случаях я поступал с вами так, как мне хотелось бы, чтобы вы поступали со мной, и вам это известно, поэтому я не желаю слышать никаких измышлений на тему, что я будто бы заставил вас чувствовать себя в какой-то мере ущербными или неспособными. Вы просто разленились, вот в чем все дело!
– Но вы высмеяли меня! – неуверенно возразил Мервин.
– Высмеял тебя? Когда?
– В первый день… Я пришел на занятия в спортивном костюме, а вы сделали меня всеобщим посмешищем.
– И что я сказал? – Я в самом деле забыл тот давний случай.
– Не помню точно… Кажется, будто я только недавно проснулся.
Тут я вспомнил. Мервин был прав: я действительно сказал нечто в этом роде. Впрочем, он действительно выглядел так, словно только что встал.
Я немного подумал.
– Теперь я вспомнил, Мервин. Все верно, я это сказал, но я прошу у тебя прощения, если мои слова как-то задели твои чувства. Тем не менее моя бестактность не оправдывает вот этого!.. – Я поднял стопку работ повыше. – Я видел, как ты играешь в футбол, Мервин. На поле ты держишься как мужчина: падаешь, встаешь, снова падаешь, но не сдаешься. Так веди себя по-мужски и на моих занятиях!
И я снова повернулся к Юджину.
– Я не могу дать вам переписать эти работы.
Юджин машинально кивнул. Он знал, что я прав – развитое чувство справедливости позволяло ему без труда отличать добро от зла, хорошее от плохого. Знали это и все остальные.
Мервин тем временем вновь обрел кураж.
– Значит, вы уже все решили, да, профессор?
– Нет. И, признаюсь откровенно, я понятия не имею, что мне теперь делать.
– Вы все решили!
Я – не Фрейд, но Мервин явно нуждался в человеке, который мог бы в него поверить. Сейчас он проверял, не гожусь ли я на эту роль.
– Прежде чем мы попробуем отыскать выход из положения, – сказал я, – мне хотелось бы, чтобы вы знали, что́ я думаю о вас на самом деле. Чем бы ни закончилась сегодняшняя неприятная история, вы имеете право это знать. Ты, Юджин, очень неглуп. Окружающие чувствуют это, они прислушиваются к твоему мнению и уважают и его, и тебя. Я рад, что ты попал в мою группу. На занятиях ты задаешь хорошие вопросы, на которые бывает очень интересно отвечать.
Я повернулся к Мервину.
– У тебя, Мервин, отменное чувство юмора. Ты всегда умеешь меня рассмешить, с тобой легко иметь дело, и мне интересно и приятно слушать твои ответы. А еще мне очень нравится смотреть, как ты играешь в футбол. У тебя настоящий талант, и я надеюсь, тебе хватит терпения и здоровья, чтобы достичь вершин спортивного мастерства.
Ты, Алан, никогда не опаздываешь, ты задаешь хорошие, острые вопросы и участвуешь в учебном процессе наравне со всеми. А это не так мало, как может показаться. Кроме того, я слышал, что ты можешь починить все что угодно – любой механизм. Говорят, ты собрал буквально из ничего четыре автомобиля, и это тоже дар Божий.
Я посмотрел на Рассела.
– Ты, парень, по душе большинству окружающих; на тебя смотрят, на тебя равняются, к твоим словам прислушиваются, и, если ты захочешь, люди пойдут за тобой куда угодно, потому что ты – прирожденный лидер. Я уважаю тебя, быть может, даже чуть больше, чем остальных, но вовсе не за то, что́ ты сделал или сделаешь, а за то, что́ ты мне только что сказал. О других твоих талантах я даже говорить не буду – только дурак может не видеть, что, если тебе удастся сохранить здоровье, тебя ждет долгая и успешная футбольная карьера.
Я перевел дух и взмахнул руками, словно пытаясь охватить всех четверых разом.
– Вот, я сказал вам все, что я о вас думал и продолжаю думать, несмотря ни на что. К этому я хотел бы добавить лишь одну вещь, которую вам следует знать. Мне было очень неприятно и больно, когда вы сдали мне эти работы в надежде, что пронесет, что я ничего не замечу или не стану поднимать шум. Неужели вы рассчитывали, что после этого я буду и дальше относиться к вам с уважением?
Задав этот риторический вопрос, я замолчал. Четверо студентов тоже молчали, не сводя с меня глаз. После довольно продолжительной паузы я сказал:
– Вот как мы, пожалуй, поступим… Я, правда, пока не принял окончательного решения, так что у вас есть выбор. Либо вы сейчас отправитесь в деканат, скажете моему начальнику мистеру Уинтеру, что преподаватель несправедливо обвинил вас в списывании, и пригласите его на наше следующее занятие, либо каждый из вас напишет объяснительную, в которой признается в плагиате, попытке смошенничать и неуважении к преподавателю. Иными словами, у вас есть только два пути вернуться в эту аудиторию: либо в четверг вы приводите сюда декана Уинтера, либо приносите мне письменные извинения в своем поступке. Других вариантов нет, так что решать вам.
С этими словами я соскочил со стола, повернулся к ним спиной и стал не спеша собирать вещи. Четверо студентов позади меня поднялись со своих мест и, не говоря ни слова, на цыпочках вышли в коридор.
По дороге домой я напряженно размышлял о том, все ли я сделал правильно, был ли какой-то другой путь. Не был ли я с ними слишком суров или, наоборот, чересчур мягок? Запомнят ли они сегодняшний урок? Что они из него вынесут?
В половине девятого зазвонил мой телефон. Признаюсь честно, я ждал чего-то подобного. Мне нужно было, чтобы телефон зазвонил.
– Алло?
– Гхм-м… профессор… Профессор Стайлз?..
– Привет, Рассел.
– Да, профессор, это я… В общем, я решил вам позвонить и сказать, что мне очень стыдно, и я сожалею… сожалею, что проявил к вам неуважение. – Было слышно, как на другом конце линии Рассел глубоко вздохнул. – Вот, что я хотел вам сказать.
Не знаю почему, но в этот момент мне на память пришла сцена из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» – та самая, когда Чарли Бакет возвращает Вечный Леденец, который он украл у Вилли Вонка. Когда Чарли положил леденец на стол, Вонка накрыл его ладонью и сказал: «Так в мире зла поступок добрый светит…»[42]. Мне очень понравились эти его слова.
– Спасибо, Рассел, – проговорил я, стараясь, чтобы мой голос звучал достаточно сдержанно. То есть чтобы в нем не чувствовалось охватившего меня торжества. – Тем не менее должен напомнить, что я еще не решил, как поступлю.
– Я понимаю, сэр… Мне просто хотелось, чтобы вы знали – мне и вправду жаль…
– До четверга, Рассел.
– Ага, сэр.
Я дал отбой. Мне было известно, что Рассел живет в общежитии для спортсменов, а значит, Мервин тоже должен быть где-то рядом. Интересно, долго ли мне придется ждать звонка от него?
Телефон зазвонил две минуты спустя.
– Алло?
– Здрасте. Профессор Стайлз?
– У аппарата.
– Это Мервин говорит.
– Привет, Мервин. Я тебя узнал.
– Тут такое дело, профессор… Я решил позвонить вам и извиниться… за неуважение и прочее. Извините, ладно? – По голосу чувствовалось, что Мервин здорово напуган, но говорил он искренне. Таких интонаций я у него никогда прежде не слышал.
– Спасибо за звонок, Мервин. – Больше я ничего добавлять не стал – мне хотелось, чтобы парень как следует пропотел. Не из садизма, не из желания насладиться властью. Я хотел, чтобы все четверо мучились неизвестностью до последней минуты – быть может, тогда, думалось мне, они поймут всю тяжесть того, что совершили. С другой стороны, я не знал, насколько правильна моя тактика. В конце концов, осознание неприемлемости своего поступка и страх перед возможным наказанием – немного разные вещи.
– Увидимся в четверг, Мервин.
– Да, сэр.
Больше мне никто не звонил, но меня это не расстроило. С самого начала я знал, что на подобный шаг способны только Мервин и Рассел. Алан и Юджин были хорошими парнями, но эти двое все же казались мне слепленными из другого теста. Мервин и Рассел всегда реагировали на происходящее немного острее остальных, словно их сердца́ были более чуткими. Я давно это заметил и сегодня получил подтверждение своим предположениям… Кроме того, их звонки говорили о том, что им не все равно. Теперь я в этом убедился.
Наступил четверг. На занятия все четверо явились намного раньше остальных – не вместе, но почти одновременно. Каждый из них подходил к моему столу и клал на него листок бумаги с аккуратно написанным от руки текстом. Объяснительные я читать не стал, только положил их в журнал учета посещаемости.
Судя по бледным, вытянувшимся лицам Рассела, Мервина, Алана и Юджина, два дня, проведенные в неизвестности, подействовали на них даже сильнее, чем я ожидал.
Занятие прошло как обычно. Когда оно закончилось и остальные студенты вышли, я запер дверь и повернулся к своей четверке. Рассел, Мервин, Алан и Юджин сидели прямо, пристально глядя на меня. Они даже руки сложили перед собой, словно примерные ученики, но в их глазах читалось напряжение.
Я достал объяснительные, не торопясь прочел и отложил в сторону.
– Ну, вот что мы сделаем… – проговорил я. – Согласно принятым в колледже правилам, я обязан отнести ваши объяснительные в деканат, после чего вы будете немедленно отчислены… отчислены, невзирая на ваши спортивные достижения, – добавил я специально для Рассела и Мервина. Они не опустили глаз, только побледнели еще больше. Как, впрочем, и остальные двое.
– …Но я этого делать не стану.
На всех четырех лицах немедленно отразилось облегчение.
– А поскольку я решил этого не делать, ваше наказание будет заключаться в следующем. Каждый из вас должен будет написать новое эссе. Его тема довольно проста, и звучит она так: что такое плагиат, что такое честность и можно ли иметь второе и заниматься первым. Максимальной оценкой, на которую вы можете рассчитывать, будет «посредственно»… – Я слегка приподнял брови. – Иными словами, тот, кто напишет работу на «отлично», получит «посредственно». Тот, кто напишет посредственную работу, получит незачет. Все ясно?
– Я все равно не смогу написать это эссе на «отлично», – возразил Мартин, – так что мне проще не мучиться и самому забрать документы.
– Поступай, как считаешь правильным. Тебе решать, Мервин, – ответил я. – Кроме того, ты меня не дослушал. Есть еще одно условие, с которым вам всем придется согласиться. Если хотя бы один из вас откажется писать эту работу, я иду с вашими объяснительными к декану.
Трое студентов, как по команде, повернулись к Мервину. Рассел, впрочем, немного опередил остальных.
Мервин опустил голову и слегка пожал плечами.
– Я – что, я – ничего… Я постараюсь написать это дурацкое эссе…
– Алан? – спросил я.
– Согласен.
– Рассел?
– Это справедливо, сэр, – прогудел он. – Мне нравится.
– А какой объем? – снова вмешался Мервин.
– Любой, какой вам потребуется, чтобы выразить вашу идею.
– О-о, это хуже всего! – Мервин экспрессивно всплеснул руками. – А когда сдавать?
– Я знаю, что в ближайшие выходные у вас важный выездной матч во Флориде, так что раньше понедельника вы все равно за работу не сядете. – Я взглянул на стоявший у меня на столе календарь. – Сегодня у нас четверг. Приносите ваши работы через неделю, то есть в следующий четверг. Если этого времени вам не хватит, принесите то, что успеете написать, и мы вместе поработаем над продолжением. – Я посмотрел на парней. – Вы можете мне не верить, но я хорошо знаю, каково это – совмещать учебу и футбол.
Рассел вскинул на меня удивленный взгляд.
– Вы играли в футбол, профессор?
– Да.
– А на какой позиции?
– Тэйлбека и… – Я посмотрел на Мервина. – …И корнера.
Мервин недоверчиво рассмеялся.
– Я видел, как ты играешь, Мервин, – сказал я. – У тебя есть скорость. Неплохая скорость. Может быть, даже очень хорошая скорость, но у меня было еще одно качество, которое тебе только предстоит в себе развить.
– Я знаю, – насупился Мервин. – Мозги. Я должен лучше соображать.
Но Рассел со мной еще не закончил.
– А почему вы бросили? – с жадным интересом спросил он.
– Травма, – коротко пояснил я.
– Серьезная?
– Достаточно серьезная. Вопрос стоял так: либо я бросаю футбол, либо буду до конца жизни раскатывать в инвалидном кресле.
– Сурово! – заметил Мервин.
– Это жизнь, Мервин. Она такая, какая есть. – Я убрал бумаги и закрыл рюкзак. – Итак, у вас есть неделя. И на этот раз вам придется работать над эссе самостоятельно, никакой помощи со стороны! Считайте это упражнением на самостоятельное мышление.
Четверо студентов собрали учебники и встали. Все молчали – похоже, они просто не знали, что сказать.
Мервин опомнился первым и протянул мне руку.
– Спасибо, профессор Стайлз.
Пожатие у него было крепким, и оно было гораздо красноречивее, чем произнесенные им слова.
– Скажу вам еще одну вещь… – Я посмотрел на Мервина и Рассела. – У вас двоих есть нечто такое, чего не было у меня, – отличная возможность заниматься делом, которое получается у вас лучше всего. Я имею в виду футбол. В свое время я попытался пойти по этому пути, но мне не повезло, а может, мне просто не хватило способностей. У вас ситуация совершенно иная. Поэтому попрошу иметь в виду: если я только узна́ю, что вы снова совершили нечто подобное, я достану ваши объяснительные и отправлюсь с ними прямиком к декану. То же самое касается и вас… – Я посмотрел на Юджина и Алана. – Если я только узнаю, что вы снова что-то натворили, ваши объяснительные в тот же день окажутся у декана на столе. Считайте это чем-то вроде уголовного досье, о котором знаю только я. Оно будет висеть над вашими головами, подобно дамоклову мечу, до тех пор, пока вы не закончите колледж. Возражений нет?
Все четверо покачали головами, а Мервин скроил забавно-печальную рожицу:
– Придется вести себя примерно, иначе – капут!
Я кивнул. Мервин никогда бы в этом не признался, но я знал, что он – парень смирный и терпеть не может конфликтов.
Юджин шагнул вперед и тоже протянул руку.
– Спасибо, профессор.
– До четверга, Юджин.
– Спасибо, профессор Стайлз. Я этого никогда не забуду! – Алан улыбался от уха до уха.
– До четверга, Алан.
Настал черед Рассела. Насколько я успел заметить, он успокоился и задышал свободнее, а его широкие плечи заметно расслабились. Мысль о том, что теперь ему не придется объяснять матери, почему у него отобрали спортивную стипендию и вышвырнули из колледжа, принесла Расселу такое сильное облегчение, что его глаза невольно увлажнились. Глядя на меня сверху вниз с высоты своего огромного роста, он пробасил:
– Спасибо, профессор. Вы и в самом деле очень многое для нас сделали. Спасибо вам огромное! – Моя рука буквально утонула в его лапище. Если бы он захотел, то, наверное, мог бы сломать мне пальцы.
– Не за что, Рассел.
Он повернулся к дверям.
– Только имей в виду: я не шучу. Если вы меня вынудите, я все-таки пойду к декану…
Он кивнул и поспешно выскочил в коридор, чтобы я не заметил скатившейся по его щеке слезы.
– Профессор!.. – крикнул уже из коридора Мервин. – Как вы думаете, может, у меня все-таки получится успешно закончить ваш курс?
– Это будет зависеть только от тебя. Ненулевая вероятность этого существует, но на твоем месте я бы постарался как следует подумать над эссе, которое я вам задал. Могу даже дать подсказку, в каком ключе тебе надо работать над ним. Представь, что ты получил отличный пас, но до зачетного поля еще девяносто ярдов, которые надо преодолеть.
– Да, сэр, я понял. Спасибо, сэр! – Он широко расставил ноги и вытянул руку, изображая приз Хайсмана[43]; через секунду его топот донесся до меня уже из дальнего конца коридора.
Они, наверное, уже вышли из здания, а я все сидел в аудитории, прислушиваясь к слабому стуку своего барабана, эхом отражавшемуся от стен. Я сделал все, что было в моих силах, – все, что было задумано и запланировано, я разыграл как по нотам. Наверное, Мэгги могла бы мною гордиться, но победителем я себя не чувствовал. Внутри поселилась какая-то пустота – сосущее ощущение под ложечкой, которое не давало мне покоя. Наверное, дело в том, что бить в барабан имеет смысл, только когда есть кто-то, кто тебя слышит.
Домой в тот день я вернулся поздно. Войдя в нашу спальню, я сбросил ботинки, оставив их на полу посреди комнаты. Пока я чистил зубы, Блу вспрыгнул на постель и сунул нос под подушку Мэгги.
Выключая в ванной свет, я заметил на полочке под зеркалом духи Мэгги, спрятавшиеся за моим кремом для бритья. Флакончик с духами я взял в руки бережно, как Святой Грааль. Выключив наконец свет, я вернулся в спальню и подошел к кровати. Свинтив с духов крышку, я поставил их на ночной столик, потом лег, закрыл глаза…
…И глубоко вдохнул.
Глава 21
Во вторник меня разбудило заглянувшее в окно солнце. Сам не знаю почему, но, едва встав с кровати, я сделал нечто такое, чего ни разу не делал со дня родов, – я отправился в детскую. Нет, я действительно не знаю, почему меня туда потянуло. До сегодняшнего дня у меня просто не было никаких причин заходить в эту комнату, но это утро было другим.
Почему? Не спрашивайте, все равно я не могу ничего объяснить.
В детской я, впрочем, надолго не задержался. Я только взял из кроватки футбольный мяч и бейсбольную перчатку и, сунув их под мышку, вышел из дома.
Кукуруза к этому времени почти засохла, а междурядья заросли травой и сорняками. До Рождества оставалась еще пара недель, и с надеждой получить урожай можно было попрощаться.
Некоторое время я пробирался вдоль частокола мертвых стеблей и неожиданно спугнул оленя, который фыркнул на меня и стремглав понесся к противоположному краю поля.
Минут через пять я выбрался к дубу, под которым располагалось наше маленькое фамильное кладбище. Глициния, обвившая памятник на могиле бабушки, перекинулась теперь на небольшую гранитную плиту, положенную мною на могиле сына, который меня так и не увидел. Правда, я и сам почти не помнил своего отца, но это не мешало мне страстно мечтать о том, чтобы каждый день моей жизни мы вместе – он и я – бросали мяч на заднем дворе. Одно время – по вечерам, после того как Мэгги засыпала, – я даже надевал на руку перчатку, выходил в темный двор и играл в мяч сам с собой.
Мой любимый фильм – «Самородок»[44]. По-моему, в нем есть что-то такое, что берет за душу. Я смотрел его, наверное, сотню раз. Мэгги всегда начинает – начинала – хихикать, когда я включал наш старенький видеомагнитофон и в сто первый раз садился смотреть финальную сцену фильма, где команда главного героя (его сыграл Роберт Редфорд) одерживает решающую победу, и над стадионом взлетают яркие фейерверки. Но еще больше мне нравится заключительный – всего несколько секунд – эпизод, где Роберт Редфорд и его сын, стоя посреди пшеничного поля, кидают друг другу бейсбольный мяч, а Гленн Клоуз[45] скромно стоит поодаль и с любовью смотрит на них. Эта сцена нравится мне еще и потому, что бейсбол, как я думаю, – это больше чем игра. И футбол, наверное, тоже. И то и другое – это та самая нить, которая накрепко связывает отцов и сыновей вплоть до того момента, когда переходный возраст и подростковое бунтарство разводят их в разные стороны.
Опустив голову, я долго смотрел на могилу сына, потом вложил футбольный мяч в бейсбольную перчатку и положил их на гранит. Градусник на окне в нашем доме показывал двадцать три градуса[46] – довольно холодно, но я почему-то ничего не почувствовал.
В тот же день, когда закончились занятия, я отпустил группу, и мои студенты один за другим покинули аудиторию. Еще некоторое время я собирал в рюкзак бумаги, а когда поднял голову, увидел Кой, которая по-прежнему сидела на своем месте и смотрела на меня. То есть я решил, что она смотрела, хотя уверенности у меня не было: как обычно, Кой была в черных очках, которые скрывали не только ее глаза, но и добрых пол-лица. Ее не было на занятиях почти две недели – с той самой пятницы, когда команда Диггера одолела южнокаролинцев (тогда Кой подошла ко мне в самом конце игры, которую я смотрел из-за ограды). Теперь она должна была предъявить мне соответствующую справку. Увы, никакой справки у нее не было, а между тем она пропустила пять занятий, что было достаточно серьезным нарушением. По принятым в колледже правилам я обязан был выставить неудовлетворительную отметку каждому, кто пропустит без уважительной причины три или больше занятий.
Судя по выражению лица Кой, точнее – по выражению видимой его части, она либо собиралась что-то соврать либо просто не знала, что сказать или с чего начать. Я предпочел бы последний вариант, поэтому первым нарушил молчание:
– Здравствуйте, Кой. Сегодня вы были как-то особенно молчаливы. Что-нибудь случилось?
– Я пропустила две недели, но у меня нет никакого оправдательного документа! – выпалила она.
Я вышел из-за стола и присел на передний край столешницы.
– Вы же знаете правила, Кой, – сказал я и сложил руки на груди. – Если вы были больны, почему вы не взяли справку?
– Потому что там, где я была, никаких справок не дают.
– Почему не дают?
– Потому что не дают. – Она отвернулась к окну.
– Допустим, но мне это ничем не поможет. – Я слегка наклонился вперед. – Можете вы мне хотя бы сказать, где вы были?
– Да.
– Где же? – тихо спросил я.
Кой встала. Сегодня она была одета в длинный, свободный трикотажный балахон с широким и толстым воротом и мягкие туфли без каблуков, хотя обычно предпочитала обтягивающие, стильные костюмы, которые демонстрировали больше, чем скрывали. Нет, ее одежда не выглядела вызывающей, она просто была красивой, яркой, гармоничной и говорила о вкусе и характере Кой даже больше, чем она сама, возможно, готова была поведать миру. Сегодняшний ее наряд противоречил всему, что я успел узнать об этой девушке за полгода обучения.
Туда, где стоял мой стол, Кой шла, низко опустив голову, и это тоже было совершенно на нее не похоже. Остановилась она совсем близко от меня – на расстоянии вытянутой руки или даже меньше. Сняв очки левой рукой, Кой протянула правую вперед, с видимым усилием раскрыв сжатую в кулак ладонь. На ее ладони лежал измятый, влажный от пота кусочек бумаги. Я взял его, развернул и поднес к глазам.
Это оказался счет. Вверху было напечатано название частной медицинской компании «Женская клиника «Хиллкрест», внизу чернилами была выведена сумма – 265 долларов и стоял штамп: «Оплачено наличными».
Крохотный кусочек бумаги вдруг показался мне невероятно тяжелым, и мне захотелось поскорее куда-нибудь положить его. Он буквально жег мне пальцы! Подняв взгляд, я посмотрел на Кой. Глаза у нее были красными, веки покраснели и казались воспаленными. Почти минуту мы стояли молча: она ничего не объясняла, я ни о чем не спрашивал.
Наконец я пробормотал:
– Как вы себя чувствуете? Заниматься можете?
Она кивнула, вытерла со щек слезы и, вновь надев очки, молча вышла в коридор. Единственным звуком, который я слышал, был стук ее каблуков по старым паркетным полам.
Стоя у окна я смотрел, как Кой садится в машину и заводит мотор. Наконец она отъехала, и я опустился на стул рядом с окном. У меня буквально подгибались ноги – слишком тяжелым оказался предъявленный Кой клочок бумаги.
Глава 22
Почти круглый год я хожу в ковбойских сапогах. Можно сказать, они и есть я. Или, иначе говоря, это не только самая удобная обувь, какую я знаю, но и нечто большее. Словами этого не выразить, но, если вы попробуете их носить, вы поймете, что я имею в виду. Сам я вырос на фильмах Джона Уэйна, которые мы смотрели с Папой, поэтому моей первой обувью вполне ожидаемо стали ковбойские сапоги «Динго». Когда я из них вырос, Папа покрасил их бронзовой краской, насыпал внутрь свинцовых грузил и стал использовать в качестве книгодержателей для бабушкиных кулинарных книг. Они и сейчас стоят на кухне, только теперь поддерживают книги Мэгги.
Сейчас у меня шесть пар сапог – семь, если считать самые старые, в которых я убираю в хлеву. К сожалению, Мэгги считает этот вид обуви неприличным и терпеть не может, когда я надеваю сапоги в город или в какое-то другое «общественное» место. Исключение она делает только для сапог «Тони Лама» из бычьей кожи с расшитыми вручную голенищами, которые выглядят по-настоящему красиво, к тому же Мэгги сама купила их в фирменном магазине. Всё остальное я приобретал на дешевых распродажах, поэтому вид у моей повседневной обуви довольно потрепанный: краска местами облезла, кожа потрескалась и покрылась царапинами, а на нескольких парах давно пора заменить подметки. Иногда я за них просто боюсь – Мэгги уже не раз покушалась их выкинуть или использовать в качестве горшков для своих цветов или рассады. Как она однажды призналась, ей хотелось бы, чтобы на людях я носил нормальные мужские туфли, поэтому я пошел на компромисс и показал ей те самые «Тони Лама», на которые давно облизывался. Сапоги произвели-таки впечатление на нее. Мэгги немного поворчала, но сдалась и пообещала купить их мне на день рождения. Свое обещание она сдержала, но это не избавило меня от лекций на тему «как должен одеваться приличный мужчина, особенно если он – законный супруг миссис Стайлз».
Нет, моя Мэгги вовсе не классическая «пила» из анекдотов. Напротив, она довольно сдержанна, но, если ее разозлить, вспыхивает, как порох, и тогда достается и мне, и моим сапогам. «Дилан Стайлз, – чеканит она ледяным тоном, – ты не Джон Уэйн и не ковбой, а наша ферма – не ранчо для отдыхающих![47]» После этого она обычно тяжело вздыхает и, упершись кулаками в бока, бормочет как бы про себя: «Бог ты мой, угораздило же меня выйти замуж за ковбоя Мальборо!».
Но, если бы я пришел домой, разодетый как манекенщик с обложки «Джи-Кью»[48] или как модель для «Поло» или «Джонстона и Мерфи», Мэгги решила бы, что я перегрелся на солнышке, и отправила бы меня к доктору проверить мозги. В конце концов, люди далеко не всегда носят то, что им идет; большинство надевает то, что им нравится.
Никак не удается нам с Мэгги договориться и насчет джинсов. Я ношу исключительно «Рэнглеры» с кожаной нашивкой на правом заднем кармане. Мэгги их не переносит – ей нравятся «Льюисы». Я постоянно твержу ей, что «Льюисы» шьются на манекенщиков с нестандартной фигурой, тогда как «Рэнглеры» скроены для реальных людей с реальными телами. Например, для мужчин, которые носят ковбойские сапоги. Однажды я даже решился на небольшой эксперимент. Я купил Мэгги подходящую по размеру пару «Рэнглеров», потоптал их ногами, чтобы они выглядели поношенными, и подсунул в шкаф, где висела ее одежда. На следующее утро, собираясь работать в амбаре, Мэгги машинально их надела. Она даже застегнулась и почти дошла до кухни, где стояла наша кофемашина, когда до нее дошло, что что-то не так.
– Дилан Стайлз! – взвизгнула она. – Что это такое? Что это такое, я тебя спрашиваю?! Где ты выкопал эту дрянь?!
Она, конечно, сразу попыталась сорвать с себя джинсы, но зацепилась каблуком и едва не упала.
В конце концов я все же уговорил ее немного поносить «Рэнглеры», хотя это и было нелегко. Зато сейчас она надевает их каждый раз, когда чистит загон Пинки или работает в саду, а однажды я видел, что Мэгги даже ездила в них в магазин! Разумеется, я ничего не сказал, потому что, если бы я проболтался, она бы тут же их сняла и больше никогда не надела. Иногда лучше промолчать, даже если ты оказался прав.
Все это было почти два года назад. Сейчас эти джинсы выглядят очень старыми и заношенными, но я думаю, если бы Мэгги могла честно ответить на мой прямой вопрос (а на это рассчитывать не приходится, поскольку речь идет о ненавистных «Рэнглерах»!), она призналась бы, что они ей нравятся. Я не исключаю даже, что купленные мною джинсы стали одной из ее самых любимых повседневных одежек. Во всяком случае, они ей идут – в них Мэгги выглядит совершенно потрясающе. Думаю, она и сама это понимает, но ни за что не признается, что на самом деле «Рэнглеры» достаточно хороши. На первый взгляд это выглядит странно, но на самом деле так бывает сплошь и рядом. Так уж устроен наш мир.
Прошла неделя. Наступил четверг, в который моя проштрафившаяся четверка должна была сдавать готовые работы.
Мервин явился на занятия первым. Усевшись на место, он принялся дуть на свои сложенные ковшиком руки.
– Ну и холодрыга! Не хуже чем в Сибири!
Он был прав. Зима полностью вступила в свои права.
За считаные секунды до звонка в аудиторию вошла Кой и, не говоря ни слова, скользнула на свое обычное место в дальнем углу. Темные очки снова красовались у нее на носу.
Лекция, которую я читал в тот день, была посвящена необходимости многократно редактировать собственную рукопись, чтобы избавиться от «пустой породы» и подобрать слова, которые в данном контексте прозвучали бы наиболее выразительно. Короче говоря, речь шла о том, чтобы найти золотую середину – нечто среднее между Фолкнером и Хемингуэем. На мой взгляд, эта тема была одной из самых интересных, но слушали меня невнимательно. Наконец занятие закончилось, и моя четверка, сияя неуместными улыбками, положила мне на стол свои работы и покинула класс.
– Кой, можно вас на минуточку?
Она посмотрела в мою сторону, сделала по инерции еще несколько шагов к двери, потом вернулась и встала напротив моего стола, пока последние студенты выходили из аудитории.
– Скажите, Кой, вы еще не думали о том, чем вы будете заниматься, когда закончите колледж? Не хочется ли вам пройти, к примеру, полный, четырехгодичный курс обучения и получить степень бакалавра или магистра?
– Иногда хочется, а иногда нет, – ответил она, не прибавив больше ни слова. Мне, таким образом, приходилось самому догадываться, что имела в виду Кой.
– Я так и полагал, что вы, несомненно, задумывались о подобной возможности, – сказал я. – Больше того, я был настолько уверен в правильности своей догадки, что взял на себя смелость отобрать несколько ваших лучших работ, включая тестовые задания и выдержки из вашего дневника, и отослать их заведующему кафедрой английского языка в Спелман-колледж[49].
– Что вы сделали? – требовательно переспросила Кой, снимая очки.
– Спелман – отличный колледж. Я думаю, вам там понравится.
– Как вы могли, профессор?! – вспыхнула она. – Мой дневник – это… это сугубо личные записи! Вы же обещали, что не будете никому их показывать!
– Вы правы, Кой, извините. Я действительно не сдержал слово.
– Но почему, профессор? Почему?! Я думала, что могу положиться на вас, а вы… – Ее глаза наполнились слезами.
– Послушайте, Кой… Вы можете мне не доверять, но я в вас верю. Я верю в то, что у вас талант – редкий дар, который встречается у одного человека из тысячи… из десятков тысяч. И между прочим, заведующий кафедрой английского языка в Спелмане полностью со мной согласен. Я не шучу: вот в этом конверте – подтверждение моих слов. Каждый год Спелман выделяет несколько стипендий для самых перспективных пишущих студентов. Фонд «Скриппс-Хауард», учрежденный медиакорпорацией «Скриппс», выдал колледжу щедрый грант, и они не против поделиться частью этих денег с вами.
Дрожащими руками Кой взяла у меня конверт и прочла вложенное в него официальное письмо. Потом еще раз.
– Это… правда? – переспросила она хриплым голосом, недоверчиво глядя на меня.
– От первого до последнего слова, – торжественно подтвердил я.
Кой молчала еще несколько минут, снова и снова перечитывая письмо на официальном бланке Спелман-колледжа. Неожиданно она подпрыгнула чуть не до потолка и с размаху чмокнула меня прямо в губы.
– Упс!.. Извините, профессор, я не хотела! – Кой звонко поцеловала меня в щеку, закинула на плечо рюкзак и, вопя во все горло, пулей вылетела из аудитории.
Через две секунды она снова ворвалась в двери, крепко обняла меня, поцеловала в другую щеку и исчезла. Я слышал, как Кой несется по лужайке под окнами прямо к группе парней и девушек, собравшихся возле торговых автоматов с газированной водой и кофе. В течение несколько секунд слышались только сбивчивые, быстрые объяснения Кой, то и дело прерываемые недоверчивыми восклицаниями, потом вся толпа разразилась радостными криками. Драгоценное письмо пошло по рукам, кто-то прыгал от радости, кто-то вопил, кто-то хлопал Кой по плечу, а несколько человек пустились в пляс, словно старатели, наткнувшиеся на золотую жилу в горах Сьерра-Мадре. Я смотрел на них из окна и пытался вспомнить, сколько столетий прошло с тех пор, когда мне в последний раз хотелось танцевать.
Глава 23
Наступила пятница. До конца занятий в колледже оставалась всего неделя. Я натянул сапоги, свистнул Блу, который гонял в кукурузе зайца, и мы забрались в кабину грузовичка. Мы ехали к Брайсу. Я не видел его уже несколько недель, пора было отдать ему визит вежливости.
Брайс и я никогда не говорим о делах – об инвестициях, деньгах, мистере Кэглстоке и тому подобном. Джон Кэглсток делает свое дело, я за ним присматриваю. Пока все идет как надо, а раз так – зачем об этом болтать?
Я объехал Диггер, миновал летний театр, проехал еще несколько миль, обогнул поворот и слегка толкнул бампером ворота старого кинотеатра. Ворота оказались заперты на замок, скреплявший концы цепи, несколько раз обмотанной вокруг сваренной из труб рамы, но меня это не обескуражило. Оставив машину на дороге, я знакомой тропой двинулся туда, где деревья вплотную подступали к ограде, повторяя тем самым путь сотен мальчишек, которым они ходили задолго до меня.
Было время, когда по пятницам и субботам кинотеатр для автомобилистов становился для жителей маленького Диггера настоящим центром культурной жизни. Эта самая жизнь здесь буквально бурлила. Содом и Гоморра в одном флаконе – так вспоминали очевидцы о тех давно минувших днях. Сегодня была пятница, но территория кинотеатра оставалась тихой, безлюдной и заброшенной.
Приподняв сетку ограды, я пропустил в дыру Блу, пролез сам и, вернувшись на дорогу, зашагал дальше к трейлеру Брайса, в который уже раз размышляя на ходу о том, что, наверное, никогда не пойму своего друга до конца. Человек способен скупить весь Диггер, думал я, но предпочитает жить в трейлере, как последний бедняк. Что ж, по крайней мере, никто не обвинит его в мотовстве и небрежном отношении к деньгам.
Поднимаясь к вершине холма, где стояла билетная касса, я вдруг услышал, что внутри ее кто-то стучит и возится. Я невольно замедлил шаг, но тут из покосившегося павильона кассы появился Брайс с молотком, отверткой, пластиковой бутылкой «Жидкого водопроводчика»[50] и автомобильным аккумулятором в руках.
– Привет, Брайс, – поздоровался я.
Брайс бросил на меня один-единственный взгляд, пробормотал что-то похожее на «А-а, Дилан…» и, повернувшись ко мне спиной, зашагал к небольшому сарайчику, возведенному им из подручных материалов рядом с трейлером. Я двинулся следом. Ничего другого я от него и не ждал. Любое другое приветствие, кроме кивка и произнесенного вслух моего имени, в устах Брайса было бы странным.
Кроме того, сегодня Брайс был почти полностью одет, что, с его стороны, выглядело настоящей любезностью. Каждый раз, поднимаясь по этой дороге к вершине холма, я подсознательно готовился увидеть его обнаженную кряжистую фигуру, а надо признать, что зрелище это не слишком эстетичное. В общем, если вы вдруг захотите навестить Брайса, лучше вам заранее подготовиться к тому, что он встретит вас в костюме Адама, хотя сложен он скорее как сатир.
Сегодня Брайс был одет в коротко обрезанные защитного цвета шорты, футболку, которая когда-то была белой, и высокие ботинки на босу ногу. Никакого нижнего белья на нем не было – я определил это, заметив сзади на шортах выдранный клин. Впрочем, давайте видеть в человеке только хорошее, а хорошим в данном случае были солдатские берцы Брайса, которые он не только полностью зашнуровал, но и начистил до зеркального блеска, что и вовсе граничило с чудом.
– Как дела? – поинтересовался я.
Не отвечая, Брайс нырнул в сарай и некоторое время возился там у самого порога, что-то ища. Выбросив наружу через голову несколько предметов, он крикнул:
– Эй, профессор, подай-ка фонарик.
Я протянул ему фонарь, болтавшийся на ручке двери, и Брайс исчез в глубине сарая. Не знаю, откуда он узнал о моей ученой степени – не от меня, это точно. Я никогда не рассказывал ему о своем образовании, а ни от кого другого он об этом услышать не мог – все-таки мы вращаемся немного в разных кругах. Больше того, я абсолютно уверен, что за последние лет восемь Брайс если с кем-то и разговаривал, то только со мной, с Мэгги и Джоном Кэглстоком (водители пикапов, доставлявших ему пиво и продукты, понятно, не в счет). С другой стороны, я прекрасно понимаю, что этот отставной морпех, разыгрывающий из себя убежденного одиночку и запойного пьяницу, любителя играть на волынке и расхаживать голышом, на самом деле знает об окружающих гораздо больше, чем полагает большинство людей, живущих за пределами его персонального ада. Иногда я даже спрашиваю себя, кто из нас спятил – Брайс или все мы?
Из сарая Брайс появился с огромным предохранителем в руках. От усилий он вспотел – его лицо блестело, крупные капли пота стекали по лбу и по щекам.
– А это зачем? – спросил я, показывая на бутылку «Жидкого водопроводчика», которую Брайс прицепил к поясу, словно кобуру. Все прочие инструменты он оставил в сарае.
– Проектор сломался. – Брайс строевым шагом прошел мимо меня, держа курс на проекторную вышку.
– Понятно. – Я видел, что мой приятель принял какое-то решение, и никакие мои слова не смогут его отвлечь: он непременно сделает, что задумал. – А средство для прочистки труб тебе зачем?
Брайс остановился, посмотрел на притороченную к ремню бутылку и нахмурился, словно решал какую-то сложную логическую задачу.
– Ах это, – проговорил он наконец и зашагал дальше. – Это бензин.
– Зачем тебе бензин? – Иногда мне бывало очень нелегко уследить за ходом его мыслей, хотя с годами я научился неплохо понимать Брайса.
– Затем, что… – Он достиг проекторной вышки и начал подниматься по лестнице в будку киномеханика наверху. – …Если предохранитель не будет работать, я сожгу весь этот хлам к едрене фене.
– Ах вот как, – проговорил я. – Может, помочь тебе с предохранителем?
– Не-а… – Со лба Брайса снова покатились крупные капли пота. Руки у него тоже были мокрыми, с локтей капало, и я боялся, что его может тряхнуть током. – Там ничего сложного нет. Я знаю, что куда совать.
Судя по тому, как сильно он потел, а также по его ясным и четким ответам, Брайс сегодня не пил, и я подумал, что это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что разговаривать с пьяным Брайсом было нелегко. Плохо, потому что наши беседы на трезвую голову частенько заканчивались взрывом или пожаром. Или и тем и другим сразу. В общем, подумал я, если не влить в Брайса пару банок пива – и как можно скорее, – пожара не миновать.
Тем временем Брайс вставил предохранитель в укрепленный на стене щиток и поднял рубильник. Катушки проектора сразу закрутились, и на экране появилось призрачное, едва различимое при дневном свете лицо Клинта Иствуда. Клинт закуривал короткую сигару и, прищурившись, смотрел из-под полей поношенной широкополой шляпы прямо в объектив кинокамеры.
– «Хороший, плохой, злой»[51], – пояснил Брайс, показывая на экран. – Я досмотрел почти до середины – до того места, где злой парень ведет Иствуда в пустыню на верную смерть. И тут – трах! – долбаный предохранитель перегорает! – Брайс сплюнул. – Ох и разозлился же я! Представляешь, я потратил три дня, чтобы найти бобину со второй частью фильма, а эта чертова железяка так меня подвела! – И он провел кончиками пальцев по ручке подвешенной к поясу бутылки.
– Представляю! – сказал я.
– Ладно. Как насчет пивка? – предложил Брайс.
– Спасибо, но я пас. – Я выставил вперед ладони. – Я ехал в город, а к тебе заглянул по пути. Просто проведать.
Брайс посмотрел на меня уголком глаза.
– Может, передумаешь? Сегодня вечером у нас тут будут показывать «Рио Лобо».
«Рио Лобо» – классический фильм с Джоном Уэйном, который уже много лет находится в первой пятерке моих любимых вестернов, и Брайсу это отлично известно. Должно быть, подумал я, сегодня ему нужна компания, вот он и соблазняет меня испытанной классикой.
– Спасибо, приеду, – сказал я и кивнул. – Блу тоже приглашен?.. – уточнил я на всякий случай. С Брайсом никогда нельзя быть ни в чем уверенным на сто процентов.
Брайс посмотрел на Блу и, утвердительно кивнув, повернулся и промаршировал назад к сараю.
В больнице все было нормально, если, конечно, подобное место можно считать нормальным: люди в белых халатах ходят по коридорам, тыкают других людей иголками или разрезают им животы, чтобы извлечь оттуда что-нибудь лишнее или, наоборот, вставить что-то предположительно полезное. Не поймите меня неправильно, я вовсе не против больниц, и все-таки в них мне чудится что-то противоестественное. Сами посудите, где, в каких других местах мы позволяем посторонним людям проделывать с собой вещи, которые делают с нами в больницах? При каких еще обстоятельствах слова «снимайте штаны» или «раздевайтесь» не несут в себе сексуального подтекста, являясь всего лишь частью ежедневной рутины? Где, как не в больнице, вам могут распилить череп, сделать массаж простаты, удалить раковую опухоль или вставить в грудь силикон? То-то и оно… Если марсиане когда-нибудь все же прилетят на Землю, у них может возникнуть немало вопросов по поводу наших больниц.
Вбежав в палату вместе со мной, Блу сразу же запрыгнул к Мэгги на кровать и, облизав ей лицо и руку, свернулся клубком в ногах. Сиделка, которую я не знал, заглянула в дверь, недовольно оглядела Блу и уже собиралась что-то сказать, но я посмотрел на нее так, что она почла за благо поскорее ретироваться. Замечания по поводу присутствия в палате собаки мне перестали делать уже несколько месяцев назад.
Волосы у Мэгги были причесаны, носки и постельное белье выстираны, жалюзи на окнах наполовину опущены, а одеяло для Блу расстелено в углу. На тумбочке стояла чашка с колотым льдом, который явно предназначался не для Мэгги, а для меня. Похоже, кто-то узнал о моей привычке грызть ледяные кубики.
Этим «кем-то», несомненно, была Аманда, от внимания которой не ускользала ни одна мелочь. «Но как может девушка на последнем месяце беременности, которая работает по ночам и едва передвигается на чудовищно отекших ногах, успевать все это?» – подумал я. Мне казалось, что и полностью здоровый человек не смог бы сделать столько, сколько она.
Я сидел с Мэгги целый час, неторопливо рассказывая ей о последних новостях. Я рассказал ей о Брайсе и сгоревшем предохранителе, о нашей ферме и о занятиях в колледже. В какой-то момент мне показалось, что дыхание Мэгги участилось, а губы напряглись, сжались – и снова расслабились. Ее дыхание… нет, оно не было ни тяжелым, ни болезненным. Я бы сказал, что оно было возбужденным, словно она переживала, восхищалась, волновалась вместе со мной.
– Семестр почти закончился, – говорил я, – но меня пока не вышвырнули. Некоторые из моих студентов пишут уже вполне прилично. – Тут я выглянул в коридор, чтобы посмотреть в направлении сестринского поста. – Замечательных успехов достигла наша Аманда; трудно поверить, что всего за несколько месяцев она добилась такого впечатляющего прогресса. Ну, у Кой, как ты знаешь, природный дар… Она прекрасно чувствует язык, и если не будет лениться, то добьется многого. Мои футболисты?.. Они сейчас примерно такие же, каким был я, когда начал преподавать в этой группе.
Дыхание Мэгги на миг прервалось, уголок губ чуть заметно дрогнул, а указательный палец на правой руке ненадолго выпрямился, словно она на что-то показывала. Блу у нее в ногах пошевелился, приподнял голову и снова опустил. Продолжая сжимать ее правую руку левой, я сказал:
– Зачетные работы за семестр они сдали почти две недели назад, так что в ближайшие дни нам придется потрудиться. Я дал им несколько выходных, чтобы они могли как следует поработать над последним заданием. Некоторым из них это необходимо, что до остальных…
Некоторое время мы молчали, и я смотрел, как мерно поднимается и опускается грудь Мэгги. Ее дыхание было беззвучным, но глубоким; при каждом вдохе ноздри ее красивого носа слегка расширялись и трепетали. Наконец я слегка похлопал Мэгги по животу, который, как сказали врачи, полностью зажил, и вместе со стулом перекатился к изножью кровати, чтобы намазать кремом ее ноги. Ногти у нее на ногах были в идеальном порядке, я растер ей ступни, нанес крем и снова надел носки. Переместившись назад к изголовью, я снова взял правую руку Мэгги в свою. Ее указательный палец еще раз выпрямился и расслабился далеко не сразу. В течение нескольких секунд я смотрел на этот палец, на проступившие на лбу Мэгги напряженные морщинки и прислушивался к ее участившемуся дыханию. Но вот напряженно вытянутый палец слегка согнулся, расслабляясь, дыхание стало равномернее, а складки на лбу наполовину разгладились.
В повседневной жизни мне вполне хватает ду́ша. Мэгги в этом отношении совсем другая – ей подавай ванну! Она просто не может жить без того, чтобы не поплескаться всласть. Если бы мы могли позволить себе горячую воду, она бы лежала в ней часами, по несколько раз сливая и вновь наполняя ванну. Не знаю, может быть, это чисто женская особенность или черта характера – сравнивать мне не с чем.
Сейчас я отправился в туалетную комнату рядом с палатой Мэгги, плотно закрыл за собой дверь, напустил в раковину теплой воды и намочил в ней большую мягкую губку. Вернувшись в палату, я осторожно, стараясь не потревожить капельницу и приклеенные прямо к коже датчики приборов, обтер этой губкой Мэгги. Не знаю, правильно ли я поступил – возможно, мне просто хотелось прикоснуться к моей жене. С другой стороны, если бы в коме лежал я, мне было бы очень приятно, если бы Мэгги сделала для меня то же самое. Ее прикосновения я почувствовал бы в любом случае, и мне было бы очень радостно сознавать, что она здесь, рядом, что она думает обо мне.
А руки Мэгги могли сообщить мне это куда лучше, чем слова.
Еждневно во второй половине дня в палате Мэгги появлялась физиотерапевтическая бригада, состоявшая из двух медсестер, каждая из которых выглядела так, словно много лет преподавала аэробику в фитнес-центре. В течение получаса они сгибали, массировали, выворачивали и растягивали руки и ноги Мэгги. Мне эти процедуры напоминали принудительные занятия йогой или какой-то другой новомодной гимнастикой, но я понимал, что на самом деле это делается для того, чтобы отсрочить, замедлить неизбежную атрофию мышц. Моя же цель была совершенно иной. Когда я обтирал Мэгги влажной, горячей губкой, мне всего лишь хотелось, чтобы она ощутила мои прикосновения и поняла: я здесь, я рядом, и я держу ее в объятиях.
– Мэг, – прошептал я, уткнувшись носом в ее ушную раковину. – Просыпайся, когда сама захочешь, ладно? Просыпайся, даже если меня здесь не будет. Просыпайся в любое время – только просыпайся.
Вооружившись полотенцем, я вытер ее насухо, потом наклонился, поцеловал в лоб, и ее палец шевельнулся в третий раз, на мгновение обвившись вокруг моего. Это слабое, беспомощное движение было похоже и на ласку, и на обещание, и я сразу почувствовал себя лучше.
Потом я погладил Мэгги по руке, ее палец расслабился, и мы с Блу на цыпочках вышли из палаты.
Остаток дня я пытался починить трактор, периодически жалея, что у меня нет под рукой Брайсовой канистры из-под «Жидкого водопроводчика». Бензин нужен был мне не для того, чтобы завести упрямый агрегат, а для того, чтобы сжечь его к чертовой бабушке.
Ближе к вечеру появился почтальон, который принес мне прекрасный подарок в виде квитанции для оплаты налога на имущество. Опустившееся к самому горизонту солнце застало меня за рулем трактора, который нехотя тащил от реки прицеп с дровами. Я заготовил их довольно много, но не потому, что в этом году Джим Биггинс меня подвел, просто я слышал, как выступавший по радио метеоролог сказал, что этой зимой нам понадобится все топливо, какое мы только сможем найти. Дрова я свалил возле сарая и принял душ. Вывалившаяся на небо луна напомнила мне о Брайсе, и я, накинув куртку, снова вышел на улицу.
Когда мы с Блу приехали в кинотеатр, привычно пробравшись под металлической сеткой ограды, Брайс уже сидел на площадке в раскладном пляжном шезлонге и смотрел «Рио Лобо». Рядом с ним валялось несколько пустых жестянок из-под пива.
– Привет, проф. Присаживайся, – сказал Брайс и швырнул в меня банкой «Старого Милуоки».
Я усмехнулся. Меня просто убивало, что такой богатый человек покупает такое дешевое пиво.
Брайс, покачнувшись, поднялся и придвинул стоявший поблизости второй шезлонг. Как только я уселся, он протянул мне еще одну банку пива, хотя я даже не открыл первую.
Фильм только начался. На экране Полковник угощал выпивкой двух конфедератских солдат, только что выпущенных из федералистской тюрьмы. Брайс отсалютовал экрану пивом и пробормотал что-то неразборчивое – я расслышал только последнее слово, и это слово было «…Джон». Потом он допил все, что оставалось в банке, швырнул ее за спину и немедленно откупорил другую, забрызгав себя пеной. Удовлетворенно вздохнув, Брайс откинулся на спинку своего кресла.
Было довольно холодно – градусов тридцать восемь[52], но одет он был точно так же, как и несколько часов назад, когда я заезжал к нему по пути к Мэгги. Впрочем, судя по количеству пустых банок, Брайс приканчивал уже вторую двойную упаковку пива, так что холод он вряд ли чувствовал.
На экране продолжал разворачиваться хорошо знакомый мне сюжет. Полковник добрался до Блэкторна, вмешался в ссору в баре и перенес к себе в комнату потерявшую сознание девушку. После нескольких классических джон-уэйновских реплик – коротких по количеству слов, но достаточно выразительных по жестикуляции – Полковник Пьер по прозвищу Француз и девушка отправились в Рио Лобо на поиски плохих парней. На ночлег они остановились на старом индейском кладбище: приготовили ужин, допили все, что оставалось от их запасов «апачского змеиного жира» и завалились спать.
Брайс готов был последовать их примеру. Когда настала пора менять катушки с пленкой, он был уже никакой, и мне пришлось все сделать самому. Я поднялся в будку киномеханика, поставил новую бобину, заправил пленку и, спустившись вниз, снова сел в заржавленный шезлонг.
Брайс к этому времени окончательно отключился. Чтобы дотащить его до кровати, нужен был человек посильнее меня, поэтому я просто принес из трейлера несколько одеял, поплотнее закутав в них Брайса, открыл свое третье пиво и продолжил смотреть кино, хотя вечерний воздух стал еще холоднее.
Фильм закончился, и монотонный шелест и шлепки ленты по аппарату, доносившиеся из будки киномеханика, заставили меня проснуться. Зевая, я полез на проекционную вышку, выключил аппарат, погасил свет и собирался уже вернуться к своему грузовику, но передумал. Снова усевшись на стул, я стал искать взглядом луну. Она плыла по небосводу высоко над моей головой, описывая какие-то странные круги, но я спустил с шезлонга одну ногу, крепко поставив ее на землю, и луна послушно встала на место. Ночь была холодная и ясная, мое дыхание вырывалось изо рта, подобно сигаретному дыму. Блу свернулся в шезлонге рядом со мной, чтобы согреться, и негромко храпел во сне, в отличие от Брайса, который спал тихо, как мышка. Вообще-то, глядя на него, можно было подумать, что человек такой комплекции храпит как трактор, но он даже не сопел – несомненно, еще один полезный навык, приобретенный в джунглях Индокитая.
– Блу?
Блу шевельнул ушами. Я почесал ему голову и шею, а он просунул передние лапы под мою ногу.
– Что ты думаешь насчет всего этого?
Блу поднял голову, посмотрел на меня и, опустив морду мне на колени, положил переднюю лапу на мое бедро, словно стараясь удержать меня в шезлонге.
– Пожалуй, ты прав, сегодня я никуда не поеду.
Пес снова вздохнул и спрятал нос между передними лапами.
Глава 24
Наступило двадцать третье декабря. Годовщина нашей свадьбы. Сейчас я думал об этом событии, как о чем-то, произошедшем в другой жизни, с другими людьми. А ведь когда-то мне пришлось переколоть немало дров, чтобы купить Мэгги тот бриллиант.
С матерью Мэгги я никогда не встречался – ее родители развелись, когда ей было восемь, а с матерью она перестала общаться лет в двенадцать. Ее отец был человеком суровым, но Мэгги любил без памяти. Я, похоже, тоже пришелся ему по душе, но на меня он всегда смотрел как-то вопросительно, словно никак не мог взять в толк, что я за человек и что мне нужно от его дочери.
Когда я пришел к нему, чтобы просить руки Мэгги, он сидел за своим столом, строгий, в белоснежной рубашке и ярко-красном галстуке (такого цвета обычно бывают кнопки включения на электроприборах). Выслушав мою сбивчивую речь, он благосклонно кивнул и сказал:
– Да, Дилан, ты можешь жениться на моей дочери. Я не против, но… откровенно говоря, я немного беспокоюсь. Мир суров, а ты еще даже не определился, кем ты хочешь стать в этой жизни. Как ты собираешься ее обеспечивать? Иногда… – Тут он немного помолчал. – Иногда я даже спрашиваю себя, а есть ли в тебе честолюбие, желание бороться ради достижения цели.
Два года спустя он умер.
На деньги, которые я скопил, подрабатывая на колке дров, я купил бриллиант, а несколько недель спустя нашел на распродаже выморочного имущества подходящее колечко из чистой платины. Камень и кольцо я отнес в ювелирную мастерскую, там мне вставили одно в другое и уложили в красивую бархатную коробочку.
А потом, поздним летним вечером, мы с Мэгги гуляли при свете луны вдоль речного берега. Было жарко и душно, но я дрожал, как в ознобе, да и Мэгги странно поглядывала на меня, удивленная моей неразговорчивостью. О чем-то мы все-таки говорили, но я отвечал все больше невпопад, так что толку от меня было немного. Уже на обратном пути, когда мы шли через кукурузное поле, меня прошиб холодный пот, и я понял – я просто обязан действовать. Я только не знал, с чего начать, что сказать! В конце концов я сунул одну руку в карман, другой схватил Мэгги за запястье и попытался выдавить из себя хотя бы несколько слов, но не смог. В отчаянии, я рухнул перед ней на колени – прямо среди кукурузы, и Мэгги хихикнула, но я уже достал из кармана и открыл коробочку, и ее лицо засияло, как десять тысяч светлячков.
– Дилан Стайлз! – воскликнула она. – Откуда это у тебя? Неужели ты сам выбрал эту красоту? И где ты взял деньги?!
Я снова поймал ее руку, словно пытаясь успокоить. Говорить я по-прежнему не мог, но это и не требовалось. При свете луны я увидел, как ее глаза заблестели от слез, и Мэгги кивнула.
– Я согласна, – шепнула она, и я надел кольцо ей на палец. Насколько мне известно, Мэгги снимала его один-единственный раз – в день нашей свадьбы, да и то только для того, чтобы я снова мог надеть ей кольцо возле алтаря.
В тот вечер мы не пошли домой. Вместо этого мы вернулись к реке, сели на траву и до утра разговаривали о нашем будущем – о том, где мы будем жить, сколько у нас будет детей и как их будут звать, какие цветы она посадит в нашем дворе. Та ночь стала одной из самых счастливых в моей жизни.
Когда солнце поднялось над рекой, мы пошли к дому, чтобы позвонить Эймосу и рассказать о нашей помолвке.
– Ну наконец-то!.. – только и сказал он.
Через полгода мы поженились. Это было ровно девять лет назад.
Когда я вошел, Мэгги по-прежнему спала. Блу ткнулся носом в ее лежащую поверх одеяла ладонь, лизнул пальцы и занял свое обычное место в ногах кровати. Я тоже сел и взял Мэгги за левую руку, на которой она носила кольцо. За все время это был первый раз, когда я сидел слева от Мэгги – уж не знаю почему. Никогда об этом не задумывался. Наверное, все дело в привычке.
Какое-то время спустя, сам не заметив, как, я начал потихоньку растирать и гладить ее руку. На изящном, тонком, прекрасном запястье Мэгги висела на шнурке больничная бирка с именем и фамилией. Она показалась мне неуместной на ее узком и таком красивом запястье, я достал из кармана свой складной нож – старый «Кейс» с желтой ручкой, который подарил мне Папа, – и перерезал шнурок. Я еще долго гладил ее пальцы, поворачивал обручальное кольцо то в одну, то в другую сторону и молчал. Случайно опустив взгляд, я вдруг заметил нечто странное – бриллиант не сверкал. Я повернул кольцо к свету, но камень так и не отозвался знакомым блеском. Можно было подумать, что он уже умер. В испуге я поднес руку Мэгги ближе к глазам и только тогда понял, в чем дело: сверху и по бокам, – а может, и снизу тоже, – бриллиант был покрыт сухой черно-красной пленкой.
Осторожно сняв кольцо с руки Мэгги, я побежал в туалетную комнату. Там я долго промывал камень горячей мыльной водой, и крохотные чешуйки засохшей крови стекали в сливное отверстие. Чтобы отчистить все наверняка, я взял из тумбочки Мэгги зубную щетку, выдавил на нее немного зубной пасты и принялся за работу. Напоследок я еще раз промыл кольцо такой горячей водой, что едва не ошпарил руки, зато когда я вытер его бумажными салфетками, то сразу увидел, что трудился не зря. Теперь бриллиант вовсе не обязательно было подносить к свету – он и без этого сверкал ярче прежнего, и я вернулся в палату, чтобы снова надеть кольцо Мэгги на палец.
– Мэг?.. – негромко позвал я, слегка касаясь проступивших у нее на лбу морщинок. – Я здесь, Мэг!
Морщинки сразу исчезли, разгладились, и я сказал:
– Я знаю, ты сейчас о многом думаешь; у тебя много всякого на уме, но я прошу тебя послушать меня хоть минутку. Я… Мне очень нужно, чтобы ты пришла в себя, проснулась. Просыпайся скорее, родная, и пойдем домой – ты и я. Поднимайся, и мы сразу отсюда уйдем. То, что случилось, позади. Все закончилось.
Я немного помолчал.
– У нас дома пусто и одиноко без тебя. Видишь?.. – Я закатал левый рукав, сорвал бинты, прижал ладонь Мэгги к подсохшей корке на ране и увидел, что у нее на лбу снова проступили морщины.
– Видишь?.. – повторил я. – Ты мне очень нужна, Мэгги. Без тебя меня как будто тоже нет.
Я прижался лбом к ее руке, поцеловал костяшки пальцев и закрыл глаза.
– Любимая, я не могу прийти туда, где ты сейчас, так что… возвращайся. Возвращайся скорее!
Глава 25
Канун Рождества выдался холодным и облачным. Похоже, вот-вот пойдет снег. Температура держалась всего на один-два градуса ниже тридцати[53], но из-за пронизывающего, резкого ветра казалось, будто на улице намного холоднее.
Мэгги всегда любила Рождество, и по нашему дому это было заметно. Венки, свечи, носки для подарков, запах свежей хвои. Ни разу Мэгги не позволила мне обойтись искусственной елкой. В прошлом году мы купили живую елку и повесили на нее столько электрических гирлянд, что, когда пришла пора ее разбирать, мы просто не сумели этого сделать. Игрушки мы кое-как сняли, оставив на шестифутовом деревце семнадцать (!) гирлянд. Именно в таком виде я и вынес елку на дорогу, чтобы ее забрал мусоровоз. Само деревце обошлось нам в тридцать четыре доллара, пятьдесят четыре доллара стоили гирлянды, но Мэгги продолжала настаивать, что Рождество должно быть Рождеством.
– Зачем ставить елку, если нельзя повесить на нее гирлянды? – вопрошала она.
– Разумеется, дорогая, – соглашался я. – Только у нас получается не елка, а источник пожарной опасности, который к тому же обходится нам примерно в пять долларов за ночь. К тому времени, когда придет пора ее разбирать, электричества нагорит долларов на сто пятьдесят.
В ответ Мэгги только рассмеялась, захлопала ресницами и сказала:
– Я все понимаю, Дилан, но ведь это же Рождество!
Слова «ведь это же Рождество!» я слышал много раз и по разным поводам и только тихонько вздыхал, подсчитывая предстоящие траты. Я уже не говорю о рождественских подарках, которые были совершенно особой статьей расходов. Праздничные скидки действовали на Мэгги гипнотически. Я готов поклясться: если бы Тадж-Махал был выставлен на продажу, а моя жена знала кого-то, кто хотел бы его иметь, она бы отыскала способ заставить меня выложить денежки. «Но ведь за него просят всего девяносто миллионов! – воскликнула бы она. – Это даже меньше половины настоящей цены!»
Наш дом Мэгги содержала в идеальном порядке, хотя я и прилагал немалые усилия, чтобы, как она выражалась, «насвинячить». То я оставлял на полу носки и белье, то забывал опустить сиденье унитаза, то не завинчивал колпачок на тюбике с зубной пастой, то не ставил обратно на полку прочитанные книги. Я бросал где попало ботинки, не закрывал дверь кладовки и совершал еще множество мелких и крупных преступлений. Мэгги была совсем другой. Если, к примеру, мы готовили ужин или обед, то она стремилась вымыть и убрать в буфет испачканную в процессе готовки посуду до того, как мы садились за стол. Наша кухня сверкала так, словно там никогда ничего не жарили и не пекли. А если ночью я вставал по нужде, то, когда возвращался, моя подушка часто оказывалась заново взбита, а одеяло расправлено, хотя я и отсутствовал не дольше минуты-двух.
Дом, который достался мне от Папы и бабушки, был совсем небольшим. Если отринуть мои ностальгически-романтические описания, в остатке получался стандартный фермерский домик – довольно старый, со скрипучими полами, встроенными шкафами, провисающими потолками, ржавой крышей и полусотней слоев краски на стенах. Но Мэгги это не смущало. Лужайка перед нашим домом, на которую Мэгги высадила множество кустарников и цветов, выглядела так, словно здесь проездом останавливалась сама Марта Стюарт[54]. Когда цветы распускались, от ярких красок рябило в глазах, а от запахов начинала кружиться голова. (В данном случае я не имею в виду ароматы, которые источает Пи́нки, к тому же, если подходить к нашему дому с наветренной стороны, запах хлева почти не чувствуется.)
Во всем, что касалось растений, у Мэгги была, что называется, легкая рука Ей достаточно было взять сухую ветку и чашку воды, в которую она добавляла капельку таинственного эликсира, изготовленного ею в амбаре, и через три дня воткнутая в землю ветка расцветала! Несколько раз на моих глазах Мэгги приносила из леса засохший стебелек папоротника, который был готов рассыпаться в пыль, если только сжать его посильнее, а спустя всего неделю могучий зеленый куст уже приходилось рассаживать.
Одним словом, отсутствие Мэгги острее всего ощущалось на Рождество. Уже несколько дней я не разводил огонь в очаге и не собирался этого делать и дальше, чтобы еще больше не подчеркивать то, что и так было очевидно. Лужайка перед домом давно заросла травой и сорняками, а в доме царил полный бардак, хотя я и старался заходить в комнаты как можно реже. Корзина с грязным бельем была полнехонька, а то, что не поместилось внутрь, валялось рядом на полу. Картина хаоса и запустения так и лезла в глаза: можно было подумать, что в доме живет закоренелый холостяк.
Я думал обо всем этом, а ветер все не унимался, он гремел жестью на крыше, и, вторя ему, с заднего двора подавала голос Пинки. Блу, свернувшись клубком у холодного очага, негромко поскуливал и, приподнимая бровь, поглядывая на меня одним глазом.
– Если не прекратишь, отправишься на улицу, – сказал я ему.
Блу отвернулся и прикрыл нос лапой. Он продолжал искоса поглядывать на меня, но его хвост оставался неподвижен.
Еще с утра я собирался в больницу, но все никак не мог заставить себя сдвинуться с места. Ехать к Мэгги в канун Рождества мне было гораздо тяжелее, чем в обычные дни. В конце концов я все-таки выдрал себя из кресла, принял душ, кое-как оделся (ничего чистого не нашлось, и я выбрал то, что казалось мне менее заношенным) и тяжело зашагал к выходу. Блу ждал меня у дверей, радостно помахивая хвостом: он уже знал, к кому мы едем.
В кабине грузовичка было холодно и неуютно, но мотор завелся сразу, и вскоре воздух начал согреваться. По пути в город мы проехали мимо кинотеатра, и я, естественно, подумал о Брайсе. Неплохо было бы его проведать, но я решил, что сделаю это после того, как побываю у Мэгги.
Больничная стоянка была почти пуста, и я поставил машину как можно ближе к дверям. В палате Мэгги ничто не переменилось, все было по-прежнему, все на своих местах, и только в воздухе витал легкий аромат духов Аманды. Что она делает здесь в сочельник, машинально удивился я. Неужели снова отрабатывает ночную смену?
Некоторое время я стоял рядом с кроватью Мэгги, держа в руках ее теплую, изящную, безупречной формы руку. Приезжая к ней, я теперь мало сидел, а все больше расхаживал из угла в угол или стоял у окна, продолжая беседовать с Мэгги. Я был уверен, что она меня понимает – понимает, что я не могу оставаться дома. Казалось бы, какая разница, здесь я или там, но разница есть. Пока Мэгги здесь, я должен быть рядом.
В этот раз я тоже подошел к окну и вдруг услышал за спиной тяжелые шаги. В последние дни Аманду разнесло еще больше, а ее походка сделалась неровной, шаркающей. Теперь она ковыляла, как утка, раскачиваясь из стороны в сторону при каждом шаге. Так ходит большинство женщин на последних сроках беременности, и это по-настоящему прекрасно!
В своей жизни я имел дело лишь с одной беременной женщиной – с Мэгги, так что никакого опыта у меня нет. Я имею в виду, естественно, опыт, который действительно считается. Странно, что я не упомянул об этом раньше, но, по моему глубокому убеждению, в мире найдется не так много вещей, который были бы прекраснее, чем моя беременная жена, которая только что вышла из душа и, стоя перед зеркалом, озабоченно спрашивает, не слишком ли она толстая. Ничто и никогда не казалось мне более пленительным, чем вид женщины, которая носит под сердцем дитя. Если вы когда-нибудь любили беременную женщину, вы меня поймете и скажете, что я прав. Ну а если вы все равно не понимаете, что ж… мне вас искренне жаль.
– Здравствуйте, Аманда, – сказал я, не оборачиваясь.
– Здравствуйте, профессор. Счастливого вам Рождества.
Я повернулся и посмотрел на нее.
– Вы очаровательно выглядите, Аманда. Что, на выходные в больнице ввели новый дресс-код?
Она действительно была одета не в форму сиделки, в которой я привык ее видеть, а в повседневную одежду – безразмерный джинсовый балахон и крохотную курточку, которая едва сходилась на разбухших грудях.
– О нет, сегодня я не работаю. Я ездила навестить свою бабушку, а на обратном пути решила заглянуть ненадолго. Все равно мне по дороге…
– Понятно. – Я снова отвернулся к окну.
– Скажите, профессор, какие у вас планы на сегодня?
– Я вижу вас насквозь, Аманда. – Я улыбнулся. – Похоже, у вас есть свои планы насчет меня, но, боюсь, сегодня ничего не выйдет. Мы с Блу проведем сочельник с Мэгги, ведь Рождество – праздник семейный. К тому же в прошлый раз я вас послушался и выставил себя дураком перед вашим отцом и его прихожанами. Нет уж, лучше мы побудем здесь… Впрочем, спасибо, что подумали обо мне, – спохватился я.
– Но, профессор, вы вовсе не выставили себя дураком! – с жаром возразила она, и глаза ее оживленно блеснули. – Папа сам просил меня пригласить вас в нашу церковь на праздничную службу. Он сказал, ему очень хочется, чтобы вы пришли.
– Ну да. Ему, конечно, будет удобнее читать проповедь об адских муках, когда наглядный пример будет, так сказать, под рукой. Абстрактные рассуждения действуют не так сильно. Нет уж, благодарю покорно… Ваш отец – хороший человек и хороший проповедник, но я – пас.
Я быстро взглянул на Мэгги и добавил чуть мягче:
– А если серьезно, Аманда, то ни к чему мне нести все мои сомнения в церковь вашего отца. Это не нужно ни ему, ни мне – никому. Вы же не хотите, чтобы я испортил всем праздник?..
Аманда, похоже, поняла, что на этот раз я буду твердо стоять на своем. С трудом наклонившись, она открыла ящик прикроватной тумбочки и достала оттуда щетку для волос. Глядя, как она осторожно расчесывает Мэгги волосы, я впервые заметил, насколько сильно они успели отрасти. За то время, что она здесь пролежала, ее волосы стали длиннее на добрых два дюйма. Может быть, даже на два с половиной.
– Откуда у вас эта щетка?
– Эта? Купила в магазине дешевых товаров, – ответила Аманда, не глядя на меня.
Я порылся в карманах и достал несколько смятых банкнот и пригоршню мелочи.
– Сколько я вам должен, Аманда?
– Профессор! – Аманда укоризненно посмотрела на меня и покачала головой. – Ведь сегодня сочельник! Вы же не платите друзьям за подарки, которые они вам дарят?.. – И, отвернувшись, Аманда не спеша продолжила свое дело.
Я сел возле кровати рядом с ней и взял Мэгги за руку. В другой руке у меня была Библия. Аманда покосилась на нее и сказала:
– Я вижу, сегодня вы принесли кое-что почитать… Только похоже, вы давно ее не открывали…
– Да, немного запылилась, – согласился я, разглядывая тускло-серую обложку. – Такое случается, если долго не берешь что-то в руки.
– Гм-м… – произнесла Аманда. У нее явно было, что добавить, но в последний момент она решила оставить комментарии при себе.
Наконец она закончила расчесывать Мэгги, и в ту же минуту за окном пошел снег. Крупные, мохнатые снежинки бесшумно спускались с неба и липли снаружи к стеклам окна.
– Как ваши дела? – спросил я после довольно долгого молчания. – Я имею в виду, с ребенком. Что говорят врачи?
– Они говорят, что ребенок большой, а я – маленькая. Предлагают кесарево, но я пока не решила. В принципе, я не против, надо так надо, но мне не очень хочется, чтобы на животе появилось что-то вроде кармана, как у кенгуру. – Она провела ребром ладони по животу и улыбнулась.
Я тоже засмеялся. До сих пор я еще ни разу не смеялся в палате Мэгги. И Аманда тоже. Но сейчас мы оба хихикали, как школьники. Думаю, будь Мэгги в порядке, и она бы с удовольствием к нам присоединилась.
Снег за окном повалил гуще. Мы с Амандой снова замолчали, но теперь установившаяся в палате тишина была немного другой – теплой, уютной, непринужденной. Молчание не тяготило ни меня, ни Аманду, ни Мэгги; молчать так могут только близкие друзья.
Какое-то время спустя Аманда встала со своего стула и отодвинула его обратно к стене.
– Позаботьтесь о мисс Мэгги, профессор. – Она двинулась к двери своей переваливающейся походкой, но на пороге остановилась. – И еще, профессор… – Ее глаза внимательно ощупали мое лицо. – Чтобы говорить с Богом, вовсе не обязательно ждать Рождества…
Я кивнул, и Аманда ушла, а мы с Блу продолжали сидеть с Мэгги. Через час или полтора я вызвал по внутренней связи дежурную сестру.
– Да?.. – Ее голос, доносящийся из динамика переговорного устройства, звучал так, словно я ее разбудил.
– Простите, вы не подскажете, где в Библии говорится о рождестве Иисуса? О том, как Мария и Иосиф не нашли места в гостинице, о волхвах и о прочем…
– Евангелие от Луки, глава вторая, – тут же ответила сестра.
– Большое спасибо, – ответил я, гадая, откуда она знает. Раскрыв Библию, я стал искать указанное место. Дважды промахнулся, но в конце концов нашел нужную страницу.
Мэгги как-то рассказывала, что в детстве отец, укладывая ее в сочельник в постель, всегда читал вслух отрывок о Рождестве. Сейчас я поднес тонкие, полупрозрачные странички поближе к свету и стал читать Мэгги историю, которую она, должно быть, знала наизусть. Когда я закончил, в уголках ее закрытых глаз поблескивала влага, но дыхание было ровным и глубоким.
Покой. Безмятежность. Полная гармония. Все это я увидел на лице Мэгги, когда прикоснулся ладонью к ее разрумянившейся щеке и ощутил живое тепло тела.
Еще почти час мы с Блу сидели с Мэгги и смотрели, как снег белой пеленой укутывает дубы и старые магнолии за окном. Когда я поднялся, чтобы выглянуть на улицу, снаружи стало белым-бело.
Было уже почти десять, когда мы ушли. Прежде чем покинуть палату, я слегка сжал пальцы Мэгги и поцеловал. Ее губы были теплыми и мягкими. Свет оранжево-желтого фонаря на парковке за окном проникал в палату, наполняя ее призрачным золотистым сиянием.
– Мэгги… – прошептал я. – Все, что случилось… В этом никто не виноват. Это просто случилось, вот и все… – Я прикоснулся носом к ее носу. – Я люблю тебя, Мэг. Люблю всем сердцем.
Я и Блу вышли в пустынный и темный коридор. Свет горел только на сестринском посту: дежурная медсестра читала «Инквайрер» и жевала сырные шарики из пакета. Шагая мимо нее, я снова с удивлением подумал, что сегодня действительно в первый раз засмеялся при Мэгги. И Аманда тоже. В этом было что-то очень приятное, бодрящее, почти обнадеживающее. Мне даже показалось, что Мэгги – пусть она спит не обычным сном и пока не может проснуться – было необходимо услышать мой смех, потому что в последний раз я смеялся при ней за несколько часов до того, как мы отправились в родильное отделение и моя жизнь покатилась кувырком.
Прежде чем выйти на улицу, нужно было миновать комнату ожидания. Здесь на отдельном столе стоял радиосканер, с помощью которого дежурный отслеживал сообщения полиции и машин «Скорой помощи». Для отделения экстренной помощи это был своеобразный центр управления полетами, но для посторонних – посетителей или сопровождающих – сканер служил чем-то вроде развлечения. Невольно я прислушался к шипению статики и вдруг услышал спокойный голос Эймоса, который сообщал, что везет в больницу пациента и что сейчас он находится чуть западнее пастбища Джонстона.
В этом не было ничего необычного. В течение недели Эймос ездил в больницу почти так же часто, как и в тюрьму.
– Знаешь, Гуталин, – частенько говорил ему я, – если тебя выгонят из полиции, ты вполне можешь устроиться водителем «Скорой». Думаю, тебя возьмут с дорогой душой. У тебя уже сейчас прекрасно получается скакать по пробкам, да и все кодовые фразы ты знаешь.
Но Эймосу мои слова не казались особенно смешными.
Сегодня сочельник, подумал я, и Эймос наверняка везет в больницу какого-нибудь пьянчужку, который перебрал на рождественской вечеринке, с кем-то подрался и сейчас нуждается в том, чтобы хирург наложил ему пару-тройку швов. Сам я на месте Эймоса не стал бы слишком канителиться с нарушителем. Я отвез бы сукиного сына в тюрьму, заклеил бы ему разбитую рожу пластырем и оставил отсыпаться до утра, но мой приятель был не таков.
Потом мне пришло в голову, что, если Эймос находится сейчас к западу от пастбища Джонстона, значит, он движется на восток по Двадцать седьмому шоссе и будет в больнице минут через десять. Отвечать на его расспросы мне не особенно хотелось, поэтому мы с Блу поскорее вышли через автоматические двери на парковку.
Не успел я сделать и двух шагов, как ноги у меня поехали и я со всего маху сел на землю. Еще немного, и я сломал бы себе крестец. Асфальт на площадке был сплошь покрыт толстым слоем исключительно скользкого льда, слегка прикрытого снегом, и подняться мне удалось далеко не сразу. Наконец, проклиная все на свете, я вцепился в фонарный столб и, кое-как вскарабкавшись на ноги, потер ушибленный зад. Слава богу, подумал я, никто не видел, как я грохнулся. В особенности мисс Сырные Шарики…
У Блу подобных проблем, к счастью, не возникало. Он твердо стоял на своих четырех лапах и с подозрением наблюдал за моими упражнениями.
– Что смотришь? – сказал я ему. – Идем…
Парковка к этому времени совершенно опустела. То и дело оскальзываясь на льду, я добрался до машины и залез в кабину. Несмотря на холод, мой старенький грузовичок завелся с полпинка. Да, с каждым годом мой «Шеви» жрет все больше масла, но во всех прочих отношениях это чрезвычайно удачная модель. Я бы даже сказал – одна из лучших. Даже в такую погоду я вполне мог на нее положиться. Правда, стрелка указателя топлива подрагивала около нуля, но я был уверен, что до дома мне бензина хватит.
Мы выехали со стоянки на дорогу, я привычно нажал газ и тут же почувствовал, что кузов резко повело вправо. Секунда – и грузовичок развернулся на сколькой дороге почти на сто восемьдесят градусов, как в самых лихих полицейских боевиках.
– Перегазовал, – пробормотал я себе под нос. – Нужно быть поосторожнее.
Спустя десять минут я все еще был не дальше чем в трех милях от города. Медленно и осторожно я вел машину на восток по Двадцать седьмому шоссе. Дорожное полотно покрывал рыхлый снег толщиной в несколько дюймов, под снегом скрывался коварный лед, и мне приходилось быть очень внимательным, чтобы не улететь в кювет. Температура упала до двадцати семи[55] градусов и, похоже, собиралась понижаться дальше.
Держа руль обеими руками, я пристально всматривался в снежную целину впереди, но мысли мои блуждали. В конце пути меня ждал холодный, темный и пустой дом, где предстояло в одиночестве встречать Рождество, которое могло бы стать первым снежным Рождеством в нашей с Мэгги совместной жизни. Но Мэгги осталась в больнице, и мне было до слез жаль, что она не увидит снега, который так любила.
Одиноко. Грустно и одиноко было мне сейчас!..
Домой я не торопился, поэтому перед подъемом, начинавшимся рядом с заснеженным пастбищем Джонстона, я включил первую передачу и пополз еще медленнее. Перевалив через гребень холма, я стал спускаться по его обратному склону, тормозя по преимуществу двигателем. Когда бо́льшая половина спуска осталась позади, я уперся в переезд через железную дорогу, которую лет восемьдесят назад китайские иммигранты строили для «Юнион пасифик».
Снег усилился, он налипал на лобовое стекло, укутывая его словно плотным белым одеялом. Пришлось переключить «дворники» на ускоренный режим, и все равно я почти ничего не видел. Переехав рельсы, я краешком глаза заметил с левой стороны дороги какое-то красноватое свечение. Двигался я со скоростью пешехода, поэтому остановиться мне не составило труда. Притормозив на безопасном расстоянии от переезда, я опустил стекло дверцы и высунул голову наружу. Глядя в темноту – туда, где мне почудилось красноватое зарево, – я изо всех сил напрягал зрение, пытаясь разглядеть что-то за плотной белой пеленой, которая хлестала меня по лицу. Вскоре я действительно увидел какой-то красный огонь, похожий на задний фонарь автомобиля, вот только там, куда я смотрел, никакого фонаря – не говоря уже об автомобиле – просто не могло быть. Должно быть, именно поэтому я с самого начала и обратил на него внимание.
Я уже поднимал стекло, решив, что красные отблески на снегу мне почудились, когда налетевший порыв ветра на мгновение закрутил, раздул снежный занавес, и в образовавшуюся прореху я разглядел задние фонари автомобиля, который свалился в глубокий кювет с противоположной стороны дороги. Судя по тому, что́ я успел разглядеть сквозь снег, легковой автомобиль, пикап или грузовичок вроде моего лежал на склоне вверх колесами, уткнувшись носом в дно оврага.
Со всеми предосторожностями тронув грузовичок с места, я подрулил как можно ближе к краю шоссе и, оставив двигатель включенным, выбрался из кабины. Блу, свернувшийся на половичке пассажирского сиденья поближе к печке, проводил меня взглядом, но не двинулся с места.
Едва спрыгнув с подножки, я почти по колено провалился в снег, который сразу же стал засыпа́ться за голенища моих ковбойских сапог. Подняв повыше воротник своей джинсовой куртки и низко наклонившись, чтобы противостоять ударам ветра, я пересек шоссе и остановился на краю асфальтированной обочины. Отсюда мне уже был виден торчащий из кювета багажник автомобиля. Задние фонари горели, окружая его розово-красным сиянием. На снегу под багажником я разглядел что-то похожее на осколки синего проблескового маячка, какой обычно крепится на крыше полицейского автомобиля, а сделав вперед еще шаг, прочел выполненную светоотражающей краской перевернутую надпись на кузове: «Управление шерифа. Округ Коллтон».
Шлепнувшись на свой отбитый зад, я начал сползать по заснеженному склону в кювет. Я рассчитывал спуститься к машине, тормозя каблуками, но ветер и мороз превратили снег в лед. В результате медленное сползание превратилось в стремительное и довольно болезненное падение. Я скользил все быстрее, не в силах ни остановиться, ни притормозить, ни свернуть в сторону. Примерно на середине склона я налетел на вмерзший в землю камень и полетел вверх тормашками. Дальше я уже не столько скользил, сколько кувыркался, словно катящийся с горы валун. Разогнавшись, я пронесся мимо машины, перевернулся в последний раз и свалился на дно оврага. Раздался плеск, и я почувствовал, что мое лицо погружается в ледяную воду.
Моей естественной реакцией было поскорее выбраться из воды, и я забарахтался, пытаясь найти точку опоры, но руки только беспомощно скользили в жидкой грязи на дне протекавшего вдоль кювета ручья. Наконец мне удалось повернуться на бок. Приняв более или менее горизонтальное положение, я уперся ногой в подвернувшуюся кочку или камень и, цепляясь за пучки замерзшей травы, начал медленно вытягивать себя из воды. В какое-то мгновение передо мной возникла дверца полицейской машины, я поднял руку и, схватившись за раму разбитого окна, сумел встать на колени.
Полицейский автомобиль валялся колесами вверх на самом берегу ручья. Все стекла в салоне были разбиты. Капот почти полностью ушел под воду. Еще несколько дюймов, и вода хлынула бы в салон.
Держась за дверцу, я с трудом выбрался из воды. Я промок и замерз, но подумать об этом я не успел, потому что заметил лежащего на снегу человека – рослого чернокожего мужчину в распахнутой овчинной куртке. На четвереньках я подполз к нему, перевернул на спину – и едва удержался, чтобы не заорать.
– Эймос?!
Его блестящие как стекло глаза смотрели прямо на меня. Эймос промок насквозь, его лицо было покрыто кровью и грязью, но он был жив. С трудом сфокусировав на мне взгляд, он с усилием поднял левую руку, включил зажатый в кулаке фонарик и направил луч света в окно водительской дверцы. Свет фонаря качался из стороны в сторону, и я понял, что Эймосу стоит огромного труда оставаться в сознании. Посмотрев в ту сторону, я увидел на пассажирском сиденье бесформенный силуэт человека. Пристегнутый ремнями, он висел вниз головой, и врывавшийся в разбитое окно ветер трепал его длинные темные волосы. Судя по всему, это и был тот злополучный пьяница, которого Эймос себе на беду повез в больницу вместо того, чтобы засадить до утра в «обезьянник».
– И все из-за какого-то алкаша! – Я выхватил из руки Эймоса фонарик и, утопая по колено в жидкой грязи, обогнул машину с противоположной стороны. Пока я продирался сквозь заросли убитой холодом осоки, автомобиль Эймоса сполз еще на пару дюймов вниз, и вода из ручья начала просачиваться через разбитые окна в салон, понемногу заполняя пространство под крышей.
Перехватив фонарик поудобнее, я направил луч света на распухшее, грязное лицо пассажира или, вернее, пассажирки. Ее глаза были закрыты, спутанные волосы закрывали лицо, и я, наклонившись, отвел их рукой в сторону, пытаясь разглядеть человека, из-за которого мой друг едва не расстался с жизнью.
Это была Аманда.
– Эймос, какого черта?! – Я не знал, сколько времени она провисела вниз головой, но ее лицо отекло и приобрело синюшный оттенок. Кусочки разбитого стекла рассекли кожу, и лицо Аманды было покрыто кровавыми разводами. Битое стекло застряло и в волосах, но я понимал, что главная опасность не в этом. Если машина сдвинется по склону еще хоть немного, ее голова окажется под водой, и тогда Аманда попросту захлебнется.
Если, конечно, она еще жива.
Подняв руку, я потянулся к ее шее, пытаясь нащупать пульс. Он был медленным и слабым, но меня это ободрило. Теперь нужно было как можно скорее извлечь ее из салона.
– Эймос? – позвал я, огибая машину.
Мой друг лежал совершенно неподвижно, и глаза его были закрыты. Я видел, что он дышит, но дыхание было неглубоким и редким, к тому же при каждом вдохе его лицо искажала гримаса боли. Судя по всему, у него были сломаны ребра. Одно или два, возможно, больше. Жизни эти травмы пока не угрожали, но помощи от него ждать не приходилось.
Вернувшись к машине, я увидел в салоне сдувшуюся подушку безопасности и погнутый руль. Сумка, с которой Эймос обычно ездил в тренажерный зал, валялась в задней части машины на ставшем полом потолке, где уже набралось дюйма полтора воды. Стараясь не порезаться об осколки стекла, я вытащил сумку и заглянул внутрь. Под руки мне попался серый спортивный костюм Эймоса. Я вытащил куртку и, обернув ею голову друга, соорудил ему что-то вроде подушки из снега.
Пока я возился, Эймос открыл глаза и посмотрел на меня почти осмысленно. Губы его дрогнули, но я не услышал ни звука.
– Держись, приятель! – Я похлопал его по щеке. – Только не отключайся, ладно?
Лицо и одежда Эймоса были в крови, на спортивной куртке тоже начали проступать темные пятна. Это было скверно, но еще хуже было то, что холод наконец добрался и до меня, и я почувствовал, что пальцы коченеют и не слушаются. Еще немного, подумал я, и я не смогу помочь ни Эймосу, ни Аманде.
Сорвав с плеча друга портативную рацию, я поднес ее к губам и нажал тангенту.
– Эй, кто-нибудь… Говорит Дилан Стайлз. У меня срочное сообщение… – Я крепко зажмурил глаза, пытаясь сосредоточиться. – Я нахожусь на железнодорожном переезде возле пастбища Джонстона. Эймос попал в аварию…
«Черт, какое это шоссе? Думай, Дилан, думай!»
– Железнодорожный переезд на Двадцать седьмом окружном шоссе… Эймос ранен. И его пассажир тоже. Срочно нужна медицинская помощь… – Выронив рацию, я подсунул левую руку под голову Эймоса. – Держись, друг, не сдавайся!
Рация неожиданно захрипела:
– Повторите ваше сообщение, мистер Дилан. Говорит Ширин. Дилан, где вы? Ответьте!..
Я снова схватил рацию и вдавил тангенту в корпус. На этот раз я не говорил, а кричал:
– Ширин, пришлите нам «Скорую» и спасателей! Скорее! Эймос ранен, и Аманда Ловетт тоже. Железнодорожный переезд на Двадцать седьмом шоссе. Ради бога, пришлите нам врачей!
Ширин что-то говорила, но я ее уже не слушал. Вцепившись в ручку передней пассажирской дверцы, я попытался ее открыть, но дверь заклинило. Тогда я просунул руку в дыру, образовавшуюся на месте окна, и слегка потрепал Аманду по щеке.
– Аманда? – Я похлопал сильнее. – Держитесь, Аманда! «Скорая» уже едет. Только потерпите, вас обязательно спасут.
Никакой реакции. Лицо Аманды оставалось безжизненным, и я снова попытался нащупать у нее на шее пульс. Пульс, хоть и слабый, никуда не исчез, но в себя Аманда не приходила.
Снег уже не шел, а валил стеной. Он заметал полицейскую машину, заметал следы на склоне, однако я все же сообразил, что, слетев с дороги, она перевернулась раза два или три. Кузов основательно покорежило, поэтому для того, чтобы открыть дверь и извлечь из салона Аманду, мне необходим был какой-нибудь инструмент. Что-то вроде лома или монтировки.
И я полез в багажник, крышка которого была распахнута и болталась на одной петле. Почти сразу мне под руки попалась монтировочная лопатка. Я схватил ее, просунул заостренный конец в щель двери и нажал изо всех сил. Дверца не поддалась, зато поддался автомобиль. От моих усилий он сдвинулся с места и сполз в воду еще на дюйм или полтора. Я нажал на свой инструмент еще несколько раз. Машина накренилась, и бессильно повисшие руки Аманды закачались из стороны в сторону.
– Ну, давай, открывайся! – Собрав все оставшиеся силы, я нажал на монтировку. – Давай же!..
Громко скрипнул металл. Дверца приоткрылась на дюйм и снова застряла, зато автомобиль соскользнул по склону почти на целый фут, и я оказался почти по бедра в ледяной воде. Заглянув в салон, я увидел, что в воду погрузились и свесившиеся руки Аманды. Нужно было срочно что-то предпринять, пока она не захлебнулась, и я, бросив монтировку в снег, уперся ногой в борт машины, а руками крепко сжал ручку дверцы.
Рывок. Еще один. Дверца и не думала поддаваться. Я чувствовал, что время уходит, и основательно злился. Снова нашарив под ногами монтировку, я принялся колотить ею по двери, но пальцы у меня замерзли и потеряли чувствительность, под сапогами вместо твердой земли было скользкое илистое дно, поэтому моим ударам недоставало ни силы, ни точности. Других вариантов у меня, однако, не было – я, во всяком случае, больше ничего придумать не мог. Все же я попытался бить сильнее, но дело кончилось тем, что после полудюжины ударов монтировка вырвалась у меня из рук и, ударившись о стойку крыши, улетела в темноту. Я услышал плеск – инструмент упал в воду почти на середине ручья, откуда у меня не было ни малейшей возможности его выудить.
В отчаянии я наклонился, чтобы снова заглянуть в салон. Вода уже почти полностью скрыла руки Аманды и достигла ее макушки. Уж не знаю, что стало для меня последней каплей: то ли вид ее безжизненного, посиневшего от прилива крови лица, то ли неподвижное тело Эймоса на снегу, то ли мысль о Мэгги, которая уже несколько месяцев не приходила в себя, то ли воспоминание о сыне, лежащем под землей в холодной и темной жестяной коробке, а может, я просто понял, что не хочу и не могу жить в мире, в котором происходят подобные вещи. Как бы там ни было, я потерял последние крохи самообладания.
Мой крик был протяжным и тоскливым, словно вой попавшего в капкан волка. Он был яростным, гневным, неистовым. Я не знал, что делать, и все оставшиеся у меня силы я вложил в этот крик. Снег хлестал меня по спине, и я повернулся, подставив ему окоченевшее от холода лицо.
– Ну, где же Ты?! Где?!! – выкрикнул я и, оступившись, провалился в ледяную воду по пояс. – Сидишь на речном бережке и любуешься, как люди принимают крещение, или глядишь со стены, как эти же самые люди подходят к алтарю, чтобы есть Твое тело и пить Твою кровь? Не знаю, может быть, Ты и вправду живешь в этих убогих сараях с загаженными голубями шпилями, но ГДЕ ТЫ СЕЙЧАС?! Где было Твое милосердие, когда насиловали Аманду? Где была Твоя милость, когда истекала кровью моя жена? И где Ты сейчас?!
Я пнул ногой воду, в которой стоял, и закричал еще громче:
– Почему Ты не отвечаешь? Или Тебе просто нечего ответить?!
Ветер свистел и завывал вокруг, злые, холодные снежинки летели почти параллельно земле и впивались в кожу, как рассерженные белые осы.
– Не смей вешать трубку, слышишь, Ты!!! Только не сейчас, когда я сумел наконец привлечь Твое внимание! Тебе нужно, чтобы я Тебе поклонялся?.. Нужна моя вера?.. Этого Ты хочешь? Сойди сюда, в эту канаву, и я в Тебя поверю!..
Я сделал несколько шагов вперед и выбрался из воды на берег. Моя одежда промокла насквозь, на ветру она почти сразу начала замерзать и сделалась негнущейся, жесткой, неудобной. Шагнув к перевернутой машине, я уперся лбом в ее ободранный борт и закрыл глаза.
Снегопад внезапно прекратился, тучи разошлись, и на небо выплыла луна. Открыв глаза, я увидел на воде свою тень. Мое дыхание было тяжелым и хриплым, колени подгибались, руки потеряли чувствительность. Я висел буквально на волоске.
– Боже! – хрипло прошептал я. – Где Ты? Ты мне нужен… нужен здесь и сейчас!
Почти в тот же самый миг автомобиль дрогнул и сполз еще на фут, отчего голова Аманды почти полностью погрузилась в воду.
– Это Ты называешь помощью?!.
Просунув руки в салон, я наклонил голову Аманды вперед, чтобы ей не заливало рот и нос, потом взял за плечи и потянул. Веки Аманды задрожали и приоткрылись. Я стал тянуть ее за руки, но она не сдвинулась с места, а дотянуться до защелки ремня безопасности на консоли я не мог – мешал ее раздувшийся живот. Внезапно меня осенило. Я сунул руку в задний карман джинсов, достал Папин нож и, открыв большое лезвие, перерезал ремень у Аманды на груди. Вторая половина ремня, которая шла поперек ее колен, еще держалась, но я поднял руки и повис на нем всей тяжестью. Я знал, что рискую, но других вариантов у меня не было.
Ремень поддался неожиданно легко, Аманда соскользнула в воду и застонала от боли. Поддерживая ее голову над водой, я стал вытаскивать Аманду через окно водительской дверцы, но она почти сразу застряла – живот был слишком велик, и я, продолжая поддерживать грудь и плечи Аманды на весу, прижался щекой к ее щеке.
– Держитесь, Аманда! Помощь придет, обязательно придет. Они уже едут сюда! Вы меня слышите?
Она ничего не ответила, только ненадолго открыла глаза и снова закрыла.
– Аманда! Аманда!.. Очнитесь!.. – Я похлопал ее по щекам, и она снова открыла глаза, но взгляд ее был расфокусирован и блуждал. – Я не могу вытащить вас. Вы должны мне помочь. Попробуйте отталкиваться ногами, слышите? Помогите мне вытащить вас!.. – С этими словами я крепче обхватил ее за плечи и стал тянуть, пока она не застонала. – Помогайте мне, Аманда! – Я снова ударил ее по щеке, на этот раз – сильнее. Аманда снова застонала. Несколько раз она слабо оттолкнулась от спинки сиденья, потом ее глаза закрылись, а с губ сорвался протяжный вздох.
– Ну уж нет! Даже не думайте, Аманда!.. Нельзя сдаваться. Я не допущу, чтобы вы скончались у меня на руках! – Упираясь каблуками в жидкую грязь, я стал тянуть изо всех сил, громко крича Аманде прямо в ухо: – Не смейте умирать! Я не разрешаю вам умирать в этой канаве! Вы слышите?! Не разрешаю!!!
Я снова потянул.
– Откройте глаза, Аманда! Вы меня слышите? Скажите что-нибудь! Помогите мне!
Но Аманда мертвым грузом повисла у меня на руках, а я поскользнулся, мои пальцы сорвались, и я снова съехал в воду. Тогда я схватил ее голову и плечи в борцовский захват и то тянул ее на себя, то толкал обратно. Вот в окно прошел ее торс, потом что-то треснуло и подалось.
– Вот так, вот так! Отлично!.. – Мне уже казалось, что все идет как надо. Худенькая фигурка Аманды проскользнула в окно до самого живота. Осталось немного, подумал я, и тут она громко застонала, а я вдруг понял, что живот у нее тверд, как камень.
– Аманда, – шепнул я ей на ухо. – Повернитесь на бок, тогда я смогу вас вытащить. Помогите мне немного!
Она пробормотала что-то невнятное и жалобное. Похоже, она просила меня оставить ее в покое, не причинять боль, но я все равно повернул Аманду на бок и потянул. Ее свитер зацепился за осколок стекла и порвался, обнажая туго надутый живот. Шагнув глубже в воду, я еще немного приподнял ее голову и плечи. Веки Аманды снова затрепетали, но я потянул, повернул, и ее тело выскользнуло из окна в воду.
Тяжесть тела Аманды заставила меня попятиться. Ноги в очередной раз разъехались, и я провалился в ручей сначала по плечи, потом – по шею, а еще через мгновение холодная вода захлестнула меня с головой. Ледяной мрак обступил меня со всех сторон, и я закричал прямо под водой. Это был странный, почти немой взрыв отчаяния и муки. Я слышал, как плещется у меня над головой вода, чувствовал обмякшее тело Аманды, которое держал на вытянутых руках. К счастью, я почти сразу понял, что моя левая ладонь, которая поддерживала голову Аманды, остается над поверхностью, а значит, несколько секунд у меня еще есть. И я боролся, прилагая отчаянные усилия, я сражался с водой, льдом и жидкой грязью, стараясь, с одной стороны, не дать Аманде захлебнуться, а с другой – обрести хоть какую-то опору под ногами. От страха за нее и за себя я наглотался воды, но в конце концов мне повезло: под ноги мне попал то ли завязший в глине камень, то ли просто старый древесный корень. Я оттолкнулся от него и выскочил на поверхность. Еще рывок – и мы с Амандой оказались на заснеженном берегу. Я отчаянно кашлял, отплевывался, жадно хватал ртом воздух. Аманда лежала рядом со мной, неподвижная, бледная, и не подавала признаков жизни.
Слегка отдышавшись, я попытался тащить ее вверх по склону, но эта работа оказалась мне не под силу – Аманда была слишком тяжелой. Тогда я снял куртку и неловко закутал в нее Аманду, хотя она вовсе не дрожала. «Неужели она уже умерла и все зря?» – подумал я со страхом и, опустившись на колени, наклонился к ее лицу. В свете луны я увидел, что Аманда лежит с открытыми глазами и глядит на меня. Ее взгляд был таким кристально ясным, что я вздрогнул от неожиданности.
– Профессор… – прошептала она.
– Да-да, я здесь… Я с вами.
– Мой ребенок…
– Не разговаривайте. Сейчас приедет «Скорая», и мы отвезем вас в больницу. – Я поднял голову и посмотрел наверх, не вспыхнут ли над краем кювета фары.
– Профессор, мой ребенок… – Аманда громко заскрипела зубами. – …Он вот-вот родится.
Я машинально посмотрел на оголившуюся полусферу ее живота, положил на него ладонь и сразу почувствовал резкий мышечный спазм. Аманда застонала.
– Потерпите еще немного, Аманда, вы не можете…
Чуть выше нас, за багажником полицейской машины что-то шевельнулось, и я вскинул голову. Я думал, это Блу наконец проснулся, но это оказался Эймос. Он полз к нам, и его голова, все еще наполовину замотанная спортивной курткой, нелепо раскачивалась из стороны в сторону.
– Лезь вверх, на дорогу! – крикнул я ему. – Сейчас приедет «Скорая», нужно показать им…
– Не приедет… – чуть слышно прошептал Эймос. – Дорога обледенела. Они пошлют полноприводной вездеход, и он доберется сюда не быстрее чем за полчаса…
– Но Аманда рожает!
Уронив голову на снег, Эймос пытался отдышаться. Потом он снова шевельнулся и посмотрел на меня.
– Я знаю. Мы как раз были в церкви, когда у нее отошли воды. Я повез ее в больницу, но не рассчитал… слишком резко затормозил перед переездом. – Он покачал головой. – Придется принимать роды прямо здесь.
Крепко зажмурив глаза, Эймос глубоко вздохнул. Живот Аманды у меня под рукой неожиданно помягчел, и девушка пришла в себя, но ненадолго. Почти сразу ее глаза закатились, а голова бессильно свесилась на бок. Вся левая щека Аманды была в порезах: она распухла и сильно кровоточила.
Эймос тем временем собрался с силами и подполз к нам почти вплотную. Схватив меня за плечо, он с трудом поднялся на колени, так что мои глаза оказались в считаных дюймах от лица Эймоса. Крепко стискивая розовые от крови зубы, он проговорил отчетливо и раздельно:
– Ты должен принять у нее роды, Дилан. – Он сморщился от боли. – До конца последней четверти остались считаные минуты, и счет на табло пока ничейный. Сейчас все зависит от тебя. Не подведи, слышишь? Я не могу тебе помочь, но… я буду подсказывать, что делать.
С этими словами Эймос протянул руку в сторону Аманды и очень осторожно опустился на снег рядом с ней.
– Положи ее голову ко мне на грудь.
Я повиновался.
– Возьми в багажнике… шерстяное одеяло. Укутай как следует.
Я проковылял к машине и отыскал в багажнике одеяло. Затем снял с Аманды нижнее белье, основательно испачканное густой алой кровью, и, как мог, завернул ее в одеяло.
– Видишь ребенка? Головку?..
Я вооружился фонариком.
– Пока нет.
– Какой интервал между схватками?
– Не знаю. Около минуты. Самое большее – две.
Не успел я договорить, как живот Аманды снова окаменел. Она закряхтела, а ее безвольно вытянутые ноги согнулись, словно сведенные жестокой судорогой.
Эймос приоткрыл глаза.
– Еще одна схватка?
– Ага.
– А как теперь? Видишь головку?
Я снова направил луч света под одеяло.
– Что-то вижу, может, и голову. – Я перехватил фонарь поудобнее. – Да, кажется, макушка показалась.
– Отлично. – Эймос обхватил Аманду правой рукой и прижал к себе. Приблизив губы к са́мому ее уху, он проговорил негромко, но очень отчетливо:
– Аманда, детка, я знаю, что ты меня слышишь. Я понимаю, как тебе сейчас худо. Я понимаю, что у тебя все болит, но ты должна постараться. Ни я, ни Дилан не сможем сделать это за тебя, понимаешь?
Аманда никак не отреагировала, но Эймоса это не обескуражило.
– Вот и хорошо, ничего не говори, береги силы, – сказал он. – Когда будет особенно больно… тужься!
Живот Аманды снова превратился в камень, она застонала громче, заскребла ногами по снегу, и я увидел, что голова ребенка целиком выскользнула наружу.
– Головка вышла! – крикнул я Эймосу и осторожно взялся за эту голову руками, чувствуя, как мои пальцы скользят в чем-то теплом, густом и липком.
Холода я не чувствовал, хотя, возможно, ночной воздух действительно стал немного теплее. Луна, зашедшая было за небольшое облачко, снова светила вовсю. Ее лучи отражались от сверкающего снега, и вокруг стало намного светлее. Не как днем, конечно, но, чтобы увидеть кровь, фонарь мне не понадобился.
– Смотри, чтобы пуповина не захлестнула ему горло.
– Чего? На что смотреть?
– Никуда смотреть не надо. Просто проведи пальцем по шее ребенка. Если пуповина захлестнулась вокруг нее, ты сразу почувствуешь…
Сунув фонарик в зубы, я сделал, как он сказал: левой рукой я поддерживал головку ребенка, а правой пытался нащупать пуповину.
– Кашетса, нишего нет, – проговорил я, не вынимая фонарик изо рта.
– Отлично. Ну, Аманда, последнее усилие! Давай, детка! Давай!!!
Аманда снова захрипела, поднатужилась, и на свет показалось правое плечико ребенка.
– Эймос, одно плечо вышло.
Аманда тяжело, с хрипом дышала, перемежая вздохи протяжными стонами.
– Попробуй расширить проход для второго плеча. Не бойся, раздвинь его рукой… Если что, можешь потянуть на себя, только осторожнее. И не ребенка… Ну, ты знаешь, что я имею в виду.
Кивнув, я провел вдоль спинки младенца пальцем. Когда он погрузился в плоть Аманды достаточно глубоко, я слегка согнул сустав, потянул на себя – и ребенок Аманды неожиданно легко выскользнул из родовых путей. Теплый и мокрый, покрытый какой-то слизью, он оказался в моих руках. Сын. Я машинально прижал его к себе и только тогда обратил внимание, что младенец какой-то синеватый, обмякший, странно тихий.
– Ребенок вышел, – сообщил я Аманде и Эймосу. Аманда протяжно вздохнула, а Эймос спросил:
– Почему он молчит? Он дышит?
Я наклонил ухо к лицу младенца.
– Кажется, нет.
Аманда жалобно захныкала.
– Вот что, Дилан… – Эймос с усилием приподнял голову, и в лунном свете я разглядел набухшие вены у него на шее. – Тебе придется дышать за него. Почти как при дыхании «рот в рот», только… Он совсем маленький, поэтому ты должен накрыть губами не только его рот, но и нос. И выдыхай… Выдыхай полностью, но не спеши, понял?..
Я взял сына Аманды поудобнее, плотно прижался губами к крохотному личику и медленно выдохнул.
– Ну что? – нетерпеливо спросил Эймос.
Я снова поднес голову младенца к своей щеке.
– Ничего…
– Попробуй еще.
Я повторил.
– Нет, не дышит.
– Попробуй ритмично нажимать на ему грудь, только не сильно, тремя пальцами. Представь себе, что это булочка, но ты не хочешь проткнуть ее насквозь – только слегка сдавить, чтобы убедиться, насколько она свежая.
Не знаю, может быть, я что-то делал не так, но и массаж сердца никаких результатов не дал.
– Ну?
– Ничего.
В широко раскрытых глазах Эймоса промелькнул страх, который, впрочем, сразу сменился яростной решимостью. Лягнув каблуком снег, он заорал:
– Тогда шлепни его!
– Что значит «шлепни»? – слегка опешил я. – В каком смысле?
– В прямом! По жопе! Действуй, проф, не тупи!
Размахнувшись, я довольно сильно шлепнул младенца по сморщенному синеватому задику. Младенец дернулся, с сипением втянул воздух – и зашелся в пронзительном плаче.
Распростершись в разных позах на снегу, мы слушали плач новорожденного сына Аманды. Ничего прекраснее я не слышал никогда в жизни.
– Отличная работа, профессор, – кивнул мне Эймос. Потом он откинул голову назад, закрыл глаза и широко, блаженно улыбнулся. Похоже, он чувствовал то же, что и я.
Подобрав сползшую с головы Эймоса спортивную куртку, я положил младенца ему на живот. Светя фонарем под ноги, я разыскал в снегу свой нож с желтой рукояткой, перерезал пуповину, завязал ее узлом и закутал младенца в куртку. Эймос снова улыбнулся и поплотнее прижал живой сверток к груди. Второй рукой он продолжал обнимать за плечи Аманду.
– Все хорошо, детка, – сказал он ей. – Твой сын будет жить.
Опустившись на снег возле Аманды, я хотел поправить на ней одеяло, но вдруг увидел на снегу между ее широко раскинутыми ногами дымящуюся темную лужу.
– Эймос, у нее продолжает идти кровь, – сказал я.
– Сильно?
Я щелкнул фонариком.
– Почти как у Мэгги.
Он нахмурился.
– А ты не мог бы отвезти нас в больницу на своем грузовике?
– Не знаю… надо попробовать.
Я вскарабкался вверх по склону и обнаружил, что мотор моего грузовичка молчит. Не слышно было знакомого урчания мотора, из выхлопной трубы не шел дым. «Шеви» стоял на обочине наполовину засыпанный снегом, холодный, как покойник. Забравшись в кабину, я включил зажигание и несколько раз качнул педаль газа, но, сколько я ни гонял стартер, мотор не реагировал. В отчаянии я бросил взгляд на приборную панель. Бензин в баке еще был, хоть и на самом донышке, зато рядом со спидометром тускло тлела красная масленка. Я выругался.
Снова скатившись на дно кювета, я сообщил Эймосу:
– Ничего не выйдет. Из двигателя вытекло все масло.
– Попробуй вытащить нас на дорогу, – предложил он. – Санитарный вездеход должен скоро быть здесь.
Но сказать, как всегда, оказалось легче, чем сделать.
Начать я решил с Аманды. Подхватив под мышки, я поволок ее вверх по склону, стараясь причинять ей как можно меньше страданий. Я кряхтел и сопел, и дело двигалось, но слишком медленно, к тому же мне очень не нравился остававшийся за ней на снегу широкий кровавый след. Эймос, к счастью, настолько пришел в себя, что смог подняться наверх самостоятельно. Упираясь в снег ногами и правой рукой (левой он прижимал к груди ребенка), Эймос дюйм за дюймом полз вверх. От усилий рана у него на голове снова открылась, и из нее потекла кровь, но он не сдавался и уже на самом верху догнал нас с Амандой, так что на дороге мы оказались одновременно.
Не успел я встать во весь рост, как до меня донеслись рычание двигателя и скрежет передач. Из-за вершины холма сверкнул яркий свет фар. Он приближался, и уже через две минуты возле нас остановился мощный оранжевый вездеход спасательной службы с тентованным кузовом, из которого выпрыгнули двое мужчин в теплых меховых парках. Они подбежали к нам, сноровисто уложили Аманду на носилки, накрыли ее парой одеял и отнесли в кузов вездехода. Потом один из мужчин взял у Эймоса младенца. Я забрался в кузов самостоятельно и устроился на полу рядом с Амандой. Спасатель вручил мне ребенка, и они вдвоем, поднатужившись, втащили в вездеход Эймоса. Уложив его на вторые носилки, они о чем-то коротко посовещались и повернулись ко мне:
– Вы знаете, как зовут эту женщину?
Я кивнул и ответил, стараясь не слишком стучать зубами:
– Ее зовут Аманда. Аманда Ловетт.
За мгновение до того как водитель захлопнул задний борт, в кузов с разбега запрыгнул Блу. Несколько секунд спустя вездеход тронулся и пополз вверх по склону по направлению к городу. Окно между кабиной и кузовом вездехода было открыто, и я слышал почти весь радиообмен:
– База, говорит семьсот шестнадцатый.
– Что у вас, семьсот шестнадцатый, докладывайте.
– Едем в больницу. У нас четверо пострадавших, одна из них тяжелая. Ее имя – Аманда Ловетт. Понадобится переливание крови, необходимо заранее уточнить группу и резус-фактор.
– Вы сказали – Аманда Ловетт?
– Подтверждаю. – Водитель немного помолчал. – И еще, Ширин: предупреди персонал больницы, что крови понадобится много.
Вскоре после этого разговора я почувствовал, что мы поехали быстрее. Очевидно, водитель боялся не довезти Аманду до больницы и ехал с максимальной скоростью, какую позволяли ему развить обледенелая дорога и снежные заносы. Тусклый свет от лампочки под потолком кузова падал на лицо Эймоса, и я заметил, что он глядит на меня. Он не говорил ни слова, но с беспокойством косился на Аманду, которая лежала на соседних носилках, неподвижная и расслабленная.
Я покачал головой. Эймос протянул руку через проход и слегка сжал пальцы Аманды. Ее ребенок молчал. Он все еще был у меня на руках, и я посмотрел на его припухшее, блестящее личико. Малыш то открывал, то закрывал глаза, словно его беспокоил неяркий свет. В остальном он, казалось, был в полном порядке – спортивная куртка Эймоса почти просохла и была достаточно теплой. Время от времени малыш норовил сунуть в рот один из пальцев, которые показались мне на удивление длинными. Получалось это у него не сразу, и тогда он по-стариковски морщил лобик, казавшийся очень высоким из-за полного отсутствия волос.
Спустя несколько минут мы были уже в больнице. Вездеход остановился, кто-то поднял задний полог тента и откинул борт. Смутно знакомая мне женщина в белом врачебном халате потянулась к ребенку, и я передал ей малыша. Через минуту она уже скрылась за автоматическими дверями приемного покоя, откуда как раз выходили несколько санитаров и врачей. Двое спасателей вытащили из кузова носилки Аманды, санитары переложили ее на больничную каталку и повезли ко входу, возле которого я заметил пастора Джона и миссис Ловетт.
Потом настал черед Эймоса. Еще двое санитаров в голубых костюмах забрались в кузов.
– Раз, два, взяли! – скомандовал один. Они подняли носилки с моим другом и, покряхтывая, вынесли из кузова на площадку. Перекладывать Эймоса на больничную каталку они не стали – просто положили носилки поверх нее и тоже увезли в отделение экстренной помощи. Один из них прижимал к голове Эймоса ворох марлевых салфеток, другой выкрикивал на бегу его основные жизненные показатели – пульс, давление и прочее.
Только сейчас я заметил, что дрожу так сильно, что моя голова раскачивается вперед и назад, а зубы выбивают дробь. Но две сиделки подхватили меня под мышки, вывели из кузова и уложили на каталку. Через несколько секунд меня уже везли по коридору мимо палаты неотложной помощи, где было много яркого света и громких голосов. Не успел я обернуться, как оказался в облицованной кафелем душевой. Из леек били струи горячей воды, и комната на глазах наполнялась плотным водяным паром.
– Вы можете встать? – спросила меня одна из сиделок.
Я кивнул, и они помогли мне слезть с каталки. Почти сразу я согнулся пополам, низко опустив голову и прижав руки к груди. При каждом вдохе горячий пар наполнял мои легкие, зубы стучали, но я стоял!
Пока одна из сиделок, ловко орудуя хирургическими ножницами, среза́ла с меня одежду, другая приготовила дыхательную маску и что-то вроде капельницы.
– Что болит? – спросил первая сиделка.
– Н-н-н-ничего.
– Ну, вставайте под душ.
После того как я простоял под горячей водой минут пять, сиделка повторила свой вопрос:
– Что у вас болит?
– В-в-все!
Она широко улыбнулась.
– Это хорошо, очень хорошо. Так и надо!
Глава 26
Я проснулся и попытался пошевелиться, но каждое движение отдавалось во всем теле сильной болью. У меня ныло и саднило буквально все – каждый мускул, каждая косточка, каждый порез и ссадина, которыми я был покрыт с ног до головы. К счастью, голова более или менее работала, так что я довольно скоро сообразил, где нахожусь. После вчерашнего происшествия я сам стал пациентом, и меня поместили в одну палату с Мэгги.
Мэгги лежала на соседней койке, молчаливая, неподвижная. Глядя на нее, я вдруг вспомнил, как Папа опустился на колени рядом с кроватью бабушки, когда та умерла. Его большие, грубые, покрытые мозолями руки нежно сжимали ее длинные, тонкие пальцы. Одна лямка Папиного рабочего комбинезона сползла с плеча, словно под тяжестью разбитого сердца. Сила и Нежность – так я назвал бы эту картину.
Я повернул голову, посмотрел на Мэгги и, закрыв глаза, прошептал:
– Господи, пожалуйста… Не забирай ее к себе. Не отнимай нас друг у друга!
– С Рождеством!.. – донеслось от двери в палату. С трудом открыв глаза, я увидел в дверях одетую во все белое сиделку и невольно подумал, что ждал не такого ответа. О том, что сегодня Рождество, я совершенно забыл.
– Как вы себя чувствуете?
– Отвратительно.
– Так и должно быть.
– Как там остальные?
– Ребенок в полном порядке. Помощник шерифа мистер Картер получил несколько серьезных ушибов и рассечений, но жить будет – он сам так сказал. Что касается мисс Ловетт, то она в реанимации.
– А она… она будет жить?
– Мы перелили ей шесть доз крови[56], но, если говорить откровенно, она до сих пор жива лишь благодаря тому, что́ сделали для нее вы с помощником шерифа.
С этими словами сиделка ушла, а я кое-как сел на койке. Мои ковбойские сапоги валялись рядом на полу, но после того как вчера вечером сиделки среза́ли их с меня хирургическими ножницами, надеть их было уже нельзя. Мэгги, я думаю, вид моих растерзанных сапог доставил бы огромное удовольствие.
Почесав в затылке, я отсоединил капельницу, потом снял с вешалки рядом со шкафом больничный халат и набросил на плечи. Мне все еще было холодно, поэтому я достал из шкафа еще одно одеяло и завернулся в него. Стоило мне, однако, сделать всего несколько шагов, как я понял, что мне необходимо сильное болеутоляющее, и срочно.
Согнувшись от боли чуть не пополам, я все же выбрался в коридор и доковылял до сестринского поста. Увидев меня, дежурная сестра вскочила с кресла и, обогнув стол, бросилась ко мне.
– Вернитесь немедленно в постель, сэр! Вам нельзя вставать! И кстати, куда подевалась ваша капельница?
Обхватив обеими руками, сестра попыталась увести меня обратно в палату, но я не поддался. Попрочнее упершись босыми ногами в пол, я прохрипел:
– Эймос Картер… Помощник шерифа Эймос Картер… Где он?
Сестра неуверенно показала в дальний конец коридора.
– Его палата там, но…
Я повернулся в указанном направлении.
– Давайте-ка мы с вами его навестим.
– Но он сейчас спит!
– Тогда придется его разбудить, этого лентяя.
В конце концов медсестра все же согласилась сопроводить меня в палату Эймоса. Несколько раз я спотыкался, и тогда она меня поддерживала. Второй дежурной сестре она велела позвать врача.
Когда я вошел, Эймос лежал на койке с такой же капельницей, как у меня. Я придвинул поближе металлический стул на роликах и сел. Медсестра, решив, что до прихода врача я никуда не денусь, оставила нас одних.
Палата Эймоса была освещена только тусклой флуоресцентной лампой под потолком. Кожу на его гладко выбритой голове покрывало несколько десятков хирургических швов, словно врачи решили сыграть на ней в «крестики-нолики».
– Эймос! – шепнул я. – Проснись, соня!
Его рот слегка приоткрылся.
– Здорово, дружище.
– Ты как?
– Как лошадь, на которой всю ночь скакали галопом.
– У тебя что-нибудь болит?
– В данный момент – ничего. – Он покосился на свою левую руку, из которой торчала игла капельницы. – Должно быть, благодаря вот этой штуке.
– Но ведь ты поправишься? – уточнил я.
– Даже если не поправлюсь, все равно сбегу. – Эймос ухмыльнулся, потом снова стал серьезным. – Дилан…
– Что?
– Вчера ты все сделал просто отлично. Лучше и быть не могло. – Он закашлялся и закрыл глаза. – Ты слышал, что́ я сказал?
Ответить я не успел – в палату, стуча каблуками, вошел врач, и я, отодвинув стул, поднялся ему навстречу.
– Немедленно вернитесь в палату, мистер Стайлз. Ваше состояние еще не…
– Аманда Ловетт, – перебил я.
– Что – Аманда Ловетт? – переспросил врач.
– Я хочу видеть Аманду Ловетт. Где она?
Врач так решительно сунул руку в карман халата, словно там был «кольт».
– Вы ведь все равно не будете меня слушать, верно?
– Буду, только сначала отведите меня к Аманде. – Я плотнее закутался в одеяло и просительно приподнял брови. – Всего на три минуты, больше мне не нужно!
– Вчера вечером, когда вас привезли, ваша температура равнялась всего восьмидесяти шести градусам![57] Вы хоть знаете, как близко вы были к тому, чтобы…
Я выпрямился, хотя это было довольно болезненно, и посмотрел ему прямо в глаза.
Врач ненадолго задумался.
– А после Аманды вы вернетесь в палату?
Я кивнул.
– Обещаете?
– Да.
– Тогда идемте… – Врач вздохнул и вывел меня в коридор, где стояло кресло на колесах. – Может, вы хотя бы сядете?
– Спасибо. – Я осторожно опустился на жесткое пластиковое сиденье, и он, цокая каблуками по стерильному полу, повез меня по коридору. Свернув за угол, мы оказались в еще одном длинном коридоре, перегороженном двумя стеклянными дверьми со множеством красных светоотражающих наклеек и надписью крупными красными буквами: «Не входить! Отделение интенсивной терапии». Это было серьезное препятствие, но нас оно не задержало – врач набрал на клавиатуре цифрового замка код, двери отворились, и он покатил меня дальше.
Должен признаться, я был ему очень благодарен не только за то, что он провел меня в закрытое отделение, но и за то, что он вез меня в кресле, словно простой санитар. Без него я бы сюда не добрался, мне просто не хватило бы сил.
На диванчике возле палаты Аманды я увидел миссис Ловетт. Закрыв глаза, она привалилась спиной к стене и то ли молилась, то ли дремала. Пастор Джон был внутри. Стоя на коленях возле койки дочери, он держал обеими руками ее маленькую руку. Голову пастор опустил на матрас. Со стороны могло показаться, что он спит, но я знал, что это не так. Он молился.
Врач проверил мой пульс и, поставив кресло в ногах кровати, вышел. По стенам палаты метались едва заметные красноватые отблески – отражения сигнальных лампочек кардиомонитора. Резиновый браслет измерителя давления на правой руке Аманды то надувался, то стравливал воздух со звуком, похожим на дыхание какого-то невидимого существа. Глаза Аманды были закрыты, щеки ввалились, в лице ни кровинки.
Пастор Джон первым нарушил молчание.
– Вчера врачи только через несколько часов сумели остановить кровотечение, – промолвил он и, приподняв голову, посмотрел на дочь. – Похоже, плечи моего внука оказались несколько шире, чем путь, который Господь предуготовил для его появления на свет. Вы, наверное, не знаете, но вскоре после того, как Аманду доставили в приемное, половина вашей учебной группы выстроилась в очередь, чтобы сдать для нее кровь. А еще через час приехала вторая половина.
Быстрым движением пастор Джон вытер с глаз слезы.
– Вчера Аманде перелили шесть единиц донорской крови, и еще две – сегодня утром, но она… она так и не пришла в себя. – Он посмотрел на меня. Глаза у него запали и были налиты кровью. Вид у пастора был такой, словно он каждую минуту мог потерять контроль над собой.
Вращая колеса кресла, я подъехал к кровати с противоположной стороны, и, взяв Аманду за другую руку, положил ее к себе на колени. Это была та самая рука, которая расчесывала моей жене волосы, надевала на ноги чистые носки, красила ей ногти, меняла капельницы, купала ее и проверяла пульс. Несколько минут мы сидели молча, и я думал о том, сколько раз я точно так же держал за руку мою Мэгги. Точно так же, но не совсем… Рука Аманды неожиданно ожила и стиснула мои пальцы – стиснула и не отпустила, хотя сил у нее было совсем мало. Глаза ее оставались закрыты, но по тому, как задвигались под веками глазные яблоки, я догадался: Аманда знает, что это я, и подает мне ответный знак.
Пастор Джон снова поднял голову и посмотрел на меня большими и круглыми от изумления и радости глазами, в которых дрожали слезы. Я ответил ему таким же удивленным взглядом и только потом заметил, что Аманда приоткрыла глаза и глядит на меня и что ее губы кривятся в слабой улыбке. Этого оказалось достаточно, чтобы пастор Джон снова уронил голову на матрас. Плечи его затряслись от беззвучных рыданий.
– Про… профессор? – прошептала девушка.
– Что, Аманда?
– Я слышала, как вы вчера… разговаривали с Господом.
– Я бы не назвал это «разговором».
– Но это был именно разговор! – Она едва заметно кивнула. – Вы разговаривали с Ним, как Иов.
Миссис Ловетт на цыпочках вошла в палату и остановилась рядом с мужем.
– Не уверен, что Иов выражался именно так, – сказал я.
– Вы забыли, я была совсем близко и все слышала… – Аманда хотела засмеяться, но ей не хватило сил. – И должна признаться честно… – В изнеможении она снова закрыла глаза. – Должна признаться честно…
– В чем все-таки дело? – спросил я, уже зная, что попался на крючок и что Аманда намерена поделиться со мной какой-то сокровенной мыслью.
– Вы умный человек, профессор, но вы ошиблись в одном… – Она слабо потянула меня за руку, заставив наклониться ближе. – Он был с нами вчера, и точно так же Он был со мной все шесть дней моего плена – привязанный к дереву, как и я. – Аманда слегка приподняла голову и прошептала: – Иначе как бы я смогла это пережить?
Я пожал плечами.
– Я не настолько сильная, профессор…
Опустив голову, я смотрел на ее ладонь.
– Возможно, вы правы.
– Профессор?..
Я поднял голову, и одинокая слеза, сорвавшись с моей щеки, упала мне на руку.
– Что, Аманда?
– И в родильной палате, когда врачи не могли остановить кровотечение у мисс Мэгги, вы тоже были не один. Он тоже там был и тоже перемазался в крови, как вы. Вы не одиноки. Он с вами всегда, и Его милость и милосердие не имеют конца.
Поплотнее запахнувшись в одеяло, я выкатился вместе с креслом в коридор, оставив миссис Ловетт и пастора всхлипывать от радости у кровати дочери. Медсестра уже сообщила собравшимся в комнате ожидания друзьям и прихожанам, что Аманда пришла в себя, и оттуда доносились приглушенные крики радости. Там же были и все мои студенты. Сквозь стеклянные двери я видел Мервина и Рассела, которые стояли у самого входа в комнату ожидания и, потягивая из банок кока-колу, вопросительно смотрели на меня. У обоих на сгибе локтя я заметил свежие кусочки пластыря и едва не рассмеялся. Кровь лучших спортсменов колледжа, циркулировавшая теперь в жилах Аманды, несомненно, должна была ускорить ее выздоровление.
Оставив кресло на колесах в коридоре, я вышел из отделения интенсивной терапии в общий коридор. Заметив меня сквозь открытую дверь, все находившиеся в комнате ожидания притихли. Рассел опомнился первым. Он шагнул вперед, сгреб меня в свои медвежьи объятия и подбросил к потолку. Мервин отсалютовал мне своей колой.
– Доброе утро, профессор!
Судя по его широкой улыбке, он был очень доволен тем, как развиваются события.
Когда я вернулся в коридор отделения, где лежала Мэгги, дежурная медсестра уже поджидала меня у дверей палаты. В палате я обнаружил Блу, который, свернувшись калачиком, крепко спал на своей подстилке в углу. Мэгги на кровати у окна лежала неподвижно, с выражением ангельского спокойствия на лице. Я бросил одеяло на свою койку, а сам лег рядом с ней.
– Не следует вам этого делать, сэр! – поспешно сказала медсестра.
– Извините, мисс, – отозвался я как можно вежливее и обнял Мэгги, – но вам лучше уйти.
Медсестра недовольно покачала головой, но все же послушалась. Как только за ней закрылась дверь, я скользнул к Мэгги под одеяло и впервые за четыре месяца и тринадцать дней уснул рядом со своей женой. Последнее, что я запомнил, сражаясь со сном, усталостью и лекарствами, было ее теплое дыхание на моей щеке.
Когда несколько часов спустя я проснулся, за окнами снова была ночь: небо затянуло плотными облаками, но снегопад закончился. Не знаю, сколько времени я проспал, однако назад, на мою койку, меня никто переносить не стал. И, что было еще важнее, Мэгги тоже никто не трогал. Нам только заменили капельницы, которые накачивали в наши вены какие-то таинственные жидкости.
Подняв голову, я взглянул на Мэгги. Призна́юсь, я был уверен, что она откроет глаза и посмотрит на меня в ответ. А если быть честным до конца, я думал, что когда я проснусь, то увижу, как она смотрит на меня ясным и чистым взглядом – таким же, как в тот день, когда ее повезли в родильную палату.
Увы, глаза Мэгги были все так же закрыты, и хотя ее лицо по-прежнему казалось спокойным и безмятежным, я отчетливо видел, как подрагивают ресницы и как беспокойно движутся под ве́ками глазные яблоки.
Я понял, что Мэгги видит сон.
Отчего-то я вдруг заплакал. Этот плач поднялся из са́мой глубины моей души – из той неведомой и таинственной ее области, где заживают любые раны и куда не добираются сомнения, и которая и есть подлинное «я» каждого человека. Сдержать эти рыдания было выше моих сил. Прижавшись лицом к груди Мэгги, я плакал так горько, как еще никогда не плакал в своей жизни. На мои всхлипывания прибежала встревоженная медсестра. Несколько минут она молча стояла рядом со мной, потом укрыла меня вторым одеялом и ушла.
Глава 27
Утром мы проснулись в объятиях друг друга. Или, точнее, это я проснулся, обнимая Мэгги. Некоторое время я просто лежал, положив руку ей на живот – возразить она все равно не могла, поэтому я длил и длил этот приятный момент. Потом я снял с Мэгги носки, так что ее холодные ступни касались моих ног. Раньше я ничего подобного не допускал, но сейчас решил – пусть. Почему-то мне казалось, что, если я сумею согреть ей ноги теплом своего тела, это ускорит ее выздоровление.
Какое-то время спустя я все-таки встал, накрыл Мэгги своим одеялом и, выдернув из руки капельницу, заглянул в шкаф, где лежала кое-какая моя одежда, которую я иногда оставлял здесь в предыдущие свои визиты. Одеваясь возле окна, в которое вливались лучи яркого утреннего солнца, я заметил, что обе мои руки чуть не до плеч покрыты порезами, царапинами и ссадинами. Все они болели, и я подумал, что действие обезболивающего, вероятно, закончилось.
Вернувшись к кровати, я посмотрел на Мэгги и прошептал:
– Мне нужно кое-что сделать, Мег. Никуда не уходи, хорошо?..
Услышав мой голос, Блу вскочил со своей подстилки, потянулся и вопросительно поглядел на меня, мол, куда пойдем? Я скомандовал ему: «Сидеть», а когда он подчинился, выставил руку ладонью вперед и добавил шепотом:
– Ты останешься здесь. Куш!
Пес лег, положил морду на передние лапы и, подняв уши, укоризненно покосился на меня.
– Охраняй нашу Мэгги, а я скоро вернусь, – сказал я.
Блу вскочил на все четыре лапы и посмотрел на Мэгги.
– Ладно, давай, – согласился я, и он одним прыжком оказался на кровати. Через секунду он уже свернулся у нее в ногах.
Натягивая на ходу куртку, я вышел из палаты и пошел по пустынному коридору, стараясь производить поменьше шума. Несмотря на то что утро уже наступило, на сестринском посту горел свет – дежурная медсестра по обыкновению читала «Инквайрер» и подкреплялась сырными шариками из нового пакета.
– Счастливого Рождества! – сказал я и сразу подумал, что со своим приветствием запоздал как минимум на сутки.
Не поднимая головы, медсестра перевернула очередную страницу журнала.
– Спасибо, конечно, но… Ума не приложу, что вы нашли в нем такого счастливого?..
В одну из палат в конце коридора недавно положили пожилую женщину с острой пневмонией. Врачи говорили, что она выкарабкается, просто у нее в легких скопилось слишком много мокро́ты, так что ей лучше побыть под наблюдением медперсонала. Должно быть, эта леди была одним из столпов местного общества, поскольку ее палата очень быстро стала походить не то на цветочный магазин, не то на благоухающие джунгли. Чтобы разместить все корзины, горшки и вазы с цветами, санитарам даже пришлось принести из кафетерия несколько столиков. Сейчас дверь палаты была приоткрыта. Я отворил ее пошире и заглянул внутрь: пожилая леди крепко спала, и я бесшумно проник внутрь.
Я выбрал самый большой букет, составленный из каких-то тропических цветов, яркие краски и благоухание которых заставляли забыть о выпавшем недавно снеге. В том, что его не хватятся, я был уверен – комната и так напоминала огромную оранжерею. Визитную карточку я вынул и запихал в середину какого-то другого букета.
– Благодарю вас, мэм, – тихонько прошептал я, обращаясь к спящей леди, и так же бесшумно выскользнул обратно в коридор. Вернувшись к сестринскому посту, я положил букет поверх «Инквайрера».
Медсестра отложила в сторону хрустящий пакет и слизнула с верхней губы желтые сырные крошки. Некоторое время она разглядывала букет, потом посмотрела на меня поверх очков. Я ничего не сказал, просто стоял перед ней, засунув руки в карманы, и улыбался. В конце концов медсестра промокнула уголки губ салфеткой – осторожно, чтобы не размазать помаду, – потом сдвинула букет на край стола и вернулась к чтению.
– Надеюсь, сегодня у вас будет приятный день, – проговорил я, покачиваясь с пятки на носок и нащупывая в кармане мелочь.
– Гхм-м… – неопределенно отозвалась она.
Перегнувшись через столик, я попробовал зайти с другой стороны.
– В этот светлый праздник я желаю вам, чтобы эти сырные шарики не забили холестерином ваши артерии, вызвав сердечный приступ как раз тогда, когда вы столь усердно трудитесь.
Медсестра глубоко вздохнула и, сложив перед собой дряблые руки, посмотрела на меня снова, на сей раз – сквозь очки. Окинув меня оценивающим взглядом, она откинулась на спинку скрипнувшего кресла и нахмурилась. По-видимому, медсестра решала про себя стратегически важный вопрос: то ли позвать охрану, то ли уступить и дать мне то, что я хочу. Наконец она сдалась:
– Счастливого Рождества, мистер Стайлз.
Я кивнул и, повернувшись, зашагал прочь, но медсестра неожиданно окликнула меня.
– Уж не домой ли вы собрались, мистер Стайлз?
– Да, а что? – ответил я, гадая, к чему все эти расспросы.
– Разумеется, вы можете пройтись пешком, если вам так хочется, но моя смена почти закончилась, а я еду в ту же сторону, что и вы… В общем, я могла бы вас подвезти.
Не вынимая рук из карманов, я еще несколько мгновений смотрел на нее, пока не вспомнил, что мой грузовичок с заглохшим двигателем так и остался на заснеженной обочине возле переезда.
– Ну, не стойте как столб… – сказала медсестра. – Вы едете?
Я кивнул, и через пять минут мы были уже на парковке. Медсестра ездила на «Бьюик Сенчури» – когда она открыла пассажирскую дверцу и я сел в салон, то обнаружил, что на консоли между передними сиденьями покоится недоеденный пакет сырных шариков.
Из города мы выбрались той же дорогой, по которой я ехал накануне Рождества. В салоне было тепло, чисто и приятно пахло каким-то автомобильным ароматизатором. Глядя за окно, я заметил, что, несмотря на потепление, количество снега почти не уменьшилось, зато почти все дороги были расчищены. Асфальт на них был темным и блестящим от влаги. Вскоре мы добрались до переезда, и я увидел то место, где должен был стоять мой грузовичок. Сейчас от него остались только следы на снегу: очевидно, автомобиль аварийной службы, приезжавший за разбитой машиной Эймоса, отбуксировал куда-то и его.
Церковь пастора Джона, показавшаяся из-за поворота шоссе, была вся покрыта снегом, и, несмотря на то, что я говорил раньше, выглядело это по-настоящему прекрасно. А еще через пару миль мы свернули на мою подъездную дорожку и остановились у черного крыльца.
Я открыл дверцу и, держась одной рукой за ручку замка и положив другую на спинку сиденья, повернулся к медсестре.
– Скажите, как вас зовут?
Она улыбнулась и, насмешливо приподняв брови, коснулась кончиком пальца небольшого именного бейджа, прикрепленного к карману медицинского халата. На бейдже было написано: «Элис Мей Ньюсом. Старшая медицинская сестра. Стаж работы – 38 лет». Просунув палец под ремень безопасности, Элис Мей поправила бейдж.
– Друзья зовут меня просто Элли.
– Спасибо, Элли.
Она кивнула, подняла стекло с моей стороны и, не торопясь, отъехала.
Обогнув раскидистый дуб, под которым был похоронен мой сын, я стал спускаться к реке. Яркие солнечные лучи чувствительно согревали мне спину, и я наслаждался их теплом. На берегу я остановился и, скинув одежду, некоторое время стоял там в костюме Адама, глядя на свое отражение в воде. Фермер-любитель и профессор на полставки, еще не старый, но уже не юноша, муж женщины, которая, возможно, никогда не проснется, я учил недоучек и сражался с собственной гордыней, а в будущее заглядывал с большими сомнениями и осторожностью. Уже много месяцев я жил только сегодняшним днем и не ждал ничего хорошего от дня завтрашнего. И все же впервые за очень-очень долгое время на моем лице появилась улыбка. Я стоял на заснеженном берегу голышом, словно слабоумный или юродивый, но улыбался. Улыбался! Да, было довольно зябко, но меня это не беспокоило, ведь я теперь знал, что такое настоящий холод.
Когда я вступил в реку, ее течение показалось мне совсем не сильным, а вода была даже теплее, чем я думал. Я зашел в нее почти по пояс и остановился, лишь когда почувствовал, что дно круто понижается, уходя вниз, в глубокий омут под берегом, куда Мэгги так любила прыгать «ласточкой» с высокого обрыва.
Повернув голову, я посмотрел на этот обрыв – на крутой, песчаный берег слева от меня, и вспомнил, как в конце прошлого ноября мы проснулись посреди ночи и отправились к реке купаться. В сотый, в тысячный раз я вспомнил, как Мэгги раздевается, представил ее изящные икры, стройные руки и упругий изгиб поясницы. Словно наяву, я увидел, как она приподнялась на цыпочки, взмахнула руками и, будто фея из сказки, вдруг взлетела в пронзенный лунными лучами воздух – руки разведены в стороны, ноги вместе, шея грациозно изогнулась, кожа блестит, как фарфор. Мгновение длился полет, и вот уже все это волшебство с громким плеском исчезает в черной воде, а еще через секунду Мэгги выныривает, и вода стекает по ее лицу и губам, изогнутым в лукавой, озорной улыбке.
Еще я вспомнил, как мы лежали на берегу и смотрели на звезды, а теплая вода сбегала с наших тел и собиралась вокруг в маленькие лужицы, и как, обнявшись, мы возвращались домой, глядя, как на востоке все ярче разгорается розовая полоска рассвета. Это воспоминание согрело меня, и, стоя по пояс в холодной воде, я все писал и писал пальцами по ее поверхности все те слова, которые я так и не сказал Мэгги.
А потом я подумал о сыне, который лежал под землей совсем недалеко, о глицинии, которая начала оплетать его могилу. Сейчас, в разгар зимы, ее убитые холодами цветки побурели и сморщились, но я знал, что придет весна, и она снова расцветет фиолетовыми, синими и багряными цветами.
И тут же, по неясной мне пока аналогии, в памяти вдруг всплыла недавняя рождественская ночь, багровый отблеск задних огней на снегу и перевернутая машина в кювете. Мне, впрочем, было ясно, почему я об этом подумал, и почти ясно, почему именно сейчас. Где-то глубоко внутри меня боролись страх и странное спокойствие. Я и боялся, что Аманда может оказаться права, и вместе с тем надеялся, что она права. Ведь если, как она сказала, Он действительно все время был рядом со мной, значит, мои сомнения нену́жны и неуместны, и их следует отбросить как можно скорее.
Ради этого я пришел сюда сейчас, ради этого стоял по пояс в холодной воде.
Я сделал глубокий вдох, шагнул вперед и тут же погрузился в воду с головой. Глубины здесь было футов двенадцать, а может, больше. Течение было сильное, и водяные струи закружились вокруг меня, потянули на дно, в темноту и тишину. Несколько пузырьков вырвались у меня изо рта и ноздрей и, щекоча мои закрытые глаза, унеслись к поверхности. На мгновение я увидел перед собой Мэгги, ярко освещенную родильную палату, лужи крови на полу и синюшное лицо моего только что родившегося сына; услышал крики врачей и безутешные рыдания жены.
Прошла секунда, и я словно повис в воздухе над могилой моего… нет, нашего сына, над верхушками засохших кукурузных стеблей, над коньком нашего старого дома. Блу лизал меня в лицо, хрюкала Пинки в амбаре, тарахтел трактор, беззвучно текла река с расходящейся в ней струйкой желтой мочи, пастор Джон вытирал блестящее от пота лицо, поскрипывало рассохшееся алтарное ограждение, сверкала выбритая голова Эймоса, без умолку звенели церковные колокола, и Мистер Зубастик манил и манил меня к себе взмахами ладони. Дрожа от непонятного волнения, я поднялся наконец со скамьи, выступил вперед, наклонился и вонзил зубы в горький хлеб причастия – и тут же оказался в своей аудитории в колледже. Я обливался потом, а над моей головой лениво вращались лопасти вентиляторов, Кой смотрела на меня сквозь черные очки, Мервин и Рассел танцевали на футбольном поле, а мистер Картер выпускал из клеток своих натасканных на енота собак. Через мгновение я уже шагал по болотам Сокхатчи, смотрел, как серебрится в лунном свете густой, длинный мех, болтал с Джимом Биггинсом, раскачивался в качалке у себя на веранде, просовывал руку в оставленную канюком дыру в экране, протягивал канистру бензина человеку в грязном шотландском килте и с россыпью медалей на груди, чувствовал, как стекают капельки воды по жестянке холодного пива, смеялся над «бабочкой» мистера Кэглстока и прислушивался к эху слов Джона Уэйна.
Потом я корпел над книгами в библиотеке, писал диссертацию, обедал в дешевых столовых, продавал свою гитару, носил вытертые джинсы и ковбойские сапоги и сидел на первом ряду старого летнего театра, слушая, как свистит в кронах сосен холодный ветер.
И снова я стоял у рассохшегося алтарного ограждения, а пастор Джон протягивал Аманде чашу.
– Прими Самого Иисуса, дитя мое…
Потом он протянул чашу мне, я сделал глоток и почувствовал, что мое горло жжет будто огнем.
И вновь я был возле кровати Мэгги – я звонил на наш автоответчик и слышал ее голос, видел, как Блу вылизывает ей руки, натягивал носки на холодные ступни, разглаживал морщинку на ее лбу, косился на массивную фигуру Эймоса в коридоре, сидел с Амандой, которая чистила и перевязывала мне рану на руке, и чувствовал, как пальцы Мэгги нежно прикасаются к моим шрамам.
И тут я глотнул ледяной воды.
На дне реки царили темнота и мрак, но где-то надо мной лучи света прореза́ли воду, словно солнце проглядывало сквозь тучи после грозы. Именно в этот миг я понял, что там был Он. Был все время, всегда. Что Он – есть. И тогда я оттолкнулся от песчаного дна, чтобы подняться к поверхности, чтобы быть хоть немного ближе к Нему. Вот моя голова оказалась над водой; я открыл глаза и увидел, как на заснеженных берегах реки сверкает и переливается ослепительный солнечный свет.
Холод давал о себе знать, и я двинулся было к берегу, но снова остановился. Стоя по плечи в воде, я мешкал, пытаясь рассмотреть себя, увидеть, каким я стал. Я внимательно рассматривал свои разбухшие от воды ладони и розовый шрам на предплечье, любовался своей белой кожей, исчерченной голубоватыми венами, но ни в складках ладоней, ни под ногтями я не видел ни единого пятнышка засохшей крови. Их не было нигде, и впервые за очень-очень долгое время я почувствовал себя по-настоящему чистым.
Глава 28
Когда в воскресенье утром я проезжал мимо церкви пастора Джона, мне бросилось в глаза царившее там оживление, сопровождавшееся довольно громким (и это еще слабо сказано) шумом. Мы с Блу как раз возвращались из универмага, куда я ездил за моющими средствами и кое-какими хозяйственными мелочами: каким-то непостижимым образом мой дом успел превратиться в настоящую помойку, и я решил потратить хотя бы несколько часов на то, чтобы привести его в порядок. Пока я убирался, Блу смотрел на меня так, словно я окончательно спятил; когда же, покончив с комнатами, я отправился в амбар, он потрусил за мной с крайне обеспокоенным видом.
Пинки отнеслась к моему появлению с обычными для нее недоверием и злобой. Когда я высыпал в кормушку ведро кукурузы, она почти демонстративно оскалилась, громко, презрительно хрюкнула, несколько раз лягнула задними ногами дверь загона и только потом стала есть.
Вечером я завел трактор, и мы с Блу не торопясь поехали к реке. Блу обожал эти тракторные поездки. На берегу я заглушил двигатель, и мы долго сидели, прислушиваясь к лёту уток над головой и глядя, как садится за лесом солнце.
Дома я приготовил себе ужин, который, по правде сказать, был больше похож на завтрак и состоял из яичницы с беконом и тостов (Мэгги подтвердит, что это практически единственное блюдо, которое я умею готовить). Все это я запил приготовленным в перколяторе кофе и вышел на веранду.
Там было очень тихо, только слегка поскрипывала моя качалка (Мэгги очень нравился этот домашний звук) да легкий ночной ветер чуть слышно шелестел сухими кукурузными стеблями на залитом лунным светом поле. Глядя на них, я думал о том, что процесс исцеления уже идет, мои раны, порезы и ссадины закрываются, а боль становится слабее и уходит в небытие. Наверное, так уж мы, люди, устроены – все наши раны в конце концов заживают, и мы снова становимся целыми.
Ездил я теперь на фордовском пикапе, который позаимствовал у Эймоса (сам Эймос, правда, об этом не подозревал). Мой собственный грузовичок вместе с разбитой полицейской машиной отбуксировали в Центр ремонта и продаж подержанных автомобилей, где принимали в ремонт авто в любом состоянии. На самом деле Центр был обычным небольшим автосервисом, которым единолично владел мой бывший одноклассник Джейк Пауэрс. В своей мастерской он не только ремонтировал машины, но и продавал подержанные авто, которые скупал у местных жителей и более или менее приводил в порядок, поэтому, если он не мог что-то починить, у него всегда было что́ предложить клиенту. В городе Джейк слыл неплохим механиком, однако как-то так получалось, что каждый месяц он продавал машин больше, чем ремонтировал.
Отставив в сторону чашку с остатками второй порции кофе, я надел кроссовки, неожиданно решив съездить к Эймосу. Час был уже поздний, но мне казалось, что он будет рад, если я предложу перевезти его домой. В том, что мой приятель сыт больничной жизнью по горло, я не сомневался.
По дороге я заехал к Эймосу домой и, отыскав у него в спальне большую дорожную сумку, уложил в нее кое-какую одежду из шкафа. Прежде чем снова выйти на улицу, я включил в нескольких комнатах свет, чтобы снаружи дом выглядел как можно уютнее и гостеприимнее. Я хотел даже немного прибраться у него, но, в отличие от холостяка, живущего на противоположной стороне шоссе, Эймос содержал свой дом в образцовом порядке.
Когда я приехал в больницу, там было тихо и относительно спокойно. Мэгги и Аманда спали, а младенец сосредоточенно сосал молоко из бутылочки, которую держала миссис Ловетт. У сестринского поста стоял врач с планшеткой в руках. Увидев меня, он слегка приподнял голову и кивнул.
– Привет, док. – Я помахал ему рукой.
– Вы за ним? – Врач показал в сторону палаты Эймоса.
– Угу.
Врач немного подумал, потом что-то шепнул медсестре. Снова повернувшись ко мне, он сказал:
– Только поезжайте осторожнее. Мистер Картер еще несколько дней будет испытывать боли.
Когда я вошел в палату, Эймос тотчас проснулся. Сев на стул, я забросил ноги на край его кровати.
– Как твоя голова? – спросил я.
– А куда подевались твои ковбойские сапоги? – ответил он вопросом на вопрос.
– Остались в приемном отделении. Когда нас сюда привезли, сиделки среза́ли с меня одежду реберными кусачками, так что сапоги уже не починить. Что говорит доктор?
Эймос заерзал под одеялом.
– Он говорит – мне очень повезло, что я был пристегнут и что подушка безопасности сработала как надо. В общем, еще пару дней здесь, недельку дома, и я снова буду как огурчик.
Я бросил на кровать его сумку. Она была не застегнута, и собранная мною одежда вывалилась на одеяло.
– У меня есть другое предложение, – сказал я.
– Я так и думал, что ты привезешь все необходимое для побега… – Эймос откинул одеяло и осторожно поднялся. Его качало, но он сумел сохранить равновесие. – Что ты сделал с палатой, Дилан? Она вращается! – Он ухватился за мое плечо, я помог ему одеться, и мы вместе вышли в коридор. Там Эймос вдруг остановился и посмотрел на меня. – Мне хотелось бы повидаться с Амандой, прежде чем мы уйдем.
– Хорошо. – Я кивнул и повел его к лифтам.
Поднявшись на лифте в отделение реабилитации, куда переводили больных из интенсивной терапии, мы без труда отыскали палату Аманды. Когда мы вошли, она лежала на своей койке, но не спала и тотчас повернулась в нашу сторону. В полутемной комнате было почти пусто, если не считать тридцати или сорока цветочных букетов.
– Привет! – Эймос сел на стул и нежно взял ее за руку.
– Как вы себя чувствуете, шериф? – прошептала Аманда. – Врач говорит, вы своей головой погнули руль патрульной машины.
– Так обычно и бывает, если голова деревянная. – Эймос ухмыльнулся, но сразу охнул и схватился за ребра, стараясь не рассмеяться. – Я в порядке, – добавил он, – но еще пару дней придется пробыть на больничном.
– Я думаю, это правильно, – проговорила Аманда. – Вам нужно отдохнуть.
– А что врач говорит о тебе, детка? – спросил Эймос.
– О, у меня перелом трех ребер, трещина тазовой кости и небольшое сотрясение мозга. Кроме того, я потеряла много крови, но я поправлюсь, хотя мне и придется пролежать здесь несколько недель. Прихожане из папиной церкви и ребята из моей группы просто молодцы – они сдали столько крови, что теперь не только я, но и вся больница обеспечена ею на год вперед. Жаль только, что я не могу кормить грудью, но… В общем, посмотрим… – Она улыбнулась и посмотрела на открытую дверь в коридор. – Я собираюсь попробовать, нужно только хотя бы на пару минут отобрать малыша у моей мамы.
Стараясь не делать резких движений, Аманда медленно повернулась ко мне.
– Здравствуйте, профессор.
– Здравствуйте, Аманда. Как поживает ваш сын?
– Хорошо. На самом деле он почти весь день был здесь, со мной. Мама только недавно взяла его, чтобы покормить и немного погулять с ним по коридору. Ей почему-то кажется, что ему не нравится постоянно находиться в одной и той же комнате. – Аманда негромко рассмеялась. – Я говорила ей, что здесь гораздо просторнее, чем в том месте, где он находился в последние девять месяцев, но ее не переубедишь.
– Вы его уже как-нибудь назвали?
– Да. – Аманда с гордостью вскинула подбородок. – Моего сына зовут Джон Эймос Дилан Ловетт. Это, разумеется, официальное имя, и я пока не знаю, как мы будем звать его между собой, но… Папа, к примеру, уже зовет его «малыш Дилан». Мама мне сказала, что утром в церкви папа только о нем и говорил – мол, малыш Дилан то, малыш Дилан се…
Мы с Эймосом переглянулись.
– Помнится, – осторожно начал я, – вы говорили, что хотите назвать сына Джошуа Дэвид. Вы передумали?
– Сначала я действительно хотела назвать его в честь деда, – ответила Аманда. – Но потом решила, что Джон Эймос Дилан нравится мне гораздо больше.
– Вы уверены, что хотите назвать малыша именно так? – спросил я. – С таким именем у него могут возникнуть проблемы в школе… – Я немного помолчал и добавил: – У меня, например, проблемы были: я не знал, как правильно пишется мое имя.
– И до сих пор не знаешь, – хихикнул Эймос.
– Уверена. – Аманда показала на тумбочку. – У меня даже есть официальный документ.
– Ну, если документ… – Эймос взял с тумбочки ксерокопию свидетельства о рождении, внимательно прочел и передал мне.
– Я спрашивала у мисс Мэгги, профессор. – Аманда снова посмотрела на меня. – Мне показалось, что она не возражает. Надеюсь, и вы не будете против.
Я кивнул – не без некоторого самодовольства.
– Я вовсе не против. Кроме того, вы вольны назвать вашего сына как пожелаете.
Эймос чуть сильнее сжал руку Аманды.
– Аманда, детка, мне пора домой. Там я заберусь в собственную постельку и высплюсь как следует. Надеюсь, что, когда я проснусь, мир перестанет вращаться и я смогу снова навестить тебя.
Она кивнула и чуть слышно прошептала:
– До свидания. Я буду ждать.
Мы вышли в коридор и двинулись к лифтам.
– Крепкая девчонка, – сказал я.
– Женщина, – поправил Эймос и кивнул. – Крепкая женщина. И я уверен, что в школе у ее сына не будет никаких неприятностей, потому что, в отличие от тебя, у него есть один знакомый профессор, который обязательно научит парня, как правильно пишется «Дилан».
Тут мы вышли на парковку, и Эймос увидел свой «Форд Экспедишн».
– Отличная тачка, – заметил он.
– Не моя, – коротко ответил я. – Ее хозяин попал в больницу, так что еще несколько дней она ему не понадобится.
– А что с твоим «Шеви»?
– Джейк говорит, что я перегрел двигатель. Когда у меня будет время, я съезжу к нему в Центр и потолкую по душам.
Я высадил Эймоса возле его дома. Светила полная луна, и тени ближайших деревьев ложились на отливающие серебром стены причудливым узором. Попрощавшись с другом, я отправился к себе, закутавшись, словно в теплый плащ, в чувство облегчения и задумчивость. За последние трое суток произошло слишком много разных событий, и мне необходимо было немного притормозить, чтобы разложить все по полочкам. Именно этим я и занялся, сварив очередную порцию кофе и устроившись с кружкой на веранде. Блу лежал на полу у моих ног, прислушиваясь к поскрипыванию старой качалки.
Было уже за полночь, когда я накинул куртку и вышел на кукурузное поле.
Шагая между рядами, я постукивал по сухим стеблям подобранной во дворе палкой, словно мальчишка, считающий штакетины в заборе. Папа, наверное, уже давно запахал бы кукурузу в землю, но мне пока было не до этого.
Минут через десять мы с Блу оказались на дальнем краю поля. Спустившись по склону вдоль пастбища, мы немного постояли под большим раскидистым дубом рядом с могилой моего сына. Она не только заросла глицинией, но и была засыпана желудями, и я направил лиану в сторону от могильной плиты, смахнул желуди и сдул с камня пыль и песок.
Сквозь листву над моей головой пронесся порыв ветра. Он добрался до реки и вернулся обратно, дернул меня за воротник и снова отправился в поле шуршать засохшей кукурузой. Ветер был холодный, но не резкий, и я подумал, что это очень, очень хорошо.
Глава 29
Тридцатое декабря выдалось пасмурным и на редкость холодным. Во всяком случае, пока я дошел от дома до почтового ящика, я успел продрогнуть до костей. В этом году погода в Диггере вообще была необычно холодной, но сегодняшний день, похоже, поставил новый температурный рекорд. Или антирекорд.
Эймос забрал у меня свой автомобиль и отправился в город за продуктами. После нашего рождественского приключения женщины из церковного прихода напекли ему пирогов, кассеролей, рулетов, ростбифов и тортов, но все это он уже съел, а мой приятель был не из тех, кто способен долго обходиться без пищи – то есть без большого количества разнообразной пищи. Словом, Эймос уехал, и я решил, что побуду утром один, а когда Эймос вернется, снова возьму его «Форд» и поеду в больницу к Мэгги.
Резкий, холодный ветер дергал меня за трусы-боксеры, обвивался вокруг голых ног, и от этого мне казалось, что на улице не просто холодно, а ужасно холодно. Как в Антарктиде или того хуже. Вот почему я старался двигаться как можно проворнее и, даже добравшись до почтового ящика, не мог стоять спокойно и все время приплясывал, чтобы хоть немного согреться. Пока я засовывал под мышки всю почту подряд, за моей спиной с пронзительным визгом затормозил пикап «Шевроле Люмина» с надписью «курьерская служба Майкла» на борту. Выронив от неожиданности пачку рекламных проспектов (зимой я всегда брал их, чтобы растапливать камин), я резко обернулся, чтобы посмотреть, кто только что украл у меня как минимум три года жизни.
Из «Люмины» выскочил подросток лет шестнадцати или даже моложе. Его лицо было покрыто таким количеством прыщей, что даже «Клеарасил» был бы против них бессилен.
– Вы Дилан Стайлз? – спросил мальчишка, размахивая у меня перед носом каким-то конвертом.
– Да, это я, – ответил я, стуча зубами и подпрыгивая на месте. Интересно, мимолетно подумал я, не открылась ли ширинка у меня на трусах?
– Вас было нелегко найти. Я мотался по вашему чертову захолустью не меньше полутора часов, прежде чем напал на след. Как это вы можете здесь жить, в этакой глуши?! – Парень покачал головой и буквально швырнул в меня конверт. Не прибавив ни слова, юнец запрыгнул обратно в кабину и дал полный газ. Покрышки забуксовали, выбрасывая гравий, но потом все же зацепились за что-то, и машина, вильнув задом, умчалась.
Я рысцой вернулся в дом, бросил рекламные проспекты на пол в прихожей и устроился на диване перед горящим камином с письмом в руках. Оно было напечатано на официальном бланке колледжа и подписано сами деканом Уинтером – моим временным боссом.
«27 декабря.
Уважаемый д-р Стайлз!
С удовольствием сообщаю, что образцовое выполнение Вами служебных обязанностей и достигнутые Вашими учениками успехи заслуживают наивысшей оценки. В этой связи администрация колледжа Диггера и лично я предлагаем Вам продлить Ваш контракт до конца текущего учебного года. Мы также были бы рады, если бы Вы сочли возможным стать одним из наших постоянных преподавателей.
В случае, если Вы согласны, подпишите приложенные документы, сохраните один экземпляр у себя, а остальное перешлите мне при первом удобном случае. Если у Вас возникнут вопросы, можете звонить мне в любое время.
Желаю Вам счастливого Нового года.
Искренне Ваш,
Уильям Т. Уинтер,
декан филологического факультета Профессионального колледжа Диггера».
Я почесал в затылке и посмотрел на Блу, который, лежа перед камином, вопросительно косился на меня, прислушиваясь к завываниям ветра в трубе.
– Что ж, соглашусь, пожалуй, – проговорил я, показывая на письмо. – Похоже, в конце концов я все-таки буду преподавать в колледже. Кто бы мог подумать!
Блу воспринял мои слова как приглашение. Мигом вскочив на диван, он положил морду мне на колени и перекатился на спину, подставляя брюхо. Я откинулся на спинку дивана, закинул босые ноги на кофейный столик и стал думать о том, как здорово смотрелся бы на каминной полке мой барабан.
Думаю, Мэгги это бы тоже понравилось.
Глава 30
К обеду Эймос не вернулся, поэтому я остановил попутку и поехал на ней в город. В кармане у меня лежал подписанный контракт – прежде чем отправить декану Уинтеру, мне хотелось показать его Мэгги.
Пришлось простоять на холоде минут сорок, прежде чем по нашему участку дороги вообще кто-то проехал. К счастью, вторая машина, появившаяся еще минут через двадцать, меня подобрала. За рулем сидел молодой парень, который направлялся в Диггер на какую-то вечеринку. Ему было восемнадцать, и он ездил на «Понтиаке Транс Эм» 1979 года. Точно на такой же машине ездил Берт Рейнольдс в фильме «Полицейский и бандит», хотя, как вскоре выяснилось, мой новый знакомый слегка доработал древний двигатель.
– На этой штуке ставили V-образную восьмерку мощностью триста двадцать пять лошадок, – сообщил он мне, ласково поглаживая рычаг коробки передач. – Ну, я рассверлил цилиндры, отполировал как следует, поколдовал со свечами, поставил более жесткие пружины клапанов, усовершенствованный распредвал, добавил воздушный фильтр-нулевку, трехдюймовые выхлопные трубы и углеволоконные глушители, переделал и усовершенствовал еще кое-что… Конечно, машинка стала немного шумновата, но зато теперь она не ездит, а летает. Да, летает!.. Думаю, я довел движок до четырехсот лошадок. Кроме того, я поставил задний мост от «Корвета» семьдесят второго года, так что теперь у меня передаточное число на оси – четыре к одиннадцати, ясно вам?
Мне было ясно, хотя из-за рева мотора я его почти не слышал. Должно быть, парень это понял, а может, ему просто захотелось подтвердить свои слова делом. Как бы там ни было, он нажал акселератор, и меня с силой прижало к сиденью. Прежде чем я сумел поднять голову, мы уже мчались со скоростью больше восьмидесяти миль в час. Пожалуй, этот «Понтиак» действительно был самым быстрым и самым шумным автомобилем из всех, в которых мне доводилось ездить. Он был способен жечь резину на всех четырех передачах, что его счастливый обладатель не замедлил мне продемонстрировать. Приборная доска «Понтиака» напоминала пульт управления космическим кораблем, столько на ней было датчиков, циферблатов, сигнальных лампочек и переключателей. Не хватало разве что радара, поскольку я не представлял, как парень может что-то видеть за установленным на капоте огромным воздухозаборником.
Оставшиеся до города двенадцать миль мы проехали – пролетели – минут за семь или даже меньше. Скорость была столь велика, что мне даже показалась, будто прерывистая осевая линия стала сплошной, хотя я отлично знал, что этого не может быть. Когда парень высадил меня у больницы, я попытался его поблагодарить, но, боюсь, за грохотом выхлопа он меня снова не услышал, поэтому я просто сунул ему три доллара (по дороге парень обмолвился, что ему еще нужно заправиться), которые оставлял себе на обед. Я бы дал ему больше – не каждый день катаешься на модернизированных с таким искусством «Понтиаках», – но в карманах у меня больше ничего не было, кроме контракта с деканом Уинтером, а я сомневался, что он может как-то пригодиться моему новому знакомому.
Когда я вошел в палату, Мэгги выглядела как всегда – царственно-спокойной и бесконечно прекрасной, и я в очередной раз подумал, как мне неслыханно повезло. Иначе, чем невероятной удачей, я не мог объяснить, как мне, простому деревенскому пареньку, удалось изловить сказочную жар-птицу. «Господи, вот что такое настоящая красавица!» – думал я, садясь рядом с кроватью и беря Мэгги за руку.
И снова во мне вспыхнула надежда. Начиная с Рождества пальцы Мэгги стали более подвижными, а однажды мне даже показалось, будто она ответила на мое прикосновение легким пожатием, хотя я и не был уверен в этом до конца. Возможно, это было не сознательным действием, а лишь проявлением спинальной активности, насчет которой меня предупреждал врач: рефлекторные движения возможны, говорил он, но пусть они вас не слишком обнадеживают.
И все же я пожал руку Мэгги. Каждый раз, садясь рядом с ней на стул, я пожимал ей руку три раза подряд. На нашем тайном языке это означало «Я тебя люблю», и Мег это знала. И пока мы встречались, и после свадьбы три пожатия означали только одно – «Я тебя люблю». А тот из нас, кому пожали руку, или плечо, или колено, должен был ответить двумя или четырьмя пожатиями, что означало, соответственно, «Я тоже!» или «Я тоже тебя люблю».
Сегодня, когда я трижды пожал руку Мэгги, она ответила мне только одним пожатием. Не двумя, не тремя и не четырьмя, но это было самое настоящее пожатие, а никакое не проявление спинальной активности! Я понял это сразу, понял всем сердцем и всей душой и ни на секунду не усомнился в своей правоте. Воодушевленный, я уселся поудобнее и подробно рассказал Мэгги о предложении декана Уинтера и о том, что я решил ответить согласием. Я говорил и говорил, а сам внимательно наблюдал за Мэгги. Почти сразу я заметил, что ее глаза под опущенными веками заметались из стороны в сторону, а дыхание стало более частым. В конце концов я засмеялся – меня рассмешила мысль о том, что колледж намерен взять меня на постоянную работу, и в этот момент Мэгги еще раз пожала мне пальцы.
Какое-то время спустя в дверь кто-то деликатно – я бы даже сказал, робко – постучался. Поцеловав Мэгги в лоб, я открыл дверь и увидел Кой.
– Извините, профессор, я не хотела вам мешать, но… Мне бы хотелось с вами поговорить, если вы не против.
– Конечно, я не против, – ответил я. – Вы подождете еще пару минут?
Она кивнула, и я поправил на Мэгги одеяло, удостоверился, что ее ноги в носках, погасил свет и вышел в коридор, плотно закрыв за собой дверь. Мы с Кой отошли к кофейному автомату. Я налил себе стакан капучино и предложил ей, но она отрицательно покачала головой.
– Так что у вас за дело, Кой?
– Видите ли, профессор… – Она сняла очки и огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что нас никто не подслушивает. – Та, гм-м… справка, которую я вам дала, – она все еще у вас?
– Скорее всего, – ответил я. – Разумеется, с собой я ее не ношу. Думаю, она у меня дома, в журнале учета посещаемости. Она вам нужна?
– Не то чтобы нужна, – ответила Кой, вертя в руках очки. – Просто я хотела бы получить ее назад.
Упершись взглядом в пол, Кой ждала ответа, и я кивнул.
– Разумеется, я вам ее верну… – Я взглянул на нее повнимательнее. У нее был такой вид, словно она не спала несколько ночей подряд. – Как вы себя чувствуете, Кой? У вас усталое лицо.
– Нет, ничего. Все нормально, – ответила несколько невпопад. – Я… я только хотела спросить, можно ли мне забрать справку.
– Я принесу ее вам на следующей неделе. Мне все равно нужно в колледж, чтобы перенести ваши оценки в общую ведомость.
– А нельзя ли… – Кой несколько замялась. – Нельзя ли взять ее у вас пораньше?
– Ну, если вы сами за ней приедете…
– Приеду, – быстро сказала она.
– В таком случае… Сегодня я вернусь домой довольно поздно, зато завтра почти весь день буду дома.
– Спасибо, профессор. Я заеду завтра.
Кой попрощалась и ушла. Я допил кофе и потихоньку выскользнул из больницы через служебный вход. Мне не хотелось, чтобы Кой видела, что я иду домой пешком; она могла бы предложить меня подвезти, а этого мне не хотелось еще больше. Преподаватель и студентка в одной машине – довольно паршивое сочетание, хуже которого могли быть только преподаватель и студентка в одной постели. Если бы нас кто-нибудь увидел, мне пришлось бы долго и унизительно оправдываться, да и контракт с колледжем мог оказаться под вопросом. В конце концов, до дома было не так уж далеко, да и возвращаться пешком мне было не впервой.
Я успел отойти от больницы мили на три, когда меня нагнал Эймос. Притормозив впереди меня, он высунулся из кабины.
– Я так и думал, что это ты.
Я забрался в салон.
– Ты как раз вовремя, – заметил я. – Кажется, снова холодает. Думаю, к вечеру опять пойдет снег.
– А Аманду завтра выписывают, – сообщил Эймос. – Я встретил в универмаге пастора Джона, и он мне сказал. Завтра утром он за ней заедет.
Эймос высадил меня у поворота на мою подъездную дорожку, поэтому остаток пути мне снова пришлось проделать пешком. Подняв повыше воротник и засунув руки глубоко в карманы, я торопливо шагал по замерзшему гравию, думая лишь о том, как бы поскорее добраться до дома. Уже совсем стемнело, но, подойдя к передней веранде, я увидел, что на ступеньках крыльца сидит, обхватив голову руками, какой-то человек в солнцезащитных очках, и я вздрогнул от неожиданности и испуга.
Как и утренний курьер с письмом из колледжа, Кой похитила у меня еще три года жизни.
– Кой, это вы?
– Извините, профессор. Я не нашла, где у вас включается свет.
– Ну, часов через восемь все равно взойдет солнце, так что…
– Ага. – Она немного помолчала. – Знаете, я подумала, что лучше забрать мою… мою справку сегодня.
Она выглядела замерзшей, даже нос у нее покраснел, но мне показалось, что вовсе не холод был тому виной. Похоже, Кой недавно плакала.
– Подождите секундочку, сейчас я ее вынесу. – Я вошел в дом, включил свет на веранде, достал из журнала бумажку и снова вышел наружу.
– Спасибо, профессор. – Кой взяла у меня бумажку, и я заметил, что на этот раз она не стала снимать очки. – Я, пожалуй, поеду…
– Извините, Кой, это не мое дело, так что можете не отвечать, но… Зачем вам понадобилась эта бумажка, да еще так срочно?
– Ни за чем. Мне… мне просто хотелось, чтобы она была у меня, – пробормотала Кой, шагая к своей машине. Она припарковала ее рядом с амбаром, поэтому я и не заметил сразу. – Еще раз спасибо!..
Кой села в машину, захлопнула дверцу и медленно поехала по дорожке к шоссе.
Я посмотрел на часы. Они показывали начало двенадцатого.
Вернувшись в дом, я потрепал Блу по ушам, налил себе стакан молока и снова вышел на веранду. Прислонившись к столбу крыльца, я не спеша потягивал сладковатое, жирное молоко, мечтал и смотрел, как набирающий силу северо-западный ветер раскачивает мою кукурузу.
Давно засохшую, мертвую кукурузу.
Допив молоко, я зашел в гостиную, чтобы взять с каминной полки коробок спичек. Встав на краю поля, чтобы ветер дул мне в спину, я чиркнул спичкой о коробок и попытался поджечь ближайший ко мне кукурузный стебель. Он зашипел, затрещал и едва не погас, когда ветер дунул сильнее, но я прикрыл маленький огонек согнутыми ладонями, давая ему набрать силу. Через две минуты сухая кукуруза полыхала вовсю. Я отошел подальше и, скрестив руки на груди, смотрел, как огонь с жадностью поглощает мое поле, превращая его в гигантский, ревущий костер площадью двадцать акров.
Эймос, разумеется, сразу заметил огонь и выскочил из дома – в одних носках и с огнетушителем наперевес. Через несколько минут он уже стоял рядом со мной, тяжело дыша и уклоняясь от летевших во все стороны искр.
– Ты что, спятил? – проорал он, силясь перекричать рев и треск пламени.
Я ответил не сразу. Огонь буквально загипнотизировал меня, и я не замечал ничего, кроме пляшущих передо мной огненных языков. Наконец я очнулся.
– Нет, – сказал я, глядя, как огонь добрался до дороги и, не получая новой пищи, начал понемногу гаснуть. – Наоборот, я, кажется, начинаю приходить в себя.
Эймос только головой покачал и, поудобнее перехватив огнетушитель, потрусил обратно к своему дому.
– Идиот чертов! – бормотал он себе под нос. – Это же надо – столько учиться, и все зря! Как он только не спалил мой дом?!
Я стоял у края поля до тех пор, пока огонь не погас окончательно. Когда холод снова начал пробирать меня до костей, я вернулся домой, улегся на диван и впервые за несколько месяцев заснул в своем доме спокойным, безмятежным сном.
Глава 31
Я, кажется, уже говорил, что Центром ремонта подержанных автомобилей владеет Джейк Пауэрс. Его Центр является не только единственным в Диггере автосервисом, но и единственным местом, где автомобиль можно купить, так что в каком-то смысле Джейк является монополистом, правда, на очень маленьком рынке. Покупателям Джейк предлагает и почти новые, и подержанные легковушки, пикапы и грузовички… причем подержанных и очень подержанных намного больше. Ни одна из его машин не стои́т даже на продленной гарантии, не говоря уже о гарантии производителя.
Стоянка возле Центра всегда напоминала мне Остров потерянных игрушек[58]. И каждый раз, приезжая туда, я не переставал удивляться, как Джейку удается до сих пор удерживаться на плаву. Поистине, это было восьмое чудо света, и дело здесь вовсе не в каких-то особенных коммерческих талантах Джейка. Как мне кажется, люди покупали у него машины просто потому, что жалели самого Джейка, жалели его вечно заискивающую жену и четверых худосочных ребятишек. Мало кто задумывался, что ставка на жалость – это, скорее всего, просто удачный маркетинговый ход, а Джейк – гений рыночной психологии, способный заставить любого плясать под свою дудку.
Мой пример в данном случае более чем показателен. Я уже почти решил, что поеду в Уолтерборо и куплю нормальную, новую машину без пробега, но тут мне вспомнился рекламный плакат, на котором были изображены счастливые маленькие Пауэрсы, сидящие на коленях у мамы и папы. Чуть ниже на плакате было написано игривым шрифтом: «Приезжайте в Центр Джейка! Любая ваша покупка поможет мне прокормить семью!»
Каждому в наших краях прекрасно известно: если нужна надежная машина с фабричной гарантией, которая не подведет в решающий момент, лучше поехать в Уолтерборо. Но если вы простофиля или находитесь в стесненных финансовых обстоятельствах, тогда вам прямая дорога к Джейку. С деньгами у меня серьезных проблем не было, однако мне очень не хотелось тащиться в Уолтерборо, чтобы препираться там с продавцами в фирменных салонах. Кроме того, у Джейка находился мой грузовичок, и я надеялся уговорить бывшего одноклассника обменять мою старую машину на другую, на ходу, с небольшой доплатой. Конечно, он мог заупрямиться, но на этот случай у меня был заготовлен еще один план. Ну и наконец, одним из важнейших преимуществ ремонтно-коммерческого предприятия Джейка заключалось в том, что оно было открыто и по праздникам, а значит, в канун Нового года Джейк тоже должен был работать. В общем, я надел куртку потеплее, выбрался на дорогу и зашагал по направлению к городу.
Семь миль я преодолел довольно быстро, поскольку время от времени пускался рысцой, чтобы согреться. Два часа спустя мы с Блу уже входили на стоянку Центра.
– Привет, Джейк.
– Привет, Дилан, – ответил Джейк и, словно боясь, как бы я не передумал и не сбежал, встал между мной и воротами. – Как делишки?..
В старшей школе мы с Джейком учились в одном классе, и я знал его как облупленного. Я знал, что он соображает не так быстро, как большинство людей, что один из его мальчишек серьезно отстает в развитии, что Джейк старается хорошо заботиться о семье и именно поэтому его автосервис-автосалон открыт и в праздники, и в выходные. Впрочем, Джейк не брезгует никакой работой. К примеру, перед Рождеством большинство горожан покупают елки именно у него, потому что у Джейка они всегда свежесрубленные. Кроме того, он не станет ворчать и покажет вам столько деревьев, сколько захочется посмотреть вашей жене, а потом сам погрузит выбранную елку в кузов вашей машины и пожелает на прощание счастливого Рождества, причем сделает это совершенно искренне.
– Все в порядке, – солгал я. Мне не хотелось пускаться в подробности, да и времени было жалко. – Как там моя тачка?
Джейк сокрушенно покачал головой.
– Движку конец. Можно, конечно, поставить новый, но это обойдется слишком дорого. Овчинка выделки не стоит. Проще купить другую машину.
Именно такие речи Джейк заводил каждый раз, когда собирался продать вам какую-нибудь древнюю рухлядь со своей стоянки. К счастью, я знал, что́ у него на уме, поэтому только слушал и машинально кивал. Как я уже говорил, у меня был свой план, и я надеялся привести его в исполнение. Джейк, может быть, и хитер, но я тоже не вчера родился.
Немного наклонив голову, Джейк добавил доверительным тоном, словно делая мне одолжение:
– Есть, правда, один неплохой вариант… Если ты, к примеру, согласишься обменять свой «Шеви» на одну из моих машин, то выгадаешь больше, чем от простой продажи. Его ведь у тебя только на запчасти и купят.
– Ну допустим… Смотря что ты можешь предложить.
Он широко улыбнулся, но в его глазах, как в окошках кассового аппарата, завертелись циферки. Старина Джейк, видно, решил, что я у него в кармане. Ему было невдомек, что несколько месяцев назад я заметил в дальнем углу его стоянки грузовичок, вызвавший мой живейший интерес. Тогда, правда, не было повода его купить, но теперь, когда моя машина вышла из строя, руки у меня были развязаны.
Джейк достал из кармана рубашки затрепанную бумажку размером примерно три на пять дюймов и посмотрел на нее сквозь нижние линзы очков.
– Ну-ка, поглядим… Учитывая, что у тебя семья, тебе могло бы подойти… – Он сжал пальцами подбородок, изображая раздумье. – Тебе могло бы подойти что-то вроде этого! – И Джейк с плохо скрываемым торжеством показал на стоявший у самых ворот фургон «Крайслер», над которым колыхались на ветру несколько оставшихся от Рождества гирлянд из синих, белых и красных флажков.
Прельститься этим древним и насквозь ржавым экземпляром мог бы только полный идиот, куда больший идиот, чем я.
– А как насчет вот этой тачки? – спросил я, показывая на облюбованный мною грузовичок. – Что ты о ней скажешь?
– О какой тачке? – Джейк оторвал взгляд от своей карточки. – Ах, об этой?..
Он повернулся и вслед за мной посмотрел в дальний угол площадки, где стоял засыпанный опавшей листвой оранжевый фордовский пикап.
– Ну, Дилан, умеешь ты выбирать хорошие машины! Просто глаз-алмаз!.. – Джейк хлопнул меня по плечу и первым направился к пикапу. – Так, что тут можно сказать?.. – бормотал он на ходу. – Ф-150 1976 года, полный привод, общий пробег – около ста сорока тысяч, переборка двигателя, после капиталки прошел всего восемьсот миль. Трансмиссия и задний мост тоже новые, так что… – Он вдруг снял очки и, подслеповато щурясь, огляделся по сторонам, словно боялся, как бы его кто-то не услышал. – Вот что я тебе скажу, Дилан… Иногда я действительно продаю людям барахло, но в умелых руках этот пикап прослужит еще долго. Что я имею в виду? Кузов у него, конечно, проржавел, а сиденье заклеено скотчем, но надежность!.. – Джейк похлопал ладонью по оранжевому капоту. – Из всего, что у меня есть, это, безусловно, самый надежный аппарат!
Тут Джейк, несомненно, сказал чистую правду.
– Четырехсот шестидесятый движок немного модифицирован во время ремонта, так что я думаю, сейчас он дает около четырехсот «лошадей». – Джейк, прищурившись, посмотрел на солнце. – Для тебя это не слишком много?..
– Нет, – ответил я, скрывая улыбку. – Думаю, справлюсь.
– О’кей, что еще?.. Гм-м… Все приборы в порядке, тут можешь не сомневаться. Что касается покрышек… – Джейк пнул ногой колесо. – Они тоже почти новые. На мой вкус, правда, немного великоваты, но, поскольку ты живешь на ферме, тебе будет в самый раз. – Он положил ладонь на верх колеса, которое доходило ему до середины бедра. – Как насчет двух с половиной тысяч?
Тут Джейк явно хватил через край – должно быть, прошлый месяц был для него не слишком удачным. Пикап не стоил и полутора тысяч. Ни один вменяемый покупатель не дал бы за него больше.
За исключением меня.
Я уже открыл рот, собираясь ответить, но Джейк меня перебил.
– Нет, Дилан, ты сначала послушай… – заторопился он. – Давай сделаем так – я скину пять сотен, а с тебя возьму всего полторы, плюс твоя старая колымага. Она же теперь больше пятиста не стоит, без движка-то!.. Ну, согласен? В конце концов, мы же с тобой давние друзья!..
– Ты очень добр, Джейк. – Тут я потер руки, как человек, который что-то подсчитал и остался доволен результатом. Как хорошо, подумалось мне, что Джейк не может читать мои мысли. Я бы заплатил за полюбившийся мне пикап и пять тысяч, и даже десять. – Как насчет трех «кусков»?
Поначалу Джейк меня просто не понял.
– Ну, хорошо, Дилан, я могу сбавить до тысячи, плюс твой старый рыдван, но… – Он почесал в затылке и вскинул на меня недоумевающий взгляд. – Что ты сказал?
– Я сказал, что буду чувствовать себя неловко, если куплю у тебя этот пикап меньше чем за три «куска», – повторил я с удовольствием. – Ведь Ф-150 – это настоящая винтажная классика, и нам с тобой это хорошо известно. Ты хотел сделать мне одолжение, потому что мы с тобой знаем друг друга с детства, но я тоже не хочу обманывать старого друга. Конечно, три «куска» – это довольно много, но ведь ты не возражаешь насчет небольшой рассрочки?.. – Я хлопнул Джейка по плечу и протянул ему свои водительские права. Насчет рассрочки я сказал не просто так – большинство старых машин он продавал именно в рассрочку, иначе бы у него, наверное, вообще никто ничего не покупал.
Джейк посмотрел на меня так, словно я спятил.
– Дилан, послушай… – начал было он, но вовремя остановился и взял себя в руки. – Гм-м… ладно. Идем в контору и все оформим.
В конторе Джейк сразу сел за компьютер и занялся оформлением документов. Улыбка, появившаяся у него на губах в самом начале, постепенно становилась все шире, все лучезарнее, и я подумал, что за одно это не жаль отдать три тысячи долларов. Пикап же был лишь бесплатным бонусом к этой улыбке. Так, во всяком случае, я собирался сказать Эймосу, когда он начнет наезжать на меня за то, что я купил машину у Джейка.
– Ты не думай, Джейк, я вполне оценил твое предложение насчет двух с половиной, – сказал я, чтобы помочь ему справиться с последними сомнениями. – В конце концов, ты профессионал и прекрасно знаешь, чего стоит та или иная машина, но это на самом деле не главное. Главное, что ты всегда относишься по-человечески к тем, кто к тебе обращается. За то время, что ты работаешь в Диггере, ты сделал жителям нашего городка немало добра. Ты всегда идешь людям навстречу, если им нужна помощь, да и сейчас, на Святочной неделе…
Джейк снова прищурился, словно никак не мог взять в толк, к чему я веду.
– Ты серьезно так думаешь? – спросил он. – То есть… – Он откашлялся. – Ну да, в общем-то так и есть… Спасибо, Дилан.
– Об этом всем известно, – снова солгал я.
Какое-то время спустя Джейк закончил щелкать клавишами, распечатал готовые документы, удовлетворенно вздохнул и протянул мне ключи.
– Титул[59] я, разумеется, оставляю у себя. Я пришлю его тебе через два года, если ты не возражаешь.
– Не возражаю. Ладно, я пойду. Передавай привет детям и Лизе.
Джейк все еще был ошарашен – во всяком случае, лицо у него было такое, словно он только что увидел Элвиса. Тем не менее он кивнул, и мы вместе вышли из конторы на стоянку, где я сразу же сел в кабину оранжевого пикапа.
Наконец-то настоящий полноприводной внедорожник!
Я включил стартер, и мотор заурчал на холостых оборотах. Ах, этот звук!.. Насладиться им в полной мере может только настоящий любитель, остальным этого не понять.
Я уже собирался включить передачу, чтобы тронуться с места, когда на стоянку въехала какая-то развалюха, за рулем которой сидела пожилая чернокожая женщина. Открыв скрипнувшую дверцу, она подошла к Джейку, протягивая ему аккуратно перетянутую резинкой тонкую пачку наличных.
– Этой мой девятый платеж, мистер Пауэрс, – услышал я. – Осталось еще шесть…
Я высунулся из кабины и помахал Джейку.
– Эй, я поехал. Приятно было повидаться! Еще раз спасибо за то, что ты всегда думаешь о своих земляках. В Уолтерборо ничего подобного не дождешься.
Джейк кивнул, почесал в затылке и снова повернулся к пожилой леди.
– Вы так аккуратно вносите деньги за машину, миссис Портер! – сказал он. – Каждый месяц, получив пенсию, вы первым делом едете ко мне. Вот что я вам скажу, миссис Портер… Свои деньги на вашей машине я уже заработал, так что будем в расчете. Больше платить не надо, хорошо?
– Но, Джейк, – возразила миссис Портер, тряся головой. – Я все еще должна вам около трехсот долларов!
– Да, мэм. Двести сорок семь, если точнее. – Джейк обнял пожилую женину за плечи и повел обратно к машине. – Но это же сущий пустяк! Я считаю, вы отплатите мне уже тем, что порекомендуете мой Центр каким-нибудь вашим знакомым, которым нужна машина. – Он улыбнулся. – У вас, наверное, есть дети?..
– Дорогой Джейк!.. – подбоченилась миссис Портер. – У меня их девять, и, если хоть один из них купит машину не у вас, а в Уолтерборо, я выдеру его как сидорову козу! – С этими словами она приподнялась на цыпочки и, прижав Джейка к своей большой, отвисшей груди, поцеловала прямо в губы.
Когда я выезжал со стоянки, оба окна в кабине были открыты, и Блу, высунув наружу голову, принюхивался к потокам встречного ветра. Какое-то время спустя я включил старенький, поцарапанный приемник, и остаток пути мы проделали, прислушиваясь к музыке кантри и шороху больших вездеходных колес, остро нуждающихся в регулировке сход-развала. Я, впрочем, этого шороха не замечал, как не замечал скрипа подвески и дребезжания крыльев.
Я был влюблен.
Наверное, нам следовало бы отправиться прямо домой, но я решил иначе. Мы заехали на колонку, заправились (если бы не двойной бак, это пришлось бы делать достаточно часто), после чего я решил опробовать пикап на первой передаче. Почти сразу я понял, что Джейк не солгал и мощности моей новой машине не занимать. Какой-то талантливый механик-самоучка основательно повозился с двигателем, который работал как часы.
Вскоре мы выехали из Диггера, и я направил машину куда глаза глядят. Несмотря на холод, окна в кабине были по-прежнему открыты – нам с Блу нравилось, когда встречный ветер бьет прямо в лицо. Мэгги, будь она сейчас с нами, тоже не возражала бы – в таких вещах моя жена знала толк.
Только когда солнце начало склоняться к горизонту, я развернул машину и поехал в Уолтерборо. Мне нужны были новые сапоги, поэтому я заехал в «Вестерн уорлд» и некоторое время бродил там вдоль рядов с обувью. То, что я искал, нашлось довольно быстро: подходящие ковбойские сапоги поджидали меня на верхней полке во втором ряду и буквально упали мне в руки, когда я проходил мимо. Это были «Олейте мулскиннерз» из толстой коричневой кожи, на средней высоты каблуке, с двойной кожаной подошвой и одиннадцатидюймовым голенищем, очень похожие на те, которые Дин Мартин носил в фильме «Рио Лобо». Присев на банкетку, я их померил и понял, что мои поиски закончены. Сапоги прекрасно сидели по ноге, и я был от них в полном восторге. Правда, Мэгги они все равно бы не понравились, но это, как говорится, отдельная песня.
Я повернулся к продавцу:
– Я их беру. Нет, я не буду их снимать, так в них и пойду…
Брезгливо морща нос, продавец двумя пальцами взял мои кроссовки, положил в коробку из-под сапог и закрыл крышку, а я направился к кассе, чтобы оплатить покупку. По дороге, впрочем, я прихватил еще две пары «Рэнглеров», на что никогда бы не осмелился, будь со мной Мэгги.
Из магазина я вышел, сияя, словно деревенский дурачок, желающий выглядеть настоящим фермером. И все же я улыбался, что в последние месяцы бывало со мной нечасто. Пересекая парковку, я нарочно наступил в глубокую лужу и с удовольствием отметил, что нога даже не почувствовала холода.
Наконец я снова сел в машину, где дожидался меня Блу, и начал задним ходом выезжать с парковки. Глядя в зеркало заднего вида, я вдруг увидел в нем собственное расплывшееся в улыбке лицо и был так поражен, что остановился и некоторое время сидел неподвижно. Лишь убедившись, что в зеркале действительно я, а не какой-то другой человек, я тронул пикап с места и направился на северо-восток, в сторону Колумбии. Через несколько миль я свернул с шоссе и поехал по узким бетонным и грунтовым дорогам, соединявшим небольшие городки и поселки, выросшие в последние годы вокруг бескрайних хлопковых, арахисовых и табачных плантаций. Блу то высовывал нос в окошко, то норовил свернуться на пассажирском сиденье рядом со мной, словно никак не мог принять окончательное решение. Новые запахи будоражили его, и я догадался, что Блу никак не может взять в толк, как понимать новую машину и нового меня. Я почесал ему за ушами, и пес успокоился, улегся на сиденье, а голову положил мне на колени. Правя одной рукой – другую я выставил в окно, – я то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, чтобы снова увидеть свою улыбку и попытаться к ней как-то привыкнуть. Если бы Мэгги была сейчас здесь, думал я, она бы тоже улыбалась. Мысль об этом поддерживала меня, отгоняя легкое чувство вины.
Вскоре стало темнеть. Мы ехали по какой-то старой дороге, состоявшей почти исключительно из ухабов и выкрошившегося бетона, когда мое внимание привлекла боковая дорога, которая мне сразу чем-то понравилась. Недолго думая, я свернул на нее и поехал по сырой, заросшей травой грунтовке, петлявшей между таких толстых кипарисов, что даже если бы я, Мэгги и Эймос взялись за руки, нам все равно не удалось бы обхватить ни один из этих гигантских стволов.
Спустя примерно милю дорога привела нас к песчаному речному берегу. Здесь я остановился и, выпустив Блу, позволил ему обрыскать кусты. Сам же я уселся, скрестив ноги, на капоте и, немного полюбовавшись новенькими сапогами, запрокинул голову и стал смотреть, как расчерченное кипарисовыми ветвями солнце медленно заходит над каким-то безымянным ручьем в богом забытом уголке Южной Каролины.
Я сидел так довольно долго, мурлыча себе под нос песни Рэнди Тревиса. Наконец солнце скрылось полностью, и в сгущающихся сумерках ветви кипарисов словно зажили собственной жизнью, приобретя причудливые, фантастические формы. Внизу, у самых колес, заскулил Блу, просясь обратно в кабину.
Пять минут спустя я уже ехал обратно к ухабистой дороге, которая должна была привести нас к шоссе. Сколько миль мы проехали за этот вечер, я не знаю, может, двести, а может, и все триста. Наша поездка длилась почти шесть часов, но для меня вечер пролетел как одна минута. В Диггере так бывает: для некоторых людей время просто останавливается.
Когда мы вернулись в городок, шел уже десятый час. Вечер был темным, холодным и ясным, и мне казалось, я мог бы не вставать из-за баранки еще дня три, к тому же в моей голове крутилось пять или шесть хороших песен, которые помогли бы мне скоротать время до утра.
Сворачивая на свою подъездную дорожку, я рассмеялся. Мне пришло в голову, что Мэгги возненавидела бы мой пикап с первого взгляда, ведь он служил вещественным воплощением всего, что описывается в толковых словарях под рубрикой «неотесанный». И в то же время я не сомневался, что Мэгги была бы рада моей радости.
Обогнув дом, я припарковался рядом с амбаром и подставил под двигатель старый жестяной таз, чтобы убедиться, что из картера не подтекает масло. Несмотря на то что двигатель был отремонтирован, сам автомобиль был достаточно старым, а все без исключения старые автомобили жрут масло, как я не знаю кто. Я, впрочем, не считаю это недостатком или неисправностью – это просто часть их языка. Стоит поездить на таком старичке достаточно долго, и ты начнешь понимать этот язык и даже говорить на нем.
Опуская задний борт, я услышал позади себя легкие шаги.
– Что это такое? – спросил Эймос, показывая на мое оранжевое чудо.
– Это, – ответил я, любовно похлопывая ладонью по борту, – счастье. Счастье как оно есть.
Эймос сдвинул бейсболку на затылок и окинул мое приобретение скептическим взглядом.
– Уж не у Джейка ли ты его приобрел? – поинтересовался Эймос.
– Именно у него, – подтвердил я, любовно проводя ладонью по ржавым пятнам на выгоревшей оранжевой краске.
– И сколько ты за него отдал? – Эймос подбоченился, и его глаза опасно блеснули.
– Не твое дело. Скажу только, что Джейк обошелся со мной по-честному, и я согласился выплачивать ему стоимость машины ежемесячно в течение ближайших двух лет.
– Дилан… – Эймос склонил голову набок. – Что-то мне подсказывает, ты заплатил этому хорьку даже больше, чем он запросил.
– С чего ты взял, что я способен на подобную глупость? – делано удивился я.
– Я скажу, только сначала ответь на мой вопрос.
Я заглянул в кузов.
– Нет. Подробности сделки – это наше с мистером Пауэрсом частное дело. И я не имею права их разглашать, – закончил я твердо.
– Все ясно, – спокойно констатировал Эймос. – Дилан, ты туп как пробка, вот что я тебе скажу! – С этими словами он повернулся и, не переставая качать головой, зашагал по подъездной дорожке прочь, а я зашел в дом, взял пару бубликов и банку с арахисовым маслом, а потом вернулся во двор и уселся в кузове пикапа, куда ко мне тотчас вскочил Блу.
Когда от арахисового масла остались одни воспоминания, я снова вернулся в дом и приготовился ко сну, то есть снял свои новенькие джинсы, оставшись в одних боксерах. Потом я растопил камин, и мы с Блу, устроившись рядом, стали смотреть на огонь. Ему это очень нравилось, мне – тоже, поэтому в последнее время мы частенько предавались этому приятнейшему занятию. Тепло и игра огненных языков почти убаюкали меня, когда я вдруг сообразил, что неплохо было бы просмотреть почту. Снова одеваться мне было лень, и я, наплевав на холод, вышел из дома в одних трусах. Все равно, думал я, здесь меня никто не увидит. Курьер был прав: наши края – настоящая глушь, захолустье, тмутаракань.
Открыв почтовый ящик, я пошарил внутри и совершенно неожиданно вытащил два конверта. Вернувшись на подъездную дорожку, я поднес их к свету фонаря над крыльцом. На первом письме мне бросилась в глаза фамилия отправителя – Тентуистл. Торопясь, я вскрыл конверт, чувствуя, как волосы у меня на затылке встают дыбом, а по рукам бегут мурашки. Этого письма я ждал, но, вопреки всему, надеялся, что оно не придет, потому что ясно понимал: я не смогу оплатить больничные счета Мэгги иначе как заложив ферму. Разворачивая вложенный в конверт листок бумаги, я приготовился к худшему.
«Уважаемый мистер Стайлз!
Сообщаю Вам, что на текущий момент счет за услуги по уходу за Вашей женой миссис М. Стайлз составляет 227 753 доллара и 87 центов…»
Величина выставленной в счете суммы меня просто ошеломила, и в течение нескольких секунд взгляд беспомощно перебегал с бабушкиного дома на Папины поля и обратно. Я знал, что со всем этим мне теперь придется расстаться, но смириться с этой мыслью никак не мог. Заложить ферму не проблема, но выплатить все, причитающееся по закладной, мне будет не под силу. Похоже, думал я, моя жизнь вот-вот переменится к худшему. Уже переменилась…
И я стал читать дальше.
«…Я рад также уведомить Вас, что на днях ваш счет был полностью оплачен анонимным спонсором, который потребовал, чтобы впредь все счета по уходу за миссис М. Стайлз направлялись по отличному от Вашего адресу. Если я могу быть Вам еще чем-то полезен или если у Вас возникли вопросы, звоните мне в рабочее время с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных.
С уважением,
Джейсон Тентуистл.
P.S. Я искренне сожалею о произошедшем между нами недоразумении и желаю Вам и вашей супруге всего наилучшего».
Мне не потребовалось и секунды, чтобы догадаться, кто был этим «анонимным спонсором». Подобный поступок был вполне в стиле Брайса, чьи дела всегда говорили громче, чем слова. А Тентуистл-то каков!.. Похоже, парень вовсе не был таким уж самодовольным и черствым, каким я его считал.
Второе письмо было гораздо менее официальным и было адресовано «Профессору». Я узнал почерк Кой.
«Уважаемый профессор!
Завтра я уезжаю в Спелман – как мне сказали, я могу приступить к занятиям уже со следующего семестра. Никогда, никогда я не думала, что сумею вырваться из нашего болота! Впрочем, теперь, когда я уезжаю, Диггер больше не кажется мне таким уж плохим. Здесь я медленно умирала, но здесь я и жила – особенно в последнее время. Как вы правильно сказали, жить или умереть зависит только от выбора самого человека.
Еще я знаю, что вы близко столкнулись со смертью. Вы носите ее за плечами, уж простите за высокий стиль!.. Вам выпал незавидный жребий, но, несмотря на это (а может, благодаря этому), вы живете, как не живет никто из тех, кого я знала и знаю. Когда вы просто идете мимо, я буквально слышу, как что-то в вас кричит: «Я живой!» или «Сегодня я не умру!» От вас исходит невероятная энергия жизни, и большинство окружающих это чувствуют. Некоторые люди могут даже не видеть вас, но они все равно знают, что вы рядом, что вы движетесь к ним навстречу, потому что что-то в их душах непроизвольно откликается на то, что есть в вас.
Нет, как я ни старалась, мне не удалось найти правильные слова, чтобы описать эту вашу особенность. Да, вы несете людям надежду, несете любовь, но это все-таки не совсем то… Слова «любовь» и «надежда» не могут в полной мере передать то, что есть в вас, не могут описать вас, а других слов я подобрать не сумела. Быть может, ваша жена знает, в чем же ваш главный секрет. Быть может, она даже открыла бы мне его, но, к сожалению, мне так и не удалось с ней поговорить.
Ну вот я и проболталась… Да, вчера вечером я навещала вашу жену, надеюсь, вы на меня за это не в обиде. У нее в палате не было света, только мигали лампочки на кардиомониторе, и я подумала, что это и есть свет ее сердца, который указывает мне путь. Я долго сидела рядом с миссис Мэгги, держала ее за руку и плакала, плакала без конца.
Профессор, я клянусь, клянусь всем самым дорогим: если бы я могла поменяться с ней местами, я бы это сделала. Да я разделась бы и перед самим дьяволом, лишь бы чем-то помочь вам и миссис Мэгги, но, к сожалению, жизнь устроена не настолько просто.
У меня самой душа начинает кровоточить и рваться на части каждый раз, когда я вспоминаю о клинике, в которой побывала, когда я думаю о том, что́ я сделала с моей неродившейся дочкой и что́ судьба сделала с вашим сыном. Это никуда не исчезнет, никогда не забудется. В мире стало на две могилы больше, и отменить этот факт, зачеркнуть его невозможно. Его можно только оставить в прошлом, и я сумела это сделать, чтобы жить в настоящем. И все благодаря вам! Я долго носила с собой таблетки, полный флакон сильнодействующих таблеток, но не приняла их, потому что вдруг появились вы, подошли и вдохнули в меня жизнь, хотя я вовсе не хотела жить, а хотела только проглотить лекарство и уснуть навсегда.
И еще одно, профессор… Вы, наверное, об этом даже не задумываетесь, но вы познакомили меня со мной. И за это я вам тоже очень благодарна. Нам просто необходимы такие люди, которые спорят с Богом, даже оказавшись на дне глубокой канавы, потому что все остальные либо слишком боязливы, либо слишком горды. Признаюсь честно, мне не очень нравится человек, которого я вижу по утрам в зеркале, и все же я начинаю понемногу понимать: та, чьи глаза спрятаны за темными стеклами, все же стоит того, чтобы узнать ее получше.
И когда-нибудь настанет день, когда я сумею снять свои черные очки.
Ваша К.»
Аккуратно сложив письмо, я снова убрал его в конверт и только потом сообразил, что стою в трусах перед собственным крыльцом. Ноги у меня совершенно закоченели, и я поспешил вернуться к камину и к Блу. Там я снова достал письмо Кой и перечитал его еще пять раз. Когда угли в очаге подернулись серым пеплом, я сунул ноги в новые сапоги, взял с пола свой спальный мешок и вышел во двор. Сев за руль пикапа, я завел двигатель и, не зажигая фар, не спеша поехал к реке. На обрыве я остановился, вышел из кабины и, перебравшись в кузов, лег, закутавшись в спальник и прижав к себе Блу. Этой ночью я не стал считать звезды. Мои глаза были полны слез, и звезд я почти не видел.
Глава 32
Утром первого января я принял душ, а потом почти весь день просидел на веранде. Я думал, иногда дремал, раскачивался в качалке и мечтал о горохе с ветчиной и томатами, который Мэгги всегда готовила на Новый год. Я только никак не мог решить, действительно ли мне не хватает самого блюда – его запаха, вкуса или одного только предвкушения, – или же мне важнее видеть, как Мэгги в фартуке и с муко́й на лице и в волосах хлопочет в кухне у плиты. В общем, чего-то важного мне совершенно точно недоставало, и это было обидно.
Думал же я в основном о Пинки. Кому-то может показаться странным, что в первый день Нового года я размышлял о какой-то свинье, но это было именно так. Наконец я набрался смелости, встав с качалки, перемахнул через перила веранды и твердым шагом направился к амбару. Теперь или никогда, думал я, стараясь укрепить свою недавно обретенную решимость.
У входа в амбар я подобрал ведро, наполнил его кукурузой и смело подошел к загону. Как и следовало ожидать, Пинки свирепо хрюкнула и прижалась к ограде как можно дальше от входной дверцы.
– Тихо, девочка, тихо… – проговорил я, показывая Пинки ведро с кукурузой. – Похулиганила, и будет. Давай-ка лучше познакомимся с тобой поближе, не возражаешь?
Пинки фыркнула, жидко испражнилась и, движением хвоста размазав фекалии по бокам, лягнула доски задними копытами.
Не отводя от нее взгляда, я вошел в загон и, поставив ведро с кукурузой, опустился на корточки напротив свиньи.
– Сама подумай, сколько времени я тебя кормлю? – проговорил я самым миролюбивым тоном. – Три года? Четыре? И все это время я тебя не только кормил, но и всячески о тебе заботился. Посмотри-ка на этих симпатяг… – Я показал на десяток поросят из последнего помета Пинки. Они появились на свет всего две недели назад и сейчас осаждали мать в надежде добраться до ее отвислых, набрякших молоком сосков. – Это я позволил тебе обзавестись потомством. Теперь здесь полным-полно свиней, и все потому, что я кормил и продолжаю кормить всю вашу ораву, а ведь это стоит мне денег, и немалых. Посмотри хотя бы на себя! Ты же просто какой-то пылесос в свином обличье – только и делаешь, что жрешь, сколько тебе ни дай.
Я похлопал ладонью по ведру и высыпал на землю перед собой три или четыре кукурузных зернышка.
– Сегодня, – торжественно объявил я, – в наших отношениях наступает новая эра. Отныне мы с тобой будем друзьями. – Я снова похлопал по ведру. – Ну, иди сюда, потрясем ушами и потремся носами – или что там принято делать, когда человек и свинья становятся друзьями навек. Иди сюда, Пинки, я почешу тебя за ушами…
Пинки громко презрительно фыркнула, и из ее носа вылетел крупный комок слизи.
– Нет, так не пойдет, – проговорил я, вытирая лицо рукавом. – Я же тебе по-человечески объясняю: подойди поближе, и я почешу тебе не только за ушами, но и загривок, и спинку. А фыркать… фыркать на меня не надо, так ты ничего не добьешься. Иди ко мне, Пинки, и увидишь, как приятно тебе будет!
Пинки нервно метнулась в сторону, потом снова отпрянула назад, ненароком отшвырнув в сторону пару присосавшихся к ней поросят. Дети Пинки были так же грязны, как и она сама, а запах!.. Нет, подумал я, все-таки придется разориться и выложить энную сумму за мойку высокого давления. Заодно можно будет мыть и машину.
– Ладно, можешь делать, что хочешь, но предупреждаю: ты не получишь ни зернышка из этого замечательного ведра, полного сладкой, спелой кукурузы, пока не подойдешь сюда и не извинишься за то, что вела себя со мной непочтительно и грубо. – Я принялся крутить в пальцах золотистое кукурузное зерно. – И не воображай, будто ты чего-то добьешься хрюканьем и фырканьем, потому что это, как говорят мои студенты, не прокатит. У меня только одно условие: ты должна первой подойти ко мне, сам я не сделаю ни шагу. Вот подойдешь, извинишься – и лопай сколько влезет. Не хочешь?.. Ладно, я подожду, у меня полно времени. В конце концов ты проголодаешься, и тогда поговорим снова, идет?
Пинки задумчиво посмотрела на меня крошечными, заплывшими глазками и толкнула стену загона. Ее мокрый пятачок (размером с десертное блюдце) стал еще больше, а из ноздрей закапала прозрачная слизь.
– Ну что, решила? Иди же сюда! – И я вытянул вперед ладонь, на которой лежало несколько зернышек.
Пинки наклонила голову и вдруг ринулась на меня с невообразимой для такой туши скоростью, сбивая по пути с ног своих пронзительно визжащих отпрысков и разбрызгивая копытами грязь пополам с экскрементами. За доли секунды она преодолела разделявшее нас пустяковое расстояние и протаранила меня всеми своими тремястами с лишним фунтами. Ее твердое рыло врезалось мне в живот, и я полетел вверх тормашками, крепко приложившись затылком о верхнюю перекладину входной дверцы. От удара свет у меня перед глазами на мгновение померк, когда же я снова смог воспринимать окружающее, то увидел, что лежу на спине, устремив взгляд в потолок амбара.
Измазался я, разумеется, с ног до головы. Свиное дерьмо было даже у меня в волосах и, кажется, в ушах. С трудом сев, я тряхнул головой, и тут послышались какие-то звуки. Глянув в щель между планками загона, я увидел Эймоса, который, согнувшись пополам и держась руками за живот, хохотал как безумный. Его лицо сделалось из черного темно-лиловым, а из глаз ручьями текли слезы.
– Ой не могу! – задыхаясь, выкрикивал он. – Прекрати… ха-ха-ха… немедленно, иначе я ха-сейчас лопну!
Окинув его мрачным взглядом, я стряхнул с рук прилипшие к ним комки хорошо унавоженной подстилки, потом прочистил пальцами уши. Язык чесался что-нибудь сказать Эймосу, но тут мой взгляд упал на Пинки. Свинья обошла загон с гордым видом гладиатора-победителя, принимающего заслуженные поздравления от зрителей, потом подошла ко мне и… и принялась обнюхивать и облизывать мое лицо. Какое-то время спустя она подтолкнула рылом мою ногу и выкопала рядом с ней неглубокую ямку. Испустив вздох глубокого удовлетворения, Пинки улеглась в яму, а голову положила мне на бедро. Поросята тут же окружили мамашу и меня и принялись азартно толкаться, добираясь до сосков.
Эймос наконец справился с собой. Держась за стенку загона, он кое-как выпрямился и вытер с глаз слезы.
– Знаешь, Дилан, – проговорил Эймос, пытаясь отдышаться. – Ты… ты… – Тут он снова начал хихикать. – Ты знаешь, что ты весь в дерьме?
Я ответил не сразу. Почесав Пинки между ушами, я взял на руки одного из поросят и, прижав его к груди, как котенка, поднялся.
– Знаешь, Эймос, – ответил я ему в тон, – вовсе не грязь делает нас грязными.
Эймос снова вытер глаза, глубоко вздохнул, выравнивая дыхание, и сказал:
– Ладно, мистер, когда вы почиститесь – а это, как мне кажется, вам совершенно необходимо, – вам придется отложить на время ваши свиноводческие опыты и съездить в больницу. Там кое-кто очень хочет вас видеть…
Почему-то я сразу подумал о больничных бухгалтерах, врачах и прочих, от которых я пока не видел ничего, кроме неприятностей.
– Зачем это? – проговорил я, наморщив лоб. – Если они опять насчет денег, то я натравлю на них Джейсона Тентуистла. Только вчера я получил от него письмо, в котором он заверяет, что все мои счета оплачены, и… Что?!
Я испуганно посмотрел на Эймоса, который, подперев ладонью подбородок, смотрел на меня и качал головой. Его зубы на черном лице сверкали, как жемчуг, а в глазах прыгали чертики. Потом я увидел, как его нижняя губа дрогнула, и Эймос улыбнулся.
Стрелка спидометра на приборной доске пикапа словно прилипла к отметке сто миль в час. Через железнодорожные пути я перемахнул, почти не снижая скорости. На мгновение все четыре колеса машины оторвались от земли, двигатель взвыл, и я почувствовал, что лечу, но уже в следующую секунду пикап снова коснулся земли и помчался дальше по направлению к городу.
Эймос мчался за мной в полицейской «Краун Виктории». На всякий случай он включил синие проблесковые огни и время от времени кричал мне через внешние громкоговорители:
– Не спеши так, идиот чертов! Помедленнее, Дилан! Если ты разобьешься в лепешку, от этого никому лучше не будет!
Блу лежал на коврике под приборной доской и негромко поскуливал, прикрыв лапой глаза. Ему было страшновато – уже давно, а может, и вообще никогда мы не ездили с такой скоростью, но сейчас мне было не до него. Словно оранжевая молния, мой пикап взлетел на вершину холма, за которым стоял трейлер Брайса. Краем глаза я разглядел и его самого: Брайс стоял навытяжку у ворот кинотеатра и играл на волынке. Его китель был увешан медалями и орденами, лицо покраснело от усилий, но я ехал слишком быстро и не успел разобрать, что он играет.
Когда я прибыл на место, больница напоминала не то зоопарк, не то птичий базар. У входа и на лестницах толпились какие-то люди, которые о чем-то возбужденно переговаривались. Не обращая на них внимания, я вихрем взлетел по лестнице на третий этаж, но споткнулся на верхней ступеньке и проехал несколько ярдов на животе. Блу, которого я опередил, воспользовался этим и, перескочив через меня, первым ворвался в палату Мэгги, у дверей которой тоже собралась небольшая толпа. Я уже начал подниматься с натертого линолеума, когда до меня донеся звук, который я уже не чаял услышать…
Это был голос Мэгги.
Лежа на полу, я прислушивался к нему – такому знакомому и родному. Это был тот самый голос, который десять тысяч раз произносил заветное «Я люблю тебя!», который сердился («Не смей разбрасывать носки, Дилан Стайлз!») или звал меня посреди ночи на реку. Когда я слышал его в последний раз, он был исполнен муки и отчаяния. «Нет! Господи, нет!!!» – рыдала Мэгги, глядя, как врач накрывает простыней безжизненное тело нашего сына. И вот сегодня этот голос снова зазвучал во вселенной и наполнил собой мою выжженную душу.
Всего полчаса назад я жил в мире, где глициния змеилась по холодной каменной плите на могиле моего сына, тело которого истлевало глубоко под землей, среди холода и древесных корней. Я жил в мире, где ветераны Вьетнама не расставались с бутылкой в надежде забыть наконец дни, когда им приходилось натирать носы бальзамом «Викс», чтобы не чувствовать смрад мертвых тел, которые они укладывали в пластиковые мешки, в мире, где никудышный фермер погубил свой урожай, где снег коварно засыпа́л обледеневшее шоссе, где торговец подержанными машинами обирал старух, где маленькие мальчики мочились в крещальную купель, где священники раздувались от важности, как петухи, где негодяи привязывали невинных девушек к деревьям, насиловали и бросали умирать, где студенты мошенничали, а равнодушные преподаватели писали мелом на доске никому не нужные сведения, где не такие уж невинные девушки платили по 265 долларов за убийство живого существа и где самый близкий и дорогой мне человек – израненный, бездетный и безучастный – умирал в безликой палате рядовой больницы в глухом южнокаролинском захолустье. Всего полчаса назад я жил в этом унылом и безрадостном мире, пока голос Мэгги не позвал меня назад, к жизни.
Все еще лежа на полу, я огляделся и увидел вокруг себя мир, где глициния пышно цветет даже в декабре, где отставной морпех играет для друзей на волынке, где торговец подержанными автомобилями придерживает дверь для пожилой чернокожей леди, где священник погружается в воду вместе с испуганным ребенком, где студенты признаются в мошенничестве, где не невинные девушки прячут подальше квитанции из женских клиник и пишут книги, которые будут прочитаны в передаче Опры, где никудышный профессор купается в ледяной воде и сжигает засохшую кукурузу и где моя жена просыпается наконец от долгого сна и зовет меня.
Я был в мире, в котором мертвые танцуют.
В конце концов я все-таки поднялся на ноги и вошел в палату.
Она была там. Лежа на койке возле окна, она сияла, как весеннее солнышко, и ее большие карие глаза с любовью смотрели на меня впервые за много-много миллионов лет.
Тяжело и часто дыша, я не знал, куда девать руки, не знал, что́ сказать. С чего начать?.. Вдруг я уже не тот Дилан, которого она полюбила когда-то, а она – не та Мэгги? Насколько глубоки ее раны? По-прежнему ли мы – это «мы», а не два отдельных человека, каждый со своей болью и своими шрамами? Стоя посреди палаты в своих новых сапогах и испачканных в навозе джинсах, я смотрел ей в глаза и пытался понять, какой она стала и каким должен быть я. Мне хотелось, чтобы Мэгги сама сказала, кем мне быть, потому что тогда я бы сразу понял, какой стала она и, главное, какими теперь будем «мы»…
Наконец я закрыл за собой дверь, встал на колени рядом с кроватью Мэгги и увидел, как дрожат ее запекшиеся губы. Потом я взял ее за руку и снова заглянул ей в глаза, страстно желая узнать и быть узнанным.
Прошло несколько секунд, и Мэгги моргнула, слегка наклонила голову и улыбнулась мне.
Эпилог
Было уже за полночь, когда мы услышали звуки волынки. Выбравшись из постели, мы оделись и вышли из дома. В конце короткой аллеи – под дубом, где был похоронен наш сын, – стоял Брайс в полной парадной форме и со всеми регалиями. Он так яростно надувал мех, что его щеки побагровели, а на шее набухли извилистые вены. Когда мы подошли, Брайс был на середине «Все во благо моей душе».
Легкий, как вздох, ветер пронесся вдоль берега и зашуршал в ветвях над нашими головами. Светила луна, и наши вытянутые тени сбега2ли по откосу вниз и качались на темной воде.
Брайс без паузы заиграл «О, благодать!..». Эта мелодия наполнила нас, согрела, как утреннее солнце.
О, благодать, спасён тобой Я из пучины бед; Был мертв и чудом стал живой, Был слеп и вижу свет [60].Когда отзвучала последняя протяжная нота и даже эхо, отразившись от реки, затихло вдали, Мэгги подошла к Брайсу и поцеловала его в щеку. Брайс стоял неподвижно, вытянувшись по стойке «смирно»: каблуки вместе, взгляд устремлен вперед и вверх. На его парадном кителе поблескивали медали на разноцветных ленточках. Вся одежда, включая лихо заломленный зеленый берет, клетчатый килт и белоснежные гольфы с черными кистями, была чистой, тщательно выглаженной, явно надетой впервые после долгого перерыва.
Так и не сказав нам ни слова, Брайс четко повернулся и растворился в тени под дубом, а мы еще долго стояли и слушали, как протяжные звуки волынки затихают в отдалении. Наконец Мэгги тронула меня за локоть, и мы пошли к реке. Ночь была прохладной, не такой, как в прошлом году. На полпути к берегу Мэгги обогнала меня и, взбежав на обрыв, быстро сбросила джинсы и блузку. Лунный свет освещал ее стройную фигуру, окружая тело ярким ореолом и блестя серебром в волосах.
Зайдя в воду по пояс, я как загипнотизированный смотрел на нее. Я был околдован, очарован видом этих стройных лодыжек, гибкой талии и изящных плеч. Вот Мэгги подняла руки, приподнялась на цыпочки и ласточкой сорвалась с обрыва. Она вошла в воду в нескольких футах от меня в облаке сверкающих, как драгоценные камни, брызг, и поднятые ею волны заплескались возле моего живота.
Через секунду Мэгги вынырнула, черная речная вода стекала по ее волосам и по лицу, на котором играла нежная, лукавая улыбка.
Над нашими головами пронеслась небольшая стая уток-каролинок – пронеслась и исчезла за темными верхушками кипарисов. Где-то вдали тоскливо и монотонно кричала сова. Еще дальше вниз по реке, где-то на краю болот Сокхатчи, коротко и звонко пролаяла енотовая гончая, а с юга доносилось согласное и торжественное, исполненное радости пение, которое плыло над тонким шпилем церкви пастора Джона, поднимаясь все выше к ясному ночному небу. Прислушиваясь к этой мелодии, мы с Мэгги медленно плыли вдоль берега, и эхо далеких голосов окутывало нас, словно теплый летний дождь. В эти блаженные минуты у меня было только одно желание, одна просьба:
– Боже, дай мне прожить с этой женщиной еще шестьдесят два года!..
Благодарности
Эту книгу я задумал в декабре 1995 года. Я как раз ехал по тоннелю Хамптон-Роудс, держа путь в один из терминалов Единой службы доставки, где работал тогда на утренней погрузке посылок. Рождественский сезон уже начался, поэтому моя смена начиналась в три часа утра – или ночи, это как посмотреть. Выехал я с большим запасом, поэтому очень старался не думать о том, что приеду на работу слишком рано.
Одновременно с работой в Службе доставки я еще учился в магистратуре. Совмещать одно с другим было нелегко, поэтому, стараясь сохранить как можно больше сил для учебы, я так долго не давал воли своей писательской страсти, что сюжеты, которые подспудно бурлили во мне все это время, в конце концов взбунтовались и начали без моего ведома всплывать на поверхность, точно сливки на молоке.
Здесь я должен сделать небольшое отступление. Дело в том, что мой опыт обучения в магистратуре был поистине уникальным – порой мне казалось, что по мере того, как я продвигаюсь в изучении тех или иных наук, передо мной одна за другой вспыхивают мощные электрические лампочки, которые освещают мой путь, делают его более определенным и ясным. Этот опыт я не променял бы ни на что на свете. Мой последипломный курс оказался столь увлекательным и интересным благодаря главным образом трем людям, перед которыми я до сих пор чувствую себя в долгу. Это Дуг Тарпли, Майкл Грейвз и Боб Шихль. Спасибо вам, парни, что не погнушались новичком и невеждой и приняли меня как равного. Снимаю перед вами шляпу!
Итак, я ехал через тоннель, когда мне стало ясно, что больше сдерживаться не могу. Многие из вас наверняка помнят школьные уроки, на которых вы лепили из пластилина макет вулкана, а потом заставляли его извергаться, насыпая в отверстие соду и наливая уксус. Примерно то же самое произошло и со мной, когда я достиг середины тоннеля. Совершенно неожиданно передо мной возникла фигура мужчины, который стоял на дне заснеженного оврага и грозил кулаком Небесам. Я сразу понял, что этот человек страдает от одиночества, что он промерз до костей, что сил у него почти не осталось и держится он лишь чудом. Примерно так, думаю, чувствовал себя Робинзон Крузо после кораблекрушения – одинокий, всеми покинутый, он отчаянно нуждался в Пятнице, который один мог спасти его с необитаемого острова.
Роман «Моя любовь когда-нибудь очнется» вырос из этого мимолетного утреннего виде́ния (или, возможно, галлюцинации). В своих последующих поездках по проселочным дорогам в южнокаролинской глуши я увидел очень красивую девушку и случайно узнал, что ее зовут Мэгги. Там же я познакомился с довольно привлекательным чернокожим полицейским, который выглядел как Мистер Пропер с шерифским значком. Из тех же краев попала в роман и хорошо мне знакомая старая ферма под ржавой жестяной крышей.
Как и в случае с другими моими ранними романами, путь от замысла к рукописи оказался довольно тернист и извилист, он изобиловал тупиками, промоинами, светофорами и прочими препятствиями, которые приходилось огибать. Порой же мне и вовсе казалось, что я двигаюсь в обратном направлении. Да, я работал много – и по утрам, и поздно вечером, и в любую свободную минутку, но это не главное – многие писатели работают еще больше. Дело тут совершенно в другом. Я прекрасно понимаю, что написал роман и вообще состоялся как писатель лишь благодаря бескорыстию окружавших меня людей, которые дали мне эту возможность и которые верили в меня и в мои силы. Без них писателя Чарльза Мартина просто не было бы, и вы сейчас не держали бы в руках эту книгу.
Не беспокойтесь, я не собираюсь возвращаться к событиям далекого детства, которые привели меня на писательскую стезю. Но ведь надо же с чего-то начинать, верно? И уместнее всего будет начать с выражения моей глубочайшей признательности Джону Дайсону – одному из самых лучших, самых тонких писателей, каких я когда-либо встречал. Тогда он работал для «Ридерс дайджест». За три десятка лет Джон написал около ста шестидесяти статей и больше двадцати книг. Стоит только раскрыть любую из них, как вам тотчас станет ясно, что он – писатель из писателей, настоящий мастер, волшебник слова и к тому же превосходный моряк. Не стану утомлять вас подробностями, скажу лишь, что Джон Дайсон очень помог мне в работе над первым произведением. Как ювелиры плавят в тигле серебро, чтобы очистить его от примесей, точно так же Джон работал со мной. Признаюсь, это был довольно болезненный процесс – особенно для моего самолюбия, однако Джону все же удалось показать мне, как должно выглядеть и – самое главное – как должно звучать настоящее художественное произведение. Как-то в самом начале нашей совместной работы он сказал мне: «Знаешь, Чарли, редактор – это человек, который ходит по полю недавней битвы и добивает раненых». Он был прав, конечно; я, во всяком случае, очень хорошо представлял себе Джона с ружьем, стволы которого раскалились от беспрерывной стрельбы. Впрочем, в моем случае это чаще всего оказывалось только полезно. Словно лилипут в стране великанов, я стоял одной ногой на широком плече Джона – единственном месте, откуда мне могла открыться панорама настоящей литературы. Спасибо, Джон, за то, что дал мне возможность видеть дальше собственного носа, за то, что позволил мне нашептывать тебе на ухо свои глупые, часто повторяющиеся вопросы, за которые любой другой человек давно бы стряхнул меня на землю.
Другой ногой я опирался на плечо Дэвиса Банна, который оказал мне помощь несколько иного рода, когда примерно два года назад я оказался в тупиковой ситуации. Закончив свою первую книгу, я, как и положено писателям, купил «Справочник автора» и разослал рукопись всем агентам и издателям, которые только упоминались в этой книге (эта затея, включавшая распечатку рукописей плюс почтовые расходы, обошлась мне почти в две сотни). Довольно скоро мой почтовый ящик начал распухать от писем, написанных в крайне любезных выражениях, но содержащих столь категоричный и решительный отказ, что я просто перестал выходить за почтой. В течение следующих восьми месяцев в ящик заглядывала исключительно Кристи, которая, обнаружив среди рекламы очередное издательское или агентское письмо, просто клала его передо мной на стол и, поцеловав меня в щеку, сочувственно говорила: «Имей в виду, Чарли, для меня ты все равно самый лучший писатель».
А потом случилось так, что Дэвис Банн, написавший, кстати, шестьдесят с лишним отличных романов, пришел на какой-то полуофициальный прием в Вашингтоне. Там его припер к стенке мой дед – человек крайне доброжелательный, но не терпящий отказов. Дэвис хотел было уклониться, но, преследуемый моим дедом по пятам, в конце концов уступил, сделав для меня исключение из своего правила никогда не читать первых романов начинающих писателей. Несколько дней спустя он пригласил меня на ленч. В ресторане Дэвис угостил меня сэндвичем, сделал пару коротких телефонных звонков и вообще всячески меня поддержал.
Именно это мне и было нужно. Когда я вернулся домой, меня уже ждали два электронных послания и одно голосовое сообщение с просьбой прислать рукопись для ознакомления. Через неделю у меня появился агент. А еще через полтора месяца у меня уже был издатель.
Разумеется, окажись моя рукопись слабой, никуда не годной, ничего этого у меня не было бы, но и Дэвис мне тоже помог, отворив дверь, в которую я столько времени бился головой. Быть может, за ленчем он разглядел поредевшие волосы у меня на макушке, и это напомнило ему о его собственном юношеском опыте.
Впоследствии мы встречались еще несколько раз, и Дэвис, будучи настоящим профессионалом, поделился со мной многими секретами писательского ремесла. Он научил меня ориентироваться в океане книжного рынка и подсказал, что нужно делать, когда налетит шторм, а это, предупреждал он, случится обязательно, и не один раз. Спасибо тебе, Дэвис, за науку, за дружбу, за человеческое отношение и за то, что когда-то ты поступился ради меня своими принципами.
Кстати, именно Дэвис привел меня однажды в кабинет подлинного государственного деятеля и патриарха книжного бизнеса Сили Йейтса, а тот, в свою очередь, познакомил меня с одним из своих «молодых псов», которого звали Крис Фирби. Крис прочел мой роман за выходные и позвонил мне в понедельник. «Чарльз, – сказал он, – я готов помочь вам опубликовать эту книгу».
Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя после этого звонка (а мои соседи, боюсь, не оправились до сих пор – так я вопил). Крис сделал несколько замечаний по тексту, я внес необходимые изменения, и через полтора месяца издательство «Томас Нельсон» предложило издать мою книгу.
Крис, ты мой лучший советчик, мой камертон, мой союзник и друг!
От Криса моя рукопись попала к одному из редакторов «Нельсона» по имени Дженни Баумгартнер. Прочитав рукопись, Дженни пригласила меня на завтрак в крошечный ресторанчик в Нэшвилле, где подают фантастически вкусные блинчики из гречневой муки. Мы разговорились, и вскоре после этого «Нельсон» приобрело права на мою книгу, а Дженни стала моим редактором и – что еще важнее – моим адвокатом в издательстве. У Дженни превосходный литературный вкус; она не только умеет взять хорошую вещь, немного подумать и сделать ее еще лучше, но и вполне способна объяснить, почему хочет изменить то или иное место, так просто и доступно, что ее может понять и писатель. Дженни работает не одна, поэтому я выражаю свою благодарность не только ей, но и ее ближайшим помощникам Джонатону Мерку, Майку Хайатту и Аллену Арнольду, а также всем тем людям, начиная от верстальщиков и кончая менеджерами по продажам, которых я никогда не видел, но которые честно и самоотверженно трудились, чтобы моя книга увидела свет.
Я считаюсь писателем уже восемь лет, и все это время моя семья и мои друзья помогали мне, с одной стороны, не утратить перспективу, а с другой – не попасть в комнату с обитыми резиной стенами. Я приношу свою горячую и искреннюю признательность Джонни и Дейву – моим братьям не только по крови, но и по жизни. Каждый раз, когда я падал и расшибал коленки (а я имею в виду не только детство), вы всегда помогали мне подняться, отряхнуться и снова застегнуть на голове шлем. Я благодарен и вашим женам – моим невесткам, которые всегда поддерживали меня и не отрекались, когда я признавался, что пишу книгу. Спасибо моим сестрам Грейс, Энни и Берри за то, что они читали мои черновики и хвалили, даже когда моя писанина никуда не годилась. Лгать, конечно, нехорошо, но эта ложь помогала мне не разочароваться в своей способности написать что-то путное. Так держать, сестренки!
Еще я хочу сказать «спасибо» моим деду и бабке. Когда вы впервые попросили меня дать вам почитать мой роман, я боялся, что он покажется вам глупым и вы скажете: «Столько учиться, и все ради того, чтобы написать такую ерунду?!» Но вы ничего такого не сказали, больше того, вы стали моими самым горячими и преданными поклонниками. К тому же, если бы в свое время вы не загнали в угол Дэвиса Банна, то где бы я сейчас был?
Мама и папа! Спасибо вам за ваши жертвы, за то, что любите друг друга, за то, что вы не только научили меня на всех парах мчаться к цели, невзирая на препятствия и опасности, но и позволили реализовать это умение на практике.
Спасибо и нашим с Кристи детям – Чарли, Джону Т. и Ривзу, – которые постоянно были рядом, которые путались под ногами, хватали меня за штанины и просили то покидать мяч в саду, то сходить на рыбалку, то построить за́мок из кубиков «Лего», то устроить борцовский матч. Все это было мне необходимо. Я нуждаюсь в этом даже сейчас и буду нуждаться всегда. Спасибо вам за то, что вы молились о моих книгах. То, что они вышли в свет, я считаю неопровержимым доказательством того, что Бог не только слышит нас, но и отвечает на наши молитвы – и вы трое имеете к этому самое прямое отношение.
Кристи… Что тебе сказать? Честно говоря, я здорово вымотался, пока писал. А ты? Как насчет небольших каникул? Ты их заслужила куда больше, чем я. Давай поедем куда ты захочешь, вот только сначала нужно погасить перерасход по кредитке. Порой мне бывает очень трудно понять, как ты ухитрилась сохранить здравый рассудок. Десять лет брака, магистратура и трое сыновей способны свести с ума кого угодно, но ты осталась такой же, как была, и это – истинное чудо. Многие читатели спрашивают, как я создавал Мэгги, но никакого секрета тут нет, потому что ее прототип всегда был рядом: он ходил по нашим комнатам, работал в саду, укладывал спать наших сыновей и рассказывал им сказки, нашептывал мне на ухо приятные слова, держал меня за руку и подталкивал под зад коленом, если я начинал лениться. Спасибо тебе, Кристи, за то, что ты верила в меня, надеялась и мечтала вместе со мной. Это тем более удивительно, что, запутавшись в персонажах или застряв в очередном сюжетном тупике, я часто бывал недостоин твоей любви.
Господи! Что я могу сказать такого, чего Ты еще не слышал? Благодарю Тебя за эту книгу, за людей, которых Ты послал на помощь мне, за то, что Ты не побрезговал таким, как я. Вот уж воистину, «…чаша моя преисполнена»…[61]
Ч. М.
Примечания
1
Гаражная распродажа – дешевая распродажа ненужной домашней утвари. Обычно организуется в выходной день перед воротами гаража или в самом гараже. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Келлер, Хелен – американская писательница и общественный деятель. В младенчестве она ослепла и оглохла, но научилась читать и писать благодаря свой няне Энни Салливан.
(обратно)3
Воппер – фирменное название нескольких видов многослойного гамбургера с одной или двумя котлетами.
(обратно)4
У американской киноактрисы Бетти Дэвис действительно были очень необычные «рыбьи» глаза. В 1982 г. кантри-исполнительница Ким Карнс даже посвятила глазам Дэвис отдельную музыкальную композицию.
(обратно)5
«Пайн-сол» – фирменное название чистящего и дезинфицирующего средства.
(обратно)6
Ранингбэки – игроки, находящиеся перед розыгрышем за линией схватки. Их задачей чаще всего является получение мяча из рук квотербека и проход с мячом как можно большего количества ярдов по направлению к зачетной зоне соперника.
(обратно)7
90° по принятой в США шкале Фаренгейта соответствуют примерно 32 °C.
(обратно)8
Профессиональный колледж, колледж низшей ступени – государственный или частный колледж с двух- или трехлетним сроком обучения, по окончании которого выпускнику присваивается квалификация младшего специалиста.
(обратно)9
Вилли Нельсон – американский композитор и певец, работающий в стиле кантри.
(обратно)10
«Придурки из Хаззарда» – американский телесериал, который транслировался по телевидению с 1979 по 1985 г. Сериал повествует о приключениях двоюродных братьев Бо и Люка Дьюков, проживающих в вымышленном округе Хаззард, штат Джорджия, и использующих в качестве средства передвижения «Додж Чарджер» 1969 года выпуска с изображением флага Конфедерации на крыше. На протяжении фильма они занимаются перевозкой самогона и избегают различных ловушек, расставляемых на их пути коррумпированным комиссаром полиции и его союзником шерифом.
(обратно)11
Джей Ар Юинг – одно из главных действующих лиц телесериала «Даллас». Открытый финал второго сезона под слоганом «Кто стрелял в Джей Ара?», когда неизвестное лицо стреляло в героя, обеспечил третьему сезону показа «Далласа» рекордное количество телезрителей.
(обратно)12
Библейский пояс – регион в Соединенных Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Ядром Библейского пояса традиционно являются Южные штаты.
(обратно)13
Каролинская утка, или каролинка – птица из семейства утиных с ярким, роскошным оперением, близкая родственница азиатской мандаринки. Населяет мелкие тенистые лесные водоемы, гнездится в дуплах лиственных пород деревьев.
(обратно)14
Единая служба доставки посылок – транснациональная корпорация, предоставляющая услуги экспресс-почты.
(обратно)15
В США сухая сосновая хвоя широко используется в качестве натурального удобрения, а также для мульчирования почвы.
(обратно)16
«О, благодать!» – христианский гимн, написанный английским поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном (1725–1807), который получил широкую известность как раскаявшийся грешник. Стихи гимна утверждают, что прощение и искупление возможны, несмотря на грехи, благодаря Божьей милости.
(обратно)17
Ок. 37 °C.
(обратно)18
Знаменитые американские исполнители музыки кантри и других сходных стилей.
(обратно)19
Брюс Спрингстин – американский рок- и фолк-музыкант, автор песен. Стал известен благодаря своим рок-песням с поэтичными текстами, основной темой которых является его родина, Нью-Джерси.
(обратно)20
Пурпурное сердце – военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника.
(обратно)21
По традиции в США при отдании воинских почестей горнист играет на похоронах сигнал «Гасить огни» («Отбой»).
(обратно)22
Умпа-лумпы – маленький народец из выдуманной страны Лумпаландии; действуют в фильме «Чарли и шоколадная фабрика».
(обратно)23
Корнербек – угловой прикрывающий защитник в американском футболе.
(обратно)24
Бег на 40 ярдов – тест, проводимый в американском футболе для оценки скорости игроков. 40 ярдов равняются 36,58 метра. Хорошим результатом является время менее 4,5 секунды.
(обратно)25
«Кимбер» – американская фирма, которая выпускает полицейские модификации армейских пистолетов «кольт» 1911 г.
(обратно)26
Здесь и далее имеется в виду, вероятно, можжевельник виргинский, который также называют красным кедром.
(обратно)27
30° по шкале Фаренгейта равняется примерно –1 °C.
(обратно)28
«Весенний пикник» – ежегодная встреча студентов университетов, исторически предназначавшихся для чернокожего населения. Проводится в Атланте во время весенних каникул (третья неделя апреля).
(обратно)29
«Волшебные пальцы» – популярное в 1970–1980 гг. устройство (вибромотор с монетоприемником), изобретенное Джоном Хотеллингом. Вибромотор мог присоединяться к кровати почти любой конструкции, поэтому его часто устанавливали в дешевых мотелях.
(обратно)30
Национальная футбольная лига – высшая лига в профессиональном американском футболе. Состоит из двух «конференций» – Американской и Национальной. В каждой существуют три отделения: Восточное, Центральное и Западное. В составе каждого отделения играют по четыре-шесть команд.
(обратно)31
Скаут – в профессиональном спорте человек, который занимается сбором информации, наблюдением, разведкой и вербовкой спортсменов для своего клуба. Некоторые скауты специализируются на поиске юных спортсменов – потенциальных будущих звезд; другие ищут уже известных профессионалов, которые не могут закрепиться в какой-то команде и постоянно переходят из клуба в клуб.
(обратно)32
«Ривердэнс» – ирландское танцевально-акробатическое музыкальное шоу, с успехом гастролирующее по всему миру.
(обратно)33
Остров Эллис – небольшой остров в заливе Аппер-бей близ Нью-Йорка, к югу от южной оконечности Манхэттена. В 1892–1943 гг. – главный центр по приему иммигрантов в США. В начальный период колонизации был излюбленным местом отдыха у первых голландских поселенцев. Использовался также как пересыльный пункт и лагерь для депортации, за что был прозван иммигрантами «островом слез». С 1965 г. стал частью Национального памятника «Статуя Свободы». В 1990 на острове открылся Музей иммиграции.
(обратно)34
Ок. 37 °C.
(обратно)35
В американском футболе игра длится 60 минут и делится на четыре пятнадцатиминутных периода – четверти.
(обратно)36
Ок. –5 °C.
(обратно)37
«Винчестер М-61» – многозарядная малокалиберная винтовка калибра.22.
(обратно)38
То есть 5,1 кг.
(обратно)39
1 Кор. 13, 13: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
(обратно)40
Ок. –7 °C.
(обратно)41
День благодарения – национальный праздник, ежегодно отмечаемый в США в четвертый четверг ноября. Дни с четверга по воскресенье считаются нерабочими.
(обратно)42
На самом деле Вилли Вонка сам цитирует пьесу Шекспира «Венецианский купец» (пер. Б. Мандельштама).
(обратно)43
Приз Хайсмана – награда самому яркому игроку, вручаемая по итогам регулярного сезона Национальной ассоциации студенческого спорта США. Трофей был создан в 1935 г. для вручения самому ценному игроку Восточного Миссисипи. Позже он стал более универсальной наградой, вручаемой специальной комиссией теперь уже любому игроку в колледж-футболе.
(обратно)44
«Самородок» – спортивная мелодрама, вышедшая на экраны в 1984 г. Действие полностью вымышленной истории происходит в США в 1920–1930-е гг. Главный герой наделен выдающимися способностями питчера, хотя никогда не тренировался. В 19 лет талантливый новичок пытается пробиться в профессиональную команду, но таинственная попутчица в поезде оказывается охотницей за спортсменами-звездами, и герой надолго выбывает из большого спорта. Прошло 15 лет. Герой делает вторую попытку попасть в состав команды «Нью-Йоркские рыцари». Благодаря редким способностям и несмотря на возраст, он проходит в основной состав команды. Перед решающим матчем владелец команды, заинтересованный в ее проигрыше, подсылает герою соблазнительницу, но подруга детства появляется вовремя, чтобы вернуть его в большой спорт.
(обратно)45
Гленн Клоуз – американская актриса, сыгравшая в фильме «Самородок» подругу детства главного героя.
(обратно)46
Ок. –5 °C.
(обратно)47
Ранчо-пансионат, или ранчо для отдыхающих – ранчо, превращенное в место отдыха в отпускной период. Одно из главных развлечений – верховая езда, а также вечера у костра и жарение мяса на открытом воздухе.
(обратно)48
«Джи-Кью» – ежемесячный мужской журнал о моде и стиле, бизнесе, спорте, здоровье, путешествиях и прочем.
(обратно)49
Спелман-колледж – четырехлетний женский колледж искусств в составе Университетского центра Атланты (Джорджия).
(обратно)50
Средство для прочистки канализации.
(обратно)51
«Хороший, плохой, злой» – итальянский вестерн (спагетти-вестерн) режиссера Серджо Леоне. Именно этот вестерн, по некоторым оценкам, считается лучшим вестерном в истории кинематографа.
(обратно)52
Ок. 4 °C.
(обратно)53
То есть ок. –2, –3 °C.
(обратно)54
Марта Хелен Стюарт – американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству.
(обратно)55
Ок. –3 °C.
(обратно)56
Доза (единица) крови – количество донорской крови, содержащейся в одном контейнере для трансфузионно-инфузионной терапии. Обычно – от 300 до 500 мл.
(обратно)57
Ок. 30 °C.
(обратно)58
«Олененок Рудольф-2: Остров потерянных игрушек» – музыкальный мультипликационный фильм о Рождестве производства Финляндии.
(обратно)59
Титул – в частном праве документ, удостоверяющий право на владение имуществом и право собственности на имущество. В данном случае титул остался у Джейка, поскольку Дилан покупал машину в рассрочку.
(обратно)60
«О, благодать!..» – христианский гимн Дж. Ньютона, музыка народная. Перевод взят с
(обратно)61
Пс. 22, 5.
(обратно)

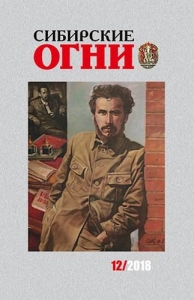


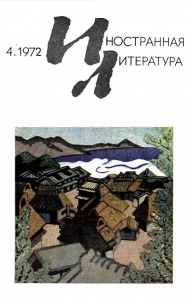

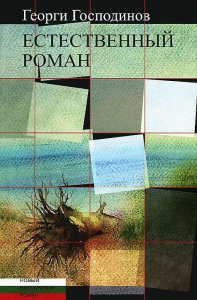


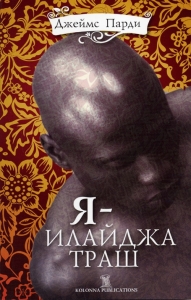
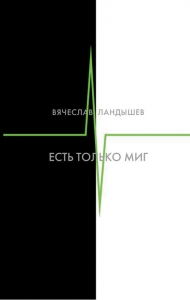


Комментарии к книге «Моя любовь когда-нибудь очнется», Чарльз Мартин
Всего 0 комментариев