Ханья Янагихара Люди среди деревьев
© 2013 by Hanya Yanagihara
© В. Сонькин, перевод на русский язык, послесловие, 2018
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Издательство CORPUS ®
***
Выдающийся роман. Захватывает целиком и не отпускает.
The Wall Street Journal
Изумительно цельная этнографическая фантазия, изумительно отвратный рассказчик. Этот дебютный роман прекрасен в каждом своем аспекте – и эстетически, и этически, и сюжетно.
Publishers Weekly
Глубокая и волнующая история приключений. Отличный повод для серьезной дискуссии о науке, нравственности и царящем ныне культе молодости.
Chicago Tribune
Такая немыслимая изобретательность, такой почти демонстративный отказ от спасения и утешения. Что же до литературного мастерства Янагихары, им можно только восхищаться.
The New York Times Book Review
Завораживает и выворачивает душу наизнанку.
Vogue
***
Ничуть не похожий на сенсационную «Маленькую жизнь», но столь же уникальный, неожиданный и пронзительный, дебютный роман Ханьи Янагихары поразил читателей и критиков. В 1950 году доктор Нортон Перина отправляется на далекий микронезийский остров, где живут люди, якобы владеющие секретом вечной жизни. Выяснить природу этого феномена ученому удается, однако его великое открытие внезапно оборачивается целой серией катастроф – экологических, социальных и персональных.
***
ПРОСПЕРО Черт, по рожденью черт. Его природы Не воспитать. Уж сколько я трудов Благих потратил, – все пропало даром. С годами телом он все безобразней, Умом растленней. Буду мучить так, Что взвоют. «Буря», акт IV, сцена 1Перевод Михаила КузминаМоему отцу
Vom Vater… Lust zu fabulieren
19 марта 1995 г. Известному ученому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах Ассошиэйтед Пресс
Бетесда, штат Мэриленд. Вчера по обвинению в сексуальных домогательствах был арестован Абрахам Нортон Перина, известный иммунолог и почетный директор Центра иммунологии и вирусологии Национальных институтов здравоохранения в г. Бетесда, штат Мэриленд.
Д-ру Перине 71 год. Ему предъявлены три обвинения в изнасиловании, три обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего лица, два обвинения в посягательстве сексуального характера и два обвинения в поставлении в опасность несовершеннолетнего. Обвинения были выдвинуты одним из приемных сыновей д-ра Перины.
«Это ложные обвинения, – заявил вчера адвокат Перины, Дуглас Хиндли. – Д-р Перина – видный и уважаемый член научного сообщества; он стремится к тому, чтобы разрешить эту ситуацию как можно скорее и вернуться к своей работе и семье».
В 1974 году д-р Перина получил Нобелевскую премию по медицине за обнаружение синдрома Селены, который замедляет старение. Состояние, при котором тело больного сохраняется в относительно молодом возрасте на фоне старческого угасания рассудка, было обнаружено у народа опа’иву’экэ на Иву’иву, одном из трех островов микронезийского государства У’иву. Причиной возникновения синдрома оказалось потребление мяса редкой черепахи, в честь которой д-р Перина назвал племя. Было обнаружено, что ткани черепахи инактивируют теломеразу, естественный фермент, укорачивающий теломеры и благодаря этому ограничивающий количество циклов деления каждой клетки. Люди, подверженные синдрому Селены, который назван в честь бессмертной и вечно юной богини Луны в древнегреческой мифологии, как выяснилось, могут жить с этим синдромом несколько столетий. Перина, впервые побывавший на У’иву в 1950 году молодым врачом в составе экспедиции под руководством известного антрополога Пола Таллента, провел на островах много лет, занимаясь полевыми исследованиями. Своих 43 детей он усыновил там же; многие из них были сиротами или детьми обедневших членов племени опа’иву’экэ. Некоторые из детей находятся на попечении Перины по сей день.
«Нортон – образцовый отец и выдающийся мыслитель, – заявил д-р Рональд Кубодера, исследователь, давно работающий в лаборатории Перины и один из ближайших друзей ученого. – Я нисколько не сомневаюсь, что эти нелепые обвинения будут сняты».
3 декабря 1997 г. Известный ученый, лауреат нобелевской премии, приговорен к тюремному заключению Рейтерс
Бетесда, штат Мэриленд. Доктор Абрахам Нортон Перина был приговорен сегодня к двухгодичному тюремному заключению в исправительной колонии Фредерик.
Д-р Перина получил Нобелевскую премию в 1974 году, доказав, что потребление мяса ныне вымершей черепахи, обитавшей в микронезийском государстве У’иву, инактивирует теломеразу, которая ограничивает количество циклов деления каждой клетки. Это состояние, известное как синдром Селены, как было установлено, может передаваться целому ряду млекопитающих, включая людей.
Перина был одним из немногих представителей западного мира, получивших полный и беспрепятственный доступ к самому далекому и таинственному из островов; в 1968 году он усыновил первого ребенка из числа 43 уроженцев этой страны. Все они воспитывались в его доме в Бетесде. Два года назад Перине были предъявлены обвинения в изнасиловании и преступной небрежности в отношении ребенка; эти обвинения были выдвинуты одним из его приемных детей.
«Это огромная трагедия, – считает д-р Луис Алтшур, директор Национальных институтов здравоохранения, где много лет работал д-р Перина. – Нортон – выдающийся мыслитель, большой талант, и я, разумеется, рассчитываю, что ему будет предоставлена терапия и помощь, в которой он нуждается».
Получить комментарии от Перины и его адвоката не удалось.
Предисловие
Я Рональд Кубодера, но полное имя вы встретите только в научных журналах. Для всех остальных я Рон. Да, я тот самый доктор Рональд Кубодера, про которого вам, без сомнения, рассказывала пресса. Нет, не все эти истории правдивы – так вообще редко бывает, разумеется.
Но в моем случае самые главные из них истинны, и я ими горжусь. Горжусь, в частности, тем, что так или иначе связан с Нортоном (обратите внимание: всего полтора года не было никакой нужды специально упоминать об этом), которого я знал с 1970 года, когда начал работать в его лаборатории в Бетесде, штат Мэриленд, – в лаборатории, входившей в Национальные институты здравоохранения. Нортон тогда еще не получил Нобелевскую премию, но его труды уже перевернули медицинское сообщество, навсегда изменив взгляды ученых на вирусологию и иммунологию, как и, надо сказать, на медицинскую антропологию. Я горжусь еще и тем, что, завязав профессиональные отношения, мы вступили в не менее тесные отношения дружеские; общение с Нортоном вообще оказалось самым значительным в моей жизни. Больше всего, впрочем, я горжусь тем, что после событий последних двух лет я по-прежнему его друг, а он по-прежнему мой.
Разумеется, у меня нет возможности разговаривать и общаться с Нортоном так часто, как мне – или ему, без сомнения, – хотелось бы. Находиться в отдалении от него странно и одиноко. Вообще, до моего переезда сюда[1] почти полтора года назад – это произошло через месяц после того, как Нортону огласили приговор, – в повседневной жизни мы вряд ли провели врозь больше двух дней. И то я, возможно, преувеличиваю. (Разумеется, я не учитываю особые обстоятельства, например, отпуск с моей тогдашней женой или поездки, которые мы совершали отдельно друг от друга на разные похороны, свадьбы и так далее. Но даже в этих случаях я старался связываться с ним ежедневно, по телефону или телефаксу.) Суть в том, что разговоры с Нортоном, работа с Нортоном, жизнь с Нортоном просто была частью моей повседневности, примерно в том смысле, как многие люди ежедневно смотрят телевизор или читают газету: это один из незапоминающихся, но важных ритуалов, поддерживающих уверенность, что жизнь идет своим чередом. Но когда такой ритм внезапно ломается, это не просто настораживает – это выбивает из колеи. Именно так я ощущал то, что происходило на протяжении последних полутора лет. По утрам я просыпаюсь и занимаюсь обычными повседневными делами, но по вечерам никак не могу лечь, брожу по своей квартире, гляжу в темноту ночи, думаю, что я мог забыть. Я ставлю галочку напротив бесчисленных мелочей, которыми бездумно занимаюсь в течение каждого дня – писем, которые я прочитал, на которые ответил, сроков, которые не нарушил, дверей, которые запер, – пока наконец с тяжелым сердцем не забираюсь в кровать. Только на последнем подступе ко сну я вспоминаю, что сам образ моей жизни стал иным, и тогда меня ненадолго охватывает печаль. Я не удивлюсь, если вы решите, что к этому времени мне следовало бы принять изменение жизненных обстоятельств Нортона и, как следствие, своих тоже, но что-то во мне сопротивляется: в конце концов, он был частью моей повседневной жизни на протяжении почти трех десятилетий.
Но если моя жизнь пустынна, жизнь Нортона гораздо пустыннее. Представляя себе, где он сейчас, я не испытываю ничего, кроме гнева: Нортон человек уже немолодой, нездоровый, и тюремное заключение не кажется мне уместным или разумным наказанием.
Я знаю, что я в меньшинстве. Я потерял счет случаям, когда я пытался объяснить, что такое Нортон – какой он человечный, какой умный, какой неординарный, – друзьям, коллегам и репортерам (а также судьям, присяжным и адвокатам). За эти последние полтора года я неоднократно сталкивался с предательством его бывших друзей, видел, как быстро они могут забыть и забросить человека, которого якобы любили и уважали. Некоторые друзья – люди, которых Нортон знал, с которыми работал на протяжении долгих лет, – практически исчезли, как только против него были выдвинуты обвинения. Но те, кто оставил его после обвинительного приговора, оказались еще хуже. В этот момент я осознал всю глубину людского вероломства и лицемерия.
Но я отвлекся. Одной из главных сложностей тюремного заключения для Нортона стала борьба с отчаянным однообразием, от которого в его положении никуда не денешься. Честно говоря, я немного удивился, когда меньше чем через месяц после приговора он стал жаловаться на чудовищную скуку. Нортон всегда мечтал – я думаю, об этом мечтают многие выдающиеся, очень занятые люди – провести месяц или год в уютной тишине без каких бы то ни было обязательств. Не выступать с речами, не писать и не редактировать статьи, не обучать студентов, не заботиться о детях, не проводить исследований – одно лишь пустое и плоское пространство свободного времени, которое можно будет заполнить чем угодно. Нортон всегда описывал время как море, как зеркальное, бесконечное пространство пустоты, и эта его мечта – «морское время», как он выражался, – стала своеобразной шуткой, кодовым обозначением тех вещей, которыми он хотел бы когда-нибудь заняться, но пока что не мог найти на это времени. Он посвятил бы морское время чтению биографий. Он писал бы в морское время мемуары. Никто – это в первую очередь касалось самого Нортона – не считал, что морское время у него когда-нибудь появится, но теперь оно, конечно, есть – без теплого климата и приятного ленивого отупения, которое связывают с заслуженной тяжелым трудом праздностью. К сожалению, Нортон, судя по всему, просто не приспособлен к досугу; более того, он испытывает от него мучения (хотя, конечно, я осознаю, что это может быть в значительной степени вызвано теми неблагоприятными обстоятельствами, при которых такой досуг ему достался). В недавнем письме он говорит:
Здесь мало что удается делать, а в какой-то момент оказывается, что думать удается еще меньше. Мне никогда не приходило в голову, что я могу очутиться в таком положении – что буду вымотан до полной обескровленности, разве что дело не в крови, а в мыслях. Вот она, скука, – а я-то всегда считал, что буду бесконечно дорожить длительной пустотой, что с легкостью ее заполню. Но я пришел к выводу, что мы не в состоянии заполнять такие огромные и пустые временные блоки, мы говорим, что управляем временем, но на самом деле все наоборот: наши дни заняты, потому что крошечные промежутки времени – это все, с чем мы способны справиться[2].
Это мудрое замечание.
Несмотря на очевидную суровость обстоятельств, в каких сейчас пребывает Нортон, некоторым хватает наглости утверждать, будто ему следует с благодарностью принимать так называемое снисхождение, которым якобы отмечено его наказание. Такая точка зрения представляется не только идиотской, но и жестокой. Среди этих людей – некто по имени Герберт Уэст (имя я нехотя изменил), один из научных сотрудников, работавших с Нортоном в восьмидесятых годах. Он заехал в гости к Нортону в Бетесду по пути на конференцию в Лондон. Это случилось до процесса, но после привлечения к суду, в момент, когда Нортон оказался, по сути дела, под домашним арестом и всех детей у него отобрали. Я всегда считал, что Уэст поприличнее многих бывших сотрудников Нортона; он провел в гостях около часа, после чего предложил мне поужинать с ним в ресторане. Я не то чтобы к этому стремился (к тому же было крайне бестактно приглашать меня при Нортоне, которому никуда не разрешалось выходить), но Нортон сказал, чтобы я шел, что ему нужно закончить какую-то работу и он вполне готов остаться один.
В результате я отправился ужинать с Уэстом, и хотя мне было трудно не думать о Нортоне, который сидит в одиночестве в пустом доме, мы на удивление толково поговорили про работу Уэста, про доклад, который он собирался делать на конференции, и про статью, которую мы с Нортоном опубликовали в «Медицинском журнале Новой Англии» накануне ареста, и про разных общих знакомых, а потом, когда нам принесли десерты, Уэст сказал:
– Нортон очень постарел.
Я ответил:
– Он оказался в чудовищной ситуации.
– В чудовищной, правда, – пробормотал Уэст.
– И невероятно несправедливой, – сказал я.
Уэст не сказал ничего.
– Невероятно несправедливой, – повторил я, предоставляя ему еще один шанс.
Уэст вздохнул и промокнул уголки рта краем салфетки – это был жест одновременно фальшивый и манерный, и к тому же вызывающе и омерзительно англофильский. (Несколько десятилетий назад Уэст учился – всего два года – по стипендии Маршалла в Оксфордском университете, о чем ему с удивительной искусностью удавалось сообщить в любом научном или деловом разговоре.) Черничный пирог, который он ел, окрасил его зубы в лиловый цвет синяков.
– Рон… – начал он.
– Что? – сказал я.
– Как ты думаешь, он действительно виновен?
К тому моменту я уже научился ожидать этого вопроса и знал, как на него реагировать.
– А ты?
Уэст посмотрел на меня с улыбкой, потом уставился в потолок, потом снова перевел взгляд на меня.
– Да, – сказал он.
Я ничего не ответил.
– А ты нет, – сказал Уэст с некоторым удивлением.
Что на это отвечать, я тоже уже выучил.
– Не важно, виновен он или нет, – сказал я. – Нортон – великий мыслитель, и все остальное мне безразлично; да и истории тоже.
Повисла пауза.
Наконец Уэст застенчиво пробормотал:
– Пора закругляться. Мне до рейса еще нужно кое-что почитать.
– Хорошо, – ответил я, и мы доели десерт молча.
Мы приехали в ресторан на моей машине, и когда мы расплатились (Уэст пытался меня угостить, но я воспротивился), я отвез Уэста в его гостиницу. В машине он пытался как-то возобновить разговор, что меня еще сильнее разозлило.
На гостиничной парковке после нескольких минут напряженного молчания – выжидательного со стороны Уэста, злобного с моей – он наконец протянул мне руку, и я ее пожал.
– Ну вот, – сказал Уэст.
– Спасибо, что зашел, – сухо сказал я. – Не сомневаюсь, что Нортон это оценил.
– Ну вот, – снова сказал Уэст. Я не мог с уверенностью сказать, сумел он считать мой сарказм или нет; мне казалось, что нет. – Буду думать о нем.
Снова повисла тишина.
– Если его признают виновным… – начал Уэст.
– Не признают, – сказал я.
– Но если признают, – сказал Уэст, – он попадет в тюрьму?
– Не могу себе представить, – ответил я.
– Ну, если попадет, – не успокаивался Уэст, и я вспомнил, каким непристойно амбициозным карьеристом он был, как ему не терпелось сбежать из лаборатории Нортона и возглавить собственную, – у него, по крайней мере, будет куча морского времени, правда, Рон?
Эта наглость так меня возмутила, что я не смог ничего ответить. Пока я задыхался от негодования, Уэст мне улыбнулся, еще раз попрощался и вышел из машины. Я проследил, как он прошел через раздвижные двери гостиницы, зашел в ярко освещенный вестибюль, и тогда я снова завел двигатель и вернулся к Нортону, у которого обычно ночевал. В следующие месяцы процесс начался и закончился, потом началось и закончилось вынесение приговора, но Уэст, разумеется, Нортона больше не навещал.
Я уже отмечал, что к нынешнему положению Нортона публика относится без сочувствия. Его осудили и списали со счетов еще до того, как он был официально осужден и списан по закону коллегией якобы равных ему присяжных – каково это, обладая интеллектом Нортона, знать, что твою судьбу решают двенадцать остолопов (один присяжный, насколько я помню, работал кассиром на платной автодороге, другой мыл собак), чей вердикт делает буквально все твои предыдущие достижения несущественными, а то и бессмысленными? Если взглянуть с этой точки зрения, стоит ли удивляться, что Нортон сейчас в депрессии, что он скучает и не может вести интеллектуальную жизнь?
Я бы хотел еще сказать несколько слов о том, как освещали процесс средства массовой информации, потому что было бы глупо пренебрегать их тенденциозностью и охватом. Во-первых, с учетом природы тех преступлений, в которых обвинили Нортона, я нисколько не удивился, что газеты посвятили бесчисленные страницы обсасыванию – в деталях и с невероятным равнодушием к истине – немногочисленных фактов из личной жизни Нортона, известных широкой общественности. (Следует признать, что в этих материалах сквозь зубы сообщалось о его значительных достижениях, но только для того, чтобы еще эффектнее оттенить предполагаемые пороки.)
Я вспоминаю, как в те дни, пока Нортон ожидал суда, я вместе с ним нес вахту в его доме (а снаружи группа телерепортеров убивала время на краю лужайки перед домом, они что-то ели и болтали в гудящем, переполненном насекомыми летнем воздухе, как будто приехали на пикник), и из всех многочисленных (разумеется, проигнорированных) запросов на интервью, только одно издание – к сожалению, «Плейбой» – предложило Нортону написать материал в свою защиту самостоятельно, а не послало какого-нибудь слюнявого молодого щелкопера разбирать его жизнь и предполагаемые злодеяния на потеху читателям. (Мне поначалу казалось, что это интересное предложение, несмотря на площадку, но Нортон опасался, что любые написанные им слова будут извращены и использованы в качестве признания. Разумеется, он был прав, и идея была отвергнута.) Но при этом я понимал, как бесит и печалит его тот факт, что он лишен возможности выступить в собственную защиту.
Ирония заключалась в том, что незадолго до ареста Нортон как раз планировал засесть за мемуары. К этому времени – к 1995 году – он отчасти вышел в отставку и больше не был обременен разными административными обязанностями и лабораторной суматохой. Я не хочу сказать, что он перестал быть самым гибким и незаменимым умом на своем рабочем месте, – он просто начал думать над тем, как по-другому упорядочить предоставленное ему время.
Однако Нортон так и не получил возможности описать свою удивительную жизнь, по крайней мере в тех условиях, какие он, разумеется, предпочел бы. Но я всегда говорил, что его разум способен преодолеть любые трудности. Поэтому в апреле, через два месяца после того, как он начал отбывать наказание, я спросил его в очередном ежедневном письме, не хочет ли он все-таки заняться мемуарами. Они не только станут важным вкладом в литературу и науку, написал я, но и дадут ему наконец-то возможность показать всем желающим, что он не тот человек, каким его так стремятся изобразить. Я добавил, что сочту за честь перепечатать и, если он мне позволит, слегка отредактировать его текст, как я уже делал с разными статьями, которые он посылал в научные журналы. Для меня это будет, написал я, увлекательнейший проект, а для него – возможность немного отвлечься.
Через неделю Нортон прислал мне записку.
Не могу сказать, что мне доставляет удовольствие мысль потратить свои, возможно, последние годы на попытки убедить людей, что я не виновен в преступлениях, в которых меня обвинили, но я все-таки решил заняться, как вы говорите, «историей своей жизни». Мое доверие [к вам] [очень] велико[3].
Спустя месяц я получил первый отрывок.
Пожалуй, есть еще несколько вещей, о которых следует предварительно упомянуть, прежде чем я приглашу читателя к знакомству с удивительной жизнью Нортона. Потому что это все-таки история, в сердцевине которой кроется болезнь.
Нортон, разумеется, опишет все лучше меня, но я хотел бы сообщить читателю некоторые сведения об авторе. Однажды он сказал мне, что его настоящая жизнь началась только в тот момент, когда он впервые поехал на У’иву, где и совершил открытия, которые впоследствии преобразили современную медицину и привели к вручению Нобелевской премии. В 1950 году, в возрасте двадцати пяти лет, он отправился в малоизвестную тогда микронезийскую страну, и этому путешествию было суждено изменить его жизнь – и совершить переворот в научном сообществе. На У’иву он жил в «затерянном племени», впоследствии названном «людьми опа’иву’экэ», на острове, известном (среди у’ивцев, разумеется) как «запретный остров» Иву’иву, самый большой в той маленькой островной группе, из которой состоит государство. Именно там он обнаружил патологию – незадокументированную и доселе не известную, – распространенную среди местного населения. У жителей У’иву срок жизни был (и в значительной степени остается) недолгим. Но на Иву’иву Нортон обнаружил группу островитян, которые жили намного дольше: на двадцать, пятьдесят, даже на сто лет. Были и еще два обстоятельства, сделавших открытие особенно невероятным: во-первых, в этом состоянии люди физически не старели, но их умственные способности ухудшались; во-вторых, это состояние было не врожденным, а приобретенным.
Человек никогда не подступал ближе к вечной жизни, чем при столкновении с открытием Нортона. И вместе с тем подобная удивительная возможность никогда не исчезала так мгновенно: тайна была открыта и утрачена в течение всего лишь одного десятилетия.
Работа Нортона среди людей опа’иву’экэ отразила радикальные изменения, выходящие за рамки медицины: почти два десятилетия, которые он провел среди членов племени, породили новое направление современной медицинской антропологии, и его работы тех лет сейчас входят в основные программы многих университетских курсов.
Но и его беды тоже начались на У’иву[4]. В странствиях Нортона по У’иву произошли события, вызвавшие его непроходящую любовь к детям. Для читателей, не знакомых с местностью, следует пояснить, что Иву’иву – необычный остров, который не только очаровывает, но и подавляет своей красотой. Там всё больше, чище и невероятнее, чем можно вообразить, и в каждом направлении открываются все более картинные виды: с одной стороны – бесконечное пространство воды, такое неподвижное, такого насыщенного цвета, что на него невозможно долго смотреть; с другой стороны – длинные, глубокие складки гор, чьи вершины исчезают в пенистом тумане. С первого приезда на Иву’иву Нортон нанимал у’ивцев в качестве проводников, чтобы они вели его к тем местам и вещам, которых он никогда раньше не видел. Прошли долгие годы, и он – по их настойчивым просьбам – стал увозить с собой в Мэриленд их детей и внуков, растить их как своих собственных, давая им такое воспитание, какого они не могли получить на У’иву. Кроме того, он привез в Америку многих сирот, младенцев и детей постарше, прежде прозябавших в жутких условиях без всякой надежды на лучшую жизнь.
Он и заметить не успел, как собрал выводок из сорока с лишним детей. Многие из них, усыновленные и удочеренные тремя большими партиями на протяжении почти трех десятилетий, вернулись в Микронезию, где трудятся сейчас врачами, юристами, университетскими преподавателями, поварами, учителями и дипломатами. Другие предпочли остаться в Соединенных Штатах, где они работают или продолжают учиться. Есть, к сожалению, и третья группа; ее члены обнищали и скатились к жизни наркоманов и преступников. (Когда у тебя сорок три ребенка, нельзя ожидать, что все добьются успеха.) Но теперь, конечно, никто из них больше не считается ребенком Нортона. И Нортон, по их собственному выбору, больше не считается их родителем: это почти массовое отречение в ходе недавнего процесса оказалось просто чудовищным. Этот человек, в конце концов, дал им крышу над головой, язык, образование – те инструменты, при помощи которых они могли его предать, что в результате и сделали. Дети Нортона слишком хорошо выучили язык Запада, язык Америки; откуда-то они узнали, что обвинения в извращениях – беспроигрышный трюк, что с ними не сможет справиться даже Нобелевская премия, даже уважаемый ученый. Очень жаль; когда-то ко многим из них я питал теплые чувства.
Второе, что, наверное, следует сказать: несмотря на мой очевидный интерес к этому рассказу, это не мой рассказ. Я человек тихий. Кроме того, у меня нет желания рассказывать свою историю – разных историй в наши дни и так слишком много.
Но все же я должен сказать несколько слов о том, как составлялось и редактировалось это повествование. Моя редакторская работа в общем-то была минимальной. Надо также добавить, что каждый раздел (названия им дал я) – это серия отдельных записей, которые я получал от Нортона, пока он находился в заключении. Каждая такая запись предварялась письмом, но эти письма в основном чисто личные, и я не счел возможным включать их сюда. Текст создавался по частям, и читатель заметит, что иногда он приобретает спонтанный, нераспланированный характер, предполагающий, что читатель знаком с жизнью и трудами автора. Поскольку никто не знает Нортона лучше меня (и поскольку книга была, по сути дела, написана для меня, по моей просьбе), я счел своей обязанностью добавить сноски там, где, по моему мнению, дополнительная информация может помочь читателю разобраться в повествовании Нортона. (Иногда я добавлял свои соображения, как бы расширяя летопись Нортона. Кроме того, я бережно вырезал ряд фрагментов, которые, на мой взгляд, не обогащают повествование и не очень важны; эти пропуски не должны отвлечь читателя от созданного Нортоном автопортрета.)
И наконец, будет справедливо обратиться к вопросу, который Нортон задавал в письме еще до начала работы над первой частью: чего я надеюсь добиться этим проектом? Ответ прост: я хочу ни больше ни меньше восстановить репутацию Нортона, напомнить миру, что двум последним годам предшествовало нечто гораздо более важное, чем то, что произошло или не произошло за несколько быстротечных месяцев. Может быть, это наивно с моей стороны. Но попытаться нужно: не совершить подобное усилие ради человека, так много сделавшего для науки и медицины, было бы как минимум непростительно.
Рональд Кубодера
Пало-Альто, Калифорния
Воспоминания А. Нортона Перины Под редакцией д-ра Рональда Кубодеры
Часть I Ручей
1
Я родился в 1924 году в штате Индиана возле Линдона, небольшого и неприметного городка, который лет за двадцать до моего рождения начал тихо, но настойчиво умножаться по всему Среднему Западу. Я имею в виду, что город, как мне помнится, отличался разве что полным отсутствием характерных черт. Там были элеваторы, амбары красного цвета (большинство жителей работали на фермах), магазины, церкви, священники, и врачи, и учителя, и мужчины, и женщины, и дети – эскиз американского общества, но без украшений, без дополнений, без деталей. Были там и несколько пьяниц, и местный псих, и кошки с собаками, и окружная ярмарка, что проводилась совместно с Локастом, пригородом в нескольких милях к западу, которого больше нет. Горожане – нас было тысяча восемьсот человек – рождались, шли в школу, трудились, становились фермерами, вступали в брак с другими жителями Линдона и заводили собственные семьи. Увидев кого-нибудь на улице, ты ему кивал или – мужская версия – прикасался к полям шляпы. Менялись времена года, росли и заготавливались табак и кукуруза. Таков был Линдон.
Нас было четверо в семье: отец, мать, Оуэн и я[5]. Мы жили на стоакровом участке, в покосившемся доме с единственной интересной особенностью – массивной, некогда величественной центральной лестницей, которую поколения термитов давно превратили в кружевные руины.
Примерно в миле за домом бежал петляющий ручей, слишком маленький и поведенчески непоследовательный, чтобы как-нибудь называться. Каждой весной, в марте и апреле, после оттепели он преодолевал свою слабость и превращался в настоящую реку, набухшую и яростную от галлонов растаявшего снега и весеннего дождя. В эти месяцы сама природа ручья менялась. Он становился безжалостным и целеустремленным, с корнем срывал со своих заросших берегов крошечные звездные побеги лапчатки и тимьяна и швырял их вниз по течению, где они пропадали в недрах плотины, давным-давно построенной кем-то неизвестным. Гольяны, жившие в ручье круглый год, с боем шли вверх по течению и там тонули. Только в это время года у ручья появлялся собственный голос – возмущенный и властный рев стремительной воды, – и узкий приток, обычно такой спокойный и бесхарактерный, превращался в эти месяцы во что-то пугающее и непредсказуемое, и нам советовали держаться от него подальше.
Но в жаркие летние месяцы ручей – его исток находился не на нашем участке, а у Мюллеров, живших милях в пяти к востоку, – снова высыхал до безобидной струйки, которая испуганно пробиралась мимо нашей фермы. Воздух над ним шумел облаками комаров и стрекоз, пиявки прятались на мягком илистом дне. Мы ходили туда на рыбалку, плавали, а потом карабкались по невысокому холму к нашему дому, почесывая волдыри от комариных укусов на руках и ногах, пока они не покрывались налетом старой кожи и новой крови.
Отец никогда не спускался к ручью, но мать часто сидела на прибрежной траве и глядела, как вода плещется вокруг ее голеней. Когда мы были совсем маленькие, мы кричали ей: «Посмотри на нас!» – а она сонно поднимала голову и махала рукой, хотя именно нам помахать она могла с той же вероятностью что и, скажем, соседнему побегу дуба. (Зрение у нашей матери было нормальное, но она часто вела себя как слепая и двигалась как лунатик.) Когда нам с Оуэном было лет семь-восемь или около того (так или иначе, недостаточно, чтобы уже разочароваться в ней), она стала вызывать у нас сначала сожаление, а затем, довольно скоро, смех. И вот она сидела на берегу, обхватив колени руками, и мы махали ей, но потом, когда она махала нам в ответ (не только кистью, а всей рукой, как пучок водорослей, который шевелится под водой), отворачивались, громко разговаривали друг с другом, притворялись, будто не видим ее. Позже, за ужином, когда она спрашивала, что мы делали у ручья, мы разыгрывали изумление, непонимание. У ручья? Нас же там не было! Мы весь день играли в поле.
– Но я вас там видела, – говорила она.
Нет, отвечали мы хором, мотая головами. Наверное, это были другие два мальчика. Два мальчика, которые выглядели точно как мы.
– Но… – начинала она, и на мгновение ее лицо застывало в недоумении, прежде чем разгладиться. – Ну, наверное, – неуверенно говорила она, уставившись в тарелку.
Этот разговор происходил по нескольку раз в месяц. Для нас это была игра, но игра тревожная. Играла ли наша мать с нами вместе? Слишком уж непосредственно, слишком явно отражалось на ее лице неподдельное беспокойство, страх, что она, как мы тогда говорили, не в себе, что она не может доверять своему зрению и памяти. Мы решили для себя, что она притворяется, потому что иная версия – что она сумасшедшая или, хуже того, идиотка – слишком пугала, чтобы рассматривать ее всерьез. Позже, в нашей комнате, мы с Оуэном передразнивали ее («Но… но… но… это же были вы!») и хохотали, а потом, молча лежа в своих кроватях и размышляя о смысле этой игры, чувствовали, что нам становится не по себе. Нам было немного лет, но мы оба знали (из книг, от сверстников), что именно ожидается от матери – мать должна порицать, обучать, направлять, наказывать в случае необходимости, и вместе с тем знали, что наша мать такие задачи выполнять не способна. Во что же мы вырастем, размышляли мы, на попечении этой женщины? Почему она такая беспомощная? Мы относились к ней так, как большинство мальчиков относится, должно быть, к мелким животным: в веселом и добром настроении – ласково, в иных случаях – жестоко. Нас завораживала мысль, что мы можем своей властью расслабить ее плечи, заставить губы сложиться в неуверенную улыбку, или же наоборот – заставить ее опустить глаза, быстро провести ладонью по ноге, как она делала в состоянии нервном, несчастливом или смущенном. О своих опасениях мы никогда вслух не говорили; любые наши разговоры о ней были оттенены насмешкой или отвращением. Беспокойство притягивало нас друг к другу, делало еще напористее, еще несноснее. Конечно, думали мы, нам удастся подтолкнуть ее к тому пределу, за которым покажется настоящий взрослый, так искусно скрываемый. Как большинство детей, мы считали, что все взрослые от природы наделены способностью угрожать и подчинять.
Дело было не только в том, что ей не хватало осмысленности – по ряду существенных причин мою мать можно было счесть неудачницей. Она готовила кое-как (брокколи на пару получалось резиновым, головки щетинились хрустящими остовами крошечных незамеченных жучков, запеченная курица сочилась кровью) и прибиралась редко – отец купил ей пылесос, но он стоял заброшенный в чулане, пока мы с Оуэном в один прекрасный день не разобрали его на части. Интересов никаких у нее тоже, кажется, не было. Мы ни разу не видели, чтобы она читала, писала, рисовала, садовничала – занималась чем-то, что (даже тогда) казалось бы нам ценным и интересным. Летом, ближе к вечеру, мы иногда заставали ее в гостиной; она сидела на диване, по-девичьи поджав под себя ноги, с глупой улыбкой на лице, неотрывно, но безучастно уставившись на обширное созвездие пыли, проявившееся в солнечном луче.
Однажды я увидел ее за молитвой. После школы, днем, я зашел в гостиную и обнаружил, что она стоит на коленях, сложив ладони, подняв голову. Губы ее двигались, но я не слышал, что она говорит. Она выглядела нелепо, как актриса, что-то изображающая в пустом театре, и мне стало за нее неловко. «Что ты делаешь?» – спросил я, и она встревоженно обернулась. «Ничего», – испуганно ответила она. Но я знал, что она делает, и что она лжет – тоже знал.
Что еще я могу сказать? Я могу сказать, что она была неясной, переменчивой, может быть, даже глупой. Но мне придется добавить, что она осталась для меня загадкой, а этого любому человеку добиться нелегко. И есть другие вещи, которые я о ней тоже помню: она была высокая, грациозная, и хотя я не могу толком вспомнить ее лицо, знаю, что она была довольно красива. Старая, нерезкая сепийная фотография, что висит у Оуэна в кабинете, это подтверждает. Наверное, в те времена она не считалась такой красавицей, какой ее сочли бы сейчас, потому что ее лицо опережало время – оно было длинное, белое, напуганное; лицо, обещавшее ум, тайну, глубину. Сегодня ее назвали бы притягательной. Но отец, видимо, считал ее очень красивой, потому что трудно представить, по какой еще причине он мог бы на ней жениться. В тех редких случаях, когда мой отец вообще заговаривал о женщинах, он отдавал должное образованным, хотя совершенно не считал их сексуально привлекательными. Думаю, причина заключалась в том, что умные женщины напоминали ему сестру, Сибил, которая работала врачом в Рочестере и которую он обожал. А ему досталась лишь красота. Когда в подростковые годы я осознал, что отец женился на матери только из-за ее красоты, я был разочарован, но позже понял, что у родителей много способов нас разочаровать и лучше вообще ничего не ожидать от них, потому что, скорее всего, никаких ожиданий они не оправдают.
Но по большей части она была непознаваема. Я даже не знаю, откуда именно она взялась (кажется, откуда-то из Небраски), но знаю, что она была родом из бедной семьи и мой отец, человек с относительным достатком и неприхотливым нравом, ее спас. Интересно, что, несмотря на всю ее бедность, в ней не было ничего изнуренного или усталого; она не казалась ни истощенной, ни загрубевшей. Скорее она производила впечатление одной из тех беззаботных женщин, которые из родительского дома перетекают в пансион благородных девиц, а оттуда – в объятия супруга. (Сияние, которое словно окутывает ее на фотографии Оуэна, ее ранняя, тихая смерть, ее сонные, медленные движения – все это придает моим воспоминаниям о ней ореол ясности, защищенности, обласканности, хоть я и знаю, что все было не так.) Насколько мне известно, образования у нее никакого не было (читая наши табели вслух отцу, она спотыкалась на словах, бубнила «Пре… пре-во…», прежде чем Оуэн или я выкрикивал ей слово «превосходно» – самодовольно, нетерпеливо, пристыженно), и умерла она очень молодой.
Но вообще-то она во всем была молода. В моих воспоминаниях она сама напоминает ребенка – не только поведением, но и внешним видом. Например, волосы: в любых обстоятельствах они оставались распущенными и спускались по спине неровной, подвижной волной. Даже в раннем детстве эта ее привычка меня тревожила; в ней мне виделось еще одно свидетельство тщательно, неуместно удерживаемого девичества: длинные волосы, легкая, отсутствующая улыбка, то, как она отводила взгляд, стоило начать с ней разговор, – все эти сомнительные манеры у взрослой и предположительно ответственной женщины.
Сейчас, перечисляя немногочисленные подробности материнской жизни, мне неприятно думать о том, как мало я знаю, как мало интереса всегда проявлял. Наверное, каждый ребенок стремится понять свое происхождение и своих родителей, но мне она никогда не казалась достаточно интересной, чтобы ее изучать. (Или это построение следует перевернуть?) Но я и в романтизацию прошлого никогда не верил – какая мне от этого польза? Оуэн, впрочем, потом заинтересовался нашей матерью гораздо сильнее и в студенческие годы даже некоторое время пытался отследить ее происхождение и добыть какие-то биографические данные. Однако он забросил этот проект через несколько месяцев и на любые расспросы реагировал очень болезненно, так что могу лишь предположить, что наших родственников по материнской линии он нашел без труда, понял, что речь идет о деревенщине, и с отвращением отказался от своей затеи (тогда он еще был убежденным элитистом и мог поступить именно так)[6]. Она всегда была для него важна по причине, которой я никогда не мог понять. Но Оуэн все-таки поэт, и он, наверное, считал, что эти подробности могут пригодиться ему в будущем, какими бы неудачными или в конечном счете разочаровывающими они ни были.
Ну так вот. Наступил июль 1933 года. Мне трудно сказать «Это был самый обычный день», потому что получается мелодраматично, зловеще и к тому же совершенно неправдоподобно. Однако все так и было. Так что – это был самый обычный день. Отец отправился куда-то со своим другом Лестером Дрю, тоже владельцем маленькой фермы, заниматься чем-то, чем занимаются владельцы маленьких ферм. Мы с Оуэном собирали в ведро пиявок, которых намеревались запечь в пироге и преподнести приходящей кухарке Иде, суровой женщине, которую мы оба терпеть не могли. Моя мать сидела у ручья и болтала ногами в воде.
На протяжении следующих недель нас с Оуэном просили вспомнить: не заметили ли мы в ней чего-нибудь особенного в тот день? Не показалась ли она нам вялой, больной, утомленной? Не говорила ли она нам, что у нее кружится голова, что она устала? Но мы могли только ответить «нет». На самом деле я, скорее всего, мало что могу сказать о действиях или настроении матери в тот день потому, что все это было очень похоже на ее нормальное поведение, которое, безусловно, порой раздражало, но никакой непоследовательности в нем не было. Даже последний день ее жизни оказался подчинен тому неисповедимому ритму, который только она и могла расшифровать.
На следующее утро мы с Оуэном по летнему обычаю спали долго. Когда я проснулся – Оуэн все еще спал в соседней кровати, – уже стояла жара. От нас мало что требовали. В отличие от других детей, мы не должны были заниматься никакими домашними делами и могли заполнять дни по своему усмотрению. В результате наши летние месяцы проходили в беззаботных занятиях – мы мучали лягушек у ручья, воровали абрикосы в саду Лестера Дрю, ползали по высокой, цепкой траве за семейством сурков. По утрам мы просыпались когда захотим, ели то, что оставили нам на кухне, и отправлялись по своим делам. Иногда на кухне оказывался мой отец с Лестером Дрю; он скручивал папиросу, а на столе нездоровым блеском сырой плоти сверкала тарелка красных нарезанных персиков. Мужчины хмыкали нам, мы хмыкали им в ответ, и за столом все сидели в молчании.
В то утро, когда я вышел на кухню, они были на месте, но там оказались еще два человека – Джон Нейплес, городской врач, и преподобный Каннингем, городской священник; все тихо разговаривали. Когда я вошел, они замолчали. Мой отец был бесстрастный человек, стоический и не склонный к проявлению эмоций. (У него было большое, квадратное лицо и глаза мутно-оливкового цвета каперсов.) Поэтому когда он выказывал какую-либо эмоцию, это вызывало беспокойство или как минимум любопытство. Я должен сказать, что помню выражение его лица в то утро – смесь удивления, оцепенения и замешательства – существенно лучше, чем собственно лицо.
– Твоя мать умерла, – сказал отец. Это прозвучало спокойно и серьезно, и говорил он обычным тоном, противоречившим выражению лица, – его голос меня даже успокоил.
– Ну Джозеф, – сказал преподобный Каннингем.
– Лучше, чтобы он услышал все как есть, без обиняков, – сказал отец. Новость он сообщил, глядя мне прямо в глаза. Теперь он отвернулся и обратился к чему-то над головой преподобного Каннингема: – Я полагаю, ваше преподобие, вы сделаете с телом все… все, что она хотела сделать.
После этого он хлопнул в ладоши – это был лаконичный, окончательный жест – и через заднюю дверь вышел во двор. Бросив на меня долгий и скорбный взгляд, Лестер засеменил за ним, оставив меня с преподобным Каннингемом, который вздохнул, и с Джоном Нейплесом, который нахмурился.
– Ты! – сказал мне Нейплес. – У тебя ведь брат где-то?
Он знал про моего брата. Прошлым летом мы с Оуэном наловили зеленых ужей и по очереди, по одному извивающемуся телу, запустили их в почтовый ящик клиники Нейплеса. Это была всего лишь детская забава, но он разозлился и так нас и не простил. Это был озлобленный, жесткий человек, разъедаемый чувством несовершенства мира, такой человек, который на улице швыряет носком ботинка клубы пыли в сторону детей просто потому, что они ничем не смогут ответить.
– Тебе что, не интересно, как умерла твоя мать? – спросил он.
– Нейплес! – сказал преподобный Каннингем.
Нейплес не обращал внимания на преподобного Каннингема.
– Комары эти, которые водятся возле вашего ручья, – продолжил он. – Я как врач считаю, что они переносят штамм китайского гриппа. Комары переносят заразу, а ваша мать забрела в отстойник, кишащий бактериями, и сама себя погубила. – Он с удовлетворенным видом откинулся на спинку стула и затянулся трубкой. – Если вы с братом будете шастать к этому ручью, так же и помрете.
Преподобный Каннингем был в ужасе.
– Ну Нейплес! – сказал он и, опустошив свои ресурсы этим упреком, тоже вышел через заднюю дверь. Меня это не удивило, я многого от него и не ожидал – не просто потому, что он был священник, а потому, что он выглядел таким приниженным. Его лицо запоминалось не тем, что в нем было, а тем, чего не было, – мертвенно-изможденные щеки выглядели так, как будто кто-то склонился к нему, двумя быстрыми движениями вычерпал плоть и отправил его дальше своей дорогой.
Нейплес пожал плечами. В отличие от остальных, он уходить не собирался. Мы с Оуэном давно заметили, что, если говорить со взрослыми так, как будто они немного тугодумны и даже неполноценны, как будто они надоедливые существа, которых мы приучились терпеть, они от изумления нередко сообщают нам важные сведения и разговаривают тоном, каким обычно никогда бы не стали разговаривать с ребенком. Этот трюк, однако, не оказывал подобного воздействия на Нейплеса; высокомерие придавало ему очень неудобную неколебимость.
– Что еще за ерунда этот китайский грипп? – спросил я.
Нейплес пыхнул трубкой.
– Тебе не понять, – огрызнулся он.
– По-моему, вы это выдумали.
– А по-моему, ты наглый мальчишка. Оба вы с братом такие.
– Выдумали ведь, признавайтесь?
– Эй, парень, поосторожнее.
– Так что это такое?
После еще нескольких раундов моих вопросов и его угроз Нейплес наконец вздохнул и сдался.
– Это капельное заболевание, которое распространяют комары. Один из них укусил твою мать, она заболела и умерла.
Объяснение выглядело логичным, и я затих. С минуту мы сидели в тишине, и каждый, должно быть, думал о ее несколько нелепой кончине. Потом Нейплес вспомнил, что отвечал на мой вопрос не по своей воле, и вновь собрался с силами.
– Удивляюсь, что твоя мать не покончила с собой, – сказал он. – Видит бог, будь я твоим родителем – не преминул бы. – Взгляд Нейплеса загорелся от триумфа и предвкушения.
Его слова меня не задели, но он, видимо, принял мое молчание за обиду и, удовлетворенно выбив пепел из трубки в аккуратный муравейник на столе, вышел через парадную дверь, захлопнув ее за собой. Он удалялся по дорожке, и я слышал, как он насвистывает, пока звук не ослаб, а потом совсем не затих, оставив за собой только жужжание роя летних насекомых. Со мной впервые поговорили как со взрослым.
Но именно он, Джон Нейплес, провинциальный, самовлюбленный, десятиразрядный врач, дал толчок моему интересу к патологии. Он сделал это неумышленно – я сомневаюсь, что он рассказал мне о смерти моей матери в таких прямолинейных выражениях, потому что планировал поговорить со мной по-взрослому; это был просто мелочный, жестокий человек, который наверняка лишь старался вызвать у меня слезы, – но его прямолинейное и ошибочное объяснение впервые позволило мне заглянуть в мир болезни и увидеть его строгую, блистательную загадочность.
Даже в этом возрасте Оуэн интересовался словами: он читал словари и всяческие книги, он любил разнообразные словесные игры – анаграммы, каламбуры, палиндромы. Он мог весь день развлекаться цепочкой рифм, которую обнаружил или придумал сам. И хотя читать я тоже любил, языковой спорт меня никогда не привлекал так, как Оуэна. С моей точки зрения, у языка нет собственного врожденного разума – его создал человек, человек наделил его значением, и поэтому изощренное писание часто казалось мне в лучшем случае китайской головоломкой. Писателей часто хвалят за умение обращаться с чем-то рукотворным, чем-то, что можно менять или приспосабливать по желанию; но почему изменение рукотворной конструкции считается чем-то выдающимся? Возможно, смысл моего высказывания неясен, поэтому позвольте выразиться иначе: у языка нет неотъемлемых секретов.
Но наука, особенно наука о заболеваниях, целиком состояла из восхитительных секретов, из темных, маслянистых угодий тайны. Язык можно неправильно истолковать и воспринять, его правила – применять и игнорировать по желанию. В этом нет строгости. Иногда все это кажется игрой, придуманной для забавы, – именно так это и представлял себе Оуэн. Но болезнь, вирус, шевелящаяся цепочка бактерий существуют независимо от существования человека, и проникновение в их секреты зависит от нас самих.
Джон Нейплес, конечно, не думал о болезни именно так (очевидный пример слабого интеллекта – это врач, который настаивает, что усилия следует сконцентрировать на пациенте, а не на болезни), но он заслуживает упоминания в качестве предупредительной фигуры в моей жизни, человека из числа тех, с кем я сейчас общался бы, не выбери я путь исследовательской медицины. Даже тогда я понимал, что несовершенные объяснения меня не удовлетворят. Мне просто не хватило бы терпения.
Последнее слово, к счастью, осталось не за Нейплесом. Мой отец был человеком ленивым, но глупым он не был, и в этом деле повел себя на удивление энергично. В течение дня, связавшись с сестрой в Рочестере (сообщить новость Оуэну у него руки не дошли, и это пришлось сделать мне, когда тот наконец выполз на кухню, недовольно потирая глаза), он позвонил однокашнику Сибил, жившему в Индианаполисе, а тот позвонил своему приятелю, жившему в Крофордсвилле, городке милях в пятидесяти к востоку от нашего. Этот врач – некий доктор Бернс – организовал доставку моей матери в его клинику для вскрытия.
На следующей неделе он прислал нам свой отчет, в котором говорилось, что моя мать умерла не от китайского гриппа («Лично я не знаком с этим заболеванием, хотя должен признать, что, будучи патологоанатомом, я, вероятно, не так хорошо разбираюсь в местных болезнях, как мой многоуважаемый коллега д-р Джон М. Нейплес», – дипломатично написал Бернс в сопроводительном письме), а от аневризмы. От аневризмы! После того как Сибил мне все объяснила, я часто представлял себе, что произошло, почти слышал мягкий взрыв артерии, видел хлюпкую, вялую ткань, черную кровь, которая окрашивает мозг сияющим, клейким красным цветом граната. (Позже, подростком, застигнутый внезапным чувством вины, я думал: «Такая молодая! Как несправедливо!» А еще позже, взрослым, когда мне уже было достаточно лет, чтобы всерьез размышлять о собственной смерти и ее предпочтительных обстоятельствах, думал: «Как картинно!» Я представлял себе падучие звезды, фейерверки, роскошные капли света, летящие с неба подобно тысячам сверкающих драгоценных осколков, каждый из которых не больше сеянца, и почти завидовал своей матери, ее последнему величественному ощущению.)
«Она не почувствовала никакой боли, – написала мне Сибил. – Это была хорошая смерть. Ей повезло».
Хорошая смерть. Я часто думал про это выражение, пока не стал врачом и не понял, что Сибил имела в виду. Но в детстве эти слова были так же таинственны, как само представление о смерти. Хорошая смерть. Моя мать – кто-то, кому досталась хорошая смерть. Мечтательница, тень, получившая главный дар, какой только может дать природа. В ту ночь она скрылась под своим покрывалом так же тихо, как опускала ноги в бледный, журчащий ручей, и закрыла глаза, не зная и не боясь тех краев, где она теперь окажется.
На протяжении многих лет мать снилась мне в причудливых видениях, и ее черты соединялись с другими существами в сочетаниях, казавшихся одновременно гротескными и глубокими: как скользкая белая рыба у меня на крючке, с разинутым, скорбным ртом форели и темными, зажмуренными глазами; как вяз на краю нашего участка, у которого вместо ободранных клочьев потускневшей золотой листвы развевались спутанные клубы ее черных волос; как хромая серая собака, которая жила на участке Мюллеров, чей рот – ее рот – мучительно раскрывался и закрывался, не издавая ни звука. Когда я повзрослел, я понял, что моей матери смерть далась легко; чтобы бояться смерти, нужно, чтобы для начала тебя что-нибудь привязывало к жизни. Но у нее такого не было. Как будто она готовилась к смерти все то время, что я ее знал. Вот она жива сегодня, а завтра – нет.
И, как сказала Сибил, ей повезло. Ведь что еще мы можем просить у смерти, кроме доброты?
После этого остались мы с Оуэном и отец. Я вкратце уже упоминал об отце, которого мы не то чтобы любили, но выносить его, безусловно, было легче, чем мать, хотя их одинаковое нежелание привязываться к практическим деталям мира могло кого угодно свести с ума. Мать обнаружила удачу в смерти, а отец давным-давно считал удачу своим неотъемлемым правом.
Отец родился и вырос в соседнем городке под названием Пит, про который вы тоже ничего не слышали. Сегодня Пит почти заброшен; он становится все более печальным и пустым с каждым проходящим годом, а дети вырастают и уезжают, чтобы никогда в него не вернуться. Но в годы молодости отца Пит был по-своему важным городом. Там находилась собственная железнодорожная станция, которая дала толчок небольшому, но здоровому местному хозяйству. Там была, например, гостиница, и мюзик-холл, и Главная улица, вдоль которой располагались двухэтажные деревянные магазины, выкрашенные в цвета воды и скал. Путешественники, направляющиеся на запад в Калифорнию, останавливались в Пите, чтобы съесть сэндвич с яичным салатом и выпить сельдерейной газировки в станционной лавке, прежде чем снова сесть в вагон. Горожане богатели от этих коротких отношений, которые были по-своему чисты: обмен денег на товары, вежливое прощание, уверенность, что стороны друг друга больше никогда не увидят. В конце концов, разве не в точности такова большая часть отношений в нашей жизни, разве что нерешительно растянутая на годы и поколения?
Родители отца, оба родом из семей венгерских иммигрантов, владели пристанционным магазином. В отличие от сына, они были склонны к неустанному труду, бережливости и разумному вложению денег. В 1911 году, когда отец оканчивал колледж, они почти одновременно умерли от гриппа. Отец с сестрой унаследовали родительский магазин, дом, семьдесят акров сельскохозяйственных угодий в Линдоне, а также их сбережения. Как и в случае со смертью моей матери, отец повел себя разумно и расчетливо. Он продал магазин и дом в Пите, заплатил налоги, организовал похороны и открыл накопительный счет для сестры. Сибил, которая как раз оканчивала школу, использовала часть своих денег, чтобы оплатить учебу в Уэллсли. По сравнению с ней отец был ленив: он отучился в Пердью и переехал в Линдон, где построил дом и каждый год увеличивал свой участок еще на несколько акров. Когда Сибил поступила на медицинское отделение Северо-Западного университета, отец выращивал соевые бобы, зеленые бобы, желтые бобы. У него родились сыновья. Позже он пошел работать на местную железнодорожную станцию администратором по расписанию. Он добился в жизни всего, чего хотел.
Материнские понятия от меня ускользали, а отцовские бесили. Насколько я мог определить, его интересовало только стремление к состоянию полной и безграничной инертности. Меня это почти неописуемо раздражало. Для начала, мы жили в стране, где ценность человека определялась его трудолюбием. Не то чтобы мы с Оуэном хоть немного беспокоились о том, что горожане считают хорошим и правильным; просто так сложилось, что чувствовали мы то же самое – в поведении отца есть что-то постыдное, может быть, даже непристойное. Надо учесть, что все это происходило в эпоху Депрессии. Мы слышали рассказы о детях, брошенных родителями, видели на снимках отчаявшихся, умученных людей, стоящих в очереди за миской супа, за работой, за займом. Однако отца – лишенного честолюбия, спокойного, на редкость нецелеустремленного – все беды каким-то образом обошли стороной. Я вспоминаю, как вечерами сидел за нашим кухонным столом и ерзал от нетерпения, ожидая, чтобы отец накричал на меня, выбранил, побил ради моего же усердия и упорства, чтобы, глядя на меня, он надеялся на большее, чем я сам. Но отец просто сидел напротив, мечтательно насвистывал модную мелодию и скручивал себе сигареты. В его щетинистых усах застревали кукурузные зерна, остатки второпях приготовленного ужина, и когда я на это ему указывал, он лениво высовывал язык и проводил им вокруг рта и носа грациозным змеиным движением, не прекращая напевать. Этот беззаботный, бездумный жест раздражал меня больше всего. Сейчас мое лицемерное возмущение кажется немного смешным: конечно, постоянная тупая удача отца мне невероятно помогла, но тогда мне казалось, что для нас с Оуэном это неполезно. Если уж ты рос в нашем доме, следовало признать, что удача падает с неба с обнадеживающим грохотом и ни к чему, даже к возможности приобрести огромное состояние, не стоит стремиться. Собственно, никакой капиталистический задор и не участвовал в накоплении отцовских денег – нет, что случалось, то случалось, и в тех немногих случаях, когда он принимал неудачные хозяйственные решения, он об этом тоже не жалел.
Такое положение дел меня злило – ведь благополучные дети ничего не хотят так страстно, как романтической бедности. Нередко мне доводилось мечтать о других родителях – изможденных иммигрантах, для которых я оставался бы единственной надеждой. Меня очень трогали сентиментальные детские повести вроде «Серебряных коньков», и я представлял членов своей семьи героями подобного сюжета. Мой отец представал жертвой удара, беспомощным и слюнявым, а Оуэн – увечным и слабоумным младшим братом. Я был первопроходцем и героем, суровым и к тому же находчивым. В образовании крылась единственная надежда всей моей семьи. От моих академических успехов зависело все; я стал врачом и вытащил нас всех из отчаяния и нечистот в элегантные, благоустроенные жилища. В этой фантазии мои руки, преображенные до волшебства годами американского образования, вылечивали бедного отца, который немедленно принимался за работу, невзирая на мои возражения. Мать, сильная и решительная, вернув былую красоту, улыбалась впервые за долгие годы, а брат, после оплаты приличного образования, учился разговаривать, учился двигаться как атлет. Как я мечтал о таких устремлениях! Но в реальности приходилось сопротивляться не грузу нищеты, а удовлетворенно и решительно малоподвижному отцу и безбедному детству, которому я бы мог радоваться, если бы был меньше склонен его отрицать.
Но ведь у меня была еще и Сибил. Я уже упоминал, что отец питал к Сибил величайшее уважение; думаю, не будет преувеличением сказать, что он даже преклонялся перед ней. Конечно, ему она представлялась такой же загадкой, как он – мне: как мог некто столь трудолюбивый, умный, деятельный произойти из той же семьи, что и он?
Однако же не все были в таком восторге от Сибил. В те годы завистливые или мелочные люди часто говорили, как хорошо, что Сибил может себя обеспечивать, ведь никакой мужчина этого делать бы не стал. Если бы у них потребовали объяснений, они бы сказали, что имеют в виду всего лишь ее независимость и прямолинейность, но, конечно, любой понимал, что они имеют в виду на самом деле: Сибил с ее растрепанным пучком волос считалась слишком уродливой для замужества – и так и не вышла замуж. Сибил была на четыре года младше отца, но когда в 1945 году она умирала от рака груди, то, по моим понятиям, выглядела гораздо старше своих пятидесяти двух лет. Люди считали Сибил странной всю ее жизнь, и к тому моменту, когда она открыла педиатрическую практику в Рочестере, она, видимо, смирилась с положением бесполой старой девы из провинциального городка.
Это обидно по множеству причин, но главным образом оттого, что из моей тетки, как я всегда считал, получился бы отличный иммунолог. Она была бесконечно, неотступно любопытной и изобретательной, уверенной в себе, но не высокомерной. Ум ее отличался широким охватом и мог совершать те балетные прыжки в рассуждении и анализе, на какие способен только истинный талант. Казалось, что она знает все, и когда я поступил в медицинскую школу, она призналась, что сама хотела посвятить жизнь «медицинским приключениям» (как и она, я не вполне понимал, что именно может включать такая работа, – мы только знали, что оба хотим этим заниматься), но никогда не могла этого сделать[7]. Позже она с той же застенчивостью призналась, что всегда хотела детей, и сказала, что, чем бы я ни занимался в жизни, собственных детей завести надо. Она пообещала, что ничто не принесет мне большей радости. Естественно, в последнее время я много об этом думал – по понятным причинам. Сибил была права и разумна во многом; как получилось, что в этом она так ошиблась?
Ребенком я часто виделся с Сибил. До смерти матери она проводила с нами несколько недель каждое лето (а после приезжала еще чаще). Пациентов она перенаправляла к другому местному педиатру и приезжала с подарками для нас всех. Моей матери, которую она не очень понимала, Сибил привозила что-нибудь легкомысленное и красивое, отчасти из чувства неловкого снисхождения, отчасти зная, что красота и легкомыслие предмета не пропадут даром – о чем бы ни шла речь, моя мать оценит подарок, а его красота будет подчеркнута ее собственной красотой. Я помню, что однажды Сибил привезла ей шелковое набивное платье с узором из полевых цветов. Мать немедленно его надела и закружилась в нем – я по сей день вижу, как она кружится в гостиной, вижу маслянистую, сливочную смазанность шелка. Сибил никогда не знала, что сказать нашей матери, к которой, я думаю, она испытывала и жалость, и зависть – жалость, потому что мать вроде бы так довольна своей простой, неприметной жизнью; зависть – потому что она довольна, потому что у нее есть эта самая жизнь.
Отцу она привозила что-нибудь затейливое – птичку-свистульку, которую смастерил один из ее пациентов; кленовый сироп в пузырчатом кувшине; книжку про собирание камней. Оуэну она привозила книги, головоломки, листы рисовальной бумаги, волокнистые от примеси хлопка.
Сибил хорошо относилась ко всем нам, но я, несомненно, был ее любимцем. Хотя она любила Оуэна, а он любил ее, у них никогда не было таких отношений, как у нас. По правде говоря, я всегда подозревал, что Оуэн кажется Сибил простоватым, и хотя она всячески хвалила его художественные усилия (героические поэмы, абстрактные зарисовки фермерской жизни), в этом слышалось только обобщенное восхищение; она не могла обратиться к нему с конкретным замечанием или похвалой. Нельзя сказать, что она презирала искусство или художников – но никаких серьезных попыток их понять тоже не предпринимала.
Для полноты картины мне следует добавить, что Оуэн никогда не относился к Сибил так, как я, по двум основным причинам. Первая из них даже не имела к Сибил никакого отношения. Дело было лишь в том, что Оуэн всегда приписывал некоторый мистический флер моей рассеянной матери и апатичному отцу – на общем фоне американской культуры, которую он в конечном счете объявил вульгарной и амбициозной, их бездействие представлялось ему дерзким и даже бунтарским. (А с моей точки зрения, бездействие не переходит в бунтарство.) Разумеется, у Оуэна тоже имелись фантомные родители, но если мои были инвалидами, его родители были, за неимением лучшего слова, контркультурными. Мне всегда казалось, что Оуэн больше всего жалеет о том, что не родился тридцатью годами позже у пары битников.
Другая причина, по которой Оуэн всегда был менее горячо привязан к Сибил, чем я, уже имела отношение к ней лично. Он уважал ее ум и вообще хорошо к ней относился, но при этом считал ее неэлегантной и необученной всему культурному. И хотя по сути это могло быть правдой, тем не менее – как я в прошлом не раз пытался доказать Оуэну – она все равно оставалась самым живым взрослым в нашем окружении. Если бы не она, мы бы не видели альтернативной модели взрослого поведения и могли бы склониться к менее сложным занятиям.
В общем, Сибил всегда приберегала для меня лучшие подарки: маленький микроскоп, старый стетоскоп, эпоксидную модель сердца с надписанными вручную пояснениями. Она привезла мне ящики с африканскими жуками-навозниками на листах жесткого белого картона, оправленного в черные кожаные рамы. Были еще мяч и бита, оставшиеся от раннего урока физики; старый радиоприемник, который она приволокла из Рочестера с единственной целью – показать, как его разобрать на части; толстое увеличительное стекло, к которому присовокупилась лекция по его применению, после того как она обнаружила меня на проселочной дороге за поджариванием муравьев.
На одиннадцатый день рождения Сибил подарила мне книгу, которая поначалу могла показаться не слишком уместной. «Биографии великих ученых» были написаны без вдохновения, проиллюстрированы по-детски, а оскорбительно радостный и примитивный текст словно бы предназначался для туповатого шестилетки. В сущности, это был справочник в духе «Кто есть кто», где всем «главным» ученым (имена, основные достижения и т. д. – я почти ожидал, что там будут указаны также их рост, вес и внеслужебные интересы) отводилось по короткой заметке, как будто ученых, подобно бейсболистам, можно каким-то определенным образом ранжировать. Впрочем, должен сказать, что, сколь нелепой ни казалась мне тогда эта идея, она становится год от года все привлекательнее. (Я даже удостоился собственной статьи в последнем – 1994 года – издании. Текст, конечно, крайне примитивен, но отличается не большей неточностью, чем многие гораздо более объемистые биографические очерки[8]. Статья включает также мою фотографию с Филипом[9], ему в тот момент было лет десять. Снимок такого плохого качества, что лицо Филипа кажется просто темной окружностью, на которой белым проблеском проступает его улыбка. А я выгляжу нескладным, неуклюжим, как какой-нибудь неумелый циркач.)
Так вот – эта книга, конечно, не стала для меня введением в возможности и закономерности мира природы, но, наверное, стала введением в мир ученых, который меня глубоко заворожил. Потому что именно тогда я осознал, что к науке обращается определенный тип ума, и это, решил я, тот тип ума, который вызывает у меня восхищение.
2
Я уже упоминал витую лестницу, что возвышалась в центре нашего дома. Она была неуместно роскошной для такого архитектурно скромного обиталища и мне всегда казалась своего рода гостьей, которой суждено когда-нибудь вернуться в свое истинное славное состояние и снова соединять два этажа в особняке на Пятой авеню. Эту роскошь установил предыдущий владелец дома (молодой архитектор, выпускник Колумбии, не сумевший полностью справиться с унижением после отъезда из Нью-Йорка и возвращения к семейному наделу в Линдоне), и хотя конструкция была надежной, а дерево прочным, лестница пришла в упадок за те пятьдесят лет, которые была вынуждена провести в нашем семействе. Отец часто и нерешительно говорил, что ее надо бы снести и заменить чем-нибудь попроще, но так и не заменил, и когда он умер, а я вернулся на ферму, лестница практически разрушилась, и нам с Оуэном приходилось пользоваться стремянкой, чтобы добраться до наших прежних спален на втором этаже.
Впрочем, в 1935 году лестница хоть и не была особенно хороша, но, по крайней мере, исправно функционировала и уж для моих целей вполне подходила. Я решил начать свой проект с верхнего пролета и постепенно спускаться вниз. Ковер с лестницы убрали уже сколько-то лет назад, а ступени топорщились щепками и пылью, так что на каждую из них надо было наложить несколько слоев краски, чтобы замаскировать древесину. Я спустился по двадцати ступеням, покрасив верх, низ и стороны каждой из них в разные цвета. Через несколько часов краска высохла, и я снова начал с верхней площадки. Продвигаясь вниз, я написал на передней и верхней части каждой ступени имя ученого. Когда я закончил, лестница переливалась красками и словами: Кюри сверху, Галилей под ней, Эйнштейн под ним, Грегор Мендель, Джеймс Клерк Максвелл, Марчелло Мальпиги, Карл Линней, Николай Коперник и так далее. Имена я перечислял без всякого порядка, как они мне вспоминались. Но я еще не успел закончить работу, как появился Оуэн и начал возмущаться, что я его не позвал. Услышав нашу ссору, с улицы пришли отец и Лестер и уставились на лестницу в долгом молчании (на это время даже мы с Оуэном затаили дыхание), после чего Лестер заорал, что нас надо отколотить, и чем сильнее, тем лучше. А потом, неожиданно, отец засмеялся.
Все трое – Оуэн, Лестер и я – замерли, замолкли. До того дня мы с Оуэном никогда не слышали, чтобы наш отец смеялся. Это был неприметный смех, одышливый и ржавый, на удивление лишенный энтузиазма, или веселья, или энергии. Смех продолжался не дольше нескольких секунд, а потом отец завершил этот нехарактерный эмоциональный всплеск словами: «Видишь, Лестер, теперь я не могу разобрать лестницу – мальчишки ее взяли на себя».
Лестер нахмурился, расстроившись, что нас с Оуэном не наказали как следует (он вообще был невысокого мнения о родительских умениях отца), и я тоже разозлился, хотя и по другой причине. Мое возвышенное приношение в честь научного ума отец каким-то образом перехватил, чтобы в очередной раз оправдать собственную праздность! Но тем не менее лестница – которую отец оставил нетронутой не из уважения к моей работе но, как я сказал, от лени – оказалась гораздо более важной, чем мы могли тогда себе представить.
Я уже упоминал, что мы с Оуэном вернулись в дом после смерти отца. За последний год своей жизни отец запустил хозяйство до предела, что неудивительно, и дом превратился в какой-то сарай, где в замызганных кухонных ящиках орудовали мелкие грызуны и одичавшие, заброшенные кошки. Когда мы вернулись домой в 1946 году (мы уехали учиться четырьмя годами раньше и почти осуществили намерение никогда больше не возвращаться в Индиану), дом стоял нечищенный не меньше четырех лет, и обстановка в нем была без преувеличения катастрофическая: растрескавшийся паркет, проржавевшие петли, которые скрипели так надрывно, что мы старались вообще не открывать двери, мебель, выплевывавшая гигантские облака вулканической пыли, когда на нее садились. Помойка расползлась по всем комнатам – обрывки бумаги, смятые коробки и бутылки с трещинами, разные заброшенные приспособления. Отец, по всей видимости, не бывал наверху уже давно, потому что, когда мы с Оуэном в конце концов нашли стремянку в подвале, она оказалась ржавой и неподатливой после, надо полагать, нескольких лет забвения. (Наверху поджидала катастрофа таких масштабов, что, вспоминая о ней, я и сегодня испытываю усталость. Мы обнаружили семейство летучих мышей, угнездившихся в балках над кроватью Оуэна, целые династии обычных мышей, сгустки пыли величиной с человеческие головы, в которых попадались клочья неизвестно чьих волос.) Но лестница, покрытая слоями мерцающей паутины, лестница, чьи простые старомодные краски потускнели от возраста и слоев грязи, привела нас в замешательство.
Лестница была массивная, и ее обрушение означало, что моему отцу для жизни оставалось лишь небольшое пространство – меньше, наверное, двухсот квадратных футов. Она разделила гостиную пополам, и войти на кухню можно было, только выйдя на улицу и обойдя дом по направлению к кухонной двери. Летом это было неудобно, не более того, но зимой пронизывающий ветер и снегопад делали такой маршрут тяжелым даже для человека молодого. В узкой комнате отца не было никакой кустарной постели, а обнаружили его лежащим навзничь в траве в нескольких ярдах от дома в начале марта, поэтому мы заключили, что он пытался добраться до кухни – отчаянно скудной припасами, несколько банок с помидорами и банка грибного супа, вот и все, – когда с ним случился сердечный приступ. (Позже мы обнаружили крошечную жалкую постель, сооруженную из каких-то расползающихся лоскутных одеял и старой диванной подушки под маленьким навесом, который складывался из внешней стены дома и летней террасы, прилегающей к гостиной.) Так что не будет слишком большим преувеличением сказать, что эта лестница убила моего отца, хотя в конечном счете он сам себя убил собственной ленью. Даже его самоубийство было своеобразным актом безволия.
Плачевная кончина отца вызывала у меня одновременно жалость и раздражение. Что можно сказать о человеке, который не заботится о своем доме и дом его в конце концов уничтожает? На самом деле еще больше я скорбел по своей лестнице, хотя это была чисто ностальгическая реакция. Взрослея, я чувствовал, что меня все больше раздражает ребяческая идея и ребяческое исполнение, и хотя я не раз обещал перекрасить лестницу, до этого дело так и не дошло. Должно быть, какие-то отцовские струны.
Мы с Оуэном оба не придавали большого значения похоронам, но из-за смутного чувства вины, отчасти вызванного унизительной смертью отца, а отчасти тем, что нас не было на похоронах матери, мы отыскали небольшую церковь и уговорили местного пастора, чье имя я уже не вспомню (преподобный Каннингем давно умер), провести церемонию.
Скорбеть о смерти отца собралось человек двенадцать. Несколько лет назад Лестер Дрю перенес сильный удар, и племянница поместила его в лечебницу, так что в церкви были только любопытные горожане, с которыми мы по большей части не были знакомы, и кое-кто из бывших работников отца, в основном фермеры и издольщики, которых мы помнили смутно. Я думаю, некоторые просто пришли посмотреть на похороны богатого человека[10]. Должно быть, вся церемония их жестоко разочаровала – убогая церковь, сбивчивая и туманная проповедь, невыразительная гримаса на моем лице и на лице Оуэна, малолюдность, отсутствие друзей и родных. Если так погребают одного из самых богатых людей города, думали, должно быть, они, какая же унылая церемония (да и будет ли она?) ожидает их самих? Будь мы менее молоды и бессердечны, мы бы организовали более впечатляющие и торжественные похороны, просто чтобы их обнадежить. Но в те времена у нас не водилось привычки смягчать неуверенность других.
После пунша и печенья в доме пастора (нам показалось неуместным приглашать скорбящих на место смерти, где длинная трава, на которой лежало распластанное тело отца, все еще была прижата страшновато-опознаваемым очертанием), пожав руки примерно дюжине присутствующих, мы поблагодарили хозяина за помощь.
– Это честь для меня, – торжественно произнес пастор – непримечательно красивый мужчина с печальными глазами, бросавший сладострастные взгляды на Оуэна, когда ему казалось, что Оуэн этого не заметит. Он был лишь немного старше нас, но у него уже завелись усталого вида жена и двое визгливых белокурых сыновей. – Бедные мальчики, вы теперь одни друг у друга остались.
(Я на мгновение задумался, жалеет ли он нас только оттого, что мы остались одни, или оттого, что остались в такой дурной компании; было очевидно, что он не питал к нам особой приязни.) Мне он сказал:
– Пусть тебя всегда хранит Бог.
А Оуэну сказал:
– Всегда береги своего брата. Ты ему сторож.
– Почему это? – спросил Оуэн. В тот момент он очень интересовался Истиной и Справедливостью и уже начал утомительно увлекаться марксизмом; он всегда был крайне впечатлителен. – Я буду относиться к брату как к любому из своих собратьев, не лучше и не хуже, – важно произнес он, и пастор отошел, вздыхая и покачивая головой.
Написав это, я понял, как скучаю по Оуэну. Я сам удивлен, что вижу такие слова на бумаге[11], но я бы солгал, если бы не признался в этом. Несмотря на многочисленные жалобы и неприятности, я осознаю (и не впервые), что мое детство при всей его скуке было, безусловно, гораздо проще, чем моя нынешняя жизнь. Так, наверное, многие вспоминают свое детство. Но в те времена, как мне кажется, я был знаком с состоянием, близко похожим на удовлетворение. Я не выглядел как-нибудь причудливо, я был достойно развит физически, я был состоятелен, но не сказочно богат, я был умен, у меня были свои интересы, я был сильнее и быстрее Оуэна. Одноклассники меня не трогали, не били, не дразнили, друзья или что-нибудь в этом роде мне никогда не надобились – в конце концов, у меня был Оуэн. Сейчас я живу такой жизнью, в которой из своей безвыходной штаб-квартиры вынужден направлять значительную часть собственных сбережений адвокатам. Я ожирел, я больше не сильнее и не быстрее Оуэна, и даже будь у меня какие-нибудь увлечения, я бы не смог им предаваться. Я живу странной жизнью, в которой у меня никого нет. Моих детей больше нет, коллег больше нет; все, кто был мне важен, меня оставили.
Даже Оуэн. Может быть, следует сказать – особенно Оуэн. Наши отношения, конечно, не были ни простыми, ни устойчивыми, но в какой-то момент мы с Оуэном были очень близки, и даже когда не были, даже когда он переживал очередной этап своего юношеского энтузиазма, присваивая и отбрасывая идеалы и философские концепции, как иные юноши поступают с девушками, он оставался забавным, остроумным, мыслящим человеком. Он был моим послом в том мире, который располагался за пределами моего собственного мира. Это не значит, что романтика меня вообще не трогала. Я помню, как в молодости однажды сказал Оуэну, что ему следует брать пример с меня. Посмотри на меня, сказал я ему (он закатил глаза), я буду ученым. Это все, чего я хочу. Ты разбрасываешься, сказал я. Я предупредил, что без должной собранности он превратится в дилетанта. Но сейчас я почти восхищаюсь нерешительностью Оуэна, как будто, отталкиваясь от моей сосредоточенности, он стремился оставаться максимально разносторонним. Тогда мне, конечно, не хватало терпения, но теперь я с нежностью вспоминаю обидчивость брата, его горячий идеализм, его пламенные страсти. Я помню Оуэна в те времена как человека живого, неутомимого, интеллектуально гибкого – каким я сам не был. Из-за разницы взглядов мы отчаянно и яростно соперничали друг с другом, и все равно бывали времена, когда мы друг с другом соглашались, и тогда мы могли переубедить кого угодно в чем угодно, сокрушить их своим жаром и праведностью. Что ни говори, страсти у нас были соразмерные, пусть и направленные на разные объекты.
Именно с Оуэном я делил свое самое раннее и самое страстное устремление – уехать, вырваться. Я не помню, чтобы когда-нибудь это желание было конкретно сформулировано, но помню, что с самых ранних лет ощущал: жизнь – это не Индиана, уж конечно не Линдон и, может быть, даже не Америка. Жизнь – где-то еще, и она пугающая, гигантская, холмистая, неуютная. Мне кажется, Оуэн тоже это знал, как некоторые дети знают, что хотят остаться поближе к дому, и эта общая решимость – что место, где наш путь начался, не будет местом, где он продолжится и где закончится, – в большей степени, чем интересы или предпочтения, нас и объединяла, и помогала выдержать ритуалы детства до той поры, когда мы могли оставить их в прошлом и по-настоящему вступить на жизненный путь.
Занятно, что примерно два года после похорон отца оказались самым счастливым, самым гармоничным периодом наших отношений. В эти годы мы были очень близки, и на протяжении короткого, дерзкого, медового отрезка времени я усердно писал ему каждую неделю, чего в студенческие годы мы вовсе не делали. Поздней весной 1946 года мы вместе оправились в отпуск в Италию. Тогдашняя фотокарточка изображает нас, готовых к погрузке на корабль «Аркадия» в Нью-Йорке. На нас обоих парусиновые костюмы и котелки. Это была наша первая поездка в Европу, более того, первый совместный отпуск и, к сожалению, последний, хотя тогда мы не могли этого знать, и я помню, что, вернувшись три месяца спустя, мы пообещали друг другу отправляться в такое путешествие каждый год, в места все более далекие.
Из той поездки мне памятны немногие детали – я плохо помню, какие картины мы видели, какие блюда пробовали, о чем говорили, какими развалинами восхищались, даже где останавливались, – но со странной, неприятной ясностью до сих пор вспоминаю незнакомое и неопределимое чувство, которое я начал испытывать примерно на середине пути, стоило мне взглянуть на Оуэна. Я помню, что в такие мгновения что-то прижималось к моей груди, большое и требовательное, но не мешающее, не болезненное. После нескольких таких случаев я решил, что это, за неимением лучшего слова, любовь. Конечно, я ему ничего не сказал (таких разговоров мы не вели), но очень отчетливо помню, что я смотрел на него как-то вечером, стоя на корабельной палубе, смотрел на его острый нос, заканчивавшийся сгустком неопределенной формы (мой нос), слушал, как темные волны плещут о борт корабля, и чувства почти переполняли меня. Когда Оуэн обратился ко мне, я не смог ответить и притворился нездоровым, чтобы пойти лечь и в каюте, в одиночестве, лежать и думать об этом новом открытии.
Это ощущение, конечно, не продержалось долго. Оно возникало в ходе нашего путешествия и потом на протяжении разных лет. И хотя оно никогда не было таким сильным, как в тот день на воде, я постепенно принял эту знакомую боль, а потом стал мечтать о ней, даже зная, что, испытывая ее, я не способен выполнять, а уж тем более обдумывать что-то иное.
Часть II Мыши
1
О кончив колледж, осенью 1946 года я поступил в медицинскую школу[12]. Про нее мне, в общем, нечего сказать; факультет был унылый, однокашники – невыразительные, и меня это совсем не удивило. На медицинский факультет я направился потому, что в те времена так приходилось поступать всем, кто хотя бы в общих чертах интересовался биологическими свойствами человеческого организма. Будь я студентом сегодня, я бы, наверное, предпочел аспирантуру в области вирусологии, микробиологии или чего-нибудь в подобном роде. Дело не в том, что медицинский факультет сам по себе неинтересен, и даже не в том, что он не развивает ум; дело в том, что тамошние студенты чаще всего самодовольны и сентиментальны, больше заинтересованы в романтическом героизме врачевания, в котором погрязла профессия, чем в проблеме научного поиска.
Пятьдесят лет назад это, пожалуй, проявлялось даже в большей степени, чем сейчас. Моих однокашников – по крайней мере, тех, с кем я имел дело на протяжении четырех лет, – можно было легко разделить на две категории. Члены первой категории, более безобидные, были туповаты, послушны и зубрежке предавались с радостью. Члены второй, более неприятные, были цепкие и мечтательные, озабоченные собственной будущей важностью. Но всех отличали амбиции, страсть к соревнованию и жажда славы.
Я не был особо выдающимся студентом. Хотя интеллектуальным любопытством и творческим подходом я отличался, наверное, в большей степени, чем почти все остальные ученики в моей группе или даже на всем факультете, более прилежных студентов водилось очень, очень много: они ходили на каждое занятие, вели конспекты, читали учебники по ночам. Но меня занимало иное. В то время я со страстью собирал жуков – эта привычка и интерес остались у меня с детства; естественно, возможность найти необычных жуков в Бостоне была несколько ограничена, но в весенние месяцы я иногда прогуливал несколько дней подряд, уезжая на поезде в Коннектикут, где Оуэн изучал американскую литературу в аспирантуре Йельского университета. Я оставлял у него сумку, садился на другой, маленький и сонный поезд, уходивший в сельскую местность, где я и проводил целый день в каком-нибудь поле с сачком, блокнотом и стеклянной банкой, в которой лежал большой кусок смоченной формальдегидом ваты. Когда небо окрашивалось в оранжевый цвет, я ловил машину на Нью-Хейвен, где проводил вечер у Оуэна, ел приготовленную им еду, и пытался – без особого успеха – вовлечь его в разговор. Оуэн с годами становился все молчаливее (за что я был ему, надо сказать, признателен, потому что его рассуждения о собственных занятиях, посвященных Уолту Уитмену и воображению по-американски, изрядно отдавали интеллектуальной неразборчивостью), и, глядя, как он нарезает свой омлет на маленькие заботливые кусочки, я старался гнать от себя мысль о его сходстве с нашим флегматичным, простоватым отцом.
Преподаватели, конечно, без восторга относились к моим многочисленным пропускам, но поскольку контрольные и письменные работы я всегда сдавал успешно, наказать меня им было нелегко, разве что прочитать нотацию о том, как отсутствие дисциплины непременно обернется заурядностью моей профессиональной жизни. Я не сомневался в их серьезности и искренности, но и беспокоиться о своем будущем себе не позволял; даже тогда я понимал, что мне суждены такие приключения, которым безупречная посещаемость никак и ничем не поможет.
Впрочем, не хочу идеализировать свое по большей части утомительное и незрелое неуважение к профессорам и университету. Сегодня, оглядываясь назад с высоты своей нынешней карьеры, было бы, пожалуй, совсем нетрудно сказать, что я знал, как в конечном итоге все обернется в мою пользу, что я был искренне лишен тщеславия. Но если говорить начистоту, наверное, следует признать и то, что даже тогда я стремился к определенного рода величию, которое казалось одновременно возможным и недоступным, к едва очерченному ореолу на периферии поля зрения, что в то время мне было проще притворяться перед всеми, включая себя самого, будто блестящее будущее меня не интересует, лишь бы не думать, что время, проведенное на медицинском факультете, и мои тамошние успехи и неудачи предскажут остальную мою жизнь, определят, сложится ли этот мерцающий образ во что-то более ясное или нет.
Но для меня все по-настоящему изменилось на третьем году медицинского факультета – вернее сказать, я все по-настоящему изменил. Именно в этом году Грегори Смайт пригласил меня работать в своей лаборатории. Сейчас вы поймете, почему это событие можно назвать удивительным, – и действительно, на протяжении многих лет меня продолжали одолевать вопросами о моей работе у него[13].
Я бы солгал, сказав, что не был поначалу польщен. Сегодня упоминание имени Грегори Смайта (если его вообще удается припомнить) вызывает насмешки, самоуверенную, самодовольную ухмылку, всегда обрамленную и облегчением, и страхом, – без сомнения, через поколение-другое имена многих самых авторитетных нынешних ученых будут вызывать такую же реакцию. Но когда я учился, Смайт считался выдающимся мыслителем, провидцем, образцовым врачом и ученым, каким, по общему представлению, мечтал стать любой[14].
К тому же Смайт был довольно необычной фигурой в университетской среде и в научном сообществе. В частности, направление его изысканий в то время многие признавали одним из самых интересных в медицине. Очень легко сегодня смеяться над ошибочными представлениями и теориями, которые когда-то считались революционными, но нельзя отрицать, что 1940-е были в своем роде эпохой великого расширения возможностей науки. Какими бы неверными (сказать это мягче невозможно) ни оказались в конечном счете многие из теорий Смайта и его коллег, это поколение отличалось удивительной любознательностью, и их жажда – у которой было множество причин, но сомневаться в ее подлинности не приходится – в конце концов помогла основать то, что мы признаем сегодня современной наукой. Без них нам с вами было бы нечего отрицать, нечего развеивать и развенчивать. Иногда, вспоминая труды Смайта, я думаю, что самая важная часть его наследия – это определение того типа вопросов, которые будут занимать научное сообщество следующие полвека, даже если ему самому так и не удалось выдвинуть правильные ответы.
Я слышал о Смайте еще до первой встречи с ним. В середине 1940-х одна из самых популярных медицинских теорий заключалась в вирусной природе рака. Эту теорию выдвинули несколькими десятилетиями раньше, но Смайт ее яростно защищал, проведя значительную часть начала сороковых в попытках доказать, что рак (который, по разумению тогдашней науки, мог вызываться хоть демонами, хоть колдовством) можно не только досконально объяснить, но и успешно вылечить: если удастся выделить вирусы, вызывающие рак, далее, по логике вещей, можно будет разработать вакцину, которая с ними справится, и рак окажется окончательно побежден. Как все наиболее привлекательные теории, эта концепция была вдохновенной, но сдержанной, а также аккуратной, логичной и удовлетворительно правдоподобной. Сверх того, она была доступна для понимания, так что теория Смайта (в прессе ее прозвали «построением Смайта», как будто это пифагоровская теорема или теория эволюции или как будто Смайт – некий аристотелеподобный автор какой-то древней, полумистической, глубоко аллегоричной философской системы) вскоре обеспечила ему широкую известность (и с неизбежностью – острую зависть) как в академических, так и в широких кругах[15].
Но к нему я вернусь позже, что вполне уместно, потому что со Смайтом я познакомился, только отработав в его лаборатории несколько месяцев. Не удивительно, что с учетом моих оценок, взглядов и общей неподходящести я оставался более или менее пустым местом на протяжении почти всей моей тамошней работы; сослуживцы никогда не вступали со мной в разговор, а задания я выполнял самые заурядные. Я, впрочем, не обижался – такие студенты, как я, видимо, постоянно появлялись и исчезали, маячили, а потом пропадали куда-то еще, оставаясь такими же расходными единицами, как обезьяны, которых нам приходилось кормить, мыши, чьи поилки мы меняли, собаки с испуганными глазами, которых мы кололи, пока они тоже не пропадали куда-то из лаборатории, забирая с собой свои запахи и звуки.
Обычно в лаборатории нас было человек пятнадцать (плюс Смайт, конечно), и хотя я почему-то лелеял романтическую мечту о свободном творческом обмене идеями и теориями (да, я был очень наивен), на самом деле все подчинялись строгой иерархии; хотя среда была замкнутая и контингент узкоспецифический, но формальные и сословные границы внешнего мира здесь соблюдали с рабской покорностью. На вершине находился Смайт, и сказанное им – или то, что передали его непосредственные подчиненные со ссылкой на него, как происходило чаще, – следовало выполнять без всяких вопросов и пререканий. Впрочем, к моменту моего появления Смайт бывал на работе все реже, больше интересуясь, по всей видимости, интервью с «Нью-Йорк таймс» и Эдвардом Р. Мэроу.
Следующими по важности в конторе были два главных ординатора, Уолтер Брассард и Монро Фитч, оба с докторской степенью по медицине, оба (как они не ленились напоминать нам примерно раз в неделю) лично избранные Смайтом для управления его лабораторией. В их обязанности входило наблюдение за экспериментами, написание черновиков смайтовских работ и отслеживание их публикационной судьбы, забота о ежедневных потребностях лаборатории, в том числе о найме аспирантов-медиков и студентов. Они оба меня не любили, особенно Брассард, но поскольку нанял меня непосредственно Смайт, им приходилось смиряться. Оба они – опять-таки особенно Брассард – были и сами по себе известны; в университете я слыхал, как профессора обсуждали их блестящее будущее. Иногда их называли «младотурками»; считалось, что это именно те научные умы, которые унаследуют дело Смайта и доведут его проекты до воплощения. Они редко разговаривали друг с другом и, как я заметил, напряженно соперничали. Каждый презирал другого за посредственное образование (что было странно: они учились вместе от старших классов до медицинского института), за интеллектуальную леность (опять-таки ни один из них не производил впечатления человека, одаренного богатым воображением) и, как постепенно выяснилось, за сиюминутное отношение Смайта к каждому из них.
Ниже Брассарда и Фитча располагались четыре младших ординатора, тоже доктора медицины; их звали Партон, Нессер, Улливер и Кертис. Эти четверо были по-своему даже менее выносимы, чем отобравшие их (с благословения Смайта) Брассард и Фитч. Все они тоже ходили в школу-пансион (но не в ту же, что Брассард и Фитч), все передвигались по лаборатории с некой торжественностью – слегка нахмуренный лоб под волосами, которые они продолжали стричь по-школьному, руки, сцепленные за спиной с претензией на величие, – но, несмотря на серьезность намерений, они не умели скрыть легкие усмешки, проступавшие на лицах, когда им казалось, что никто на них не смотрит, самодовольное прихорашивание, какое охватывает женщин при сближении с зеркальной поверхностью. Меня определили работать с Партоном, который нравился мне больше остальных за гладкое лицо с пухлыми щеками, за неопрятную рубашку («туркам» такие детали казались важными, и они его вечно критиковали) и за то, что он оставлял меня в покое, забывая на целые дни, что я помогаю ему в экспериментах и он, следовательно, должен отслеживать мои движения и, как у них это называлось, ежедневную выдачу результата.
За младшими ординаторами следовали два студента-медика: я и парень по имени Джулиан Тернбулл, большой любимец «турок», никогда не вступавший со мной в разговор, словно сам факт моей неподходящести был болезнью, которую он мог подхватить при малейшем соприкосновении. Он держался в стороне, и меня это вполне устраивало; я знал, что он с моего курса, что он откуда-то из Коннектикута, что в Уэллсли у него есть невеста, но о его мыслях, о том, где скрывается его интеллект, я не знал ничего, потому что об этих вещах он никогда не говорил, как будто по сравнению с его лабораторной жизнью они мало что значат.
Затем следовали два студента, оба, как правило, биологи из колледжа (они менялись так быстро и в любом случае были такие взаимозаменяемые, что никто из нас не пытался запомнить их по именам), оба собирались на медицинский факультет, оба всегда ходили с видом довольно испуганным: для студента работа в лаборатории Смайта была почти что царской почестью, и на их лицах отображались страх и гордость. Глядя на них, я иногда думал, какие обещания они были вынуждены дать, чтобы получить эти должности, какие проверки прошли у своих руководителей, какие обязательства на себя взвалили.
За студентами следовал человек по имени Дин О’Грэди, которого тогдашние остроумцы окрестили Жирным Ирландцем, потому что он был жирный ирландец. Жирный Ирландец был тот персонаж в лаборатории, чья работа у всех на виду и легче всего поддается оценке: пока мы все записывали результаты, ударяли ногтями по пузырькам воздуха в спиртах, брали кровь и фиксировали очередной результат, Жирный Ирландец заботился о животных и делал то, чего не делали мы. Он чистил клетки обезьян и кормил их смесью побуревших бананов и овсянки. Он менял воду мышам и убирал гнойные струпья из собачьих глаз. Его бесстрастие меня впечатляло: он не был ни любителем животных, ни романтиком (один такой раньше работал в лаборатории, как я узнал, и закончилось все плачевно, когда однажды поздно ночью Фитч обнаружил, что он пытается вытащить собак из клеток и запихать в свой фургон), и сама лаборатория, казалось, его тоже особенно не интересовала. У служителей, которые работали с животными, – с этим позже пришлось столкнуться и мне – встречалась порой первобытная ненависть к людям, управлявшим лабораторией. Дело было не в том, что они любили животных (заявки тех, кто признавался в любви к животным, немедленно отправлялись в мусорную корзину), – дело было в том, что они ненавидели науку и людей, занимавшихся наукой, всех этих личностей в белых халатах и то, что им казалось нашим отвратительным высокомерием, хотя что именно они так ненавидели, само наше образование или его применение (первое они считали избыточным, второе эгоистичным), определить было нелегко. Эти люди не были способны на осмысленную умственную работу, и, будучи не в состоянии понять, что мы делаем, и одновременно не желая признать собственную ограниченность, они предпочитали обзывать и ненавидеть нас. (Так ведут себя не только служители, работающие с животными, но и журналисты, и защитники животных, и священники, и политики, и домохозяйки, и художники – одним словом, люди, которые непременно должны свести любую тайну к человеческому высокомерию и злу.)
Но вернемся к Жирному Ирландцу: он приходил и начинал работать каждый день в четыре часа пополудни, и когда мы возвращались наутро, клетки были прибраны, поилки наполнены, и лаборатории особенно отчетливо пахли своим характерным запахом – яичным ароматом чистящих средств и сладковатым духом залежалого кала. Иногда, задерживаясь по вечерам, Жирного Ирландца можно было встретить и кивнуть ему, и он кивал в ответ. Он не старался завести разговор. Если ему задавали прямой вопрос, он отвечал самым прямолинейным способом – не грубо, но и не наваливаясь на собеседника с той болтовней (про погоду, про тяжелую работу, про разные болящие органы), которая из дворников, официантов и прочего служебного люда всегда изливается в бесконечных количествах. Вместо этого разговор происходил так: «Доброе утро, Жирный Ирландец». – «Доброе утро». – «Бассет четыре [собака-бассет в четвертой клетке] вчера вечером сдох». – «Разберусь». И все.
После Жирного Ирландца мы спускаемся на самое дно: лаборанты, Дэвид и Питер, которым не полагалось ни фамилии, ни письменного стола, хотя белые халаты у них были. Они передвигались от пункта к пункту, моя колбы, нарезая бинты, вычищая сгнившую биомассу из пробирок, доставляя кружки пережженного кофе, принося мышей из клеток, относя мышей в клетки. Я пытался не прибегать к их услугам слишком часто: во-первых, быстрее выходило сделать все самому, а во-вторых, они оба были разговорчивые, любили рассказать про своих женщин или про еду, которую собирались съесть на ужин, или про то, как им надоела работа. Они не отличались беспричинной жестокостью к животным, но отличались небрежностью: мышей они сжимали так сильно, что те пищали и дергали в воздухе ножками; они не помнили, в какой клетке сидит какая собака; они опрокидывали бунзеновские горелки и неидеально прибирали образовавшийся беспорядок, так что приходилось до конца дня осторожно обходить собственный стол, пока ночной уборщик не отчищал то, что они упустили.
Лаборатория размещалась на первом этаже здания под названием Чейз-Холл, десятиэтажного, краснокирпичного, уродливого и функционального; несколько лет назад его снесли. Главное помещение, немного больше тысячи квадратных футов, представляло собой длинный прямоугольник с четырьмя окнами, обращенными на зелень снаружи. В южном углу, дальше всего от рева сжигательной установки, которая примыкала к нашей лаборатории, располагался кабинет Смайта – небольшой застекленный квадрат, где стоял стол из капа (идеально и подозрительно пустой), металлический каталожный шкаф и металлический стеллаж. К восточной стене этой комнаты ниже окон непосредственно примыкали выставленные в ряд металлические столы для каждого из младших и главных ординаторов, для студентов-медиков и биологов. Оставшееся пространство было занято восемью длинными металлическими стойками с раковинами, уставленными бунзеновскими горелками и колбами. Полы покрывал линолеум, стены были выкрашены в бледно-масляный цвет, от которого мне всегда ужасно хотелось хлеба или картошки – чего-нибудь крахмального и мучнистого.
За главным помещением по всей длине тянулись две лаборатории с животными. В первой, с южной стороны, примерно трехсотфутовой, располагались мыши; в ней не было окон, и клетки, поднимавшиеся футов до семи, стояли вдоль трех стен, выкрашенных в яркий, загустевший, обгорелый оранжевый цвет. Мышиная лаборатория, как всякая лаборатория с животными, пахла промокшими газетами, пометом и плесневым, болотным запахом влажной шерсти. Каждую ночь полы дезинфицировали, но природные запахи комнаты от этого только усиливались – они были так неотступны, что, казалось, запеклись в самих стенах. К мышиной лаборатории примыкала собачья, почти вдвое больше, но с теми же запахами, с теми же ржавого цвета стенами, с теми же проволочными клетками, хотя здесь они поднимались до самого потолка. Клеток было тридцать шесть или около того, и все они были маленькие, около двух квадратных футов, так что собаки (обычно почему-то овчарки) не могли стоять и проводили время на боку или сидя с расставленными передними лапами, что придавало им какой-то пьяный и непристойный вид. Еще десять-двенадцать клеток повыше предназначались для обезьян, которые у нас бывали регулярно, но все-таки не так часто и не в таких количествах, чтобы заслужить собственную лабораторию. Про эти лаборатории мне больше всего помнится их безмолвие – лихорадочное, пронзительное попискивание мышей и безнадежное, тягучее завывание собак раздавалось, только когда их вынимали из клеток или помещали обратно. Остальное время они хранили молчание, смотрели на свои лапы и ждали. Только обезьяны жаловались, болтали и причитали целыми днями, покрикивая в пустоту. Это в них раздражало – как и ужасный беспорядок, который они разводили, как и резкие запахи, хотя, конечно, это были более ценные животные для работы.
Большую часть времени я проводил с мышами. В одном из экспериментов Партона – точные параметры остались мне неизвестны, потому что, как ни странно, хотя мне многое доверяли, я, видимо, не считался достаточно важным персонажем, чтобы знать, чем он занимается большую часть дня, – мышей следовало заражать разными вирусами в надежде, что какой-нибудь из них вызовет рак. Начиналось все, например, с дюжины мышей, по одной в каждой пронумерованной клетке. Потом надо было взять вирус и с физраствором ввести его в каждую мышь. А потом – ждать. Каждый день приходилось взвешивать, обмерять и осматривать каждую из них. Не кажутся ли они апатичными? Как они едят и пьют? Не вырастают ли у них какие-нибудь странные опухоли (на это можно было только надеяться, но за время всех проведенных мною экспериментов этого так и не произошло)? Я записывал результаты в блокнот, который мог потом затребовать, но ни разу не затребовал Партон. Скука подталкивала меня к затейливости: «№ 12. Белая мышь, – писал я (они все были белые), – сложение подагрическое. Нос и лапы: розово-розовые по сравнению со вчерашним днем (гвоздично-розовые). Личностные свойства: тупая». (Они все были тупые. Это же мыши. Они проводили дни за мышиными занятиями.) В определенный момент, примерно через три месяца, их надо было убить, вскрыть и начать все заново с новой группой.
Убивать мышей мне, пожалуй, нравилось. Сделать это можно было на удивление немногими способами: усыплять их выходило слишком долго и дорого, топить – неряшливо и к тому же скучно. (Да и в любом случае оба метода испортили бы ткани, нужные нам для изучения.) Убивать их научил меня Улливер. Нужно было взять мышь за хвост и помахать ею круговым движением, как лассо, чтобы ее замутило и она стала недужно поматывать головой. Потом ее надо было положить на стол, одной рукой взяться за голову позади ушей, а другой потянуть за хвост. Тихий щелчок – и шея ломалась. Иногда мы с Джулианом Тернбуллом стояли у разных концов длинного стола посредине мышиной лаборатории и оба крутили по четыре-пять мышей в каждой руке, а потом такими же партиями убивали. Это была удовлетворительная задача, небольшое, но реальное достижение по ходу дня, который, как и многие другие дни, казался лишенным структуры, движения, смысла.
Потом мышей относили в главную лабораторию и раскладывали на одном из столов животами вверх. Следующий шаг – у каждой вырезать селезенку, крошечную, аппетитного вида и насыщенно-мясного коричневого цвета, размером с маленькое арбузное семечко, и разместить в отдельной чашке Петри с небольшим количеством физраствора. Рядом лежала упругая стопка тонкой проволочной сетки, порезанной на квадратные куски примерно в дюйм шириной, и такой кусок надлежало простерилизовать в пламени, а потом растереть через него селезенку в другую чашку Петри, чтобы получить суспензию отдельных клеток. Селезенка, разумеется, мягкая и мясистая, как фуа-гра, поэтому надо было очень осторожно, едва касаясь, проводить ею по сетке; стоило приложить чуть больше силы, как орган размазывался у вас по пальцам, покрывая их клейким и темным слоем, как помадка. Делать это можно было несколько раз или до того момента, как орган разжижался; тогда некоторую часть соуса следовало пипеткой перенести в пробирку, изучить под микроскопом и записать, сколько там клеток на миллилитр.
Смысл этих экспериментов, как я уже отметил, заключался не только в том, чтобы доказать, что рак вызывается вирусами (прошу заметить, я не сказал «проверить, вызывается ли рак вирусами»; Смайт, в результате ли собственной гордыни или поддавшись безнадежной ошибке и поверив тому, что научный журналист – это всегда оксюморон – про него написал, кажется, убедил себя, что его теория непотопляема. Его лаборатория не занималась подтверждением или опровержением; Фитч, Брассард и остальные интересовались только деталями предположения, а не его истинностью), но и в том, чтобы выяснить, как вывести клеточную культуру. Если можно доказать что, скажем, рак X вызывается вирусом Y, тогда все, что нужно, – это создать вакцину, которая уничтожит рак. (Я упрощаю, но ненамного: так действительно тогда думали, и не только в медицине, но во всех науках: делаешь бомбу, сбрасываешь ее на неприятных людей – неприятных людей больше нет.)
Один эксперимент, который мне довелось повторять, касался почек, где патологии легко определить – во всяком случае, легче, чем в селезенке. Надо было взять мышиную почку (более волокнистый орган, чем селезенка) и в пробирке разделить ее на мелкие кусочки. Потом следовало взять эти кусочки и через слои все более мелких решеток попытаться опять-таки довести дело до одноклеточного слоя, который было легко опознать по его вязкости. После этого ткань нужно было растереть при помощи физраствора и фетальной телячьей сыворотки – что, естественно, способствует росту, – а потом поместить ее в стерильную емкость на ровной поверхности и хранить при температуре 37 градусов. На весу клетки приклеятся к емкости изнутри, сформировавшись в плоские, звездчатые области. Получив процветающий клеточный монослой, надо было ввести вирус и заразить клетки. Через несколько дней всю серию приходилось прогнать через центрифугу и собрать супернатант – неклеточную часть – в качестве вакцины.
Так, по крайней мере, считалось. И я должен признаться, что в то время этот метод казался разумным и логичным. Может быть, сегодня он кажется немного чересчур разумным, немного чересчур логичным, но он был правдоподобнее, чем многие ведущие теории той эпохи, хотя, как я вскоре узнал, самое правдоподобное не всегда оказывается самым правильным или требующим наиболее тщательного изучения. Чаще ты снова и снова возвращаешься к безумной теории, на первый взгляд совершенно невозможной, но непропорциональная доля внимания уделяется ей просто потому, что стоящая за ней свежесть мысли тебя будоражит.
Мне было двадцать четыре года; я заражал собак. Я брал шприцы с разными вирусами и вводил их собакам в почки. В те времена идея трансплантации органов пользовалась большой популярностью, и поэтому скоро я уже делал настоящие операции, хотя и на собаках, и мог делать их без присмотра, прямо в собачьей лаборатории (иногда заходил Партон, бросал на меня скорбный взгляд, словно понятия не имел, кто я такой, и не смел спросить, а потом тихо пятился обратно, не сказав мне ни слова). Я вскрывал собаку, перекрывал артерию, ведущую к ее почке, и снова зашивал. Через несколько дней, когда собака выла и постанывала от почечной недостаточности, а ее моча становилась вязкой и отравленной на вид и с трудом выходила жирными, липкими каплями, я снова усыплял ее, убирал мертвую почку (приобретшую синюшный, блестящий цвет гнилого мяса) и пытался пересадить ей почку, которую я заразил у другой собаки. Собаку-донора я отправлял в кремационную печь. Собака с пересаженным органом тоже вскоре сдыхала, от зараженной ли почки или от моих посредственных хирургических навыков – я так никогда точно и не знал. Я наблюдал за ней, заносил заметки об ухудшении состояния в блокнот и, когда она умирала, вырезал нужные органы, сохранял их для последующего анализа, а труп тоже сжигал.
Так проходил день за днем. Я понимаю, что этот рассказ создает впечатление, будто мне было скучно, возможно, в нем даже звучат ноты драматического фатализма, но в те времена все это казалось довольно интересным из-за самой работы – потому что иногда я действительно чувствовал, как это и бывает у сотрудников хорошей лаборатории с харизматичным руководителем, что я не меньше, чем остальные, а может, и больше, стою на самой грани открытия чего-то небольшого, но важного, чего-то, что изменит науку навсегда, – а еще потому, что мои лабораторные дни и жизнь окружающих людей указывали мне, что это не та жизнь, которую я хотел бы выбрать. Забавное это дело, работа на кого-то в лаборатории: тебя выбирают, потому что ты лучший в группе или самый многообещающий в своей области или у тебя интересные идеи, и ты оказываешься в помещении, где полно таких же, как ты. В некоторых коллегах ты видишь собственное прошлое, того студента, каким ты был, а в других – собственное будущее или, по крайней мере, модель своего будущего, хотя и предполагаешь, что сам окажешься лучше, умнее, одареннее их.
Но что это вообще значит – быть одаренным или талантливым в лаборатории? Ведь твоя работа там не по-настоящему твоя; тебя выбирают за интеллектуальные способности, а потом просят в той или иной мере забросить свои мысли и начать думать чужие. Некоторым это сделать проще, именно они и остаются. Так что, входя в некое братство, ты отказываешься от независимости. Но амбиции сложно полностью подавить, и они перераспределяются: ты работаешь не в одиночестве, а в одном помещении с другими, но в ходе этой работы каждый день надеешься, что именно ты совершишь ключевое открытие, именно ты найдешь ответ, именно ты его триумфально продемонстрируешь вашему директору, а он окажется достаточно благородным и уверенным в собственных интеллектуальных способностях, чтобы признать твои достижения. Это – твоя надежда, и она способна мотивировать и поддерживать людей куда более заслуженных, чем я. Но ответ на такие запросы дается лишь очень немногим, и эти люди – те, кому рано или поздно достаются собственные лаборатории, собственные патентованные клеточные линии, собственные статьи, – и есть счастливчики. Впрочем, они все до единого терпеливы, а я к концу своего семестра в лаборатории Смайта знал, что никогда не смогу быть ни таким терпеливым, ни таким уступчивым.
Эта уверенность отчасти основывалась на дискомфорте, который вызывала у меня обстановка самой лаборатории. Лаборатории в те времена были не такими, как сегодня. Не то чтобы я сильно интересовался жизнью коллег, тем, что их занимает в неслужебное время, но на работе упор делался на консерватизм, на приличия, и мне это казалось избыточным и удручающим. В те времена наука считала себя царством джентльменов. Это была, в конце концов, эпоха Лайнуса Полинга и Дж. Роберта Оппенгеймера, которые оба были, конечно, выдающиеся деятели, но при этом умели одеваться определенным образом, выступать на банкетах, заводить романтические связи. Гениальность не оправдывала социальную неприспособленность так, как это происходит сейчас, когда отсутствие базовых социальных навыков, неспособность пристойно одеться или прокормиться великодушно расценивается как свидетельство интеллектуальной чистоты и преданности интеллектуальной жизни.
Но так было не всегда. В те времена было сложно не принимать в расчет внеслужебную деятельность и интересы коллег: от человека ожидалось, что его собственная жизнь тоже будет пристойной. Про «турок» говорили с одобрением не только из-за их хорошего образования, не только потому, что их быстрый ум, дисциплина и вдумчивость признавались всеми, но и потому, что они такие представительные. У каждого была жена, окончившая Рэдклифф, оба были родом из известных семей с Восточного побережья, оба были вполне хороши собой и прилично одевались. Они были очень убежденные. Они не сомневались, что делают серьезное и важное дело, – я тоже, но они относились к тем людям, которые включают чувство юмора только в уместной обстановке (на вечеринках, за ужином и т. д.), причем в очень ограниченном диапазоне. За исключением поездок в Европу с родителями (и, наверное, с армией во время войны, что вряд ли можно считать), ни один из них не путешествовал и не хотел путешествовать. Друзья у них были такие же, как они сами, и на работу они нанимали таких же людей; странные скандинавские фамилии Улливера и Нессера уравновешивались их прозвищами, Прыг и Скок, и жизнь их протягивалась от лаборатории до их домов в Кеймбридже или Ньютоне и назад. Возможно, люди вроде Жирного Ирландца никогда не задумываются о жизни, в которой есть что-то кроме опустошения мышиных клеток и удаления мочи с пола лаборатории, но «турки» были по-своему столь же ограниченны, столь же неизобретательны: они воображали, что сделают важный вклад в спасение человечества, и пожалуй, это безупречная цель, но сам процесс никогда не казался им таким же привлекательным, как результат, как воображаемая честь присоединить свою фамилию к чему-то, что они мечтали изобрести, решить, починить. Я занялся наукой ради приключений, а они считали, что приключения следует претерпевать, а не искать на пути к неизбежному величию.
2
Я работал в лаборатории уже полгода, когда у меня впервые появилась возможность познакомиться со Смайтом. Я видел его и раньше, конечно, но мельком: в газетах, в журналах, в те моменты, когда он забегал к нам поговорить с Брассардом или Фитчем, схватить лист бумаги или журнал со своего подозрительно прибранного стола, чтобы потом снова отправиться в мир за пределами своей лаборатории. Некоторые преподаватели время от времени ревниво спрашивали меня про него: что он поручает мне в лаборатории? А что он сам делает? Я всегда отвечал правдиво, и получалось достаточно скучно и туманно, чтобы остановить всякие расспросы: я режу мышей; я не знаю. Если бы я имел о нем какое-то мнение, если бы восхищался им и пытался защитить его труды, я бы врал и старался изобразить свою работу более увлекательной.
Тем не менее однажды Брассард остановился у моего рабочего места, пока я размазывал мышиные печени.
– Смайт оставил это для вас, – сказал он и положил конверт возле моего локтя. Вид у Брассарда был недовольный, но у него всегда был недовольный вид. Я стянул перчатки и открыл конверт – обычный конверт обычного размера с напечатанной на нем моей фамилией. Внутри лежал лист папиросной бумаги с письмом – тоже напечатанным, причем очень коряво, я решил, что Смайт делал это сам, – которое приглашало меня на ужин в ближайшую пятницу к половине седьмого. Он подписался черной перьевой ручкой, чернила прокрасили бумагу насквозь и собрались в кляксу. Сейчас трудно точно вспомнить, что я подумал об этом приглашении. Наверное, был польщен – хотя Брассард, каким-то образом догадавшийся о природе письма, не преминул в тот же день сообщить мне, что Смайт регулярно приглашает каждого из студентов-медиков, работающих в его лаборатории, один раз (он подчеркнул это) за время работы, – но, как ни странно, я не помню, чтобы как-то особенно радовался. Беспокоиться я тоже не беспокоился. Я никогда не понимал толком, как мне удалось получить место в лаборатории Смайта, и к тому моменту был совершенно уверен, что в таком месте не задержусь; отсутствие интереса способно мягко снять любую тревожность.
В пятницу я прибыл на ужин к дому Смайта – высокому, узкому особняку на краю кампуса медшколы. Перед крыльцом стоял японский красный клен, совершенно голый (дело было в начале марта), куст падуба с глянцевитыми, узорчатыми листьями и кучка нервных крокусов, выглядывавших из своего дернового нимба. Остальной сад был пуст и представлял собой ковер из незамысловатых щепок. В расположении растений не наблюдалось ни гармонии, ни какого-либо порядка – они просто росли. Внутри дом оказался совершенно такой же: в одном углу прихожей стоял неуместный японский комод из пузыристой, сморщенной камфарной древесины. В другом, столь же неуместно, располагался старомодный английский секретарский стол, узоры его древесины разукрашивали поверхность шелковистыми полосами. Пыльные полы были покрыты старыми восточными коврами, а их бахрома усыпана крошками печенья. На стенах висели глубокие черные рамы с черным фетром внутри, а на них располагались кулоны из тускло-светлого золота, миниатюрные резные изделия из слоновой кости (гном, чьи грубо вырезанные руки схлопывались в радостном жесте; корабль, чьи паруса неубедительно раздувались) и камеи с мечтательными курчавыми девицами, которые глядели в сторону с пустым выражением лица. Вроде бы очень запоминающиеся детали, но при этом в атмосфере жилища крылось что-то туманное и неконкретное – оно выглядело как выставочный зал второразрядного аукционного дома, специализирующегося на распродаже частного имущества. Там не было ничего отражавшего личность Смайта с его волосами цвета березовой коры, с его морщинистым лицом, напряженной, негнущейся походкой и журнальными статьями. Каждая рама на стенах была покрашена в свой причудливый цвет: красновато-коричневый, морской волны и яркий светло-зеленый, характерный для незрелых плодов. Я ожидал бежевого, коричневого, возможно, какого-нибудь приемлемого синего, ожидал аккуратности и порядка, а не жилища эксцентрика, потому что Смайт эксцентриком не был.
Но при этом все его окружение в тот вечер словно бы утверждало, что он эксцентрик. Ужин, когда его наконец подали, оказался таким же дурно организованным и бессистемным, как дом, будто его собрали из всего, что удалось найти в холодильнике десять минут назад. Подавали томатный суп, густой, как соус, с сильным привкусом кетчупа; куропаток, недоготовленных настолько, что я видел красные нити артерий, прорезающие плоть; морковь и лук, такие переваренные, что при малейшем нажатии они обволакивали зубцы моей вилки; еще один суп, который состоял вроде бы исключительно из сваренного репчатого лука пополам с пореем и был украшен влажной многозначительной загогулиной горчицы; а на десерт – нечто, что Смайт гордо объявил хурмой: плоды в благочинном восточном порядке расположились на бело-синих китайчатых блюдцах, но по жесткости не уступали зеленым сливам, и на вкус, когда мне в конце концов удалось отпилить кусок, были как трава, только кислые, и это впечатление я смог исправить лишь много лет спустя.
За столом, кроме нас двоих, никого не было. Смайт сидел в торце, ближе к кухне, а я – справа от него. С каждой переменой блюд он вскакивал на ноги, исчезал за раздвижной дверью и триумфально возвращался с двумя тарелками. Когда я приближался к его дому с бутылкой вина, которую догадался купить в последний момент, мне пришло в голову, что, возможно, он захочет меня допросить и все это окажется каким-то испытанием. Я не беспокоился, удастся ли мне пройти его, но перспектива сидеть со Смайтом – и, предполагал я, его семейством – и излагать свои мысли о разных научных загадках современности меня не особенно радовала. Тревога моя оказалась напрасной, потому что Смайт весь вечер не закрывал рта, от момента, когда я вошел и он одной рукой взял мое пальто, а другой протянул мне пластиковый стакан бренди (я никогда не любил фланелевый вкус бренди на зубах и вылил жидкость в горшок с опадающим фикусом, стоявший в прихожей, когда Смайт отправился налить себе еще), на протяжении всего ужина и до рюмки хереса, которую он поставил передо мной в конце трапезы и которую я выпил, хотя мечтал о чем-нибудь сдобном, чтобы забить вкус хурмы. Рюмка была хрустальная и тяжелая, и я медленно вращал ее, глядя, как отблески падают на противоположную стену нездорового пергаментно-желтого цвета.
Вечер начался со светского разговора, к которому я был непривычен и неспособен. Поняв, что говорить мне не придется, нужно только время от времени улыбаться и кивать, я испытал облегчение. Постояв некоторое время в прихожей (налево от меня располагалась темная и необжитая гостиная), оба с пластиковыми стаканами в руках, мы сели за стол, и он переменил тему, заговорив о своей работе. Вы решите, конечно, что за два с лишним часа, которые я провел в обществе Смайта, рассуждающего о своей работе, я узнал что-нибудь интересное, что он сказал что-то глубокое или, по крайней мере, неоднозначное? Ничего подобного. Он обладал способностью долго говорить об интересных вещах, делая их каким-то образом не только совершенно неинтересными, но и невразумительными.
– Скажите, – произнес я, пока Смайт азартно разрезал птицу – свои порции он поедал жадно и с явным удовольствием, но так и не заметил, что я к своим едва притрагивался, – вы не могли бы немного рассказать о своем исследовании вирусной мутации? – Это же было основание его теории, труд всей его жизни. Но он не хотел говорить о своих исследованиях, вместо этого он говорил о людях, которые этим исследованиям мешают. Это был декан, и заместитель декана, и тот сотрудник, и еще вот этот – он перечислил десятки имен, объясняя мне, что каждый сделал не так, как они все были посрамлены и взглянули на него по-новому. Декан, по слухам, закатил глаза, услышав о заметке в журнале «Тайм». Замдекана вначале отказался дать ему желанное помещение в Чейз-Холле, пытался запихнуть в более темную, маленькую, непригодную лабораторию на пятом этаже. Но ведь победа досталась ему, правда? Он рассказывал эти истории без язвительности, даже весело, пока капли лукового супа падали с ложки в тарелку. Не закрывая рта, он с извинениями проследовал на кухню и вернулся с очередной порцией супа, на этот раз смесью двух предыдущих, которую он стал мешать обратной стороной ложки, доведя жидкость до странной пастообразной консистенции, а потом заткнул свою салфетку за воротник, чтобы уберечь галстук. Он придерживал салфетку на рубашке одной рукой и зачерпывал суп другой, бормоча что-то одобрительное.
Глядя на него, я гадал, какие выводы сделали бы из этого зрелища «турки»: может быть, они уже знают, каков Смайт на самом деле? Если так, почему они льнут к нему, как они могут его уважать? Может быть, я недооценил пределы их терпимости? Или это игра, которую Смайт ведет только со мной? Может быть, «турки» и младшие ординаторы собрались в затененной гостиной, с трудом сдерживая смех, и смотрят представление, где я – несведущий участник? Да и вправду ли это дом Смайта? Где его жена – я знал, что у него есть жена, и на левой руке поблескивало тонкое золотое кольцо – и не слишком ли неестественно тихи эти комнаты? Я представлял, как изобретаю предлог, чтобы пройти на кухню или через прихожую в гостиную, и мне открывается настоящий дом, где Смайт ораторствует внятно и ведет себя как выдающаяся личность, каковой мы все его считаем, а его прелестная жена подает нормальную еду, и его жизнь обретает в моих глазах смысл, и я перестаю чувствовать себя каким-то антропологом в собственных широтах с человеком, который нанял меня на работу и пригласил к себе домой на ужин.
После хереса он на некоторое время замолк, и я наконец смог вставить слово.
– Скажите, – спросил я, – почему вы меня взяли на работу?
– Да, – сказал он, помолчав, – действительно, почему. – Он вздохнул и покачал рюмкой в руке, и образовавшиеся переливы скользнули по его лицу огнем светлячка. – Вы не примерный студент, вы мечтательны и высокомерны. Ваши профессора не могут с вами сладить. – Все это он произнес весело, тем же приятным тоном, каким перечислял разнообразные провалившиеся замыслы своих неприятелей. – Но когда мне рассказали про вас, – тут он повернулся и взглянул на меня, и я впервые увидел его глаза, и кожаные складки под ними, и склеры, розовые, как у тех мышей, чьи органы я собирал и пропускал через сито каждый день, – я, видимо, вспомнил себя в вашем возрасте. Как страстно мне хотелось куда-то деться, как я ни к чему не мог примкнуть, как мечтал о свободе, как мечтал о собственной славе. Мы с вами похожи.
«Я не такой», – хотел сказать я, но не сказал. Он – теперь мне это стало видно – был пьян. Как давно? Был ли он пьян уже, когда я пришел? Я вдруг почувствовал себя глупо, по-детски, и смутился. Почему я не понял сразу, что меня ждет? Почему умение разбираться в людях – такой секрет, который, похоже, не дается только мне? Пока я размышлял об этом, Смайт стал издавать странные, быстрые глотательные звуки. Я решил, что он подавился, но, подбежав к нему, понял, что он плачет, прижав подбородок к салфетке, по-прежнему покрывавшей рубашку, по-детски сложив руки на коленях.
– О господи, – сказал он, – господи.
Я не знал, что делать. Мое пальто лежало на соседнем стуле, куда положил его Смайт. Я схватил его и бежал.
В понедельник я не пошел в лабораторию и не пошел ни на какие занятия. Вместо этого я остался дома, читал или листал географический атлас и составлял списки тех мест, где хочу побывать. Время от времени я думал о словах Смайта и пришел к выводу, что он неправ. Я вспоминал, как он плакал, и чувствовал жалость к себе и отвращение к нему. Когда мне хотелось есть, я готовил свое любимое блюдо, горячую овсянку, в которой размешивал сырые яйца, пока мне не пришло в голову, что это как раз такая странная смесь, какую мог бы подать Смайт. Я ужаснулся от мысли, что могу стать им, хотя только несколько лет спустя – примерно тогда же, кстати, когда открыл, каков настоящий вкус хурмы, – определил почему: хуже, чем его дурная наука, чем его сомнительная ученость, была его мелкая, необъяснимая одинокая жизнь в этом странном доме, где никто не мог отвлечь его от собственного утлого существования. Я с ужасом понял, что и у меня бывают такие мелкие, жалкие страхи, что я могу думать так же банально и плоско.
Я бездельничал несколько дней, потом позвонил секретарь мединститута и без обиняков спросил, собираюсь ли я возвращаться к занятиям, а потом Брассард, который в своей обычной высокомерной манере сообщил, что я, возможно, загубил эксперимент Партона и возвращаться мне нет смысла. Повесив трубку, я испытал облегчение, потому что в течение ужина со Смайтом лаборатория начала казаться мне западней, местом, где я неизбежно стану таким же, как он, и буду лелеять собственную теорию, не порождая никаких идей, с испугом ожидая неизбежного дня, когда мой обман вскроется. По крайней мере, я объяснил себе, что боюсь именно этого. Теперь же меня не просто отпустили, но сказали, что я им не подхожу, что никогда не стану одним из них, и эти слова, это отчисление заставило меня трепетать от радости. Я в безопасности, думал я, и некоторое время – долгое время – так оно и было.
На следующий день я вернулся к занятиям. Мои профессора, из которых кое-кто довольно близко общался с «турками», видимо, узнали, что я больше не работаю в лаборатории Смайта и, как ни удивительно, стали относиться ко мне лучше, чем раньше, хотя я по-прежнему ничего выдающегося собой не представлял. Но я следил за тем, чтобы не чувствовать по этому поводу досады, как могло бы случиться прежде. Я вспоминал Смайта – «вот теперь-то они ко мне подлизываются, теперь предлагают то, чего мне хочется», – и меня передергивало. В течение следующего года я ходил на занятия и тихо сидел в лекционных аудиториях, дав обет не изображать из себя кого-то более важного, чем в реальности. Это был мой первый опыт смирения – в лаборатории и в жизни[16].
3
Одна из привлекательных сторон медицинского института для людей с неразвитым воображением (или, если выражаться более снисходительно, для людей, не слишком склонных к мечтаниям) – это, конечно, ограниченность выбора. Разумеется, врач, независимо от того, работает он с пациентами или в одиночестве с тканями, вынужден принимать десятки решений в день, но на большие вопросы – вопросы о том, что дальше делать в жизни, – ему отвечать не надо. Никогда не приходится гадать, что принесет следующий год, путь прочерчен на много лет вперед, и твоя единственная обязанность – по нему следовать. Колледж ведет к медицинской школе, а она – к интернатуре и резидентуре, а они, возможно, к грантам, а затем наступает черед назначения, или частной практики, или работы в больнице или лечебной группе. Так обстоит дело сейчас, так было и тогда, когда учился я.
К январю своего последнего года в медицинском институте я чувствовал тревожное напряжение. Это ощущение было непривычным и нежеланным. Я не намеревался работать с пациентами, и пока мои однокурсники проходили разные собеседования в интернатуру, я торчал в своей комнате, как пень, и ждал, что будущее каким-то способом прояснится. Сейчас мне неловко от того, насколько недвижен я был, как позволил невежеству и наивности поставить меня в тупик, но тогда мне казалось, что это более или менее приемлемый способ реагировать на будущее, которое я даже близко не мог себе представить.
Несколько месяцев прошло в таком параличе, и примерно в марте – как раз через год после злополучного ужина со Смайтом – один из моих преподавателей по имени Адольфус Серени[17], у которого я в тот момент завершал хирургическую практику, как-то раз вызвал меня в свой больничный кабинет.
– Ну что, Перина, – сказал Серени, – вы что собираетесь делать после выпуска?
– Не знаю, – ответил я.
Серени бросил на меня долгий взгляд, потом вздохнул. Он был большой, округлый человек, со светлыми, неопределенного цвета волосами на макушке. Раньше мы никогда не разговаривали с ним, разве что на обходах, да и то не много.
– Тут есть одно дело, – сказал он, – и вам предлагается в нем участвовать.
– Какое? – спросил я.
Он снова вздохнул – не от раздражения, думаю я теперь, а потому, что он был толст и одышлив и часто вздыхал. Когда он двигался в кресле, вокруг возникало движение воздуха.
– Дело вот какое, – начал он. – Есть такой человек, Пол Таллент. Антрополог из Стэнфорда, молодой, авторитетный. Утверждает, что у него есть данные о некоем затерянном племени на острове под названием У’иву. Слышали? – Я не слышал. – Ну, не важно. Где-то в Микронезии, насколько я понимаю, надо посмотреть в атласе, чтобы точно понять где. Маленький остров. В общем, у Таллента есть какой-то частный грант, довольно приличный, насколько я понимаю, чтобы отправиться туда и изучить этих людей – ну, конечно, если сможет их найти. – Еще один вздох, хотя на сей раз, я думаю, намеренный. Медики в те времена были невысокого мнения об антропологах, которых считали – во многих случаях справедливо – не настоящими учеными. – В его команде будет он сам, конечно, его ассистент и врач, который будет отвечать за забор крови, сбор образцов, запись и, – он взмахнул пухлой рукой, – все такое. У него есть здесь связи, так что он спросил, можно ли уговорить молодого врача с ним отправиться. Порекомендовали вас. Интересуетесь?
Кажется, у меня впервые в жизни закружилась голова.
– Да, сэр.
– Вы должны понимать, Перина, – сказал Серени с суровостью, показавшейся мне драматичной и оттого волнующей, – что это как минимум четырехмесячная работа, что у вас, скорее всего, не будет денег, чтобы за это время съездить домой. И что эта, гм, экспедиция может вообще ничем не завершиться. Что вы можете провести долгие месяцы своей жизни в погоне за плодами чужого воображения. Что остров, на котором вы будете жить, в сущности, terra incognita. Что вы почти наверняка будете испытывать всяческое стеснение, скорее всего, практически во всем. Вы это понимаете?
– Понимаю, – ответил я. Он снова вздохнул, почти печально, хотя печалиться обо мне не мог, он же не знал меня и не питал ко мне никакой личной привязанности. – Когда надо уезжать?
– Мне сообщили, что он хочет уехать скоро, очень скоро – возможно, в конце июня. У вас едва остается время на выпуск.
– Ничего страшного, – уверил я его. Раньше так раньше; мой диплом был мне безразличен. – Но скажите, – продолжил я, – почему об этом со мной говорите вы? Почему не знакомый Таллента?
– Он сейчас в отъезде, но просил меня поговорить с вами при первой возможности.
– Кто этот знакомый Таллента? – спросил я. Но ответ мне был уже известен.
– Грегори Смайт, – ответил Серени[18]. Он снова взглянул на меня, и на этот раз вид у него был озадаченный. – Он очень благосклонно о вас отзывался.
Мне некоторое время не давало покоя то обстоятельство, что мою кандидатуру предложил Смайт, и только когда я был гораздо старше и руководил собственной лабораторией, я осознал, по каким причинам он рекомендовал меня для дела, которое увело бы меня далеко от него, от опасности встретить меня на кампусе и смутиться – в конце концов, он же плакал на моих глазах и кормил меня странной едой, – туда, где единственными, кому я смогу рассказать о его причудливом поведении, будут дикари каменного века с декоративными костями в носу. К моменту, когда я разобрался в том, что им двигало, такое самоспасительное действие уже не нуждалось ни в каком прощении, и я мог только жалеть Смайта, его искореженную жизнь и еще более печальный тупик, в который она устремилась. (Возможно, все, что вам нужно знать о медицинском институте, да и о Смайте, заключается в том, что, когда мне предложили это назначение, многие – по крайней мере, «турки» и им подобные – сочли его унизительным наказанием, а мое согласие – чем-то вроде профессионального самоубийства, неоспоримого доказательства то ли моего идиотизма, то ли неподходящести, то ли того и другого вместе.)
Следующие несколько месяцев прошли быстро. Я не нервничал; я не тревожился; я занимался учебой и каждый вечер шел домой с чувством спокойной легкости. Я начал собираться за несколько недель до отъезда, пакуя в парусиновый рюкзак то, чему отныне было суждено стать моими орудиями труда: спирометр, термометр, манжетку для измерения кровяного давления и стетоскоп, неврологический молоточек и маленький переносной микроскоп. У меня был контейнер из кедрового дерева, чуть больше ящика для сигар, где я держал разные мелкие предметы – пуговицы и винты, кнопки и резинки – и куда теперь упаковал две дюжины стеклянных шприцев, обернув каждый в марлю, и запасную дюжину стальных иголок, и металлическую фляжку, заполненную дезинфицирующим раствором из лаборатории. Я получил короткое письмо от Пола Таллента – он приветствовал меня как нового члена команды и снабдил инструкциями: нам предстояло встретиться 20 июня (на следующий день после моего выпускного, как оказалось) на Гавайях и там договориться с экипажем военного транспортного самолета, который по дороге в Австралию высадит нас на островах Гилберта[19], откуда мы продолжим свой путь на У’иву. Впрочем, кроме этих подробностей, он не предоставил никаких полезных сведений – что паковать, чего ожидать, ничего конкретного о природе его исследований, даже про сам остров ничего. Несколько месяцев спустя, на У’иву, я раскладывал перед собой свои инструменты и дивился тому, как я заблуждался, как неверно все рассчитал, и еще до отъезда я растерял большую часть снаряжения – книги, куртки, башмаки, даже свой сачок, – разбросав его по у’ивуанским джунглям, потому что эти вещи не имели никакого отношения ни к жизни островитян, ни, как оказалось, к моей собственной.
Впрочем, не могу слишком сурово себя винить: в конце концов, незнакомство с ожидающими меня обстоятельствами было почти полностью вызвано тем фактом, что мир в целом ничего не знал про У’иву. Выйдя из кабинета Серени, я немедленно отправился в библиотеку, чтобы изучить географический атлас, но, даже зная координаты острова, я потратил несколько секунд на то, чтобы его обнаружить, перелистывая страницы, покрытые голубизной океана. А потом нашел: три маленьких светло-зеленых точки, как три вершины кривоватого равнобедренного треугольника, с неясной, затуманенной топографией, чуть меньше чем в тысяче миль к востоку от Таити. Дальнейшее изучение вопроса выявило небольшое собрание фактов, каждый из которых был по отдельности вполне интересен, но в сочетании они ничего не добавляли друг к другу и не складывались в единое целое. Страна, прочитал я, никогда не была никем колонизирована. Население, как считалось, подобно гавайцам, прибыло с Таити пять тысяч лет назад на каноэ с балансиром. Это культура охотников и рыболовов; все дети, мальчики и девочки, должны убить (энциклопедия не объясняла, как именно) дикого вепря к своему четырнадцатилетию[20]. У них есть король, Туимаи’элэ, у него три жены и тридцать детей, он живет в деревянном дворце в столице под названием Тавака. Страна небогата, но на плодородной почве всегда хватает еды. Когда-то тамошний народ славился своей жестокостью, и рассказы об их любви к суровым деяниям и крутых нравах наводили страх на окрестный морской простор – до такой степени, что капитан Джеймс Кук намеренно миновал острова в своей тихоокеанской экспедиции. («Жестокость вевийцев, – написал он годом раньше в письме другу, – тревожит мой экипаж, и поскольку плыть под парусом туда непросто, бросать якорь в этих местах мы не станем».)
Я прочитал это в энциклопедии, но поверить всему перечисленному не мог: деревянный дворец, король с тридцатью детьми, охота на дикого вепря – все это звучало знакомо, как что-то уже читанное, скажем, в киплинговской истории про какой-то аллегорический далекий край. Но хотя со своим жизненным опытом я еще не мог этого доказать, я даже тогда подозревал, что причудливые подробности окажутся самыми обычными, что самые поразительные детали рассказа лишь притупят впечатление от того, что на самом деле должно изумлять. И в этом ощущении я не ошибся.
Часть III Сновидцы
1
Июнь оказался не похож ни на один из предыдущих месяцев в моей жизни, и в конце каждого июньского дня я рано ложился хотя бы только для того, чтобы несколько минут подумать обо всем, что успел увидеть и почувствовать. Я пропустил выпускной и отправился на Гавайи за две недели до назначенной встречи с Таллентом. В мой последний кеймбриджский вечер (Кеймбридж начал исчезать у меня из памяти, когда я еще не успел его покинуть, быстро и бесследно, как соль в горячей воде) ко мне из Нью-Хейвена приехал Оуэн. Прощание получилось неудовлетворительным – Оуэн вел себя грубовато и как будто за что-то на меня сердился, – но он согласился хранить некоторые мои вещи (книги, документы, зимнее пальто, тяжелое, как труп), которые мне не нужны были в поездке. Мы договорились писать друг другу, но я видел по выражению лица, что он в этом сомневается так же, как и я сам. Только когда мы уже пожали друг другу руки и он ушел с чемоданом, полным моих вещей, я задумался, какой будет моя жизнь на таком расстоянии от Оуэна; конечно, мы по мере взросления разговаривали все меньше и меньше (эта отчужденность казалась столь же неизбежной, сколь и загадочной), но он был единственным человеком, знавшим меня, помнившим меня в каждый год моей жизни, потому что это была наполовину и его жизнь. Это сожаление тоже быстро рассеялось, так страстно мне хотелось начать свое новое существование – в тот момент легко было поверить, что вся моя жизнь до этого момента – лишь длинная и скучная репетиция, которую приходится нетерпеливо пережидать и выдерживать; подобие жизни, а не сама жизнь.
У меня был билет на поезд до Калифорнии, а там я сел на судно, идущее в Гавайи. В те времена Гонолулу все еще оставался по сути своей тихим колониальным поселением со всеми положенными красотами и штампами, и пока судно швартовалось в гавани, на доке можно было разглядеть толстых, веселых музыкантов, которые тренькали свои простые песенки на укулеле, и босых пареньков, полуазиатских, полу-каких-то еще, которые с улыбкой выпрашивали мелочь у сходящих на берег пассажиров.
Предполагалось, что я остановлюсь в комнате местного университетского общежития, но я прибыл раньше обещанного, и в здании не оказалось мест – койка освобождалась только на следующий вечер. Поэтому в ту первую ночь, оставив багаж в общежитии, я взял такси и доехал до Вайкики, а там по песку добрел до Даймонд-Хед, переходя с пляжа на пляж. Издалека время от времени долетали звуки баров: мужской смех, музыкальная чунга-чанга. Я то и дело останавливался и слушал, как сухие пальмовые ветви стучат друг о друга, подобно костям, как океан ведет сам с собой беспощадный и одинокий разговор, и этот звук – хотя в тот момент я об этом не знал – мне не суждено было вновь услышать в ближайшие месяцы. Я шел, озаренный луной, которая здесь светила как будто белее, круглее и ярче, чем в Бостоне, а когда устал, лег под деревом и заснул, как делали другие туманные тени, пока я медленно брел по песку.
На следующий день я отправился в центр города мимо симпатичных колониальных зданий. Самым выдающимся из увиденного была, впрочем, не постройка, даже не скромный приземистый дворец, где некогда жила скромная приземистая королева, а деревья перед ним – древние кассии с листьями вроде персиковых лепестков, которые окружали стволы нежными снеговыми смерчами. В Чайнатауне я шагал мимо оборванных спящих людей с черными морщинистыми и поцарапанными подошвами, пока не нашел открытую дверь бара. Этот Чайнатаун не был благополучным местом; из затемненных недр его печальных покосившихся салунов, как яд, изливался дурной джаз. Но солнце грело жарче, чем я ожидал, и мне очень хотелось пить.
Бармен был такой плосколицый, словно его кто-то схватил за уши и потянул в разные стороны, и такой загорелый, что кожа у него стала лощеной и гладкой, как у курицы, которую слишком долго жарили в масле. Я решил, что он китаец или, по крайней мере, какой-то восточный человек, потому что глаза у него были узкие, с нависшими мешками, хотя при этом грубые черные волосы собирались в завитки. Я попросил стакан газировки, а он смотрел, как я жадно пью.
– Ты откуда? – наконец спросил он.
– Из Бостона, – ответил я. У него не было большого пальца на левой руке, хотя обрубком он мог шевелить и делал это довольно выразительно, примерно как собака шевелит обрубком хвоста.
Это известие его не впечатлило, но разговаривать в баре больше было не с кем, так что, когда я допил воду, он, ничего не спрашивая, снова наполнил мой стакан.
– Давно здесь? – спросил он.
– Недавно, – ответил я. Теперь, утолив жажду, я мог сосредоточиться на помещении – приземистом, темном, лакированном, с деревянным прилавком, липким от многолетних табачных испарений, пролившегося алкоголя, масла для готовки. – Я еду на У’иву.
К моему удивлению, тут он кивнул, и когда я спросил, что он про это знает, он засмеялся и сказал:
– Славные охотники. Вепри. – Он снова наполнил мой стакан. – Жуть. – Было неясно, что он имеет в виду – людей или вепрей. Следующие его слова прозвучали почти нежно: – Очень они там буйные.
Я ждал, что еще он скажет, но он стал напевать извилистую, тоскливую мелодию, которая звучала на удивление трогательно в нелепой обстановке бара, и когда стало ясно, что больше он ничего не скажет, я допил свою воду, расплатился и снова вышел на солнце.
Я провел так еще несколько дней, ездил на такси к разным островным пляжам и удивлялся тому, что поначалу они кажутся одинаково и неразличимо прелестными, но потом открываются своими отличиями и разными сторонами: на одном песок был так мелок, что, даже выколотив рубашку и штаны, я все еще стряхивал его с одежды и вычищал из волос на следующий день; другой был заминирован крошечными, невидимыми шишками вдоль линии нелепых, разлапистых казуарин, стоявших вдоль моря, так что каждый шаг причинял небольшую и неизбежную боль; еще один был покрыт песком цвета и консистенции влажного сырцового сахара, жестким и клейким на ощупь. Как-то днем я пошел в городскую библиотеку, где мне помогли отыскать старую книгу про У’иву в тканевом переплете. Оказалось, что это книжка-картинка, букварь на гавайском языке, опубликованный Миссионерской академией Гонолулу в 1871 году, где на каждой странице размещалась простая гравюра и несколько строк пояснения. Поскольку книга была на гавайском, прочитать ее я не мог, но картинки – вепрь с черными глазами-бусинами и клыками, выгнутыми так затейливо, будто это старомодные закрученные усы, улыбающийся король, толстый, без рубашки, сжимающий нечто похожее на длинную метлу для смахивания пыли, шишковатая торпеда, видимо изображавшая сладкую картофелину, – представили эту страну более, а не менее фантастическим местом, которое и правда существует только в детских сказках.
Наконец наступил день встречи с Таллентом. Он послал телеграмму в общежитие, где я остановился, сообщил, когда прибудет, и предложил встретиться в вестибюле в шесть вечера; на следующее утро в восемь мы должны были отправиться в путь. Полет на острова Гилберта занимал девять часов; потом – еще три часа дороги до У’иву.
Я нервничал перед встречей с Таллентом, и это было неприятно: обычно я не тревожился перед знакомством с людьми, и, кроме того, моего участия хотели, я врач, я (объяснял я себе) необходим в его экспедиции. Но это была наведенная самоуверенность, я ведь понимал, хотя и не мог себе признаться, что, если бы не Таллент, я и мечтать не смел бы о таком приключении – сидел бы себе в Бостоне, без работы, без перспектив, надеясь на второсортную интернатуру в третьесортной больнице. За несколько минут до шести я оделся (я даже привез с собой костюм, от которого потом быстро избавился) и спустился в вестибюль, где были прохладные цементные полы и два украшенных оранжевыми подушками бамбуковых дивана, между которыми лежал грязный пальмовый коврик.
Там уже сидел, склонившись над книгой, какой-то человек, и пока я шел в его сторону, он поднял на меня глаза.
Нет никакого удовлетворительного или небанального способа описать человеческую красоту, и к тому же мне неловко это делать. Так что я только скажу, что он был красив, и я вдруг смутился, не зная даже, как к нему обратиться – Пол? Таллент? Профессор Таллент? (Уж точно нет!) Красивые люди заставляют даже тех из нас, кто гордо считает себя равнодушным к чужой внешности, замирать от восхищения, страха и восторга и смиряться с глубоким, изнурительным осознанием собственной ничтожности, в которой никакая деталь – ум, образование, деньги – не может превозмочь, подавить или обнулить красоту. Пока тянулись те месяцы, что я провел рядом с Таллентом, его красота то мучила, то утешала меня, и я поочередно поддавался ей, радовался своей близости к ней и, с меньшей радостью, пытался сопротивляться ей, что было столь же бесплодно и бессмысленно, как попытка убедить себя в кислоте сахара.
– Пол Таллент, – сказал Таллент, пока я пялился на него (хотя в этом уже не было необходимости).
Я пробормотал ответное приветствие. Мы пожали друг другу руки.
– Вы, значит, нормально добрались, я вижу.
Я хмыкнул. Мы стояли на краю грязного коврика, Таллент возвышался надо мной на дюйм или два. Я смотрел на свои ботинки.
– Готовы ехать? – продолжил он. Я кивнул. – Ну, я очень рад, что вы присоединились к экспедиции.
Я заметил, что он говорит особенным образом – в его предложениях не было ни вопросительных, ни восклицательных знаков, но при этом голос казался не монотонным, а полным оттенков, богатым и каким-то значительным, из чего возникало ощущение густого леса с разными деревьями, без исключения пышными и величавыми. Этот голос не выдавал ничего – ни одобрения, ни радости, ни страха, ни гнева, – но сводил с ума обещанием тайн. Я хотел, чтобы он сказал что-нибудь еще, но страшился задать хоть какой-то вопрос, вообще вдруг потерял дар речи.
– Ну что ж, – сказал наконец Таллент, несомненно встревоженный моим немногословием, – увидимся завтра утром.
И тут я понял, что мог бы ему сказать: «Давайте, может быть, поужинаем?» Но он уже отошел, конечно, а я так и остался стоять в одиночестве.
В полете у меня появилась возможность изучить Таллента более внимательно[21]. Самолет был военный и в своем ангаре выглядел таким громоздким и раздутым, что казалось, будто шансов на полет у него не больше, чем у дронта. Мы с Таллентом и нашим багажом занимали отсек с бесконечными ящиками припасов, но других пассажиров там не было; моторы ревели так громко, что разговор – к моему облегчению – оказался невозможен, так что, рассеянно поулыбавшись мне и что-то записав в блокнот, где-то через час он закрыл глаза и задремал.
Я никогда особенно не задумывался о собственной внешности – мое тело до тех пор служило утилитарным нуждам, и мне не казалось, что менять, формировать и улучшать его желательно и возможно. Но глядя на Таллента – на его волосы, кожу, глаза однородного темно-золотого цвета бренди, на его зубы, удивительно белые и тесно посаженные, отчего в улыбке проявлялось что-то волчье, – я неизбежно осознавал собственные недостатки: шишковатые колени, мучнистую кожу, жидкие космы волос. Наша с Таллентом принадлежность к одному виду казалась в тот момент невозможной и смехотворной, и в его совершенстве, на фоне которого мне оставалось разве что подсчитывать свои пробелы, было что-то жестокое. Я провел остаток полета, уставившись на него, мечтая, чтобы он открыл глаза, и страшась этого, с отвращением чувствуя боль и одновременно наслаждаясь ею. Когда самолет наконец приземлился и Таллент проснулся, я был вымотан и воодушевлен, я был полон нежной, неприкосновенной грусти.
– Следующая остановка – У’иву, – сказал Таллент, когда мы вышли из самолета, и, похоже, в его голосе звучала радость; я тоже был рад.
С Гилбертов мы полетели в сторону У’иву на жужжащем самолете-комаре с такими мощными и громкими пропеллерами, что деревья, длинные пучки финиковых пальм, отклонялись назад во время нашего снижения. Самолет развернулся и стал спускаться вдоль длинного, изогнутого хребта гор, и в ту секунду, что мы висели над хлипкой, нежной линией, соединявшей океан с землей, я посмотрел на горизонт и понял, что не могу определить, где кончается небо и начинается вода: все пространство было покрыто удивительным, неопределенным голубым цветом, дерзкой и безымянной голубизной, такой настойчивой и однотонной, что мне пришлось закрыть глаза.
У’иву, как я уже упоминал, – это группа из трех островов, из которых только два официально считались обитаемыми. Первый из них так и назывался, У’иву, главный остров с очертаниями хлебного батона, примерно двадцать миль в длину и десять в ширину, с единственным сплошным горным хребтом под названием Та’имана, который проходил вдоль по всему острову. На этом острове жил король, как и большая часть 35-тысячного населения страны. В шестидесяти милях к востоку от У’иву лежал второй остров, Ива’а’ака, примерно такой же формы и размера, чья северная сторона была совершенно неприступна благодаря каменным утесам; даже с воздуха я видел, как волны разбиваются о них в жирные белые гребешки, словно пригоршни перьев, подброшенных в воздух, а стаи ширококрылых птиц парят вокруг острых вершин из вулканического камня. Но остальное пространство Ива’а’аки состояло из низких зеленых холмов, и поэтому фермерское хозяйство страны в основном велось там: мы летели над акрами аккуратных ступенчатых полей, где почва была размечена едва заметными зелеными и золотистыми точками.
– Таро, – сказал Таллент, указывая на одно из них, а потом на другое: – Батат.
– Как их можно отсюда различить? – спросил я, не замечая никакой разницы между полями и растительностью на них.
Он пожал плечами.
– Можно, – сказал он, и мне почему-то стало стыдно за свой вопрос.
Мы пролетели над хижинами, простыми постройками, покрытыми, как мне было видно даже с воздуха, пальмовыми листьями, над несколькими деревянными домами, но большая часть фермеров на Ива’а’аке работала сезонно, и постоянного населения на острове почти не было. Только надзиратели за плантациями – ибо все эти хозяйства принадлежали королю и их урожай отдавали правительству, которое затем распределяло его среди граждан У’иву, – жили здесь круглый год, объяснил мне Таллент; сборщики, плодоводы, садовники приезжали на Ива’а’аку сменами на три месяца, а потом на лодках возвращались домой к своим семьям на главном острове. Самолет снизился, и, снова поглядев вниз, я увидел смутную темно-коричневую линию, пересекающую одно из полей.
– Вепри, – сказал Таллент, и я повернулся в сиденье, чтобы разглядеть их из иллюминатора. Это были знаменитые у’ивуанские боровы, и даже с такого расстояния можно было убедиться, что они чудовищно огромны. В стае их было, должно быть, около сотни, и я видел, как вокруг них распыляется грязь, эхо той воды, что разбивается об утесы острова.
– А вон Иву’иву! – прокричал мне Таллент, и я проследил взглядом, куда он указывает. Угол обзора был не идеальный – виднелся только склон черной горы, покрытой зеленью, – и я прильнул к иллюминатору, пытаясь внимательнее разглядеть место, где проведу следующие несколько месяцев, тот запретный остров, который станет теперь нашим домом.
Но тут самолет снова развернулся и снизился, и мы оказались над У’иву.
– Это южный берег острова, – прокричал Таллент, стараясь перекрыть рев пропеллеров. – Здесь мы приземлимся.
И мы приземлились – трясясь и подпрыгивая на травянистых кочках, которые я потом увидел; посадочная полоса была никакой не полосой, а просто длинным участком ровной поверхности, и немногие прилетающие сюда самолеты садились именно так.
Пока мы вынимали из багажного отсека наши вещи, я заметил, что к нам движется невысокая, круглая человеческая фигура, и когда примерно в ста ярдах от нас она завопила «Пол!», я понял, что это женщина.
– Эсме! – отозвался Таллент, и я с недовольством и тревогой увидел, что он улыбается, что его лицо тотчас сделалось счастливым.
Женщина подошла ближе, и они практически бросились в объятия друг другу. За этим последовал быстрый обмен репликами на языке, которого я не понимал и который звучал как перестрелка, после чего оба рассмеялись – я впервые услышал, как Таллент смеется.
– А, простите, Нортон, – извинился Таллент (видимо, он собирался звать меня Нортон, а я его – Таллент, хотя мы ни о чем не договаривались). – Эсме Дафф, это наш врач, Нортон Перина. Нортон, это Эсме Дафф, мой научный сотрудник.
– Нортон, – сказала Эсме. – Добро пожаловать! Добро пожаловать на У’иву. Бывали уже на тихоокеанских островах?
– Нет, – сказал я.
– Ну, вас ждут неожиданности! И их будет много вообще-то, – сказала она, смеясь.
– Не сомневаюсь, – ответил я.
– Эсме – настоящий специалист по У’иву, – сказал Таллент, пока Эсме улыбалась и сияла. – Она знает местный язык гораздо лучше меня[22], нашла нам проводников и вообще все устроила. Вам без нее не обойтись.
– Не сомневаюсь, – повторил я. И в это мгновение пообещал себе две вещи: во-первых, я буду ненавидеть Эсме Дафф; во-вторых, через несколько месяцев Таллент будет считать специалистом меня, а не ее.
С моей стороны было весьма любезно отвести себе такой большой срок на вытеснение Эсме собственной полезностью и знаниями, потому что следующие несколько дней оказались безумными и беспорядочными. Для начала выяснилось, что на У’иву нет автомобилей: от поля, на которое мы приземлились (оно, сообщила мне Эсме, любезно предоставлено нам в пользование королем, который иногда охотится тут на вепрей – собирают дюжину вепрей и выпускают, а король рыскает туда-сюда верхом и швыряет копья в их щетинистые, вздыбленные спины), мы отправились в путь, погрузив свою поклажу на лошадей, тоже предоставленных королем, которые ждали нас на привязи возле пальм на окраине поля. Даже лошади, примерно на полфута ниже обычных, приземистые и широкоплечие, похожие скорее на пони, были непривычного вида.
За полчаса пути в город я узнал про все, чего на У’иву нет. Например, там не было дорог – только тропы с клочками травы и цветами, которые сминали проходящие лошади; не было также гостиницы, университета, продуктового магазина, больницы. Зато там, как ни прискорбно, были церкви, причем порядочно, с белыми деревянными шпилями – кроме этих шпилей ничто не поднималось выше пальм, чьи черные тени полосами ложились на грязь, но не защищали от солнца, красившего небо в жесткий, сверкающий белый цвет. Я спросил Таллента, которому удавалось выглядеть вполне элегантно на своей лошадке, много ли на острове миссионеров, но ответила мне Эсме. Она рассказала, что около сотни человек добралось до У’иву в начале XIX века, но большая их часть погибла в страшном цунами; оно обрушилось на северную часть острова в 1873 году. Остальные вскоре вернулись назад, и У’иву снова оказался во власти у’ивцев, как это и было на протяжении тысячелетий до появления миссионеров.
– У’ивцы не строят дома на северном берегу – считают, что это не к добру, – сказала она. – Но миссионерам нравились тамошние виды, за что они и поплатились.
Я сказал, что меня удивляет количество церквей – минут за двадцать пути я насчитал четыре штуки, – которое вроде бы подсказывало, что количество обращенных велико. На этот раз ответил Таллент.
– Им удалось меньше, чем может показаться, – сказал он. – У’ивцам нравилась новизна церквей, и когда построили первую – Джуда, как его, Святого Иуды Фаддея, вон, прямо за той покосившейся плюмерией, – пришла куча народу, в том числе тогдашний король, дед нынешнего. Они, наверное, считали, что это забавно. Миссионеры решили, что островитяне готовы к обращению, и настроили еще церквей. Их пять штук – да, Эсме? – на этой стороне острова, и было еще три на севере, но те разрушило цунами.
– А у’ивцы помогали их строить? – спросил я.
– Нет. Миссионерам пришлось все делать самим. Король подарил им землю и древесину – если присмотреться, видно, что это все пальмовое дерево, материал сложный и непрактичный для строительства, здания получились не очень прочные, – но отказался посылать на работы своих людей. Миссионерам и так повезло.
– У’ивцев нельзя заставлять, – провозгласила Эсме, ехавшая во главе нашей колонны. – Мы это уже хорошо выучили. – Она самодовольно засмеялась.
– Короля нельзя заставлять, – уточнил Таллент. – Все блага, которые у нас тут есть – наша миссия, наши проводники, – предоставляются нам с его позволения. Он участвует во всем, что здесь происходит, и ничего нельзя сделать без его благословения.
Но в этот раз мы с королем знакомиться не станем, сказал он. Он выдает замуж дочь, и из-за хлопот у его королевского величества не будет времени на встречу с нами. Я был бы не против познакомиться с королем и увидеть его деревянный дворец, но у меня оставался как минимум один повод для радости – Эсме тоже не встречалась с королем и поэтому не могла описать всего, чего я не увижу: особняк с темными, натертыми маслом полами, толпу молчаливых жен, сидящих на циновках подобно стае гнездящихся голубок, короля с его зловещей, умудренной улыбкой.
Моя первая ночь на У’иву прошла в сухой и душной хижине, под потолком из высушенных пальмовых листьев, связанных так плотно, что, несмотря на громкий стук дождя по неприкаянному листу алюминия снаружи (какая в нем надобность – я понятия не имел), внутри если и была какая влажность, так только от того, что я потел, причем с каждым часом душной ночи все сильнее. Я был один, я так и не понял толком (да и не хотел выяснять), в одной хижине спят Эсме и Таллент или по отдельности, и всю ночь мой мозг кипел, не давая мне покоя, и стоило закрыть глаза, как сложенный в елочку потолок пускался в плавание по векам.
На следующее утро мы дотащили свои мешки до маленького катера с дизельным мотором, неубедительно приделанным к корме. Наш капитан с кожей цвета полированного ореха (хотя ее блеск, я подозреваю, был вызван не идеальным здоровьем, а потом, слой которого покрывал все, к чему он прикасался) дождался, пока мы заберемся внутрь, а потом резко дернул шнур, заводя мотор, и направил лодку в сторону Иву’иву.
Если бы я знал, сколько времени пройдет, прежде чем я снова увижу сравнительно цивилизованную жизнь У’иву, я бы, возможно, повернулся и посмотрел на удаляющуюся землю, но в тот момент я был слишком занят вглядыванием в Иву’иву, который, как ни странно, словно бы не приближался, несмотря на стелющийся за нами водный след. День был мрачный, я помню, и море казалось плоским оловянным диском тусклого штормового цвета. Над головой небо было таким же пасмурно-серым, и брызги на вкус тоже отдавали металлом. Я уставился в море и вдруг увидел – или мне показалось – какие-то быстрые тени, мерцающие в глубине, но когда я окликнул Таллента и снова посмотрел вниз, они исчезли.
Медленно, мучительно из моря показался остров. Мы приближались к его оборотной стороне, повернутой к южной оконечности У’иву; она делала остров таким же негостеприимным в физической реальности, каким он был в моем воображении. Это был тот кусок побережья, который мы видели с воздуха во время снижения: огромная крутая стена высотой, как мне сказали, почти в шесть тысяч футов; она решительно поднималась из вод, которые скапливались у подножия в густую пивную пену. Стена была так плотно покрыта слоями зелени – деревьями, нависавшими над пластами трав и мха, змеистыми узлами суккулентов, окрашенных в неправдоподобные попугайские оттенки зеленого, какие встречаются только в джунглях, – что только когда мы приблизились, я смог разглядеть скрывающийся под ними камень, сланцево-черный в одних местах и бледно-серый, как шрифт в мокрой газете, в других; он виднелся только в редких промежутках. Глядя прямо вверх, на солнце, на фоне белого неба можно было различить размытый, перистый горизонт деревьев на вершине острова. Когда лодка повернула и направилась на восток к солнцу, линия острова резко пошла вниз, и он стал похож на огромный кусок пирога, лежащий на боку. Но, возможно в противоположность физическим свойствам ландшафта, который выглядел все менее неприступным по мере нашего продвижения, растительность становилась все плотнее и насыщеннее, и лес наступал до самых краев почвы, так что окружающая вода покрывалась пестрой мозаичной шкурой его падалицы – цветками гибискуса, измочаленными на ветру, пожухлыми от солнца листьями манго, мелкими жесткими орехами неспелой гуавы, ошметками папоротника – так густо, что на мгновение прожорливость и страсть джунглей, их стремление поглотить любую поверхность на своем пути наводили ужас.
Через полчаса мы добрались до дальней стороны острова, где не было пляжа, но земля и вода все-таки сходились в горизонтальную линию. Наш капитан, не проронивший ни слова за весь путь, сбросил самодельный якорь, оловянное ведро с крышкой, наполненное гремящими гвоздями, примерно в двадцати футах от берега. У воды был сложный многосоставный зеленый цвет грязного турмалина, но она была так прозрачна, что я видел стайки стеклянистых рыбешек, которые сновали под лодкой и отбрасывали бледные подобия теней на песчаное дно океана. Мы не могли подобраться ближе к берегу не только потому, что берега как такового не было, но и из-за нескольких огромных валунов гладкого и бесстрастного вида, стоявших в воде. Двигаясь к острову с поклажей на спине, я прошел мимо одного из них, полного мелких карманов, в каждом из которых затаился сверкающий, щетинистый черный морской еж. Последний ярд перед сушей был испещрен многочисленными камнями, а на поверхности воды пенились пригоршни ярко-красных водорослей, как будто океан в последний раз пытался воспротивиться мощи и силе джунглей, которые уже дразнили его, спуская длинные хвосты странного толстого трехстороннего кактуса над слабыми волнами.
Кусты зашуршали – прямо как в каком-нибудь фильме про кораблекрушение, – и из глубины леса (опять-таки как в кино) вышли три человека, три у’ивца. Все они были одеты в неповторимую смесь современного и традиционного: майка с чем-то вроде саронга из трепаной коры; свободные, мешковатые штаны на мужчине, чей нос, к моему восхищению, был проколот тонкой, как травинка, костью; свободная хлопковая рубаха, под которой не было ничего, кроме занятного чехла для пениса из многочисленных мотков высушенной лианы – наряд, типичный для тех мест, где отношения с цивилизацией внове или только устанавливаются (позже я увижу такое в бразильских джунглях, потом в Папуа – Новой Гвинее, потом в Нагаленде). После капитана катера это были второй, третий и четвертый у’ивец, которых я встретил, и после всех рассказов про их суровый нрав меня удивил их рост – самый высокий едва доходил мне до плеча – и плоские уродливые лица, с расплющенными носами, лоснящейся, как старое жирное пятно, кожей и резко выступающими нижними челюстями. Они не были ни толстыми, ни худыми, но их мускулистые ноги отличались огромными ляжками и указывали, что эти люди всю жизнь карабкаются вверх-вниз по крутым горным склонам[23].
Самый высокий из троих, тот, что в хлопковой рубашке, приблизился к Талленту, и они с силой потерлись носами друг о друга, а потом завели тихий, отрывистый разговор по-у’ивски. Остальные двое неотрывно смотрели на нас – Эсме, последней преодолевшая илистую жижу песка, стояла в нескольких футах от меня и обмахивала лицо пухлой рукой в тщетной попытке охладиться, – и хотя никакой враждебности в них заметно не было, что-то в неподвижности этого внимания не давало мне отвести глаза, и я смотрел на них, осоловевший от жары, а мелкие комары тем временем деловито облетали мою голову, как планеты.
Каждому из нас достался свой проводник: Талленту – высокий, по имени Фа’а, Эсме – тот, что в саронге, по имени Ту. Моего звали Ува, это был человек с костью в носу, и когда он подошел ко мне, чтобы закинуть мой рюкзак себе на спину, я увидел на ней что-то вроде рисунка. Мой вещмешок был тяжел, но когда я протянул руку, чтобы помочь Уве примостить его на спине – кожа у него была бугристая, как у носорога, – он сделал шаг в сторону и подвигал плечами, чтобы рюкзак разместился ровно между лопатками, а потом повернулся и последовал за остальными, которые уже исчезли за двумя большими деревьями, так густо покрытыми мхом, что увидеть кору под ним было невозможно. У самого Увы, как и у остальных носильщиков, был только небольшой сверток из мягкой ткани, размером примерно с подушку, закрепленный на груди хлипкой веревкой.
Мы двинулись. Никакой тропы не было – Фа’а, который шел первым, отводил руками побеги, ветки кустов, листья размером со сковородку, и каждый из нас вслед за ним делал так же. Меня тревожило, как быстро джунгли нас проглотили, насколько несущественно в них наше присутствие: минут через пятнадцать я обернулся посмотреть, далеко ли мы ушли, и увидел, что наш путь уже потерялся среди бесчисленных деревьев. Над нами и вокруг нас в воздухе бурлило общение – крик, и клекот, и посвист, и щебет, – и всего через полчаса небо сделалось почти невидимым за верхушками деревьев, бесформенные голубые лоскуты с каждым шагом становились все мельче и незаметнее. Ува и остальные проводники шли босиком, подошвы у них были набухшие и поцарапанные, но у Таллента, Эсме и у меня были ботинки с тяжелыми подошвами, и с каждым шагом я слышал, как по земле под нами разбегаются в разные стороны невидимые существа. Корни деревьев сплелись в скользкую сетку, и мне приходилось сосредоточенно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть; по краям поля зрения все было окрашено насыщенным темно-зеленым, и поле это было такое узкое, что я как будто шел по сужающемуся, пушистому туннелю, который становился еще более реальным оттого, что все менее уверенный солнечный свет лишь мелкой рябью проникал сквозь густые кроны.
Наша дорога шла вверх, и вдруг подъем стал еще круче, а воздух одновременно похолодел и увлажнился – растительность была такой густой, что никакое дуновение сквозь нее не проникало, и от этого деревья и кусты казались нереальными, как декорации, хотя нас все время окружал их запах, сложный и настойчивый аромат глины, гниения, сахара, от которого у меня саднило горло, – но мы все не останавливались. Впереди меня Эсме покачнулась, Ту быстро и бережно схватил ее за руку, и хотя она, кивнув, продолжала шагать, обгоняя ее, я услышал, что она дышит жарко и громко, как лошадь после долгой скачки. Я не нес ничего, кроме маленького рюкзака, но воздух становился осязаемым, густым, как суп (думалось, как ни смешно, о чаудере с его жемчужно-пахтовым блеском, с пенкой морщинистой кожи), и когда после особенно крутого участка мы поднялись на небольшое плато и Таллент объявил, что сегодняшний переход завершен, я был готов плакать от облегчения.
Мы втроем опустились на землю, а Фа’а что-то сказал Талленту – тот выслушал его и кивнул – и вместе с двумя другими проводниками двинулся вправо от нашей тропы (я это так называл про себя, хотя никакой тропы там не было), и они исчезли в лесу. Я взял свою флягу и выпил всю воду, которая успела стать такой же горячей, как воздух вокруг, и нисколько не утолила жажду; Эсме положила голову на свой рюкзак и закрыла глаза. Джунгли вокруг издавали тихое и непрестанное гудение, как будто весь остров – это какой-то таинственный прибор, присоединенный к гигантскому, но невидимому источнику энергии.
Я, наверное, заснул. Проснувшись, я не понимал, который час – если здесь такие вещи что-нибудь значили, – хотя тьма казалась более густой, более живой и напряженной. На земле на расстоянии ярдов трех друг от друга валялись плетеные пальмовые циновки, рядом стоял наш багаж, и между двумя ковриками сидели, тихо беседуя, Эсме и Таллент.
Когда я подошел, Таллент взглянул на меня и сказал:
– Добрый вечер. Поужинайте.
В отличие от Эсме и меня, у него было два рюкзака, и из того, что побольше, он достал пакет печенья. На земле стояла банка ветчины «Спам», яркая и неуместная среди мха, с жестяной крышкой, оттянутой наподобие простыни, под которой виднелось склизкое, тошнотворное, женственно-розовое мясо.
– Я не голоден, – сказал я ему.
– Надо поесть, – ответил он. – Вы проголодались больше, чем вам кажется, а завтра еще один длинный день. И потом, надо съесть это печенье, прежде чем оно размокнет – такая влажность ничего не щадит.
– Когда я в прошлый раз уезжала с У’иву, я просто мечтала о печенье, – сказала Эсме, но из ее голоса пропало победное самодовольство. Она, видимо, еще не пришла в себя после тяжелой дороги, лицо ее было покрыто неприятными красными пятнами и из-за них выглядело щетинистым.
Так что я взял печенье, мучнистое и безвкусное, и положил на него холодное мясо. Передал пустую обертку обратно Талленту, тот стал засовывать ее во внешний карман своего рюкзака, и бодрое потрескивание пластика навело меня на мысль о дровах в огне.
– Разве в таких ситуациях не нужен полевой костер? – спросил я у них. Я даже улыбнулся Эсме, но она была увлечена нарезанием «Спама» и ничего не заметила.
Вместо ответа Таллент взял с земли ближайшую ветку и поднес ее к пламени своей зажигалки. Огонь почти сразу погас, от ветки отделился печальный завиток едва заметного дыма.
– А, – только и сказал я. Разумеется. Древесина здесь слишком влажная.
– Не волнуйтесь, – сказал Таллент. – Когда мы поднимемся повыше, уверяет Фа’а, лес поредеет и станет гораздо суше.
Я углубился в окружавший нас лес, минуты две шел в направлении, которое указал мне Таллент, и наткнулся на мелкий ручей, серебристый, как улиточья слизь, струившийся над порогами серых валунов. Я помочился возле дерева, которое исчезало, лишенное ветвей и почти смехотворно торчащее вверх, в пологе над нашими головами, и умылся, а потом попил этой воды, прохладной и немного соленой на вкус, океанской, будто бы смешанной с пригоршнями размолотых ракушек. Когда я вернулся, Эсме спала на своей циновке, накрывшись другой циновкой; рядом аккуратно стояли ее ботинки. А Таллент так и сидел на прежнем месте, прижав колени к груди, слегка наклонившись вперед, и смотрел в сторону леса на что-то мне невидимое.
– Как оно сегодня? – спросил он, когда я присел рядом.
– Нормально, – ответил я.
– Я понимаю, – сказал он и замолчал, опустив взгляд на свои руки. – Я понимаю, что почти ничего не рассказал вам о том, чем я… чем мы здесь занимаемся. С вашей стороны очень благородно было поехать. Или очень безумно. Или отчаянно.
Я засмеялся, а он нет.
– На самом деле я ведь и сам не знаю, что мы найдем, – продолжил он. Повисла очередная длинная пауза (во время таких пауз, как я впоследствии осознал, он тщательно продумывал, что сказать, – не то чтобы боялся быть неправильно понятым, просто он никогда не открывал рта, если не был уверен в своих словах, теоретические построения его не интересовали, он говорил только то, что считал правдой). Это не значит, что он не испытывал любопытства, или был заносчив, или небрежен, или что он никогда не сомневался или не менял мнения десятки и сотни раз – вовсе нет. Но его любопытство, его воображение работало в тишине; вовлекать кого-то еще в собственную неуверенность было бы – мне кажется, так он считал – самонадеянно и, возможно, даже невежливо.
И все-таки он не был уверен, он не знал, что мы найдем. Он был не из тех, кто действует на основании чутья и интуиции, и все же на этот раз поступил именно так – предположил, что мы могли бы найти, и пригласил меня в путь на основании этого предположения.
Меня это не обижало и не тревожило. Сама наука – это предположения: удачные предположения, интуитивные предположения, обоснованные предположения. Я работал на людей, которые во всем были уверены, и чувствовал себя неспокойно, чувствовал, что это опасно. Поэтому я был счастлив приехать сюда (ну может быть, не счастлив, но уж точно не обеспокоен; хотя Таллент не совсем ошибался – отчаяние здесь тоже поучаствовало), не зная всей картины. Наверное, это сейчас звучит глупо, нереалистично, но в молодости планирование кажется менее важным, менее ценным, чем потом, когда тебе есть что защищать – деньги, исследования, репутацию.
Так что я был готов ждать.
Прошло некоторое время, прежде чем он снова заговорил:
– О чем вы больше всего мечтаете – как врач? Вы мечтаете излечить болезни, уничтожить заразу, продлить человеческую жизнь. – Вообще-то я не интересовался ничем из перечисленного, по крайней мере не в том смысле, какой, скорее всего, имел в виду Таллент. Но не стал возражать. – А я мечтаю – это прозвучит по-детски, но мы в конечном счете здесь из-за этого, и мой интерес разделяют многие коллеги, даже если гордость не позволит им в этом признаться, – найти другое общество, других людей, не известных цивилизации и, надо добавить, не знающих про цивилизацию.
За этим последовала длинная тирада об антропологии как науке, о ее разных последователях, героях, шарлатанах и теориях, которую я по большей части пропустил мимо ушей, но все же услышал достаточно, чтобы понять, что Таллент считает себя – хотя именно так он не выразился – неким вольнодумцем, намеренным радикально преобразовать эту область знания.
Но тут он сказал нечто, заинтриговавшее меня на долгие месяцы нашего совместного пребывания на острове, нечто, на что я так до сих пор и не нашел надежных ответов.
– Я знаю, каково это – подвергаться изучению, – сказал он. – Я знаю, что значит быть низведенным до объекта, до набора поведенческих практик и верований, что значит, когда кто-то ищет экзотику и ритуальный смысл в каждом твоем повседневном движении и видит… – Тут он умолк так резко, что я понял: он только что раскрыл что-то, чего раскрывать не собирался, и, будучи человеком вовсе не беспечным, недоумевал, что заставило его так поступить, и одновременно жалел об этом.
– Что вы имеете в виду? – спросил я насколько мог мягко, чтобы не спугнуть его, чтобы он успокоился и продолжил.
Но, разумеется, это был не ребенок и не зверек, и чтобы преодолеть его безошибочный инстинкт, тихого голоса было недостаточно, тут требовался другой уровень убеждения и хитрости.
– Ничего, – ответил он и замолчал, а я одновременно осознал, как громок и полон насекомых окружающий воздух и как давно я задержал дыхание[24].
Таллент прервал молчание первым.
– Хочу рассказать вам одну историю, – сказал он и замолчал.
Потом я к этому тоже привык, привык к его манере начинать и останавливаться, к длинным речам на несколько абзацев, которые вдруг прерывались молчанием, иногда на несколько минут, изредка – на несколько часов. Но на сей раз его молчание длилось недолго, и когда он снова заговорил, голос его был ровен, и он не рассказывал, а скорее декламировал, словно я встретил в темном сосновом средневековом лесу, а не во влажных джунглях, странствующего сказителя, и дал ему монету и краюху черного хлеба, чтобы он околдовал меня, на мгновение извлек из этого мира.
– Много лет тому назад, много-много лет, до века человеческого, жил-был великий камень, бог по имени Иву’иву, который правил огромным водным царством. Он был очень могуч, этот бог, и в его пределах встречалось все, что живет под поверхностью воды, – это было царство хвостатых, зубастых акул, и гигантских слепоглазых китов, и косяков рыбы, и полей колышущихся морских трав, которые касались его тела, словно волосы нимф.
Но Иву’иву был одинок. Повсюду вокруг себя он видел соития, видел зверей, которые соединялись и размножались и проплывали мимо него в сопровождении потомства. Даже самые одинокие, самые недружелюбные из его подданных – крабы-отшельники в витых узорчатых раковинах и ползучие, колючие морские звезды – были окружены детьми. Иву’иву был бог, и смерть его не заботила, но ему хотелось обсудить с кем-нибудь груз и тяготы своих божественных и царских дел, с кем-нибудь вместе дать начало собственному племени детей. Но для этого требовалось еще одно божественное существо, равное ему.
У Иву’иву был близкий друг, черепаха по имени Опа’иву’экэ; он был почти так же стар, как сам Иву’иву, и жить мог не только над водой, но и под водой, поэтому он бывал везде и рассказывал удивительные истории про такие места, куда Иву’иву никогда не попадал. Он потчевал своего друга рассказами про воздух и землю, где живет не меньше существ, чем под водой, только они летают, а не плавают – Иву’иву приходилось просить черепаху объяснять, что такое полет, много-много раз, прежде чем он хоть немного понял, о чем идет речь, – или ходят, или бегают, или ползают на двух, или четырех, или двенадцати ногах.
Однажды Опа’иву’экэ рассказывал Иву’иву про свои недавние путешествия, и бог не удержался от вздоха.
«О чем ты, мой друг?» – спросил Опа’иву’экэ.
«Ах, друг мой, – ответил Иву’иву, – я одинок. Повсюду я вижу счастье и близость. Я бы тоже хотел, чтобы у меня был спутник и были дети. Но для этого нужно еще одно божество, а правитель у верхнего мира может быть только один».
Опа’иву’экэ долго молчал. Потом он попрощался со своим другом и уплыл прочь.
Через некоторое время он вернулся и снова принес удивительные вести, но на этот раз даже более удивительные, чем надеялся бог. В своем путешествии по суше Опа’иву’экэ встретил еще одного друга, А’аку, бога солнца, и рассказал ему про желание Иву’иву. Оказалось, что А’ака хотел бы познакомиться с могущественным богом воды, о котором он так много слышал. И между богом воды и богом солнца зародилась любовь, а черепахе досталась роль их вестника. Он переносил замечания, похвалы, вопросы и песнопения, ввинчиваясь в холодные черные водные глубины, чтобы передать Иву’иву слова А’аки, а потом, гребя ластами по течениям, которые Иву’иву утихомирил, чтобы его другу было легче передвигаться, он поднимался на поверхность, где А’ака в середине дня делал передышку на своем пути, чтобы познакомиться с вестями из мира, который не мог посетить сам.
Прошло время, и родилось трое детей: первым был мальчик по имени Иву’иву, в честь морского бога; потом девочка по имени Ива’а’ака, Дочь Камня и Солнца; и снова мальчик, У’иву, чье имя значит просто Каменный. Половину времени все трое детей жили под водой, как Иву’иву, а половину – над ней, как А’ака. Они плескались в прохладном водяном царстве одного отца и согревались теплом другого. Любовь и привязанность родителей поддерживала их во все времена. Так что когда они тоже выросли и им стало одиноко, они обратились к А’аке, который подарил им новых детей – человечество. И пока люди были добры к своим предкам, А’ака следил за тем, чтобы злаки всегда всходили, а Иву’иву обещал, что в море всегда будет довольно рыбы и люди всегда смогут плавать по его водам, ведь люди были и его потомками тоже, которых ему следовало опекать и беречь.
А Опа’иву’экэ прожил долгую, долгую жизнь, такую долгую, что увидел, как внуки, и правнуки, и праправнуки его друзей выросли и процвели, такую долгую, что родил собственных детей, которые получили его имя – Животное с Каменной Спиной – и жили то на суше, на спине любимого черепахиного ребенка, его воспитанника Иву’иву, то в воде вокруг него. Опа’иву’экэ, конечно, не был богом, но его всегда почитали и почитают не только двое его друзей, но и все их потомки – конечно, за его привязанность и бескорыстие, но еще и за благородную работу посланника. Вот почему когда человеку посчастливится найти опа’иву’экэ, он должен совершить приношение богам и сам вкусить его плоть. Сделать так означает послать весть богам, помолиться о единственной вещи, которую А’ака – с одобрения Иву’иву – не передал своим детям: о бессмертии. И может быть, однажды боги их услышат.
Таллент затих, и некоторое время мы сидели молча. «Я сижу на ребенке бога, – подумал я. – Двух богов». Нелепость, но все же меня невольно пробрала дрожь изнутри.
– Это самая первая история, которую рассказывают маленькому у’ивцу, – тихо произнес Таллент. – Она почти так же стара, как этот народ, – ей несколько тысяч лет, и она никогда не менялась. У них нет письменности – по крайней мере, до миссионеров не было, – но ее знают все. Вот этот символ, – он взял палочку и начертил на земле круг, а потом провел через него прямую вертикальную линию, – означает черепаху, и его можно найти на церемониальных камнях и блюдах, которым несколько столетий; эти люди приносили кого-то из детей Опа’иву’экэ в жертву Иву’иву и А’аке в надежде, что именно им достанется дар и они смогут наконец жить как боги.
Он снова помолчал.
– Но есть и другая история, совсем не такая старая, она возникла где-то в последнее столетие. На протяжении долгих лет потомки Иву’иву и А’аки вызывали у своих дедов и отцов гордость, и неудивительно – они были смелыми и находчивыми. Это были великолепные охотники и искусные рыболовы. Они защищали своих родичей от любых вторжений и уважали обоих своих прародителей. И хотя прошло много времени, никто уже и не помнил сколько, и никто не мог найти ни одного потомка Опа’иву’экэ, чтобы принести его в жертву, но ни один из богов на это не обижался, и равновесие сохранялось.
Но потом, постепенно, так постепенно, что этого годами никто не замечал, все пошло не так. Люди У’иву срубили много деревьев и не посадили новых. Они позволили людям не с этих островов – хо’оала, белым людям – жить среди них. Люди хо’оала привезли с собой огромных зверей из железа, которые перепахивали мягкую почву Ива’а’аки, и огромные сети, которыми они выбирали из океана невиданные богатства океанской еды, больше, чем можно было съесть. Они создавали мусор, горы мусора, и что-то оставалось на земле – прямо на родителях! – а остальное люди сбрасывали в море.
Глядя на это из глубины и с вышины, Иву’иву и А’ака сначала обеспокоились, потом рассердились. Иву’иву послал могучие волны, чтобы вразумить своих детей, и А’ака заплакал, глядя на это, потому что Иву’иву хотел только напугать людей и внушить им почтение, но, уничтожая их, он уничтожил и часть божеских детей, и куски каждого из трех островов обвалились в море. Но даже это не изменило людские нравы. И тогда А’ака наслал палящие лучи солнца, упорные и безжалостные. В месяцы, когда он обычно уходил, оставляя небеса своей сестре, Пу’уаке, богине дождя, он остался на небесах и острыми кинжалами швырял на землю горящий свет. И теперь Иву’иву пришла пора плакать, потому что усилия А’аки выжгли урожай людей, и многие умерли, и он понимал, что его дети обожжены, опалены, осушены и мечтают о свежей воде.
Боги понимали, что не все люди забросили прежнюю жизнь, и печалились, что не могут уберечь и спасти хороших, отделив их от плохих, а праведных от непочтительных. Но люди все равно не обращали внимания на богов и на соглашение, которое боги так давно заключили с их предками. И поэтому богам пришлось и дальше насылать наказания, приливные волны, жестокие засухи. А’ака попросил свою сестру присоединиться к его усилиям, подвергнуть людей ливневым дождям, таким ужасным, что многовековые деревья вымывались из почвы и со стоном сползали в море, что водопады вырывались из своих ущелий, а ручьи превращались в ревущие, злые потоки. С каждым ударом богов их дети становились слабее, мельче, истощеннее, с каждым ударом боги испытывали все большую скорбь.
И все больший гнев. И тогда боги решили, что у них не остается выбора. Однажды, спустя много лет, человек по имени Ману’экэ – Добрый Зверь – рыбачил в холодном ручье на вершине Иву’иву и вдруг с изумлением увидел на мелководье плывущую к нему черепаху. Он поскорее схватил покрытое панцирем тело и бегом помчался в свою деревню. Там он убил черепаху и в жадной спешке, а может, и в силу дурного воспитания съел животное целиком, не принеся ничего в жертву богам, своим прародителям.
В ту ночь ему приснилось, что он обращен в бога, что ему первому дозволили жить вечно. Но ох как разозлились боги. Они видели, что сделал Ману’экэ, и понимали, что если человек не предложил им в пищу часть священного создания, как было заведено встарь, то человек этот безнадежно пал. И тогда они решили наказать Ману’экэ, даровав ему то, чего он так хотел, – вечную жизнь. Но только ужасную жизнь. Потому что когда наступил его шестидесятый год – одни говорят раньше, другие позже, – Ману’экэ стал все меньше и меньше походить на человека. Он забыл, что такое быть мужчиной. Люди, которых он когда-то знал, превратились для него в незнакомцев. Того, что он говорил, никто не мог понять. Он забывал блюсти чистоту. Он стал существом, которое было не совсем животным и не совсем человеком. Его прогнали от людей и не разрешили больше возвращаться.
И по сей день Ману’экэ странствует по джунглям, не зверь и не человек, тень своего прошлого, пример божьего гнева и одновременно – предупреждение богов. Он напоминает нам о власти Иву’иву и А’аки, о том, что они могут давать и отбирать жизнь, о том, что они всегда смотрят на нас, готовые принять или предложить дары, столь желанные для людей.
Тут Таллент остановился, и меня вновь охватила дрожь. Ночь вокруг нас словно бы еще потемнела и стала такой темной, что я уже не мог разглядеть сидящего рядом со мной Таллента, такой темной, что его голос как будто превратился во что-то осязаемое и тканое, в занавесь из темно-сливового бархата, повисшую между нами.
А потом дрожь пришла более пугающая и холодная, потому что в это мгновение я понял: это сказание, этот миф, который Таллент заучил, услыхав его бог знает от кого, который он таил, берег, нежил и ласкал, пока не смог его почти что петь, идеально соблюдая все паузы и переливы, и есть причина нашего пребывания на острове. Он собирался найти Ману’экэ; он собирался придать легенде смысл; он собирался разыскать существо, которое ползало по детским кошмарам, населяло походные байки, существовало в той же вселенной, что и камни, способные скрещиваться с планетами и порождать горы и людей. Внезапно пребывание в этом месте показалось мне сюрреалистическим, а весь наш поход – даже в слове «поход» было что-то литературное и фантастическое, как будто компания бестолковых героев ищет волшебный и наделенный невероятными свойствами предмет, – дешевым розыгрышем.
И все же – и это пугало еще сильнее – я почувствовал также, как что-то во мне освободилось. Даже сейчас, спустя столько десятилетий, я не могу объяснить этого точнее. Я вдруг обнаружил, что представляю себе длинную, толстую прочерченную мелом черту, вытянувшуюся по плоской выжженной земле. По одну сторону лежало то, что я знал, аккуратный кирпичный город безоконных построек, вещи и факты, в истинности которых я не сомневался (на ум невольно пришла моя лестница с именами тех, кто мудрее меня, и я устыдился, что попал в такое положение, что безмолвно благоговею перед антропологом). А по другую сторону лежал мир Таллента, который я не видел, потому что он был окутан туманом, рассеивающимся и сгущающимся по непредсказуемым законам, так что время от времени мне на мгновение приоткрывалось, что за ним скрывается – и это были лишь движущиеся краски, а не настоящие образы; но там было что-то неодолимое, я знал, и страх оказаться во власти этого мира в конечном счете пугал меньше, чем невозможность узнать, что лежит за туманом, отказ изучить то, что, возможно, мне больше никогда не доведется изучать.
И поэтому я закрыл глаза; я проигнорировал свои чувства; я переступил через черту.
– Ману’экэ существует на самом деле? – спросил я и немедленно отчитал себя за этот вопрос. «Ты забываешь, кто ты такой, – прозвенел внутри меня какой-то высокий комариный писк. – Будь осторожен, ты забываешь, кто ты такой. Помни, кто ты. Ты думаешь по-другому. Вспомни, чему тебя учили».
Но я не мог. Я старался, но не мог.
Он вздохнул.
– Никто не знает, – сказал он. – У’ивцы постарше, естественно, клянутся, что да. Но никто не знает, где он жил – у’ивцы говорят, на Иву’иву, само собой, – или что с ним стало. Точнее, есть много теорий о том, что с ним стало. Он якобы нырнул в море и больше не вынырнул. Он исчез. Он стал морщинистым, волосатым, маленьким и превратился в мартышку. Он стал камнем. Единственное, что остается неизменным: он не умирает в этих рассказах, он может исчезнуть, может преобразиться, но никто не говорит, что видел его смерть.
Я немного подумал.
– А они по-прежнему приносят черепах в жертву?
– А! – Я впервые услышал в голосе Таллента одобрение. – Вот, вот отличный вопрос. Главный вопрос на самом деле. Нет. Нет, не приносят. По крайней мере, на У’иву. Опа’иву’экэ в наши дни – большая редкость. Их редко можно увидеть в воде, а тем более на суше. Есть подвид, более мелкая пресноводная черепаха, на которую они похожи, и иногда – очень редко – их можно найти на Ива’а’аке или У’иву. Но островитяне их боятся и избегают. Это важные животные, увидеть их – добрый знак, но никто не смеет к ним прикасаться. Никто, кроме…
– Кроме иву’ивцев, – предположил я.
– Да. Так говорят.
Он снова умолк, на этот раз надолго.
– Есть история про то, – начал он, остановился и начал снова: – Говорят, что есть племя у’ивцев, которые живут глубоко в джунглях Иву’иву. Говорят, что они придерживаются старых обычаев и по-прежнему приносят жертвы богам. Говорят, – на этом месте я скорее почувствовал, чем увидел, как он поворачивает голову в мою сторону, – что они никогда не умирают.
Сам я никогда не видел этих людей, это племя. Но когда я был здесь в последний раз, три года назад, и изучал структуру семьи у у’ивцев – а она сама по себе очень интересна, – я встретил человека, рассказавшего, что он был на этом острове раньше и видел человека, который не был человеком. Выглядел как человек и двигался как человек, но размахивал руками и не мог говорить, визжал как мартышка, казался сильным и здоровым, но был лишен ума.
Впечатление само по себе гнетущее, но еще хуже, сказал он, что за этим человеком следовал другой, и еще один – целая толпа мужчин и женщин, нормальных с виду, но не способных на осмысленный разговор. Могли они только трястись, и лопотать, и смеяться в пустоту лающим смехом душевнобольных. У’ивцы ценят разговор, и остаться без него значит стать мо’о куа’ау – наверное, самый близкий перевод «без гортани», хотя куа’ау может еще означать «друзья» или «любовь». Без друзей, стало быть. Без любви.
Тот человек, охотник, покинул странных людей и поспешил домой на У’иву. Шли месяцы и годы, а он все пытался уговорить своих друзей и родственников отправиться с ним на запретный остров и найти этих людей, разобраться, нельзя ли им помочь и выяснить, кто они такие. Но у’ивцы и так сторонятся Иву’иву, ведь это любимая земля детей Опа’иву’экэ, и потому она священна, так что они отказывались сопровождать его.
Но тот человек, тот охотник, не мог забыть увиденного, хотя и объяснить, что заставляет его вернуться на запретный остров, такой пугающий, он тоже не мог. Эти люди не отпускали его. Ни о чем другом он не мог думать.
Поэтому когда охотник узнал, что кто-то ему наконец поверил – пусть и хо’оала – и намеревается найти этих людей, он попросил взять его с собой переводчиком и проводником. Он обещал привести двух родственников, которых после долгих уговоров наконец убедил.
– Фа’а, – понял я. – Это он охотник. И сказитель.
– Да, – сказал Таллент, и я опять скорее почувствовал, чем увидел, как его лицо поворачивается ко мне в темноте. – Мы найдем этих людей. Если они существуют, мы их найдем.
– Бессмертных, – сказал я и уловил скепсис в собственном тоне.
Но если Таллент тоже его расслышал – скорее всего, расслышал, – то не подал виду.
– Бессмертных, – подтвердил он, и его голос снова звучал бесстрастно. А больше он ничего не сказал, и я почувствовал, как темнота окутывает меня теплым и тяжелым покрывалом.
После той ночи еще с неделю я пытался уследить за временем, понять, ночь сейчас или день. (Мои часы остановились на второй день – влага проникла сквозь их швы и раскрасила циферблат узорами паутины.) Но очень скоро я осознал, что это бесполезно – листва была такой плотной, что солнечный свет стал однообразным и ненадежным. Нельзя было по-настоящему сказать, что его больше нет или что солнце скрылось, потому что в джунглях прямого света не было – только тьма и отсутствие тьмы, то есть ночь и день.
Сейчас, оглядываясь назад на те первые дни, я понимаю, какие они были необычные, прежде чем я выработал иммунитет к чудесам джунглей и даже научился их презирать. Однажды – наверное, это был наш третий или четвертый день – я, как обычно, брел вверх, смотрел вокруг, прислушивался к разговору птиц, зверей и насекомых, чувствовал, как земля подо мной мягко морщинится и вздымается невидимыми слоями червей и жуков, по которым передвигались мои ноги; могло показаться, будто идешь по влажным внутренностям огромного дремлющего существа. А потом на мгновение рядом со мной появился Ува – обычно он шел далеко впереди, вместе с Фа’а и Ту, быстро выдвигаясь вперед и возвращаясь, чтобы подтвердить Талленту, что мы в безопасности, – и выставил вперед руку, призывая остановиться. Потом он быстро и грациозно метнулся к соседнему дереву, неотличимому от других, толстому, темному, лишенному веток, и быстро вскарабкался по нему, развернув ступни внутрь, чтобы обхватить ими шиповатую кору. Поднявшись футов на десять, он посмотрел на меня и снова вытянул руку, ладонью вниз: подожди. Я кивнул. Тогда он продолжил карабкаться наверх и исчез в древесных кронах.
Спускался он медленнее и что-то сжимал в руке. С высоты футов пяти он прыгнул на землю и подошел ко мне, разжимая пальцы. В его ладони пряталось что-то трепещущее, шелковистое, отливающее ярким, аппетитным бледным яблочным золотом; во мраке джунглей казалось, что оно светится. Ува ткнул пальцем в свою находку, она перевернулась, и я увидел, что это какая-то мартышка, хотя и непохожая на известных мне мартышек; она была всего на несколько дюймов крупнее, чем те мыши, которых мне когда-то было поручено убивать, и ее лицо выглядело морщинистым черным сердечком с собранными в кучку чертами, а на нем сияли большие, прозрачно-голубые, как у слепого котенка, глаза. У нее были крошечные, изящные ручки, одной из которых она схватилась за собственный хвост, обернутый вокруг туловища, густо-пушистый, с бахромой густых волос.
– Вуака, – сказал Ува, показывая на это существо.
– Вуака, – повторил я и протянул руку. Под шерстью сердце билось так быстро, что звук был похож на урчание.
– Вуака, – снова сказал Ува, затем сделал вид, что ест ее, и торжественно похлопал себя по животу.
– Нет, – в ужасе сказал я, – нет.
И он покачал головой, удивляясь моему дурному вкусу, наверное, и снова отошел к дереву, где подбросил мартышку вверх, и я увидел, как она уцепилась за кору и быстро полезла по дереву, словно пульсирующий луч солнца.
Позже от Таллента я узнал, что вуака – это примитивная мартышка, как бы протомартышка, и живут они огромными колониями на определенном дереве, тоже эндемике У’иву. У’ивцы считают их лакомством – обдирают, потом обжаривают дюжинами на длинных прутьях и едят как шашлык, – но дерево под названием канава растет только в густых лесных массивах, которых больше нет на Ива’а’аке и У’иву. В сколько-нибудь значительных количествах канава (и, следовательно, вуака) встречаются теперь только на Иву’иву, но ничто, даже страсть к свежей вуаке, не заставит у’ивцев отправиться на этот остров.
Таллент засмеялся, что происходило редко.
– Фа’а, возможно, ищет здесь пропавшее племя, – сказал он, – но остальные… думаю, их интересует только вуака.
Жарить зверьков при такой влажности конечно, не получилось бы, но Таллент сказал, что их можно освежевать и завялить с солью, которую наши проводники взяли из дома именно с этой целью.
Я понимал, что испытывать жалость к бедной хорошенькой вуаке чересчур сентиментально (и, разумеется, бессмысленно), а мне не хотелось, чтобы Таллент заметил мою слабость, поэтому я ничего не сказал. Но в ту ночь, лежа на циновке, я думал о вуаке, о ее огромных, печальных глазах, о роскошном золотом сиянии, осветившем ее прыжок в густую тьму над нами, и вдруг испытал отчаяние такой силы, что на несколько секунд утратил способность дышать.
Но вскоре даже лес, поначалу казавшийся исполненным новизны и богатства, неиспорченного совершенства и бесконечных возможностей, стал утомлять. Там, где мне раньше мерещилась тайна, теперь я видел лишь однообразие: постоянную сырость, постоянный полумрак, постоянный узор деревьев, деревьев, деревьев, непрерывной грядой уходящих в вечность. Я мечтал увидеть над собой небо, голубое, с налепленными на него шапками облаков, или море с его беспокойной, взбаламученной мощью. Здесь мы знали, что прошел дождь, только потому, что деревья – которые одолевала такая непроходящая жажда, что я представлял их себе лесом гортаней, жадно глотавших любую каплю, – начинали потеть водой, исчезавшей в шубе мха у их подножий, и потому, что земля становилась склизкой и вязкой. На берегу любое семечко из кишечника птиц могло прорасти – я видел стволы манго и гуавы и другие деревья, которых назвать не мог, но узнавал, – а здесь, в глубине леса, растения были древние, экзотические, и я ни одного из них не знал. Это должно было вызывать восхищение, но нет: полная неузнаваемость превращает местность в нечто чуждое и неприступное, и ты перестаешь концентрировать на ней свое внимание и любопытство, чтобы не испытывать разочарования.
А еще меня начинала раздражать избыточность джунглей, как если бы слишком роскошно одетая женщина разгуливала передо мной, нацепив все свои сверкающие драгоценности. Мне казалось, что джунгли постоянно хвастаются сами перед собой собственными сокровищами – каждый камень, каждое дерево, каждая неподвижная поверхность была оснащена, украшена, осенена зеленью: трубки кустов, завернутые в извивающиеся лианы, запятнанные мхом и лишайником, деревья, окутанные гигантскими балдахинами волосистых свисающих корней какого-то другого невидимого растения, которое жило, видимо, где-то высоко над кроной. Это утомительное представление никогда не прекращалось – и ради чего? Чтобы доказать невозмутимость природы, должно быть, – ее непознаваемость, ее глубинное отсутствие интереса к человечеству. Или, по крайней мере, так казалось тогда – что это издевка. Конечно, было абсурдно просыпаться каждый день, чтобы ненавидеть джунгли и мою собственную ничтожность в них. Но я ничего не мог с этим поделать. Я начинал думать, что, наверное, не то чтобы схожу с ума, но, пожалуй, теряю хватку, как теперь говорят. А потом мне становилось как-то по-детски стыдно.
Джунгли продолжались и продолжались, такие постоянные в своем изобилии, что я в конце концов утратил всякую чувствительность к ним. Существо с темно-малахитовой чешуйчатой спиной пробегало у меня под ногами, призрачная мартышка испускала крик с верхушки дерева, и я не останавливался, не спрашивал Уву или Таллента, что это за животные. Вокруг было так много тонов и оттенков змеисто-зеленого, личиночного, грушевого, изумрудного, морского, травяного, нефритового, шпинатного, желчного, соснового, гусеничного, огуречного, настоянно-чайного, свеже-чайного – как беден наш цветовой словарь! – что я боялся утратить способность различать все остальные цвета. Ярко-алая набедренная повязка Фа’а жгла мне глаза, но я вглядывался в нее столько, сколько мог терпеть, словно пытаясь запечатлеть в мозгу ее красный цвет, прежде чем глаз снова станет воспринимать его как оттенок зеленого. По ночам мне снилась зелень, огромные плавучие кляксы, которые медленно переливались из одного оттенка в другой, и утром я просыпался разбитым и вымотанным. В течение дня мои мысли крутились вокруг видений пустыни, городов, твердых поверхностей – стекла, асфальта, кусков слюды, блестевших на заасфальтированных мостовых.
И проблема Таллента тоже все еще не отступала – на него я едва мог смотреть, рядом с ним старался говорить свободнее и меньше мямлить. По вечерам он долго не ложился, писал что-то в записной книжке, и со своей циновки я смотрел на него, пока темнота заполняла пространство, как стая летучих мышей. Он никогда не использовал фонарь без необходимости – например, чтобы оправиться, – и даже когда свет полностью уходил, он продолжал писать, а я лежал на своем месте, стараясь не издавать ни звука, и слушал, как его ручка шуршит по листу; почему-то для меня это был красивый образ – Таллент пишет в полной темноте, – и когда мы продолжали путь, я иногда закрывал глаза и вызывал его в памяти, наслаждался им, как конфетой. Во время длинных переходов я старался высказывать ему – и порой мне это удавалось – интересные замечания, но каждый раз, когда это происходило, Эсме оказывалась рядом, готовая предложить собственное мнение по любому вопросу.
Эсме, конечно, представляла собой затруднение совсем другого рода. Помимо ее начальственных замашек, самодовольства и собственнического отношения к Талленту (меня мучило, что я по-прежнему не мог понять, замечает он это или нет, а если замечает – безразлично ему это или нет) имел место еще один простой факт: на нее было неприятно смотреть. С каждым днем ее волосы отрастали все беспорядочнее и неподатливее, пока не покрыли лунной тенью все распухшее лицо, а кожа, как я уже говорил, покрылась практически непроходящей сыпью. Это не должно было беспокоить меня, но беспокоило.
Были и более серьезные проблемы, связанные с Эсме. Однажды глубокой ночью я пошел к ручью, тому же, который уже упоминал, – его источник, видимо, находился где-то высоко в горах, куда мы направлялись, – и увидел на лесной почве смятый бутон. На темном фоне он сиял невероятной белизной, как чистый лист бумаги, и в центре его распускалась клякса насыщенного бургундского цвета. Здешние цветы были точно восковые, непохожие на цветы: на месте тычинок таращились непристойно призывные пластиковые губы, и на них садились отдохнуть насекомые; на месте листьев – агрессивные, топорщащиеся плоскости. Но этот белый цветок напомнил мне те бутоны, среди которых я вырос, – сахаристые пионы с гофрированными оборками, словно балетные пачки, полупрозрачные кусты астр. Казалось, я уже много дней не видел ничего столь очаровательного, и я стоял, уставившись на этот узор.
Но, продираясь ближе к ручью, я увидел, что цветок этот – вовсе не цветок, а скомканная ткань с размазанной по ней кровью. Я испытал что-то вроде негодования: во-первых, справедливое чувство злости на Эсме, которая так небрежно избавляется от своего мусора, а во-вторых (я признаю, что это труднее оправдать), раздражение из-за того, что она испортила мне такую умиротворяющую картину.
Вернувшись к циновке, я растолкал ее.
– Впредь поосторожнее, – сказал я.
Она заспанно посмотрела на меня из-под растрепанных волос.
– Ты о чем? – спросила она.
– Отбросы твои, – сказал я. – Я чуть на них не наступил.
– Отстань, Перина, – сказала она и перекувырнулась на другой бок.
– Эсме! – прошипел я. – Эсме!
Но она уже притворилась спящей, а я не решался повышать голос, опасаясь разбудить Таллента.
– Эсме!
Я потряс ее за плечо, и почувствовал, как отвратительна под рубашкой ее плоть, дрожащее бланманже, покрытое каплями пота.
На следующее утро мы завтракали (снова «Спам», выгребаемый из жестянки тонкими ломтями жесткого желтого, похожего на папайю плода, который нашел и нарезал для нас Фа’а) в молчании – Таллент писал в своем блокноте, и даже Эсме нехарактерно притихла. Я не смотрел в ее сторону, но как будто чувствовал вокруг нее тошнотворный запах менструальной крови, жестяной женский дух, такой отвратительный, что когда мы снова пошли наверх, когда он наконец медленно растворился в аромате джунглей, я испытал облегчение. И с тех пор я не мог взглянуть на нее, не подумав о сочащихся жидкостях, густых и тяжелых, как мед, но гнилых, истекающих из каждого ее спрятанного отверстия.
Прошло сколько-то дней (увы, точная продолжительность ускользает от меня сейчас, как и тогда; может быть, пять дней, может быть, пятнадцать), и ближе к вечеру мы вошли в другой пейзаж. Я не могу это лучше описать, могу только сказать, что сам воздух, казалось, переменился: за нами остались знакомые джунгли, влажные, стелющиеся, наполненные тайнами, как в сказке, а перед нами лежало что-то другое. Внезапно воздух стал суше, деревья – менее подавляющими, солнце – солнце! – заметным, и оно отбрасывало пологие, неровные параллелограммы света на покрытую разными папоротниками и ветвями землю. Надо мной виднелась паутинная сетка, натянутая между двумя деревьями, которая сверкала, словно связка алмазных ожерелий.
Фа’а что-то быстро и возбужденно сказал Талленту, а тот в свою очередь сообщил нам, что мы в дне с чем-то пути от места, где Фа’а видел тех людей. Он отметил то место большим крестом на коре некоего дерева, которое называется манама. Кора манамы растет ячейками, сказал Таллент, и если ее проткнуть, она выпускает липкий сок, который затвердевает коркой наростов: когда мы это увидим – не ошибемся.
Но теперь, объявил он, надо отдохнуть, и мы все вшестером немедленно сбросили свою поклажу. Было хорошо и странно лежать там, думать, что мы пережили опасности джунглей (хотя позже мне пришлось признать, что в джунглях никакой настоящей опасности не было, что на самом деле пугаться надо было теперь), чувствовать, как солнечный свет ползет по нашим лицам, слышать первые слабые птичьи крики; эта музыка казалась сказочной, такой она была странной и красивой, такой внемирной.
Потом мы заснули, все, даже проводники, и когда я проснулся и увидел неподвижные тела остальных, я на мгновение решил, что они умерли и я остался один в этом странном, залитом солнцем месте, окруженный деревьями, названий которых я не знал, и птицами, которых слышал, но не видел, и что никто никогда не узнает, что я был здесь, не вспомнит, что я когда-то существовал, не найдет меня. Чувство это было мимолетным, но я запомнил, как быстро, за один вдох, я перешел от отчаяния к смирению, как хорошо человеческий разум оснащен для приспособления к реальности, к усмирению самых глубоких своих страхов. А потом я, пожалуй, испытал гордость за собственную человеческую природу и на миг почувствовал себя непобедимым, уверенным, что следующий день не принесет ничего, что я не смогу выдержать.
Я шел в направлении ручья, который, как ни странно, становился шире и мощнее по мере нашего продвижения вверх, шел к ясному, быстрому рукаву холодной воды, чей вкус, как ни странно, был сильнее насыщен морем, чем в низине. Попив воды, я сел на берегу, глядя, как ручей передвигает гальку, любуясь каймой мелких оранжевых цветочков по обеим сторонам потока. И в этот самый миг, сонный, мечтая о чем-то праздном, я увидел, как что-то движется из-под валуна, лежащего на дне: темное очертание, не более того, как тень от облака, проносящегося над морем. Но когда оно приблизилось и стало обретать форму, я понял, что это черепаха, чей острый костяной хребет выступает над поверхностью воды. И я сразу же догадался, кто передо мной.
– Опа’иву’экэ! Опа’иву’экэ! – кричал я и слышал, как остальные бегут в мою сторону.
Я сказал, что узнал опа’иву’экэ, но только потому, что мы находились на его земле; вообще же это животное, по крайней мере на первый взгляд, не представляло собой ничего особенного. Оно оказалось, пожалуй, немного меньше, чем я ожидал, – размером примерно с диск автомобильного колеса, – и ноги его, что неудивительно, больше походили на плавники морской черепахи, чем я воображал[25]. Потом я посмотрел на него внимательнее – опа’иву’экэ перестал плыть вниз по течению и остановился на месте, медленно перебирая ногами, чтобы поток его не снес, – и разглядел его панцирь, горбатый, как спина верблюда, яркого, жучиного зеленого цвета, зеленого почти до черноты, разделенный на аккуратные квадраты с так ясно размеченными границами, как будто их отчеканили по металлу. Но задуматься всерьез заставила меня его голова, маленькая, причудливой формы неровного ореха, на длинной, телескопической шее. До того момента я никогда не был склонен наделять животных человеческими чертами или разумом, но опа’иву’экэ смутил меня своей выразительностью, иначе, пожалуй, и не скажешь. Я посмотрел в его янтарные глаза, окруженные мешковатой и обвисшей кожей, и почувствовал, пусть и ненадолго, что история, рассказанная Таллентом, правдива, что это создание наделено мудростью и силой, а мы его гости и уж никак не высшие существа. За моей спиной трое провожатых что-то хором шептали на у’ивском, это был низкий, песенный шум, похожий на звук сверчков, и через несколько мгновений, пока мы все молчали, животное моргнуло нам и почти высокомерно продолжило свой путь по ручью, по-прежнему высоко держа голову и разделяя воду своими ногами-плавниками на ровные борозды.
Мы, не двигаясь, провожали опа’иву’экэ взглядом, но когда он скрылся, трое проводников быстро заговорили, и на их лицах я прочел и восторг, и страх.
– Они впервые в жизни увидели опа’иву’экэ, – тихо сказал мне и Эсме Таллент, и мы стали дальше смотреть, как трое мужчин обсуждают увиденное столь торопливо, будто стараются избавиться от воспоминания, а не закрепить его.
Мы втроем – даже Эсме – наблюдали за ними молча, и хотя в тот момент я счел их почти паническое поведение забавным, позже я понял, в чем дело: боги существуют в преданиях, на небесах и в других измерениях, люди не должны их видеть. Но когда мы вторгаемся в их мир, когда видим то, чего видеть не должны, что может последовать за этим, кроме катастрофы?
Это было странное время – несколько часов похода после встречи с черепахой. Наши проводники и так не казались мне особенно общительными – вообще-то они часто уходили так далеко вперед во время наших ежедневных переходов, что я, к своему стыду, едва о них вспоминал, – но сегодня они шли с нами, почти вплотную, как будто нуждались в нашей заботе и защите (от чего становилось довольно тревожно, потому что мы – за исключением, может, разве что Таллента – вряд ли могли защитить их от чего бы то ни было), и их тишина была не столько спокойная, сколько совершенно беззвучная. В отличие от нас, они не пыхтели, продвигаясь вперед, не останавливались, чтобы вытереть капли пота со лба; казалось, что им нужно меньше воздуха, чем нам, что они не подвержены лесной духоте. Но в тот день я наконец понял, что производимые ими звуки – тихий ответный писк, обращенный к невидимым насекомым, жужжащим и пиликающим в небесах, легкий свист, которым они указывали друг другу свое местоположение, – это все-таки часть фонограммы джунглей.
И вот в этой тишине с неба упало что-то влажное и тяжелое, приземлившись с сочным, многообещающим хлопком, как ломоть сырого мяса, который падает на другой такой же ломоть с огромной высоты. Проводники, оживившись, снова заговорили (боюсь, я мог вскрикнуть) и собрались вокруг упавшего предмета, который оказался плодом, хотя и не похожим на любые виденные мною до сих пор плоды. Он был отвратительно приапический, дюймов восемнадцать в длину, толстый, как баклажан, того особенного сахарно-новорожденного розового цвета, какой можно увидеть только в красках тропического заката. Но примечательнее всего было то, что он двигался – что-то заставляло раздуваться небольшими комками его тонкую однотонную кожуру, а потом снова сдуваться, и эти волны проходили по всей длине плода. Проводники снова одновременно и возбужденно заговорили, и подоспевший Таллент присоединился к их хору.
– Это плод манамы, – объяснил он. – Они растут только на этой высоте. Значит, мы близко.
Потом он взял плод из рук Фа’а и взрезал его посредине перочинным ножом. Из надреза высыпалась огромная копошащаяся масса личинок, размером и цветом походивших на мышат; они упали с плода на землю и начали расползаться, как кусочки мясного фарша, внезапно ожившие и устремившиеся по поверхности мха к чему-то спасительному. (Эсме, кажется, тошнило. Мне не стыдно признаться, что и меня тоже подташнивало.)
– Это черви хуноно, – продолжил Таллент, и на мгновение его безоблачное душевное равновесие, его явная неспособность испытывать отвращение от всего, что может бросить ему в лицо природа, показались мне свойством не совсем человеческим и несколько подозрительным. – Они проводят в этом плоде свой инкубационный период, а потом одновременно вырываются из него бабочками, самыми красивыми бабочками на свете. – Он улыбнулся нам. – Это деликатес, если их найти, но и сам плод – тоже. – Он спихнул последнюю личинку тупой стороной лезвия и отрезал для нас обоих по куску манамы. Не могу сказать, что я стремился попробовать плод, но выбора у меня не было. Эсме уже подносила свой кусок ко рту. Внутренность была того же цвета, что и поверхность, чуть сладкая, немного жилистая, с мясным, пружинистым ощущением хрящика. Таллент предложил мне добавки, но я помотал головой, и он, пожав плечами, передал остальное проводникам, которые принялись отрывать от плода целые куски. На темном фоне их кожи плод выглядел еще более уязвимым и мясистым, и я ощутил приступ необъяснимого страха.
Мы продолжили путь, и плоды манамы падали тем чаще, чем выше мы взбирались, всегда приземляясь с одинаковой тревожной силой. В какой-то момент я посмотрел вверх и обнаружил, что вижу только окружности этих плодов, будто бы по небу рассыпались плавающие опухоли, ни к чему не привязанные, но подвешенные над головой, как странные розовые луны. Постепенно другие деревья – например, канава, которая до сих пор попадалась на каждом шагу, – стали уступать место манамам (чья кора действительно набухала многоярусными, чешуйчатовидными наростами), пока мы не оказались полностью в их окружении, а воздух словно бы пронизался легким запахом чего-то человеческого и нечистого.
Но как раз когда я начал сомневаться, что Фа’а сможет найти свое дерево, то, на котором он оставил отметину, Ува вскрикнул и показал на ствол манамы с огромной кровавой нашлепкой, неровным, почти комическим красочным пятном. Когда мы приблизились, я увидел, что это не кровь, а что-то живое, похожее на обнаженный, выставленный наружу орган, как будто у дерева обнаружилось какое-то собственное анатомическое строение. «О господи, – подумал я, – неужели ничто в этих джунглях не может вести себя как должно? Что, плоды так и будут двигаться, деревья дышать, пресноводные реки пахнуть океаном? Почему ничто не следует законам природы? Почему все должно так навязчиво указывать на существование волшебства?» Только подойдя – нехотно и устало – вплотную к стволу манамы, я убедился, что это всего лишь дерево, а то, что я принял за трепещущее сердце, за вздымающееся легкое – это стая бабочек с покрытыми тусклым золотом алыми крыльями. В них-то, конечно, и превратились личинки, и когда Таллент отогнал бабочек взмахом ладони – я с некоторой грустью смотрел, как они разлетаются и на краткий миг зависают вокруг нас и над нами буйным облаком, – они тут же вернулись к дереву, которое снова пустило их питаться своим соком, застывшим, как и обещал Таллент, непрозрачными, стеклянистыми пузырями.
Вот, стало быть, оно. Вот то дерево, вот где Фа’а видел своих не-людей, вот к чему привели дни нашего пути. Но это свершение почти сразу оказалось под угрозой – мне стало очевидно, что осмысленного плана у нас нет. Наверняка, с некоторым надрывом думал я, план был как следует продуман? Мы что, должны просто стоять у этого дерева и ждать, словно дети в сказке, этих предполагаемых полулюдей, которые появятся перед нами, как ходячие видения? Мне представилось, как мы все скопом разворачиваемся и направляемся вниз через заросли джунглей, снова погружаясь в их влажные, липкие объятия, до самого океана, а потом – что потом? Мы как-то вернемся на У’иву, потом Эсме и Таллент поедут в Калифорнию, а я – в никуда. Я вдруг почувствовал себя таким же потерянным, как в доме у Смайта, и с горечью задумался, когда же я смогу уже с уверенностью сказать, морок меня окружает или просто неудачные обстоятельства.
Наконец, после долгого разговора с Фа’а, Таллент объявил, что мы остановимся здесь на ночь и двинемся дальше наутро. Ни Эсме, ни я не задали ему никаких вопросов – наверное, мы оба боялись услышать ответ, и, кроме того, ни один из нас ему обычно не перечил, – нет, мы послушно разложили свои вещи на траве. Помнится, в его голосе звучала пораженческая нота, и это вызвало у меня парадоксальное удовлетворение, хотя по большому счету следовало встревожиться: нас привело сюда, как он сам признавался, его предчувствие, и без Таллента я выходил просто глупым и безрассудным юнцом, который застрял в лесу, наполненном исключительно безумцами и мифами.
В ту ночь мне, как всегда, снились сны, но то ли из-за возвращения солнечных лучей в период бодрствования, то ли из-за того, что я все еще упорно цеплялся за ошибочное представление, будто мне удалось дойти до какого-то важного предела, то ли, может быть, из-за странных плодов манамы, которые плюхались, как пушечные ядра, разбивая ночь нестройным шумом, в моих видениях явились приземленные вещи, череда всего милого, привычного и такого непримечательного, что мне в голову не приходило об этом скучать: простой кожаный ботинок, который я когда-то носил, с крошащимся дерном на подошве; вяз, росший возле нашего дома, в котором как будто отражалось все благородное и величественное; рубашка, которую когда-то носил мой отец и ее голубая хлопковая ткань выцвела почти до белизны… и Оуэн, чье лицо плавало, подобно планете, на чешуйчатом шелковисто-черном фоне с выражением непонятным, но, догадывался я, исполненным жалости.
Но кого же он жалеет, думал я даже во сне.
Меня?
На следующий день мы проснулись, позавтракали и остались сидеть. Точнее, мы с Эсме и Таллентом остались сидеть, а проводники куда-то уковыляли. Становилось очевидно, что за неимением плана нам придется сидеть и ждать, как собакам, пока какое-нибудь событие само на нас не набредет.
Кто знает, как долго мы сидели. Несколько часов, безусловно, но сколько? Мы постоянно слышали, как перекликаются и бродят вдали проводники, и между потаенными взглядами в сторону Таллента (который писал яростнее, чем обычно, – о чем, хотелось мне спросить, ведь насколько я мог оценить, ничего антропологически интересного до сих пор не случилось) и стараниями не смотреть в сторону Эсме я лежал на спине и пытался сосчитать стебли какого-то ползучего растения (волокнистого, словно бы запыленного на вид), закрутившиеся в узлы на одной из нависавших сверху веток манамы. Вспоминать тот день мне до сих пор поневоле немножко стыдно. Боюсь, с молодыми людьми приключения пропадают зря. Мне стоило бы изучать окрестности, ползать в зарослях (намного более доступных и приятных, чем пару дней назад), бродить по лесу в поисках неописанной растительности (сейчас мне физически больно вспоминать, сколько трав, папоротников, цветов, деревьев я никогда раньше в жизни не видел и мог бы отмечать весь световой день), даже пытаться ходить за проводниками по их малопонятным и сосредоточенным маршрутам. Вместо этого я лежал на спине и считал лианы. Лианы! Я всю жизнь гордился своим любопытством, своей, как мне казалось, неутолимой интеллектуальной жаждой. И при этом, оказавшись в ситуации, когда почти все вокруг было чуждым, я ничего не делал, ничего не видел.
Когда в молодости тебя заносит в необычное место, ты предполагаешь, что это неизбежно произойдет еще раз и когда-нибудь потом ты снова окажешься в странной и экзотической обстановке. Но такое происходит очень редко. Большая часть из того, что мы наблюдаем в ближнем окружении, на самом деле повторяется в других частях света с унылой точностью: птицы, звери, плоды, небо, люди. Они могут выглядеть по-разному в разных местах, но их базовое поведение, в сущности, одинаково: птицы поют и порхают, звери крадутся и мычат, плоды бесчувственны и неодушевленны, небо наполняется облаками и звездами и пустеет, люди носят одежду, убивают, едят и умирают. На Иву’иву, как мне приходилось наблюдать множество раз, все эти вещи происходили не так, как можно было ожидать, но я был слишком неопытен, чтобы осознать, насколько это необычно. (Оглядываясь назад, я думаю, что Таллент, может быть, осознавал это. Может быть, именно этим он постоянно заполнял свой блокнот: вовсе не антропологическими наблюдениями, а описанием неизбывной странности места.) Только старики могут оглядываться и изумляться, потому что мы знаем, как однообразен на самом деле мир, как все его проблемы и чудеса уже опознаны и описаны.
Было бы приятно сказать, что после ожидания, после того, как утро медленно утекло прочь, мы внезапно оказались окружены людьми Фа’а, которые появились столь же неожиданно и театрально как, скажем, плод манамы. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого, еще раз поговорив с покачивающим головой Фа’а, Таллент объявил, что мы разойдемся в разных направлениях, каждый с одним из вожатых, чтобы, как он туманно выразился, «изучить местность и поискать следы». Он с Фа’а собирался пойти на север, вверх по склону, Эсме – на восток, я – на запад. Встретиться мы должны были, вернувшись к дереву, когда солнце окажется в зените.
Рассказывая о тех событиях, я заново поражаюсь, какое это было случайное и бессмысленное решение. Но опять-таки тогда казалось, что это самый разумный и практичный шаг. В алогичных ситуациях человек цепляется за любую идею, которая выглядит хоть сколько-то логичной, даже если это просто случайная завеса, прозрачная и хлипкая, скрывающая недостаток серьезного планирования.
Так что мы разошлись, уж точно не слишком убежденные, что из этого что-нибудь выйдет. Ну конечно, призрачные люди Фа’а! Откуда мы знаем, что они вообще существуют? «Но ты же видел опа’иву’экэ, – напоминал я себе, а другой внутренний голос возражал: – Ты видел черепаху, только и всего. Черепаху, которую ты сам превратил в божество. Теперь ты такой же потерянный, как и они все». И на это мне было нечего возразить. Голос был прав. Я потерялся.
2
Первым их увидел Фа’а.
Мы узнали об этом намного, намного позже, когда солнце почти зашло и весь лес наполнился призрачным красноватым светом, как будто в воздухе сгустился яркий кровянистый туман. Мы – Эсме, Ту, Ува и я – ждали, когда вернутся Фа’а с Таллентом, и чем дальше, тем беспокойнее вели себя Ува и Ту; они по очереди бегали наверх, а второй оставался сторожить нас и наши вещи, как будто мы пленники или дети (не лучше которых, полагаю, мы для них и были).
А потом наконец они показались вдали; они шли вниз по склону, и Фа’а что-то лихорадочно и быстро кричал остальным, а за ним шел Таллент, а за Таллентом – кто-то еще, третий человек, и мы все стояли и смотрели, как они выходят из чащи. Я видел страх на лицах проводников и знал, что он отражается и на моем лице. Но я забегаю вперед.
Покинув нас в то утро, они, Таллент и Фа’а, прошли мимо дерева с бабочками (которое мы стали, хотя никто не произнес это вслух, считать демаркационной линией: ниже лежала знакомая нам земля, выше – terra incognita, хотя, конечно, это был надуманный топографический принцип, ведь нас окружала сплошная terra incognita – то, что лежало ниже этого дерева, мы могли покорить не в большей степени, чем то, что лежало выше), прошли в раскинувшиеся за ним джунгли. Через несколько сотен ярдов в зарослях стало еще свободнее, хотя кроны деревьев были тяжелы и покрывали пространство, как зонтики, затемняя и охлаждая воздух, лишая его света и звука. Я употребил эти слова произвольно, но здесь поистине раскинулся скорее лес, чем джунгли, зачарованный лес волшебных сказок, где избушки из лаково-черной лакрицы, украшенной жирной белой глазурью, стоят на полянах и говорящие волки рыскают на двух ногах в старушечьих чепчиках. Растения вокруг деревьев изменились тоже: исчезли жадные насекомоядные орхидеи, вульгарно-щегольские бромелии, приземистые саговники, и на их месте появились неяркие оборчатые клинья грибов, завитки крепко сцепленных папоротников.
Они шли, наверное, около часа, когда вдруг услышали звук – ничего интересного, ничего ошеломляющего, просто какой-то шорох, как будто над ними кто-то сжал лист бумаги. Двумя днями раньше они бы не обратили на это никакого внимания – ну, очередное семейство вуак резвится в ветвях канавы или какая-нибудь из этих противных туканообразных птиц, что оставляют яркий, фосфоресцирующий желтый помет на стволах деревьев, сверкающий, как масляная краска. Но здесь животные вели себя тихо, таились – они уже видели гигантских шерстистых ленивцев размером с лабрадора, которые сонно свисали с веток, и пауков с сияющими голубыми пятнами на спине, осторожно, деловито пробирающихся по стеклянистым паутинам, – и звуки утопали в тишине, как будто все вокруг затаило дыхание и напряженно, сосредоточенно его удерживало, готовое вдруг разразиться красками и шумом гигантского бала. Так что, услышав этот звук, они остановились и прислушались. Таллент обнаружил, что отчего-то считает про себя, как будто, стоит ему достичь определенного числа, им что-то откроется.
Он досчитал до семидесяти трех, когда Фа’а схватил его за руку и ткнул пальцем вперед, и Таллент увидел, как оно спускается по стволу манамы примерно в пятидесяти футах слева от них. Нельзя сказать, чтобы оно ползло умело или отличалось грациозностью, но на первый взгляд оно показалось Талленту ленивцем, а не человеком; в отличие от человека, который спускался бы по стволу ногами вниз, это существо ползло, крепко обхватив дерево руками, а тело вяло и бесполезно двигалось вслед. У манамы прочные и ровные ветви, которые растут почти от подножия до самой вершины, но существо не пользовалось ими в качестве лестницы, как делал бы человек. Скорее оно скользило вниз наподобие змеи (хотя это и было непросто – кора манамы практически исключает скольжение) и, встречая ветку, как бы в сомнении останавливалось, явно не понимая, что ее можно использовать для нужной цели. У подножия дерева, когда голова коснулась земли, существо снова замерло, потом рухнуло на землю и некоторое время просто лежало на спине, раскинув руки и ноги, не издавая ни звука. Фа’а сделал рукой знак, предупреждая Таллента от движения вперед (не то чтобы в этом была необходимость, говорил позже Таллент, – он был слишком зачарован, чтобы двигаться), и несколько минут они оба стояли как вкопанные и смотрели на то, что распласталось на земле.
Когда оно наконец встало, это произошло в два приема: сначала оно перешло в сидячее положение, не подставляя локти, но разом, от поясницы, словно его потянул невидимый шкив, а потом, после еще одной паузы, резко поднялось на ноги. А потом оно пошло, и Фа’а с Таллентом скрылись за деревом, чтобы понаблюдать.
Существо оказалось чуть ниже Фа’а, ростом фута в четыре или около того; это была женщина с отвисшей грудью, животом на вид твердым и округлым и ногами широкими и плоскими, как у Фа’а, хотя у нее они были еще шире и пальцы на ступнях жадно закапывались в землю. Она была очень волосата – лобковые волосы сплелись в плотный колтун, а шевелюра казалась сплошным куском черноты, такая она была спутанная и густая. На ногах тоже темнела поросль, спина была покрыта шерстистой шкурой. К волосам прицепилось разное: обрывки листьев, комки грязи, фруктов, испражнений; Таллент увидел, что в волосах над ее вульвой затаился, как отдельный орган, червь хуноно. Двигалась она, как ему показалось, по-человечески – они видели, как она склонилась (опять-таки со скованностью в пояснице), чтобы взять упавший плод манамы, и яростно вгрызлась в него, а хуноно расползлись между ее пальцами и раскрасили розовой пастой все вокруг, – но жесты эти были неуклюжи, как будто она когда-то давно научилась вести себя по-человечески, а теперь медленно и упорно забывала. А потом очередным резким движением она повернулась и уставилась прямо на Фа’а и Таллента, и хотя Фа’а шагнул за дерево, тихо зашипев от ужаса и отвращения, Таллент шагнул в противоположную сторону, не обращая внимания на умоляющие, беспорядочные жесты Фа’а, и двинулся навстречу этому существу.
Он шел медленно и осторожно, уже осознавая, что ее движения начинаются без всякого предупреждения, и подошел ярдов на десять, после чего остановился. Все это время она смотрела, как он приближается, извивающийся плод манамы так и лежал в ее руке, черви так и падали изо рта и с ладони, отскакивали от живота и летели на землю, рот был нелепо и причудливо разинут, глаза не отрывались от его лица.
Таллент сделал еще шаг вперед. Существо смотрело на него. Он сделал еще шаг. По-прежнему ничего. Еще шаг, и он почти что сможет до нее дотронуться. Он его сделал.
И тогда она закричала; крик становился то громче, то тише, то громче, то тише, разнясь по партитуре от рыка до вопля, от визга до писка, и снова утихал, и опять разносился. Он слышал, как Фа’а за его спиной взывает «Отойди! Отойди!», но не отходил и оставался там, в нескольких футах от существа, и по-прежнему протягивал к ней руку, а она по-прежнему сжимала в руке плод манамы, и черви по-прежнему сыпались ей под ноги, и ее голос единственным звуком разносился по тихому, жуткому, зачарованному лесу, не умолкая, наполняя его страшным, неритмичным, бесконечным воплем.
Потом все кончилось. Она закрыла рот, и звук прекратился; джунгли еще некоторое время отзывались эхом, а потом она снова принялась за манаму, и он не слышал ничего, кроме ее жевания и чавканья, и не видел ничего, кроме ее розового языка, погружавшегося в розовый плод, и розовых червей, которые свисали из уголков ее рта, как реснички эпителия. Казалось, она забыла, что он стоит перед ней, и он обратился к ней, сказал несколько простых слов на у’ивском – «Здравствуй. Ты кто?» – и когда она не ответила, он вернулся к Фа’а, и она не обернулась в его сторону.
– Фа’а, – прошептал он, – дай мне банку «Спама».
Он открыл крышку, в спешке порезавшись, и начал выгребать мясо ногтями, направляясь к ней. Когда она снова оказалась в пределах его досягаемости (или он в пределах ее, мимолетно подумалось ему), Таллент выложил из банки кусок мяса и отступил на шаг в сторону Фа’а, оставляя по шмату розовой субстанции (того же розового цвета, что у манамы, вдруг понял он, хотя раньше такая аналогия не приходила ему в голову) примерно через каждый фут, пока не уперся спиной в дерево, за которым с широко раскрытыми глазами стоял Фа’а.
Она заметила это не сразу. Доев плод манамы – с исключительным тщанием, вылизывая кожуру широким, плоским языком с такой силой, что Таллент видел, как собираются в складки ее щеки, пока она высасывает внутренность фрукта, – она некоторое время стояла, тяжело дыша, как после трудной работы, а ее живот раздувался и опадал.
Повернувшись, она наступила в «Спам», и Таллент увидел, как он расползается медленным и толстым слоем лавы поверх грязи, запекшейся на ее коже. На некоторое время она снова впала в забытье, точно глазастая, тяжело дышащая статуя с глупо высунутым наружу языком и зрачками, устремленными в пустоту. А потом она посмотрела вниз очень естественным движением, как будто любовалась новыми туфлями, увидела мясо и мгновенно опустилась на четвереньки, жадно нюхая пищу и испуская из ноздрей влажное, преувеличенное храпение. Она делала так некоторое время, вращаясь вокруг кучи на ладонях и ступнях (как свинья), а потом села на ляжки (как обезьяна) и стала ладонями запихивать мягкое мясо в рот. Поглотив первую порцию, она посидела неподвижно, рыгнула, а затем на четвереньках передвинулась к следующей куче и начала свой ритуал – смотрим, смотрим, нюхаем, нюхаем, едим, едим, рыгаем, – пока не подобралась близко к дереву, так близко, что Фа’а и Таллент чувствовали ее запах, почвенный аромат, менее отвратительный, чем можно было ожидать, а потом Фа’а бросился на нее, обхватив ее поясницу обеими руками.
Он ожидал, что она будет сопротивляться, бороться, но она всего лишь повернулась, посмотрела на него и втянула губы, отводя голову и расширив глаза, как будто эти три действия были связаны, и хотя и Таллент, и Фа’а ожидали, что она снова закричит, этого не произошло. Через мгновение ее рот снова принял обычную бессмысленную форму, глаза опять заплыли, голова дернулась вперед; это была марионетка, чьи нити ослабли, и теперь ее можно было вернуть в ящик, где она станет терпеливо ожидать нового хозяина, который вдохнет в нее жизнь.
Фа’а отпустил ее – она резко села, не сгибая коленей, – и они с Таллентом снова уставились на нее.
– Да, вот это я и видел, – сказал Фа’а Талленту. – Это одна из них. Но их было много – мужчин и женщин. Она такая же, они все стояли, таращились в пространство и издавали бессмысленные звуки. Но где остальные? Почему она одна?
Он беспокоился, но о чем – об этом ли существе или о них самих, оставшихся в одиночестве среди леса, возможно окруженных десятками подобных не-людей, – Таллент определить не мог. Однако он чувствовал, что Фа’а вымотан и напуган; быть может, он отчасти считал, а отчасти надеялся, что эти люди ему некогда лишь привиделись, и доказательство обратного, еще одно сказание, ожившее у него на глазах, оказалось ошеломительным и жутким.
– Пойдем назад, – тихо сказал ему Таллент, понимая, впрочем, что женщину они возьмут с собой и само ее присутствие не даст покоя бедному Фа’а. Но отменить открытие было невозможно: Фа’а привел его сюда, и теперь собственное знание мучило его.
И они начали медленный спуск – впереди Фа’а, безмолвный и напряженный, затем Таллент, а за ним – они думали, что ее придется приманивать «Спамом», но она пошла за ними добровольно, сложив рот в странную ухмылку, как у праздничной октябрьской тыквы, выставив острые, сверкающие, как кремень, зубы, – найденное ими существо. Иногда она отбредала в сторону, или останавливалась почесаться, или смотрела куда-то в пустоту, и тогда Таллент подходил к ней вплотную и жестом звал за собой, и, кажется, она это понимала, потому что трогалась с места.
Побуждаемый желанием как можно сильнее отдалиться от существа и вернуться к соотечественникам, Фа’а вырвался вперед, поэтому, когда Таллент услышал его крик, он не сразу смог его разглядеть и шел на голос, спотыкаясь о корни деревьев и поскальзываясь на мшистых коврах, пока не обнаружил, на что указывает Фа’а, – это было копье, тонкое, футов пять в длину, воткнутое в ствол манамы, и вокруг него пенился древесный сок. Они, кряхтя, вытащили копье из крепкого объятия манамы и увидели, каким острым оказался его точеный наконечник, как решительно оно отделилось от дерева.
Фа’а и раньше было не по себе, но теперь, впервые за все время их знакомства, Таллент заметил, как тот остолбенел. У’ивцы – отличные копьеметатели, и у каждого взрослого мужчины есть свое копье для охоты на кабанов или осьминогов; некогда их использовали для охоты на людей. Но любой у’ивец знает, что с копьем никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя расставаться. Копье у’ивца – это его душа, ма’аламакина, ма’ама, как у них говорят[26], – и если воин гибнет в бою, кто-то из его товарищей спасет копье, где бы оно ни осталось, и вернет в семью павшего. Из всего, чем у’ивцы владеют, только к этой вещи они испытывают нежность – хотя, пожалуй, это слово слишком слабое, слишком уютное. Скорее так: это единственная вещь, которую они чтят. Все прочее – ла, бессмысленно[27].
Так что неудивительно, что Фа’а испугался: это было заброшенное копье, самое длинное из тех, что ему попадались, оставленное словно заклятие в этом неземном, недружелюбном месте. Еще менее удивителен был восторг Таллента, хотя в тот момент он ничего не сказал Фа’а: вот очередное доказательство, наряду с существом, которое стояло рядом с ним и снова издавало влажные посасывающие звуки, что на вершине раскинулось нечто иное, другой мир. Ему оставалось только найти его.
Без особой фантазии мы назвали ее Евой, первой женщиной в своем роде, и пока Таллент разговаривал с проводниками, чьи голоса звучали тихо и напряженно, мы с Эсме отвели ее к реке, чтобы вымыть.
Отдам должное Эсме: она держалась достойно и проявила больше чуткости, чем я ожидал. Ева боялась воды – чего-то холодного, мокрого – и, почувствовав ее на своей коже, принялась кричать и выть, так что Ту сразу прискакал убедиться, что мы с Эсме в безопасности.
Мы начали со спины. В качестве мочалки мы использовали белую тряпку, которая, как я мрачно отметил, была когда-то майкой Таллента (давно ли ей владеет Эсме?), и с каждым проходом по Евиной спине она меняла цвет – с пыльного на сероватый, на коричневый, на черный. Я остерегался тереть Еву слишком решительно, но Эсме вела себя по-командирски, растирая ее кожу, как будто сам пигмент – это слой грязи, которую можно смыть. И все же она действовала по-деловому, а не жестко, и, проводя тряпкой между грудями женщины, под мышками, разводя скрещенные руки, чтобы добраться до живота, она рассказывала, что делает – «Сейчас помоем тебе локти, потом руки. Какая ты сильная, а? А теперь ладони, а потом шею», – как будто она занималась этим каждый день, как будто Ева – всего лишь одна из многочисленных дрожащих полулюдей, которых ей приходится мыть в джунглях, в прохладной реке, что, извиваясь, теряется из виду.
А Ева оказалась терпеливее, чем я ожидал, но когда мы попробовали расчесать ей волосы, разделяя колтуны прутом манамы, она принялась рычать, перекатывая звук в горле, и продемонстрировала нам острые короткие клыки, так что Эсме отступила на шаг, примирительно подняв ладони. Потом мы отвели ее, чистую (но не сильно похорошевшую), обратно к остальным и заставили сесть.
Позже мы ее покормили – точнее, Эсме, Таллент и я покормили ее, проводники не стали. Она брала скользкие куски «Спама» с наших ладоней, иногда ртом (ее сморщенные губы, влажные, смутно напоминающие влагалище, поцелуем прикасались к моей руке), а иногда ладонью, пальцами она, видимо, не пользовалась; потом она заснула, лежа на спине, и мы все разглядывали ее в свете фонаря, который держал Таллент. Последовало обсуждение, надо ли нам как-то ограничить ее в передвижении, и в конце концов мы обвязали ее запястья длинной веревкой, которую прикрепили к дереву неподалеку. Привязь была достаточно длинная, чтобы шевелить руками, но недостаточно длинная, чтобы развязать узел. Пока мы ее связывали, она обкакалась, облизывая губы и вздыхая во сне, и в темноте ее кал оказался странно-пурпурного цвета, как что-то новорожденное, кисло-желчное от съеденного мяса. И хотя в лесу уже стало слишком темно, чтобы что-нибудь делать, и оставалось только лечь, я уверен, что никто из нас, кроме Евы, в ту ночь не спал; мы могли разве что лежать навытяжку, прислушиваясь к ее довольному ворчанию и шевелению, к ее вздохам и стонам, и ждать, пока небо окрасится солнечным светом.
Далее последовало несколько деятельных дней. Планирование наших следующих шагов, вылазки в окружающий лес, сбор еды, построение маршрутов – все это я оставил прочим и сосредоточился на Еве. В ней было пятьдесят два дюйма роста, она была коренаста и крепка, я предполагал, что она рожала, и, скорее всего, много раз: грудь ее была обсосана досуха, соски превратились в кальцинированные бородавки, серые и грубые, как слоновья кожа. Я не смог провести вагинальное обследование – я пытался, но она орала и извивалась так яростно, так бурно, что даже проводники и Таллент, которым было поручено держать ее за каждую конечность, не могли ее обездвижить, – но предполагал, что климакс у нее миновал, хотя, надо сказать, это предположение я выдвинул только на основании догадок о ее возрасте и по объему и густоте оволосения; у меня не было под рукой других у’ивских женщин, чтобы сравнить с ними Еву и понять, все они такие волосатые или она все-таки выделяется. Ее зубы, как я упомянул, были пирамидальной формы, острые, но десны казались здоровыми: при нажатии они производили впечатление твердых и сухих, и к ее дыханию не примешивался гнилостный запах. У основания ее черепа, наполовину скрытая вьющимися волосами и складками плоти вокруг шеи, пряталась маленькая примитивная татуировка, затертая, как чернильная клякса, изображающая тот самый символ, который Таллент некогда нарисовал на земле, – знак опа’иву’экэ. Когда я показал его Талленту, он протянул руку, чтобы дотронуться до него, а потом остановился, чуть-чуть не прикоснувшись к коже, держа пальцы над знаком в окружении Евиных кудрей.
Ела она без разбору, но съедобное от несъедобного отличала; она не стала есть кучу травы, которую мы навалили перед ней для проверки (хотя несколько минут принюхивалась так тщательно, что мелкие травинки забились ей в ноздри и вызвали кашель), но что бы мы ни ели, она тоже была готова это съесть. Она просыпалась голодной утром и потом опять хотела есть в середине дня, но в целом отличалась неприхотливостью; днем она искала пищу, а найдя что-то, сразу же съедала. Мы всегда держали что-нибудь для утреннего кормления, но в какой-то день ничего не дали и наблюдали, как, посмотрев в пространство и шумно подышав некоторое время, она поднялась и начала поиски, водя ногой со все более широким размахом по земле, собирая листья, мох и личинок в кучу, которую она потом тщательно изучала, поедая личинок и не трогая остальное. Но хотя она и понимала, что съедобно, а что нет, различать вкус, видимо, не умела: позже мы сами попробовали личинок, толстых, извивающихся, цвета жирной восковой свечи, и выяснили, что они невыносимо горькие; от их вкуса мы морщились и кашляли, а слюноотделение в знак протеста прекращалось. Ева же ела их горстями, и ее челюсти работали с ровным упорством, каким-то смехотворно милитаристским в своей решимости, а потом шумно и жадно глотала пережеванное. Наблюдая за ней, мы обнаружили, что джунгли гораздо съедобнее, чем нам казалось; манама так нас отвлекла, что мы не обратили внимания на личинок, на хрупкие, разлинованные, похожие на салат листья, которые приветливо кучковались вокруг деревьев, на бледные, кефиристые связки яиц, отложенных каким-то неизвестным насекомым в узких выемках, где один толстый древесный корень переходил в другой. Не то чтобы нас сильно радовали эти новые открытия – листья были хрусткие, как водоросли, но безвкусные, яйца клейкие, собранные в плотный шелковистый узел слизи, – но мы поражались Евиной способности их находить, особенно потому, что, по словам проводников, все это никакой у’ивец в норме никогда не ел и не опознавал.
По характеру она была довольно спокойная, но лишь до поры до времени. Иногда я знал, что ее выведет из себя (я так и предполагал, что попытка влагалищного исследования, скорее всего, провалится), а иногда нет – она смирно позволяла мне осмотреть ее горло, рот, поддавалась измерительной ленте, которой я охватывал ее талию, бедра, череп, а потом вдруг обнажала зубы и рычала, глядя на меня, так широко открыв глаза, что зрачки как будто плавали в желеобразном белке. А потом так же внезапно она замолкала, возвращалась в свое бессмысленное, сонное состояние, проводила языком – пугающе ярким, цвета яркого пиона – по темным, шершавым губам. Эти ее внезапные приступы неизменно меня пугали, хотя я довольно скоро научился опознавать в них не злость, а только скуку. Ева была по-своему непоседлива: каждый день она просыпалась, вряд ли помня что-либо о дне предыдущем, и у ее терпимости к нам имелись пределы. Любопытство в ней пробуждали только пища и поиск пищи.
Ночью, покормив и связав ее – Таллент, Эсме и я считали, что ей можно спать без веревок, но Фа’а яростно воспротивился, в качестве аргумента потрясая найденным копьем, и речь лилась с такой скоростью, что Таллент согласился, главным образом чтобы его успокоить, – мы беседовали, делясь открытиями очередного дня. Проводники (которые теперь спали недалеко от нас) с каждым днем углублялись все дальше и дальше в джунгли, проводя там долгие часы в поисках других заброшенных копий, других Ев, но пока что ничего не обнаружили. Этот их менуэт с джунглями, их поклоны и реверансы ничего не давали, и мы понимали, что скоро у нас не останется выхода, скоро нам придется войти в лес и двинуться дальше по острову, пока не найдем того, на что надеялся Таллент и чего боялся Фа’а.
Я отчитывался о своих ежедневных наблюдениях за Евой, и хотя чувствовалось, что Эсме хочет встрять – ее нетерпение, ее потребность высказаться наполняли воздух, как нечто живое, – она оставалась безмолвна, позволяя Талленту просить уточнений, задавать мне вопросы, реагировать на то, что я видел и отметил.
– Как вам кажется, сколько ей лет? – спросил Таллент однажды вечером.
Я ответил: наверняка сказать затруднительно, но у меня впечатление, что ей около шестидесяти[28], если принять во внимание седину в волосах, состояние зубов, морщины, превратившие низ ее живота в печальную, морщинистую собачью морду, и ее склонность руководствоваться обонянием, а не зрением, потому что мне стало казаться, что ее свиноподобное поведение, то, как тщательно и на каком близком расстоянии она все обнюхивает, может быть необходимостью, приобретенным навыком, который заменяет ей ухудшившееся зрение. Даже в сумерках, когда ее любимые личинки сияли белым, как звезды, она не могла подобрать их с земли, не собрав ладонью кучу, чтобы тщательно ее разворошить, ко всему приглядываясь вплотную. Но, конечно, утверждать это было невозможно: я не мог проверить свою догадку, а она не могла ничего мне сообщить. Эта близорукость, между тем, казалась ее единственным физическим недостатком – не считая, конечно, неспособности разговаривать и общей забывчивости, – к тому же вполне обычным в пожилом возрасте. Во всем остальном ее здоровье было хорошим, даже отличным, особенно для существа, которое, по всем признакам, провело неопределенно долгое время в джунглях в полном одиночестве. Она хорошо ела, хорошо спала, хорошо какала. Ее конечности были сильны, икры мускулисты. Слух у нее был исключительный: она слышала воздушный посвист падающей манамы, к которому я ни за что не догадался бы прислушиваться. Каждое утро, проверяя ее пульс, я заново удивлялся, какой он упорный и стабильный, точно далекое эхо какого-то первобытного барабана. (Позже, в более зрелом возрасте, я с восхищением и завистью вспоминал еще одно ее свойство – равнодушие к одиночеству, как она не нуждалась ни в ком и ни в чем, кроме еды, как наше общество не нарушило несменяемые правила ее повседневного существования.)
– Шестьдесят, – пробормотал Таллент.
– Я могу ошибаться, – торопливо добавил я.
– Нет, – сказал Таллент, – я думаю, что вы, скорее всего, правы. Гм, шестьдесят. Как интересно.
Но больше он ничего не сказал, и через некоторое время Эсме пробормотала что-то про подготовку ко сну, и я пошел с ней раскладывать подстилки, а Таллент остался сидеть и тонуть в своих потаенных мыслях, природу которых я снова и снова пытался разгадать.
Среднестатистический рост у’ивской женщины – сто тридцать четыре сантиметра, у’ивского мужчины – сто сорок два. У среднестатистической у’ивской семьи четверо детей. У’ивцы коренасты и мускулисты. У них широкие ступни (благодаря чему они хорошо плавают), длинные бедра (они хорошо бегают), толстые предплечья (они хорошо швыряют) и маленькие, широкие кисти. Женщины, как любые женщины в тропиках, начинают менструировать рано (иногда уже в восьмилетнем возрасте, хотя обычно лет в десять) и входят в менопаузу к сорока годам. Их племя славится отличным слухом и исключительным обонянием. У них часто развивается кариес. Самая распространенная причина смерти и у мужчин, и у женщин – дизентерия, вероятно, от привычки пить ту же воду, в которой они купаются. Средний возраст, в котором они умирают, – пятьдесят два[29].
Конечно, осматривая Еву, ничего этого я не знал. Поэтому на следующее утро, когда Таллент попросил меня осмотреть наших сопровождающих в качестве импровизированной контрольной группы, я воспринял это без удивления. Наверное, больше всего меня удивило, как они похожи – по крайней мере при поверхностном осмотре (хотя ни на что, кроме поверхностного взгляда, мой осмотр не годился) – на Еву: по состоянию десен, например, по общей гибкости, по хорошему слуху и быстрым рефлексам. Они согласились на мой осмотр безропотно, послушно открывали рот, подражая мне, когда я показывал им, что надо делать, глубоко вдыхали, когда я наполнял собственные легкие воздухом. Я даже придумал, как проверить зрение, нарисовав толстые черные знаки на листах блокнота и встав на расстоянии примерно двадцати футов от испытуемых; они выставляли столько пальцев, сколько отметок видели на листе.
– Как наши мужчины? – спросил меня вечером Таллент.
– В добром здравии, – неуклюже ответил я.
– Сколько, по-вашему, им лет? – мягко спросил он.
– Как Еве, – ответил я. В этом я был вполне уверен. – Плюс-минус шестьдесят. Ту, может быть, немного моложе – зубы у него чуть меньше сточены, зрение чуть острее. – Я не стал добавлять, что результаты проверки зрения меня удивили: у всех троих оно оказалось слабое, хуже, чем я ожидал. Сначала я подумал, что они не поняли условий, но когда я придвинулся к ним, стало ясно, что они прекрасно понимали, что надо делать, просто не могли.
– Ага, – сказал Таллент и некоторое время молчал. – Вы правы насчет Ту, он действительно моложе остальных. – Он снова сделал паузу. – Ту сорок, Уве только что исполнился сорок один, Фа’а сорок два. – Он произнес это тоном не триумфаторским, а скорее с печальным удивлением.
Теперь мне было нечего сказать.
– Но… не может быть, – бессмысленно проговорил я.
Таллент улыбнулся своей мимолетной, меланхолической улыбкой.
– В этих краях они старики, – сказал он. – Так здесь выглядят сорокалетние. Вопрос в том, – он кивнул в сторону Евы, – почему шестидесятилетняя выглядит на сорок.
– Ну, – сказал я, – тут есть простое объяснение. Я ошибся. Ей не шестьдесят. Она должна быть ближе к их возрасту.
– Сомневаюсь, – ответил Таллент и подозвал Фа’а, который увидел, куда тот направляется, и подошел неохотно. Все проводники избегали Евы, но Фа’а был в этом упорнее остальных. Он встал в нескольких футах от нее, и когда Таллент отодвинул ее толстый бобровый хвост спутанных волос, чтобы показать ему отметину, он вытянул шею, привстав на цыпочки и подавшись вперед, как журавль, но не сделал ни шага в ее сторону.
Однако, увидев татуировку, он прореагировал немедленно. На мгновение он замер в своей причудливой позе, по-прежнему держа руки за спиной, как будто пародировал английского джентльмена, а потом медленно подвинулся ближе к Еве. Так же, как сделал недавно Таллент, он пальцами почти прикоснулся к знаку и тотчас отдернул руку, словно обжегся. Его обращенные к Талленту причитания звучали отчаянно, и, даже не понимая слов, я угадывал, что он говорит – «Что это? Это шутка такая?» – и ответ Таллента тоже, по его успокаивающему, тихому тону: «Нет, это не шутка. Успокойся. Успокойся». (Даже после всех разговоров за минувшие дни у’ивский язык по-прежнему звучал для меня как смесь гортанных смычек и агрессивных «у», разбитых на куски одними и теми же тремя-четырьмя безыскусными согласными. Много лет спустя, в Мэриленде, я стоял на детской площадке и смотрел, как соседские дети дразнят моих новоприбывших сыновей и дочерей – они закладывали ладони под мышки и гонялись за ними, восклицая, как гориллы из мультфильма, «У-у-а-а! Ку-у-ка-а!» – и не мог не согласиться с их оценкой.)
Фа’а развернулся и ушел; видимо, они с Таллентом не пришли к общему мнению.
– Почему он так расстроился? – спросил я.
Таллент вздохнул.
– Он опознал Евин знак, – сказал он, указывая на Еву, которая как раз фыркала и ложилась на землю, – как я и ожидал. Знак опа’иву’экэ дается только тем, кто достигает шестидесятилетия. Это происходит на специальной церемонии, за которой следует большой пир. – Он умолк. – Я сам никогда ее не видел.
Я не понял, что это значит:
– Но почему он так взволнован?
– Потому что у’ивцы не доживают до шестидесяти.
– Что, никогда?!
– Фа’а никого такого не знает. Его прабабушка, главный долгожитель, которого помнит его деревня – он именно это повторял и повторял, – умерла в возрасте пятидесяти восьми. Он никогда не слышал, чтобы человек дожил до шестидесяти. Это невероятный и завидный возраст. Так что вы правы, Нортон. Еве шестьдесят – как минимум, – и нам предстоит выяснить, почему и каким образом она прожила так долго.
Тут со стороны ручья появилась Эсме, и Таллент рассказал ей, что произошло. Я сидел рядом с ними, вполуха слушал, но больше наблюдал за Фа’а, который стоял чуть в стороне от своих родственников (те, как и предсказывал Таллент, жадно поедали соленых вуак, постанывая от удовольствия) и смотрел куда-то в сторону леса. И внезапно, пока я глядел, как эти недолговечные существа поедают другое недолговечное существо, объединенное с ними единственной целью найти что-то вкусное в окружающем мире, джунгли показались мне очень печальным местом, и захотелось сказать Фа’а, чтобы он наслаждался своей вуакой, пока может, – ему ведь уже сорок два и вряд ли доведется побывать на этом острове еще раз. Но я лишь молча смотрел на них троих, как на фигуры диорамы, пока за моей спиной Таллент и Эсме негромко обсуждали, как так получилось, что обитательница Иву’иву все-таки дожила до преклонного возраста шестидесяти лет.
Лес был таким, каким описал его Таллент, – притихшим, заросшим, волшебным, – и я ощущал и его колдовство, и опасность: он был опасен как раз потому, что околдовывал.
Воздействие леса я замечал по тому, как изменилось отношение проводников к Еве. Не то чтобы они держались дружелюбно или непринужденно – я по-прежнему видел, как их маленькие пальцы почти незаметно напрягаются вокруг копий, когда они подходят к ней ближе, – но уже разговаривали с ней по-у’ивски, иногда даже тянулись погладить ее легким быстрым прикосновением, никогда не задерживая руку, никогда не превращая это в телесный контакт.
Только Фа’а оставался равнодушен и глядел на нее пустым взглядом, хотя именно он подошел ко мне как-то раз вечером после ужина и, показывая на Еву, сказал: «Ив» (так он, Ту и Ува произносили ее имя).
– Да, – сказал я, – Ева.
– Ив, – повторил он и протянул мне палку, изображая, что выводит буквы на земле.
Из троицы наших сопровождающих только он был грамотен – Эсме говорила, что его отец когда-то ходил в одну из миссионерских школ, – так что он с любопытством наблюдал, как я вывожу в грязи имя большими прописными буквами.
– А, Э-вэ. – Он произнес это как у’ивское слово.
– Ева, – поправил я, но он улыбнулся – я впервые видел, как он улыбается, у них с Евой были одинаковые стреловидные зубы – и помотал головой.
– Э-вэ, – повторил он, и с тех пор она была Евой для нас и Э-вэ для проводников.
Так что мы продвигались во вполне приятном перемирии, передавая друг другу Евин поводок – она была так забывчива, внимание ее концентрировалось так ненадолго, что мы обвязывали ей шею веревкой, как воротником, – выкладывая ей еду, ожидая, пока она упадет на землю и примется принюхиваться и похрапывать. Однажды вечером, когда мы уже устроили привал и сами ели плоды манамы, «Спам» и связки бархатистых древесных грибов, съедобных, как мы выяснили благодаря Еве, она вдруг вскочила и, топая по земле плоскими ступнями, двинулась в лес. Ева была своенравна, интерес к окружающему миру проявляла непредсказуемым и зачастую непонятным образом, и нас одновременно забавляла и раздражала ее деловитость, когда она вдруг устремлялась в том или ином направлении, и кто-то из нас послушно шел за ней следом и обнаруживал, что объект ее внимания ничем не примечателен: плод манамы, дрожащий колонией хуноно, или вода, капающая на большой плоский древесный лист.
В тот вечер за Евой следил я, поэтому мне пришлось оставить ужин и последовать за ней и ее поводком, который волочился сзади, как коса Рапунцель. Походка у нее была неровная и неизящная, и я вечно недооценивал, насколько быстро она на самом деле передвигается, так что, когда она остановилась на краю выбранной нами поляны, я тяжело дышал и последние несколько ярдов преодолел довольно медленно.
Она смотрела в окружающий лес, черный и тенистый, но я опять-таки не придал этому никакого значения: она могла проводить часы, без всякого преувеличения, с полуоткрытым ртом и глазами неподвижными, как монеты.
– Пойдем, Ева, – сказал я ей, и, нагнувшись, чтобы подобрать свободный конец веревки и намотать его на руку, я увидел это: бледный, плотный желтый цвет, сияющий из чащи, фута на два ниже моих глаз.
Я шагнул назад, и желтое сияние исчезло, а потом как будто моргнуло и снова возникло на прежнем месте. Время превратилось в длинную свистящую струну, которая жужжала с жуткой, неразборчивой значительностью, как живая, словно бы ожидая, что я сейчас сделаю.
Я, конечно, перепугался. Остальные находились недалеко, минутах в семи ходьбы или даже меньше, если передвигаться быстро, но в то мгновение я не мог думать о них, не мог даже думать о Еве, хотя и слышал ее громкое, ровное дыхание, слышал, как она елозит пальцами по голове. Единственное, на чем я мог сосредоточиться, – это желтый огонь, который как будто сверкал и призывал меня, подобно светлячку. Внезапно мне подумалось о греческих мифах, об Аиде, и что за этой поляной – не деревья, но воды Ахерона, а желтое пятно – это колеблющаяся лампада Харона.
Но я должен был выяснить, должен был выяснить. Так что я шагнул вперед, выставив перед собой руки, как слепой, на ощупь в темноте, не сомневаясь, что нога сейчас вступит в холодный, расползающийся речной ил.
Пальцами я обхватил первое, что попалось на моем пути, но был при этом настолько дезориентирован, что прошла еще секунда или около того, прежде чем я понял, что это рука, бесплотная рука, которой я не вижу, но которая тем не менее каким-то образом обрела форму при моем прикосновении, или так мне казалось. И тогда я обрел голос и закричал, и Ева закричала вместе со мной, и рука закричала тоже, и в глубине за ней раздались другие крики, и все кричали так громко, что я услышал, как пробуждается и преображается лес: хоровое хлопанье крыльев – птиц и летучих мышей, – шелест насекомых, шорох колоний неведомых, таящихся животных, пробужденных от своей идиллии и перебирающихся с одной невидимой древесной ветки на другую, потому что наши крики нагло нарушили неколебимую хрустальную лесную тишину.
Они оказались рядом как будто сразу же: Таллент, и Эсме, и Ту, и Ува, и Фа’а – все, и все дергали меня, освобождали мою руку от чужой и тащили ту руку из чащи деревьев, и я увидел, что это мужчина ростом с Еву, тоже голый, с невероятной бородой, все еще разевающий рот в крике, а желтый свет исходил от его зубов, самой яркой детали на черном фоне лица.
За ним были еще руки, ноги, волосы, кости, и пока Эсме успокаивала Еву, а Таллент – новоприбывшего (а меня кто пожалеет?), проводники выхватывали из тьмы все новых и новых людей, пока перед нами не выстроилось семеро, четверо мужчин и три женщины, голых и изобретательно полуодетых, чистых и неопрятных, говорящих и не говорящих.
Вообще-то, как мы поняли немного позже, собрав всех в нашем лагере, их мало что объединяло, за исключением того, что все они были иву’ивцы и все (мы проверили) были отмечены знаком опа’иву’экэ сзади на шее. К тому же они находились, насколько я мог определить, в хорошей физической форме: пульс (когда они успокоились) ритмичный, зубы и десны в порядке. Ни у кого из мужчин не было копий, и от этого проводники закачали головами и стали что-то говорить друг другу – для них это выглядело пугающим уродством, как будто сердце у людей билось за пределами грудной клетки. Это была очень долгая ночь, пока мы их осматривали и общались с ними, временно позабыв о Еве, привязанной к дереву в нескольких ярдах от нас, – впрочем, она вроде бы не обижалась.
Они все знали Еву. Того, кого я схватил за руку, звали Муа – похоже, он возглавлял группу; как и остальные, на вид он был примерно Евиного возраста, может быть, чуть постарше. Но он – опять-таки как и остальные – разительно отличался от Евы одним свойством: он разговаривал. Они все разговаривали, разговаривали связно, некоторые разумно, другие не очень. Но к этому я еще вернусь. Важно же было то, что они искали Еву (на самом деле, как выяснилось, ее звали Пу’у, «цветок») – она отбилась от их группы.
Казалось, в целом они удовлетворены тем, что Муа их всех представляет, но потом некоторые заговорили, их голоса стали волнами переливаться друг через друга, а потом проводники – которые поначалу сидели молча, глядели напряженно и испуганно, крепко сжимали в руках свои копья – стали им отвечать или переговариваться между собой, и бедный Фа’а мотал головой, глядя то на одного, то на другого, пытаясь отследить разные ветви разговора.
Наконец, наконец мы заставили их улечься, и скоро все заснули, даже Таллент, и лес вернулся к своей бесстрастной тишине. Только мы с Фа’а остались бодрствовать, мы были на страже той ночью и сидели друг напротив друга, остальные же – теперь восемь человек, а не одна – раскинулись между нами неаккуратным эллипсом. Спали они удивительно неэлегантно, разинув рты, дергая, как собаки, толстыми бедрами, и во сне казались странными гибридами с телами крепких детишек и лицами стариков: ведьм, магов, колдунов. Один раз я взглянул в сторону Фа’а, который не проронил ни слова с того момента, как мы заступили на стражу. Я едва мог разглядеть его в почти абсолютной темноте, но он, видимо, почувствовал, что я на него смотрю, потому что оскалился скорее ободряюще, чем злобно, и я увидел мимолетный блеск грязновато-белых зубов – доказательство, что он здесь, со мной, что он видит то же самое и живет в том же сновидении, каким бы невероятным оно ни казалось.
Следующий день был мой, поэтому, когда Таллент и Эсме начали с помощью Фа’а опрашивать кое-кого из наших испытуемых, я подверг остальных базовым неврологическим тестам – это были простые и грубые исследования, но все равно интересные (к тому же ничего более тщательного я в тех условиях обеспечить не мог). Я попросил Ту, чуть-чуть говорившего по-английски, собрать три вещи, названия которых я знал, и по очереди выкладывать их перед каждым испытуемым.
– Как зовут? – спрашивал я, устраиваясь на торфянистой земле перед одним из этих сидевших на корточках сновидцев и пытаясь разобраться с блокнотом и нелепой перьевой ручкой (ну почему, думал я, глядя, как чернила пачкают влажные страницы и оставляют разводы на оборотной стороне листа, почему я взял с собой перьевую ручку?).
– Ко’окина? – спрашивал Ту.
– Муа.
Их звали Муа, Вану, Ика’ана, Ви’иу (это были мужчины) и Иваива, Ва’ана и Укави (женщины). Иваива и Ва’ана были сестры, видимо, разнояйцовые близнецы: Иваива потолще, с более веселым лицом, а Ва’ана скорее степенная, насколько это возможно в ее состоянии.
Я показал им первый объект:
– Что это?
– Эва? – перевел Ту[30].
– Манама.
Следующий объект:
– Эва?
– Хуноно.
Следующий: копье, найденное Фа’а. Когда я его вытащил, Ту на мгновение отпрянул, но потом взял себя в руки и храбро спросил:
– Эва?
– Ма’аламакина.
– Э, ма’аламакина, – согласился Ту. (Позже я узнал, что копье называется просто «аламакина», но оба произнесли это слово с почтительной приставкой «ма».)
Потом я перешел к следующему испытуемому. Опросив всех – Ва’ана, несмотря на свой пристальный, умный взгляд, сочла манаму чем-то, что назвала словом «понона» (Ту нарисовал передо мной на земле существо вроде акулы и ударил в него палкой несколько раз, повторяя «Понона, понона»), а Вану и Ви’иу не смогли назвать ни один из предметов, – я снова сел перед Муа и попросил его назвать предметы, которые я ему показал (чтобы объяснить Муа, что мне нужно, потребовалась совместная помощь Таллента и Фа’а).
Он вспомнил хуноно и аламакину, но манаму не вспомнил. То же самое было с остальными: они не могли запомнить предметы, которые я показывал меньше часа назад; только Укави назвала все три слова правильно, но это заняло у нее целых пять минут, и большую часть этого времени она таращилась на ствол дерева, как будто показанные вещи должны были вдруг появиться перед ней. Результаты вышли такие плохие, что мне снова пришлось призвать на помощь Фа’а, которому я поручил провести испытание еще раз. У него был мягкий, низкий голос, у Фа’а, и хотя я не понимал слов, его тон подсказывал мне, что он их ласково уговаривает, ободряет: «Что ты видела? Ты же помнишь. Ну скажи».
Но результаты у него получились не лучше, чем у Ту, да я и сам видел, что некоторые из испытуемых уже устали и отводили взгляд от Фа’а, прежде чем он успевал открыть рот.
Очень многое я проверить не мог. Я не мог попросить их прочесть предложение и повторить его на память, потому что читать они не умели. (Некоторым у’ивцам, сказал мне Таллент, до сих пор известна ола’алу, их древняя иероглифическая письменность, но когда я попросил Ту нарисовать простые символы на листе бумаги – «мужчина», «женщина», «море», «солнце», – они уставились на них, ничего не понимая.) Я не мог спросить их, какой сегодня день, потому что, к стыду своему, сам уже не помнил. Кроме того, проблема заключалась не только в их плохой памяти, но и в очень недолгой концентрации внимания.
Но хотя интеллектуальные параметры у них у всех были снижены, их физическое состояние, как и Евино, впечатляло: отличные рефлексы, равновесие и координация на высоте. Я без предупреждения швырнул манаму (с лопнувшей от частого использования кожурой, всю покрытую червями) Муа, тот выставил руку и спокойно ее поймал, а потом бросил мне обратно по ровной, элегантной дуге. И слух у них был такой же острый, как у Евы: стоя в двух футах от Укави, я протянул пальцы к ее правому уху и потер их друг о друга, после чего остальные семеро – и Ту – моментально обернулись в сторону звука, который был, на мой слух, не громче шепота. Они были восприимчивы к запахам, к прикосновениям – я проводил листом папоротника по подошве их левой ноги, и они отдергивались, как будто я полоснул их лезвием, – но, как и у прочих, зрение у них было плохое. Отдаляясь от Муа во время игры в мяч-манаму, я в какой-то момент заметил, что его глаза закрыты, и понял, что он слушает, как плод рассекает воздух, вообще на него не глядя. В последнюю секунду он выставлял в нужную сторону руку, и манама плюхалась ему в ладонь, плоть ударялась о плоть.
Не слишком удивительно, что и выглядели они очень здоровыми, во многих отношениях здоровее, чем шестидесятилетние американцы. Да, груди женщин были сморщены и явно опустошены, но лица у них были гладкие, а волосы у мужчин в основном все еще черные – как и наши проводники, они закручивали их в узел у основания черепа, – и у всех были невероятные заросли лобковых волос, такие густые, что с некоторого расстояния это вызывало изумление, словно какой-то крот прицепился к их коже. Как и проводники, они были мускулистые и ловкие, хотя скоростью не отличались: все они безвольно сутулились, как Ева, что придавало им до странности покорный вид – они шаркали, как люди, покидающие фабрику после долгого дня отупляющей работы, как заключенные, бредущие по тюремному коридору к своей камере.
День выдался напряженный, и только когда воздух снова затуманился и сгустился предвечерней темнотой, мы смогли поговорить с Муа. Стоило увидеть его с остальными, чтобы безошибочно опознать в нем предводителя: он смотрел на тебя прямо, в отличие от прочих, чей взгляд незаинтересованно уходил в сторону почти сразу же, он был чище всех и, хотя это вроде бы не имело значения, был одет лучше и разумнее всех. У Ика’аны, Укави и Иваивы тоже было что-то вроде одежды, хотя они сами, кажется, относились к ней скорее как к украшению: Ика’ана носил вокруг талии ожерелье, связанное из каких-то лиан, с которого свисало пять острых зубов (интересно, человеческих?), а Укави – короткую повязку из жесткой, волокнистой, лягушачье-зеленой материи, обмотанную бесполезным шарфом вокруг шеи. У Иваивы кусок такой же материи – позже, потрогав ее, я понял, что она не такая ломкая, как кажется на вид, а наоборот, мягкая и гибкая, – был завязан странным узлом на правом бедре. Но Муа носил свой кусок ткани вокруг бедер, и хотя ткань ничего толком не прикрывала (его лобковые волосы выбивались сверху щетинистым ежиком), это больше прочего походило на что-то осмысленное.
– Я сейчас буду задавать ему вопросы, – сказал мне Таллент. – и переводить его ответы, а вам нужно записать то, что я говорю, как можно точнее. – Он посмотрел на меня с непроницаемым лицом. Таллент избрал меня себе в помощь; Эсме вместе с проводниками надлежало следить за остальными на поляне чуть выше по холму, и она уже была занята – вела их к ручью, чтобы напоить. – Хорошо?
– Хорошо, – ответил я. Я почему-то испугался – и того, что услышу, и того, что не смогу это правильно зафиксировать. Казалось – хотя Таллент ничего такого не говорил, – что этот опрос чем-то важен и неповторим, и передо мной вдруг возник образ туманного седого будущего, в котором я стою перед зачарованной аудиторией и говорю: «Вот когда все началось. Вот когда я узнал великую тайну», – хотя, разумеется, я представления не имел, к раскрытию какой тайны должен стремиться.
– Ну, начнем, – сказал Таллент, вздохнул и повернулся к Муа, который в знак внимания склонил голову, готовясь к тому, что сейчас последует. А я приготовился записывать.
– Моя семья была не такая, как другие, – рассказывал Муа. – В других семьях на Иву’иву все рождаются на Иву’иву и здесь же умирают, и таковы же их родители, бабки и деды и все остальные родичи. Иву’иву – это их мир, и ничего другого не существует.
Но мой отец не был с Иву’иву. Он был с У’иву, и там жила его семья, семья земледельцев. Они сажали деревья макавы – знаете, что это? Она похожа на манаму, только плод у нее меньше, более розовый, и мякоть слаще. Но в ней не заводятся хуноно, поэтому здешний народ к ней равнодушен.
Однажды, в тот год, когда умер великий король, мать моего отца тяжело заболела. Она стонала и ворочалась из стороны в сторону. Боль, видимо, была у нее в животе, большом и затвердевшем. Весь день и всю ночь она металась и кричала, и мой отец – ему тогда было двенадцать о’ан – не знал, что делать. Его отец находился в роще макавы, где проводил каждую лили’аку, собирая урожай. Роща была не слишком далеко, отец мог бы добраться туда за день, если бы поторопился, но это значило, что придется оставить пять младших братьев и сестер, а мать сквозь стоны взяла с него слово, что он будет за ними следить. Что же ему оставалось? Ничего. Ему пришлось остаться и смотреть, как мать бьется на своей циновке, словно задыхающаяся рыба.
На вторую ночь крики матери моего отца стали еще громче, и соседи, которые приходили подержать ее за руки и побить по щекам, позвать ее по имени, чтобы она пришла в себя и избавилась от того, что у нее внутри, решили, что тут нужна ка’ака’а и, значит, кто-то, кто ее проведет. Это очень старая традиция, согласно которой надо отрезать то, что вызывает болезнь, и закопать эту плоть. Отец отца моего отца был знахарь, и ка’ака’а была одним из способов лечения, которые он знал, и в детстве отец мне рассказывал, как однажды тот на его глазах раскроил череп женщины, словно кокос, тупым куском дерева, приложив его к голове и много раз ударив по нему камнем. Содержимое выползло наружу, и тогда отец отца моего отца снова зашил ее нитью тавы, и после этого у нее больше никогда не болела голова.
К тому времени в деревне моего отца остался только один знахарь, умевший проводить ка’ака’а. Когда-то их было много, но потом приехали хо’оалы, и их стало меньше. Знахарь пришел и пел над матерью моего отца заклинания, и соседки удерживали ее, пока она билась и кричала. Моему отцу и его сестрам и братьям велели ждать у хижины, но там было маленькое окошко, а мой отец был самый высокий из них и мог дотянуться до края и заглянуть внутрь. И вот он увидел, как знахарь взял длинную палку, возможно, палку из рощи макавы, где работал отец моего отца, потому что тогда как раз была лили’ака, палку с заостренным концом. И отец смотрел и видел, как знахарь поднимает палку над головой, а потом вонзает в живот матери моего отца, которая закричала так громко, что, по уверениям отца, крыша дома затряслась и задрожала.
Знаток ка’ака’а вырезал большой шмат плоти из живота матери моего отца и поднял его высоко над головой, песнопениями призывая А’аку и Иву’иву спасти мать моего отца, исцелить и утешить ее. Потом он завернул кусок плоти в ткань из тавы, которую разминал, должно быть, этим утром и велел одной из соседок закопать сверток под стволом канавы. Мать моего отца все кричала и кричала.
Как раз когда соседские женщины выходили из хижины – а к этому времени вокруг собралась вся деревня, и все пели для больной, а некоторые собирались отправиться за отцом моего отца в рощи, до которых был день пути, если поторопиться, в те рощи, где он собирал плоды макавы, – крики матери моего отца стали громче, такие громкие, что деревенские животные, свиньи, куры, лошади, тоже все закричали, и мой отец рассказывал, что весь мир как будто превратился в сплошной звук. Он устал стоять на цыпочках, глядя в окно, но снова подтянулся и заглянул и увидел, как знаток ка’ака’а запустил руку в живот матери моего отца и что-то оттуда вынул. С места, где стоял мой отец, казалось, что это большой сверкающий комок бледного жира, вроде того, какой женщины вырезают из лошадиного тела, чтобы готовить на нем еду. Но тут он выскользнул из рук знатока ка’ака’а и упал на пол, где, к ужасу моего отца, раскололся, как камень, разлетелся на множество осколков.
Тут поднялся страшный шум, знаток ка’ака’а указывал пальцем на мать моего отца и говорил, что она хранила у себя внутри опа’иву’экэ, что она все это время носила в себе бога. Когда жители деревни это услышали, они бросились в маленькую хижину, чтобы увидеть своими глазами опа’иву’экэ, а увидев, что от нее осталось, увидев расколовшийся панцирь, они подняли вой, и мужчины бросились по домам за копьями. Неясно было, сказал мой отец, что они собирались делать. Была ли его мать демоном, как решили некоторые, раз она носила в себе бога, или за это ей следовало поклоняться? Почему она ничего никому не сказала? Что это значит – что она носила в себе опа’иву’экэ? Ничего похожего раньше не случалось, и поэтому они не знали, добрый это знак или дурной, убить ее, мать моего отца, или вылечить. Во всем этом знахарь как-то потерялся – он уж конечно был виноват в том, что разбил божество, но сумел улизнуть, только прежде убедил остальных (знатоки ка’ака’а славятся своей способностью убеждать, своей могучей речью), что после случившегося он заслуживает всяческой хвалы, а вовсе не осуждения.
Жители деревни еще не успели решить, что делать с матерью моего отца, когда она умерла, и люди, разозлившись, что она решила свою судьбу прежде, чем это сделали они, подожгли дом, а потом погнались за моим отцом и его братьями и сестрами, и женщины выпрыгивали из-за деревьев, голося злобно, как женщины умеют, чтобы напугать моего отца и его сестер и братьев, заставить их бежать в одном направлении, потом в другом, а там мужья женщин выпрыгнут и проколют их копьями. Но мой отец, старший из детей, бегал быстрее младших, и когда его вторая сестра погибла, он со всех ног помчался к роще макав, где собирал урожай его отец.
Он бежал и бежал, пока не заметил огромного вепря, лежавшего возле тропинки. Это было странно: вепри обычно не выходили из джунглей и всегда передвигались стаей. Больной вепрь мог отбиться и уйти один, но такое случалось очень редко.
Вепрь выглядел мертвым, но мой отец все-таки осторожничал. Уже случилось много удивительных вещей, и вид одинокого вепря не казался добрым предзнаменованием. Он замедлил шаг и осторожно приблизился к зверю. Но, подойдя ближе, он закричал, потому что это был вовсе не вепрь, это был его отец, сожженный до черноты, так что мой отец принял мелкие высохшие чешуйки кожи, трепещущие на ветру, за вздыбленную шерсть. Отец говорил, что потом ему ярче всего вспоминалось именно это: как лежал его отец, подобравшись, поджав под себя руки и ноги, будто огонь полностью поглотил его ноги и спек их в один большой ствол. Он понял, что отец направлялся домой, когда на него напали деревенские мужчины, видевшие черепаху внутри матери моего отца.
Теперь мой отец остался сиротой, остался совсем один. Когда начался день, он был старшим из шести детей, с отцом, собирающим урожай макавы, с матерью, сестрами и братьями. Но теперь у него ничего не было. Он не мог вернуться в свою деревню, он не знал никого, кто мог бы ему помочь, – братья и сестры родителей давно умерли, а больше он не знал никого на свете.
Мой отец забрался в ствол канавы неподалеку от обугленного отцовского тела. В ту ночь ему приснилось, будто ему явился Опа’иву’экэ и сказал, что мать моего отца проклята, ибо носила в чреве одного из потомков божества, но он может снять проклятие – если оставит все, что знает, и отправится на Иву’иву, и останется там навсегда.
На следующее утро мой отец проснулся одновременно в страхе и решимости. У’ивцы никогда не бывали на Иву’иву – Иву’иву, объяснил мой отец, это земля, где живут только боги, духи и чудовища. Иногда он слушал, как взрослые в деревне по ночам рассказывают истории об Иву’иву, о том, как в темноте остров оживает и плывет по морям, разрезая волны гигантским телом и нарушая черед прибоев, а под утро возвращается на прежнее место. Он слышал истории о том, как деревья разговаривают шуршащим шепотом, как камни безмолвно катятся по земле, как некоторые тамошние растения питаются плотью. Каждый утверждал, что знал некогда какого-нибудь дурака, который некогда отправился посмотреть на этот остров и больше не возвращался.
Но мой отец понимал, что у него нет выбора, и в любом случае судьба его отца ясно говорила: на Иву’иву ему, может быть, и грозит смертельная опасность, но на У’иву он уже, считай, мертв.
Мой отец отправился к берегу. Он не мог ничего продать, ничего предложить, но даже если бы и мог, из тамошних рыбаков очень немногие осмелились бы отправиться в такую даль, на Иву’иву – путешествие заняло бы почти целый день, да они и боялись туда плыть, а значит, он никого не сможет уговорить, чтобы его перевезли на лодке. «Если бы я умел летать! – подумал мой отец. – Если бы я умел плавать, как дельфин!» А потом он вспомнил черепаху из своего сна и разозлился, а потом отчаялся. Как можно выполнить такое невозможное повеление?
Стоя у берега в глубокой печали, мой отец вдруг увидел, как что-то темное проплывает под поверхностью воды. Он решил, что это косяк тонких, серебристых рыб, которых кто угодно может выловить самодельным сачком и затем пожарить на открытом огне, а кости у них такие мягкие, что их можно есть целиком. Но потом, к изумлению отца, оно поднялось из воды, и он увидел, что это огромная черепаха, больше которой он никогда не видел, выше и шире его самого; ногами широкими, как листья лава’а, она быстро и сильно гребла и смотрела на отца задумчивыми желтыми глазами. Отец был так изумлен, что не мог даже двинуться, но тут черепаха наполовину вылезла на берег, и он понял, что должен сесть ей на спину и черепаха отвезет его на Иву’иву.
Никогда мой отец не испытывал такого восторга, как тогда, на черепашьей спине. Черепаха ловко огибала мели, заботясь о том, чтобы не оцарапать ноги в обширных коралловых зарослях, но в открытой воде ее движения стали быстрыми и мощными, и они проплывали мимо акульих косяков, китовых стай, а один раз – мимо могущественной флотилии других опа’иву’экэ, их были сотни, каждый размером не меньше того, на котором сидел отец, и они подняли головы из воды и уставились на него, словно бы приветствуя, множеством сверкающих глаз.
Совсем скоро они доплыли до Иву’иву, и когда отец слезал с черепашьей спины, он какое-то мгновение не сомневался, что черепаха, наблюдая за ним большими глазами, широкими и желтыми как плод манго, сейчас с ним заговорит. Но этого не произошло – черепаха только мигнула отцу, повернулась и уплыла в океан, а отец стоял спиной к суше, почтительно склонив голову, пока плеск от движений черепахи не растворился в шуме волн.
Много дней мой отец шел и шел вперед. Он прислушивался изо всех сил, но ни разу не слышал, чтобы деревья разговаривали друг с другом, и старался не засыпать как можно дольше, но ни разу не почувствовал, что остров пускается в свои ночные прогулки. Но он видел странных птиц, сверкающих ярко-синим, желтым и красным оперением на фоне леса, порхающих с дерева на дерево пестрыми крикливыми стаями; видел ветви, проседающие под тяжестью бесчисленных щебечущих вуак; видел заросли макавы, такие пышные и так густо усеянные плодами, что его отец заплакал бы, если бы их увидел.
Прошло очень много времени, и мой отец достиг деревни, и там, хотя это было непросто – люди относились к нему с опаской и считали призраком, – его в конце концов признали своим и на четырнадцатилетие вручили копье. А потом он завел семью.
Но даже по прошествии стольких лет никто не верил, что мой отец родом откуда-то еще. Они не верили в У’иву. Да и с чего бы им верить? Они его не видели. Мой отец говорил, что этот остров – один из трех, из которых складывается страна под названием У’иву, но таких слов они раньше никогда не слышали, и верить в это у них не было причин. Для нас, иву’ивцев, Иву’иву – наш мир, не больше и не меньше. Многие годы я сам не верил рассказам отца – я считал, что он выдумывает такие сказки, чтобы развлечь нас. Но потом я стал задумываться, а не говорит ли он все-таки правду. Почему? Ну, во-первых, мой отец – очень правдивый человек. Я никогда не слышал, чтобы он настаивал на истинности чего-то ложного. А во-вторых, он рассказывал одну и ту же историю много лет подряд, так что уж можно было и поверить, вот я и верю, это ведь мой отец.
Не забывайте, на протяжении всего рассказа Муа я смотрел только на Таллента. Я, конечно, не понимал, что Муа говорит, поэтому пытался понять, как на этот рассказ реагирует Таллент, наблюдая за выражением его лица. Получалось не очень вразумительно. Я предполагаю, что Таллент менял какие-то слова по ходу повествования, отчего фразы Муа звучали красивее и сложнее, но отследить, что он чувствует, было невозможно – его голос вел историю за собой, тон оставался ровным и неизменным, даже когда голос Муа то выдавал возбужденное восклицание, то слегка утихал. Позже, когда мы читали мои записи вместе с Таллентом и Эсме, когда мне объясняли разные детали, помещая их в нужный контекст, я изумлялся тому, как Таллент сохранял спокойствие, как безупречно владел собой, хотя каждая фраза Муа подвигала его все ближе и ближе к открытию, какого он еще даже вообразить себе не мог.
Только один раз я услышал, как голос Таллента изменился, и много позже пожалел, что не следил за ним в тот момент более пристально, что не запечатлел этот образ у себя в голове и не сберег его в виде восковой фигуры, чтобы всегда иметь возможность потом взглянуть на одно из тех редких мгновений, когда под тобой колеблются основания мира и жизнь меняется навсегда: по одну сторону вздыбливающейся земли – прошлое, по другую – настоящее, и больше их никак и никогда не соединить.
– Я сейчас спрошу Муа, когда умер его отец, – прошептал мне на ухо Таллент, по-прежнему не сводя глаз с Муа. – Муа, э коа хуата ку’оку макэ’э?
Муа ответил сразу, выставив ладонь в сторону своих спутников, и тут я увидел, что Таллент замер, и в это мгновение – как бы странно это ни прозвучало – мне показалось, что он пытается укрыться в самом себе, провалиться сквозь мягкую землю джунглей, которая раскроется, словно пасть огромного зверя, и безболезненно поглотит его целиком.
– Он жив, – сказал Таллент, а потом посмотрел на меня, и в ночном свете – мы опрашивали Муа уже не меньше часа – его лицо под медным загаром побелело до бледного цвета кости. – Вану – его отец. Муа говорит, если мы хотим, с ним можно поговорить.
Целый день прошел в разговорах Эсме и Таллента – друг с другом и со мной, – прежде чем я вполне понял смысл рассказа Муа. К этому моменту мы снова двигались вперед, сновидцы (как я стал их про себя называть за сомнамбулический вид, за осоловелый, мутный взгляд, как будто просачивающийся из-под толстого слоя сна) были поделены на три группы, их запястья обвязаны длинным прутом лианы, другой конец которого крепился на поясе у одного из проводников. Мы шли наверх – опять, – но без ясного ориентира, потому что Муа не мог или, может быть, не хотел объяснить нам, где его деревня. Но больше идти было и некуда; справа и слева лес снова сгустился, стволы подступали друг к другу так близко, что сквозь остающиеся миллиметры едва могли пробиться крошечные колечки папоротников.
Разумеется, как только Таллент закончил переводить, я вытащил из группы Вану (он спал и несколько раз недовольно отталкивал мою руку, пока я пытался его разбудить) и подвел его к Муа. Я не спускал с него глаз, пока Таллент пытался втянуть их обоих в разговор. Выглядел ли он – даже в тот момент, думая об этом, я не мог поверить, что вообще задаюсь таким вопросом, – старше, чем Муа? Возможно, думал я; если Муа выглядит лет на шестьдесят, Вану кажется, пожалуй, на пять-шесть лет постарше. А сходство есть? Может быть – у обоих одинаково плоские скулы, одинаково выступающие нижние челюсти, одинаковый низкий лоб, расчерченный горизонтальными морщинами, как кусок коры. Но с другой стороны, они все выглядели на одно лицо в моих глазах, и если бы я привел Ика’ану вместо Вану, разве не смог бы разглядеть такое же сходство?
Но позже, разговаривая с Таллентом – пытаясь, по крайней мере; Эсме, которая по большей части шла вверх очень неторопливо, теперь семенила за нами, как болонка, – и докладывая ему свои наблюдения, я понял, что пропустил более важную информацию, смысла которой, как не без удовольствия сообщила мне Эсме, я просто не мог осознать.
Во-первых, речь шла о короле.
– Помните, Муа сказал, что его отцу было двенадцать в год смерти короля? – спросил Таллент.
– Конечно, – ответил я. – Но это же мог быть любой король, да? Может быть, отец нынешнего?
– Мог, если бы он просто сказал «король». А он так не сказал. Он употребил особую почтительную форму, «ма», а она используется только при упоминании конкретного короля – Ваки I, который объединил острова. А когда умер король Вака I?
Я промолчал. Разумеется, я этого не знал.
– В 1831 году, – чирикнула откуда-то Эсме.
– Да, – сказал Таллент. У меня было отчетливое ощущение, что они с Эсме репетировали этот обмен репликами накануне вечером, и я сразу же решил, что в их театральном представлении участвовать не буду. – А помните, Нортон, что Муа упомянул знахаря, который практиковал ка’ака’а?
– Да, – ответил я и снова увидел, как знахарь поднимает на ладонях каменного младенца, как его песнопения и женские крики заполняют тесную, крошечную хижину.
– Ка’ака’а была запрещена сыном короля Ваки I, королем Маку, в 1850 году под страхом смертной казни. Так что…
– Даже в 1849-м, – подсказала Эсме, едва не задыхаясь от возбуждения.
– Да, прошу прощения, в 1849-м. Так что это значит…
– Да, но наверняка находились непослушные. Если это традиция…
– Вы не понимаете, Нортон, – сказала Эсме, и усилие, которое потребовалось мне, чтобы удержаться и не ударить ее, было так велико, что меня замутило. – У’ивцы не ослушиваются короля. Никогда.
– Так к чему вы ведете? – торопливо спросил я, не дожидаясь, пока Таллент согласится с ней и они снова напомнят мне, какой я недотепа. – Что Вану родился в 1831 году?
– На самом деле он родился в 1819 году, – миролюбиво сказал Таллент.
Тут я остановился и посмотрел на них.
– Умоляю, – сказал я, – умоляю, не говорите только, что вы ему верите.
– Почему? – спросил Таллент тем же спокойным, рассудительным голосом.
Некоторое время я не решался произнести ни слова. «Боже мой, – понял я, – это была чудовищная ошибка». Я вспомнил Серени, его настойчивость и благодушие, его печальный и отрешенный взгляд, каким он встретил мои слова – бездумные слова! – что я буду рад улететь на остров, о котором никогда не слышал, с антропологом, о котором никогда не слышал, почти на полгода. Я почувствовал, как меня охватило страстное желание убраться с острова, почти сразу сменившееся тупой, ноющей болью: побег невозможен. В это мгновение я понял, как я одинок здесь, где рядом со мной – сновидцы, следопыты, Таллент, до которого я, как ни досадно, не могу дотянуться, и уродливая, неприятная Эсме с круглым лоснящимся лицом, в шортах цвета хаки, бугрящихся в паху.
– Ну, – сказал я, стараясь говорить очень тихо, – например, из-за черепахи.
– Ой, – отмахнулся Таллент, как будто я официант, предложивший ему нежеланное блюдо. – Забудьте пока про черепаху. Тут важно то…
– Каменный младенец, – продолжил я.
– Но такие бывают, – перебила Эсме.
– Очень, очень редко[31], – сказал я. – Но, Таллент, – продолжил я умоляюще, – я должен был это знать и страшился его ответа, – вы же не хотите сказать, что верите Вану, верите, что ему сто тридцать один год, правда ведь?
Таллент посмотрел на меня и долго не отводил взгляда, прежде чем ответить, и когда он заговорил, его голос снова звучал мягко.
– Я понимаю, что это кажется невероятным и даже невозможным, Нортон, – сказал он. – Но к другому выводу я прийти не могу. И потом, – тут он взмахнул рукой, указывая на все, что нас окружало: на деревья с крошечными мартышками и огромными ленивцами, на камни с зелеными бородами и валуны, поросшие мхом, на Еву и прочих людей впереди, которые шли наверх за проводниками медленной, неровной шеренгой, – что в этих краях не невозможно?
На это, увы, у меня ответа не было. Молчала даже Эсме. Вскоре стало ясно, что надо идти дальше, и довольно долго ни один из нас не произносил ни слова, и звуки джунглей заполнили пустоту вместо того разговора, который мы не могли вести.
Вот в какой ситуации оказался я, ученый (вероятно), врач (предположительно) и коллега (к сожалению) двух человек, уверенных, что человеку, которому на вид шестьдесят пять, на самом деле сто тридцать один год.
Я понимал, что они считают меня негибким, не склонным к интеллектуальным изысканиям, утомительно консервативным, и понимал, что они понимают, что я считаю их выводы смехотворной, беспочвенной и рискованной фантазией. Разница была в том, что только одну сторону это беспокоило. Эсме вообще по всем признакам пребывала в восторге и липла к Талленту, как грибок к влажному побегу.
Трудно было не впасть в уныние. Даже Таллент, не блиставший способностью замечать повседневные настроения обычных людей, в какой-то момент поравнялся со мной.
– Не переживайте, Нортон, – сказал он, протягивая мне плод манамы (побитый, распираемый деловитыми хуноно), в нелюбви к которому я на тот момент уже не стеснялся признаться.
Еще труднее было смириться с тем, что, желая придать процессу больше научной строгости и логики, я нечаянно дал Талленту и Эсме еще больше пищи для их сказки. Я настоял на повторном опросе всех наших найденышей в надежде определить их истинный возраст. Однако это оказалось труднее, чем я думал, главным образом потому, что на Иву’иву происходило очень мало хронологически зафиксированных событий: здесь у них не было представления о короле, о времени, об истории. Они никогда раньше не видели хо’оалу и продолжали молча разглядывать нас поодиночке и группами, а те, что посмелее, трогали наши запястья и пытались заглянуть нам в шорты, бесхитростно подражая нашему изучению их самих, но это неведение нам нисколько не помогало, потому что ни один хо’оала до сих пор не ступал на землю Иву’иву. Одним из самых запоминающихся событий минувших десятилетий (я не мог заставить себя сказать «минувшего столетия») было появление Вану – Ика’ана, Ви’иу, Иваива и Ва’ана утверждали, что помнят тот день. Каждый рассказывал историю немного иначе, чем остальные, с разными украшениями и отступлениями (по словам Ви’иу, Вану появился, как микронезийский Вишну, на спине гигантского, медленно ползущего опа’иву’экэ), но помнили все: худенький мальчишка Вану в смешных порванных штанах из тавы, такой юный, что еще не получил первого копья. Близняшки уверяли, что выходили замуж, когда внезапно, прервав торжества, появился Вану, который не мог оторвать глаз от свиной туши, жарившейся над костром для свадебного пиршества[32]. Только Укави сказала, что родилась слишком поздно, чтобы увидеть пришествие Вану. Но потом она вспомнила, что девочкой смотрела, как он женится. Как и у остальных, ее воспоминания становились все более детальными и уверенными по мере удаления в прошлое.
– Он должен был жениться лет в семнадцать, – сказал позже Таллент, держа ручку наготове перед раскрытым блокнотом. – Так что Укави родилась вскоре после его появления, то есть ей сколько – сто девять? Сто восемь? Где-то так.
Но по-настоящему их с Эсме взволновала история Ика’аны. Потому что Ика’ана, как оказалось, родился за пять лет до великого землетрясения, события, которое помнили все на Иву’иву. Для островов это была ужасная катастрофа, отдаленный гул которой ощущался даже на Фиджи к западу и на Гавайях к северу. У’ивская мифология объясняла это как страстную любовную ссору между Иву’иву и А’акой (причин размолвки, похоже, никто не знал), войну, в ходе которой каждое божество, надеясь уничтожить соперника, использовало все доступное вооружение: А’ака призывал своих братьев, небесных богов, насылать ради него яростные бури, а Иву’иву поднимал воды гигантскими волнами, которые возносились так высоко в небо, что почти задевали солнце. После того как все закончилось, они больше никогда не ссорились, отчасти (так гласила легенда) потому, что поняли: силы их равны, и ни одному не удастся одолеть другого, а отчасти потому, что их старый и кроткий друг Опа’иву’экэ умолял их прекратить, и оба бога не могли вынести его страданий. По-у’ивски землетрясение называлось Ка-Веха, «схватка».
– Я был ребенком, когда случилась Ка-Веха, – сказал Талленту Ика’ана. – Но помню, как земля подо мной разверзлась и треснула, словно плод но’аки[33], и как мать, ухватив меня, помчалась в заросли папоротников лава’а и пряталась там, пока боги не перестали ссориться. И помню, как мы пробирались обратно в деревню: огни, на которых готовилась еда, расползлись вокруг, малэ’э горели, и мать сказала, что нам повезло, потому что начинается ‘уака, скоро пойдут дожди, и мы спасемся. В ту ночь мы молились и танцевали во имя богов и их благополучия, и с тех пор они больше никогда не ссорились.
Он много чего еще рассказывал, и Таллент наклонялся к нему, задавал вопросы, писал и писал, но больше мне ничего не переводил, а когда я спросил, что еще поведал Ика’ана, он только задумчиво ответил, что ему нужно это немного обдумать.
– Обдумать что? – спросил я, но он промолчал.
Существенно же было следующее: Ка-Веха случилась в 1779 году. Ика’ане, получается, было примерно сто семьдесят шесть лет.
– Не может быть, – запротестовал я, чувствуя, как паника снова поднимается и почти душит меня.
– Сейчас 1950 год, – ответил Таллент спокойно, но с некоторым напряжением в голосе: я начинал его раздражать. – Во время Ка-Вехи ему было пять. Математика не лжет, Нортон.
Математика не лгала. Но все остальное лгало. Таллент, по крайней мере, не ошибался в одном: был 1950 год. В нескольких ярдах от нас сидел Ика’ана со слегка слезящимися глазами и ел свою порцию «Спама». Рядом с ним сидел Фа’а, то растопыривая пальцы, то снова обхватывая ими древко своего копья. И хотя от меня их отделяло всего несколько шагов, просто глядя на них, нельзя было сказать, кто из них моложе, а кто старше, кто безумец, а кто на моей стороне.
Часть IV Девятая хижина
1
Я сказал и буду дальше говорить «деревня», но на самом деле это вовсе не была деревня – просто большая грунтовая поляна примерно с двадцатью пятью лохматыми хижинами из сухой пальмы, стоящими в круг, которая появилась внезапно, как мираж.
Мы напоролись на совершенно непроходимые заросли деревьев, проводники с хмыканьем продирались сквозь них, сновидцы шли следом своим спотыкающимся, разболтанным шагом. Эсме, Таллент и я замыкали колонну, и хотя путь начался в лесу, протолкавшись сквозь заросли манамы, мы вышли на окраину деревни.
Первое, что я увидел, – это тела. Они были повсюду: женщины, распластанные на спине, в глубь их подмышек заталкивали головы дети; мужчины с широко раскинутыми ногами и открытыми ртами; множество вепрей, подобравших передние ноги под себя наподобие кошек, с черной и блестящей щетиной, как иглы дикобраза. В середине поляны сам по себе щелкал и трещал небольшой костер. Над огнем было размещено не поддающееся определению освежеванное животное, меньше вепря, почерневшее там, где его лизали языки пламени, с нетронутыми пока глазами, которые злобно смотрели на нас.
Нашим глазам словно предстали последствия резни, массовой гибели, и только присмотревшись внимательнее, я увидел, что груди женщин колышутся, что большие пальцы мужчин мечтательно поглаживают копья, которые они не перестают сжимать даже во сне, и что щетки жестких волос на рылах вепрей шевелятся и дрожат при каждом выдохе.
Первым заговорил Фа’а, и я хоть и не понимал слов, но услышал по голосу, что он не удивлен[34]. За нами собрались сновидцы, нехарактерно молчаливые, и с минуту мы все просто стояли и смотрели на спящую деревню.
Но тут, без какой-либо очевидной причины, Ева издала свой характерный выкрик, протяжный, гулкий, и спящие мгновенно зашевелились, как подожженный комок трута: мужчины перешли из горизонтального положения в вертикальное одним быстрым движением, женщины в страхе присоединились к Евиному воплю, вепри, похрюкивая, подбежали к мужчинам, поглядывая вокруг мелкими, злобными, маслянистыми глазами. Только животное над огнем осталось где было, и пламя продолжало потрескивать под ним. Позже я вспоминал это как повтор того дня, когда на нас толпой из леса вышли сновидцы, и думал, что на этот раз непрошеными гостями стали мы – мы грубо вторгались в пьесу, в которой у нас не было никакой осмысленной роли.
Еще позже я вспомнил эту сцену и последовавшую за ней панику, когда однажды – много лет спустя – увидел, как один из моих детей смотрит телевизор. На экране шел мультфильм: охотник, картофельная человекообразная клякса с невнятной речью, вторгся в деревню, которую населяли такие же клубнеобразные люди, только черные, и на черном фоне их тел выделялись лишь губы, толстые, красные, складчатые, как нетронутый плод шоколадного дерева, да еще яркие белки испуганных глаз. Охотник пустился в погоню за черными созданиями, которые бегали от него по кривым заполошным окружностям, потрясая копьями и крича в пустоту, а охотник гарцевал туда-сюда, и все это смахивало на какой-то безумный балет.
Вот и мы тогда выглядели так же. Жители деревни бегали и кричали, а мы бегали за ними и, наверное, тоже кричали – любой посторонний наблюдатель решил бы, что мы играем в какую-то детскую игру. К этому моменту вы наверняка уже можете представить, сколько часов понадобилось Фа’а (бедный Фа’а!), чтобы восстановить подобие порядка, чтобы мужчины опасливо опустили копья, чтобы их хрипящие хряки снова легли на землю, присмиревшие, но не теряющие бдительности. Прошло много, много часов, и к концу – когда женщины сидели на одной стороне поляны, окруженные детьми, и все смотрели на нас и мигали, как жабы, сновидцы под охраной Увы и Ту на краю поляны каким-то образом умудрились постепенно заснуть, большинство мужчин расположились на другой стороне, и их вепри рядом, а мы с Таллентом, Эсме и Фа’а – в центре деревни, где существо[35] все так и жарилось на костре, и его спина была уже так обожжена, что кожа постоянно отшелушивалась мелкими конфетти, которые уносились по воздуху, как стайки мошек, – я совершенно вымотался.
Напротив нас сели трое жителей деревни, мужчины, по виду крепкие и сильные, с темными буйными волосами, с мускулистыми и жилистыми руками и ногами. Сначала обе группы рассматривали друг друга немного застенчиво, как будто кто-то из нас был помолвлен с кем-то из них и нам надлежало представиться и обсудить условия. Мужчины держали воздетые копья правой рукой, и, как не раз делал при мне Фа’а, разжимали и сжимали пальцы вокруг древка жестом скорее ритмичным, нежели нервным, так что иногда, когда они все одновременно растопыривали пальцы, действо казалось срежиссированным, и я почти ожидал, что они сейчас затянут песню.
Первым заговорил мужчина, сидевший посередине, и даже если бы дело обстояло иначе, даже если бы он не сидел в центре, я предположил бы, что он важнее двух остальных: даже сидя он был несколько выше, плечи держал отведенными назад под почти неестественным углом, и его вепрь был крупнее, чем у товарищей, с роскошно сверкающей шкурой, как будто ее только что натерли маслом.
Вепри меня завораживали, они ничуть не походили на тех, что я видел раньше, в книгах или живьем. Прежде всего они отличались, конечно, размером: высотой с жеребенка, толщиной с нестриженую овцу – эти огромные, мускулистые создания были бы великолепны, не будь они так уродливы. Стоя они едва уступали ростом своим хозяевам, но выглядели весомее: круглые как бочки туловища, жесткие как рог копыта, толстые волосатые ноги (правда, я заметил, что они не очень ловкие, – они забавно передвигались, подгибая обе задние ноги и одновременно выставляя вперед передние, из-за чего казалось, что они скорее прыгают, нежели бегут). Но больше всего меня поразили их клыки, торчащие по сторонам широких серповидных пастей, каменно-меловые на вид, зазубренные и щелистые на концах. Сидели они трогательно, как котята, поджав под себя ноги, – все, кроме того, что принадлежал вождю; тот на протяжении всего разговора ковырял передним копытом кусок окровавленной шерсти, прежде бывший каким-то живым существом. Я смотрел, как он забавляется им в грязи, перетаскивая туда и сюда по ленивой дуге, какой-то человеческой в своей бездумности, как если бы толстяк в костюме из сукна в тонкую полоску перекатывал костяшки на глазах у своей трепещущей жертвы. Глаз, однако, он с нас не сводил, и когда заговорили Фа’а, а потом Таллент, он слегка повернул свою гигантскую голову, глядя то на одного, то на другого, время от времени отрываясь, чтобы посмотреть на хозяина и словно бы оценить его впечатление, от чего делалось особенно не по себе.
Вокруг меня кое-как тянулся разговор. Сначала долго и цветисто брызгала речь деревенского вождя, потом Фа’а и Таллент ему отвечали. Хорошо ли шли дела? Плохо ли? Сказать было трудно. По мягкости голосов Фа’а и Таллента я догадывался, что они нарочито сохраняют спокойствие, может быть, даже говорят что-то успокоительное, но сколько усилий они на это тратят, определить не мог. Рядом со мной гнусаво дышала Эсме, но она так делала часто, так что это ни о чем не говорило. Время от времени мужчины деревни, а потом Фа’а и Таллент поворачивались, чтобы взглянуть на сновидцев, которые не поднимали ответного взгляда, и в эти мгновения голоса Фа’а и Таллента понижались, они говорили быстрее и как-то умоляюще.
Разумеется, к этой сцене мне тоже следовало бы внимательнее присмотреться, запечатлеть в памяти каждый жест и каждый вздох, но в тот момент я просто витал в облаках. Я изучал аккуратную границу между деревней и лесом: деревья заканчивались так резко, что, казалось, окружали поляну совершенно как люди, словно деревня была театром, а мы – актерами. Мне хотелось обернуться и посмотреть на женщин и детей за нашими спинами, но я не решался.
Так что вместо этого я смотрел на поросенка размером с дикую кошку, который играл в грязи за спинами деревенских старейшин. Он, должно быть, был очень юн, потому что клыки у него еще не отросли, а глаза были все еще большие и влажные. Он играл сам с собой в игру, прыгая туда-сюда через границу между лесом и деревней: прыжок – и он в обществе, другой прыжок – и он вне его. Прыг, прыг. Скок, скок. Так просто. Я не мог отвести от него глаз, очень долго не мог.
Что-то беспокоило меня в этой деревне, но только поздно вечером, лежа на пальмовой циновке в ожидании сна, я понял, что именно.
Переговоры, или что это было, продолжались долго, так долго, что мы все чувствовали, как свет меркнет, воздух становится прохладнее, слышали, как дети за нашими спинами начинают канючить и просить еду. В этот момент разговор резко прервался, и мы все – трое с их стороны, четверо с нашей – поднялись на ноги, Фа’а и Таллент кивнули тем, а те не стали кивать в ответ. А потом мы вернулись к нашей группе – к сновидцам, – а трое представителей деревни пошли говорить с другими мужчинами, а женщины стали шлепать детей и расходиться в разные хижины за припасами для ужина.
Это все как-то не обнадеживало – мы сидели на прежнем месте, у самой границы леса, и проводники передавали нам плоды манамы и канавы, а всего в нескольких ярдах от нас деревня продолжала жить своей жизнью, как будто нас никогда не было, но Таллент подошел к Эсме и ко мне, чтобы коротко заверить, что все прошло хорошо.
– Мы пока можем остаться, – сказал он. – Расскажу, когда мы их накормим.
Трапеза вышла мрачная: я сидел и пытался проглотить куски манамы, чья хлюпающая, терпкая плоть как будто слипалась и разбухала у меня в гортани. Несколько женщин наконец сняли животное с огня – оно обуглилось так, что вся спинная часть разлетелась по ветру, – и разместили на его месте огромный покачивающийся фартук красного мяса, богато украшенный белыми слоями жира. Запах готовки (собственно, запах самого огня) делал фрукты совершенно невыносимыми, так что в конце концов я был вынужден отложить их и позволить собственной памяти о поедании плоти, настоящей плоти заполнить мой разум, рот и гортань: ощущение неподатливой вязкости мяса, мысли о том, как его можно вертеть во рту несколько минут, если захочется, как при каждом нажиме оно выделяет кровь, специфически терпкую на языке. На огне мясо держали не слишком долго – как только красный цвет начал приобретать коричневый оттенок, две женщины стащили тушу с костра, разложили на огромном листе лава’а, а мужчины и дети тут же подбежали и стали растягивать ее голыми руками, пока куски не отлетали прямо им в ладони. А потом над огнем повесили еще одно мясное покрывало, поменьше, которое женщины приготовили и съели сами.
Устройство сновидцев на ночлег отняло у нас так много времени (на запахи огня они не реагировали), что мы слишком вымотались для разговоров. Но, как я и сказал, только лежа там, окруженный сновидцами и Эсме, глядя на спину Фа’а на фоне догоравшего костра (я обратил внимание, что Таллент, несмотря на перемирие, заключенное с деревней, не отказался от ночной вахты), я наконец определил то, что заметил, но не мог сформулировать: в деревне не было стариков. Троим переговорщикам было тридцать с чем-то, ну максимум сорок с чем-то. Но я не видел никого, кто выглядел бы старше. Это была деревня молодых людей.
Конечно, напоминал я себе, у меня не было возможности приглядеться к ним как следует. Завтра буду внимательнее. Но, падая в сон, я слышал, как тихий голос задает вопрос: «И что это значит?»
«Ничего», – ответил я голосу. Я хотел спать.
Но даже тогда я знал, что это неправда.
– Позже объясню, – сказал нам Таллент. Было утро, и сновидцы явно тревожились; например, Муа что-то горячо лепетал Фа’а, а тот успокаивающе выставил вперед ладони. В какой-то момент ночью Фа’а и Таллент переместили их дальше в глубину леса, и мне пришлось идти футов двести в темную глубь на голоса, чтобы их отыскать. – Я должен выяснить, что их беспокоит. – Он повернулся к Эсме: – Можете отвести женщин к ручью и напоить их?
– А мне что делать? – спросил я.
Он бросил на меня утомленный взгляд:
– Можете вернуться в деревню. Они нам разрешили.
– Хорошо, – сказал я. Я был отчасти раздосадован, что мне не предложили выяснять, что не так со сновидцами. А отчасти они мне надоели, и я был рад отправиться на разведку.
– Только, Нортон…
– Что?
– Не конфликтуйте с ними, ладно?
– Конечно, не буду, – заверил я, понимая, что к этому надо отнестись серьезно.
Тогда он посмотрел на меня и собирался сказать что-то еще, но тут Фа’а позвал его по имени – «По! По!» – и он снова отвернулся.
В деревне все двигались медленным, неуверенным, переваливающимся шагом только что проснувшихся людей, хотя час был вроде бы не слишком ранний: хижины уже отбрасывали на землю бледные тени, солнце уже припекало. Я думал, что мое появление спровоцирует какую-то реакцию – панику, подозрение, страх, как минимум любопытство, – но никто даже не посмотрел в мою сторону. Они, видимо, дружно решили не замечать самого факта моего существования, что показалось мне выдающимся достижением, если учесть абсурдность моего присутствия среди них. Какая-то женщина торопливо прошла мимо меня с очередным шматом мяса, на этот раз розовым, но украшенным такими же белыми полосами жира, и швырнула его на тлеющий костер. Другая вытащила из хижины плетеную корзину, заполненную чем-то вроде больших шишек, и стала отрывать от них листы, как от артишоков. Третья женщина подбирала эти листы и складывала их вымачивать в другую корзину, полную воды. На противоположном краю деревни я увидел вождя, напротив которого сидел накануне, и поднял руку, чтобы поприветствовать его. Но он смотрел сквозь меня, как будто я машу ему с противоположного тротуара оживленной улицы, а он притворяется, будто не знаком со мной, причем так ненатурально, что я поневоле улыбнулся.
В первом кольце вокруг костра было тринадцать хижин, во втором – девять; все высотой примерно в семь футов, простой конической кладки. В центре каждой стоял высокий столб из пальмовой, видимо, древесины, и от него, как ленты от майского дерева, расходились семь связок крепко сплетенных пальмовых ветвей, натянутых, как канаты, и закрепленных в земле. На вершине этой шаткой конструкции покоилась большая шапка из сложенных в несколько слоев пальмовых листьев. Спереди она нависала над конструкцией, так что ее можно было обвязать с краю, чтобы освободить проход. Хижины в первом кольце предназначались для ночного сна; оплетка придерживала с внешней стороны плетеные пальмовые циновки размером примерно пять футов на три. Внутри же хижины были пусты, в них пахло сухой травой и грязью. Размера они были немаленького, и, по моей оценке, в каждой могли свободно разместиться двое взрослых с двумя-тремя детьми.
Хижины во втором кольце – точнее в полукружии, которое некрепким объятием охватывало сзади спальные помещения, – были такого же размера и конструкции, но в отличие от тех, что в первом ряду, использовались как склады. Первый склад был мясной. Когда одна из женщин оттуда вышла, я сунулся внутрь и увидел, что там выкопан весь пол, футов на десять в глубину, и нижняя часть раскопа выложена слоями темных, сверкающих листьев. Деревенские жители сделали из грязи примитивные ступени, ведущие в глубину ямы, и, спустившись вниз, я потрогал один из свертков – прохладный, тяжелый, наполненный чем-то плотным, но податливым. Поднимаясь обратно, я поскользнулся и ухватился за листья, которыми был полностью покрыт пол. При этом я почувствовал, что земля подо мной колеблется, тихо, плавно, и, просунув руку между листьями, чтобы разобраться, в чем дело, я понял, что они докопались до подземного ручья, который приспособили для охлаждения мяса.
В следующих трех хижинах хранились сушеные продукты, многие из них – на тесемках, пересекающих пространство как рождественские гирлянды. Я обнаружил череду вуак, зацепленных своими несчастными безволосыми хвостами, с ввалившимися туманными глазами, и другую веревку, тяжелую от веса сушеных манам, чья некогда младенчески гладкая кожа затвердела и покрылась морщинами, и еще одну с манго, от которых по-прежнему исходил насыщенный сладкий запах. Там были и другие объекты, которые я опознать не смог: что-то вроде плоской ящерицы с мерзкой смертной ухмылкой на клыках цвета жженого сахара; пухлые сигары в пыльно-серебристом лиственном кожухе, с виду полые, но такие тяжелые, что веревка провисала под ними почти до самой земли; полупрозрачные янтарные треугольники с щетиной черных волос. В корзинах у стен я обнаружил те самые шишки (неожиданно тяжелые и пушистые, как боровики), стручки разной длины и ширины, грибы разной формы и разных горчичных оттенков, а одна очень плотно сплетенная корзина была доверху наполнена чем-то, что выглядело как обрезки ногтей, но, приглядевшись, я понял, что это все хуноно.
Только в пятой хижине обнаружились люди, три женщины, но, взглянув на меня, они сразу же вернулись к своей молчаливой работе. Две связывали свежие зеленые пальмовые листья в веревки, третья рвала длинные листья на отрезки покороче. Для косички нужно было три куска, каждый примерно четырех дюймов в ширину. Центральный кусок брался из центра листа, где проходил черешок; остальные два – из более мягких и податливых весел. Листья были довольно длинные, футов восьми, и когда женщины превращали один листок в косичку, они цепляли его к другой косичке короткой веревкой из витого, курчавого растения, напоминавшего тилландсию. Вокруг них на полу лежали аккуратные витки, сверху свисали арканы этих веревок разной степени высушенности, разной длины и толщины. В двух хижинах рядом с этой были еще веревки и покрывала для хижин и другие вещи из пальмового каната: петли (для вепрей, предположил я) с длинными поводками, сплетенные в три косицы толщиной, стопка циновок из пальмового листа по плечо высотой и длинные отпиленные куски пальмовых стволов с заостренным концом, которые можно воткнуть в землю и построить вокруг них хижину.
В следующей хижине никто не сидел, но это тоже явно была какая-то мастерская, потому что в центре, где кто-то должен был сидеть, находилось углубление, а рядом большой камень с плоским стесанным верхом, очевидно использовавшийся в качестве стола. Слева и справа от него лежали очередные куски пальмового дерева, потоньше, чем в предыдущей хижине, из которых некоторые были вычищены и заострены, и я понял, что здесь делают копья[36].
Я заметил, что восхищаюсь деревней, восхищаюсь даже ее простотой. Да, это примитивная жизнь, но здесь витало уютное ощущение довольства, и все потребности – еда, жилье, оружие – были тщательно продуманы и обеспечены, жизнь была обнажена до основания и при этом удобно наполнена. Сколько сообществ могут сказать, что они поняли, что именно им нужно, и позаботились обо всем? Здесь была пища, и источник воды, и оружие для самообороны, и все это не просто доступно, а с запасом. Вот, с одобрением подумал я, место, у которого нет ни в чем нужды и поэтому нет ни в чем недостатка.
Так что последняя хижина, девятая, поставила меня в тупик. В отличие от остальных построек, она была облечена не одной, а двумя накидками, и внутри пол тоже был покрыт накидкой. На полу лежала пальмовая циновка, но, в отличие от спальных циновок, которые я уже видел, эта была шире, как будто предназначалась для двух человек, а не для одного. Хижина отличалась от всех остальных и еще по одной причине: только здесь имелось нечто вроде украшения. К поддерживающему столбу был привязан, как я догадался, панцирь опа’иву’экэ, отполированный так тщательно, что каждый из его костяных щитков сверкал даже в сером полумраке. Она, эта хижина, оказалась загадкой, особенно на фоне явного практического предназначения предыдущих, и я даже поднял угол ковра, чтобы посмотреть, не скрывается ли под ним какая-то разгадка: тайная комната, например, или подземное хранилище. Но там ничего не было, только земля, и, покинув хижину, я все равно ее чувствовал, словно она существовала для единственной цели – напоминать, что мои упорядоченные теории о простоте местной жизни могут оказаться ошибочными.
Только завершив изучение хижин, я понял, что проголодался, и снова подошел к костру.
Здесь мне следует прерваться и пояснить, что одна из причин, по которым деревня представлялась совершенно миролюбивой – несмотря на вездесущих вепрей, на копья, на то, что меня никто не приглашал, – заключалась в том, что она была очень маленькой. От одного края деревни до другого я сделал шагов восемьдесят, и, кроме вепрей, все в ней казалось миниатюрным: хижины низкие, люди низкие, даже языки огня в вечно горевшем костре были низкие.
Я стоял у самого огня и ждал, что кто-нибудь предложит мне поесть. Вокруг кипела работа: группа из пяти женщин отбивала камнями большой неуклюжий кусок неопределенного сорта мяса, другая группа из шести человек разбирала горку плодов манамы – побитые и неживые они разрезали вдоль на тонкие круги, а те, что колыхались от хуноно, клали отдельно. Троица, которая раньше занималась шишкоподобными овощами, передвинулась к горке чего-то похожего на сосиски, небольших толстых чурок молодой зелени, и на моих глазах они расщепляли их пальмовым стеблем и выкидывали семена, видом вроде почки и размером с мой большой палец, в мраморных сиренево-персиковых разводах. Они разговаривали друг с другом, но не все время и коротко: одна говорила что-то, а остальные издавали низкий, свистящий одобрительный шум, так что между высказываниями мерещилось, будто наверху колышется рой ос.
Справа от костра сидели мужчины, числом девятнадцать человек, включая деревенского вождя; короткими, крепкими, заостренными по бокам листьями они полировали и оттачивали свои копья. Я придвинулся ближе и увидел, что в центре их кружка стояли две миски из разделенных пополам раковин но’аки и в каждой была лужица чего-то желеобразного, цветом как разбавленное молоко. Обработав наконечники своих копий, мужчины двумя пальцами зачерпывали вещество в миске и смазывали им древко оружия, повторяя это действие несколько раз. В отличие от женщин, мужчины поддерживали неумолкающий разговор, который перехлестывался монотонным эхом, больше похожим на песнопение, чем на речь.
В тот момент, как потом нередко бывало, мне хотелось знать у’ивский язык, но тут я услышал, как меня зовут по имени, и в поле зрения ввалилась Эсме.
– Пол хочет с нами поговорить.
Она сказала «Пол», снова подумал я, не «Таллент»; его имя, произнесенное ею, звучало насмешкой; я развернулся, чтобы последовать за ней обратно в лес. Уходя, я оглянулся, но за нашим удалением никто следить не стал.
– Интересное было утро? – спросил меня Таллент, когда мы приблизились к нему. Я заметил, что он выглядит усталым. Сновидцев нигде не было видно.
Издевается он? Я не понимал.
– Да, – сказал я. – Я видел нечто странное. – И рассказал ему про блюдечки со странной мазью, в которую мужчины погружали руки, радостный, в надежде, что я, возможно, открыл для него что-то новое.
– А, ага, – сказал Таллент, разминая лоб кончиками пальцев. – Это, должно быть, животный жир. У’ивцы добывают его, чтобы полировать копья. – Он вздохнул. – Но, конечно, интересно, что здесь они тоже так делают.
– Угу, – сказал я. Мое открытие никаким открытием не было. Естественно, они делали именно это – как можно было не понять? Я не решался взглянуть на Эсме, потому что не мог перенести ее триумфа, ее радости при виде очередной демонстрации моей наивности.
– Садитесь, садитесь, – сказал нам обоим Таллент, и мы послушно сели. – Голодные? – Он вытащил из-за спины связку желтых, как желток, бананов. Длиной она была не меньше трех футов, но каждый банан был крошечным, трехдюймовым, хотя идеальной формы и слегка изогнутый, как кинжал. – Фа’а их срезал недавно, – сказал он. – Попробуйте, очень вкусные.
Это была правда: хотя вкус у них был явно банановый, ничего мучнистого или крахмального в них не чувствовалось – они оказались сочнее, чем можно было предположить, и такие сладкие, что обжигали язык.
– Я попросил проводников отвести остальных к ручью, чтобы с вами поговорить, – продолжил он. Прежде чем снова заговорить, он съел несколько бананов. – Положение у нас тут деликатное, и я вам должен его разъяснить с предельной четкостью. – Эсме приняла серьезный вид, я тоже попытался. – Хотя мы можем остаться – ну, точнее, пожалуй, будет сказать, что из гостеприимства нас готовы терпеть, – есть определенные правила, которые нам надлежит соблюдать, постоянно и неукоснительно.
Он перечислил нам эти правила. Мы можем наблюдать за жителями деревни, но не должны начинать разговор, если вождь нам не разрешит. Мы ни в коем случае не должны прикасаться к вепрям и к копьям мужчин; мы не должны считать, что их еда предназначена для нас тоже, хотя, конечно, если ее предложат, угоститься можно. Мы должны придерживаться их режима, то есть спать почти все утро, потому что мы, как и они, будем бодрствовать поздней ночью (смысл этого правила был мне не вполне ясен). Нам следует оставаться вне поля зрения жителей, в глубине леса, если нас не позовут. И самое главное – нам ни в коем случае нельзя приводить в деревню сновидцев. Не только ради деревенских жителей, но и ради них самих.
– А почему? – спросила Эсме.
– Точно не знаю, – признался Таллент. – Но могу сказать вот что: вчерашние переговоры в основном крутились вокруг сновидцев, и именно их присутствие больше всего тревожило жителей деревни.
– Но ведь они отсюда, – сказал я.
– Да, – кивнул Таллент. – Они их знают. Ну, знают Муа. И кажется, знают Укави, и, может быть, Иваиву, Ва’ану и Ви’иу, по крайней мере, так можно было предположить по их нежеланию на них смотреть. Может быть. Но как бы то ни было, они не хотят их видеть. А Муа – вчера ночью, когда вы спали, я слышал, как он повторял Фа’а: «Я не должен туда возвращаться. Я не должен туда возвращаться».
Мы молчали некоторое время, пытаясь понять, что мог иметь в виду Муа.
– А Фа’а как думает, что он хотел сказать? – спросила Эсме.
– Он не знает. Он сказал мне только – а это я и сам видел, – что Муа напуган. Но это не все. – Таллент закинул руки за голову, почти изобразив небрежный жест, но вышло неубедительно, потому что он тоже беспокоился. – Он хотел здесь быть, хотел оказаться в деревне, но не смел.
И мы все опять замолчали.
В ту ночь все снова повторилось: невыносимые запахи жарящегося мяса, постанывание и лепет сновидцев, пульсирующий плод манамы, темнота леса, который смыкался вокруг меня, как горловина кошелька с завязкой. И опять, прежде чем заснуть, я пытался поймать разрозненные мысли, летавшие в моей голове, как пчелы: деревенские жители одних сновидцев знают, а других нет – что это значит? Почему Муа одновременно стремится в деревню и боится ее? Почему жители не разрешают им вернуться? В этом что-то было, была какая-то связь. Я знал это, знал наверняка.Но какая?
2
Время спрессовывает и сплавляет воспоминания, но я вряд ли ошибусь, сказав, что вскоре после нашей не слишком вразумительной беседы события понеслись с невероятной скоростью. Оглядываясь назад, я понимаю, что некоторые вещи происходили одновременно, хотя в тот момент они казались до некоторой степени отдельными из-за эпизодов, связанных друг с другом, но в конечном счете независимых.
Событие первое: вождь пригласил Таллента, Эсме и меня изучать деревню и ее жителей. Я понимаю, что слегка занижаю значимость собственно открытия племени – возможно, потому, что его вскоре затмило, безоговорочно затмило мое собственное открытие. Но сейчас, много десятилетий спустя, я должен сказать, что даже без моего озарения само существование деревни вполне тянуло на сенсацию. Просто у нас открытия почему-то не вызывали острой реакции. За время нашего путешествия произошло так много странного, что, видимо, мы все в какой-то момент в дороге решили, что в конце нас ждет что-то потрясающее, и потому приняли как должное то, что в результате нашли: затерянное племя, микрообщество из шестидесяти шести человек, никем до сих пор не изученное.
Конечно, я знаю, и из разговоров Таллента и Эсме, и из множества книг и исследований до и после нашей экспедиции, что многие вот так же полагали, будто отыскали затерянное племя. Можно сказать, чуть ли не каждое поколение извлекает на свет какую-то новую группу людей (что с чисто математической точки зрения крайне маловероятно; мир уже исследован весьма основательно, и все равно примерно каждое десятилетие, как по расписанию, делается очередное такое заявление, и приходится тратить уйму времени и денег, чтобы его опровергнуть). Но если убрать из этого списка ложные открытия, остается очень небольшое число потенциально неизвестных народностей. А стоит в это число вглядеться, и окажется, что многие из «затерянных» племен на самом деле затеряны только для белого человека: если цивилизованное общество вдруг сталкивается с неконтактным народом, это еще не значит, что десятки других, лучше изученных, соседних племен о нем ничего не знают. Одна из особенностей, делавших наше открытие столь важным, заключалась в том, что мы нашли не просто группу людей, которых никогда не видел белый человек, – мы нашли людей, которых и у’ивцы почти никогда не видели. Сотни лет они жили, охотились, плодились и умирали, оставаясь лишь мифом, мрачной сказкой, получудовищами для тех самых людей, от которых произошли.
С учетом этого было удивительно, почти пугающе наблюдать то почти сверхъестественное равнодушие, с каким деревня принимала наше присутствие. Из всех особенностей и странностей их поведения именно это, их умение приспособиться и приноровиться почти ко всему, с чем они сталкивались (или, как в данном случае, что сталкивалось с ними), казалось мне самым примечательным. В последующие годы, разумеется, цивилизованные пришельцы переоткрывали эту деревню бесчисленное множество раз, и хотя они являлись, чтобы узнать другой секрет, доступный лишь местным жителям, мне всегда казалось, что им стоило бы сосредоточиться на поиске гена, который снабжал этих людей таким всеохватным и неколебимым спокойствием, позволял им впитывать (а во многих случаях и просто игнорировать) все новое, неприятное или даже непостижимое.
В эти первые дни, пока Эсме и Таллент писали свои заметки, занимали сновидцев очередными бесплодными опросами и снова писали заметки, я изучал деревню. Поначалу Эсме и Таллент не хотели нарушать повседневные занятия деревенских жителей или вмешиваться в них и поэтому часами сидели, как горгульи, в разных концах деревни, наблюдали, как люди занимаются своими повседневными делами, и заполняли целые блокноты подробнейшим описанием самых обыденных вещей. (Однажды, когда Эсме пошла купаться, я заглянул в ее блокнот и обнаружил повествование о том, как одна из женщин какала, на шести страницах, включая описание собственно кала, растянутое на множество абзацев: консистенция, цвет, запах, текстура и т. д.) А меня подобные этические принципы – настоящие или придуманные – не сдерживали, так что я с радостью переступал границу леса и заходил в деревню.
Больше всего мне нравилось наблюдать за детьми. Они были мельче, чем дети, которых мне приходилось видеть в Америке, и, на удивление, красивее: черты, выглядевшие странно у их родителей – короткие неуклюжие ноги, огромные шевелюры, большие оттопыренные уши, грубая беспорядочность черт лица, как что-то не до конца растопленное, – у них выглядели очаровательно, и наготу свою они воспринимали естественно. От американских детей они отличались еще решительностью: мальчики, даже совсем крошечные, играли заточенными палками, изображавшими копья, и, вооружась ими, с криком нападали друг на друга; и мальчики, и девочки имели привычку – которая меня поначалу пугала – мчаться на полной скорости к родительским вепрям и прыгать им на спину (вепрей это, судя по всему, нисколько не удивляло, и они в лучшем случае махали хвостом, как будто отгоняя муху, или прядали ушами).
Удивляло и почти полное отсутствие надзора. В деревне было двадцать шесть детей[37], от четырех младенцев до трех мальчиков не моложе четырнадцати – каждый из них постоянно носил с собой пальмовое копье на полтора фута выше собственного роста. В отличие от других первобытных общин, детей здесь не заставляли заниматься никакой работой, даже самых старших; они просто проводили время за игрой. Иногда старшие ускользали в лес, в одиночку или группами, и через несколько часов возвращались с множеством вуак, нанизанных на копье слоями, как белье на полке, или с пальмовым листом, трепещущим от собранных на него личинок. Иногда я смотрел за их игрой у ручья – того же ручья, вдоль которого мы поднимались, хотя здесь он был еще шире и быстрее, шустро бежал по камням и веткам, деловито унося вниз брошенные детьми бутоны и листья[38]. От Таллента я знал, что им велели не подходить к сновидцам, и они, что интересно – мой последующий опыт общения с детьми свидетельствовал совсем о другом, – слушались беспрекословно. Бывали дни, когда меня самого просили избегать сновидцев, потому что Таллент или Эсме подвергали их якобы важным опросам, и в эти дни я чувствовал, что меня почти безудержно тянет к ним, несмотря на просьбу Таллента.
Женщины проводили целые дни, что-нибудь сортируя: бобы, вуак, манамы, пальмовые листья, сорта пальмовой древесины, пальмовые косички. Когда бы я на них ни взглянул, они деловито занимались организацией своего имущества. Хорошая подготовка улучшала их настроение и наполняла гордостью: в конце дня, когда воздух начинал темнеть, они оттаскивали корзины в соответствующие хижины, складывали там свои материалы и застывали в дверях, удовлетворенно цокая и глядя на то, как очередной трудовой день пополнил запасы, которые благодаря их постоянной работе никогда не уменьшались. Однажды вечером я слышал, как Эсме возбужденно уверяет Таллента, что их эффективность должна быть основана на какой-то неясной и совершенной технологии, но сам быстро догадался, что у них так много времени, потому что они не тратят его на вещи, которые у остальных женщин мира отнимают многие часы: у них, например, не было одежды, поэтому им было нечего стирать. Их волосы, как и у мужчин, были скручены в простой валик на затылке, и я ни разу не видел, чтобы они их мыли или расчесывали. Они никогда не прибирали в хижинах, не чинили циновки; когда какая-нибудь приходила в негодность, ее разламывали и бросали в огонь, а из хижины приносили новую. И уж конечно, как я уже отметил, они никогда не следили за детьми.
Я наблюдал однажды утром, как две женщины – одна такая толстая, что руки даже не сходились у нее на круглом животе, – плели пальмовые листья перед одной из хижин, где хранились разные части пальмы. В нескольких футах от них ребенок, маленькая девочка, ползла на локтях к кусочку сушеного стручка, который выпал из какой-то корзины. Добравшись до него, она, разумеется, сунула его в рот, а сунув, разумеется, подавилась. Я завороженно смотрел, как ее вздохи делаются короче и надрывнее, а потом она перевернулась на спину, тряся кривыми руками и ногами, и лицо ее покраснело. Наконец она резко кашлянула, кусок вылетел у нее из горла, и она заплакала. Ни одна из женщин за все это время не двинулась. Очень может быть, что они ничего не заметили – они, кажется, были всерьез сосредоточены на пальмовых косичках, – но даже когда девочка закричала, они не взглянули в ее сторону. В конечном счете разницы никакой не было, потому что через несколько минут девочка снова перевернулась на живот и поползла дальше, вероятно, с намерением запихнуть в рот еще что-нибудь небезопасное[39].
Мужчины каждый день ходили на охоту. Половина охотников оставалась в деревне, полируя копья, разговаривая друг с другом и поглаживая своих вепрей, а другая половина исчезала в лесу, и их вепри следовали за ними среди деревьев. Глядя, как они возвращаются со своей добычей – которая всегда оказывалась мучительно неопределяемой, потому что они свежевали животных сразу и приносили туши, уже разделенные на большие неровные куски, – я всегда удивлялся, что мы на острове. Кроме ручья, слишком мелкого для чего угодно, кроме косяков мелкой рыбешки, вокруг не ощущалось никакой воды, не ощущалось моря. Конечно, оно нас окружало, но я не представлял, что об этом знают деревенские жители: думают ли они о нем когда-нибудь, есть ли у них хоть какой-то связанный с ним опыт, были ли в местной истории времена, когда они обращались к нему ради еды или странствий[40].
Из всех животных они ценили только вепря, но даже к вепрям относились без пиетета. Несколько десятилетий спустя, познакомившись с разными удаленными и отсталыми цивилизациями, я научился распознавать животных, украшения и обряды, которые их мистически объединяют, как будто все эти сообщества отовариваются в каком-то запрятанном в джунглях супермаркете, предназначенном исключительно для первобытных народов. У всех, например, были бусы того или иного сорта, изношенные, обменянные, у всех были какие-то украшения на теле и, наконец, у всех были собаки – нечесаные, голодные, косматые создания, тощие или очень тощие, все до одной туповатые от вымотанности, небрежения и постоянного легкого недоедания, которое никогда толком не прерывалось. А в этой деревне не было собак (как, впрочем, и украшений на теле), и если вдруг животное притаскивали живьем (обычно когда размер или количество добычи не позволяли охотникам убить и расчленить ее самостоятельно), на него моментально нападали, убивали и разделывали. Однажды принесли ленивца, привязанного за лапы к охотничьему копью. Он был такой огромный, что двое мужчин, державших копье, были вынуждены положить его себе на головы, а не на плечи, и все равно спина ленивца волочилась по земле, и его серебристый мех оставлял в пыли печальные и изысканные следы. Мужчины, шатаясь, добрались до мясного склада, остановились за ним там, где грязь давно приобрела ржавый цвет, и набросились на зверя с ненужной, как казалось, яростью и силой, наугад втыкая копья в шкуру, а группа помощников тем временем избивала его тупыми концами своего оружия. Ленивец не сопротивлялся, просто лежал на боку, с по-прежнему связанными ногами, и, как котенок, испускал тонкие всхлипы, которые, видимо, никого кроме меня не трогали. После того как его радостно забили до смерти, к мужчинам присоединились женщины, и они совместно содрали шкуру – ее, отделанную жемчужно-атласной жировой изнанкой, швырнули вепрям, которые немедленно подтянулись и принялись чавкать, – а тушу разрубили на куски, завернули их в свежие листы пальмы и банана и сложили в мясную яму. Все это делалось сосредоточенно, не то чтобы просто с удовлетворением, но и не то чтобы с ликованием, а потом все почистили руки, и женщины занялись готовкой.
Но если с животными они обращались без сентиментальности, по отношению к своему собственному существованию они были сентиментальны. Меня снова и снова изумляла миниатюрность их общества, я думал, каково это – жить так, что всех, кого ты знаешь, кого в жизни видел, можно пересчитать по пальцам. Но хотя общество это и было маленьким, назвать его неполноценным было нельзя никак: каждый ритуал, известный цивилизации тысячекратно большей, тут тоже использовался. Иногда вообще казалось, что правил и ритуалов тут в избытке, чтобы возместить нехватку людей, которые должны в них участвовать. Жизнь – причем короткая – разворачивалась как ряд ярких и буйных церемоний, как барабанный бой обрядов, отмечающих события и рубежи, которые в более тесном и занятом обществе считались бы обычными делами, заслуживающими в лучшем случае упоминания.
Например, каждый месяц проводилась церемония, отмечающая начало женской менструации, а другая отмечала завершение цикла. Половой акт тоже чествовался. Когда я впервые увидел, как мужчина и женщина вдвоем ушли в хижину, вся деревня принялась дико улюлюкать, а дети – был очень поздний час – подняли лохматые головы и стали озираться сонными глазами. Пару это нисколько не смутило, и, закончив, они вышли из хижины под продолжающееся улюлюканье, расстелили свои циновки и заснули. В первые несколько недель, проведенных в деревне, я наблюдал празднование первых младенческих шагов (кстати, это была та самая кроха, которая любила запихивать в рот что-нибудь опасное), вручение мальчику первого копья, день рождения девочки, отмечание прихода охотников из леса с целым, кажется, поколением вуак, плакавших и визжавших в толстом самодельном мешке из пальмовых листьев, который тащили двое мужчин, и еще одну церемонию, смысл которой я разгадать не смог, когда четверо мужчин и четыре женщины беспорядочно плясали (точнее, подскакивали) вокруг костра, прижимая ко лбам оскалившихся существ вроде ящерицы, тех, что я видел в хижине с сушеными продуктами, а потом швырнули их в пламя – а остальные торжественно наблюдали[41].
Однажды вечером я забрел в деревню после очередного купания сновидцев – была моя очередь – и увидел, что все население стоит вокруг девятой хижины и издает низкий, почти металлический гул, как гудение генератора. В проеме хижины стоял деревенский вождь, который выглядел относительно высоким и относительно статным; на голове у него была корона из бледных папоротниковых листьев, извивающихся и приподнимающихся на слабом ветру, как антенны жука. Он что-то сказал, и одна из женщин мягко подтолкнула к нему мальчика. Тогда я еще с большим трудом определял возраст у’ивцев, но позже узнал, что мальчику только что исполнилось маку о’ана, восемь о’ан, то есть по западному календарю ему было около десяти лет.
Мальчик и вождь повернулись лицом друг к другу, и вождь положил руки на плечи мальчику и что-то ему сказал, а мальчик опустил голову. Вождь снова что-то произнес и отступил, освобождая проход, и мальчик вошел внутрь, а вождь – за ним.
Толпа теснее окружила хижину, и гул стал громче. Женщина, которая вытолкнула мальчика, до того стоявшего у нее за спиной, сидела прямо перед входом, лицом к нему, а рядом с ней сидел мужчина – видимо, это были родители.
Я тоже подобрался ближе, пока не оказался непосредственно за спиной родителей и не проследил за их взглядом внутрь хижины, освещенной небольшим огнем, который разложили прямо под черепашьим панцирем. При слабом освещении панцирь казался восковой имитацией, чем-то недобрым, как трофей в память о побежденном звере, со временем превратившийся в талисман.
В хижине мальчик лег на циновку лицом вверх. На его лице ничего не отражалось, но его правая рука, та, что была видна в дверное отверстие, распускалась и сжималась – так делали мужчины со своими копьями, только, конечно, мальчик не сжимал ничего, кроме воздуха. Вождь перешагнул его одной ногой, встал над ним и пропел несколько слов. Гул вокруг усилился. А потом вождь медленно опустился, сначала на колени, потом просто лег на мальчика и так пролежал совершенно неподвижно несколько минут. Он не был массивным, но мальчик был совсем маленький, и тело вождя закрыло его так основательно, что мне оставалась видна только рука, которая распускалась и сжималась на пальмовой циновке.
Понимал ли я, что произойдет дальше? Наверное. Но все происходящее до такой степени напоминало лихорадочные кошмары – пение, причудливый свет, гул, далекое похрюкивание хряков, обнаженная, блестящая от пота спина вождя и его бедра, – что, когда вождь вдруг сказал что-то краткое и мальчик перевернулся на живот, насилие, которым было окрашено все дальнейшее, меня потрясло.
Хотя, пожалуй, «насилие» – неверное слово, потому что вождь, конечно, вел себя напористо, но не то чтобы без нужды агрессивно. Еще до того, как он начал, я заметил, что рядом с ним стоит маленькая скорлупа но’аки, наполненная жиром, и этим жиром он смазал мальчика, так что его сексуальные действия хотя и были тщательными, злобными никак не казались. Что до мальчика, то он лежал неподвижно и не издавал ни малейшего звука, опустив руки, разжимая и сжимая ладонь, уткнувшись лицом в циновку.
Закончив, вождь встал, подошел к двери и склонил голову в сторону родителей, и они кивнули ему в ответ. А потом он сказал что-то, и восемь мужчин, включая двух мальчиков, которые принесли на своих копьях вуак из леса, присоединились к нему у входа. Вождь снял с головы папоротниковый венец и возложил его на голову одного из людей постарше, который, как я вспомнил, участвовал в переговорах в день нашего прибытия, и тот зашел в хижину и повторил то, что делал вождь. Закончив, он кивнул родителям мальчика (а они ему), венец перешел к следующему мужчине, потом к следующему, пока мальчика не посетили они все.
После того как они сделали свое дело, вождь что-то произнес, и мальчик задвигал руками и коленями, а потом медленно поднялся и подошел к входу, чтобы встать рядом с ним, и их силуэты озарил огонь костра. Вождь поставил мальчика перед собой и медленно развернул его кругом перед родителями, и я увидел, что на внутренней стороне его ног татуировками запеклась засохшая кровь. Но в остальном это был тот же мальчик, который вошел в хижину, – то же торжественное выражение лица, то же идеальное тело, те же темные, непроницаемые глаза. А потом вождь снова с ним заговорил, возложил на его голову пушистый папоротниковый венец и приложил руки к вискам мальчика жестом некоего благословения.
А потом все внезапно закончилось. Гул прекратился, толпа, позевывая и потягиваясь, разошлась, вождь присоединился к своим дружкам и двинулся в сторону вепрей, а мальчика, над чьей маленькой головой пламенем поднимались листы папоротника, поглотила группа ровесников, и они все двинулись в сторону мясной хижины. Кроме венца, от остальных его отличала только некоторая скованность походки. Развязка оказалась такой непримечательной, что я некоторое время гадал, не привиделось ли мне это все.
Я понимаю, что так говорить не очень принято, но я всегда, даже до этого случая считал, что определенные этнические группы склонны к определенным видам поведения или, что, может быть, несколько точнее, от природы снабжены определенными характеристиками. Немцы и японцы, например (не думаю, что это можно всерьез отрицать), органически предрасположены к особому виду утонченной жестокости, французы – к некоторой обаятельной лени, которую они умудряются выдавать за томность, русские к алкоголизму, корейцы к угрюмости, китайцы к скупости, англичане к гомосексуализму. А вот иву’ивцы отличались активным интересом и склонностью к беспорядочной половой жизни. Примерно через неделю после того вечера я брел в глубине леса, одолеваемый скукой и некоторой клаустрофобией после многих часов в деревне, и увидел мальчика из той хижины с одним из подростков-копьеносцев. Старший мальчик стоял, прислонившись спиной к дереву, а младший делал ему минет. Естественное предположение (которое, разумеется, сделала Эсме, когда я позже рассказал об увиденном ей и Талленту): младший мальчик, значит, какой-то юный раб для сексуальных утех. Но я не думаю, что дело было в этом. На протяжении месяцев, проведенных в деревне, я наблюдал вокруг всепроникающую сексуальную свободу и открытость, которой, как ни удивительно, раньше не замечал: я видел, как пары (мужчины с женщинами, но и другие сочетания тоже) уединялись в хижинах и в лесу, как дети всех возрастов ласкались с другими детьми, но и со взрослыми тоже. До Иву’иву мне никогда не приходило в голову, что детям могут нравиться сексуальные отношения, но в деревне это казалось совершенно естественным, да и было таким.
Но вернусь к церемонии. Как только она закончилась, я поспешил к Талленту, который читал при драгоценном свете фонаря, светившего на одну из его записных книжек, и постарался шепотом рассказать ему об увиденном. Как я уже отмечал, зачастую мне нелегко было читать эмоции на лице Таллента, но на этот раз все обстояло просто: я увидел изумление, недоверие, отвращение, возбуждение, зависть, и каждая эмоция сменяла предыдущую аккуратно и полностью, как картинки на слайдах.
К сожалению, на середине моего рассказа проснулась Эсме, и мне пришлось описывать весь эпизод заново. Разумеется, она приняла эти сведения в штыки, в сущности, обвинила меня во лжи, голос ее звучал все громче и громче, и в конце концов Таллент был вынужден ее одернуть.
– Ну не верю я, – прошипела она (мы все говорили шепотом, чтобы не разбудить сновидцев). – Никакого намека на такое поведение не было, никакого жестокого обращения с детьми, никакого…
– Так в этом и дело, – сказал я ей. – Это не жестокое обращение. Мальчик был потом в полном порядке.
Она фыркнула.
– То есть вы утверждаете, что мальчик, которого только что изнасиловали девять мужиков…
– Да черт возьми, вы ж не слушаете! – рявкнул я в ответ. – Они его не насиловали. Его родители сидели рядом. Это не было насильственное действие.
– Да оно по самой своей природе насильственное, Нортон! Какая разница, были там родители или нет!
В общем, это был очень скучный разговор, который бесконечно тащился по кругу и мог бы продолжаться дальше, если бы наблюдавший за нами Таллент не положил ему конец обещанием наутро поговорить о случившемся с деревенским вождем.
Он сдержал слово. Вождь сообщил, что я увидел обряд под названием а’ина’ина, которого удостаивается каждый мальчик по достижении маку о’ана. Смысл церемонии в том, чтобы обучить мальчиков сексу, а кто лучше научит мальчика, чем другой мужчина? И как помочь мальчику избавиться от предподростковой агрессии и тревоги, если не указать ему дорогу к мужским занятиям? Для девочек нет аналогичного ритуала, потому что они меньше сосредоточены на сексе и считается, что сексуальное обучение им нужно в меньшей степени, чем мальчикам. Вождь пригласил нас на следующую а’ина’ину, которая должна была состояться на четвертую ночь. Это очень необычно, сказал вождь, чтобы у двух мальчиков восьмые о’аны пришлись так близко друг к другу, но в этом году получилось так.
Объяснение вождя касательно а’ина’ины показалось мне совершенно разумным. У Эсме, конечно, было иное мнение. Что думал Таллент, я не понимал. Но через три дня мы все вернулись к девятой хижине и смотрели, как другого мальчика, немножко более тихого и в целом не такого привлекательно живого, как предыдущий, у входа приветствовал вождь и ввел его внутрь для обряда. И хотя все было точно так, как я описал – гул, пение, горящий костер, покорность мальчика, папоротниковый венок, – Эсме решительно отказалась говорить об этом. Она протопала к нашим циновкам, как разъяренный подросток, и, окажись там какая-нибудь дверь, она бы с грохотом захлопнула ее за собой. А тут она упала на циновку, повернулась на бок и притворилась спящей, хотя той ночью меня дважды будило ее приглушенное хныканье.
Спустя годы, совсем в другой жизни, Эсме опубликовала книжку о своем опыте на Иву’иву[42], в которой ни словом не обмолвилась про этот ритуал. Я хотел спросить ее, почему она о нем не упоминает, даже начал писать письмо, но к тому моменту, разумеется, я был страшно занят более важными делами и письма так и не закончил. Тем не менее это умолчание представляется мне интеллектуальным лицемерием в худшем виде: описывая культуру, нельзя просто опустить детали, которые кажутся безвкусными или шокирующими, детали, которые не встраиваются в аккуратно выстроенную картину. Но потом, еще через какое-то время, я задумался, не зависть ли породила такую реакцию. Ведь если брать подобные ритуалы, а’ина’ина – это антропологическое сокровище, и первым его обнаружил и засвидетельствовал я, а не она. Это я вполне мог понять, этому мог даже посочувствовать, особенно с учетом дальнейших событий, в свете которых ее присутствие становилось все менее существенным.
Что до меня, я не чувствовал себя вправе высказывать суждения об этом ритуале. Конечно, он меня удивил и даже шокировал, но не могу отрицать, что из-за него я заново обратился к определенным представлениям о детстве, на которые всегда опирался, о сексе в целом, о том, что ни к тому, ни к другому нет никакого единственно правильного подхода. Возможно, это звучит очень наивно, но я, видимо, до того момента считал, что в мире есть некоторое количество незыблемых истин – что такое-то поведение или такие-то действия, например убийство, по определению несправедливы, а другие по определению правильны. Но время, проведенное на Иву’иву, заставило меня осознать, что любая этика или мораль относительна и зависит от культуры. А реакция Эсме заставила меня осознать, что воспринять культурный релятивизм умом легко, но помнить о нем для многих оказывается непросто[43].
Столкновение с описанным явлением имело для меня еще одно непредвиденное и не слишком приятное последствие: мои ночные сны стали все больше сосредоточиваться на Талленте. Мне немного стыдно в этом признаваться, потому что звучит это по-детски, но я, в конце концов, был тогда почти что ребенок. По утрам я не помнил деталей, только что он мне снился и я был счастлив, и тянущиеся за этим дни часто казались невыносимо тоскливыми и печальными, как пейзаж, лишенный радости, и я стал думать о них как о чем-то, что следует преодолеть, чтобы потом снова вернуться к убаюкивающей пустой темноте ночи.
3
Может показаться, что мы все потеряли интерес к сновидцам и к связанной с ними загадке, но это, конечно, не так. И мне не хотелось бы создавать впечатление, будто я бродил по деревне, пренебрегая ими. Огромное количество времени тратилось на то, чтобы их купать, кормить, наблюдать, опрашивать, и все это быстро стало крайне тоскливым делом. Мое разочарование было отчасти связано с тем, что у меня появилось нечто новое – деревня и ее обитатели – и это новое требовало внимания; но отчасти и с тем, что сновидцы в силу своей природы и ограниченности были скучными объектами изучения. В сущности, они весьма напоминали вялых белых мышей, на убийство которых я потратил столько рабочих дней: они были необходимы, но совершенно не интересны. Мы все знали, что они отличались чем-то особенным и важным, но никто из нас не мог ни определить, чем именно, ни даже сформулировать вопрос, способный привести к отгадке. Впрочем, тут у меня, вероятно, было преимущество перед Эсме и Таллентом: я знал, просто знал, что между удивительным возрастом сновидцев и молодостью деревенских жителей есть какая-то связь, как и между отказом жителей видеть сновидцев и тоской самих сновидцев по деревне, несмотря на их отказ туда войти; они даже не смотрели в ту сторону и предпочитали все время поворачиваться лицом к лесному мраку. Но что это за связь – я понять не мог. Она никуда не девалась, словно кикимора, которая скрывалась в грязном углу, манила меня в самый невозможный и неподходящий момент и с гнусным хохотом ускользала, стоило мне тайком сделать в ее сторону хотя бы шаг.
Со сновидцами между тем не происходило практически ничего. Нам не удавалось выудить у них сведения, помимо того, что мы уже знали: прибытие Вану, воспоминания Ика’аны о Ка-Вехе. Мы пытались расспрашивать их про жизнь в деревне и жизнь в лесу, но ответы получали сбивчивые и туманные: Ика’ана, похоже, ничего об этом не помнил, а с Муа было что-то другое – он сомневался, осторожничал.
Как-то утром, недель через десять после нашего прибытия, Таллент подошел к нам, сидящим за своим печальным завтраком. (Впрочем, завтрак был менее печален, чем раньше. Как Таллент и обещал много недель назад, мы наконец смогли развести собственный костер и жарили на нем длинные вертелы с вуаками, которых добывал для нас Фа’а; они были невероятно вкусные, как овсянки, только млекопитающие.)
– Нас пригласили еще на одну церемонию, – объявил он.
– Господи, – пробормотала Эсме.
– Сегодня вечером, – сказал Таллент. – День рождения вождя.
Мне никогда не приходило в голову думать о вожде как о конкретном человеке; он был просто вождь. Я осознал, что не знаю даже его имени, не знаю, какие из женщин и детей – его женщины и дети, не знаю даже, почему он, собственно, вождь. По случайности рождения или в награду за достижения?[44]
– И что там будет? – мрачно спросила Эсме. Она считала теперь, что любой ритуал в этой деревне требует секса с детьми, хотя на самом деле таких ритуалов было всего два-три.
– Точно не знаю, – сказал Таллент. – Но думаю, будет изрядный пир – они строят еще одно кострище, и все прибираются.
Я глянул в сторону деревни и увидел, что в самом деле дым поднимается от двух костров, а не от одного.
– Сколько ему стукнет? – спросил я, просто чтобы поддержать разговор.
Но Таллент с улыбкой повернулся в мою сторону.
– Шестьдесят, – сказал он, как будто делает мне подарок.
Шестьдесят. Слово повисло в воздухе, как дымовая завеса, и я задумался, что же сказать дальше, как отделить тот единственный вопрос, который я непременно должен задать, от неразберихи в уме и во рту.
Разумеется, Эсме тут же все испортила.
– Шестьдесят! – пискнула она. – Это же возраст Евы!
– Приблизительный возраст Евы, который Нортон определил при осмотре, – мягко напомнил ей Таллент.
Впрочем, это было не важно, потому что Эсме не слушала. И я, честно говоря, тоже. Сообщение Таллента требовало от меня некоторой перенастройки. Это больше не была деревня молодых людей; это была деревня людей, которые казались молодыми, но могли ими не быть. Я не мог пока определить, что это значит, но не сомневался: что-то да значит.
– Он самый старый человек в деревне, – добавил Таллент, пристально глядя на меня, словно давал мне важную улику, напоминающую, куда я запрятал ответ.
Но я не вспомнил. Мне надо было подумать, а для этого – побыть одному. Я сказал Эсме и Талленту, что пойду прогуляться.
– Церемония начнется в сумерках! – крикнул мне в спину Таллент. – Не опаздывайте.
Я бродил расширяющимися кругами вокруг деревни, но к моменту, когда свет стал сгущаться в сироп, ничего не надумал. Это было крайне досадно, и из-за этой досады все окружающее – влажная, мягкая лесная земля, далекие стоны и блеяние сновидцев, всякие хрустящие иссохлые растительные ошметки, постоянно летящие с деревьев на голову и на плечи, – раздражало. Я чувствовал какую-то иррациональную злость на Таллента за то, что притащил меня на этот остров и озадачил огромной тайной, которую, как он теперь, видимо, полагал, я должен разгадать.
В деревню я вернулся в отвратительном настроении, но все же двинулся к огню, где Таллент и Эсме сидели среди деревенских жителей, расположившихся двумя длинными рядами по обе стороны кострищ. К моему удивлению, там был и Фа’а: он сидел рядом с Эсме, неотрывно смотрел вперед, поперек коленей у него лежало копье.
– Фа’а пришел? – спросил я, присаживаясь слева от Таллента.
– Да, – прошептал он в ответ (деревенские жители опять вибрировали в своем хоровом гуле). – Вождь пригласил всех проводников, но только Фа’а согласился пойти.
Я не успел подумать, что это может означать, когда появился вождь; он медленно шагал к рядам сидящих. И хотя на нем, как и на остальных жителях, не было никакой одежды и украшений, шел он так, как будто драгоценности и мантии придавливают его к земле: на прямой спине могла бы держаться пелерина из многих ярдов тяжелого алого бархата; его длинная, толстая шея могла быть увешена переплетенными золотыми цепями и тяжелыми бриллиантами. Корона, впрочем, у него была, двойной венец, каждая ветвь толщиной примерно с мой большой палец, роскошного, переливчатого цвета бархатцев, из такого сверкающего мягкого вещества, что даже в свете костра она переливалась и сияла. Вождь никогда не казался мне особенно красивым человеком, но в тот вечер он выглядел бесспорно величественным: его кожа была намаслена до такого же зеркального блеска, что и корона, а волосы были как-то причесаны и тоже намаслены и, свисая до лопаток, окружали лицо, как костер; когда он приблизился, я уловил слабый запах прогорклого жира. На его вепря – а его вепрь, что неудивительно, был самый большой, злобный и опасный на вид из всей стаи – тоже навели лоск, и по этому случаю его злобные маленькие глазки, сверкающие, как обточенные разрывные пули, горели все же менее ярко, чем его грубая зализанная шерсть и клыки, которые, видимо, наточили и начистили по торжественному поводу. Слева от вождя шли мужчины, участвовавшие вместе с ним в наших переговорах, а справа – три женщины, на вид тридцати с чем-то лет, и два мальчика, один из них был тот подросток-копьеносец, кого я видел среди прочих в палатке с мальчиком помладше во время церемонии а’ина’ина.
Почти дойдя до первого костра, вождь сел и затянул песнопение, длинную ритмичную песню без начала и без перерыва, и она иногда уводила его голос в почти стонущий фальцет, а иногда сгущалась до почти рычащего гула. Так прошло несколько минут, и с другой стороны рядов возникло какое-то движение, и я увидел, что к нам приближаются двое мужчин, с трудом таща за собой валун, на котором лежит еще один камень примерно такого же размера. Когда они оказались в поле зрения, я услышал, как толпа прервала свой гул и издала общий вздох – непонятно, от удовольствия или от волнения, – и когда мужчины подошли к нашему концу ряда, я понял, что это не второй камень, как мне показалась, а гигантская черепаха.
Я никогда не видел и больше никогда не увижу черепахи такого размера. Даже теперь мне трудно ее с чем-либо сопоставить. Я могу только сказать, больше чего она была: больше автомобильной шины, больше лохани, больше волкодава. Особой толщиной она не отличалась – фута два в высоту, – так что размер почти полностью сводился к невероятному диаметру. И хотя по особой горбатой спине я видел, что это опа’иву’экэ, в остальном это животное имело не больше отношения к существу, которое я несколько недель назад видел в ручье, чем к страшному вепрю вождя.
Мужчины уложили черепаху перед ближайшим к нам – и к вождю – костром и отступили, тяжело дыша от усталости. Вождь продолжал песнопение, и стоило мне распознать в его песне слово «опа’иву’экэ», как зверь, словно по сигналу, медленно вытянул голову из панциря. Он лежал лицом ко мне и, открыв глаза, уставился прямо на меня, как будто пытался передать какое-то сообщение, только для меня предназначенное.
– Что? – растерявшись, прошептал я ему в ответ.
Тогда он поднял голову, причудливую, небольшую красивую голову, вытянув шею, не отрывая от меня глаз, и я почувствовал, что склоняюсь ему навстречу. Но тут я услышал, что вождь прервал свою песню, и издал громкий, радостный, жуткий клич, и быстро взмахнул перед собой копьем (я даже не заметил, что он держит копье), и в следующее мгновение голова опа’иву’экэ покачивалась у меня на коленях, по-прежнему глядя на меня черными глазами, а на мои шорты сочилась кровь.
– Какая дурацкая церемония, – пробурчала Эсме, когда мы возвращались к своим циновкам. Фа’а ушел раньше, при первой же возможности, так что мы остались втроем. – Удивительно, что после этого всего нам даже не предложили ничего поесть. Это вообще очень необычно – приглашать на такие события и потом не устраивать какого-нибудь пиршества. Наверное, надо сказать спасибо, что сегодня хоть детей не насиловали.
Я бы никогда не позволил себе согласиться с ней вслух, но про себя не мог не признать, что церемония и правда казалась несуразной и довольно бессмысленной. На фоне общественной природы многих других деревенских церемоний озадачивало и сольное выступление: долгий и скучный вечер, проведенный в наблюдении за вождем, который расчленяет опа’иву’экэ (что в данном случае оказалось делом кровавым и многотрудным: он оторвал панцирь – раздался тревожно чавкающий звук – и стал выгребать мясо руками) и поджаривает куски над огнем, а вся деревня гудит с голодным видом. Помня, как тщательно вождь обрабатывал мальчика, я, пожалуй, не удивился тому, как тщательно (хотя не очень быстро) он ел: мы сидели и смотрели, как он поджаривает и поедает мягкое мясо из черепашьего туловища, но не только – он высосал хрящи и кровь из чешуйчатых ног и, взяв у меня с колен голову, с хрустом сжевал глаза, а потом, погрев череп на огне, как кастрюлю с супом, жадно высосал липкие мозги. Из всех окружающих только одному мужчине, советнику вождя – одному из тех, что входили в хижину с мальчиком во время первой а’ина’ины, – тоже предложили что-то съесть; мы все смотрели, как он вытащил из панциря печень, глянцевую, красно-коричневую, и проглотил, как глотают устрицу.
– Я вот чего не понимаю: откуда они вообще взяли опа’иву’экэ, – сказал я. У моего паха кружились мухи, их интересовала липкая, сладкая кровь черепахи. – Это животное было слишком крупное, чтобы жить в ручье, а я здесь никакого другого источника воды не видел.
– Хороший вопрос, – сказал Таллент. – Что-то здесь должно быть – озеро или река побольше, – куда они за ними ходят. Но мы спрашиваем и спрашиваем сновидцев, и они ни разу ни о чем подобном не упоминали.
Мы все на некоторое время замолчали. А потом я вдруг понял, что мне нужно сделать.
– Муа! – сказал я Талленту. – Вот с кем нужно поговорить.
– Но он спит! – воспротивилась Эсме.
Я не обратил на нее внимания.
– Таллент, прошу вас, – сказал я. – Мне нужно задать ему несколько вопросов.
Таллент вздохнул. Но что ему оставалось делать? Ответов у него не было, и если он считал, что я смогу их раздобыть, надо было соглашаться.
– Ладно, – сказал он. – Эсме, попросите Фа’а его разбудить.
Я уже несколько недель не опрашивал Муа, главным образом потому (в этом мне сейчас стыдно признаться), что однообразие его рассказов стало меня утомлять. Но сейчас, увидев его опухшее от сна лицо, я ощутил в себе уверенность: ответы есть именно у него, и если я задам точные и правильные вопросы, все сразу прояснится.
Я попросил Таллента переводить. У Фа’а на лице отражалась его ставшая постоянной настороженность. Несколько минут я молчал, напряженно думая, с чего начать – трудно выбрать подходящее начало, если не знаешь, какой концовки хотеть или ожидать. Я чувствовал себя прокурором, заставляющим обвиняемого признаться в преступлении, о природе которого он ничего не знает. Муа покорно сидел с сонным видом. Казалось, что время для него ничего не значит.
– Муа, – наконец сказал я, – ты помнишь празднование своего шестидесятилетия?
– Конечно, – сказал Муа. – Это была вака’ина.
– Что такое вака’ина?
– Празднование.
– И что происходит во время вака’ины?
– Идешь в хижину. Тебя натирают умакой, – это жир ленивца, – и твоего вепря натирают умакой. Идешь к кострам и поешь песню вака’ины.
– А потом?
– Съедаешь опа’иву’экэ.
Я замолчал, размышляя. Впечатление было такое, будто я стою у ворот и играю в игру со сфинксом, но только сфинкс знает правила этой игры.
– Тебе нравится опа’иву’экэ?
– Конечно.
– Тебе… – Я снова остановился. Я подошел к существу еще на шаг, и оно напряглось, готовое ускользнуть. – Опа’иву’экэ всем нравится?
Он колебался, бестолково открыв рот. «Ну же, – подумал я. – Ну же».
– Не знаю, – наконец сказал он.
– Почему ты не знаешь?
– Потому что не все едят опа’иву’экэ.
– Почему?
– Потому что опа’иву’экэ можно есть только на вака’ине.
– И почему едят опа’иву’экэ?
– Потому что ты особенный.
– Почему?
– Потому что тебе шестьдесят о’ан. Потому что много людей не доживают до таких о’ан.
– То есть ты особенный, раз дожил?
– Да. И поэтому ты ешь опа’иву’экэ.
– Почему?
– Потому что если ты съедаешь опа’иву’экэ, боги радуются.
– Что ты имеешь в виду?
– Они позволят тебе… – Он устал, это было видно, его лицо становилось длинным и уродливым. – Они позволят тебе жить вечно. Как обещали.
Все молчали. Даже Фа’а подался вперед, крепко обхватывая свое копье.
– Муа, – сказал я очень спокойным голосом, – сколько тебе о’ан?
Он покачал головой:
– Сто четыре. Наверное.
«Думай», – велел я себе.
– Муа, а все остальные, все твои спутники – Ви’иу, Иваива, Ва’ана, они все – все ели опа’иву’экэ?
– Ну да.
– И все – на своих вака’инах?
– Конечно.
Мы снова замолчали.
– Я спрошу его, когда он покинул деревню, – шепнул мне Таллент и обратился с вопросом к Муа, а тот покачал головой и ответил односложно. Таллент повернулся ко мне с извиняющимся видом.
– Говорит, что не помнит, – сказал он.
– Хэ кака’а, – сказал Муа. Я устал.
– Погодите, – сказал я Талленту. – Муа, откуда берется опа’иву’экэ?
Тогда он посмотрел мне прямо в глаза, недоумевая, как будто я спросил, сколько у него рук.
– Из озера, – сказал он.
– Из какого озера? – спросил я его. – Где оно?
– Озеро, где конец леса, – ответил Муа и после этого, как мы ни старались, ничего больше говорить не стал. «Хэ кака’а», – повторял он.
– Отведи его спать, – сказал Таллент Фа’а, и они ушли.
Следующий день выдался неожиданно жарким, и солнечный свет, как мед, расплескивался по вершинам деревьев.
– У’ака, – пожал плечами Таллент, когда я, изнемогая от сухости во рту, поглядел на него. Жаркий сезон. Мы провели на Иву’иву чуть больше четырех месяцев.
Мне хотелось чего-то холодного и водянистого, чего-то совсем не похожего на волокнистые плоды, по всей видимости преобладавшие на острове, и я был благодарен Фа’а, когда он принес мне тыкву-горлянку размером примерно с огурец, покрытую неаппетитной кожурой с грубыми бурыми волосками. Но когда Фа’а отбил ее вытянутый конец о лежащий на земле камень, я увидел, что внутри она полая и наполнена тягучей прозрачной жидкостью, плотной, как растительное масло, но прохладно-сладкой, как сок жимолости. Посмотрев, как я ее пью, он принес мне еще четыре плода и показал, как пальцами можно отодрать тонкий съедобный слой; он тоже был прохладный, чуть сладковатый и на языке сразу же растворился на тысячу мелких кристаллов.
Позавтракав, я отправился туда, где сидели Эсме и Таллент, и объявил, что сегодня мы отправимся на поиски озера.
Эсме идти не хотела: насколько мы знаем, никакого озера нет; где это озеро, мы не знаем; Муа устал; что я хочу найти на озере и т. д. и т. п. Этот скепсис и внезапное пристрастие к практичности показались мне крайне нелепыми в женщине, готовой без колебаний признать, что Ика’ане 176 лет, но к тому моменту я понимал достаточно, чтобы убедиться: ее дискомфорт вызван не какими-то философскими расхождениями, а изменившейся динамикой в нашем узком кругу – это я найду то, что мы ищем (чем бы оно ни оказалось), а не Таллент. Он признал и принял неизбежность этого, а она нет.
– Да пожалуйста, – сказал я. – Можете не ходить.
По ее молчанию я понял, что она все равно пойдет.
Дальше надо было снова опросить Муа, хотя я с досадой отметил, что он ничуть не бодрее, чем минувшей ночью. День предстоял утомительный.
– Муа, – сказал я ему, – где мы?
Таллент перевел.
Он посмеялся – дурацкий вопрос.
– На Иву’иву.
– Да, – кивнул я, – но где? – Я протянул ему ветку. – Можешь нарисовать, в какой мы части острова?
Но он только смотрел на меня с разинутым ртом.
Я задумался. Самодовольство Эсме почти физически обжигало меня. И тогда я понял, что надо попробовать.
– Муа, – сказал я, – мне нужна твоя помощь. – Он взглянул на меня. – Будет еще одна вака’ина, и нам нужно найти опа’иву’экэ. Ты поможешь нам?
– Чья? – резонно спросил Муа.
– Его, – ответил я, кивнув в сторону Таллента.
– А, – сказал Муа, величественно кивая. А потом он встал и двинулся в направлении деревни.
Вот так просто? Видимо, да. Это, подумал я, одна из сложностей работы со сновидцами, зависимости от них в поиске ответов и направлений: иногда они упирались, упрямо следуя некой логике, которую только они понимали и уважали, а иногда не замечали чего-то совершенно очевидного. Талленту явно не было шестидесяти, как, впрочем, и мне, но вот, пожалуйста: мы оправлялись на поиски черепашьего озера, как веселые путники в бардовской саге. Может быть, дело было не в забывчивости, может быть, они просто видели все иначе. А может быть, они ничего не видели; если им говорили, что кому-то шестьдесят, значит, ему шестьдесят, других доказательств не требовалось. Эти зыбучие пески их логики весьма утомляли, особенно из-за того, что применялась она непоследовательно и непредсказуемо.
В тени деревьев мы впятером шли вдоль края деревни; Фа’а отбежал назад сказать Ту и Уве, чтобы они следили за сновидцами, и снова нас догнал, а мы добрались до девятой хижины, и Муа прошел позади нее, слегка нахмурившись, разглядывая окружающий лес. Тут он хмыкнул, словно что-то узнав, и повел нас к огромному стволу манамы, за которым скрывалась нехоженая каменистая тропинка, постепенно, почти незаметно поднимавшаяся в гору.
Приятно было снова идти после долгого заточения в деревне. Воздух был теплый, земля дышала уютным бисквитным запахом, и никто из нас не нес ничего тяжелее блокнотов и ручек; я заметил, что по ходу нашего движения Таллент набрасывает грубую, очень приблизительную карту.
Продвижение не составляло труда, но не сбиться с пути мы бы не смогли, если бы не Муа. Иногда тропинка полностью исчезала, иногда превращалась в какую-то асфальтированную дорогу из ослино-серого камня, в котором виднелись многочисленные останки белых меловых ископаемых. Я опознавал изысканные панцири насекомых с ногами тоньше ниток, складчатые спины скорпионов и многих других созданий, которые в своем каменном обличье не походили ни на что виденное прежде. Муа тоже, судя по всему, получал удовольствие от прогулки и на ходу напевал некую условную, неопределенную мелодию. Глядя, как он пробирается сквозь заросли и пучки папоротника, я в очередной раз убеждался в его великолепном физическом состоянии – со спины ему нельзя было дать больше тридцати лет.
Растительность вокруг нас то становилась гуще, то редела, и иногда мы попадали в темноту, в плотный кокон зеленого и черного, а иногда оказывались в пейзаже, напоминавшем луг, с огромными пламенеющими пространствами разлапистых желтых кустов и немногочисленными стройными деревьями, чьи ветви были богато украшены взлохмаченной тканью листьев. На этих лугах мы видели небо у себя над головами, небо болезненно яркого синего цвета, и слышали повсюду вокруг клекот, шуршание, механическое тиканье целых колоний насекомых. Я осознал, что до этого мы томились в древесной тюрьме, что деревья были нашими стражниками, и понял, что именно они к нам не допускали – свет, ветер, воздух, звук, пространство; то, к чему стремится каждое живое существо на земле.
До такой степени я отдался этим знакомым, давно позабытым ощущениям, что поначалу не заметил, как Муа замедлил движение, а идущий рядом Фа’а совсем остановился. После очередного древесного чистилища мы вошли в еще одно луговое пространство, пятое или шестое по счету, – и тут перед собой, ярдах в пятистах, я увидел сверкающее озеро. Какое-то мгновение я не мог поверить, что оно существует. Не потому, что оно было очень большим (оно занимало примерно столько же пространства, сколько деревня), или очень красивым, или каким-то еще, а просто потому, что оно было. Точно так же, как я почти забыл, что такое быть на солнце – в настоящем солнечном свете, а не в той тюремной порции, какую каждый день выдавали нам вершины деревьев, – я забыл и каково видеть ограниченное водное пространство, которое не волнуется постоянным движением, а просто живет. Мне хотелось вбежать в него, почувствовать, как расходится его гладь, но, конечно, я этого не сделал.
– Опа’иву’экэ, – деловито сказал Муа.
Мы присмотрелись. Вокруг озера ничего не росло: ни тростника, ни деревьев, ни кустарников. Его границы были такие же пустые и четкие, как границы деревни, и позже я гадал, не по образцу ли этого озера ее выстроили. Но подойдя ближе (мы бессознательно двигались все вместе, как единый организм, словно это могло защитить нас от чего-то неизвестного, но страшного), я увидел сгусток крошечных, прозрачных яиц, покрывающих водное пространство: кучка тут, кучка там, хрупкие и элегантные, как стекло.
Подойдя еще ближе, мы увидели, что это вовсе не яйца, а пузыри, и как раз когда первый из нас уже почти вскрикнул, из воды появилась первая черепашья голова с приоткрытым ртом, со складчатой шеей, тянущейся к солнцу, с закрытыми глазами. А потом еще и еще, пока мы не насчитали на поверхности озера семь опа’иву’экэ. Звука никакого не раздавалось, даже плеска воды, и когда они снова погрузились в воду, на смену им появилась другая группа, на этот раз из шести черепах, включая трех детенышей с головами не больше грецкого ореха. Они поднимались и опускались в этом простом и трогательно оркестрованном представлении, а мы стояли и глазели на них с расстояния всего в несколько ярдов. В этот момент я заметил, что жужжание насекомых сменилось низким пением Фа’а, тем же (видимо), которое сопровождало его последнее столкновение с живым опа’иву’экэ, крошечным существом, плывшим вниз по ручью в начале нашего пути.
– Хавана, – заметил Муа, глядя на озеро. Много.
Он сказал что-то еще, и Таллент перевел:
– Иногда их много, иногда мало.
Он снова обратился к Талленту, сказал что-то более пространное, и я видел, что Таллент мотает головой, а Муа настаивает, а Фа’а, забывшись, издает слабый вскрик.
Таллент посмотрел на нас с ужасом:
– Он говорит, чтобы я выбирал какого захочу, и он мне поможет его донести.
В моем сознании что-то начало проясняться.
– Спросите его, можно ли мне кого-нибудь выбрать.
Таллент спросил и повернулся ко мне, качая головой:
– Он говорит, что только люди, которым исполнилось шестьдесят о’ан, могут прикасаться к опа’иву’экэ.
– То есть вы можете, потому что вам якобы шестьдесят о’ан, и он тоже может, потому что он старше.
Рядом со мной Фа’а переступал с ноги на ногу, глядя в лесную глушь на другой стороне озера.
Таллент переспросил Муа и кивнул.
– Спросите его… спросите, что будет, если прикоснуться к опа’иву’экэ до того, как тебе исполнится шестьдесят о’ан.
Я сразу же увидел тревогу на лице Муа. Его ответ был длинным и, судя по всему, запутанным; Таллент нахмурился, пытаясь сосредоточиться на словах Муа. Пару раз он прерывал его и просил что-то уточнить, а Муа продолжал отвечать торопливо, размахивая руками.
– Он говорит, – сообщил Таллент, и я понял, что он возбужден, по тому, как он заставлял себя говорить медленно и четко, – я, может быть, ошибаюсь, но он говорит, что кто прикасается к опа’иву’экэ, навлекает на свое семейство великое проклятие. Кто-то из родственников преступника достигнет шестидесяти о’ан, съест опа’иву’экэ, но через некоторое время этот человек постепенно потеряет свою аму и превратится в мо’о куа’ау.
А потом он вдруг неожиданно улыбнулся мне, именно мне, яркой, сияющей улыбкой, и я понял, о чем он думает: о первой неделе на острове, когда он рассказал мне историю про охотника и миф о мо’о куа’ау, о существе, которое живет без любви, без речи, которого Фа’а видел в глухих лесах Иву’иву. Много десятилетий спустя, вдумываясь в случившееся, я понимаю, что его торжество – наше торжество – было преждевременным (в конце концов, мы понятия не имели, что все это значит), но в то мгновение это было безумное облегчение, особенно, надо думать, для него: он все-таки не сошел с ума. Он следовал за историей, и она оказалась – ну если не правдивой, то уж во всяком случае достоверной. На самом деле, конечно, надежность или убедительность случившегося была примерно такая же, как если бы мы бросились в Нью-Мексико, потому что там, по слухам, в одном небольшом городке живут пришельцы, а потом жители городка независимо от этого рассказа подтвердили бы нам, что и сами видели пришельцев, но в тот момент логика и разные ее требования были на некоторое время позабыты.
– Спросите его, – велел я, – что случается, когда становишься мо’о куа’ау.
Таллент спросил.
– Тебя изгоняют, – сообщил он.
– Спросите его, – продолжил я – не буду лукавить, я был возбужден не меньше Таллента, – был ли он изгнан.
Таллент спросил, и долго, не меньше трех минут, Муа ничего не говорил, только смотрел на озеро, где опа’иву’экэ продолжали свой простой авангардный танец. Когда он наконец открыл рот, я отметил не столько его ответ, сколько печальный, свистящий выдох, за который этот ответ уцепился, так что я знал, что он скажет, еще не услышав слово.
– Э, – сказал он. Да.
Вернувшись в деревню (которая теперь казалась безнадежно уединенной, лишенной воздуха, изолированной), я совершил свою тюремную прогулку по лесу, снова и снова огибая поляну, а потом отправился к своему дереву. Дерево, которое я уже стал считать своим, было манамой и отличалось от других разве что относительным одиночеством; вокруг него росло мало других деревьев, и я мог сидеть или даже лежать на густом мху, который окутывал ствол и защищал его. Чтобы добраться до дерева, я пятнадцать минут шагал на запад от нашего лагеря, а потом свернул направо возле орхидеи особенно зловещего вида – из ее желтоватых бутонов вылезали две длинные завивающиеся тычинки цвета свежей крови.
Усевшись под деревом, я задумался о том, что знаю. Во-первых, я знал, что у’ивцы считают опа’иву’экэ священным существом. Во-вторых, я знал, что прикасаться к нему нельзя, если тебе не исполнилось шестидесяти о’ан, а если исполнилось, то надо его съесть. В-третьих, я знал, что в ходе иву’ивской церемонии участвовать в поедании опа’иву’экэ дозволялось только тем, кому уже исполнилось шестьдесят о’ан. В-четвертых, я знал, что люди довольно редко достигают столь почтенного возраста – это доказывала вака’ина вождя, когда присоединиться к нему смог только один его советник. В-пятых, я знал, что Муа и всем его спутникам больше шестидесяти о’ан (насколько больше – я в тот момент решил не задумываться), и это означало, что все они ели опа’иву’экэ. И в-шестых – шестым было свидетельство Муа о проклятии: если кто-то прикасается к опа’иву’экэ раньше условленного времени, он обрекает кого-то из своего семейства на участь мо’о куа’ау и, следовательно, на изгнание.
Конечно, это было несложно, пока я всего лишь упорядочил информацию. Эсме и Таллент могли сделать то же самое. Вероятно, Эсме и Таллент уже это сделали. «Очевидно, – звучал у меня в ушах гнусавый голос Эсме, – дело в опа’иву’экэ». Но что это значит? Что, каждый, кто ел опа’иву’экэ, становится в конце концов мо’о куа’ау? И что это значит – стать мо’о куа’ау? Таллент перевел этот термин как «без голоса», но за исключением Евы все сновидцы могли разговаривать. Не всегда связно, безусловно, не всегда осмысленно, но могли. Так почему их изгнали? И если дело действительно в опа’иву’экэ, почему они продолжают его есть?
Вернувшись в лагерь, я поделился с Таллентом некоторыми своими выводами, хотя все подозрения высказать не мог, потому что к нам, тяжело дыша и шумно продираясь через кусты, приближалась Эсме. Таллент задумчиво нахмурился, и в конце концов было решено, что мне следует опросить вождя. Фа’а отправили в деревню, чтобы попросить о встрече.
В тот же вечер, когда деревенские жители поели, а несколько мужчин отправились охотиться на визгливых красноглазых летучих мышей, которых здесь любили жарить и есть, нас призвали к вождю. Мы снова оказались у костра, и снова вчетвером (хотя я попытался дать понять, что в присутствии Эсме нет необходимости, что оно даже может повредить; питая неприязнь к вождю после церемонии а’ина’ины, она может выказать свое недовольство и оскорбить его. Но она злобно глянула на меня и заявила, что вполне способна промолчать и пойдет с нами в любом случае). Напротив нас сидел вождь; с ним не было никого, кроме вепря, который снова приобрел свой обычный пыльный вид, на пожеванных концах его клыков темнела грязь. Он что-то жевал, и я не мог понять, что именно, но время от времени кусок трапезы, который он мусолил в пасти – маленькая трехпалая лапа, размером не больше ногтя, покрытая клочковатым мехом, – показывался между его зубами.
Я понимал, что логики в этом нет, но вглядывался в вождя, как будто ожидал какой-то перемены в его облике. В конце концов, я видел, как он участвует в двух грандиозных обрядах инициации, и казалось вполне естественным, что они должны были оставить какой-то заметный след на его внешности или поведении. И хотя ничего такого не наблюдалось, я заметил, что у него что-то надето на шее: ожерелье из переплетенных лиан, в центре которого висел осколок чего-то твердого и блестящего, тусклым пятном выделявшийся на фоне его кожи.
Некоторое время мы все сидели, снова вежливо и смущенно молчали, и ни они, ни мы не были готовы начать. Наконец Таллент заговорил, и вождь ему кивнул.
– Я сказал, что для нас большая честь – побывать гостями на его вака’ине, – сказал нам Таллент.
– Да, – сказал вождь.
Мы снова замолчали.
– Вождь, – сказал я, и увидел, как сначала его голова, а потом голова его вепря медленно развернулись в мою сторону, – здесь часто отмечают вака’ину?
– Нет, конечно, – сказал вождь (разумеется, все это переводил Таллент).
– Когда отметили прошлую?
– Три о’аны назад. Это была вака’ина Лава’экэ.
Его голос звучал неожиданно мягко. В одной руке он держал копье, другой гладил своего вепря длинными, плавными движениями, и зверь издавал довольное урчание. Я увидел, что Таллент пишет в своем блокноте: «Лава’экэ – прим. 63 о’аны?»
– Лава’экэ – это тот, кто ел с вами на вашей вака’ине?
– Э.
– А на вака’ине Лава’экэ кто-нибудь еще вместе с ним ел опа’иву’экэ?
– Э.
– Кто?
– Еще три человека.
– Можно нам с ними поговорить?
– Их больше здесь нет.
– Они умерли?
– Нет, не умерли.
Я не знал, как продолжить.
– А где же они?
– Не здесь.
– Где не здесь?
Он махнул свободной рукой, подняв ее с головы вепря и указав на окрестный лес.
– Не здесь.
– Когда они ушли?
Он склонил голову набок, задумавшись.
– Примерно одну о’ану назад.
– А почему они ушли?
– Потому что становились мо’о куа’ау.
Я почувствовал, как Таллент напрягся, услышал, как изменилось его дыхание.
– Как вы поняли, что они становятся мо’о куа’ау?
– Я видел, что они меняются. Мы все видели, что они меняются.
– Как выглядят эти изменения?
– Сначала они забывали что-то сделать. Они шли в лес на охоту и не возвращались. Забывали взять с собой копья. Швыряли куда-то копья, а потом возвращались без них, и нам приходилось прочесывать лес, чтобы их отыскать. Потом они начинали рассказывать снова и снова одно и то же. Иногда в их речи не было смысла. Тогда мы поняли, что они прокляты и скоро станут мо’о куа’ау.
– И что же случилось?
– Наши лучшие охотники отвели их в глубь леса, дальше, чем когда-либо ходили, и оставили их там. Охотники шли назад к нам много дней. Прежде чем те ушли, мы напомнили им, что они прокляты, что они не могут оставаться в деревне, потому что становятся мо’о куа’ау.
Мы все затихли.
– Вы видели их потом?
Он издал неожиданный резкий звук, как будто две деревянные ложки ударились друг о друга, и в этом звуке я позже опознал смех; потом он поднял подбородок в направлении сновидцев.
– Э.
– Сновидцы? – с удивлением спросила Эсме, и вождь взглянул на нее, и она покраснела.
– Кто из них? – спросил я вождя.
– Муа, – ответил он, и я расслышал отвращение в его голосе.
– Муа, значит, был одним из тех, кого вы год назад отвели в лес, – сказал я.
– Не я. Другие.
– Понятно. Но вы кого-нибудь еще из них узнаете? – спросил я. – Тех двух человек, которым пришлось уйти?
Он посмотрел в их сторону, хотя если зрение у него было такое же плохое, как у Фа’а и остальных, сомневаюсь, что он мог вообще их разглядеть, не то что различить лица.
– Нет, – сказал он.
– Нет? – переспросил я. – Других не узнаете? Иваиву, Ва’ану? Укави, Вану?
Он глядел на меня бесстрастным взглядом:
– Нет.
– Нет, это не те, кого увели, или нет, не узнаете?
Он чуть шевельнулся.
– Это не те, кого увели.
«Ага, – подумал я. – Он таки их знает».
– Значит, – продолжил я, на этот раз медленно и четко, – о’ану назад охотники отвели Муа и еще двух человек, которые становились мо’о куа’ау, в глубь леса, но единственный, кого вы недавно видели из этих троих, – Муа, так?
– Э, – ответил он с явным нетерпением.
– А что случилось с остальными?
Он склонил голову набок, что я начал распознавать как признак задумчивости, но при этом и как что-то вроде пожимания плечами.
– Не знаю, – сказал он.
– Ваш отец, – начал я и остановился. Вождь ждал. – Ваш отец, – сказал я, – он праздновал свою вака’ину?
– Нет, – сразу же ответил он. – Я первый в своей семье. Но отец Лава’экэ праздновал.
– Где он?
– Он здесь.
– Здесь? – Я огляделся, как будто отец Лава’экэ должен был в этот момент вылезти из мясной ямы или направиться в нашу сторону. – Почему он не был у вас на вака’ине?
– Он нездоров.
– Нездоров? Что с ним?
Вождь вздохнул, и мне показалось – хотя распознать это было непросто, – что плоская, неприступная поверхность его лица выражает скорбь или, может быть, сожаление.
– Он стал мо’о куа’ау.
– То есть… то есть его придется увести отсюда?
– Э.
– Когда он стал мо’о куа’ау?
Он снова склонил голову набок.
– Некоторое время назад. Сначала понемногу. Но сейчас он на самом деле мо’о куа’ау.
– Но вы держали его здесь?
Он сделал причудливый жест головой, словно бы мотнул ей в сторону.
– Он отец Лава’экэ, – сказал он после долгой паузы.
Мы снова замолчали.
– Когда он справлял свою вака’ину?
Он задумался.
– Я был ребенком, – сказал он наконец. – Вскоре после моей а’ина’ины. – Он вдруг улыбнулся, и я увидел, что зубы у него во рту – такие же потемневшие щепки, как у Фа’а. – Он был мой начинатель.
Я почувствовал, даже не глядя, что на этих словах Эсме сжалась.
Я не знал, как Таллент отнесется к моему следующему вопросу, и действительно, он сделал паузу и бросил на меня быстрый взгляд, прежде чем перевести.
– Мы можем его увидеть?
Вождь замолчал так надолго, что я забеспокоился, не обидел ли я его в самом деле, и некоторое время слышно было только чавканье вепря, который продолжал упорно дожевывать останки какого-то несчастного существа, и далекие визги детей, перемежающиеся гортанными криками женщин. Но потом вождь хмыкнул и встал на ноги, и мы последовали за ним и его переваливающимся вепрем через деревню к задней стороне девятой хижины, к той самой манаме, за которой начиналась тайная тропа.
Только на этот раз к дереву куском толстой пальмовой косы – коротким и прочным, с петлей на конце, которую, как мне казалось, при необходимости накидывают на вепрей, – был привязан мужчина. Был ли он похож на Лава’экэ? Наверное, хотя мне было довольно трудно вспомнить, как выглядит Лава’экэ и чем именно он отличается, например, от вождя (хотя я вроде бы припоминал, что он ниже ростом). Бесспорно, он не выглядел намного старше вождя – ну разве что кожа у него была более мучнистая, слегка рыхлая, хотя это могло быть следствием жары, избытка воды, недостатка воды или дюжины еще каких-то причин, – и копье у него тоже было при себе, и огромная шевелюра и, как у вождя, кожаный шнур вокруг шеи, на котором поблескивало несколько каменных осколков[45].
Мы стояли полукругом возле отца Лава’экэ и смотрели, как он спит. Какая-то мошка летала над его открытым ртом, с каждым кругом подлетая все ближе, как будто играла сама с собой. За моей спиной Таллент что-то тихо спрашивал у вождя, и вождь коротко отвечал. Если вождь не ошибался, отцу Лава’экэ было около ста десяти лет.
Вернувшись в наш лагерь, я задумался. (Посмотрели мы несколько минут на отца Лава’экэ, а дальше делать вроде бы было и нечего – вождь не хотел его будить: когда я протянул руку, чтобы растолкать спящего, он что-то сказал тоном, который даже я не мог проигнорировать, так что мы вернулись на разные стороны поляны.) Я попросил Фа’а привести мне Муа, и вот он вышел из мрака, ведя Муа за руку; тот зевал и шатался, а лицо Фа’а, обычно непроницаемое, выражало крайнее неодобрение. Таллент, сидевший рядом, вздохнул. Эсме, слава богу, была на реке.
– Муа, – начал я строгим голосом – хотя в этом не было необходимости, он послушно отвечал на любой поставленный вопрос, – это очень важно. Ты ведь когда-то знал вождя, верно?
Он пялился на меня.
– Не бойся, – сказал я. – Вождь велел, чтобы ты мне все сказал.
Можно было подумать, будто я обещаю, что он будет питаться одним «Спамом» до конца своих дней, так мгновенно его лицо преобразилось в гримасу радости, и Таллент бросил на меня предупреждающий взгляд, прежде чем перевести его ответ:
– Правда?
– Конечно, – ответил я с беззаботной и бездумной жестокостью. – Он велел, чтобы ты мне все рассказал.
Тогда он вытянул шею, словно прямо за моей спиной готовился увидеть благословляющего его вождя, но, конечно, уже стемнело, и вождя нигде не было видно.
– Мы были друзьями, – сказал он, снова помрачнев.
– День, когда тебя отвели в лес, – ты это помнишь?
Он выдохнул:
– Да. Они отвели нас очень, очень далеко и там оставили. Им пришлось так сделать.
– Когда это произошло?
Он помотал головой:
– Не знаю.
Ладно, подумал я.
– Два человека, с которыми тебя отвели, – это были мужчины или женщины?
– Мужчины.
– Они здесь? Среди вас?
Он снова шумно выдохнул. Я начал замечать, что, как и вождю, ему надоедают мои расспросы. Но в то время как нетерпение вождя, по моему ощущению, произрастало из чего-то вроде усталости от предложенной темы – не говоря о настороженности, – чувства Муа казались иными: он ждал, что я задам правильный вопрос, после чего он сможет рассказать мне (и расскажет) все, что я хочу узнать, все, что он хочет сказать. Но пока он отвечал только «нет».
Процесс все тянулся, я снова и снова задавал неверные (по-видимому) вопросы, Муа едва-едва на них отвечал, и только позже, глубокой ночью, когда я уселся рядом с Таллентом и мы стали разбираться в его заметках, из скопившейся информации стала вырисовываться история.
Однажды ночью – Муа, как я уже отметил, не знал, когда именно, но если верить вождю, примерно о’ану назад – охотники отвели Муа и еще двух мужчин в лес. Все они знали, что это произойдет, все этого ждали. Когда Муа был моложе, он видел, как мужчин и женщин, которые постепенно становились мо’о куа’ау, отводили в лес, всегда глубокой ночью, всегда в сопровождении лучших охотников деревни. Почти про всех своих спутников, кроме Ика’аны, Ви’иу и Евы, он помнил, как их отводили в лес.
Они шли в глубь леса всю ночь, день и еще одну ночь, и в эту вторую ночь Муа почувствовал, как воздух вокруг становится свежее и прозрачнее, и понял, что рассветает. Каждый из них нес тяжелый сверток еды в пальмовых листьях, привязанный к копью, и хотя еду можно было взять, копья им пришлось отдать охотникам. Они знали, что у них отнимут копья, ведь мо’о куа’ау не совсем человек и поэтому не имеет права носить копье. Но когда этот миг наступил, один из спутников Муа воспротивился.
– Он не хотел, – вспоминал Муа.
Охотники приказывали ему, угрожали собственными копьями, а потом просто напали на него, пытаясь вырвать копье у него из рук. Ведь это были лучшие охотники деревни.
Но тот человек, хоть и мо’о куа’ау, был по-прежнему силен и сопротивлялся. Много лет назад, сказал Муа, его самого выбрали одним из тех, кто должен был отвести группу мо’о куа’ау в лес. Охотники нападали на него с копьями наперевес, но он избегал их ударов, перепрыгивая с места на место, а потом, когда даже Муа видел, что он устал, повернулся и помчался в лес, по-прежнему не выпуская копья из рук.
Один из охотников бросился за ним, но другой его удержал.
– Брось, – сказал он. – Он потеряется, и все. Он не найдет обратного пути.
А потом, не сказав больше ни слова, они ушли, унося свои копья и еще два.
– Мне было очень грустно, – сказал Муа, – потому что это были мои друзья. Я сражался с ними, охотился с ними, они все были на моей вака’ине, а теперь уходили, даже не попрощавшись. Но я понимал, что так все и должно быть.
– Они ели опа’иву’экэ на твоей вака’ине? – спросил я.
Он помотал головой.
– Им было гораздо меньше о’ан, чем мне, – сказал он.
– Ты видел их в деревне?
– Нет. Они умерли.
Он произнес это с такой яростной уверенностью, что мы удивились.
– Откуда ты знаешь?
Он пожал плечами и сказал только:
– Я знаю. – А потом завел свою песню: – Хэ кака’а, хэ кака’а. – Я устал, я устал.
– Погоди, – с мольбой обратился я к нему и к Фа’а, который уже стоял рядом, готовый отвести Муа к остальным. – Муа, что случилось с тобой и остальными мо’о куа’ау?
Он вздохнул:
– Мы шли и шли. Съедали наши запасы. Иногда ловили что-нибудь, чтобы съесть, но без копий это было непросто. Потом дошли до ручья, очень глубокого, очень быстрого, и там долго оставались. Там вокруг деревьев росли разные растения, и мы их ели. Мой спутник становился с каждым днем все больше мо’о куа’ау – он все забывал, и мне приходилось следить за ним, как за ребенком. Все дела приходилось делать мне. Однажды я пошел искать нам еду, а когда вернулся, он был мертв.
– Как он умер? – тихо спросил Таллент.
– Он был в реке, – сказал Муа и помотал головой. – Он забыл попросить разрешения, когда захотел пить, и река задушила его, и он умер.
Мы снова затихли.
– И что ты сделал? – спросил я.
– Я ушел.
– Ты потом встретил другого человека, того, кто убежал от охотников?
– Нет, – ответил он. – Но он тоже становился все больше мо’о куа’ау, и я думаю, что он тоже, наверное, умер.
– Умер как?
– Может быть, упал? Или тоже забыл попросить разрешения, когда пил, был проклят и убит.
– Но как ты тогда встретил – я указал рукой в сторону группы – всех остальных?
– А, – сказал Муа. – Ну я шел и шел, иногда находил еду, а иногда нет, потом однажды встретил кого-то из них, а потом остальных, и тогда мы стали охотиться вместе и есть вместе и сражаться с другими, когда приходилось.
Я почувствовал, что Таллент смотрит на меня.
– С какими другими? – спросил я.
– С другими, – сказал он с некоторым раздражением. – С другими в лесу.
– С охотниками?
– Нет, нет, не с охотниками – с мо’о куа’ау.
– Там есть другие?
– Конечно.
– Сколько? Где они? Почему вы не стали с ними говорить? Почему вы сражались? Почему…
– Хэ кака’а, хэ кака’а, – затянул он почти издевательски, словно знал, как мне хочется услышать ответ, и Фа’а решительно встал.
– Погоди, – сказал я ему, и на этот раз Фа’а, который никогда никому из нас не противоречил, отрицательно помотал головой, и мы все замолкли.
– Таллент, – прошипел я, глядя им вслед, – мы должны в этом разобраться немедленно.
– Мы должны с этим разобраться завтра, – встряла Эсме с видом слишком уверенным на мой вкус (к сожалению, она вернулась с ручья как раз вовремя, чтобы вмешаться в происходящее).
– Завтра, – согласился Таллент. – Уже поздно.
И хотя раньше я этого не замечал – мы быстро приспособились к деревенскому расписанию, – но тут заметил, что действительно очень поздно и вокруг все полностью затихло, так что, кроме наших собственных голосов, кроме близкого сопения и храпа сновидцев, слышен был только неумолчный треск костра, горевшего в безмолвном воздухе.
На следующее утро я проснулся с пересохшим от ненависти ртом. Господи, как мне надоели сновидцы. Я ненавидел их, ненавидел издевательски скупые обрывки информации, ненавидел их дурацкие плоские лица, глупые глаза, свалявшиеся волосы, неуклюжие тела, сбивчивую память, однообразный разговор. Я ненавидел их деревню, их остров, их погоду (жара к этому моменту стала такой гнетущей, что мы спали большую часть дня, и я сокрушался, что у меня нет хвоста, как у хряков, чтобы отгонять вездесущих мошек, комаров, блох, клещей, жуков, муравьев, ос, пчел, стрекоз, которые роились вокруг нас круглые сутки, не отступая, не ослабляя напора), и их шевелящиеся плоды, и их бесконечные мясные запасы (из которых нам не предложили ни крошки), и их родню с ревущими детьми, ворчливыми женщинами, молчаливыми мужчинами. Я ненавидел редкий ветер, который изредка поднимался, но удовлетворения не приносил – то, что должно было радовать постоянством и обилием, превращалось в нечто редкое и капризное. Я ненавидел навязанный Таллентом запрет ходить одному по тропе в поля – и почему он не объяснял мне этот запрет, и почему я не мог взять Муа, чтобы тот показал мне дорогу… Я ненавидел ленивцев, которые так безропотно соглашались на смерть, ненавидел их тихие, жалкие голоса, ненавидел, как вепри облизывают их шкуры, лениво, как будто лижут эскимо. Я ненавидел Таллента, ненавидел Эсме, ненавидел проводников и особенно сильно ненавидел Муа и вождя, которые, как я подозревал, могли решить все наши проблемы, если бы захотели, но почему-то – от скуки? для забавы? кто их разберет? – предпочитали этого не делать.
Но тем не менее я оказался в заточении на этом острове (я понимал, что Таллент теперь ни за что не уедет, подойдя так близко к разгадке чего-то важного) и выпутаться мог, только решив эту задачу.
На то, что может показаться моими капризами, влияли, надо сказать, и другие факторы. В течение последней недели я стал замечать, что деревня разрывается от какой-то избыточной сексуальной активности. Происходило ли что-то необычное или я просто стал обращать на это внимание – я определить не мог, но каждый день соитий случалось столько, что я, кому ничто человеческое не чуждо, начал ощущать некоторое давление. Пройти сквозь деревню значило встретить парочку, колотящуюся друг о друга клейкими телами, сцепившуюся всего в нескольких дюймах от костра, стонущую, как вепри. Даже в сновидцах что-то пробудилось, и теперь я часто засыпал под хор стонов, которые в какой-то вечер оказались такими шумными, что я в конце концов встал и отправился на разведку: да, они терлись друг о друга своей отвратительной отвислой кожей, царапались, ласкались несуразными, неловкими движениями. Мое присутствие их нисколько не смутило, и когда от отчаяния я запустил в них манамой, чтобы они замолчали, пауза продлилась считанные секунды, и я услышал, как манама почти беззвучно погружается в почву под весом чьей-то спины.
Возвращаясь к своей циновке, я заметил еще кое-что: ни Таллента, ни Эсме не было на месте. Циновки их лежали где обычно, но их самих не было.
– Эсме? – тихо позвал я. – Таллент?
Но никто мне не ответил.
Самые ужасные картины немедленно заполнили мое воображение. Я увидел Эсме, прижатую спиной к дереву, увидел, как Таллент обнимает ее, как ее уродливый рот раскрывается, словно у жадного карпа, как беспорядочная избыточность ее форм – обширные бедра, выступающий живот, сморщенные, рябые ляжки, кудрявый одуванчик шевелюры – отвратительным фоном оттеняет элегантную строгость его тела.
Мне обидно признаться, но это оказалось мучительно. Не знать было невыносимо; знать – тоже. Тем не менее я обнаружил, что брожу по расширяющимся концентрическим окружностям вокруг деревни, на каждом завитке уходя все глубже в лес, и тихо выкликаю их имена на каждом повороте. Куда они могли деться? На седьмом завитке я даже попытался пройти по тропинке за девятой хижиной так далеко, насколько это было возможно, пока под шапкой мха она не стала теряться из виду и мне не пришлось отступить обратно, в низину. Ужас нового открытия стал уступать место другим опасениям. Куда в нашей маленькой вселенной они могли уйти так, что мне не удается их отыскать? Это что, происходило регулярно? И – эта мысль пришла позже других, но напугала больше всего – не означает ли их исчезновение, что я остался один, что могу теперь обращаться с несколькими фразами по-английски только к Фа’а, что отныне я отвечаю за сновидцев?
Погруженный в эти мысли (я только позже понял, что бежал, вытянув перед собой руки, как зомби, чтобы не наткнуться на невидимое дерево), я натолкнулся на мальчика. Я находился в глубине леса, на расстоянии, наверное, девяти колец от деревни, и поначалу принял его за вепря – ведь он стоял ко мне спиной возле дерева, и когда мои пальцы прикоснулись к его жесткой шевелюре, я решил, что это шкура, и негромко вскрикнул от страха и удивления.
Он тоже вскрикнул, но, мне кажется, лишь для того, чтобы ответить, потому что когда я склонился к нему – в кроне над нами была прореха, и через нее проникало немного лунного света, достаточно, чтобы различить его черты, – он выглядел спокойным и встретил мой взгляд без страха и подозрения.
Я сразу понял, что это мальчик с первой а’ина’ины. Как я уже говорил, он был исключительно красив – стройный, хорошо сложенный, удивительно ловкий; но больше всего в нем поражал упорный взгляд, который я чувствовал на себе, хотя при слабом освещении почти не видел.
Встретить его здесь, в глубине леса, было странно – он держался так тихо, как будто ждал, что я его найду, хотя так, конечно, быть не могло.
– Что ты здесь делаешь? – тихо спросил я его, хотя он не мог меня понять и поэтому ничего не сказал.
– Как тебя зовут? – Но и на это, конечно, ответа не последовало.
Я показал на себя:
– Нортон. – Потом показал на него: а ты? Но он только наклонил голову, как делал вождь, а потом опять посмотрел прямо на меня.
– Поздно уже, – сказал я ему. – Тебе разве не пора домой?
Но тут, прежде чем я успел что-нибудь еще произнести, он прикоснулся ладонью к моему лицу. Это был такой странный жест, такой отчаянно доверительный и взрослый – жалостливый, мудрый, даже материнский, – что я едва удержал слезы. В то мгновение мне показалось, что он предлагает мне сочувствие, которого я, сам того не подозревая, ищу, и, ощущая его горячую, сухую ладонь на своей щеке – ладонь мальчика, оказавшуюся, когда я позже изучил ее, липкой, грязноватой, в мелких царапинах, но в сущности мягкой и какой-то невинной, – я ощутил все несчастливое одиночество последних нескольких дней, последних четырех месяцев, последних двадцати пяти лет, навалившееся на меня огромной костлявой тушей.
Казалось, мы провели в этом положении долгое время: я – болезненно согнувшись, он – передо мной, обхватив ладонью мою щеку. Луна над нами скрылась за облаком, и в тот момент, когда свет исчез, он потянулся вниз, взял мою руку и торжественно возложил ее на свой пах.
Я сразу же убрал руку. Тьма в этот момент была так глубока, что я видел только его глаза (а он мои) и в них не мог прочитать ничего ожидаемого: ничего хитрого или интригующего, ничего жадного или изощренного, ничего голодного или лихорадочного. Не знаю, как это лучше объяснить; не хочу впадать в сентиментальность и утверждать, что в них светилась мудрость или какое-то особое знание, но будет справедливо сказать, что в них виделась как минимум некая серьезность.
«Меня околдовали», – думал я, пока движения продолжались, и моя рука казалась почти отдельной от тела, как парящая белая птица, которая по своей воле движется сквозь тьму. Тогда мальчик сменил позу, лег у подножия дерева и потянул меня за другую руку.
«О Таллент, – думал я. – О Эсме, спасите меня. Меня захватили в плен. Меня околдовали». Не исключено, что я даже произнес это вслух. Но они, конечно, не появились, и лес оставался тих, и единственным звуком в нем было дыхание мальчика, пока его лицо прояснялось и расплывалось в тумане, а луна показывалась и снова скрывалась в своей бесконечной любовной игре с каким-то невидимым поклонником.
4
Разговоры с Муа не давали мне покоя, особенно последний. Почему он мо’о куа’ау? Что сделало его таким? Да, он забывчив, да, он повторяет одно и то же, и да, он порой весьма туп (я не передаю здесь многочисленные тоскливые и одинаковые беседы, которые мы с Муа вели на протяжении месяцев), и да, его краткосрочная память чудовищна (на следующий день после нашей вылазки к озеру опа’иву’экэ я задал ему какой-то вопрос, и оказалось, что он не помнит об этом походе, а моя настойчивость его напугала и встревожила), но долгосрочная память у него прекрасная, а устойчивостью внимания восхищаться трудно, но она все же не хуже, чем у ребенка. Конечно, в сочетании все это крайне трудноуправляемо, но неужели дела в самом деле обстоят настолько плохо? Неужели его следовало бросить в лесу просто потому, что он забывчив и повторяется?
Я составлял список приблизительного возраста сновидцев и теперь разделил его на две графы: в одну записал тех, кого в деревне, видимо, знали, в другую – тех, кого, видимо, не знали.
Знают Не знают
Муа (примерно 104 года) Ева (?)
Вану (отец Муа, прим. 131 год) Ви’иу (?)
Иваива и Ва’ана (сестры, ок. 133) Ика’ана (ок. 176 лет)
Укави (прим. 108–109 лет)
Если не считать отца Лава’экэ, вождь и Лава’экэ были самыми старыми людьми в деревне. В последующих разговорах они оба достоверно подтвердили, что знают Муа, Вану, Иваиву, Ва’ану и Укави и помнят, как их отводили в лес. Но как мы ни старались, мы не могли заставить их вспомнить Еву, Ви’иу или Ика’ану. Эсме, разумеется, сочла их неведение притворством. «Конечно, они их знают», – утверждала она. При этом она не смогла объяснить, какая им польза от сокрытия информации. «У них есть на то свои причины», – твердила она; заговоры виделись ей и в этой примитивной цивилизации, члены которой не старались скрыть даже тот факт, что бросали своих стариков, как только те начинали путаться в неясных поведенческих практиках, управлявших их обществом.
Я же считал, что объяснение гораздо проще: разумеется, Лава’экэ и вождь не знают трех сновидцев, потому что те очень старые и их изгнали, когда обоим было слишком мало лет, чтобы что-то помнить. С Ика’аной все сходилось: если сейчас ему сто семьдесят шесть и он начал становиться мо’о куа’ау, скажем, лет в сто десять, его отвели в лес задолго до рождения обоих.
Ви’иу и Ева оставались загадкой. Я предполагал, что Ви’иу младше Ика’аны, хотя, возможно, ненамного. Например, он, видимо, еще не родился к моменту Ка-Вехи, хотя, упоминая о землетрясении, он умудренно кивал, как человек, который так часто слышал о каком-то событии, что его собственное неучастие в нем почти забылось. Однако поражение было существенным, в этом не могло быть никакого сомнения; я хорошо помнил, какие результаты он показал на простейших неврологических тестах, как не мог определить никакие предметы, выложенные перед ним, как отвлекался в ту же секунду, когда я обращался к нему.
Кроме того, у нас была Ева, и это представляло отдельную проблему. Даже среди сновидцев она оставалась уникальной. Сколько всего она не могла! Она не могла разговаривать, не могла слушать, не могла общаться с остальными, у нее не было стыда, манер, застенчивости, логики. Часто, наблюдая за ней на расстоянии, я думал, что смотрю на что-то неодушевленное, что незаконно оживили: она шаталась вокруг, покрикивала, когда ей хотелось, запихивала разные вещи себе в рот, изучала несущественное, пренебрегала удивительным. Цвет и неуклюжая форма придавали ей сходство с каким-то бататом, который водрузили на две ноги и швырнули в нашу среду. Жизнью это не называлось – просто она дышала, вздыхала и ела.
И вдруг я понял – вот что значит быть мо’о куа’ау. Вот чего они все боятся; вот каков конец этой истории. Я отлистал страницы блокнота в поисках определения мо’о куа’ау, которое дал Таллент и которое я записал после нашего разговора уже столько месяцев назад – «нормальные с виду, но неспособные на осмысленный разговор. Могут только трястись и лопотать и смеяться в пустоту лающим смехом душевнобольных», – и понял: Ева была полноценной, окончательной мо’о куа’ау. Она была тем, чем станут все остальные. Это зависело, понял я, только от прошедшего времени.
Я помчался обратно в лагерь.
– Отец Лава’экэ! – кричал я на бегу. Все, что нам нужно, – это обратиться к отцу Лава’экэ с просьбой опознать Ика’ану и Ви’иу, которые наверняка жили в деревне одновременно. Мы попросим его опознать и Еву, и если он не сможет этого сделать, мои подозрения подтвердятся: Ева такая старая, что даже Ика’ана и Ви’иу не помнят, как она жила в деревне. Это значит, что ей намного больше двухсот.
– Отец Лава’экэ! – крикнул я Талленту, который вместе с Фа’а вел нескольких сновидцев с ручья. Увидев меня, он препоручил их Фа’а и двинулся навстречу.
– Таллент, – выдохнул я, чувствуя широкую улыбку на своем лице, – нам надо поговорить с отцом Лава’экэ немедленно.
Может быть, он сказал «Нортон», но моя речь была бессвязно-быстрой, и он замолчал, чтобы выслушать мои теории, которые, я точно это знал, верны – никогда ни в чем, казалось, я не был так уверен, и это было восхитительное чувство. Восхитительное и при этом совершенно естественное, как будто я от природы имел на него право. Я поймал себя на мысли, что такой и должна быть моя жизнь – таким чувством, таким безудержным возбуждением.
– Нортон, – сказал наконец Таллент, когда я слегка утихомирился. – Отца Лава’экэ здесь больше нет. Прошлой ночью его отвели в лес.
Конечно, я был безутешен. Я бросался на Таллента и требовал, чтобы он привел мне вождя (для чего? Накричать на него? Отчитать?) или охотников, которые ушли в лес (и до сих пор еще не вернулись), чтобы мы одолжили одного из вепрей и вынюхали след отца Лава’экэ (я понятия не имел, умеют ли вепри что-нибудь в этом роде). Несправедливость случившегося глубоко меня задевала. Мы торчали в месте, где ничто – иногда в самом буквальном смысле – не происходило на протяжении многих дней, а потом, именно когда мне требовалось постоянство, все внезапно менялось.
В конце концов Таллент сумел убедить меня, что сделать ничего нельзя.
– Но мы все равно можем проверить вашу теорию, – рассудительно сказал он (не то чтобы я был настроен на рассудительность). – Если ваши предположения верны, Ика’ана должен помнить Еву.
– Почему? – мрачно спросил я.
– Потому что не может же она быть такой старой, чтобы уйти до рождения Ика’аны, – ответил он. – Тогда бы ей было сколько, почти триста лет? Это невозможно.
Он говорил с такой серьезной уверенностью, что я был готов расхохотаться. Как же быстро мы привыкли к этому абсурду, к миру, в котором триста лет невозможны, а сто семьдесят шесть – ничего! Кто же знает – может, вполне возможны и триста. Может быть, Еве триста, четыреста, пятьсот, тысяча лет. Может быть, ее изгнали задолго до Ка-Вехи, задолго до рождения Ика’аны, в такие давние времена, когда повсюду тысячами бродили гигантские опа’иву’экэ, когда окружающие нас деревья были девически нежными ростками, и с места, на котором мы стоим, ей в любую сторону открывалось голубое небо и голубое море, простирающееся перед ней бесконечными пространствами.
Впрочем, оказалось, что Таллент прав: Ика’ана действительно помнил Еву. Ее изгнали, когда он был мальчишкой, после Ка-Вехи (в этот момент ему было пять о’ан) но незадолго, считал он, до его а’ина’ины. Он не знал, сколько ей было лет в тот момент, но мы с Таллентом, опираясь на то, что знали про остальных, определили, что симптомы мо’о куа’аунности проявляются где-то между девяноста пятью и ста пятью годами. Даже если с Евой это произошло на раннем сроке, сейчас ей было никак не меньше двухсот пятидесяти. Как, хотелось мне спросить Таллента, такое вообще возможно?
У нее были дети, но никто из них, по словам Ика’аны, не дожил до шестидесяти о’ан, как и ее муж. Внуки у нее тоже были, но и они не дожили до бабушкиного возраста. В конце концов осталась одна Ева, которая одиноко жила в лесу больше столетия, бродила вверх и вниз по холмам, ела коренья и плоды манамы и что еще ей удавалось найти, в полном одиночестве, в мире одновременно устрашающе тесном и устрашающе огромном. Весь лес состоял из стай и колоний разных существ: в нем жили семейства вуак, с деревьев свисали гроздья плодов манамы, по нему бродили ленивцы и пауки, в нем поднимались заросли орхидей, у всех была своя компания. И Ева, которая ничего не искала, плыла по волнам моря, не помня, что ей когда-то было нужно, куда ей хотелось бы вернуться.
– Я удивился, когда она на нас наткнулась, – пробормотал Ика’ана, как обычно, уставившись в пустоту. – Я не вспоминал о ней много лет. Много, много лет. А потом я ее увидел и подумал: а, так это ты. Так оно и было.
– Ика’ана, – сказал я, стараясь, чтобы мой голос не звучал сердито, потому что это было бы несправедливо и, уж во всяком случае, бесполезно, – почему ты нам раньше этого не говорил?
И тут он посмотрел на меня.
– Вы не спрашивали, – ответил он.
Может быть, я добывал нужные мне сведения не так быстро, как надеялся, но (пытался я себя успокоить) каждое новое открытие подсказывало мне, на какой вопрос искать следующий ответ. Теперь у меня имелось некоторое представление о возрасте Евы и о том, что такое мо’о куа’ау. Дальнейшие расспросы Ика’аны показали, что немой от рождения Ева не была, а это означало, что ее молчание, ее поведение являлись признаками поражения мозга или долгого отсутствия социальных связей, а не какого-то врожденного заболевания.
Так начинала складываться теория, которая сейчас кажется такой очевидной, что и теорией-то мне называть ее неловко. Я исходил из предположения, что опа’иву’экэ вызывает некое… некое что? Заболевание? Превращение? Состояние, которое ведет к неестественно долгой жизни – к бессмертной жизни. Но это пародия на бессмертие, потому что хотя такой человек и остается физически заморожен в том возрасте, когда съел черепаху, с его рассудком этого не происходит. Все понемногу рушится – сначала память, потом социальные тонкости, потом восприятие чувств и, наконец, речь, пока не остается только тело. Разум пропадает, растерзанный долгими годами, его расщелины и обходные дороги обваливаются от работы, на много десятилетий превысившей расчетный срок. Мне привиделось, что мозг Евы – это такой солевой лизунец, поверхность которого стерта до чистоты и гладкости карандашного огрызка. Конечно, такая жизнь должна подойти к концу, у любой жизни есть конец. Но он, по всей видимости, приходит не просто от старости, а от болезни, от несчастного случая, от убийства.
Странное чувство – возвращаться к этому открытию в семьдесят четыре года. Когда тебе двадцать пять, такие понятия воспринимаются только с научной точки зрения. Можно сказать, что возраст – это не предмет, доступный для понимания, им озабочены лишь старики, а старик – любой, кто старше тебя самого. Это предмет без значения, предмет, вызывающий скуку, излюбленная жалоба неразумных, слабых и болтливых. Старея и наконец состарившись, я все чаще размышлял о судьбе сновидцев, и сейчас мне совершенно ясно, что она из себя представляет: это проклятие. Наступает мгновение – ко мне оно пришло, пожалуй, несколько лет назад, – когда, даже не осознавая этого, ты уже не мечтаешь о продолжении жизни, а смиряешься с ее концом. Это происходит так резко, что не возвращаться в мыслях к поворотному моменту невозможно, но вместе с тем так подспудно, как будто все происходит во сне.
Но тогда мои мысли не были загромождены подобными деталями, и я знал, какие именно две вещи мне предстоит сделать; к сожалению, обе были крайне непросты. Прежде всего кто-то из нас – я или Таллент – должен был съесть опа’иву’экэ. Конечно, решение не идеальное – я заранее понимал, какой это будет цирк и какие опасности с этим связаны, – но оно было необходимо для подтверждения ключевой роли опа’иву’экэ в заболевании. Потому что существовала вероятность (не очень высокая, но все же), что роль опа’иву’экэ не так существенна, как я предполагал, – вдруг речь все же шла о каком-то генетическом дефекте, свойственном именно иву’ивцам: если им удавалось преодолеть определенный возрастной предел, им гарантировалось что-то вроде вечной жизни. Во-вторых (что еще важнее), мне нужно было вытащить как минимум двух сновидцев с острова и доставить в нормальную лабораторию, где можно проводить исследования, анализ крови и так далее. Как к этому подступиться, я не представлял. Но без этого шага получалось, что мы потеряли – я потерял – впустую больше пяти месяцев, что казалось целой вечностью (ирония такого подхода от меня не ускользала). Без тщательного лабораторного исследования я оставался просто с набором сказок, а выдумки меня никогда не интересовали.
Я начал с задачи чуть менее сложной – заготовки опа’иву’экэ для последующих экспериментов. Таллент и Эсме, как и следовало ожидать, пришли в ужас от моих планов. Начался долгий и временами злобный спор, в ходе которого Таллент по крайней мере признал целесообразность, да и необходимость моих действий, но отказался в них участвовать из принципиальных соображений, что мне показалось довольно слабой и ленивой отговоркой. Эсме же отказалась даже признать такое действие очередным логическим этапом исследования. Я кричал, что они интеллектуальные трусы и сентименталисты. Она кричала в ответ, что я хладнокровное и наглое чудовище, что я вот-вот разрушу все, чего они с Таллентом стараются добиться.
– И чего ж ты стараешься добиться, Эсме?! – вопил я в ответ. – Описывать в подробностях людское говно – вряд ли такая уж полезная работа!
К этому моменту мы орали так громко, что несколько деревенских жителей подошли к границе своих владений и с некоторым веселым интересом за нами наблюдали, указывая на нас пальцами и со смешками перешептываясь между собой. Таллент попытался нас унять, но было слишком поздно. Припоминать это страшновато, зрелище было довольно позорное.
– Как ты смеешь меня унижать! Я хочу им помочь!
– Да ничего ты не хочешь им помочь! Хотела бы, делала бы что нужно!
– Это ты не хочешь им помогать! Для тебя они не лучше насекомых, тебе плевать, что ты уничтожишь по ходу дела!
– Да я вообще не собирался ехать! Я поехал, потому что вам это было нужно!
– Я и не хотела, чтоб ты ехал!
Ну да, спор зашел в подобные дебри и продолжал бы в них погружаться, если бы Таллент – впервые за все время, что я его знал, в настоящей ярости – не вклинился между нами во плоти.
– Вы оба ведете себя чудовищно, – сказал он бесстрастным голосом. – Эсме, отведите сновидцев к реке и дайте им попить. Нортон, – он с яростью посмотрел на меня, и я вдруг понял, как редко он просит меня возиться со сновидцами, только вместо облегчения почувствовал обиду: он что, мне не доверяет? – пойдите пройдитесь. Прекратите это отвратительное поведение немедленно, оба.
– А как же опа’иву’экэ? – прошептал я, с ненавистью отмечая в собственном голосе нотки умоляющего нытья.
– Нортон, – сказал Таллент, и мое имя прозвучало так, будто он зачитывает целую страницу, – я понимаю, почему вы хотите пойти на этот… этот… эксперимент. Погодите, – он поднял руку, потому что я собирался его перебить. – Боюсь, это невозможно. Невозможно по техническим причинам и, кроме того, попросту нежелательно. Позвольте вам напомнить, что мы здесь гости. Что мы пользуемся любезным приглашением вождя. Не забывайте об этом, Нортон. Не забывайте, что этими копьями протыкают не только ленивцев и вуак.
Я молчал, и он тоже замолчал, глядя мне в глаза.
– Обещайте мне, – в его голос уже возвращались привычная мягкость, бездонное спокойствие, – обещайте, что не пойдете мне наперекор.
– Не пойду, – пробубнил я.
– Нортон, – сказал он и молчал, пока я на него не взглянул. – Я предупреждаю вас. Есть способы проверить вашу теорию – но не так.
– Таллент, я понял, – сказал я, но мне было очевидно, что он ошибается. Не было других способов проверить мою теорию. И раз он отказывается помочь, придется сделать это самому.
Каждую ночь деревня ненадолго замирала: на протяжении часа или двух до рассвета время сна дневных охотников совпадало со временем сна ночных охотников, огонь почти догорал, и слышны были только мириады шорохов и кличей мириадов невидимых существ, ползающих по лесу в темноте.
Вечер выдался очень напряженный: сначала безмолвная трапеза с Таллентом и Эсме, потом все молча писали дневники, а затем так же молча развернули циновки. Позже я спрашивал себя, почему я решил, что действовать нужно немедленно, и, наверное, известная доля безрассудства в этом была, хотя я все-таки настаиваю, что немедленные действия были необходимы – надо было успеть до того, как я утрачу решимость, до того, как Таллент осознает неизбежность моих действий.
Убедившись, что все деревенские жители заснули – их храп эхом отдавался от древесных стволов, – я подполз к Муа. Я стащил фонарик Таллента из его рюкзака, пока он помогал купать сновидцев, хотя намеревался пользоваться им только при крайней необходимости. Но теперь включить его пришлось: мне нужно было найти Муа; они все спали как попало, в мешанине конечностей и волос, которая всегда выглядела и пахла грязновато, несмотря на ежедневные омовения.
Когда я его отыскал, он лежал возле Ика’аны, положив голову на спину Ви’иу, закинув одну руку на груди Иваивы. Я медленно склонился к нему и стал трясти.
– Муа, – прошептал я, когда он наконец-таки проснулся и хрюкнул, прорываясь сквозь несколько слоев сна, – мне нужна твоя помощь.
Тут-то я вспомнил, что он не говорит по-английски.
Я схватил с земли прут и нарисовал в грязи знак опа’иву’экэ – круг с пересекающей его чертой, – а потом ткнул пальцем в себя.
– Опа’иву’экэ, – сказал я для ясности, – вака’ина, – и снова показал на себя.
– А! – сказал он и присел.
Я подумал, что от ограниченности мышления сновидцев есть и кое-какая польза: они не требуют почти никаких объяснений. Даже если бы мы могли общаться, Муа не стал бы спрашивать меня, зачем я его бужу посреди ночи, почему опа’иву’экэ мне понадобился прямо сейчас. Он превращался в набор реакций, сформировавшихся за долгие годы, и хотя я прекрасно понимал, как опасен порой отказ от логики, в тот момент я был благодарен за такую особенность.
Мы обогнули деревню, прошли мимо вздыхающих во сне вепрей, мимо тихого посапывания и шороха мужчин, женщин и детей, по направлению к девятой хижине, а потом дальше, в джунгли, которые как будто проглотили Муа одним жадным движением. Света никакого не было, и на мгновение я утратил способность идти, меня охватил холодный, иррациональный ужас, я даже про фонарик забыл. Но тут Муа повернулся, тихонько приблизился, обнаружил меня и что-то сказал, чего я не мог понять, и повторял это снова и снова. Тогда я понял, что это напев, две фразы, которые он циклично повторяет, так что они перестают звучать как слова и превращаются во что-то бессмысленное, точно барабанный бой, и почувствовал, как мои ноги передвигаются, чтобы попасть в этот ритм.
С моей последней прогулки в джунглях, по крайней мере дальней и целенаправленной, прошло некоторое время, и хотя раньше я ощущал, что лес кипит бурной жизнью, теперь он виделся мне мертвым, обширным кладбищем деревьев, где нет больше ничего вообразимого. Не могу сказать, почему мне так показалось – может быть, потому, что я уже открыл самую главную его тайну и все остальное, что он мог преподнести, оказалось бы в сравнении с ней ничтожным и жалким.
Я следовал за голосом Муа, он повернул направо, и мы вдруг очутились в просвете, на маленьком плато, поднятым высоко над деревней; над нами простиралась остальная часть Иву’иву, его суровая и неприступная вершина. За нами был темный и тихий лес, а перед нами – крутой обрыв, та сторона острова, которая спускалась прямо к невидимому отсюда океану. Я как зачарованный двинулся к обрыву, пока Муа не вытянул руку, останавливая меня. «Эа», – сказал он – смотри, – и я поднял глаза; передо мной, надо мной, с обеих сторон от меня простиралось небо невероятного, безбрежного черного цвета, поверхность, инкрустированная блестками звезд, таких больших и ярких, что я видел их напряженное сияние, чувствовал ледяные облака пыли, что их окружают. Их было так много, что небо казалось скорее светлым, чем темным, скорее полным, чем пустым.
Я очень давно не видел звезд, и теперь, глядя на них и на бесконечное пространство неба, замыкавшее меня в объятие, я подумал об Оуэне, о том, где бы он мог быть. Все еще в Коннектикуте? Или уехал куда-то еще, как время от времени угрожал? И тогда я обнаружил, что плачу, и хотя я старался не издавать лишних звуков, мне стало как-то легче от этого особого, почти позабытого вкуса слез, который отдавался во рту соленым ароматом крови.
Муа мои слезы, видимо, никак не насторожили, и мы некоторое время не двигались. Над нами сверкали и переливались звезды. Потом он хмыкнул, и мы снова пошли.
На мгновение я задумался – разве мы останавливались на этом плато, когда впервые шли смотреть на опа’иву’экэ? – а потом внезапно испугался: куда это ведет меня Муа? Но, обернувшись и увидев непроходимо черный лес, я понял, что у меня нет никакого выбора, придется следовать за ним.
Когда мы дошли до последней поляны, я так нервничал, что меня трясло. В темноте скрывались чудовища и призраки, и в том, чего я не мог разглядеть, я видел все, чего когда-либо в жизни боялся. Но потом Муа торжественно произнес: «Опа’иву’экэ», – и передо мной открылось озеро, и пузыри от черепашьего дыхания плыли по его поверхности, как жемчужины. Он ткнул в сторону озера рукой и отступил, не сводя с меня глаз.
Я впервые осознал, что мой план, возможно, не слишком тщательно продуман. Пока деревенские жители ели, я пробрался в хижину с пальмовыми изделиями и стащил большую вязаную сеть, которую нес наверх на плечах, как плащ. Но, приближаясь к озеру, я подумал, что понятия не имею, будет ли этого достаточно, чтобы поймать опа’иву’экэ. Быстро ли они плавают? Будут ли пытаться меня укусить? Если бы украсть какое-нибудь оружие не представляло труда, я бы так и сделал, но такой возможности не было, так что пришлось удовлетвориться сетью. Я оглянулся на Муа, словно искал совета, но он стоял, сложив руки, и смотрел в пространство, как будто я занимался личным делом и он не имел права за мной подглядывать.
Впрочем, мои опасения были напрасны. Когда я подошел к берегу, опа’иву’экэ меня заметили и единым фронтом подобрались ко мне, так легко перебирая ластами по воде, что спокойная поверхность озера почти не колыхалась. Их доверие сделало мою задачу и проще, и сложнее: пока я стоял и раздумывал, которого взять, мне неожиданно пришлось сурово напомнить себе о необходимости этого шага.
Я выбрал одного из самых крупных, решив, что его размер означает старшинство в стае, а мне хотелось, чтобы у молодых был шанс на долгую жизнь. Оказалось, все, что мне нужно сделать, – это опустить руки в воду, прохладную и такую прозрачную, что ясно видимое отражение луны скользило по илистому дну, и вытащить его. Он был весьма тяжел и довольно склизок, но управляться с ним было нетрудно, и остальные опа’иву’экэ сразу же перестроились, заполнив опустевшее пространство и глядя на меня своими огромными глазами. Он – что неожиданно для черепахи – не спрятался в панцирь от человеческого прикосновения, а просто немного помотал ногами и поворочал головой, как будто я держал большого муравьеда, панцирного и вооруженного, но по-детски беззащитного.
Шатаясь, я отнес его на опушку леса, на такое расстояние от озера, чтобы его товарищи не видели, что я делаю. Поход вверх по холмам и вес черепахи меня утомили, и я сел рядом с ним, положив руку на панцирь, а он закрыл свои желтые глаза, словно от удовольствия, словно я его глажу. С минуту мы отдыхали, впитывая окружающий воздух, шелест деревьев, простое и дурацкое состояние собственной жизни.
Но пора настала. В кармане у меня был перочинный нож (тоже украденный у Таллента) и связка больших пальмовых листьев (украденных из пальмовой хижины). Я планировал отрезать побольше плоти опа’иву’экэ, сколько смогу (я не знал, хватит ли у меня сил и, честно говоря, решимости отодрать панцирь), завернуть куски в пальмовые листья, запаковать их в сеть и зарыть остатки в каком-нибудь лесном хламе. Потом отнесу все вниз и высушу мясо на ветвях моего дерева. Попробую его сам и отмечу все неблагоприятные воздействия, а остальное возьму с собой в Штаты, чтобы протестировать тщательнее.
Ветерок пробежал между деревьев, и когда опа’иву’экэ вытянул шею навстречу ему, я открыл лезвие ножа и воткнул ему в шею. Я думал, резать будет легко, как подтаявшее масло, но его кожа оказалась гораздо прочнее и перепончатее, чем я ожидал, так что в результате ее пришлось пилить, отделяя голову от шеи постепенно, сначала наклоняя ее в одну сторону, потом покачивая в другую, пока не осталась лишь последняя особенно упорная складка, и мне пришлось втыкать лезвие ножа между морщинистыми переборками и вытаскивать его обратно, отрывая кожу с чередой влажных, эластичных шлепков. За исключением мягкого, медленного вздоха, как шина, из которой выпустили воздух, он не издал ни единого звука, но глаза его оставались открыты, и зрачки расходились по радужке, как чернильные капли в воде.
Я так сосредоточился на утомительной работе по усекновению задней ноги, что принял окрик за сигнал Муа и откликнулся (что, конечно, не имело никакого смысла) в том духе, что я занят и ему придется подождать. Но когда я услышал, что он бежит ко мне по траве и кричит что-то непонятное, мне пришлось прерваться и поглядеть в его сторону, и тут я понял, что бежит ко мне не Муа, а Фа’а.
Это глупо, но первое, что я испытал, – радость. Фа’а пришел! Рядом с ним я всегда чувствовал себя в большей безопасности и даже осознал, что стал относиться к нему с симпатией, несмотря на его намеренно неприступную манеру, за которой не мог скрыться тот факт, что в нашей экспедиции он с каждым днем разочаровывался. Но мне казалось – возможно, из романтических соображений, – что в мои самые печальные или трудные минуты Фа’а был рядом, устойчивый и надежный, как ствол дерева. Я представлял его в роли пастыря, который сторожил нас всех, пока мы спали или охотились, чьи глаза осматривали окрестный пейзаж, чтобы нам не пришлось этого делать, кто присутствовал при каждом примечательном событии. В то время как остальные проводники утратили интерес и постепенно отбились от рук – они, конечно, по-прежнему оставались среди нас, но проводили все больше времени, охотясь за вуаками (их явно ненасытный аппетит к вуакам вызывал у меня изумление и легкое отвращение), собирая разные плоды, семена и странные образования на лесной земле, – Фа’а всегда был рядом. Ува и Ту продолжали выполнять свои обязанности со сновидцами, но лишь механически: у ручья они стояли, посмеивались и разговаривали друг с другом, пока самые беспомощные из их подопечных бестолково мочили руки или ноги в воде, не понимая, зачем их сюда привели. Но когда за дело брался Фа’а, он выливал пригоршни воды им на спины, растрепывал их щетинистые волосы, что-то бормотал в ответ на довольные вздохи. Безусловно, я его уважал; может быть, я даже им восхищался.
Но моя радость мгновенно испарилась, стоило мне увидеть лицо Фа’а и осознать, что звучит в его голосе. Он кричал, по-настоящему кричал, одной рукой напряженно сжимая свое копье, а другой указывая на мертвого опа’иву’экэ, чья голова – с глазами, по-прежнему открытыми – картинно лежала в центре самого большого пальмового листа, ожидая, пока ее завернут, как подарок. Фа’а так разозлился, что выкатил глаза, и частицы пены, белые, как звезды, срывались с его губ, и мне стало смешно.
Только тогда я вспомнил, как благоговейно он пел, когда мы впервые нашли опа’иву’экэ, и с каким чувством следил за вака’иной, так что мне не оставалось ничего иного, кроме как смириться с этой вспышкой гнева. Я был уверен, что Фа’а меня не тронет, но внезапно – его намерения я так никогда и не узнал – он вскинул руку с копьем, не угрожающе, надо признать, и копье даже не было направлено в мою сторону, но само обращение к оружию меня напугало, и я инстинктивно поднял труп черепахи, закрываясь круглым панцирем как щитом, и ткнул им в сторону Фа’а, как раз когда он двинулся ко мне. И тогда, держа на вытянутых руках панцирь и прячась за ним, я услышал, как Фа’а вскрикнул. Взглянув поверх панциря, я увидел, что оцарапал вытянутую руку Фа’а одной из болтающихся черепашьих ног, и в это мгновение его крики перешли в стоны, и он рухнул на колени на землю, выставив перед собой задетую руку и причитая.
Будь я менее чутким человеком, я бы наверняка расхохотался. Но только поначалу: вскоре, глядя на простертого на земле Фа’а с правой рукой – рукой для ношения копья, – протянутой в сторону черепахи, словно это жертвенное приношение, я начал осознавать искренность его отчаяния. Его причитания перешли в плач, а потом в ничто, только в непрерывное подрагивание плеч и спины – лицо обращено к земле, копье валяется рядом. На этот раз я порадовался, что не говорю по-у’ивски, ведь он верил, что теперь обречен стать мо’о куа’ау или обрек на это кого-то из своих родственников, и что бы я ни сказал сейчас, переубедить его не удалось бы. Так что я некоторое время смотрел на него, завороженно и сочувственно, пока не стало ясно, что делать нечего, надо продолжать однообразную работу, складывать дряблые куски опа’иву’экэ на шелковистые пальмовые листья, лежащие на почерневшей от крови земле.
Дорогу обратно мы прошли молча и торопливо, и к моменту, когда я отослал Муа и ошеломленного, пошатывающегося Фа’а обратно к сновидцам и привязал шесть подготовленных свертков черепашьей плоти к верхним ветвям своего дерева, воздух уже начал светлеть, и защебетали первые утренние птицы.
Похоже, мы все решили притвориться: Таллент – будто мы не ссорились, Фа’а – будто он не проклят, я – будто не сделал того, что необходимо было сделать, без разрешения и поощрения. На протяжении дня меня время от времени поражала моя собственная смелость и решимость, проявленная в ночи, как и изобретательность, хотя поделиться этим достижением мне было не с кем. Один раз я прошел мимо Фа’а по пути за водой к ручью; он как раз оттуда возвращался, но при моем приближении отвернулся, и я увидел, как черты его лица меняются и замирают в выражении полной непроницаемости, и без этого выражения с тех пор я его никогда не видел. В этот момент я понял, что он ни за что не откроет остальным, с чем столкнулся в ту ночь; он не мог сделать этого, не столкнувшись с собственной запятнанностью, собственной погибелью.
А вот Муа, видимо, полностью забыл про нашу ночную вылазку. Днем я увидел как Фа’а, обхватив копье обеими руками и опершись подбородком о древко, уставился на него, но с завистью или с жалостью – я не понимал.
Еще раньше я тайком добрался до своего дерева, взял свертки и вырыл в земле глубокую яму, отбрасывая мягкую, мучнистую землю, пышную и влажную, как тесто в пироге, а потом положил свертки в яму и завалил грязью. Но один из них я отложил и развернул. Несколько минут я сидел на корточках, готовясь с содроганием откусить влажную красную плоть одной из ног опа’иву’экэ. Именно поэтому, напоминал я себе, я ослушался Таллента и отправился к озеру: попробовать, проглотить, доказать себе, что бояться нечего. Но вместо этого я чувствовал, как меня парализует сомнение. Не съесть означало признаться в собственных страхах, в том, что невозможное все-таки возможно. А я ведь хотел, хотел, чтобы это было правдой, хотел оказаться прав, хотел узнать, что мое открытие – настоящее. Но вместе с тем и не хотел, чтобы все так и оказалось; не хотел переворачивать с ног на голову все, что знал до сих пор, не хотел выбрасывать, словно подгнившие плоды, надежные практические правила. Съесть черепаху означало признать собственную неправоту, но также признать, что известный мне мир продолжит жить как жил, не встревожившись и не изменившись, по законам, которые никто не ставит под сомнение и не отрицает.
Но я не мог этого сделать. В последующие десятилетия я вспоминал эту сцену как галлюцинацию и думал, как близко подошел к тому, чтобы пополнить ряды сновидцев. Что, если я не завернул бы ногу обратно, не положил ее рядом с другими отрубами, а все-таки позволил бы своему языку прикоснуться к ее поверхности, если бы отдался безудержному нерациональному потоку того странного, зачарованного вечера?
В ту ночь мои сны были безумны и разнообразны, конец одного перетекал в начало следующего. Мне снилось, что я бреду по лесу, поднимаюсь, как мы шли сюда, по холмам в деревню, но все деревья превратились в иву’ивцев, их разговор заполняет лес, как клекот птиц, их ноги сливаются с древесными корнями, их волосы вплетаются в ветки. Мне снилось, что мы с вождем едем верхом, свесив ноги набок, как в дамском седле, на опа’иву’экэ размером с автомобиль, который движется по сухому грязевому пейзажу без единого дерева, но вдали на горизонте, на фоне сиреневого неба, поднимается игрушечный город из сухого цемента. Мне снилось, что я сижу за столом в деревянном доме, где потолок выложен из огромных бревенчатых балок, и передо мной стоит металлическая тарелка, а на ней странное розовое существо, четвероногое, с отвисшей, складчатой кожей, и я понимаю, что это опа’иву’экэ без панциря. Напротив меня сидит Фа’а, одетый в светлую сорочку, коротко стриженный, и протягивает мне нож и вилку, и тут я начинаю понимать, что мне придется есть черепаху, а он поворачивает ко мне голову, открывает глаза и рот, и рот, когда он его открывает – это рот мальчика, с его мелкими острыми зубами, с его маленьким, быстрым языком.
И тогда я проснулся в обычном лесу, а рядом спали Эсме и Таллент, такие, как надо, проснулся по-прежнему на Иву’иву, посредине одной из мрачных черных островных ночей. Ничто вокруг меня не изменилось.
На следующее утро Таллент объявил, что мы уезжаем.
5
Я понимал, что так должно быть, что это неизбежно. Мне сразу сообщили, что мы проведем там не меньше четырех месяцев, в любом случае какое-то небесконечное время. Но новость все равно поражала. Во-первых, несмотря ни на что, все это время какой-то план все-таки существовал, и даже здесь, в деревне, где не было ни правительства, ни технологий, ни одежды, ни книг, ни школ, ни больниц, мы не могли освободиться от его щупалец. Во-вторых, потрясло время – его неожиданное возвращение в нашу жизнь, его значение. На острове время завивалось в длинные спиральные кольца, противореча биологии и эволюции; даже человеческое тело отказывалось ему подчиняться. Но мы вынуждены были подчиняться определению времени, заданному в том мире, где люди смотрели на часы, назначали встречи и приходили на них, где время отсчитывалось в единицах покороче, чем времена года. Вспоминать, что этот мир все еще существует, оказалось тревожно, при всей своей чуждости он по-прежнему управлял нами, принимал за нас решения, диктовал время нашего прибытия и отъезда. У меня вдруг возникла фантазия: возможно, здесь деревенские жители живут так долго, потому что никому никогда не приходило в голову сказать им, что так нельзя.
Последняя неделя получилась очень напряженной: надо было провести последние опросы, последние обмеры и физические осмотры, набросать последние виды деревни, посчитать в последний раз жителей и запасы в хижине с мясом, хижине с сушеными продуктами, хижине с пальмовыми листьями. Развязав поздно ночью свой рюкзак, чтобы освободить в нем место для свертков с мясом опа’иву’экэ – я выпросил у Увы немного соли и завялил куски, которые планировал сложить в багаж прямо перед отъездом, – я обнаружил в нем две дюжины шприцев в ватной подушке; со своей гладкой поверхностью из холодного стекла и металла они казались некой диковинкой, как будто здешняя деревня – продвинутая цивилизация, а это – предметы неизвестного назначения из какого-то первобытного прошлого. К этому моменту у меня в рюкзаке почти ничего не оставалось: свою одежду я по большей части раздал деревенским женщинам, которые недоуменно смотрели на мой пиджак и на рубашки с пуговицами, пока я не показал, что их можно разорвать, а получившимися кусками связать два куска пальмового каната, например, или привязать ноги ленивца к копью; а микроскоп сломался еще в самом начале путешествия, а чуть позже и термометр разбился, и деревенские дети играли зловещими серебристыми шариками ртути, покрывая их налетом пыли и скатывая вместе, пока я не собрал и не унес их подальше.
Мне запоздало подумалось, что Серени вряд ли был обо мне высокого мнения. Вообще-то весь медицинский факультет был обо мне, скорее всего, невысокого мнения. Да запрашивал ли кто-нибудь мое участие? Или они просто убедили Таллента или того, кто неразумно предоставил ему средства на организацию этой экспедиции, что меня следует взять с собой? Хотели ли меня брать? Проект, насколько мне было известно, заключался в том, что Таллент станет искать свое мифическое затерянное племя, и вопреки всем ожиданиям он его нашел. Но кто мог подумать, что я совершу еще более значительное открытие, причем такое? Изначально присутствие настоящего ученого вообще не считалось необходимым – я оказался здесь не в результате счастливого стечения обстоятельств, а из-за того, что факультет пытался избавиться от одного из самых посредственных студентов, отправив его на абсурдную и очевидно провальную миссию. Я чувствовал унижение оттого, что не увидел этого вовремя, и оттого, что оказался пешкой в так плохо спланированной игре. Но все же, несмотря на это неприятное открытие, я чувствовал решимость не идти по стопам Смайта, не думать «Я покажу им, я докажу, что они ошибались», хотя и не заглядывать мыслями в будущее тоже не получалось, потому что я не сомневался, что нашел нечто потрясающее, нечто, призванное радикально изменить науку и общество. Я нашел ни больше ни меньше само бессмертие. Звучало так величественно, что я не произносил этих слов вслух, но недооценивать случившееся было невозможно, несмотря на магический туман, который над ним клубился.
(А что-то вы поделывали, Фитч и Брассард? Мы заражали мышей вирусными заболеваниями. А что? Вы что поделывали? Я обнаружил людей, которые не умирают.)
Крайне важно было убедить Таллента, чтобы он разрешил нам увезти с острова нескольких сновидцев, и, к моему удивлению, он согласился без особых споров. Естественно, прозвучала обширная лекция об опасностях перемещения туземцев из их среды и крайне малой вероятности их благополучной ассимиляции обратно в свое общество, но его аргументы казались слегка блеклыми, не говоря уж об их абсурдности. Если я прав, скоро у них не останется никакого представления об окружающем мире, а их собственное общество их уже отвергло, так почему бы не взять их с собой?
– Ну, – сказал он наконец неуверенно, – надо хотя бы попросить разрешения у вождя.
Вождю, разумеется, было все равно. Наше предложение его даже слегка порадовало, хотя, как я уже говорил, он вообще был крайне сдержан. Но отчего бы ему не радоваться? Мы предлагали увезти с собой четверых бесполезных мо’о куа’ау, а без них на острове четыре человека не будут больше ловить вуак и искать манамы, четыре человека никогда не набредут в своих бесконечных странствиях на деревню.
Но тут вождь спросил:
– А остальные?
– В каком смысле? – ответил Таллент.
– Их нельзя здесь оставлять, – сказал вождь.
Таллент открыл рот и снова закрыл. Ему ничего не оставалось.
– Мы их тоже увезем, – сказал он, и вождь кивнул в ответ.
Потом он повернулся и ушел. Не знаю почему – из-за кинофильмов, возможно, или из-за легенд – я ожидал какого-то более растянутого прощания, обмена дарами, или, может быть, церемонии, особенно с учетом пристрастия этой культуры к церемониям. Но ничего такого не было – только удаляющаяся от нас спина вождя и копыта его вепря, которые с каждым шагом поднимали небольшие сполохи пыли. Мне подумалось, что ритуала прощания не было, потому что не было никаких гостей: сюда никто никогда не приходил, и никто – кроме мо’о куа’ау – отсюда не уходил.
Тут я кое-что вспомнил.
– Постойте, – сказал я Талленту, – позовите его назад на минуту.
И Таллент окликнул вождя, который развернулся и очень неохотно направился в нашу сторону.
– Ке, – бесстрастно сказал он. Что?
– Спросите его, – велел я Талленту, – знает ли он кого-нибудь, кто отпраздновал вака’ину и не стал мо’о куа’ау?
Было видно, что вождь не хочет отвечать. Не только потому, что тема его утомила, – ответ означал также и признание собственной судьбы. До этого момента он мог избегать вопроса, воображать – как наверняка делал до него любой шестидесятилетний человек и как будет делать любой после него, – что он может оказаться первым: в своих мечтах он всегда оставался вождем, каждые несколько лет пировал на вака’ине очередного соплеменника, его жены, дети, внуки и правнуки следовали за ним чередой, хижина с мясом никогда не пустела, хижина с пальмовыми листьями всегда пополнялась. Он станет таким старым, что поучаствует в а’ина’ине собственного прапрапраправнука, таким старым, что увидит, как этот мальчик вырастет и будет участвовать в а’ина’ине собственного внука. Он будет так стар, что мелкие побеги манамы по краю деревни вырастут, созреют, отомрут и снова сменятся, так стар, что когда-нибудь станет таким же старым, как сами боги, так стар, что в один прекрасный день они, А’ака и Иву’иву, откроются ему, и, может быть, когда-нибудь он станет третьим в их союзе, получит собственный предел, которым будет управлять. У звезд, дождей, ветров, вод и солнца есть свои опекуны, но может быть, что-то будет отдано ему – может быть, деревья, или цветы, или птицы, которые цепляются когтями за высокие ветки над его головой. Так ему представлялось днем. Неудивительно, что он часто казался заспанным, пресыщенным – эти видения наполняли его, и они были прекрасны, они услаждали и очаровывали сердце, и к ним можно было обратиться всегда, стоило ему только захотеть.
Но по ночам к нему приходили другие видения. О том, что в некий день его отведут в лес, и он, возможно, будет так растерян, что уже не вспомнит, как некогда был вождем, как у него был страшный до дрожи вепрь, который следовал за ним везде, как оруженосец. Как у него отнимет копье, возможно, тот самый внук, которого он посвящал на а’ина’ине. Как он станет бродить по лесу день за днем, слышать крики птиц и мартышек над своей головой и не вспомнит, как их ловить, не вспомнит даже, как это было легко когда-то, или, хуже того, будет мучиться полупамятью, которая тянет за край сознания, напоминает о чем-то, что он почти помнит, но не помнит. Как он увидит у своих ступней розоватый плод с червями, которые выбираются из него, как волосы Медузы, и не вспомнит, что плод съедобный, что когда-то он такие любил, больше того – мог поедать дюжинами. Что ему нравились сушеные плоды, с тонкими и ломкими от закристаллизованного сахара краями или растертые в пасту и выложенные на кусок ленивцевого мяса, чтобы сладкое перетекало в соленое. Как он будет одинок там, куда некогда отвел шестьдесят пять других, как день будет переходить в ночь, а потом снова в день, но ничто не будет отмечать ход времени – ни церемонии, ни празднования, ни песнопения, ни соития, ни охота, только его собственная тускнеющая значимость для него самого, которая потускнеет так тихо и мягко, что он этого даже не заметит. Это и были правдивые видения, и он это знал. Поэтому он цеплялся за дневной свет, когда он владеет собственным рассудком и заодно всем остальным. Я понял в это мгновение, какой стойкостью и смелостью надо было обладать, чтобы терпеть сновидцев рядом с собой, знать, что каждый из них доказывает неизбежность его ночных видений и ложность видений дневных.
Он ничего не ответил, просто ушел. Как я и сказал, ответить означало бы признать то, чего он напряженно старался не признавать. Ему как раз исполнилось шестьдесят о’ан. Скоро – не очень скоро, но рано или поздно – придет его будущее, и он станет кем-то, кого даже сам не сможет узнать. Ему не надо было говорить; никакой другой ответ мне и не был нужен.
Спуск по холму получился гораздо более быстрым, чем подъем, и не таким удивительным. Мы снова миновали покрытые мхом долины, племена цикад, жемчужно-ярких пауков, налетавшие время от времени облака комаров или бабочек и невидимых туканов, которые перекликались друг с другом на невидимых древесных вершинах. Почти шесть месяцев назад это было царство переплетенных восторгов и ужасов, но теперь это была уже найденная земля, и нас она лишь утомляла. И с нами снова были сновидцы, связанные куском пальмовой веревки, которую нам неохотно выдали из хижины; вел их Фа’а, замыкали шеренгу я или Эсме. Впереди шел Таллент, а перед ним – так далеко, что мы их уже не видели, – Ува и Ту.
Мы договорились – Таллент, Эсме, Фа’а и я, – что сновидцев, которых не можем взять с собой, мы оставим в более лесистой части джунглей, в преддверии деревни. Вождь не уточнил, как далеко их надо отводить, но Фа’а сказал, что идти нужно не меньше трех дней, и когда третий день подходил к концу, я почувствовал, как мы все замедляем шаг, подстраиваемся под заплетающийся ритм Евы, вместо того чтобы дергать за веревку и тащить ее за собой, как обычно. Иногда Фа’а что-то напевал сновидцам, тянул носом короткие всплески мелодии, и они отвечали ему тем же, и хотя особой красоты в их гудении не было, они могли держать ноту невероятно долго, пока этот гул не сливался с гулом самого леса и все вокруг не начинало пениться шумом.
Наконец воздух вокруг словно бы раскрасился в серый цвет, как будто в него плеснули гуаши, и мы поняли, что больше откладывать не получится. Мы все, включая Таллента и двух вернувшихся назад проводников, последовали за Фа’а, который повел сновидцев к гигантской макаве, самой большой из тех, что я видел: мы вшестером не смогли бы ее обхватить. Пока Фа’а говорил со сновидцами добрым, тихим голосом, другие проводники вынимали их руки из пальмовых наручников, отделяли тех, кого мы намеревались взять с собой: Еву, разумеется; Вану и Муа, потому что это были отец и сын; и Ика’ану, потому что он был очень стар и потому что он был связующим звеном между Евой и остальными[46]. Ува обвязал их запястья другой пальмовой веревкой и увел их, и они вчетвером послушно, не задавая никаких вопросов, пошли вслед за ним. Ночью они становились еще послушнее обычного, и, глядя им вслед, я чувствовал, как их мирное повиновение, их старческое шарканье вызывает у меня какую-то боль.
Остались только те четверо, которых мы решили с собой не брать. Ту и Фа’а взяли длинную пальмовую веревку и связали их вместе, как печальную цепочку картонных кукол, так что веревка провисала на их руках. Они усадили их у подножия дерева, прислонив спинами к коре, и привязали конец каната – опять-таки очень некрепко, так что, сильно потянув, можно было развязать узел, – к одной из нижних ветвей. (Предполагалось, что канат их защищает, по крайней мере, так мы считали: если они останутся вместе, а не разбредутся в разные стороны, они, по нашему мнению… что? Увидят смерть других, вместо того чтобы умереть в одиночестве? Но тогда нам казалось, что мы проявляем доброту, хотя сейчас трудно вспомнить почему.) Таллент, Эсме и я оставили им запасы еды: «Спам», вытряхнутый из металлических банок на пальмовые листья, канавы, манамы, но’аки. Там были и эти причудливые грибы, которые любила Ева, и погрохатывающие порции чего-то, что Таллент, как я понял, стащил из хижины с сушеными продуктами, включая небольшую кучку вуак, на которую Ту и Фа’а взглянули с завистью, прежде чем решительно отвернуться.
Закончив, мы отступили на шаг, и что-то в том, как они все смотрели на нас большими, черными, доверчивыми, как у ленивцев, глазами, в запасах на земле у их ног, как будто сейчас Рождество, а это подарки под деревом, заставило меня внутренне содрогнуться, и на мгновение жестокость наших действий меня обездвижила.
Думаю, мы все чувствовали что-то похожее, потому что хотя я и не мог понять слов Фа’а, я слышал страдание в его голосе, видел, с какой нежностью он клал ладонь на каждое плечо и показывал на еду, обращаясь к ним. Позже Таллент перевел мне его слова: «Не бросайте друг друга. Заботьтесь друг о друге. Ешьте, когда проголодаетесь. Оставайтесь возле этого дерева. Мы скоро вернемся».
А потом мы ушли. «Не оборачивайтесь», – предупредил Таллент, и мы все зашагали вперед, намеренные удалиться от них на максимально возможное расстояние, когда они вдруг все начали гудеть полногласным, безумным гулом, который казался таинственным и многозначительным прощальным песнопением, хотя на самом деле ничем таким не был – просто рефлекторная реакция на заходящее солнце, немного эхолалии.
В тот вечер мы шли дольше обычного, и стало так поздно, что исчез весь свет, кроме красного свечения глаз летучих мышей, шумно порхавших над нами, кроме фосфоресцирующего блеска от выводка панцирных жуков, сцепившихся где-то наверху тикающей, стучащей стаей, которые напарывались друг на друга с легким скрежетом и своей тяжестью нагибали ветки. Мы должны были отойти от брошенных на максимальное расстояние, но даже когда ходьба стала сначала бессмысленной, потому что мы шли очень медленно, а потом бесполезной (не описывали ли мы круги? сказать невозможно), мы были не в состоянии остановиться. Во мраке леса, в сгустившейся тьме все звуки усилились, и оттуда вырастали видения и кошмары. В какой-то момент я явственно ощутил, как что-то большое и мохнатое легко задело мою макушку, почти как если бы сам воздух отрастил перья, но когда я спросил остальных, почувствовали ли они это тоже, они сказали, что нет. Я заметил, что окружающий лес плотно обступил меня, как никогда не бывало в деревне, обступил, наполненный всем, что могло жить в бесконечных древесных ярусах, в которые мы даже не надеялись проникнуть. В этот же день, когда еще было светло, я видел рой мошек, такой плотный, что он казался единым существом, которое бросилось на два ствола канавы в самоубийственном порыве. Но, к моему удивлению, мошки пропали между деревьев, исчезли в крошечную щель между ними, такую тонкую, что я ее поначалу не разглядел. Что еще могло просочиться через древесный барьер? Вокруг был известный нам лес, но за ним, возможно, расстилался целый отдельный лес, совершенно иная экосистема с собственными популяциями птиц, грибов, плодов и зверей. Может быть, и другие деревни там тоже были, деревни, которые веками охраняли деревья, где люди жили до тысячи лет и не теряли рассудок, или умирали в подростковом возрасте, или никогда не использовали детей для секса, или только это и делали.
Я слышал разговор Фа’а и Таллента, и потом, когда Фа’а отстал от нашей группы, я спросил Таллента, что они обсуждали.
– Он расстроен, – ответил Таллент, и по голосу было понятно, что он расстроен тоже. – Он говорит, что нам не надо было привязывать их к дереву.
– Но веревку же несложно разорвать.
– Я ему так и сказал, – согласился Таллент. – Но он говорит, что напрасно велел им там оставаться. Он говорит, что они не станут рвать веревку – будут просто сидеть и ждать нас обратно, потому что мы же обещали прийти.
– Разве они не забудут, что мы так сказали?
Он вздохнул.
– Я ему это объяснил, – сказал он. – Но.
Больше он ничего не сказал.
Мы некоторое время молчали. Земля хрустела и хлюпала под нашими ногами.
– И что, по его мнению, в результате будет? – спросил я наконец.
– Он считает, что они просто будут там сидеть, не прикасаясь к еде, ожидая нашего возвращения, пока не умрут от голода.
– Это немножко чересчур, нет? – Я напомнил себе, что они благополучно справлялись с жизненными потребностями на протяжении лет, десятилетий. И все же я отчасти понимал беспокойство Фа’а: теперь, когда мы вошли в жизнь сновидцев – назвав их сновидцами, заботясь о них, считая их своими, чем-то, что мы нашли, чему придали смысл, – отчего-то становилось трудно представить, как они смогут жить без нас.
Он снова вздохнул:
– Он хочет пойти их забрать. Отвести их в свою деревню. Я ему запретил. Он сказал, что он убийца.
– Бедный Фа’а, – сказал я – скорее машинально. Он был хороший, добрый человек, и хотя его терзания казались мне мелодраматическими, его сострадательность вызывала уважение. Не предпринимая никаких действий, только и можно было сказать «бедный Фа’а».
– Бедный Фа’а, – тихо повторил Таллент. – Бедный Фа’а.
И вот оно почти подошло к концу. Путешествие почти полугодовой давности разворачивалось в обратном порядке, и я удивлялся, как знакомы оказываются все ощущения и как приятны: здесь я спотыкался о ту же скользкую связку корней, и мучительно утомлялся от бесконечной смены оттенков зелени, и чувствовал влажный воздух, который наваливался на меня, как промокший матрас. Даже со сновидцами – которые, надо сказать, вели себя очень хорошо, послушно и тихо – мы на целый день опережали график. Катер должен был подобрать нас в полдень во вторник, а к вечеру воскресенья нам оставалось идти всего семь часов. Я в очередной раз был впечатлен тем, что Таллент все это время следил за временем; он даже достал из своего рюкзака календарик, и от вида отмеченных карандашом дней наше пребывание на острове показалось одновременно более долгим и более настоящим.
Он решил, что мы пораньше остановимся на ночлег, а завтра будем двигаться потихоньку, не напрягаясь. Утром во вторник надо будет пройти последние два часа до берега, но раньше подходить не имело смысла, потому что это означало сидеть у берега под тучей москитов, которые становились все многочисленнее по мере приближения к воде. От мысли, что мы так близко к океану, я только что не прыгал от нетерпения: мне страшно хотелось увидеть что-то более мощное и непознаваемое, чем заросли джунглей, что-то, поверхность чего будет переливаться светом, что-то, что сможет унести нас прочь отсюда.
В тот вечер мы доели остатки «Спама», и я вспомнил, как мы ели печенье в начале путешествия и как Таллент сказал, что я буду скучать по его хрусту. Печенья теперь не было – все было уже давно съедено, – но его отсутствие навело меня на мысли о том, какое несовершенное место этот остров: наверху, в деревне, был огонь, но не было воды, а здесь все полнилось и рыгало водой. Деревья набухли от нее, земля истекала ею, наши тела производили ее с таким непрерывным постоянством, что все мои вещи промокли насквозь. Но все равно это была приятная предпоследняя трапеза на острове, так что имеющаяся еда и все, чего у нас не было, не имели почти никакого значения. Даже сновидцы как будто понимали, что скоро произойдет что-то важное и увлекательное: они улыбались своими глупыми улыбками, кудахтали, и в какой-то момент Муа даже поднялся и изобразил коротенький забавный танец вроде того, что исполняли женщины в честь завершения месячных. Ува и Ту – они воспользовались ленивым днем, отправились охотиться на вуак и вернулись с мешком, в котором копошилось такое их количество, что больше всего он был похож на гигантский, раздувшийся плод манамы, – были веселы, смеялись, разговаривали, показывали заостренные зубы, радуясь, что их заточение в этом невозможном месте почти подошло к концу и они скоро окажутся дома, живые и, что еще важнее, с царским мешком мартышек. Только Фа’а не выходил из своего сумеречного состояния, и пока все остальные хлопали и кричали, подбодряя танцующего Муа, он сидел в стороне, по очереди оглядывая каждого из сновидцев, и водил большим пальцем по древку копья. Невозможно было не представить, о чем он думает: в сновидцах он видел не только свое будущее, но и свою ответственность. Их присутствие невыносимым образом напоминало ему, что он сделал и чем он станет. Когда он что-то шепнул Талленту и ушел в окружающий лес, я не обратил на это внимания, просто подумал, что он хочет побыть один, подальше от нас. И почему бы ему не хотеть одиночества, не погрузиться в думы о неизбежности отъезда? Домой возвращался проклятый человек. Что он скажет своим родным?
Наутро я проснулся от воплей: Ува и Ту бежали к нам, кричали что-то Талленту, пугая мошек и птиц, с визгом разлетавшихся в стороны. «Фа’а! – кричали они, – Фа’а» и что-то еще.
Он сразу же вскочил и побежал за ними.
– Пусть кто-то из вас останется со сновидцами! – крикнул он нам, но мы с Эсме оба рванулись вслед за ним, что, как мне потом пришлось признать, было не очень разумно – они могли разбрестись, и мы бы их никогда больше не нашли.
Мы бежали, и джунгли вдруг словно бы признали наш испуг и приспособились к нам. Наши ноги не попадали в связки корней, не скользили по ломающим лодыжки моховым сугробам, а перелетали через любое препятствие, и каждый скачок оказывался таким аккуратным и точным, как если бы мы бежали по лужайке, по асфальту.
Перед нами на некотором расстоянии маячило дерево, огромная макава, с ветвями, растянувшимися низко и далеко, как щупальца осьминога, и с одной из них свисал Фа’а. Он взял кусок пальмовой веревки, какой мы связывали сновидцев, и сделал из нее примитивную петлю, такую примитивную, что, когда я его осмотрел и увидел, что шейные позвонки целы, я понял, что он задохнулся, что смерть его была медленной и мучительной.
Ува и Ту выли, закинув головы назад и закрыв глаза, их плотные языки упорно колотились в полостях рта. Эсме плакала. «Ох, – повторяла она, – ох, Фа’а». Таллент выглядел усталым, его лицо оплыло, руки безвольно болтались.
Всем нам пришлось поучаствовать в снятии его с дерева. Ту взобрался на ветку и перерезал веревку ножом Таллента. Мы с Таллентом поймали падающее тело, и все вместе отнесли его обратно, Таллент и Ту с одной стороны, все остальные с другой, а между нами – плотная, раскачивающаяся тяжесть Фа’а.
Я ни разу не видел ничьей смерти, пока был в деревне. Рождение видел: младенец, как любой другой младенец где угодно в мире, выскользнул наружу, обвязанный телесным шнуром и раскрашенный в неприятный лиловый цвет, характерный для новорожденных, а я смотрел из-за хижины, едва дыша, чтобы не выдать своего присутствия, – но не смерть, нет. Так что я не знал, как иву’ивцы хоронят мертвецов, часто ли им приходится это делать[47]. Но у’ивцы в любом случае поступают не так, как на Иву’иву, сказал мне Таллент. На У’иву тело относят в отдаленную местность высоко в холмах и оставляют на съедение животным. Потом через шесть месяцев возвращаются и перемещают кости в тайное место, которое знает только семья умершего, а они никому не говорят, из страха, что кто-нибудь украдет кости и с ними – дух покойника.
Но поблизости высоких холмов не было. В тот вечер (мы скрыли смерть Фа’а от сновидцев) Ту и Ува унесли Фа’а. Они пропали так надолго, что мы хотя вслух ничего и не сказали, боялись, что они не вернутся, несмотря на свою ненависть к этому острову, несмотря на оставленный мешок с вуаками. Когда они все-таки пришли, наступал рассвет, небо светлело, и в воздухе перед нами и над нашими головами роились мелкие насекомые пыльного цвета с ребристыми крыльями и такими тонкими желтыми прожилками, что они выглядели как шафрановые нити.
Они были вымотавшиеся, серолицые. Они поговорили с Таллентом. «Они где-то его спрятали, – сообщил он нам. – Они говорят, что через шесть месяцев вернутся спрятать его кости». Но мы все знали, что это никогда не случится, что тело Фа’а останется там, где они его оставили, что муравьи, и мыши, и птицы, и жуки будут покусывать его, пока не обглодают дочиста, пока его кости не станут светлыми, как масло.
Мы так долго ждали Ту и Уву, что остаток пути вниз по холму, к лодке, пришлось преодолевать в спешке. Ту нес копье Фа’а, которое собирался вернуть его семье как доказательство, что его действительно больше нет. Когда мы добрались до берега, где вода так сильно захлестывала землю, что там образовался участок длиной ярдов в десять, не совсем океан и не совсем суша, где два мира объединялись – рыбы плавали над травой, орхидеи переливались над маслянистой поверхностью океана, – солнце стояло так высоко, что я на мгновение испугался, вдруг лодка уже ушла и мы застрянем здесь навсегда, слишком далеко от одной цивилизации и не желая вернуться в другую. Но потом мы услышали далекое тарахтение и увидели, как лодка материализуется вдали серым пятном, приближается, обретает очертания. После проведенных на острове месяцев она казалась, несмотря на свою примитивность, невероятно сложной, созданием решительного и изобретательного общества. Лодочник на носу поднял обе руки, и Таллент помахал ему в ответ. Мне стало интересно, что подумает лодочник про дополнительных пассажиров и что сновидцы подумают про лодку, а позже – каково им будет оказаться в открытом океане, который станет прыгать и проноситься под нами. С каждым ярдом мы будем все больше отдаляться от этого места, которое уже начинало казаться сновидением, чередой никогда не случившихся событий и встреч, и все больше приближаться к нашему собственному обществу. Я спросил себя, рад ли я этому, и с удивлением обнаружил, что не знаю.
Лодка уже приблизилась достаточно, чтобы кормчий увидел, кого мы взяли с собой, и даже с берега мне было видно, как его рот складывается в букву «о».
– Подведите их ближе, готовьтесь к посадке, – сказал нам Таллент, сам уже выходя на мель, чтобы помочь подтащить лодку к берегу.
Мы – Ту, Ува, Эсме и я – подвели их ближе, каждый держал одного из сновидцев за руку. Они не хотели вступать в воду, но когда это уже произошло, стали издавать тихие радостные вскрики, хотя Ика’ана крепче схватился за мою руку, и я в знак ободрения тоже сжал его предплечье в ответ.
– Пошли, – сказал я ему, хоть он и не мог этого понять, и он доверчиво посмотрел на меня кротким взглядом, и было трудно вспомнить, что когда-то он был воином, когда-то носил копье, которое защищал собственной жизнью. Ма’аламакина, ма’ама.
Мы остались последними в очереди и осторожно подошли к лодке. Лоскуты валунов на дне были расположены неровно, и Ика’ана слегка покачивался от напряжения. Я увидел подрагивающие руки лодочника, когда он прикоснулся к запястью Евы и помог ей подняться на борт. За нашими спинами джунгли испускали водяной пар.
Но я не оглядывался.
Часть V Первый ребенок
1
То, что случилось потом, так тщательно задокументировано, что мне вряд ли стоит тратить лишнее время и повторяться. Целый ряд книг описывает десятилетие после моего первого отъезда с Иву’иву гораздо обстоятельнее и намного детальнее, чем мог бы сделать я; в особенности это относится к труду Джереми Лауэрмана «Бессмертные: открытие, изменившее мир», который фокусируется в основном на первых трех годах после моего возвращения в США, и книге Кэтрин Хетерингтон «Славный маленький остров: Нортон Перина и мир, который он построил», опирающейся на более поздние годы моего исследования в области, названной синдромом Селены, кульминация которой – почти талмудическое описание того, как мне присудили Нобелевскую премию. Наконец, есть книга Анны Кидд «О солнце, о камнях и обо всем, что между ними: жизнь А. Нортона Перины», которая, если не считать представления меня в образе почти божественном, остается моей любимой среди этих трех книг за беспристрастность автора и великолепный уровень научного понимания. Я давал многочасовые интервью каждому из трех авторов; меня и мои труды они описали вполне верно.
Тем не менее отдельные сюжеты тех лет остались по большей части нерассказанными, и я хотел бы, пользуясь случаем, раскрыть некоторые из оставшихся тайн.
Первая касается участи сновидцев. Я покинул У’иву, совершив, вероятно, одно из самых выдающихся научных открытий двадцатого века, но при этом в Америку я вернулся буквально прокаженным. Да, я был естествоиспытателем, обладателем потрясающей, невероятной находки, но для академической среды оставался всего-навсего исследователем без лаборатории, то есть маргиналом. В то время, надо сказать, я был еще слишком молод и простодушен, чтобы вполне оценить, в какой невозможной ситуации я очутился; более того, я представлял себя этаким ронином, готовым служить любому, кто даст мне прибежище. Получилось так, что это оказался Стэнфорд, где Таллент, меньше чем за полгода превратившийся в антропологических кругах из бунтаря в настоящего героя, сумел спешно обеспечить меня лабораторией и кое-какими деньгами, наверняка добытыми туманным путем из какой-нибудь таинственной нелегальной кассы[48]. Поскольку мой размах был совсем невелик, мне пришлось делить оборудование с соседней лабораторией гораздо большего размера, что, разумеется, получалось неидеально. По большей части коллеги не очень понимали, как меня воспринимать: я был слишком неопытен, чтобы возглавить собственный отдел, но при этом слишком искушен, чтобы работать под чьим-то началом. Было очевидно, что меня кто-то покрывает; мне каждый день приходилось надеяться, что они не обнаружат за этой таинственностью кафедру антропологии.
Прозвучит это глупо – в конце концов, не так долго я отсутствовал, – но снова приспосабливаться к Америке оказалось труднее, чем я ожидал. Я поражался тому, какое все сверкающее и новое, как автомобили сияют яркими искусственными цветами облизанных леденцов, как объемиста и затейлива одежда на всех окружающих людях: башмаки и шляпы, и подтяжки, и ремни, и сумки, и звенящие браслеты, и тяжелые жемчужные ожерелья – целый лексикон элегантных излишеств, где хватило бы котомки и куска ткани. Я изумлялся еще и тому, какими голыми, лишенными растительной жизни были города – серый квартал за серым кварталом, и там, где могли бы расти деревья, вместо них возвышались здания мышиного цвета, извергающие молчаливых людей в бесконечных слоях сложных и избыточных одеяний.
Но в лаборатории не было ничего, кроме Иву’иву. Я попытался сделать переход – с острова на материк, из каменного века в век современный – максимально бесшовным для сновидцев, а это означало, что мне пришлось давать им снотворное более или менее начиная с того момента, когда мы прибыли на У’иву, который уже пугал их и подавлял. (В те времена можно было устраивать подобные вещи без аккомпанемента из воплей этических комитетов и облегчить переход, который в противном случае просто убил бы их своей внезапностью и резкостью.) Я усыпил их, разумеется, перед полетом в Калифорнию (и на протяжении долгих часов непрестанно проверял их сердцебиение, дыхание, светил крошечным фонариком – он сам по себе казался чудом – в зрачки и смотрел, как они сокращаются до размера крошечных черных игольных ушек) и перед поездкой на автомобиле до подвала-бункера под лабораторией, где мы продержали их несколько дней, пока собирали их будущее место обитания, и разбудил, только когда мог их безопасно разместить в новом доме – квадратной комнате размером пятнадцать на пятнадцать футов, без окон, чтобы их никто не увидел, с некрашеными стенами и полом из линолеума, по которому были разбросаны пальмовые листья и расставлены ведра с бромелиями и прочими растениями, как приблизительно напоминающими то, что они помнили по жизни на Иву’иву (саговник), так и иными (фикус). В какой-то момент я решил завести там террариум с черепахой, но, придя как-то утром, обнаружил, что с черепахи содран панцирь, шея ее безвольно обвисла, а хвост покрыт слоем кровавого кала. Сновидцы не были склонны к насилию, но все больше поддавались беспокойству и страху, а беспокойство и страх иногда заставляли их действовать вопреки собственной природе. Давая им седативные средства, следовало соблюдать хрупкий баланс: от слишком большого количества они становились неповоротливы и шатались, и было трудно определить, вызвана их дезориентация умственным состоянием или же внешними причинами; от слишком малого они нервничали, царапали стены и выли без повода. Нужны же они нам были достаточно бодрыми, чтобы замечать нечто странное в своем окружении, но достаточно выбитыми из колеи, чтобы не понимать толком, чего им не хватает.
У меня был помощник – мне выдали студента-постдока по имени Рю Чхоль Ю, приехавшего по гостевой стипендии из Сеула. Не знаю, за какие грехи его приписали ко мне – ну разве за то, что он был иностранец, причем, увы, довольно непроницаемый, – но помогал он отлично. По-английски он говорил неохотно (хотя вполне прилично, насколько мне доводилось слышать, только с сильным акцентом), но поручения выполнял тщательно, не возражая, и вел подробные заметки. Чхоль Ю разработал не только состав успокаивающих средств, которыми мы кормили сновидцев, но и состав средств возбуждающих; он точно знал, через какое время за пределами своей комнаты они начнут расстраиваться, и даже в конце концов наловчился ненадолго выводить их по ночам за пределы лаборатории, когда электрические фонари горели неярко, трава охлаждала их ноги, а обитатели окрестных построек – от которых мы скрывали существование сновидцев – уходили до утра. Иногда я ходил с ним на эти ночные прогулки, вел, как и он, двух сновидцев за руки и вслед за ним пересекал небольшие ухоженные газоны, держась подальше от тротуаров и зданий, смотрел, как они с любопытством трогали кору эвкалипта и чесались спиной о тщедушный ствол кедра. В такие минуты Чхоль Ю больше всего напоминал мне бедного Фа’а: то же доброжелательное терпение, те же инстинкты защитника, заставлявшие его разворачивать сновидцев, уводя их от асфальта, и направлять к буковой роще, столь непохожей на заросли манамы, что, на мой взгляд, она могла бы быть хоть цветником, но все-таки это было, наверное, лучше, чем ничего.
Состояние сновидцев теперь очень быстро ухудшалось. Они стали более… ну, более мо’о куа’ау за первый месяц после нашего возвращения, чем за четырнадцать недель или около того, в течение которых я наблюдал их на острове. Опять-таки не получалось однозначно определить, было ли это средовое или органическое изменение или, может быть, его вызвала какая-то совершенно иная причина – например, питание. Разумеется, плодами манамы мы не располагали, но с помощью Таллента я воссоздал иву’ивуанское питание настолько точно, насколько это было возможно. Мы заменили мясо ленивца телятиной (хотя боюсь, что истоки этого параллелизма были сентиментальные, а не какие-нибудь еще: я, кажется, рассуждал в том духе, что ленивцы медленно двигаются, что они жирные и кроткие – и телята тоже, поэтому одних будет разумно заменить другими), вуак – маленькими курицами на гриле, плоды манамы – плодами манго. В те времена отыскать манго в Северной Калифорнии было намного труднее, чем сейчас, и значительная доля расходов лаборатории уходила на поиск и приобретение этих фруктов.
Впрочем, большого ума не нужно, чтобы понять, что сама лаборатория, скорее всего, и была во всем виновата. Сновидцы перешли от жизни в лесу, который покрывал остров вдоль и поперек, к ограниченному пространству своей комнаты – ну или лаборатории, в которой она располагалась, где их кололи, и тыкали, и брали мазки, и заставляли мочиться в пластиковые стаканчики (которых они раньше никогда не видели), и ощипывали, как птиц. Я иногда задумывался, как на них воздействовала лаборатория: слишком много стимулов или слишком мало? С одной стороны, вокруг были вещи, которые они вообще никаким образом не могли постичь: стекло, например, керамические столешницы, пластик и металл. Но с другой стороны – лаборатория была такая пресная. Стертый пейзаж, без цвета, звука или запаха, если не считать холодного металла, где ничто не способно поражать и радовать взгляд, привыкший поражаться и радоваться на протяжении всей жизни.
Какова бы ни была причина, с каждым днем их омертвение становилось все более очевидным. Не физическое, нет – единственной удивительной особенностью их рентгеновских снимков, проверки рефлексов, больших количеств крови, которые мы выкачивали у них из вен каждую неделю, оставалось их исключительное здоровье: артериальное давление вызывало зависть, пульс стучал с мягкостью и неспешностью метронома, кости не были подвержены остеопорозу. Но словно в отместку за тела, которые, столкнувшись с рационом не из манам и мусорных грибов, становились лощеными и упитанными, их разум шаг за шагом отступал. Вскоре даже Муа не находил в себе сил для разговора с Таллентом, когда тот два раза в неделю приходил в лабораторию.
«Э, Муа», – приветствовал его Таллент, положив ладонь ему на плечо, и Муа, словно бы с огромной глубины, медленно поднимал сначала взгляд, потом всю голову, чтобы посмотреть, кто к нему обращается. Он открывал рот, но никакого звука не издавал. Не менялось ничего, пока в конце концов Таллент не убирал руку и не показывал манго, которое до того держал за спиной. Но на плод Муа тоже только смотрел, и в конце концов Талленту приходилось разрезать его и показывать, что манго надо есть и радоваться; он открывал рот и клал в него волокнистый кусочек, жевал и глотал, пока Муа наконец не соображал, что делать что-то подобное он все еще в состоянии.
Чтобы доказать мою теорию – что сверхдолгую жизнь и постепенное угасание разума у сновидцев вызывает поедание опа’иву’экэ, – мне нужно было попытаться воссоздать это состояние у других животных. Однако в силу разного рода административных сложностей (а именно вечной парной проблемы финансирования и нехватки помещений) я смог начать эксперименты только весной 1951 года[49].
Мой кустарный метод вяления сработал вроде бы отлично, но я оберегал куски мяса, по-прежнему завернутые в пальмовые листья, почти с маниакальным рвением и хранил их сначала в пластиковых контейнерах, потом в лабораторном морозильнике, температурные данные которого проверял каждый день. Я проклинал себя за то, что побоялся оторвать панцирь и сохранить все внутреннее мясо; все, что у меня было, – четыре ноги, голова и огрызок хвоста, а кто знает, сколько черепашьей плоти понадобится съесть мышам, чтобы воздействие проявилось? Кто знает, насколько аккуратно мне придется тратить свои запасы? Никакого способа добыть еще одного опа’иву’экэ не было; я был привязан к лаборатории, и хотя Таллент уже строил планы очередной летней поездки на Иву’иву, попросить его привезти мне еще одну черепаху я не мог – он и про эту-то ничего не знал.
Так что я очень бережно отмерил количество черепашьего мяса, которое скормил первой группе из двадцати пяти мышей. По моему указанию Чхоль Ю нарезал кусок передней ноги на двадцать пять кусочков, каждый не больше канцелярской кнопки. Приходилось надеяться, что этого хватит. Я исходил из предположения, что результат будет очевиден – или не очевиден – после одного кормления; оно либо сработает, либо нет. Второй группе из двадцати пяти мышей я скормил такие же куски коробчатой черепахи, которую купил в зоомагазине.
Средняя продолжительность жизни лабораторной мыши – примерно полтора года. Если моя теория верна, первая группа мышей будет жива не только три месяца спустя (я проследил, чтобы все пятьдесят мышей были пятнадцатимесячными, по аналогии с тем возрастом, в котором иву’ивцы едят своего опа’иву’экэ), но и через два, три года, может быть, даже через пять лет. В какой-то момент в их поведении появятся признаки дезориентации, хотя физическое состояние в целом не изменится. Я повторил эксперимент – несколько преждевременно, почти что для забавы – с другой группой из ста мышей, из которых половина получила опа’иву’экэ, а половина коробчатую черепаху. Но это были новорожденные мыши, которым предстояло взрослеть в контролируемой среде эксперимента.
Шли дни. Чхоль Ю прекрасно заботился о мышах и о сновидцах тоже заботился прекрасно. Я ожидал, что Таллент будет появляться чаще, но за исключением его еженедельных посещений, которые он проводил главным образом в обществе сновидцев, у меня редко возникала потребность или возможность с ним поговорить, и в его присутствии я испытывал большую, а не меньшую неловкость, чем прежде. После начала эксперимента я радовался, что он приходит так ненадолго и так мало интересуется моими занятиями; прояснение моих намерений потребовало бы от меня признания в краже опа’иву’экэ. В глубине души я подозревал, что Таллент что-то знает о моих действиях, и при этом твердил себе, что ему все равно – мы вернулись с острова в объятия цивилизации, и у него больше не было надо мной никакой власти. Но в конечном счете ни у одного из этих соображений не хватало веса, чтобы меня убедить, так что я придумывал разные поводы улизнуть перед каждым его приходом. Хорошо хоть он приходил один, без Эсме; ее я после возвращения не видел. Я знал, что она тоже где-то на кампусе, чем-то таким занимается, но пока мне не приходилось ее видеть или размышлять о ее по-прежнему неясных (по крайней мере, для меня) отношениях с Таллентом, меня все устраивало.
Лабораторная жизнь одинока, особенно если у тебя только один сотрудник, твое положение неустойчиво, ты избегаешь своего благодетеля и скрываешь от него истинную суть своей работы, и эксперимент у тебя на том этапе, когда приходится просто ждать. Конечно, занятий всегда много – лабораторная жизнь отличается невероятной напряженностью, каждый день накапливаются десятки мелких действий и заданий, которые нужно произвести и выполнить, но вдохновляющей ее назвать трудно. От безысходности я даже пытался поболтать с Чхоль Ю, и это превращалось в отдельный эксперимент в духе абсурдистского театра. Я говорил что-то, проходило минут пять, после чего он говорил нечто, что можно было считать как ответом на мои слова, так и совершенно отдельным высказыванием. К этому моменту длить усилия и взаимную неловкость, чтобы продолжать разговор, уже не имело особого смысла, и мы оба замолкали на долгие часы, а то и дни.
Впрочем, это время нельзя было считать совсем уж потерянным, потому что я решил заполнить долгие пустые дни изучением у’ивского языка. Таллент принес мне вводный курс, который они с Эсме составили (большая часть текстов была написана ее причудливо надутым почерком школьницы), – в нем было несколько сотен слов и предложений, переведенных на у’ивский и по возможности также на иву’ивский диалект.
К сожалению, пока я учил их язык, сновидцы его забывали, так что я одиноко повторял слова глубокой ночью, прорывая тишину взрывными гортанными смычками.
Через несколько недель этой новой упорядоченной жизни я неожиданно получил письмо от Оуэна. Оказалось, что он недалеко и преподает литературу первокурсницам колледжа Миллз (позже он признался, что даже тогда понимал, какое это дохлое дело).
Мы договорились поужинать вместе. У кого-то из приятелей Оуэна была машина, так что он приехал в Пало-Альто. Почему мы решили не удаляться от университетов, вместо того чтобы отправиться в Сан-Франциско, мне сейчас непонятно. Но мой мир к тому моменту сузился до таких размеров – лаборатория, квартирка на кампусе, – что я, вполне возможно, даже в мыслях не мог выкарабкаться за его пределы.
Я испытал приятно-знакомое чувство (и после месяцев напористо незнакомой среды это было странно), увидев Оуэна, хотя теперь он отрастил бороду и был толще, чем я помнил.
– Привет, – сказал он, протягивая мне руку.
– Привет, – сказал я и пожал ее. – Ты потолстел.
Он раздраженно хмыкнул. Я вспомнил, что с чувством юмора у него всегда было так себе.
– Пошли.
Мы заказали напитки, и я спросил у него про работу:
– Как студентки, разумные?
– Ты как думаешь? – снова хмыкнул он. – Глупые девчонки. Вообще-то они проводят почти все время вот тут, – он имел в виду «в Стэнфорде», – и в Калифорнийском университете, пытаются найти мужей. – Он вздохнул. – Я сам себе кажусь коровой в курятнике.
– В смысле – лисой? – уточнил я.
Он недовольно скривился.
– Нет, – сказал он, – в смысле коровой. Коровы травоядные. Они едят траву. Им незачем есть кур. Им кажется, что это просто вонючие и глупые птицы.
Видимо, Оуэн избрал этот способ, чтобы сообщить мне о своей гомосексуальности, потому что его пристрастия мы больше не обсуждали, но на следующую встречу он привел с собой юношу, который нервно смеялся каждой его неудачной шутке. Много лет спустя, когда такие темы стали обсуждать публично, я узнал, что Оуэн рассказывает кому-то, как он мне «открылся». Было очевидно, что он (до сих пор) весьма доволен своим хитроумием, но мне повторное столкновение с этой метафорой только напомнило, какая она вымученная и неудачная.
За ужином, вполуха слушая, как Оуэн бубнит что-то о колледже и о своей ненависти к Калифорнии, как заводит какое-то долгое разъяснение чего-то случившегося с моим зимним пальто, которое ему пришлось использовать для тушения пожара в своей комнате, я думал о том, как он глубоко наивен, как мелки и вульгарны его заботы, как он никогда не сумел бы пережить то, что пережил я, насколько я иной теперь человек. При этом я не чувствовал к нему никакого презрения, наоборот, меня успокаивало пребывание с человеком, для которого жизнь состояла из знакомых частей, каждую проблему можно было решить, с человеком, который находил столько радости в повседневной жизни. Я с изумлением вспоминал, что когда-то сам был одним из таких людей. Но те времена прошли.
2
Из всех эмоций, которые приходится описывать задним числом, счастье, пожалуй, самая скучная, а благоговение – самая трудная. Много лет спустя меня спрашивали (и спрашивали, и спрашивали), что я чувствовал, когда прошел четвертый месяц, потом пятый месяц, потом шестой месяц, а мыши, которым я скормил опа’иву’экэ, продолжали жить, забирались в пещеры из резаной бумаги, вяло крутились в колесе, сосали воду из бутылок в клетках, пока контрольная группа отступала все дальше в прошлое, давно сожженная после того, как все они умерли одна за другой в срок от семнадцатого до двадцатого месяца с момента рождения.
«Я был поражен», – говорил я, и хотя это была правда, это была не совсем правда. Сказать об этом я смог только гораздо позже (тогда я все еще старался выглядеть скромным, потому что молодым исследователям выдавали гранты, только если они картинно проявляли смирение), но если поначалу я и испытывал потрясение, его полностью затмило тихое ощущение собственной правоты. Глядя, как эти мыши все живут и живут, я не чувствовал никакого возбуждения от открытия; процесс скорее даже как-то разочаровывал. Моя теория мне и так всегда казалась осмысленной, и я в ней никогда не сомневался, но теперь надо было совершать необходимые (и утомительные) шаги, чтобы доказать ее всем остальным.
Вторая группа накормленных мышей (тех, которых я взял голышами) у меня уже была, но в июле 1951 года я начал третий эксперимент, на этот раз с группой из двухсот пятнадцатимесячных мышей. Если мои предположения были верны, сто мышей, съевших опа’иву’экэ, должны были прожить в среднем как минимум вдвое дольше своего естественного срока.
Пока я наблюдал за мышами и, смертельно скучая, наблюдал за сновидцами, Таллент становился знаменитым. В октябре 1951 года (мыши из первой группы, поевшие опа’иву’экэ, были в этот момент двадцатитрехмесячными и по-прежнему оживленными) он опубликовал отчет под названием «Пропавшее колено У’иву: этнологическое исследование деревенского населения острова Иву’иву» в «Этнографическом журнале». Лихорадочное перелистывание статьи выявило бесчисленные страницы подробнейшего описания семейной структуры племени, его обрядов, ритуалов (без упоминания а’ина’ины, что характерно), верований, мифов о происхождении, табу, представлений о времени и социальном устройстве, но довольно мало – непристойно мало – об удлинении их жизненного срока. Длинный пассаж был посвящен опа’иву’экэ, подробно, но схематично была описана вака’ина (настолько схематично, что описание ухитрялось вообще не передать изумления и ужаса, охватывавших любого свидетеля церемонии), а в концевых примечаниях прятался следующий комментарий:
Я упоминал пристрастие племени к идее бессмертия. Хотя в мифологии у’ивцев это, безусловно, центральная тема, назвать ее навязчивой идеей деревенских жителей тоже не будет преувеличением. Они верят, в частности, что поедание опа’иву’экэ[50] – черепахи, которую употребляют в ходе ритуала вака’ины те, кому исполняется или исполнилось шестьдесят о’ан, – дарит вечную жизнь. Надежного научного подтверждения этому, разумеется, нет, хотя есть данные, что некоторые представители племени отличаются необычным долгожительством.
Читая это, я испытал три чувства. Во-первых, меня удивила нерешительность Таллента: разве это не он с ходу стал утверждать, что Ика’ане чуть ли не несколько сотен лет? Во-вторых, я почувствовал странного рода облегчение от нетипичной для него осторожности: он не только не обнародовал то, что было в конечном счете моим открытием, но и оставил пространство для обогащения и украшения его отчета моим собственным. И в-третьих – после этих двух изначальных реакций, – я заподозрил, что Эсме, а не Таллент, была в ответе не только за примечание (его туманность, его посредственный стиль), но и за новообретенную осторожность Таллента.
Не знаю, справедливо это или нет, но Таллент меня разочаровал. Я уже говорил, что не считал и не считаю антропологов творческими и обаятельными мыслителями – хотя они могут составлять превосходные подробные описания, – но я искренне восхищался, как мне казалось, его целеустремленностью. И он же первым познакомил меня со странным явлением, с которым сталкивается всякий, кто путешествует в необычные края и обнаруживает, что все его представления и знания не просто неверны, а перевернуты с ног на голову. Нетрудно проявлять интеллектуальную смелость в таких местах, где ученые, коллеги, вся западная история и религия кажутся несущественными и, более того, ошибочными. Однако отучаться от чего-то гораздо сложнее, чем обучаться чему-то, и даже самый смелый рассудок испытает соблазн отступить на знакомые позиции при первой же возможности. Ошеломительно и немного грустно сознавать, сколько открытий и усовершенствований задерживалось на годы и десятилетия не из-за недоступности информации, а просто из-за трусости, из-за боязни, что над тобой посмеются, что от тебя отвернутся коллеги.
К счастью, меня такое беспокойство никогда не ограничивало и такие страхи не сдерживали (мне казалось, что к остракизму коллег надо стремиться, а не пытаться его избежать). Так что в 1953 году я опубликовал короткую декларативную статью[51] – не более чем объявление, медицинский эквивалент тезисов Мартина Лютера на деревянной церковной двери[52] – в заштатном, ныне почившем журнале под названием «Анналы эпидемиологии питания». В ней я перечислил свои результаты: помимо того, что значительный процент мышей из первой группы, съевших опа’иву’экэ, был до сих пор жив, были живы и мыши из второй и третьей групп[53].
Мои биографы и молодые ученые с трудом верят, когда я рассказываю, каким осмеянием, презрением и ненавистью была встречена эта статья. Журнал «Анналы эпидемиологии питания» был, мягко говоря, маргинальный, но каким-то образом мою заметку умудрились прочитать люди, которые в норме не притрагивались к подобного рода научным публикациям, и в течение следующих месяцев «Анналы» (с избыточным рвением, надо сказать) публиковали всевозможные письма разных врачей и ученых, возмущенных, что такие «детские сказки и лихорадочные фантазии» подменяют собой настоящую науку и т. д. и т. п. Сотрудники соседней лаборатории, до сих пор с недоумением взиравшие на мой возраст, помещения и таинственное финансирование, стали приходить якобы поболтать с Чхоль Ю, которому сообщали все новости об очередных оскорблениях в адрес моей работы, недавно услышанных от такого-то химика или биолога. (Чхоль Ю только смотрел на них, время от времени моргая своими узкими глазами за стеклами очков, пока они не ретировались с триумфом, но они этого, кажется, вообще не замечали.)
Напрягало ли меня что-нибудь из этого? Нет, не напрягало. Я не сомневался, что прав, – наоборот, все больше в этом убеждался, потому что мыши, съевшие опа’иву’экэ, все жили и жили месяц за месяцем, их маленькие жизни протягивались все более длинной тонкой эластичной линией, – а я уже сказал, что не был склонен прислушиваться к чужой болтовне, особенно к болтовне таких чужих, к которым я не испытывал особого уважения.
Но и непрактичным я тоже не был. В не слишком воодушевленном приеме моей статьи меня раздражала одна-единственная вещь – он замедлял достижение тех условий, которые я стал считать для себя желательными. Я уже говорил, что к лабораторной жизни относился весьма двойственно, и это по-прежнему оставалось так. Но если ритм лабораторной жизни было трудно назвать стимулирующим, к ритму жизни моей собственной лаборатории это не относилось. Если бы меня оставили в покое – без надзора, без необходимости отчитываться перед кем бы то ни было, без руководства еще чьими-нибудь бессмысленными проектами, – это была бы высшая степень свободы, и я очень быстро понял, что хочу именно этого. Я хотел ставить собственные эксперименты. Я хотел писать что хочу, отвечать на интересные мне вопросы, лелеять каждую свою страсть, удовлетворять любое свое любопытство. Для этого мне понадобится собственная лаборатория. А чтобы получить собственную лабораторию, мне понадобится финансирование, и это означало, что мне надо доказать, причем очень быстро, свою состоятельность.
Я проводил время, размышляя над этой на первый взгляд непреодолимой проблемой, уставившись в пустоту, пока Чхоль Ю кормил мышей, записывал показания, обслуживал сновидцев (с которыми я сам работал все реже). А потом – это началось в конце февраля 1954 года – один за другим произошли два события, изменившие мою судьбу. Первое явилось в виде письма, причем не от кого-нибудь, а от Адольфуса Серени. В своем коротком сообщении Серени поздравлял меня с успешным возвращением с У’иву и – демонстрируя, что он тайный герпетолог, – с моей заметкой про опа’иву’экэ. Важнее, впрочем, было его признание в том, что моя заметка в «Эпидемиологии питания» его заинтриговала и он хотел бы повторить мои эксперименты. Я, разумеется, немедленно ответил. Серени был уважаемый ученый, он руководил хорошо налаженной лабораторией. Если он сможет успешно повторить мои результаты (а я в этом не сомневался), я почти мгновенно получу полное признание и легитимность, что, в свою очередь, приведет к той жизни и интеллектуальной свободе, о которых я мечтал. Даже я не мог не оценить иронию судьбы: подумать только, Серени, а я считал, что он меня ненавидит! Я велел Чхоль Ю аккуратно запаковать одну ногу опа’иву’экэ[54] и послать ее в Кеймбридж вместе со всеми копиями моих данных и подробными инструкциями по дозировке и прочему.
Событие второе: мыши как из первой, так и – в меньшей степени – из третьей экспериментальной группы стали демонстрировать ярко выраженные признаки умственного расстройства. В этот момент мышам из первой группы был пятьдесят один месяц, а из третьей – сорок шесть месяцев. Не сказать чтобы я был к этому не готов; еще прошлым летом, когда я писал статью, Чхоль Ю заметил, что мыши из первой группы ведут себя странно: они все вместе бегали кругами, так быстро и заполошно, что заплетались ногами друг за друга, падали на спины, махали в воздухе лапками и пищали. Или утыкались носами в угол клетки и производили странные глотательные движения, не похожие на обычное поведение грызунов, – открывали маленькие пасти и снова их закрывали, открывали и закрывали. Иногда они проводили за этим целые часы, широко открыв немигающие азалиево-розовые глаза. Я понимал, что происходит, – в конце концов, они уже прожили вдвое больше своего природного жизненного срока, даже с небольшим перехлестом, а сновидцы как раз на аналогичном этапе и начинали проявлять первые симптомы мо’о куа’ау. Но интереснее всего они начинали вести себя, прожив втрое больше положенного, то есть более или менее к эквиваленту возраста Евы. Как я и надеялся, ухудшение их показателей внезапно и резко набрало темпы. Семью месяцами раньше случались периоды просветления, когда их поведение все еще было узнаваемо мышиным: они бегали в колесе, зарывались в снег из резаной бумаги, подбирали и подгрызали кусочки еды, которые мы им бросали, передними лапками. Но теперь у оставшихся двадцати трех мышей уже не было даже этих базовых поведенческих рефлексов.
Позже меня спрашивали, почему я решил об этом не сообщать. Но это трудно назвать моим собственным решением. Я уже отметил, что никто не стремился узнать мое мнение о чем бы то ни было, уж тем более о мышах-долгожителях с прогрессирующей деменцией. Даже если бы я захотел что-то сказать, никто бы не прислушался. Но не могу не признать, что был и другой фактор – произносить слово «предвидение» мне неприятно, но что делать, – способствовавший моему молчанию. Я уже тогда понимал, что пройдет не так много времени, мои открытия получат должное признание и будут сочтены тем, чем они и являются, и поведенческое ухудшение в мышах окажется не только следующим этапом рассказа, но и очередной моей проблемой. Я уже доказал, что опа’иву’экэ может продлевать жизнь; теперь мне предстояло выяснить, как это можно сделать, не вызывая сопутствующего ужасного наказания.
Те двадцать четыре месяца, которые мне пришлось пережить после начала эксперимента Серени, в точности повторившего мои результаты, тянулись невыносимо долго[55]. Сейчас-то я, конечно, понимаю, что двадцать четыре месяца – это ничто: два миллиона вздохов, череда ночных снов, набор съеденных блюд и прочитанных книг. Двадцать четыре месяца – ровно то время, которое мне предстоит провести здесь, – это мало, так мало, что дни исчезают еще до того, как успеешь их описать.
И не то чтобы меня не держали в курсе. Серени посылал мне письма – иногда длинные и подробные, иногда краткие протокольные, – сообщая подробности эксперимента. Я стал рисовать график, чтобы следить за каждым его шагом, отмечать, какие мыши умерли, какие кажутся вялыми, на сколько дней, недель и месяцев они пережили свой естественный жизненный срок. Но несмотря на это, несмотря на информацию от Серени и на мои собственные попытки понять, почему дар продленной молодости и жизни, приносимый опа’иву’экэ, так безнадежно портится и чем это можно предотвратить, я ощущал, как время работает против меня. Каждый день проходил под тиканье беспощадных часов, каждая секунда отзывалась в моем сознании громким и глухим звуком пощечины. Мне исполнилось тридцать, потом тридцать один, вокруг роились коллеги младше[56] и, надо думать, не талантливее меня, и все они рвались к престижным должностям, к славе, к признанию, а я сидел в своей лаборатории и ждал, пока конверты очередного дня протиснутся в щель и плюхнутся на пол, чтобы помчаться к ним, как мыши мчались к своей пище, и искать среди них письмо от Серени.
Но наконец день, которого я ждал, пришел: в начале апреля 1956 года Серени сообщил мне, что готов послать свою работу в журнал. Восемьдесят семь процентов[57] его мышей, съевших опа’иву’экэ, были живы в возрасте сорока месяцев[58]; представители контрольной группы давно умерли. Серени, ученый намного более уважаемый и именитый, чем я, уже поговорил со своим приятелем, редактором «Ланцета»; статья должна была выйти в сентябрьском выпуске.
Знал ли я, какой реакцией будет встречена статья Серени?[59] Конечно нет. Разумеется, я питал некоторые подозрения, но получилось все так, как будто я заснул парией, а проснулся каким-то божеством: я стал своим собственным опа’иву’экэ, создателем жизни и властителем чудес, человеком, который открыл нечто превращающее невозможное в возможное. В те времена новости разлетались не с такой скоростью, как сейчас, поэтому от публикации статьи Серени до появления журнала в руках его американских читателей прошло примерно две недели тишины, как будто Серени никакой статьи и не писал. Я заранее получил копию его отчета – вполне удовлетворительного, в основном повторявшего все, что я уже написал или знал, только от имени куда более авторитетного источника, – и сразу после публикации стал звонить и посылать ему телеграммы и письма с утомительной, должен признать, частотой, требуя передать мне полученные отклики и сообщить, что это может означать для меня. Серени, как я теперь понимаю, проявил себя в той ситуации совсем неплохо: даже еще не подав статью в печать, он любезно познакомил меня с несколькими сотрудниками разных университетов и институтов, которые могли бы предложить мне какую-то постоянную работу. В результате я поговорил с руководителем Стэнфордской медицинской школы и с руководителем такой же школы Калифорнийского университета, съездил снова на Восток, чтобы побывать в неврологическом отделении Гарварда (Серени по необъяснимой причине не было в Штатах в тот момент, поэтому он со мной не встретился) и в разных других лабораториях Джонса Хопкинса, Рокфеллера, Йеля и т. д. Там я заодно заехал навестить Оуэна, который стал еще толще и еще бородатее и теперь преподавал в Амхерсте, где ему, видимо, нравилось больше, чем в Миллзе. Мы сидели на ступенях отделения английской литературы (была поздняя весна, но холод стоял ужасный), пили чай такого вкуса, как будто Оуэн бросил в горячую воду кусочек древесной коры и немножко его там повозил, и я наблюдал, как Оуэн наблюдает за проходящими мимо студентами, сжав веки в жадные узкие щели. Чувствовал он себя весьма победоносно, потому что его первый поэтический сборник, «Бродячее небо», только что вышел в каком-то заштатном издательстве[60] и был встречен восторженными рецензиями. Мне пришлось очень нелегко: я был вынужден сидеть рядом с ним, чувствуя, что он разогрет своим триумфом, как утюг, а мне за долгие годы, проведенные в лаборатории с молчаливым восточным ассистентом, было нечего предъявить, кроме обещания Серени и его же статьи, и все мои надежды замерли в воздухе где-то между Гарвардом и Лондоном.
Но что началось, когда статью прочитали! Внезапно поток телеграмм, писем и телефонных звонков сменил направление, и, прибегая в лабораторию, я ежедневно обнаруживал новые восхваления, запросы и поздравления, нередко от тех самых людей, которые три года назад надо мной издевались (в эту группу не входили все мои бывшие коллеги из лаборатории Смайта и все мои нынешние соседи, чьи захаживания к Чхоль Ю внезапно прекратились после статьи в «Ланцете»). Единственные люди, от которых я мог бы что-то услышать, но не услышал, были Таллент и Эсме: они уже шесть месяцев как находились на Иву’иву – я слышал, что их статья незамедлительно обеспечила новые поступления в фонд их исследований, – и этому я был рад. Я занимался естественными науками, не имеющими к их области никакого отношения, и к тому же ничего уже нельзя было сделать, но я все равно с ужасом думал о том дне, когда мне придется вступить в неизбежный разговор с Таллентом о краже опа’иву’экэ.
И вот уже почти наступил 1957-й, и события снова пошли одно за другим непрерывной чередой. Однажды поздно вечером я сидел в лаборатории и отвечал на одно из тех многочисленных писем, что приходили каждый день, когда в дверь постучали и в комнату вошел высокий бородатый мужчина с бумажным пакетом, в котором что-то громыхало.
Я даже не сразу понял, что это Таллент. На Иву’иву он, конечно, носил бороду – как и я, – но все равно видеть ее подстриженной и чистой, как сейчас, не говоря уже про смену контекста, было странно.
– Ну что ж, – сказал он, после того как мы пожали друг другу руки и уселись друг напротив друга на высоких стульях, – я так понимаю, что вас можно поздравить.
Из-за бороды мне было трудно распознать выражение его лица. Мне показалось – или, может, просто хотелось надеяться, – что он произнес это довольно весело, но поручиться я не мог.
Я сразу же заговорил, по всей видимости, рассчитывая, что если буду говорить достаточно быстро и долго, то смогу заставить его – сделать что? простить меня? забыть про черепаху? – пока он наконец не выставил вперед ладонь.
– Нортон, – сказал он, и я услышал в его голосе нотки прежней усталости, особого рода утомления, звучавшие, похоже, только в моем присутствии, – я так и так уже подозревал, что вы это сделали.
– Вы не злитесь? – спросил я с огромным облегчением.
Его губы слегка дернулись.
– Этого я не говорил, – ответил он. – Вы и так знаете, что я выступал против ваших действий. Но почему вы сделали то, что сделали, я понимаю.
Мы еще немного поговорили – он задавал не вполне точные, но на удивление осмысленные вопросы о моей работе (впечатление было такое, что он прочитал статью и даже ее понял).
– Что ж, – сказал он наконец печально, – для них все кончено.
– В каком смысле? – спросил я.
– Если вы правы, Нортон – и даже если неправы, – все фармацевтические компании ринутся туда и попытаются наловить этих черепах. Не говоря про антропологов, ботаников, герпетологов и так далее. Иву’иву, который мы знаем, больше не существует.
Мне показалось, что нечестно обвинять в этом меня одного, и я так и сказал. Разве его собственная статья не раскрыла остров миру? Их нельзя уже считать затерянными.
– Конечно, вы правы в том, что я тоже виноват, – ответил он. – Но моя статья не показала миру ничего, кроме небольшой группы людей, которых никак нельзя использовать, уж во всяком случае для получения выгоды[61].
Он встал, подошел к другой стороне стола и начал поднимать разные колбы, глядеть внутрь и ставить примерно на прежнее место. От антрополога, который молится на сохранение всех вещей на исходном месте, я ожидал бы большей аккуратности, но, видимо, ошибался.
– А тут, – сказал он, – тут все иначе.
Он замолчал и стал вертеть в руке случайную пипетку, которую Чхоль Ю не убрал. Неспециалисты ведут себя в лаборатории на удивление неуклюже и бесцеремонно; все пространство представляется им каким-то модным магазином, а с нашими инструментами, по их мнению, можно забавляться и играть, как с бижутерией.
– Когда мы там были сейчас – я только что вернулся, на прошлой неделе, – мы ждали на у’ивском берегу лодку, которая должна была отвезти нас на Иву’иву, и тут подбежал королевский вестник и передал мне записку, в которой говорилось, что король хочет меня видеть. Кто эти люди, хотел знать король, и должен ли он предоставить им право посетить остров? И что я могу ответить на обвинения, выдвинутые в мой адрес автором письма? Это было письмо от другого антрополога – из Колумбии, я его знаю. Оно было написано по-у’ивски, но очень коряво – ему явно приходилось искать по отдельности каждое слово и переводить предложения с английского дословно, – но так или иначе он утверждал, что мы бывшие коллеги, а он хочет сам отправиться на У’иву. Он воздавал королю хвалу – неуклюже, как я уже сказал, но горячо – как великому монарху и утверждал, что Запад многому может научиться у его цивилизации. И с разрешения короля он хотел бы приехать на острова, чтобы потом обучать Запад. В конце письма, что, пожалуй, не удивительно, содержалось несколько строк о том, как моя работа изображает короля и его подданных безумцами и идиотами, как из-за моих писаний весь мир смеется над ними и, что еще хуже, собирается на них напасть. Он сообщал королю, что если тот хочет защитить свой народ, меня нужно немедленно выслать с островов и убедиться, что у меня нет никакой возможности вернуться.
Он отложил пипетку, взял стопку писем и принялся не глядя теребить ее.
– Я предполагал, что нечто подобное может произойти, но не думал, что оно произойдет так… ну, наверное, можно сказать «отвратительно». Я хотел сесть на лодку и уплыть – проводники уже ждали нас на Иву’иву, – но пренебречь таким сообщением не мог. Поэтому я велел Эсме продолжать путь, а сам отправился с посланником в королевский дворец.
– Он очень разозлился? – спросил я.
– Король… короля довольно трудно понять. Разговор с ним наполнен паузами, и приходится учиться их пережидать. Я просидел с ним почти до ночи. Он говорил что-то, что-то бессмысленное, типа «Почему вы говорите людям дурное про мою страну?», и приходилось объяснять, что это не так, что тебя переврали, а он просто сидел, смотрел на что-то не совсем видимое, пока молчание не становилось совсем уж невыносимым, и тогда его следующий вопрос – «А вы надолго?» – казался и благословением, и проверкой. Тебе разрешили продолжать? Все забыто? Или это чисто практический вопрос? Надо ли ответить, как я и ответил, «На шесть месяцев, ваше величество» или смиренно сказать «Насколько ваше величество позволит»?
В конце концов он меня отпустил, и я добрался до Иву’иву всего на день позже запланированного. Но прежде чем я ушел, он сказал мне, что получил много, много писем от людей, которые хотят приехать на острова. Пока что ни на одно из них он не ответил. Было ли это предупреждением? Или просто констатацией факта?
– Погодите, – сказал я. – Как они вообще получают почту?
Он сморгнул:
– В Папеэте, на Таити, есть форпост, нечто вроде неофициального посольства. Тамошний консул ездит в Таваку и обратно раз в месяц. Вся международная корреспонденция приходит к нему.
– Ага, – сказал я.
– Суть вот в чем, Нортон, – сказал он, вставая и снова принимаясь расхаживать туда-сюда, – в какой-то момент кто-нибудь предложит королю что-то желанное, и когда это произойдет, остров больше не будет вашим или моим в той мере, как это обстоит сейчас. Он будет принадлежать самому удачливому соблазнителю. И тогда ваше исследование прекратится, как и мое.
– Разве он не захочет защитить Иву’иву?
– Да нет. Королю наплевать на Иву’иву. Остров его скорее смущает, и тамошних людей он не принимает во внимание.
– А если он поймет, что на этом можно заработать?
Таллент помотал головой:
– Деньги королю безразличны. Они для него ничего не значат.
И тут у меня возникла мысль, которая сразу же заполнила весь мозг и этим напугала.
– Таллент, – сказал я, – а вы-то что предложили королю, чтобы он вас пустил на остров?[62]
Он внимательно посмотрел на меня. Мне снова померещилось под его бородой что-то вроде улыбки.
– Ну как я вам скажу? – ответил он. – Все ведь узнают.
Я не знал, как на это реагировать. Он подразумевает, что я болтун? Он просто так шутит? Почему Таллент всегда так чудовищно уклончив? Но я еще не успел сформулировать следующий вопрос, а он уже шел к комнате, где мы держали сновидцев, потряхивая бумажным пакетом.
– Привез сушеных хуноно с Иву’иву, – сказал он. – Лучший подарок.
Появление Таллента растревожило меня сильнее, чем я ожидал, и сильнее, чем следовало. Общение со сновидцами его разозлило.
– Нортон, что с ними такое? – рявкнул он, безуспешно попытавшись обрадовать их кучей хуноно, которая еще совсем недавно вызвала бы обильное слюноотделение и нетерпеливое клацанье зубами, и, прежде чем я успел что-нибудь ответить, сказал: – Муа больше даже не разговаривает. Ева даже не встает! И они растолстели – чем вы вообще их кормите?
Я не могу не признаться, что проводил со сновидцами намного меньше времени, чем следовало, но мне казалось страшно несправедливым, что Таллент обвиняет меня в их деградации. Он что, смог бы справиться лучше в такой среде? (Я на мгновение представил сновидцев, которых мы оставили на острове, привязав к манаме, – они что, здоровее и веселее чем те, которых мы взяли с собой? Да живы ли они вообще?)
Он ушел в ярости, а я вдруг почувствовал себя опустошенным. Конечно, это была смехотворная реакция; мне уже не требовалось от Таллента никакой помощи, а тем более одобрения, не говоря о том (пришлось напомнить себе), что и к его области знаний я не испытывал особого почтения. И все же я страстно мечтал получить от него что-то, чего он не хотел или не мог мне дать.
Это все-таки не помешало мне порадоваться, когда через некоторое время я узнал, что мне предстоит вернуться на Иву’иву. Помимо молниеносно обрушившегося на меня научного реноме, статья Серени принесла еще один дополнительный плюс (или, если бы вы спросили Таллента, минус): теперь каждый медицинский университет страны хотел послать собственную группу исследователей на Иву’иву с единственной целью наловить как можно больше черепах и привезти их в лаборатории. Хотя у меня даже близко не было официального или постоянного статуса при университете – о чем я не ленился напоминать ректору при каждой возможности, – меня как «почетного гостя» образовательного заведения смиренно попросили отправиться туда в качестве представителя Стэнфорда. Меня будет сопровождать, сказали мне, хорошо знакомый мне специалист – Таллент. И, к сожалению, Эсме.
Я не очень понимал, как реагировать на такие новости. Моя привязанность к Талленту, мое желание быть рядом с ним, даже когда я видел, что он не отвечает взаимностью, вышли из-под контроля: собственные чувства казались мне гигантским грибом, раздувшимся, неуклюжим, расползающимся, точно опухоль, странными, противоестественными образованиями. К тому же, памятуя о нашей последней встрече, я боялся, что его каким-то образом заставили согласиться на подобную сделку и что я не буду для него желанным партнером. (Мои чувства к Эсме были существенно проще, но когда я спросил ректора, так ли необходимо, чтобы она ехала с нами, он растерянно наморщил брови, и я тут же понял, что продолжать не надо.)
Так что через месяц на У’иву я выходил из самолета на ту же неровную площадку, как будто для игры в поло, и садился на ту же смехотворную низенькую лошадку (или совершенно такую же), которую вел под уздцы человек по имени Пава, выглядевший клоном Ту или Увы, так он был на них похож. Но на этот раз я отправился не в вонючую хижину, а оттуда на остров – меня повезли в Таваку встретиться с королем. Я ожидал этого с большим нетерпением – мне было интересно увидеть и Таваку, и короля.
Десятилетия спустя я оказался на конференции в Чили, в Вальпараисо, и, стоя в вестибюле гостиницы, смотрел в окно. Передо мной лежал порт, где огромный кран юрского периода легко, как детские кубики, расставлял пирамидой транспортные контейнеры пастельных цветов, а вокруг расстилался аккуратно перевернутый зиккурат города, где уступы домов и других строений ровными геометрическими ступенями поднимались в мрачную влажную серость неба. Я никогда раньше не был в Вальпараисо, но пейзаж отчего-то казался знакомым, как будто я здесь не впервые. И только через несколько часов, слушая очередной бесконечный доклад, я понял, почему узнал обстановку: некогда я надеялся, что так будет выглядеть Тавака.
Это, конечно, смехотворно. Вальпараисо – оживленный портовый город, через который проходят тысячи тонн груза, а счесть Таваку центром чего бы то ни было – такая натяжка, от которой истина лопнет по швам. Но тогда – не забывайте, что при всем жизненном опыте путешествовал я не так уж много, – мне казалось, что так и должно быть: Тавака же столица острова и должна как-то отражать свое положение.
Надо ли говорить, что ничего она не отражала. И ладно бы только это: больше всего в Таваке поражало именно ее сходство с иву’ивской деревней. Общее устройство было примерно такое же – дома кольцами окружали немощеную городскую площадь; здесь тоже были вепри (хотя поменьше, поигрушечнее), которые без привязи рыскали между домами, и дети (полуодетые) тоже ходили туда-сюда, кричали что-то друг другу, падали, хихикали, плакали и вообще делали все то же, что делают дети в любой точке мира. Дома были попрочнее и позамысловатее – простые деревянные строения, с дверями (но без замков) и крышами из пальмовых листьев, и их было больше, но с некоторого расстояния они вполне сошли бы за дома на Иву’иву. Имелись и существенные отличия: море снова и снова лизало здесь своими волнами узкую и плоскую песчаную полосу, а ближайшие дома и королевский дворец, находившийся примерно на месте девятой хижины, стояли от нее ярдах в пятидесяти, и окружен был этот городок не лесом, а большими квадратами обработанной земли, где темно-коричневый цвет глины чередовался с ярко-зелеными пятнами молодых всходов. Рядом, конечно, поднимались джунгли, но так напористо прореженные, что прямо сквозь них виднелись горы с покрытыми коркой спутавшихся деревьев вершинами.
Я, безусловно, ожидал от королевского дворца чего-то более торжественного, и хотя он был значительно крупнее остальных построек – примерно всемеро больше обычного дома – и слегка возвышался над ними, по архитектуре он ничем от них не отличался, и ничего особенно монархического в нем не было. Над дверью висел панцирь опа’иву’экэ, элегантный, но далеко не такой красивый, как в девятой хижине, обвитый плетеной гирляндой лиан, от которой, когда я прошел под ней, пахнэло лимонно-перечным духом. Одновременно я заметил, что черепаший панцирь в одном месте треснул, его скрепляли маленькие деревянные клинья.
К моему удивлению, обстановка внутри оказалась очень приятной. Дом был устроен примерно как японский храм – одна длинная комната с низким потолком и маленькими вестибюлями с обеих сторон, проход в которые закрывался пальмовыми циновками. Никакого личного пространства тут не было, но при этом стояла тишина. Где же жены и их многочисленные дети? Где сам король? Полы тоже напоминали японский храм и тоже были покрыты пальмовыми циновками. На дальней стене, напротив входа, висел еще один панцирь опа’иву’экэ, гораздо больше, чем тот, что снаружи. По глубине цвета, по выцветшему и затертому виду пластин я понял, что он очень стар и его, вероятно, берегут как великое сокровище; в полутьме панцирь выглядел лишь тенью, если смотреть прямо на него, но стоило сдвинуться всего на несколько дюймов вправо или влево, и он, отражая солнечный свет, начинал пластмассово поблескивать.
Тут в левом вестибюле раздалось шуршание, и внезапно передо мной появился король. Увидев это, Пава, склонившись в полупоклоне, по-тараканьи удалился за порог и скрылся из виду.
Я сразу же подумал, что король выглядит куда менее представительно, чем вождь. Лицо у него было довольно приятное, если про у’ивцев вообще можно так сказать: широкие, веселые губы и очень круглые, очень темные глаза, как у мартышки. Волосы, в которых проскальзывала седина, были собраны в кудрявый хвост, а на бедрах красовался треугольный кусок какой-то блестящей атласной ткани – немного позже я понял, что это тысячи алых и черных перьев, связанных в беспорядочный узор. Отличали его разве что, во-первых, красивая корона, пышный венец из листьев папоротника лава’а, переплетенных с теми же цитрусовыми лианами, что украшали и вход во дворец – мне вспомнилась а’ина’ина, – и, во-вторых, копье, очень длинное, не меньше девяти футов, и тонкое, которое заканчивалось большим белым острием. Даже на расстоянии мне было видно, что на копье искусно выгравированы фигуры опа’иву’экэ, а на древке вырезаны завитки, которые, как позже объяснил мне Таллент, изображали волны.
С ним был еще один человек, худой, темнокожий, с кожаным мешком вокруг бедер, сшитым, насколько я понял, из шкуры вепря, и с одним ободком лозы на голове. Он подождал, пока вождь сядет передо мной, скрестив ноги, и кивнул мне, прежде чем сесть самому.
– Переводчик я, – сказал он.
В последующие годы меня много-много раз спрашивали об этом разговоре с королем, как будто он был последний единорог, а я – последний, кто видел его живьем. И каждый раз вопрошатели уходили недовольные, потому что правда заключалась в том, что мой разговор с королем прошел довольно непримечательно. (Позже, когда мне довелось встретиться с царствующими особами других стран, я понял, что будничность беседы, возможно, диктовалась не столько личными способностями Туимаи’элэ, сколько самой его должностью.) Он спросил, нравится ли мне У’иву, я сказал, что да. Он спросил, что именно мне нравится на У’иву, и мне хватило такта не упоминать Иву’иву – я сказал, что мне нравятся красивые деревья и цветы и его прелестный дом. Он кивнул. Тут у меня мелькнула мысль попробовать как-то повернуть разговор к панцирю опа’иву’экэ, но, как знает любой, кто встречался с главой государства, попытка затронуть любую конкретную тему – которую они, как правило, не очень хотят обсуждать, – почти непредставима, если нужно сохранить нормальные отношения. Он сказал, что, насколько ему известно, я работал с Таллентом, и я, не зная, что ему рассказали, ответил крайне осторожно: да, я работал с Таллентом. Да, он хороший человек. Да, он очень любит У’иву.
И тут все кончилось. Король ни разу не улыбнулся, но из-за его большого жабьего рта создавалось впечатление, что он все время усмехается; теперь он твердо и как-то окончательно кивнул, переводчик слегка шевельнул пальцами в мою сторону, и я выполз назад и наружу в той же сгорбленной жучиной позе, которую принял до того мой проводник. На выходе я сразу обнаружил Паву – прислонившись к стволу манамы, он напряженно смотрел на дверь и, увидев меня, широко улыбнулся; последовав за ним, я раздумывал, что это значит. Что, были люди, которые, встретившись с королем, больше из дворца не выходили? Я, очевидно, прошел какое-то важнейшее испытание, но какое – и какого наказания, видимо, избежал – я догадаться не мог.
Пава привел меня к одной из хижин, стоящих почти на берегу моря, остановился и что-то крикнул. Внутри послышался шорох, потом дверь толкнули изнутри, вышла женщина и встала передо мной, жмурясь от солнца. За ее спиной виднелся интерьер дома, по кругу обставленного разными вещами: пальмовыми циновками, ободами из скорлупы но’аки, вставленными друг в друга, как миски; набор бамбуковых палок; несколько плетеных, криво закрытых корзин. На женщине, как и на Паве, был единственный бесполезный предмет, как будто вовсе не выполнявший функций одежды, – в ее случае это было длинное ожерелье, в котором попадались зубы, видимо, вепря, спадающее ниже грудей, но не закрывающее их. Двое детей – мальчик лет одиннадцати (если и старше, то лишь немного, потому что копья у него не было) и девочка лет девяти – вышли и встали рядом, не прикасаясь к ней, и уставились на меня с тихим и серьезным видом. В нескольких ярдах от нас носилась шумная ватага ребятни, но эти двое не глядели туда, а только подняли глаза на меня.
Пава выжидательно смотрел на меня, как будто я с ними знаком, и когда я ничего не сказал, а только посмотрел сначала на них, потом на него, на его лице отобразилось нетерпение.
– Кто это? – спросил я его на у’ивском.
– Фа’а но охала, – ответил он удивленно. Семья Фа’а.
Я изумился, разозлился и растерялся. Почему меня сюда привели? Возможно ли – нет, невозможно, – что я сам просил о встрече с ними?
Так начались мои вторые за день странные переговоры. Я задавал вопросы, а женщина, вдова Фа’а, отвечала на них так коротко и уныло, что позже я задумался, все ли у нее в порядке с головой. Все это время мою неловкость покрывала пелена ярости. Почему меня заставляют испытывать чувство вины, встречаться с семейством Фа’а, видеть их печальную хижину (то, что мне казалось аккуратным и упорядоченным пространством, теперь представлялось бедным, лишенным имущества, цвета, деятельности), когда я не имею никакого отношения к его смерти, случившейся вообще-то несколько лет назад? Подвергался ли такой же встрече Таллент? Что им нужно? Деньги? Вещи?
Уважение, которое мне удалось вызвать у Павы после успешной встречи с королем, быстро развеялось; несколько минут он с растущим изумлением смотрел то на меня, то на вдову Фа’а, затем вмешался и заговорил с ней так быстро, что понять его я не мог. Он то ли читал ей нотацию, то ли о чем-то умолял, а точнее угадать не получалось, потому что она ни разу не подняла головы, не посмотрела на него. Оба ребенка придвинулись к ней ближе, но тоже не подняли взгляда. Я впервые заметил, что у их кожи пыльный оттенок, как будто их обваляли в тальке, и что другие дети бегут мимо, как будто этих вообще нет рядом. Из-за хижины появились две женщины; они несли корзинки и громко болтали, но, пройдя в нескольких дюймах от хижины Фа’а, ни одна из них не поприветствовала вдову и даже не взглянула в ее сторону. Чувствовать себя в полной физической изоляции было невозможно – в конце концов, все они населяли очень маленькое пространство, – но было ясно, что остальные жители деревни по мере сил вытеснили семью Фа’а из своего общества. Даже расположение хижины, стоящей на самой дальней окружности, приобретало глубокий смысл: ее обитатели могли отправиться отсюда только в море. Обернувшись к воде, я увидел в идеальной раме из дома Фа’а и соседней хижины конический абрис Иву’иву; этот вид, стало быть, служил для семьи вечным напоминанием о месте, куда отправился и где пропал их муж и отец, и причиной, как я позже догадался, их отверженности[63].
Наконец, убедившись, что не может уговорить женщину поступить так, как он рассчитывал, Пава схватил мальчика за руку и толкнул его ко мне.
– Хочешь его? – спросил он.
– Что? – Я был, разумеется, потрясен. – Нет, конечно нет!
Он оттолкнул мальчика обратно к матери (которая по-прежнему не поднимала головы) и схватил за тонкую руку девочку.
– Тогда вот ее?
– Не знаю, что тебе сказали, – ответил я Паве, – но мне не нужны эти дети.
– Но она же не может их держать, – сказал мне Пава.
– Я тоже не могу.
Я ожидал, что он продолжит со мной спорить, но он повернулся и снова заговорил с вдовой Фа’а – длинный беспорядочный поток слов, из которого мне удавалось выловить лишь несколько бесполезных элементов, «ты», «Фа’а», «дети», «нет» и так далее, – а потом обратился ко мне.
– Пошли, – сказал он и отправился к краю деревни.
Следуя за ним, я злился и закипал. Что значила эта встреча, как ее понимать? Урок, конечно, заключался в том, что смерть Фа’а оставила его семью в крайней нищете и я в этом как-то виноват (хотя, безусловно, вина в той же мере, а то и в большей, относилась к Талленту – может быть, детей сначала предложили ему?). Или не в этом? Есть ли здесь вообще такое понятие, как нищета? По тому, как управлялась деревня на Иву’иву, по тому, как дни и люди сталкивались друг с другом без явных правил и тонкостей, я всегда предполагал, что У’иву тоже существует в обстановке некоего вялого, неразвитого социализма, где все делится поровну и ни у кого, кроме короля, нет ничего более внушительного, чем у всех остальных. Так почему же тогда у семьи Фа’а все иначе? И – что еще существеннее и еще тревожнее – почему мне предлагают его детей?! Уж наверное, проще было бы попросить меня их чем-то обеспечить (правда, как сделать это, я тоже не имел бы никакого представления, потому что об у’ивских деньгах и о том, как их добывают, решительно ничего не знал), хотя бы едой? В глубине моей души стал распускаться росток страха: а вдруг Фа’а видел меня с мальчиком в лесу и составил обо мне определенное представление, которое передал остальным? Но так думать не следовало. Ко мне возвращалось прежнее утомительное ощущение, характерное для этих островов, когда мне все время задавали непонятные вопросы и я оказывался участником одностороннего, неописуемого разговора, в котором все мои реакции были неверны.
Через неделю – или позже? – я снова оказался в лагере Таллента, в том же – том ли? – участке леса на краю деревни. На этот раз моим проводником был не у’ивец, а настоящий иву’ивец, которого я помнил по прошлому разу только потому, что у него была ужасная расщелина нёба, как будто нижнюю часть его лица сжевал и выплюнул какой-то зверь, после чего ее собрали снова. От этого разговор с ним, мягко говоря, страдал – во-первых, потому, что он и так-то был не слишком разговорчив, а во-вторых, из-за того, что все его слова выходили такими исковерканными и невнятными, будто он говорил из-под воды.
Еще в прошлый раз по скорости, с какой Ува и Ту отправились от нас к своим семьям, стоило нам причалить к берегу У’иву, мне стало понятно, что в ближайшее время они не захотят возвращаться на Иву’иву, но их доброжелательного присутствия мне не хватало. Однако новый проводник – я не смог разобрать, как его зовут, Уо или Уву, – прекрасно разбирался в окружающей природе, и хотя говорил он невнятно, я вскоре научился восхищаться тем, как он умел обнаруживать мельчайшие чудеса окружающего леса, которые он либо приносил мне, либо показывал, чтобы меня порадовать. Однажды он принес алый лепесток размером с горошину, осмотрев который я понял, что это орхидея, уменьшенная до невероятного размера, с губой бледного, неземного серого цвета. Увидев, что я доволен, Уо поманил меня к стволу канавы в нескольких ярдах от тропы, и я увидел, что на земле джунглей ярким, кроваво-алым пятном растет целое озеро этих цветов. Больше всего меня впечатлил их запах – сладость, смешанная с увяданием, – заполнявший ноздри до отказа, так что память о нем держалась потом еще несколько часов.
С Уо я смог увидеть многое из того, что в прошлый раз осталось скрытым, и поскольку я не так сильно боялся и не так торопился к месту назначения, то мог осматривать и изучать окружающий мир внимательнее. На этот раз я сделал то, что следовало сделать еще при первой возможности: когда Уо принес мне существо, которое я принял за броненосца, но потом увидел, что это чудовищных размеров жук с панцирем из сотни гибких пластинок, расходившихся и находивших одна на другую, пока жук извивался в руках Уо, я зарисовал его, сделал ряд пометок и замеров. Я положил между страниц блокнота круглые листы, похожие на гинкго, росшие рваными ярусами на тонком золотистом стволе, которого я раньше не замечал; их цвет менялся от зеленого у черенка до фиолетового на кончике через странный, неопределимый оттенок, наводивший на мысли о драконьей чешуе. Я нашел гнездо ящерицы, где лежали иссиня-черные яйца размером с плоды авокадо с кожистой покрытой точками скорлупой; она счищалась толстыми, гибкими кусками, как апельсиновая шкурка. (Внутри я с удивлением обнаружил зародышей ящерицы, покрытых странной хлопковой пеленой, которая стала разрушаться сразу же, как вытекла эмбриональная жидкость[64].)
Так что окончание путешествия, когда Уо привел меня в лагерь к соотечественникам, даже слегка огорчило. Когда я появился, Таллент даже не встречал меня – была только Эсме, чей вид и характер, как ни прискорбно, не улучшились за прошедшие семь лет. Приняла она меня не слишком приветливо – сказала: «Нортон».
– Эсме, – кивнул я в ответ. И все.
Несмотря на все страхи Таллента касательно разных конкурентов и наемников, которые вот-вот оккупируют остров, к нашей группе присоединился только один человек, мелкий и суетливый миколог из Беркли по имени Йохан Мейерс. Он был из тех, от кого устаешь почти немедленно, главным образом из-за его глаз навыкате и частого моргания (он был очень близорук) и ужасного заикания, которое усугублялось его твердым намерением рассказывать про каждую встреченную мелочь. Один раз я опрометчиво отправился с ним по грибы и был вынужден выдерживать его многочасовое лепетание: «А тут вот – а что это у нас? – а, это такой гриб, который растет такими слоистыми наростами на стволе манамы. Консистенция очень мягкая, почти бархатная, сверху что-то вроде очень нежного пуха, почти как у мухи, но только бархатистого, а не грубого, почти серебристого по цвету» и т. д. и т. п. Как большинство микологов, Мейерс был чудовищно скучен и интересовался только одной вещью на свете – грибами. В нескольких дюймах от его носа по джунглям мог пройти динозавр, и он вряд ли отвел бы глаза от лужицы улиткообразных грибов, которые обнаружил у подножия старого папоротника лава’а. Его совершенно не интересовали черепахи или люди, уж тем более люди очень старые, и к этому добавлялась полезная способность просто не слушать, когда разговор переходил на подобные темы, а вместо этого отплывать в наведенный транс, превращающий весь мир в разнообразные грибные конструкции. Наступление транса отслеживалось легко: его маленький рот слегка приоткрывался, а глаза за толстыми бастионами очков увлажнялись и приобретали экстатическое выражение. В такие моменты я часто ему завидовал.
За этот приезд я рассчитывал сделать три вещи. Первое – оценить умственное состояние вождя (ему было всего шестьдесят семь, его советнику семьдесят, так что я планировал просто рутинную проверку и никакой умственной деградации пока не ожидал). Второе – проверить, отмечал ли кто-нибудь еще свою вака’ину, и если да – собрать данные об этих людях. Третье и самое важное – поймать как минимум еще двух опа’иву’экэ, которых я намеревался привезти в Штаты живыми. На это у меня было чуть меньше месяца: на двадцать восьмой день Уо отведет меня вниз к берегу, к лодочнику, тот отвезет на У’иву, а на рассвете тридцать седьмого дня на поле меня подберет летчик. Если я с ним разминусь, придется еще девять недель ждать намеченного отъезда Таллента и Эсме.
Один из немногих плюсов повторного посещения такого места, куда никто никогда не приезжает и где ничто никогда не меняется, состоит в том, что можно пропустить все приседания и просто снова встроиться в течение местной жизни. На четвертый день я отыскал вождя, который со мной кратко побеседовал. Я почти уверен, что он меня узнал, но мое появление, казалось, его не удивило и не порадовало. Его совершенно не тронула моя новая способность говорить с ним на его языке, как и невероятность самого моего повторного появления в его жизни. Но я получил от него ответ на важный для меня вопрос: нет, больше никто не праздновал свою вака’ину. Что же до вопросов, относящихся к его умственной деятельности, тут мне пришлось делать собственные выводы. Я ведь не мог предложить ему какие-либо тесты без риска нанести обиду, но когда мы расстались, я был вполне уверен, что ухудшение пока не началось.
Приобрести опа’иву’экэ оказалось и сложнее, и проще, чем я ожидал. К счастью, мне не пришлось притворяться, что черепаха меня не интересует; не заводя никакого разговора на эту тему, мы с Таллентом как будто добились некой молчаливой разрядки: он знал, что я приехал за опа’иву’экэ, и решил не говорить об этом, если я промолчу. В любом случае я видел его и Эсме гораздо реже, чем ожидал, – они занимались структурой семьи и общества иву’ивцев, что меня не очень интересовало, и проводили большую часть времени, опрашивая разных жителей деревни.
Однако эту радостную картину портило отсутствие проводника, который отвел бы меня к черепашьему озеру. Единственное, что Таллент мне решительно запретил, – это спрашивать у деревенских жителей, как добраться по извилистой тропинке на верхнее плато; это так оскорбит их, сказал он, хорошо, если живыми уйдем. Позже я нередко раздумывал о постоянных угрозах Таллента, связанных с насилием со стороны иву’ивцев, и гадал, какие из них были преувеличены, призваны лишь заставить меня вести себя так, как он считал нужным, а какие реальны и основаны на опыте. Безусловно, мои собственные наблюдения за обращением деревенских жителей с дичью подтверждали, что они ловко управляются с копьями и не боятся их применить, но ни разу за все время, проведенное в деревне, я не видел, чтобы кто-нибудь из них поднял оружие на человека. Просто необходимости не случалось или же они были в принципе неспособны на подобную жестокость? Этого я так никогда и не узнал.
Мне, разумеется, не хотелось отправляться в неуклюжий и запутанный ночной поход к озеру, так что дни я проводил, поднимаясь все дальше по тропе и тщетно пытаясь понять, что выглядит знакомо, а что нет. Каждую вылазку я начинал, обвязав бечевкой основание манамы за девятой хижиной, и завершал, привязав другой конец бечевки еще к чему-нибудь. По глупости мне не приходило в голову, что тропинка может раздваиваться бесчисленное количество раз, и от полного отчаяния спасло меня только то, что каждая из троп, которые я без толку исследовал, заканчивалась тупиком: одна упиралась в сверкающую поросль желтого бамбука, стебли которого стояли так плотно, что я не мог даже просунуть между ними палец, другая – в гладкую громаду желто-серой скалы. Но ведь где-то наверху шла, шла извивающаяся, нелогичная тропка, ведущая к той невероятной поляне и озеру с большеглазыми черепахами[65].
Так проходили мои дни. Но по вечерам я думал о сновидцах. Не думать о них было непросто, особенно если я оказывался один в лесу; мне все время казалось, что однажды я повернусь и там, перед этим деревом или оперевшись на тот камень, будет стоять кто-нибудь из них. Может, кто-то знакомый, один из тех, кого мы оставили с приношениями «Спама» и хуноно, а может, кто-то, кого я никогда не видел, близнец Муа или Ика’аны. Может, один человек, может, несколько; может, он будет помнить свое прошлое, может, нет; может, он будет страшен, может, не будет. Иногда в особом предвечернем свете, когда воздух вокруг как бы сверкал и переливался миллионами золотых пылинок, я почти не сомневался, что вижу одного из них, что тень волос тучей проходит по занавеси деревьев, – или слышу, что шаги кого-то из них трещат по слою валежника за моей спиной. Но, оглянувшись, я ничего не обнаруживал, и мне приходилось напоминать себе, что, даже встретив кого-то из них, я легко с ним справлюсь, да и угрожать они мне не станут.
Однажды я возвращался после очередной бесплодной попытки найти озеро и, обогнув большой ствол канавы, внезапно увидел перед собой мальчика, того, чью а’ина’ину я наблюдал, того, с кем тогда столкнулся в лесу. Он, конечно, больше не был мальчиком – по западному календарю ему было бы семнадцать, – и когда я вскрикнул от неожиданности, он посмотрел на меня ровно и бесстрастно, и я почувствовал, как глупо столь бурное проявление чувств.
Надо признаться, что с момента прибытия я его искал, хотя не слишком усердно. В обычных обстоятельствах найти его было бы несложно, но охотничий сезон был в самом разгаре, в это время года самую крупную дичь – мартышек, ленивцев, диких вепрей, чье топанье по лесу иногда можно было расслышать, – убивали и освежевывали, и многие юноши, в другое время проводившие ленивые дни в деревне, посменно уходили на охоту, внезапно появляясь посреди ночи и снова исчезая, до того как остальные жители проснутся.
Он вырос, и это ему шло; он стал мужчиной. В одной руке он сжимал копье, другой придерживал своего вепря, злобного и забрызганного грязью, как вепри всех остальных мужчин. Но я все равно не сомневался, что это он: и взрослым он сохранил то же благородное, точеное лицо, тот же вздернутый подбородок, те же спокойные глаза. Сейчас он женат, подумал я, у него, может быть, есть свой ребенок. И что же, значит ли это, что его прятки в ночном лесу, объятия с другими мальчиками под деревом подошли к концу? Или если я прокрадусь в ближайшую ночь через тьму, выставив вперед руки, как прежде, я снова набреду на него, на спокойную и молчаливую фигуру, ждущую моего появления?
Я представлял, как много хочу ему сказать, но в тот момент ничего сказать мне не удавалось, так что в конце концов я лишь кивнул. После долгой паузы он ответил мне кивком, повернулся и молча пошел по тропинке в незнакомую часть леса в сопровождении своего переваливающегося вепря. Через несколько секунд его уже не было видно; раздвинутые им тонкие стволы сразу же сошлись вновь, полностью стерев его присутствие.
Я стоял, уставившись на место его исчезновения. Вспомнил ли он меня? Что не вспомнил, казалось невозможным. Но тем не менее эта встреча странным образом заставила меня сомневаться, встречал ли я его раньше. Та ночь в лесу, когда я пробирался по кустарнику с протянутыми руками и бежал, пока не натолкнулся на него, была одним из моих самых одиноких и отчаянных моментов, пережитых на Иву’иву. Я был бесконечно благодарен, что нашел его, – не только из-за его доброго отношения ко мне, но потому, что он оказался там словно бы специально, чтобы напомнить мне, что я есть, что я настоящий. Я часто чувствовал это на Иву’иву – как будто уплываю от себя, как будто мои атомы перестраиваются и становятся такими же непостоянными и невещественными, как солнечный свет, и чем дольше я там оставался, тем меньше был уверен в собственном существовании. В ту ночь я мог бы потеряться в лесу. Но не потерялся. Он нашел меня.
Как-то раз я отвлекся от хитроумных планов поиска черепах и за неимением дел поинтереснее некоторое время таскался с Таллентом и Эсме, пока они обходили деревню. (Мейерс позвал меня посмотреть на какие-то без сомнения потрясающие грибные заросли, которые он обнаружил чуть ниже на склоне, но я отказался.)
Впрочем, наблюдать, как Таллент и Эсме сидят на краю деревни и что-то строчат в своих записных книжках, было немногим увлекательнее. Через некоторое время Эсме отправилась мучать несчастную женщину, несшую вахту перед мясной хижиной, а я остался молча сидеть рядом с Таллентом, что-то усердно писавшим, и смотреть на маленькие жизни, которые деловито разворачивались перед моими глазами, пытаться узнать в детях постарше тех, кого я мог видеть младенцами.
Я думал про черепашье озеро и про еще не испробованные тропинки к нему, когда ко мне подбрела крошечная девочка с пучком травы в руке. Ей было, наверное, чуть больше года, для иву’ивского ребенка она была удивительно толстая и своим неуловимо серьезным видом напомнила мне того мальчика, к которому все время возвращались мои мысли.
– Привет, – сказал я. – Это что у тебя такое?
Она уставилась на меня. Некоторым сложно разговаривать с детьми, но я никогда не испытывал никаких затруднений. Достаточно лишь представить, что это какое-то разумное сельскохозяйственное животное: свинья, например, или лошадь. Вообще говоря, перспектива разговора с лошадью должна пугать гораздо сильнее, потому что лошади часто бывают весьма сообразительны и глубоко презирают тех, кого считают не заслуживающими внимания.
В общем, мы с девочкой мило побеседовали, и она в конце концов отдала мне траву (а я ее поблагодарил) и уковыляла прочь. Примерно посредине нашего общения я заметил, что Таллент больше не пишет и смотрит на нас, и когда она ушла, он сказал:
– Вы хорошо обращаетесь с детьми.
Я удивленно хмыкнул. Мне никогда не приходило в голову, что людей можно разделить на две категории – тех, кто хорошо обращается с детьми, и всех остальных – и что меня можно отнести к первой.
– Вы своих детей хотите? – спросил Таллент.
Это было еще удивительнее. Вы должны помнить, что в пятидесятые годы люди, особенно мужчины, не спрашивали друг друга, хотят ли они детей. Предполагалось, что дети будут, и привлекательность этой перспективы к делу не имела практически никакого отношения. Так делалось, и все: ты женился, ты где-то работал, ты заводил детей. У тебя мог быть один ребенок или несколько, твоя жена могла быть красивой или некрасивой, твоя работа – скучной или увлекательной, но других вариантов не было. Так что я сказал:
– Не знаю. Никогда об этом не думал. – И это была правда.
– Ммм, – сказал Таллент. – Мне кажется, еще задумаетесь.
Его уверенность меня покоробила. Он обладал особым талантом – заставлял человека почувствовать себя каким-то существом из изучаемой им книги, заранее обреченным на некую судьбу, очертания которой только ему и известны.
– А вы хотите? – огрызнулся я.
Он задумался, чего я не ожидал.
– Не думаю, – наконец сказал он.
– Почему?
– Просто это не для меня, – сказал он и улыбнулся – не мне, а куда-то вдаль, как будто увидел там что-то знакомое или кого-то знакомого. Я проследил за его взглядом, опасаясь, что он увидел Эсме, но там никого не оказалось – только сердцевина деревни, на этот раз пустая, если не считать костра, вокруг которого масляно переливался раскаленный воздух.
Только на двадцать шестой день я наконец-то добрался до черепашьего озера. Они были на месте и гребли ко мне с добродушием и мягким коровьим любопытством, и я вытащил двух поменьше, размером примерно с большую тарелку, из воды и положил каждую в картонную коробку с дырками.
Спускаться было не трудно, но получалось медленно. Я думал о том, как пометить свой маршрут, но пришел к выводу, что это неизбежно позволит другим воспользоваться моими достижениями. Я не мог, например, забивать в землю колышки или выцарапывать на деревьях знаки, не беспокоясь, что какой-нибудь будущий искатель (хотя в тот момент я не был вполне убежден, что их окажется столько, сколько предсказывал Таллент) обнаружит их и использует для собственных нужд. Так что в конечном итоге мне пришлось просто составить очень подробную карту, где каждый поворот и изменение направления отмечались не по ориентирам – потому что дерево, сегодня кажущееся ростком, через три или четыре года превратится в нечто совершенно неузнаваемое, – а по примерному расстоянию, которое отделяло один пункт от другого. Разумеется, мне приходилось все время ставить на землю черепах, чтобы что-то еще отметить, а потом снова их подбирать.
Добравшись до манамы за девятой хижиной, я притаился там и стал ждать, пока последние отблески света не исчезнут с неба; в этот или предыдущий приезд Эсме и Таллента наконец-то пригласили присоединиться к вечерним пирам вокруг костра, и они могли проводить там долгие часы, ничего не видя вокруг. Мейерс, как правило, коротал вечера в лагере, обрабатывая свои драгоценные грибы одной из многочисленных жестких щеточек, которые он привез с собой, и выпуская изо рта влажные потоки воздуха. Я прокрался за складами к своему старому дереву, где под ветками и пригоршнями мха спрятал несколько ящичков. Я привез с собой некоторое количество гранулированного корма для черепах, купленного в калифорнийском зоомагазине; когда я разложил свои запасы перед опа’иву’экэ, те некоторое время на них смотрели, а потом принялись есть, и я с облегчением уселся рядом.
Позже герпетологи напишут множество статей о необычных особенностях и свойствах этого вида, но никто не упомянет то, что мне казалось в них самым привлекательным и удивительным: от них исходило почти собачье дружелюбие в сочетании с кошачьей самозацикленностью. Поев, они несколько минут тыкались в меня, и когда я гладил их по панцирям, не отодвигались, не обижались, а только с наслаждением закрывали глаза, примерно как их предшественник семь лет назад.
Пока я сидел с ними, мне вспоминался тот разговор с Таллентом о детях. На протяжении последних двух недель одним из немногих моих удовольствий (и, безусловно, единственным развлечением) оставались деревенские дети. Я натыкался на них, когда они играли на краю деревни, а я возвращался после очередного дня бесплодных поисков черепахового озера, и, вглядываясь в их действия, я начинал видеть игры и правила там, где раньше мне виделась только беспорядочная суматоха. У них была одна особенно любимая забава – двое детей стояли друг напротив друга со скорлупкой на пальце. Они начинали крутить руками все быстрее, и тот, кому удавалось найти правильную скорость так, чтобы скорлупка не слетела с пальца, выигрывал.
Особенно я любил наблюдать за одним ребенком, разговаривать с ним. Ему было лет семь-восемь, и своей тихой сосредоточенностью он немного напоминал того мальчика. Он вовсе не был парией, но среди остальных несколько выделялся; когда они играли, или гонялись друг за другом по всей деревне, или подначивали друг друга ступить еще шаг, а потом еще от ствола манамы за девятой хижиной и мчались обратно вниз по холму, голося от страха и восторга, он только смотрел на них, приложив палец к углу рта, с напряженным беспокойством. Эта его нахмуренность меня трогала – у такого юного существа она выглядела взрослой, печальной и какой-то мудрой. Когда он привык ко мне и стал доверять, он иногда клал ладошку на мою руку или просто садился рядом и прижимался ко мне, и я вдруг начинал болтать с ним, рассказывать про свою жизнь, про лабораторию, про Оуэна, про все, чего он не мог понять, но молча слушал, как будто мои слова поливали его теплым дождем, таким приятным, что искать убежища было ни к чему.
Однажды, очень жарким вечером, когда его товарищи ускакали на другой конец деревни, я обнаружил, что мальчик уснул, прижавшись ко мне. Я рассчитывал, что до заката сбегаю еще раз наверх в очередной попытке отыскать озеро, но что-то – может быть, глубокое спокойствие его дыхания – остановило меня, и я остался сидеть как сидел, не стал его будить. «У меня может быть вот такой ребенок», – подумал я. А потом: «Но мне не нужна жена». Я уперся в невозможность, и даже здесь, на таком расстоянии от дома и его свинцовых общественных законов, я не мог придумать способа завести одно без другого. Тогда я не очень много знал о женщинах, но даже мой ограниченный опыт давал понять, что они просто не предназначены для меня. Жена! О чем я стану с ней говорить? Я представил себе дни, проведенные за простым белым столом, за распиливанием куска мяса, сухого от прожарки, как тост, за прислушиванием к стуку ее туфель по блестящему линолеуму, к ее настойчивым разговорам о деньгах, или о детях, или о моей работе; я видел, что сижу в молчании, слушаю, как она бубнит про свой день, про стирку, про то, кого она видела в магазине и что они сказали. А потом я увидел и другой набор картинок: как я поднимаю сонного ребенка и укладываю его в кровать, как объясняю ему повадки насекомых или как мы вдвоем охотимся на жуков или бабочек, впервые оказываемся на морском берегу.
Но в ту ночь, лежа без сна на своей циновке, я думал главным образом о тепле юного тела, прижавшегося ко мне, о крошечном размере его руки. Я и до сих пор чувствовал их прикосновение, и печалился о том, чего у меня нет и, наверное, никогда больше не будет.
3
Ничто не изменилось; изменилось все. В лаборатории мыши все еще были живы (заторможенные, еще меньше похожие на мышей, чем раньше; у них развилась новая манера падать на бок и с писком сучить ногами, потому что снова встать на ноги они, видимо, не могли, и это зрелище завораживало и пугало) и сновидцы тоже. Я показал им своих опа’иву’экэ в надежде на какую-нибудь реакцию, но они только поморгали, как будто это пустое место.
Но только они – и Чхоль Ю, конечно, – связывали меня с той жизнью, которую я покинул меньше шести недель назад. И здесь пролегла граница (хотя осознал я это гораздо позже) моей новой жизни, долгого времени, отмеченного как ужасами, так и чудесами. Казалось, каждый день происходило сразу так много всего, что отследить события следующих нескольких лет сколько-нибудь упорядоченным образом мне крайне сложно. Впрочем, могу отметить, что Таллент оказался прав.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что я участвую в гонке – в гонке, о собственном участии в которой я не знал, при том, что именно я ее и запустил. От Серени я слышал, что такой-то фармаколог отчаянно рвется на Иву’иву и такой-то физиолог тоже. Сам Серени, конечно, никуда не стремился: он говорил, что слишком стар для такого тяжелого путешествия. Но он был в меньшинстве. Каждый день приходили новые письма – умоляющие, манипулятивные, смутно угрожающие, туманные – и мне, и ему; их авторы требовали новых сведений, пытались выяснить, что я собираюсь делать со сведениями уже имеющимися, либо в той или иной форме объявляли, что превзойдут мои результаты. Я был настолько наивен, что весь этот шум меня не беспокоил, по крайней мере поначалу; я даже слегка упивался им и находил забавным. Эта необоснованная самоуверенность, видимо, коренилась в моем доверии к королю, который, как мне представлялось, не хотел пускать на остров никого, кроме Таллента (и его непосредственных соратников). Кроме того, я считал, что раз мне понадобилось столько дней, чтобы найти черепашье озеро – мне, успевшему побывать там дважды, – то уж тем немногим, кому когда-нибудь позволят появиться на Иву’иву, потребуется много недель напряженных поисков. Безусловно, они не смогут никого просить о помощи – табу иву’ивцев (а уж тем более у’ивцев), запрещающее беспокоить черепах, было вполне очевидным.
К тому времени все уже догадались, что секрет заключался в опа’иву’экэ. Вечная жизнь! Неудивительно, что университеты и фирмы были готовы потратить любые деньги, сделать что угодно, чтобы первыми добраться до острова. Неудивительно, что они считали, будто я сам работаю над выделением нужного вещества. Но я знал то, чего не знали они, поэтому мне было легко отвечать молчанием на их вопросы и подозрения: я знал, что эта разновидность вечной жизни несет в себе страшный дефект. Я знал, что, прежде чем гнаться за ней, необходимо найти решение, противоядие.
Впрочем, Серени потребовалось не так много времени, чтобы понять, что что-то не так.
– Вы не все мне рассказали, – заявил он во время одного из наших участившихся телефонных разговоров.
Я не умею изображать неведение и никогда не умел. Но все же, как глупо это ни звучало, я сказал:
– В каком смысле?
– С этими мышами что-то не так, – ответил он и подробно описал ухудшающееся состояние своих мышей. (Из его партии целых 79 процентов были до сих пор живы. Я к тому моменту сохранил 61 процент мышей из третьего эксперимента[66], при том что моей самой старой партии, первой группе, было уже девяносто месяцев против его шестидесяти трех.) Меня порадовало, что их симптомы почти в точности соответствовали симптомам моих мышей.
Так что мне пришлось рассказать ему, что наблюдаемые у мышей изменения – лишь копия того, что я изначально видел у сновидцев. Он с возрастающим изумлением выслушал мой рассказ о том, что я обнаружил на Иву’иву, и о состоянии – и предполагаемом возрасте – тех, кого привез с собой.
– Нортон, – сказал он наконец, – это же… это невероятно.
Но ничего невероятного в этом не было, потому что доказательство находилось от меня в нескольких ярдах, в созданном мной крошечном поддельном Иву’иву. Мы некоторое время говорили о том, как мне доказать свою теорию на людях и почему это невозможно; никто не пойдет на такой риск. Серени спросил, не смогу ли я поставить эксперимент на каких-нибудь иву’ивцах, которых потом можно будет привезти в Штаты, и мне пришлось напомнить ему, что черепаший эффект может проявиться через десятилетия: даже если мы сможем найти испытуемых, которым сорок или пятьдесят с чем-то, нам придется ждать еще сорок или пятьдесят лет – как минимум, – пока у них появятся какие-то симптомы. Нет, сказал я, более важная и срочная задача – найти противоядие, способное бороться с побочным действием черепахи.
– А вы еще с кем-то это обсуждали? – спросил Серени. Тон его был мягок, но я знал, что никогда не следует доверять сопернику, который демонстрирует притворное отсутствие интереса или амбиций, который притворяется, что вступает исключительно в интеллектуальную дискуссию с академической целью. Поэтому я с некоторым торжеством (которое постарался, как смог, подавить в своем голосе) объявил Серени, что послал статью об упадке мышей в «Анналы эпидемиологии питания» перед самым отъездом и что ее (разумеется) приняли к публикации.
– Ага, – сказал Серени после длинной паузы, и я не разобрал, сердит он, расстроен или и то и другое. Так или иначе, он не был доволен. – Что ж, Нортон. Надеюсь, вы понимаете, что делаете. – После этого разговор продолжался недолго.
Конечно, я не понимал, что делаю. Я послал статью в журнал в некоторой панике, поскольку оказался на развилке между двумя неблагополучными исходами. Если бы ожидание затянулось, Серени, безусловно, пришел бы к собственным выводам относительно мышей и написал бы собственную статью. Она получилась бы намного более осторожной, но это не имело бы значения – все равно он был бы первым, и все, что я написал бы потом, считалось бы разработкой его открытия, а не моего собственного. Но если опубликовать данные слишком рано, я подам сигнал ястребам, кружащим над островом и над моей работой, указав, что у их планов по упаковке и продаже вечной жизни имеется серьезный изъян. Охота на опа’иву’экэ станет еще яростнее, и я окажусь участником гонки за решением проблемы, о которой остальные вообще не узнали бы, если бы я промолчал. Передо мной встал выбор между одним злом и другим. В любом случае винить, кроме себя, мне было некого.
И тут, как потом описывали многие, пришла беда. Во время моего следующего путешествия на Иву’иву, примерно через восемь месяцев, дела обстояли так же, как прежде: на сей раз я приехал один и перед поездкой на остров имел еще одну короткую и невразумительную беседу с королем. Это была моя последняя аудиенция у него, хотя тогда я об этом не знал. На самом деле, как стало ясно позже, многое тогда было в последний раз: я в последний раз был единственным представителем западного мира на Иву’иву, не говоря уж о деревне; я в последний раз смог спокойно пройти к черепашьему озеру, увидеть сетку воздушных пузырей на поверхности, смотреть, как они доверчиво и мирно подплывают ко мне; я в последний раз чувствовал, что деревенские жители не обращают на чужака никакого внимания, что его присутствие не влияет даже на самую незначительную из их привычек. Я в последний раз видел, как они готовят и запасают еду так, как, без сомнения, делали на протяжении столетий, их рацион в последний раз не включал консервированного мяса, упаковок печенья и банок нарезанных засахаренных фруктов, я в последний раз видел их совершенно обнаженными и мог наблюдать, как колышутся женские груди, когда деревенские жители склоняются над горкой стручков, слышать тихое похлопывание гениталий о ноги, когда мужчины возвращаются с ночной охоты.
Но в тот приезд я ничего этого не знал, и помню, как подумал – отчасти с самодовольством, отчасти с облегчением, – что Таллент все-таки оказался неправ, что перемены, если они явятся сюда, будут робкими и постепенными, а не радикальными. Я уже заметил, что некоторые деревья обвязаны красной бечевкой, что вокруг них тонкая веревка образовывает небольшие квадраты, а к стволам приделаны небольшие таблички с неразборчивыми латинскими именами – это, конечно, Мейерс постарался. Если остров подвергнется таким изменениям, думал я, беспокоиться не о чем. Я смог снова навестить черепах (моя карта оказалась небесполезной) и даже разыскал юного друга, с которым познакомился в прошлый раз, и он охотно сопровождал меня во все более далекие походы в лес. Жарким днем мы дремали в чаще, а ранним утром изучали окрестности (я обнаружил многочисленные заросли грибов, которые свели бы Мейерса с ума, и сделал для него ряд срезов и зарисовок). Я видел вождя, Уо, Лава’экэ и многих других, кого узнавал в лицо, не зная их имен.
Позже я спрашивал себя, не спланировал ли подсознательно свою поездку так, чтобы она совпала с публикацией моей очередной статьи[67] и можно было некоторое время не задумываться о том, что из этого последует. Не думаю, что это так, хотя многие со мной не согласны, и переубедить их я не в силах. Как бы то ни было, когда через шесть недель я вернулся в Стэнфорд (с еще двумя опа’иву’экэ), научный мир трясло в лихорадке. Выдвигались обвинения, писались опровержения, «Анналы» получали больше писем, чем о любой другой статье за всю историю журнала. Новости о двух моих открытиях даже просочились в массовую печать, и ко мне явились журналисты как из «Таймс», так и из «Тайма». Примерно в это же время Таллент прервал всякую связь со мной, хотя я так никогда и не узнал почему. Потому что считал (как потом будут считать многие), что я окончательно и бесповоротно погубил остров? Потому что я поставил крест на приятном сказочном образе бессмертных людей? Или просто потому, что я достиг большей известности, чем он? Чхоль Ю сообщил, что в мое отсутствие кто-то пытался проникнуть в наши лаборатории: как-то утром он обнаружил, что на замке появились многочисленные царапины, а нижняя планка двери раскрошена в месиво. Он считал, что это кто-то из ученых или, может быть, группа фармакологов, и хотя вслух я с ним согласился, в глубине души я спрашивал себя, не мог ли это оказаться Таллент, хотя опять-таки о его мотивах я мог лишь догадываться. Хотел уничтожить мои данные? Освободить сновидцев? В последующие месяцы я сделал все возможное, чтобы поговорить с Таллентом: писал ему письма, звонил, часами ждал возле его кабинета, а потом – возле на удивление убогого многоквартирного дома. Я умолял ректора и декана прийти мне на помощь. Я даже пытался поговорить с Эсме. Я вел себя как изнывающая от любви девица. Я понятия не имел, что скажу Талленту, если он выйдет на связь. Я только знал, что должен его увидеть, получить от него какое-то отпущение. Это мои открытия, напоминал я себе (а делать это приходилось постоянно), но если бы не Таллент, никаких открытий бы не было. («А если бы не ты, – шепнул мне внутренний голос, когда я услышал, что первая команда фармакологов, из «Пфайзера», уговорила короля пустить их на Иву’иву, – остров по-прежнему был бы в безопасности».)
Все, что я могу на это ответить: я старался. Я делал то, что считал правильным. Сегодня, рассказывая об этих подробностях, я часто разрываюсь: просить прощения или нет? Я отправился на остров не за тем, чтобы разбогатеть (как делали потом толпы народу), не за тем, чтобы убедить каких-то людей жить, есть и верить так, как я. Я отправился туда просто из тяги к приключениям и в лучшем случае с надеждой на исследовательскую работу. Я сделал это не для того, чтобы уничтожить народ или страну, в чем меня постоянно обвиняют, как будто такие вещи в самом деле происходят часто и намеренно. Но стало ли их уничтожение результатом моих действий? Не мне судить. Я сделал то, что сделал бы любой ученый. И если бы возникла необходимость – даже понимая, что произойдет с Иву’иву и всем его населением, – я, вероятно, снова сделал бы то же самое.
Впрочем, уточню: я сделал бы то же самое. Я не колебался бы ни секунды.
Итак, прошло два года: я руководил собственной лабораторией в отделении вирусологии Национальных институтов здравоохранения, где и прошла потом вся моя научная карьера. Чхоль Ю вернулся в Корею, где через некоторое время получил собственную лабораторию в Сеульском университете. Сновидцы по-прежнему оставались на моем попечении, хотя видел я их все реже. Их теперь постоянно изучали специалисты, которые проводили с ними различные эксперименты: анализы крови, физические, умственные, рефлекторные упражнения[68]. Институт сделал из свободного лабораторного пространства очень симпатичное укромное жилище, снабдил его деревьями и лиственным полом и приставил к сновидцам служителей, чтобы их мыть и одевать, потому что, несмотря на отсутствие окон – мы не хотели, чтобы их беспокоил и тревожил такой чужеродный пейзаж, с голыми черными ветвями деревьев, – в лаборатории ночью могло быть холодно и ходить голыми им не стоило. Кроме того, мы постепенно перевели их на западный рацион и многое узнали о том, как проходит отучение группы первобытных людей от рациона, полностью обеспеченного охотой и собирательством, и переключение на обработанные виды пищи. К сожалению, к этому моменту они почти утратили осознанность, и когда я впервые увидел Муа, которого после целого дня анализов везли в кресле-каталке обратно в их спальное помещение – голова нелепо задрана назад, руки безвольно лежат на коленях, глаза открыты, но бессмысленно бегают, – сердце у меня сжалось: я вспомнил, как быстро и целеустремленно мы некогда шли по лесу, как ловко он расставлял свои короткие ноги, чтобы пройти над гигантскими древесными корнями, торчавшими из земли. Со сновидцами проводилась необходимая работа, а упадок их был неизбежен, и все же я сентиментально огорчался, что этот процесс оказался для них таким мучительным[69].
С опа’иву’экэ дела обстояли не лучше, и я должен признать, что недооценил важность природной обстановки для их выживания и качества жизни. Мы предприняли множество неудачных попыток заставить их размножаться и еще больше попыток приучить их к какому-то осмысленному режиму питания. Я осознал (запоздало), что не потрудился изучить рацион опа’иву’экэ, поэтому много времени ушло на поиски нужной комбинации продуктов – лучше всего оказалась, пожалуй, смесь сардин, разной травы и папоротника, – которая бы одновременно им нравилась и помогала оставаться в сносной физической форме. Но время шло, и они становились все более апатичными, и в конце концов двух более старых мы убили – из одной сделали чучело[70], другую препарировали – и сосредоточились на особях помоложе, хотя результаты все равно не вдохновляли.
Я все чаще отлучался из лаборатории – читал лекции в разных местах, писал статьи и так далее, так что в следующий раз посетить Иву’иву смог только в конце 1961 года. Из разных источников до меня доносились слухи, что количество ученых на острове в любой момент времени теперь превосходит количество островитян, что передвижные бригады из специалистов «Пфайзера» и «Лилли» возвели там небольшие палаточные поселения, что ученые путешествуют на собственных самолетах и моторных лодках, что они с ненавистью смотрят друг на друга с разных сторон проведенных ими же демаркационных линий и каждая группа намерена победить соперников, что в джунглях проложены широкие просеки, что животные и растения лишились всякого подобия прежней жизни. Однажды Мейерс позвонил мне из Калифорнийского университета, заикаясь хуже обычного, сказал, что только что вернулся с острова и описал сцену, похожую на какую-то жуткую версию Брейгеля: грязная деревенская площадь, покрытая гниющими отбросами, дымные черные костры и люди повсюду.
Я надеялся, что Мейерс преувеличивает – я не считал, что ему можно беспрекословно доверять, если дело не касалось грибов, – но в путь отправился с некоторой опаской и даже с неохотой. Теперь мне, государственному служащему, не нужно было ждать, когда на остров что-нибудь отправится, в надежде, что заодно прихватят и меня; я сидел в хвосте самолетика и ждал ухабистой посадки, с которой начиналось пребывание на У’иву. Но, к моему удивлению, посадка прошла гладко, почти безупречно, и, выйдя из самолета, я обнаружил первую из перемен, взлетно-посадочную полосу – пусть это был всего лишь участок идеально выровненной грязи, но все ухабы, камни, куски растительности, которые я помнил по прошлым посещениям, были уничтожены. Да и все поле было выглажено и теперь представляло собой сплошной пустырь: ни травы, ни мелких белых цветов, просто грунт, плоский и однообразный, словно его долго подметали. Я почувствовал, как глубоко во мне что-то зашевелилось – это были предвестники ужаса.
Меня встретил новый проводник. Не знаю, кто это был, но он чуть-чуть говорил по-английски, на нем была слишком длинная для него европейская футболка, натянутая поверх саронга мрачно-горчичного цвета. Волосы у него были коротко пострижены. Он подвел меня не к лошади, а к проржавевшему драндулету, какому-то франкенштейновскому автомобилю, вырезанному и спаянному из множества кусков разных моделей; он страшно им гордился и, двигаясь рывками, отвез меня в порт, где впопыхах строили новый неуклюжий причал. Там стоял лодочник, тот же, что в первом моем путешествии много лет назад, по своему обыкновению притворившийся, будто не узнает меня, но судно у него было если не новое, то по крайней мере поновее, снабженное нормальным мотором, который ревел и плевался, пока мы прыгали по волнам. А потом, вдвое быстрее, чем в прежние разы, перед нами встал Иву’иву, но когда мы обогнули мыс, чтобы зайти в лагуну, я испытал очередной шок: джунгли были отогнаны назад до такой степени, что там возник настоящий пляж, полоса грязно-серого песка, обрамленная неаккуратной линией зелени поодаль. На песке стоял сияющий человек, махая мне обеими руками, пока лодка утыкалась в берег.
– Но-тон! Но-тон! – воскликнул он, и я с изумлением осознал, что это Ува – хотя и не тот Ува, какого я помнил[71]. Этот Ува был одет в брюки – цвета хаки, которые были ему сильно велики, – и настоящую рубашку с пуговицами, которую много раз перестирывали и покрыли таким количеством заплат, что она выглядела как рубцовая ткань. Его волосы были острижены так же коротко, как у лодочника и у проводника, в носу не торчала кость, хотя на ноздрях с обеих сторон темнели коричневые пятна там, где заросли дырки.
– Ты как? – спросил Ува с гордой улыбкой, и выученный им английский и связанная с этим гордость отчего-то заставили меня поежиться: я отчетливо представил себе чудовищные перемены, произошедшие с островом.
Они были повсюду. На холмы проложили настоящую дорогу, и хотя идти по ней по-прежнему приходилось пешком, Ува тащил теперь мой багаж на тележке. Он не привык к такому количеству одежды и страшно потел. В какой-то момент он, забывшись, расстегнулся до пояса, и когда я тоже снял рубашку, чтобы его подбодрить, он с тоской посмотрел на мою наготу, а потом отвернулся и застегнулся; в его лице почти прочитывалась решимость остаться полностью одетым. «Но почему?» – хотелось мне спросить. Ведь приверженность наготе относилась к числу многих разумных иву’ивских принципов: в таком влажном климате одежда не только выглядела по-дурацки, но и мешала.
По дороге я с пристрастием изучал окружающий древесный ландшафт, пытаясь отследить изменения. Стало ли с прошлого раза тише, меньше птичьего крика, обезьяньего скрежета, порхания насекомых? Не стало ли меньше стволов манамы и плодов, лежащих на земле? Не кажутся ли стволы канавы в меньшей степени обмазанными экскрементами вуаки, чем прежде? А тот мох, он всегда выглядел таким вытоптанным или по нему кто-то недавно прошелся? Всегда ли было так легко двигаться по этому перелеску с пальмами или кто-то недавно намеренно расширил просеку? Это белая этикетка, прикрепленная ботаником к орхидее, или просто бабочка, сложившая крылья в плоский квадрат?
Деревня запахла и зазвучала прежде, чем стала видна, но запахи эти я узнал по американскому, а не по здешнему опыту, и звуки тоже не напоминали Иву’иву. Пахло пирожками, резким ароматом поджаренного бекона, слышалось шипение куска жира, который ворочают на раскаленной сковороде. Слышались мужские голоса, все они говорили по-английски; доносился яркий, резкий запах стирального порошка и звон чего-то металлического о камень.
И вот мы вышли к их лагерю, к их аккуратным палаткам и хлопчатобумажным футболкам и парусиновым штанам одинакового невнятного цвета, развешенным на нижних ветвях манамы, и к огню, над которым один из них держал железными щипцами банку печеной фасоли – ее содержимое неудержимо пузырилось у краев.
Я представился – а что было делать – и узнал, что это люди из «Пфайзера»; те, что из «Лилли», расположились, видимо, справа от деревни, примерно на таком же расстоянии. Они держались уважительно, недружелюбно, они были удивлены; я видел, что они смотрят на меня с завистью, потому что, пока они проводили дни в попытках разработать лекарства и кремы для рук, я занимался настоящим делом, и они понимали, что я по положению выше их. Но при этом все ресурсы находились у них в руках – по моему одинокому рюкзаку в тележке Увы было очевидно, что у меня ничего нет, – а никто уже не сомневался, что победят те, у кого есть ресурсы. Так всегда происходит в науке. Так происходило даже в те времена. Я распрощался с ними при первой возможности.
Но только когда мы добрались до края деревни, я по-настоящему ужаснулся преображению острова. Хижины были те же, как и отчетливые очертания грунтового пола, но только они и остались такими, как мне запомнилось. Над костром, насаженный на ветку, ронял в огонь жирные капли кубик «Спама», а другой, уже поджаренный, валялся рядом, и от его температуры пальмовый лист, на котором он лежал, изогнулся и скрючился. А чуть поодаль несколько мужчин склонились над третьим кубиком, пальцами отрывая от него куски и через каждые два-три причмокивания протягивая порцию своим вепрям. Но отчего-то хуже всего оказалась бельевая веревка, протянутая между двумя стволами манамы на левой стороне деревни; в качестве веревки использовался канат из пальмовых листьев – драгоценный канат, предназначенный для починки, перетаскивания, для связывания вепрей, – а на нем висели отвратительные образчики ношеной одежды: пожелтевшие майки, штаны с прорванными карманами и простые, чопорные, длиннорукавные хлопковые платья, которые и в Америке-то были бы бесполезны, что уж говорить про тропический климат Иву’иву. А вокруг все деревенские жители вышагивали в одежде, из которой часть была надета правильно, часть – неправильно, но все они носили ее всерьез, с искренним усердием, – что во многих смыслах пугало больше всего, ибо означало, что речь не о причуде, не об игре, их каким-то образом убедили, что это привычка, которую стоит принять, необходимое приспособление. Но кто им это сказал и почему они поверили?
Я обнаружил, что иду к девятой хижине. В стороне от меня два фармаколога перекидывались футбольным мячом и смеялись, глядя, как к ним присоединяются деревенские дети, некоторые в таких больших рубахах, что они напоминали кимоно, рукава которых поднимались парусами при каждом прыжке. Внутри хижина осталась такой же, как я запомнил: тихой, прохладной и какой-то мрачной. На краткий миг я испытал облегчение, но тут же подумал: не слишком ли она такая же? В ней было что-то почти запыленное, и я отметил, что бессмысленно рассматриваю почвенный пол и ищу признаки заброшенности. Впечатление складывалось такое, как будто на фоне столь всеобъемлющих перемен неизменность девятой хижины делала ее менее важной, а не более. Было понятно, что прошлое – от одежды до пищи, даже до детской игры – больше не ценилось, и то, что никто не задумался о приведении хижины в какое-то соответствие явившемуся новому миру, заронило во мне опасение, что она сохранилась не как символ чего-то драгоценного, а как пережиток чего-то заброшенного.
Позже я понял, что исследовательские группы за считанные дни нашли то, на что у меня ушли недели. Позже, карабкаясь вверх по холму к озеру – тропа превратилась в заброшенную дорогу для церемониальных процессий, отмеченную ярдами колыхающейся ярко-красной ленты от ствола к стволу, – я напоролся на двух ученых (из немецкой компании, разбившей лагерь чуть поодаль от «Лилли»), вытаскивавших из озера здорового опа’иву’экэ, сучившего ногами от страха. Позже, когда они ушли, я подошел к берегу озера, чья некогда отчетливая кайма стала неуютно размазанной и грязной от десятков следов, и увидел всего пять голов, выставленных над поверхностью воды, и сколько я ни ждал, они не подплывали ко мне, а маячили в центре водоема, и я сдерживался, стараясь не взвыть. Позже я узнал (от одного из этих немецких фармакологов), что Таллент пропал, что его не видели уже как минимум две недели: он приехал на остров один, без Эсме, и мало с кем из них познакомился. А потом вдруг исчез. Прошло некоторое время – два дня? три? – прежде чем они заметили его отсутствие, но, заметив, они небольшими группами стали прочесывать лес, а потом послали туда своих проводников, но никаких следов не нашли. У него был только заплечный мешок, и его он взял с собой, но в ходе поисков они не отыскали ничего, что потревожило бы обычную обстановку джунглей: никаких моховых пространств с призрачными следами, никаких разбросанных семян манамы, никакой обугленной земли и веток там, где мог бы гореть костер.
Тогда я понял: вот оно, вот что хуже всего. Хуже черепах, которые слишком поздно обучились не доверять новым людям и поплатились резким снижением численности. Хуже, чем встреча с мальчиком, моим юным другом, который совсем недавно спал, прижавшись ко мне, а теперь, увидев меня, отвернулся и ушел в своих длинных штанах, волочащихся за ним, как шлейф невесты. Я не мог поверить, не мог признать, что Таллент решил уйти от меня, от нас навсегда. Днем я разговаривал со всеми, с кем только мог – с иву’ивцами, с фармакологами, – и вытягивал из них сведения. Последние, видя, что так я меньше путаюсь у них под ногами, отнеслись к моим запросам благосклонно, но сведений у них было так мало, так издевательски мало, что я часто жалел, что вообще решил их о чем-то спрашивать. Как он себя вел в дни перед пропажей? Нормально, говорили они, но поскольку они его не знали (как и я, признавался я себе), они не могли сказать, нормально он себя вел или нет. Он был спокоен, задумчив, углублен в себя. Что он изучал? Чем занимался у них на глазах? Мы не знаем, сказали они; иногда он говорил с деревенскими жителями, но в основном просто наблюдал за ними, писал и писал что-то в блокнот. Говорил ли он чаще других с кем-то из деревенских? Нет, им кажется, что нет. Не выглядел ли он – и тут я был вынужден остановиться, пока не уверился, что хочу знать ответ, – неопрятно, не казался ли больным, неадекватным, расфокусированным? Нет, отвечали они. Нет. Нет.
Я искал его по ночам, путано и бессмысленно бродя по джунглям. Пользы от этих прогулок не было, потому что я не уходил далеко и ни разу не позвал его, только размахивал фонариком, так что плоский диск света натыкался на разные поверхности, высвечивая в трепещущем порядке то кору, то листья, то землю. Я сомневаюсь, что всерьез надеялся его найти. Но во время поисков я все время вспоминал, как впервые столкнулся с Муа, как он вышел из лесных теней, словно оживший кошмар, и, наверное, какая-то часть меня чувствовала, что это может снова произойти, что в какую-то ночь я поверну фонарь буквально на дюйм вправо и там, прямо в его луче, окажется Таллент, который скажет с выражением лица, неопределимым за бородой: «А, Нортон, что вы тут поделываете?»
Такое происходило очень редко, но раз в год или около того деревенские жители теряли кого-нибудь в лесу: охотник, обычно молодой и неопытный, в одиночку уходил далеко в чащу и больше не возвращался. Бывало, что он пропадал навсегда. Иву’ивцы в таких случаях говорили «ка ололу мумуа ко» – «его поглотили джунгли». Как ни странно, они никогда не считали, что пропавший погиб; он просто ушел, он не смог найти обратной дороги, но он все равно жив, он снова, и снова, и снова пытается вернуться в деревню.
С тех пор появилось немало гипотез об исчезновении Таллента. Он отправился искать новых сновидцев. Он последовал за одним из сновидцев в чащу. Он сошел с ума. Он обнаружил еще одно, более закрытое общество и остался жить с ними. Он нашел что-то потрясающее. Он нашел что-то ужасное. Он был убит деревенскими жителями и спрятан в лесу под покровом ночи. Он помешался на редком виде цветка, который обнаружил. Он убежал с одной из деревенских женщин, с одним из деревенских мужчин (дикая идея, потому что из деревни никто не пропадал). Он мечтал избавиться от оков цивилизации и отправился основать собственную. Он тайно ускользнул с острова и под вымышленным именем живет на Гавайях, преподает в тамошнем университете. Он покончил с собой. Он жив. Он точно знал, куда идет. Он понятия не имел, куда идет.
Я не могу утверждать, будто знаю, что с ним случилось. Но я часто о нем думаю, чаще, чем, наверное, кто-либо мог ожидать. Боюсь, когда он пропал, то, чем я когда-то обладал, пропало тоже: это можно определить как способность вкладывать душу, но было и что-то еще. Я думаю иногда о том, что мог бы стать другим, если бы он остался в нашем мире, что мог бы найти удовлетворение не так, как это в конце концов произошло. И думаю, что, если бы меня вынудили сделать вывод, я бы тоже сказал, что джунгли поглотили его и что где-то он по-прежнему идет по ним. Собственно, я вижу его время от времени, он худ и бледен, он провел долгие годы под темным покровом деревьев, поднимая лицо к тем крошечным каплям солнца, которым дозволено проникать в самые густые дебри леса. Я никогда не вижу с ним никого другого, он бродит по лесу один в оборванной, превратившейся в украшение одежде, с бамбуковым стеблем вместо трости, с бородой, царапающей грудь. Интересно, думаю я, съел ли он кусок черепахи, чтобы не умирать? Поет ли он сам себе, разговаривает ли сам с собой ради общения? Помнит ли он обо мне? Нашел ли он обратный путь к деревне? Может быть, он приходил туда раз в год или около того, стоял, невидимый, за деревом и наблюдал перемены такие глубокие, что в конце концов перестал возвращаться?
Я воображаю иногда, что окликаю его, и он иногда оборачивается, и глаза его сияют и горят голодным светом, и у меня в такие мгновения перехватывает дыхание от его хищного голода и настойчивого искания, и я не могу ничего сказать, только смотрю на него, пока он без единого слова, сжимая свой посох тонкой, потемневшей ладонью, не отворачивается от меня – и не исчезает.
4
Что мне еще об этом сказать? Ведь вы знаете, все мы знаем, что произошло дальше. Концовки разворачивались, ни одна из них не была счастливой. Когда меня спрашивают о последствиях, я неизбежно немногословен, слишком уж сложно превратить рассказ в то, чем он должен быть, – в самостоятельную сагу, в долгую смерть, которая медленной спиралью опускается на землю.
Конец был исполнен иронии, как часто происходит с такими скверными и печальными концовками. Рассказать вам, как фармакологи, неврологи и биологи спешили домой с пакетами, полными черепах, и как эксперимент за экспериментом подтверждал то, что я уже знал и уже пытался им сообщить: что мыши (а позже крысы, кролики, собаки, обезьяны, кто знает что еще – слухов хватало, но ни один из них никогда не был надежно подтвержден) жили вдвое, втрое, вчетверо дольше своего естественного срока, но все они, все до единого выжившие медленно, но необратимо и жутко сходили с ума? Мыши брыкались и пищали; кошки, разинув пасти в беззвучных зевках, бились о прутья клеток; собаки лапами выцарапывали себе глаза; обезьяны, самые близкие к нам по темпераменту и ощущениям животные, щебетали и щебетали, пока не переставали щебетать, а глаза их становились такими пустыми и расфокусированными, что можно было заглянуть в них и увидеть любое желанное отражение: море, облака, озеро с черепахами.
Рассказать, как ко времени открытия теломеров, а потом – к тому времени, когда генетическое секвенирование стало достаточно изощренным, чтобы предположить, как именно опа’иву’экэ воздействует на теломеразу, никаких опа’иву’эке, которых можно было бы изучить, уже не осталось?[72] Рассказать, как озеро давно вычистили до дна, и хотя в 1970-е группа из дюжины ученых отправилась его прочесать, а потом прошла по всей длине реки, от вершины острова до океана, они не нашли ни одного опа’иву’экэ? Рассказать о взаимных упреках, об отчаянии, об оплакивании потерянных лет, о миллионах потраченных долларов, о терзаниях при мысли о том, как близко мы подошли к вечной жизни и как она снова ускользнула от нас, как мечты о божественном бытии превратились в потоки воды, убегающие в широкий сток? Рассказать о потрясении, о построенных и разрушенных планах по разработке омолаживающих препаратов, разглаживающих кремов для кожи, эликсиров для восстановления мужской потенции? Рассказать вам о скорби «Пфайзера», об отчаянии «Лилли», о муках «Джонсон и Джонсона», о гневе «Мерка»? Рассказать о долгих годах нелепых, бесплодных, отчаянных попыток воссоздать эффект, используя все разновидности черепах на свете? О том, как ученые месяцами ждали, вдруг мыши проживут дольше своего привычного срока, а потом, увидев, что они умирают, начинали заново с новым выводком и очередной гавайской морской черепахой, очередной кожистой черепахой, очередной галапагосской черепахой? Рассказать, как пытались воссоздать желаемое действие, используя каждое животное, каждое растение, каждый гриб, который можно было найти на Иву’иву? Ленивцы, вепри, пауки, вуаки, туканы, попугаи, хуноно, манамы, канавы, странные ящерицеподобные создания, волосистые тыквы, пальмовые листья, стручки – рассказать, как остров лишили всего, выкосили целые леса, собрали целые поля грибов, орхидей, папоротников и сверкающих зеленых листьев и погрузили на вертолеты, которые могли теперь садиться прямо на острове, потому что там вырубили столько деревьев, что открытых пространств стало полно?
Рассказать вам, что случилось с вождем, как в начале 1970-х его заманили в Америку, в университет Джонса Хопкинса, где, вероятно, кололи и измеряли, где высасывали из него разные жидкости каждый день и, может быть, делают это до сих пор, потому что ни одна, ни одна живая душа больше о нем ничего не слышала и никогда его не упоминала? Рассказать о Лава’экэ, который примерно в это же время просто исчез и его так больше и не нашли? (Рассказать ли, как «Пфайзер» обвинил «Лилли» в его похищении, а «Лилли» обвинил Миннесотский университет, а Миннесотский университет обвинил Гамбургский университет, а Гамбургский университет обвинил «Мерка», а «Мерк» ничего не сказал?) Рассказать о сведениях про других сновидцев, которых находили трясущимися и дезориентированными на открытых пространствах, некогда бывших лесами, о том, как они моргали под внезапным ярким светом? Рассказать о слухах, которые твердили, что их множество, что их десятки, сотни, но я сам никогда их не видел, – согласно этим слухам, фармацевтические компании разбирали их, как конфеты, и увозили доживать свои жизни в стерильные лаборатории, где они, может быть, живут до сих пор со следами бесчисленных уколов, с торчащими из рук трубками внутривенных катетеров, с ногами, порезанными ради образцов кожи, или мускулов, или костей?[73] Рассказать вам, как в 1966 году, когда появились первые медицинские комиссии для наблюдения за использованием испытуемых людей в исследовательских проектах, я чуть не потерял собственных сновидцев, а к 1975 году – после Уиллоубрука, после Таскиги, после создания Национальной комиссии по защите участников исследований в области биомедицины и бихевиористики – я потерял их навсегда?[74]
Рассказать вам, как десятки людей (Серени, Эсме, все отделение антропологии Стэнфордского университета, журнал «Харперс») обвиняли меня в сокрытии правды, в искажении правды, в гибели целой цивилизации и в гибели надежд человечества?[75] Рассказать, как для Иву’иву плохое сменялось худшим, как после последнего визита фармакологов им на смену поспешили толпы миссионеров, которые на этот раз смогли добиться того, что не удавалось их предшественникам? Рассказать о сотнях обращенных, о том, как оставшихся деревенских жителей Иву’иву, когда их леса вырубили, вытоптали, обкорнали, привезли на лодках на У’иву, чтобы поселить в алюминиево-деревянной деревне на восточном берегу острова, которую построила особо деятельная группа мормонов из Прово?[76] Рассказать, как, когда один из этих переселенных жителей – замещающий вождя – попытался организовать церемонию а’ина’ины, его посадили в тюрьму (институт, до этого момента не существовавший, поскольку у’ивский король предпочитал более прямолинейные наказания – например, отвести преступника подальше от людей или выбросить в море)? Рассказать о слухах, что якобы после очистки Иву’иву от всех его чудес, гибели местных растений, грибов, цветов, животных, когда все, что у него осталось, – это красота и тайна, военные Соединенных Штатов… нет, Франции… нет, Японии использовали его для испытания ядерных боеголовок? Рассказать, как королевский сын, наследный принц Туи’уво’уво, ныне уже король и, по слухам, марионетка вооруженных сил какого-то заморского государства, взял привычку расхаживать по У’иву в шерстяном кителе с погонами поверх саронга, блестя потным лицом? Рассказать вам, что в таких случаях никаких новых сюжетов, в сущности, не бывает: мужчины пристрастились к выпивке, женщины забросили ремесла, все потолстели, огрубели, обленились, миссионеры вытягивали их из собственных домов с той же легкостью, как переспелое яблоко можно снять с ветки? Рассказать вам про венерические заболевания, которые явились словно бы ниоткуда но, явившись, уже не ушли? Рассказать ли, как я своими глазами видел все это, как возвращался снова и снова, уже после того, как гранты исчерпались и все потеряли интерес, после того, как остров из рая на земле превратился в то, во что превратился: в еще одну микронезийскую развалину, некогда полную надежд, а теперь нелепую и отвратительную, точно красавица, которая растолстела, полысела и обросла усами?
Рассказать вам, как в конечном итоге единственным, с кем я мог обсуждать все происходящие на острове перемены – всякий раз неизбежно оскорбительные, – оказался Мейерс, единственный, кроме меня, кто упорно продолжал возвращаться, сначала на средства институтов, потом за собственные деньги? Рассказать, как однажды весенним днем 1968 года мы шли через Таваку (превратившуюся в тесный и несчастный городок с новым названием, Туи’уво, в честь нового короля) и двое детей – мальчик и девочка, явно брат и сестра, мальчик лет пяти (так мне тогда показалось), внимательный, девочка лет трех, смешливая – стали всюду ходить за нами следом? Рассказать, как мы с Мейерсом купили им плоды манамы на палочке, обвалянные в зернистом сахаре, которые продавала из жестяного ящика усталая с виду женщина, и смотрели, как они их поглощают, обрастая сахарной крошкой, словно бородой? Рассказать, как они день за днем следовали за нами по пятам почти вплотную, как куры, и когда мы вернулись из утомительной, удручающей поездки на Иву’иву (вернулись на лодке, снабженной теперь таким мощным мотором, что носом она поднималась из воды под жутковатым углом, прежде чем снова плюхнуться в воду, и старались не смотреть друг на друга, потому что каждый увидел бы лишь отражение собственной печали), они ждали нас, прижавшись друг к дружке на причале, точно книжные корешки? Рассказать, как, расспросив всех кого могли, чьи это дети – девочка Макала и мальчик Муива, – и получив бессмысленные ответы или не получив никаких, мы с Мейерсом почти по наитию, по прихоти взяли их с собой в Штаты?
Рассказать вам, что Муива стал моим первым ребенком, хотя в то время я, разумеется, не думал о нем как о первом – только как о единственном, о своем? И как, даже узнав, что ему не пять лет, а семь, даже выяснив, скольким вещам мне предстоит его научить – есть, пользоваться туалетом, говорить по-английски (во многом он был похож на Еву), – я все равно его любил? Рассказать вам, каким он был прелестным мальчиком, какую радость мне приносил, как сон, приснившийся мне на Иву’иву, о спящем ребенке, которого я несу в колыбель, оказался в точности таким приятным, как я надеялся, и даже таким приятным, что я захотел повторить его снова и снова? Рассказать вам, как я начал усыновлять других детей – стоило мне обратить на это внимание, оказалось, что их десятки, сирот или почти сирот, потому что их родители совершенно бесполезны и преданы только алкоголю и Богу, – поначалу только мальчиков, поскольку я считал, что с ними мне будет легче найти общий язык, но потом и девочек тоже? Рассказать вам, как сын Увы принес мне собственного ребенка, двухлетнего мальчика по имени Вайя, и попросил, чтобы я взял его с собой? Рассказать вам, как, когда в 1977 году от быстротечного рака желудка умер Мейерс, я взял Макалу к себе, шестнадцатым ребенком и, как я думал, последним? Рассказать, как я ошибся, а потом снова ошибся и два раза в год, после каждого путешествия на У’иву, которых я стал страшиться, понимая при этом их неизбежность, неизменно возвращался домой с очередным ребенком? Рассказать ли, как я продолжал искать тех двух мальчиков – ныне взрослых мужчин, несомненно с собственными детьми, – которых потерял, мальчика с а’ина’ины и того, что прислонялся ко мне и дремал, и как я искал их и надеялся, что в каждом новом ребенке, которого я подбирал, окажется что-то схожее с ними, как я хотел видеть ту же прямоту в их глазах, чувствовать такое же доверие, когда они льнули ко мне? Рассказать вам, как, приобретая каждого нового ребенка, я вопреки здравому смыслу думал: «Вот он. Вот тот, кто сделает меня счастливым. Вот тот, кто заполнит мою жизнь. Вот тот, кто сможет вознаградить меня за годы исканий».
Рассказать вам, как я всегда ошибался – восемнадцать, девятнадцать, двадцать раз, – и хотя я всегда ошибался, я не мог остановиться, я искал, искал, искал.
Или, может быть, рассказать вам о поездке в 1980 году, о поездке, которая – хотя тогда я этого не знал – в конце концов разрушила мою жизнь?
К тому времени на моем попечении находилось двадцать шесть детей – больше, разумеется, чем мне было нужно, больше, чем я хотел. К тому времени общественное восприятие этой необычной коллекции сильно изменилось, и в определенных кругах ее стали считать очередным показателем моей монструозности. Когда я начал собирать детей, меня, конечно, превозносили как героя – может быть, чудаковатого героя, на предельно допустимой грани эксцентричности, но все-таки героя. Я был холост, я был известным ученым, но все же я открывал свой дом (восьмиспальневый колониальный особняк в ближайшем пригороде, купленный на часть наследства) для этих недокормленных первобытных сирот, чье плачевное состояние усугублялось тем, что они темнокожи, плосконосы и совершенно невежественны.
Я бы сказал, что моему героизму пришел конец после того, как я привез девятого ребенка. Внезапно, словно по указанию бюллетеня, предназначенного всем крикунам, властителям дум и женщинам мира – потому что женщины, как им свойственно, особенно горячо интересовались моими личными делами, – я превратился в объект подозрения. Зачем мне нужны все эти дети? Почему у меня столько детей, но нет жены? Что именно я пытаюсь сделать? В этом во всем есть что-то нездоровое, не находите? Подозрения так и не превращались в откровенные нападки, но я чувствовал, как их держат под языком, словно тающий кусок сахара. Я убежден, что даже миссис Томлинсон, местная дама, работавшая у меня домоправительницей и няней (нанял я ее исключительно за внешность: она была плотная, коренастая, краснолицая, настоящая диккенсовская судомойка, выросшая и приехавшая жить в современный Мэриленд), которая любила картинно отчитываться, как много раз она защищала меня перед своими подружками и невестками, несомненно, с теми же самыми подружками и невестками делилась своими сомнениями: «Так что ж ему нужно-то от этих детей, в конце-то концов?» (В тот момент от них легко было отмахнуться, но теперь, оглядываясь назад, я склонен с ними согласиться: в поспешности, с которой я усыновлял этих детей, было что-то лихорадочное и гротескное, даже пугающее.)
А потом в 1974 году я получил Нобелевку и снова стал героем, и мои «просчеты» (так «Таймс» охарактеризовала мою якобы вину перед сновидцами; в той же статье меня также косвенно обвиняли в исчезновении Таллента и в закате Иву’иву) оценивались наряду с моими очевидными гуманистическими наклонностями, с тем одиноким благотворительным шоу, которое я демонстрировал с не меньшим блеском и задором, чем П. Т. Барнум. На протяжении последовавших месяцев, заполненных разными интервью, меня спрашивали об острове, о сновидцах, о Талленте, о черепахах (и в меньшей степени о моей работе и ее перспективах), но главным образом задавали вопросы о моих детях: могу ли я попозировать с ними для снимка? Трудно ли им было приспособиться к американской жизни? Есть ли у меня какие-нибудь любимые истории про них? Они постоянно требовали этих историй, рассказов про очаровательность детей, а у меня их никогда не находилось: в конце концов, это были дети, ресурсы их очаровательности были весьма ограниченны. Меня снова и снова спрашивали, почему я их усыновил, и я затруднялся ответить на этот вопрос. Правда прозвучала бы отталкивающе, а ложь – хотел помочь тем, кому меньше повезло, мне с ними хорошо – казалась смехотворно примитивной и банальной. Но, к моему удивлению, репортеры заглатывали мои ответы без всяких сомнений, и потом я читал собственные реплики в их газетах или журналах, видел, что меня там называют «любящим папочкой» или «заботливым отцом», и изумлялся.
На У’иву моя Нобелевка не имела никакого значения; там я был белый человек, который приезжает дважды в год и которому можно всучить разных нежеланных детей. Один из грустных парадоксов этих мест заключался в том, что те самые люди, которые помогли мне обнаружить бессмертие, оказались так далеки от бессмертия. Ува умер в 1965-м в возрасте пятидесяти шести, Ту – вскоре после него. Некоторые из их детей – сын Увы, всучивший мне своего ребенка, дочь Ту, чьи сыновья-близнецы были теперь на моем попечении, – тоже умерли, приведенные к преждевременной смерти пьянством.
Иногда у меня возникало странное чувство, когда я шел по Туи’уво, где дороги представляли собой широкие полосы грязи с отпечатанными на ней человеческими следами, где окраины пестрели развалинами давно заброшенных, нереализованных проектов – здесь покосившийся мешок бетона, разрезанный посредине, из него сыпется материал, некогда предназначенный для строительства дороги; там пирамида из оранжево-ржавых прутьев для железобетона, связанная растрепанными кусками пальмовой веревки, – что я приземлился в другом месте, а где-то на другой стороне острова есть та столица, которую я знаю. Что это за город с постоянно растущими полчищами нищих (я всегда недоумевал, у кого же они попрошайничают, потому что в городе ни у кого никаких денег не было, а иностранные визитеры, некогда прибывавшие сюда большими деловыми толпами, давно, десять лет назад, испарились и никогда не вернутся), разжигающими маленькие мрачные костры вдоль обочин, с покосившимися хижинами, где на пальмовых листьях проступают темные пятна плесени? Единственной новой постройкой была резиденция короля с длинным уродливым цементным фасадом, в котором торчали мелкие незастекленные окошки. У короля кончились деньги до завершения покраски и кровельных работ, поэтому побелка внезапно обрывалась на середине здания, увенчанного плоскими слоями пальмовых листьев – они были, по крайней мере, новые, но походили на какой-то нелепый парик, потому что никто в деревне не помнил, как сплести крышу так, чтобы она одновременно и защищала, и выглядела элегантно.
Я остановился там же, где всегда, во втором по роскошеству здании в городе (и единственному, которое тоже было из бетона), в шестиместной гостинице, где я всегда оказывался единственным гостем. В моей комнате было нечто вроде кровати (старинный железный каркас и большой муслиновый мешок, наполовину заполненный хрустящими кусками сушеных пальмовых листьев, в качестве матраса), а на стене висело бамбуковое распятие – вполне вероятно, самое красивое изделие в городе. Гостиница стояла у воды, и с крыши, где я ужинал «Спамом» и кусками вареного сладкого картофеля, я смотрел, как темнеет небо, а очертания Иву’иву постепенно сливаются с ночью, растворяясь в черноте. Теперь ездить туда запрещалось под страхом смертной казни; говорили, что король уверен, будто ученые и деньги в один прекрасный день вернутся, и планирует затребовать за остров огромный выкуп. Пока же он оставался собственностью любого правительства, которое платило королю требуемую сумму за пользование. Но доносились до меня и иные слухи: что на далеком конце Иву’иву есть группа ученых (откуда – никто не знал), которые обыскивают подводные пещеры острова в надежде найти выживших опа’иву’экэ, или что король использует остров как колонию-поселение, где наказанные будут доживать свои дни почти в полной изоляции. А иногда я думал: «И Таллент там», – и представлял себе, как, обратив лицо к солнцу, он поднимается вверх сквозь туман из ажурно-кремовых мотыльков.
Поскольку я уже признал, что езжу туда ради своеобразного самобичевания, я никогда ни от чего себя не оберегал. Я искал самые ужасающие зрелища: мерзость города, разумеется, и по контрасту – аккуратный миссионерский лагерь на северной стороне острова, где джунгли уничтожили так тщательно, что часто казалось, будто это Монтана. Здесь царил кошмар иного рода: ни алкоголя, ни попрошайничества, ни костров, но у’ивцы работали посыльными, помощниками фермеров, горничными и все время улыбались, улыбались, улыбались. И вот что было хуже всего: никто из у’ивских мужчин, работавших на миссионеров, не носил копья; они отказались от оружия, чтобы стать христианами, и без копий выглядели как-то непристойно, словно у них не было голов. Даже самые пропащие, самые безликие мужчины в Туи’уво ходили с копьями; нередко у них больше ничего и не было.
Я отправился на Ива’а’аку; огромные поля с овощами и древесные рощи уничтожили там еще давно, когда «Лилли» купил права на эту землю, чтобы устроить питомник для черепах. Теперь вырытое ими озеро превратилось в заросший пруд с водой черной и густой как мазут, с грязными и жирными от всякой отравы берегами, воздух над ним гудел вездесущими смерчами мух, привлеченных запахом смерти. Немногие жившие на острове сезонные рабочие с У’иву сторожили эту сточную клоаку, не отрывая глаз от горизонта в ожидании самолета, который снова привезет им работодателей.
Это был остров ожидания – земля, некогда чуждая самой идее ожидания. Местная культура никогда не была зациклена на прошлом – с чего бы? Ничто никогда не менялось. Но теперь, когда изменилось все, они могли думать только об утраченном. Так что они настороженно застывали, колеблясь между надеждой и отчаянием, и ждали, когда же их мир восстановится.
Это был последний день моей поездки, и я отправлялся на летное поле, чтобы сесть на самолет. Как всегда, я брал с собой коробки для проб, чтобы отобрать и сберечь интересные образцы, которые могут мне встретиться, и, как происходило уже не первый год, уезжал, не заполнив ни одной.
Как всегда, я шел по главной улице, после неожиданного ливня еще более вязкой, чем обычно, мимо шеренги протянутых рук, сквозь корпус у’ивцев, внезапно и безмолвно выросший передо мной и готовый схватить все, что я им предложу. К этому я тоже привык и подготовил полные карманы вещиц, пригодных, как мне казалось, для использования: не деньги, но кусочки сушеного манго, носовые платки (ими можно чистить копья или подтирать младенцев), орехи, перочинные ножики для тех, кто выглядел особенно плачевно.
На аэродроме пришлось ждать. Одна из компаний – вроде бы «Мерк» – в последнем порыве инвестиционного оптимизма оплатила постройку взлетной полосы, но забросила дело на полпути, так что полоса, как почти весь остров, была достроена лишь частично, и в этом виде использовать ее было еще затруднительнее, чем раньше. Трава и крохотные курчавые деревца прорывались сквозь гудрон, вспенивая поверхность вереницей потемневших суфле.
Ко мне медленно приближался мужчина. По какой-то причине возле аэродрома почти не бывало островитян – может быть, в силу привычки, потому что некогда это были королевские охотничьи угодья, а может быть, из страха, потому что они не любили самолетов, – и я, обмахиваясь на жаре, наблюдал за его приближением. Когда он подошел поближе, я сразу понял, что это иву’ивец. Иву’ивцев всегда можно было отличить: они были чуть мельче у’ивцев и темнее, и у них всегда оставался слегка оторопелый, растерянный вид, независимо от того, сколько времени они прожили на новом острове.
Этот мужчина был старше – лет сорока с чем-то – и как будто бы запущеннее большинства соплеменников; у его копья на острие была выщербина, а древко щетинилось занозами. На нем был саронг, когда-то, вероятно, синий, и я чувствовал исходящий от мужчины потный запах алкоголя, сладкий, как гниющие розы. Но, несмотря на все это, он странным образом выглядел вполне уверенно, и когда он поманил меня, я отчего-то пошел за ним.
На краю поля торчало несколько растрепанных и несчастных гуавовых деревьев, и мужчина показал на скрытый среди стволов тканевый сверток такого же неопределенного цвета, как его саронг. Когда я не двинулся и не взял сверток, он пнул его ногой, сверток развернулся, и я увидел, что это ребенок. Мужчина рявкнул, и ребенок встал. На нем была футболка, состоящая больше из дырок, чем из ткани, а волосы спутались в такой невероятный колтун, что я помню, как почти машинально подумал: нет, это придется сбрить и отращивать все заново.
Но потом я опомнился и сказал мужчине, что мне больше не нужны дети.
Мужчина уставился на меня в изумлении. Я, разумеется, уже отказывал родителям – особенно если дети были заметно изуродованы, – но они обычно принимали мой отказ тихо, сдержанно и кивали мне, возвращаясь к своему насесту у обочины. А этот, похоже, решил вести себя иначе. Я должен взять ребенка, сказал он, а когда я отказался, снова повторил: я должен его взять. Я не хочу ребенка, сказал я ему. У меня нет больше места для детей.
– Но это же такой маленький мальчик! – сказал он и, видя, что на меня это не действует, поменял тон на умоляющий: не хочу ли я взять этого ребенка? Он знает, что я богатый человек, добрый человек. Он даже знает, как меня зовут.
– Но-тон, – сказал он. – Но-тон, возьми ребенка, пожалуйста.
Ребенок все это время стоял со склоненной головой, и мужчина подтолкнул его ко мне.
– Возьми его! – взвыл он, а потом повторил эти слова, проорал их, потому что сверху спускался самолет, пропеллеры шумно вращались, он готовился к посадке.
Я отвернулся и пошел к самолету, а мужчина бросился за мной, схватив ребенка за руку.
– Он будет делать все, что ты хочешь! Все что хочешь! Ты все что хочешь можешь делать с ним!
Мужчина надрывно кричал, и что-то в его голосе, в его ярости, смешанной с отчаянием, заставило меня обернуться и посмотреть на него внимательнее. И тогда буквально на секунду – этот миг был действительно так краток – мне вдруг показалось, что я узнаю его. Его лицо оплыло от избытка алкоголя, глаза были желтые как сало, но что-то в подъеме его подбородка, во все еще стройных руках, крепившихся к шарику торса как паучьи конечности, не напоминало ли о мальчике с а’ина’ины, о том, кто так прямо и твердо держал голову, о том, чьи руки едва ощутимо скользили по мне, словно крылья насекомого?
А потом, даже не осознав этого, я обнаружил, что протягиваю руки и мужчина со стоном облегчения пихает в них мальчика – по-прежнему молчащего, со склоненной головой. Дверь самолета открывалась, трап опускался, и, спеша к нему, я услышал, что мужчина опять зовет меня.
– Что тебе еще надо? – крикнул я, стараясь перекрыть шум мотора. – Я беру его с собой!
– Ты должен мне что-то дать за него!
Несмотря на спешку, я слегка возмутился: сначала он умоляет меня взять ребенка, а теперь просит плату?
– У меня ничего нет, – сказал я.
– Пожалуйста! Но-тон! Что угодно! Я должен что-то получить за него!
Тогда я стал рыться в карманах, поставив мальчика на землю, нашел последний перочинный нож и передал ему вкупе с горстью фисташек. Он схватил их у меня из рук и убежал, придерживая копье над плечом в жесте явно триумфальном. На мальчика он ни разу не оглянулся. Мне вдруг стало жаль его: мальчик ему не был нужен, но мальчик был его единственным достоянием, единственным товаром, который он мог продать или обменять.
Пилот махнул мне из кабины – он уже забрал мой багаж, и мне уже пора было подняться на борт.
– Пойдем, – сказал я мальчику по-у’ивски, и когда он не последовал за мной, так и остался стоять и смотреть себе под ноги, мне пришлось вернуться и взять его на руки. Футболка была замасленная и немного липкая на ощупь, а его горячее дыхание на моей щеке отдавало неприятным дрожжевым запахом. Но он обхватил меня рукой за шею, уткнулся мне в плечо, и мы поднялись по трапу.
Я сел у окна и смотрел, как остров тает подо мной. Ребенок не отпускал мою шею. Позже он описался, и остаток рейса до Гавайев я сидел облитый его мочой. Он мне не нравился, но мне его было жалко, а от одного до другого часто лишь шаг. Мне было пятьдесят шесть, я ехал домой, у меня появился еще один ребенок. Я чувствовал лишь дикую усталость. Эта поездка, поклялся я, была последней, самой последней.
Ребенок заснул, и я положил его на пол, на одеяло. «Еще один, – мрачно думал я. – Еще одного назвать, кормить, одевать, воспитывать».
В Гонолулу я пожал пилоту руку и поблагодарил его. Он был вторым пилотом на моем предыдущем рейсе с У’иву; он француз, сказал он мне, но вырос в Папеэте и до сих пор там живет, так что если я еще полечу этой дорогой, мы, может быть, снова увидимся. Его зовут Виктор, сказал он.
Хорошее имя, подумал я где-то в небе над Калифорнией. Было очень поздно; мое путешествие продолжалось уже много часов; я очень устал. Уж точно хорошее для мальчика без имени. Позже, гораздо позже я стану размышлять о том, как ребенок, которого я приобрел и назвал так бездумно, окажется самым важным созданием, как он перевернет мою жизнь и жизнь других людей – до неузнаваемости.
Но тогда, конечно, я не мог этого предвидеть. Через свой крошечный иллюминатор я видел, как под нами кучкуются облака. Мальчик – теперь уже Виктор – спал рядом со мной. И я наконец тоже закрыл глаза и провалился в сон без сновидений.
Часть VI Виктор
1
С ним было сложно с самого начала. «Сложно» – такое удобное туманное слово, но в данной ситуации его неконкретность вполне намеренна. Дело в том, что у Виктора почти все – каждое взаимодействие, каждый разговор, каждый ритуал детства – казалось тяжело нагруженным, и даже простейшие сведения о нем, которые вроде бы нетрудно было установить, становились предметом запутанных изысканий и расследований. Есть дети, которые усложняют себе жизнь плохим поведением, недостатком характера или здравого смысла, а есть другие, для которых – в силу генетики или обстоятельств – жизнь сложна сама по себе. Следует отметить, что хотя Виктор в конечном счете перешел в первую категорию, свою жизнь у меня он начал в качестве представителя второй.
Взять, к примеру, его возраст. Меня не удивляло, что отец Виктора (или кто он там был) не знал или не интересовался, сколько лет его ребенку. Когда я впервые смог пристально рассмотреть его – изучить заплывшие глаза, вздутый живот, щетинистый колпак грязных волос, полчища сверкающих, толстых вшей, как на подбор жирных и гладких, точно зерна масляного риса, – я предположил, что ему лет шесть, хотя недоедание и болезни придавали ему вид трехлетнего ребенка. По возвращении в Бетесду я отвел его к нашему педиатру, Алану Шапиро, который, обследовав его и приняв во внимание явную задержку роста, предположил, что ему может быть аж семь лет, но может быть и четыре. Угадывать возраст этих детей – дело безнадежное, и я уже давно перестал сильно беспокоиться по этому поводу. Обычно лучше всего скинуть с их жизненного срока столько месяцев, сколько получится, – так у них добавится год или два, чтобы приспособиться к роли развивающегося американского ребенка; процветать и добиваться успеха им будет в результате полегче. (Можете считать, что это такая позитивная возрастная дискриминация.) Так что после ленивого и вялого обсуждения мы с Шапиро пришли к согласию, и в медицинских бумагах Виктора (и всех последующих официальных документах) указали дату рождения 13 августа 1976 года (13 августа – это, разумеется, тот день, когда он мне достался). Я вошел в кабинет Шапиро с непонятным ребенком, а домой отправился с задокументированным четырехлетним мальчиком.
Тысяча девятьсот восьмидесятый год, когда Виктор попал в мой дом, был необычен по двум причинам. Во-первых, никогда еще в доме одновременно не жило столько детей, сколько в том году. Во-вторых, это оказался один из тех годов, когда дети довольно четко разделились на два поколения. С одного края стайка восемнадцатилетних – Мути, Меган, Гюнтер, Лани, Лей, Терренс, Карл и Эдит, кажется, – которые скоро должны были отправиться по университетам; за ними вплотную группа подростков (в основном шестнадцати– и семнадцатилетних плюс несколько детей помладше, включая Эллу, которой было на тот момент двенадцать, и Эбби, одиннадцати лет). Но следующим по старшинству детям, Изольде и Уильяму, которые должны были стать главными товарищами Виктора, было только шесть. Всего в доме в тот год жило около двадцати двух детей. Мои воспоминания об этом времени складываются скорее в ощущения, нежели в истории: однообразные завывания рок-музыки, которые подростки слушают часами; тошнотворный фруктовый запах алкоголя, который они откуда-то стащили; разнообразные кошмарные наряды, проплывающие перед моими глазами по утрам. По вечерам девочки болтали по телефону, а мальчики оставались у себя в комнатах и наверняка мастурбировали. Время от времени я практически не сомневался, что некоторые заводили между собой сексуальные отношения, но как-то затрагивать эту тему представлялось невыносимо утомительным. Все они тратили уйму времени на ссоры, телевизор и громкие заявления о том, как счастливы они будут наконец-то вырваться из дома, отправиться в колледж и жить самостоятельно (конечно, при моей щедрой финансовой поддержке). Надо ли говорить, что я старался проводить как можно больше времени за границей – ездил на конференции, читал лекции. Возвращаясь из аэропорта, я всегда смутно ожидал, что заверну за угол и обнаружу дом в развалинах, а все они тут же нетерпеливо и капризно набросятся на меня со своими требованиями, жалобами и нуждами.
Не знаю, что подумал Виктор, когда впервые увидел дом и обнаружил там странную, многочисленную толпу детей, которых он должен был теперь считать – по крайней мере юридически – братьями и сестрами. Для него это наверняка было тяжелое испытание; я сам с трудом мог уследить за лицами, которые проплывали мимо меня каждое утро, просили денег, подсовывали мне под нос школьные табели и мелкие царапины. В какой-то момент один из старших даже привел пожить приятеля на неделю, чтобы посмотреть, замечу ли я лишние приборы на столе, лишнее родительское разрешение, которое нужно подписывать. Разумеется, я близко ничего не заметил (занятый множеством дел и мыслей), и когда мне наконец с большим весельем раскрыли розыгрыш, я тоже посмеялся и пожал руку пришельцу, симпатичному угловатому подростку с пурпурно-черной, как спелая смоква, кожей. По утрам дети буквально пролетали мимо меня, соскакивая с середины лестницы к входной двери или вываливаясь плотными колоннами из двери задней, с хоккейными клюшками, со стиками для лакросса, с бейсбольными битами в руках, словно вооруженные, словно то были копья, которые они в других обстоятельствах носили бы с собой повсюду. (Порой я смотрел, как эта толпа куда-то движется, смотрел на их невыразительные, недружелюбные, плоские лица, покрытые прыщами, невольно думал об осторожном совете капитана Кука, к которому в юности решил не прислушиваться – «жестокость вевийцев тревожит мой экипаж», – и вздрагивал: могу ли я сказать, что лучше приспособлен к жизни с теми, кто так встревожил смелую команду первооткрывателя, состоявшую из людей, которые знали и видели на своем веку куда больше, чем я?)
Я признаю, что с трудом вспоминал их имена. Я звал, например, девочку, которую считал Лани, а вместо нее появлялась та, которую я всегда считал Меган (это если на мой призыв вообще кто-нибудь откликался). Иногда не я промахивался, а они нарочно жульничали; они пытались играть в эти игры – выдавать себя за кого-нибудь другого в расчете сбить меня с толку, – но быстро отучились, когда я завел собственные: давал денег тому, кто откликнулся на мой зов, например, или требовал выполнить какое-нибудь особенно утомительное задание. Тут же разгорались перебранки, звучали признания, ошибки и намеренные обманы вскрывались и исправлялись. Именно это поколение детей организовало запрет на присутствие, по их выражению, «малышни» за общим обеденным столом, а это означало, что Изольду и Уильяма (впоследствии – всех, кто младше семи) сослали за «детский стол», плоскую деревянную конструкцию с доской из белого ламината, которая прежде использовалась главным образом для поспешных завтраков на кухне; отныне им предстояло ужинать с миссис Томлинсон за час до всех остальных. Естественно, Изольда и Уильям подняли из-за этого жуткий шум и плач, на что старшие ответили таким же шквалом не вполне логичных, но лицемерно-самодовольных воплей («Власть принадлежит большинству! Власть принадлежит большинству!» – выкрикивал Фред, один из шестнадцатилеток, проходивший конституцию в старших классах; их школьная программа легко угадывалась путем наблюдения за политическими решениями, которые они пытались применять к тем или иным домашним правилам), и в конце концов поправка была принята. Даже я был вынужден признать достижение выдающимся; во всяком случае, ужин перестал быть тем балаганом, в какой он всегда превращался раньше.
Вот в такой дом и попал Виктор; я представил его всем в субботний вечер, когда дурная погода не позволила никому пойти гулять. Он не произвел на них хорошего впечатления. Старшие дети молча и долго таращились на него. Более вежливые нервно и бессмысленно улыбнулись; некоторые протянули руки, чтобы потрогать его и тут же быстро отскочить, как будто Виктор мог выпрыгнуть у меня из рук и проглотить их. Изольда и Уильям стояли на пороге и не спускали с него глаз. Виктор же уткнулся мне в плечо и не проронил ни звука.
Когда я попросил миссис Томлинсон его унести, они засыпали меня вопросами.
– Что с ним такое?
– Почему он так выглядит?
– Он болен? Почему он такого цвета?
– Сколько ему лет?
Меня всегда забавляла их реакция, когда им показывали нового ребенка. Как быстро они забывали, как выглядели сами, когда их впервые привезли сюда! Большинство из них прибывало в сопровождении вшей и болезней, в ошметках грязного хлопка, которые трудно было назвать нормальной одеждой. Их болезни варьировали от холеры до дизентерии, от гангрены до конъюнктивита или малярии, и поправлялись они с разной скоростью, но все были недокормлены, малы и (не могу умолчать) весьма уродливы, с большими круглыми головами, со скрюченными, слабыми конечностями; они выглядели как разросшиеся плоды, как что-то родившееся слишком несформированным и чудовищным, чтобы заслужить право находиться среди людей, как ошибки, не предназначенные для обозрения.
– Стыдитесь, – сказал я им. – Ты что думаешь, Меган, ты выглядела по-другому, когда приехала сюда? А ты, Оуэн?
Мне всегда приходилось подобным образом укорять их после первой реакции на нового ребенка; старшим становилось стыдно, младшие сопротивлялись.
Но на этот раз их не проняло.
– Мы так не выглядели, – хором отозвались они.
Нельзя сказать, что они были совсем неправы. Я уже упоминал об ужасном состоянии Виктора, о том, какое потрясение охватывало при взгляде на него. Но тут, если честно, следует сказать, что его вид вызывал не только ошеломление, но и отвращение. За долгие годы я удостоился знакомства с рядом худших повреждений, которые болезнь может нанести человеческому телу, и хотя Виктору было далеко до самых впечатляющих больных, каких мне довелось видеть, он, бесспорно, был одним из самых жалких. Даже не потому, что он явно обладал исключительной природной красотой и экзотической привлекательностью, а болезни все это уродовали и убивали, – но скорее из-за их всеохватной области поражения. Ничто видимое или осязаемое не избежало отметин – похоже, у него не было ни одного здорового органа. Глядя на него, я – не впервые уже – испытывал смутное восхищение работой множества вирусов и бактерий: как отчетливы и изобретательны их следы даже на самых крошечных и незаметных частях тела; как они расписали его кожу бороздами горячих, пучащихся пузырей, покрытых снежными вершинами гноя; как они прошлись по белкам его глаз, сделав их сально-желтыми и выдавив из них непонятную слизь, густую, словно воск. Различные бактерии успешно овладели, казалось, даже самыми несущественными деталями его организма: даже ногти на ногах и руках были непрозрачны, как кость, с окаменевшими, зазубренными краями. Из каждого отверстия что-то сочилось – то жидкость ржавого цвета с острым металлическим запахом менструальной крови, то нечто прозрачное и желеобразное, лишь с неохотой вылезающее на поверхность. Он завораживал – дом тысяч обитателей. Мы с Шапиро провели несколько интересных сеансов, осматривая его, определяя те болезни, что поддавались определению (стригущий лишай, конъюнктивит, экзема), и споря о тех, что не поддавались. Это была роскошная, увлекательная загадка, и Виктор – который тихо сидел и тяжело дышал через рот, пока мы с Шапиро тыкали в него пальцами, ощупывали и исследовали все его тело, – проявлял, надо сказать, изрядное терпение. Но, конечно, большинство его заболеваний, как бы тревожно и страшно они ни выглядели, были вполне излечимы, и после ежевечерней ванны я сажал его на колени, втирал крем в болячки и давал ему антибиотики, спрятанные в медовике. Я наблюдал, как постепенно его кожа становится гладкой, как ломкая корка волдырей, захватившая внутреннюю сторону бедра, медленно растворяется, подобно соли, расходящейся в темной лужице. Так что хотя первоначально его вид и внушал опасения, это было временное и, в сущности, легко исправимое явление. Нет, Виктор представлял более существенную сложность – почти полное отсутствие общественного инстинкта, фундаментальное – я употребляю это слово намеренно – дикарство. Дело в том, что очень скоро после приобретения Виктора я осознал: мне придется учить его, как быть человеческим существом.
Некоторые люди – иногда в целом даже вполне разумные – считают, что мы рождаемся предрасположенными вести себя – ну, как люди. То есть что мы рождаемся с определенным набором желаний или склонностей – например, со склонностью находиться в обществе других, или делиться с другими, или общаться с другими. (А некоторые еще верят в такие понятия, как добро и зло, и любят спорить, что из этого заложено в человеческой природе.) Но хотя это симпатичное соображение, оно в основе своей ошибочно. Для доказательства не надо искать примеров более экзотических, чем мои собственные дети, особенно Виктор, который плохо понимал, что значит вести себя по-человечески. Его тело, конечно, служило его базовым потребностям, он ел, он спал, он ходил в туалет – но, похоже, не был способен ни на что большее. Начать с того, что он был почти полностью лишен эмоций. Однажды в качестве эксперимента я слегка уколол его подошву булавкой, и хотя он дернул головой, звука он никакого не проронил, и его отсутствующий, туповатый взгляд не изменился. Я придумал и другие эксперименты. За едой он открывал рот, прожевывал то, что туда клали (даже как кормиться он не представлял; если я ставил перед ним тарелку, он лишь пристально смотрел на нее, словно это какая-то драгоценность, которую ему поручили охранять), ритмично раскрывая и закрывая рот, и его зубы, смыкаясь, издавали чересчур громкий, железный звук. Однажды я подсунул в ложку вареной моркови небольшой кусок газеты, который он тут же принялся жевать, пока я не залез ему в рот и не вытащил мокрую изжеванную бумагу. В такие мгновения я вглядывался ему в лицо, и на меня словно бы смотрела Ева, а его присутствие казалось мне наказанием, напоминанием о том, что я никогда не смогу избежать всего, что видел и делал на острове. По ночам его клали в кровать, но утром либо миссис Томлинсон, либо я (либо Уильям, с которым он делил крохотную комнатку на третьем этаже, под косыми склонами чердака) находили его в углу: он сворачивался в комок, темный, молчаливый, тихий, и спал, ухватившись за свои гениталии.
Были и другие, менее гигиеничные загадки. Стало очевидно, что он страстно увлечен собственным калом: он оставлял его колбаски на ковре, в саду, на столе. Странно, что при этом туалет сам по себе не был для него чем-то новым и непривычным: миссис Томлинсон сообщила мне, что, познакомившись с этим устройством, он нажал на рычаг с ловкостью и уверенностью, какой пока еще больше ни в чем не проявлял, и уставился на процесс смывания воды в отверстие. Однажды ночью я увидел, как он вышел из спальни и двинулся к туалету, но в нескольких футах от него остановился, почти лениво развязал веревку на своих пижамных штанах и уселся на корточки прямо над горшком с большой увядшей фуксией, стоявшим в центре ковра в холле. Как раз на днях у него появилось выражение лица, которое он чередовал (часто без сколь-нибудь очевидной причины) со своим привычным бесстрастным взглядом, страшноватая разновидность улыбки: он вытягивал свой длинный рот широким полумесяцем и обнажал редкие зубы пыльного цвета. Когда я позвал его по имени, он неторопливо обернулся и одарил меня этой улыбкой. Даже когда я шлепнул его по заднице и паху, он продолжал улыбаться, словно его лицевые мышцы застыли в гримасе и не могли расслабиться.
Сейчас в этом глупо признаваться, но тогда я позволял себе удивляться поведению Виктора. Он был так тих и умучен, когда я впервые увидел его, что эту бесцветность я принял за склонность к податливости, за потенциальное желание чему-то научиться. Изначальное отсутствие у него сколько-нибудь выраженного индивидуального характера лишь убеждало меня, что я легко с ним справлюсь; я воспитаю в нем свойства, к которым всегда хотел побудить своих детей, – он станет любознательным, и вежливым, и послушным, и разумным. Но в течение первого же месяца я осознал, что он более упрям и намного менее податлив, чем мне казалось; даже в его бесстрастности мерещилась какая-то непримиримая несговорчивость. С этой своей искусственной маской на лице, с жуткой улыбкой, с неуклюжей, замороженной походкой он уже казался мне каким-то големом, которого я несправедливо и неразумно пробудил и отправил расхаживать по своим владениям, уничтожать их нечеловеческими, механическими, непостижимыми движениями и побуждениями, над которыми не властен человек. Да, с ним было сложно не потому, что его проблемы были так уж непреодолимы, а просто потому, что я не знал, как к ним подступиться. У меня были другие чудовищные дети – Мути в первый свой месяц у меня дома пыталась убить кошку, выцарапав ей глаза палочками для еды; Терренс острыми зубами откусил голову песчанке, принадлежавшей одному из старших детей (разразился страшный скандал), – но их я, по крайней мере, понимал. Они любили визжать, вопить, впадать в громкие, затяжные истерики. Кроме того, они обожали, когда на них орут в ответ, когда им есть с кем сцепиться. Конечно, такие эпизоды были утомительны, они часто всех выматывали, но в них, по крайней мере, скрывалась готовность к разговору или как минимум к какой-то коммуникации.
А с Виктором и такого взаимодействия не получалось. На протяжении месяцев я всеми возможными способами пытался то подступаться к нему, то наказывать. Я хвалил и ругал его. Я целовал и бил его. Я давал ему дополнительные порции макарон (ему очень нравились разные углеводы, в отличие от остальных детей, вечно жаждавших мяса) и лишал всякой еды. Я пел ему и давал пощечины, бормотал на ухо всякую ерунду и таскал за волосы, но он оставался абсолютно равнодушен к любым проявлениям внимания, только сидел и ухмылялся, как череп.
Спустя несколько месяцев я стал жалеть, что привез его домой. Разные болезни, отмеченные на его коже, исчезли (да и вообще Шапиро объявил, что он совершенно здоров), но преображение больного ребенка в здорового оказалось не таким эффектным, как я ожидал. Некоторые из детей, оставив неблагоприятное первое впечатление, становились потом вполне милыми: кожа их разглаживалась, щеки наливались, волосы росли густыми локонами и чуть сладковато пахли, как древесина мескита. Возвращение доброго здоровья к Виктору (если, конечно, оно у него вообще когда-нибудь было) не принесло никаких приятных сюрпризов подобного рода. Он не превратился в мальчика со сверкающими глазами, заразительным смехом и прямым, сосредоточенным взглядом. Здоровый он остался практически таким же, как прежде: он не стал ни обаятельным, ни хорошеньким ребенком и упрямо отказывался вызывать привязанность или умиление даже у тех, от кого подобных эмоций следовало ожидать.
В конце концов я осознал, что Виктор не тот ребенок, который сможет просто дойти до поведенческого барьера и преодолеть его. Нет, его вхождение в общество будет долгим и скучным процессом, с крошечными, практически незаметными подвижками и долгими, изматывающими откатами. Я провел вечер, наблюдая за ним, отмечая, что он знает и чего не знает, что ему можно легко объяснить, от каких дурных привычек придется в первую очередь отучать. Как и следовало ожидать, он не разговаривал – хотя если его заставляли или как-то уместно побуждали, он мог издать набор кратких обезьяньих звуков, – но тембр голоса, кажется, понимал. Окрик, похожий на удар хлыста, заставлял его замереть, а голос в верхнем регистре, певучий и фальшивый, успокаивал. Но в целом он, казалось, выучился вовсе ни на что не реагировать – поэтому так пугающе и неуместно улыбался, поэтому причудливо замирал.
Больше всего меня напрягала именно улыбка. Я пообещал двадцать долларов тому из детей, кто первым научит Виктора мимически изображать приемлемые реакции, и на протяжении нескольких вечеров вокруг него в гостиной теснилась целая толпа. Они щекотали его, рассказывали анекдоты (которых он, разумеется, не понимал), возились с ним так и сяк, запихивали себе в рот куски пирога, изображали восторг. Естественно, он на это никак не реагировал, и спустя от силы неделю дети утратили к нему интерес и вернулись к своим вышеупомянутым послеобеденным развлечениям. Впрочем, я не считал ту неделю потерянной – я видел, как он поворачивает покрытую прожилками голову от одного радостно сияющего ребенка к другому, слегка приоткрыв рот, словно желая выучить правила какой-то сложной и запутанной игры, мастерское владение которой обеспечит ему беспредельное счастье. Не знаю, понял он это осознанно или нет – знал ли он вообще, как подступиться к понятию счастья, – но через много недель он, по всей видимости, осознанно занялся обучением. Несколько месяцев спустя, как-то утром, я увидел, что он смотрит ток-шоу по телевизору. Мне потребовалось несколько минут, чтобы догадаться, что он разглядывает лица ведущих, их яркие клоунские улыбки. Через некоторое время он встал и направился к ванной в прихожей. Я последовал за ним, как молчаливый призрак, и долго стоял и смотрел, как он вытягивает рот в странной и неубедительной имитации радости, глядит на себя в зеркало, как будто старается запомнить точный угол, под которым губы должны изгибаться кверху, и удивляется, как много мышц нужно задействовать для такого простого на вид действия.
К следующему году он научился сначала имитировать человеческое поведение, а потом и по-настоящему участвовать в нем. Особо очаровательным ребенком он так и не стал, но управлялся неплохо: рос, ел, освоил язык и человеческие эмоции, вроде бы подлинные. Если говорить о более приземленных вещах, то он научился правильно пользоваться туалетом, есть вилкой и ложкой, завязывать ботинки. Обнаружились и кое-какие незатейливые интересы: он очень любил простые механизмы – любые блоки и рычаги его завораживали – и мог несколько часов подряд играть со старым кухонным лифтом, наблюдая, как ящик тихо ползет наверх по плетеным сияющим канатам, а потом снова спуская его в подвал, откуда ящик вылезал со скрежетом, как некий старинный космический корабль. Потом он отправился в школу, где выучился читать и писать и даже завел кое-каких приятелей.
Спустя несколько лет он стал во всех существенных и заметных проявлениях совершенно обычным мальчиком, который улыбался, хмурился, злился и смеялся. Это преображение произошло так медленно и заняло столько времени, что я осознал его, только когда оно уже давно закончилось. Я стал думать о его первых годах в моем доме как об этапе метаморфоза, о состоянии куколки – я мог вспомнить (и нередко вспоминал), каким ребенком он был, когда я его впервые обнаружил, но вскоре понял, что вспомнить, как он преобразился в ребенка, сидящего передо мной за обеденным столом или за моей спиной в автомобиле, в ребенка, который что-то ест, болтает или просто смотрит на пейзаж за окном, очень трудно. Будущее, которое я для него представлял – в те минуты, когда до этого доходило, – было примечательно разве что своей расплывчатостью: он окончит, думал я, среднюю школу, потом, может быть, поступит в колледж, найдет работу (но я не мог представить, какую именно – станет ли он техником или, например, будет работать в конторе, сидеть в белой рубашке и в обмотанном вокруг шеи галстуке, разговаривать с идеальным, лишенным всяких корней выговором), женится, заведет семью. Я буду видеть его и беспокоиться о нем все реже и реже, пока он не превратится в приятное и далекое воспоминание.
В сущности, тут-то моя история про Виктора и должна бы была закончиться. С течением месяцев его проблемы стали менее увлекательными, менее таинственными, менее яркими, чем поначалу. В частности потому, что появились новые дети, у которых возникали другие, более понятные проблемы. Через год после усыновления Виктора я добавил в семью еще одного ребенка, мальчика, которого назвал Уитни. Как и Виктор, он был недокормлен и неприспособлен к жизни в коллективе, но в отличие от Виктора вел себя по-дикарски – орал и впадал в истерику. Иными словами, наказывать его было нетрудно, и прогресс стал заметен быстро. После Уитни я все-таки решил прерваться с усыновлением детей. (Сейчас меня удивляет, что я осмыслял свое решение именно в такой формулировке: я решил, что прерву череду усыновлений, но почему-то не мог или не хотел признать правду: что я давно перестал получать столь желанную радость от прибытия нового ребенка, что мне просто не следует больше добавлять их к своей жизни.)
В результате те годы – примерно между 1982 и 1985 – оказались для меня очень приятными. Несколько детей поступило в колледж, и дом внезапно опустел (по крайней мере, он не был так заполнен, как обычно), и я мог ездить, часто надолго, как в те места, куда мне давно хотелось попасть, так и в те, которые я уже долгие годы не посещал. В какой-то уикенд я препоручил детей заботам миссис Лансинг (после пятнадцати с лишним лет, посвященных заботам о моих детях, миссис Томлинсон решила уйти на пенсию, но перед этим выдала мне телефон своей невестки, столь же толковой женщины по имени Джоан Лансинг) и отправился повидаться с Оуэном в Бард, где он только что начал преподавать. Мы славно провели вместе несколько дней – Оуэн, я и еще юноша[77], кажется, один из его студентов, с которым он в тот момент встречался.
Но в 1986 году меня охватило – что? наверное, какая-то скука или безумие (или просто мое прежнее томление?), и я опять поехал на У’иву, где провел несколько бессмысленных дней, блуждая по острову и отмечая его продолжающийся упадок. А в Мэриленд я в результате вернулся с близнецами, Джаредом и Дрю, и девочкой Керри. Внезапно жизнь снова выскользнула у меня из рук, и три года спустя я почти с ужасом обнаружил вокруг себя совершенно новое поколение детей, как будто они размножились ночью, пока я спал. Такое объяснение казалось намного правдоподобнее, чем правда: по необъяснимым причинам, которые я не мог сформулировать даже для себя, я насадил в свою жизнь десяток новых существ, чье переваливание через многочисленные этапы детства, подросткового возраста и взрослости мне придется теперь наблюдать. Я начал всерьез задумываться, нет ли у меня какого-то нервного тика. Как так получилось, думал я, что у меня снова куча детей, когда всего лишь несколько лет назад я напряженно ждал, что дом опустеет и моя жизнь, одинокая и необремененная, наконец-то начнется заново? Почему я не могу остановиться? На какие дары, не доставшиеся мне в тридцати с лишним прежних случаях, я продолжаю надеяться? Чего мне надо?
2
Если оглянуться назад – так гораздо легче винить себя во всем, что пошло не так, – я понимаю, что мне не следовало воспринимать созревание Виктора со спокойным удовлетворением, не попытавшись сперва найти способ его как следует контролировать, способ выражать свою власть так, чтобы он это понял и принял. Но что-то уже поменялось. Раньше мне захотелось бы понять, почему Виктор так себя ведет, но теперь этого не было; когда он начал вести себя пристойно, я всего лишь с облегчением отметил, что он научился быть управляемым и оставил определенный тип поведения в прошлом. Я стал понимать, что утомился или, точнее, утратил интерес к процессу воспитания в целом. Я утратил интерес к решению некогда захватывающих психологических загадок, связанных с моими детьми. Меня больше не занимало, отчего кто-то из них истерически орет при столкновении с кофейником, а кто-то сжимается при виде апельсинового сока в заиндевевшей, холодной бутылке. Раньше я мог провести много радостных дней, обдумывая те (обычно неприятные) события и сочетания событий, которые приводили к подобным реакциям; я часто думал о них как о ярких, причудливых головоломках, как о резинках, которые следовало натягивать и играть ими, отвлекаясь от настоящей работы, заполнявшей мои дни. Подобные мелкие затруднения оказывались по-своему невероятно полезными, поскольку привносили в жизнь значительную долю какой-то романтики воспитания; а воспитание и должно порой быть загадочным, таинственным и сложным, потому что каждый ребенок – это существо, которое следует понять и при необходимости повести в том или ином направлении. Когда я усыновил Муиву в 1968 году, мысль о воспитании казалась мне заманчивой и полной чудес – на моем попечении очутилось существо одновременно постижимое и непостижимое, предсказуемое и полное удивительных сюрпризов; я ожидал невероятных приключений, десятков ежедневных откровений в миниатюре.
И на протяжении долгих лет и даже десятилетий так все и было. Но потом (опять-таки медленной поступью, которую я долго даже не распознавал) все неизбежно стало меняться. В 1984 году мне исполнилось шестьдесят, и лаборатория устроила небольшое юбилейное празднование – в прежние годы благодаря частым и постоянным разъездам свой день рождения я успешно пропускал. Но получилось не так уж и ужасно. Пришли два институтских почетных профессора, оба меня иронично поздравили (неудивительно: обоим было за восемьдесят), подали торт «Леди Балтимор» со сливочной глазурью и некий неужасный алкогольный напиток типа бренди, над которым один из рафинированных ученых работал в свободное время[78]. Некий лаборант бегал вокруг столов с фотоаппаратом и фотографировал празднество, и в результате я, как ни странно, получил удовольствие.
На следующей неделе на моем столе оказался простой бурый конверт, а в нем – фотография мужчины, которого я поначалу не смог опознать. Он выглядел знакомо, и на мгновение я подумал, что это кто-то, кого я встретил недавно, кто мне неожиданно понравился: косой островок каштановых волос, глуповатая улыбка и огромные, вялые руки, каждый палец как раздувшийся рогалик. Но, конечно, это я и был, и несколько минут я вглядывался в фотографию, колеблясь между тревогой и каким-то клиническим любопытством. У меня никогда не было ни склонности, ни времени внимательно изучать собственную внешность, но в моем обхвате, осознал я, есть нечто непристойное и жуткое, как и в слое сала, отложившемся на животе, в утолщенных странно-лиловых губах, в жировые складках, лежащих на шее тяжелыми слоями, словно я некая неуклюжая, нелетающая птица. Больше всего меня поразило явное отсутствие какой-либо костной структуры; выглядело это так, как будто меня вырезали из податливого куска влажного сала. Возраст и мысли о старости никогда меня особенно не расстраивали, но, увидев эту фотографию, задумавшись об обветшании тела, о его явно отвратительном виде, я приуныл. Разумеется, я замечал, что старею, что память больше не так бодра, что, поднявшись по лестнице к своей комнате, я дышу через рот, что сплю я урывками. Но, только увидев ту фотографию, я осознал, до чего незаметен и жесток бег времени, как очевиден и непоправим распад. «Господи, – подумал я, – впереди еще пятнадцать-двадцать лет, и каждый год будет хуже предыдущего». Внезапно раздумье о собственной жизни, о ее неустанном движении вперед, стало казаться почти невыносимо мрачным. Я не мог забыть, что, будь я кто-то другой, меня бы поздравляли не тортом, а моим собственным опа’иву’экэ, и представил, как сижу у костра рядом с Таллентом и бугристый черепаший панцирь медленно выдвигается в поле зрения, подбирается все ближе и ближе ко мне.
Впрочем, должно быть, в чем-то другом мне повезло. В 1989 году, когда мне исполнилось шестьдесят пять, меня могли, согласно различным правительственным инструкциям и так далее, попросить уйти на пенсию или в лучшем случае принять должность почетного директора. Такое разжалование меня бы несколько обескровило, но все-таки оставило бы возможность участвовать в повседневной жизни лаборатории. Но, к моему удивлению, письмо от какого-нибудь бюрократа, напоминающего о сокращении полномочий и предлагающего отставку, так и не пришло. Видимо, я оказался в числе исключений. Не то чтобы я страшно расстроился, если бы меня попросили следовать обычным правилам. В конце концов, к тому времени (и так уже было много лет) я не очень-то нуждался в статусе сотрудника Национальных институтов здравоохранения; если бы они настаивали на применении общих правил, я бы просто принял какое-нибудь из предложений Джонса Хопкинса или Джорджтауна, которые получал каждый год. Если честно, я бы не отказался от работы в частной компании где-нибудь еще, но, разумеется, мои передвижения были ограничены детьми и той заботой, которую я был обязан им обеспечить.
Но если несколько лет назад эта деталь меня бы не взволновала – в конце концов, я усыновил и удочерил их всех по собственному желанию, полностью осознавая собственную ответственность, – теперь я испытывал необъяснимое и несправедливое раздражение, как будто мне следует каким-то образом избавиться от скучного родительского альтруизма. Некоторое время после того, как стало ясно, что меня не попросят уйти из лаборатории, я злобно пялился на детей за ужином, пока они запихивали в рот огромные количества пищи с жадностью и резвостью, от которых становилось не по себе. Как я уже говорил, даже тогда я понимал, что это неразумно – они, в конце концов, здоровые американские дети со здоровыми американскими аппетитами, которые я сам создал и поощрял, – но все равно вид этого радостного потребления (а они в конечном счете только и делали, что все время потребляли) пробуждал во мне что-то близкое к гневу. То, что обычно казалось лишь скучноватым (постоянные вопросы, бесчисленные требования, отсутствие широких взглядов) или даже милым, стало теперь почти невыносимым. Я испытывал подобные чувства и раньше, и даже на протяжении довольно долгого времени, но всегда ухитрялся вернуться к своему привычному, в целом благосклонному отношению, прежде чем дети успевали заметить мое временное отвращение к ним. Что бы сейчас ни говорили, их душевное состояние имело для меня некоторое значение, и я не считал, что они должны чувствовать себя виноватыми из-за моего настроения или за него отвечать. Такая опасность, следует добавить, никогда и не возникала.
Таково было мое душевное состояние в 1989 году, когда пришли в движения события, приведшие меня к нынешнему положению вещей. Я провел много месяцев, вновь и вновь отыгрывая те обстоятельства, о которых сейчас расскажу, думая, что можно было сделать иначе, гадая, мог ли я предвидеть путь к своему краху. Иногда я склонялся к выводу, что в течении событий крылось что-то неизбежное, как будто моя жизнь – которая все чаще казалась не моей собственной, а чем-то, куда я вслепую рухнул, – была и вправду чем-то живым и существовала без всякого моего участия, лишь тянула меня за собой в потоке сильного, настойчивого течения.
Но после многих месяцев раздумий я по-прежнему не нахожу адекватного объяснения случившемуся; как это можно было предотвратить, я тоже не понимаю. Я до сих пор изумляюсь тому, как стремительно и беспощадно изменилась моя жизнь, поэтому обдумывать события того года могу, только если считаю их случившимися давным-давно и с кем-то другим, как будто это такая череда бедствий и несчастий, навалившаяся на человека, некогда вызывавшего мое восхищение, про которую я читал пыльную книгу в далекой, величественной, мраморной библиотеке, где нет звука, нет света, нет никакого движения, кроме дыхания и движения моих собственных пальцев, неуклюже листающих грубо обрезанные страницы.
Через некоторое время после таинственного избавления от правительственной гильотины, когда стало ясно, что я могу продолжать свою прежнюю жизнь, мне пришлось признаться себе, что я мечтал – в тайне, в такой тайне, что даже сам едва смел в это поверить, – найти какой-нибудь предлог, чтобы свернуть профессиональную деятельность.
Я устал. Это выглядит трюизмом, но это правда. Я подошел к возрасту, когда мысли о прошлых победах – их у меня, как и ошибок, было, конечно, немало – доставляют больше удовольствия, чем планирование побед будущих. Иногда я думал: являясь в лабораторию, продолжая читать лекции, продолжая исследования, не пытаюсь ли я как-то обмануть естественный ход человеческой жизни? Начало жизни предназначено для поисков, середина – для того, чтобы пожинать плоды этих поисков. Но не следует ли мне в шестьдесят с лишним лет просто остановиться? Не следует ли провести оставшиеся десятилетия, удерживаясь от будущих проблем и неприятностей (и от будущих успехов, да)? Вдруг число достижений, доступных человеку за одну жизнь, конечно, а если так – я свое, наверное, уже исчерпал?
А потом я думал, что это просто лень, что это смешно и к тому же непрактично, потому что без работы что мне останется делать? Сидеть дома, помогать миссис Лансинг воспитывать детей и пылесосить полы? Стать (что непременно произошло бы) одним из тех почетных профессоров, какими институт особенно плотно укомплектован, одним из тех, кто любит без предупреждения наведываться в свои прежние лаборатории, кто смущает и раздражает каждого дряхлостью и бесконечными вопросами о том, чем все занимаются, и непрекращающимися рассказами о том, чем тут занимались двадцать, тридцать, сорок лет назад, когда окружающим было не все равно? Иногда заходили такие и ко мне в лабораторию, и хотя при этом всегда начинались разговоры о моем преклонном возрасте, вопросы, когда я оставлю эту головную боль и перейду к чему-нибудь поинтереснее, я неизменно замечал, с каким жадным вниманием они расхаживали по помещению, как ласково они прикасались даже к самым обычным предметам – бокалу, фляжке, тканевой обложке какого-нибудь из фисташково-зеленых журналов, в которые мы записывали свои заметки, – и понимал, что они завидуют мне и жалеют, что вышли из игры.
«А вы что теперь поделываете?» – любезно спрашивал я, уже давно понимая, что это не вежливый, а довольно жестокий вопрос. «Да разное», – отвечали они, и хотя рассказы всегда затягивались надолго, все-таки они были старики и не могли скрыть, во что превратилась их жизнь: дни с мелкими сполохами каких-то дел, поездки с женой в магазин за продуктами, долгие часы за чтением научных журналов, которые они когда-то держали в углу лаборатории большой покосившейся стопкой, – когда они сами были учеными, когда они были слишком заняты собственными исследованиями, чтобы читать о чужих[79].
Так что уйти я не мог. Но я стал проводить больше времени дома. Не потому, что хотел быть дома, а скорее потому, что мог быть либо там, либо в лаборатории, а я обнаружил, что больше не могу проводить в лаборатории все время. Воскресенья, например, я прежде просиживал на работе, и когда возвращался домой, там было темно, а дети давно лежали в кроватях. Теперь же я стал возвращаться все раньше и раньше и в результате проводил дома большую часть дня.
Однажды в воскресенье я оказался дома еще раньше обычного. Виктор получил задание по истории – воссоздать зерновой пирог, который пекли первые американские поселенцы, состоявший из большого количества просяной, кукурузной и ржаной муки. Показать результат надо было в понедельник, он должен был сделать столько, чтобы всем одноклассникам досталось по кусочку, и, естественно, он и не подумал поделиться со мной этими сведениями раньше обеда.
Возможно, он ожидал, что я сам выполню это задание (а почему, хотелось мне спросить у него, ведь моя репутация среди детей не то чтобы гарантировала, что я возьму на себя ответственность за их проколы), но я откомандировал его на кухню и велел смешивать ингредиенты – которых у нас, разумеется, не было, так что пришлось в спешке ехать в магазин, пока он еще не закрылся.
Мы работали по большей части молча. Его распирало, он буквально подпрыгивал, переминался с ноги на ногу, что, на мой взгляд, сильно мешало сосредоточиться; позже я понял, что это разогрев, прелюдия к ссоре, в которой, как выяснилось, я тоже должен был участвовать.
– Теперь надо раскатать тесто, – сказал я, и когда он не ответил – слегка приоткрыв рот, он уставился на что-то за окном, судя по всему, не более интересное, чем толстая белка, сидевшая на яблоневой ветке, – я сорвался:
– Виктор! Тесто! Виктор!
Тогда он повернулся ко мне, выковырял тесто из миски и шмякнул его на поверхность стола.
– Ты все запачкаешь, Виктор, – сказал я ему, а потом, когда он снова не ответил, прикрикнул: – Виктор! Я с тобой разговариваю!
Снова молчание, а потом:
– Почему меня назвали Виктор?
– Я тебе объяснял, – сказал я. – Я назвал тебя в честь летчика, который забрал нас с У’иву, когда я тебя усыновлял.
– Но почему в честь него?
Они, мои дети, всегда хотели узнать, почему их назвали так или эдак. Они любили придумывать красивые истории о себе и, наверное, надеялись, что за их именами стоят какие-то героические события, что им приписан особый смысл, что мой выбор – это какое-то тайное послание, которое они рано или поздно поймут и оценят. На самом же деле я обычно называл их просто в честь людей, которых встречал по пути: своими именами они были обязаны сотрудникам за стойками регистрации в аэропортах и администраторам гостиниц, таможенным агентам и коридорным, пилотам и стюардессам, соседям по рейсу и официанткам, незнакомым бюрократам Государственного департамента, одобрявшим их въезд, и знакомым иммиграционным чиновникам, которые жестами призывали меня продвигаться вперед, когда я вел за руку очередного питомца. А что мне было делать? Я давно уже исчерпал имена друзей и коллег, и к концу 1970-х дети прибывали так быстро, что придумывать им броские имена не хватало времени и сил.
– А почему нет? – спросил я его. – Это хорошее имя.
– Виктор – дурацкое имя, – сказал Виктор.
– Не впадай в детство, – сказал я ему. – Виктор – отличное имя. И вообще, это твое имя, так что, будь любезен, научись с ним жить.
– Я и есть ребенок, – сказал Виктор. – А имя Виктор я терпеть не могу.
– Ты меня не слушаешь, – ответил я. – Я сказал, чтобы ты не впадал в детство. То, что ты ребенок, вовсе тебя не обязывает вести себя по-детски. И я тебе не говорю, что ты должен любить имя Виктор, – пожалуйста, можешь его ненавидеть сколько угодно. Я только сказал, что тебе придется научиться с ним жить.
На это он никак не откликнулся и мрачно замолчал. Я почувствовал, что он меня утомил.
И тогда я задал ему вопрос, который родитель задавать не должен:
– Ты бы хотел, чтобы тебя звали как-то иначе?
Разумеется, у него был готов на это ответ.
– Да. Ви, – торжественно произнес он.
Иногда я просто не могу понять, что на меня нашло. Почему я предоставил ему такую возможность? Но иногда, после долгих лет, проведенных в подобных разговорах, забываешься и совершаешь досадные ошибки.
– Дави? – переспросил я. Я сомневался, что правильно расслышал. Мне вспомнился случай, когда Соня[80] пришла домой – а ее красивые густые волосы сострижены вокруг ушей и покрашены белыми полосками. Как родитель я всегда был готов к «самовыражению» своих детей, или чем там теперь принято извинять дурное поведение, но у меня тоже есть предел. Детские психологи и либерально настроенные учителя отказываются признать, что у большинства детей нет вкуса, что они склонны ко всякой пошлости. В ответственность родителя входит обучение детей манерам, этике и морали, но наряду с этим детям необходимо предлагать и какие-то азы эстетического и культурного образования, чтобы они не превратились в вульгарных взрослых, таких, которые изобретают новые и неоправданно сложные способы написания собственных имен и считают сюжет недавно просмотренных комедийных сериалов уместным застольным разговором. – Дави на газ, а там посмотрим? Дави меня на потеху всем?
Но его даже это не вывело из себя.
– В-И, – объяснил он, как объясняют туповатому ребенку. Я слышал, как он таким тоном разговаривает с Жизель, одной из младших детей.
– Ви, – повторил я. Смысла все равно никакого, о чем я не преминул ему сказать. – Виктор, если ты так хочешь поменять имя, пожалуй, это можно обсудить, но нельзя ли выбрать что-нибудь менее смехотворное? Использовать твое второе имя, например? – Второе имя Виктора было Оуэн[81].
– Нет, – немедленно отозвался Виктор. – Это тоже дурацкое имя. Не буду я носить имя белого.
Это меня удивило, и, обернувшись к нему, я успел заметить его улыбку. Он был в восторге, что вызвал во мне такую реакцию, и я мысленно чертыхнулся.
– О чем ты?
– Ты разве не замечал, – сказал Виктор, – что у нас у всех белые имена? У всех до единого. Это же фальшиво. Ты пытаешься отбелить нас, сделать так, чтобы мы забыли, кто мы такие, из какого места.
Я снова поймал себя на том, что поворачиваюсь и смотрю на него. «Я дал тебе имя, потому что, когда я тебя нашел, ты был безымянным, – подумал я. – Как собака. Хуже, чем собака». Потребовалось усилие, чтобы не сказать этого вслух, и, будь я взволнован сильнее, мог бы и не сдержаться.
Где они такого набирались? Виктор глубоко ошибался, если ему казалось, что он первый мой ребенок, испытавший это ложное откровение и на волне высокомерного гнева решивший выдвинуть мне обвинения.
– «Откуда», а не «из какого места», – сказал я. – Честное слово, Виктор, это ужасно скучный предмет. Ты говоришь как какой-то реакционер, а реакционеры не могут похвастаться оригинальностью. – К этому моменту он стянул губы в длинный, тонкий шов и смотрел на меня с чем-то вроде ненависти в глазах. – И если уж говорить о всяких изощрениях, то я не слышал имени нелепее, чем Ви. Ви – такое же не у’ивское имя, как Виктор.
(Однако уже в то мгновение, когда он произнес это абсурдное имя, я понял, как он к нему пришел: звук «вэ», его короткая, оборванная односложность слегка напоминала нечто южно-тихоокеанское, пусть и в самом примитивном и претенциозном виде. На протяжении многих лет мои дети придумывали разные имена, которые, по их мнению, имели отношение к их родной стране и культуре: Ва, Во, Ви, Вэ, Ву, – они хотели изобразить что-то микронезийское, но обычно получалось что-то смутно вьетнамское.)
Виктор открыл рот, потом снова закрыл; он все-таки был еще ребенок, и он понимал, что я прав. А потом он сделал так, как тот мальчик, и я даже похолодел: задрал подбородок неестественно высоко и опустил ресницы, как будто глядел на меня сверху вниз, хотя я был гораздо выше.
– Мне все равно, – сказал он (последний аргумент ребенка). – По крайней мере, Ви больше похоже на у’ивское имя, чем Виктор. – С этими словами он развернулся и вышел из кухни.
– Виктор! – крикнул я ему вслед, скорее в раздражении, чем в гневе. Он не домыл кучу посуды в раковине, и теста, которое нужно было вымесить, остались целые горы. – Виктор! Вернись немедленно!
Но он не вернулся, и мне пришлось заняться тестом самому, напрягая плечи, как будто я перемешиваю плоть.
Я не то чтобы сильно обеспокоился. Можете что угодно говорить обо мне как о родителе, но вы не можете не признать, что я никогда не требовал благодарности от своих детей, никогда не требовал, чтобы они говорили мне спасибо или вели себя хорошо только потому, что я их спас. Иногда я думал, что они были бы точно так же счастливы – а то и счастливее – на У’иву, даже со вспухшими от недоедания животами. В любом случае большинство из них в какой-то момент (обычно к двадцати с чем-то или когда у них появлялись собственные дети) осознавали те возможности, которые я им предоставил, после чего являлись ко мне в слезах, трогательно просили прощения за свое поведение и за все оскорбления, которыми они меня на протяжении долгих лет осыпали, а потом сознавались (стыдливо, но не без гордости), что долго считали меня колонизатором, евгеником и врагом туземных культур (обычно тут звучали также выражения «гитлеровский», «привилегии белых» и «расовый холокост»). И тут уж наступала моя очередь похлопать их по плечу, поцеловать в щеку, искренне поблагодарить за наступившую зрелость и сообщить, что я никогда особенно не рассчитывал на их благодарность, но, разумеется, счастлив ее все-таки дождаться.
Я всегда заранее знал, когда этот разговор произойдет. После долгих лет вызывающего поведения (злобных взглядов во время трапезы – однажды меня спросили, по какому праву я сижу во главе стола, – демонстративного листания книжек с портретами Че Гевары или Малкольма Икса на обложке, критики моих политических пристрастий, как они их себе представляли) они однажды внезапно являлись домой, обычно к обеду или ужину – им всем, видимо, казалось, что неожиданные визиты доставляют мне такое же удовольствие, как им самим, – и за столом вдруг проявляли живой интерес к моей работе, осведомлялись о моем здоровье, покрикивали на других детей, которые неидеально себя вели. Потом они настаивали, что помоют посуду, радостно складывали тарелки в шкаф и издавали бурные ностальгические вздохи. Потом они входили в мой кабинет с чашкой моего любимого чая и с трепетом спрашивали, нет ли у меня минутки на разговор, потому что им надо со мной кое-что обсудить.
«Господи», – всегда думал я (эти разговоры почему-то вечно надобились им именно тогда, когда у меня было полно дел), но, разумеется, повернувшись к ним, мягко говорил: «Конечно, дорогой (или дорогая), ты всегда можешь обратиться ко мне с чем угодно».
За этим всегда следовало одно и то же. Слезы, признания, самообвинения. Схема никогда не менялась. Можно подумать, сценарий передавался от одного ребенка к другому. Не исключено, что так оно и было.
Для них это был почти что обряд инициации. Попав в дом, они недолго и сильно любили меня – это был этап, трогательный в своей интенсивности и недолговечности. Потом наступали годы (иногда и десятилетия) ненависти и отторжения. В конечном итоге они осознавали, какие они негодяи, какой была бы их жизнь, не возьми я их к себе, и их охватывала простая и мощная благодарность, которой они считали своим долгом поделиться. Меня это всегда слегка забавляло, но не более того. Разумеется, я радовался, что они выросли и поумнели, но не слишком удивлялся. Детям нравятся подобные ритуалы – отчетливое (хотя, конечно, сконструированное) ощущение, что физически или эмоционально они выходят из некоторого воображаемого этапа своей жизни и перемещаются в другой. На самом деле не так уж они далеко ушли от своей родовой культуры, как им казалось; на У’иву их взросление отмечали бы пирами и церемониями – ну вот их признания и тщательно подготовленные речи тоже служили им такой своеобразной церемонией.
Так что ничего нового в выходке Виктора для меня не было; в конце концов, не впервые мой ребенок на меня кричал со страстью и детской пламенной решимостью. Просто Виктор оказался упорнее и упрямее большинства. Ничего особенно удивительного в этом тоже не было – эти качества всегда его выручали, более того, спасли его в ранние годы, когда он голодал и смог выжить только за счет своей необъяснимой цепкости.
В тот вечер за ужином (к ужину прилагался дополнительный батон хлеба, который мне пришлось доделать) он ел жадно, положил себе гигантскую добавку спагетти и залил ее немыслимым количеством соуса.
– Хватит, – сказал я ему, но он притворился, что не слышит, и не взглянул на меня.
Слева и справа от меня Керри и Элла (последняя неожиданно явилась к ужину; я не сомневался, что скоро в кабинете буду похлопывать ее по спине и произносить утешительные слова) обсуждали университетскую команду Эллы по лакроссу. Рядом с ними сидели близнецы, Джаред и Дрю, потом Изольда и Уильям, Грейс и Фрэнсис, Джейн и Уитни, и наконец, на дальнем конце стола, Виктор.
За день всегда возникает немало ситуаций, когда думаешь: вступать ли в спор именно сейчас? Или еще подождать? Выращивание множества детей в общем-то похоже на руководство лабораторией. Бросить ли вызов именитому коллеге в присутствии младшего персонала? Или подождать, пока вы окажетесь наедине, и тогда попросить, чтобы он объяснил свои взгляды или выводы? Дело не только в демонстрации власти – это занятие увлекательное, но нельзя забывать, что добросердечные отношения важнее всего. Если кто-то допустил ошибку, возражать ему следует по возможности наедине; публичное унижение вызывает злобу, а потом и мстительность, и если речь идет о людях хотя бы с небольшим запасом ума, такая ситуация может оказаться крайне опасной. На работе мне приходилось осторожничать, но дома так поступать я не хотел. Я не стал упрекать Виктора, когда он не обратил внимания на мои слова. Но пока я смотрел, как он механически тыкает вилкой в спутанные макароны (окровавленные соусом и выглядевшие как истерзанная горка сырой плоти), что-то во мне надломилось, и я вспыхнул.
Но сдержался.
– Виктор, – сказал я, – передай мне, пожалуйста, салат.
Вся еда – макароны, соус, хлеб, рыба и салат, к которому он, разумеется, не прикоснулся, – каким-то образом переместилась на его конец стола.
Он не взглянул на меня и продолжал жевать. Я видел, как причудливо пульсируют толстые вены на его висках.
«Господи», – подумал я – утомленно, не более того. Но голос повышать не стал. Вокруг меня дети продолжали болтать: Керри с Эллой, Джаред с Дрю, Изольда с Грейс, Фрэнсис с Джейн, Уитни с Уильямом. Только Виктор молчал и жевал, жевал.
– Виктор, – сказал я, чуть более резко, но не сердито. – Салат, будь любезен.
По-прежнему ничего. Но Грейс, которая всего несколько недель назад перешла от еды с малышами к взрослому столу и вела себя с преувеличенной осторожностью, демонстрируя самые изысканные манеры, бросила на меня беглый обеспокоенный взгляд и потянулась к миске с салатом.
– Нет, милая, – сказал я ей, – тебе будет тяжело. – Грейс была заполошным, беспокойным ребенком и, пытаясь помочь, нередко устраивала страшный беспорядок. – Виктор. Пожалуйста, передай мне салат. Немедленно.
К этому моменту остальные дети заметили мою интонацию и смотрели то на Виктора, то на меня в ожидании развития событий. Почему, подумал я, все должно превращаться в зрелище? Почему они так хотят быть зрителями? А Виктор по-прежнему не говорил ничего, только жевал и жевал, уставившись в тарелку.
Но я не отступал.
– Виктор! – Нет реакции. – Виктор! – Нет реакции. – Виктор! – Его имя стало приобретать странный привкус во рту, и на секунду, слыша два слога, которые разваливались пополам, как пластмассовая скорлупа – Вик-Тор, – я подумал: «Он прав, дурацкое имя». Но это ощущение быстро прошло, и меня снова охватил гнев.
И тут я услышал хриплый голосок Грейс, от которого меня всегда передергивало.
– Ви, папа. Виктора теперь зовут Ви.
Тут я должен признаться, что меня это ошарашило и я на мгновение потерял дар речи.
– Что-что, милая? – переспросил я.
– Ви, – повторила она. – Он нам так сказал на прошлой неделе.
Я видел, что близнецы согласно кивают. На Виктора я не смотрел, но не сомневался, что он улыбается свой глупой самодовольной улыбкой, которая всегда вызывала у меня желание со всей силы закатить ему оплеуху и бить, пока его глаза не заблестят от слез, а лицо не исказится от боли.
Но, конечно, я ничего такого не сделал.
– Вот как? – строго сказал я, оглядывая стол по кругу и наблюдая, как дети опускают глаза.
Только Уитни не отвел взгляда.
– Ага, – сказал он. Ему было двенадцать, и он уже был занят ненавистью ко мне – он всему обучался очень быстро. – Если б ты у нас почаще бывал, был бы в курсе.
Он бросил выжидательный взгляд на Виктора, словно хотел, чтобы его похвалили за лояльность и поддержку, но Виктор (и тут мне пришлось на него взглянуть) смотрел прямо на меня и многозначительно ухмылялся.
Промолчи он и теперь, возможно, поставил бы меня в тупик, но дети не способны противиться звуку собственного голоса, и Виктор не был исключением.
– С этого момента я откликаюсь только на имя Ви, – объявил он, по-прежнему не сводя с меня глаз. – Не Виктор. Не Вик. Не Тор, – тут близнецы захихикали, – ни на что, кроме Ви. Все поняли?
– Ой, Виктор, – фыркнула Элла, – тоже мне придумал. Кончай вести себя как ребенок.
Насмешка Эллы его не тронула. К тому же Виктору было все равно – всегда, – что про него думают остальные дети. Виктор каждый раз – каждый – стремился взбесить только меня, вовлечь меня в свои игры.
– Виктор, – начал я, набрав воздуха в легкие, и он поднял подбородок, готовясь к сражению. Остальные дети напряженно за мной следили; даже Элла не смогла не соскользнуть в свое привычное подростковое состояние: она делала вид, что ей все равно, но тоже ждала бурной схватки. И тут мне внезапно пришло в голову, что Виктору тринадцать лет, а мне шестьдесят пять. Я слишком стар, слишком знаменит, чтобы сражаться с этим нелепым мальчишкой. – Хорошо, – сказал я, – пожалуйста. Пусть твои сестры и братья называют тебя этим дурацким именем, раз тебе так нравится. Ты сам этого хотел. Слышите, дети? Он больше не Виктор.
Дети перевели взгляд на Виктора; сразу стало понятно, что он разочарован. Кто знает, какую бросовую амуницию он собрал в свой арсенал, какие книги прочитал, чтобы подготовиться к нашей дуэли, какими аргументами хотел размахивать, какие сцены разыгрывать? Трудно представить себе разочарование хуже, чем разочарование бойца, чей соперник отказывается от поединка.
Я встал, отодвинул стул, и его ножки резко скрипнули по полу.
– Я пошел в кабинет, – сказал я. – Изольда, помой посуду. Уитни, будешь вытирать.
– Я все сделаю, папа, – нежно сказала Элла на фоне жалобных завываний Изольды и Уитни.
– Пожалуйста, – ответил я и направился прочь из комнаты, но на пороге остановился и обратился в пустой коридор – громко и отчетливо, чтобы все дети в комнате за моей спиной меня услышали. – Я в последний раз затрагиваю эту тему. Виктор, можешь не надеяться, что я буду называть тебя новым именем. С этой минуты я буду считать тебя своим безымянным мальчиком, как бродячего пса, понятно? Виктором больше называть не буду, в этом можешь не сомневаться. Спокойной ночи, Элла, Керри, Джаред, Дрю, Джейн, Изольда, Уитни, Уильям, Фрэнсис, Грейс. Спокойной ночи, Мальчик.
Мне не надо было поворачиваться, чтобы узнать, что происходит там, в тишине; глаза детей напряженно и возбужденно блестели, а Виктор высоко поднимал подбородок, и выражение его полуприкрытых темных глаз было невозможно расшифровать.
Вскоре я осознал, что Виктор решил считать случившееся своей большой победой. К сожалению, это чувство разделяли некоторые дети из тех, что помладше и повпечатлительнее; они не хотели быть униженными, как Виктор, но были готовы играть в игры, которые казались им рискованными, – например, называть Виктора Ви в моем присутствии и тут же бросать на меня косой взгляд и нервно хихикать. Я блаженно улыбался на это или никак не реагировал, и они снова хихикали, что в совокупности серьезно подрывало серьезность намерений Виктора. Он хмурился и сжимал губы. А им эта игра скоро тоже наскучила.
Когда нужно было обратиться к нему по имени, я говорил «Мальчик», но чаще всего просто никак не называл. Запутавшись, он, казалось, смирился с новым именем, главным образом, я думаю, потому, что не мог противопоставить ему никакого осмысленного аргумента. Если я не звал его Виктором – а я сдержал слово и сразу же перестал это делать, к каждому разговору готовясь со вниманием и осторожностью, – он приходил на зов, нехотя, медленно, совершенно как собака. (Всегда можно было понять, какие дети с ним ссорились или на него обижались, потому что они тоже называли его Мальчик, но для друзей и группы поддержки он по-прежнему был Ви.)
Через несколько месяцев это уже выглядело совершенно нормально. Да и вообще многие необычные вещи постепенно становятся нормальными в большой семье, где нередко лучший способ выжить – это готовность к постоянной адаптации, а не интеллект. Довольно долго жизнь держалась в рамках привычных и не слишком увлекательных ритмов: дети ходили в школу, играли, ссорились, ели. Дети ненавидели меня, а другие возвращались, чтобы признаться в своей новооткрытой любви ко мне. Я ходил на работу, писал доклады и статьи, публиковал их. Для всех нас это были вполне удовлетворительные времена.
Наступил День благодарения, и дюжина или около того детей постарше вернулась в дом с супругами и детьми, с сумками, которые ломились от подарков для текущего поколения: платья, футбольные мячи, заводные машинки и всякая мелочь из торгового центра, которую дети исступленно расхватывали, как будто никогда в жизни таких игрушек не видели. В тот год на праздничном ужине было двадцать шесть детей, плюс восемь мужей и жен и одиннадцать внуков. Конечно, они не могли все остаться у меня, даже сложившись по трое в каждую комнату, но все они большую часть времени слонялись по дому, и я был рад, когда праздник закончился, они вернулись к своей привычной жизни, а я мог порадоваться короткой спокойной неделе, пока еще не наступила пора подготовки к рождественским праздникам, сулящим повторение всей постановки в куда более многочисленном составе. Впрочем, Рождества в том году я ждал с нетерпением, потому что Оуэн и его тогдашний партнер, тридцатисемилетний скульптор по имени Ксеркс (на самом деле, как он сам однажды проболтался, его звали Шон Фердли – Фердли! – Джонс), собирались приехать ко мне в гости.
Месяц между Днем благодарения и Рождеством всегда один из самых неприятных в году, и в тот раз он выдался особенно тяжелым. В доме всегда было двое-трое ребят постарше, способных проследить за тем, что покупают и как заворачивают подарки мелкие дети, за приобретением и украшением рождественской елки, без которой обойтись не получалось, за уборкой и частично за готовкой. Однако в том году самыми старшими детьми, все еще жившими дома, оказались Изольда и Уильям, которым было по пятнадцать лет и особой пользы от которых, соответственно, ждать не приходилось: ни один из них не умел еще водить машину, оба были слишком маленькие, чтобы успешно командовать братьями и сестрами. От студентов и аспирантов толку тоже было мало; они, как правило, появлялись на выходные перед Рождеством с мусорными мешками, заполненными грязным бельем, и предпочитали проводить время, обустроившись на диване, рассеянно переключая телевизионные каналы, украшая свои застольные речи фрагментами немецких или испанских фраз, выдаваемых очень многозначительно, хотя и с жутким произношением, и нетерпеливо отмахиваясь от пристающих к ним малышей. В конце концов я позвонил Элле, которая училась в Вашингтоне, и спросил, не сможет ли она приехать домой на выходные и, как я туманно выразился, помочь.
– Я бы с удовольствием, папа, – соврала Элла, – но… – Дальше она описала домашние задания, которые и за три года было бы трудно выполнить, не то что за три недели. Видимо, краткий период интенсивной, выстраданной благодарности, который часто перетекал в прямое послушание, период, через который Элла прошла после своего слезного признания, подошел к концу, и я не успел им воспользоваться ни в малейшей степени.
«Ох уж эти мои дети», – подумал я, и эта мысль пришла ко мне не впервые. Но, как и всегда, я понятия не имел, чем именно мне следует ее закончить.
В результате мне пришлось выполнить большую часть работы самому. Миссис Лансинг решила выбрать именно первую неделю декабря, а не какое-нибудь другое время, для гистерэктомии, и в результате мое пребывание дома быстро заполнилось всевозможными утомительными обязанностями и делами: я ездил в жуткий супермаркет в Бетесде; я тратил тысячи долларов на сверкающую оберточную бумагу и пластмассовых роботов, которые по нажатию кнопки стреляли маленькими пластмассовыми торпедами, и желтоволосых куколок с бурными кружевными извержениями на шее, с крошечными платьями из сверкающей, скользкой ткани, которая пахла как нагретый винил. Были, разумеется, и другие заботы и обязанности – я готовил горы теста для печенья, и большую часть мне приходилось печь самому среди ночи, покрывая кляксы теста сверкающим цветным сахаром, а потом запихивая в духовку; я велел уборщице, миссис Ма, являться три раза в неделю, а не два, но после ее ухода не проходило и часа, а дом весь уже был забросан каким-то мусором и стены расписаны цветными карандашами. Наверное, достаточно сказать, что я ненавидел терять время в бесконечных разговорах и делах, которые мне приходилось ежедневно брать на себя. Мне как будто постоянно напоминали о том, как мудро было посвящать этот месяц работе и конференциям (что я и делал во все предыдущие годы), и я целыми днями недоумевал, отчего вдруг решил подвергнуть себя такому вздору и раздражению.
Должно быть, дома я остался отчасти потому, что ждал Оуэна; я очень радовался его приезду – в ноябре мы помирились после серьезной ссоры, которая случилась в июле, и эти несколько месяцев мне не хватало его в таком чистом и глубоком смысле, что я ощущал пещерную пустоту в груди. Кроме того, в последнее время я стал чувствовать себя очень старым и очень одиноким, к тому же абсолютно вымотанным и хотел оказаться с кем-то, кто знал меня раньше, когда я не был так связан по рукам и ногам и отвечал только за себя. Иногда я смотрел на Элоизу, младшую из детей, и испытывал что-то вроде отчаяния. «Господи, – думал я, – во что мне вздумалось играть?» В такие минуты я внезапно представлял себя обманщиком, шарлатаном, чей трюк затянулся, а он даже не успел этого понять. Я смотрел на детей, собравшихся вокруг стола, на то, как они едят, едят и едят, и вся эта сцена внезапно представлялась мне отвратительной и неестественной. Я не в первый раз сталкивался с глубоким абсурдом ситуации, в которую сам себя втравил, но теперь впервые к этим чувствам примешивалось такое чистое, неразбавленное отчаяние.
Однако произошла и другая пугающая перемена: в последнее время я снова и снова ловил себя на мыслях о мальчике, о том, что я чувствовал рядом с ним и с какой страстной надеждой пытался снова поймать то ощущение, превратить ту радость в повседневный жизненный опыт, – вот почему я привез их сюда. Вот чего я от них хочу. Но с каждым из них удовольствие, к которому я так стремился, оказывалось все короче, все недоступнее, все труднее восстановимо, и мое одиночество становилось все глубже, и в конце концов дети оставались лишь свидетельствами моих потерь, моих неизбывных печалей. Иногда я думал: я что, усыновил их себе в наказание? И если так, за что я себя наказываю? За Иву’иву? За Таллента? Это была нерадостная мысль, но в ней, по крайней мере, прослеживалась определенная логика. Конечно, я сделал такое с собой зачем-то, думал я; конечно, не просто так; конечно, это не просто безумство; конечно, я не просто так заточил себя с этими детьми, как когда-то сидел в заточении с их родителями, дядями, дедами в месте, отнявшем у меня все, что я в жизни любил. В такие мгновения я смотрел на детей бесстрастно, почти как если бы они были лабораторными мартышками, которых я смогу оставить в конце рабочего дня.
Но, конечно, оставить их было невозможно. Иногда мне снилось, что я путешественник, заброшенный в страну, плотно заселенную странными, непонятными существами. У меня был с собой блокнот, чтобы отмечать все, что увижу в дороге, но этих существ было нелегко описать и еще труднее нарисовать. Они не были приятны, но и звероподобны тоже не были. Они походили друг на друга, но у каждого была какая-то черта, отличавшая его от собратьев: у одного огромный клюв, тяжелый, жесткий, угрожающий, светло-розовый, точно молоко с кровью, у другого – грязного цвета крылья, которые раскрывались, обнажая роскошную палитру алых и фиолетовых оттенков. В основном они вели себя мирно, но время от времени один из них без всякого повода прыгал мне на лицо, цепляясь за нос и очки неуклюжими когтями, и бурно гоготал. Их обиталище – в одну сторону густое пузырящееся болото, в другую непроходимый лес, где бесчисленные стволы деревьев пропадали в липком тумане, в третью засохшее пространство ярко-оранжевой грязи – было таким же причудливым и непонятным. Но примечательнее всего в этом пейзаже (где повсюду торчали странные саговники, с которых свисали связки бананоподобных плодов, неестественно раздутых, пахнущих сахаром и торфом) были звуки: в воздухе теснились вздохи, уханье, урчание, гудки, такие громкие, что их почти можно было потрогать; казалось, что они падают с неба, как невидимые существа, и выползают наверх из-под покрова густой, яркой травы. Иногда мне представлялось, что я почти слышу какой-то зов, и я удивлялся, как в таком шуме этим существам удается отличить один звук от другого. А потом я заметил, что у существ нет ушей; они издавали звуки только для того, чтобы почувствовать вибрацию в своих сверкающих, чешуйчатых гортанях, почувствовать, как их пугающая, неприступная земля отзывается эхом на звуки.
Мне это снилось так часто, что я привык. Поначалу вся эта экзотическая и таинственная обстановка пугала и будоражила меня, внушала священный ужас. Но потом я понял, что просто жду, когда все закончится. Во сне я находил большой камень, обросший мягким грибком баклажанового цвета, тихо садился на него и ждал, пока меня перенесут куда-нибудь еще из этой страны, чьи тайны и чудеса давно перестали меня трогать. Надо мной кружилась стая воронов – единственных животных, которых я мог определить; они летали тесной, длинной, скорбной чередой, летали туда и сюда, туда и сюда, сверкали яркими пуговицами глаз, но, как я ни прислушивался, не издавали ни единого звука.
3
К Сочельнику я уже так мечтал, чтобы праздники завершились, что накануне принял запоздалое приглашение на конференцию в Стокгольмский университет, которая начиналась тридцать первого и продолжалась до пятого января.
Неделя выдалась чудовищная. Накануне беседа с Оуэном переросла в настоящий скандал. За истекшие годы Оуэн, несмотря на отсутствие собственных детей, пришел к выводу, что гораздо лучше в них разбирается, чем я, поскольку долгие годы знакомил студентов с творчеством Уитмена, Кавафиса и Пруста. Даже теперь, когда мы дожили до старости, наивность Оуэна не переставала меня поражать: после редких визитов он звонил мне и говорил, что детские жалобы на четкий и дисциплинированный домашний распорядок он расценил как «крики о помощи», будто я деспот во главе небольшого рабовладельческого государства, а он благородный посланник ООН, откомандированный для ознакомления с несчастной и несправедливой жизнью моих подопечных. Попытки Оуэна выступать в роли антрополога в моем собственном доме меня нисколько не интересовали, о чем я ему и сообщал. Но он упорствовал, лез с ненужными советами и еще менее нужными предостережениями о той деятельности – успешном руководстве детьми при переходе из детского во взрослое состояние, – которой я занимался больше тридцати лет, а он не занимался никогда.
Однако в то Рождество он позвонил, горя негодованием и категоричностью, нехарактерными даже для него, и сообщил, что Эбби, ныне одна из студенток, пришла в холл нью-йоркского дома, где он жил с Ксерксом, «в испуге и отчаянии» (он описал ее состояние с почти викторианской жалостливостью), утверждая, будто я вышвырнул ее из дома. Да, ответил я Оуэну, я действительно был вынужден попросить Эбби уйти из дома, где она торчала большую часть осени, потому что она упорно продолжала курить марихуану у себя в комнате, несмотря на мои многочисленные просьбы не делать этого. Оуэн, разумеется, счел мое поведение чудовищным и бесчеловечным. Обычно я не поддавался на его провокации, но на этот раз сдержаться не смог, и ссора быстро переросла в обсуждение моих родительских неудач, растянувшихся на десятилетия. До сего дня я не могу объяснить его внезапный гнев. Был ли он следствием скуки или склонности стариков впутываться в дела, где их участие нежеланно и бесполезно? Или дело было – как мне казалось иногда, хотя я всячески избегал этой мысли – в некой ревности, которую я всегда мог нащупать в Оуэне; она иногда вскипала, иногда отступала, но клубилась в его подсознании всегда, становясь все заливистее и горячее с каждым годом, с каждым благосклонным отзывом на мои усилия, с каждым ребенком, которого я выпускал в мир? В конце концов, у меня-то было все, а у него – только Ксеркс, тонкие поэтические сборники и жизнь, прожитая в основном в пределах штата Нью-Йорк.
В общем, разговор не заладился, и в итоге он объявил, что принял решение (вместе с Ксерксом, с которым мне хотелось познакомиться, и Эбби, которую, как по мне, он мог содержать сколько хотел, если ему казалось, что у него получится лучше, чем у меня) остаться на праздники в Нью-Йорке. «Я пошлю детям подарки», – рявкнул он, прежде чем бросить трубку, и, несмотря на все огорчение и злость, я помню какое-то горькое удовлетворение от этих его слов: Оуэн всегда славился роскошными подарками, которых дети каждый год с нетерпением ожидали.
В ту ночь, когда все разбрелись по своим комнатам, я спустился в гостиную с большим пластиковым ящиком, который миссис Лансинг подготовила для меня вскоре после Дня благодарения. Внизу отовсюду свисали десятки чулок, каждый с именной биркой – дети даже сняли картины с крючков и повесили вместо них свои чулки. Комната выглядела так, как будто там разыгралась тайная и страстная навязчивая фантазия какого-то безумца.
Миссис Лансинг оставила мне точные письменные указания: в каждый чулок следовало положить из коробки завернутый в фольгу шоколадный шарик, который выглядел как апельсин; пакетик мятных шариков; молочный кусок глицеринового мыла, в центре которого плавала пластмассовая игрушка (динозавр, бабочка, поросенок, акула); крошечный блокнот с еще более крошечным туповатым карандашом; пригоршню соленых медовых конфет, которые я очень любил. Кроме того, каждый из тринадцати детей, еще живущих дома, должен был получить завернутую в бумагу игрушку, а взрослым и студентам полагались конверты с чеками. Все это я распределил в чулки, под елку (она стояла, жуткая и фантастическая, в углу, укрытая украшениями, сделанными на уроках труда в школе из картона, блесток, плотных капель клея, которые выглядели как клочки мусора и пестро мигали белыми жесткими искрами), внимательно, чтобы ни одного чулка не пропустить. Закончив, я сел и съел несколько липучих, недопеченных пирожных, которые приготовили и оставили вечером у камина младшие дети, а чашку молока вылил обратно в пластиковую бутыль. Я вдруг вспомнил свой разговор с Таллентом, его издевательскую уверенность, что я буду окружен детьми. Может быть, он понял, какой будет моя жизнь, раньше меня? Мне показалось, что за мной наблюдают, даже следят, и я обернулся, вдруг представив, что увижу, как он смотрит на меня из-за комода, водит карандашом по странице и не сводит глаз с испытуемого, с которым произошло ровно то, чего он ожидал. Но там никого не было, и я смутился и обрадовался, а потом смутился уже тому, что обрадовался.
Я устал, но спать еще не хотел. Меня потряхивало от нетерпения и недовольства. Я постоянно вспоминал недавнюю ссору с Оуэном и праздно раздумывал, не позвонить ли ему, не извиниться ли. «Слушай, Оуэн, – сказал бы я, – прости. Не надо нам ссориться. Мы с тобой оба старики». Пять лет назад мне бы в голову не пришло завести с ним такой разговор. Но теперь наши споры, некогда возбуждающие и энергичные, яркие сполохи воли и мнений, стали изнуряющими и утомительными. Может быть, надо просто позвонить ему и принять вину на себя, думал я. Он ненадолго возликует, и это будет неприятно. Но, думал я, моя страница в истории уже заполнена, и подробности моих разборок с Оуэном в нее не войдут: кто первый начал, кто закончил, кто выиграл, кто проиграл.
Сквозь кухонную дверь светила луна – светила бледно-желтым светом, похожим на гной. Я вышел на крыльцо; небо надо мной было запачкано тонкими полосками облаков и обклеено яркими белыми звездами. Не знаю, сколько я там стоял, глядя, как воздух вылетает изо рта призрачным потоком, по-прежнему не выпуская из холодной, жирной руки неудачное, жирное детское печенье. Я могу уехать, подумал я. Могу упаковать небольшую дорожную сумку и сесть в свой автомобиль. Полечу в какой-нибудь европейский город, в любой город, и стану там жить. Любой университет примет меня с восторгом, без всяких вопросов. Сейчас идеальное время для этого: старшие дети дома, они позаботятся о младших, разберутся, кому надо позвонить. Самых маленьких – Элоизу, Жизель, Джека – смогут, подумал я, взять под опеку старшие. Остальные, наверное, отправятся в детские дома, что прискорбно. Но может быть, из-за того, что они связаны со мной, их возьмут приемными детьми в какие-нибудь семьи; меня бы это порадовало. Разумеется, такой план был неисполним, каким бы логичным он мне ни казался.
Было уже очень поздно, ночь наполнилась густой темнотой и тишиной, и мне уже хотелось вернуться в свой кабинет. Посплю, наверное, несколько часов, потом дети меня разбудят, и начнется очередной длинный день. Но когда я взялся за ручку двери, чтобы войти внутрь, она не сдвинулась.
Почти немедленно мой рот заполнился вкусом – запекшаяся кровь, стоячая вода, металл – страха, а потом гнева. Дверь автоматически не запиралась; ее нужно было намеренно запереть изнутри. Я стал стучать, молотить ладонью по квадратам стекла.
– Эй! – Это был бессмысленный крик. – Эй! Открой дверь!
И тут я увидел, как кто-то шмыгает в темноте. Его туловище было скрыто тенями, я увидел только ноги; на мгновение мне почудилось, что это не кто-то из детей, а бесенок, злой дух, который мечется по затемненным домам, ищет другую свою половинку.
Но, конечно, я знал, кто это.
– Виктор! – крикнул я, громко, насколько мог себе позволить, и снова ударил по стеклу. Чтобы обойти дом и приблизиться к передней двери мне пришлось бы каким-то образом преодолеть деревянные ворота, отделявшие фасад от заднего двора; мало того что они были выше меня, но и отпереть их можно было только снаружи (с какой стати, подумал я). Других вариантов у меня не было, если не считать Виктора. Звать на помощь? Так ли хорошо, если соседи обнаружат меня, великого ученого, в халате и тапочках, увидят, что я не могу попасть в собственный дом и приказываю одному из своих детей впустить меня? (Остальные дети, предполагал я, все лежат наверху, раскинувшись в незаслуженной праздности, закрыв свои круглые темные уши плотной пеной наушников, подвергая свои бедные хрупкие барабанные перепонки грохочущему басу, барабанному бою, завыванию духовых инструментов.) Тут был Виктор, и только Виктор.
– Мальчик! Открой дверь немедленно!
Шаги тут же остановились в нескольких футах от меня.
– Мальчик, – прошипел я, – открой дверь сейчас же. Быстро.
Я собирался пригрозить ему, но сообразил, как слабо и жалко это бы прозвучало: это я был в одиночестве, на улице, на холоде, облаченный только в халат. Он был внутри, в доме, в моем доме. В оконных стеклах я видел отражение елки, которая бессмысленно моргала фонариками. Свет – темнота, свет – темнота.
– Виктор!
И тут он вдруг подошел вплотную к стеклу, и я должен с прискорбием отметить, что сделал небольшой шаг назад, что от него, конечно, не ускользнуло. Он улыбнулся, и на мгновение зверская усмешка, острые, яркие, клиновидные зубы и темные глаза – такие темные, что было трудно различить, где радужная оболочка переходит в зрачок, – сделали его похожим на демона, и я его испугался.
– Меня, – сказал он, и я услышал его сквозь стекло, – зовут Ви.
– Виктор, – медленно произнес я устрашающим – я знал это – тоном, – ты сейчас откроешь эту дверь. Потом пойдешь и ляжешь. Если ты не откроешь эту дверь немедленно, я изобью тебя так сильно, что тебя будет не узнать. – Про себя я подумал: «Все равно изобью, сейчас он откроет дверь или через пять минут».
Но он лишь наклонил голову и продолжал смотреть на меня. Звериную улыбку он тоже с лица не убрал; она вытягивала его рот в длинную, тонкую, зловещую линию, подобную лезвию серпа. Это была, сообразил я, та самая жуткая улыбка, от которой, как мне казалось, я избавил его много лет назад, и я почувствовал холодок, пробегающий по спине.
– Я бы открыл, – сказал он, явно пытаясь подражать моим интонациям, – но ты назвал меня Виктором. А говорил, что не будешь.
Я знал, что это не все.
– Виктор! – Я снова стукнул кулаком в дверь. – Виктор, скотина!
Но его это не смутило.
– Так что, – продолжал он, – боюсь, это значит, что ты солгал. А что ты нам всегда объяснял про ложь? Что это предательство себя самого. Но я этому не верю. Я считаю, что человеку, которому ты лжешь, от этого так же плохо, как лгуну. Поэтому я тебя накажу. – Он отступил на шаг назад, и его лицо снова скрылось в глубокой тени. Но голос я по-прежнему слышал. – Боюсь, – произнес он холодно, – мне придется оставить тебя там, чтобы ты подумал о сделанном. – Еще один шаг назад, теперь я видел только нижнюю часть его тела. Голос тоже стал тише. – Никогда не поздно, – еще один шаг назад, остались видны только его талия и ноги, – вызубрить урок. – Еще шаг назад. – Папа. – Слово прозвучало как шепот. А потом он развернулся, и я увидел его светлые подошвы, удаляющиеся от меня.
Тут я понял, что замер во время последней части выступления Виктора, и внезапно увидел собственное отражение в стекле: рука, разлинованная морщинами, царапается в дверь, немой разинутый рот, глаза испуганные, полные беспомощного стариковского непонимания. «Господи, – подумал я, – господи. Кто он такой? Кто этот ребенок, живущий в моем доме?» Я снова вспомнил, как нашел его, скорчившегося на земле, как он был покрыт таким густым слоем грязи, что можно было принять его за пушнину. Как зверек, подумал я в ярости. Но теперь я снова вернулся к этой мысли. Как зверек. Моя ярость, такая же настоящая, была на этот раз направлена не на обстоятельства его жизни, а на меня самого. Надо было его там оставить, подумал я. Я не должен был пытаться спасти что-то, от чего отказались все остальные.
Но я продолжал звать.
– Виктор! – крикнул я из последних сил и застучал в дверь. – Виктор! Виктор! – Я продолжал колотить в дверь и звать несколько минут, несколько часов. – Виктор! – Но я знал, что он лежит наверху, свернувшись в кровати, которую дал ему я, посредине комнаты, которую дал ему я, и спит.
Наутро меня нашел Грегори, один из старших детей. Я сидел, прислонившись к двери – видимо, в конце концов уснул, – и когда его крик меня разбудил, мне снова пришлось пережить как нелепость самой ситуации, так и свое физическое состояние: с губы до подбородка свисала длинная полоска слюны, а оказавшись внутри, я задрожал так сильно, что зубы застучали, ударяясь друг о друга, как кастаньеты.
– Папа, ты что там делал? – спросил он. Он, видимо, уже обнаружил свой конверт, потому что вел себя заботливо, прыгал вокруг меня, протягивал свою чашку кофе, закутывал мои плечи одеялом.
– Который час? – хрипло спросил я; слова царапали мне горло.
– Восемь, – ответил он.
Восемь. Сколько я провел снаружи, на холоде? Пять часов, шесть? Только гнев, только его горячий, как кровь, вкус во рту не дал мне замерзнуть.
Грегори провел меня через кухню в гостиную, где собрались все дети; они деловито запихивали в рот пригоршни конфет, смеялись, болтали, ссорились.
– Смотрите, кого я нашел снаружи, – громко объявил Грегори (он всегда старался привлечь к себе внимание), и все остальные повернулись к нему. И все тут же зашумело, как шумит стая крупных птиц, взлетая с пляжа, и многие из них (только старшие и самые младшие; подростки просто тупо уставились на меня) ринулись ко мне с распростертыми объятиями и выражением отчаянной, натужной жалости на лицах.
– Папа, мы тебя искали!
– Где ты был?
– Ты дрожишь?
– Какой ты холодный!
– Мне досталось меньше конфет, чем Джареду.
Я не слушал; я искал среди них Виктора. Но его там не было.
И тут он внезапно ворвался в комнату, размахивая парой батареек, с машинкой на дистанционном управлении под мышкой другой руки – машинкой, которую он клянчил, которую я купил и завернул в подарочную упаковку меньше недели назад.
– Вот они! – кричал он, прыгая по ковру к тому месту, где сидел Джек. – Теперь заработает! – Меня он еще не заметил.
«Звереныш, – подумал я. – Чудовище». Я страстно желал ему смерти или себе – возможности убить его.
– Виктор, – сказал я ледяным тоном. – Виктор.
Он, разумеется, не оглянулся.
– Виктор!
Отклика не последовало. Но некое бормотание, удивленное недовольство постепенно расползалось по комнате. Старшие, некоторые из которых не знали, какая битва велась (и была проиграна) из-за перемены имени, уставились на Виктора с негодованием.
– Виктор, отвечай папе, когда он к тебе обращается, – сказал кто-то, и в ответ на это девчачий голос пропищал:
– Его теперь зовут Ви.
Я приближался к нему.
– Вставай, – приказал я. – Вставай.
Он глядел в пол, растянув рот в непокорную, широкую, плоскую, уродливую линию, как у камбалы, и не вставал. Я схватил его за руку и поднял. Он был всего на несколько дюймов ниже меня, но тощий, и я чувствовал его острые, переплетенные локтевые кости под своей ладонью. Тогда я ударил его, ударил в лицо, со всей силы. Его голова дернулась назад, потом вперед. Я снова ударил его. Оба раза я бил открытой ладонью, и потом рука так же колюще болела, как когда я молотил по стеклу и звал его.
– Как ты посмел? – спросил я, выдерживая тихий и устрашающий тон. – Как ты посмел, жалкое насекомое, пустое место, ничтожество? Как ты посмел прийти сюда, пользоваться моей добротой, моей щедростью? Как ты посмел брать подарки, которых ты ничем не заслужил, которые я купил тебе – купил тебе – по своей доброте? Знаешь ли ты, – продолжал я, – почему я взял тебя? Я взял тебя, потому что пожалел. Потому что ты был не человек, не ребенок даже. Твой отец был готов продать тебя мне за гниющий плод. Я мог сделать с тобой все что угодно. Я мог взять тебя с собой, приковать в подвале, и никто бы об этом не узнал. Я мог бы продать тебя кому-нибудь, кто сначала превратил бы тебя в калеку, а потом порубил на куски и скормил свиньям. Есть люди, которые такое делают, и твой отец был совершенно готов продать тебя любому из них. Просто я там оказался раньше. Ты ничто. Я придал тебе смысл. Я дал тебе жизнь. И ты так себя ведешь? – Я снова ударил его. Тонкая струйка темной крови потекла у него из ноздри.
Вокруг меня, разумеется, все ошарашенно замолкли. Я знал, что, если погляжу вокруг, они будут стоять неподвижно, как статуи, чуть приоткрыв рты, с охапками моих подарков в руках.
Я наклонился, не выпуская его руку из своей, поднял его игрушечный автомобиль, его тяжелый от конфет чулок и швырнул их в ближайшего ребенка, который был слишком ошарашен, чтобы запищать от радости.
– Игрушки – не для животных, – сказал я ему. – А ты хуже животного. Иди. Скройся с глаз моих. Не хочу тебя видеть. – Теперь я отпустил его руку, и он постоял, слегка качаясь, а потом повернулся и пошел к лестнице.
– Нет, – сказал я ему в спину. – Животные живут в подвале. Внизу.
Он снова обернулся, все еще немного покачиваясь, и посмотрел на меня – прямо на меня. На секунду мне показалось, что на его губах играет странная улыбка, но потом я понял, что она вызвана смятением и страхом, а не торжеством, и позволил себе расслабиться. А потом, не произнеся ни слова, он развернулся опять, и мы все увидели, как он выходит из гостиной, проходит через кухню, направляется вниз по ступенькам в подвал и дверь тихо закрывается за ним. Я прошел по его следам, запер дверь и положил ключ в карман халата. За моей спиной в комнате не раздавалось ни звука, она замерла в безмолвии, как нарисованная.
Праздник, разумеется, был испорчен. Старшие дети вскоре разъехались, помахав мне на прощание и поблагодарив так осознанно и осторожно, что меня передернуло. Младшие прибрались в гостиной без моих напоминаний и улизнули наверх со своими новыми игрушками и нарядами. Обычно мы вместе ужинали на Рождество, но на этот раз я отправился в свой кабинет, а потом в спальню, где и уснул. Проснувшись ближе к вечеру, я услышал, как дети тихо передвигаются по гостиной и накладывают себе еду на тарелки.
Я провел в своей комнате всю ночь. Вокруг меня дом погрузился в плотную, шерстяную тишину. Поздно ночью, когда я лежал и не мог заснуть, мне пришло в голову, что Виктор хотел моей смерти на улице, хотел, чтобы я замерз насмерть возле собственной двери в собственный дом.
«Вот как», – с дрожью подумал я. У меня уже были дети, которые меня презирали, терпеть не могли, чьи глаза горели и искрились ненавистью. Но никто из них еще не пытался меня убить, никто не испытывал ко мне такой неприязни, чтобы попробовать со мной покончить. Осознание этого, как ни странно, подействовало на меня успокаивающе, потому что теперь я понимал, на что он способен, и осознавал свою новую задачу – понять, как его лучше всего контролировать. Я не буду, решил я, бояться собственного ребенка. Это невозможно.
На следующее утро, в предрассветный час, я спустился на кухню и приготовил две тарелки с едой. На каждую из них я положил ломтики индюшатины, несколько треугольных кусочков сыра, булочки с орехами, ложку жирных оливок и горку пышного салата. Одну из них я поставил перед своим стулом на кухонном столе. Потом я отпер дверь подвала и поставил вторую тарелку на верхнюю ступень лестницы.
Я почти ожидал, что он сидит у входа, готовый броситься на меня, как дикая кошка, но подвал был темен, ступени исчезали в черноте, никаких звуков слышно не было – вообще никаких, ни дыхания, ни движения, ничего.
– Виктор, – позвал я в темную тишину. – Я принес тебе еду. – Я помолчал, не зная, что еще сказать. – Потом принесу еще, – сказал я наконец. Я хотел добавить что-нибудь еще, что-то назидательное, но не мог придумать что. В конце концов я просто закрыл дверь, запер ее и сел завтракать.
В конце дня, прежде чем лечь, я снова отпер дверь, чтобы оставить ему еще одну тарелку. Но та, что я поставил утром, стояла на прежнем месте, нетронутая; края индюшачьих ломтиков потемнели и заворачивались, как старый пергамент. Я ничего не сказал, только поставил новую тарелку рядом с этой.
Когда через три дня я наконец отпер дверь, за ней стояло восемь тарелок, наполненных плесневеющей едой, абсолютно нетронутых, если не считать одинокой мухи, которая завороженно передвигалась от одной тарелки к другой, довольная столь безупречным изобилием.
– Виктор, – сказал я в темноту, – я ухожу на работу. Пожалуйста, убери здесь все, когда выйдешь отсюда. – Я снова помешкал, не зная, что еще сказать, а потом ушел, оставив дверь подвала приоткрытой.
В тот день на работе мне было трудно сосредоточиться. Что ожидает меня вечером? Стоило зазвонить телефону, как я дергался в уверенности, что сейчас один из лаборантов прибежит с глазами навыкате и сообщит, что мне звонят из полиции, из пожарной охраны, из больницы. Мне виделось, что я еду домой, небо надо мной переливается темными спиральными облаками, а потом я понимаю, что это вовсе не облака, это дым, и по этому следу доезжаю до дома и вижу, что он сгорел дотла, лужайка превратилась в жерло вулкана, дети стоят в стороне, сбившись в плачущую горстку, и Виктора нигде нет.
Когда вечером я вернулся домой, дверь в подвал была по-прежнему отворена, но тарелки исчезли. Позже я увидел, что они вымыты, расставлены аккуратной стопкой на кухонном столе и почти сияют в белом ореоле верхнего освещения[82].
После этого ситуация с Виктором если и не стала проще, то приобрела, по крайней мере, некоторую предсказуемость. В общем-то об этом и сказать больше особенно нечего. Он так и не стал, что называется, примерным ребенком – даже хорошим ребенком, – но и малолетним преступником тоже не стал, хотя я был уверен, что это непременно произойдет. Он провел следующие пять лет в моем доме, просто существуя, одновременно присутствуя и не присутствуя. Во время ежемесячных детских киносеансов он лежал на животе, чуть в стороне от всех, ел попкорн так же отвлеченно и рассеянно, как теперь делал все, смотрел на экран и ни на что не реагировал. Иногда, после того как остальные дети над чем-нибудь смеялись, он тоже мог хохотнуть, но всегда с запозданием на такт, и никто уже не понимал, почему он смеется. Да и сам он вряд ли понимал. Он превратился в набор рефлексов, многие из которых попадали куда-то мимо, так что иногда его поведение казалось очень причудливым, а он сам – человеком, чье время измеряется по какой-то иной шкале. Он смотрел на меня своими плоскими глазами, но там, где когда-то горело упрямство и напряжение, не было ничего, только пустая чернота, как мелкая лужица маслянистой воды.
Если я в чем и виноват, то, наверное, в том, что втайне я был вполне удовлетворен новым состоянием Виктора. При этом я знал, что в нем нет ничего здорового, что мне не следует желать такого для своих детей. Но я ничего не мог поделать. Виктор так долго вел себя безобразно, что я почти позволил себе поверить: таким, как сейчас, он и был, до того как его охватили подростковые терзания, то того как он превратился в дерзкое, своевольное, неконтролируемое создание, так же непохожее на ребенка, которого я помнил, как зверь непохож на человека. К тому же он не был зомби, многое его радовало: в школе он занимался легкой атлетикой и пел в хоровой студии. (Слушая их пение на концерте, я отличал его плоский, атональный тенор от всех остальных и удивлялся, почему его до сих пор не выгнали.) Отметки у него были посредственные, но он никогда звезд с неба и не хватал. Тем не менее я сказал ему – как говорил всем детям, – что с радостью пошлю его в лучший колледж, который согласится его принять, и когда оказалось, что это Тоусонский университет, я немедленно оплатил первый учебный счет и купил ему часы из матовой стали, как Уильяму и Изольде два года назад, когда они окончили школу. Потом я помог ему запаковать одежду, книги и всякую мелочь в коробки и мусорные мешки и отвез его в общежитие, захватив с собой новые простыни и полотенца, которые купила ему миссис Лансинг. После этого я видел его реже, хотя, конечно, дом всегда оставался для него открыт. Колледж ему нравился, как и остальным детям, – точнее, так мне представлялось, потому что он больше на связь не выходил. Строго говоря, только счета из университетской бухгалтерии и периодические табели (которые извещали меня, что он специализируется на предмете под названием «спортивная идеология», получает тройки, а по одному-двум предметам четверки) подтверждали, что он там, где я его и представляю, посещает занятия или не посещает, читает книги или не читает, возможно, ходит на вечеринки или спит с хорошенькими девушками, такими, которых возбуждает его неясное происхождение. Временами я праздно задумывался, как не задумывался раньше про других детей, что он делал прошлой ночью или что делает прямо сейчас. Я представлял себе его в аудитории, представлял, как он вытянул ноги, откинул голову на длинной шее и зевает, широко открывая рот и обнажая свой мясистый, лососевого цвета язык и белые, белые зубы, на каждом из которых укреплена крошечная, дорогая фарфоровая коронка.
Однажды весной, когда Виктор был на втором курсе, я сидел в своем саду. Стоял красивый сырой день, как бывает в начале весны, когда все как будто сразу превращается в сотни безымянных оттенков удивительной зелени, и я смотрел на деревья с этими нежными, юными и светлыми листьями, прозрачными и сияющими, словно они сделаны из тонких слоев золота. Я рано пришел с работы, потому что меня прихватил желудочный грипп, и голова казалась ватной, а слюна отдавала привкусом желчи. Но я помню, как был благодарен судьбе за то, что я дома в своем саду и мир вокруг погружен в тишину.
Я так задумался, что не услышал стука в дверь, не услышал настойчивых трелей звонка. Поэтому когда через заднюю дверь в сад вошли двое мужчин, я удивился и сразу встал. Один был черный, другой белый, один постарше, другой помоложе.
– Вы кто такие? – спросил я.
Молодой белый мужчина ответил вопросом на вопрос:
– Абрахам Нортон Перина?
Что мне оставалось делать? Я кивнул.
– Детектив Мэтью Бэнвилл, я из полицейского управления округа Монтгомери, – сказал мужчина и кашлянул, как будто смутившись. – Боюсь, доктор Перина, нам нужно задать вам несколько вопросов у нас в участке.
Надо мной внезапно возникла бабочка, первая в этом году, и захлопала чистыми белыми крыльями перед моим носом с такой яростью, что мне на мгновение подумалось, будто она пытается передать мне предупреждение, сообщить что-то, что только я смогу понять.
Но ничего не произошло. И когда я снова обернулся к пришедшим, они никуда не делись, молча ждали меня с суровыми, непроницаемыми, бесстрастными лицами – совсем не такими лицами, к каким я привык.
– Мне нужно взять таблетки, – наконец вымолвил я, детектив Бэнвилл поглядел на коллегу, тот кивнул, и мы прошли в дом все вместе, втроем. Они позволили мне зайти в ванную одному, и я долго стоял перед зеркалом, глядя себе в лицо и гадая, что со мной произойдет. Тут я понял, что не спросил их, на каком основании меня собираются допрашивать. «Я ничего не сделал», – сказал я своему отражению, невозмутимо смотревшему на меня. «Я спрошу их, почему они пришли, – подумал я, – и все, и все кончится, как будто никогда и не начиналось». Так что я вышел, чтобы их спросить, но, как вы знаете, это было не все, меня не отпустили, и моя жизнь навсегда изменилась. И если бы я знал, какой бесконечно сложной она вскоре станет, я, наверное, постарался бы остаться в ванной как можно дольше, глядя себе в лицо, словно ожидая ответа, пока мужчины снаружи ждали бы, а земля медленно крутилась у нас под ногами.
Часть VII После
Тут начинается крайне неприятный и тяжелый период моей жизни, на котором я предпочел бы не останавливаться, но, видимо, в интересах справедливости сделать это придется, хотя я буду краток.
Я должен признаться, что первый допрос помню плохо, а арест еще хуже, что странно, потому что я помню, что был весьма бдителен и почти болезненно вовлечен в происходящее (а именно, к сожалению, в подробное описание событий, которые привели к моему краху). Помню, при взгляде на окружающее я видел, что цвета и формы становятся резче, оттенки густеют на глазах, слова давят, мир окружает меня избыточно насильственными цветами, странными объектами и резкими, лающими звуками. Иногда мне приходилось снимать очки только для того, чтобы мир ненадолго смазался и отступил, перестал держаться в столь неумолимом настоящем времени. В частности, я помню, как ждал в комнате для допросов полицейского участка и даже в этой пресной обстановке – жуткие, изъязвленные кирпичные стены цвета серого штормового моря, каменно-серые полы, серый алюминиевый стол с серебристыми прожилками, похожими на полоски в шелковой ткани, – чувствовал, что на меня нападают, как будто сама серость может вдруг собраться в гигантскую волну и погрести меня под своей массой.
Вот. Что мне сказать об обвинениях, о расследовании, о статьях, о процессе? Что сказать о том, как институт отправил меня в административный отпуск (заверив сначала, что во всем меня поддерживает), о цитатах неназванных сотрудников, которые начали появляться в статьях «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Уолл-стрит джорнал»? Что мне сказать о том, как у меня отняли оставшихся детей, как не дали общаться с Виктором, как меня арестовали, когда я появился у дверей его общежития – я просто хотел поговорить с ним, а на мои звонки и письма он не отвечал, – и арестовали как преступника, несмотря на совершенно законное желание вступить в разговор? Я из своих денег оплатил комнату, в которой он прятался и смеялся надо мной, и оказался-то он там на мои деньги.
Но хотя все это было чудовищно и невыносимо, хуже всего оказалось не осознание моих быстро сокращающихся прав – каждый день был отмечен новым предательством, новым унижением, новым оскорблением; хуже всего мне пришлось, когда я узнал об участии Оуэна: после того как однажды вечером Виктор ему позвонил, именно он побудил его пойти в полицию, именно он помог ему найти адвоката, он выписывал чеки колледжу, когда я прекратил это делать. Мой собственный брат, мой близнец, мой вечный спутник, предпочел ребенка мне. Я не мог этого вместить и до сих пор не могу.
Были и другие подробности. Виктор подружился с Ксерксом, сожителем Оуэна (хотелось бы знать как – разве такие отношения, между взрослым мужчиной и мальчиком-студентом, сами по себе не кажутся подозрительными?), и это Ксеркс рассказал Оуэну про обвинения Виктора, и, видимо, Ксеркс убедил Оуэна в их правдивости. Эти сведения дошли до меня в виде обрывков – один неприятный кусочек, другой сомнительный фрагмент – от тех немногих детей, которые решили, что будут верить мне, человеку, платившему за них и растившему их все эти годы, а не Виктору. Я, разумеется, радовался этой их верности, но их оказалось очень мало, совсем мало – гораздо меньше, чем я предполагал и ожидал, – и время от времени я приходил в ярость оттого, что мне вообще приходится испытывать за это благодарность, что я вынужден считать исключительной единственно правильную и разумную реакцию.
В конечном счете я виню не Ксеркса, а Оуэна.
– Кто ты вообще такой? – спросил я его во время нашего последнего разговора, одного из немногих, которые состоялись между выдвижением обвинений и процессом, – а после мы больше никогда не разговаривали.
– Ты кто такой? – прошипел он и бросил трубку.
Это случилось в плохой день, в один из худших. В тот день я бродил по дому и искал, что тут можно бездумно сломать, что бездумно пнуть ногой. В тот момент я был пленником в собственном доме, и фантазия, которая меня иногда посещала, парадоксальным способом претворилась в жизнь: вокруг не было детей, не было никаких звуков, не было их вещей, запахов, криков, хотя время от времени я набредал на какую-нибудь игрушку или предмет одежды – на костяшку домино, которую поначалу принял за кусок шоколада; на носок, отделанный бахромой, с дыркой на пятке, – эти предметы выпали в спешке, когда власти штата торопились вывести детей из-под моего надзора. Впервые за несколько десятилетий слив в ванной не был забит слоями их шерстистых волос, и окна не выглядели пергаментно-жирными от отпечатков множества ладоней. Мне всегда казалось, что дом чуть-чуть вибрирует, слегка, как будто призрачный поезд проезжает на большой глубине под коренной породой, но когда детей не стало, я понял, что эта дрожь складывалась из объединенного присутствия множества жизней, которые разворачивались в одном и том же месте, – я чувствовал шуршание динамиков, когда гитару подключали к усилителю, обвалы прыжков с верхнего уровня двухъярусной кровати на тонкое ковровое покрытие, пульсирование группы мальчишек, толкающихся по дороге в ванную ранним утром. «Бедный дом!» – думал я и время от времени замечал, что глажу один из крашенных в белый цвет дверных косяков, как будто это лошадиный нос: нежно, медленно, стараясь успокоить разнервничавшееся животное.
В эти дни я был уверен, что со мной ничего дурного не случится. Уж во всяком случае, я не считал, что у меня есть хоть какой-то шанс оказаться в тюрьме. Разве любые ошибки, которые я мог совершить при воспитании детей, не перекрывались многократно самим фактом их существования? Позже, во время процесса, адвокаты показывали присяжным семейные фотографии, где лица некоторых младших детей были замазаны серым, но все равно было видно, что они хорошо одеты, что лужайка за их спинами сияет яркой, напористой зеленью, что на ее фоне их кожа сверкает, как гладкий палисандр. У одного из моих безликих питомцев – я думаю, это могла быть Грейс, еще совсем маленькая – в руке была конфета на палочке, она держала ее гордо и высоко, с явной радостью, и внутренняя сторона ее запястья была измазана веселым красным цветом конфеты. Я пожалел, что не задокументировал, чем они были до того, как я их спас, – тощие, как собаки, с кожей цвета пыльного камня, когда им ни за что не пришло бы в голову так напористо жестикулировать, когда они ни за что бы не позволили чему-то съедобному раствориться, потому что еды всегда вдоволь, ее всегда можно достать из холодильника. Я часто вспоминал Виктора и его особенно жалкий вид и по ночам, лежа в постели, под монастырское бормотание холодильника, представлял, как бы мне жилось сейчас, если бы я поступил как надо – просто повернулся спиной к тому человеку, сел в самолет и оставил Виктора доживать свою крошечную жизнь.
Но в результате, конечно, выяснилось, что я ошибаюсь. Я переоценил значение своего великодушия. В конечном итоге оно ничего не значило – по крайней мере, на фоне предъявленных обвинений. На фоне обвинений и моя Нобелевка могла быть пластмассовым призом за соревнования по боулингу в деревенском клубе – она тоже практически ничего не значила.
Оуэна я увидел еще один, последний, раз. Это случилось в тот день, когда Виктор явился давать показания против меня. В тот день в зале суда стояла тишина, и, глядя, как он идет к свидетельской трибуне, я невольно испытал прилив чего-то вроде гордости: кто этот стройный, красивый юноша? На нем был незнакомый мне костюм, который, как я предположил потом, ему, скорее всего, купил Оуэн, и когда он сел, я увидел на его левом запястье купленные мной часы. На секунду я решил, что это знак – не мог же он их надеть бездумно? Не мог же чувствовать их вес на руке и не думать обо мне и, соответственно, о том, что он со мной делает?
Он выступил хорошо, Виктор, и пока он говорил – отвечая коротко и внятно, тихим голосом, не отрывая глаз от прокурора, – я видел, что достойно его воспитал. Он, конечно, был чудовищем, но я ввел его в общество, научил вести себя, дал ему все, чтобы меня погубить. Сойдя с трибуны, он посмотрел в мою сторону и улыбнулся красивой улыбкой, блестя многочисленными дорогими белыми зубами, и, гадая, что он имеет в виду, я осознал, что он смотрит не на меня, а сквозь меня, и, обернувшись, чтобы отыскать адресата этого сигнала, увидел Оуэна, сидевшего на зрительском ряду всего в нескольких футах за моей спиной. Он устроился рядом с Ксерксом и улыбался Виктору в ответ, как идиот или заговорщик, а потом его взгляд сдвинулся, и он уставился на меня, и в это мгновение, прежде чем его лицо успело прореагировать и принять гневное выражение, он улыбался мне, и моя давняя радость отражалась в нем зеркальным образом моего прежнего счастья.
В тот вечер ко мне пришел мой адвокат. Он настаивал, чтобы я изменил свое заявление, но я отказался.
– Да мне все равно, – сказал он, когда я объяснил ему, почему это так несправедливо и нечестно, но прервался и начал снова, более вкрадчиво. – Присяжным все равно, Нортон. Прошу вас, не говорите, что невиновны.
Но я отказался, и мы знаем, что произошло дальше.
Все бесконечно повторяли, как мне повезло: срок оказался недолог, меня изолировали от остальных заключенных, меня поместили в эту тюрьму, которая считается «одной из лучших». Иногда мне кажется, что я дебил, которого чудом зачислили в элитарную школу и ни за что не дадут забыть об этом странном капризе судьбы.
Мое пребывание здесь подходит к концу. В минуты оптимизма я говорю себе, что скоро это будет просто одно из многих мест, где я был и которые покинул: Линдон, Гамильтон, Гарвард, Стэнфорд, Национальные институты здравоохранения, дом в Бетесде. Но в более трезвом состоянии я понимаю, что это не так: все эти места (кроме Линдона) – пункты назначения, куда я хотел попасть и попал; я наводил справки о каждом, везде тщательно собирал багаж, необходимый для перемещения в следующий пункт. В эти места я хотел, мечтал попасть, и когда приходила пора покинуть каждое из них, я так и делал.
Но тут ситуация противоположная: сюда меня заставили попасть, и уйду я отсюда, только когда они решат, что им больше со мной нечего делать.
Мне повезло: у меня всегда были очень яркие сны. Однажды в молодости я признался в этом Оуэну, и он сказал, что мои сны буйственны, невероятны и разукрашены, потому что в сознательном состоянии мой разум не таков; он сказал, что никто не может жить без чуда и в моих снах разум пытается компенсировать собственную педантичность, раскрасить мою жизнь в какие-нибудь фантастические цвета. Он, конечно, отчасти шутил, но не совсем, и мы завели очередной вялый спор, противопоставляющий интеллектуальную строгость ученого самолюбованию поэта.
Но с тех пор, как я здесь, мне больше ничего не снится. Сны исчезли ровно в тот момент, когда я мечтал о них, когда мне требовалось заполнить часы своего бодрствования их павлиньей роскошью. И в их отсутствие я все чаще и чаще стал возвращаться на Иву’иву, который, как ни странно, тюрьма больше всего напоминает. Не видом, конечно, но своей непримиримостью, удержанием меня в плену: место само решит, когда я ему больше не нужен, а пока что еще не удовлетворилось.
Так что я провожу дни, позволяя разуму развлекаться пестрой кинолентой образов; я вижу вуаку, чья шерсть сверкает в мягком воздухе, как будто освещенная звездами, вижу персиково-розовую мякоть манамы. Я вижу огонь, тлеющий под обугленным существом, с которого неровными полосами облезает кожа. Я вижу тайфун птиц, голосящих на ветвях дерева канавы, и голову опа’иву’экэ, поднимающуюся над ровной поверхностью озера. Я вижу мальчика, чьи руки, ярче цветов в ночной темноте, двигаются по моей груди, словно он смывает печаль, прилепившуюся к моему телу, как накипь. И конечно, я вижу Таллента, как он тихо бредет среди деревьев, двигаясь неслышно, точно ленивец, вижу, как длинные волосы превращают его спину в реку из золота и древесины. Иногда я засыпаю в середине дня, как ни стараюсь дождаться отключения ламп, когда будет понятно, что наступила ночь, и, впадая в дремоту, представляю себе, что иду рядом с ним. В эти мгновения оказывается, что я вообще не уезжал с Иву’иву и мы с ним товарищи, которые вместе бродят по острову, и хотя остров невелик, он кажется бескрайним, словно мы можем шагать по его лесам и холмам долгие столетия и не находить никаких пределов. Над нами светит солнце. Вокруг нас расстилается океан. Но мы этого не видим. Мы видим только деревья и мох, мартышек и цветы, поросли лиан и наросты коры. Где-то на этом острове есть место, где мы отдохнем. Где-то на острове есть место, где мы должны оказаться, где мы сможем лечь рядом и знать, что больше нам никогда не придется его искать. Но пока мы не нашли его, мы ищем, движемся вдвоем по пейзажу, а снаружи и вокруг нас рождается, живет и умирает мир, и звезды медленно выгорают в темноту.
А. Нортон Перина
Декабрь 1999 г.
13 января 2000 года Исчезновение известного ученого, недавно освобожденного из исправительной колонии Ассошиэйтед Пресс
Бетесда, штат Мэриленд. Местонахождение доктора Абрахама Нортона Перины, лауреата Нобелевской премии, который был недавно условно освобожден из исправительной колонии Фредерик, неизвестно.
Д-р Перина был осужден в 1997 году на двухлетнее тюремное заключение по двум обвинениям в посягательствах сексуального характера; в январе он был освобожден. Несколько дней назад он не вышел на связь с инспектором по надзору. Полиция округа сообщает, что дом Перины пуст и что после освобождения он ни разу не контактировал со своими бывшими коллегами.
Тайна отягощается одновременным исчезновением доктора Рональда Кубодеры из Пало-Альто, Калифорния, давнего коллеги и друга Перины. В конце прошлого года, по имеющимся сведениям, Перина перевел большую часть своих сбережений д-ру Кубодере, который на протяжении многих лет занимался научной работой в лаборатории Перины, а в последние годы был профессором Стэнфордского университета. Университет сообщил об исчезновении д-ра Кубодеры 3 января, поскольку тот не появлялся на занятиях в течение двух дней. Судя по всему, собственную квартиру он покинул.
76-летний Перина получил Нобелевскую премию по медицине в 1974 году за открытие синдрома Селены, приобретенного заболевания, которое удлиняет срок жизни жертв, но ведет к их умственному упадку. Д-р Перина был также хорошо известен в Бетесде как приемный отец 43 детей из У’иву, микронезийского государства, где в 1950 году он впервые обнаружил указанное заболевание.
«Мы твердо намерены отыскать д-ра Перину, – заявил пресс-секретарь полицейского управления округа Монтгомери. – Если у кого-то есть сведения о его местонахождении, немедленно свяжитесь с полицией».
Эпилог
Нас с Нортоном далеко занесло. Я не пытаюсь рисоваться из вульгарных или сентиментальных соображений, это вполне буквальное утверждение: нас далеко занесло. Боюсь, что больше я не могу сказать об этом практически ничего[83].
Что еще? Могу сказать вам, что воздух здесь невероятен, он так наполнен запахами, что иногда я не могу этого вынести и вынужден прятаться в помещении, и что дождя не было уже десять дней. Нортон любит, чтобы на кухне стояли огромные, разлапистые цветочные букеты, поэтому несколько раз в неделю по утрам мы с П., нашим садовником, собираем в охапки линяющие цветочные растения, названий которых я так и не знаю. Одно из них – длинный стебель со шляповидным пучком отдельных бутонов на верхушке, желтых, как маринованная японская редиска. Другое – ветка с дерева, обсыпанная крошечными цветами, которые распускаются как фисташковая скорлупа. А еще одно – это, видимо, какой-то суккулент с толстыми липкими листьями и жесткими вытянутыми лепестками. П. помогает мне срезать стебли, я ставлю их в большой стеклянный кувшин, и эта картина неизменно радует Нортона. Мы с ним здесь очень счастливы вдвоем.
Впрочем, иногда, должен признаться, я скучаю о той жизни, которую покинул. Я часто думаю о своей лаборатории, о коллегах и иногда о своих детях, которых больше никогда не увижу. Порой мне хочется поговорить с людьми из прошлого, порой я тоскую о прежней жизни и думаю, правильно ли я поступил. Но такое настроение всегда быстро проходит, потому что я всегда могу обратиться к Нортону – из-за кого я здесь, собственно, и оказался – с разговором и, слушая его, вспомнить, почему мое решение, пусть и неидеальное по целому ряду практических соображений, было верным. Кроме того, я уверен, что эти чувства со временем притупятся.
Когда я только приехал сюда, я стремился отыскать информацию, новости о той жизни, которую оставил. Да и вообще любые новости. Я не мог смотреть на свою новую жизнь иначе чем через призму старой. На второй день я уже думал: «Что про меня говорят дома? Что говорят про Нортона? Что им приходит в голову?» Я представлял, как разрывается телефон в лаборатории, как почтовый ящик разбухает от конвертов и бумаг. Перед отъездом я написал несколько записок, но постарался свести их к минимуму: одну бывшей жене, объясняя, что оставил кое-какие деньги для детей на счету, который завел в своем банке, и поскольку я не вернусь, она должна разобраться во всем сама; другую сестре, с благодарностью за доброту и поддержку на протяжении многих лет; и еще одну президенту университета, в которой, в общем-то, не сообщил почти ничего. Я снова и снова начинал письма двум своим детям, но не мог найти слова, которые выразили бы то, что я хотел (и, по правде говоря, не мог определить, что именно я намеревался высказать), поэтому в конце концов сдался. Их мать, безусловно, сможет сказать им что-то убедительное – у нее это всегда получалось лучше.
Эти терзания ослабели, но время от времени они возвращаются, особенно по ночам, когда я пытаюсь заснуть. В первый раз я просто решил, что проголодался – в тот день я не поужинал. Осторожно, чтобы не разбудить Нортона, я спустился в кухню, где открыл дверцу холодильника и стоял, изучая тарелки, которые утром поставила туда М., жена П. и по совместительству наша кухарка. Я сел за стол с тарелкой вареной курицы, кубиков сыра в оливковом масле и цукини в кляре и ел до самого восхода, после чего меня долго и мучительно рвало. Подобные эпизоды обжорства, к сожалению, случались еще несколько раз, пока я не осознал, что стремлюсь не к еде, а к чему-то далекому и недоступному. Это понимание, безусловно, поможет мне переносить такие ситуации, и к тому же я совершенно уверен, что со временем они полностью прекратятся. Любая новая жизнь, какой бы желанной она ни была, требует приспособления.
Мой рассказ – рассказ Нортона – почти подошел к концу, но я хотел бы поделиться с вами еще двумя соображениями; я расскажу сначала об одном, потом о другом, и читать это не обязательно. Наша история могла бы завершиться здесь, и это была бы, я надеюсь, такая же удовлетворительная концовка для вас, какой она стала для нас обоих.
Есть один фрагмент, что ли, воспоминаний Нортона, который я исключил из его рассказа, и должен признаться, что помещаю его здесь со смешанными чувствами. Я совсем не уверен, что именно так надо поступить. При этом мне хватает, пожалуй, цинизма понимать, что хотя он и не должен ничего изменить, такой вариант не исключен. Могу лишь сказать, что он, надеюсь, окажется занятным небольшим примечанием (потому что на самом деле так оно и есть – без него рассказ в целом ничего не теряет и не приобретает) и что многие качества, которые проявились в лучшем виде в записках Нортона – его остроумие, его мудрость, его страсть и сострадание, – и будут тем, что читатель вынесет из рассказа, что определит роль Нортона в истории. Но после серьезных раздумий я решил все-таки включить этот фрагмент только потому, что мне кажется значимой выраженная в нем неловкая нежность, открытость, гордое изъявление любви и признание ошибок. Он напоминает нам, что любовь, по крайней мере та чистая любовь, в которой мало кто из нас готов признаться, – это сложная, темная, насильственная стихия, договор, который невозможно заключать с легким сердцем. С мнением Нортона можно не согласиться, по-прежнему считая его цельным и хорошим человеком. По крайней мере, я на это надеюсь, хотя окончательное решение, разумеется, зависит от читателя; я свой вывод давно уже сделал.
Второе, чем я хотел бы поделиться с вами – ибо меня невозможность поделиться подробностями моей здешней жизни раздражает не меньше вас, хотя я понимаю, что такая скрытность вызвана необходимостью, а не капризом, – это рассказ о том, что произошло почти ровно год назад, в день, когда я отправился забрать Нортона из тюрьмы. Я уже некоторое время ожидал этого момента и прилетел в Бетесду заранее, за несколько дней. В эти три дня я мало о чем мог думать, кроме Нортона. Когда Нортон впервые изложил мне свой план в одном из редких наших телефонных разговоров, я ответил осторожно, даже опасливо, но уже через несколько часов не сомневался: конечно, именно так я и поступлю. В конце концов, я ждал этого всю свою взрослую жизнь и никакое препятствие не счел бы достаточно серьезным, чтобы удержать меня от поступка, о котором, без сомнения, я никогда не пожалею. Ведь я всегда был верен Нортону, и никаких причин отказываться от этого инстинкта сейчас у меня быть не могло.
Наконец, после трехдневного скитания по городу, заполненному дорогими бутиками с бесполезным хламом, который, по моим представлениям, мало кому могло бы прийти в голову купить (дизайнерское оливковое масло и такой же уксус; плетеные корзины в форме керамических ваз и керамические вазы с узором, напоминающим плетеные корзины), я поехал к исправительному учреждению Фредерик, чтобы забрать Нортона. Я исполнил несколько его поручений: заехал в магазин за кое-какими вещами, которые могли ему понадобиться, заехал к его бухгалтеру и адвокату. Адвокат встретил меня гримасой, которую я не смог понять, и молча передал мне материалы, о каких просил Нортон. Я не видел его с момента слушаний, и мы обменялись лишь несколькими словами. В лабораторию я не пошел и вообще никого из нашей прошлой жизни видеть не хотел.
В тюрьме меня обыскали и заставили дважды пройти через рамку металлоискателя. Свою сумку, как и сумку, собранную для Нортона, я оставил в машине. Меня направили к окну, где надо было подписать несколько документов, потом оставили ждать в дурно пахнущей комнате с бетонными стенами. Я смотрел, как секундная стрелка часов тикает по отметкам циферблата, и ждал. Я уже прождал столько времени, что мне было все равно.
Часа через два в комнатку вошел служащий и сказал, что из-за бюрократической ошибки Нортона выпустили раньше утром и он, видимо, ждет меня у своего адвоката. Я, разумеется, возмутился, не потому, что оказался в затруднительном положении, а потому, что мне было невыносимо думать, что, когда Нортон вышел, его никто не встретил и ему пришлось каким-то образом самостоятельно добираться до адвоката со всеми вещами. Но охранник сказал мне, что адвокат сам приехал забрать Нортона (эту подробность, надо сказать, он мог бы и сообщить, когда я пришел к нему в контору) и что все прошло гладко. Я продолжал (по инерции, надо думать) кричать на служащего, который оставался раздражающе безмятежен и никаких угрызений совести не выказывал. В конце концов, чувствуя, что интеллектуальные способности охранника ограниченны, а достучаться до него не удается, я признал свое поражение. Мне пришло в голову, что это мое последнее в жизни столкновение с тюрьмой – любой тюрьмой, – и мне вдруг захотелось немедленно оттуда уйти.
Я понимал, что в этот самый момент Нортон сидит со своим адвокатом и слушает, как тот что-то бубнит про условно-досрочное освобождение, про его обязанности. Он кивает и по всем признакам совершенно согласен: да, да, разумеется. Конечно, он согласен записаться в медицинскую программу помощи осужденным педофилам. Конечно, он согласен на встречи с психиатром. Конечно, он будет придерживаться условий судебного запрета, который запросил Виктор. Ничто из этого нельзя считать избыточным или несправедливо ущемляющим; он хочет показать им, что он исправился, что он на все готов. Он подпишет документы, согласится на любые встречи и обязательства, которые через несколько часов, если мы проявим должную осторожность, утратят всякий смысл. Адвокат, странным образом отдалившийся от клиента после проигранного дела, будет держаться покровительственно, но Нортон не воспротивится; фарс почти подошел к концу, и он склонен проявить великодушие.
Я торопился. Я, конечно, говорил, что готов запастись терпением, потому что так долго ждал, но, зная, что Нортон так близко, что наша новая жизнь с ним начнется вот-вот, я нервничал и впервые за долгие годы чувствовал возбуждение. Я нетерпеливо ждал, пока охранник меня досмотрит, а потом останется всего какая-то сотня ярдов коридора и короткая автомобильная поездка – и я снова увижу Нортона. Мы вместе переночуем в гостинице, а на следующий день исчезнем, и все это – годы, наши карьеры, наши семьи, суд, унижение – будет забыто. Перед нами расстилалось нечто такое сияющее, чистое, такое новое, что мне было трудно его разглядеть. А потом я шел по коридору к выходу, с каждым шагом сердцебиение усиливалось, и я с трудом сдерживался, чтобы не распахнуть двери и не побежать вниз по тюремным ступенькам с нечленораздельным, гулким криком в горле. Нортон ждет; скоро я его увижу. Что он захочет сделать первым делом в своей новой жизни?
Когда я подходил к машине, стая ворон, собравшаяся на ее крыше, разом поднялась на крыло переменчивым, хриплым сгустком черноты, и на секунду мне захотелось рассмеяться. Они величественно разлетались по бесцветному небу, белому и зернистому, как крупная пыль; мне казалось, что я могу смотреть на это вечно.
Рональд Кубодера
Декабрь 2000 г.
P.S
(Это пропущенный отрывок из той части, где Нортон описывает сложности взаимоотношений с Виктором.)
Я был бы рад сказать вам, что после этого случая стало существенно легче, но это не так. Точнее, и так, и не так. В течение нескольких дней после подвала Виктор действительно склонялся к тому, чтобы признать поражение: он вел себя тихо; он послушно, застенчиво, почти жеманно опускал глаза, когда проходил мимо меня в коридоре. Вообще больше всего бросалась в глаза эта его новоприобретенная тихая манера. Виктор никогда не был особенно шумным ребенком, но и молчаливым назвать его было нельзя; как и остальные, он любил вслушиваться в собственную речь и высказывать разные суждения. Он был, пожалуй, общителен, а теперь это изменилось.
Впрочем, я не хочу создавать у вас впечатление, что после такого наказания он превратился в затворника. Скорее, он повзрослел и больше не дергал губой, когда я просил его вне очереди помыть посуду, не хмурился, когда я сажал его за домашнее задание, не вздыхал тяжело, когда я напоминал ему о правилах поведения, просил говорить потише или исправлял речевые ошибки. Вместо этого явилась некоторая пустота, отсутствие, как будто ему сделали какую-то щадящую, бескровную лоботомию. Впрочем, в автомат он не превратился, он продолжал делать то, что делали остальные дети, – драться, играть, болтать, спорить, смеяться. Он никогда не плакал, но он и раньше никогда не плакал. Это я в нем всегда уважал.
Я тоже играл свою роль. Он был гордый мальчик, я понимал это и сочувствовал ему. Поэтому я никогда не напоминал о его унижении, никогда не говорил о его поведении, чтобы остальные усвоили урок. И я больше никогда не называл его Виктором. Я хотел, чтобы он сохранил достоинство.
Но потом, примерно через месяц этого новообретенного спокойствия, он снова стал вести себя чудовищно. Он пропускал уроки и скрывал это. Он столкнул Дрю с лестницы и сломал ему запястье. Он выбрил – тщательно и весьма художественно – невероятно непристойное слово на плюшевой шерсти соседской кошки. Однажды вечером я зашел в их с Уильямом комнату и обнаружил его за этим занятием. Некоторое время я молча смотрел, как одной рукой он нежно обхватывал кошку, а в правой жужжала бритва – моя бритва, – продвигаясь по мягкому ландшафту кошачьей шерсти. Он что-то бормотал тихим, успокаивающим голосом, но удивительнее всего, когда он наконец обернулся, оказалось его выражение лица: в его плоских глазах горела ожидаемая непокорность, горел гнев, но кроме того – искреннее недоумение, как будто он не мог удержаться от такого поведения, как будто его рука в этом шелковистом движении по кошачьей шерсти, повиновалась демонам, с которыми он не мог совладать.
После этого наши отношения снова стали мучительными и мрачными. За ужином он без всякого повода кричал на меня, выплевывал ужасные обвинения. Они меня, конечно, не задевали, но я начинал утомляться от этих схваток, от оплеух, от придумывания новых наказаний, способов принуждения к подчинению. Однажды ночью мне приснилось, что Виктор – это огромный злобный паук с крепкими, жилистыми ногами и красными, зловеще сверкающими глазками. Мне почему-то нужно было загнать его в маленькую и хлипкую корзину. Я пытался обмануть его, заставить, даже привлечь капелькой зернистого меда, но он все время ускользал, и когда я проснулся, мои руки, все еще сжатые в кулаки, вспотели от досады.
А потом, внезапно, как раз когда я намеревался выбросить его на улицу или заслать в колонию для подростков (это не так сложно, как кажется, если знать нужных людей), его поведение улучшалось, он становился послушным, почти что смирным, снова отступал. Но вскоре я стал бояться этих вспышек притворного покоя, перестал доверять им, потому что в это время он как раз придумывал что-нибудь особенно зловещее; он ждал, пока я расслаблюсь и утрачу бдительность, и тогда он набросится на меня, толстого, сонного, неподготовленного, и его необъяснимый гнев будет опасен и смертоносен, как орлиные когти. Когда это случалось, я думал, не болен ли он, хотя на самом деле ярость Виктора была слишком целенаправленной, слишком хорошо контролируемой, чтобы списать ее на сумасшествие; скорее, все это было частью единой кампании, направленной – на что? На то, чтобы я его убил? Совершил самоубийство? Я и сейчас не знаю, чего он надеялся добиться от меня. Может быть, для него это была просто игра, череда нападок и отступлений, с каждым разом все более решительных и опасных. Конечно, я довольно быстро мог с ним справиться; в конце концов, я был взрослый, я был умнее и сильнее, а он был ребенок. Но он при этом был мальчик, неутомимый мальчик, у него в запасе были долгие часы для совершенствования своих хитростей, и он мог навострить свои трюки так тщательно и аккуратно, как иной точит боевой клинок.
Однажды вечером я вернулся домой из лаборатории и обнаружил на полу кабинета небольшую аккуратную горку осколков. Я подошел вплотную и увидел, что это остатки большой хрустальной вазы; ее подарил мне Оуэн, когда я получил Нобелевку. Хрусталь был тяжелый, прозрачный как вода, насыщенный цветом, струистыми наплывами морской волны и змеистой зеленью. Эта ваза входила в число тех немногих подарков, которые я получил от Оуэна, причем самых важных, потому что вообще-то это была его ваза. Однажды я увидел ее у него в квартире, восхищенно вскрикнул и приподнял, чтобы посмотреть на свет, и по комнате кругами побежали цветные отблески. Оуэн выхватил у меня вазу, заголосил, что я ее разобью, и мы разругались. Но в тот год мне пришла посылка, огромная, нескладная, завернутая в многочисленные слои коричневой оберточной бумаги, и в ней, обложенная тканью, перевязанная восковой красной бечевкой внутри деревянного упаковочного ящика, стояла та ваза, такая же совершенная, тяжелая, алмазно-сверкающая, какой я ее помнил.
И теперь ее не стало. Виктор – я знал, что это он, – разбил ее элегантное тонкое основание на мелкие части, и осталась только кучка ярко сверкающих осколков. Стенки чаши были расколоты на крупные, неравные части, и каждая была расцарапана (наверное, каким-то камнем) так глубоко, что эти линии казались украшениями, неумелой гравировкой на стекле. Под остатками вазы лежала записка, где на бумаге с моего стола было неуклюже выведено: «Упс».
Прошли долгие минуты, пока я стоял, пошатываясь, и смотрел на вазу, вслушиваясь в безразличное тиканье часов. А потом я развернулся, подошел к лестничной площадке, где снова остановился и словно чего-то подождал, и поднялся к его комнате. У широко раскрытой двери я остановился, глядя, как он дышит. Уильям проводил выходные в гостях у друга, и Виктор спал в его кровати (он всегда утверждал, что кровать Уильяма лучше). Я очень долго – так мне казалось – смотрел на него. Он спал на спине, закинув руки за голову, его пижама была расстегнута снизу, и я видел полоску темной, шелковистой кожи, печальный выпирающий завиток пупка. «Ох, Виктор, – подумал я, – что мне с тобой делать?»
Я шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Ставни были открыты, и в уголке окна виднелась луна; ее желтоватый свет был приглушен занавеской. Когда я сел на кровать Уильяма возле ног Виктора, в моем сознании пронеслось, следуя друг за другом, множество мыслей, но я вряд ли смогу их теперь зафиксировать. Может быть, и тогда не смог бы – это был поток, темная перевязь рук и ног от разных мыслей, отвратительная, липкая сумятица сплетенных частей тела и воплей, какая встречается только в кошмарах.
Я встал, взял подушку с кровати Виктора, снова сел. Несколько минут – не знаю точно, сколько это продолжалось, – я сидел с подушкой на коленях и смотрел, как он вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает. Я снова вспомнил, как увидел его впервые на поле, как его тело скрывалось под слоем гноящихся язв, каким слабым и вымотанным он был, так что не мог даже плакать. Я заметил небольшой серповидный шрам прямо над его лодыжкой. Он сиял там, белый на темной древесине кожи, как улыбка из мультфильма, и мне стало его очень жалко, и одновременно меня захлестнули чувства. Я стал осторожно тереть его лодыжку, гладя ее большим и указательным пальцем, и во сне он поежился, улыбнулся и тихо вздохнул.
И вот я забирался на него и зажимал подушкой его рот. Его глаза, когда он их открыл и увидел меня сверху, были ясными и прозрачными от ярости, а потом, когда я стянул с него штаны, от смятения и испуга. Я чувствовал, что он начинает кричать, хотя подушка заглушала звук, и его голос казался очень далеким, как глухое, затухающее эхо.
– Тсс, – сказал я ему. – Все хорошо.
И я гладил его лицо другой рукой, приговаривая что-то, как иногда делал с младенцами. Он дергался подо мной, пытался поцарапать мне лицо, но я был сильнее и тяжелее и смог раздвинуть ему ноги коленом, удерживая его руки свободной рукой.
Проникнув в него – чувство облегчения, голода, такой чистой и простой радости, какую я не могу осмысленно описать, – я снова испытал блаженный прилив гнева.
– Ты разбил мою вазу, – бессмысленно прошептал я ему на ухо. – Вазу, которую подарил мне брат. Чудовище. Мелкий негодяй. Животное.
Я слышал его приглушенные стоны, а когда я усилил толчки – резкие повизгивания. Мне было интересно, чувствует ли он то же, что и я, как будто мои внутренности вынимают наружу и поднимают вверх, как будто резкий, холодный ветер пронизывает полость моего несчастного, грязного тела, очищая его и унося все нечистоты, расшвыривая их в ночном воздухе.
На протяжении лет я спал со многими мальчиками, и некоторые из них – чего я не стыжусь – были моими детьми: красавец Гай с длинными ресницами и курчавыми локонами точно такого же цвета, как медь его кожи; Терренс с гибкими руками и ногами, с чернильной россыпью родинок; Муива, мой первый и во многом самый любимый ребенок. Я любил этих детей, любил их вид, их сонную, отстраненную покорность. Они были красивы, и я ценил эту красоту, объяснял им, что это их дар, дар, которым они могут осчастливить других. Но я никогда не подступал ни к кому с таким гневом, яростью, с такой страшной любовью и ненавистью, как к Виктору. А он не переставал сопротивляться, даже когда я пришел к нему на следующую ночь, и еще через день, и во все остальные ночи, когда я шептал, что накажу его, что сломлю его сопротивление, что заставлю его вести себя прилично. А потом, в изнеможении лежа на нем, я вдруг обращался к нему со словами любви и страсти, давал ему обещания, на которые раньше никогда не решался, дрожащим от слез голосом. Позже, когда он обвинил меня, я был поражен. Потому что я любил его, понимаете, любил, несмотря ни на что. На суде я говорил, что дал ему все то, что давал остальным своим детям, – деньги, жилье, образование. Но на самом деле думал: «Я дал ему больше, чем кому бы то ни было. Я дал ему то, что всегда жаждал дать». В ту залитую лунным светом ночь в кровати Уильяма, когда Виктор извивался подо мной, я знал, чего он пытался от меня добиться, и в ту ночь подарил ему это, подарил без всяких сомнений. Потому что перед тем, как покинуть комнату, когда небо за окном стало светлеть, я прошептал ему вот что: «Ви, – а рот его был по-прежнему заткнут подушкой, так что он не мог меня не слушать, – я люблю тебя. Я дарю тебе свое сердце».
Хронология
1924: Нортон Перина рождается в Линдоне, штат Индиана
1933: смерть матери
Декабрь 1945: смерть Сибил
1946: смерть отца
Май 1946: окончание обучения в Гамильтон-колледже
Июнь 1950: окончание обучения в Гарвардской медицинской школе
21 июня 1950: прибытие на Иву’иву (конец лили’уаки)
Конец ноября 1950: возвращение домой с Иву’иву; начало работы в лаборатории Стэнфордского университета
Весна 1951: первые эксперименты с опа’иву’экэ. Группа A состоит из 50 пятнадцатимесячных мышей; 50 процентов получают опа’иву’экэ; остальные 50 процентов – контрольная группа. Группа B состоит из 100 новорожденных мышей (50 процентов – контроль; 50 процентов получает дозу опа’иву’экэ).
Апрель 1951: публикация работы об опа’иву’экэ в журнале «Анналы герпетологии»
Июль 1951: начало третьего эксперимента. Группа C состоит из 200 пятнадцатимесячных мышей; 50 процентов получают опа’иву’экэ, прочие 50 процентов – контрольная группа.
Декабрь 1953: публикация статьи в журнале «Анналы эпидемиологии питания» (так называемое «Утверждение о бессмертии»)
Март 1954: Адольфус Серени начинает свой эксперимент, воссоздав условия группы C из экспериментов Перины.
Апрель 1956: Серени подготавливает свою статью к публикации
Сентябрь 1956: статья Серени опубликована в журнале «Ланцет»
Февраль 1957: возвращение на Иву’иву
Май 1957: демонстрация свидетельств ухудшения состояния мышей Адольфусу Серени
Январь 1958: возвращение на Иву’иву. Публикация работы, в которой рассмотрено ухудшение умственных способностей после потребления опа’иву’экэ, в журнале «Анналы эпидемиологии питания».
Февраль 1958: возвращение в Стэнфорд; разрыв контакта с Полом Таллентом
1960: назначение на пост руководителя лаборатории в составе Национальных институтов здравоохранения
Конец 1961: возвращение на Иву’иву; исчезновение Таллента
1968: усыновление первого ребенка (Муива Перина)
1970: Рональд Кубодера приходит работать в лаборатории Перины в НИЗ
1974: Нобелевская премия по медицине
13 августа 1980: усыновление Виктора Оуэна Перины
Март 1995: арест
Декабрь 1997: приговор к двухлетнему тюремному заключению
Февраль 1998: начало отбывания срока в исправительном учреждении Фредерик
Краткий словарь языка у’иву
Примечание: гласные в у’иву произносятся примерно так же, как в японском или испанском.
Вуака – примитивная миниатюрная обезьяна, считается деликатесом. На У’иву истреблена до почти полного вымирания.
Ка’ака’а – запрещенная в наши дни медицинская традиция.
Канава – дерево, родственное манаме. Место обитания вуаки.
Ке – «Что?» (Используется как отклик.)
Лава’а – крупный папоротник, похожий на монстеру.
Лили’ака – дословно «маленькое солнце»; соответствует нашему лету, считается самым приятным временем года (сто дней).
Лили’ика – сиеста на Иву’иву; начинается сразу после полуденной трапезы и продолжается почти до вечера. На У’иву лили’ика была запрещена королем Туима’элэ в 1930 году по настоянию миссионеров.
Лили’уака – дословно «маленький дождь», соответствует нашей весне (сто дней).
Ма – перед словом и с гортанной смычкой в конце – гоноратив (форма вежливости; см. ниже). Дословно означает «мой», «мое».
Ма’аламакина – традиционное у’ивуанское копье, которое получают все мужчины по достижении четырнадцати о’ан.
Макава – дерево, которое росло на У’иву; сейчас в основном произрастает на Иву’иву.
Малэ’э – хижина
Манама – дерево со сьедобными плодами, напоминает манго.
Мо’о – без
Моа – еда
Но’ака – плод, похожий на кокос, скорлупа которого используется островитянами в качестве мисок; на У’иву чаще называется ука моа, то есть «еда вепря».
О’ана – год на У’иву (400 дней).
Ола’алу – доисторическая иероглифическая письменность на У’иву; в наши дни используется редко.
Тава – ткань, похожая на гавайскую капу; ее создают путем отбивания пальмовых листьев до клетчатки.
У’ака – самое жаркое время года, соответствует нашей осени (сто дней).
’Уака – сезон дождей, соответствует нашей зиме, продолжается сто дней.
Ука – вепрь
Умака – жир ленивца, используется как смазочный и полирующий материал.
Хавана – много
Хо’оала – белый человек
Хэ – я (перед прилагательным – я такой-то).
Э – «Да» или обобщенное приветствие (привет, доброе утро и т. д.).
Эа – «Смотри» (используется как команда).
Эва – «Что это?»
Экэ – животное
Благодарности
Я искренне признательна Норману Хиндли и Роберту Э. Хосмеру за их веру на ранних этапах; фонду «Вальпараисо» и Нью-йоркскому фонду искусств за их дары в виде времени и денег; Кайе Перине за ее остроумие и доброе имя; Дэвиду Эберсхоффу за советы и терпение; Джону Макэлви за юмор и поддержку; Рави Мирчандани за обаяние и страсть; Джиму Бейкеру, Кларе Гловчевской и особенно Керри Лауэрману – за бурное одобрение моих успехов (даже когда я не понимала, что тут одобрять); и Стивену Моррисону за его поддержку, постоянство, великолепные навыки наведения мостов и драгоценную дружбу.
Я бесконечно благодарна всем в издательстве Doubleday за энтузиазм и заботу, особенно Биллу Томасу, мудрой, утешительной и сверхкомпетентной Ханне Вуд и Джерри Говарду за заступничество и широту души, за то, что он вкладывается в свою редакторскую работу мудро, благородно и самоотверженно.
Прекрасной и несгибаемой Анне Стейн О’Салливан, которая верила в проект с первых шагов, чье мнение и советы драгоценны для меня, – моя вечная благодарность, уважение и привязанность. Эндрю Кидду, который спас меня в ключевой момент, без чьей блестящей редакторской смекалки и постоянной поддержки я бы потерялась, – моя глубочайшая благодарность.
Я обязана всем Джареду Холту, моему первому и самому любимому читателю (и в целом совершенному человеку) за его доброту, интеллект, терпение, мудрость и драгоценную близость – и я надеюсь, что он согласится принять мою невыразимую и неизмеримую любовь, благодарность, доверие и извинения. Иметь такого друга – счастье, которое должно озарять каждого.
И наконец, за все перечисленные проявления щедрости и доброты, за бесстрашное отношение, за мои вкусы я глубоко признательна своим родителям, Рону и Сьюзен. Мой отец, в частности, не только всегда приветствовал мои фантазии, но нередко и подталкивал меня к ним. За это – и по многим другим причинам – эта книга посвящается ему.
Примечания
1
В Пало-Альто, штат Калифорния, где я работаю по стипендии имени Джона М. Торренса в отделении иммунологии Медицинской школы Стэнфордского университета.
(обратно)2
А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 24 апреля 1998 г.
(обратно)3
А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 3 мая 1998 г.
(обратно)4
Когда я упоминаю У’иву, я имею в виду страну в целом, а не конкретный остров; как вскоре станет ясно, Нортон провел большую часть времени на острове Иву’иву.
(обратно)5
Оуэн, о котором говорит Нортон, – это Оуэн С. Перина, брат-близнец Нортона, один из тех немногих взрослых людей, с которыми у него на протяжении многих лет продолжались важные и осмысленные отношения. В отличие от Нортона, Оуэн всегда интересовался литературой; в наши дни он известный поэт и профессор поэзии по стипендии Филд-Пэти в Бард-колледже. Он дважды получал Национальную книжную премию США в поэтической категории: за сборник «Насекомые ноги и другие стихотворения» (1984) и «Книга под подушкой Филипа Перины» (1995), имеет и многие другие награды. Оуэн так же славится своей неразговорчивостью, как Нортон – громкими суждениями, и однажды, на рождественских каникулах у Нортона несколько лет назад, я наблюдал крайне интересный их диалог. Нортон расхаживал по гостиной с полной горстью орехов, плевал, жевал, жестикулировал, высказывался обо всем, от умирающего искусства пришпиливания коллекционных бабочек до странной привлекательности некоторого телевизионного ток-шоу, а напротив, сгорбившись его мрачным зеркальным отражением, сидел Оуэн, который время от времени что-то согласно или несогласно бормотал или хмыкал.
К сожалению, Нортон с братом сейчас непримиримо разошлись. Как станет ясно из этого повествования, их разрыв оказался внезапным и разрушительным; он стал результатом чудовищного предательства, которое Нортон никогда не сможет простить.
(обратно)6
Оуэн Перина написал довольно симпатичное стихотворение о своей матери и ее смерти; оно открывает его третий сборник, «Моль и мед» (1986).
(обратно)7
Можно лишь вообразить, какую жизнь могла бы прожить Сибил Мария Перина (1893–1945), родись она на пятьдесят лет позже. Великий профессор-медик и анатом Э. Исайя Уиткинсон, под чьим руководством она училась в Северо-Западном университете, даже писал про нее одному из своих коллег в 1911 году:
«[Эта] ученица наделена множеством талантов, равно как элегантностью и сноровкой. Научному сообществу остается лишь пожалеть, что она не сможет заниматься медицинскими исследованиями. Я даже настоятельно советовал [ей] подумать о поездке за границу с христианскими миссионерами – этот шаг, к сожалению, предоставил бы ей большую независимость и большие возможности, чем любой университет. Однако она отказалась – от неотступного ли желания остаться рядом с семьей (недостаток, свойственный многим студенткам) или опасаясь тяжелых трудов в неясных обстоятельствах, сказать не могу. Бесспорно, она способна заниматься любым ремеслом, хотя, скорее всего, прирожденный домашний консерватизм спутает ее тенетами какой-нибудь непритязательной провинциальной врачебной практики. Ей станет скучно; ей станет противно». («Жизнь врача. Письма Э. Исайи Уиткинсона». Под редакцией Фрэнсиса Клэппа. Нью-Йорк, «Коламбия-Юниверсити-Пресс», 1984.)
К сожалению, Сибил не опровергла мрачные, но пророческие предсказания Уиткинсона. Ее некролог в газете «Рочестерские безделицы» оскорбительно короток и отчаянно печален: «Доктор Перина работала врачом в Рочестере на протяжении тридцати с лишним лет… Она никогда не была замужем и наследников не оставила». Тем не менее Сибил все-таки оставила великое наследие; как не раз говорил Нортон, именно она направила его к миру научных открытий и возможностей. Так что неосуществленные мечты Сибил, можно сказать, возродились в одном из самых выдающихся медицинских умов современности: он добился для нее того, что было не под силу ей самой.
(обратно)8
Боюсь, что здесь я вынужден не согласиться с Нортоном. Но пусть читатель рассудит самостоятельно. Вот начало этой заметки:
Абрахам Нортон Перина. Родился в 1924 году в Линдоне, штат Индиана, США.
Где живет сейчас: Бетесда, штат Мэриленд, США.
Значимость: 7 [Примечание: по шкале от 1 до 10. Загадочным образом Галилею приписана десятка, как и Джонасу Солку. А Коперник заслужил лишь восьмерку.]
Все мы слышали, что никто не живет вечно. Но знаете ли вы, что есть люди, которым это все-таки удается? Честное слово! Доктор Перина – он живет в Мэриленде со своими многочисленными приемными детьми, их больше пятидесяти! – обнаружил в начале 1950-х годов племя людей, которые никогда не стареют. И все потому, что они едят мясо одной редкой черепахи! В результате своих исследований доктор Перина в 1974 году получил Нобелевскую премию по медицине.
Дальше в книге приводится неточное и упрощенное описание синдрома Селены.
(обратно)9
Филип Таллент Перина (прибыл в 1969 г.; ок. 1960–1975) – ранний приемный ребенок Нортона, один из его любимцев. Филип был худ, ребячлив и очень темнокож. Я не был с ним знаком, но по многочисленным фотографиям, которые хранились у Нортона, представляю себе его быстрым и подвижным; на любом снимке он как будто пытается вырваться у Нортона из рук и вообще из пределов фотографии. Несмотря на живость, Филип страдал от какой-то детской патологии мозга, и его физическое развитие тоже было затруднено, возможно, в результате голодания в младенчестве. Он был сиротой и чем-то вроде деревенского талисмана, когда Нортон привез его с У’иву в 1969 году. (До того как он оказался под опекой Нортона, его знали под именем, примерно означавшим «Эй, ты!».) В 1975 году Филип попал под колеса автомобиля, которым управлял пьяный водитель; в тот момент ему было около пятнадцати лет.
(обратно)10
Хотя сделать такой вывод после бесславной смерти отца было непросто, он скопил немалое состояние. Конкретная сумма так и не была раскрыта, но биографы Нортона считают, что ее хватило на беспрепятственную покупку дома в Бетесде, воспитание и образование детей. Нортон, наряду с Оуэном, должен был также унаследовать имущество Сибил.
(обратно)11
Я удивился, прочитав это признание. Очень удивился, по причинам, которые станут ясны читателю позже. Могу только сказать, что больше всего Нортон всегда опасался быть покинутым – он боялся, что люди, которых он любит, которым доверяет, в один прекрасный день окажутся с ним по разные стороны баррикад. (К сожалению, это опасение оказалось провидческим.) Но я уже отметил, что к его нынешнему положению привело не только предательство его детей, но и предательство Оуэна.
Интересно, что я узнал о существовании Оуэна только через четыре года после того, как познакомился с Нортоном. Когда я спросил его об этом много лет спустя, он лишь усмехнулся и заметил, что они в тот момент, должно быть, из-за чего-то поссорились. Подобные длительные периоды молчания и частые мелкие стычки были характерны для отношений Нортона с Оуэном, который, как он отмечает, был равен ему по глубине и широте знания и мнений (хотя, разумеется, не того же самого знания и иных мнений). Однако Оуэн отлично оттенял Нортона – возможно, это единственный человек, который был таким же блестящим, эксцентричным и страстным. Некогда я испытывал к нему очень теплые чувства.
(обратно)12
Гамильтон-колледж, диплом с особым отличием, 1946; Гарвардская медицинская школа, диплом с отличием, 1950. И Нортон, и Оуэн получили армейскую отсрочку в 1944 году. Нортон – из-за плоскостопия и хронического ишиаза, а Оуэн – из-за астмы и сильнейшего астигматизма.
(обратно)13
Известный профессор может выбрать одного или максимум двух своих самых многообещающих студентов, в том числе студентов-медиков, чтобы они работали в его лаборатории от одного до четырех семестров. Этих студентов, как правило, выбирают на основании их учебы, оценок за контрольные работы, целеустремленности и аккуратности.
(обратно)14
Трудно переоценить значение и роль Грегори Смайта в жизни научного сообщества 1940–1950-х годов. Пока его теории не вышли из моды, Смайт оставался одним из редких ученых, которые добились массового признания и известности; журнал «Тайм» 18 апреля 1949 года даже вышел с его портретом на обложке в сопровождении такого заголовка: «Грегори Смайт, Гарвардский университет: «У нашего поколения есть возможность победить рак».
(обратно)15
Нортон здесь немного увлекается сарказмом. Ряд онкологических заболеваний действительно связан с вирусными инфекциями (особенно папилломавирус человека, а также гепатит B и C); он издевается над убеждением Смайта, что любой рак напрямую связан с вирусными инфекциями.
(обратно)16
Когда выводы Смайта были опровергнуты, он попал в немилость, но трудно не признать, что виновником собственного унижения отчасти оказался он сам. Смайт славился высокомерием и имел множество неприятелей в академическом сообществе; когда ситуация обернулась против него, он сопротивлялся и оскорблял критикующих, вместо того чтобы просто с достоинством отступить в тень. Поскольку Смайт находился в должности пожизненного профессора, он оставался в Гарварде до самой смерти в 1979 году от рака печени (в чем была горькая ирония), хотя видно его было все меньше, и с 1968 года он был переведен, по сути дела, на постоянный испытательный срок.
Как и предполагал Нортон, у Смайта действительно была семья – жена и две дочери. Интересно, что в наши дни они, а не он, хорошо известны в контркультурных кругах как руководители небольшой, но влиятельной феминистской группы наподобие «Синоптиков», которую они основали в 1967 году. Нортон, вероятно, ужинал в доме Смайта вскоре после того, как его жена, поэтесса Элис Рив, бросила его и сбежала с детьми в Канаду со своей любовницей, профессором поэзии из колледжа Рэдклифф по имени Стелла Янович. Но это – сюжет для отдельной истории.
(обратно)17
Один из выдающихся хирургов и биологов своего времени, Адольфус Густав Серени (1896–1974) был одним из самых значительных преподавателей Гарвардской медицинской школы, когда там учился Перина. У них с Периной сложились плодотворные, а после напряженные взаимоотношения, о которых в этом повествовании еще пойдет речь.
(обратно)18
Контакт был на самом деле опосредованный: со Смайтом приятельствовал один из коллег Таллента в Стэнфорде, а не сам Таллент.
(обратно)19
Ныне Кирибати.
(обратно)20
Этот распространенный миф происходит, вероятно, от сочетания двух фактов: во-первых, все у’ивские мальчики получают копье на свое четырнадцатилетие; во-вторых, первый король этих островов, Улоло Могущественный – который объединил многочисленные племена, разбросанные по всему архипелагу, примерно в 1645 году; его дело было завершено королем Вакой I через сто с лишним лет – якобы голыми руками убил дикого вепря, когда ему еще не исполнилось четырнадцати лет. С тех пор вепрь занимал важнейшее место в у’ивской жизни: хотя это главный спутник охотника и символ свирепости этой цивилизации по отношению к внешнему миру, убийство или приручение вепря тоже считается важным достижением, доказательством силы и храбрости воина. Фундаментально двойственная природа этого животного в у’ивском обществе – он одновременно друг и противник, – кажется, никогда не беспокоила у’ивцев.
(обратно)21
Из всех персонажей, проследовавших за последние полвека по стезе антропологии, Пол Джозеф Таллент (1916–?), вероятно, остается самым удивительным и непознаваемым. Родившись, скорее всего, у матери из племени сиу, он с младенческих лет рос в сиротском приюте Святого Иосифа для мальчиков в городке Клауд-Прэри, непосредственно примыкающем к Пирру, Южная Дакота (территория города входит теперь в черту столицы штата, название он утратил). Приют Святого Иосифа был католическим детским домом с непропорционально большим количеством мальчиков-индейцев; он славился, в частности, тем, что обучал своих воспитанников различным ремеслам, в том числе сантехническим работам и плотницкому делу. Таллент привлек внимание одного из преподавателей, брата Петра (в миру его звали Майкл Таллент, и свою фамилию Таллент, несомненно, позаимствовал у него, поскольку по умолчанию всем мальчикам в приюте Св. Иосифа автоматически присваивалась фамилия Джозеф), который обучал его и обеспечил ему стипендию в школе Св. Франциска, католическом интернате в Пирре. В интернате Таллент учился превосходно и завоевал сначала стипендию Дартмурского колледжа (где получил диплом бакалавра гуманитарных наук в 1937 году), а затем Чикагского университета, где в 1941 году защитил диссертацию (как и Нортона, Таллента не взяли на военную службу, хотя на каком основании – неизвестно). Он действительно был, как отмечает Нортон, очень хорош собой, и этот факт способствовал возникновению той атмосферы героической романтики, которая позже стала его сопровождать.
Таллент слыл выдающимся молодым дарованием с первых же шагов в Чикаго, где он преподавал на протяжении трех лет после получения докторской степени, а затем и в Стэнфорде, ставшем его постоянным академическим обиталищем. В Чикаго он нашел себе наставника в лице выдающегося антрополога Лео Дюплесси, изучавшего в тот момент репродуктивные ритуалы народа хавава, небольшого племени из джунглей Папуа – Новой Гвинеи; несомненно, Дюплесси в значительной степени сформировал научные склонности и сферы интересов Таллента. Предполагается, что Дюплесси, который умер в 1943-м, помог Талленту организовать его первую поездку на У’иву в том же году, но в архиве Дюплесси такой информации нет, и судить об этом с уверенностью невозможно.
Среди многочисленных сетований биографов и ученых, которые позже занимались жизнью и деятельностью Таллента, главное место занимает отсутствие записок и каких бы то ни было личных материалов. Многие просто не могут поверить, что Таллент, так скрупулезно документировавший каждую подробность в полевых условиях, не оставил никакого дневника или по крайней мере переписки. Этот пробел, наряду с его трудами и исчезновением, которое по-прежнему остается загадкой (Нортон пишет об этом позже), разумеется, только подстегивает интерес к фигуре Таллента, так что несколько историков уже много лет пытаются составить его максимально полные жизнеописания. (Поскольку Нортон относится к числу тех людей, что работали с ним теснее многих в самый плодотворный период его исследований, к нему часто обращаются с просьбами об интервью и воспоминаниях.) Мне же кажется, что за эту задачу следует браться скорее романисту, нежели историку: к неразгаданным сторонам жизни Таллента относятся его сексуальная ориентация, его происхождение, подробности его детства, его любовная жизнь (или ее отсутствие) и, конечно, обстоятельства его смерти. Он предоставил плодотворную почву теоретикам заговора всех мастей, и в некоторых маргинальных сообществах гуманитариев даже почитается как некий мистик.
(обратно)22
Это не соответствовало действительности. Дафф, в тот момент преподаватель отделения антропологии Стэнфордского университета (она специализировалась на деревенской жизни Микронезии), сопровождала Таллента во время двух его предыдущих поездок на остров, но среди коллег ее никогда не считали специалистом по языкам, и следующее поколение специалистов по У’иву оценивало ее знание языка в лучшем случае как базовое. Однако она, безусловно, не торопилась исправлять завышенную оценку ее языковых способностей.
(обратно)23
Все три проводника были на У’иву охотниками на вепрей, которые в основном водятся в лесах на отрогах Та’имана; у охотников скапливается огромный опыт как в преодолении крутых подъемов, так и в передвижении по густым джунглям.
(обратно)24
Позже Нортон предполагал, что Таллент мог ссылаться на ряд экспериментов, которые проводил в приюте Св. Иосифа около 1910 года френолог по имени Марроу Аптон, чьи идеи о размере и строении черепа были в большой моде на рубеже веков. Аптон особенно любил утверждать, что индейцы были биологически обречены уступить свои земли европейцам, и это, как он утверждал, можно доказать обследованием их черепов – по его наблюдениям, они якобы меньше и легче, чем у различных народов Европы.
(обратно)25
Опа’иву’экэ остается единственной известной черепахой, которая может длительное время проводить как в пресной, так и в соленой воде.
(обратно)26
Буквально «мое копье, мое я».
(обратно)27
Идея ла – которую Нортон здесь переводит понятием «бессмысленно», хотя есть попытки объяснить ее как нечто более близкое к дзен-буддистской концепции му, «отсутствие» – это, возможно, самый главный принцип традиционной у’ивской философии (которую не следует путать с их мифологией или религией, по большей части анимистической).
В книге «Страна Ла» (Нью-Йорк, «Фаррар, Штраус и Жиру», 1987) теолог Дэвид Холт утверждает даже, что хотя буддизм никогда не достигал у’ивских берегов, ключевые ценности у’ивской системы верований «ближе к раннему буддизму, чем его современная интерпретация и повседневное азиатское бытование». Мы можем рассматривать у’ивскую философию, пишет Холт, как своего рода прабуддизм; это аргумент в пользу теории, утверждающей, что такая система верований – и, расширительно, другие мировые религии – была неизбежна, что ее каноны автоматически выстраиваются людьми.
У меня тоже есть история про ла, которую я навсегда запомнил после посещения У’иву в 1972 году. Было очень жарко, я чувствовал себя дезориентированным, меня шатало от влажности, от насекомых, от запахов. Проходя сквозь городской пейзаж, состоящий из нищих, полуразвалившихся хижин, я набрел на трех маленьких полуголых у’ивских девочек; они держались за руки и медленно ходили по кругу, напевая песню. У них были высокие, красивые голоса, какие бывают только у совсем маленьких детей – их приятно слушать, даже когда мелодия дает сбой, – и я смотрел, как они движутся по кругу и поют свою песню.
Позже, когда я рассказал это Нортону, он заметил, что точно знает, какую песню пели девочки. Считалку, предположил я. Но нет – это первые строки, которые выучивает у’ивский ребенок, это песнопение, которое звучит и во время родов, и во время похорон: «Что есть жизнь? Ла. Что есть смерть? Ла. Что есть солнце, вода, небо, лес? Ла. Что есть мой дом, моя свинья, мои бусы, мои друзья? Ла. Но что есть жизнь без моего копья? О, ла. Ла. Ла».
(обратно)28
В число многих особенностей, которые отличают у’ивцев от всех остальных цивилизаций, входит их способ измерения времени. У’ивская о’ана, то есть год, делится на четыре периода по сто дней. На его начало приходится ‘уака, или влажный сезон, когда дождь идет буквально каждый день, иногда несколько часов подряд. Потом наступает лили’уака, или сезон «маленького дождя», когда воздух все еще наполнен влажностью, но дождь идет реже и погода теплее. Следующий сезон, лили’ака, или «маленькое солнце», – самый приятный: по утрам идет дождь, но он быстро кончается, и остаток дня – солнечный и довольно сухой, насколько это вообще возможно в тропическом климате. Затем наступает у’ака, самый жаркий сезон, когда дождь проливается скупо и неожиданно и даже деревья словно бы вянут под беспощадным солнцем. (Хотя Нортон этого не уточняет, его странствия по Иву’иву, вероятнее всего, начались примерно в конце лили’уаки.)
Помимо этих четырех сезонов, у’ивцы удивительным образом не отмеряли никаких других временных промежутков: у них не было представления о часах, минутах, неделях или месяцах; даже их числительные доходили только до тысячи. День начинался с восходом солнца (или, во время ‘уаки, – когда небо светлело) и заканчивался, когда солнце садилось (или наступала ночь). Дни рождения отмечались по дню сезона, когда человек рождался, так что, например, если кто-то был рожден на семнадцатый день маленького солнца, он говорил, что ему исполнился год в лили’уака охололе, то есть в «маленькое солнце семнадцать». Это значит, что из-за четырехсотдневного года шестидесятилетнему у’ивцу на самом деле 65,7 лет по западному календарю. Нортон, впрочем, использует у’ивский календарь на протяжении всего своего рассказа во избежание путаницы, и так же поступало большинство исследователей У’иву в позднейших статьях и заметках.
За последние три десятилетия многие самые удивительные и оригинальные у’ивские традиции пришли в упадок в результате возросшего интереса к стране – за что Нортон всегда винил себя – и наплыва христианских и мормонских миссионеров, чьи усилия в духе двадцатого века позволили им закрепиться там, где их предшественники девятнадцатого века не справились. Сегодня большинство у’ивцев пользуются западным календарем и прекрасно владеют (но не обязательно пользуются: у’ивцы крайне консервативны) временными категориями, по которым живет цивилизованный мир.
(обратно)29
Это, разумеется, уже не так. Как и все люди на планете, у’ивцы стали выше и толще, теперь они дольше живут и поддерживают современный парадокс, согласно которому мы одновременно становимся более и менее здоровыми. Сегодня среднестатистический у’ивский мужчина живет до 63 лет (женщины, как правило, на год-два дольше), и хотя с введением водопровода и канализации дизентерия практически искоренена, основной причиной смерти как мужчин, так и женщин в настоящее время являются сердечно-сосудистые заболевания, о которых раньше на этих островах практически никто не слышал; теперь же, с учетом нового рациона, где много консервированных продуктов, и всеобщей любви к алкоголю, они стали удручающе привычными.
(обратно)30
У’ивцы и иву’ивцы говорят на одном языке, но лингвисты теперь считают, что иву’ивцы говорят на «чистом у’ивском», изначальном языке, неиспорченном и нетронутом, скажем, западным влиянием. Хороший пример – это слово, обозначающее хижину: на Иву’иву хижина называлась малэ’э, но на У’иву это слово превратилось просто в малэ, видимо, после длительных и сосредоточенных усилий педанта-миссионера XIX века по имени Дэниел Мейкпис, который решил избавить язык от всяких отвлекающих гортанных смычек и, как он выражался, «избыточных слогов». Язык иву’ивцев отражал быт людей, не просто незнакомых с остальным миром, но решительно ничего не желающих знать о технологии, занятости и даже, в значительной степени, о времени. Например, не было никаких слов, обозначающих лекаря (о беременных и больных заботились деревенская повитуха и деревенский травник), свет (электрический) или любую страну, кроме их собственной. Каким бы изолированным ни казался гостям остров У’иву, его жители, по крайней мере, имели какое-то представление о людях, нововведениях и культурах за пределами их собственного мира, даже если и не проявляли почти никакого интереса к знакомству с ними.
(обратно)31
Литопедион – «каменный ребенок» – это патология, при которой плод умирает в утробе и, будучи слишком большим, чтобы реабсорбироваться в организм (поскольку речь идет о смерти после первого триместра), он кальцифицируется, чтобы уберечь носителя от инфекции. При этом женщина может ничего не замечать на протяжении десятилетий, может прожить так всю жизнь, может даже родить других детей. Это явление, как отмечает Нортон, возникает крайне редко, остается чем-то вроде зловещего медицинского курьеза и в наши дни в цивилизованном мире практически не встречается.
(обратно)32
Девочки, как правило, выходили замуж в четырнадцатилетнем возрасте, так что если Иваива и Ва’ана говорили правду, в 1950 году им было примерно по 133 года.
(обратно)33
Но’ака – близкий родственник кокоса, круглый, похожий на тыкву плод, который растет на лозах (как арбуз) и вырастает примерно до размера мускатной дыни. На У’иву их обычно называют ука моа, то есть «плод-вепрь», из-за сходства жестких черных волосков, покрывающих поверхность плода, с щетиной вепря.
(обратно)34
Деревенские жители были погружены в свою лили’ику, или «маленький сон», который традиционно начинается после полуденного приема пищи и продолжается несколько часов. Лили’ика, вероятно, возникла в силу необходимости; в жаркие месяцы работать при клонящемся к закату солнце просто слишком трудно. Кроме того, иву’ивцы бодрствовали до поздней ночи, потому что именно в это время происходила самая активная охота (из числа любимой иву’ивской дичи многие животные – ночные).
Хотя миссионеры и не смогли, как замечает Нортон, привлечь на свою сторону большое число обращенных, их немногочисленные посланники все же убедили короля, что лили’ика – довольно отсталый обычай, который помешает расцвету страны, отчего король Туимаи’элэ в 1930 году отменил лили’ику, и это достижение миссионеров оказалось одним из самых значительных. Однако на Иву’иву традиция сохранилась, потому что, как отмечает Нортон, они ничего не знали про короля, не говоря уж о королевстве.
На этих страницах Нортон почти не упоминает короля Туимаи’элэ, но по всем свидетельствам это был незаурядный человек. Туимаи’элэ был ровесник двадцатого века (то есть в момент прибытия Нортона на остров ему было пятьдесят) и правил с двенадцатилетнего возраста. Его отношения с набирающими силу западными обычаями складывались непросто. С одной стороны, он, несомненно, слышал рассказы о том, как его дед король Маку запретил ка’ака’а, заклеймив этот обычай как варварский и отсталый, вероятно, под прямым влиянием протестантских миссионеров, у которых все еще оставалось небольшое прибежище на северном берегу У’иву. Но он слышал и рассказы о своем отце, короле Ваке’элэ, который в 1875 году еще был ребенком, но уже царствовал и изгнал последних миссионеров вскоре после катастрофического цунами, которое уничтожило большую часть их зарождающегося поселения.
Царствование Туимаи’элэ было отмечено крайне заинтересованным отношением к Западу – для короля это было место запретное и потому увлекательное, – с которым можно сравнить разве что крайнюю подозрительность к нему же. Говорят (хотя письменных свидетельств об этом нет), что Ваке’элэ особенно сильно разозлился на миссионеров, когда они ему сказали, что если он хочет стать христианином, то должен отказаться от своего копья. И тогда один-единственный приказ остановил продвижение поселенцев на У’иву, которое прерывистыми перебежками продолжалось на протяжении нескольких десятилетий: Ваке’элэ их запретил, и Туимаи’элэ вырос на У’иву, где белых людей не было вообще.
Но до запрета Ваке’элэ подружился с некоторыми миссионерами, один из которых – его имени история не сохранила – подарил ему набор книжек с картинками, и король, как рассказывают, передал его своему сыну. Хотя Туимаи’элэ почти не умел читать, книги доказывали существование мира, расположенного где-то в другом месте, и именно он позже пытался организовать дипломатические миссии в различных южнотихоокеанских странах.
К сожалению, он так и не позволил себе заниматься этим с полной отдачей, и У’иву так и оставался в тени на протяжении первой половины XX века, в течение которой Запад то вспоминал про эти острова, то забывал о них, – пока Таллент и Нортон силой не вернули их в массовое сознание.
(обратно)35
В предыдущих пересказах этого сюжета Нортон намекал, что это мог быть человек. Журналист «Нью-Йорк таймс» Майло Смоук обильно цитирует Нортона в своей книге «Потерянные мальчики» (Нью-Йорк, «Харпер Коллинз», 1989), и тот, по его словам, сообщил следующее: «Первое, что мы увидели, войдя в деревню людей опа’иву’экэ, – это костер, горевший днем и ночью. Над ним было растянуто существо, которое я не мог с точностью определить, – это явно было млекопитающее, потому что на его макушке все еще виднелись небольшие черные волоски, которые лопались, как разогретое стекло. Но голова его была слишком велика для собаки, а конечности слишком длинны для вепря. Глядя на него, я стал подозревать, что это может быть какой-нибудь примат, хотя до сих пор я ни разу не видел там никаких обезьян такого размера, но додумать мысль до конца и прийти к неизбежному выводу мне было слишком страшно» (298).
(обратно)36
Деревенские жители тщательно следили за состоянием своих запасов; даже позже, когда внешний мир стал более напористо проникать в их общество, и времени, как и желания, охотиться у них стало меньше, они всегда заботились о том, чтобы запасов еды им хватило как минимум на целый сезон. (Никто не отвечал за выполнение этого задания; скорее, к каждой из складских хижин был приставлен человек, отвечавший за ее наполнение; эта обязанность переходила к очередному взрослому жителю деревни каждую о’ану.) Но хотя поддержание запасов было делом постоянным и круглогодичным, большая часть работы – сбор ягод и плодов, копчение, сортировка, охота на дичь и так далее – в реальности происходила в течение лили’уаки, сезона «маленького дождя». Нортон, разумеется, прибыл в конце этого периода и видел, соответственно, свежие запасы, накопленные в течение предыдущих трех месяцев.
(обратно)37
В традиционной культуре Иву’иву все дети были общими. Хотя каждую ночь они спали со своими родителями в своих малэ’э, ответственность за их кормление и воспитание распределялась среди всех деревенских взрослых. Вот почему многие из ранних поколений нортоновских детей были с У’иву: там старинный метод общинного воспитания сменился более традиционным западным подходом (вероятнее всего, наследие миссионеров), а это означало, что дети без родителей или с родителями, неспособными ни за кем следить, оказывались предоставлены сами себе и остальные взрослые в этом сообществе их не усыновляли и о них не заботились. Поэтому на У’иву никто не возражал, если Нортон объявлял кого-то из этих ненужных детей своим.
(обратно)38
Этот ручей, который, как позже выяснилось, протекал через весь остров, был главным источником воды для деревни и использовался как место для питья, купания и, по свидетельству Нортона, для игры. Много лет спустя было обнаружено, что остров также покрыт целой сетью подземных рек, которые деревенские жители успешно использовали в мясной хижине.
(обратно)39
Большая часть деревенской жизни проходила на открытом воздухе. Во время лили’уаки жители носили самодельные зонтики из листов лава’а, которые прикрепляли к заостренным концам пальмовых стеблей; у каждого был свой зонтик, и он таскал его за собой и садился под ним, если начинался дождь. Только во время ‘уаки, сезона «большого дождя», жителям приходилось проводить большую часть времени в хижинах, и они это ненавидели, по большей части сидя у входа в свои малэ’э с мрачным видом и перекрикиваясь друг с другом на фоне раскатов грома. Нортон однажды сказал мне, что не мог понять, почему они просто не воздвигли один большой навес, под которым на время дождей могли бы собраться все.
(обратно)40
Как ни удивительно, деревенские жители не только не были близко знакомы с морем, они вообще ничего о нем не знали. У Таллента есть рассказ о деревенском жителе, которого впервые отвели к морю, и он принял его за «небо без облаков». Бедняга решил, что мир перевернулся вверх ногами и он входит в царство Пу’уаки, богини дождей. См. статью Пола Таллента «Остров без воды: мифология и изоляционизм Иву’иву», Журнал микронезийской этнологии (лето 1958 г., том 30, с. 115–132).
(обратно)41
Четыре ритуала, о которых Нортон вскользь упоминает, подробно описаны в главной книге Таллента об Иву’иву, «Люди среди деревьев: пропавшее колено Иву’иву» (Нью-Йорк, «Саймон и Шустер», 1959), которая стала одним из классических трудов современной антропологии. Последняя церемония – во время которой восемь деревенских жителей танцуют вокруг огня и каждый прижимает ящерицу к голове – это довольно таинственный обряд под названием туа’ина, который повезло увидеть Нортону, – он справляется только во время частичного лунного затмения. (У иву’ивцев есть сложная система отслеживания фаз луны, тоже в интереснейших подробностях описанная в «Людях» Таллента.) В у’ивской культуре ящерица – в данном случае речь идет о редком пресмыкающемся под названием э’олу’экэ – считается символом луны, а у луны насчитывается восемь фаз. Во время частичного затмения особым образом выбранная группа деревенских жителей оказывает почтение луне, призывая ее вернуться в свое нормальное состояние; ящериц прижимают к голове в знак уважения и затем жертвуют огню, чтобы дым поднялся вверх и его аромат ублажил небесных богов.
(обратно)42
Эсме Дафф, «Жизнь среди бессмертных: Иву’иву и его обитатели» (Нью-Йорк, «Харпер и Роу», 1977). Это довольно сентиментальные мемуары о вылазках Дафф на остров. Как отмечает Нортон, Дафф была отличным летописцем мелочей деревенской жизни – она с невероятными подробностями описывает содержание разных складских хижин, – но в ее описании людей есть что-то приторное: дети описываются как «растолстевшие херувимы», а у женщин, по ее свидетельству, «нежные глаза». Церемония а’ина’ина не упоминается, как и упражнения по избиванию ленивца, которые подробно описывает Нортон. О Нортоне, чье участие в первой экспедиции 1950 года она немногословно признает, в книге есть только один длинный абзац, часть которого я привожу:
«Позже Перина почти в одиночку погубил этот остров… Вряд ли он когда-либо интересовался культурой Иву’иву, не говоря уж о самих островитянах – это очевидно по его намеренному пренебрежению самыми священными табу этого народа… Хотя его ошибочно считают первооткрывателем «бессмертия» – как будто бессмертие вообще можно открыть, – он всегда больше интересовался, по-моему, личным бессмертием, без всякого внимания к судьбам людей, которых ему приходилось использовать для этой цели».
К сожалению, книжку Дафф перестали допечатывать в 1980 году, всего через три года после издания.
(обратно)43
Получив эту главу, я написал Нортону письмо, в котором спросил, посылал ли он статью с описанием а’ина’ины в какой-нибудь антропологический журнал. Он ответил, что посылал, и даже не раз, но а’ина’ина, видимо, до такой степени входила в противоречие с представлением об идиллическом и миролюбивом обществе, выдвинутым постталлентовским поколением специалистов по У’иву, что этот отчет так никогда и не был опубликован. Можно только надеяться, что вторая, свежая волна у’ивуистов сможет окинуть остров менее романтическим и более трезвым взглядом, чтобы пересмотреть устоявшиеся представления о тамошней культуре, особенно те, что относятся к детям и к сексуальности.
(обратно)44
В отличие от У’иву, должность деревенского вождя на Иву’иву была заслуженной, а не наследуемой. Как правило, она присуждалась мужчине, который первым убивал дикого вепря до своей ма’аламакины. Завоевав эту честь, юноша, как правило, не вступал в должность до смерти или добровольного отречения действующего вождя.
(обратно)45
Нортон не сообщает этого напрямую, но, помимо татуировки, еще одним указанием на недавнюю вака’ину было внезапное стремление к украшательству. Человек, достигший шестидесяти о’ан, чем-нибудь непременно украшался – ожерельем, клобуком, тканевой лентой (разумеется, позже, при смене обстоятельств, эти предметы часто терялись). У этих одежных деталей, видимо, не было никакого особого значения, скорее они просто напоминали остальным деревенским жителям о новом статусе и выдающемся достижении такого-то почтенного человека.
(обратно)46
Нортон позже говорил мне, что одно из его самых больших сожалений, относящихся к тому времени, – что он не взял с собой Иваиву и Ва’ану, и я действительно всегда недоумевал, почему он этого не сделал, ведь они были близнецы и исследовать их было бы особенно интересно. Но Нортон сказал, что в то время ему казалось, будто он сможет успешно управлять только четырьмя особями, и он решил, что важнее отследить отличия между двумя кровными родственниками из разных поколений, а это означало, что близнецов придется оставить на острове.
(обратно)47
Иву’ивуанский метод избавления от мертвецов и сохранения памяти о них интересен в первую очередь прагматическим подходом, особенно если учесть, с каким энтузиазмом и радостью они отмечают более повседневные жизненные события. Мертвецы в течение одного дня лежат в центре деревни с ветками лава’а на глазах. Ночью, после готовки ужина, их кладут на костер и оставляют гореть на всю ночь. (В своей книге Таллент, наблюдавший одну из таких кремаций под открытым небом, с поразительной живостью описывает, как на протяжении ночи по деревне разносятся негромкие хлопки вроде фейерверка, когда разные органы взрываются и их содержимое закипает на огне.) На следующее утро огонь гасят, останки собирают, и кто-то из родственников умерших отправляется хоронить их под деревом на окраине деревни (у каждой семьи есть определенное количество деревьев, выделенных для подобных случаев). Таллент отмечает, что дни смерти окружены не плачем и не скорбью, а «торжественным, почти величественным чувством покоя и созерцания. Ближайшие родственники покойного продолжают участвовать в повседневных ритуалах, но их молчание, их прерванный гомон в этом шумном и тесном сообществе становится отдельным ритуалом, и другие деревенские жители не отвлекают их, пока скорбящие не выказывают намерения вернуться к общинной жизни. Иногда этот молчаливый траур продолжается лишь несколько дней, иногда растягивается на месяцы. Но он отчетливо демонстрирует отдаление от места, где все происходит здесь и сейчас, возможность одиночества в окружении многолюдной толпы» (Таллент, «Люди среди деревьев», с. 178).
(обратно)48
Как указывает сам Нортон, в Стэнфорде он попал в крайне необычное положение. Необычнее всего тот факт, что источник его финансирования так и не был надежно определен, даже по прошествии многих лет. В своей книге Кэтрин Хетерингтон рассматривает две возможные кандидатуры. Первая (и весьма колоритная) – это человек по имени Руфус Грипшоу, невероятно богатый и эксцентричный выпускник Стэнфорда, разбогатевший благодаря изобретению вакуумной закаточной машины, которая теперь используется на многих пищеперерабатывающих заводах; он был одержим идеей бессмертия. Хетерингтон предполагает, что Таллент рекомендовал Нортона декану медицинской школы и попросил его привлечь Грипшоу как тайного благотворителя, который профинансировал бы работу со сновидцами. Хотя это увлекательная теория – конечно, Грипшоу был в высшей степени лично заинтересован в проекте Нортона, – она исходит из предположения, что Таллент способствовал работе Нортона в гораздо большей степени, чем сам Нортон склонен признать (или поверить). Конечно, здесь мы сталкиваемся с очередной ситуацией, когда отсутствие архива документов и дневников Таллента делает воссоздание истории, не говоря о его собственных мотивах, крайне проблематичным. В последующие годы Нортон ни разу не мог с уверенностью сказать, что именно Таллент думает о нем и о его работе, и несложно представить, что сам Таллент сомневался, хочет ли он сотрудничать с Нортоном, и если да, то как именно. (С другой стороны, он, в сущности, оказался соучастником Нортона в деле переправки сновидцев в Америку.)
Помимо Грипшоу, как предполагает Хетерингтон, Нортона могла финансировать, как он сам выражается, «какая-то таинственная нелегальная касса», которая поддерживала правительственное агентство, заинтересованное в разработке новых лекарственных средств. На первый взгляд кажется, что такое предположение полностью основано на авантюрах в духе плаща и шпаги, но это не совсем так. Ведь речь о 1950 годе, всего пять лет назад окончилась мировая война, и в тот момент огромные деньги направлялись не только в младенческую еще область вирусологии, но и на самую раннюю стадию разработки биологического оружия. Абсолютно не исключено, что Стэнфорд был одним из университетов, выделивших грант на подобного рода исследования и эксперименты, а Нортон оказался его достойным получателем. (Кэтрин Хетерингтон, «Истинный маленький остров», Нью-Йорк, «Пантеон», 1992, стр. 205–218)
(обратно)49
Нортон между тем был занят рядом внепрограммных дел, самым важным из которых оказалась статья, опубликованная в апреле 1951 года в «Анналах герпетологии», где он описывает опа’иву’экэ как ранее не известную морскую и пресноводную черепаху. Это краткая, но на удивление симпатичная статья, она свидетельствует, что Нортон тоже подробно фиксировал происходящее на острове; его описание деятельности и поведения опа’иву’экэ (ныне официально известной как Chelonia perinia) цитировалось в последующие десятилетия бесконечное количество раз. Помимо удовлетворения от открытия и наименования нового вида, эта статья также заложила необходимое основание для другой будущей статьи Нортона, знаменитого «Утверждения о бессмертии», опубликованного им почти два года спустя.
Статья по герпетологии привлекла большое внимание к Нортону в зоологических кругах, и на протяжении некоторого недолгого времени он даже думал сконцентрироваться на этой области; единственное, что его остановило, как он позже понял, – полное отсутствие страстного интереса к рептилиям. Впрочем, заметкой Нортона не все были довольны; в своих мемуарах Дафф утверждает, что истинными первооткрывателями опа’иву’экэ были они с Таллентом и это почетное звание принадлежит именно им. Однако, даже если бы это можно было доказать, все ученые знают, что, справедливо или нет – соображения справедливости на этом этапе вообще-то не имеют особого значения, – первооткрывателем считается тот, кто впервые описывает открытие в научной литературе, а не тот, кто просто отмечает событие в своих записках или дневниках.
Неизвестно, что думал Таллент про отчет Нортона об опа’иву’экэ. Немногие его сохранившиеся бумаги ничего подобного не упоминают, и Нортон никогда не ссылался на какие-либо их разговоры об этом.
(обратно)50
Статья Таллента, разумеется, содержала ссылку на опубликованную ранее работу Нортона.
(обратно)51
Нортон Перина, «Некоторые замечания о долгожительстве среди представителей народа Иву’иву», «Анналы эпидемиологии питания» (декабрь 1953), том 42, с. 324–328.
(обратно)52
Революционная статья Нортона (известная как «Утверждение о бессмертии») была не единственной перчаткой, брошенной в тот год в лицо медицинским и научным стереотипам. В апреле Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали в журнале «Нейчер» свою краткую статью – «Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты», – в которой впервые была описана двойная спираль ДНК. В сочетании с открытием Нортона это привело многих историков науки к провозглашению 1953-го «годом чудес» – конечно, не без иронии, ведь эти ученые своими исследованиями пытались именно что опровергнуть чудеса.
Хотя Нортон, разумеется, придерживался высокого мнения о научных достижениях Уотсона, как человек Уотсон в целом не производил на него благоприятного впечатления – он считал, что тот слишком увлечен погоней за женщинами (о чем Уотсон подробно рассказывает в своих воспоминаниях «Гены, девушки и Гамов», Нью-Йорк, «Кнопф», 2002) и жаждой славы, которая не утихает по сей день.
(обратно)53
Цель первых трех экспериментов Нортона заключалась в том, чтобы доказать, что мыши, получившие дозу опа’иву’экэ, после единственного такого кормления проживут в среднем существенно дольше своего стандартного жизненного срока, восемнадцати месяцев. Из группы А (двадцать пять пятнадцатимесячных мышей) 81 процент продолжал жить, а это означало, что медианный возраст выживания на сентябрь 1953 года, когда Нортон представил свою статью к публикации, составлял 46 месяцев; иными словами, продолжительность их жизни почти утроилась. Из группы C – сотни мышей, тоже получивших дозу опа’иву’экэ в возрасте пятнадцати месяцев, – 79 процентов были живы в возрасте 41 месяца, а это означало, что их продолжительность жизни выросла на 150 процентов. У контрольных групп из экспериментов А и C – тех мышей, которым были скормлены порции коробчатой черепахи, – продолжительность жизни составляла в среднем 17,8 месяцев, иными словами, не отличалась от обычной. В первой статье Нортона не обсуждались объекты из группы B (пятьдесят новорожденных мышат, получивших опа’иву’экэ в детском возрасте). Как ни удивительно, все они были живы в момент написания статьи, когда им был 31 месяц. Но поскольку в тот момент нельзя было доказать, что продолжительность их жизни удвоилась от поедания черепахи, Нортон решил, что публиковать эти результаты преждевременно.
Научная значимость эксперимента, проведенного Нортоном, была двоякой. Во-первых, он доказал, что жизненный срок организма может управляться внешним элементом. Во-вторых, он установил, что увеличенная продолжительность жизни – которую он назвал «представимым бессмертием» – может достигаться путем поглощения этого элемента. Всего за два года он решил загадку, мучившую все цивилизации мира от начала времен. Поэтому не приходится удивляться, что его открытия были встречены так страстно и яростно, – ведь подобную реакцию может вызвать только страх.
(обратно)54
Нортон использовал для кормления мышей переднюю левую ногу опа’иву’экэ в первом и втором экспериментах и заднюю правую ногу в третьем. Он послал Серени обе оставшиеся ноги, правую переднюю и левую заднюю, чтобы Серени мог воспроизвести его данные с максимальной точностью. В итоге Серени использовал для своего опыта левую заднюю ногу.
(обратно)55
Это, по сути дела, было повторением третьего эксперимента Нортона. 14 марта 1954 года Серени запустил эксперимент, в ходе которого скормил сотне пятнадцатимесячных мышей порцию опа’иву’экэ. Контрольная группа, тоже из ста мышей, получила мясо такой же коробчатой черепахи, какую использовал Нортон. За этим последовало изобилующее техническими деталями обсуждение количества черепашьего мяса, предназначенного для каждой из групп; посвященная данному вопросу переписка в полном объеме хранится среди бумаг Серени в архиве Гарвардской медицинской школы.
(обратно)56
Нортон, вероятно, имеет в виду Джеймса Уотсона, которому в 1955 году было всего двадцать семь лет.
(обратно)57
Чуть более высокий коэффициент выживаемости, чем у мышей Нортона, что может не иметь существенного значения по причинам, которые объяснены в следующем примечании.
(обратно)58
Неизвестно, почему Серени решил представить свою статью к публикации в момент, когда мышам было только сорок месяцев, и не дождался их сорокашестимесячного возраста – столько было мышам Нортона, когда он представил свою статью.
(обратно)59
Адольфус Серени, «Отклик на статью Нортона Перины «Некоторые замечания о долгожительстве среди представителей народа Иву’иву», «Ланцет», 268, выпуск 6940 (1 сентября 1956 г.), с. 421–428. Интересно, что именно Серени в результате назвал деревенских жителей Иву’иву «людьми опа’иву’экэ с Иву’иву». У островитян не было никакого самоназвания – они были просто у’иву’иву, «жители Иву’иву», – так что вымысел Серени стал в конечном итоге обиходным наименованием. Он же позже назвал изучаемое состояние «синдромом Селены». (До аспирантуры Серени изучал классическую филологию и славился среди студентов любовью к мифологическим аллюзиям и отсылкам. Говорили, что для успеха на его занятиях не мешало бы знать разницу между трахеей и таламусом, но гораздо важнее было знать разницу между Тиринфом и Тартаром.)
(обратно)60
Оуэн Перина, «Бродячее небо», стихотворения (Сан-Франциско, «Сити Лайтс», 1956).
(обратно)61
В 1993 году вышла нашумевшая и вызвавшая многочисленные споры книга, где утверждалось, что Таллент не только прекрасно знал о совершенной Нортоном краже, но знал также, что поедание опа’иву’экэ приводит к существенному увеличению срока жизни и к последующим когнитивным проблемам. В этой книге, которая называлась «Остров пустоты. Пол Таллент и его наследие» (Нью-Йорк, «Фабер и Фабер»), Генри Гомбрехт, историк из Университета Уильямса, утверждает, что Таллент не объявлял о своих открытиях, опасаясь, что остров подвергнется нашествию ученых и коммерсантов. Он также утверждает, что, когда Нортон пришел к тем же выводам и Таллент это понял, Таллент с Эсме намеревались убить Нортона или бросить его на Иву’иву, но в последний момент Талленту не хватило духа осуществить свой замысел. Кроме того, Гомбрехт видит в последующем исчезновении Таллента своеобразное умышленное покаяние за собственную роль в уничтожении острова, хотя с забавной научной осторожностью не позволяет себе поразмышлять, покончил ли Таллент с собой (как считают многие) или просто ускользнул в какую-то небольшую и недоступную часть мира.
При всей впечатляющей убедительности построений Гомбрехта крайне сложно понять, где он мог найти для них доказательства, учитывая, что никаких личных записок Таллента так никто и не обнаружил. Впрочем, Гомбрехт (который, по крайней мере, проявил завидное упорство, столкнувшись с негодованием, вспыхнувшим после публикации книги) утверждает, что у него есть некоторые страницы из первых иву’ивских дневников Таллента, доставшиеся ему от анонимного дарителя. Однако поскольку, во-первых, он отказался предоставить эти документы для аутентификации и даже показать их кому-либо из коллег и, во-вторых, куда логичнее представить себе страницы этого дневника в руках Эсме Дафф, которая умерла в 1982 году, когда Гомбрехт еще учился в аспирантуре и вряд ли был с ней знаком, и у самого Нортона, который, безусловно, предложил бы подобные сведения гораздо более уважаемому и надежному академическому источнику, если бы они существовали, в достоверность утверждений Гомберхта непросто поверить, не говоря уж о том, чтобы их подтвердить.
(обратно)62
Это одна из неразрешимых загадок необычайно загадочной жизни Пола Таллента. На этот счет выдвигались многочисленные теории, но вот две самые живучие (это не значит, что они самые достоверные): либо Таллент оказывал королю сексуальные услуги, либо как-то сумел убедить его в своей божественной природе. Свидетельства в пользу первой теории таковы: король был известен своей, как сказали бы сейчас, бисексуальностью; у него было не только множество жен, но и множество любовников-мужчин. Все его жены довольно близко соответствовали традиционному идеалу у’ивской женской красоты – они были приземисты и широкобедры, с круглыми глазами слегка навыкате и очень темными волосами, – но в выборе спутников-мужчин король отличался гораздо большим вольнодумством, до такой степени, что активно интересовался мужчинами нестандартной наружности (что на расово однообразном У’иву представляло непростую проблему). В книге, опубликованной в 1986 году, Гарриет Максвелл, представительница второй волны антропологов, изучавших У’иву, предполагает, что во время своей первой поездки на остров, в 1947 году, Таллент на короткий, но важный период стал главным любовником короля, некой драгоценной диковиной в коллекции его величества (неизвестно, был ли Таллент практикующим гомосексуалом в повседневной жизни, но пусть бы даже и был – если эта история правдива, она многое говорит о его амбициях и целеустремленности). Их сексуальные отношения продолжались недолго – хотя Максвелл утверждает, что Талленту потом приходилось спать с королем при каждом посещении островов, – но он явно завоевал доверие короля и стал единственным представителем западного мира, которому на протяжении многих лет был дозволен неограниченный доступ к Иву’иву.
Однако позже Таллент потерял эксклюзивные права на остров – отчасти, как предполагает Максвелл, из-за того самого просчета, о котором говорит и Нортон: в конечном счете оказалось, что искусить короля все-таки можно. Не деньгами – в этом Таллент не ошибался, – но вещами. Фармацевтические компании, исследователи и разные последовавшие за ними прилипалы смогли купить доступ на остров с помощью даров: от самолетов, лодок, холодильников и других приборов (хотя электричество не было широко доступно на островах до 1972 года) до разной гораздо более дешевой ерунды. Национальный музей У’иву в Таваке полон витрин с этими сомнительными реликвиями – зажигалками, проигрывателями, сигарами, чемоданами на колесиках; многочисленные ученые дарили такой хлам в надежде, что король за это предоставит им доступ к чудесам Иву’иву. (Самый печальный и циничный подарок в королевской коллекции – книга, где на обложке изображен король и написано название «Его королевское величество Туи’маи’элэ – великий король У’иву». На самом деле это заново переплетенная биография Авраама Линкольна. Но король не умел читать по-английски, и не исключено, что он был польщен, что он удивлялся своей заморской славе. Подарок приписывается «американскому ученому из Нью-Йорка, США, 1964» – к этому времени фармацевтические компании прочесывали Иву’иву в поисках опа’иву’экэ.) («Исчезающий остров: таинственная жизнь Пола Таллента».)
Вторая теория – что Таллент убедил короля в своей божественной природе – принадлежит другому специалисту по У’иву из второго поколения, Энтони Флэглону. В статье 1990 года, опубликованной в журнале «Анналы антропологии», Флэглон пересказывает историю, якобы сообщенную ему сыном одного из королевских советников, который утверждает, что его отец видел, как Таллент «склоняется над его величеством и что-то напевает благозвучным и глубоким голосом, а его величество лежит на своих подушках с зачарованно открытым ртом». Даже если закрыть глаза на слово «благозвучный» (которое трудно себе представить в словаре неграмотного у’ивца, будь он хоть королевский советник), есть причины не доверять этому рассказу. Во-первых – как и отмечает Флэглон, – Таллент воспитывался в католическом приюте и, скорее всего, исполнял какие-то церковные песнопения, чтобы развлечь короля, а вовсе не для того, чтобы его околдовать. Во-вторых, конечно, никакого колдовства не бывает. Еще важнее тот факт, что среди ближайшего окружения короля, включая его детей и других придворных, Флэглону не удалось найти никого, кто мог бы подтвердить слова сына советника («Анналы антропологии», том 48, № 570, с. 134–143).
Интересно, что статья Флэглона вызывала новую вспышку аргументов в пользу первой теории; еще один из ученых второго поколения, профессор из Университета Макгилла по имени Хорас Грей Хосмер, предположил, что советник на самом деле видел, как Таллент соблазняет короля перед началом некой экстатической сексуальной оргии. («Новый взгляд на таинственную жизнь ученого: вдалеке от У’иву», Нью-Йорк Таймс, 27 марта 1991.)
(обратно)63
Фа’а был третьим сыном в уважаемой семье охотников на диких вепрей; во всей Таваке они славились как люди благородные и смелые. Но у’ивцы настолько опасались Иву’иву, что длительное путешествие Фа’а на этот остров – да еще и в компании трех хо’оала – сильно повредило как его репутации, так и доброму имени его семьи. Когда стало известно, что он погиб на острове, его семья (за исключением, следует отметить, жены) прокляла его и позже от него отреклась. Нортон говорил мне, что среди жителей Таваки ходили слухи о предполагаемой судьбе Фа’а: что его съели иву’ивцы (популярный сюжет), что он стал одним из них или, совсем уж непростительное, что он стал тем существом, на поиски которого отправлялся, той помесью нечеловека и незверя, что все еще бродит по острову, – мо’о куа’ау.
Маловероятно, чтобы Фа’а признался Уве и Ту, что он, пусть случайно, дотронулся до опа’иву’экэ, – табу было слишком мощным. Но вовсе не исключено, что они каким-то образом сочинили легенду, которая выставляла их в роли невольных и поэтому ненаказуемых участников в замысле Фа’а. Во всяком случае, они присоединились к остальным членам клана, прекратившим общаться с женой и детьми Фа’а, хотя, по слухам, время от времени снабжали их пищей и припасами.
Судьба жены и детей Фа’а остается неизвестной. Поскольку у всех жителей У’иву общая фамилия – в данном случае все трое были Утуимаи’элэ, то есть «принадлежащие Туимаи’элэ», как родившиеся в правление этого короля, – Нортон впоследствии не смог их разыскать. Эта неуловимость навела его на мысль, что они все-таки были вынуждены в конечном счете отказаться от Фа’а как от мужа и отца, чтобы воссоединиться с обществом, или же согласиться на обращение, которое предлагали христианские миссионеры, заполонившие остров в течение следующего десятилетия.
(обратно)64
Позже Нортон собрал многие из этих иллюстраций и описаний в книге под названием «Разукрашенное море: путеводитель натуралиста по Иву’иву» (Нью-Йорк, «У. У. Нортон», 1972). Он считается первооткрывателем как орхидеи (Miltonia perinia), так и насекомого, родственного жуку-рогачу (Draco perinia). Прекрасные образцы жука хранятся в Американском музее естественной истории и в Смитсоновском институте, но для орхидеи ботаники не сумели создать подходящие условия произрастания нигде, кроме верховий Амазонки в Бразилии и долины вулкана Ваиалеале на гавайском острове Кауаи.
(обратно)65
Во время первого путешествия к черепашьему озеру с Муа Таллент начертил приблизительную карту дороги, но Нортон боялся попросить ее – хотя он говорил мне, что рылся однажды ночью в рюкзаке Таллента, когда тот спал, однако найти ее не сумел. К сожалению, ныне эта карта недоступна ученым, как и остальные бумаги Таллента.
(обратно)66
Сотня, которую взращивали с возраста пятнадцати месяцев.
(обратно)67
«Ухудшение когнитивных показателей у испытуемых, потреблявших иву’ивскую черепаху опа’иву’экэ», «Анналы эпидемиологии питания» (январь 1958), том 47, с. 259–272.
(обратно)68
Как минимум на протяжении десятилетия после прибытия в США сновидцы продолжали демонстрировать (по крайней мере, в физическом плане) рефлексы и состояние здоровья, типичные для шестидесятилетних людей. Позже их уровень холестерина, сердечный ритм, объем легких и плотность костной ткани существенно ухудшились, что Нортон объяснял их нарушенным рационом и нехваткой физической активности. Однако без доступа к контрольной группе на Иву’иву сделать окончательные выводы не представляется возможным. (Дополнительные пояснения содержатся в примечании 74.)
(обратно)69
Переход в Национальные институты здравоохранения подвел черту еще под одной главой. За месяц до того, как Нортон покинул Стэнфорд, оставшиеся мыши из первой группы его первоначального эксперимента умерли в возрасте 120 месяцев. Входившие в группу C умерли вскоре после его перехода в НИЗ, как и голыши из группы B – все в возрасте от 118 до 121 месяца, более чем вшестеро превышавшем их естественную продолжительность жизни.
(обратно)70
Препарат сохранился в НИЗ, и его можно увидеть, получив специальное разрешение.
(обратно)71
Уве в это время было около пятидесяти двух лет.
(обратно)72
Нортон неопровержимо доказал, что потребление опа’иву’экэ вызывает невероятное растяжение жизненного срока. Он, однако, не знал – как и все остальные, – отчего это происходит. Нортон не был в этом виноват; сложность заключалась в том, что наука на тот момент не могла даже сформулировать задачу, не говоря уж о том, чтобы найти ее решение. Вы не должны забывать, что изучение генетики, как мы это сейчас называем, – крайне незрелая отрасль; как отмечает Нортон, к моменту, когда наука созрела достаточно, чтобы предполагать, что воздействие опа’иву’экэ продлевало жизненный срок организма за счет деактивации теломеразы, было уже слишком поздно. (Упрощенно говоря, теломераза – это естественный фермент, который расщепляет теломеры и таким образом ограничивает число делений каждой клетки; при отсутствии теломеразы клетки становятся «бессмертными», и человек перестает стареть. Предполагается, что опа’иву’экэ останавливает действие теломеразы в большинстве клеток организма, но по какой-то причине не замедляет этот процесс в определенных областях головного мозга. Вот почему при удивительной сохранности тела и определенных областей мозга – особенно тех, что регулируют слух и крупную моторику, – части мозга, отвечающие за мелкую моторику, зрение и рассудок, приходят в упадок.)
Но такова жизнь любой науки. Человек что-то открывает. Он не знает, что это, для чего оно, какие задачи оно может решить, он только знает, что обнаружил очередной фрагмент головоломки, об общем размере и узоре которой может в лучшем случае лишь догадываться. Он проводит оставшуюся жизнь в поисках следующего кусочка, но поскольку он даже не представляет, что именно ищет, это очень тяжелый труд, и добиться успеха на таком пути почти невозможно. Потом появляется представитель следующего поколения. Он видит найденный кусок головоломки и находит следующий. Теперь их два. А потом три, четыре, пять. Но ни на каком этапе, сколько бы кусков ни было найдено, никто не может утверждать, что видит окончательные очертания картины. Когда ученый думает, что он постепенно строит образ лошади, он вдруг находит рыбий плавник и понимает, что всю дорогу ошибался. Он приходит к выводу, что пытается, значит, нащупать очертания рыбы, но следующий фрагмент, который встраивается в картину, – это развернутое в полете птичье крыло. Быть ученым значит научиться жить всю жизнь с вопросами, ответы на которые так и не появятся, жить, зная, что ты пришел либо слишком рано, либо слишком поздно, мучаясь, что ты не способен угадать решение, которое, явившись, кажется таким очевидным, что остается только проклинать себя за слепоту, за неспособность увидеть то, для чего нужно было всего лишь чуть-чуть повернуть голову.
(обратно)73
На протяжении многих лет Нортон обращался к представителям различных фармацевтических компаний, которые, как предполагалось, забрали мо’о куа’ау в свои лаборатории, чтобы узнать хоть что-нибудь про четырех сновидцев – Иваиву, Ва’ану, Укави и Ви’иу, – которых он оставил на острове. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что никаких вразумительных откликов он не получил, и до сих пор неизвестно, были ли оставленные им сновидцы пойманы или избежали такой судьбы, спрятавшись (что маловероятно) или умерев (на что, ради их же блага, можно только надеяться).
Также Нортон продолжал интересоваться судьбой Таллента, но Таллента никто не встречал (или не признавался в этом). Хотя джунгли на Иву’иву были вырублены на огромной площади, их все-таки оставалось более чем достаточно, чтобы позволить Талленту – теоретически – жить, оставаясь необнаруженным на фоне настойчивых изысканий.
(обратно)74
Нортон ссылается на два из самых скандально известных и печальных проектов современной медицинской науки. Уиллоубрукская школа на нью-йоркском Статен-Айленде служила домом примерно для шести тысяч умственно отсталых детей. В период с 1963 по 1966 год детей заражали гепатитом А, чтобы исследователи смогли лучше изучить развитие заболевания. Естественно, когда об этом стало известно, публика страшно возмутилась, и эксперимент пришлось прекратить. Ситуация в Таскиги, более известная, чем Уиллоубрук, была результатом масштабного сорокалетнего (1932–1972) проекта, в ходе которого нищие чернокожие издольщики из Алабамы, зараженные сифилисом, подвергались исследованиям, не получая пенициллина даже спустя долгое время после того, как он вошел в стандартный протокол лечения этого заболевания.
Современные законы и правила (не говоря уж о биоэтике в ее нынешней форме), регламентирующие эксперименты над людьми, – это прямое последствие скандала с Таскиги. Хотя НИЗ создали в 1966 году Службу защиты испытуемых, организация, о которой упоминает Нортон, была основана только восемь лет спустя и тогда уже стала реальным инструментом воздействия и влияния.
В 1975 году члены комиссии посетили лабораторию Нортона, чтобы лично проверить, как там обращаются со сновидцами. Неясно, почему они решили сосредоточить свои усилия на этой крошечной популяции испытуемых, в то время как в других лабораториях люди подвергались куда более суровым испытаниям, но можно предположить, что это был результат подстрекательства со стороны кого-нибудь из многочисленных врагов Нортона. Хотя действия комиссии часто описываются как «рейд», я могу со всей ответственностью заявить, что это не так. Тем не менее после нескольких посещений члены комиссии решили, что сновидцам будет удобнее жить в менее изолированных условиях, и в октябре 1975 года их переместили в пенсионерское сообщество Торнхедж во Фредерике, штат Мэриленд.
Успехом эта операция не увенчалась, чему трудно удивляться. Хотя сновидцы к этому моменту практически никак не реагировали на свое окружение, время от времени их органы чувств все-таки выдавали реакцию тревоги и испуга из-за новой обстановки, из-за того, что они оказались разлучены (в НИЗ они все жили вместе в одном большом помещении). Эти радикальные и жестокие перемены – обстоятельств, питания, служителей – сильно их дезориентировали, и ухудшение их состояния ускорилось. В феврале 1976 года Нортон обратился к комиссии с просьбой пересмотреть решение на основании явного и очевидного страдания и стресса сновидцев.
Пока эта просьба рассматривалась, сведения о сновидцах – о которых, как это ни удивительно, до сих пор было мало кому известно – каким-то образом проникли в национальную печать. Три месяца спустя, в июне 1976 года, сновидцев попыталась выкрасть радикальная группа по защите прав коренного населения Гавайских островов под названием ГАВИКА (название составлено из первых букв английского предложения «Гавайцы мстят белым империалистам, убивают в гневе»). Группа, обещавшая «сражаться (без указания, против чего именно) во имя всех туземных микронезийских и меланезийских народов», смогла, по их собственному выражению, «освободить» Муа и Ика’ану до того, как бойцы были задержаны службой безопасности сообщества во время попытки запихнуть инвалидное кресло Вану в свой автофургон. Позже обнаружилось, что один из членов группы ГАВИКА, мужчина по имени Пайэа Макнами, тайно работал в Торнхедже санитаром на протяжении двух месяцев до операции. Макнами и три его сообщника были приговорены к тюремным срокам, а сновидцев вернули в их комнаты.
Узнав о моих долгих рабочих и личных отношениях с Нортоном, люди всегда стремятся задать множество вопросов и первым делом интересуются сновидцами: живы ли они еще, что с ними стало? Ответ на первый вопрос – да: все они до сих пор живы. Еве 299 лет (если исходить из предположения, что ей было не меньше 250, когда она покинула остров, – вовсе не исключено, что ей даже больше). Ика’ане 225. Вану 180. Муа 153. (Не забывайте, что возраст рассчитан по у’ивскому календарю. По западному календарю они еще старше.)
К сожалению, как отмечает в своем повествовании Нортон, их физическое угасание происходило резко и стремительно. Все они очень ослаблены, все утратили множество простейших двигательных навыков. Они могут ходить, но делают это неохотно. Ика’ана почти полностью ослеп. Они редко говорят и редко отвечают, если к ним обращаются. Их рефлексы тоже ухудшились, они с запозданием реагируют на любые стимулы. Почти единственное, от чего они по-прежнему получают удовольствие, – это еда: быстро поправившись на казенном рационе, в 1985 году они были переведены на новый пищевой режим, больше соответствовавший их традиционному питанию. Хотя они почти не потеряли в весе – ожидать этого и не стоило с учетом их малоподвижного образа жизни, – сновидцы, судя по всему, радовались вкусу манго и тому, что им, скорее всего, напоминало хуноно (на самом деле это были дождевые черви, закупаемые у рыболовецкой компании). Нынешнее состояние сновидцев трагично тем, что мы никогда не узнаем наверняка, в какой степени этот физиологический распад связан с преклонным возрастом, а в какой – с изменением обстановки. Тем не менее логично предположить, что среда сыграла здесь наиболее важную роль, поскольку ухудшения начались у всех одновременно, несмотря на существенную разницу в возрасте. (Здесь, к сожалению, я должен уточнить, что все упомянутые удовольствия и умения при всей их убогости не относятся к Еве; два года назад опекуны обратили внимание, что ее зрачки не сокращаются под воздействием даже самого яркого света, и последовавшие испытания показали, что ее мозг практически не функционирует. Ее дыхательная деятельность при этом характерна для женщины вчетверо моложе.)
После инцидента с группой ГАВИКА Нортон приложил массу усилий, чтобы вернуть сновидцев под свой контроль. Комиссия отклонила его просьбу, но на следующий год переместила сновидцев на охраняемый объект. Это место, которое я по очевидным причинам не могу назвать, – геронтологическое отделение хорошо известной федеральной тюрьмы особого режима, где сновидцев вновь объединили и поместили в отдельном крыле здания. Хотя этот объект находится слишком далеко от Бетесды, чтобы Нортон мог туда регулярно приезжать, поблизости от него есть известный научно-медицинский центр, и Нортону удалось дать ряд указаний тамошним геронтологам и неврологам, которые часто посещают сновидцев для исследований и наблюдения.
Второй вопрос, который мне всегда задают, – считаю ли я, что Нортон в ответе за судьбу сновидцев. На протяжении многих лет я затруднялся на него ответить. К моменту, когда я впервые увидел сновидцев, в 1972 году, они уже гораздо больше походили на себя нынешних, чем на тех существ, которых Нортон встретил в 1950 году. Так что я не могу сказать, что скорблю по людям, которыми они некогда были. С другой стороны, та разница в их виде и поведении, которая бросилась мне в глаза между их состоянием в 1975 году, когда комиссия их переместила, и 1977 годом, когда мне впервые дали разрешение их посетить, была чудовищна. При первой нашей встрече в них еще теплилось немного жизни, немного энергии: можно было погладить Еву по руке, и она в ответ тихонько урчала, и вполне можно было вообразить, что это признак удовольствия, что раскачивание головы на подголовнике инвалидной коляски – это тихое выражение радости. В 1977 году она не реагировала никак. Голова ее была откинута назад, лоб обхвачен бинтом и привязан к подушке, чтобы голова не падала вперед, и она не издавала ни звука. Ее рука была холодна, как камень. Возникало такое чувство, будто прикасаешься к чему-то из глины и волос, вовсе не к чему-то человеческому.
Это было такое жуткое и неприятное ощущение, что я могу себе представить, как тяжело и мучительно воспринимал его Нортон, знавший их гораздо более осмысленными существами, которые могли еще разговаривать, двигаться, пользоваться своими небогатыми сенсорными способностями. Но я все равно – со стыдом признаюсь в этом – в тот момент злился на него и считал, что он в ответе за случившееся. На протяжении долгих лет я полагал (молча), что он должен был придумать какой-то способ позаботиться о них, может быть, даже как-то вернуть их на Иву’иву. Но это были незрелые взгляды несведущего человека, и я постепенно от них отказался.
Факт остается фактом: Нортон делал для сновидцев все, что мог, так долго, как мог. Он делал гораздо больше, чем можно было потребовать с этической или юридической точки зрения. Он старался в максимальной степени обеспечить их благополучие и благосостояние. Под его надзором они ни разу не подвергались насилию, унижению, голоду. Он был первопроходцем опытов над людьми, причем в крайне сложных условиях. Любой, кто пытается отрицать это, не только демонстрирует полное непонимание его усилий, но и занимает глупую и оскорбительную позицию.
(обратно)75
Эсме Дафф продолжала нападки на Нортона с непрекращающимся жаром и злобностью; по какой-то загадочной причине она упрямо считала, что он в ответе за исчезновение Таллента. После того как Таллент пропал, она продолжала читать лекции в Стэнфорде, но постоянной должности так и не получила. Замуж она не вышла и в 1982 году, в возрасте шестидесяти двух лет, покончила с собой.
(обратно)76
Удаление мо’о куа’ау, предположительно обнаруженных на Иву’иву, силами различных фармацевтических компаний и университетских экспедиций, было таким всеохватным, что переселение кого-либо из них на У’иву представляется маловероятным. Естественно, у фармакологов и ученых имелись свои причины не допускать туда никого из сновидцев, но при этом трудно себе представить, чтобы у’ивцы, с учетом всех мифов и страхов, окружавших мо’о куа’ау, хотели с ними столкнуться. (Позже некоторые фармацевтические компании утверждали, что вывозили обнаруженных сновидцев в США для их же защиты, потому что на У’иву они наверняка подверглись бы опасности.) Из-за этого сновидцы, как и церемония вака’ины, остаются на У’иву такой же невероятной экзотикой, как и в Соединенных Штатах, а может быть, и того хлеще – особо пронзительной сказкой о призраках, которую никто никогда не опровергнет окончательно.
(обратно)77
На самом деле двадцатидвухлетний молодой человек, который в тот момент был аспирантом в Сиракузском университете.
(обратно)78
В лаборатории, разумеется. Среди сотрудников любой лаборатории всегда находится гурман – или, если выражаться менее снисходительно, начинающий алкоголик, – который тратит свободное время на разработку различных алкогольных напитков; они хранятся в колбах и дегустируются во время праздников в рабочей обстановке. Качество некоторых из этих напитков на удивление высокое.
(обратно)79
Значительная часть работы Нортона в 1980-х годах касалась народности каре, небольшого племени (общей численностью меньше шестисот человек), жившего на севере Бразилии возле очень узкого и опасного притока Амазонки. Племя каре было обнаружено в 1978 году ботаником из Калифорнийского университета в Санта-Крузе по имени Люсьен Фини, который набрел на них в ходе поисков редкого папоротника (Microsorum coccinella), – он предполагал, что это древний родственник нынешней пальмы, который был предметом интереса собирателей и исчез почти полностью в большей части бассейна реки примерно двести лет назад. Столкнувшись с племенем, Фини увидел, что эти люди какие-то необычные, но что именно их отличает, он определить не мог. Вернувшись в Санта-Круз, он связался с Нортоном через знакомого, работавшего в университете Джонса Хопкинса, и вскоре после этого Нортон совершил первую поездку в места обитания племени (я сопровождал его в этой поездке и во всех последующих). Проверка и полевые испытания показали, что каре отличаются необычно поздним созреванием – ни у мальчиков, ни у девочек не заметны никакие вторичные половые признаки примерно до двадцати пяти лет. Наступающая вслед за этим половая зрелость – интенсивная и бурная пора, которая завершается браком. После этого их биологическая жизнь протекает обычным образом, то есть у женщин довольно короткий двадцатилетний период фертильности, после которого наступает менопауза. В результате возникает необходимость родить как можно больше детей, и многие женщины каре умирают в результате многочисленных беременностей; количество разного рода гинекологических осложнений в племени тоже очень высокое.
Изначально считалось – и в этом виделся отголосок ситуации с народом опа’иву’экэ, – что причиной отклонения был эндемический грызун (Hydrochoerus feenius); его ценят за сочное, сладковатое мясо, которое все члены племени едят с детских лет. Это, разумеется, был крайне интересный факт, особенно с учетом прежних революционных открытий Нортона, но дальнейшие исследования показали, что дело заключается не во внешнем воздействии, а в специфических особенностях физиологии каре. Тем не менее Нортон пытался привезти какое-то количество членов племени в свою лабораторию для дальнейшего изучения, однако Национальная комиссия по защите испытуемых в биомедицинских и бихевиористских исследованиях не позволила ему это сделать – Нортон вообще находился под их противоестественно неусыпным надзором с того момента, как попытался оспорить удаление сновидцев в 1976 году. Разного рода политические дрязги заставили Нортона прервать исследование каре в 1990 году, и сейчас удаленную лабораторию на земле племени содержит Гарвардский университет, который и решает, каким ученым будет предоставлен доступ. Нортон, разумеется, уязвлен таким развитием событий, и из-за этого, скорее всего, не упоминает о своей работе с каре. Интересующиеся могут найти беспристрастное описание ситуации в прекрасной книге Анны Кидд «О солнце, о камнях и обо всем, что между ними».
(обратно)80
Соня Элис Перина, прибыла в 1970 году. Сейчас известна под именем СоЭП как довольно популярный нью-йоркский поэт и художник-перформансист.
(обратно)81
Нортон и раньше называл детей именем Оуэн. Были, в частности, Оуэн Амброуз (прибыл около 1969 г.), Оуэн Эдмунд (прибыл около 1969 г.) и Ричард Оуэн (прибыл около 1971 г.). Примерно к 1986 году, когда Нортон усыновлял последнее, как оказалось, поколение детей, Оуэн стало фактически непременным вторым именем независимо от пола: я ясно помню, что помимо Виктора были Жизель Оуэн, Перси Оуэн (в одном из предыдущих поколений был также Персиваль Оуэн), Дрю Оуэн, Джаред Оуэн и Грейс Оуэн. Была ли такая картина следствием забывчивости или рассеянности Нортона или это был своего рода знак уважения к брату, остается неясным.
(обратно)82
После этого следует фрагмент, который я как редактор решил вырезать.
(обратно)83
Я понимаю, что читатель, вероятно, недоумевает, как нам удалось уйти от преследования. Все, что я могу сказать по этому поводу: при определенных обстоятельствах такие вещи можно организовать без особых сложностей.
Я бы хотел также заранее извиниться за прискорбную уклончивость этого эпилога. Мне и самому она отвратительна, но читатель, несомненно, понимает, что любой более откровенный рассказ может привести к неприятным последствиям.
(обратно)
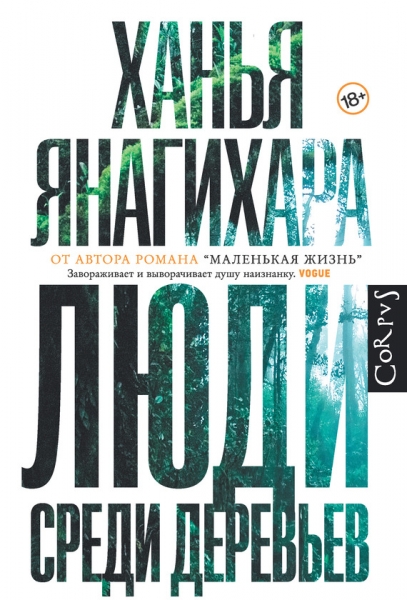


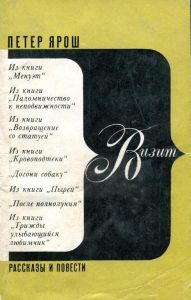

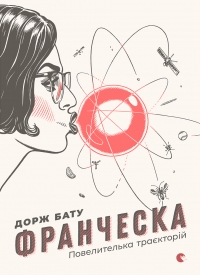






Комментарии к книге «Люди среди деревьев», Ханья Янагихара
Всего 0 комментариев