Кристина Бейкер Клайн Картина мира
Моему отцу, показавшему мне мир
Очень странная это была связь. Случаются иногда такие вот диковинные соприкосновения. У нас имелось кое-что общее: я был хилым ребенком, которого держали дома. Поэтому и жило меж нами это безмолвное чувство, чудесное, совершенная естественность. Мы просиживали часами, не произнося ни единого слова, а затем она говорила что-то, и я ей отвечал. Один репортер как-то раз спросил ее, о чем мы беседовали. Она ответила: “Ни о чем пустяковом”.
ЭНДРЮ УАЙЕТ“Картина мира” – художественная проза. У некоторых персонажей есть прототипы из жизни и времени Кристины Олсон, однако черты характеров и житейские ситуации в этом романе – целиком и полностью плод авторского воображения. Поэтому “Картину мира” следует читать исключительно как художественный вымысел, а не как биографию Кристины Олсон. Подлинные люди, события, учреждения, организации и географические места упоминаются только ради создания атмосферы. Все прочие персонажи, случаи и разговоры выдуманы автором, их не следует воспринимать как подлинные.
A Piece of the World by Christina Baker Kline
Copyright © 2017 by Christina Baker Kline
В оформлении обложки использованы фрагменты картины Эндрю Уайета “Мир Кристины”
© Ш. Мартынова, перевод на русский язык, 2017
© “Фантом Пресс”, издание, 2017
Пролог
Позднее он говорил, что боялся показывать мне картину. Думал, мне не понравится, как он меня изобразил, – как я ползу по полю, скребя землю пальцами, ноги сзади вывернуты. Бесплодный лунный пейзаж, пырей да тимофеевка. Обшарпанный дом вдали, маячит, словно тайна, что сокрытой не останется. Далекие окна, мутные, непроницаемые. Колеи в шипастой траве, оставленные незримой машиной, ведут в никуда. Грязновато-водянистые небеса.
Люди считают эту картину портретом, но это не так. Не совсем. Эндрю и в поле-то не было: он придумал картину, сидя в доме, это совершенно другой взгляд. Убрал камни, деревья и надворные постройки. Размеры хлева неверны. Да и сама я не хрупкое юное созданье, а вековуха средних лет. Тело тоже на самом деле не мое – возможно, даже голова не моя.
Но одно он ухватил верно: временами прибежище, а временами – тюрьма, это здание на холме всегда было мне домом. Всю жизнь я стремлюсь к нему, желаю удрать из него, я обездвижена его властью надо мной. (Увечным можно быть очень по-всякому, как я узнала со временем, у паралича множество разновидностей.) Мои предки сбежали из Сэлема в Мэн, но, как и все, кто пытается улизнуть от прошлого, они притащили прошлое с собой. В месте рождения в человеке прорастают неискоренимые семена. От уз семейной истории не удрать, как бы далеко ни уезжал. И скелет дома, бывает, хранит костный мозг всего, что случилось когда-то.
Кто вы, Кристина Олсон? – спросил он меня как-то раз.
Никто никогда не задавал мне такого вопроса. Пришлось на некоторое время задуматься.
Если действительно хочешь меня узнать, ответила я, придется начать с ведьм. А затем перейти к мальчикам-утопленникам. К ракушкам из дальних краев – их, ракушек этих, целая комната. К шведскому моряку, застрявшему во льду. Придется рассказать тебе о лживых улыбках гарвардца и почерке блистательных бостонских врачей, о плоскодонке на сеновале и об инвалидном кресле в море.
И рано или поздно – хотя никто из нас тогда про это не знал – мы окажемся здесь, на этом месте, внутри и вне мира картины.
Чужак на пороге
1939
Я вожусь с лоскутным одеялом, сидя в кухне ярким июльским полуднем, квадратики ткани, подушечка для булавок и ножницы – на столе рядом, и тут до меня долетает рокот автомобильного мотора. Выглянув в окно, смотрящее на бухту, вижу, как на поле в сотне ярдов от дома сворачивает фургон. Мотор глушат, пассажирская дверца распахивается, выходит Бетси Джеймз, смеется, что-то кричит. Мы не виделись с прошлого лета. На ней белая кофточка с лямкой-хомутом, полотняные шорты, на шее – красная косынка. Я смотрю, как Бетси приближается к дому, и изумляюсь, до чего иначе она выглядит. Милое округлое лицо исхудало, вытянулось; каштановые волосы отросли до самых плеч, глаза темные, сияют. Красный мазок губной помады. Вспоминаю ее девятилетней, когда она впервые пришла в гости, как сидела позади меня на крыльце, маленькие, проворные пальчики заплетали мне волосы. И вот уж ей семнадцать – и она вдруг женщина.
– Здрасьте, Кристина, – говорит она у сетчатой двери, запыхавшись. – Давно не виделись!
– Заходи, – отзываюсь я со своего кресла. – Ничего, если я вставать не буду?
– Конечно, ничего. – Она заходит в дом, и в комнате вдруг пахнет розами. (Когда это Бетси начала душиться?) Подскакивает к моем креслу, обнимает меня за плечи. – Мы приехали несколько дней назад. Как же я рада, что мы снова здесь.
– Судя по тебе, так и есть.
Она улыбается, на щеках – всплески румянца.
– Как у вас с Алом дела?
– Ой, ну ты сама знаешь. В порядке. Как всегда.
– Как всегда – это хорошо, да?
Улыбаюсь. Разумеется. “Как всегда” – это хорошо.
– А что вы делаете?
– Да мелочь. Детское одеяльце. Лора опять беременна.
– Какая вы щедрая тетушка. – Она протягивает руку, берет квадратик ткани – кусочек ситца, розовые цветы с зелеными листьями на буром фоне. – Узнаю эту ткань.
– Разрезала старое платье.
– Помню его. Белые пуговки, юбка в пол, да?
Вспоминаю, как мама привезла баттериковские выкройки,[1] переливчатые пуговицы и ситец. Вспоминаю, как Уолтон впервые увидел меня в этом платье. “Я тобою заворожен”.
– Давно дело было.
– Ну хорошо же, что старому платью подарят новую жизнь. – Она бережно укладывает квадратик обратно на стол, перебирает остальные: белый муслин, темно-синий хлопок, шамбре, слегка замаранное чернилами. – Ух ты, сколько клочков и кусочков! Настоящую семейную реликвию создаете.
– Ну не знаю, – говорю я. – Просто обрезки, да и всё.
– Курочка по зернышку… – Она смеется и выглядывает в окно. – Совсем забыла! Заскочила за чашкой воды, если вы не против.
– Садись, дам тебе стакан.
– Ой, это не мне. – Она показывает на фургон в поле. – Мой друг хочет написать ваш дом, но ему вода для этого нужна.
Прищурившись, смотрю на автомобиль. На крыше сидит юноша, глядит в небо. У него здоровенный блокнот в одной руке, а в другой вроде бы карандаш.
– Это сын Эн-Си Уайета,[2] – говорит Бетси театральным шепотом, будто кто-то может подслушать.
– Чей?
– Вы же знаете Эн-Си Уайета. Знаменитого иллюстратора? “Остров сокровищ”?
А, “Остров сокровищ”.
– Ал обожал ту книгу. Кажется, она у нас еще есть где-то.
– Думаю, у любого мальчика в Америке она где-то есть. Короче, его сын – тоже художник. Мы с ним сегодня познакомились.
– Вы с ним сегодня познакомились, а ты уже разъезжаешь с ним на его машине?
– Да, он… не знаю. Кажется, ему можно доверять.
– Твои родители не против?
– Они не знают. – Робко улыбается. – Он появился в доме нынче утром, искал моего отца, но родители уехали кататься под парусом. Я открыла дверь. Ну и вот.
– Такое иногда случается, – говорю я. – Он откуда?
– Из Пенсильвании. У его семьи тут летний дом, в Порт-Клайде.
– Ты, похоже, ужас сколько про него знаешь, – говорю я, вскидывая бровь.
Она вскидывает бровь в ответ.
– Собираюсь узнать еще больше.
Бетси забирает чашку с водой и возвращается к фургону. По тому, как она идет – плечи расправлены, подбородок вперед, – понятно, что она знает: он за ней наблюдает. И ей это нравится. Вручает юноше чашку и забирается к нему на крышу фургона.
– Кто это был? – У черного хода стоит мой брат Ал, вытирает руки о ветошь. Никогда я не могу учуять его появление: тихий, как лис.
– Бетси. И какой-то юнец. Пишет картину с нашего дома, по ее словам.
– С чего бы это?
Я пожимаю плечами.
– Люди, они странные.
– Это уж точно.
Ал устраивается в кресле-качалке, достает трубку и табак. Принимается набивать да прикуривать, мы оба шпионим за Бетси и юнцом – подглядываем в окно, однако стараемся делать вид, что ничего такого не делаем.
Чуть погодя юноша слезает с крыши, кладет блокнот на капот автомобиля. Подает Бетси руку, та съезжает сверху прямо к нему в объятья. Даже с такого расстояния я чувствую жар меж ними. Они стоят рядом, разговаривают с минуту, а затем Бетси тянет его за руку, следом за собой… о господи, она тащит его в дом. У меня мгновенная паника: пол не метен, платье у меня испачкано, волосы нечесаны. У Ала комбинезон заляпан грязью. Давно я не тревожилась, что меня увидят глаза чужака. Впрочем, пока парочка идет к дому, я замечаю, что юноша смотрит на Бетси, и понимаю, что волноваться не о чем. Он видит лишь ее одну.
Вот уж он у сетчатой двери, на пороге. Стройный, улыбчивый, весь трепещет пылом, занимает собой весь дверной проем.
– Какой чудесный дом, – бормочет он, открывая дверь, вытягивает шею, чтобы оглядеть комнату. – Свет здесь невероятный.
– Кристина, Алвэро, это Эндрю, – говорит Бетси, входя следом за ним.
Он склоняет голову.
– Надеюсь, это ничего, что я вламываюсь без приглашения. Бетси божилась, что ничего.
– Мы тут не церемонимся, – говорит мой брат. – Я Ал.
– Я с такими людьми душа в душу. И зовите меня Энди, прошу вас.
– Ну а я – Кристина, – говорю я.
– Я зову ее Кристи, но больше никто, – добавляет Ал.
– Значит, Кристина, – говорит Энди, вглядываясь в меня. В этом взгляде я не чую никакого суждения, лишь некое антропологическое любопытство. И все же от его пристального внимания краснею.
Поспешно обращаюсь к Алу:
– Помнишь ту книгу, “Остров сокровищ”? Бетси говорит, это его отец рисовал для нее картинки.
– Правда? – Лицо у Ала светлеет. – Такие картинки никак не забыть. Я ту книгу читал, может, раз десять. Кто его знает, только эту книгу и дочитал-то вообще, наверное, если подумать. Хотел быть пиратом.
Энди расплывается в улыбке. Зубы у него крупные, белые, как у кинозвезды.
– Я тоже. До сих пор, на самом деле.
У Бетси в руках – громадный альбом. Гордая, как новоиспеченная мать, подносит его мне.
– Посмотрите, что у Энди получилось, Кристина, – за такое короткое время.
Бумага все еще сырая. Смелыми мазками Энди свел дом к белому ящику с двумя щипцами, обращенными к морю. Поля вокруг – зеленые и желтые, там и сям щетинятся остриями травы. Почти черные ели, лиловая ширь гор, водянистые облака. Хотя эту акварель рисовали быстро – есть в мазках движение, словно на них дует ветер, – мальчик явно понимает, что делает. Окна – лишь намек, но возникает странное чувство, что в них что-то видно. Дом словно врос в землю.
– Это всего лишь набросок, – говорит Энди, подходя ближе ко мне. – Я еще доработаю.
– С виду – приятное место для житья, – говорю я. Дом гнездится укромно, уютно – сказочная версия того, в котором на самом деле живем мы с Алом, единственный намек на упадок – пятна синего и бурого.
Энди смеется.
– Это вы мне расскажите. – Ведет двумя пальцами по бумаге, поясняет: – Такие чистые линии. Есть в этом доме что-то… Вы давно здесь живете?
Киваю.
– Я чую. Что в этом доме битком историй. Я б лет сто его писал, как пить дать, и не надоело бы нисколько.
– О, надоело бы, – сказал Ал.
Мы все смеемся.
Энди хлопает в ладоши.
– Слушайте, знаете что? У меня сегодня день рождения.
– Правда? – говорит Бетси. – А ты мне не сказал.
Он обнимает ее и притягивает к себе.
– Не сказал? У меня такое чувство, будто ты уже и так все обо мне знаешь.
– Пока нет.
– Сколько вам лет? – спрашиваю я.
– Двадцать два.
– Двадцать два! А Бетси всего семнадцать.
– Зрелые семнадцать, – выпаливает Бетси, к щекам приливает краска.
Энди вроде бы забавляется.
– Ну, мне не очень есть дело до возраста. Или до зрелости.
– Как собираетесь праздновать? – спрашиваю я.
Он вскидывает бровь на Бетси.
– Я бы сказал, что праздную прямо сейчас.
* * *
Бетси не появляется несколько недель – и вдруг влетает в кухню и едва ли не пляшет.
– Кристина, мы помолвлены, – задохнувшись, выпаливает она, хватая меня за руку.
– Помолвлены?!
Кивает.
– Представляете?
Ты такая юная, собираюсь было сказать, слишком это поспешно, вы едва знакомы…
А затем задумываюсь о своей жизни. О долгих годах, об ожидании, которое ни к чему не привело. Я видела, каково им вдвоем. Видела искру между ними. “У меня такое чувство, будто ты уже и так все обо мне знаешь”.
– Конечно представляю, – отвечаю я.
Через десять месяцев прилетает открытка. Бетси и Энди поженились. Когда они приезжают на следующее лето в Мэн, я вручаю Бетси свадебный подарок: две наволочки, которые я сделала сама и вышила цветами. Четыре дня провозилась с французскими узелками, чтобы получились маргаритки и крошечные петельки-листочки: мои руки, негнущиеся, узловатые, уже не слушаются, как прежде.
Бетси пристально разглядывает вышивку и прижимает наволочки к груди.
– Я буду их беречь. Они безупречны.
Улыбаюсь. Они не безупречны. Линии неровные, лепестки цветов – острые, чрезмерно крупные, на хлопке чуть заметны следы распущенных швов.
Бетси всегда была добра.
Показывает мне фотографии их свадебной церемонии в глубинке штата Нью-Йорк: Энди – в смокинге, Бетси – в белом, в волосах – гардении, оба сияют счастьем. Ей думалось, рассказывает она, что после пятидневного медового месяца они отправятся на машине в Канаду, на свадьбу к близкому другу, но Энди сказал, что ему нужно вернуться к работе.
– Он мне говорил еще до свадьбы, что так оно и будет, – сообщает Бетси. – Но я до последнего не верила.
– Ты, значит, одна поехала?
Качает головой.
– Осталась с ним. Я знала, на что шла. Работа – это всё.
* * *
Из кухонного окна я вижу Энди, он бредет по полю к дому, выбрасывает одну ногу вперед, а вторую приволакивает, походка неровная. Странно, что я сразу этого не заметила. Вот уж он в дверях, в забрызганных краской сапогах, рукава белой хлопчатобумажной рубашки закатаны до локтей, под мышкой – блокнот для набросков. Он стучит – два раза, уверенно – и тянет на себя сетчатую дверь.
– У Бетси кое-какие дела. Ничего, если я тут побуду?
Пытаюсь держаться невозмутимо, но сердце у меня колотится. Не помню, когда последний раз была один на один с мужчиной, если не считать Ала.
– Да пожалуйста.
Он заходит внутрь.
Он выше и ладнее, чем я запомнила, темно-песочные волосы, пронзительные голубые глаза. Есть что-то лошадиное в том, как он потряхивает головой и переминается с ноги на ногу. Дрожкий гул сердца.
В Ракушечной комнате он проводит рукой по каминной полке, стирает пыль. Берет мамин треснутый белый чайник, крутит в руках. Укладывает в чашечку ладони бабушкин наутилус помпилиус, листает тонкие, как паутинка, страницы ее старой черной Библии. Десятилетиями никто не открывал рундук моего несчастного утопшего дяди Алвэро: крышка скрипит, когда Энди ее поднимает. Достает обрамленный ракушками портрет Авраама Линкольна, вглядывается в него, кладет на место.
– В этом доме ощущается прошлое, – говорит Энди. – Слои поколений. Напоминает мне о “Доме о семи щипцах”:[3] “Столько всяческого людского опыта состоялось здесь, что сами балки будто сочились – словно бы влагой сердца”.
Знакомые строки. Помню, читала этот роман в школе, давным-давно.
– Мы вообще-то с Нэтэниэлом Хоторном родня, – говорю я ему.
– Интересно. А, да… Хэторн. – Подходя к окну, он показывает на поле. – Я видел надгробия, там, на кладбище. Хоторн пожил в Мэне, насколько я понимаю?
– Этого я не знаю, – признаюсь я. – Наши предки приехали из Массачусетса. Почти двести лет назад. Трое мужчин, посреди зимы.
– А откуда в Массачусетсе?
– Из Сэлема.
– А чего переехали?
– Моя бабушка говорила, пытались сбежать от позора – из-за связи с их родственником, Джоном Хэторном. Он был главным судьей в деле ведьм. Добравшись до Мэна, они отбросили концевую “e” в фамилии.[4]
– Чтобы скрыть связь?
Я пожимаю плечами.
– Судя по всему.
– Теперь я вспоминаю, – говорит он. – Нэтэниэл Хоторн тоже уехал их Сэлема – и тоже сменил написание фамилии. Но многие его сюжеты – переделки истории его семьи. Вашей семейной истории, видимо. Нравственные аллегории про людей, стремившихся искоренить злодейство в других и никак не видевших его в себе.
– Вообще-то, – говорю я ему, – есть легенда, что одна осужденная ведьма, стоя на эшафоте и ожидая петли, пробормотала проклятие: “Пусть Бог покарает семейство Джона Хэторна”.
– Так ваша семья проклята! – восклицает он с восторгом.
– Может быть. Кто знает? Моя бабушка говаривала, что те Хэторны притащили сэлемских ведьм за собой. Дверь между кухней и сараем никогда не закрывала, чтоб ведьмы не задерживались.
Оглядывая Ракушечную, он произносит:
– А вы что думаете? Правда это?
– Я ни одной ведьмы не видела, – отвечаю. – Но двери держу открытыми.
* * *
С течением лет некоторые байки из истории семьи пускают корни. Эти байки передают из поколения в поколение, и у них накапливаются плоть и смыслы. Нужно учиться просеивать их, отделять факты от выдумок, вероятное от недостоверного.
И вот что я поняла: иногда самые невероятные байки – подлинны.
1896–1900
Мать кладет мне на лоб отжатую тряпицу. Холодная вода катится по виску, на подушку, я поворачиваю голову, чтобы смазать струйку. Смотрю в мамины серые глаза, сощуренные от беспокойства, между ними – вертикальная черта. Мелкие морщинки вокруг поджатых губ. Гляжу на брата Алвэро, он стоит рядом с матерью, ему два года, глаза круглые, серьезные.
Мама наливает воду из белого чайника в стакан.
– Попей, Кристина.
– Улыбнись ей, Кэти, – говорит ей бабушка Трайфина. – Страх – зараза. – Она уводит Алвэро из комнаты, мама берет меня за руку, улыбается одним лишь ртом.
Мне три года.
У меня ломит кости. Закрываю глаза, и кажется, будто падаю. Ощущение не совсем уж неприятное – как тонуть в воде. Под веками краски – пурпур, ржа. Лицо так горит, что мамина рука у меня на щеке кажется ледяной. Глубоко вдыхаю, ловлю запахи древесного дыма и пекущегося хлеба – и уплываю. Дом скрипит, движется. Храп из соседней комнаты. Боль у меня в костях вытаскивает меня обратно к поверхности. Открыв глаза, ничего не вижу, но знаю, что мама ушла. Мне так холодно, что кажется, будто тепло не было никогда, в тишине у меня громко стучат зубы. Слышу, как сама поскуливаю, но звук, кажется, исходит от кого-то другого. Не знаю, давно ли скулю, но этот звук утешает, отвлекает меня от боли.
Одеяло подымается. Бабушка говорит:
– Ну-ну, Кристина, тише. Я тут. – Забирается ко мне в постель – в толстой фланелевой ночной рубашке, прижимает меня к себе. Я пристраиваюсь к изгибу ее ног, ее грудь – мне подушка, мягкая мясистая рука – у меня под шеей. Она трет мои холодные руки, и я засыпаю в теплом коконе, пахнущем тальком, льняным маслом и пекарным порошком.
* * *
Сколько себя помню, всегда звала бабушку Маммеей. Это такое дерево, оно растет в Вест-Индии, где бабушка побывала с моим дедушкой, капитаном Сэмом Хэторном, в одной из их многочисленных поездок. У маммеи короткий толстый ствол, всего несколько крупных ветвей, заостренные зеленые листья и белые цветки на концах веток, словно ладони. Оно цветет весь год, плоды созревают в разное время. Когда дедушка с бабушкой провели несколько месяцев на острове Святой Люсии, бабушка варила там варенье из этих плодов, по вкусу они как перезрелая малина.
– Чем спелее, тем слаще. Как я, – говаривала она. – Не зови меня бабушкой. Маммея – то, что надо.
Иногда я застаю ее в одиночестве, она сидит и смотрит из окна Ракушечной, нашей передней гостиной, где мы выставляем напоказ сокровища шести поколений моряков, привезенные в рундуках из странствий по белу свету. Я знаю, бабушка тоскует по деду, который умер в этом доме за год до моего рождения.
– Ужасное это дело – найти любовь всей жизни, Кристина, – говорит она. – Слишком уж хорошо понимаешь, что́ потерял, когда ее больше нет.
– У тебя есть мы, – говорю я.
– Я любила твоего деда больше, чем у нас есть ракушек в Ракушечной, – говорит она. – Больше, чем растет былинок в поле.
* * *
Мой дед, как и его отец и дед до него, начал жизнь в море юнгой и дослужился до капитана. После женитьбы на моей бабушке он забрал ее с собой в странствия – перевозил лед из Мэна на Филиппины, в Австралию, Панаму, на Виргинские острова, а в обратный путь набивал трюмы бочонками бренди и рома, сахаром, пряностями. Ее истории об их с дедом диковинных путешествиях стали семейной легендой. Она странствовала с ним по морям много десятилетий, даже детей с собой брала – трех сыновей и дочку, пока в разгар Гражданской войны дед не настоял, чтобы они сидели дома. Каперы конфедератов сновали туда-сюда вдоль Восточного побережья, словно пираты-мародеры, и не жалели ни единого судна.
Однако дедовы предосторожности семью уберечь не смогли: все три мальчика сгинули юными. Один – от скарлатины; четырехлетний тезка деда, Сэмми, утонул однажды в октябре, когда Капитан Сэм был в морях. Бабушка вплоть до марта не находила в себе сил выложить эту новость. “Нашего любимого мальчика больше нет на земле, – сообщала она. – Пишу – и едва не слепну от слез. Никто не видел, как он упал, кроме одного мальчугана, тот прибежал рассказать своей матери. Искра жизни ускользнула. Дорогой муж, ты точнее вообразишь мое горе, чем я способна его описать”. Через четырнадцать лет их сына-подростка Алвэро, служившего матросом на шхуне у Кейп-Кода, смыло в шторм за борт. Весть о его смерти пришла телеграммой, бесцеремонной и безликой. Тело так и не нашли. Рундук Алвэро прибыл в Хэторн-Пойнт много недель спустя, крышка причудливо изрезана его рукой. Безутешная бабушка часы напролет водила пальцами по контурам картинок – дамочек в кринолинах и с откровенными декольте.
* * *
В моей спальне тихо и ярко. Свет просачивается сквозь кружевные занавески, сплетенные Маммеей, на полу от них – затейливые узоры. Медлительно плавают пылинки. Потягиваясь на постели, я вынимаю руки из-под одеяла. Не болит. Двинуть ногами боюсь. Боюсь надеяться, что мне лучше.
Брат Алвэро заглядывает в комнату, вцепившись в дверную ручку. Таращится на меня, а затем вопит, ни к кому в отдельности не обращаясь:
– Кристи проснулась! – Смотрит на меня долго и пристально, потом закрывает дверь. Я слышу, как он показательно топает вниз по лестнице, слышу голоса мамы и бабушки, далекий лязг кастрюль в кухне и вновь отплываю в сон. А дальше Алвэро трясет меня за плечо ручонкой коаты и приговаривает: – Просыпайся, лентяйка, – а мама, протискиваясь в двери огромным беременным животом, ставит поднос на круглый дубовый столик у кровати. Овсянка, тост и молоко. Отец – тенью за нею. Впервые за невесть сколько времени меня настигает му́ка – похоже, голод.
Подкладывая мне под голову подушки и помогая сесть, мама улыбается по-настоящему. Подносит ложку с кашей мне ко рту, ждет, пока я проглочу. Ал говорит:
– Чего ты ее кормишь, она не маленькая. – Мама велит ему помолчать, но смеется и плачет одновременно, слезы катятся по щекам, приходится промокать лицо фартуком. – Ты чего плачешь, мам? – спрашивает Ал.
– Потому что твоя сестра поправится.
Помню, как она это произнесла, но лишь годы спустя пойму, что это означает. Это означает, что мама боялась: я не поправлюсь. Все они боялись – все, за исключением Алвэро, меня и нерожденного ребенка: все трое увлеченно росли и не сознавали, до чего скверно все может складываться. А взрослые знали. Бабушка, при ее трех умерших детях. Мама – единственная выжившая, все ее детство пронизано печалью, и первенца она назвала в честь брата, утонувшего в море.
* * *
Проходит день, затем – неделя. Я выживу, но что-то не так. Лежа в постели, чувствую себя тряпкой, отжатой и расстеленной сушиться. Сесть не в силах, едва ворочаю головой. Ногами пошевельнуть не могу. Бабушка усаживается с вязанием в кресло напротив, поглядывает на меня поверх очков без оправы.
– Ну-ну, дитя. Отдыхай. Потихонечку.
– Кристи не дитя, – говорит Ал. Он лежит на полу, катает зеленый паровозик. – Она больше меня.
– Да, она большая девочка. Но ей нужен отдых, чтобы поправиться.
– Отдых – это глупо, – говорит Ал. Ему хочется, чтобы я стала как раньше, чтобы мы бегали в хлев, играли в прятки в стогах, тыкали палками в сусличьи норки.
Согласна. Отдых – это глупо. Я устала от этой узкой кровати, от ломтика окна над ней. Хочу на улицу, носиться по траве, лазать по лестницам. Во сне я скачу галопом вниз по холму, руки раскинуты, сильные ноги несут меня, травы хлещут по лодыжкам, прямиком к морю, закрыв глаза и задрав подбородок к солнцу, двигаюсь легко, без боли, не падая. Просыпаюсь на кровати – простыни в поту.
– Что со мной такое? – спрашиваю у мамы, когда она укрывает меня свежей простынкой.
– Ты такая, какой Господь тебя сотворил.
– Зачем он сотворил меня такой?
Веки у нее трепещут – не просто закрыла-открыла глаза, а ошарашенно смаргивает, а затем надолго жмурится; я научилась распознавать: так она делает, когда не знает, что сказать.
– Приходится доверять его замыслу.
Бабушка вяжет в кресле, ничего не говорит. Но когда мама уходит вниз с моими простынями, произносит:
– Жизнь – одно испытание за другим. Ты просто узнаёшь это прежде прочих.
– Но почему я такая одна?
Бабушка смеется.
– Ох, дитя, ты не одна.
И она рассказывает мне о моряке в их команде, у которого была одна нога, и он скакал по палубе на деревянном штыре, а еще у одного был горб, из-за которого он семенил, как краб, у еще одного было по шесть пальцев на обеих руках. (Вот же прытко тот парень узлы-то вязал!) У одного ступня была с вилок капусты, у другого кожа в чешуе, как у ящера, а еще она однажды видала сросшихся близнецов… У людей бывают болезни всех мастей, говорит она, и, если ума им хватает, времени на нытье они не тратят.
– Все мы несем свое бремя, – говорит она. – Ты свое теперь знаешь. Это хорошо. Оно никогда не застанет тебя врасплох.
Маммея рассказывает историю о том, как они с Капитаном Сэмом потерпели крушение в шторм, плавали на утлом плотике посреди океана, дрожали одни-одинешеньки, со скудным провиантом. Солнце садилось и вставало, садилось и вставало; еда и вода истощались. Они уже отчаялись спастись. Она распустила одежду на лоскуты, привязала тряпку к веслу и сумела воздвигнуть этот флаг. Недели напролет не видели они никого. Облизывали растрескавшиеся от соли губы и закрывали обожженные солнцем веки, сдавались неминуемой судьбе, призывали забытье и смерть. А затем, как-то раз вечером, перед закатом, точка на горизонте сделалась кораблем, державшим курс прямо на них, – оттуда заметили трепыхавшиеся тряпки.
– Самые важные качества, какими бывает наделен человек, – железная воля и упорный дух, – говорит Маммея. Она утверждает, что я наследую эти качества от нее и что в точности так же, как она пережила то кораблекрушение, когда покинула ее всякая надежда, и смерть троих сыновей, когда ей казалось, что ее сердце раскрошится, словно ракушка, в песок, я разберусь, как жить дальше, что бы ни случилось. Большинству людей повезло меньше, говорит Маммея, они происходят не из такого живучего рода.
* * *
– До горячки с ней все было в порядке, – говорит мама доктору Хилду, пока я сижу на смотровом столе в медицинском кабинете в Кушинге. – А теперь едва ходит.
Врач тыкает и тискает, берет кровь, проверяет у меня температуру.
– Ну-ка, посмотрим, – говорит он, хватая меня за ноги. Мнет мне кожу пальцами, прощупывает ноги до самых косточек в ступнях. – Да, – бормочет он, – нарушения. Интересно. – Берет меня за щиколотки, говорит маме: – Трудно сказать. Ступни деформированы. Подозреваю что-то вирусное. Рекомендую скобы. Гарантий, что поможет, нет, но, возможно, попробовать стоит.
Мама сжимает губы.
– А иначе никак?
Доктор Хилд преувеличенно морщится, словно ему так же трудно сказать, как нам – услышать.
– Ну, в том-то и дело. Мне кажется, что иначе никак.
Скобы, в которые засаживает меня доктор Хилд, стискивают мне ноги, как средневековый пыточный инструмент, они режут мне кожу на кровавые лоскуты, я вою от боли. Через неделю этого мученья мама отвозит меня к доктору Хилду, и он снимает скобы. Увидев мои ноги, мама охает от ужаса: они покрыты гноящимися ранами. Шрамы у меня до сих пор.
Остаток своих дней я буду чураться врачей. Когда доктор Хилд заглядывает к нам – как там Маммея, или мамина беременность, или папин кашель, – я убираюсь куда подальше, прячусь на чердаке, в хлеву, в сараюшке-уборной на четыре дырки.
* * *
На сосновых досках в кухне я учусь ходить по прямой.
– Одна нога перед другой, как канатоходец, – объясняет мама, – по стыку.
Равновесие удерживать трудно: ходить я могу только внешними краями стоп. Будь это настоящий канат в цирке, заявляет Ал, я бы уже десять раз упала и разбилась насмерть.
– Не спеши, – говорит мама. – Тут не гонки.
– Тут гонки, – говорит Ал. Он легко вышагивает по параллельному стыку – выверенная хореография маленьких стоп в чулках, всего несколько мгновений – и вот уж он добирается до конца. Вскидывает руки: – Я выиграл!
Делаю вид, что спотыкаюсь, и, падая, сбиваю его с ног, Ал приземляется прямиком на копчик.
– Уберись с дороги, Ал, – ругает его мама. Тот, растянувшись на полу, зло пялится на меня. Пялюсь в ответ. Ал тощий и сильный, как стальная рейка или ствол молодого деревца. Он проказливее меня – ворует яйца из-под кур и пытается кататься верхом на коровах. Внутри я чувствую что-то жесткое и колкое. Зависть. Обиду. И еще кое-что: неожиданное удовольствие от мести.
Я так часто падаю, что мама пришивает к моей одежде ватные подушечки – на локтях и коленках. Сколько б я ни упражнялась, не могу заставить ноги двигаться, как им положено. Но они наконец набирают силы достаточно, чтоб я могла играть в прятки в хлеву и гонять по двору кур. Алу на мою хромоту плевать. Он тянет меня за собой – лазать по деревьям, кататься на старом буром муле Денди, собирать хворост для пляжного пикника. Мама вечно ругает и одергивает его, чтоб шел себе, оставил меня в покое, но Маммея помалкивает. Я же вижу: она считает, что мне все это полезно.
* * *
Просыпаюсь в темноте под звуки дождя, барабанящего по крыше, и от суматохи в спальне родителей. Мама стонет, Маммея бормочет. Голоса́ отца и еще двоих, чужих, доносятся снизу из прихожей. Я выскальзываю из постели, влезаю в шерстяную юбку и толстые носки, цепляюсь за перила – полупадаю, полускольжу вниз по лестнице. Там стоит мой отец и коренастая краснолицая женщина с косынкой на завитых волосах.
– Иди в постель, Кристина, – говорит папа. – Глухая ночь.
– Младенцы часов не наблюдают, – нараспев говорит женщина. Сбрасывает с плеч пальто, отдает отцу. Я цепляюсь за балясину, а женщина, как барсучиха, устремляется вверх по узкой лестнице.
Ползу за ней и распахиваю дверь в мамину спальню. Маммея – там, склоняется над постелью. Что там, на высокой кровати с балдахином, я не очень вижу, но слышу мамины стоны.
Маммея оборачивается.
– Ой, дитя, – говорит она огорченно. – Тебе тут не место.
– Ничего. Девочке надо знать, что к чему на свете, рано или поздно, – говорит барсучиха. Дергает головой в мою сторону. – Не подсобишь ли? Скажи отцу, пусть воду нагреет на плите.
Я смотрю на маму, она бьется и извивается.
– С ней все будет хорошо?
Барсучиха супится.
– Мама твоя в полном порядочке. Ты слышала, что я сказала? Кипяченую воду. Младенец на подходе.
Добираюсь до кухни, сообщаю папе, он ставит на черную чугунную плиту “Гленвуд” котел с водой. Пока мы ждем, он показывает мне карточные игры – “блэкджек” и “чокнутые восьмерки”, – чтобы скоротать время. Ветер хлещет дождем по дому – звук такой, словно у сухой фасоли в полом стебле. Еще утро, а мы уже слышим тоненький крик здорового младенца.
– Его зовут Сэмюэл, – говорит мама, когда я забираюсь к ней на кровать. – Он же безупречный, а?
– Угу, – говорю я, хотя считаю, что у ребенка лицо такого же цвета яблока-дичка, что и у тетки-барсучихи.
– Может, станет путешественником, как его дед Сэмюэл, – говорит Маммея. – Как и все Сэмюэлы-мореходы.
– Боже упаси, – говорит мама.
* * *
– Кто такие Сэмюэлы-мореходы? – спрашиваю я потом у Маммеи, пока мама с младенцем спят и мы сидим одни в Ракушечной.
– Твои предки. Из-за них есть ты, – отвечает она.
Рассказывает мне историю, как в 1743 году трое из Массачусетса – два брата, Сэмюэл и Уильям Хэторны, и сын Уильяма Александр – сложили пожитки на три телеги и отправились в долгий путь до провинции Мэн, посреди зимы. Прибыли на какой-то полуостров в глуши, что две тысячи лет был местом встречи индейских племен, и поставили палатку из шкур – такая выдержала бы грядущие месяцы снега, льда и паводка по теплыни. За год они свалили сколько-то леса и выстроили три бревенчатых дома. И дали этому клочку земли в Кушинге, Мэн, имя – Хэторн-Пойнт.
Через пятьдесят лет сын Александра Сэмюэл, морской капитан, выстроил на фундаменте родовой лачуги двухэтажный дом на деревянном каркасе. Сэмюэл женился дважды, вырастил в этом доме шестерых детей и умер за семьдесят. Его сын Аарон, тоже морской капитан, женился дважды и поднял здесь восьмерых детей. Когда Аарон умер и его вдова решила продать дом (выбрала жизнь попроще, в городе, поближе к пекарне и бакалее), Хэторны-мореходы расстроились. Через пять лет сын Аарона Сэмюэл IV выкупил дом обратно и восстановил родовое владение землей.
Сэмюэл IV был моим дедом.
Все эти капитаны – в морях по многу месяцев кряду. Их многочисленные жены и дети – вверх-вниз по узкой лестнице. И поныне, говорит Маммея, этот старый дом на мысе Хэторн-Пойнт полнится их призраками.
* * *
Когда твой мир мал, запоминаешь наизусть каждый его дюйм. Ощупью знаешь его в темноте – помнишь, где что, даже во сне. Поля жесткой травы, что катятся вниз, к каменистому берегу и к морю за ним, уголки и щелки, где прятаться и играть. Почерневшая от сажи плита в кухне – всегда теплая. На подоконнике – герань, в кляксах красного, как платок фокусника. Бродячие коты в хлеву. Воздух, что пахнет соснами и водорослями, курицей, жарящейся в духовке, и свежевспаханной землей.
Однажды летним вечером мама в кухне глядит на расписание приливов и говорит:
– Обувайся, Кристина, хочу тебе кое-что показать.
Я зашнуровываю бурые ботинки и иду за ней по полю среди певучих цикад и пикирующих ворон к семейному погосту, ноги у меня справляются, я почти успеваю за мамой. Веду пальцами по испятнанным мхом полуразвалившимся надгробиям, надписи едва разберешь. Старейшее – над Джоанн Смолли Хэторн. Она умерла в 1834-м, в тридцать три, матерью семерых детей мал мала меньше. Когда Джоанн помирала, рассказывает мама, она умолила мужа похоронить ее на родовой земле, а не на городском кладбище в нескольких милях отсюда, – чтобы дети могли навещать могилу.
Здесь же похоронены и ее дети. Все Хэторны после нее похоронены здесь.
Мы идем дальше, к берегу на южной стороне Хэторн-Пойнта, над Поцелуйной бухтой и бухтой Кленового сока, где река Святого Георгия впадает в залив Масконгас – в Атлантический океан. Здесь насыпан древний курган из ракушек, мама говорит, его оставили индейцы абенаки, жившие тут летом, давным-давно. Я пытаюсь представить, каково тут было, прежде чем выстроили этот дом, прежде трех бревенчатых хижин, до того, как эти места обнаружили поселенцы. Представляю себе девочку-абенаки – такая же, как я, она собирает на скалистом берегу ракушки. Отсюда море видно далеко-далеко. Стерегла ли она горизонт, краем глаза, ожидая чужаков? Догадывалась ли вообще, до чего изменится ее жизнь, когда они явятся?
Вода совсем низкая. Я бреду по камням, но мама ничего не говорит, просто останавливается и ждет. За болотистыми равнинами – остров Малый, дикий акр берез и сухой травы. Мама показывает на него.
– Нам туда. Но ненадолго, иначе прилив нас поймает. – Наш путь – сплошные препятствия из скользких от водорослей валунов. Я пробираюсь медленно и все равно спотыкаюсь и падаю – царапаю ладонь о наросшие морские желуди. Ботинки промокли. Мама оборачивается. – Вставай. Почти дошли.
Оказавшись на островке, она расстилает шерстяной плед на пляже, где сухо. Из котомки достает сэндвич с яйцом на толстом ломте хлеба, огурец, два куска жареного яблочного пирога. Вручает мне половину сэндвича.
– Закрой глаза и почувствуй солнце, – говорит она, я слушаюсь, откинувшись на локти, задрав подбородок к небу. Векам тепло и желто. Деревья шуршат позади нас, словно туго накрахмаленные юбки. Рассольный воздух. – Куда отсюда стремиться-то?
Поев, мы собираем ракушки – светло-зеленые шарики актиний и перламутровые пурпурные мидии.
– Смотри, – говорит мама, показывая на краба, появляющегося в приливной лужице: он пробирается меж камнями. – Вся жизнь – здесь, в этом месте. – Она всегда старается, как умеет, чему-нибудь меня научить.
* * *
Жить на ферме означает вечно воевать со стихиями, говорит мама. Приходится выстаивать против неукротимой природы, усмирять хаос. Фермеры трудятся на земле, с мулами, коровами и свиньями, а дом – святое прибежище. Будь оно не так – ничем мы не лучше животных.
Мама в постоянном движении – метет, моет, чистит, готовит, протирает, стирает, вывешивает белье. По утрам печет хлеб на дрожжах из хмеля, что вьется за сараем. Когда я спускаюсь утром, на плите всегда горшок каши, на поверхности – тонкая пенка, я снимаю ее и отдаю коту, пока мама не смотрит. Бывает, овсяные оладьи и вареные яйца. Малютка Сэм спит в колыбели в углу. Когда посуда после завтрака убрана, мама принимается за большую дневную трапезу: куриный пирог, или тушеное мясо, или рыбная похлебка; давленая или вареная картошка; фасоль или морковь, свежая или из банок – по сезону. Что останется – появится на ужин, превратившись в рагу или жаркое.
Пока работает, мама поет. Любимая песня – “Красное Крыло”,[5] про индейскую деву, тоскующую по воину, ушедшему на бой, и чем дольше она ждет, тем больше отчаивается. Горе горькое – ее возлюбленный погибает:
Нынче Красному Крылу луна сияет, Вздыхает ветер, сова рыдает, Ее воин под звездою почивает, И плачет сердце Красна Крыла.Трудно понять, почему маме нравится такая грустная песня. Миссис Краули, моя учительница в кушингской четвертой школе Уинга, говорит: греки верили, что созерцание боли в искусстве помогает радоваться своей жизни как она есть. Но когда я рассказываю об этом маме, та пожимает плечами.
– Да просто мелодия нравится. От нее спорится работа по дому.
Как только я дорастаю до обеденного стола, моя обязанность – сервировать. Мама учит меня столовым приборам:
– Вилка – слева. С-Л-Е-В-А. Пять букв, как и в слове “вилка”. В-И-Л-К-А, – говорит она и показывает мне, как правильно: помещает вилку рядом с тарелкой в положенном месте. – Ножик и ложку клади справа. “Ножик и ложка” – одиннадцать букв. К-Л-А-Д-И С-П-Р-А-В-А, как в “ножик и ложка”. Н-О-Ж-И-К И Л-О-Ж-К-А.
– Л-О-Ж-К-А, – говорю я.
– Да.
– И чашка, попить. Ч-А-Ш-К-А П-О-П-И-Т-Ь. Правильно?
– Вот умница-то! – откликается с кухни Маммея. К семи годам я уже умею спускать ножом с картошки тонкие полосочки кожуры, натирать сосновые полы щелоком, стоя на четвереньках, ухаживать за хмелем позади сарая, собирать дрожжи для хлеба. Мама показывает мне, как шить и штопать, и хотя с моими непослушными пальцами управляться с иглой непросто, настроена я решительно. Пробую и пробую, искалываю себе указательный палец, разлохмачиваю кончик нитки.
– Отродясь такого упорства не видела! – восклицает Маммея, но мама – ни слова, пока мне не удается вдеть нитку в иголку. И тогда она говорит:
– Кристина, да ты и впрямь упорная.
* * *
Маммея не разделяет маминого неприятия грязи. Что такого страшного случится, если по углам скопится пыль или тарелки полежат в мойке? Ее любимые предметы потрепаны временем: старая плита “Гленвуд”, кресло-качалка у окна, с ветхим тростниковым сиденьем, ручная пила с поломанной ручкой в углу кухни. У каждой вещи своя история, говорит она.
Маммея пробегает пальцами по ракушкам на каминной полке в Ракушечной, словно археолог, докопавшийся до руины, оживающей от знания, какое хранит о ней бабушка. Ракушки, которые она обнаружила в рундуке сына Алвэро, занимают здесь свое гордое место, рядом с бабушкиной черной Библией, потрепанной во многих странствиях. Пастельных оттенков ракушки всех форм и размеров выстроились вдоль стен и на подоконнике. Вазы, отделанные ракушками, статуэтки, ферротипии, валентинки, книжные обложки; крошечные изображения родового гнезда на раковине морского гребешка, написанные каким-то давним родственником; и даже обрамленная раковинами гравюра президента Линкольна.
Маммея протягивает мне драгоценную свою раковину – ту, что она отыскала у кораллового рифа на мадагаскарском пляже. Раковина удивительно тяжелая, дюймов восемь в длину, шелковисто-гладкая, в ржавую и белую зебровую полосочку сверху, а книзу – сливочно-белая.
– Называется “наутилус обыкновенный”, – говорит она. – “Наутилус” по-гречески означает “мореход”. – Рассказывает мне о стихотворении, в котором человек находит сломанную ракушку вроде вот такой где-то на берегу. Заметив, что внутренняя спиральная емкость делается все крупнее, он представляет, как моллюск внутри становится все крупнее и крупнее и, вырастая из раковины, перебирается в следующую.
“Построй еще три славных зданья, душа, / Пусть катятся годы спеша! – декламирует Маммея, раскинув руки. – Пока не обрящешь свободы своей, / Отринув тесную скорлупу у неспящего моря дней”.[6] Это о человеческой природе, понимаешь? Можно долго-долго жить в раковине, где родился. Но однажды она делается тесной.
– И что дальше? – спрашиваю я.
– Ну, дальше, чтобы жить, придется найти раковину покрупней.
Я на миг задумываюсь над этим.
– А если она слишком тесная, а ты все равно хочешь в ней жить?
Бабушка вздыхает.
– Божечки, дитя, ну и вопрос. Думаю, либо нужно набраться храбрости и найти новый дом, либо жить внутри сломанной раковины.
Маммея показывает мне, как украшать книжные обложки и вазы крошечными ракушками – как укладывать их внахлест, чтобы они струились идеально плоским каскадом. Мы приклеиваем ракушки, а она размышляет вслух о смелости и неугомонном духе моего дедушки, как он обводил пиратов вокруг пальца, выживал под девятым валом и в кораблекрушениях. Вновь рассказывает мне про флаг, который она смастерила из тряпок, когда всякая надежда уже была утеряна, и о чудесном видении того далекого корабля, что пришел им на выручку.
– Не забивай девочке голову этими небылицами, – одергивает ее мама, услышав наши разговоры из кладовки.
– Ничего это не небылицы, все по-настоящему. Ты же знаешь, ты сама там была.
Мама появляется в дверях.
– У тебя оно все выходит грандиозным, а сама при этом знаешь, что по большей части было беспросветно.
– Было оно грандиозным, – говорит Маммея. – Эта девочка, может, никогда никуда не попадет. Хоть пусть знает, что приключения – у нее в крови.
Мама уходит из комнаты, закрыв за собой дверь, и Маммея вздыхает. Говорит, уму непостижимо, что она вырастила дочь, которая повидала весь мир, но давно уж довольствуется тем, что мир приходит повидаться к ней сам. Говорит, мама осталась бы в старых девах, если б папа не взошел на холм и не предложил ей другой вариант.
Я знаю часть этой истории. Моя мама – единственный выживший ребенок, держалась она поближе к дому. После того как дедушка ушел на покой, они с Маммеей решили превратить дом в летний пансион – чтобы подзаработать, отвлечься от горя. Достроили третий этаж для гостей – еще четыре спальни, и дом стал шестикомнатным, разместили объявление в газетах по всему Восточному побережью. Об очаровательном пансионе и открыточных пейзажах вокруг пошла молва, гости потекли на север. В 1880-х целая семья могла отдыхать в доме Хэторнов за двенадцать долларов в неделю, включая питание.
Работы при пансионе стало много – больше, чем они предполагали, и моя мама потребовалась в помощь. Шли годы, все немногие пригодные холостяки в Кушинге женились или уехали. Когда маме уже было за тридцать, она, как думалось ей и всем вокруг, давно прозевала время знакомства с мужчиной и влюбленности в него. Жить ей в этом доме и заботиться о родителях, пока не похоронит их на семейном погосте между домом и морем.
– Есть такое старое выражение, – говорит Маммея, – “выдочерить род”. Знаешь, что это означает?
Качаю головой.
– Это означает, что не осталось ни одного потомка-мужчины, чтоб нес дальше фамилию. Твоя мать – последняя из кушингских Хэторнов. Когда она умрет, Хэторны умрут вместе с ней.
– Зато есть Хэторн-Пойнт.
– Да, правда. Но дома Хэторнов-то нет, а? Это теперь дом Олсонов. В честь шведского моряка, на шесть лет моложе твоей матери.
У меня голова кругом.
– Погоди… Папа моложе мамы?
– А ты не знала? – Я опять качаю головой, Маммея смеется. – Многого ты не знаешь, дитя. Йохан Олавсон – так его тогда звали. – Я пробую губами эти странные слова: Йо-хан О-лав-сон. – Едва ли словечко по-английски умел. Матросил на шхуне у капитана Джона Малоуни, который живет в домике там, внизу, со своей женой, – говорит она и показывает рукой за окно. – Знаешь такого, да?
Киваю. Капитан – дружелюбный человек с кустистыми седыми усами и желтыми, как кукуруза, зубами, а жена у него румяная, широколицая женщина, грудь у нее – одно целое с талией. Видала я в бухте и его лодку – “Серебряная пена”.
– Так вот, стоял февраль. 1890-й – скверная зима. Бесконечная. Они шли на Томастон из Нью-Йорка, доставляли дрова и уголь к тамошним известковым печам для обжига. Но когда добрались до залива Масконгас и бросили якорь, налетел шторм. Холодина была такая, что весь корабль за ночь обледенел. Ничего не попишешь – застряли. Через несколько дней, когда лед сделался потолще, они дошли до берега. До этого берега. Твоему отцу податься было некуда, и он остался с Малоуни и его женой до самой оттепели.
– И сколько это?
– Ой, не один месяц.
– И корабль так и стоял во льду все это время?
– Всю зиму, – отвечает бабушка. – Его видно было из этого окна. – Она вскидывает подбородок в сторону кладовки. Из-за двери до меня доносится приглушенный лязг посуды. – Ну и вот, сидел он в том домике всю зиму, внизу, у бухты, и оттуда этот дом – как на ладони. Скучно ему небось было до смерти. Но в Швеции он научился вязать. Соорудил то синее шерстяное одеяло в гостиной, пока жил тут; ты знала?
– Нет.
– А вот – сидя у камелька с Малоуни, что ни вечер. Короче, ты ж понимаешь, как это у людей: слово за слово, истории рассказывают – а уж Малоуни-то эти горазды сплетничать. Они ему и расскажи, уж точно, что этот дом того и гляди выдочерится, и, если Кэти выйдет замуж, все достанется ее супругу. Наверняка не знаю, конечно, могу только догадываться, что там было сказано. Но прожил он тут всего неделю – и решил учить английский. Пошел в город и попросил миссис Краули из “Крыла” поучить его.
– Мою учительницу, миссис Краули?
– Да, она и тогда уже была учительница. Ходил в дом школы каждый день – на занятия. И не успел лед растаять, он уже сменил имя и стал Джоном Олсоном. И однажды забрался сюда через поле и постучал в дверь, открыла твоя мать. Вот и весь сказ. Через год Капитан Сэм помер, а твои родители – поженились. Дом Хэторнов стал домом Олсонов. Все это… – она вскидывает руки, словно дирижер, – …стало его.
Представляю, как отец сидит у Малоуни в их уютном домике, вяжет то одеяло, а чета одаряет его байками о белом доме вдали: как три Хэторна дали свое новое имя этому клочку земли, и как один выстроил этот самый дом… о старой деве, что живет там сейчас с родителями, трое сыновей у них сгинуло, и наследников, чтоб дальше нести фамилию, не осталось…
– Думаешь, папа… любил маму? – спрашиваю я.
Маммея гладит меня по руке.
– Не знаю. Правда не знаю. Но правда вот какая, Кристина. Любить и быть любимым можно по-всякому. Что б ни привело сюда твоего отца, это теперь его жизнь.
* * *
Больше всего на свете я хочу, чтобы папа мной гордился, но причин у него мало. Во-первых, я – девочка. Хуже того – и я это уже знаю, хотя никто мне такого, вообще-то, не говорил, – я не красавица. Когда рядом никого, я иногда разглядываю свои черты в маленьком мутном осколке зеркала, прислоненном к подоконнику в кладовке. Маленькие серые глаза, один крупнее другого, длинный острый нос, тонкие губы.
– Меня притянула красота твоей матери, – всегда говорит папа, и хотя я теперь знаю, что это лишь часть истории, никаких нет сомнений: она красавица. Высокие скулы, изящная шея, тонкие руки и пальцы. Рядом с ней я чувствую себя неуклюжей, косолапой уткой при лебеде.
Во-вторых – мой недуг. При посторонних папа напряжен и раздражителен, боится, что я споткнусь, налечу на кого-нибудь, опозорю его. Недостаток грации во мне его допекает. Он постоянно бурчит что-то про лечение. Считает, что мне надо было остаться в скобах; боль, говорит он, того стоила бы. Но он понятия не имеет, каково это. Я лучше весь остаток дней буду страдать с кривыми ногами, чем еще раз переживу эти муки.
Из-за его стыда я делаюсь задиристой. Мне плевать, что ему от меня неловко. Мама говорит: не стоит быть такой упрямой и дерзкой. Но у меня, кроме дерзости, ничего нет.
Однажды вечером, когда я в кухне лущу горох, до меня из прихожей долетает разговор родителей:
– Ей что, придется остаться там одной? – спрашивает мама, голос пропитан тревогой. – Ей всего семь, Джон.
– Не знаю.
– Что они будут с ней делать?
– Узнаем, когда ее осмотрят, – говорит папа.
Пальцы страха перебирают мне позвонки.
– Как мы это потянем?
– Корову продам, если надо.
Я ковыляю к ним из кладовки.
– Не хочу ехать.
– Ты даже не знаешь, что… – начинает папа.
– Доктор Хилд уже пробовал. Ничего они не смогут поделать.
Он вздыхает.
– Я понимаю, ты боишься, Кристина, но надо быть смелой.
– Не поеду.
– Хватит. Не тебе решать, – обрывает меня мама. – Будешь делать, как тебе велят.
Наутро, когда рассвет начинает просачиваться в окна, меня грубо толкают в плечо, трясут. Нужен миг, чтобы прийти в себя, – и вот уж я гляжу отцу в глаза.
– Одевайся, – говорит он. – Пора.
Чувствую мягкое движение тяжести и тусклое тепло грелки у ног, словно живот щенка.
– Я не хочу, папа.
– Обо всем договорились. Сама знаешь. Поедешь со мной, – говорит он твердо и тихо.
Когда папа сажает меня в бричку, еще холодно и темновато. Укутывает меня в синее шерстяное одеяло, которое сам связал, а потом еще в два, устраивает подушку у меня за головой. В бричке пахнет старой кожей и мокрой лошадью. Папин любимый жеребец Черныш бьет копытами и тихо ржет, мотает длинной гривой, пока папа подтягивает сбрую.
Папа забирается на козлы, раскуривает трубку, дергает поводья, и мы отправляемся в путь по утоптанному проселку, бричка поскрипывает на ходу. От тряски у меня ноют суставы, но вскоре я привыкаю к ритму и засыпаю под убаюкивающий звук – цок-цок-цок; открываю глаза – а там уж холодный желтый свет весеннего утра. Дорогу развезло: от тающего снега кругом ручьи и протоки. Там и сям на запятнанных снежной кашей полях торчат пучки жизнелюбивых крокусов, лиловых, розовых и белых. За три часа мы замечаем лишь нескольких путников. Из зарослей возникает бродячая собака и некоторое время бежит рядом, потом отстает. Папа иногда оборачивается проверить, все ли со мной ладно. Я сижу в своем гнезде из одеял и отвечаю ему злыми взглядами.
Наконец он говорит через плечо:
– Этот врач – знаток. Мне его доктор Хилд посоветовал. Сказал, что этот врач всего несколько анализов возьмет.
– Сколько мы там пробудем?
– Не знаю.
– Больше одного дня?
– Не знаю.
– Он меня разрежет?
Папа взглядывает на меня.
– Не знаю. Незачем об этом тревожиться.
Одеяла колют мне кожу. В желудке вдруг пустота.
– Ты со мной останешься?
Папа вынимает трубку изо рта, приминает пальцем табак. Сует ее обратно в рот, пыхает дымом. Черныш цокает по грязи, мы тащимся дальше.
– Останешься?
Он не отвечает и больше не оборачивается.
До Рокленда мы добираемся шесть часов. Едим крутые яйца и хлеб с коринкой, разок останавливаемся – чтобы конь отдохнул и чтобы сходить до ветра в зарослях. Чем мы ближе, тем больше я боюсь. К приезду спина у Черныша пенится по́том. Холодно – а я тоже потею. Папа вынимает меня из брички, ставит на землю, стреноживает коня и вешает ему на шею торбу. Ведет меня по улице за руку, в другой руке держит бумажку с адресом врача.
Меня мутит, я дрожу от страха.
– Прошу тебя, папа, не надо.
– Этот врач, глядишь, поможет тебе.
– У меня все хорошо, как есть. Мне не мешает.
– Ты разве не хочешь бегать и играть, как другие дети?
– Я и так бегаю и играю.
– Оно ухудшается.
– Мне все равно.
– Перестань, Кристина. Мы с твоей матерью знаем, как тебе лучше.
– Нет, не знаете!
– Как ты смеешь разговаривать со мной непочтительно? – цедит он сквозь зубы и быстро оглядывается по сторонам – не заметил ли кто. Я знаю, как претят ему сцены.
Но ничего не могу с собой поделать – уже плачу.
– Прости, папа. Прости. Не надо. Пожалуйста.
– Мы хотим как лучше! – яростно шепчет он. – Чего ты боишься?
Подобно едва заметной приливной силе, что предшествует громадной волне, мои детские протесты и бунты – лишь намек на те чувства, что сейчас подымаются во мне. Чего же я так боюсь? Что со мной станут обращаться как с подопытной, опять тыкать и ощупывать, без конца. Что врач будет мучить меня дыбами, скобами и спицами. Что от его медицинских опытов мне станет хуже, а не лучше. Что папа уедет, а я останусь у этого врача насовсем, и домой меня никогда не отпустят.
Что, если все окажется впустую, папа останется мной недоволен еще сильнее.
– Не пойду! Ты меня не заставишь! – ору я, вырываясь и бросаясь наутек по улице.
– Ах ты упрямая, безмозглая девчонка! – зло вопит он мне вслед.
Я прячусь в проулке за бочкой, от которой смердит рыбой, сижу на корточках в грязной каше. Вскоре руки у меня уже краснеют и немеют, щеки щиплет. Вижу, как папа мелькает мимо туда и сюда, ищет меня. Разок останавливается на тротуаре, вытягивает шею, вглядывается в сумрак, но затем кряхтит и идет дальше. Примерно через час я больше уже не могу терпеть холод. Волоча ноги, бреду к бричке. Папа сидит на козлах, курит трубку, синее одеяло набросил себе на плечи.
Смотрит на меня сверху, лицо мрачное.
– Ты готова идти к врачу?
Я смотрю прямо на него.
– Нет.
Отец суров, но сцены он почти не выносит. Я знаю это про него – так узнаёшь слабые места людей, с которыми живешь. Он качает головой, посасывает трубку. Через несколько минут резко поворачивается, спрыгивает с козел. Сажает меня в бричку, затягивает на Черныше подпругу, забирается на место. Все шесть часов обратного пути до дома он молчит. Я глазею на чистую линию горизонта, в стальное небо, на темные брызги ворон, взмывающих в воздух. Голые синие деревья только начинают покрываться почками. Все призрачно, лишено цвета – даже мои руки, мраморные, как у статуи.
Домой мы прибываем уже в темноте, мама встречает нас в прихожей, крошка Сэм – у нее на руках.
– Что сказали? – спрашивает она пылко. – Смогут помочь?
Папа снимает шапку и разматывает шарф. Мама переводит взгляд с него на меня. Я вперяюсь в пол.
– Девчонка ни в какую.
– Что?
– Ни в какую. Ничего не мог я с ней поделать.
Спина у мамы каменеет.
– Не понимаю. Ты не довел ее до врача?
– Она отказалась идти.
– Отказалась идти? – Мамин голос возвышается. – Отказалась идти? Она же ребенок.
Папа протискивается мимо нее, снимает пальто на ходу. Сэм начинает скулить.
– Это ее жизнь, Кэти.
– Ее жизнь? – рявкает мама. – Ты ее родитель!
– Она закатила ужасную сцену. Я не смог ее пересилить.
Мама внезапно поворачивается ко мне.
– Глупая девчонка. Потратила папин день впустую и все свое будущее, считай, профукала. Будешь калекой весь остаток дней своих. Довольна?
Сэм принимается плакать. Я горестно качаю головой.
Мама вручает вопящего ребенка папе, тот неловко покачивает его. Склонившись ко мне, мама трясет пальцем.
– Ты сама себе худший враг, барышня. И трусиха. Бестолково это – путать страх со смелостью. – От ее теплого дыхания мне в лицо пахнет дрожжами. – Жалко мне тебя. Но так тому и быть. Никакой от нас больше помощи. Это твоя жизнь, как сказал твой несчастный отец.
* * *
Проснувшись поутру, я растопыриваю пальцы, прогоняю немоту, проникшую в меня за ночь. Вытягиваю ступни, ощущаю тесноту в щиколотках, в голенях, тупую тянущую боль под коленками. Боль у меня в суставах – как приставучий зверек, не отгонишь его. Но жаловаться не могу. Это право я утратила.
Моя депеша в мир
1940
Вскоре Энди вновь у нас на пороге. Неловко волочит треногу, под мышкой – альбом для зарисовок, в зубах зажата кисть.
– Вы не против, если я пристрою где-нибудь мольберт – так, чтоб не мешал? – спрашивает он, сбрасывая груз у дверей.
– В смысле… в доме?
Он кивает подбородком на лестницу.
– Я думал, где-нибудь наверху. Если вы не против. Его нахальство меня слегка потрясает. Кто это является без приглашения в дом к почти незнакомым людям и едва ли не пытается вселиться?
– Ну, я…
– Обещаю, что буду вести себя тихо. Вы и не заметите, что я тут.
Наверху никто не бывал много лет. Там полно пустых спален. И, по правде сказать, я бы не возражала против компании.
Киваю.
– Вот и славно, – говорит он с широкой улыбкой. Собирает вещи. – Я постараюсь не путаться у ведьм под ногами.
Топает вверх по лестнице на второй этаж, шаги его громки. Устраивает мольберт в юго-восточной спальне – в той, что когда-то была моей. Из окна ему видно, как пароходы выбираются из Порт-Клайда, к Монхигэну и в открытое море.
Я слышу сквозь половицы, как он бормочет, притоптывает ногой. Напевает.
Через несколько часов спускается, пальцы замараны краской, в уголках рта – пурпур: брал в зубы кисть.
– Мы с ведьмами вполне уживаемся, – говорит он.
* * *
Бетси появляется и исчезает. Как и мы, она старается не отвлекать Энди от работы. Но в отличие от нас ей трудно усидеть спокойно. Берет полотенце и ведро воды, моет пыльные окна; помогает мне прогнать постиранное белье через отжим и развесить его на веревках. Нацепив мой старый фартук, устраивается на корточках и сажает рядок латука на огороде.
В теплые вечера, когда Энди завершает работу, Бетси появляется с корзиной, и мы отправляемся на пикник у рощи, где папа давным-давно выстроил очаг и прибил доски между пнями – чтобы сидеть. Мы с Алом смотрим, как Бетси и Энди собирают плавник и ветки, разводят костер в круге из камней. От костра поля между нами и домом вдали кажутся песками.
Однажды дождливым утром Бетси появляется на пороге, в руке – ключи от машины, и говорит:
– Итак, мадам, нынче ваш день. Куда отправимся?
Я не уверена, что мне нужен мой день, особенно если это означает, что придется прихорашиваться. Оглядывая свое домашнее платье, носки, спущенные у щиколоток, говорю:
– Может, чаю?
– Было б мило. Когда вернемся. Хочу устроить вам приключение, Кристина. – Устремляется к плите, поднимает синий чайник, разглядывает дно. – Ага. Я так и думала. Эта рухлядь того и гляди проржавеет насквозь. Поехали купим новый.
– Да он даже не течет, Бет. Годится и такой.
Бетси смеется.
– Весь этот дом обрушится вокруг вас, а вы все равно будете говорить, что и такой годится. – Показывает на мои тапочки. – Посмотрите, как износился задник. А дырки от моли у Ала в кепке видели? Давайте, дорогая моя. Повезу вас в универмаг в Рокленде.
“Сентер Крейн”. У них есть всё. И не тревожьтесь – плачу́ я.
Наверное, ржавчину на чайнике я замечала, отвлеченно. И стоптанный задник у себя на старых тапках, и дырки у Ала в кепке. Меня все это не беспокоит. Мне от этого уютно, словно птице в гнезде, выстеленном отбросами. Но я понимаю, что Бетси желает добра. И, по чести сказать, ей, похоже, нужен некий личный проект.
– Ладно, – сдаюсь я. – Поеду.
Бетси с Алом под моросью помогают мне добраться до фургона и устроиться в нем с удобством, и мы отправляемся в долгую дорогу до Рокленда, в получасе езды. У первого знака остановки Бетси тянет руку, гладит меня по колену.
– Видите? Правда же здорово?
– Тебе же самой нравится, а, Бетс?
– Мне нравится быть при деле, – говорит она. – И приносить пользу. Думаю, это вполне себе основные человеческие желания – а вы так не думаете?
Над этим мне приходится поразмыслить. Думаю ли я так?
– Ну, когда-то да. А теперь не уверена.
– Ленивые руки… – говорит она. – Бесовы досуги. Ты так считаешь?
Смеется.
– Мои предки-пуритане – уж точно.
– Мои тоже. Но, может, они ошибались. – Смотрю в лобовое стекло на крупные капли дождя: как они падают и как их тут же сбрасывают дворники.
Бетси косится на меня и складывает губки, словно хочет что-то сказать. Но затем, чуть опустив подбородок, вновь глядит на дорогу.
* * *
Однажды за обедом – суп из колотого гороха с ветчиной – сидим на одеяле, постеленном на траве, Бетси говорит нам с Алом, что отец Энди ее не одобряет. Он против их помолвки: предупреждает Энди, что брак отвлечет его от работы, а дети – и того хуже. Но Бетси, по ее словам, все равно. Эн-Си она считает высокомерным, заносчивым, самовлюбленным. Цветовая палитра у него пошлая, а персонажи карикатурные, подлаженные под рынок.
– Для рекламы “Сливок пшеницы”[7] и “Кока-Колы”, – говорит она презрительно.
Пока она говорит, я наблюдаю за лицом Энди. Он смотрит на нее растерянно. Не кивает, но и не возражает.
Бетси рассказывает нам, что Энди нужно размежеваться с отцом. Относиться к себе серьезнее. Двигаться вперед настойчивее. Рисковать. Она считает, что палитру следует ограничить цветами построже, упростить композицию образов, отточить тон.
– Ты на такое способен, – говорит она, кладя руку ему на плечо. – Ты пока даже не догадываешься о собственной мощи.
– Ой, прошу тебя, Бетси. Я просто балуюсь. Буду врачом, – возражает Энди.
Она закатывает глаза – для нас с Алом.
– У него только что состоялась персональная выставка в Бостоне, он получил за нее награду. Не понимаю, чего он думает, будто станет кем-то еще, а не художником.
– Мне нравится изучать медицину.
– Это не страсть у тебя, Энди.
– Моя страсть – ты. – Он обнимает ее за талию, она смеется, отпихивает его.
– Иди месить темперу, – говорит она.
* * *
По утрам Энди чаще всего приплывает на плоскодонке из Порт-Клайда, в полумиле отсюда. По дороге к дому, помахивая ящиком, набитым красками и кистями, ныряет в загон для кур и появляется оттуда с пятком яиц – несет их в одной руке, как жонглерские шарики. Заходит через боковую дверь, недолго болтает со мной и с Алом, а затем отправляется наверх.
Взгляд Энди притягивает любое потрескавшееся или выцветшее приспособление, любая емкость или инструмент, предметы, какими, было время, пользовались ежедневно, а ныне они все равно что редкости в музее – отмечают жизнь, которой больше нет. Его глазами я вижу знакомые вещи заново. Блеклые розовые обои в крошечный цветочек. Красные герани в цвету на подоконнике, в синих горшках. Перила красного дерева, капитанский барометр на стене в прихожей, глиняный горшок на полке в кладовке и тамошняя синяя дверь, исцарапанная давней собакой.
Иногда Энди забирает альбом и ящик и уходит в сарай, в хлев, в поля. Я наблюдаю за ним из кухонного окна, он бродит по нашим землям, прихотливо петляет в траве, вглядывается в слова на кладбищенских надгробиях, сидит на галечном берегу, уставившись на пенистые волны. Когда возвращается в дом, я предлагаю ему дрожжевой хлеб, прямо из печи, нарезанную свинину, похлебку из пикши, жареный яблочный пирог. Он усаживается на крылечке у открытой двери, плошка – в ладони, я устраиваюсь у себя в кресле, и мы разговариваем о жизни.
Он – младший ребенок из пяти, рассказывает Энди, у него три заботливых сестры. Из-за вывихнутой правой ноги и больного бедра он в детстве ходил плохо, спортом заниматься не мог, – вы, наверное, заметили мою хромоту? Его донимали грудные хвори. Отец ему был единственным учителем. В школу не пускал, наставлял у себя в студии. Научил всему в истории искусства, как замешивать краски, как натягивать холсты.
– Я никогда не был, как другие дети. Не подходил им. Белая ворона. Отщепенец.
Немудрено, что мы ладим, думаю я.
– Бетси много рассказывала мне о вас с Алом, – продолжает Энди. – Как Ал рубит дрова для всех соседей. А вы шьете платья для дам из города – и даже лоскутные одеяла. – Он показывает на крошечные цветочки у меня на рукаве. – Это вы сами вышили?
– Да. Незабудки, – добавляю я, потому что не очень-то и разберешь.
– Интересно, на что способен ум, правда? – размышляет он вслух, вытягивая руку, сжимая и разжимая кулак. – Как тело приспосабливается, если ум отказывается подчиниться. Те сложные стежки на наволочках, что вы нам подарили, и вот эти, на блузке… Трудно поверить, что ваши пальцы способны на такую работу, но вот же – вы их заставили. – Он относит пустую плошку на рабочий стол в кухне, выхватывает кусок яблочного пирога из сковородки. – Вы – как я. Вы с этим живете. Я таким восхищаюсь.
* * *
Набросок за наброском Энди сосредоточен на доме. Очертания на фоне неба, клякса дыма возносится из трубы. Вид с водостока, из бухты, глазами парящей чайки. Дом, одинокий на холме или окруженный деревьями. Громадный, словно замок, маленький, будто детская игрушка. Надворные постройки то возникают, то исчезают. Но есть и неизменные величины: поле, дом, горизонт, небо.
Поле, дом, горизонт, небо.
– Чего ты его все рисуешь и рисуешь? – спрашиваю я его однажды, пока мы сидим в кухне.
– Ой, не знаю, – отвечает он, завозившись на крылечке. Смотрит в пространство, барабанит пальцами по полу. – Пытаюсь ухватить… что-то. Чувство этого места, а не само место, скорее. Д. Х. Лоренс – он был писателем, а еще художником, – написал так: “Вблизи плоти вещей можно уловить трепет, что творит нас и уничтожает”.[8] Хочу добиться такого – подобраться близко к плоти вещей. Как можно ближе. А это означает возвращаться к одному и тому же материалу вновь и вновь, всякий раз вкапываясь все глубже. – Он смеется, проводит рукой по волосам. – Может, кажется, что я сумасшедший, да?
– Я просто думаю, что может наскучить.
– Знаю, что вы бы так и решили. – Качает головой. – Люди говорят, я реалист, но, если честно, на моих картинах все на самом деле не вполне… по-настоящему. Я убираю то, что мне не нравится, и замещаю это собой.
– В смысле – собой?
– Это моя маленькая тайна, Кристина, – отвечает он. – Я всегда пишу себя.
* * *
В комнате наверху, где Энди установил мольберт, – односпальная кровать с ржавой скрипучей рамой. Когда Ал после обеда завершает дела, он частенько поднимается туда, перед тем как вздремнуть, и наблюдает, как Энди рисует.
Однажды, болтая в дверях со мной и Алом, Энди походя бросает, что ему не нравится, когда за ним подсматривают. Ему хочется работать уединенно.
– Я тогда не буду приходить, – говорит Ал.
– Ой, нет, я не об этом, – говорит Энди. – Мне нравится, когда вы рядом.
– Но он же подсматривает, – говорю я. – Мы оба подсматриваем.
Энди смеется, качает головой.
– Вы – другое дело.
– Он какой есть, когда рядом с вами, – говорит Бетси, когда я пересказываю ей ту беседу. – Потому что вам с Алом ничего от него не нужно. Вы даете ему делать, что ему хочется.
– Для нас это развлечение, – говорю я ей. – Тут мало что происходит, ты ж понимаешь.
И это правда. Этот дом так долго полнился постояльцами. Когда-то я просыпалась каждое утро под какофонию звуков, проникавших сквозь стены и половицы: папин громовый голос, топот мальчишек по лестнице, нотации Маммеи, чтоб носились потише, собачий лай и крики петуха. А потом стало так тихо. Теперь же я просыпаюсь поутру и думаю: “Сегодня придет Энди”. Он еще даже не явился, а день преображен.
1900–1912
Зимними вечерами, когда солнце садится в половине четвертого, а в щелях воет ветер, мы сбиваемся у печки, завернутые в одеяла, пьем теплое молоко и чай в сумрачном свете лампы на китовом жире. Папа показывает Алу, Сэму и мне, как плести узлы, – он научился этому еще матросом: простой, стремя, шкотовый, коровий, лассо. Выдает нам деревянные спицы и пытается научить вязать (хотя мальчишки фыркают, отказываются учиться). Он показывает нам, как вытачивать из дерева свистульки и лодочки. Мы выставляем их на каминной полке, а потом, когда теплеет, берем эти лодочки с собой на залив и смотрим, какая лучше поплывет. Я наблюдаю за отцом – высоким, крупным, с косматой белокурой головой, склоненной над малюткой-лодкой, что-то бормочет себе под нос по-шведски, увещевает суденышко пуститься в бурные воды. Маммея говорила мне, что за несколько месяцев до моего рождения папин брат Берндт приплывал из Гётеборга, на всю зиму, и они вдвоем соорудили мне колыбельку, покрасили ее в белый. Берндт – единственный из навестивших нас Олавсонов.
На низкой полке в Ракушечной, позади громадного рапана, я обнаруживаю деревянный ларчик, набитый пестрым собранием предметов: гребень из китового уса, зубная щетка с конским волосом, раскрашенный оловянный солдатик из древнего детского набора, какие-то камешки и минералы.
– Чье это? – спрашиваю я у Маммеи.
– Твоего отца.
– Что это все такое?
– Сама у него спроси.
И вот, тем же вечером, когда папа возвращается с дойки, я вытаскиваю ларчик.
– Маммея говорит, это твое.
Папа жмет плечами.
– Пустяки. Не знаю, чего храню. Просто всякие мелочи, которые я привез из Швеции.
Взвешивая кусок угля в ладони, спрашиваю:
– Зачем ты это хранишь?
Он протягивает руку. Проводит пальцами по металлическим черным граням.
– Антрацит, – говорит он. – Почти чистый уголь. Получился из разложившихся растений и животных, миллионы лет назад. У меня был учитель, который объяснял мне про камни и минералы.
– У тебя в деревне в Швеции?
Кивает.
– В Йаллинье.
– В Йаллинье, – повторяю я. Чужедальнее слово. “Йал-ли-нье”. – Ты, значит, хранил это, чтоб напоминало о доме?
Он шумно фыркает носом.
– Наверное.
– Скучаешь?
– Не очень. По чему-то, видимо, да.
– Например…
– Ой, не знаю. По хлебу, который называется “свартброд”. С лососем и сметаной. И по жареному картофельному пирогу “раггмунк”, какой сестра моя пекла. По бруснике, может.
– А как же… по сестре? По маме?
И тут-то он мне и рассказывает о нищей двухкомнатной хижине с низким потолком, в деревне Йаллинье, где его семья из десяти человек обитала вместе с коровой, их непременной защитой от голода. Отец, пьяница с двумя настроениями – угрюмостью и бешенством – измывался над ним и его семерыми младшими братьями и сестрами и время от времени трудился на торфяных разработках поденщиком, когда подпирало. Постоянный изводящий голод. Не раз и не два, рассказывает папа, избегал он тюрьмы, улепетывая от полиции в долгой погоне по мощеным улочкам, стибрив свиную шкварку или кувшинчик кленового сиропа.
С мальства знал он, что будущее у него в Йаллинье незавидное: никакой работы, да и для большого города Гётеборга в шестидесяти милях оттуда умений у него не было. Хоть и хваткий на учебу, в школе он прилежания не выказывал, наловчился лишь читать самые простые тексты. Торговле не обучался. Сам разобрался, как вязать, чтоб помогать маме – та зарабатывала грош-другой шарфами, варежками и шапками, но не по мужчине такой труд, говорит папа.
И вот услыхал он о торговом судне, что направляется в Нью-Йорк, и первым, еще потемну, примчался на гётеборгскую пристань.
Капитан фыркнул. “Пятнадцать лет? Слишком зелен, чтоб от мамки уезжать”.
Но папа настроился решительно. “Она по мне не заскучает, – сказал он. – На один рот меньше кормить, на пару грошей больше остальным. Хворым малышам”. Младший братик Свен, и года не было, месяцем раньше умер от голода.
Вот так отправился папа в плавание с капитаном и его малой командой, через весь белый свет, да назад, да вокруг. Месяцы превратились в годы, прошлое начало меркнуть. Он слал матери деньги и поговаривал, как и все моряки, о возвращении домой, но чем больше оставался вдали от Йаллинье, тем меньше по ней скучал. Не стремился вновь спотыкаться о братьев и сестер, не говоря уж о корове. Не стремился в убогую лачугу с отхожим ведром в углу и вонью немытых тел. Сырое узилище корабельного трюма – условия, может, и не намного лучше, но из трюма, по крайней мере, можно выбраться на просторную палубу и глазеть в бескрайнее небо, усыпанное звездами, с желтком луны.
* * *
Удивительно, что папа столько всего знает о крестьянском труде, – если учесть, что вырос он в лачуге, а третий десяток свой провел в морях. Мама говорит, он просто быстро все схватывает, чем бы ни решил заняться. Он переделал пансион в семейный дом, разводит коров, овец и кур на молоко, мясо, шерсть и яйца. Сажает кукурузу, горох и картошку на каменистой почве, каждый год меняет культуру, обустроил лавку на наших угодьях – продавать выращенное. Его покупатели приплывают на лодках из Порт-Клайда, со Святого Георгия и из Плезант-Пойнта, грузят плоскодонки продуктами и гребут восвояси.
Обнаружив, что, если принести на поля водоросли, почва остается влажной, а сорняки прут не так сильно, папа загоняет Ала, Сэма и меня собирать и разносить водоросли по полю. Натянув толстые холщовые рукавицы, мы по двое сталкиваем тяжелую тачку к кромке воды в отлив. Обрываем ламинарию с камней, выбираем морские желуди, крабов и улиток, грузим тачку губчатыми зелеными плетями, плоскими, пузырчатыми по краям, широкими лентами, рифлеными, словно корочка от пирога. Рукавицы жесткие, неуклюжие: проще хватать водоросли голыми руками, и мы снимаем рукавицы, полощем руки в океанской воде – смываем слизь. А дальше толкаем тачку вверх по холму на свежевспаханное поле, где хватаем охапки холодной ламинарии, разминаем ее пальцами и разбрасываем вдоль грядок.
– Разгребайте, – командует папа оттуда, где мотыжит, – не удушайте посадки.
Папа вечно измышляет прожекты, как бы добыть денег. Его отара овец прибывает, и хотя папа продает шерсть местным, однажды решает собрать побольше и выслать туда, где шерсть вычешут, высучат, покрасят и продадут в другие штаты по более высокой цене. На следующее лето он придумывает с соседом рыболовный заездок в бухте между Бёрд-Пойнтом и Хэторн-Пойнтом. Теперь вот зима, и он решает, что надо собрать пресный лед, его можно погрузить на корабли и легко перевезти пароходом ближними морскими путями в Бостон и далее. Он собирает его в леднике, который построил Капитан Сэм, – ледник простаивал порожним десятки лет.
Как любой урожай, лед – штука хрупкая и переменчивая: яркое солнце или внезапная буря способны его уничтожить. Никаких гарантий, что папе заплатят, нет – пока лед не прибудет в Бостон. Папа ждет до февраля, когда лед на пруду Вайнэла отрастает до четырнадцати-шестнадцати дюймов, и предлагает другому фермеру деньги, чтоб тот помог ему счистить снег лошадьми и плугом. Ледяными утрами с рассвета на ногах, они таскают лошадью по льду чистилку – приспособление из нескольких досок, сбитых между собой так, чтобы получалась плоская платформа футов в восемь шириной, а к ней приделан трехфутовых скребок – счищать лед потяжелее, помокрее. Несколько мужчин разделывают лед ножовками, разгорячаются за работой, сбрасывают с себя пальто, шарфы и шапки. Труд тяжкий, но эти люди и лошади к тяжкому труду привычные.
Когда глыба льда отпилена и болтается в воде, двенадцать дюймов над тягучей водой, мужчины берутся за багры – длинные шесты с острыми концами, гонят лед, куда им надо. Дальше – нудная работа: нарезать и погрузить эти глыбы на прицепы, в которые впряжены лошади, и довезти их до ледника за хлевом. Там ледяные блоки будут лежать под опилками; часть приберегут на продажу местным, а остальное будет ждать, пока в бухте не снарядят судно до Массачусетса.
В утро заготовки, когда папа отбывает из дома, я одеваюсь впотьмах, напяливаю слой за слоем свитеры и штаны поверх длинного белья, натягиваю две пары носков. Встречаюсь с Алом внизу, и мы отправляемся в туман, выдуваем теплый воздух друг на дружку, двигаемся к пруду Вайнэла – поглядеть, как лошади таскают плуг туда-сюда по толстому льду, углубляют колеи. Тихо, словно мука из сита, падает снег, сбивается в наметы.
Отца замечаем издали, он ведет Черныша с плугом. Папа нас тоже видит.
– Не выходите на лед! – кричит он.
Добравшись до уреза воды, мы с Алом стоим молча, смотрим, как мужчины трудятся. Черныш норовисто взбрыкивает, трясет головой. Нервный он конь: я целые часы просиживала в стойле, изобретая способы его успокоить. На нем удавка, которую я соорудила несколько дней назад, – чтобы управлять им, если его что-нибудь напугает.
Один работник сломал багор о лед, все отвлекаются, советуют то и это, и тут я замечаю, что Черныш медленно скользит к краю льда. Внезапно все пронизывает тонкое ржание. Глаза у коня закатываются от ужаса, он падает в удушающе-ледяную воду, мечется, бьется. Плуг раскачивается на кромке. Не задумываясь, я бросаюсь к отцу по льду.
– Черт бы драл, вернись! – орет папа.
– Хватайся за удавку! – кричу я, показывая себе на горло. – Пусть не дышит!
Папа знаками призывает нескольких мужчин, они берутся все вместе, плечом к плечу, – папа посередине, остальные держат его за ремень. Он нависает над головой коня, хватается за веревку, натягивает. Через миг Черныш затихает. Папе удается вытянуть его на лед за сбрую, сначала передние ноги, следом брюхо и наконец – мощные задние. Мгновение конь стоит, застыв, расставив ноги, будто статуя. А затем склоняет голову и отряхивает гриву, разбрызгивая воду.
За ужином в тот вечер папа рассказывает Маммее и маме, что я – самый своенравный и упрямый ребенок у него в семье, и шею он мне за то, что я выбежала на лед, не свернул по одной-единственной причине: моя сообразительность, возможно, спасла Чернышу жизнь. Утонувший конь, мы все понимаем, – громадная потеря.
– Интересно, в кого она такая, – произносит мама.
* * *
Вечерами, раз или два в месяц, местные фермеры приезжают в гости выпить виски и поиграть в карты за обеденным столом. Папа отличается от них – неброскими манерами и шведским акцентом, но того, что все они – фермеры и рыболовы, для братства достаточно. Мама с Маммеей отбывают спать, а мы с Алом сидим на лестнице, где нас не видно, и слушаем байки.
Чем больше Ричард Вутен пьет, тем больше болтает:
– В том Тайном туннеле сокровище, как бог свят, точно. Придет день, клянусь, я лапу-то на него наложу.
Мы с Алом заворожены историей Тайного туннеля. Согласно местным легендам, двухсотфутовый туннель выкопали в скале рядом с Бёрд-Пойнтом первые поселенцы – чтобы прятаться от заезжих пиратов и от индейцев абенаки.
– Я вот прям совсем рядом был. Вот эдак почти, – говорит Ричард. Голос у него делается тише, и приходится прижиматься к самым перилам, чтобы расслышать. – Темнотища, глаз выколи. Ни единой звезды в небе. Лезу внутрь с фонарем. Копаю невесть сколько, не час, не два уж точно.
– Сколько раз ты эту байку рассказывал – сто? – фыркает кто-то.
Ричард не обращает внимания.
– И тут вижу: блестит сокровище.
– Да ладно.
– Вижу, говорю же, своими собственными глазами! И тут…
Мужчины бурчат и смеются.
– Ой, да ну!
– Придумывает на ходу.
– Выкладывай, Ричард, – говорит папа.
– Исчезает. Вот так. – Я слышу щелчок пальцами. – Как раз когда я к нему потянулся. Было – и сплыло.
– Вот непруха-то, – выкликает кто-то. – Тост за сокровище!
– За сокровище!
На следующий вечер мы с Алом выходим из дома со свечным огарком и добираемся до Бёрд-Пойнта. Вход в туннель темен и загадочен, нашу мерцающую свечку то и дело задувает. Двигаемся вглубь, вокруг – зловещая тишь. Через пятьдесят футов дорогу нам преграждает каменная осыпь. У меня странное облегчение: возможно, мы бы и сами дальше не осмелились. Нашли бы мы спрятанное сокровище? Или же пропали бы в глубинах туннеля на веки вечные?
Мы с Алом ищем приключений всюду. Через несколько недель он будит меня посреди ночи, палец прижат к губам, шепчет:
– Пошли со мной.
Я натягиваю домашнее платье поверх ночнушки и старые кожаные туфли поверх носков и вылезаю из уютного кокона постели. Оказавшись снаружи, вижу сияющий оранжевый шар в нескольких сотнях ярдов, на пристани, отражение мечется по воде. А затем осознаю: горит корабль.
– Уже несколько часов горит, – произносит Ал. – Каботажник, щелочь возит. Курсом на Томастон, как пить дать.
– Может, папу разбудить?.
– Не.
– А вдруг он помочь может?
– Шлюпка с командой прибыла к берегу недавно. Ничего никто не может поделать.
Больше часа сидим мы в траве. Сухогруз пылает во мраке, его разрушение – тоже красота. Я глазею на Ала, лицо его подсвечено сиянием. Думаю о его любимой книге – “Остров сокровищ”, о мальчике, который удирает в моря, искать зарытое сокровище. Миссис Краули, видя, как часто Ал листает эту книгу с ее полки, подарила ему “Остров сокровищ”, когда школу распустили на каникулы. “Мореходу Алу, – написала она на обороте обложки опрятным почерком. – Желаю тебе многих приключений”.
Через несколько месяцев остов того каботажника оголяется в отлив. Папа с Алом добираются к нему на лодке, чтобы отодрать от корпуса дубовую обшивку, потом выпрямляют, уложив штабелем под груз, и перестилают этими досками пол в леднике.
* * *
Все будние дни мы с Алом вместе ходим в четвертую школу Уинга в Кушинге, в полутора милях от дома. Ходок я нестойкий, добираемся мы подолгу. Я стараюсь сосредоточиться на шагах, но падаю так часто, что колени и локти у меня вечно в синяках и царапинах, ватные подкладки не помогают. Боковые стороны стоп жесткие и мозолистые.
Ал постоянно жалуется:
– Иисусе, коровы – и те быстрее тебя. Я бы уже за это время туда и обратно успел.
– Ну и давай, – говорю я ему, но он никогда не уходит.
Попроще, если подавать корпус вперед, а равновесие держать руками, но и это получается не всякий раз. Когда падаю, Ал вздыхает и приговаривает:
– Ну же, теперь точно опоздаем. – Но, когда подымает меня, старается изо всех сил.
Иногда мы ходим в школу с двумя соседскими девочками, Энн и Мэри Коннор, – но лишь когда их мать настаивает. Они цокают языками и пинают сучки на дороге, когда я спотыкаюсь и отстаю.
– О господи, опять? – бормочет Мэри, и они перешептываются между собой, чтобы мы с Алом не слышали.
В школе я жду, пока раздевалка не опустеет, и лишь затем снимаю наколенники и налокотники, прячу их в судок с обедом. Другие дети бывают злыднями. Лезли Бур ставит мне подножки, когда я иду между партами за учебником, и я падаю на парту к Гертруд Гиббонз.
– Поосторожнее, недотепа, – бурчит Гертруд.
Мне вообще-то есть что сказать. Мало у кого из нас в школе Уинга номер четыре жизнь – загляденье. Мать Гертруд Гиббонз сбежала в Портленд с мужчиной, работавшим на бумажной фабрике в Огасте, – и ни слуху ни духу с тех пор от нее. Отчим Лезли бьет его ремнем. У сестер Коннор нет отца: он не ушел – его просто не было. Это маленький город, мы все знаем друг о друге больше, чем хотелось бы.
Однажды днем мы с Алом сидим на школьном дворе, обедаем в тени ильма, и тут Лезли и еще один мальчик принимаются нас дразнить:
– Что с вами такое? Вы ненормальные, ясно вам?
Кончики ушей у Ала краснеют, но он помалкивает. Он маленький и щуплый, не чета этим крепышам с табаком за щеками. Да и не хочу я, чтобы он за меня заступался. Я старше его на год с лишним.
Мимо идет девочка из моего класса, Сэди Шниц. Тощая, суровая, крепкая, как стебель подсолнуха, кареглазая, круглолицая, с нимбом кудрявых волос-лепестков. Упирает руки в боки, наставляет на мальчишек подбородок.
– Хватит уже.
– Сэди Бекон, – ухмыляясь, произносит Лезли. – Так тебя, кажись, звать?
– Сдается, не стоит тебе играть со мной в клички, Лезли Бур. – Обращаясь ко мне с Алом, Сэди говорит: – Ничего, если с вами посижу?
Ал не в восторге, но я хлопаю по траве рядом с собой.
Сэди делится со мной сэндвичем – тоненький кусок мясного рулета на хлебе с маслом. Рассказывает, что живет с двумя сестрами постарше в квартире над аптекой, где одна сестра трудится продавщицей. О родителях не заикается, а я не спрашиваю.
– Ничего, если я и завтра с вами побуду? – спрашивает она.
Ал впивается в меня взглядом.
– Конечно, – говорю.
До сих пор Ал был мне единственным напарником. Он знаком мне так же, как стены в кухне или тропа к хлеву. Было б здорово, думаю я, завести подругу.
* * *
На суше Ал застенчив и неуклюж. Говорит немного. В толпе ведет себя так, словно предпочел бы оказаться где-то еще. Не знает, чем занять руки, и те свисают непомерными перчатками у него с запястий. Но в океане, когда мы догребаем до одного из папиных сине-белых буйков, Ал целеустремлен и уверен в себе. Быстро дернув за веревку, он уже знает, сколько омаров набилось в ловушку глубоко под водой.
Ал всегда хотел ловить омаров. Летом ему исполняется восемь, и папа решает, что мальчик дорос учиться. Берет Ала с собой на старом ялике, несколько вечеров в неделю, а иногда и я еду с ними. Мы выгребаем так далеко, что наш белый домик смотрится точкой среди холмов. Мне сидеть посреди океана в маленькой лодке нервно: у меня и на суше-то с равновесием неладно. Вода вокруг глубока и темна; доски грубы, лужицы соленой воды щиплют мне босые ноги, мочат подол платья. Я копошусь и вздыхаю, мне неймется поплыть обратно. А вот Ал – в своей стихии.
Папа вручает нам по донке. Это простая снасть: суконная нить, пропитанная льняным маслом и намотанная на деревяшку, которую он обстругал с обеих сторон, чтоб лучше держала нить. На конце – здоровенный крючок и свинцовое грузило, чтоб снасть шла на глубину. Папа учит нас вешать наживку, которую держит в старом ведре, накрытом доской. Нитку мы разматываем медленно – и ждем. У меня ни одной поклевки, а снасть Ала – чистое волшебство. Может, вся штука в том, как он наживку сажает? Или как подергивает за нитку, чтоб рыба верила, будто наживка – живая? Или еще из-за чего-то – из-за безмятежной уверенности, что рыба точно придет? Полдесятка раз у Ала между указательным и большим пальцами возникает едва уловимый дерг, и Ал в ответ резко тянет за нитку – чтобы крючок впился, – а затем, перебирая руками, вытаскивает бьющуюся пикшу или треску из морских глубин через борт в лодку.
С ловкостью хирурга он вынимает крючок из рыбьего рта и распутывает снасть. Настаивает, что весь обратный путь будет грести сам. Когда оказываемся у пристани, он показывает ладони, красные, ободранные, и улыбается. Гордится мозолями.
За несколько лет Ал восстанавливает папин старый ялик и учится строить и оснащать собственные ловушки, сооружает верши и рамы из всяких деревяшек, вяжет из бечевки мормышки, утяжеляет их камешками. Верши у него получаются даже лучше папиных, хвастает он – и не врет: они кишат омарами. Строит за хлевом рыбацкий сарай, где держит ловушки и бочки с наживкой, конопатку и буйки, рыболовные сети и гвозди. Вскоре он уже ведает сине-белыми буйками и продает омаров покупателям из Кушинга и аж из самого Порт-Клайда.
Ал ждет не дождется, когда уже кончится книжная учеба. Он просто время коротает, говорит, считает деньки, когда сможет все время проводить в своей обожаемой лодке.
* * *
Миссис Краули говорит мне как-то раз – ничего приятнее мне сроду не говорили, – что я одна из самых толковых учениц в ее жизни. Задолго до всех я разбираюсь с чтением и арифметикой. Она всегда задает мне больше на дом – и больше книг для чтения. Я ценю этот комплимент, но, может, умей я бегать и играть, как все прочие дети, была бы такой же неусидчивой и невнимательной. По правде говоря, когда погружаюсь в книгу, я меньше осознаю боль в непослушных руках и ногах.
* * *
В школе нам рассказывают о судилище над сэлемскими ведьмами. По словам миссис Краули, с 1692-го по 1693-й двести пятьдесят женщин обвинили в ведьмовстве, сто пятьдесят бросили за решетку, девятнадцать повесили. Их могли осудить по “заявлению о призраке”, то есть по утверждению обвинителя, что обвиняемая являлась ему привидением, и по “отметинам ведьмы” – родинкам или бородавкам. Сплетни, молва и слухи считались уликами. Верховный судья Джон Хэторн славился своей беспощадностью. Выступал скорее карателем, чем непредвзятым судьей.
– Он нам родня, между прочим, – говорит мне Маммея, когда после школы я пересказываю ей урок. Мы вдвоем сидим у “Гленвуда” в кухне, штопаем носки. – Помнишь тех троих Хэторнов, уехавших из Сэлема посреди зимы? Через полвека после судилища дело было. Убегали от срама.
Вытаскивая очередной носок из кучи, Маммея излагает мне историю Бриджет Бишоп, хозяйки таверны, которую обвинили в краже яиц и в том, что она превращается в кошку. Бриджет была чудачка, чьи яркие наряды – в особенности красный лиф, украшенный кружевом, – считали признаком дьявола. После того как две покаявшиеся ведьмы засвидетельствовали, что Бриджет участвовала в их шабаше, ее арестовали, бросили в промозглое узилище и кормили там гнилыми картошкой да свеклой и похлебкой. Всего несколько дней в подобных условиях, говорит Маммея, – и почтенная женщина начнет смахивать на затравленного отчаянного зверя.
В зале суда перед злорадствовавшей толпой Джон Хэторн спросил ее: “Откуда тебе знать, что ты не ведьма?”
Она ответила: “Ничего в этом не смыслю”.
Судья Хэторн прищурился. Вскинул указательный палец. Указал им на Бриджет, и она отшатнулась, словно от удара. “Ты глянь, – сказал он. – На прямой лжи тебя ловлю”. И хлопнул ладонью по столу – Маммея хлопает ладонью, показывая, как это было, – и обвинители со зрителями заходятся в неистовстве.
Бриджет Бишоп знала, что все кончено, говорит Маммея. Ее приговорят к смерти, оставят болтаться на Висельном холме, пока кто-нибудь сердобольный не срежет труп – может, посреди ночи. Как и многие приговоренные, она была одиночкой средних лет, с домом и собственностью, которые уже конфисковали. Кто возьмет ее сторону? Кто вступится? Никто.
В конце концов губернатор Массачусетса пресек разбирательства. Один за другим присяжные заседатели отреклись от своих слов, раскаялись и пожалели, что так поспешили судить. Лишь Джон Хэторн помалкивал. Ни малейшего огорчения не выразил. Его репутация хладнокровного изувера пережила даже его смерть через двадцать пять лет – мирную кончину в довольстве и уюте.
Маммея рассказывает мне о проклятии, наложенном Бриджет Бишоп на потомков Хэторна. Ну, не проклятие, конечно, а предупреждение, наказ.
– Нельзя не чтить ту женщину, – говорит Маммея. – Единственной силой, какой владела она, – навести на него страх Божий! Или, может, какой другой страх. Но я в это верю. Думаю, предки твои притащили ведьм из Сэлема за собою. Их духи населяют этот дом.
– Да что ж такое. – Мама громко вздыхает за стенкой. Считает, что ее мать забивает мне голову небывальщиной. Считает, что лучше б я поменьше обращала внимания на байки Маммеи да побольше – на штопку.
* * *
Я спрашиваю папу о проклятии, но он говорит, что ничего про это не ведает, хотя знает, что Хэторны – выводок, знаменитый своей неукротимостью. Лютый, свирепый шотландско-ирландский клан, перебравшийся в Новую Англию из Северной Ирландии в 1600-х, они быстро нажили репутацию жестоких к тем, кого считали своими врагами.
– Били квакеров, обдуривали индейцев и продавали их в рабство – такое вот творили, – говорит он.
– Откуда ты все это знаешь? – спрашиваю я.
– Пивал я как-то раз виски с твоим дедом, давным-давно, – говорит он.
* * *
Весной моего десятого года мама на сносях. Готовим в основном мы с Маммеей, а готовка на излете долгой зимы – по большей части из старых корнеплодов, припасенных в погребе, из сушеной рыбы и мяса из коптильни, супы да похлебки. На воде так холодно и бурно, что папа с Алом на плоскодонке выходить в море не могут. У Сэма сухой кашель и сопли. Земля вымочена насквозь: если падаю по дороге в школу, потом весь день замурзана и в сырой юбке. У всех нас поводов для радости немного.
В один сырой вечер по дороге из школы домой я вижу впереди на дороге папину бричку, знакомый барсучий силуэт в синем капоре на сиденье у папы за спиной – все понятно: мисс Фрили едет к маме на роды. Добираюсь домой, и мы с братьями и с отцом сидим в кухне. Дождь лупит по крыше и в окна, тяжкий, густой, и все мы чуем сырость аж в костях. Сдираю с себя носки, развешиваю над плитой. Даже дровяной дым из “Гленвуда” волглый.
Ребенок рождается без затруднений. Мама уже привыкла. Но после рождения Фреда она меняется. Когда нужна младенцу, встает не спеша. Посреди дня вручает его Маммее и идет прилечь. Фред вопит, требует молока, мама не дает, и Маммее приходится разводить коровье водой и добавлять туда чуточку сахара. Сует мыльный камень в духовку, обертывает тряпицей и кладет Фреду в колыбель, когда тот спит, но это маме не замена, приговаривает она.
Мы с Алом спешим из школы домой – вынуть Фреда из кроватки и покачать в кресле, искупать его в жестяном корыте. (Перед купанием он воняет кисло и сыро, словно его вытащили из земляной ямы в поле. А после купания пахнет, как щеночек.) Все стараемся придумать, как развеселить маму. Маммея печет фунтовый кекс с лимонными корками – мамин любимый. Папа строит комод для ее белья, с четырьмя ящиками. Синий – любимый мамин цвет, и я решаю удивить ее – раскрасить то-сё в доме в синий.
Ал, когда я излагаю ему свою затею, качает головой.
– Если стул покрасить, это не поможет.
– Я знаю, – говорю я, но надеюсь, что все же поможет.
Спрашиваю разрешения у Маммеи, зная, что папа не одобрит.
– Замечательно, – говорит она и выдает мне денег на краску.
После школы я покупаю галлон самой яркой синей краски, какая находится в универмаге О. С. Фэйлза и сына,[9] две кисти с конской щетиной, жестяной поддон и банку скипидара, прячу все это в зарослях, когда устаю тащить домой. Назавтра иду проверить то место, а там ничего нет. Опасаюсь, что кто-то украл мои припасы, но, оказавшись дома, вижу их в сарае.
– Я все равно считаю, что это дурацкая затея, – говорит Ал, – но не одной же тебе всю работу делать.
Мокрая краска – цвета пера синешейки и блестит, как гладь озера. Мы с Алом оттираем старой ветошью двери сарая, раму и ободья фургона, салазки, решетку для сена и горшки с геранью. Начал красить – остановиться нет мочи. Отправляемся к Фэйлзу за добавкой, возвращаемся и красим парадную и заднюю двери – и все рамы кроватей.
Уговариваем маму спуститься и посмотреть, что мы для нее сделали, и она обнимает нас с Алом.
Все потихоньку налаживается. Теплеет, и мы с мамой опять отправляемся в отлив на прогулки на остров Малый, но теперь берем с собой и моих братьев. Ал убегает в травы, Сэм собирает морских звезд в лужицы на мелководье. Мы бродим по галечному пляжу, ищем ракушки и устраиваемся на привал под старой елью. Мама снимает с себя малыша Фреда, укладывает на спинку, Фред воркует и курлычет. Я сажусь на валун, наблюдаю за мамой. Кажется, ей лучше. Но время от времени я вижу, как она вперяется в пространство, на лице – ничего, и это меня тревожит.
* * *
Миссис Краули опрятным почерком выписывает на доску стихотворение Эмили Дикинсон, и по классу расползается ворчание.
– Это шестилетка написала, что ли?
– Что это за тире сплошные? Грамматика такая?
– Мой дедушка говорил, что она просто чудна́я старуха. Христова невеста, – говорит Гертруд Гиббонз, наша классная всезнайка.
– У Эмили Дикинсон действительно была тихая жизнь, – говорит миссис Краули, закладывая выбившуюся седую прядь за ухо. – Один мужчина разбил ей сердце, и она стала эдакой затворницей. Всегда одевалась в белое. Никто и не догадывался, что она – поэт: ею восхищались из-за ее чудесного сада. Она часами просиживала за маленьким письменным столом, но толком никто не ведал, чем она занимается. После ее смерти в ящике стола обнаружили папку со стихами. Многие страницы, исписанные четким почерком, с очень странной разметкой, сами видите. Сотни и сотни стихотворений.
Переписывая с доски в тетрадку, проговариваю слова:
Вот я – Никто! А кто же ты? Никто – и ты – как я? Тогда нас двое! Но молчи! Всем раструбят – ты знай!– Даже не в рифму, – говорит Лезли Бур.
– О чем же оно, по-твоему? – спрашивает миссис Краули, воздевая мелок.
– Не знаю. Ей кажется, что ее жизнь не имеет значения?
– Это одно из толкований. Кристина, а ты как думаешь?
– Думаю, она видит себя отличной от большинства людей, – отвечаю я. – И даже если ее считают странной, она знает, что не одна такая.
Миссис Краули улыбается. Вроде бы собирается что-то сказать, но передумывает.
– Братский дух, – говорит она.
После занятий я спрашиваю у нее, можно ли мне почитать еще стихов этой поэтессы, о которой я раньше и не слышала. Беру со стола миссис Краули маленький синий томик в твердом переплете, и та показывает мне, что Эмили Дикинсон часто применяла четырехдольный размер, перемежая строки из восьми и шести слогов – такая стихотворная форма характерна для гимнов. Что большинство своих стихов Дикинсон написала с неточной рифмой: рифмуемые слова похожи, но не один в один. А еще она применяла прием под названием “синекдоха” – это когда часть занимает место целого.
– Например, в этом стихотворении, – говорит миссис Краули, постукивая пальцем по странице и читая вслух: – “Все – досуха – Глаза кругом”. Как думаешь, о чем речь?
– Хм… – Пробегаю взглядом по первым строкам стихотворения:
Я умерла – зудела Моль Покой проник в Чертог И был как в Воздухе Покой — Средь Грозовых Потуг —– Люди стоят вокруг кровати, оплакивают усопшего?
Миссис Краули кивает. Протягивает мне книгу:
– Если хочешь, можешь взять домой на выходные.
Сидя дома на парадном крыльце после школы, я перелистываю страницы, то и дело задерживаясь:
Моя депеша в мир большой, Кой писем мне не слал — Весть от всего, что Под Луной — В величии светла…Стихотворения эти причудливы и шиворот-навыворот, я не уверена, что понимаю их. Представляю Эмили Дикинсон в белом платье, за письменным столом, голова склонена над пером, возникают эти сбивчивые отрывки.
– Ничего страшного, если понимаете не полностью, – говорила миссис Краули нашему классу. – Важно, как стихотворение отзывается в вас.
Каково это было – запечатлевать такие мысли на бумаге? Как ловить светлячков, думаю я.
Мама, заметив, что я читаю на порожках, бросает корзину с высушенным бельем мне на колени.
– Некогда лодырничать, – бормочет она себе под нос.
* * *
Ближе к концу восьмого класса – последнего года в школе Уинга номер четыре и последнего учебного вообще для многих из нас – миссис Краули отводит меня во время обеда в сторонку.
– Кристина, я не могу заниматься этим вечно, – говорит она. – Не хочешь ли ты остаться еще на несколько лет, выучиться и взять на себя работу в школе? Думаю, из тебя выйдет отличный учитель.
От ее слов я сияю гордостью. Но за ужином в тот вечер, когда выкладываю этот разговор маме с папой, вижу, как они переглядываются.
– Обсудим, – говорит папа и высылает меня на крыльцо.
Когда зовет меня обратно, мама не поднимает взгляда от тарелки. Папа говорит:
– Прости, Кристина, но ты проучилась дольше, чем мы с твоей матерью. У нее слишком много дел. Нам нужна твоя помощь по дому.
В животе у меня ёкает. Пытаюсь скрыть жесткое ребро паники в голосе.
– Но, пап, я бы могла ходить в школу только утром. Или оставаться дома, когда нужно.
– Поверь мне, ты большему научишься на этой ферме, чем по любым книжкам.
– Но мне нравится в школе. Мне нравится то, чему меня там учат.
– Книжным знанием домашние дела не делаются.
Назавтра я выкладываю все Маммее. Потом слышу, как она вполголоса беседует с папой в гостиной.
– Пусть останется в школе на несколько лет, – говорит она. – Что за беда в том? Учительство – славное ремесло. И уж начистоту: ей мало что другое под силу.
– Кэти нездоровится, сами знаете. Кристина нужна в доме. Она вам в доме нужна.
– Справимся, – говорит Маммея. – Если сейчас не возьмется – кончит свои дни на этой ферме.
– Что ж тут такого невыносимого? Я себе выбираю такую жизнь.
– В том-то и дело, Джон. Ты повидал белый свет, а затем выбрал такую жизнь. Она дальше Рокленда нигде не бывала.
– Во успех-то был у той поездки, помните? Она рвалась домой.
– Она была маленькая и напуганная.
– В большом мире ей не место.
– Да батюшки, кто ж про большой мир говорит-то? Мы о маленьком городке в полутора милях отсюда толкуем.
– Я принял решение, Трайфина.
Сообщить миссис Краули на переменке назавтра, что в школе я остаться не могу, – дело едва ли не самое трудное за всю мою жизнь. На миг она умолкает. А затем говорит:
– Ты справишься, Кристина. Будут, несомненно, и другие возможности. – Кажется, у нее слезы близко. У меня тоже. Она прежде никогда ко мне не прикасалась, но сейчас обвила хрупкими руками. – Хочу сказать, Кристина, что ты… необычная. И как-то… – Голос у нее прерывается. – Твой ум – твоя любознательность – будут тебе утешеньем.
В последний школьный день меня так распирает от жалости к себе, что я едва могу говорить. Выходя из класса, медлю у глобуса миссис Краули, заказанного по каталогу “Сиэрз, Роубак”, кручу его пальцем. Океан синий, как яйцо дрозда, с бугристыми зелеными и бурыми выпуклостями материков. Пробегаю пальцем по Тайваню, Тасмании, Техасу. Эти далекие места для меня – такие же всамделишные, как сокровище, зарытое в Тайном туннеле. Иными словами – мне трудно поверить, что они действительно существуют.
* * *
По окончании школы время тянется вдаль, словно долгая плоская дорога, какую видно на многие мили. Мой распорядок дня делается неизменным, как приливы. Встаю до рассвета, забираю охапку дров из сарая, бросаю в корзину у “Гленвуда” в кухне, возвращаюсь за следующей. Открываю тяжелую черную дверцу печки, перемешиваю золу, ищу тусклые угли. Закладываю несколько поленьев, раззадориваю огонь растопкой, закрываю дверцу, прижимаю к ней холодные окоченевшие ладони – отогреваюсь. Затем бужу братьев, чтоб шли кормить кур и свиней, лошадей и мулов. Они бурчат, спускаясь по лестнице, препираются, кому рассыпа́ть корм, кому чистить стойла, собирать яйца. Пока мальчишки в хлеву, я готовлю овсяную кашу со смородиной и изюмом – им к завтраку, делаю сэндвичи с маслом и патокой на толстом дрожжевом хлебе, заворачиваю в вощеную бумагу – это им на обед; набираю овощей и яблок в погребе, на руке – корзина, спускаюсь в погреб по хлипкой деревянной лестнице.
Ал забывает учебник, Сэм – ведерко с обедом, Фред – шапку. Когда они уже наконец уходят, я полощу их тарелки в длинной чугунной мойке в кладовке. Затем принимаюсь за выпечку хлеба, отщипнув закваски, которую храню в кладовке, посыпаю мукой доску. Застилаю кровати, опорожняю ночные горшки, хромаю в сад собрать кабачков на пирог. После школы Сэм с Фредом помогают папе в хлеву и в поле, Ал отплывает на лодке. Ближе к вечеру, когда мальчишки справились со всеми делами, они возятся с неводом, что тянется от острова Малый до Плезант-Пойнта. Перед ужином им приходится напоминать, чтоб шли мыться и разувались, прежде чем сядут за стол.
Забот у меня вроде как невпроворот. Поднимется ли тесто для хлеба как надо, если взять другой сорт муки? Сколько порций получится из чахлой курицы? Сколько денег можно выручить за шерсть восьми овец, с поправкой на издержки? Я знаю, как добиться, чтобы куры неслись лучше: давать им дополнительно соль, окна в курятнике держать чистыми, чтобы проникал свет, добавлять птице в пищу порошок из толченых омаровых панцирей. Наши здоровые куры несут больше, чем семья способна употребить сама, и мы с Алом начинаем торговать яйцами. По нескольку часов в месяц я шью марлевые мешки для хранения яиц.
Хоть руки у меня и кривые, швея из меня неплохая. По вечерам штопаю и латаю заношенные штаны, рубашки и носки братьев и освежаю старые платья новыми воротничками и манжетами. Вскоре я уже шью себе, сидя в гостиной, все юбки, блузки и платья на маминой ножной машинке “Зингер” – она украшена хорошенькими красными, зелеными и золотыми королевскими лилиями, вся округлая, словно согнутая в локте рука. По книжке выкроек учусь шить трехклинную юбку, а затем и пятиклинную. Труднее всего с петлями: мои неловкие пальцы возятся с ними целую вечность.
Мама считает, что карманы на юбках – это неизящно. Показывает мне, как приделывать потайной мешочек вдоль шва, чтобы незаметно.
– Дама на виду у всех в карман не лазает, – говорит она.
Ее жеманность кажется мне чуточку нелепой. Тут, кроме нас, никого, а мальчишки либо не замечают, либо им все равно.
Проточной воды у нас нет, поэтому мы собираем дождевую и паводковую, что льется из водостоков, в большую цистерну в погребе и качаем ее ручным насосом в кладовке. Ал придумывает, как приделать воронку от водостока к шлангу, чтобы собирать воду в цистерну, и тем упрощает задачу. Когда вода в погребе заканчивается, я снаряжаю нашего мула Денди и тележку с двумя пустыми бочками, загоняю мальчишек помогать, и мы идем по воду к ручью на пастбище в миле от дома. Стирка раз в неделю занимает по крайней мере один полный день, а то и два. Кипячу воду на плите и наливаю ее из громадного черного котла в просторное стальное корыто, затем тру белье о стиральную доску, прогоняю через ручную отжималку, а следом вешаю капающие водой простыни, рубашки и исподнее сушиться. С моим-то шатким равновесием это непросто – прищеплять белье к веревкам на улице, но можно же снять веревку со столбов и пристегнуть к ней белье прямо на земле, а потом вернуть веревку на место – с сырым бельем на ней, висящим, словно амулеты на браслете. Когда снаружи слишком снежно, я развешиваю белье в сарае. Мокрым оно остается многие дни; затхлость не выветривается из него вплоть до весны.
Когда требуется, делаю мыло: смешиваю воду со щелоком, добавляю растительного масла, а затем выливаю смесь в формочки и оставляю сохнуть на несколько дней, потом заворачиваю брикеты в вощеную бумагу и прячу в кладовке, чтоб дозрело, на месяц. Оттираю полы с хлоркой и водой, пока костяшки и коленки у меня не делаются красные, все платье – в белых кляксах. При моем нестойком равновесии даже такие простые задачки опасны. Руки и ноги у меня в отметинах и шрамах от кипятка, хлорки и едкого щелока.
Когда я бурчу об этих мелких увечьях или о том, что от меня слишком много требуют, Ал говорит:
– У нас есть крыша над головой. У некоторых и этого нет. – Полезно помнить, видимо. Но трудно стряхнуть печаль, что меня забрали из школы.
И только Маммея меня понимает.
– Ты унаследовала пытливость, дитя, – говорит она. – Тем жальче.
Время идет, и я учусь делать свою жизнь сносной. Спасаю трех нежеланных котят и выбираю заморыша, рожденного от соседского кокер-спаниеля, называю его Тёпой. Заказываю семена в пакетиках и сажаю цветник, как у Эмили Дикинсон, – с настурциями, анютиными глазками, нарциссами и бархатцами. Она именовала свой садик “мотыльковой утопией”. Когда мои цветы распускаются – приманивают желто-черных монархов, капустниц, кавалеров.
Нахожу стихотворение, переписанное когда-то в тетрадку:
В Полдень две бабочки летят И пляшут при Ручье, Затем пронзают Небосвод, Садятся на Луче… А следом вместе прочь летят Над Морем все ярчей…Представляю, как эти бабочки облетают мир и ненадолго садятся у меня в цветнике, прежде чем отправиться дальше. Грежу, как однажды я, может, отращу крылья и полечу за ними, трепеща следом, вдаль над полем, за воды.
Стараюсь не думать о том, чем бы занималась, если б не была привязана к ферме. Энн и Мэри Коннор продолжают учиться, говорят. Энн хочет стать медсестрой, а Мэри – учительницей. Болтают, что она займет место миссис Краули. Когда я оказываюсь по делам в Кушинге и вижу кого-то из них издали – в скобяной лавке или на почте, – перехожу на другую сторону улицы.
* * *
Пока я была ребенком, Маммея нашептывала мне: “Ты – как я, Кристина. Однажды отправишься в далекие края”. Но теперь она уж больше такого не говорит. Теперь она всего лишь хочет, чтобы я выбиралась из дома. В отличие от моих родителей, которые об этом не заикаются, Маммея вечно уговаривает меня “общаться”, как она это называет.
– Батюшки светы, тебе надо быть с людьми твоего возраста! – причитает она. – Нет ли какого собранья или пикника, куда тебе можно сходить?
Танцы, что проводятся пятничными вечерами в Экорн-Грейндж-холле в Кушинге, Алу не интересны, и я собираюсь туда с подругой – с Сэди Шниц. Мы идем по изъезженной тропе в полутьме, держась за руки еще с несколькими девчонками. Сэди то и дело отрывается от цепочки, когда я отстаю – а отстаю я часто, спотыкаясь на колдобинах. Сэди делает вид, что хочет посплетничать, а на самом деле помогает мне не терять равновесие.
Сэди носит платья с кружевными рукавами и перламутровыми пуговицами, обноски сестер, говорит она, но все они моднее любых моих нарядов. Я хожу в темно-синих юбках и белых муслиновых рубашках с пуговицами спереди. Длинные темные юбки милосердны: под складками не так очевидны мои увечные ноги. По пути на танцы Сэди поет нелепые песенки и вообще дурачится, ходит колесом прямо в платье. На ней розовая губная помада и пудра, которые ее сестры таскают из аптеки домой в маленьких коробочках. Я завидую ее свободному легкому смеху, как она скачет вокруг, не боясь споткнуться. Хотела б я осмелеть и заговорить с мальчишками в Грейндж-холле, выйти на танцпол, а не раскачиваться под музыку у стеночки.
Позднее, уже дома, в постели, я выдумываю целые беседы, какие могли бы состояться у меня с мальчиком по имени Роберт Аллан, чьи карие глаза и волнистые волосы так мне нравятся, что я едва в силах смотреть на него впрямую, даже через всю залу.
А затем в моем воображении начинается музыка.
“Можно пригласить тебя на танец, Кристина?” – спрашивает Роберт.
“Пожалуй”, – говорю я.
Он протягивает руку, и когда я вкладываю в нее свою, он притягивает меня к себе, его теплая грудь прижимается к моей. Сквозь блузку я чувствую его другую руку у себя на пояснице, он ведет меня бережно, уверенно, шагает с левой ноги, я отступаю правой: два медленных шага, три быстрых, остановка. Вперед, вперед, из стороны в сторону…
Я засыпаю, слыша музыку у себя в голове, в такт двигаясь на цыпочках. Два медленных шага, три быстрых, остановка. Два медленных шага, три быстрых, остановка.
* * *
В свои восемьдесят Маммея, кажется, больше прежнего плавает в аквамариновых океанах былого, где песок светел и тонок, как сахар, а в воздухе висят ароматы тропических цветов. Она погружается в грезы и выныривает вновь, веки ее трепещут, она все глубже в себе. Никак не может согреться, сколькими бы пуховыми одеялами и покрывалами я ее ни укутывала. Грею на плите камень – ее же старинная уловка, – подкладываю его под покрывала в изножье ее кровати.
Однажды приношу ей из Ракушечной рапан, внутри у него все розовое и блестящее, как внутренняя сторона губ. Держась за костяную ракушку, Маммея рассказывает мне, как нашла ее на пустынном пляже в одной поездке с Капитаном Сэмом на мыс Горн. Песок у нее под пальцами, развесистые пальмовые листья над головой, защищающие от солнца. Сиеста на веранде, к ужину – жареная на углях рыба и овощи.
– В следующий раз возьму тебя с собой, – тихонько говорит она.
– Было б здорово, – говорю я.
* * *
Волосы у Маммеи жидкие и пожелтевшие, кожа усыпана веснушками и прозрачна, как яйцо жаворонка, взгляд блуждает, рассеян. Кости хрупкие, как у птицы. Мама каждый день заходит к ней в спальню и с полчаса хлопочет – возится с одеялами, меняет грязное белье.
– Больно смотреть на нее, – говорит она мне. Присев на краешек кровати, глядя в потолок, мама поет Маммее одну из своих любимых песен – старый гимн, какой она выучила в церкви еще ребенком:
Загорится ль звезда хоть одна мне в венце, Когда солнце погаснет в конце, Как открою глаза Средь святых в небесах, Загорится ль звезда мне в венце?[10]Интересно, что эта звезда означает. Должно быть, подтверждает, что ты оказался по-особенному достойным, что светил чуть ярче всех остальных. Но если просыпаешься среди святых в раю, разве одного этого недостаточно? Разве этим не достигаешь всего, на что мог надеяться? Слова песни противоречат маминой сути, ее незаметным устремлениям, ее безразличию к чему бы то ни было, кроме домашних дел. Может, она верит, что такой способ жить – вершина праведности. Или, может, как она говорила раньше, ей просто нравится мелодия.
Мой отец поднимается к Маммее время от времени, болтается на пороге. Братья заглядывают и ретируются, не находя слов в виду столь ошеломительного распада. Не могу их винить. Маммея вечно звала моих братьев “эти мальчишки” и держалась от них подальше, а меня приближала к себе.
– Маммея, я тут, – бормочу я, гладя ее по руке, прикладывая ее ладонь к своей щеке. Она дышит мне в лицо, и дыхание Маммеи пахнет, как ряска на мелком пруду.
Перед смертью она несколько дней не ест, пьет самую малость, кожа на впалых щеках натягивается, дышит она хрипло, с трудом. Я вспоминаю стихотворение: “Все – досуха – Глаза кругом…”
День похорон уныл: бесцветное небо, серые костлявые деревья, старый прокопченный снег. Зима, кажется, устала сама от себя. В поминальной речи над могилой Маммеи на нашем семейном кладбище преподобный Коэн из баптистской церкви Кушинга рассуждает о том, как Маммея воссоединится с теми, кого любила и кто давно ушел. Но пока смотрю, как ее сосновый гроб медленно опускается в землю, я пытаюсь вообразить воссоединение хрупкой восьмидесятилетней женщины с ее мужем на несколько десятилетий моложе нее и с тремя их сыновьями, и меня не покидает чувство, что места, куда мы отправляемся в мыслях, ища утешения, имеют мало общего с тем, куда отправляются тела.
Жду, когда меня увидят
1942–1943
Война разгорается, и мы наблюдаем вдали на море транспортные суда. Солдаты, присланные сюда из Белфаста, шныряют по нашим угодьям на зеленых джипах, стерегут береговую линию, вперяют бинокли в горизонт.
Ал веселится.
– Что, как они себе думают, тут может случиться?
Когда какой-то солдат стучит в дверь и спрашивает, не слыхали ли мы о какой-нибудь “подозрительной деятельности”, я переспрашиваю, что это вообще означает.
– Слухи о вражеских судах в этих местах, – отвечает он сумрачно. – Побережье Кушинга объявлено небезопасным.
Я вспоминаю злодеев-пиратов из “Острова сокровищ” и их красноречивый черный флаг с черепом и костями крест-накрест. Наш враг – если он и рыщет в округе – возможно, не станет заявлять о себе так прямо.
– Ну, я много всякого видала в последние дни. Не очень обычного. Но откуда мне знать, друзья это или недруги.
– Просто глядите в оба, мэм.
Вскоре в Кушинге и впрямь начинают отключать электричество и урезать продовольствие.
– Хуже, чем в Депрессию! – восклицает Лора – жена Фреда. – Мне бензина едва хватает на поездки по делам.
– Творог говяжьему фаршу паршивая замена. Хоть убей, не могу Сэма заставить это есть, – говорит другая моя невестка, Мэри.
Ни меня, ни Ала все это почти не затрагивает. Плакат на стене почты наставляет граждан: “Используйте полностью, изнашивайте донельзя, справляйтесь как есть!”[11] Но мы так всегда и жили. Электричества у нас никогда не было, а потому отключения его – ничего особенного. (Свет у нас отключается еженощно – когда мы задуваем масляные лампы.) И хотя мы привыкли полагаться на “Фэйлз” в части молока, муки и масла, большую часть того, что мы едим, добываем с полей, из сада и из курятника. По-прежнему храним овощи и яблоки в погребе, а то, что портится, – в леднике под половицами в коридоре. Ал продолжает забивать скотину. Я кипячу и отжимаю белье, как и прежде, и вывешиваю его на ветер сушиться.
Стоит прохладный сентябрьский день, когда мой племянник Джон, старший сын Сэма и Мэри, подтаскивает поближе ко мне стул в кухне. Худощавый паренек с приятными манерами и лукавой улыбкой, Джон – мой любимый племянник, с самого его рождения двадцать лет назад.
– Мне нужно тебе кое-что рассказать, тетя Кристина. – Он берет меня за руку. – Я вчера поймал попутку, сгонял в Портленд и записался во флот.
– Ой. – Я потрясена. – Это необходимо? Ты разве не нужен на ферме?
– Я знал, что меня рано или поздно призовут. Если б еще подождал, меня бы забрали в пехоту. Лучше пойду на своих условиях.
– А твои родители что об этом думают?
– Они знали, что это лишь вопрос времени.
Я на мгновение умолкаю, впитываю.
– Когда уезжаешь?
– Через неделю.
– Через неделю!
Он сжимает мне ладонь.
– Расписался на пунктирной линии – поминай как звали, тетя Кристина.
Впервые война являет себя такой настоящей. Я кладу вторую ладонь поверх его.
– Дай слово, что будешь писать.
– Сама знаешь – буду.
Верный своему слову, раз в десять дней он шлет открытку или бледно-голубое письмо на кальке, они прибывают на почту в Кушинге. Через полтора долгих месяца подготовки в Ньюпорте, Род-Айленд, его приписывают к “Нелсону” – эсминцу, сопровождающему авианосцы и охраняющему от вражеских кораблей и подлодок. Почтовые штемпели делаются крупнее и цветистее: Гавайи, Касабланка, Тринидад, Дакар, Франция…
Наши предки-мореходы! Маммее бы понравилось.
Сэм с Мэри воздвигают у себя в саду флагшток и вешают на него новенький американский флаг – всем на обозрение. Гордятся, что Джон служит своей стране. Мэри заправляет сбором металлолома – меди и латуни для артиллерийских снарядов, организует жен и матерей военнослужащих в кружок – вязать носки и шарфы для армии.
– Наш мальчик вернется мужчиной, – говорит Сэм.
Подключаюсь к Лориному кружку вязания, обхожу дом, собираю металлолом – все для фронта. Но Джон – в далеких морях, и сплю я поэтому урывками. Хочу лишь одного: чтоб вернулся.
* * *
Вычитываю где-то, что наблюдение меняет предмет этого наблюдения. Если взять нас с Алом, это, несомненно, правда. Мы лучше улавливаем красоту этого старого дома, со всеми его знакомыми углами, когда с нами Энди. Больше ценим вид на желтые поля и дальше, до воды, постоянный и вечно меняющийся, с черными воронами на крыше хлева, с ястребом, парящим в вышине. Мешок с зерном, помятое ведро, веревка, свисающая со стропил, – все эти обыденные предметы и приспособления кисть Энди преображает в нечто безвременное и надмирное.
Сидя у кухонного окна однажды рано утром, я замечаю, что душистый горошек, высаженный много лет назад, разросся на солнышке у задней двери сверх всякой меры. Взяв резак из ящика с инструментами и соломенную корзину с рабочего стола, отправляюсь к грядке и остригаю благоуханные цветки, кремовые, розовые, рыжеватые, бросаю в корзину. В кладовке беру мамины крошечные, покрытые пылью хрустальные вазы с верхней полки, споласкиваю в мойке, ставлю в них цветы. Нахожу вазам место, всюду: на кухонной стойке, на камине в Ракушечной, на подоконнике в гостиной, даже в уборной на четыре дырки в сарае. Ставлю последнюю вазу у подножия лестницы – чтобы Энди забрал ее с собой наверх.
Когда он появляется через несколько часов и входит в гостиную, я задерживаю дыхание.
– Что это? – восклицает он. – Какая красота! – Топая вверх по лестнице, выкликает: – Прекрасный день будет, Кристина, несомненно прекрасный день.
* * *
Однажды жарким днем я слышу, как Энди спускается по лестнице и выходит из парадной двери. Из окна в кухне вижу, как он бродит босиком по траве. Руки в боки, смотрит на море. А затем медленно возвращается в дом и возникает в кухне.
– Не могу увидеть, – говорит он, потирая загривок.
– Что?
Он тяжко оседает на табурет.
– Лимонаду? – предлагаю я.
– Непременно.
Встаю с кресла, иду, опираясь о стену, к тесной кладовке – стол, качалка Энди и стенка служат мне подпорками. Обычно я стесняюсь, но Энди весь погружен в раздумья и не замечает.
Бетси – на седьмом месяце беременности, ворчливая от жары – оставила графин со свежим лимонадом на стойке, а сама отправилась домой вздремнуть. Я поднимаю стеклянный графин обеими руками, он качается и выплескивает напиток мне на руку. Раздражившись на себя, промокаю графин тряпкой, а затем осторожно несу стакан Энди.
– Спасибо. – Он задумчиво облизывает ребро ладони, липкое от лимонада. Я усаживаюсь обратно в кресло, он говорит: – Понимаете, целый день торчу там, просто… мечтая. Кажется чистой тратой времени. Но, похоже, я совсем не могу иначе. – Он делает большой глоток лимонада и ставит пустой стакан на стол. – Иисусе, не знаю.
Я не художник, но, похоже, понимаю, о чем он.
– Кое на что требуется столько времени, сколько требуется. Кур не заставишь нестись, пока они сами не соберутся. – Он кивает, я приободряюсь. – Иногда мне хочется, чтоб тесто всходило быстрее, но если его поторопить – все только испортишь.
Широко улыбаясь, он отзывается:
– Так и есть.
Внутри у меня теплеет.
– У вас душа художника, Кристина.
– Ну не знаю.
– У нас с вами больше общего, чем вам кажется.
Потом я раздумываю, что у нас общего и разного. Наше упрямство – и наши увечья. Наше ограниченное детство. Его отец не пускал в школу; в этом мы тоже похожи. Но Эн-Си выучил его на художника, а меня папа натаскивал следить за домом – и в этом между нами огромная разница.
* * *
Кое-какие наброски Энди – торопливые очерки, карта будущей картины: намек на фигуру, трава растет так и сяк, геометрические фигуры дома и хлева. Есть и точно оттененные, проработанные: каждый волосок и складка ткани, древесные волокна на двери в кладовку. Акварели Энди – размыто-зеленые и бурые, небо – просто белый цвет самой бумаги. Ал в кепке с плоским козырьком и с трубкой, окучивает голубику в поле, сидит на крыльце, сгребает сено; изящный силуэт нашей палевой кобылы Тесси, в профиль. Энди набрасывает наш изрезанный деревянный стол, белый чайник, весы для яиц, мешки с зерном в сарае, кормовую кукурузу, подвешенную на просушку в спальне на третьем этаже. На его холстах эти предметы выглядят так же – но иначе. У них появляется полированный блеск.
Отец пишет маслом, говорит Энди. Сам же он предпочитает яичную темперу – метод европейских мастеров Джотто и Боттичелли позднего Средневековья и раннего Возрождения. Сохнет быстро, цвета выходят приглушенные. Я наблюдаю, как он разбивает яйцо, отделяет желток от белка и осторожно катает рыхлый мешочек в ладонях, чтобы снять пленку. Прокалывает желток кончиком ножа, выливает оранжевую жидкость в чашку с дистиллированной водой, перемешивает пальцем. Добавляет пудру пигмента, изготавливает пасту.
Обмакнув маленькую кисть в темперу, отжимает влагу и краску пальцами, распушает кончик, чтобы получались сухие острые мазки. Накладывает краску поверх бледного размыва цвета или поверх карандаша и туши на оргалите, покрытом левкасом – однородной смесью мела с заячьим клеем. Хотя работает Энди быстро, мазки его тщательны и педантичны, каждый неслучаен. Сетка травы, густой, темный ряд посадок. Пока сырые, краски красны, как ваточник, буро-красные, как глина, сини, как залив в летний день, зелены, как лист падуба. Эти яркие влажные краски, высыхая, блекнут, обретают призрачное свечение.
– Страсть – живопись чувств в предметах – единственное, что меня интересует, – говорит Энди.
Постепенно его картины делаются скупее, блеклее, суровее. В основном белый, бурый, серый и черный.
– К черту это все, – бормочет Энди, наклоняя голову, разглядывая свежую акварель: сумрачная фигура Ала в кепке движется вдоль грядок, белый дом и серый хлев голо стоят на горизонте. – Так лучше. Бетси права.
* * *
Когда Энди не наверху за живописью – болтается вокруг меня, словно пчела вокруг улья. Его завораживают наши привычки и повадки. Как куры несутся, как испечь безупречную буханку хлеба, ничего не отмеряя, как отгонять слизняков от далий? Какие деревья Ал рубит на дрова, какой парус ловцы омаров применяют на лодках в этих краях? Как собирается вода в цистерне? Почему в доме столько всего покрашено в одинаковый синий? Почему плоскодонка хранится на стропилах в сарае? Зачем к дому прислонена эта длинная лестница?
– У нас нет телефона, – немногословно объясняет Ал. – Ближайшая пожарная станция в девяти милях отсюда. Если крыша или дымоход загорятся…
– Понял, – откликается Энди.
На такие вопросы отвечать легко. Но со временем его пытливость делается более личной. Почему мы с Алом живем здесь одни, среди стольких пустых комнат? Каково было, когда в доме обитало битком людей, до того, как бо́льшая часть полей заросла?
Поначалу я настороже.
– Просто вышло так, – говорю я. – Жизнь в те поры была шустрее.
Энди такими недомолвками не накормишь. Почему так вышло? Вы с Алом вообще хотите жить где-то – где угодно – еще?
Трудно сказать, что у меня на уме. Давно никому не приходила охота спрашивать.
Он настаивает.
– Я хочу знать.
И вот, мало-помалу, я открываюсь. Рассказываю ему о той поездке в Рокленд, когда я отказалась видаться с врачом. Об исчезающем сокровище в Тайном туннеле. О ведьмах, о морских капитанах, о корабле, застрявшем во льду…
О чем вы тосковали, когда не вышло остаться в школе?
Почему вы так боитесь врачей?
Он ластится, как пес, и любопытен, как кот.
Кто вы, Кристина Олсон?
Однажды вечером в Ракушечной Энди отыскивает папин деревянный ларчик с памятными мелочами, поднимает крышку. Проводит пальцами по гладким линиям гребня из китового уса. Вынимает оловянного солдатика, поднимает ему ручки указательным пальцем.
– Чье это?
– Отцово. Этот ларчик – единственное, что я сохранила после его смерти.
– Я когда-то собирал игрушечных солдатиков, – задумчиво произносит Энди. – В детстве устроил целое поле битвы. У меня в студии в Пенсильвании на подоконнике до сих пор стоит их шеренга. – Кладет солдатика обратно в ларец, проводит пальцем по куску антрацита. – Почему, как вы думаете, он это сберег?
– Ему нравились камни и минералы, по его словам.
– Это антрацит, да?
Я киваю.
– Благородный кузен угля, – говорит он. – В Гражданскую войну – вам отец не рассказывал? – антрацит применяли на судах конфедераты – нарушители блокады – как топливо, чтобы не попасться. Горит чисто. Без дыма.
– Никогда не слыхала об этом, – говорю я. Но задумываюсь: как точно. Папа никогда себя не выдавал.
– Их называли судами-призраками. Устрашающий образ, правда? Эти зловещие суда возникают из ниоткуда. – Он кладет антрацит в ларец, закрывает крышку. – Он хоть раз возвращался в Швецию?
– Нет. Но меня назвали в честь его матери. Анны Кристины Олавсон.
– Вы ее знали? Качаю головой.
– Не странно ли – назвать ребенка в честь еще живого человека, которого решаешь никогда больше не повидать?
– Не очень странно, – отзывается он. – Есть в “Доме о семи щипцах” замечательная строка: “Мир обязан всеми своими внешними порывами людям не в своей тарелке”. Ваш отец, должно быть, чуял, что ему предстоит торить свою дорогу, пусть и ценой связей с семьей. Это смело – выстаивать против тяги привычного. Быть влюбленным в собственные нужды. Я с привычным борюсь каждый день.
* * *
Через несколько месяцев после того, как Энди с Бетси возвращаются в Чэддз-Форд на зиму, я получаю письмо от Бетси. В сентябре она родила болезненного ребенка, названного Николасом, – ему, чтобы поправиться, нужно много особой заботы. В ноябре Энди забирают в армию. Когда он является на медосмотр, одного взгляда на его вывихнутую правую ногу и плоскостопие достаточно, чтобы тотчас комиссовать. “Он от души считает, что ему дали поблажку, и настроен использовать ее на все сто”, – пишет Бетси.
В некотором смысле поблажка, да, думаю я. Пусть своего ребенка у меня и не было, я более чем осведомлена, до чего всепоглощающими бывают дела семейные. Размышляю, как Энди, теперь еще и отец, будет метаться между тягой привычного и творческими порывами, что им движут.
1913–1914
Теплым июньским утром я в курятнике собираю яйца, и тут до меня с поля долетают приближающиеся голоса. Гостей мы не ждем. Выпрямившись, кладу теплые яйца в карман фартука и прислушиваюсь.
Рамона Карл – этот гортанный смех я узнаю где угодно.
Рамона, и ее брат Алва, и сестра Элоиз – дачники из Массачусетса, их семья несколько лет назад купила хутор Сиви дальше по дороге. Алва – старший, Элоиз – моего возраста, а Рамона чуть младше. Они живут в Кушинге с Дня поминовения до Дня труда.[12] Но, в отличие от прочих приезжих (с их вялым бездельем, их порывистой жаждой развлечений), семейство Карл изо всех сил старается подладиться под местных. Я всегда жду встречи с ними. Они организуют забеги с яйцом в ложке на ежегодном празднике Четвертого июля в Хэторн-Пойнте, уговаривают всех играть в “ Цепи-цепи кованы” или в “Пила, пила, лети как стрела” и привозят с собой мешки фейерверков – запускать, когда стемнеет.
Рамона – моя любимица. Дружелюбная, неугомонная девчонка, хрупкая, энергичная, с волосами цвета растаявшего шоколада, глаза громадные и блестят, как у олененка. Однажды, когда мы с ней были в городе, пожилая дама сказала ей, что она милашка. (Мне сроду никто ничего подобного и близко не говорил.)
Выбредая из курятника с грузом яиц и широкой улыбкой предвкушения, я чуть не налетаю на человека, которого прежде ни разу не видела.
– Ой – здрасьте! – говорю.
– Здрасьте! – Примерно моего возраста, кажется, – мне только-только исполнилось двадцать, – и едва ли не на полфута выше меня, светло-каштановые волосы плещут поверх широко расставленных синих глаз. На нем тонкие льняные штаны и мягкая белая рубашка с рукавами, закатанными выше локтей.
Внезапно оробев, я приглаживаю растрепанные со сна волосы, оглядываю замаранный фартук, в котором пекла нынче утром хлеб, и деревянные башмаки, в которых обычно пробираюсь по грязи.
– Уолтон Холл, – говорит он, протягивая руку.
– Кристина Олсон. – Рука у него на удивление мягкая. Этот человек ни разу не ходил за плугом.
– Уолтон – наш гость из Молдена, – говорит Рамона. – Они с Элоиз вместе в старших классах учились. В конце лета он уедет в Гарвард.
– Сознайся – ты поразилась, – говорит Уолтон и чуть подмигивает мне. – “Не такой уж и тупица, каким кажется”.
– Одно то, что ты пошел в Гарвард, еще не означает, что ты не тупица, – говорю я.
Улыбается, и я вижу, что один передний зуб у него слегка внахлест с соседним. Он вскидывает незримый стакан в шуточном тосте.
– Тоже верно.
– Ну хватит уже, – говорит Рамона. – Позволь напомнить тебе, Уолтон, что целый дом ждет завтрака.
– Ах да, – спохватывается он. – Мы пришли за яйцами.
– Ага, – отзываюсь я. – Сколько?
– Две дюжины, да, Рамона?
Кивает.
– Ладно, итого пятьдесят центов за яйца и пенни – за мешок, – говорю я.
– Ну и ну, вот ты цены-то задрала!
Рамона закатывает глаза.
– Могла б пятьдесят центов за штуку попросить, Кристина. Он понятия не имеет, о чем говорит.
Я опускаю яйца в мешок по одному, отсчитываю двадцать четыре, а он подначивает:
– Это не берем! Оно недостаточно овальное! – и: – Они все должны быть одного размера. – Стоит он довольно близко, его дыхание пахнет ирисками. Рамона болтает о погоде, до чего скучная была зима и как она считала дни до июня, что за чудесный нынче день, но, как думаешь, может ли все поменяться? Будет ли тихо, чтоб выйти чуть погодя под парусом? Размышляет вслух, что ее мама соберется сделать с этой кучей яиц, если завтрак, когда они явятся, уже закончится, – может, суфле? Омлет? Лимонную меренгу?
– Поехали с нами, – говорит он.
Мы с Рамоной глядим на него.
– Что? – растерянно переспрашиваю я.
– Поехали с нами под парусом, Кристина, – говорит он. – Ветер будет что надо.
– Мог бы сказать то же самое, когда я бурчала на погоду, – бормочет Рамона.
Обычно я отгулы на вторую половину дня не беру, особенно ради прогулки под парусом с юнцами, с которыми только что познакомилась.
– Спасибо, но… Не могу. Нужно хлеб испечь. И работы много…
– Ой, да господи, поехали, – говорит Рамона. – Надо же как-то развлекать Уолтона. И тащи своего брата Сэма. Он такой потешный. Мне нужен ровесник – заигрывать.
– Прости, но это вряд ли.
– Ну и ну, крепкий же ты орешек. Слушай, я тебе пропуск выпишу, – говорит Уолтон.
– Пропуск?
Видя мою оторопь, Рамона смеется.
– В школах на один класс пропусков не бывает, Уолтон.
– Не могу, – говорю я.
Он качает головой, жмет плечами.
– Ну ладно. В другой раз, значит.
– Может быть.
– Это значит “да”, – говорит ему Рамона с уверенностью девушки, привыкшей добиваться своего. Одаряет меня улыбкой. – Мы еще раз попробуем. Скоро.
Вернувшись в дом после яркого света во дворе, я прислоняюсь к стене в сумрачной прихожей, дышу тяжко. Что это было?
– Что там за голоса? – выкликает мама с кухни.
Я трогаю свое лицо. Разглаживаю блузку на груди. Глубоко вдыхаю.
– Кто-то заходил? – спрашивает она, когда я появляюсь в кухне, развязывая тесемки фартука и снимая его.
– Ой, – говорю я как можно более непринужденным тоном, – да это Рамона, яйца купить.
– Клянусь, я слышала мужской голос.
– Просто приятель Карлов.
– А. Ну, тесто готово, можно месить.
– Сейчас разберусь, – говорю я.
* * *
В следующие несколько недель Рамона с Уолтоном, иногда – вместе с Элоиз и Алвой, заходят через день, то за яйцами, то за молоком, то за курицей для зажарки, и всякий раз остаются все дольше. Приносят корзину для пикника и старый плед, и мы сидим в траве, пьем чай, нежась на солнце. Я уже жду их появления на поле, ближе к обеду или сразу после. Мои братья, с их-то застенчивостью, обычно робеют, как олени, перед этими дачниками, но ребята Карл и Уолтон постепенно пленяют и их. Завершив дела, Ал с Сэмом частенько подсаживаются к нашему пикнику.
Однажды утром, когда мы лишь втроем – Уолтон, Рамона и я, – Рамона говорит:
– Мы тебя похитим, Кристина. Идеальный день для прогулки под парусом.
– Но…
– Никаких “но”. Ферма без тебя переживет. Алва уже ждет. А ну пошли.
Пока мы идем по тропинке к берегу, я ощущаю у себя на спине взгляд Уолтона. Зная свою неловкую походку, я сосредоточиваюсь на движениях. Впереди нас болтает Рамона:
– Солнце такое яркое! Боже, я и не подумала об этом, но нам на всех не хватит шляп; может, матушка оставила одну-две в лодке. – Вроде даже не осознает, что мы с Уолтоном не отвечаем ни словом. И тут случается именно то, чего я опасалась: я спотыкаюсь о корень. Ноги подкашиваются; чувствую, валюсь вперед.
Не успеваю и звука издать, у меня под рукой оказывается плечо. Тихо, чтобы Рамона не услышала, Уолтон говорит:
– Долгая же тропа какая.
Хотя лишь за миг до этого меня захватывала тревога, я вдруг до странного спокойна.
– Спасибо, – шепчу в ответ.
Так близко к молодому человеку, который мне не родственник, я не оказывалась ни разу в жизни. Чувства обостряются, в прозрачном утреннем свете я замечаю все: бледные склоненные нарциссы; кайры скользят в небе, черные, с ярко-красными ногами, пищат, как мыши; деревья вдали, красная ель, пихты, можжевельник, стройные сосны, окаймляющие поле. Ощущаю на губах соль с моря. Но в основном осознаю теплый звериный дух этого юноши, его руки – опора; пот, возможно, и мускусный запах его волос, нота одеколона. Сладость ирисок в его дыхании.
– Надеюсь, не сочтешь это наглостью, но тебе известно, что синие цветы у тебя на платье в точности совпадают по цвету с твоими глазами? – бормочет он.
– Не известно, – нахожусь я с ответом.
Лодка семейства Карл – одномачтовый шлюп, с кливером на носу и большим белым парусом у деревянной мачты. Лодочку они держат у берега, рядом с Поцелуйной бухтой, весла внутри, чтобы на ней грести к паруснику. Когда мы появляемся на пляже, Алва машет нам с борта шлюпа – в сотне ярдов от берега. Мы стаскиваем лодку в воду. Уолтон настаивает, что сядет на весла сам, и мы петляем к паруснику. Приходится закусывать губы, чтобы не хохотать: гребет он дергано, неопытно, совсем не как Ал с его ритмичными движениями. Вот мы и у шлюпа, Рамона привязывает лодочку к бую, и Уолтон, взявшись за предложенную Алвой руку, запрыгивает на борт первым – чтобы помочь нам с Рамоной.
– Галантно с твоей стороны, конечно, однако незачем, – заявляет Рамона, отталкивая руку Уолтона.
Я не возражаю. Мне нужна вся возможная помощь.
Оказавшись на борту, немного расслабляюсь. Утро тихое, теплое, ветер мягок, и я умею управляться с парусом – научилась у Алвэро, на его маленьком ялике. Алва поднимает парус, тот театрально хлопает на ветру, как простыня на веревке, я уверенно тяну за фал, и парус затихает. Алва разворачивает лодку вправо, уклоняется от ветра, уменьшает крен – чтобы угол, под которым мы скользим по воде, получился поудобнее, и мы направляемся в открытое море. Приходится предупредить Уолтона, чтоб пригнулся, иначе задело бы по голове гиком.
Он, похоже, удивлен и несколько впечатлен, что я так хорошо тут со всем управляюсь.
– Сколько скрытых дарований!
Чистое чудо, что я хоть как-то могу помочь Алве, – то и дело отвлекаюсь посмотреть на кожу у Уолтона на загривке, чуть обгоревшую выше воротника. Крошечные лопушки его ушей розовеют на солнце. Быстрый взгляд серо-голубых глаз.
Алва, страстный яхтсмен, как все мальчишки, выросшие на лодках с отцами и дедами, рад стараться и делать всю работу, и мы, оказавшись в океане, предаемся легкому скольжению. Рамона открывает корзину, нарезает хлеб, сыр, раздает по кругу вареные яйца, соль и жестяную флягу с водой.
В разговоре я узнаю то и сё о детстве Уолтона. Его мать одержима светскими приличиями, отец – банкир, ночует несколько раз в неделю в Бостоне в маленькой квартирке. “Когда приходится работать допоздна. Или, по крайней мере, он нам так говорит”, – поясняет Уолтон. Сомневаюсь, что понимаю, о чем речь, а уточнять опасаюсь – вдруг это грубо: не хочется выглядеть невеждой, но и совать нос не в свое дело нехорошо. Вообразить себе годы взросления Уолтона так же трудно, как представить себе жизнь на Луне. Мысленно рисую себе приемные залы, как в книгах Джейн Остен, краснокирпичный особняк, стены гостиной, позолоченные рамы портретов предков с гарвардским образованием.
Он рассказывает, что у него в детстве была искривленная спина – сколиоз, и одно долгое жаркое лето после операции, когда ему было двенадцать, пришлось носить гипсовый корсет. Другие мальчишки лазали по деревьям и гоняли мяч, а он лежал в постели и читал всякое вроде “Швейцарского Робинзона” и “Отважных капитанов”.[13] Впрямую он этого не говорит, но я понимаю: он пытается объяснить, что понимает, каково это – быть мной.
Проходят часы, и тепло в небесах истощается. Лишь заметив мурашки у себя на руках, я осознаю, что забыла свитер. Без единого слова Уолтон стаскивает с себя куртку и обертывает мне плечи.
– Ой, – говорю я от неожиданности.
– Надеюсь, я не слишком много на себя беру. Мне показалось, что тебе прохладно.
– Да. Спасибо. Я… просто не ожидала. – По правде сказать, я и не упомню, когда последний раз кто бы то ни было замечал, что мне неуютно, и что-то в связи с этим предпринимал. Когда живешь на ферме, большую часть времени неуютно всем. Слишком холодно, слишком жарко, грязно, изможденно, ты поранен, изувечен каким-нибудь инструментом или горячей плитой – всем недосуг печься об окружающих.
– Ты вполне независимая барышня, верно?
– Видимо, да.
– Ты не сталкивался с людьми вроде Кристины, Уолтон, – говорит Рамона. – Это тебе не бестолковые девицы из Молдена, которые не умеют ни огонь развести, ни рыбу почистить.
– Она, что ли, суфражистка, вроде мисс Пэнкхёрст?[14] – уточняет он с подначкой.
Чувствую себя чудовищно дремучей: понятия не имею, кто такие суфражистки, и не слыхала о мисс Пэнкхёрст. Думаю о многих годах, которые Уолтон провел за учебой, пока я стирала, кухарила и мыла.
– Суфражистка?
– Ну, из этих дам, которые устраивают голодовки ради избирательного права, – поясняет Рамона. – Которые считают, прости господи, что способны на все то же самое, что и мужчины.
– Ты тоже так считаешь? – спрашивает меня Уолтон.
– Не знаю, – говорю я. – Может, устроим состязание и выясним? Можно колоть дрова или чинить водосток. Или, к примеру, попробуем забой кур?
– Осторожнее, – говорит он со смехом. – Мисс Пэнкхёрст только что осудили на три года тюрьмы – за изменнические речи.
Между нами, я почти уверена, есть искра. Огонек. Поглядываю на Рамону. Она вскидывает брови и улыбается, и я понимаю, что она тоже это улавливает.
* * *
Как-то раз Уолтон приезжает на велосипеде. На нем полосатое полупальто и соломенная шляпа – такую здешние мужчины не надели бы. (Да и полосатые полупальто они тоже не носят.) Рядом с моими братьями он смотрится несколько неуместно – как павлин среди индюшек.
Держа шляпу в руках, теребит ее поля длинными пальцами.
– Я прибыл сделать тебе одолжение и освободить тебя от нескольких яиц. Мне доверили эту серьезную задачу, веришь ли? – А затем, заговорщицки: – Вообще-то они понятия не имеют, что я здесь.
– Схожу за пальто, – говорю я.
– Вряд ли понадобится, – говорит он. – На самом деле не…
Но я уже захлопнула дверь.
Стою в темной прихожей, сердце колотится в ушах. Не знаю, как себя вести. Может, следует сказать, что я нужна…
Стук в дверь.
– Ты здесь? Можно я войду?
Протягиваю руку к крючкам, стаскиваю первую попавшуюся одежду – Сэмову тяжелую шерстяную куртку.
– Кристина? – просачивается по лестнице сверху мамин голос.
– Пошла за яйцами в курятник, матушка. – Открываю дверь, улыбаюсь Уолтону. Он улыбается в ответ. Шагаю за порог, натягивая куртку.
– Два десятка, да? Можешь пойти со мной, если хочешь.
– Ириску? – Протягивает мне кусочек янтарной сласти.
– Хм… конечно.
Он разворачивает ее и дает мне.
– Сладкое – сладкой.
– Спасибо, – отзываюсь я, краснея.
Он жестом предлагает мне показывать дорогу.
– Очаровательное имение, – говорит он, пока мы идем к курятнику. – Со слов Рамоны, когда-то тут был пансион?
Ириска тает у меня во рту. Я катаю ее языком.
– Мои дед с бабушкой принимали летом постояльцев. Называли это все “пансион «Крыша-зонтик»”.
Уолтон смотрит, прищурившись, на крышу.
– Зонтик?
– Ты прав, – говорю я, посмеиваясь. – Совсем на зонтик не похоже.
– От дождя, наверное, защищает все же.
– Не все ли крыши для этого?
Теперь смеется и он.
– Ну, ты скажи мне, когда ответ найдешь.
Уолтон прав: кусачая братнина куртка слишком жаркая. Собрав яйца, стаскиваю ее, Уолтон предлагает посидеть в траве.
– И какой же у тебя любимый цвет? – спрашивает он.
– Тебе правда интересно?
– Чего б и нет? – Ириска цокает у него между зубами.
– Ладно. – Никто никогда не задавал мне такой вопрос. Приходится задуматься. Цвет поросячьего ушка, летнее небо на закате, любимые розы Ала… – Хм. Розовый.
– Любимое животное?
– Мой спаниель Тёпа.
– Любимая еда?
– Я славна своим жареным яблочным пирогом.
– Испечешь мне?
Киваю.
– Ловлю на слове. Любимый поэт?
Это простой вопрос.
– Эмили Дикинсон.
– А, – говорит он. – “Не зная времени зари, все двери отперла”.
– “Как птица, в перьях ли она…”
– Отлично! – восклицает он, явно изумленный, что я это стихотворение знаю. – “Иль как девятый вал”.
– Моя учительница подарила мне сборник ее стихов, когда я заканчивала учиться. Этот стих из самых любимых.
Он качает головой.
– Я последнюю часть так и не понял.
– Ну… – Я чуть медлю с толкованием. А ну как не согласится? – Думаю… Думаю, оно означает, что следует оставаться открытым возможности. В каком бы виде та ни явилась.
Кивает.
– А. Да, похоже. А ты?
– Я – что?
– Открыта возможности?
– Не знаю. Надеюсь, да. А ты?
– Стараюсь. Это преодоление. – Рассказывает, что собирается в Гарвард, чтобы потрафить отцу, хотя сам предпочел бы студгородок поменьше, в Боудине. – Но от Гарварда же не отказываются, верно?
– Почему?
– И впрямь – почему, – отзывается он.
* * *
– Ты ему нравишься, – говорит Рамона, сверкая глазами. – Забросал меня вопросами: сколько мы с тобой знакомы, есть ли у тебя парень, строгий ли у тебя отец. Хочет знать, что у тебя на уме.
– Что у меня на уме?
– На его счет, глупая. Что ты о нем думаешь.
Вопрос вроде как с подвохом, словно меня попросили ответить на языке, которого я не понимаю.
– Он мне нравится. Мне многие люди нравятся, – осторожно отвечаю я.
Рамона морщит нос.
– А вот и нет. Тебе вообще мало кто нравится.
– Я мало с кем знакома.
– Верно, – говорит она. – Но не лукавь. У тебя сердце тук-тук, когда ты о нем думаешь?
– Рамона, ну серьезно.
– Не делай вид, что тебя это возмущает. Просто ответь на вопрос.
– Ой, ну я не знаю. Может, самую малость.
– Самую малость. Это – “да”.
Лето идет своим чередом, Рамона снует между мной и Уолтоном, как почтовый голубь, носит обрывки новостей, впечатлений, сплетен. Для этой задачи она годится безупречно: Рамона – из тех девиц, чьим беспредельному пылу и уму не находится применения, словно терьеру при хозяине-домоседе.
* * *
Поначалу мама ведет себя с Уолтоном чопорно и несколько прохладно, однако постепенно он завоевывает и ее расположение. Я наблюдаю, как он подстраивается под нее, всякий раз угождает ей, именует ее “мэм”, ничего себе не позволяет. Выманивает ее на пикники и вечерние катания под парусом.
– Что ж, у мальчика великолепные манеры, – выдает она под конец долгого обеда на берегу. – В дорогой школе небось набрался.
Однажды утром мама удивляет меня, вернувшись из города с рулоном ситца, пакетиком пуговиц и новой баттериковской выкройкой. Вручает все это мне и небрежно говорит:
– Подумала, что тебе не повредит обновка.
Гляжу на картинку с обложки: платье с юбкой-семиклинкой, облегающим лифом и маленькими перламутровыми пуговками. Ситец красивый, цветочки с зелеными листьями на фоне оттенка бурого сахара. Разделавшись с домашними делами, сажусь за работу, вырезаю все детали выкройки, приколов кусочки ее мозаики к нежной ткани, отметив контуры мелком, щелкаю ножницами вдоль сплошных линий. Тружусь в рыжем свете масляной лампы и нескольких свечей, а солнце скатывается с неба.
Поздно ночью склоняюсь над маминым “Зингером”, пропускаю ткань через машинку, жму ступней на педаль. Мама замирает в дверях по дороге в спальню. Подходит, встает надо мной, а затем протягивает руку и ведет пальцем вдоль кромки подола, разглаживает ее под иголкой.
Наутро надеваю платье, оно облегает мне бедра. Гляжусь в мутное ручное зеркало в кладовке, кручу его так и эдак для полного впечатления, но все равно вижу лишь частями.
– Удалось, – только и говорит мама, зайдя в кухню помочь с дневной готовкой. Но я вижу, что она довольна.
Позже является Уолтон – с букетом тюльпанов и нарциссов. Снимает соломенную шляпу и кланяется матушке – та просеивает над столом муку.
– Добрый день, миссис Олсон.
Она кивает.
– Добрый день, Уолтон.
Он вручает мне букет.
– Вот это платье!
– Матушка купила мне ткань и выкройку. – Я расправляю юбку и кручусь на месте, чтобы он рассмотрел клинья.
– Великолепный вкус, миссис Олсон. Красота. Но погоди, Кристина, ты сама его сшила?
– Да, этой ночью.
Он берет ткань юбки в щепоть, пробует на ощупь, касается перламутровых пуговиц у меня на рукаве.
– Я преклоняюсь пред тобой.
У меня за спиной мама произносит:
– Кристина, если уж решит, может, считай, что угодно. – Эта редкая похвала изумляет меня – мама обыкновенно такая сдержанная. Но затем вспоминаю, что саму ее обнаружил в этом доме чужак на пороге. Она знает, что это возможно.
* * *
Однажды, когда Уолтон приходит в гости, я рассказываю ему о Тайном туннеле – что считаю его загадочным волшебным местом, где живут секреты, какие, вероятно, никогда не откроются.
– Некоторые считают, что в туннеле зарыты сокровища, – говорю я.
– Покажи, – отзывается он.
Я знаю, что нашу парную прогулку родители не одобрят, и потому мы разрабатываем тайный план: подождем, пока мама не отправится отдохнуть, а папа с мальчишками – к запруде, и никто не заподозрит, что я не там, где обычно бываю по средам утром: в это время я отжимаю и развешиваю белье за домом. Уолтон придет тихо, пешком; если кто-то окажется рядом, мы все отменим.
За завтраком, прежде чем отправиться на берег, братья помогают мне наполнить корыта водой. Если б кому пришло в голову обратить внимание, они б заметили, что я в накрахмаленном платье, волосы у меня опрятно заплетены лентой, а щеки румяны не от усилий, а потому что я нащипала их пальцами, как подучила меня Рамона.
Уолтон находит меня во дворе за домом, когда все уже ушли, молча забирает у меня тяжелое мокрое белье. Принимается прогонять его сквозь отжималку, крутит барабан одной рукой, а другой подает белье. Уже у веревок вынимает сырое белье из корзины, встряхивает, передает мне по очереди, а я развешиваю вещи. Когда корзина пустеет, он возвращает веревку на шесты.
До чего восхитительно это, – внезапно осознаю я, – играть в семью.
Скрытый среди мокрого, плещущего на ветру белья, Уолтон тянется ко мне, мягко привлекает в объятия. Глаза в глаза, он подносит мою руку к губам, целует ее, а затем прижимает меня к себе, склоняет голову и целует в рот. Губы у него прохладны, шелковисты, я чувствую, как его сердце бьется сквозь рубашку. От него пахнет ирисками, пряностями. И до того все это странно и головокружительно, что я едва могу дышать.
Уношу корзину обратно в дом, выскальзываю из фартука, приглаживаю волосы, мельком гляжу в осколок зеркала в кладовке. На меня смотрит девица с худощавым лицом, слишком крупным носом и живыми, пусть и чуть разными, серыми глазами. Черты ее, может, и просты, зато кожа чистая, а глаза блестят. Думаю о том мужчине, который ждет меня снаружи. Волосы у него, я заметила, уже редеют. Грудь чуть впалая, чайной ложкой, спина неестественно малоподвижная – из-за того лета в корсете. Когда волнуется, чуть пришепетывает. Не немыслимо вообразить – правда же? – что этот небезупречный мужчина мог бы влюбиться в меня.
Идем молча, гуськом, в тени дома и хлева, к деревьям за полем. В это время дня, в тенях, какие они сейчас, нас никак не заметить, если только не высматривать прицельно. Уолтон тянется ко мне, касается кончиков моих пальцев, берет за руку. Несколько раз, пока добираемся до крутого берега, сквозь густые древесные заросли, мы отпускаем руки друг друга, но он вновь нащупывает мои пальцы, словно вязальщица – упущенную петлю. Выбравшись на открытое место у кряжа, я игриво тяну его за собой, он тянет к себе, я спотыкливо замираю. Он позади меня, дышит в шею, руку прижимает к себе – и меня следом.
– Даже небеса не лучше этого, – бормочет он.
Не знаю, говорит ли он о рокоте воды, простирающейся перед нами, о танце трав, о валунах в мантиях чернильных водорослей – или обо мне. Не имеет значения. Это место, эта точка – такая же часть меня, как мои волосы, или нос, или глаза.
Мы рядом со входом в туннель. Руки Уолтона – у меня на талии, он разворачивает меня к себе, наши лбы соприкасаются.
– Я уже обнаружил сокровище, – говорит он. – Все это время ты была здесь, ждала, когда тебя увидят.
* * *
Внимание Уолтона подобно солнцу высоко в небе – яркому, ослепительному, все словно бы блекнет в сравнении. Голоса моих родителей, братьев, квохтанье кур и лай собаки, дождь по крыше, будто рис в жестянке, – все эти шумы бурлят на задворках моего ума. Я едва осознаю их, пока мама или кто-то из братьев не дернет меня за руку и не скажет резко: “Ты слышишь, что я говорю?”
Что, и другие люди тоже живут в похожем состоянии? И с родителями так было? До чего странная мысль – что совершенно обычные люди с будничными жизнями, вероятно, когда-то ощутили это пробуждение, это головокружительное цветение. Ничто в их глазах не выдает ничего подобного.
Маммея когда-то рассказывала истории об аборигенах островов, которые она посещала, – они никогда не видели снега и у них нет для него слов. Вот как я себя чувствую. У меня нет слов, нет сообразного опыта.
Подруга моя Сэди говорит:
– Поминай тебя как звали. Ты переедешь в Бостон, и мы с тобой никогда больше не увидимся.
– Может, я уговорю его жить здесь.
– И чем заниматься? Непохоже, что он из крестьян.
– Хочет быть журналистом, говорит. Писать можно где угодно.
– О чем же он будет писать? О ценах на молоко?
Но что Сэди понимает? Уолтон, кажется, зачарован нашей жизнью.
– До чего же это все отличается от того, как я вырос, – говорит он. – Ваше знание – оно подлинное. Деятельное. А мое – все в голове. Я ничего не смыслю в отёле, не смогу снять сливки с молока. Я безнадежен в лодочном деле, не смогу запрячь лошадь в телегу. Есть ли хоть что-то, чего ты не умеешь?
– Ты в силах сделать что угодно – и стать кем пожелаешь, – напоминаю ему я.
– Я желаю, – говорит он, – быть с тобой.
Кажется, будто моя жизнь движется двумя отдельными дорогами с разными скоростями: одна – как обычно, с предсказуемыми ритмами и знакомыми обитателями, другая рвется вперед в размывах красок, звуков и ощущений. Мне теперь ясно, что двадцать лет я проделывала все, каждый день, словно тупое животное, не дерзая надеяться на другую жизнь, даже не зная достаточно для того, чтобы ее желать.
Я решительно настроена не отставать от Уолтона. Прошу братьев привозить мне из города газеты, когда они ездят за припасами. Хочу разбираться во всем так, чтобы поддерживать разговоры о политике и текущих событиях – о наводнении в Дэйтоне, Огайо, и об ирландском самоуправлении, о федеральном налогообложении и суфражистках, бастующих в Вашингтоне, о взглядах Вудро Уилсона на сегрегацию и об убийстве короля Георга Греческого.[15] В кушингской библиотеке заказываю романы авторов, которых упоминал Уолтон, – Уиллы Кэзер, Д. Х. Лоренса и Эдит Уортон,[16] – и все их читаю сквозь пелену мыслей об Уолтоне. “Она боялась, что этот юноша, хоть он и напоминает чем-то героев Вальтера Скотта, – говорит Лоренс в “Сыновьях и любовниках”, – пишет красками, говорит по-французски, и имеет понятие об алгебре, и всякий день ездит поездом в Ноттингем, не сумеет разглядеть в ней принцессу и примет ее за обыкновенную свинарку”.[17]
Опасаюсь, что я – свинарка. Но он обращается со мной как с принцессой. Однажды вечером папа разрешает мне взять бричку и Черныша, и я везу Уолтона на длинную экскурсию от бухты Широкая, с ее видами на внешние острова, к изысканным лавочкам в Ист-Френдшип, к древней церкви Улмера[18] в центре Рокленда. Мы завершаем прогулку в траве на холме с видом на Поцелуйную бухту, едим сэндвичи с яичным салатом и домашние соленья, пьем лимонад из стеклянной банки. Вечереет, мы глядим, как солнце плавится в жидкий горизонт, как в вышине проступает хрупкий диск луны.
– Словно можно дотянуться и достать. Подержать в руке. – Он делает вид, будто хватает луну и вручает мне. – Когда буду в Кембридже, а ты – в Кушинге, я стану глядеть на звезды и думать о тебе. И тогда покажется, что ты не так уж далеко.
* * *
Последняя неделя августа выдается промозглая, в тяжких тучах, с негостеприимным холодом, объявляющим о конце лета – резко, словно хозяин званого обеда, вставший из-за стола в знак окончания трапезы.
Когда Уолтон приходит попрощаться, у меня так спирает в горле, что я едва в силах говорить. Я не отдавала себе отчет, до чего стала зависеть от встреч с ним.
– Буду писать, даю слово, – говорит он, и я тоже обещаю писать, но у него еще нет адреса в Гарварде, и мне придется ждать, пока он не напишет сам.
Ждать весточки от него – мука. Каждый полдень я ковыляю на почту.
– Я еду в город на бричке в три пополудни, как обычно, – говорит Ал. – Могу забрать почту.
– Мне нравится свежий воздух, – отвечаю я.
Почтмейстерша, тощая, хлопотливая аккуратистка Берта Дорсет, оглядывает меня с любопытством. Я вскоре привыкаю к ее повадкам: марки она хранит в рулончиках в опрятном ящике, гнезда для монеток обмахивает от пыли гусиным пером. Дважды в день, в согласии с предписанием на стене у нее за головой, подметает. На закате ежевечерне спускает флаг у почтового отделения, снимает его с флагштока и прилежно складывает в коробку.
Когда я прихожу, она вручает мне почту из нашего ящика – в основном счета и рекламные буклеты.
– На сегодня все, – всегда говорит она.
Я киваю и изо всех сил стараюсь улыбаться.
Как будто живу в тюремной камере, жду освобождения; прислушиваюсь, а ну как идет человек с ключами, и от этого усилия напрягаюсь и дергаюсь. Как-то вечером после ужина убираю тарелки, братья обсуждают, не снять ли запруду: с одной стороны, ее может смыть ледяными штормами, если прождать слишком долго, а с другой стороны, сардина идет хорошо и жалко будет снимать плотину слишком рано, – мне же кажется, что я сейчас выскочу из собственной шкуры. Рявкаю на ребят, удивляясь собственной зловредности:
– Да так вашу растак, долдоны вы эдакие, убирайте тарелки! В огороде, что ли, народились?
Слабо тешусь их обиженным изумлением.
И вот однажды, долгое время после того, как я уже перестала верить в письмо, Берта толкает ко мне стопку почты через стойку, и вот оно: толстый белый конверт с красной двухцентовой маркой с Джорджем Вашингтоном, адресован мне. Кристине Олсон.
– Ух, ты глянь. Надеюсь, новости хорошие, – говорит она.
Я насилу успеваю выскочить с почты – открыть бы скорее конверт. Усаживаюсь на упавшее дерево на обочине, разворачиваю толстую бумагу.
“Дражайшая Кристина…”
Читаю жадно, несусь вперед, перебираю страницы (две, три, четыре), до самого конца: “Твой” – мой! – “Уолтон”. Взгляд цепляется за фразы: “лето, которое я никогда не забуду”, “как ты прикрываешь ладонью глаза от солнца, отложной воротничок твоей морской блузы, сине-черную ленту у тебя в волосах”, и наконец: “Все мои дороги ведут в Кушинг”.
Я мечусь туда и обратно, словно пчела, пытающаяся отыскать брешь в сетке. Его не покидают мысли о лете в Мэне. Неделя, проведенная в Молдене, оказалась скучной и жаркой; в Гарварде одиноко – после парусных прогулок, пикников и бесконечных приключений. Всего этого ему не достает: шлюпа на якоре в Поцелуйной бухте, сэндвичей с яйцом на свежеиспеченном хлебе, дурацких шуток Рамоны, пикников у острова Малый, розово-рыжих закатов. Но главное, пишет он, ему не хватает меня.
Свет по пути домой иной, мягче, теплее у меня на лице. Я вскидываю подбородок, закрываю глаза и переставляю ноги вдоль левой колеи на дороге. Идти могу только так, с закрытыми глазами, потому что знаю дорогу сердцем, наизусть.
* * *
Раз в неделю или десять дней на почту приходит толстое письмо в белом конверте с двухцентовой маркой. Уолтон пишет из библиотеки, из столовой, за узким деревянным столом у себя в общежитии, при свете керосинки после того, как его сосед по комнате, регбист и любитель джина, засыпает. Каждый конверт, посылка из слов, что питает мою жадную до них душу, открывает мне врата в мир, где студенты медлят средь обитых деревом классов, чтобы поговорить с профессорами, где целые дни можно проводить в библиотеке, где тревожиться следует лишь об одном: что и как ты пишешь. Представляю себя на месте Уолтона: брожу по студгородку, заглядываю в сумерках в сияющие окна за толстыми стеклами, хожу с друзьями на дорогие ужины на Гарвардскую площадь, где официанты облачены в смокинги и на нерях-студентов смотрят свысока, но студентам плевать.
Письма копятся, я храню их под кроватью, перевязанными светло-розовой лентой. В одном он пишет: “Каждую ночь я смотрю в громадный квадрат на юго-востоке, прямо у себя над головой, и именую в нем звезды: бухта Широкая, Четыре угла, Ист-Френдшип, церковь Улмера, – и хотел бы кататься между ними с тобой”. После ужина открываю дверь сарая и выхожу наружу, смотрю в безбрежный простор звезд и представляю, как Уолтон делает то же в Кембридже. Я здесь, он – там, мы связаны небом.
Раковина-камея
1944–1946
Многие годы никто, казалось, не интересовался молодым художником, устроившим студию у нас в доме. Но этим летом все иначе. Мы с невесткой Мэри в городе по делам, к нам в отделе бакалеи в “Фэйлзе” подходит женщина, которую я не узнаю.
– Простите. Вы… Кристина Олсон?
Я растерянно киваю. Откуда чужому человеку знать, кто я такая?
– Я так и думала! – Сияет. – Я снимаю домик неподалеку, на неделю, с семьей. Читала о вас и о вашем брате. Ал, верно?
Мэри, убредшая в соседний отдел, показывается из-за угла.
– Здравствуйте, я с мисс Олсон. Чем вам помочь?
– Ой, простите! Нужно было сразу перейти к делу. В вашем доме работает знаменитый художник, верно? Эндрю Уайет.
– Откуда вы… – начинает Мэри.
– Подскажите, пожалуйста, не будет ли наглостью попросить у него автограф через вас? – подольщается женщина.
– Ой. Что скажешь? – спрашивает Мэри, глядя на меня.
Я скупо улыбаюсь незнакомке.
– Нет, это невозможно.
Позднее я рассказываю об этом Бетси, она качает головой, словно бы не удивившись.
– Прости, Кристина. Энди недавно оказался на обложке “Американского художника”,[19] и мы беспокоились, что это может как-то повлиять. Очевидно, так и случилось.
– Он что-то рассказывал обо мне с Алом?
– Самую малость. Немного. Возможно, упоминал ваши имена. Разумеется, в статье идет речь о том, что он проводит лета в Кушинге, поэтому, наверное, нетрудно догадаться. Я знаю, он жалеет о сказанном. Ему и впрямь не нравится, когда ему докучают. Уверена, ты тоже не любишь.
Пожимаю плечами. Не знаю, что я про это думаю.
Через несколько недель сижу у себя в кресле у открытого кухонного окна и вижу, как к дому подкатывает нежно-голубой кабриолет. На шофере кремовая федора, на голове у дамы рядом с ним – тончайший шарф в горошек.
– Ку-ку! – выкликает она, шевеля розовыми кончиками пальцев. – Здрасьте! Мы ищем… – Хлопает своего мужчину по руке. – Как его звать, милый?
– Уайет.
– Точно. Эндрю Уайета. – Одаряет меня через окно розовогубой улыбкой.
Энди еще не приехал, но я знаю, что с минуты на минуту увижу, как он бредет по полю от Поцелуйной бухты.
– Не слыхала о таком, – отвечаю я.
– Он разве не в этом доме картины пишет?
– Что-то я не замечала, – говорю.
Она растерянно складывает губки.
– Фрэнк, это разве не то самое место?
– Не знаю. – Вздыхает. – Тебе виднее.
– Я вполне себе уверена. Там, в журнале, написано было.
– Не знаю, Мэйбл.
– Да клянусь…
И конечно, пока они болтают, я вижу, как к нам по траве приближается Энди, помахивая ящиком с красками. Мэйбл ловит мой взгляд, вытягивает шею.
– Смотри, Фрэнк! – вопит она. – Это, наверное, он!
– Тот парень? – говорю я с натужным смешком. – Просто местный рыбак. – Вскидываю брови на Энди, который видит меня и резко сворачивает к хлеву. – Мы ему разрешаем хранить у нас удочки.
Мэйбл обиженно отвешивает губу.
– Ой, черт бы драл, а мы ехали в такую даль.
– Он вам, может, пришлет скумбрии. Я спрошу его.
– Фу, вот уж спасибо-то, – фыркает она, затягивая шарф на волосах. Не снисходит даже проститься.
Они разворачивают машину и спускаются к дороге, Энди показывается из-за хлева.
– Спасибо. Едва пронесло, – говорит он. – Лучше б не разевал я рот.
– Неглупая мысль, – отзываюсь я.
Бытие наше было таким замкнутым и сокровенным, что цивилизация, казалось, где-то очень далеко. Но постепенно до меня доходит, что Энди принадлежит миру, а не нам одним. Неприятное осознание.
* * *
В эти дни тревожит многое. В июне 1944 года у берегов Нормандии в судно Джона прилетает торпеда, погибает два десятка человек. Джон едва уцелел: выбрался из тонущих обломков в чем был. “Часы, купленные в Бруклине за сто долларов, разбил вдребезги, – пишет он несколько месяцев спустя. – На следующий день после того, как нас подбили, какое-то морское корыто оттащило нас в Ла-Манш, а там нас посадили на судно до Плимута. Я спал на бухте каната, чуть до смерти не замерз, но плевать было. Счастлив, что жив”.
Вернется ли он после этого домой? Нет. Его отправляют в Англию, Шотландию, Ирландию – перед кратким отпуском в Бостоне и сорокапятидневным тренировочным лагерем в Ньюпорте, далее приписывают к авианосцу. А затем засылают на юг Тихого океана – сражаться с японцами.
У Сэди сын Клайд – тоже военно-морской резервист, она рассказывает:
– Я вечно начеку, вслушиваюсь, не едет ли незнакомая машина по нашей дороге.
Мне известно, каково это. Просыпаюсь ночью в ужасе, который почти рассеивается к утру, но никогда не исчезает совсем. То и дело, и днем и ночью, думаю: вот сейчас Сэм с Мэри могут заявиться ко мне на порог с телеграммой. Но, возможно, и нет, если я стану месить тесто, покуда оно не сделается совсем шелковым. Если ощиплю курицу так, что вовсе никаких перьев на ней не останется. Если подмету пол и уберу всю паутину под карнизами.
* * *
В начале зимы 1946-го Бетси сообщает письмом ужасное: отец Энди и его внук Ньюэлл погибли в октябре – под пенсильванским поездом. Мистер Уайет вел машину, она застряла на путях. Энди сокрушен, пишет она, однако не проронил ни слезинки.
Когда они возвращаются следующим летом в Мэн, я сразу вижу, до чего сильно повлияла на Энди гибель отца. Он тише. Серьезнее.
– Знаете, думаю, мой отец, возможно, был в нее влюблен, – говорит он, когда мы остаемся в кухне одни. Сидя в качалке Ала, он рассеянно отталкивается ногой. Пятка, носок, кряк-скрип.
Я теряюсь.
– Прости, Энди, – любил кого?
Он перестает качаться.
– Кэролайн. Жену моего брата Нейта. Мать Ньюэлла, моего племянника, который… который был в машине.
– Ой… ох. – Мне трудно понять, о чем он говорит. – Твой отец и… жена твоего брата? – Никого из этих людей я не знаю по имени. Энди никогда о них и не говорит толком.
– Ага. – Трет лицо ладонями, словно пытается стереть с него черты. – Может быть. Кто знает. По крайней мере, он с ума по ней сходил. Мой отец – он такой был, понимаете ли. “Человек больших и разнообразных страстей”, – произносит Энди, словно цитируя некролог. – Без экивоков он об этом ни разу не заговаривал. Но, думаю, несчастный он был человек.
– Что-то случилось перед аварией? Кто-то…
– Ничего не случилось. Насколько мне известно. Но знаю, что о смерти он думал. В смысле, она была одной из его одержимостей: это видно в его работах. В моих она тоже есть. Но это не… – Голос его затихает. Словно он говорит сам с собой, заглушает свои чувства, пытается выбрать толкование. – Странно было, – бормочет он. – После аварии мы нашли все его приспособления для живописи опрятно разложенными в студии. В ряд. Обычно он как я – все разбросано где попало, понимаете?
Думаю о кляксах темперы и раздавленной яичной скорлупе, об окаменелых кисточках по всему дому. Понимаю.
– И может, это совпадение, но Библия у него в студии была раскрыта на притче о супружеской неверности. Или – не совпадение; в смысле, это в пределах разумного – вообразить, что он обдумывал последствия интрижки, что бы там на деле ни случилось. Но это не значит, что он целенаправленно…
– На него не похоже, по-моему, – говорю я. – Из того, что ты мне рассказывал. Ты всегда говорил о нем как об очень… осознанном человеке.
Энди одаряет меня сардонической улыбкой.
– Кто знает, что движет другими, верно? Люди – загадочные создания. – Вскидывает плечи. – Может, сердце подвело. Или беспечность. Или – еще что-то. Мы, вероятно, никогда не узнаем истины.
– Вы же знаете, что скучаете по нему. Это же просто, разве нет?
– Разве?
Я задумываюсь о своих родителях: как иногда, бывает, скучаю по ним, а иногда – нет.
– Может, и нет.
Медленно раскачиваясь, он говорит:
– Перед тем как погиб мой отец, я хотел лишь писать картины. Теперь все иначе. Глубже. Я чувствую всю… не знаю… серьезность этого. Что-то превыше меня. Хочу запечатлеть это все как можно точнее.
Он взглядывает на меня, я киваю. Мне это понятно – еще как. Ясно, что это значит, – смешенье чувств, до мозга костей. Каково это – чувствовать себя прикованным к прошлому, пусть оно и населено призраками.
* * *
Когда погиб его отец, Энди работал над портретом Ала в натуральную величину, темперой: Ал прислоняется к закрытой двери с железным засовом, рядом с нашей старой масляной лампой. Энди взялся за эту картину прошлым летом, старался – набросок за наброском, углем, – запечатлеть на бумаге поцарапанную никелировку лампы, мощь засова. А затем вытащил краски и попросил Ала позировать рядом с дверью в кухонном коридоре. Часы, дни, недели напролет Ал сидел у двери, а Энди все пытался – и не мог – перенести видение у себя в голове на холст.
– Все равно что пришпилить бабочку, – говорил он в отчаянии. – Если не осторожничать, крылышки осыплются пылью в руках.
Когда в конце лета Энди собирается уезжать из Порт-Клайда, картина все еще не завершена, и он забирает ее в зимнюю студию в Чэддз-Форде. После аварии приступает к картине вновь. Вернувшись в Мэн, привозит картину с собой, прислоняет ее к камину в Ракушечной.
Однажды утром я стою у камина и смотрю на картину, и тут появляется Энди, проходит в дом. Заметив меня в Ракушечной, еще из прихожей, встает рядом со мной.
– Ала бесило вот так сидеть, правда? – говорит Энди.
Смеюсь.
– Ему было очень скучно, он возился.
– Он больше никогда не будет мне позировать.
– Скорее всего, – соглашаюсь я.
Половина картины – свет, половина – сумрак. Масляная лампа отбрасывает тени на лицо Ала, на старый дощатый пол, под железный засов. Газета за лампой замызгана, помята. Ал смотрит в пространство, словно глубоко задумавшись. Глаза у него, кажется, затуманены слезами.
– Получилось, как ты хотел? – спрашиваю я у Энди.
Протянув руку, он очерчивает в воздухе лампу.
– Фактуру никеля я сделал правильно. Доволен.
– А фигура Ала как же?
– Я ее все менял и менял, – говорит он. – Не мог уловить выражение лица. И до сих пор не уверен, что уловил.
– Он… плачет?
– Думаете, он плачет?
Киваю.
– У меня такого намерения не было. Но… – С горестной улыбкой он продолжает: – Едва ли не слышно, как воет поезд, верно?
– Словно Ал прислушивается к нему, – говорю я.
Энди подходит ближе, всматривается в полотно.
– Тогда, может, действительно получилось.
* * *
Энди никогда не просит меня ему позировать, но через несколько недель после этого разговора приходит и говорит, что хочет писать портрет. Как тут откажешь? Усаживает меня на пороге кладовки, укладывает мои руки на коленях, обустраивает подол юбки и делает набросок за наброском, ручкой на белой бумаге. С расстояния. Вблизи. Волосы, до тончайшей пряди, отброшенной с шеи. С ожерельем и без. Кисти, и так и эдак. Пустой дверной проем, без меня.
Почти все время доносится лишь шорох ручки, хлоп бумаги, когда Энди переворачивает обширную страницу альбома. Прищурившись, выставляет вперед большой палец. Держит ручку в зубах, губы в чернилах. Тихо бормочет себе под нос.
– Вот, вот так. Тень… – У меня странное чувство, что он смотрит одновременно и на меня, и сквозь меня.
– Я и не замечал толком, до чего у вас хрупкие руки, – размышляет он вслух чуть погодя. – Все в шрамах. Как они у вас появились?
Я так привыкла к откликам людей на мою немощь – к неуверенности в их словах, к неприятию, даже к отвращению, – что обычно замыкаюсь, когда об этом заходит речь. Но Энди смотрит на меня честно, без жалости. Я оглядываю пересекающиеся полосы на предплечьях, одни краснее, другие бледнее.
– Решетки в духовке. Иногда соскальзывают. Обычно я хожу с длинными рукавами.
Он морщится.
– Болезненный у них вид, у этих шрамов.
– Привыкаешь. – Пожимаю плечами.
– Может, вам помощь не помешала бы – с готовкой. Бетси знает одну девушку…
– Я справляюсь.
Покачав головой, он говорит:
– Правда, Кристина? Молодец.
В один прекрасный день он сгребает наброски и устремляется наверх. Следующие несколько недель я едва вижу его. Он ежеутренне приходит через поля к дому, тонкое тело кренится из-за ненадежного бедра, локти и колени мотает из стороны в сторону; на нем синий комбинезон и заляпанная краской фуфайка, старые рабочие сапоги, которые он не утруждается шнуровать. Дважды стучит в сетчатую дверь, заходит, не дожидаясь приглашения, приносит канистру с водой и горсть яиц, вытащенных из-под кур. В кухне обменивается любезностями со мной и Алом. Топает наверх прямо в сапогах, бормоча себе под нос.
Я не прошу показать, что он делает, но мне любопытно.
В теплый солнечный июльский день Энди спускается, сообщает, что устал, отвлекается и, вероятно, после обеда сделает перерыв и отправится под парусом. После его ухода я понимаю, что самое время глянуть, над чем он трудится у себя наверху. Вокруг никого, можно взбираться наверх сколь угодно медленно. Отдыхая на каждой ступеньке.
Не успев даже открыть дверь в спальню на втором этаже, я слышу запах яиц. Распахнув дверь, вижу раздавленную скорлупу, грязные тряпки и чашки с разноцветной водой – на полу, всюду. Я здесь не была давным-давно; замечаю, что обои отстают от стен целыми полосами. Несмотря на ветер из открытого окна, в комнате душно. Быстро осматриваю картину, пристроенную на хлипком мольберте в дальнем углу, и отвожу взгляд.
Забравшись на односпальную кровать – мою еще детскую, – укладываюсь на спину и гляжу на паутину трещин в потолке. Краем глаза вижу прямоугольник холста, но впрямую посмотреть пока не готова. Энди однажды сказал мне, что в его с виду реалистичных картинах сокрыты секреты, тайны, аллегории. Что он хочет добраться до сути вещей, сколь угодно мерзких.
Боюсь узнать, что он смог разглядеть во мне.
Наконец откладывать дальше невмочь. Повернувшись набок, я смотрю на картину.
Я не то чтобы безобразна. Но увидеть себя его глазами – все равно потрясение. На полотне я в профиль, сурово смотрю на бухту, руки неловко лежат на коленях, нос длинный, заостренный, уголки рта опущены. Волосы – темно-каштановые, фигура тощая, чуть накренена. Дверной проем кладовки обрамлен темнотой, наполовину в тени. Дверь растрескавшаяся, побитая временем, снаружи – буйство трав. Платье на мне черное, вырез – глубокий клин – на белой шее.
В черном платье – а не в том, что на мне было надето, – я смотрюсь сумрачно. Насуплено. И совершенно одиноко. Одна в дверях, лицом к морю. Кожа – призрачная, как у привидения. Вокруг – тьма.
Бриджет Бишоп в ожидании приговора.
В ожидании смерти.
Вновь перекатываюсь на спину. Тени кружевных занавесок наплывают и отлетают с ветром, превращают потолок в волнистое море.
Когда наутро появляется Энди, я не говорю ему, что ходила наверх. Он здоровается, мы несколько минут болтаем, пока я замешиваю тесто для мелкого печенья, и он отправляется в прихожую. Останавливается. Возвращается к кухонной двери, уперев руки в боки.
– Вы ходили наверх.
Я капаю тестом из ложки на противень, плюху за плюхой.
– Ходили, – настаивает он.
– Откуда ты знаешь?
Он театрально взмахивает руками.
– След в пыли, до самого верха. Как за великанской улиткой.
Я ехидно посмеиваюсь.
– Что скажете? Пожимаю плечами.
– Я ничего не понимаю в искусстве.
– Это не искусство. Это просто вы.
– Нет, не я. Это ты, – говорю. – Ты мне разве сам не говорил? Что любая картина – автопортрет?
Он присвистывает.
– Ох, вы хитрее меня. Ну же. Я хочу знать, что вы думаете.
Боюсь говорить. Боюсь, что получится тщеславно или самовлюбленно.
– Такое оно… темное. Тени. Черное платье.
– Я хотел показать контраст с вашей кожей. Подчеркнуть вас, сидящую там.
Теперь, в этой беседе, я сознаю, что сержусь.
– У меня такой вид, будто я в гробу с полузакрытой крышкой.
Он посмеивается, словно не верит, что я расстроена.
Я смотрю на него в упор.
Проведя рукой по волосам, он говорит:
– Я пытался показать ваше… – Медлит. – Достоинство. Величие.
– Ну, видимо, в этом вся беда. Я не считаю себя величественной. И думала, что и ты не считаешь.
– Нет, не считаю. Не вполне. Просто миг такой. И это не “вы”. И не “я”. Что б вы ни думали. – Голос стихает. Видя, как я вожусь с тяжелой дверцей духовки, он подходит и открывает ее сам, а затем сует в духовку противень. – Думаю, это дом. Его настроение. – Закрывает духовку. – Понимаете, о чем я?
– У тебя получилось так… – Подбираю нужное слово. – Не знаю. Одиноко.
Энди вздыхает.
– А разве нет – иногда?
На миг между нами безмолвие. Я тянусь к тряпке, стираю с рук муку.
– И какой же вы себя считаете? – спрашивает он.
– Что?
– Вы сказали, что не считаете себя величественной. Какой вы себя считаете?
Хороший вопрос. Какой я себя считаю?
Ответ удивляет нас обоих.
– Я считаю себя девчонкой, – говорю я.
1914–1917
Кажется, будто все в городе знают о конвертах с массачусетскими штемпелями. Я вижу, что Берта Дорсет сплетничает, – по ее ухмылкам и по тому, как вскидывает брови, отдавая мне корреспонденцию. Упоминаю об этом в письме Уолтону, он пишет в ответ: “Какая жалость, что тебя донимают любопытством”, – и предлагает применять Рамону как прокладку: она сможет слать конверты из Бостона. “Тогда люди не будут знать, что это я тебе пишу. Но, боюсь, услышат об этом так или иначе”.
Не позволю, чтоб меня это тревожило. Люди всегда болтают. Так у них во всяком случае хороший повод.
В одном письме Уолтон сообщает, что пытался выращивать душистый горошек, свой любимый цветок, у себя в кембриджской квартире, но не преуспел. В апреле, за несколько месяцев до его приезда, я заказываю по почте семена душистого горошка и прошу Ала сбить мне ящики. Когда заказ прибывает, я замачиваю семена на ночь, сливаю воду, отсекаю им кончики острым ножом и сажаю в густо унавоженную землю. Чувствую себя Джеком, предвкушающим бобовый росток.
Горошек пробивается наружу, превращается в тощие стебельки, устремляется вверх по решетке. К середине июня, когда приходит пора собирать клубнику, горошек принимается цвести. Хотя Уолтон написал мне, в какую неделю его ждать, а Сэм докладывает, что заметил Уолтона в городе, увидев, как однажды теплым утром Уолтон поднимается по тропе с охапкой душистого горошка в руке и широченной улыбкой на лице, я оторопеваю.
– Услада усталым очам! – восклицает он у порога кухни, порывисто обнимает меня. Вручая мне букет, говорит: – Я знаю, как ты любишь душистый горошек.
Хочу поправить его, что нет, это тебе нравится душистый горошек, и знаешь, как нравишься мне ты. Но меня до странного трогает, что он соединил свои пристрастия с моими.
– У меня для тебя сюрприз, – говорю я, прошу его закрыть глаза и веду к ящикам. – Смотри.
Он глядит на меня сокрушенно.
– Прости меня. В лес с дровами.
– Великие умы… – отзываюсь я. – Для тебя вырастила.
– Для меня?
Киваю.
Подходит ближе, берет меня за руку.
– Здесь вдосталь красоты, чтобы приманить меня и без душистого горошка.
Добро пожаловать, думаю я.
* * *
Никогда толком не обращала внимания на свой внешний вид, но вдруг осознаю его острее некуда. Замечаю пятно на синем хлопчатобумажном платье, потрепанные рукава муслиновой блузки, грязный подол юбки. Пробегаю пальцами по волосам, они распадаются на сальные пряди. Вся семья моется в третий понедельник месяца в одной и той же воде в кухне, от старых к молодым (хотя летом мальчишки, вообще-то не склонные к мытью, обходятся купанием в озере или океане). Раз в несколько дней я умываюсь и протираю подмышки тряпицей, обмакнутой в воду из кастрюли, нагретой на плите. Но этого, решаю я, недостаточно. При помощи Ала вытаскиваю из дровяного сарая старую жестяную ванну, мы наполняем котлы насосом в кладовке и тащим их греть на плиту. Когда вода почти кипит, мы выливаем ее в ванну и добавляем ведра холодной. После чего я высылаю Ала вон.
В ванне тру кастильским мылом руки, ноги, бледный живот, мех подмышками и между ног. Намочив голову, прохожусь мыльными руками по волосам, ощущаю черепом свои пальцы, будто они чужие. Ополоснув волосы, выливаю яблочный уксус в чашечку ладони, как учила меня мама, и пропитываю им пряди, пока не начинают скрипеть. Вода приятна моим скрученным в узел мышцам, руки висят в ней, невесомые. Ноги тоже висят в воде. Когда была младше, иногда купалась с братьями в пруду, упивалась невесомостью, мимолетной свободой от боли. Теперь ванна – единственное место, где я обретаю это облегчение. Закрываю глаза, наслаждаюсь им.
Откинувшись на холодную стенку ванны, грежу о том, каково это было б – уехать отсюда. Воображаю этот миг, словно я – персонаж рассказа: молодая женщина просыпается, пока вся остальная семья спит, собирает кое-какие пожитки в узелок, спускается по лестнице как можно тише (она привыкла просыпаться прежде остальных – чтобы развести огонь и приготовить завтрак). Шнурует ботинки в сумраке прихожей и открывает дверь на улицу. Легкой поступью, словно балерина, невесомая, как бабочка, она скользит по ступенькам, за угол, прочь от дома и хлева к автомобилю, его не видно, однако он ждет, за рулем – молодой человек. (Уолтон, разумеется. Кто ж еще?) Принимает у нее сумку, бросает ее на сиденье. В этой сумке – наутилус, пустая фоторамка, украшенная ракушками, что ждет подходящего памятного мига. Почти все остальное она бросает – осколки жизни, которую переросла. Что бы ни понадобилось ей в будущем, отыщется там, куда она отправляется.
* * *
Лето идет своим чередом, мы втягиваемся в привычные по прошлому году занятия: лодочные прогулки с семейством Карл, праздники на скалах у Поцелуйной бухты, пикники на лугу. Однажды, когда мы бредем к Бёрд-Пойнту, Уолтон говорит:
– Было бы замечательно, если бы ты могла приехать этой осенью в Бостон.
Меня пронзает радостью.
– Я бы с удовольствием.
– Наверняка сможешь остановиться у Карлов. И… – Он медлит, я задерживаю дыхание, надеясь, что приглашение станет более личным. – …Вероятно, сможешь повидать там врача – по поводу твоего увечья.
Замираю от неожиданности. Мы никогда впрямую не обсуждали мое здоровье, хотя я привыкла полагаться на руку Уолтона в своей.
– Ты хочешь, чтобы я сходила к врачу?
– Эти сельские врачи желают добра, кто бы сомневался, но я не уверен, что они сведущи в последних новостях науки. Ты разве не хочешь разобраться, что с тобой не так?
– Со мной – не так? – Я запинаюсь. Кожа словно холодеет.
Он постукивает по лбу двумя пальцами.
– Прости меня, Кристина. “Чем ты хвораешь” – вот как надо было сказать. Ты не жалуешься, но я же представляю, как ты страдаешь. Как человек, который о тебе заботится… – Голос у него вновь стихает, он берет меня за руку. – Я бы хотел узнать, нельзя ли что-то предпринять.
Его беспокойство разумно – даже логично. Тогда почему же от этих мягких уговоров хочется зажать уши ладонями и умолять его, чтоб замолчал.
– Мило с твоей стороны – заботиться о моем благополучии, – говорю я, вымучивая невозмутимость.
– Пустяки. Я просто хочу, чтобы ты была здорова. Ты готова подумать об этом?
– Мне бы не хотелось.
– Сказал Бартлби. – Он сияет улыбкой, устраняет напряжение.
Бартлби. Из закоулков школьного ума я выволакиваю отсылку: упрямый писец.[20] Улыбаюсь в ответ.
– Я лишь желаю тебе добра, ты же понимаешь.
– Ты – вот мое добро, – откликаюсь я.
* * *
Август – изощренная пытка. Хочу, чтобы каждый день длился вечно. Суечусь, меня лихорадит, раздражают все, кроме Уолтона: ему я решительно являю лучшее, что во мне есть. Особый род неудовлетворенности, горько-сладкая ностальгия по тому, что еще не минуло. Даже посреди веселой прогулки осознаю, до чего это все мимолетно. Вода тепла, но остынет. Океан – гладкое стекло, но вдали, у горизонта, уж подымается ветер. Костер ревет, но иссякнет. Уолтон рядом, обнимает за плечи, но совсем скоро не будет его.
В последний вечер нашей компании мы сидим на пляже, беседуем, Уолтон упоминает походя о предсказании календаря – грядущая зима будет суровой, – и Рамона говорит:
– Повидает ли Кристина хоть что-то, кроме суровой зимы? – Говоря это, она не смотрит на Уолтона, но мы все знаем, о чем она спрашивает: собирается ли Уолтон – и когда – предложить выход.
Он словно бы не замечает.
– Кристина – она не как мы, Рамона. Ей нравятся холодные мэнские зимы. Правда? – спрашивает он у меня, сжимая мне плечи.
Я смотрю на Рамону, та чуть качает головой и закатывает глаза. Но больше никто ничего не говорит.
* * *
Цветы вянут, мерзнут на раннем морозе, отмирают на корню. Деревья вспыхивают и выгорают. Листья обращаются в прах. Все, связанное с жизнью на ферме, что когда-то было мило, теперь раздражает меня безмерно. Месяцы после лета стало выносить куда труднее – тягомотное постоянство ежедневных дел, неизбежное нисхождение во мрак и холод. Чувствую себя словно на узкой тропе через знакомую чащу, на тропе, что кружит и кружит, и нет ей конца.
Всю раннюю осень консервирую, заготавливаю, солю: помидоры, огурцы, клубника, голубика. Банки на полках в сарае. Алвэро забивает свинью, мы разделываем, вялим, коптим всё до последнего кусочка, от копыт до витого хвостика. Укладываем на хранение унылые корнеплоды, брюкву, репу, пастернак, свеклу. Собираем яблоки, высыпаем их на длинный стол в погребе – к грядущей долгой зиме.
Времени на раздумья у меня даже с перебором. Я мучаю себя. Занята лишь делами да мыслями. Ощущаю себя моллюском в наутилусе Маммеи – переросшим свою раковину. Женщина моих лет, думаю я, должна работать на своих детей и мужа. Все вокруг меня, друзья, одноклассники, уже обручены и женятся. Мальчишки, с которыми я ходила в школу, уже обустраивают жизнь фермеров, рыбаков, лавочников. Девчонки – в том числе и Сэди, и Гертруд, – обживают дома и рожают детей.
Я вожусь с делами, мама понукает меня:
– Поднимай ноги, девочка моя: жизнь не такая уж трагедия. – Ал косится на меня, я знаю, о чем он думает: может, лучше бы Уолтону вообще не появляться.
Но письма Уолтона – шары с горячим воздухом, поднимают меня из меланхолии. Он пишет об учебе, о преподавателях, о своих соображениях про будущую карьеру. Его учат на журналиста, но в газетах главенствуют вести о бушующей в Европе войне, сосредоточиться на репортажах о делах родины затруднительно, говорит он. Решает заняться преподаванием. Учителя нужны всегда, пусть хоть война, хоть падение рынков. От меня не ускользает, что учителем можно быть где угодно, – даже в Кушинге, Мэн.
* * *
Зима тянется – так долго тают ледники. Рождество и Новый год – мимолетное отвлечение, а следом – месяцы мороза и снега. Возвращаюсь с почты в вечернем сумраке февраля, письмо от Уолтона – у меня в пальто, и тут башмак цепляется за торчащий кусок льда, и я обрушиваюсь наземь. Приподнимаюсь на локте, замечаю с диковинной отстраненностью порванные чулки, тонкую пленку крови на голени, дергающую боль в правой руке – той, что я смягчила падение. Осторожно вытягиваю левую руку, пытаюсь встать. Хлопаю себя по карману. Письмо, должно быть, вылетело, когда я падала. Ощупываю землю вокруг, еще сильнее пачкаю юбку, лед розовеет от моей крови. В нескольких ярдах от себя замечаю конверт, хромаю к нему. Пустой. Небо темнеет, воздух холоден, подбородок пульсирует, но я все равно ищу, отчаянно, как опийный курильщик: не уйду, пока не найду. И тут высматриваю сложенные листки – они трепещут в канаве.
Добыв их, вижу, что чернила растеклись: письмо, заляпанное грязью, пропитанное водой, словно начертано дьявольским шифром, придуманным, чтобы свести с ума получателя. Понять могу лишь каждое четвертое-пятое слово во фразе (“весело…”, “рад сообщить…”, “начинает нравиться”) и, с растущим отчаянием попытавшись разобрать буквы, прижимаю страницы к платью на животе, под пальто, в надежде, что они станут внятны, когда высохнут. Путь домой медлен и болезнен. Войдя в дом, распахиваю пальто и обнаруживаю, что лиф хлопчатобумажного платья татуирован чернилами. Вечное напоминание, до чего значимы стали для меня слова Уолтона.
* * *
И снова лето. Открыв в июне 1915 года дверь, я обнаруживаю за ней Уолтона, он оделяет меня широкой улыбкой и вручает пакет с ирисками.
– Сладкое – сладкой, – говорит он.
– Старый зачин, – говорю. – Ты это уже говорил. Смеется.
– У меня, очевидно, ограниченный репертуар.
Вскоре мы вновь втягиваемся в летний распорядок, видимся едва ли не ежедневно. Гуляем по нашим владениям, по вечерам катаемся под парусом, ходим на пикники в рощу вместе с Карлами и моими братьями Алом и Сэмом. Рамона наблюдает, как мы с Уолтоном удаляемся вдвоем за плавником и хворостом для костра в круге из валунов, как Уолтон тянет меня за дерево и целует. В конце вечера сидим на грубых скамьях, сколоченных отцом, смотрим, как угли осыпаются и гаснут. Солнце тонет, словно янтарь, в море, и небо меняется с синего на пурпурный, потом на красный.
Когда Уолтон встает и пересаживается на другую сторону кострища поговорить с Алвой, Рамона устраивается рядом со мной.
– Мне надо спросить, – говорит она тихонько. – Уолтон обсуждал с тобой суть его к тебе отношения?
Я знала, что этот вопрос возникнет. И страшилась его.
– Не то чтобы, – отвечаю я. – Думаю, наши отношения… понятны.
– Понятны кому?
– Нам обоим.
– Он говорит хоть что-то?
– Ну, ему надо сначала обустроиться в жизни…
– Я лезу не в свое дело, прости меня. Я старалась помалкивать. Но, батюшки, третий год.
Рамона не произносит ничего, о чем я сама бы не думала, но ее слова – словно удар под дых. Уолтон – студент, хочу я сказать, он изучает классические дисциплины, философию, он не может принимать никаких решений, пока не доучится. Никто будто бы не понимает этого.
Не уверена, что понимаю сама.
– Это тебя и впрямь не касается, Рамона, – говорю я чопорно.
– Действительно, ты права.
Мы сидим молча, между нами щетинятся несказанные слова.
Через несколько мгновений она вздыхает:
– Слушай, Кристина. Будь осторожна. Вот и все.
Я знаю, что Рамона желает добра. Но это все равно что предостерегать человека, прыгнувшего со скалы. Я уже лечу.
* * *
В конце августа мы с Уолтоном решаем прокатится под парусом до Томастона, вдвоем. После разговора с Рамоной я остро осознаю, до чего ловко Уолтон избегает разговоров об отношениях. Может, Рамона права: мне нужно обсудить это впрямую.
Решаю сделать это, когда мы выйдем под парусом.
Ранний вечер, воздух пропитан прохладой. Уолтон стоит позади меня, разворачивает большой шерстяной плед, укутывает мне плечи, пока я рулю лодкой.
– Уолтон… – начинаю я нервно.
– Кристина.
– Я не хочу, чтобы ты уезжал.
– Я не хочу уезжать, – говорит он, беря меня за руку.
Высвобождаю ладонь.
– У тебя есть что предвкушать. А у меня впереди лишь месяцы зимы. И ожидания.
– Ах, бедная моя Персефона, – бормочет он, целуя меня в волосы, в плечо.
Это раздражает меня еще пуще. Слегка отстраняюсь. Мгновение мы помалкиваем. Слушаю скорбный плач чаек над нами, здоровенных, как гуси.
– Мне надо у тебя кое-что спросить, – говорю я наконец.
– Спрашивай.
– Или, ну, сказать.
– Давай.
– Я люблю… – начинаю я, но отвага моя блекнет, – …бывать с тобой.
Он туже обертывает меня пледом, заматывает нас обоих в кокон.
– И я люблю бывать с тобой.
– Но… мы друг другу… ты мне…
Руки его скользят по моим бокам, замирают на бедрах. Я выгибаюсь назад, опираюсь о него, ладони его оказываются впереди, мягко накрывают мне груди сквозь ткань.
– О, Кристина, – выдыхает он. – Кое-что не требует объяснений. Правда?
Решаю, что спрашивать не буду, не буду давить, настаивать. Говорю себе, что еще не время. Но никуда не денешься: мне страшно. Страшно, что оттолкну его, и вот это – чем бы оно ни было – закончится.
* * *
Однажды вечером мы с Алом очищаем тарелки после ужина, и Ал вдруг спрашивает:
– И что, по-твоему, будет дальше?
– Что?
Он склоняется над тарелками, сбрасывает остатки картошки, ямса и яблочного соуса в ведро для свиней.
– Думаешь, Уолтон Холл женится на тебе?
– Не знаю. Не думала об этом. – Но Ал точно знает, что это вранье.
– Я что сказать-то хочу… – Ему трудно и неловко, он не привык к священнодействию выражения собственных мыслей.
– “Я что сказать-то хочу”, – нетерпеливо передразниваю его я. – Хватит уже экать и мекать. Выкладывай.
– Никогда тебя такой не видел.
– Какой?
– Словно тебя рассудок покинул.
– Да неужели. – В приступе раздражения двигаю кастрюли как попало, громыхаю.
– Я за тебя тревожусь, – говорит он.
– А вот и зря.
Несколько минут возимся молча, убираем со стола, складываем приборы в таз, наливаем теплую воду из чайника в кадку – мыть тарелки. Все движения привычны, сержусь еще сильнее. Как он смеет – этот осмотрительный мужчина-ребенок, ни разу пока не влюбившийся, – судить о мотивах Уолтона и о моем здравом смысле? Ал знает о природе наших с Уолтоном отношений не больше, чем о шитье платьев.
– Ты что себе думаешь? – выпаливаю я наконец. – Что я без мозгов? Что у меня в голове мыслей никаких?
– Я не за тебя беспокоюсь.
– Ну так не беспокойся. Я за собой пригляжу. И вот еще что – хотя это нисколько не твое дело: Уолтон во всем ведет себя совершенно порядочно.
Ал опускает стопку тарелок в кадку.
– Само собой. Ему нравится морочить голову. Не хочется бросать это дело.
Сгребаю полный кулак вилок, поворачиваюсь к Алу. На миг подумываю ударить его ими, но глубоко вдыхаю и говорю:
– Как ты смеешь.
– Брось, Кристи, я не хотел… – И вновь голос у него дрожит, и я вижу, до чего важным он считает этот разговор, – с поправкой на то, до чего противоестественно для него мне перечить. И все же Ал кажется мне раздражающе простецким. Все, чем я обычно в нем восхищаюсь, сейчас видится недостатками: его привязанность – лишь страхом неведомого; его порядочность – попросту наивностью; его нравственность – чопорной предубежденностью. (До чего быстро, от одного лишь поворота восприятия, добродетели человеческие превращаются в пороки!)
– Я что сказать-то хочу… – Сглатывает. – У него много вариантов.
Без толку объяснять Алвэро, что такое любовь. И я говорю:
– То же можно было б сказать и о папе, когда он ухаживал за мамой.
По лицу у Ала пробегает ирония.
– Как так?
– Он мог уплыть на любом судне. Объехать весь мир. Но остался здесь, с ней.
– У матери был большой дом и сотни акров. – Машет рукой на окно. – Сама знаешь, как этот дом – дом Олсонов – когда-то именовался.
Я нетерпеливо сбрасываю приборы в воду.
– Тебе никогда не приходило в голову, что папа влюбился?
– Конечно. Может быть. Но ты помни – у тебя трое братьев. Этот дом тебе не унаследовать.
– Уолтон не из-за дома все это.
– Ладно. – Он вытирает руки о полотенце, вешает его на крюк. – Просто говорю, что ты б остерегалась. Нехорошо это – что он тебя держит подвешенной.
– Ничего я не подвешена, – резко возражаю я. – И вообще – я лучше три месяца летом буду с Уолтоном, чем с кем угодно из местных мальчишек – круглый год.
Однажды утром несколько недель спустя, собрав яйца, перешагиваю порог дома и слышу голоса родителей в Ракушечной – куда они заходят редко. Стою в прихожей, замерев, держу в горстях яйца, все еще теплые из-под кур.
– Она не красавица, но трудится прилежно. Думаю, из нее выйдет хорошая спутница, – говорит папа.
– Выйдет, да, – говорит мама. – Но, сдается мне, он с ней играет.
Лицо у меня щиплет – я понимаю, что речь обо мне. Прислоняюсь к стене, вслушиваюсь.
– Кто знает? Может, хочет фермой заправлять.
Мама смеется – сухо.
– Этот-то? Нет.
– А чего тогда ему от нее надо?
– Кто знает? Время занять как-то, подозреваю.
– Может, он и впрямь ее любит, Кэти.
– Боюсь… – Голос матери затихает. – Не женится он на ней.
Папа:
– Я тоже этого боюсь.
Щеки у меня горят, сердце колотится в уши. В дрожащих руках яйца перекатываются, ворочаются и, хоть я и пытаюсь удержать их, выскальзывают между пальцами, падают на пол, одно за другим, разбрызгивают желток и вязкий белок по прихожей.
В дверях появляется мама, вид у нее растерянный.
– Принесу тряпку.
Исчезает, возвращается; сев на корточки, вытирает пол у моих ног. Мы обе молчим. Я не сознаю ничего, кроме унижения, кроме этого удара – услышать собственные безмолвные страхи облеченными в слова. Хлопает сетчатая дверь, я вижу, как мимо окна, пригнув голову, идет к хлеву отец.
* * *
В сентябре Уолтон, вернувшись к учебе, пишет: “Думаю, тот вечер, когда мы ездили в Томастон, – самый счастливый за все время. Как тебе удалось править лодкой, в тех обстоятельствах? Думаю, это я виноват”. Он тоскует по Кушингу. Тоскует по мне. “Лучшее лето в моей жизни. В значительной мере я обязан им тебе”, – сообщает он и подписывается: “С любовью, Уолтон”.
Кажется, будто стена дома отделилась и тихо упала наземь. Я вижу выход – ясную тропу к открытому морю.
* * *
Летом, когда под боком семейство Карл и Уолтон, мне больше никто не нужен; мы с братьями витаем вокруг них – мотыльки у живого пламени. Но после их отбытия мне одиноко. Когда Гертруд Гиббонз, девчонка, которая никогда мне толком не нравилась в школе, но выросшая в довольно сносную взрослую женщину, приглашает меня в среду вечером в кружок шитья под руководством профессиональной швеи Кэтрин Бейли, я неохотно соглашаюсь. Гертруд тоже шьет себе платья сама, и между заседаниями кружка мы начинаем шить вместе – иногда, вечерами, когда все дела закончены. Коротаем время.
Прохладным ноябрьским вечером я беру с собой шитье и отправляюсь к Гертруд с мешком на плече – две мили пути. Весь день шел дождь; дорога сырая, идти приходится медленно и осторожно, огибать грязные лужи.
– Ну наконец-то! – восклицает Гертруд, открывая на мой стук. Круглолицая, краснощекая, с могучим бюстом, какой едва удерживают пуговицы, жует сахарное печенье. Ее здоровенная черная собака лает, прыгает.
– Фу, Оскар, фу! – одергивает его она. – Заходи уже бога ради.
Кот – калачиком на зачехленном кресле.
– Брысь, Том, – говорит Гертруд, хлопая в ладоши, кот лениво подчиняется. – Садись, – велит она мне. – Печенье? Вот только испекла.
– Пока не надо, спасибо.
– Вот так-то ты и остаешься худой! – говорит она. – Воздерживаешься, как моя сестрица. Я пытаюсь, вот честно, однако не понимаю, как можно устоять перед теплым сахарным печеньем.
В доме уютно; в камине тлеют угли. Гертруд бросает в огонь еще одно полено, я устраиваюсь поудобнее. Родителей дома нет, они навещают родню в Томастоне, говорит Гертруд; братья – где-то с друзьями. Оскар растягивается у очага, брюхо-баклажан вскоре вздымается и опадает в довольном сне.
Болтаем о большом урожае картошки и репы в этом году; рассказываю о лисе, что утащила у нас из курятника трех кур, и как Ал изловил ее и убил. Гертруд выспрашивает рецепт моего знаменитого жареного пирога с яблоками, объясняю его пошагово: как чистить и тоненько нарезать яблоки, как обжаривать кусочки на малом огне в сковородке с толстым дном, добавляя струйкой сахарную патоку, пока яблоки не размягчатся посередке и не захрустят по краям, а следом надо вытряхнуть яблоки на тарелку. (Не рассказываю, что переворачивать сковородку самостоятельно я уже не могу, приходится просить кого-то из братьев.)
Юбка, которую я шью, – из бежевого хлопка, со складками и карманами. Перед походом к Гертруд я прогладила ткань утюгом – загиб в один дюйм, по всему подолу, и теперь подшиваю ее. Стежки у меня мелкие, опрятные, отчасти потому, что приходится очень сосредоточиваться, чтобы получалось хорошо. У Гертруд они неряшливые. Она чуть что отвлекается, ее распирает от сплетен, какими хочет поделиться. Эмили Джоунз родила мертвого ребеночка в начале лета, до сих пор из дому не выходит, бедняжка. У Эрла Стэндина беда с выпивкой. Его беременная жена заявилась на прошлой неделе в “Фэйлз” с фингалом, но всем сказала, что налетела на столб. Сара Стюарт вышла замуж за кузнеца из Рокленда, с которым познакомилась на танцах, но болтают, что у нее роман с его братом.
– А ты что слыхала? – спрашивает она.
Я подношу ткань к глазам, хмурюсь, делаю вид, что огорчена пропущенным стежком. Чем больше она трещит, тем меньше мне хочется разговаривать самой. Знаю, она алчет послушать про Уолтона, но это я держу при себе – не верю, что она не перемелет эту историю в труху. Гертруд терпеливо ждет, шитье – на коленях.
– Ты сфинкс, Кристина Олсон, – говорит она наконец.
– Я зануда просто, – отзываюсь. – Никто мне ничего не рассказывает.
– А как же Рамона Карл и этот Харленд Вудбери? Я слыхала, он к ней неравнодушен.
Человек по имени Харленд Вудбери и впрямь приезжал этим летом из Бостона повидаться с Рамоной в Кушинге. Но после его отъезда Рамона посмеялась над его пухлыми щечками и шляпой-пирожком.
– Понятия не имею, – отвечаю.
Она лукаво поглядывает на меня.
– Ну, я слыхала кое о чем, на что ты, может, прольешь свет. – Она облизывает указательный палец и мусолит разлохмаченный кончик нитки. – Слыхала, – продолжает она, продевая нитку в иголку, – что некий молодой человек из Гарварда никак не может определиться.
По мне прокатывается волна – от самой макушки, как тепловой удар. Пальцы дрожат. Я откладываю шитье, чтобы Гертруд не заметила.
– Ты же наверняка понимаешь, что подобный мужчина… – говорит она мягко, словно с ребенком. Вздыхает.
– Подобный – это какой? – спрашиваю я резко и тут же жалею, что втянулась.
– Ну, ты понимаешь. Образованный, приезжий. – Она тянет руку, гладит меня по ноге. – Словом, как говорится, не складывай все яйца в одну корзину.
– Ладно, Гертруд.
– Я знаю, ты держишь свое при себе, Кристина.
И не хочешь об этом говорить. Но я не могла, по всей совести, упустить время и не сказать тебе, что́ думаю.
Киваю, держу рот на замке. Не заговорю – и ей не удастся.
* * *
Добираясь домой от Гертруд, я рассеянна, вся в мыслях, и тут нога застревает в колее, я падаю. В падении стараюсь податься в сторону, чтобы не попортить сверток с недошитым платьем, приземляюсь на правый бок. Меня пронизывает болью в правой ноге. Обе руки ободраны. Стряхиваю с них грязь, и тут же выступает кровь. Нога подвернута, ступня торчит неестественно. Сверток порван, испачкан.
Без толку звать на помощь – никто не услышит. Если нога сломана, если не смогу встать, найдут меня, вероятно, лишь к утру. До чего же глупо это – отправляться на ночь глядя в холод, одной, – и ради чего?
Я подвываю, жалея себя. Люди постоянно совершают дурацкие ошибки, в этом их беда. Прошлой зимой в Томастоне нашли человека, замерзшего до смерти в лесу, – то ли заблудился, то ли сердце прихватило. Люди отправляются на яликах в туманную погоду, заплывают в океан там, где есть донное течение, засыпают при горящей свече. Уходят из дома одни и ломают ноги в глухомани ледяной ноябрьской ночью.
Протягиваю руку – ощупать правое бедро. Колено. Сгибаю ногу и тут же чувствую резкую боль. Вон что. Щиколотка.
Советовал мне папа брать с собой трость, когда выхожу из дому, но я отказывалась.
Как же я устала от мятежного этого тела, которое не двигается как должно. От глухой, доканывающей боли, что никогда не уходит полностью. От необходимости сосредоточиваться на каждом шаге, чтобы не упасть, от вечных царапин и ушибов. Устала делать вид, что я такая же, как все. Но признать, каково это – жить в такой шкуре, означает сдаться, а к этому я не готова.
“Гордость твоя тебя погубит”, – часто приговаривает мама. Возможно, она права.
Пристраиваю сверток за пояс, пытаюсь встать на колени. Подложив юбку так, чтобы кожа не терлась о землю, ползу к обочине, двигаюсь осторожно, чтобы не нагружать щиколотку. Вглядываюсь в купу берез примерно в дюжине футов от меня, выискиваю палку, какая сгодится на трость. Встав на ноги, ковыляю к деревьям, пробираюсь между камнями и колдобинами, ощупью ищу палку. Вот. Коротковата, но сойдет. Хромая обратно к дороге, всем весом опираюсь на палку, лицо сводит от боли.
Час назад я рвалась уйти от Гертруд, а теперь у меня нет выбора – только вернуться к ней. Медленно ковыляю по дороге. Завидев ее крыльцо, вздыхаю от облегчения. Взбираюсь по трем ступенькам, оставляя за собой осклизлый след, замираю у входной двери. Огни погашены. Стучу в дверь кулаком. Не отвечают. Стучу в окно рядом с дверью, сильно, костяшками пальцев.
Из глубины дома слышу шаги. В окне вижу сияние лампы. А затем – напуганный голос Гертруд из-за двери:
– Кто там?
– Это я. Кристина.
Дверь открывается, я проникаю внутрь.
– Боже! – Гертруд машет руками, словно птица, что пытается присесть на валун. – Что случилось?
– Упала на дороге. Кажется, у меня сломана щиколотка.
– Ох батюшки. Ты вся в грязи, – говорит она расстроенно.
– Прости. Прости за беспокойство. – Жаркие слезы заливают мне глаза – слезы облегчения, усталости и горечи: что я не могу идти, что я опять в этом доме, что, черт бы ее подрал, Гертруд, вероятно, права – Уолтон никогда на мне не женится, я застряну в этом месте до конца своих дней, буду шить с этой никчемной теткой. Отворачиваюсь, чтобы она не видела слез, струящихся сквозь грязь.
Гертруд вздыхает и качает головой.
– Стой где стоишь. Пойду найду тряпку, а то ты мне ковер испоганишь.
* * *
“Возвращаясь от Гертруд Гиббонз, я сломала щиколотку, – пишу я Уолтону. – Глупо с моей стороны. Не следовало оставаться одной на темной дороге”.
“Я рад, что ты выздоравливаешь, и от души надеюсь, что впредь ты будешь благоразумнее, – отвечает он. – Искренне твой…”
Я просматриваю письмо несколько раз, пытаюсь расслышать за строками его голос. Но слова сухи и чопорны. Сколько бы я ни перечитывала, звучат они как выговор.
* * *
Встречи с Уолтоном после долгой зимы врозь я жду настороженно, однако он тепло обнимает меня и целует в щеку.
– У меня для тебя подарок, – говорит он и вытаскивает из внутреннего кармана жатого пиджака здоровенную раковину, кладет ее на стол передо мной. – Подумал, что можно добавить ее к твоей коллекции.
Раковина блестящая, кричащей расцветки – оранжево-красная, в крупных отростках поверху, к кончику они мельчают.
Беру раковину в руки. Она гладкая и тяжелая, как стеклянное пресс-папье.
– Ой. Где ты это взял?
– Купил. В лавке диковин в Кембридже. – Улыбается. – С Гавайев, насколько я понял. Называется раковина-камея.[21] По крайней мере, так было написано на ярлыке. Хорошо будет смотреться в Ракушечной, как думаешь?
Киваю.
– Конечно.
Он касается моей руки.
– Тебе не нравится.
– Нет, она… интересная. – Но я расстроена, что он недостаточно хорошо меня знает, чтобы понять: такой вот вульгарной безделушке из лавки диковин не место в Ракушечной, наполненной находками из экспедиций. Лучше б соврал – сказал, что нашел ее где-то на пляже.
Ставлю ракушку на каминную полку в Ракушечной, но она там неуместна – как искусственный цветок в саду. Через несколько недель прячу ее в ящик комода.
* * *
Идет лето 1916 года, Уолтон ведет себя в точности как обычно: угодлив, любезен, скор на улыбку и ироничное словцо. Но я со всей остротой осознаю: что-то в его сути, словно бумажка на ветру, ускользает от меня. Даже когда задаю прямые вопросы, он уходит от ответа, сыплет расплывчатыми обобщениями о своей жизни в Бостоне, о семье, о планах на будущее.
Однажды июльским утром мы с Уолтоном бредем по высокой траве к Хэторн-Пойнту – собрать мидий к обеду, и я замечаю, что он не очень-то разговорчив. Ему словно бы неуютно, он теребит рукава на ходу.
– Что такое? Уолтон, рассказывай.
– Да просто… – Он качает головой, словно вытряхивает из нее мысль. – Мои родители. Считают, что знают, как мне лучше жить.
Я знаю, что его родители живут в Молдене, рядом с семьей Карл. Насколько мне известно, в гости сюда они не приезжали ни разу.
– Ты письмо от них получил?
Он наклоняется, подбирает в траве палочку, ломает ее пополам – коротким, резким движением.
– Да. Длинное, скучное письмо. Пишут, что пора мне уже вырасти, найти летнюю работу в Бостоне, бросить разбазаривать время здесь, с Карлами. – Ломает половинки палочки пополам, бросает обломки на землю.
– Речь… обо мне?
Он сует руки в карманы. У его скорби появился театральный оттенок – словно Уолтон раздул ее ради меня.
– Ничего личного, – быстро выговаривает он. – Они заявляют, что беспокоятся за мое будущее. Не хотят, чтобы я себя ограничивал.
Мое сердце несется впереди слов.
– Что… что они хотят этим сказать?
– Чушь всякую, – отвечает он. – Соблюдение приличий. Гарвард и все такое. Правильная работа. Правильная жена.
– В смысле… – произношу я изо всех сил бесстрастно.
Уолтон пожимает плечами.
– Ой, кто его знает. Хотят, чтоб я женился на ком-то… – Он вскидывает пальцы, сложенные вилкой, – изображает кавычки, – …“образованном” и “из хорошей семьи”. А это, естественно, означает: из семьи, о которой они сами слыхали. Желательно из бостонской. Чтоб могла подпитать их общественное положение. Потому что это важно.
Я сжимаюсь в безмолвии. Разумеется, родители Уолтона не желают, чтобы их сын с гарвардским образованием женился на девушке, которая и старших классов-то не окончила.
– Ты огорчилась, – говорит Уолтон, поглаживая меня по руке. – Но не стоит. Дело не в тебе. Они и не знают о тебе толком.
Это потрясает меня так, что я заговариваю вновь:
– Ты обо мне не упоминал?
– Разумеется, упоминал, – торопится сказать он. – Просто не думаю, что они отдают себе отчет, до чего… до чего ты для меня значима.
– Они знают, что мы… – На ум приходит слово “голубки”, но я опасаюсь, что оно прозвучит приторно, напыщенно.
Уолтон пожимает плечами.
– Я стараюсь не обсуждать с родителями почти ничего.
– То есть они не знают, что мы… встречаемся четыре года?
– Не уверен, что́ они там знают, и мне все равно, – говорит он небрежно. – Давай отложим это и продолжим приятное утро, а? Прости, что поднял эту тему.
Киваю, но разговор этот портит мне настроение. И лишь погодя, перебирая в уме сказанное, я осознаю, что на мой вопрос он так и не ответил.
* * *
За день до возвращения Уолтона и Карлов в Массачусетс мы собираемся в кушингский Экорн-Грейндж-холл на танцы. Уолтон объявляется раньше назначенного с Элоиз и Рамоной, они находят меня во дворе за домом, я вожусь с бельем. Сегодня день стирки, и, пока не развешу все белье, уйти не могу.
– Вы идите, я догоню, – говорю. Мне жарко и потно, я все еще в старом платье и фартуке.
– Я ей помогу, – говорит Уолтон остальным. – Мы вас догоним.
Элоиз и Рамона забирают Ала с Сэмом, и они уходят шумной толпой. Я смотрю, как они спускаются к дороге: Ал и Сэм тощие, неуклюжие, клонятся, словно тростник, к красоткам-сестрам.
Уолтон помогает мне отжать мокрую одежду, сильные руки его куда проворнее моих. Упирает соломенную корзину в бедро, и мы отправляемся к веревкам; затем он, присев на корточки, достает из корзины вещи, по одной, встряхивает, подает мне, я прищепляю их к веревке. Сокровенность этой обыденной работы – горечь и сладость.
Уолтон ждет на заднем крыльце, пока я переодеваюсь в чистую белую блузу и темно-синюю юбку.
– Тебе идет, – говорит он, когда я выхожу к нему. Мы идем к Грейндж-холлу, он копается в кармане. Я слышу знакомое шуршание вощеной бумажки. Уолтон кидает в рот ириску.
– А мне? – спрашиваю я.
– Конечно. – Останавливается, извлекает еще одну, разворачивает, кладет конфету мне на язык. Трет мне руки.
– Осень уже в воздухе, – размышляет он вслух. – Тебе не холодно? Хочешь мою куртку?
– Я отлично, – говорю я несколько напряженно.
– Я знаю, что ты – это отлично. Я спрашивал, не холодно ли тебе. – Улыбается, и я вижу, что он старается поднять мне настроение.
Молча посасываю конфету.
– Ты уезжаешь.
– Через несколько дней, не сейчас.
– Скоро.
– Слишком скоро, – соглашается он, сплетая пальцы с моими.
Несколько минут мы идем молча. А затем я отваживаюсь сказать:
– Учителя нужны где угодно. Даже в Мэне.
Он мягко сжимает мне руку, но ничего не говорит. У нас над головами разражается буйство птичьих трелей, пронизывает тишину. Мы оба смотрим вверх. Плотные кроны деревьев, обилие листвы – ничего не разглядишь. А затем они слетают над дорогой – темное облако.
– Никогда не видел столько ворон, – замечает он.
– Вообще-то это дрозды.
– А. Что б я делал, если б ты меня не поправляла? – Он игриво тянет меня за руку, но осознает, что выводит меня из равновесия, подхватывает за талию. – Какая умница, – бормочет он мне на ухо. А затем замедляет шаг и останавливается посреди дороги.
Не очень понимаю, что он затевает.
– Что такое?
Он прижимает палец к губам и нежно тянет меня вдоль обочины к купе сине-черных елей. В сумраке берет мое теплое лицо в прохладные ладони.
– Ты и впрямь что-то с чем-то, Кристина.
Я вглядываюсь в его светлые глаза, пытаюсь разгадать его слова. Он непроницаемо смотрит на меня.
– По тебе не видно, что тебе грустно уезжать, – говорю я, в голос проникает каприз.
– Конечно, грустно. Но признайся – у тебя будет некоторое облегчение. “Наконец-то лето закончилось, моя жизнь опять при мне”.
Я качаю головой.
Он качает головой – подражая мне.
– Нет?
– Нет. Я…
Он целует меня в губы, привлекает к себе, целует костлявое плечо, ямку у шеи. Пробегает ладонью по лифу, чуть медлит и скользит дальше, до самых складок юбки. Меня опьяняет изумлением. Он притискивает меня к древесной коре. Чувствую, как ее бугры впиваются мне в спину, Уолтон наваливается на меня, ведет рукой по боку, вторая – у меня под блузкой, поверх легкого изгиба груди. Его рот накрывает мой, прижимает мне затылок к стволу дерева, мне неудобно, однако ощущение не совсем уж неприятное.
Ириска цокает у меня на языке.
– Лучше выплюну, а не то подавлюсь, – говорю я.
Смеется.
– Я тоже.
Мне все равно, что это не по-дамски: сплевываю в траву.
Вот уж рука его у меня между ног, затерялась в складках ткани. Я чувствую, как он сгребает меня в горсть, по-хозяйски, тяну к нему губы, ощущаю его твердость меж нами. Вся кожа у меня напитана жизнью, все нервные окончания пульсируют. Дыхание у Уолтона рваное, настойчивое. Этого я и хочу. Этой страсти. Этой несомненности. Этого ясного знака его желания. Сейчас я готова на что угодно – о чем бы ни попросил он.
И тут – звук с дороги. Уолтон вскидывает голову, чуткий, как гончая.
– Что это? – выдыхает он.
Я склоняю голову. Ощущаю пятками низкий гул.
– Кажется, автомобиль.
Небо темно. Я едва различаю его лицо.
Он отстраняется, а затем вновь нависает надо мной, вцепившись мне в плечи.
– О, Кристина, – шепчет он. – Ты заставляешь хотеть тебя.
Тьма придает мне смелости.
– Я твоя.
Все еще держа меня за плечи, он укладывает голову мне на грудь, словно овечка. Вздыхает, я чувствую грудью его теплое дыхание.
– Я знаю. – Заглядывает мне в глаза с поразительным пылом. – Нам надо быть вместе. Вне… – Он взмахом охватывает деревья, дорогу, небо, – …всего этого.
Сердце у меня подскакивает.
– О, Уолтон. Правда?
– Правда. Даю слово.
И хотя все во мне сопротивляется, я намерена выяснить, что он имеет в виду. Гулко сглотнув, спрашиваю:
– В чем именно ты даешь мне слово?
– Что мы будем вместе. Мне нужно кое-что… уладить. Ты должна приехать в Бостон, познакомиться с моими родителями. Но я даю тебе слово, Кристина, да.
Сине-черная ель шелестит у нас над головами, каменистая земля у меня под тонкими подошвами туфель, запах сосен, луна – вафелька “Некко” – в небесах. Некоторые чувственные воспоминания тают, едва успев возникнуть. А некоторые запечатлеваются в уме до конца наших дней. Это – я сразу понимаю – из тех, что навеки.
Когда мы добираемся до Грейндж-холла, Рамона с Элоиз болтают и танцуют со всеми мальчишками, до каких могут дотянуться, весело стаскивают их со стульев. Живой оркестр, составленный на скорую руку, – скрипка, пианино, контрабас – из ребят, с которыми я росла: Билли Гровер, Майкл Верзалино, Уолтер Браун. Играют шумную, неряшливую версию “Рэга кленового листка” и “Долгий путь до Типперэри”.[22] Уолтон мурлычет мне в ухо:
– “Брось ты Стрэнд и Пиккадилли иль вини себя – верю, ты любовью бредишь так же, как и я!”
Оркестрик зачинает “Милого Дэнни”,[23] я вслушиваюсь в слова, как никогда прежде, словно их сочинили для меня лично:
Уж лета нет, и розы увядают, Тебе пора, а мне придется ждать… Я буду здесь, хоть в солнце, хоть в ненастье, О милый Дэнни, как же я люблю тебя.Мы танцуем нос к носу, рука Уолтона – у меня на талии, бессловесное напоминание о тех мгновениях под деревьями.
– Я буду по всему этому скучать, – говорит он. – Буду скучать по тебе.
Голос застревает у меня в горле. Не доверяю себе говорить.
После финальной песни мы все вместе бредем домой по темной дороге. Ноги у меня устали, но от меланхолии я еще вялее – словно пес, которого тянут на поводке туда, куда ему не хочется. Уолтон обнимает меня, мы отстаем от всех. На повороте к Карлам медлим у ворот. Я кладу голову ему на плечо.
– Жаль, не могу дотянуться, достать далекую звезду и надеть ее тебе на палец, – говорит Уолтон. Пробегает пальцем мне по губам, склоняется поцеловать. В этом поцелуе я ощущаю вескость его обещания.
* * *
Через десять дней получаю письмо с массачусетским штемпелем. “Помнишь вечер неделю назад? Я буду помнить его, пока не увижу тебя вновь, – пишет он. – Если даю слово – держу его”.
* * *
Декабрь сер, как мое настроение. Писем от Уолтона не было с сентября.
Хоть и студено, снега мало. Под домом прячется кот, ирисочно-рыжий, полосатый, как тигр, мейн-кун с громадными янтарными глазами. Я выманиваю его наружу миской молока. Он дрожит, лакает жадно, а когда миска пустеет, я беру его на руки. Кошка. Шкура висит на костях – все равно что нянькать волынку с полыми дудками. Она лижет мне подбородок ежовым языком, устраивается у меня на коленях, урча. Даю ей имя Лолли. Единственный просвет за целый месяц.
На Рождество дарю братьям по сорочке, я их сшила из фланели, пока они работали на улице. Мама вяжет носки и шапки. Папа и не пытается делать вид, что дарит подарки: говорит, что крыша над головой – сама по себе подарок. Сэм вручает мне противень, Фред повязывает ленту на новую метлу, Ал вырезает набор деревянных ложек. Уолтон присылает толстую кремового оттенка открытку, к которой прикатан венок из зеленой фольги и бант из красной, открытка адресована семье Олсон. “С теплыми пожеланиями в это холодное время. Счастливого Рождества, благослови вас Бог!” Подпись: “Уолтон Холл”.
Эту открытку я не выставляю напоказ, как бывало в прошлые годы, а уношу к себе в комнату наверх. Беру с полки, где храню его письма, стопку, развязываю бледно-розовую ленточку, сажусь на кровать, перечитываю всё подряд. “Все дороги ведут меня в Кушинг”. “Если даю слово – держу его”. “С любовью”. Держу открытку в руках так крепко, что надрываю ее. Медленно рву ее посередине, а затем еще и еще, пока не остаются клочки размером с ириску, с двухцентовую марку, с далекую звездочку в небе.
* * *
Пишу Уолтону после праздников, желаю ему счастливого 1917-го,[24] рассказываю о подарках, которые мне достались от братьев, о сорочках, что им пошила. Описываю молочного поросенка, которого мы запекли на жаровне, выстроенной Алом во дворе, о голубичном компоте и жареном яблочном пироге, о курином супе и о варениках с кабачком, о напитке, который Сэм замесил к новогодней ночи: ром, патока и гвоздика, в кружке, с кипятком – и с коричной палочкой. “Тодди китобоя” называется. Стремлюсь передать дух наших скромных ритуалов, братство и шум дома, где полно мальчишек, чувство благополучия и праздничного веселья, какое при пересказе не столько преувеличено, сколько сгущено. Изо всех сил стараюсь избегать плаксивости.
Не понимаю. Почему ты не пишешь?
Проходят дни, недели. Месяцы. Я думала, что привыкла ждать. А это новая преисподняя. Моя душа словно покрыта дегтем.
Я проклинаю себя за отосланные письма, забитые бессмысленной болтовней о наших простецких церемониях. Поделиться я могу лишь обыденным, незначительным, домашним. Но это все, что у меня есть.
Зима обращается весной, я ползу к почте, петляя по снегу и ледяной каше. Счета, рекламные буклеты, “Субботняя вечерняя почта”.[25]
– Сегодня для тебя ничего, Кристина, – говорит Берта Дорсет, строгий голос пронизан жалостью. Хочется броситься на нее через стойку и душить, пока лицо не запунцовеет, пока не начнет хватать ртом воздух. Но я забираю корреспонденцию и улыбаюсь.
Даже когда сходит снег и расцветают крокусы, мне холодно, вечно холодно, сколько б одеял ни наваливала я на кровать. Посреди ночи слушаю, как ветер вопит сквозь щели в стене. Вспоминаю историю, прочитанную когда-то, – как женщина сходит с ума, заточенная у себя дома, как начинает верить, что живет под обоями. Подумываю, не останусь ли я в этом доме навсегда, не буду ли вечно ползать вверх-вниз по лестнице, как женщина в том рассказе.[26]
* * *
Стоит теплое майское утро, когда я замечаю в кухонное окно, как по траве к дому шагает Рамона, голова долу, плечи ссутулены. Я думала об этом дне всю зиму. Опускаюсь в старое кресло рядом с красными геранями. Лолли прыгает мне на колени, я глажу ей спину. Обычно я выбиралась из кресла, ставила чайник на огонь и ждала в дверях – встретить Рамону, однако сейчас не способна собраться с силами и скрыть разговор, который, знаю, грядет, церемониями дружеского визита.
Обнаружив меня в кухне, Рамона не удивлена.
– Привет, Кристина. Можно войти? – Улыбка у нее шаткая. Шагнув через порог в сумрак, щурится. – Как я рада тебя видеть.
Силюсь улыбнуться в ответ.
– И я.
– Я тебя от дел не оторвала?
– Нет, ничего такого.
– Хорошо выглядишь.
Я знаю, что это неправда. На мне старый фартук поверх простого платья в клеточку.
– Не ждала гостей. – Начинаю развязывать тесемки фартука.
– Ой, пожалуйста, не переодевайся, – говорит она и быстро добавляет: – Я одна.
– А я уже разобралась с обеденной посудой. Все равно собиралась снять фартук.
Она следит, как я вожусь с узлом на спине. Вижу, что хочет помочь, но знает, что мне это не понравится.
Мнется посреди кухни. В руках у нее бумажный пакет, на ней – платье нового фасона, я такого у нее не видела: желто-белый узор, шахматная клетка, полностью белые рукава, три черепаховые пуговицы, отложной белый воротник, широкий пояс. Светлые чулки, белые кожаные туфли. Волосы собраны сзади в пучок желтой лентой.
– Красивое платье, – говорю, хотя ее вид намекает, что она заскочила сюда по пути куда-то еще, где интереснее.
– Ой, спасибо. Летнее, правда?
– Наверное.
Словно вдруг вспомнив, говорит:
– Я привезла тебе кое-что! Мама заказала ящик во Флориде. – Вынимает из пакета три крупных апельсина, кладет на стол. – Хотела б я съездить в эти дни во Флориду. Так и вижу, как лежу на пляже на полотенце в громадной соломенной шляпе. Здорово было б, а?
– Может быть.
– А давай вместе поедем? Как-нибудь зимой, когда жуткий холод.
Пожимаю плечами.
– Я не рвусь гореть на солнце.
– Забываю о твоей шведской коже, – говорит она. – Давай я почищу нам апельсин, помечтаю о Флориде, а ты полакомишься?
– Ну, я только что пообедала… – начинаю я, но сдаюсь: – Ладно.
Она впивается в апельсин большими пальцами, отдирает толстую бугристую кожуру, тщательно обирает белые прожилки. Растаскивает на дольки, протягивает мне часть.
– Твое здоровье!
Апельсин так сладок, так сочен, что я едва не забываю, как сильно нервничаю.
Доедаем, Рамона подтаскивает качалку Ала к столу, усаживается.
– Обожаю эту старую качалку, – говорит. – Такая она бывалая. – Потирает подлокотники, где черная краска облезла до самого дерева.
Лишь сейчас, когда ладони ее лежат на подлокотниках кресла, я замечаю проблеск у нее на пальце.
– Батюшки, это?..
Она сильно краснеет, а затем подается вперед и протягивает мне растопыренную ладонь.
– Да! Представляешь? Помолвлена. Я все думала, когда же ты заметишь. – Фальшивая радость у нее в голосе – знак того, как нам обеим неловко. – Я бы написала, рассказала тебе, но это случилось всего несколько недель назад.
Кольцо – с внушительным брильянтом посередке, в окружении брильянтовой крошки, – изощреннее всего, что я видела за целую жизнь. Говорю ей прямо:
– Красивое. От Харленда, насколько я понимаю?
Смеется.
– Конечно, от Харленда. Все стало довольно серьезным – и довольно быстро. Собираемся пожениться осенью, маленькая семейная свадьба. Столько дел, батюшки! Как я рада, что приехала. Что мы увиделись.
– Что ж. – Вспоминаю упитанного Харленда и его смешную шляпу с узкими полями. – Поздравляю.
– Спасибо. Мне ужас как важно твое благословение. – Из коридора проскальзывает шпионка Лолли, Рамона восклицает:
– Ой, какая красивая кошка! И какая большая.
– Это мейн-кун. Они все – маленькие тигры.
– Иди сюда, киса. – Рамона цокает языком, прищелкивает пальцами.
Лолли замирает, переводит взгляд с меня на Рамону.
– Не пойдет, – говорю я. – Упрямая и робкая. Как я. – Словно в доказательство, кошка бросается ко мне, сигает на колени.
Рамона улыбается.
– Ты не робкая. Тебе просто любы те, кто люб. У этой кошки так же.
Лолли выгибается у меня под рукой, требует, чтоб ее гладили, и на несколько мгновений единственный звук в комнате – ее неумолчное урчание.
В воздухе витает легкий цитрусовый аромат.
Наконец Рамона вздыхает.
– Я сломала голову, как бы об этом заговорить. Уолтон… Не знаю… – Качает головой, крутит крупную пуговицу у себя на платье. – Он милашка, я его обожаю, но ведет себя иногда убийственно.
Не понимаю, к чему она клонит. Уолтон – милашка? Она его обожает?
– Он перестал писать, – произношу я.
– Я знаю, он говорил.
Вцепляюсь Лолли в спину с такой силой, что она мяукает и впивается когтями мне в ладонь, а затем соскакивает с колен. На ладони проступает капелька крови. Вытираю ее о юбку, остается розовый след.
– Отвратительно с его стороны. Я ему говорила – и не раз. И… ну… жестоко.
Пусть и понимала я, что этот миг наступит, ни единая фибра моего существа не желает вести этот разговор.
– Рамона…
– Позволь мне продраться насквозь, каким бы ужасным оно ни было, – придется. Уолтон любит тебя – любил, видимо. Ох, Кристина. – Вздыхает. – Каждое слово из моих уст мне больно так же, как тебе их слушать, и я не хочу всего этого, но… – Умолкает. И выпаливает: – Уолтон помолвлен и женится.
Уолтон. Помолвлен. И. Женится. Что я пропустила? Помолвлен и женится на мне? Я вперяюсь в Рамону.
Уолтон помолвлен и женится.
На ком-то другом.
Как бы ни думала я о его молчании, как бы ни размышляла о причинах, эта возможность не приходила мне в голову. Но почему нет? Это же самое логичное. Он резко перестал писать. Само собой – само собой – он познакомился с кем-то еще.
Я чувствую себя так, будто меня выпотрошили и наполнили густым, тяжким воздухом. Ни думать, ни смотреть не могу: он во мне до самых глаз. Пытаюсь вспомнить, как Уолтон выглядит. Соломенная шляпа с черной корсажной лентой. Льняной пиджак. Мягкие девичьи руки. Но лицо представить не могу.
– Кристина? Все в порядке? – Лицо Рамоны уродливо растянуто. Я заглядываю ей в глаза. Словно смотрю на нее сквозь мешковину.
– Как. – Крошечное слово, один слог, даже не вопрос.
Рамона вздыхает.
– Я сама спрашивала себя миллион раз – и Уолтона тоже; умоляла его дать осмысленный ответ. Даже не уверена, понимает ли он сам, если не считать… – Голос ее стихает.
– Если не считать…
– Если не считать. – Она возится в кресле. – Расстояния. И его родителей.
– Его родителей.
– Он тебе говорил, по его словам. Что они… не одобряют.
– Не говорил.
– Не говорил?
Откидываюсь в кресле, закрываю глаза. Может, и говорил.
– Его мать – ужасная женщина. Неуемная. Хотела – хочет – для своего золотка определенную жизнь. И все таскала в дом дочку одной своей подруги, девушку из Смита,[27] и, думаю, он со временем решил, что без толку сопротивляться; проще уступить.
– Проще, – повторяю я эхом.
– Кажется, она ничего, вообще-то. Годится. – Рамона пожимает плечами. – Хотя, конечно, я ему этого не говорила – лишь до чего я расстроена, разочарована. За тебя.
То, как она это произносит, показывает, что Рамона проводила с этой женщиной время, они бывали все вместе.
– Как ее зовут?
– Мэрилин. Мэрилин Уэйлз.
Обдумываю сказанное. Настоящий человек, с именем.
– Он ни разу не написал… не объяснился.
– Знаю. Это меня очень злит. Мы ссорились из-за этого. Я говорила ему, что он бессовестно груб. А он мне – не могу, дескать, умолял меня написать тебе, рассказать, а я, вот честно, отказалась.
Меня как будто высекли, каждое слово – плеть.
– Ты знала, что я жду, – произношу я медленно, голос крепнет, – и не избавила меня от мучений?
– Кристина? – выкликает мама сверху. – Все в порядке?
Я не свожу с Рамоны взгляда, она смотрит на меня в упор, глаза у нее наполняются слезами.
– Мне страшно жаль, – говорит она.
– Все в порядке, мама, – кричу я в ответ.
– Кто там?
– Рамона Карл.
Мама не отзывается.
– Он тебя не заслужил, – шепчет Рамона.
Качаю головой.
– Да, он смышленый, бывает милым, но, вот честно, – слабак. Я теперь это понимаю.
– Замолчи, – говорю я. – Просто замолчи.
Подаваясь вперед в кресле, Рамона говорит:
– Кристина, послушай. В море найдется и другая рыба.
– Нет, не найдется.
– Найдется. Мы выловим тебе отличную.
– Я отложила удочку, – говорю.
Напряжение вроде как рассеивается. Рамона улыбается. (Трудно ей быть такой серьезной! Не скроена она для такого.)
– Это пока что. Будут еще рыбалки.
– Не в этой худой лодке.
Она посмеивается.
– Упрямая ты, как мейн-кун, Кристина Олсон.
– Может, и так, – говорю. – Может, и упрямая.
* * *
Укладываясь спать, я не хочу просыпаться. В самих костях моих боль, она не уходит; просыпаюсь среди ночи, плача от боли. Ничто уже не станет лучше. Будет лишь хуже. Закутываюсь в вязаное папино синее одеяло потуже, наконец засыпаю. Проснувшись через несколько часов в пронзительном утреннем свете, зарываюсь лицом в подушку.
В комнату входит Ал. Я слышу его, вижу, хотя веки у меня сомкнуты и я делаю вид, что сплю.
– Кристина, – произносит он тихонько.
Молчу.
– Я нашел хлеб и варенье на завтрак. Сэм с Фредом в хлеву. Папе с мамой я принесу яиц, когда с делами разделаюсь.
Вздыхаю – бессловесно даю понять, что слышу его.
Смотрю из-под ресниц, как он склоняется надо мной, руки в боки.
– Ты заболела?
– Да.
– Врач нужен?
– Нет. – Открываю глаза, но выражение на лице мне не под силу. Ал не отводит взгляда. Не помню, когда последний раз выдерживала такой его взгляд.
– Я б его убил, – говорит он. – Правда.
Постель моя – словно неглубокая могила.
* * *
Беру стопку писем от Уолтона, перевязанную светло-розовой лентой, кладу ее в коробку. Что-то во мне желает поджечь их и посмотреть, как они горят. Но не могу себя заставить.
На верху первого лестничного пролета есть дверца в чуланчик. Когда рядом никого, я запихиваю коробку в дальний угол. Не хочу видеть его письма. Мне нужно лишь доказательство, что они вообще существуют.
* * *
В городе никто не произносит об этом ни слова – по крайней мере при мне. Но я вижу жалость в глазах. Слышу шепотки: “Ее бросили, слыхали?” Чужая участливость наполняет меня стыдом такой глубины, что я в силах понять тех, кто отплывает в дальние края и никогда не возвращается на родину.
* * *
Готовясь к вечерней лодочной вылазке с братьями после теплого июньского дня, кладу раковину, подаренную Уолтоном, в карман. Сидя в шлюпе, глажу ее пальцами, ощупываю грубоватые трещины и шелковистую поверхность. Ближе к концу поездки, когда солнце скатывается по небу, пересаживаюсь на корму лодочки одна, вглядываюсь в волнистую воду. Как легко было б перевалиться за борт и погрузиться на дно океана. Чернота, одна лишь чернота – и милосердное забытье. Слезы бегут по лицу, на вкус они солоно-сладкие. Вскоре братья мои, конечно, женятся, родители одряхлеют и умрут, а я останусь одна в доме на холме, нечего ждать, кроме неспешной смены времен года, немощи и старости, обращения дома в прах.
Мы с Уолтоном сиживали на корме вместе, вот так же. “Восхищаюсь тобой”, – шептал он мне на ухо. Каким приверженным он был, все никак не мог на меня наглядеться, любил лишь меня одну. Лишь меня. Его крепкое плечо рядом с моим, длинные пальцы, устремленные в небо, на созвездия, к именам, что я так пылко заучивала: охотник Орион, Кассиопея, Геракл, Пегас. Я гляжу теперь в темнеющее небо, непроницаемое, как грифельная доска. Звезды смыло, они остались лишь в памяти.
Закрыв глаза, кренюсь набок, соленая пыль на лице смешивается со слезами. Взвешиваю ракушку на ладони – эту раковину-камею, которой не место среди остальных. Безделушка, купленная в лавке, без истории, без легенды. В глубине души я знала, когда он вручал ее мне, что он ничего обо мне не понял. Почему же я не разглядела предупреждения в этом подарке?
Чувствую чью-то ладонь у себя на руке, открываю глаза.
– Хороший вечер, а? – миролюбиво говорит Ал. – Осторожнее. Тут скользко.
– Я слежу.
Он сжимает мне руку.
– Иди сядь со мной.
– Сейчас.
– Тебе говорили, что ты упрямая, как мул?
Посмеиваюсь.
– Разок-другой.
Мы всматриваемся в сумерки. На берегу в далеком доме мерцают блеклые огоньки. В нашем доме.
– Тогда я с тобой сяду, – говорит Ал.
– Незачем, Ал.
– Не хочу я, чтоб чего случилось. Не прощу себе потом.
Бремя печали давит мне на грудь. Я вцепляюсь в ракушку, чувствую ее тупые бугры. И выпускаю из пальцев. Тихий плеск.
– Что это было?
– Ничего важного.
Раковина тонет быстро. Мне больше не придется ни смотреть на нее, ни держать в руке.
Если даю слово
1946
– Э-эй? Кристина? – В дом сквозь сетчатую дверь проникает натужно-громкий женский голос.
– Я здесь, – говорю. – Кто там?
Женщина открывает дверь, шагает в кухню так, будто это палуба тонущего корабля. Неопределенных средних лет, в гарусном шерстяном костюме, в чулках и на каблуках, при ней судок.
– Меня зовут Вайолет Эванс. Из кушингской баптистской церкви. У нас клуб гостеприимства, и, ну, мы вас внесли в список посещений, раз в неделю.
Спина у меня напрягается.
– Не знаю ни о каких списках.
Она улыбается, измученно и терпеливо.
– Ну вот есть такой.
– Что за список?
– В основном лежачие.
– Я не лежачая.
– Угу, – говорит она, оглядываясь по сторонам. Протягивает мне судок. – Так. Я принесла вам рубленую баранину с лапшой. – Щурится сквозь мглу. День на исходе, а я еще не зажгла лампу. Пока она не пришла, я и не обращала внимания, как уже стемнело. – Может, включим свет?
– Электричества нет. Найду лампу, если подождете немножко.
– Ой, не хлопочите из-за меня. Я ненадолго. – Осторожно ступает по кухне, ставит лоток на плиту. – Немного пролила на юбку. Не покажете мне, где у вас мойка?
Неохотно показываю ей на кладовку. Знаю, что меня ждет.
– Ой, тут же… насос! – говорит она с чуть изумленным хохотком, в точности как я и ожидала. – Небеси, у вас, что ли, и канализации нет?
Очевидно же.
– Мы всегда обходились и так.
– Что ж, – говорит она вновь. Стоит посреди кладовки, словно олень, готовый к прыжку. – Надеюсь, вы с братом любите рубленую баранину.
– Уверена, он все съест.
Понятно, что она ждет от меня большей благодарности. Но я не просила приносить мне судок, и мне не очень-то нравится рубленая баранина. Мне неприятны высокомерные замашки этой женщины, будто она боится подцепить какую-нибудь заразу, присев в кресло. К тому же что-то в моей натуре топорщится от ожидания благодарности за милость, о которой я не просила. Вероятно оттого, что милость обычно сопровождается неким снисходительным осуждением, ощущением, что дающий считает, будто я навлекла свой недуг – недуг, на который я не жалуюсь, между прочим, – на себя сама.
Даже Бетси, которая меня понимает, вечно жаждет облегчить мою долю. Моет посуду своими нежными ручками, раскладывает утварь не на свои места. Метлу я нахожу за дверью, а посудную ветошь – выложенной сушиться на заднем крыльце. Однажды она заявилась со стопкой одеял и белья и плюхнула все это на стол в гостиной.
– Позвольте, я заменю эти старые тряпки, на которых вы спите, – сказала она. – Кажется, пора уже завести свежее белье, а? – (Все знают, что я гордячка. Подобные разговоры терплю только от Бетси.) Она собрала покрывала – они, что правда, то правда, видали лучшие дни, особенно обтерханное синее одеяло, связанное папой, – и выволокла их на улицу, бросила в багажник фургона, чтобы потом выкинуть на помойку.
– За “пирекс” не беспокойтесь, – успокаивает меня женщина из баптистской церкви. – Я заберу на той неделе.
– Вам незачем это делать. Правда. Мы вполне справляемся.
Она склоняется, оглаживает меня по руке.
– Мы рады помочь, Кристина. Это часть нашей миссии.
Я знаю, что эта женщина из баптистской церкви желает мне добра, – знаю и то, что нынче ночью спать она будет крепко, чувствуя, что выполнила свой христианский долг. Но ее рубленая баранина с макаронами оставит у меня во рту горький привкус.
* * *
Почти в любой летний день, посреди утра, когда жар густеет над полями, как желатин, в дверях появляется Энди. В его повадках – новый неведомый пыл; их сыну Ники почти три года, Бетси вновь беременна, родит через месяц. Энди нужно, по его словам, что-то производить, чтобы поддерживать растущую семью.
Блокнот для зарисовок, пальцы в краске, по карманам – яйца. Сбрасывает сапоги, бродит по дому и по полям босиком. Забирается на второй этаж, ходит из спальни в спальню, преодолевает еще один лестничный пролет – в давно закрытую комнату. Я слышу, как он отворяет окна на третьем этаже, их не открывали много лет, кряхтит от натуги.
Думаю о его присутствии там, наверху, как о пресс-папье, что прижимает к земле этот призрачный старый дом, пришпиливает его к полям, чтобы не унесло ветром.
Энди обычно ничего с собой не приносит, не предлагает помощь. Не выказывает никакой тревоги из-за того, как мы живем. Не рассматривает нас как нечто, нуждающееся в починке. Не присаживается на край кресла, не болтается на пороге с видом человека, желающего уйти, – того, кто уже на полпути к двери. Он усаживается как следует и наблюдает.
Все, о чем прочие люди тревожатся, Энди нравится. Царапины, оставленные псом на синей двери сарая. Трещины в белом чайнике. Потрепанные кружевные занавески и затянутые паутиной окна. Он понимает, почему меня устраивает проводить дни сидя в кресле на кухне, положив ноги на выкрашенный в синий табурет, глядя на море, вставать, чтобы помешать суп время от времени или полить цветы, и пусть эта старая постройка уходит себе в землю. В отбеленных костях битого бурями дома величия больше, заявляет он, чем в унылой опрятности.
Энди делает наброски с Ала, занятого будничными делами: тот собирает овощи, окучивает голубику, ухаживает за лошадью и коровой, кормит свинью. С меня, сидящей на кухне под геранями. Благодаря его взгляду я заново осознаю все составляющие этого места, зримые и нет: вечерние тени в кухне, опять цветущие поля, плоские гвозди, что держат бывалую обшивку, капе́ль воды из ржавой цистерны, холодный голубой свет сквозь треснувшее оконное стекло.
Кружевные занавески, вывязанные Маммеей, теперь уж рваные и ветхие, колышутся на вечном ветру. Она здесь, нет сомнений, наблюдает, как преображается ее жизнь, ее истории, как это бывает с историями, во что-то иное – на картинах Энди.
* * *
Однажды сумрачным днем Энди влетает в двери с угрюмым лицом и топает наверх, не задерживаясь на болтовню, как это обычно бывает. Слышу, как он громыхает, хлопает дверями, чертыхается.
Через час с чем-то он вваливается обратно в кухню и плюхается в кресло. Трет руками глаза и говорит:
– Бетси меня погубит.
Энди бывает театрален, но я никогда не слышала, чтоб он жаловался на Бетси. Не знаю, что и сказать.
– Она решила восстановить старый дом на Бредфорд-Пойнте, чтоб мы туда переехали. Не посоветовавшись со мной, хотелось бы добавить. Черт бы все это подрал.
Мне это не кажется совсем уж неразумным. Бетси говорила, что они живут в конюшне в имении ее родителей.
– Тебе тот дом нравится?
– Хороший.
– Потянешь ремонт?
Он жмет плечами. Да.
– Она хочет, чтобы ты помогал?
– Да не то чтобы.
– Ну и?..
Он свирепо трясет косматой головой.
– Я не хочу привязки к дому. То, как мы живем сейчас, – совершенно годится.
– Вы живете в конюшне, Энди. В двух конских стойлах, по словам Бетси.
– Они приспособлены. Мы не спим на сене.
– С одним ребенком, второй на подходе.
– Ники нравится! – восклицает Энди.
– Хм-м. Ну… думаю, могу понять, почему Бетси не склонна жить в конюшне.
Отколупывая засохшую краску с ладони, Энди бурчит:
– То же случилось с моим отцом. Дома, яхты, машины, причал – все надо вечно чинить… Влезаешь в это слишком глубоко, деньги из тебя вытекают, а дальше все решения упираются в то, что лучше продастся, чего желает рынок, – и тебе конец. Конец, черт бы драл. Вот как все начинается.
– Обустроить домик – не то же самое.
Энди щурится, улыбается мне с любопытством. За исключением моего портрета я ни разу ему, в общем, не перечила. Вижу, что его это изумляет.
– Я знаю Бетси с ее детства, – говорю. – Ей плевать на материальные блага.
– Совсем не плевать. Не так, может, как другим женщинам. Но я никогда бы на такой и не женился. Уж точно не плевать. Хочет красивенький дом, новую машину… – Тяжко вздыхает.
– Не такая она.
– Вы не знаете, Кристина.
– Я знаю ее гораздо дольше, чем ты.
– Ну, это правда, – соглашается он.
– Она рассказывала тебе, как мы познакомились?
– Конечно. Как-то раз летом ей стало скучно, и она повадилась ходить в гости.
– Не просто в гости. Однажды она постучала в дверь – ей было то ли девять, то ли десять, – вошла, огляделась и принялась мыть посуду. А потом начала появляться чуть ли не ежедневно – помогать по дому. Ничего не хотела взамен. Просто была… собой. Заплетала мне волосы… – Вспоминаю, как Бетси вытягивала заколки у меня из волос, прочесывала их редким гребнем, терпеливо распутывала колтуны. Веки у меня сомкнуты, голова откинута назад, под веками – оранжевое небо. Пряди волос, застрявшие в гребне, пронизаны серебром. Ее маленькие, но сильные и уверенные руки делят мои волосы на три пряди, переплетают их.
Энди вздыхает.
– Слушайте, я ж не говорю, что она нехороший человек. Конечно же, хороший. Но девочки вырастают в женщин, а женщины хотят того и сего. А я не желаю об этом думать. Желаю только писать.
– Так ты и пишешь, – возражаю я с растущим раздражением. – Постоянно.
– Я про давление. Трудно не поддаться… влиянию.
– Ты и не поддаешься. И не поддашься. Сплошная работа же, ты сам это говоришь все время. И Бетси все время это говорит.
Он сидит с минуту, барабанит пальцами по коленке. Я вижу, что сказать ему есть что, но он не понимает, как это сформулировать.
– Мой отец обожал это все, понимаете. Капканы славы. И меня это злит.
– Что тебя злит? Что он ценил все это?
– Ага. Нет. Не знаю. – Он резко встает и идет к окну. – Меня чуть не сбил тот поезд, который угробил его, я рассказывал? На том же переезде, несколько лет назад. Я ехал себе, думал о чем-то, глянул и дал по тормозам в последнюю секунду – поезд пронесся мимо. Знаю, каково это было для него, – увидеть, как прет на него поезд. Ужас этот. Тщету осознания, что ничего не поделать. – Энди медлит, а затем добавляет: – И меня переполняет ярость. От… потери. От такой безвременной потери.
А, понятно, думаю я.
– Я злюсь, что потерял его, но злюсь я и на растрату, – говорит он. – Времени, сил, разбазаренных на бессмысленное обладание, на компромиссы… Не хочу совершить те же ошибки.
Думаю об ошибках, наделанных моим отцом ближе к концу жизни. Знаю, как потеря родителя может быть и освобождением, и предупреждением.
– Не совершишь.
– Того и гляди совершу.
– Давай я тебе чаю налью, – говорю я.
Он качает головой.
– Нет. Пойду опять наверх. Ярость для работы хороша. Изолью ее. И печаль, и любовь, все смешаю. – Стоя у двери, вцепившись в косяк, продолжает: – Бедняжка Бетси, она не виновата. Хотела нормальной жизни, а получила меня.
– Думаю, она понимала, на что идет.
– Ну, если не понимала тогда, теперь-то уж точно знает, – говорит он.
1917–1922
В первые за годы в летних днях часов чересчур много, я не в силах придумать, на что их потратить. Заказываю по каталогу Фэйлза обои, привлекаю маму помочь мне преобразить комнаты в первом этаже. (Если здесь быть моему дому, пусть хоть стоит обклеенный мелкими розовыми цветочками на белом поле.) Мама уговаривает меня вступить в кружки, которые я доселе презирала, – в “Клуб друзей”, в “Клуб отзывчивых женщин”, в кружок шитья баптистской церкви южного Кушинга, примкнуть к их посиделкам с мороженым, распродажам фартуков и еженедельным встречам. Беру в библиотеке книги, о которых Уолтон отзывался скверно. (“Итан Фром”[28] – с его унылыми новоанглийскими зимами, сокрушительными компромиссами и трагическими ошибками – в особенности не дает мне спать ночи напролет.) Принимаю от городских дам заказы на пошив платьев, ночных сорочек и комбинаций. Однажды пятничным вечером соглашаюсь даже сходить в Грейндж-холл с Рамоной, Элоиз и моими братьями, хотя, заслышав бодрую фортепьянную и скрипичную музыку, плывущую меж деревьями, когда мы подходим ближе, – “Рэг тигра” и “Госпожу озера”,[29] – желаю исчезнуть в зарослях.
Не успеваем войти в зал, как вся наша компания – врассыпную.
– Ах ты бедняжечка! – вопит через весь зал Гертруд Гиббонз, завидев меня. Подбегает, хватает за руку. – Мы все так расстроены.
– У меня все хорошо, Гертруд, – отзываюсь я, пытаясь избавиться от нее.
– Ой, я понимаю, ты вынуждена это говорить, – театрально шепчет она. – Ты такая стойкая, Кристина.
– Нет, не стойкая.
Она стискивает мне ладонь.
– Стойкая, стойкая! После всего пережитого. Я бы забилась в норку.
– Ничего не забилась бы.
– Забилась бы! Рухнула бы просто. А ты такая… – Она оттопыривает губу, изображает суровость. – Ты вечно находишь солнечную сторону. Я так этим восхищаюсь.
И далее в том же духе – с меня хватит. Закрываю глаза, вдыхаю, открываю.
– Ну а я, понимаешь, восхищаюсь тобой.
Она складывает руки на груди.
– Правда?
– Да. До чего тяжело, должно быть, при такой-то стройной сестрице – тебе все время приходится следить за весом. Жуткая несправедливость, по-моему.
Она выпрямляется. Втягивает живот. Закусывает губу.
– Ну вряд ли…
– Должно быть очень трудно. – Похлопываю ее по плечу. – Все так считают.
Понимаю, что повела себя не по-доброму, но никуда не деться. И не жалею, углядев у нее на лице обиду. Сердце мое разбито, остались лишь иззубренные осколки.
* * *
Мама теперь проводит весь день в спальне с задернутыми шторами. Доктор Хилд появляется и удаляется, пытается понять, что не так. Я таюсь в тенях, не путаюсь у него под ногами.
– Похоже, у нее развивается болезнь почек и, вероятно, сердца, – сообщает он наконец. – Ей нужен покой. Когда будут у нее силы – может выбираться на солнышко.
У мамы бывают хорошие и плохие дни. В плохие она не покидает комнаты. (Когда просит чаю, я медленно взбираюсь по лестнице, чашка звякает о блюдце, горячая жидкость плещет мне на руки.) В хорошие дни выходит, когда я уже перемыла посуду после завтрака, садится со мной в кухне. Иногда, если ей особенно хорошо, мы выбираемся на пикник к острову Малый, приноравливаемся к отливу. Мы та еще парочка: хворая задышливая женщина и увечная девушка, ковыляющая рядом.
Мама держит черную Библию Маммеи, потрепанную и бывалую от многих лет странствий, на прикроватном столике и частенько листает тонкие, как паутинка, страницы. Время от времени бормочет вслух слова, которые знает наизусть: “Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда…[30] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу…”[31]
Однажды утром прихожу в хлев к папе, несу ему кружку воды, и вижу, что он осел рядом с мулом в стойле, на лице – странная гримаса. Оторопев, я роняю кружку и ковыляю к нему.
– Помоги мне, Кристина, – выдыхает он, хватая ртом воздух, тянет ко мне руку. – Не могу встать. Мышцы свело, ногам так больно, – говорит он, – что и не двинешь. – Когда я в конце концов привожу его в дом, он ложится в кухне на пол, разминает икры, старается притупить боль.
Ал уезжает за доктором Хилдом. Осмотрев отца, тот объявляет, что, вероятно, артрит и толком ничего тут не поделаешь.
Мама почти лежачая, папа все более хвор – дела по дому оказываются на нас с братьями, еще большее бремя. Выбирать не из чего, иначе вся ферма сползет в хаос: скотина не кормлена, коров доить надо, задач на завтра вдвое больше. Чтобы разобраться со всеми делами, приходится пригашивать ум, увертывать его понемножку, как ручку на газовой лампе, и остается лишь малый язычок пламени.
* * *
Лето обращается в осень, и тут на почту вновь начинают прибывать конверты с двухцентовыми марками, с бостонским штемпелем. “Маленькая семейная свадьба” Рамоны, докладывает она, переросла – ожидаемо – в более роскошную. Платье невесты будет фасонистое, вопреки материным возражениям, – из белого атласа, с клиновидным вырезом, с юбкой чуть ниже колен, с широким атласным поясом и фатой (а не, прости господи, бабушкино, с обтерханными желтыми кружевами). “Если суфражисткам можно пикетировать Белый дом, мне можно показывать свою эмансипацию от длинных юбок и старой фаты”, – заявляет Рамона. У нее будет букет ирисов – как у невесты с обложки какого-нибудь “Хёрста”.[32]
Приглашение – на толстом кремовом картоне, расписанном вручную пастельными цветочками, – прибывает в громадном не по размеру кремовом конверте. Стою на дороге, читаю слова, замысловато начертанные черным:
Мистер и миссис Херберт Карл
с почтением просят посетить
свадебную церемонию их дочери
Рамоны Джейн
и Харленда Вудбери…
С тем же почтением, на листке из блокнота, я отклоняю приглашение. Братья по уши заняты сбором урожая, а мне надо готовиться к праздникам, но все мы шлем счастливой паре наилучшие пожелания. (А следом – посеребренный чайный сервиз, выставленный на распродаже в лавке товаров для дома в Томастоне.)
После свадьбы, состоявшейся в начале ноября, я получаю открытку из свадебного путешествия, со штемпелем Ньюпорта: “До чего величественные дома! Все дамы – в мехах…” – а через несколько недель приходит записка с рассказом о солнечной квартире в новом кирпичном здании, которую молодожены снимают в Бостоне. “Непременно приезжай в начале весны в гости. Я знаю, Ал будет занят посадками, тащи поэтому дорогушу Сэма, – пишет Рамона. – Ему нужны приключения – тебе тоже. Не сенокос, не отпускной сезон, а потому – никаких отговорок. Всего на несколько недель! Ничего не обрушится”.
Мысль съездить в Бостон в обстоятельствах настолько иных, нежели я себе представляла, укладывает меня в постель на весь остаток дня.
– Ты же понимаешь, что мы никак не можем поехать, – заявляю я Сэму, когда он вызывает меня на разговор о письме, которое я по дурости оставила на обеденном столе.
– Почему?
– Далеко… Я калека…
– Чепуха, – говорит Сэм. – Я никогда нигде не был. Да и ты. Едем.
Глядя на высокого красавца Сэма, с его упрямыми скулами, орлиным носом и пронзительными серыми глазами, я думаю о череде Сэмюэлов-мореходов, в честь которых его назвали, об их покорении мира. Сэму двадцать. Рамона права: ему нужны приключения.
– Езжай, – убеждаю его я.
– Без тебя – нет.
– Но… Ал не справится с фермой в одиночку.
– Он не один. Есть Фред. Папа тоже поможет.
Гляжу на него недоверчиво. Помощник из папы с некоторых пор уже не очень-то.
– Ал справится. Не приму никаких отказов.
И вот так ранним мартовским утром 1918-го, вопреки моим колебаниям, Ал везет нас сквозь туман в Томастон, где нам с Сэмом предстоит сесть в поезд на Северный союзный вокзал в Бостоне. Лестницы и очереди за билетами, узкие коридоры и железнодорожные платформы – ошарашивающая полоса препятствий для нас обоих, а в моих тугих новых туфлях – и того хуже. Сэм несет оба чемодана и плащ и при этом ухитряется крепко держать меня под руку, в равновесии, пока мы медленно пробираемся ко входу на перрон. Когда наконец усаживаемся в вагон, падаем на сиденья, обитые красной кожей.
Через несколько минут после того, как мы отъезжаем от станции, Сэм спрашивает:
– Поесть взяла?
Я положила несколько галет в сумку, но, когда их достаю, они рассыпаются у меня в руке. Не успеваю подумать, что придется потерпеть до Бостона, как появляется кондуктор – краснолицый мужчина с щетинистыми усами, бредет по проходу, проверяет билеты. Сэм возится в кармане пиджака – ищет.
– Так-так, – говорит кондуктор. – Первый раз на поезде?
Киваю.
– Так и думал. – Склоняется к нам. – Уборные – в следующем вагоне… – Показывает мясистым пальцем направо. – Обеденная – четырьмя вагонами дальше. Там можно добыть горячую еду или чашку чаю. Или виски, если желаете, – говорит он, хихикнув. Дыханье у него соленое, как омар.
– Спасибо, – отвечаю я. Но после того как он уходит дальше, говорю Сэму: – Думаю, не стоит. Нам надо экономить. – На всю поездку у нас восемьдесят долларов, билеты туда и обратно уже отъели пять пятьдесят восемь. Еще и позориться не хочется – носиться туда-сюда.
– Поесть надо – во́т что нам стоит, – говорит Сэм.
– Иди один – принеси мне что-нибудь, немножко.
Сэм знает, что у меня на уме. Четыре длинных вагона. Он изящно встает и протягивает мне руку. Я глубоко вдыхаю и поднимаюсь на ноги. Но есть и другой вопрос: забирать нам вещи с собой, чтобы их не украли, или оставить? Пожилая женщина с лицом, как яблоко из погреба, склоняется к нам через проход между сиденьями.
– Не волнуйтесь, дорогие, я пригляжу за вашими сумками.
Качка поезда, оказывается, скрывает мою немощь. Я уже давно привыкла стараться держать равновесие и осваиваюсь быстрее Сэма, которого мотает из стороны в сторону, как пьянчугу. В обеденном вагоне мы едим сэндвичи с ветчиной, пьем чай с молоком и сахаром, смотрим в мчащуюся тьму за окном. Годы напролет я мечтала об этом миге – вернее, о таких вот мгновеньях. До чего оно все отличается от моих грез! Щиколотки мерзнут, ступни стиснуты в новых туфлях, в воздухе кисло от табачного дыма и телесной вони, хлеб черств, чай жидок и горек.
И все же – я куда-то еду. До чего потрясающе легко это – сорваться и поехать, купить билет, сесть в поезд и ринуться в неведомое.
Портленд, Портсмут, Ньюберипорт. Проезжаем станцию за станцией – ни одна не значила для меня ничего, кроме слов на карте. Прибываем в Сэлем, и я думаю о наших предках, живших здесь. Представляю Бриджет Бишоп на эшафоте – как она отчаянно пытается использовать приговор в своих интересах. “Если вы и впрямь верите, что я ведьма, – должно быть, думала она, – тогда придется поверить, что у меня есть силы вам навредить”. Я всегда считала, что Джон Хэторн состряпал те обвинения против бунтарей и отщепенцев, чтобы укрепить общественный порядок. А теперь вот думаю: а ну как он и впрямь верил, что те женщины способны поработить его душу?
Подъезжаем к вокзалу, темно и холодно, а до Карлов нам добираться тремя поездами, один из них ходит по эстакаде, а значит, нужно таскать сумки вверх-вниз по лестницам. Сэм держит меня под руку, я сосредоточиваюсь на шагах: поднимаю одну ногу, опускаю другую. Грезя о жизни с Уолтоном, я не задумывалась, каково это – справляться с городской жизнью. Все упирается в это тело, в этот ущербный панцирь. Как же хочется расколоть его и сбросить.
* * *
Вопреки моим опасениям о жизни в Бостоне, быть в новом месте меня будоражит, и довольно легко делать вид, что все в порядке, – добродушно болтать с Рамоной, пока она жарит яичницу к завтраку, охать ее свадебным подаркам и чарующему виду из окна квартиры на мощеную улицу, играть в карты с ней, Харлендом и Сэмом. (Хотя сама я поневоле морщусь, когда Харленд предлагает перекинуться в “старую деву”.)
Но под поверхностью сердце мое ранено, болезненно к прикосновениям. Под улыбками, кивками и восклицаниями я плыву изо дня в день, словно призрак, молча страдая по тому, как оно все могло быть. Здесь, в Гарвард-Ярде, мы с Уолтоном могли бы отдыхать на парковой скамейке. В универмаге “Джордан Марш” могли бы выбирать мебель и посуду. На берегах Чарлза расстилали бы плед для пикника, я бы покоилась у Уолтона на груди, глядя, как скользят мимо гребцы. По ночам я падаю на постель изнуренная, переполненная тоской столь непомерной, что едва могу дышать.
Вопреки всем моим усилиям, Рамону не проведешь. Однажды утром она говорит, совершенно ни к селу ни к городу:
– Какая же в тебе стойкость – все-таки приехать.
Мы сидим в столовом уголке, едим яйца всмятку из фарфоровых подставок и тосты из серебряной держалки. Сэм с Харлендом ушли прогуляться.
– Я довольна, что приехала.
Рамона отпивает кофе.
– Я рада. Решиться на эту поездку было непросто.
– Да, непросто, – признаюсь. – Но Сэм настоял.
– Знаю. Он мне сказал. Но… ты же хорошо проводишь время, правда?
Киваю, намазывая тост маслом.
– Конечно. Прекрасно.
– Хочу сказать тебе, Кристина… – Откладывает ложку. – Ты наверняка думаешь об этом. Уолтон живет в Молдене. В город последнее время наезжает редко.
Смотрю ей в глаза.
– Я думаю об этом.
– Надеюсь, тебе от этого легче.
– Он знает, что я здесь?
– Я ему говорила. Чувствовала, что должна. В случае…
– Логично. Вы же друзья. – Слышу у себя в голосе горечь.
Рамона закусывает губу.
– Семьями дружим. С детства. Трудно просто взять и отрезать человека… пусть он и… – Качая головой, договаривает: – Не знаю, как объяснить. Чувствую себя предателем. Знаю, до чего тебе было больно. Он повел себя безобразно.
Рамона, кажется, так искренне расстроена, что я чую в себе струйку сочувствия.
– Не надо объяснять. Я понимаю.
– Правда? – говорит она с надеждой.
– Что было, то прошло.
Знаю, что это она и хочет услышать. Улыбается с явным облегчением.
– Как же я рада, что ты так считаешь. Я тоже! И, кстати, помню, ты говорила, что тебе это не интересно, однако в Бостоне полно приличным холостяков.
– Рамона…
Она всплескивает руками.
– Да, да, знаю, ты отставила удочку. Но как было не попробовать.
* * *
Через несколько дней Рамона говорит:
– Тебе уж точно непросто, Кристина, дорогая, – с этими походами по окрестностям.
Так и есть. Каждый дюйм Бостона коварен для меня, от мощеных улиц до людных тротуаров. И она, и Сэм, и даже неуклюжий Харленд помогают мне в лифтах и на спусках с лестниц, предлагают уверенную руку в наших вечерних прогулках. Но я все равно спотыкаюсь и падаю.
– Я очень ценю твою помощь, – говорю я ей.
– Ой, да ну не за что. Но мне и впрямь кажется, что состояние у тебя сложнее, чем прежде. Вижу, как ты иногда морщишься. Тебе больно?
Пожимаю плечами. Боль стала частью меня, я с нею живу, как с собственными блеклыми ресницами и молочно-белой кожей. Но теперь, когда просыпаюсь поутру, приходится несколько минут потягиваться и осваиваться, прежде чем удается пошевелить руками. Часто кажется, что и ступни у меня увязли в клею: не могу пройти и четырех-пяти шагов самостоятельно и не потерять равновесия.
– Кристина, Уолтон говорил мне, что вы с ним беседовали как-то раз. Он сказал, что звал тебя в Бостон – разобраться, можно ли что-то сделать.
Чувствую, как вспыхивает у меня лицо.
– Это совершенно не его дело…
Рамона вскидывает палец.
– Речь не об Уолтоне. Я потолковала с одним врачом – очень хорошим врачом – в Бостонской городской больнице, и он считает, что может помочь. Не сейчас же. Не в эту поездку. Надо назначить прием. Прошу тебя об одном: подумай. Слушай… – Вздыхает. – …Ты разве не хочешь нормальной жизни, с нормальными возможностями? Ты раньше отказывалась, а…
Невысказанные слова повисают в воздухе. Я знаю, о чем она: что мое нежелание лечиться, вероятно, стоило мне отношений. На меня накатывает гнев. Да – этого-то я и боялась все время. Что чувства Уолтона ко мне – небезусловные. Что он велел мне лечиться, а не то…
Но гнев стихает, не успев разгореться. Было б мило жить нормальной жизнью. Я устала корчить из себя сильную, устала скрывать, что малейшие дела по дому изнуряют меня. Устала от ушибов и царапин, от жалостливых взглядов людей на улице. Может, этот врач и впрямь мне поможет. Кто знает? Вероятно, он даже сделает меня здоровой.
– Ладно, – говорю я Рамоне. – Я подумаю.
Улыбается.
– Здорово! Может, все же удастся залатать эту твою худую лодку.
* * *
В газетах сплошь вести с фронта. “Бостон Глоуб” сообщает, что Соединенные Штаты ежедневно отправляют во Францию почти десять тысяч солдат. В Кушинге до нас долетают байки о записавшихся в армию ребятах, а после Закона о воинской повинности – о призывниках. (Для моих братьев-фермеров, как и для многих им подобных в наших краях, сделали исключение.) Мы слушаем новости по радио. Но здесь новости – не умозрительны, не что-то, происходящее невесть где. Гуляя по Гарвард-Ярду, мы с Сэмом натыкаемся на несколько сотен молодых людей в синих морских форменках – это новобранцы из Радиошколы. Парк Бостон-Коммон уставлен палатками Красного Креста, тамошние добровольцы собирают и пакуют припасы – для отсылки за рубеж.
Когда суфражисток, пикетировавших Белый дом больше двух лет, осуждают в редакционных колонках, Рамона с Элоиз возмущены и пространно это обсуждают. Они знают некоторых дам по именам, у них уйма доводов, почему женщин нужно наделить правом голоса. Разговаривают обо всем этом так, словно заинтересованы в исходе. Словно у них есть право – или даже обязанность – иметь мнение.
– Но к нам это никакого отношения не имеет, – возражаю я.
– Имеет – самое прямое, – негодующе откликается Рамона.
Никакие задачи, которыми я занята в Кушинге, в мире Рамоны не имеют значения. Она словно играет в семью в своей четырехкомнатной квартире с окнами на улицу, на четвертом этаже, заботиться ей не о ком – если не считать ее слегка неуклюжего муженька и кучи денег, посредством которых эту заботу осуществлять. До чего иная была б у меня жизнь при электричестве, с уборной в доме, с горячей водой, льющейся из крана в кухне и в ванной, при газовых горелках в плите, загорающихся от поднесенной спички, при чугунных батареях, обогревающих каждую комнату. Не трать я все свое время на разведение огня, я бы, может, и знала, что творится в большом мире. Рамона посещает оперу, свежие постановки, ходит по шляпным и дамским лавкам. Есть девушка (Рамона зовет ее так, хотя “девушка” старше нас), которая заявляется два раза в неделю – стирать, оттирать полы, менять постельное белье, стряхивать пыль с горки и мыть посуду, пока Рамона сидит за столом в пеньюаре и читает “Бостон Хералд”.[33]
Рамона отказывается выходить на улицу без шляпки и не в платье по последней моде, свеженакрахмаленном и отутюженном. Я, хозяйка двух простеньких платьев, двух юбок, двух блузок и двух слегка помятых шляпок, провожу много времени, ожидая, пока Рамона подготовится к выходу.
– Ох, Кристина, ты, должно быть, уже отчаялась, – говорит она со вздохом, поспешая из своей спальни, цепляя одну из множества шляпок перед зеркалом в прихожей, пока я прохлаждаюсь под дверью. – Вся эта кутерьма, наряды, кудри и шляпные булавки – сколько же я трачу сил на суету со своим внешним видом! А ты такая, какая есть. Завидую.
Я ей не верю. Жизнь у нее такая, какую она себе хочет. Но я и не завидую ей. Даже не будь у меня немощи, мне было бы трудно приспособиться к этим узким улицам, забитым зданиями и пешеходами, терпеть эти неумолчно громыхающие трамваи, оглушительные гудки, визг тормозов, музыку из домов, болтовню людей. Бостонское небо, разбавленное светом фонарей, никогда не темнеет полностью. Мне не хватает густой, усыпанной звездами черноты Хэторн-Пойнта по ночам, мягкого свечения керосинок, мгновений совершенной тишины, вида наших желтых полей, бухты и моря вдали – и горизонта.
* * *
Рамона и даже Харленд, благослови его бог, более чем щедры, но, когда приходит время уезжать, я готова. День отбытия – сияюще-солнечный. Снег на улицах тает в лужи. За ночь в парке сквозь ледяную кашу пробились желтые и пурпурные крокусы. Я сижу у себя в крошечной спальне, укладываю немногие пожитки в чемодан, и тут раздается стук в дверь.
– Это Сэм. Можно войти?
– Конечно.
Он открывает дверь, я взглядываю на него. Глаза у него сияют, улыбка через все лицо.
– Ты, стало быть, почти готова?
– Да. А ты?
– Не вполне.
– Ну, тогда поторапливайся. – Берусь за длинную юбку, складываю ее вдвое. – Не хотелось бы упустить поезд.
Он топчется в дверях – то в комнату, то прочь из нее.
– Я не готов возвращаться.
Гляжу на него изумленно.
– Что?
Он прижимается лбом к двери и вздыхает.
– Я тут думал. Если остаток своих дней мне предстоит провести в крошечной деревне в забытой богом глухомани, я бы хотел повидать в этом мире еще хоть что-то.
– А мы чем тут занимались?
– По-моему, я только вошел во вкус, – говорит он.
В голове у меня это помещается с трудом.
– То есть… ты хочешь остаться у Рамоны и Харленда? А ты спросил, как они на это смотрят?
– Вообще-то Херберт Карл предложил мне место почтового служащего у себя в компании и комнату в своем доме. Мне поэтому не придется жить здесь.
До меня постепенно доходит, что эту затею он вынашивает уже какое-то время.
– Почему ты мне обо всем этом не рассказал?
– Ну вот, рассказываю же.
– Но что… но как…
– Ты справишься, – говорит он, словно готовя меня. – Я провожу тебя до станции. А затем развернусь и двину прямиком на работу.
– А как же ферма?
– Ал с Фредом разберутся. И вообще – Фреду не вредно было б засучить рукава и помогать больше, слишком долго он проходил в детишках.
Меня это ранит.
– Да ты, похоже, все обдумал.
– Да.
– А со мной даже не поговорил.
Он топчется в дверях, как пес, которого отчитывают.
– Я боялся, что ты не одобришь.
– Да дело не в одобрении. А в том, что я… я… – Как же это? – Видимо, в том, что я чувствую себя…
– Брошенной, – говорит он. Словно мы оба осознаем это одновременно.
Глаза у меня наполняются слезами.
– Ох, Кристина, – говорит он, шагает ко мне, кладет ладонь мне на руку. – Я думал о себе одном. А о тебе совсем не думал.
– Конечно, нет, – говорю я, давясь словами. Понимаю, что устроила мелодраму, но ничего не могу с собой поделать. – С чего б тебе? С чего б кому бы то ни было? – Отвернувшись от него, я тянусь к сложенному носовому платку в чемодане и плачу в него, плечи ходят ходуном.
Сэм делает шаг назад. Такой он меня ни разу не видел.
– Я эгоист, – говорит он. – Поеду с тобой домой, на поезде.
Через несколько мгновений я глубоко вдыхаю, промокаю глаза платком. За окном слышу грохот трамвая, автомобильный гудок. Вспоминаю бабушкину жажду странствий. Ее желание повидать большой мир. Раздражение, что никто в семье не разделяет, похоже, ее страсти. Почему бы Сэму не остаться в Бостоне? У него целая жизнь впереди.
– Нет, – говорю я.
– Нет?..
– Не надо тебе домой.
– Но ты…
– Все в порядке, – говорю. – Желаю, чтоб ты остался.
– Уверена?
Киваю.
– Маммея бы гордилась.
– Ну, я не то чтобы отправляюсь в кругосветку, – говорит он с улыбкой. – Но, может, Бостон – хорошее начало.
Сэм, как и обещал, провожает меня до станции, усаживает в вагон. Такой он юный, красивый и счастливый – стоит на платформе, машет вслед отбывающему поезду.
Бостон тает вдали, а домашние заботы, отступившие было на задворки моего ума, вновь обретают резкость: как там мама себя чувствует? Хорошо ли она спит? Справилась ли с готовкой? Воображаю, какую грязь обнаружу по углам кухни, горы стирки, что наверняка меня ждет, золу, накопившуюся в плите. Мул, коровы, куры, насос за домом… Вглядываюсь в горизонт – в продольные полосы цвета, от черного к синему, к бурому, к оранжевому, золотая полоса, а следом вновь синь. Ехать на север – все равно что возвращаться во времени. Когда поезд подбирается к Томастону, там холодно, грязно и серо, – в точности так же, как было в Бостоне, когда я прибыла туда несколько недель назад.
* * *
Через пару месяцев после моего возвращения мама усаживает меня за обеденный стол, в руках у нее письмо. Папа стоит за ней в дверях.
– Сэм с Рамоной хотят, чтобы ты вернулась в Бостон на осмотр. Семейство Карл знает одного очень хорошего врача, который…
– Да, она говорила, – перебиваю я. Мне, вернувшейся домой к привычным хлопотам, Бостон кажется очень далеким. Перерыв в домашней работе, мытарства дороги, не говоря уже об обещанной болезненности процедур и совсем уж не обещанном благом исходе: трудно вообразить, с чего бы мне ввергать себя в подобные испытания. – Я сказала, что подумаю. Но, если честно, вряд ли в этом есть смысл.
Мама хватает меня за руку прежде, чем я успеваю ее отдернуть. Переворачивает мою ладонь, бугристые красные полосы на запястье – всем на обозрение.
– Смотри. Ты глянь, что ты с собой творишь.
Поднимая тяжелые котлы, ставя чайник, накачивая воду насосом, я уже начала помогать себе локтями, запястьями и коленями. Предплечья у меня исполосованы ожогами. Отчасти поэтому, а отчасти оттого, что за годы руки у меня стали тоньше и болезненнее, я прячу их, как могу, в широких рукавах. Выдергиваю руку, опускаю рукава, прикрываюсь.
– Никто мне помочь не может.
– Это неизвестно.
– Я справляюсь, мама.
– Если будет и дальше ухудшаться, ты не сможешь ходить. Ты об этом подумала?
Сосредоточенно сметаю крошки на столе в кучку. Разумеется, я об этом думала. Я думаю об этом каждый день, пробираясь по кладовке четырнадцати футов в длину – при помощи локтей, по стенке.
– Думаешь, справишься и дальше, когда тебе ноги откажут? – продолжает мама.
– Решено, – вдруг говорит отец. Мы обе оборачиваемся к нему. – Она едет в Бостон, вот и весь сказ.
Мама кивает – явно изумленно. Папа редко настаивает на своем с такой силой.
– Ты слышала, что отец сказал, – добавляет она.
Похоже, спорить без толку. И, кто знает, может, они и правы – может, что-то все-таки можно сделать, чтобы обратить мое угасание или по крайней мере замедлить его. Я собираю две сумки, одинаковые по тяжести, чтоб помогали мне удерживать равновесие, Ал одалживает у соседей машину и везет меня в Портленд, чтобы мне не пришлось пересаживаться с поезда на поезд одной. Добираюсь до Бостона, а там уж Сэм с Рамоной забирают меня на новеньком небесно-голубом “кадиллаке” Харленда и везут в Городскую больницу на Хэррисон-авеню в Саут-Энде; в этом величественном кирпичном здании с исполинскими колоннами и башенной крышей меня принимают на неделю “наблюдений”.
Медсестра с куриной грудью ввозит меня в кресле-каталке в лифт, с нею заходят и Сэм с Рамоной, мы поднимаемся в маленькую одноместную палату на восьмом этаже; здесь железная кровать и вид на соседские крыши. Пахнет разбавителем для краски.
– Когда часы посещения? – спрашивает Рамона.
Медсестра сверяется с моей картой.
– Никаких посещений.
– Никаких посещений? Это еще почему? – спрашивает Сэм.
– Предписан покой. Покой и уединение.
– Вряд ли это необходимо, – говорит Рамона.
– Указание врача, – произносит медсестра. – Оставлю вас с ней на десять минут. А потом нужно дать ей обустроиться. Можете прийти за ней через неделю. – Глядя поверх меня, она задирает клювик. – На кровати найдете больничную ночную сорочку, наденьте. Врачи придут с осмотром после обеда. Вопросы?
Качаю головой. Нет вопросов. Один только:
– Чем тут пахнет?
– Эфиром, – говорит Рамона. – Гадость. Помню его с тех пор, как мне аденоиды удаляли.
– И разваренным горохом, – добавляет Сэм.
Когда медсестра уходит, Рамона достает из сумки книгу, которую взяла с собой, кладет ее на тумбочку. “Моя Антония”.
– Не читала, но, похоже, последний писк. Сельская жизнь в Небраске. – Пожимает плечами. – Не мой фасончик, но если заскучаешь…
Глянув на обложку – золотую с бронзовыми буквами, – сознаю, что это, должно быть, третья часть трилогии прерий Кэзер. Две первые я читала по рекомендации Уолтона. В памяти всплывает строчка из “О пионеры!”: “Людям в этом мире приходится хватать счастье, когда удается. Всегда проще потерять, чем найти…”[34]
– Мы спросим у медсестры, когда именно тебя выпишут, приеду и заберу тебя, – говорит Сэм.
– Минуты буду считать, – отзываюсь я.
– Если дочитаешь эту книгу, я могу еще принести, – говорит Рамона. – У Шервуда Эндерсона[35] вышел сборник рассказов, о котором все толкуют.
Раз в день ко мне в палату вваливается стая врачей, в белых халатах они похожи на гусаков; толпятся у моей постели, возглавляет их знаток, которого я про себя называю Первым Пучеглазом – такие у него за громадными очками глазищи. Врачи велят мне вставать, махать руками, топать ногами, а затем, бормоча между собой, убираются вон. Ведут себя так, будто у меня нет ушей, но я слышу все, о чем они говорят. Первую пару дней рассуждают, что могло бы помочь электричество. К четвертому дню решают, что электричество стало бы убийственным. Никто, кажется, и понятия не имеет, что со мной не так. На седьмой день Первый Пучеглаз сдает меня Сэму и Рамоне – со снисходительной улыбкой и предписанием.
– Вам следует жить так же, как и прежде, – объявляет он, наставляя на меня сложенные вместе ладони, а все остальные врачи что-то записывают в блокноты. – Ешьте питательную пищу. Проводите как можно больше времени на свежем воздухе. Тихая сельская жизнь поможет вам больше, чем любое лекарство или лечение.
– Что-то мне не кажется, что нужно было ехать аж в Бостон, чтобы это узнать, – бурчит Рамона себе под нос.
В поезде по пути домой я щурюсь в окно на серебряный доллар луны, обрамленный небом синего бархата. Я сделала, как велели родители. Не надо им хлопотать из-за лечения, которого мы не ищем. Эта болезнь, чем бы ни была, продолжит развиваться как захочет. Думаю о том, до чего разрушительно желание – о том, как опасно хотеть чего-то неисполнимого, верить в возможность спасения. Эта поездка в Бостон лишь укрепляет мою убежденность, что от хвори моей средства нет. Сколько б ни держала я над головой трепещущую тряпку, никакое судно издалека не явится меня спасать.
Хотя мне всего двадцать пять, я до мозга костей осознаю: единственная возможность другой жизни была у меня – да сплыла.
Вытаскиваю “Мою Антонию” с загнутыми уголками страниц из сумки – прочитала уже дважды, – перелистываю страницы, ищу строчку ближе к концу. А, вот она: “Некоторые воспоминания – действительны, и они лучше, чем все прочее, что может с человеком приключиться”. Возможно, и так, думаю я. Может, мои воспоминания о более счастливых временах и живы, и подлинны достаточно, чтобы преодолеть грядущие разочарования. И чтобы питать меня до конца.
* * *
Родись Алвэро в предыдущем поколении, был бы капитаном, как наши предки. Его стоический темперамент – то что надо для мореплавания. Его страсть к морю – просыпаться еще до восхода, при любой погоде, выходить в океан, как только в небо просачивается свет, – у него в крови. Но когда руки у отца деревенеют и скрючиваются, когда Сэм нисколько не собирается вернуться из Бостона, а Фред добывает работу в бакалее в Кушинге и переезжает в городскую квартиру, Алу остается лишь одно – заниматься фермой.
– Ферма в хорошем состоянии, – слышу я, как папа говорит Алу однажды весенним утром. – Мне удалось накопить больше двух тысяч долларов. За лошадей и инвентарь уплачено. Теперь твоя очередь вести хозяйство.
В то же утро Ал впрягает нашу кобылу Тесси в телегу, ведет ее к берегу и грузит на телегу плоскодонку – лодку, на которой каждый день выходит в море. Привозит ее к дому, втаскивает в сарай при кухне и укладывает кверху дном над сеновалом, со всем рыбацким снаряжением. Следом пристраивает свой ялик “Иволга” на мысу острова Малый, на суше.
– Что ты делаешь? – спрашиваю я. – Чего лодки убрал?
– Прошло то время, Кристи.
– Но, может, когда-нибудь…
– Лучше себе не напоминать, – обрывает он.
В следующие три месяца воры обчищают ялик – забирают все крепления и фонари и даже кое-какие деревяшки, оставляют изуродованный остов догнивать в траве. Рыбацкий сарай за хлевом – в запустении, снаряжение внутри томится, словно реликвии давно минувшей эпохи: блесны, бочки с наживкой, конопатка, ловушки для омаров – все сухое и оголенное, словно ископаемые окаменелости.
Бывает, ближе к вечеру, когда все дела сделаны, я обнаруживаю Ала в сарае – он спит под плоскодонкой на куче конских попон. Жаль его ужасно, однако я все понимаю. Больно это – расставаться с надеждой на то, что когда-то приносило радость. Приходится искать способы забывать.
* * *
Однажды из Рокленда приезжает доставщик, привозит инвалидное кресло, и с тех пор папа редко из него выбирается.
– Зачем это тебе? – спрашиваю я.
– Тебе такое же надо, – говорит он.
– Нет уж, спасибо.
Папа, за что бы ни брался, говорит, что у него ломит кости. Руки и ноги у него истончились и ослабли, скрючены похоже на мои. Но он называет свою болезнь артритом и отказывается считать, что у нас с ним болезни одинаковые.
Мы оба – гордецы, но гордость свою носим по-разному. Моя принимает обличие дерзости, его – стыда. Для меня инвалидное кресло равносильно капитуляции, все равно что сдаться мелкому существованию в четырех стенах. Это клетка. Папа считает коляску своим троном, способом сберегать достоинство, какое уж осталось. Мое поведение – то, что я хромаю и падаю, – считает низменным, бесстыжим, жалким. Он прав: я бесстыжая. Готова платить увечьями и унижением, но двигаться так, как сама решу. К добру ли, к худу ли, думаю, я скорее Хэторн, нежели Олавсон, и в крови у меня и упрямство, и нежелание считаться с чужим мнением.
Интересно, – размышляю я не впервые, – стыд и гордость, наверное, две стороны одной монеты.
В припадке оптимизма – или, быть может, отрицания – папа покупает в “Продаже авто округа Нокс” машину, черный “форд-бродягу”, за четыреста семьдесят два доллара. Автомобиль, модель “Т”, – блестящий и мощный, и папа, хотя им гордится, но слишком немощен, чтобы водить. Я тоже. Так Ал становится семейным шофером, возит папу и всех нас, куда нам надо. Каждый день катается на почту, в любую погоду, забирает и нашу корреспонденцию, и соседскую, раздает на обратном пути. Выполняет мамины поручения в Томастоне и Рокленде. Машина дает Алу определенную свободу: он начинает уезжать по вечерам, время от времени, обычно к “Фэйлзу”, где можно рассчитывать на мужскую компанию и переброситься в карты, старик Ирвинг Фэйлз урывает себе десятицентовик-другой, цирюльничая по ходу дела.
В один такой вечер Ал слышит о лечении в Рокленде, которое якобы помогает от артрита, а лечит некий доктор С. Дж. Поул. Наутро Ал везет папу в Рокленд – выяснить поточнее. Они вдвоем оживленно разговаривают о яблоках и безоперационном лечении, за ужином мы изучаем договор, который выдали папе. Суть в следующем: нужно есть много-много яблок. У нас за домом маленький сад, который папа высадил пятнадцать лет назад; деревья увешаны блестящими красными и зелеными яблоками. Но эти, судя по всему, не годятся. Нужно есть особый сорт, купить его можно только в Томастоне, по пять центов за штуку.
Я листаю договор. В нем говорится: “Я полностью отдаю себе отчет, что доктор С. Дж. Поул считает себя в силах помочь и, возможно, вылечит меня, но гарантий никаких не дает… Стороны договорились, что никакие деньги, выплаченные мною за врачебные услуги, возврату не подлежат. Я нахожусь в дееспособном возрасте”.
– Пятьдесят семь. Это дееспособный возраст, верно? – посмеивается папа.
Мама поджимает губы.
– Другим помогло?
– Доктор Поул показал нам много страниц благодарностей от исцеленных, – говорит Ал.
– Кэти, – серьезно произносит папа, кладя руку поверх маминой, – и впрямь может помочь.
Она медленно кивает, но больше ничего не говорит.
– Сколько это стоит все же? – спрашиваю я.
– Разумно, – говорит папа.
– Сколько?
Ал смотрит на меня, не отводя взгляда.
– У папы давно не осталось надежды.
– Так сколько это стоит?
– Только потому, что тебе ничего не помогло, Кристи…
– Я не понимаю, почему мы должны покупать яблоки, когда у нас самих прекрасный сад, где их полно.
– Этот врач – знаток. Папу можно вылечить. Ты этого не хочешь разве?
Я однажды читала рассказ про одного человека по имени Иван Ильич, который верил, что прожил по совести, и негодует, когда выясняется, что его постигает жестокий рок – ранняя смерть по неведомой причине. Мой отец – такой же. Он в ярости, что сделался калекой. Всегда считал, что трудолюбие и чистоплотность равносильны нравственности, а нравственность должна быть вознаграждена. И меня не удивляет, что он так пылко верит этой нелепой байке о лечении.
Папа подписывает договор и оплачивает тридцать приемов в течение тридцати недель – необходимый минимум. Каждый вторник Ал усаживает его на пассажирское сиденье в “форде Т” и везет в Рокленд. На каждом приеме – который, насколько мне известно, сводится к дополнительной оплате загадочных таблеток и записи количества съеденных дорогих яблок, – в договоре пробивают дырочку.
Папа всегда управлял фермой твердой рукой, продавал голубику и овощи, молоко и масло, кур и яйца, резал лед и возился с рыбацкой запрудой – ради дополнительных денег. Всегда подчеркивал, как важна бережливость. Но теперь, кажется, готов заплатить, сколько врач скажет, – в надежде на выздоровление.
Однажды во вторник утром, примерно через четыре месяца после начала лечения, всего через час после отъезда Ала с папой, я слышу, как хлопает автомобильная дверца, и выглядываю в окно кухни. Вернулись. Лицо у Ала угрюмое, он помогает папе выбраться из машины. Проводив его наверх в спальню, Ал появляется в кухне, тяжко опускается на стул.
– О господи, – говорит он.
– Что случилось?
– Это все была афера. – Проводит рукой по волосам. – Приезжаем мы к кабинету Поула, а там все здание закрыто. Пару дней назад, говорят, Поула выгнали из города разозленные пациенты. Много кто последнюю рубашку ему отдал.
За следующие несколько месяцев тяжесть положения делается кристально ясной. Двух тысяч долларов папиных сбережений как не бывало. Мы не справляемся со счетами. Немощнее прежнего, папа безутешен, подавлен, проводит все время у себя наверху. Пытаюсь сочувствовать, но дается это с трудом. Яблоки. Фрукты, искусившие Еву, завлекли и моего доверчивого отца – и Еву, и его соблазнил сладкогласный змий.
* * *
Студеным октябрьским вторником, поутру, папа просит Ала перенести его инвалидное кресло в Ракушечную. Через час к дому подъезжает прилизанный бордовый четырехдверный “крайслер”, из него вылезает дама в строгом сером костюме. Шофер остается в машине.
Заслышав стук в дверь, я порываюсь открыть, но отец ворчливо буркает:
– Я сам.
Из глубины коридора до меня долетают обрывки разговора: “…щедрое предложение… состоятельный человек… желанное побережье… второго такого не будет”.
Дама собирается уходить.
– Не трудитесь, я сама, – говорит она, сказано – сделано; я смотрю из окна, как она ныряет на заднее сиденье “крайслера”, похлопывает шофера по плечу – папа же сидит в Ракушечной несколько минут один. А затем неловко выкатывается в кухню.
– Где Алвэро?
– Доит корову, думаю. Что происходит?
– Позови его. И мать.
Возвращаюсь из хлева, а папа уже прикатился в гостиную. Мама почти все время у себя наверху, а тут вот сидит во главе стола с шалью на плечах. Ал в грязном комбинезоне вваливается в дом у меня за спиной, устраивается у стены.
– Эта дама привезла предложение от одного промышленника по имени Сайнекс, – внезапно произносит папа. – Пятьдесят тысяч долларов за дом и землю. Наличными.
У меня отвисает челюсть.
– Что?!
Ал подается вперед.
– Пятьдесят, говоришь?
– Говорю. Пятьдесят тысяч.
– Это чертова прорва денег, – говорит Ал.
Папа кивает.
– Чертова прорва денег. – Умолкает на миг-другой, чтобы до нас дошло. Я оглядываю остальных: мы втроем разинули рты. А затем папа добавляет: – Как ни тошно, но, думаю, было б умно с нашей стороны принять это предложение.
– Джон, ты же не всерьез, – говорит мама.
– Всерьез.
– Тогда это полная чушь. – Она выпрямляется, натягивает шаль потуже.
Папа вскидывает руку.
– Погоди, Кэти. Моих сбережений больше нет. Это могло бы выручить. – Качает головой. – Противно так говорить, но выбор у нас сейчас невеликий. Если сейчас не согласимся…
– Куда тебе – нам – податься? – спрашивает Ал. Я вижу, что он спотыкается на словах, пытается постичь папино умонастроение, размышляет, считается ли он с нами или нет.
– Я бы предпочел дом поменьше, – говорит папа. – А с такими деньгами помог бы вам обустроить ваши отдельные дома.
Мы все умолкаем, обдумываем. За вычетом времени с Уолтоном – а оно сейчас кажется мне лихорадочной грезой, смутным наваждением, не связанным с моей жизнью ни прежде, ни после, – я жила в этом доме, как моллюск в своей раковине, и никогда не представляла себя отдельно от него. Принимала свое существование здесь как должное – старые лестницы, масляную лампу в коридоре, вид на травы и на бухту с парадного крыльца.
Мама резко подымается со стула.
– Этот дом у моей семьи с 1743 года. Поколения Хэторнов жили и умирали здесь. Из дома не уходят лишь потому, что кто-то предложил его купить.
– Пятьдесят тысяч. – Папа стучит узловатыми костяшками по столу. – Нам такого предложения не видать больше, говорю тебе.
Мама теребит платье, зубы стиснуты, вены на шее – словно струйки воды. Никогда прежде не видела я их в таком противостоянии.
– Это мой дом, а не твой, – свирепо говорит она. – Мы остаемся.
Лицо у папы угрюмо, но он помалкивает. Мама – Хэторн, он – нет. Разговор окончен.
Оставшиеся пятнадцать лет отец проведет в инвалидном кресле в заточении у себя в комнатке на втором этаже дома, который он так рвался продать; наружу выбираться будет редко. Мы с Алом, при помощи братьев, наскребаем и экономим, учимся жить еще меньшим. Мы сможем, с большим трудом, спасти ферму от разорения. Но я задумаюсь, и не раз, – все мы задумаемся, – не лучше ль было уступить.
* * *
В июле 1921 года Сэм, смеясь, собирает семью в Ракушечной. Держа за руку свою очкастую подружку – хормейстершу Мэри, – он объявляет, что попросил ее руки.
– И я, конечно же, согласилась! – Мэри сияет, показывает левую руку со скромным обручальным кольцом, унаследованным от ее бабушки.
Новость эта не застает нас совсем уж врасплох: парочка познакомилась в Молдене, где Мэри выросла, когда Сэм остался работать у Херберта Карла, и встречались они уже несколько лет. Я наблюдаю, как он придвигается к ней и что-то шепчет, она вспыхивает, он заправляет ей прядь волос за ухо.
– Я так рада за вас обоих, – говорю я им, и, хотя при виде их непринужденной задушевности друг с другом меня жалит печалью за себя саму, говорю я это от души. Милый добрый Сэм заслуживает любви.
Свадьба Сэма и Мэри происходит на “газоне”, как Мэри это именует, но мы, Олсоны, всегда считали это полем. Ал с Фредом строят беседку, устанавливают два ряда из двадцати стульев, одолженных в Грейндж-холле. Несколько дней я пеку булочки, голубичные и клубничные пироги – и свадебный торт, Сэмов любимый: лимонный со сливочно-кремовой глазурью. На Мэри кружевное платье и фата; Сэм ослепителен в темно-сером костюме. Роклендский оркестр из трех человек играет на утесе над берегом, где Фред устроил пикник у воды.
После медового месяца молодожены переезжают в наши семейные владения, чтобы откладывать деньги на собственный дом. Мне нравится, что рядом теперь есть еще одна женщина, особенно такая молодая и дружелюбная, как Мэри, – она цельная, добрая и смешливая. Хорошая напарница по хозяйству, помогает мне готовить и прибираться.
Сэм с Мэри устраиваются в спальне на третьем этаже, вдали от остальной семьи, и вскоре Мэри беременеет. В отличие от Рамоны – если судить по ее письмам, – утренней тошноты у Мэри нет. Мы сидим у очага, она вяжет одеяла, я шью одежки для малыша, беседуем о погоде, об урожае, о людях, которых обе знаем, – о Гертруд Гиббонз, например, та недавно вышла замуж. (Прислала приглашение на свадьбу, но я не пошла.)
– У той девицы в крови чуток от бордер-колли. Все бы ей пасти да покусывать. Но она ничего, – говорит Мэри.
От этого образа я улыбаюсь – и потому, что именно так Гертруд и ведет себя, и потому, что Мэри говорит это так невозмутимо, без желчи. О своем едком замечании Гертруд на танцах я не заикаюсь. Нечем, в общем, гордиться.
* * *
Несколько месяцев спустя, проснувшись посреди ночи от утробного стона, я лежу во тьме спальни, мое дыхание – единственный звук. Сажусь, прислушиваюсь. Проходят минуты. Еще один стон, теперь погромче – и я понимаю: ребенку пора на свет. Слышу тяжкие шаги Сэма вниз по двум лестничным пролетам и вон из дома. Заводится мотор “форда”: Сэм отправляется за повитухой.
Сгибаю и разгибаю ноги, как всякий раз поутру, осторожно спускаю их с кровати, держусь за решетку спинки, тянусь к платью на крючке в двери. Впотьмах натягиваю чулки, сую ступни в туфли, пробираюсь вниз, держась за перила. Папа – в прихожей в кресле, налетает на стены, бормочет себе под нос по-шведски, пытаясь протиснуться в дверные проемы и оказаться в кухне. Похоже, сам выбрался из кровати – в этом ему обычно помогает Ал.
Наполняю чайник из бака на полу, растапливаю “Гленвуд”, достаю овсянку для каши и хлеб для тостов, а солнце меж тем подымается по небу. Чуть погодя вижу, как к дому подкатывает машина. Из нее вылезает повитуха, при ней – здоровенная матерчатая сумка. И тут открывается задняя дверь и появляется Гертруд Гиббонз. А она что тут делает?
– Смотри, кого я нашел, – говорит Сэм, входя в кухню. – Мэри подумала, что лишняя пара рук не помешает.
– Как поживаешь, Кристина? – спрашивает Гертруд из-за Сэмовой спины, от души улыбаясь.
– Хорошо, Гертруд, – стараюсь я сказать невозмутимым голосом. Мы не виделись с тех самых давних танцев, и между нами все кажется натянутым и неловким.
– Знаю, тебе с лестницей трудно, и маме твоей нездоровится, – говорит она. – Почту за честь заполнить брешь. Где дорогуша Мэри?
Когда все ушли наверх, я выбираюсь в прохладу двора, в этот ранний час затененного домом. Ал распахал огород, и земля после вчерашнего дождя пахнет свежо и сыро. С далекого поля доносится ржание Тесси. Лолли вьется у меня под ногами, жмется к икрам. Осев на каменную ступеньку, беру кошку на колени, но она вопит и ускользает. Мне уныло, меня придавливает к земле. Этой же весной, но чуть раньше, от Рамоны и Харленда прилетает известие о родах: девочка, назвали Роуз, семь фунтов девять унций. В июне Элоиз вышла замуж за Билла Риверза, а через несколько месяцев после этого Алва сбежал с Эвой Шумен. Я рада за Сэма и Мэри и вообще за всех, но любой ритуал – свадьба, роды, крестины – напоминает мне, до чего я сама одинока. В сравнении моя жизнь совершенно бесплодна.
На глаза навертываются слезы.
– А, вот ты где! – Гляжу через плечо, вижу заштрихованное сетчатой дверью лицо Гертруд. – Я тебя ищу-ищу. Повитухе я сейчас не нужна. Говорит, Мэри – самородок.
Утираю лицо тылом ладони, надеюсь, что Гертруд не заметила, но от нее ничто не ускользает.
– Что такое? Тебе больно?
– Нет.
Она пытается открыть сетчатую дверь, но я сижу и не даю.
– Что-то стряслось?
– Нет.
– Можно я выйду?
Последнее, чего мне хотелось бы, – объяснять свои слезы Гертруд Гиббонз. Она тут из чистого любопытства, в конце концов, от скуки – и от неистощимого желания во все совать нос.
– Прошу тебя, погоди минутку.
Но нет.
– Батюшки, Кристина, если…
– Я же сказала, – говорю я громче, – оставь меня в покое.
– Что ж. – Она обиженно умолкает. А затем говорит холодно: – Я спустилась помочь с завтраком. Но, вижу, ты бросила огонь гаснуть.
Я шатко встаю. Резко распахиваю дверь, ошарашив ее, слезы затуманивают мне зрение. Проникаю в кухню. Моя неуклюжесть раздражает меня еще пуще; все в тумане, Гертруд смотрит на меня, по своему обыкновению, бестолково, осуждающе, жалостливо.
Не выношу ее за это. За то, что она, глядя на меня впрямую, не видит меня совсем.
Устремляюсь в кладовку, Гертруд вынуждена посторониться к стене. Хочу к себе в спальню, наверх, и закрыть дверь, но как я одолею лестницу, когда она смотрит? И тут понимаю, что мне плевать. Опираясь о стену, протаскиваю себя по коридору до самых ступенек. Предплечьями и локтями влекусь вверх по узкой лестнице, останавливаюсь каждые несколько шагов, зная, что Гертруд прислушивается к каждому моему кряку. Добравшись до площадки наверху, смотрю вниз. Вон она, стоит в прихожей, руки в боки.
– Честно, Кристина, я ни при каких…
Но я не слушаю. Не могу. Отвернувшись, бреду к спальне и захлопываю за собой дверь.
Лежу на полу у себя в комнате, дышу тяжко. Через несколько минут слышу шаги на лестнице.
Затем – стук в дверь.
– Кристина? – Голос Гертруд пронизан подчеркнутым беспокойством.
Сдав назад, я вцепляюсь в стойку кровати, разворачиваюсь, втягиваю себя на матрас, пытаюсь утишить грохот сердца. Ее присутствие за дверью излучает мерзкий жар; меня от него печет.
Еще стук.
– Уходи.
– Да батюшки, пусти меня.
Замка в двери нет. Через миг я вижу, как поворачивается белая фарфоровая ручка. Гертруд входит в комнату и закрывает за собой дверь, рыхлое лицо сморщено пантомимой тревоги.
– Что с тобой такое?
Хотела б я улизнуть от нее, но ничего, кроме слов, мне не остается.
– Я тебя сюда не приглашала.
– Ну а твой брат позвал. Вот честно, вас немощных в доме трое, тебе вообще-то благодарной быть бы.
– Клянусь, нет во мне этого.
Мгновение мы злобно пялимся друг на дружку. А затем она произносит:
– Значит, так. Ты для этой семьи готовишь завтрак каждый день в году. Соберись давай и приготовь что-нибудь сию же минуту. Чего ты такая злая?
Не уверена, что сама это понимаю. Но гнев-кремень приятен. Лучше печали. Не хочу с ним расставаться. Скрещиваю руки на груди.
Она вздыхает.
– Мы того и гляди примем эту чудесную новую жизнь – этого малыша! Уж прости за прямоту, но ты ведешь себя, как ребенок. Может, тебе этого никто не говорит, но, поверь, они так думают. – Она проводит руками по покрывалу рядом с моей ногой, разглаживает складки. – Иногда всем нам нужен добрый друг – чтобы сказал все начистоту.
Я отшатываюсь от ее руки.
– Ты мне не друг. И уж точно не добрый.
– Что… как ты можешь такое говорить? В каком смысле?
– В смысле… – В каком же смысле? – Ты радуешься моему горю. Чувствуешь себя лучше меня.
Шея у нее краснеет. Она прижимает руку к горлу.
– Это ужасно – такое говорить.
– Я так считаю.
– Я тебя пригласила к себе на свадьбу! Куда ты – позволь напомнить – не явилась. И подарка не прислала.
Меня настигает некоторое угрызение совести. Про подарок я забыла. Но извиняться не склонна.
– Давай по-честному, Гертруд. Ты и не хотела, чтоб я к тебе пришла.
– Откуда тебе знать, чего я хочу и чего не хочу! – говорит она, голос переходит в визг. А следом показывает пальцем на потолок и прижимает палец к губам. – Ш-ш!
– Это ты голос повышаешь, – говорю я ровно.
– Кристина, это глупо, – говорит она – вдруг высокомерно. – Не сомневаюсь, для тебя это убийственно – что случилось тогда с тем мужчиной. Уолтоном Холлом. – Услышав это имя из ее уст, я содрогаюсь. – Но пора бы жить дальше. Хватит уже вариться в собственных напастях. Ты разве не желаешь добра своему брату и Мэри? Ладно, давай забудем вот это все и приготовим поесть голодным.
Упоминание об Уолтоне – последняя капля.
– Убирайся из моей комнаты.
Она недоуменно похохатывает.
– Да я…
– Если ты сию же минуту не уберешься из моей комнаты, клянусь, я никогда больше с тобой не буду разговаривать.
– Ну же, Кристина…
– Я не шучу, Гертруд.
– Это возмутительно. Сколько живу… – Она оглядывается, словно некто незримо присутствующий мог бы помочь ей.
Я смещаюсь на кровати, отворачиваюсь от нее.
Она стоит какое-то время посреди комнаты, тяжко дыша.
– У тебя очень холодное сердце, Кристина Олсон, – произносит Гертруд. После чего распахивает дверь, выходит в коридор и шваркает дверью за собой. Слышу, как она топчется на площадке. А затем – тяжкие шаги вниз.
Приглушенные голоса. Гертруд разговаривает в гостиной с отцом. Со скрипом распахивается сетчатая дверь – и закрывается.
* * *
“Если даю слово – держу его”, – сказал однажды Уолтон. Его слова пусты, а вот мои – нет. Вопреки тому, что живем мы в маленьком селении и неизбежно друг на друга натыкаемся, я свое обещание Гертруд Гиббонз не нарушаю. Никогда больше с ней не заговорю.
Когда на третьем этаже через несколько часов рождается мой племянник – Джон Уильям, названный американским именем своего деда, – я уже успеваю спуститься в кладовку, отираю лицо прохладной тряпицей, укрощаю волосы щеткой из конского волоса. Возвращаю огонь в плите к жизни, выставляю на стол нарезанную индейку, консервированную фасоль и жареный яблочный пирог. Когда Сэм кладет мне в руки маленький сверток, теплый и тугой, как буханка свежего хлеба из печи, я смотрю в лицо этого ребенка. Джон Уильям. Он глядит на меня пристально, глаза темны, лоб нахмурен, словно пытается разобраться, кто я такая, и меланхолия моя рассеивается, облегчается, испаряется в воздух. К этому ребенку чувствовать можно лишь одно – любовь.
Скат
1946–1947
На выжженных солнцем и побитых снегом облицовке и кровле этого старого дома от белого – лишь следы. Обои внутри потемнели от древесного дыма, осветительного жира и табака. Иногда кажется, что мы с Алом живем в доме с привидениями – призраками наших родителей, бабушек и дедушек, всех морских капитанов, их жен и детей. Я по-прежнему держу дверь между кухней и сараем открытой – для ведьм.
Призраки и ведьмы, кругом. От этой мысли до странного уютно.
Дом в эти дни почти всегда тих. Я научилась считать тишину разновидностью звука. В конце концов мир никогда не тих совершенно, даже среди ночи. Поскрипывают кровати, воет волк, ветер шевелит деревья, море ревет и шуршит. И, конечно, есть на что глядеть. По весне я наблюдаю оленей, нос по ветру, а за ними – пятнистые оленята; летом – кролики и еноты; осенью по полю мчит лось; на декабрьском снегу пылает рыжий лис.
Часы копятся, как снег, отходят, как отлив. Мы с Алом плывем в привычных заботах. Встаем, когда хотим, ложимся, когда с неба стекает весь свет. Ни к чьим распорядкам, кроме собственных, не приноравливаемся. Таимся всю осень и зиму, сердца наши неспешны в спячке, в марте стараемся пробудиться. В июне и июле из далеких краев приезжают люди на машинах, груженных сумками и коробками, в августе и сентябре откатываются обратно. Один год тает в другом. Всякое время года такое же, как и год назад, с небольшими отличиями. Наши разговоры частенько вращаются вокруг погоды: жарче ли будет нынешнее лето, чем предыдущее, ожидать ли ранних заморозков, сколько дюймов снега насыплет к декабрю?
Эта наша жизнь может казаться жутко похожей на ожидание.
Летом я обычно встаю до восхода, растапливаю “Гленвуд”, варю кашу. (Редко удается мне проспать всю ночь на своем тюфяке: мне даже снится, что ноги сводит.) Накладываю себе, ем впотьмах, прислушиваюсь к дому, к воплям чаек снаружи. Когда в кухне появляется Ал, выдаю ему плошку каши, он садится с ней к кухонной стойке, сыплет сахар из маминой граненой сахарницы.
– Ну, похоже, пора доить, – говорит он, доев. Относит плошку в мойку в кладовке, накачивает насосом воду.
– Я помою, – иногда протестую я. – У тебя дела.
Но он всегда моет – и за собой, и за мной.
– Пустяки.
Ал отправляется в хлев, я усаживаюсь в свое старое кресло и смотрю в окно на дорогу, что ведет по одну сторону – в город, а по другую – к реке Святого Георгия и вдаль, к морю. Солнце переливается на воде, ветер режет узоры в высокой траве. В разгар утра обычно возникает Энди, исчезает наверху, появляется к обеду, уходит ближе к вечеру. Входная дверь подперта нараспашку, Тёпа и коты шляются туда-сюда в свое удовольствие. Иногда по лестнице забирается дружелюбный еж, бродит по кухне и исчезает в кладовке. Я, бывает, засыпаю и просыпаюсь от урчания, которое моему густому от сна разумению кажется рокотом далекого мотора. Лолли, заметив, что веки у меня трепещут, потягивается, тыкается мне в лицо, когти впиваются в плечо. Сую ладонь ей под грудь, сквозь теплую кожу ощущаю быструю дробь ее сердца.
Позже отправляюсь на прополку и подрезку цветника, сверкающего красками, – маки и анютины глазки, всевозможный душистый горошек, бледно-голубой, персиковый, ярко-розовый. Красная герань на подоконнике, высаженная в банки из-под кулинарного жира “Спрай” и в старые, выкрашенные в синий горшки. Ставлю в вазы белую сирень, что выросла у сарая за сто лет, и Аловы любимые розовые розы. Кошки валяются на солнце, лениво помаргивая. Не представляю, где мне еще быть, если не здесь.
А вот зимой, когда ранними утрами такая холодина, что, лежа в постели, видишь собственный выдох, когда, чтобы добраться до хлева, нужна кирка – проламывать ледяную коросту на снегу, когда ветер срезает ветви с деревьев, а небеса непроглядны, как камень, трудно вообразить, что кому-то захочется здесь жить, дай ему выбор. Прогревать этот старый дом – все равно что прогревать ловушку для омаров. Дрова в три печи нужно кидать безостановочно, иначе замерзнем. Чтобы огонь горел до весны, требуется одиннадцать кордов дров.[36] Без электричества темнота наступает рано. Прежде чем отойти ко сну, Ал набивает печи дровами, чтобы угли дотянули до рассвета. Я грею в духовке кирпичи – заворачивать в полотенца и класть под одеяло. Многие вечера мы уже в постелях к восьми вечера, глазеем в потолок каждый в своей комнате.
Натура ли наша диктует нам выбор, интересно, или же мы выбираем жить так, а не иначе, из-за обстоятельств, над которыми не властны? Вероятно, эти вопросы и не развести по отдельности, потому что, как в путанице водорослей на валуне, они растут из одного корня. Размышляю о давно ушедших Хэторнах, вознамерившихся, презрев любые доводы, оставить прошлое позади, – и о нас, их потомках, наследниках их бунтарского упрямства, выстаивающих, поколение за поколением, пока последний из нас не завершит свои дни на кладбище у кромки поля.
* * *
На открытке со штемпелем Токио – живописный вид арочного моста, ведущего к дому с изогнутой крышей. “Нидзюбаси. Главный вход в императорский дворец”, – гласит подпись по-английски, рядом с цепочкой японских иероглифов. И пусть эта открытка мало чем отличается от полудюжины прочих, которые я получила за последние несколько месяцев 1945-го, сообщение, нацарапанное на обороте, – сюрприз: “Наконец-то, тетя Кристина, я еду домой!”
У моей старинной подруги Сэди Шниц тоже есть повод для радости: ее сына Клайда ранило, но он возвращается домой лишь с поверхностным ранением плеча и шрапнелью в ногах. Эту новость она сообщает мне в слезах.
– А могло бы оказаться совсем иначе, – говорит она. – Подумать только, что пришлось пережить другим…
Двоих сыновей почтмейстерши Берты Дорсет призвали в армию, младший погиб во Франции. А племянник Гертруд Гиббонз, выросший в Рокленде и ставший летчиком-истребителем, был подбит где-то над Тихим океаном. Никогда б не подумала, глядя на солдатиков в Бостон-Коммон столько лет назад, что война другого мира поглотит и нас. Тогда и не вообразить было, сколько еще предстоит потерять.
– Могла бы хоть записочку Гертруд бросить, между прочим, – говорит Сэди мягко. – Уверена, ей это будет важно.
– Могла бы, – говорю я.
– Много времени прошло.
– Много.
Но хоть меня и жалит горестью за Гертруд, я знаю, что руки не протяну. Слишком я стара, слишком упряма. Ее навязчивая заскорузлость оказалась тем, что я не смогла – и не могу, как ни крути, – простить.
А если совсем по-честному, есть и еще кое-что. Гертруд стала олицетворением всех, кто когда-либо меня жалел, кто не пытался меня понять, кто меня бросил. Она – приют моей ожесточенности.
* * *
Из Японии до Трежер-Айленда[37] на тихоокеанском юге Джон добирается несколько недель, оттуда паромом до Сан-Франциско и дальше еще пять дней на поезде до Бостона, где он в канун Рождества 1945 года официально демобилизуется с флота. Дома появляется при полной форме в то же Рождество, вся грудь в медалях, при нем пакет пастельных карамелей под названием “Конпэйто”,[38] которые мне не приходятся по вкусу, и свежеобретенная не-олсоновская манера лезть обниматься.
Джон выше, стройнее и жестче в чертах, но по-прежнему добродушен.
– Скорей бы вытащить из сарая лодку на омаров и выбраться на воду, – говорит он. – Соскучился по этим местам.
Обживается Джон стремительно. К весне 1946 года он уже помолвлен с местной барышней по имени Марджори Джордэн.
– Ты же придешь на свадьбу, правда, тетя Кристина? – умоляет он, беря меня за руку.
Как я приду на свадьбу, если едва хожу?
– Милый мой, не нужна я тебе на твоей свадьбе.
– Еще как нужна. Ты на ней будешь, даже если мне придется тебя туда нести.
Я жестом подзываю его подойти. Не знаю, что сказать, но все равно хочу. Я тронута, что он желает меня видеть на свадьбе.
– Рада, что ты уцелел, – говорю, когда он присаживается рядом.
Смеясь, целует меня в щеку.
– Я тоже рад. Так ты придешь?
– Приду.
Услышав от меня эти новости, Сэди хлопает в ладоши.
– Вот так радость! Так, нам надо подобрать тебе платье. Свожу тебя в Рокленд.
– Не магазинное. Я сама себе сошью.
Она смотрит на меня с сомнением.
– Ты когда шила последний раз?
– Давненько. – Вытягиваю узловатые руки ладонями вверх. – Знаю, смотрятся жутко, но работают как надо.
Вздохнув, Сэди говорит:
– Раз ты настаиваешь, добуду тебе ткань.
Наутро Сэди помогает мне устроиться в кремово-белом седане “паккард” и везет меня в “Сентер Крэйн” в Рокленд. По дороге начинаю тревожиться. Как она введет меня внутрь? Поставив машину на стоянку, Сэди склоняется ко мне, гладит по коленке. Словно читая мои мысли, говорит:
– Давай я схожу и принесу тебе образцы? Тебе какие?
Я делаю вдох, который, оказывается, удерживала.
– Так, наверное, лучше всего. Может, шелк в цветочек?
– Будет сделано.
Я наблюдаю, как она влетает во вращающиеся двери. Через десять минут выкручивается обратно – с выкройкой платья и тремя квадратиками ткани.
– Никакого шелка, спасибо нормированию, – говорит она. – Но я нашла кое-какую приличную замену. – Вручает мне квадратики: небесно-голубую кисею в горошек, вискозу в цветочек и светло-розовое сукно в рубчик. Выбираю, конечно, розовое.
Дома в гостиной раскладываю ткань на столе, изучаю картинку на обложке выкройки: тощая изящная женщина, совершенно непохожая на меня, в платье с лифом в обтяжку и с длинной юбкой клиньями. Вытаскиваю хлипкую, сложенную несколько раз выкройку из конверта, размещаю на ткани, извлекаю подушечку с булавками из корзины с шитьем и пытаюсь приколоть детали. Ошарашенно понимаю, что пальцы у меня жутко трясутся. И лишь кропотливым старанием удается мне приколоть часть выкройки. Вгрызаюсь в ткань тяжелыми серебряными ножницами, но линия выходит иззубренная. Открыв швейную машинку, сижу над ней несколько минут, оглаживаю ее изгибы, трогаю пальцем все еще острую иголку.
Ни с того ни с сего боюсь. Боюсь, что испорчу платье.
Возвращаюсь в кресло. Дело не только в платье или в моих увечных руках – дело во всем сразу. Боюсь за свое будущее – будущее неизбежной немощи. Все большей зависимости от окружающих. Остатка дней своих в этом разрушенном доме-ракушке.
Через несколько дней заглянувшая в гости Сэди пробегает пальцами по неровной линии булавок. Оглядывает драные резы.
– Лиха беда начало, – говорит она мягко. – Может, отнести это Кэтрин Бейли в бухту Кленового сока, пусть доделает? – В глаза мне она не смотрит: очевидно, не желает меня смущать. Киваю, она выговаривает: – Вот и ладно, – бережно сворачивает выкройку с тканью, забирает катушки розовых ниток и инструкцию. Развернув желтый гибкий метр, добытый из швейного ларца, обхватывает им мою талию, бедра, грудь, записывает цифры на клочке бумаги, складывает это все к себе в сумку.
* * *
Через несколько недель я сижу в кухне, облаченная в новое платье, собираюсь отбыть на свадьбу, и тут в дверях появляется Энди – как обычно, без приглашения.
Замерев на пороге, произносит:
– Боже, Кристина. – Широким шагом подходит ко мне, проводит рукой по рукаву, шепчет себе: – Ослепительно. Как потускневший панцирь омара.
1922–1938
Теперь в летние поры я добираюсь до Грейндж-холла в Кушинге почти каждую пятницу, но не раскачиваюсь под музыку и не болтаю с подружками, пока они проталкиваются то на танцпол, то с него, неутомимо балагуря и смеясь, – те, кто посмелее, курят снаружи сигареты и прикладываются к фляжкам, – мне теперь полагается подавать фруктовый пунш, нарезать фунтовые кексы и раскладывать паточное печенье. Я подбираю испачканные салфетки и мою грязные стаканы в мойке за перегородкой. Большинство женщин, выполняющих эту роль, старше меня и замужем. И лишь некоторые – моего возраста: не выбранные, бездетные.
Я к этому не привыкла. Не уверена, что привыкну когда-нибудь. Поначалу еще приношу с собой в сумке парадные туфли, как всегда бывало, и надеваю их сразу, как приду. Но однажды вечером в зале оказывается особенно жарко, я удаляюсь от буфетного стола, выхожу наружу, скатываю с себя чулки, стаскиваю их и надеваю свои прогулочные туфли на плоской подошве. Какая разница?
Сырая августовская пятница, иду в Грейндж-холл с Фредом и его невестой Лорой, на мне белое платье, которое я закончила шить за несколько часов до этого, по новой макколловской выкройке,[39] поскальзываюсь и падаю в колею на дороге. Выставляю руки, чтобы смягчить падение, но ненадежны они, мой вес не держат. Тяжко падаю в грязь и щебень, рву рукава, царапаю подбородок.
– Ой! – восклицает Фред, бросаясь ко мне. – Все хорошо?
С подбородка у меня капает кровь, запястья дергает, я лежу лицом вниз в мокром, замаранном платье, на которое потратила не одну неделю. Юбка сбилась в комок у меня на бедрах, увечные ноги и панталоны – у всех на виду. Медленно подымаясь на локтях, оглядываю порванный лиф. Внезапно я изнурена всем этим – постоянной угрозой унижения и боли, страхом, что моя слабость заметна, попытками вести себя, будто я нормальная, а это не так; меня накрывает рыданием. Нет, не хорошо – вот что хочу я сказать. Я испачкана, унижена, пристыжена. Я бремя, я срам.
– Встать сможешь? – по-доброму спрашивает Лора, встав надо мной. Садится на корточки. – Позволь помочь.
Я отворачиваю лицо.
– На перелом не похоже, – бормочет Фред, пробегая знающими фермерскими руками мне по запястьям и щиколоткам. – Но синяки и отеки будут, боюсь. Бедняга. – Велит мне посгибать руки, а это непросто, даже когда мне не больно. Лицо мне перекашивает, и Фред говорит: – Возможно, сильный вывих. Хорошего совсем ничего, но могло быть и хуже.
Лора ждет со мной, пока Фред бегает домой за машиной. Дома они заносят меня внутрь и наверх, ко мне в комнату, где Лора снимает с крючка на двери мою ночную сорочку и деликатно помогает мне переодеться, Фред осторожно моет мне лицо и руки. Когда они закрывают за собой дверь, я закапываюсь в одеяла и отворачиваюсь к стене.
Как я, дева из чудной сказки, так скоро превратилась в несчастную старую деву? Это произошло почти без моего осознания – я стала вековухой. Маммея говорила, что в ее времена женщину, не успевшую выйти замуж до тридцати, именовали скатом – в честь плоской, шипастой, доисторического вида рыбы. Так звали Бриджет Бишоп, сказала Маммея. Скат. Вот чем я стала.
* * *
Когда мамино здоровье становится до того шатким, что им с папой нужны раздельные спальни, я предлагаю ей свою. Мама мучается: беды с почками все хуже, ноги набрякают от жидкости. Она теперь спит сидя в кресле в гостиной. Я переезжаю вниз, где постель мне – тюфяк на полу в гостиной, скатываю его по утрам и убираю в чулан. Все не так плохо: я ближе к кухне и уборной, втайне радуюсь, что не нужно преодолевать лестницы.
По утрам готовлю дневную трапезу и ношу ее через узкую кладовку к круглому дубовому столу в гостиной – для нас с папой и Алом, собираю отдельную тарелку, чтобы Ал отнес ее маме наверх. Жареная или вареная картошка, зеленая фасоль, жареная курица, индейка или свинина, жаркое с бараниной, морковью, луком и картошкой. Раз в несколько дней пеку дрожжевой хлеб. Смотрю, как подымается тесто, сбиваю его, смотрю, как оно всходит вновь. Летом и осенью заготовляю ягоды, которые Ал снимает с кустов, и клубнику, выращенную им в саду, для варений и джемов, тортов и пирогов.
Дни мы размечаем необходимыми хлопотами – как это устроено в любой фермерской семье. Ал кормит кур, лошадей и свиней, колет осенью дрова, забивает свинью, когда холодает, зимой режет лед. Я собираю яйца из-под несушек, Ал возит меня в город продавать их. Посадки планирует так, чтобы к Четвертому июля у нас была молодая фасоль, а к сентябрю – целое поле кукурузы. Чайки бросаются на пиршество, разворовывают урожай, Ал убивает нескольких и вешает на столбы – в назидание остальным. В сенокос посреди лета я наблюдаю за Алом из окна в гостиной: на нем кепка с козырьком, вместе с шестью нанятыми работниками они косят траву, шагая в ряд, скирдуют свежескошенное сено вилами. Втаскивают сено в хлев, а там на талях поднимают его на сеновал. Ласточки, спугнутые с гнезд, шныряют туда и сюда.
Поздним июлем-августом, в сезон голубики, Ал тяжелой стальной щеткой счищает мелкие темные ягоды с низких кустиков. Это изнурительная работа – склоняться над этой порослью под жарким солнцем, сбрасывать ягоды в деревянный ящик, а потом их еще предстоит перебрать и взвесить, и все лето загривок у него обожжен и шелушится, костяшки ободраны, в шрамах, вечно ноет поясница.
Помимо гуляний в Грейндж-холле, кружка шитья, куда я время от времени наведываюсь, да нечастых визитов Сэди, с людьми общаюсь немного. Большинство моих старых подруг и знакомых заняты новообретенными мужьями и новыми жизнями. Так или иначе с большинством девушек, с которыми я ходила в школу, у меня мало общего – они замужем, у них дети. Мне понятно, когда мы собираемся вместе, что о своих мужьях и беременностях они говорят робея. Но эта разница лишь подчеркивает то, что всегда было правдой. Никогда не разделяла я ни их легкость движений, ни смешливость. Мой ум – уж какой есть – всегда был ехиднее, инороднее, его труднее раскусить.
Иногда я перелистываю маленький синий томик стихотворений Эмили Дикинсон, что сунула мне в руки моя учительница миссис Краули. Помню ее слова, когда я уходила из школы: “Твой ум будет тебе утешеньем”.
Так и есть – иногда. А иногда – нет.
О стихах мне поговорить не с кем, и потому в их смыслах я пытаюсь разобраться сама. Мучительно это – что нельзя обсудить их хоть с кем-нибудь, но и до странного освобождает. Строки могут означать, что мне угодно.
Юродство высший Смысл — На искушенный Глаз — Ум – голое Юродство — В нем Большинство, Как и везде, царит, Смирись – и ты умен — Восстань – и ты опасен — Цепями усмирен —Представляю Эмили Дикинсон, как она сидит у себя за столиком, спиной к миру. Наверняка всем, кто был в ее поле зрения, она казалась странной. Немножко не в себе. Даже, быть может, опасной – с ее-то заявлениями, что сумасшедшие – как раз те, кто ведет обыденную жизнь.
Интересно, что это за цепи, которыми ее усмиряли. Интересно, не те же ли это цепи, что и у меня.
* * *
Мои кошки, как и полагается кошкам, приносят котят. Ал возит их в город целыми коробками и раздает, сколько удается, но скоро я уже кормлю дюжину. Они кишат под ногами, мяукают, прыгают, а иногда и шипят друг на дружку. Ал ворчит, сгребает их со стола раскрытой ладонью, пинает, когда вьются у его ног, бурчит, что решит этот вопрос мешком с камнями, в пруду.
– Слишком их много, Кристи, надо избавляться.
– Да? И что потом, я буду толковать с пустым домом?
Он прикусывает губу и убирается в хлев.
* * *
Однажды поздно вечером я лежу на своем тюфяке в темноте гостиной и тут слышу наверху какую-то возню, прямо надо мной. Мамина спальня. Быстро сажусь, нащупываю свечу и спичку, выбираюсь в коридор.
– Мама? – выкликаю я. – Все в порядке?
Нет ответа.
Ал с Сэмом дуются где-то в карты. Папа крепко спит у себя в комнате. (Без толку будить его: он немощнее меня.) Наверху я не была много месяцев, но знаю, что добраться туда надо. Втаскиваю себя по лестнице, как могу, быстро, на локтях, от натуги шею мочит пот. Наверху я подымаюсь на ноги и ощупью бреду к материной двери, толкаю ее. В лунном свете вижу, что мама – на полу на коленях, возится с одеялом вроде как в панике, пытается влезть обратно на кровать, ночная сорочка скомкалась на бедрах.
Оборачивается, смотрит на меня растерянно.
– Я здесь, мама. – Спотыкаясь впотьмах, падаю на пол рядом с ней. Пытаюсь помочь ей руками, локтями, даже плечами, но ее вес – куль муки, а я никак не найду опоры.
Она принимается плакать.
– Я на кровать хочу.
– Я знаю, – отзываюсь в отчаянии. Чувствую себя беспомощной и злой: на себя – что такая чахлая, на Ала – что ушел. Через несколько минут мамин плач перерастает в поскуливание, она укладывает голову мне на колени. Я одергиваю на ней ночнушку, прикрываю ей ноги, глажу по волосам.
Чуть погодя – минут через пятнадцать? через полчаса? – внизу открывается входная дверь.
– Ал! – кричу я.
– Кристи? Ты где?
– Наверху.
По лестнице грохочут шаги, распахивается дверь. Вижу в глазах у Ала растерянность: он смотрит на маму, лежащую на полу – ее голова на моих коленях, – потом на меня.
– Что происходит?
– Она упала с кровати, я не смогла ее поднять.
– Боже милостивый. – Ал бережно втаскивает маму на матрас, накрывает ее одеялом, целует в лоб.
После того как он отводит меня вниз по лестнице и укладывает на тюфяк в гостиной, я говорю:
– Ужасно это. Нельзя тебе бросать меня с ней.
– Тут папа.
– Ты же знаешь, что он не помощник.
Ал мгновение молчит. А затем произносит:
– Мне нужна своя жизнь, Кристи. Немногого же хочу.
– Она могла умереть.
– Ну, не умерла.
– Мне было трудно.
– Я знаю. – Вздыхает. – Я знаю.
* * *
Несколько месяцев спустя, примерно через неделю после Дня благодарения, я просыпаюсь, как обычно, спозаранку – развести огонь в кухне и приняться за выпечку хлеба. Половицы у меня над головой скрипят привычно – Ал встает, одевается, идет в комнату к папе проверить, как он, приглушенные голоса: папин низкий бас, Алов тенор, повыше. Высыпаю муку в глиняную плошку, добавляю щепоть соли, руки заняты делом, голова вольна размечать грядущий день: маринованная свекла и свиная нарезка, разогретые в духовке, – на обед; имбирное печенье, если времени хватит, гора штопки… Добавляю дрожжей, немножко патоки, теплую воду из кастрюли на плите, начинаю мять, месить тесто.
Наверху Ал стучит в мамину дверь – или, может, мне лишь кажется, что я это слышу, уж так привыкла к этому распорядку. И тут действительно до меня долетает:
– Мама. – По полу скрежещет мебель.
Чую еще до того, как узнаю́. Взглядываю наверх, руки в тесте.
Ал грохочет вниз по лестнице. Возникает, пыхтя, в кухне.
– Не стало ее, да? – шепчу я.
Кивает.
Оседаю на колени.
На следующий день Лора привозит траурный венок – повесить на входную дверь. Круглый, черный, с длинными лентами и искусственными цветами посередке. Мама бы такой не снесла. Ей не нравились искусственные цветы – мне они тоже не нравятся.
– Чтобы показать общине, что дом в трауре, – говорит Лора, увидев, как я скривилась.
– Подозреваю, они и так это знают, – выговариваю я.
Всю ночь ветер дует с такой силой, что сметает весь снег в море. Соседи слетаются к дому, как воронье, по двое, по трое, плещут черные платки и пальто. Стучат в переднюю дверь, вешают пальто на крючки в прихожей, тянутся мимо маминого тела в Ракушечную. Женщины суетятся на кухне. Знают, что в таких обстоятельствах делать, – в точности то же, что и всегда. Вот Лиса Дубнофф разворачивает кекс с пряностями. Мэри-Вайолет Верзалино режет индейку. Аннабелл Уайнстин моет посуду. Мужчины, сунув руки в карманы, толкуют о ценах на омара, щурятся на горизонт. Я наблюдаю в кухонное окно, как кое-кто курит сигареты и трубки у нас во дворе, притоптывает ногами, сутулится, они передают друг другу флягу.
Соседи источают жалость – так бак с холодной водой потеет в жару. Малейший вопрос нагружен несказанным. “Тревожусь за вас…”, “жалею вас…”, “как я рад, что не на вашем месте…”. Женщины в кухне прекращают разговаривать, стоит мне появиться, но я слышу их шепотки: “Боже помоги ей, что Кристине делать без матери?” Хочется сказать им, что моя мать, вообще-то, уже давным-давно не здесь; уж разберусь как-нибудь. Но такое никак не скажешь, не нагрубив, а потому я помалкиваю.
Ближе к вечеру третьего дня мы собираемся у маминой могилы на семейном погосте, исхлестанные ветром, под небом желто-серым, как сало. Преподобный Картер из кушингской баптистской церкви открывает Библию, откашливается. Когда живешь на ферме, говорит он, осознаешь особенно остро, что все созданья Божьи рождаются голыми и сирыми. И дано им лишь краткое время на земле. Голодным, холодным, гонимым, хворым, разобщенным. Всяк из нас переживает минуты сомнения, отчаяния – и чувства, что обременен несправедливо. Но можно обрести утешение, предавшись Господу и приняв его благословение. Нам лишь остается ценить чудеса зеленой земли Божьей, стараться избегать скорбей и полагаться на Бога.
Эта проповедь подытоживает мамину жизнь, возможно даже слишком точно, хотя общее настроение почти не улучшает.
Прежде чем уйти с кладбища, Мэри поет мамин любимый гимн:
С ликованьем приду пред Его я Лицо, Самоцветы живые отдать; Будет благостно мне в Его граде златом, Коль зажжется в венце мне звезда.Милый голос Мэри взлетает и плывет по воздуху, а к концу песни почти все мы плачем. Я тоже, хотя все еще не понимаю, что́ эти звезды означают. Видимо, заблуждение – думать, что они означают хоть что-то.
* * *
Однажды утром в июле сижу в кресле на кухне, как обычно, и тут – стук в окно. На меня смотрит тощая девчонка с прямыми каштановыми волосами и громадными карими глазами. Боковая дверь, как всегда летом, открыта. Киваю, девочка перешагивает порог и осторожно заходит внутрь.
– Да?
– Надеюсь, не очень нагло с моей стороны попросить стакан воды. – На девочке белое платье-рубашка, ноги босы. Осмотрительна, но явно не боится, словно привыкла заходить в дома к чужим людям.
– Пожалуйста, – говорю, показываю на ручной насос в кладовке. Девочка бочком минует кухню и исчезает за углом. До меня доносится скрежет тяжелой железной ручки, что ходит вверх-вниз, бульканье воды.
– Можно мне чашку взять? – громко спрашивает она.
– Конечно.
Она выворачивает из-за угла, шумно пьет из щербатой белой кружки.
– Другое дело, – говорит она, ставя кружку на стойку. – Я Бетси. Живу дальше по дороге с двоюродными, на лето. А вы, наверное, Кристина.
Как не улыбнуться такой прямоте.
– А ты откуда знаешь?
– Мне говорили, в этом доме живет только одна женщина, и звать ее Кристиной, вот я и решила.
Лолли, вьющаяся у моих ног, запрыгивает мне на колени. Девочка гладит ее под подбородком, пока Лолли не принимается урчать, а затем оглядывает прочих котов, болтающихся по кухне. Время их завтрака.
– У вас и впрямь полно кошек.
– Верно.
– Кошки любят людей только за то, что те их кормят.
– Неправда. – Лолли укладывается, выставляет брюхо – чтоб почесали. – У тебя, наверное, нет кошки.
– Нет.
– А собаки?
Кивает.
– Его зовут Веснушка.
– А моего – Тёпа.
– Где он?
– Наверное, в поле с моим братом Алом. Кошек он недолюбливает.
– Собака или ваш брат?
Смеюсь.
– Оба, наверное.
– Ну, неудивительно. Мальчишки не любят котов.
– Некоторые любят.
– Мало кто.
– Ты, похоже, страсть как уверена в своем мнении, – замечаю я.
– Ну, я много думаю о разном, – говорит она. – Надеюсь, вы не обидитесь, если я спрошу, что с вами такое?
Я всю жизнь ощетиниваюсь от этого вопроса. Но девчонке, похоже, совершенно искренне любопытно, и я не могу не ответить.
– Врачи не знают.
– Когда я родилась, у меня кости были вроде как кривые, – говорит она. – Пришлось всякие разные упражнения делать, чтобы выздороветь. Я все еще кособокая немножко, видите? Дети надо мной смеются. – Пожимает плечами. – Ну, вы понимаете.
Жму плечами в ответ. Понимаю.
Девочка вскидывает подбородок на гору, скопившуюся на стойке.
– Ух ты какая куча немытой посуды. Вам помощь не помешает. – Отправляется к стойке, складывает тарелки в стопку и уносит их к чугунной мойке в кладовке.
А затем, к моему удивлению, моет.
* * *
Когда папа в 1935 году умирает в свои семьдесят два, он уже так хвор и несчастлив и тянется это так долго, что его смерть – облегчение. Не один десяток лет я изо всех сил старалась заботиться о человеке, который не дал мне учиться после двенадцати лет, профукал семейное состояние на, как выяснилось, мошенников, ожидал, что его единственная дочь – с немощью столь же изнурительной, как и его собственная, – управится с хозяйством, и ни разу не поблагодарил меня. Я кормила его, убирала за ним, стирала его испакощенную одежду, вдыхала его кислый дух, но видел он лишь свои неудобства.
Приходится напоминать себе, что когда-то я считала этого человека добрым, справедливым и сильным.
Когда братья и их жены прибывают в дом, мы принимаемся за привычные скорбные церемонии – подаем пироги и чай, режем ветчину, принимаем соболезнования, поем гимны. Тело в Ракушечной, похороны на семейном кладбище. Стоя у отцовой могилы, я думаю о том, каким он был под конец, несчастным в этом своем инвалидном кресле в гостиной, с куском антрацита в кулаке, как смотрел в окно на море. Не знаю, о чем он тосковал, но догадаться могу. О бодрой юности. О способности стоять и ходить. Об отчем доме в родной земле, куда он так и не вернулся. О ясном сознании своей принадлежности – кому и почему. Жалел ли он о расчетах и просчетах, какие сделал, что открыли ему мир, но потом сузили его до вот этой точки на земле?
Хотя прожила с этим человеком всю свою жизнь, толком я его так и не узнала. Он сам был словно заледенелый залив, думаю, – ледяная корка, во много слоев, над бурливой водой.
* * *
После ухода всех скорбящих я ошарашена пустотой этого дома, тремя этажами спален. Всеми этими ничейными комнатами. Сэм с Фредом завели свои семейные фермы и вместе занялись делом, заготовляют лес и сено. Остаемся мы с Алом – и инвалидное кресло, собирающее пыль в Ракушечной.
– Пользуйся, если хочешь, – говорит Ал. – Оно все еще на ходу.
Я смотрю на мерзкое приспособление, на его продавленное запятнанное сиденье и ржавые колеса.
– На дух это кресло не выношу. Глаза б мои на него не глядели.
Ал вытаращивается на меня. Кажется, я впервые произношу это вслух. Он замирает на миг, посасывая трубку. А затем подходит к плите, вытряхивает из трубки пепел и говорит:
– Ладно. Давай тогда уберем его.
Смотрю, как Ал выволакивает кресло за дверь, вниз по ступенькам, и там оно кренится набок и падает. Ал уходит в хлев, возвращается через несколько минут с Тесси, впряженной в небольшую телегу. Брат тянет лошадь за уздцы, подгоняет ее к креслу, закидывает его в телегу, а затем машет мне кепкой, улыбается и уводит упряжку к бухте.
Примерно через полчаса вижу Ала в окно, он бредет с Тесси обратно через поле. Телега пуста.
– Ты что с ним сделал? – спрашиваю я, когда Ал появляется в кухне.
Он усаживается в свое кресло, снимает кепку, кладет ее на лавку перед собой. Возится с пиджаком, вытаскивает старую бурую трубку и кисет с табаком. Извлекает из брючного кармана спички. Берет щепоть табака, закладывает его в трубку, приминает пальцем. Добавляет еще, опять прижимает. Сует трубку в рот, раскуривает, прикрыв ладонью. Трясет спичкой. Усаживается, втягивает дым, выдувает.
Торопить его не стоит. Да и вообще – времени у нас хоть отбавляй.
– Помнишь валун у Тайного туннеля? И обрыв под ним? – произносит он чуть погодя.
Киваю.
Посасывает трубку. Вынимает изо рта, выдувает струйку дыма.
– Закатил я кресло на макушку того валуна, да и спихнул его.
– Долой, – говорю я. – Туда ему и дорога.
– Туда ему и дорога, – повторяет он за мной.
До конца своих дней я буду представлять себе, как валяется то кресло, разбитое и заржавленное, в соленой воде у Тайного туннеля, там, где однажды открылся мне мир волшебства, возможностей, но с годами то место стало значить другое. Там Уолтон плел свои липовые обещания. Тропа предвкушения, оканчивающаяся грудой камней. Хранилище моих разбитых грез, сокровище, исчезающее, стоит только к нему потянуться.
Инвалидное кресло, золотая обманка, – в тех же глубинах.
* * *
Сэди стоит посреди кухни – занесла приготовленную курятину – и говорит:
– Правду ли болтают? Слыхала я, что Ал глаз положил на новую учительницу в Уинге?
У меня щиплет кожу.
– Ты что такое говоришь?
– Энджи Треворджи, так ее зовут, кажется. Она снимает у Гертруд Гиббонз.
Снимает у… Гертруд Гиббонз.
– Ничего об этом не слышала.
– Он какой-нибудь везучей девице отличным мужем станет, как считаешь?
– Нет, не считаю, – говорю я насупленно.
Ал уже какое-то время уезжает по вечерам три-четыре раза в неделю – обычно играть в карты у Фэйлза. Знает, что я не люблю оставаться вечерами одна, а все равно уезжает. По субботам частенько мотается в Томастон, там магазины и бары открыты до девяти. Ну или во всяком случае так он мне говорит. А теперь я вот думаю, не к Гертруд ли Гиббонз он ходит.
Об учительнице не заикаюсь, но несколько дней играю с Алом в молчанку. Он не спрашивает, почему.
Далее никаких вестей ни о какой женщине не долетает, пока через несколько недель Ал походя не заявляет, что собирается помочь какому-то человеку, что живет со своей дочерью дальше по дороге, у Хэторн-Пойнта.
– Им бы дров запасти, – говорит он. – Сказал ему, что нарублю для них на этой неделе.
– Сколько лет дочери? – спрашиваю я.
– Что?
– Ты слышал.
– А тебе зачем?
– Да просто интересно.
Он косится на меня, чешет в затылке.
– Лет ей довольно, чтоб спрашивать о возрасте было грубостью.
– Твоих лет, значит?
Он переминается с ноги на ногу.
– Ну, нет.
– Ей хоть за сорок?
– Я бы не сказал.
– Замужем?
Тяжко вздохнув, отвечает:
– Разведена, кажется.
– Ясно.
Через несколько дней спрашиваю у Сэди:
– Кто эта разведенка с Хэторн-Пойнта?
– Ты про Эстелл Бартлетт?
Пожимаю плечами.
– С отцом живет?
– Да, эта.
Сэди склоняется ко мне.
– Болтают, она замуж ходила трижды, и каждый раз за кого постарше да побогаче. Кто знает, может и сплетни. Но у нее и впрямь вроде как все в порядке. Купила отцу новенький “понтиак”. А что?
– Ал помогает ее отцу по хозяйству.
Глаза у Сэди вспыхивают.
– Она красотка. Волнистые каштановые волосы. Вот же бес-то братец твой! Молодчина.
Ал живет как ни в чем не бывало. И по дому все делает, и в хлеву. Но в эти дни все больше появляется и исчезает, как ему заблагорассудится.
Солнечное Четвертое июля, день ежегодного пикника на берегу рядом с островом Малый. Им ведает моя невестка Мэри – это она заготовила морковь и наделала пирогов с диким ревенем, Лора пожарила курицу и напекла дрожжевых пышек. Невестки собрали пледы, капоры, приборы, тарелки и сложили их в корзины – для доставки на пляж. Мне в этом году поручено лишь мелкое печенье, а его я могу печь, не приходя в сознание. Принимаюсь рано поутру. Когда незадолго до полудня все начинают собираться, пять дюжин печений уже стынет на противнях в кладовке. Времени снять фартук мне хватило – вечно я его пачкаю (то мука просыплется, то жиром мазну), и вот уж к их приходу я сижу в кухне.
– Хорошо выглядишь, моя дорогая! – говорит Лора.
– Правда, а? – говорит Мэри.
Я знаю, они по-доброму, но от их щебетанья кажется, будто мне сто лет.
Пока Лора пакует печенье, Мэри устраивает меня в машине. Едем к заросшему травой месту над водой, где они ставят для меня кресло – подальше от коварных скал. Стайка детей, моих племянниц и племянников и их друзей, – уже на пляже, скачут по камням в глубине пролива, соревнуются, кто пробежит дальше, кто прыгнет шире, голоса их летают, смешиваются с воплями чаек.
Мой четырнадцатилетний племянник Джон, старший в этой ватаге, выбирается с пляжа и подсаживается ненадолго ко мне. Наблюдаем, как остальные играют в траве – в “Цепи-цепи кованы”, “Замри-отомри”, в гигантские шаги и в прятки. Забираются на сосны и смотрят на маленькие острова, как когда-то мы с Алом, – моряки на мачте корабля, поля под ними – желтый океан. Взрослые валяются на пледах, помешивают костер, разливают фруктовый пунш, щурятся на нас, машут, улыбаются. Нет только Ала.
Чуть погодя я слышу знакомое тарахтенье мотора старого “форда” рядом с нашим домом. Мотор глохнет. Разворачиваюсь и вижу, как из машины вылезает Ал, обходит машину, открывает пассажирскую дверцу. Появляется стройная улыбчивая женщина в светло-каштановых мелких кудрях.
Эстелл – наверняка. Внутри у меня ёкает. Он ни слова мне не говорил о том, что собирается ее привезти.
– Ты глянь, – говорит Джон. – У Ала девушка.
И вот уж они идут по тропе, Ал впереди, застенчиво улыбаясь, в белоснежной рубашке, какую я прежде не видела, девушка – следом, в синем платье, шаг уверенный, смеется, на щеках ямочки, помахивает корзиной в одной руке и соломенной шляпкой – в другой. Хочу удрать, но не могу. Поймана, как лис в капкан, суечусь, перепугана, застряла.
– Прекрасный денек, правда? – говорит Ал. Словно мы с ним приятели и наткнулись друг на друга в скобяной лавке.
– Еще какой, – говорит Джон.
Я не свожу с Ала взгляда, молчу.
Шею ему заливает краской. Он откашливается.
– Кристина, это Эстелл. Кажется, я говорил тебе, что делаю то-сё для ее отца.
– У нас в доме тоже есть работа, – говорю я.
Улыбка у Эстелл меркнет.
– Пошли вниз, поздороваемся с остальными? – говорит ей Ал.
Она смотрит на него и кивает нам с Джоном.
– Приятно познакомиться, – произносит тихонечко.
– Взаимно, – откликается Джон.
Они уходят, петляя между камнями.
Джон хрустит костяшками.
– Ну, пойду-ка я прихвачу еще кусок пирога с ревенем.
Киваю.
– Все хорошо, тетя Кристина?
– Да, хорошо.
– Принести тебе что-нибудь?
– Нет, спасибо.
Джон уходит к биваку, я наблюдаю за Алом и Эстелл, они улыбаются, болтают, показывают пальцем на яхту, принимают тарелки с едой. А я сижу над ними, накаленная, как горячий уголь.
Лора взбирается посидеть со мной, следом – мой брат Фред, приносят подношения снизу: початок кукурузы, все еще теплый в обугленных зеленых патлах, плошку мидий, кусок голубичного пирога. Качаю головой. Нет. Не буду есть. Их голоса фальшиво бодры, они шумно радуются синему небу, стеклянистой воде, вкуснейшему печенью, чудесному платью.
На этом самом берегу я сидела с Уолтоном – сколько лет назад? Я знаю, о чем все думают. “Бедная Кристина”. “Вечно брошенная”.
Чувствую, как задраиваюсь, обношу себя стенами.
Сэм поднимается ко мне, усаживается рядом с моим креслом.
– Ты чего? – спрашивает он, похлопывая меня по колену.
Я смотрю на его руку у себя на ноге, перевожу взгляд на него самого. Он убирает руку.
– Ничего, – говорю я.
Вздыхает.
– Зря ты так, Кристина.
– Не понимаю, о чем ты.
– Ты портишь этот пикник.
– Вовсе нет.
– Вовсе да – и сама это понимаешь. Из-за тебя Алу очень грустно.
– Если он собирается притащить эту… златоискательницу… – выпаливаю я.
Сэм кладет ладонь поверх моей.
– Перестань. Прежде чем скажешь что-то, о чем пожалеешь.
– Это он пожалеет…
– Так, – говорит он резко. – Ты разве не считаешь, что Ал заслужил счастье?
– Я думала, Ал счастлив.
Сэм усаживается на пятки.
– Слушай, Кристина, ты знаешь, что Ал всегда был с тобой. И всегда будет. Попрекать его этими отношениями – вроде как… ну… недобро.
– Ничем я его не попрекаю. Я сомневаюсь в его здравомыслии.
Сэм сидит со мной еще минутку, и я знаю, что ему хочется сказать больше. Слова вертятся у него на языке. Догадываюсь, какие. Но он, похоже, передумывает. Вновь похлопывает меня по коленке, встает, возвращается к остальным.
Через несколько минут Ал с Эстелл взбираются по берегу и бредут к “форду”, отворачиваются, проходя мимо меня. Даже дети, кажется, осторожничают, обходят меня большим кругом, играя в траве. Уже через час Лора с Мэри собирают пледы, убирают еду в корзины. Когда уводят меня и помогают сесть в машину, говорят мало, лица угрюмы.
Мэри и Лора обустраивают меня в моем кресле в кухне, возвращаются к машине за остатками еды в фольге:
– На несколько дней хватит, – говорит Мэри. Бережно убрав блюда на ледник под половицами, натужно улыбается мне. – Порядок?
– Да.
– Что ж. Счастливого Четвертого.
– Счастливого Четвертого, – повторяет Лора.
Киваю. Никто из нас, похоже, не счастлив.
После их ухода беру на руки Лолли. Замечаю, что герани в синем горшке увяли, у горшка сбоку трещина. Огонь в плите угас. Воздух влажен, дело к дождю. И вдруг на меня накатывает странное чувство, будто я наблюдаю за собой сверху, смотрю на место, где просидела едва ли не все дни напролет последние тридцать лет. Герань, треснутый горшок, кошка у меня на коленях, огонь, который нужно питать, дождь на горизонте, дорога, что ведет к реке Святого Георгия и вдаль, до самого моря.
Не знаю, сколько времени проходит, пока до меня не доносится рокот машины Ала. Открывается, скрипнув, дверь, захлопывается. Шаги к крыльцу кухни, скрип сетчатой двери.
Завидев меня, он вздрагивает.
– Не знал, что ты здесь.
– Угу.
– Темно.
– Мне все равно.
– Хочешь, зажгу лампу.
– Не важно.
Вздыхает.
– Ну хорошо. Я тогда пойду спать. – Вешает кепку на крюк у двери, собирается уйти.
– Она была замужем трижды, – говорю я. Сердце колотится.
– Что?
– Ты знал?
Он резко вдыхает.
– По-моему…
– Ты знал об этом, Ал?
– Да, конечно, знал.
– И, слыхала я, она… с амбициями.
– А это еще что значит?
– У нее спорные мотивы. Так мне сказали.
Он морщится.
– Кто тебе сказал?
– Не имею права выдать. – Знаю, что раню его, но мне все равно. Мне нравится резкость слов. Каждое – кинжал. Хочу ранить его за то, что он ранит меня.
– Какие такие “мотивы” могут быть у Эстелл? – спрашивает он тихо, уперев руки в боки. – Мне нечего ей предложить. Кроме себя самого.
– Она, может, этот дом хочет.
– Да не хочет она этот дом! – рявкает он. – Никто его не хочет. Уж я-то сам – точно.
Меня словно бьют по лицу.
– Ты так не считаешь. На нас ответственность. Наша семья… Хэторны. Мама…
– Мама умерла. К черту Хэторнов. И, черт бы драл, надо было продать этот дом, когда была возможность. Он стал тюрьмой, ты не понимаешь, что ли? Мы – узники. Или, может, ты узник, а я – сторож. Не могу я так больше, Кристина. Я жить хочу. Жить. – Он бьет себя в грудь – гулкий стук. – Там, в мире. – Он машет рукой в окно.
Вряд ли я хоть раз слышала, как он выстраивает столько слов подряд за раз. Задерживаю дыхание. А затем говорю:
– Я не подозревала, что тебе вот так.
– Раньше не было. Но теперь я понимаю… понимаю, что многое могло бы быть для меня по-другому. Знаешь же, как это, правда?
Ал никогда не говорил со мной так прямо. Похоже, я решила, что он не чувствует все так же глубоко, как я, но, очевидно, ошибалась.
– То давно было. Тут другое дело.
– Почему? Потому что не с тобой?
Я содрогаюсь.
– Нет, – рявкаю. – Потому что мы старше. И место нам тут.
– Нет, не тут. Мы просто здесь оказались.
Голос у него срывается. Кажется, он может заплакать. Я тоже плачу.
– А как же я? Я всю свою жизнь готовила, стирала и убирала за этой семьей. А ты теперь… просто выкинешь меня на помойку, как мусор?
– Перестань, – говорит он. – Конечно, нет. Ты всегда можешь быть со мной, где бы ни было, сама знаешь.
– Не надо мне благотворительности.
– Я такого сроду не говорил.
– Это мой дом, Алвэро. И твой.
– Кристина… – Голос у него усталый, свинцовый. Когда я догадываюсь, что больше ничего он не скажет, его уж и след простыл.
* * *
Утром я просыпаюсь в тишине. Первая мысль: Ал ушел. Но, глянув в окно, вижу “форд” на том же месте, где его оставили вчера. Занимаюсь утренними делами, как обычно, и, как обычно, Ал приходит из хлева на обед. Не произносит ни слова, пока доедает, а затем говорит “спасибо” и уходит вон. Складываю свежесбитое масло в глиняный горшок в сарае, а сама смотрю на плоскодонку на стропилах.
“Надо было продать этот дом, когда была возможность. Ты – узник, а я – сторож”. Слова висят в пустоте между нами. Но пока никто из нас о них не вспоминает, можно делать вид, что они и не были сказаны.
Следующие несколько месяцев, просыпаясь, я думаю, что Ал ушел.
Ал больше не приводит Эстелл в дом. Не упоминает ее имени. Однажды Сэди походя сообщает, что, по слухам, Эстелл съехалась с мужчиной с двумя детьми и перебралась в Рокленд.
Со временем мы с Алом вновь живем, как привыкли. Но он изменился. В окно на втором этаже влетает птица, разбивает стекло, Ал не меняет его, а просто затыкает дыру тряпкой. Бросает старый “форд Т” гнить за сараем. Редко чистит теперь печи, просто распихивает золу, чтоб было куда совать дрова. Долгие зимы обдирают с дома белую краску, оголяют серые доски, Ал не утруждается красить. Одно за другим поля зарастают, утварь брошена ржаветь. Через несколько лет Ал возделывает лишь маленький участок.
Словно решил наказать дом и землю за то, что нужен им. Или, может, наказать меня.
Мир Кристины
1948
Посреди поля земля пахнет дрожжевым тестом. Каждая острая былинка отдельна, различима. Изящные желтые первоцветы висят на стебельках, словно крошечные увядшие букеты; желто-черная бабочка-парусник витает над головой. Приятный майский день, я собираюсь в гости к Сэди, в ее домик за поворотом. Она предложила заехать и забрать меня на машине, но я предпочитаю добраться сама. Дорога занимает примерно час, ползу на локтях, влеку тело вперед. Ватные наколенники истерты и выпачканы травой. Так близко к земле единственный звук – мое рваное дыхание и стрекот сверчков. Кружат шершни, кусают меня за уши. Воздух на вкус – соль, лаванда, грязь.
Ходить я больше не могу совсем. Мое кресло проскребло между столом и “Гленвудом” глубокую колею. Не сяду я в каталку. Выбор у меня потому таков: сидеть в доме, в безопасности кухни и моего тюфяка на полу в гостиной, или добираться, куда мне надо, как умею. Что и делаю. Раз в неделю навещаю мать с отцом, ползком по желтому простору травы до семейного погоста, где они похоронены, – с видом на пролив и море. В погожие дни беру с собой ведерко и собираю голубику. Мне нравится отдыхать в траве и смотреть, как рыбацкие суденышки выбираются из Порт-Клайда, минуют остров Монхегэн и направляются в открытый океан. Доползаю до Сэди, она сидит на крыльце, ждет меня.
– Батюшки, – выговаривает она с широкой улыбкой. – Ты глянь. Уж точно стакан ледяного чая тебе сейчас в самый раз.
– Было б мило.
Сэди исчезает в домике, а я пока подтягиваюсь к ступенькам, опираюсь о деревянные перила, пыхчу от натуги. Сэди возвращается с плошкой ягод, графином чая с мятой, двумя стаканами и влажной тряпицей на подносе.
– Вот, дорогая моя. – Вручает мне прохладную тряпицу. – Как я рада, что ты явилась в гости, Кристина.
– Чудный день, верно? – говорю, отирая лицо и шею.
– Это точно. Надеюсь, лето будет умеренным, как в прошлом году, а не как два года назад. Помнишь? Даже ночью было кошмарно.
– Точно, – соглашаюсь я.
Мы с Сэди разговариваем мало. В основном сидим в дружелюбном молчании. Сегодня вода в бухте сверкает на вечернем солнце битым стеклом. Сирень у крыльца пахнет ванилью. Мы едим малину и чернику, которые Сэди собрала днем, пьем холодный чай, прохлада мятных листьев проскальзывает в рот, как облатка.
Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь, что величайшая доброта – принятие.
* * *
Энди не просил меня позировать с тех пор, как я осталась недовольна портретом на фоне двери. Но в один приятный день в начале июля он вдруг заходит в кухню и говорит:
– Вы посидите для меня на траве? Всего несколько минут. Ну полчаса от силы.
– Зачем?
– У меня есть замысел, но я не могу его представить целиком.
– Почему?
– Чертов угол не могу уловить.
Он знает, что я не хочу позировать. Мне неловко, неуютно.
– Попроси Ала. Мотает головой.
– Ал уже напозировался, сами знаете.
– Может, я тоже.
– Вы всегда позируете, Кристина. Вам нетрудно.
– Ты о чем?
– Ал неусидчивый. А вы умеете быть неподвижной.
Поглаживая подлокотник кресла, говорю:
– По правде сказать, Энди, выбор у меня небогатый.
– Наверное, да. Но дело не только в этом. – Он трет подбородок, думает. – Вы знаете, как это… когда на вас смотрят.
Усмехаюсь.
– Странные ты вещи говоришь.
– Простите, если так получилось. Я в том смысле, что, кажется, вы привыкли, что на вас смотрят, но толком… не видят. Люди вечно тревожатся за вас, беспокоятся, стремятся узнать, как вы справляетесь. От чистого сердца, конечно, однако… вмешиваются. И, думаю, вы научились отражать их вмешательство, или жалость, или чем бы оно там ни было, держа себя таким вот… – Он вскидывает руку, словно держит шар, – …величественным, отстраненным манером.
Я не знаю, что тут сказать. Никто никогда не разговаривал со мной вот так – не сообщал мне что-то обо мне самой, чего я не знаю, но мгновенно отдаю себе отчет, что сказанное – верно.
– Правда же? – уточняет он.
Не хочу уступать сразу.
– Может быть.
– Как королева Швеции, – говорит он.
– Ой ладно.
Он улыбается.
– Правите всем Кушингом из своего кресла в кухне.
– Ты надо мной просто смеешься.
– Клянусь – нет. – Он протягивает руку. – Позируйте мне, Кристина.
– Ты собираешься изобразить меня, как подогретую смерть?
Смеется.
– Не в этот раз. Честно.
* * *
После того как Энди уходит за своими инструментами для живописи, я выбираюсь из кресла, ползу по полу к открытой двери и вниз по ступеням к теньку в траве. Она прохладна и пружинит у меня под пальцами. Отдыхаю, жду, опершись на руки. Энди появляется на пороге, видит меня, щурится. Спускается по ступенькам, медленно обходит меня, склонив голову. Распоряжается:
– Вот так. Обопритесь на руку. Ногу назад.
Чувствую себя молодой коровой на ярмарке скота. В одной руке у Энди карандаш, в другой – блокнот для набросков. Он открывает блокнот, крякнув, садится на крыльцо в нескольких футах от меня, принимается рисовать.
Чуть погодя спина у меня затекает. Говорю:
– Уже по крайней мере час.
– Оно ж неплохо, правда? На солнышке-то? – Энди смотрит то на меня, то в блокнот, рисует.
– Ты сказал, двадцать минут.
Держа уголек навесу, он одаряет меня широченной улыбкой.
– Ну же, Кристина. Вы ж понимаете: юнец, если желает охмурить, наплетет вам с три короба.
– Это уж точно.
Он вскидывает брови.
Я больше ничего не говорю.
Через несколько минут произносит:
– А где же то розовое платье? В котором вы были на свадьбе у Джона?
– В чулане в прихожей.
– Наденете?
– Прямо сейчас?
– А что?
Я устала. Ноги сводит.
– Мы уже проторчали здесь дольше, чем ты обещал. На сегодня хватит.
– Тогда завтра.
Хоть я и закатываю глаза, мы оба знаем, что соглашусь.
Назавтра рано утром прошу Ала достать розовое хлопковое платье из чулана. Он выкладывает его на обеденный стол, я выгоняю его вон и влезаю в платье, одергиваю его на бедрах, а затем зову Ала обратно – чтоб застегнул пуговицы. Когда все готово, он говорит:
– Мне всегда этот цвет нравился.
Ал не мастак на комплименты. Уж как умеет. Улыбаюсь ему.
Энди появляется вдали через час, я наблюдаю за ним в кухонное окно. Бредет вверх по холму с этюдником, подволакивает ногу, чуть кренится, крякает от натуги, и меня неожиданно трогает эта милая смесь бравады и уязвимости.
Руки у меня, как ни странно, потеют. Как у девчонки перед свиданьем.
– О, Кристина! – В дверях он присвистывает. – Вы… чудо.
Поневоле вспыхиваю.
– Приятный нынче день. Давайте возьмем, на чем вам сидеть, чтоб удобно. – Ставит этюдник на стул. – Я видел гору одеял где-то в спальнях. – Исчезает наверху, возвращается через несколько минут со старым “двойным свадебным”,[40] которое я сшила, на одной руке, и с хлипким мольбертом и альбомом – в другой.
– Забираю наружу. Мне за вами вернуться?
– Ну… – Обычно я отказываюсь. Но, если ползти по лестнице и по траве в этом платье, можно его угробить. – Наверное.
Наблюдаю, как он устанавливает мольберт на том же травянистом клочке, что и накануне. Развертывает одеяло, расстилает на земле, тянет за волнистые края, распрямляет. Возвращается в дом за мной, встает совсем рядом, подтыкает свое плечо, подымает меня из кресла. Так близко от мужчины-неродственника я не была со времен Уолтона. Мучительно осознаю свое тело впритык к Энди, мои хрупкие кости и бумажная кожа – у его теплой крепкой груди, мускулистая рука сжимает мою щуплую. Все чувства обостряются: у меня зрение орла, слух кота, нюх пса. Дыхание Энди у меня на лице тошнотворно сладко. Слышу тихий щелк его зубов. Внутри у меня дергает: сознание запечатлевает запах.
– Это… ириска?
– Она самая.
Он не замечает, как я отворачиваюсь.
Я у него в объятиях, его руки – под моими локтями, он держит мой вес, наполовину выводит, наполовину выносит меня наружу. Сердце у меня стучит так громко, что я чуть не задумываюсь, не слышит ли его Энди. Он бережно усаживает меня на одеяло – укладывает мне ноги, расправляет платье, закладывает прядь волос мне за ухо, – а затем лезет рукой глубоко в карман куртки. Вытаскивает целлофановый пакетик с янтарными конфетами в фантиках.
– Предупреждаю: вызывают привыкание.
– Нет-нет, не хочу, – отказываюсь я, вскинув ладонь. – Не выношу запах. Тем более – вкус.
– Как так? Всем нравятся ириски.
– Ну а мне нет. – Воспоминание так болезненно, что приходится перевести дух: колючая щека Уолтона рядом с моей, рука – у меня на пояснице, дыхание у меня на шее, мы танцуем в Грейндж-холле… – Один мой знакомый сосал их все время.
– Да тут история, – говорит он, запихивая пакет обратно в карман. – Так-так. Юноша, на которого вы вчера намекали?
Я отвожу взгляд.
– Ни на какого юношу я не намекала.
Энди сплевывает ириску в ладонь, швыряет ее в Алов розовый куст. Закрепляет мольберт, ставит на него блокнот, открывает этюдник.
– Простите меня за эти слова, – говорит он, вытаскивая ручки и кисти, – но, подозреваю, мы и сегодня просидим тут больше часа. Если, ну, вы беспокоитесь, что вам не хватит времени о нем рассказать.
Я некоторое время молчу. Слушаю, как ручка Энди скребет бумагу. А затем глубоко вдыхаю.
– Он был… из летних отдыхающих.
– Одно лето?
– Четыре. Четыре лета.
– Сколько вам было?
– Двадцать – в первый год.
– Примерно как мне, когда я познакомился с Бетси, – говорит он, сложив пальцы буквой “Г”, щурясь на меня через эту фигуру. – Все было серьезно?
– Не знаю. – Шумно сглатываю. – Он обещал мне, что… мы будем вместе.
– В смысле, что поженитесь?
Киваю. Это ли он обещал? Не вполне уверена.
– Ох, Кристина. – Вздыхает. – Что случилось?
Что-то в его повадках подталкивает меня доверять ему то, что я никогда никому не рассказываю. Даже болезненное, даже стыдное.
Я и не подозревала, как сильно желаю этим поделиться.
* * *
– Вот честно, Кристина, – говорит Энди, качая головой, когда я завершаю рассказ. – Этот человек – очень неумный. И очень заурядный. Что вы вообще в нем нашли?
– Не знаю. – Вновь думаю о маме, как она открыла дверь шведскому матросу – о сути сказок: Рапунцель спускает косы, Золушка сует ножку в стеклянную туфельку, Спящая красавица ждет поцелуя. Все получили единственную возможность шагнуть в “долго и счастливо” – или по крайней мере так оно кажется. Но принц ли привлек их – или просто возможность сбежать?
Какая часть моей любви – одержимости – Уолтоном была в грезе спасения, в грезе, о которой я в себе даже не догадывалась, пока он не появился?
– Наверное, я просто хотела… – “Быть любимой”, – вот что я чуть не ляпаю. Но такое мне говорить стыдно. – …Нормальной жизни, может.
Энди вздыхает.
– Ну, в этом и загвоздка, верно? Смотрите, не хочу грубить, но вы бы не смогли жить нормальной жизнью, даже если этого и хотели. Мы с вами – мы не “нормальные”. Не умещаемся мы в обыденных ящиках. – Вновь качая головой, продолжает: – Вы увернулись от пули, я считаю. Доживи тот человек хоть до ста лет, он все равно не изведает силу собственных убеждений.
Я сглатываю ком в горле.
– Он знал, что не хочет меня.
– Пфф. Слабак он. Такого легко перешибить. Верьте слову: вы избежали несчастья длиною в жизнь. Тот человек крошил бы ваше сердце, по кусочку, пока ничего не осталось бы. Сердце у вас, может, и ранено, зато цельное.
Вероятно, он прав – может, мое сердце цело. Но я задумываюсь о людях, которых я держала на расстоянии вытянутой руки, даже тех, кого любила. Вспоминаю, как обошлась с Алом и Эстелл. Что сказала – со всею силой – Гертруд, которая в то утро, когда родился мой племянник, всего лишь пришла на выручку: “Клянусь, я никогда больше с тобой не заговорю”. Может, она была права, когда сказала, что у меня холодное сердце.
– У меня такое чувство, будто оно… застыло во льду.
– С тех пор?
– Не знаю. Может, так всегда было.
Он держит ручку в ладони.
– Мне ясно, почему так может казаться. Но я так не считаю. Вы, возможно, настороже, но это же так понятно. Иисусе, Кристина, карты вам выпали скверные. Всю жизнь заботиться о семье. Черт бы драл ваши ноги, они не работают, как полагается. – Он смотрит на меня пристально, и у меня вновь жуткое ощущение, что Энди видит меня насквозь. – Для меня очевидно – и раньше, и сейчас, – что у вас большое сердце. Да хоть понаблюдать, как вы ведете себя с Бетси. Какая между вами приязнь. А ваша любовь к племяннику ясна как белый день. Но главное – вы с Алом, в этом доме. Ваша доброта друг к другу. Этому парню – этому Уолтону, – говорит он, насмехаясь над именем, – тут не место. Вы спугнули этого проходимца. – Язвительно смеется. – А Ал что о нем говорил?
– Мало что.
– Еще б. – Захлопывая блокнот, добавляет: – Ал понимает, что к чему.
Сердце мое – ранено, бито; кто знает, может, таяние – сдавливает. “Ваша доброта друг к другу”. Не всю историю Энди знает.
Но в одном он, впрочем, прав: Ал понимает, что к чему. Всегда понимал. И я наградила его сострадание, его приверженность тем, что принимала это все как должное, тем, что разрушила его отношения с женщиной, которая, вероятно, стала бы ему хорошей парой. Которая могла бы изменить его жизнь. Представляю себе маленький опрятный домик, где они могли бы жить вдвоем. Его бледно-розовые розы в других ящиках. Ал на ногах еще до рассвета, в лодке, проверяет ловушки для омаров, рассчитывает барыши с улова. Дома ранним вечером, в уютной кухне, просторное кресло у огня, ребенок, с кем можно поиграть, жена спросит, как прошел день…
В моей горечи и панике я отказала ему в уважении, каким он всегда одарял меня. Какое право я имела отнять у него единственную возможность любви?
* * *
– Мне надо сказать тебе кое-что, Алвэро, – говорю я ему в кухне в сумерках, когда мы пьем чай у плиты. – Это, впрочем, мало что теперь изменит. Но… я не имею права заставлять тебя здесь жить.
Едва различаю его черты, но вижу, как он вздрагивает.
– Прости меня.
Вздыхает.
– Ты мог бы жить с ней счастливо.
– Я не несчастлив. – Голос у него до того тихий, что я едва слышу.
– Ты же любил ее. – Давлюсь словами. – А я тебя удержала.
– Кристи…
– Сможешь ли ты меня когда-нибудь простить?
Ал раскачивается в своем скрипучем кресле. Лезет в карман, вытаскивает трубку, забивает в нее табак, чиркает спичкой по дверце плиты, прикуривает. Бормочет что-то себе под нос.
– Что?
Втягивает дым, выдувает его наружу.
– Я сказал, что сам дал себя удержать.
Размышляю над этим.
– Ты меня пожалел.
– Дело не в этом. Я выбрал.
Качаю головой.
– Какой у тебя был выбор? Я заставила тебя подумать, будто ты меня бросаешь, а ты всего лишь пытался жить.
– Ну. – Он описывает круг рукой. – Как я мог это все бросить?
Пока он не начинает ехидно улыбаться, я не сознаю, что он шутит.
– Никто не знает, какую я люблю овсянку, – говорит он. – Да и вообще. Ты бы для меня так же.
Конечно так же. Ал выказывает доброту – или, может, ему проще так думать. Как ни крути, это моего поступка не извиняет. Вот они мы, вдвоем, не пара, а брат с сестрой, обречены жить всю жизнь вместе, в доме, где мы родились, в окружении призраков наших предков, призраков жизней, какие могли бы у нас быть. Со стопкой писем в чулане. С плоскодонкой на стропилах в сарае. Никто никогда не узнает, когда обратимся мы прахом, о жизни, которую мы тут провели, о наших желаниях и сомнениях, близости и одиночестве.
Мы с Алом сроду не обнимались, сколько себя помню. Невесть когда в последний раз прикасались друг к другу, если не считать того, что он помогает мне передвигаться. Но в этой мутной тьме я кладу ладонь поверх его, а он – вторую, поверх. Вот так же мне бывает, когда теряю какую-нибудь мелочь – катушку например: ищу ее всюду, а обнаруживаю в самом очевидном месте – на столе под тканью.
Вспоминаю, как говорила мне когда-то Маммея: есть много способов любить и быть любимой. Беда, что понять это до конца я смогла, когда жизнь по большей части уже прошла.
* * *
Через несколько дней после того, как Энди начал зарисовывать меня в розовом платье на траве, он уносит наброски наверх. Я оставляю печенье остужаться на стойке, горшок с куриным супом – на плите. В полдень он спускается и угощается, макая печенье в плошку с супом, хлебает воду из насоса в кладовке, утирает рот тыльной стороной ладони. Устремляется наверх. После обеда я пеку голубичный пирог, отрезаю теплый кусок, толкаю вверх по лестнице тарелку и зову его спуститься и забрать. Улыбка у него на лице стоит моих усилий.
Он уходит домой в сумерках. Возвращается наутро, топает наверх, тяжкие шаги – единственный звук на весь дом. Слышу, как он бродит по комнате, открывает двери, закрывает, забредает в другие спальни.
Так продолжается недели напролет.
Месяц, другой.
Следы Энди – всюду, даже когда его нет. Запах яиц, кляксы темперы. Засохшая кисточка. Деревянная доска, заляпанная краской.
Холодает. Энди все работает. В конце августа, против обыкновения, не уезжает в Пенсильванию. Я не спрашиваю, почему, отчасти боясь, что, если произнесу вслух, это напомнит ему, что уж давно пора возвращаться домой.
Пока он наверху, я живу, как привыкла. Грею воду для чая. Замешиваю хлеб. Глажу кошку у себя на коленях. Смотрю в окно, как качается трава. Болтаю с Алом о погоде. Усаживаюсь любоваться закатом, ярким, как цветное кино. Но все время думаю об Энди, притаившемся в дальней комнате, словно героиня из сказки, что прядет солому в золото.
Одним октябрьским утром Энди не приходит. Бетси я не видела много недель, но на следующий день, пока штопаю носки, она просовывает голову в кухню.
– Кристина! Можно вас с Алом позвать на ужин?
– К вам домой? – спрашиваю я изумленно. Они нас раньше ни разу не приглашали.
Кивает.
– Энди поговорил с Алом, и они условились, что Ал привезет вас на машине. Пожалуйста, скажите, что вы приедете! Простая трапеза, без вычурностей. Мы б страшно обрадовались. Уютные проводы нас в Чэддз-Форд.
– Энди, значит, в этом сезоне все?
– Наконец-то, – говорит она. – Вам небось уже хочется тишины и покоя.
– Нам он не мешает. Тишины и покоя у нас хоть отбавляй.
* * *
Через несколько дней ближе к вечеру Ал, облачившись в светло-голубую рубашку, которую я сшила ему несколько лет назад и в которой вижу его редко, вынимает меня из кресла в кухне и относит по ступенькам к старому “форду-бродяге”. Давно я никуда не ездила на машине – поскольку нигде и не бывала, кроме дома Сэди, вообще-то. На мне длинная темно-синяя хлопчатобумажная юбка с милосердными клиньями и белая блузка – старая униформа, но хоть не рваная и не в пятнах. Волосы приглажены и стянуты лентой на затылке.
На заднем сиденье темно и прохладно. Пока нас мотает по дороге с холма, я откидываюсь и закрываю глаза, чувствую в ногах дрожкий рокот мотора, в животе – нервный трепет. Я видела Энди лишь у нас дома, в заляпанных краской сапогах, карманы бугрятся от куриных яиц. Будет ли он в своих стенах другим человеком?
У знака “Стоп” Ал сворачивает направо, а затем милю за милей катится по гладкой дороге. Я слышу громкие щелчки – медленно забираем правее. Хрустит гравий.
– Приехали, Кристи, – говорит Ал.
Открываю глаза. Белый домик, обшитый досками, ящики с белым клематисом, темные окна, опрятные зеленые туи. Я знала, что Уайеты переехали из конюшни, но вид домика напоминает мне вновь: Бетси все же добилась своего.
А вот и она, стоит на крыльце в облегающих черных брюках, мятно-зеленой блузке, с красногубой улыбкой, машет нам.
– Добро пожаловать!
За ней – Энди, тоже машет. Странно видеть его здесь, вне привычных условий, в белоснежной рубашке, в чистых, не заляпанных брюках и ботинках, волосы аккуратно причесаны. Выглядит приятным обычным человеком из приятного обычного дома. Единственный намек на знакомого мне Энди – руки, замаранные краской.
Ал выходит из машины, открывает мою дверцу. Они с Энди вносят меня по ступенькам в дом. Бетси держит дверь нараспашку; двое мальчишек снуют туда-сюда, словно мелкая рыбешка.
– Николас! Джейми! – одергивает их Бетси. – Идите-ка оба играть наверх. Я вам принесу пирога, если будете себя хорошо вести.
Ал с Энди вносят меня в скудно обставленную комнату с длинным красным диваном, низким продолговатым деревянным столом перед ним и двумя полосатыми креслами. Усаживают на диван, Бетси исчезает за барными дверями, возникает с подносом, на нем редиска в плошке, тарелка фаршированных яиц и баночка зеленых оливок с красными язычками. (Такие оливки я раньше видела, но ни разу не пробовала.) Ставит поднос рядом со мной и велит Энди с Алом устроиться напротив нас в креслах.
Энди вроде бы неймется. Возится в кресле и странно мне улыбается. Ал взглядывает куда-то у меня над головой, а затем смотрит на Энди. Алу тоже беспокойно.
– Зубочистку? – предлагает Бетси.
Беру зубочистку, отправляю оливку в рот. Соленая. Жуется, как мясо. Куда положить зубочистку? Вижу маленькую горку на тарелке у Энди и пристраиваю зубочистку на край своей. Оглядывая комнату, вижу знакомые картины Энди в рамах на всех стенах: акварель – Ал собирает голубику, в профиль, его трубка, кепка. Набросок углем: Ал сидит на крыльце. Громадная темпера: кружевные занавески Маммеи в окне третьего этажа, плещут на ветру.
– Хорошо смотрятся в рамах, – говорю я Энди.
– Это царство Бетси, – отзывается он. – Она их называет и обрамляет.
– Разделяем и властвуем, – добавляет Бетси. – Стаканчик хереса, Кристина?
– Нет, спасибо. Я пью только по праздникам. – Не хочу говорить этого вслух, но я просто боюсь облить блузку.
– Ладно. Ал? – спрашивает Бетси.
– Выпить было б здорово, – отвечает он.
Мы с Алом, непривычные к тому, что нам подают, ведем себя скованно и формально. Бетси старается изо всех сил, чтобы нам было уютно.
– Завтра вроде бы дождь собирается, по слухам, – говорит она, вручая Алу крошечный стаканчик хереса.
– Это хорошо, это нам на руку, – говорит Ал и отхлебывает. Морщится. Вряд ли он когда-либо пробовал херес. Ставит стаканчик на стол.
Поглядываю на Бетси, но она, кажется, не замечает. Посмеиваясь, говорит:
– Знаю, что дождь для фермы – это хорошо, но торчать в дождливый день дома с детьми – та еще радость, доложу я вам.
Ал одаряет Энди задорным взглядом.
– Научил бы их рисовать, – говорит.
Энди качает головой.
– Пока только пальцами. Вообще-то Николас не выказывает никакой к тому склонности, а вот у Джейми, может, и есть какой-никакой талант.[41]
– Да боже ты мой, ему всего два года, – говорит Бетси. – А Ники – пять. Пока нельзя ничего сказать.
– Думаю, может, и можно. Мой отец говорил, что видел во мне искру с моих восьми месяцев.
– Твой отец… – Бетси закатывает глаза.
Наткнув еще одну оливку, спрашиваю:
– Так вы, значит, отправляетесь через пару дней в Пенсильванию?
Бетси кивает.
– Уже начали собираться. Всякий раз трудно уехать. Хотя в этом году задержались дольше обычного.
– А кажется, будто только что приехали, – говорю я.
– Батюшки, Кристина, вы не всерьез! Энди же каждый день вам докучал.
– Вовсе нет.
– Если не считать того, что я заставил ее позировать. – Энди перехватывает мой взгляд. – Вот это была докука.
Пожимаю плечами.
– На этот раз я не очень устала.
– Рад, что меня он больше не просил, – говорит Ал.
Энди смеется, качает головой.
– Я урок усвоил.
– Ну, – говорит Бетси, вставая, – мне надо наверх, глянуть, как там мальчишки. Энди, уберешь тарелки?
Я вижу, как они обмениваются взглядами.
– Да, мэм, – говорит он. Бетси выходит из комнаты, Энди собирает тарелки, составляет их на поднос. – Вам придется развлекать друг друга. Я тут просто наемная прислуга. – Мы наблюдаем, как он шаркает за барные двери, неся поднос на отлёте.
– Милый дом, а? – говорит Ал, когда мы остаемся одни.
– Очень милый. – Мы ведем себя друг с другом неестественно, непривычные к светской болтовне. – Я, глядишь, привыкну к оливкам.
Он морщится.
– А мне не нравятся. Слишком… резиновые.
От этих слов мне смешно.
– Да, немного резиновые.
Сидим в натужном молчании, и я замечаю, как взгляд Ала вновь возносится на стену у меня над головой. Смотрит то на меня, то на стену.
– Что? – спрашиваю я.
Вскидывает подбородок.
Я поворачиваюсь, где сижу, вытягиваю шею – посмотреть, на что он глядит. Это картина – большая, заполняет собой почти всю стену у меня над головой. Девушка на желтом поле, в розовом платье с тонким черным пояском. Темные волосы плещут на ветру. Лицо скрыто. Она тянется к призрачному серебристому дому и сараю, пристроившимся на горизонте, под бледной лентой неба.
Смотрю на Ала.
– Кажется, это ты, – говорит он.
Вновь смотрю на картину. Девушка прижимается к земле, но при этом едва ли не висит в воздухе. Она крупнее всего, что вокруг нее. Слово кентавр или русалка, она едина в двух ипостасях: это мое платье, мои волосы, мои хрупкие руки, но годы жизни устранены из моего тела. Девушка на картине гибка и юна.
Ощущаю на плече тяжесть. Руку. Руку Энди.
– Я наконец ее завершил, – говорит он. – Что скажете?
Вглядываюсь в девушку. Кожа у нее – оттенка поля, платье выбелено, как кости на солнце, волосы – жесткая трава. Она кажется и вечно юной, и старой, как сама земля, набросок из детской книги про эволюцию: морское создание отращивает конечности и выбирается на берег.
– Называется “Мир Кристины”, – говорит Энди. – Бетси назвала – как и всегда.
– Мир Кристины? – повторяю я оторопело.
Он смеется.
– Громадная травянистая планета. И вы – точно посередине.
– Это же не совсем… я, впрочем, да? – уточняю я.
– Вы мне сами скажите.
Вновь смотрю на картину. Вопреки очевидным отличиям эта девушка глубоко, мучительно знакома. В ней я вижу себя в двенадцать лет, в редкий день, когда меня освобождали от домашних дел. В двадцать, когда я искала прибежища от разбитого сердца. Всего несколько дней назад, когда навещала могилы родителей на семейном погосте, на полпути между плоскодонкой на сеновале и креслом-каталкой в море. Из закоулков памяти всплывает слово: синекдоха. Часть, означающая целое.
Мир Кристины.
Правда в том, что это место – этот дом, это поле, это небо – возможно, лишь малая часть мира. Но Бетси права: для меня это весь мир.
– Вы однажды сказали мне, что видите себя девчонкой, – говорит Энди.
Медленно киваю.
– Я хотел это запечатлеть, – продолжает он, показывая на картину. – Хотел показать… и желание, и нерешительность.
Протягиваю руку к его пальцам, тяну их к своим губам. Он ошарашен, я вижу это: я никогда прежде так не делала. Я и сама изумлена.
Думаю обо всех мыслимых взглядах других на меня, за все эти годы: меня видели бременем, верной дочерью, подругой, злобной развалиной, калекой…
Мое посланье в Мир большой, что мне депеш не слал.
– Ты показал то, что больше никто не разглядел, – говорю я ему.
Он сжимает мне плечо. Мы оба молчим, смотрим на картину.
Вот она, эта девушка, на травянистой планете. Желания ее просты: вскинуть лицо к солнцу, ощутить его тепло. Стиснуть в пальцах землю. Избежать возвращения в дом, где она родилась.
Увидеть свою жизнь издали, четкую, как фотоснимок, – и загадочную, как чудная сказка.
Это девушка, выжившая среди разбитых грез и обещаний. И живет до сих пор. И вечно будет жить на том холме, в середине мира, что распахивается до самых краев полотна. Ее народ – ведьмы и гонители, искатели приключений и домоседы, мечтатели и прагматики. Ее мир – и ограничен, и бескраен, это место, где у чужака на пороге может оказаться ключ от всей ее оставшейся жизни.
Больше всего она хочет – что ей по-настоящему нужно – того же, что и все мы: чтобы ее увидели.
И – глядите-ка. Получается.
От автора
Когда мне было восемь лет – а детство мое прошло в Бэнгоре, Мэн, – отец подарил мне ксилографию одного местного художника, вдохновленную картиной Эндрю Уайета “Мир Кристины”. Изображение напомнило отцу меня, по его словам, и я поняла, почему: мы с Кристиной тезки, вокруг – тот же мэнский пейзаж, у нас обеих пушистые воздушные волосы. Все детство я выдумывала истории про эту хрупкую девушку в бледно-розовом платье, которая, сидя спиной к зрителю, тянется к побитому погодой серому дому на холме вдали.
С годами я стала считать, что эта картина – тест Роршаха, шарада, трюк фокусника. Как пишет Дэвид Майклз в “Дивное странное. Традиция Уайета” (Wondrous Strange: The Wyeth Tradition): “Приземленный натурализм картин Уайета обманчив. В его работах все – не то, чем кажется”. У картин Эндрю Уайета всегда есть оттенок чуда и таинства: его завораживают теневые стороны человеческого опыта. Проблески этого улавливаешь в вялых, высушенных, словно кости, травах, прописанных в поразительно точных деталях, в развалине дома на холме с загадочной лестницей, ведущей к окну во втором этаже, в одинокой одежке на бельевой веревке, что плывет по ветру, словно привидение. На первый взгляд, худенькая женщина в траве кажется томно расслабленной, но, если присмотреться, возникают причудливые диссонансы. Руки до странного тонки и вывернуты. Возможно, она старше, чем кажется. Она будто замерла начеку, бдит, стремится к дому, но при этом медлит. Боится? Лицо ее отвернуто от наблюдателя, но, похоже, она смотрит на темное окно во втором этаже. Что она видит в его тенях?
Завершив роман “Сиротский поезд” (Orphan Train), я начала искать следующую историю, какая заняла бы целиком и мои мысли, и душу. При поисках сведений для романа я узнала много нового об Америке первой половины ХХ века и подумала, что было бы плодотворно остаться в том же временно́м периоде. Я особенно увлеклась деревенской жизнью: как люди справлялись и какие инструменты эмоций им были нужны, чтобы выживать в трудную пору. Как и в “Сиротском поезде”, мне понравилась мысль взять подлинный исторический эпизод, имеющий некоторую значимость, и, сплавив вымысел и правду, дополнив материал подробностями, высветить не замеченную ранее или малоизвестную историю.
Однажды, через несколько месяцев после выхода “Сиротского поезда”, одна моя подруга-писатель сказала, что видела “Мир Кристины” в Музее современного искусства в Нью-Йорке и вспомнила обо мне. Я тут же поняла, что обрела тему.
На два последних года я погрузилась в мир Кристины. Часами просиживала напротив подлинника этой картины в Музее современного искусства в Нью-Йорке, вслушивалась в восторженные, встревоженные, заинтересованные, пренебрежительные, пылкие комментарии проходивших мимо людей со всего света. (Мой любимый – от одной датчанки: “Она такая… жуткая”.) Изучала работы всех троих знаменитых Уайетов-художников – Ньюэлла Конверза, его сына Эндрю и сына Эндрю Джейми, – чтобы уловить богатство и сложность их семейного наследия. В Мэне я пристально исследовала музей Фарнзуорт в Рокленде, где под работы Уайета выделено целое здание, и имение “Мир Кристины” в Кушинге – старую приморскую ферму, которая ныне часть экспозиционного пространства Фарнзуорта. Я беседовала с историками искусства и американскими историками – и мне посчастливилось познакомиться с несколькими экскурсоводами по дому Олсонов, они слали мне статьи и письма, какие я бы самостоятельно никогда не обнаружила. Я читала биографии, автобиографии, некрологи, журналы и газеты, истории искусства, книги по искусству, критику. Прочла больше, чем хотела бы, о судилище над ведьмами в Сэлеме – оно играет роль в истории семьи Кристины. (Ох как интересно!) Я собирала открытки и даже купила сувенирный плакат “Мир Кристины” – себе на стенку.
И вот что я обнаружила. Кристина Олсон – наследница, по одной стороне родни, верховного судьи в деле сэлемских ведьм, а по другой происходит из бедной шведской семьи торфорезов: для образцового символа Америки родословная исключительно подходящая. На картине Уайета Кристина решительна – и страждет, вынослива – и уязвима, у всех на виду – и таинственна. Одинокая в море сухой травы, она – архетип личности среди природы, полностью присутствует в моменте, но при этом – мучительно напоминает о безбрежности времени. Как пишет куратор Музея современного искусства Лора Хоптмен в книге “Уайет. Мир Кристины” (Wyeth: Christina’s World), “эта картина – в первую очередь психологический пейзаж, нежели портрет, описание состояния ума, нежели места”.
Как и фигура-силуэт на картине Джеймза Уистлера “Мать Уистлера” (1871), и простолицая чета фермеров на “Американской готике” Грэнта Вуда (1909), Кристина воплощает многие черты, которые мы привыкли считать типично американскими: стойкий индивидуализм и тихую силу, дерзость перед трудностями, непреклонную живучесть.
Как и с “Сиротским поездом”, когда я писала “Картину мира” – пыталась придерживаться подлинных исторических фактов, где это возможно. Как и настоящая Кристина, моя героиня родилась в 1893 году и выросла в суровом доме на голом холме в Кушинге, Мэн, с тремя братьями. За сто лет до этого трое ее предков сбежали из Массачусетса посреди зимы, попутно сменив написание фамилии – чтобы уйти от порочащей ассоциации с их родственником Джоном Хэторном, судьей на процессе сэлемских ведьм, единственным, кто так и не покаялся. На эшафоте одна из осужденных ведьм наложила проклятие на семью Хэторна, и призрак этого судилища не оставлял Хэторнов много поколений; в Кушинге поговаривали, что те трое Хэторнов притащили ведьм за собой. Другой родственник, Нэтэниэл Хоторн, тоже сменивший написание имени, чтобы скрыть родовую связь, писал о непреклонной жестокости своего прапрадедушки в “Юном Гудмене Брауне”[42] – сказе о том, как те, кто боится тьмы в себе, первыми станут искать ее в других.
В той же мере значимой частью моего романа стала еще одна подлинная история. Поколение за поколением дом на холме был известен как “дом Хэторнов”. Но ранней зимой 1890-го, посреди лютой снежной бури, рыболовецкое судно, возившее известняк для изготовления цемента и кирпичей, встало во льду в проливе у реки Св. Георгия, и молодой шведский моряк по имени Йохан Олавсон застрял в этих местах. Капитан судна, уроженец Кушинга, предложил Олавсону остаться у него. Олавсон прошел по льду к домику капитана Малоуни, где просидел всю зиму, ожидая, пока с оттепелью не растает лед, чтобы вернуться в море. Вверх по холму от домика Малоуни размещался величественный белый дом, принадлежавший почтенному капитану Сэмюэлу Хэторну. Йохан вскоре узнал историю семьи на холме Хэторн: они на грани “выдочерения”, то есть наследников по мужской линии, чтобы фамилия продолжила жить, не осталось. За несколько месяцев юный моряк сам выучил английский, сменил имя на Джон Олсон и объявил о своем присутствии “старой деве” – дочери Хэторна Кейт: ей тогда было тридцать четыре, на шесть лет старше него. В течение одного месяца умер Сэмюэл Хэторн, а Джон Олсон женился на Кейт и принял ферму. Их первый ребенок, Кристина, родился через год, и большой белый дом стал известен как дом Олсонов. Хэторны выдочерились.
* * *
По всем воспоминаниям, Кристина с раннего детства была натурой деятельной и кипучей. В ней была жажда жизни, пылкий ум и решительное нежелание, чтобы ее жалели, вопреки прогрессировавшей болезни, лишавшей ее подвижности. (Хотя при жизни ей так и не поставили правильный диагноз, неврологи ныне считают, что у нее была болезнь Шарко – Мари – Тута, наследственное повреждение нервных окончаний в руках и ногах.) От инвалидного кресла Кристина отказывалась; утрачивая возможность ходить, она стала ползать. Несколько лет назад актриса Клэр Дэйнз изобразила Кристину Олсон в часовом потрясающем танцевальном представлении, где подчеркнула ее жажду свободно двигаться, несмотря на убийственный недуг.
Остроумная и колкая в речи, Кристина была силой, с которой нельзя не считаться. В преклонные годы она, с ее-то растрепанными волосами и носом крючком, старая дева и независимая натура, сама слыла в Кушинге ведьмой. Сам Эндрю Уайет звал ее то “ведьмой”, то “королевой”, то “лицом Мэна”.
Уайет появился на пороге у Кристины – вместе с Бетси Джеймз, своей будущей женой, навещавшей ферму Олсонов с детства, – в 1939 году. Ему тогда было двадцать два, Бетси – семнадцать, Кристине – сорок шесть. Он начал приходить чуть ли не ежедневно, часами болтал с Кристиной, делал наброски и писал пейзажи, натюрморты и сам дом, который его завораживал. “Мир Новой Англии – в этом доме, – говорил Уайет, – паучьи, словно трескучие скелеты, гниющие на чердаке, сухие кости. Для меня это надгробие морякам, сгинувшим в море, потомок Олсона, что упал с нок-реи брига и так и не нашелся. Это порог моря, мидий, ракушек, морских чудовищ и китов. Здесь есть это неотступное чувство людей, вернувшихся к себе”.
Со временем Уайет принялся вживлять Кристину в свои полотна. “Меня в ней интересовало то, что она появляется в странных местах, в странные моменты, – говорил он. – Великий английский художник Джон Констебл говаривал, что сцену никогда не нужно оживлять, поскольку, если сидеть тихонько и ждать, жизнь появится сама – своего рода случайность в правильном месте. То же происходило и со мной, постоянно, – и много с Кристиной”.
Последующие тридцать лет Кристина была Эндрю Уайету музой и вдохновением. Оба, похоже, научились принимать противоречия друг в друге. Оба смирялись с суровостью быта, но стремились к красоте, оба интересовались другими людьми, но оставались патологически закрытыми. Оба были болезненно независимыми, но при этом полагались на заботу других в простейших вещах: Уайет – на свою супругу Бетси, Кристина – на Алвэро.
“В моих воспоминаниях, возможно, больше настоящего, чем в самом событии, – говорил Уайет. – Я все думал о том дне, когда напишу Кристину в ее розовом платье, что как потускневший панцирь омара, какой можно найти на пляже, – раскрошенным. Я все обустраивал ее у себя в голове – живое существо на холме, где трава действительно растет. Однажды Кристину под этой травой похоронят. Вскоре ее фигура уже взаправду ползла по холму у меня на картине, туда, к сухому ящику дома на вершине. Я ощущал одиночество этой фигуры – возможно, такое же, какое было в детстве у меня самого. То был и мой опыт в той же мере, что и ее…
В “Мире Кристины” я работал над тем холмом пару месяцев, над травой, выстраивал фон так, чтобы он двигался на вас, эта волна земли, словно целая планета… Когда пришло время поместить фигуру Кристины на эту планету, которую я создавал для нее неделю за неделей, я наложил розовый оттенок на ее плечо – и меня чуть не снесло через всю комнату”.
Став музой художнику – сыграв бездеятельную вроде бы роль, – Кристина наконец достигла самостоятельности и цели, чего алкала всю свою жизнь. Инстинктивно, думаю я, Уайет сумел добраться до Кристининой самости. На полотне она парадоксально и неповторима, и показательна, полна жизни и уязвима. Она одинока, но окружена призраками прошлого. Как и дом, как сам пейзаж, она выживает. Как воплощение силы американского характера, она пышет силой, трепещет, бессмертна.
По многим причинам это самая трудная книга из всех, что я до сих пор написала. Кристина Олсон была живым человеком, как были – и остаются – многие другие в этом романе, и я посвятила колоссальные усилия исследованиям ее жизни, семьи и отношений с Эндрю Уайетом. Но в некий момент пришлось оставить исследования и позволить персонажам двигать сказ. Как ни крути, “Картина мира” – художественное произведение. На этих страницах не следует искать биографические факты, связанные с персонажами книги. Надеюсь, читатели, увлекшись моей историей, захотят изучить подлинные изложения, которые я упоминаю в своих благодарностях. Но самое главное – надеюсь, что отдала этой истории должное.
Благодарности
Я родилась в Кембридже, Англия, и детство провела с родителями и младшей сестрой в маленькой деревне под названием Суоффэм-Балбек, в доме, выстроенном в XIII веке. Если встать в гостиной и глянуть вверх, видно округлые очертания того, что когда-то было дырой в крыше над тем местом, где первые обитатели этого дома жгли костер. В доме не было ни холодильника, ни центрального отопления; мы пользовались ледником и маленьким газовым обогревателем, которому надо было скармливать монетки. Через несколько лет мы переехали в Теннесси и жили там на заброшенной ферме, в неотапливаемом доме, куда лишь недавно провели электричество. В конце концов мы перебрались в Мэн, в нормальный дом со всеми основными удобствами. Но выходные, каникулы и лета мы проводили в лагере, который мой отец разбил на крошечном островке в озере, с уличным водяным насосом и керосиновыми лампами, со свечным освещением, с костром для обогрева и отхожим местом. Зимой мы ходили на снегоступах по замерзшему озеру, скалывали лед с входной двери, чтобы проникнуть внутрь. Мы с сестрами, в пальто, сбивались в кучу поближе к очагу, пока костер, сложенный родителями, не разгорался так, чтобы мы могли согреться.
Поэтому желаю поблагодарить моего отца Уильяма Бейкера и мою покойную мать Кристину Бейкер, научивших четырех своих дочерей, что жизнь среди стихий способна развить чуткость не только к миру вокруг, но и к миру внутри. Не сомневаюсь, что мое необычное детство сделало меня как писателя. И в двух моих последних романах – в “Сиротском поезде” и вот в этом – я, создавая персонажей, живущих просто, без современных удобств, которые большинство из нас воспринимает как должное, во многом опиралась на тот свой ранний жизненный опыт.
Однажды солнечным июльским вечером 2013 года я отправилась на экскурсию в дом Кристины Олсон в Кушинге, Мэн, и экскурсоводом у меня оказалась молодая женщина по имени Эрика Дэйли. Эрика заметила, что я конспектирую, и спросила, не статью ли я пишу; я призналась, что подумываю сочинить роман. Когда я уже выходила из дома Олсонов, другая сотрудница, Рэйни Дэвис, отвела меня в сторонку и сунула мне свою визитную карточку, наказав обращаться, если возникнут еще вопросы. Так я и сделала – и мы с Рэйни подружились. Встречались в Рокленде, Мэн, и даже в Сарасоте, Флорида, где у нее дом, а я читала лекцию. Через несколько месяцев еще одна сотрудница, Нэнси Джоунз, прислала мне электронное письмо с предложением познакомить меня кое с кем из близких Кристины. Через нее я встретилась с племянником Эндрю Уайета Дэвидом Рокуэллом, чье знание об Уайетах и доме Олсонов оказалось энциклопедическим, с Джин Олсон Брукс, племянницей Кристины, которая поделилась со мной воспоминаниями детства, как навещала Кристину в 1930–1940-х годах, и с доктором Роналдом Дж. Эндерсоном, профессором Гарвардской медицинской школы, который в медицинском журнале “Фарос” убедительно доказывает, что у Кристины было наследственное двигательно-сенсорное невропатическое расстройство под названием “болезнь Шарко – Мари – Тута”. Мы с Нэнси посетили его лекцию “Эндрю Уайет и «Мир Кристины»: признаки тайного недуга Кристины” на конференции Национального общества клинической ревматологии в 2015 году, которая состоялась в Мэне.
Работая над романом, я прочитала все, до чего смогла дотянуться, об Уайетах и Олсонах. Две биографии стали мне фундаментом: “Кристина Олсон: ее мир за пределами полотна” (Christina Olson: Her World beyond the Canvas) Джин Олсон Брукс и Деборы Далфонсо и “Эндрю Уайет. Тайная жизнь” (Andrew Wyeth: A Secret Life) Ричарда Меримена. Обе книги так истрепались, что мне пришлось купить не один и не два экземпляра. (Отдельное спасибо Элизабет Меримен и Мередит Лэндис, жене и дочери Ричарда соответственно, за их помощь.) Прекрасная книга Бетси Джеймз Уайет, с картинами, эскизами и воспоминаниями, названная попросту “Мир Кристины”, тоже оказалась невероятно важной в моих исследованиях. Среди прочих полезных источников назову следующие: “Эндрю Уайет. Автобиография” (Andrew Wyeth: Autobiography), со вступлением Томаса Ховинга; “Эндрю Уайет. Мир Кристины и дом Олсонов” (Andrew Wyeth, Christina’s World, and the Olson House) Майкла К. Команецки и Отоё Накамуры; “Уайет. Мир Кристины” Лоры Хоптмен, издание МоМА; “Переосмысление Эндрю Уайета” (Rethinking Andrew Wyeth), под редакцией Дэвида Кейтфориса; “Дивное странное. Традиция Уайета”, с предисловием Дэвида Майклза; “Эндрю Уайет. Воспоминания и волшебство” (Andrew Wyeth: Memory and Magic) Энн Клаусен Кнутсон. За подробностями о жизни Кристины и о деревенском житье в целом я обращалась к: “Джон Олсон. Моя история” (John Olson: My Story), в пересказе его дочери Вирджинии Олсон; “Старуха из Мэна” (Old Maine Woman) Гленны Джонсон Смит; “Нам полюбились леса” (We Took to the Woods) Луиз Дикинсон Рич; “Фермерские инструменты и их изготовление” (Farm Appliances and How to Make Them) Джорджа Э. Мартина и др.
Полезными оказались и многие видеоматериалы, в том числе “Мир Кристины” – документальный фильм студии “Хадсон Ривер Филм энд Видео”, ведущая Джули Хэррис; “Бернадетт” – история современной молодой женщины по имени Бернадетт Скардуцио, живущей с болезнью Шарко – Мари – Тута; фильм Би-би-си “Майкл Пейлин в мире Уайета”; видеофильм Бостонского музея изящных искусств, где Джейми Уайет, сын Эндрю, рассказывает о творческом процессе, работая над картиной под названием “Преисподняя”.
Мой близкий друг Джон Виг, одаренный писатель и редактор, вычитывал рукопись задолго до всех остальных – и не раз, а снова и снова. (Я просыпалась по утрам и обнаруживала письма, отправленные в три пополуночи, со словами: “Я тут вот еще о чем подумал…”) Рукопись стала сильнее благодаря его дотошности и вдумчивости.
Мои три сестры, Синтиа Бейкер, Клара Бейкер и Кэтрин Бейкер-Питтс, – идеальные читатели: их замечания по рукописи были точны и умны. Я в долгу перед Майлом Команецки, старшим куратором художественного музея Фарнзуорт, за терпеливые ответы на мои многочисленные вопросы и за проницательное критическое чтение рукописи. Рэйни Дэвис, Нэнси Джоунз и Дэвид Рокуэлл проверяли в романе факты; Энн Бёрт, Эллис Эллиотт Дарк, Луиз Де Сэлво, Пэмела Редмонд Сэтрэн и Мэттью Томас улучшили этот текст и в большом, и в малом. Марина Будос подарила мне зерно замысла. Мой муж Дэвид Клайн подбадривал меня и сделал множество бесценных замечаний. Лори Макги блистательно выполнила корректуру на моем последнем романе, и потому я пригласила ее вновь (и вновь она принесла пользу – тщанием и скрупулезностью). Моя невозмутимая, знающая агентесса Джери Тома поддерживала меня при каждом шаге; Саймон Липскэр и Андреа Моррисон из “Райтерз Хаус” тоже оказались невероятно отзывчивыми.
С редактором Кэтрин Нинцел я работаю уже давно. С каждым следующим моим романом восхищение мое ею лишь прибывает. При всем ее спокойствии и деликатности она непоколебима. Эта книга беспредельно лучше благодаря знающим наставлениям и чуткой редактуре Кейт. Желаю я поблагодарить и мою команду в “Уильям Морроу / Харпер Коллинз” за постоянную поддержку – Майкла Моррисона, Лиэйт Стелик, Фрэнка Албанизи, Дженнифер Харт, Кейтлин Кеннеди, Молли Уэксмен, Ньямекье Валияя, Стефани Вальехо и Марго Вайсмен.
Ну и личное: я очень благодарна моему супругу Дэвиду и сыновьям Хэйдену, Уиллу и Илаю, без которых моя собственная картина мира была бы, без сомнения, пустынной.
Примечания
1
Эбенизер Баттерик (1826–1903) – американский портной, изобретатель и предприниматель в сфере моды; Баттерик и его супруга Эллен Огаста Поллард Баттерик считаются изобретателями выкроек на кальке, предложенных в разных размерах; выпуск изданий с выкройками начался в 1863 г. и революционизировал домашнее шитье. – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Newell Convers (Ньюэлл Конверз Уайет, 1882–1945); так привычно именуют в англоязычном мире Уайета-старшего, американского художника и иллюстратора. Один из самых знаменитых его проектов – иллюстрации к “Острову сокровищ” Р. Л. Стивенсона (издание 1911 г.).
(обратно)3
“The House of the Seven Gables” (1851, рус. пер. “Дом о семи шпилях”) – второй роман американского прозаика-романтика Нэтэниэла Хоторна (Натаниэль Готорн, 1804–1864), один из образцов готического романа.
(обратно)4
Судебный процесс, проходивший в г. Сэлем (Новая Англия) с февраля 1692 по май 1693 г. Фамилия “Хэторн” пишется “Hathorne”.
(обратно)5
“Red Wing” (1907) – американская популярная песня, музыка Керри Миллза, слова Тёрленда Чэттэуэя. Некоторый анахронизм заключается в том, что к 1907 году и героине книги, и реальной Анне Кристине Олсон было уже 14 лет.
(обратно)6
Строки из последней строфы стихотворения “Раковина наутилуса” (The Chambered Nautilus, 1858) американского врача, поэта и писателя Оливера Уэнделла Хоумза-ст. (Холмса, 1809–1894).
(обратно)7
“Cream of Wheat” (с 1893 г.) – американская торговая марка манной крупы смешанного помола.
(обратно)8
Из очерка “Study of Thomas Hardy” (1936) английского прозаика, поэта, драматурга, художника Дэвида Херберта Лоренса (1885–1930).
(обратно)9
Универмаг “Фэйлз и сын” был открыт в Кушинге в 1828 г. и остается старейшим постоянно действующим универмагом в США; современный магазин существует с 1889 г. (он переехал с первого адреса, но работать не прекращал; с того времени носит имя Огастэса С. Фэйлза).
(обратно)10
“Stars In My Crown” (1897) – гимн американской школьной учительницы и христианского поэта Элизы Эдмундз Хьюитт (1851–1920); как и Кристина Олсон, Хьюитт много лет преодолевала физическую немощь (связанную с болезнью спины).
(обратно)11
Бытовой девиз времен американской Великой депрессии 1930-х гг.
(обратно)12
День поминовения (последний понедельник мая, отмечается с 1873 г.) – национальный день памяти погибших американских военных; День труда (первый понедельник сентября, отмечается с 1882 г.) – символический конец лета в США.
(обратно)13
“Der schweizerische Robinson” (1812) – приключенческая повесть для юношества швейцарского писателя Йохана Давида Висса (1743–1818); “Captains Courageous” (1897) – приключенческая повесть для юношества английского писателя и поэта Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936).
(обратно)14
Эммелин Пэнкхёрст (1858–1928) – британская общественная и политическая активистка, борец за права женщин, лидер британского движения суфражисток.
(обратно)15
Томас Вудро Уилсон (Вильсон, 1856–1924) – 28-й президент США (1913–1921), историк, политолог, лауреат Нобелевской премии мира (1919). Георг I (1845–1913) – король эллинов (1863–1913), застрелен в Салониках анархистом Александросом Схинасом.
(обратно)16
Уилла Сиберт Кэзер (1873–1947) – американский прозаик, автор романов о жизни американского фронтира. Эдит Уортон (Эдит Ньюболд Джоунз, 1862–1937) – американская писательница и дизайнер, лауреат Пулитцеровской премии.
(обратно)17
“Sons and Lovers” (1913), цит. по пер. Р. Облонской.
(обратно)18
Немецкая лютеранская церковь в Уолдоборо, Мэн, выстроена в 1772 г., первый служивший в ней пастор – Джон Улмер.
(обратно)19
“American Artist” (1937–2012) – американский журнал, посвященный современному искусству; на обложке этого журнала Эндрю Уайет был запечатлен в сентябрьском номере 1942 г.
(обратно)20
Речь о рассказе американского писателя Хермана Мелвилла (1819–1891) “Писец Бартлби” (1853).
(обратно)21
Скорее всего, речь о гигантском (королевском) стромбусе.
(обратно)22
“Maple Leaf Rag” (1899) – один из первых регтаймов, композитор Скотт Джоплин. “It’s a Long Way to Tipperary” (1912) – песня из репертуара британских мюзик-холлов, композиторы Джек Джадж и Хенри Джеймз “Хэрри” Уильямз.
(обратно)23
“Danny Boy” (1910) – баллада, неофициальный гимн американцев и канадцев ирландского происхождения, композитор Фредерик Уэзерли.
(обратно)24
Год рождения Эндрю Уайета.
(обратно)25
“The Saturday Evening Post” (с 1897 г.) – американский иллюстрированный журнал, изначально еженедельный, далее выходил все реже и реже; ныне – раз в два месяца.
(обратно)26
Речь о рассказе “Желтые обои” (“The Yellow Wallpaper”) американской писательницы Шарлотт Перкинз Гилмен (1860–1935), впервые опубликованном в 1892 г. в журнале “The New England Magazine”.
(обратно)27
Колледж Смит (c 1875 г.) – частный женский гуманитарный колледж, расположенный в Нортэмптоне, Массачусетс.
(обратно)28
“Ethan Frome” (1911) – роман Эдит Уортон.
(обратно)29
“Tiger Rag” (1917) – один из самых распространенных джазовых стандартов, впервые записан американским коллективом “Original Dixieland Jass Band”. “Lady of the Lake” – народный гэльский танец (рил), популярный в Новой Англии.
(обратно)30
Римл., 5:3, 4.
(обратно)31
2-е Кор., 4:17.
(обратно)32
“Hearst Communications” (с 1887 г.) – американская медиакорпорация, выпускающая множество газет и журналов. С 1925 по 1952 г. журнал “Космополитен”, приобретенный Уильямом Рэндолфом Хёрстом в 1905 г., официально назывался “Hearst's International Combined with Cosmopolitan”.
(обратно)33
“The Boston Globe” (с 1872 г.) и “The Boston Herald” (с 1846 г.) – американские ежедневные газеты, преимущественно распространяемые в Массачусетсе.
(обратно)34
Трилогия Уиллы Кэзер: “O Pioneers!” (1913), “The Song of the Lark” (1915), “My Ántonia” (1918).
(обратно)35
Шервуд Эндерсон (Андерсон, 1876–1941) – американский прозаик и поэт; сборник, о котором идет речь, – “Winesburg, Ohio” (1919).
(обратно)36
Единица измерения объема дров в США и Канаде, равняется 3,62 кубометра.
(обратно)37
Treasure Island (Остров сокровищ) – искусственный остров в заливе Сан-Франциско, был отсыпан в 1936–1937 г. и назван в честь романа “Остров сокровищ” (Р. Л. Стивенсон проживал в Сан-Франциско).
(обратно)38
Японские конфеты португальского происхождения, завезены в Японию в XV–XVI вв., позднее началось местное производство.
(обратно)39
“McCall’s” (1873–2002) – американский ежемесячный глянцевый журнал.
(обратно)40
Узор в виде обручальных колец на лоскутных одеялах, популярный в США.
(обратно)41
Джеймз Браунинг “Джейми” Уайет (р. 1946) – современный американский художник-реалист.
(обратно)42
“Young Goodman Brown” (1835).
(обратно)



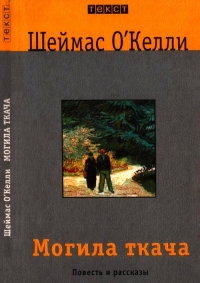
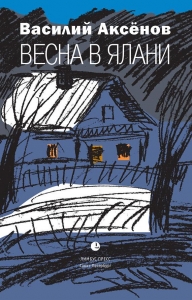


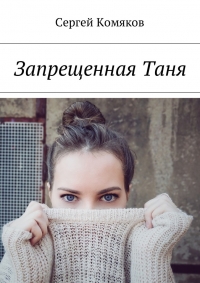


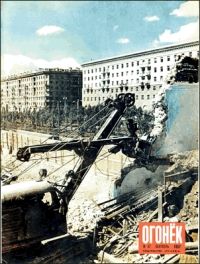

Комментарии к книге «Картина мира», Кристина Бейкер Клайн
Всего 0 комментариев