Джоанн Гринберг Я никогда не обещала тебе сад из роз
Joanne Greenberg
I NEVER PROMISED YOU A ROSE GARDEN
Серия «Азбука-бестселлер»
Copyright © 1964, 1992 by Hannah Green
Afterword Copyright © 2009 by Joanne Greenberg
All rights reserved
© Е. Петрова, перевод, примечания, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Моим матерям
Глава первая
Осенней порой они проезжали по благодатной местности, через причудливые старые городки, расцвеченные первой яркой листвой. Разговаривали мало. Из них троих отец нервничал заметно больше всех. Время от времени он прерывал затяжные паузы какими-то обрывками фраз, бессвязными и неуместными, от которых и сам, похоже, только досадовал. А один раз требовательно обратился к девочке, чье лицо поймал в зеркале заднего вида:
— Знаешь, я женился дураком еще, не имел понятия, что значит растить детей… быть отцом… понимаешь меня?..
Его защита была полунападением, но девочка так или иначе не отреагировала.
Мать предложила остановиться на чашку кофе. Поездка, сказала она, получается вроде как прогулочная, год уже к концу идет, с ними чудесная дочурка, местность красивая, глаз не оторвать.
Они свернули к придорожной закусочной. Девочка выскочила из автомобиля и заспешила к туалету позади строения. Родители резко обернулись ей вслед. Потом отец сказал:
— Все нормально.
— Нам лучше здесь посидеть или пройти внутрь? — спросила вслух мать, рассуждая сама с собой.
У нее был более аналитический ум: она все просчитывала заранее — как поступить, что сказать, — и муж не перечил, поскольку так проще и в большинстве случаев жена оказывалась права. Сейчас он, ощущая свое смятение и одиночество, позволил ей бубнить дальше — планировать, прикидывать, — потому что так она успокаивалась. А ему легче было молчать.
— Если мы останемся здесь, — продолжала жена, — то будем на виду: вдруг ей что-нибудь понадобится? А если она выйдет и нас не обнаружит… Зато будет понятно, что мы ей доверяем. Она должна чувствовать, что мы ей доверяем…
Было решено пройти в закусочную; двигались они с большой осторожностью, что, совершенно очевидно, вошло у них в привычку. Выбрав столик у окна, они смотрели, как девочка заворачивает за угол и направляется к ним, и старательно делали вид, будто она для них посторонняя, дочь совсем других родителей, с которой их только что познакомили, — какая-то Дебора, чужое дитя. Они изучили угловатую подростковую фигурку и сочли, что она вполне пропорциональна, да и личико умное, живое, хотя для шестнадцати лет чересчур инфантильное. С тем, что их ребенку свойственна какая-то не по летам горькая умудренность, они свыклись, но сейчас не могли обнаружить ее следа в этой знакомой внешности, которую, как они пытались себя убедить, научились оценивать со стороны. Отца преследовала мысль: что могут знать посторонние? Она же наша… родная. Люди ее не понимают. Тут какая-то ошибка… ошибка!
Не выпуская дочку из поля зрения, мать одновременно контролировала и себя. «Внешне… по мне ничего не должно быть заметно — ни намека, ни единого признака… идеальная видимость». И улыбалась.
Вечером они остановились поужинать в небольшом городе, где направились — с вызовом и долей авантюризма — в лучший ресторан, для которого оказались совершенно не одеты. А после ужина еще пошли в кино. Дебора, судя по всему, была в восторге от такого вечера. Они все время шутили — и в ресторане, и в кинотеатре, а потом, шагая сквозь непроглядный пригородный мрак, вспоминали забавные эпизоды прежних путешествий и хвалили друг друга за памятливость.
В мотеле, где им предстояло заночевать, Дебору поселили отдельно — это была еще одна особая и очень желанная привилегия, о чем не знал никто, даже любящие родители.
Оставшись у себя в номере, Джейкоб и Эстер Блау смотрели друг на друга из-под своих масок и не могли понять, почему им даже наедине никак не удается сбросить эти личины, свободно вздохнуть, расслабиться, хоть немного посидеть спокойно. Им было слышно, как за тонкой стенкой раздевается перед отходом ко сну их дочка. Они даже взглядом не признавались, что всю ночь будут ловить любые звуки, отличные от ее сонного дыхания, потому что любые звуки могли стать сигналом… опасности. Лишь один раз, перед тем как улечься для ночного бдения, Джейкоб сдвинул маску и напряженно прошептал на ухо жене:
— Зачем нам отпускать ее от себя?
— Врачи говорят, так нужно, — прошептала в ответ Эстер, неподвижно лежавшая лицом к стенке.
— Врачи… — Джейкоб с самого начала не хотел подвергать семью такому испытанию.
— Место хорошее, — сказала она чуть громче, как и рассчитывала.
— Одно название — психиатрический стационар, а на самом деле — застенки, Эс, застенки, куда можно упечь кого угодно. Что хорошего найдет в таком месте наша девочка… совсем еще ребенок!
— Господи, Джейкоб, — прошептала жена, — сколько времени мы раздумывали, прежде чем принять решение? Если уж даже врачам не доверять, так куда нам податься, у кого просить совета? Доктор Листер говорит, помощи больше ждать неоткуда. Нужно хотя бы попытаться! — Она вновь упрямо отвернулась к стенке.
Джейкоб смолчал и в очередной раз уступил жене; у той на все был готов ответ. Они пожелали друг другу спокойной ночи; каждый, притворяясь спящим, задышал глубоко и ровно, чтобы обмануть другого, а глаза до боли настороженно вглядывались в темноту.
За стеной на кровати лежала Дебора. В Империи Ир существовала такая нейтральная территория — Четвертый Уровень. Туда можно было попасть лишь по чистой случайности, но не по плану и не по своему хотению. На Четвертом Уровне не было переживаний, которые носишь в себе, не было ни прошлого, ни будущего, которые нужно перемалывать. Не было ни воспоминаний о собственном «я», ни тем более владения им; не было ничего, кроме упрямых фактов, которые приходили к ней незваными по мере надобности, без привязки к чувствам.
Теперь, лежа в постели, она достигла Четвертого Уровня, и будущее перестало ее волновать. Люди в соседней комнате, видимо, приходились ей родителями. Очень хорошо. Но они принадлежали к туманному миру, который сейчас развеивался по мере того, как ее, ничем не отягощенную, уносило в новые пределы, не таившие никаких тревог. Удаляясь от мира прежнего, она вместе с тем удалялась и от хитросплетений Империи Ир, от Синклита Избранных, от Цензора, от ирских богов. Перевернувшись на другой бок, она погрузилась в глубокий и успокоительный сон без сновидений.
Утром семья продолжила путь. Когда машина отъезжала от мотеля в солнечную дневную даль, Деборе пришло в голову, что путь может продлиться вечно и тогда нынешнее ощущение покоя и великолепной свободы станет новым подарком от не в меру требовательных, по обыкновению, богов и властителей Ира.
Через несколько часов, когда местность сделалась золотисто-охристой и на городских улицах заметались солнечные зайчики, мать спросила:
— Ты не пропустишь поворот, Джейкоб?
Из бездонного Жерла, что в Империи Ир, донесся вопль: «Безвинна! Безвинна!»
Дебора Блау, оказавшаяся на свободе, ударилась головой о стык двух миров. Удар, как всегда, получился зловеще беззвучным. В том мире, где она жила самой полной жизнью, солнце в небе раскололось, почва взорвалась, тело рассыпалось на части, зубы и кости, посходив с ума, раскрошились. Между тем в другом мире, населенном призраками и тенями, какой-то автомобиль свернул на боковую дорожку, ведущую к зданию из красного кирпича. Окруженная деревьями постройка рубежа двадцатого века слегка обветшала. Вполне подходящий фасад для сумасшедшего дома. Когда автомобиль затормозил у входа, Дебора еще не оправилась от столкновения; не так-то просто оказалось выбраться из машины и без заминки подняться по ступеням в вестибюль, где, наверное, поджидали врачи. На всех окнах были решетки. Дебора молча улыбнулась. Все сходится. Ладно.
При виде решеток Джейкоб Блау побледнел. Теперь у него не повернулся бы язык сказать себе «дом отдыха» или «санаторий». Голая и холодная, как эти железные прутья, на него смотрела правда. Жена попыталась внушить ему на расстоянии: «Этого следовало ожидать. Что тут удивительного?»
Их приняли не сразу; время от времени Эстер Блау привычно изображала веселье. Если не считать зарешеченных окон, помещение выглядело так же, как любой другой приемный покой, и она отпустила банальную остроту насчет древности лежавших на столике журналов. Откуда-то из коридора послышался скрежет поворачиваемого в замке большого ключа, и Джейкоб, вновь цепенея, беззвучно простонал: «Только бы не за ней… не за нашей малышкой Дебби…» Он не заметил, как на лице дочери вдруг проступила беспощадность.
На пороге медлил дежурный врач. Потом этот квадратный, приземистый человек нырнул к ним в приемный покой, где осязаемо висела душевная боль. Это старое здание — он понимал — внушало ужас всем входящим. Сейчас он готовился как можно скорее увести девочку, предварительно успокоив родителей, чтобы те не сомневались в правильности своего решения.
В этом помещении, бывало, родители, мужья, жены в последнюю минуту с содроганием отворачивались от правды о кошмарном, пугающем недуге. Бывало, они тут же забирали своего странноглазого родственника. Одними двигал страх, другими — ложно понятые лучшие побуждения, третьими — взглядом доктор еще раз оценил этих родителей — упавшие зерна зависти и злости, мешавшие им прервать длинную вереницу страданий на том самом поколении, что пришло им на смену. Врач стремился проявлять сочувствие, но в пределах разумного, и вскоре счел возможным вызвать санитарку, чтобы определить новенькую в палату. Девочка выглядела жертвой шока. Когда ее увели, он почувствовал, как родителей охватила щемящая мука расставания.
Врач заверил, что до отъезда у них еще будет возможность попрощаться с дочкой, и оставил их на попечение медсестры приемного покоя, которой предстояло занести в журнал все необходимые сведения. Увидев эту супружескую пару вторично, уже после прощания, он отметил, что они тоже выглядят как жертвы шока — и на миг подумал: болевого шока после отсечения дочери.
Джейкоб Блау был не из тех, кто копается в себе и оглядывается на прожитую жизнь, дабы измерить и взвесить все, что она вместила. Иногда он подозревал жену в словоблудии: она раз за разом начинала перелопачивать свои муки бесконечными словами, словами, словами. Впрочем, отчасти в нем говорила ревность. Он тоже любил своих дочерей, хотя никогда не признавался в этом вслух; он тоже хотел доверительности, но не умел распахивать душу; по этой причине родные и сами не спешили с ним делиться. Старшая дочь и вовсе ушла от него — можно сказать, нетерпеливо — в этот мрачный запертый и зарешеченный дом: при прощании она отступила назад и уклонилась от его поцелуя. Вроде как не пожелала утешить папу, чуть ли не содрогнулась от его прикосновения. По характеру вспыльчивый, он сейчас искал повод для ярости, очистительной, примитивной, непосредственной. Но злость его была так густо приправлена жалостью, страхом и любовью, что он не чаял, как от нее освободиться. Злость извивалась и смердела у него внутри, мало чем отличаясь от застарелой язвы.
Глава вторая
Дебору привели в тесный, неуютный санитарный блок и не спускали с нее глаз, пока она принимала душ. Даже когда она вытиралась полотенцем, ее с ног до головы оглядывала санитарка, безмятежно сидевшая в клубах пара. Послушно выполняя все распоряжения, Дебора не забывала слегка разворачивать к себе руку, чтобы скрыть от посторонних глаз следы двух маленьких целительных ранок на внутренней стороне левого запястья. Согласно новым правилам, ее снова отвели в приемное отделение, где какой-то желчный доктор с видимым недовольством заставил Дебору отвечать на личные вопросы и при этом явно не слышал, какой рев поднимается у нее за спиной.
В вакууме Междуземья, где она стояла между Иром и Данностью, оживал Синклит. Его участники грозили вот-вот разразиться потоком оскорблений и насмешек, от которого в обоих мирах у нее лопались барабанные перепонки. Она боролась с этой угрозой, как провинившийся ребенок, который в преддверии неминуемого наказания принимается махать кулаками и брыкаться. На некоторые вопросы доктора Дебора отвечала правдиво. Пускай теперь ее обзывают лентяйкой и вруньей. Рев мало-помалу нарастал, и она уже разбирала в нем отдельные слова.
В этом кабинете не за что было уцепиться. От погружения удерживали только Данность, где окопался ледяной доктор со своим блокнотом, да Ир с золотыми полянами и богами. Но в Империи Ир таились области ужаса и растерянности; теперь Дебора уже не знала, в которое из царств открыт проход. Это должны были подсказать врачи.
Она посмотрела на того, кто с безучастным видом сидел среди этого ропота, и сказала:
— Вы задали мне вопросы, и я рассказала вам правду. Теперь-то вы мне поможете?
— Это уже будет зависеть от тебя, — саркастически бросил он, закрыл блокнот и вышел.
«Знаток!» — хохотнул Антеррабей, Падающий Бог.
«Возьми меня с собой», — молила она, летя все ниже и ниже рядом с ним, ибо он падал в вечность.
«Так и быть», — отвечал он.
При падении волосы его, языки пламени, слегка вихрились от встречных воздушных потоков.
В тот день, и назавтра тоже, ее встречали равнины Ира, незатейливые длинные полосы земли, где радовала взор глубина пространства.
За эту великую милость Дебора была бесконечно признательна Силам. Непомерно много слепоты, холода и мук накопилось здесь за минувшие жестокие месяцы. Сейчас, как заведено в этом мире, образ ее расхаживал, и отвечал, и спрашивал, и действовал; она, больше уже не Дебора, а обитательница ирских равнин, нареченная подобающим именем, пела, танцевала, читала заклинания ласковому ветру, шевелившему высокие травы.
Для Джейкоба и Эстер Блау обратный путь оказался не легче дороги до клиники. Хотя они остались наедине, у них отнюдь не прибавилось свободы говорить о наболевшем.
Эстер чувствовала, что лучше, чем муж, знает Дебору. Бесконечная круговерть врачей и решений началась для нее раньше суицидной попытки дочери. Сидя в машине рядом с мужем, она хотела поведать ему, что теперь с благодарностью вспоминает этот глупый, показной случай, когда дочь вскрыла себе запястье. Тягучее предчувствие какого-то малозаметного, но страшного неблагополучия обернулось фактом. Их смутные ощущения и неявные страхи обрели вес, когда по полу в ванной комнате растеклось полстакана крови; на другой день Эстер бросилась к доктору. Теперь ей хотелось указать Джейкобу на многие вещи, которых тот не замечал, только она не знала, как завести о них речь, не обидев мужа. Она покосилась на него: Джейкоб сосредоточенно управлял автомобилем, не отрывая взгляда от дороги.
— Через пару месяцев можно будет ее навестить, — выговорила Эстер.
Потом они стали придумывать легенду для родных и знакомых, которые были не особенно им близки и в силу своих предрассудков не допускали даже мысли об отправке кого-либо из членов семьи в психиатрический стационар. Для близких лечебницу предполагалось называть пансионом, а для Сьюзи, которая за истекшие месяцы неоднократно слышала слово «болезнь», да и прежде слишком часто и глубоко недоумевала, предназначалась версия насчет анемии, слабого здоровья и специализированной лесной школы. Родителей Эстер планировалось убедить, что все в порядке… нечто вроде дома отдыха. Те уже знали о консультациях и заключении психиатра; для них предстояло изменить описание этого места и непременно вычеркнуть любые упоминания о том, что из одного зарешеченного окна доносился пронзительный, надсадный вопль, вызывавший только дрожь и зубовный скрежет. От этого вопля Эстер засомневалась, не совершают ли они в самом-то деле ошибку; вопль этот ей предстояло запереть в своем сердце, как Дебору заперли в Этом Месте.
Поднявшись со стула, доктор Фрид помедлила у окна, выходившего не на больничные корпуса, а на небольшой сад, за которым располагалась прогулочная площадка для больных. В руках у нее было заключение. На одной чаше весов грузом лежали эти три машинописные страницы, а на другой — курсы лекций, которые она не сможет прочесть, научные исследования, которые застопорятся, и консультации для молодых специалистов, которые будут отменены, реши она взяться за этот случай. Клиническая работа ей нравилась. Пациенты в силу своего заболевания рассуждали о здравомыслии так, как дано мало кому из «здравомыслящих». Лишенные любви, доверительности и элементарного общения, они зачастую стремились к этим благам с той безоглядной истовостью, какая виделась ей прекрасной.
Бывает, скорбно думала она, что мир в своем безумии дает сто очков вперед пациентам психиатрических стационаров. Ей вспомнилась Тильда из немецкой клиники: Гитлер находился по ту сторону больничных стен, но даже сама доктор Фрид не могла бы поручиться, на какой стороне царит здравый смысл. Тильда, которую привязывали к койке, принудительно кормили через трубочку и глушили психотропными, чтобы подавить волю, смогла достаточно долго сохранять проблески своей ярой ненависти. При ее появлении в палате Тильда по-актерски любезно улыбалась с застеленной грубым полотном койки и говорила: «О, входите же, милый доктор! Вы как раз подоспели к успокоительному чаю вашей больной и к концу света».
Ни Тильды, ни Гитлера уже не было в живых; молодые врачи, приходившие со студенческой скамьи без всякого жизненного опыта, с каждым годом требовали все больше и больше внимания. Есть ли у нее моральное право брать частных пациентов, на которых, возможно, придется потратить многие годы, чтобы добиться сколько-нибудь заметного улучшения, притом что тысячи, десятки тысяч других требуют, пишут, звонят, молят о помощи? Доктор Фрид усмехнулась, поймав себя на тщеславии, которое сама же когда-то назвала злейшим врагом доктора, вторым после заболевания пациента. Если даже Всевышний действовал поэтапно, пусть это будет ей примером.
Она вернулась за стол, открыла папку и стала читать:
ПАЦИЕНТ: БЛАУ ДЕБОРА Ф. Полных лет: 16. Предшеств. госпитализации: Нет.
ПЕРВИЧНЫЙ ДИАГНОЗ: ШИЗОФРЕНИЯ
1. Тестирование. Тесты показывают высокий уровень (140–150) умственного развития, но паттерны нарушены заболеванием. Многие вопросы интерпретируются неверно, с гипертрофированным отнесением на свой счет. Полностью субъективная реакция на беседу и тестирование. Анализ невротичности выявил характерные шизофренические сценарии с компульсивным и мазохистским компонентом.
2. Беседа (первичная). При поступлении больная производила впечатление хорошо ориентированной, способной к логическому мышлению, но в ходе беседы логика временами ослабевала, и при любой реплике, истолкованной как поправка или критика, больная проявляла крайнее беспокойство. Всеми средствами пыталась блеснуть остроумием, используя его как мощную защиту. В трех случаях проявила неуместную веселость: один раз, когда заявила, что причиной госпитализации стала суицидная попытка, и дважды — в ответ на вопрос о календарной дате. В ходе беседы ее отношение изменилось, она повысила голос и в качестве причин заболевания перечислила разрозненные обстоятельства своей жизни, такие как перенесенное в возрасте пяти лет оперативное вмешательство и его травматические последствия, жестокость няни и т. п. Упомянутые случаи не были связаны между собой и не подчинялись определенному сценарию. При пересказе одного случая больная рванулась вперед и обвинительным тоном спросила: «Я рассказала вам правду — теперь-то вы мне поможете?» Продолжение беседы стало нецелесообразным.
3. Семейный анамнез. Место рожд.: г. Чикаго, штат Иллинойс. Дата рожд.: октябрь 1932. Грудное вскармливание до 8 м-цев. Одна сестра, Сьюзен, 1937 г. р. Отец: Джейкоб Блау, бухгалтер; родители эмигрировали из Польши в 1913 г. Роды срочные. В возрасте 5 лет перенесла 2 операции по поводу опухоли мочеиспускательного канала. Вследствие тяжелого материального положения семья съехалась с дедом и бабкой по материнской линии, проживающими в пригороде Чикаго. Положение улучшилось, но у отца были диагностированы язва желудка и гипертензия. Во время войны (1942 г.) семья вернулась в черту города. Больная испытывала трудности с адаптацией и подвергалась издевательствам одноклассников. Половое созревание физически протекало нормально. В возрасте 16 лет совершена суицидная попытка. Многолетняя склонность к депрессиям; физическое состояние все годы в норме, за исключением онкологии.
Перевернув страницу, она пробежала глазами количественные показатели и результаты тестов.
Шестнадцать лет — такие юные больные до сих пор ей не встречались. Даже не принимая в расчет личность девушки, интересно было бы выяснить эффективность психотерапии в случае пациентки со столь скромным жизненным опытом и установить, облегчает это работу или усложняет.
В конце концов именно ее возраст повлиял на решение доктора Фрид и добавил этой тонкой папке больше веса, чем предстоящая обязанность посещать клинические разборы и писать статьи.
— Aber wenn wir… Если мы добьемся успеха… — прошептала она, с усилием переключаясь на неродной язык, — сколько будет впереди славных лет…
И вновь посмотрела на цифры и факты. История болезни, похожая на эту, в свое время вынудила ее сказать одному психологу-клиницисту: «Когда-нибудь нужно будет разработать тест, который позволит выявлять не только отклонение, но и норму».
Психолог тогда ответил, что такие сведения гораздо легче получить при помощи гипноза, аметилов и пентоталов.
— Не думаю, — возразила ему доктор Фрид. — Скрытая сила — слишком глубинная штука. Но по большому счету… по большому счету это наш единственный союзник.
Глава третья
В течение некоторого времени — сколь долго по земным меркам, Дебора не ведала, — все было тихо-спокойно. Мир почти ничего не требовал, а потому опять создалось впечатление, что муки Ира большей частью проистекают от давления извне. Порой из Ира можно было подглядеть за «реальностью», отделенной как будто лишь кисейным пологом. В таких случаях из Деборы она превращалась в Янусю, уподобляясь двуликому Янусу, у которого для каждого из миров свое лицо. Ее школьные неприятности начались как раз с того, что она случайно выдала это имя. Жила она по Тайному Календарю (ирское летоисчисление значительно отличалось от земного), но в середине дня возвращалась к Тяжкому Календарю, и тогда ее посещало дивное, вездесущее чувство преображения; вот в такой момент она и подписала проверочную работу: «Уже ЯНУСЯ». Учительница спросила: «Дебора, это еще что за метка? Что за слово такое: „Януся“?»
И пока учительница стояла у нее над душой, в будничной, дневной классной комнате оживал и поднимал голову какой-то ночной кошмар. Оглядевшись, Дебора поняла, что видит одни очертания, серые на сером фоне, лишенные глубины, плоские, будто рисованные. Метка на тетрадном листе представляла собой эмблему, летевшую на Землю из ирского времени, но застигнутую в полете, а потому отвечать пришлось и за одно, и за другое. Ответом своим она едва не выдала ужаса — ужаса, от которого невозможно очнуться в здравом рассудке, вот ей и пришлось лгать и увиливать, отчего сердце заколотилось так, что не давало дышать. Чтобы впредь не допускать подобной опасности, ночью Великий Синклит — боги и демоны Ира и земных теней — в полном составе втиснулся в Междуземье и назначил Цензора, чтобы тот присматривал за империей и вклинивался между словами и поступками Деборы, охраняя тайну существования Ира.
С годами могущество Цензора только крепло, а в последнее время он стал все чаще врываться то в один мир, то в другой, дабы не упускать из виду ни единого слова или дела. Один неосторожный шепоток, один начертанный знак, один проблеск света мог вломиться в тайные пределы и навек уничтожить ее саму вместе с двумя мирами.
На Земле текла больничная жизнь. Дебора с благодарным чувством приходила в кабинет трудотерапии, где можно было спрятаться от этого мира. Она училась плетению из лозы, воспринимая наставления инструктора в своей сардонической и нетерпеливой манере. Другие ученицы — она это знала — ее не любили. Окружающие никогда ее не любили. В общей спальне рослая девушка предложила ей партию в теннис — это был такой шок, от которого содрогнулись все уровни Ира, вплоть до самого последнего. Несколько раз Дебору вызывали для беседы к тому же доктору с карандашом; она узнала, что это «заведующий отделением» и от него зависят «поблажки» — шаги в сторону нормального мира: подъем, выход из отделения, ужин, прогулка по территории, даже поход в кино или в магазин. Все это относилось к разряду поощрений и косвенно указывало на похвалу, которая, судя по всему, измерялась в расстояниях. Деборе позволили гулять на площадке, но не выходить за территорию. Той рослой девушке по имени Карла она сказала:
— Значит, во мне разума — всего на сто квадратных ярдов.
Если существуют такие единицы измерения, как человеко-часы и световые годы, то уж разумо-ярды — и подавно.
Карла ответила:
— Не волнуйся. Скоро тебе больше поблажек дадут. Сотрудничай как следует с доктором — и будут небольшие послабления. Меня-то, интересно, сколько еще тут продержат? И так уж три месяца отсидела.
Тут обе подумали о женщинах, содержавшихся в дальнем крыле. Все они находились здесь более двух лет.
— А кому-нибудь вообще удавалось отсюда выйти? — спросила Дебора. — То есть поправиться и выйти?
— Понятия не имею, — ответила Карла.
Они спросили одну из медсестер.
— Понятия не имею, — сказала та. — Я здесь новенькая.
Тут послышался стон черного бога Лактамеона, а потом издевательский хохот Синклита, превратившегося в скопище учителей, родственников, одноклассников, которые без конца осуждали и бранили.
«Это навек, дуреха! Навек, распустеха!»
В один из дней к койке, на которой, глядя в потолок, лежала Дебора, подошла молоденькая медсестра-практикантка.
— Пора вставать, — с дрожью в голосе сказала она, мучаясь от собственной неопытности.
В больницу на психиатрическую практику пришла новая студенческая группа. Дебора вздохнула и послушно спустила ноги на пол, думая: «От меня по всему помещению расползается туман сумасшествия, и это ее пугает».
— Пойдемте, — сказала практикантка. — Вас доктор вызывает. На весь мир известная, светило, так что нужно поспешить, мисс Блау.
— Раз она такая знаменитость, я тапки надену, — ответила Дебора, видя, как у студентки расширились глаза, а на лице отразилось неодобрение. Должно быть, инструкции запрещали ей проявлять более сильные эмоции — гнев, страх, веселье.
— Вы еще благодарить будете, — сказала девушка. — Это большое везение, что она согласилась вами заняться.
— Знаменитость, обожаемая психами всего мира, — сказала Дебора. — Идемте.
Практикантка отперла дверь отделения, затем дверь на лестничную площадку; спустившись в вестибюль свободной планировки, они вышли из корпуса через служебный подъезд. Девушка указала на побеленное строение с зелеными ставнями — ни дать ни взять жилой дом где-нибудь в провинции, среди дубовой рощицы, — затаившееся в глубине больничной территории. У дверей они позвонили. Через некоторое время им открыла крошечного роста женщина, пухлая и седая.
— Из приемного отделения направили. Вот она, — сказала медсестра.
— Сможете прийти за ней через час? — спросила коротышка.
— Я обязана ждать здесь.
— Отлично.
Стоило Деборе переступить через порог, как Цензор забил тревогу: «Где же доктор? Подглядывает в щелку?»
Крошка-домоправительница жестом позвала ее в какое-то помещение.
— Где же доктор? — спросила Дебора, пытаясь отрешиться от мелькания стен и дверей.
— Это я, — ответила женщина. — Разве тебе не сказали? Доктор Фрид.
Антеррабей смеялся, падая все ниже и ниже к себе во мрак:
«Ну и маскировка!»
А Цензор шипел:
«Будь начеку… будь начеку».
Они прошли в залитую солнцем комнату, где Домоправительница-Знаменитость обернулась и сказала:
— Присаживайся. Устраивайся поудобнее.
Нахлынуло полное изнеможение; а когда доктор поинтересовалась: «Расскажешь мне что-нибудь?» — Дебору охватил такой гнев, что она даже вскочила и только потом ответила Иру, и Синклиту, и Цензору:
— Ладно… задавайте свои вопросы, я отвечу — и вы уясните мои «симптомы», после чего отошлете меня домой… и что со мной будет дальше?
Доктор отреагировала спокойно:
— Не будь у тебя желания от них избавиться, ты бы не стала со мной беседовать. — (Дебору стягивала удавка страха.) — Ну же, садись. Если ты еще не решила, от чего именно готова избавиться, не спеши; но пустота непременно чем-нибудь да заполнится.
Дебора села, и Цензор по-ирски сказал:
«Обрати внимание, Легкокрылая: здесь множество журнальных столиков. У них нет защиты от твоей неуклюжести».
— Тебе известно, почему ты здесь? — спросила доктор.
— Потому что неуклюжая. Это первое, а дальше по списку: ленивая, непослушная, настырная, эгоистка, толстуха, уродка, жадина, бестактная и жестокая. Да, и еще врунья. В последней категории есть подпункт «А»: симуляция слепоты, воображаемые боли, от которых реально сгибаешься пополам, надуманные периоды глухоты, ложные травмы ног, вымышленное головокружение, бездоказательное и злостное недомогание; и есть подпункт «Б»: скверный характер. Вроде я упустила неприветливость?.. Да, неприветливость.
В тишине, которую прорезал сноп солнечных лучей с пляшущими в нем пылинками, Дебора подумала, что, похоже, впервые открыто высказала свои истинные чувства. Если все это правда, так тому и быть, но перед уходом из кабинета она хотя бы выплеснет усталость и отвращение от этого темного, мучительного мира.
Доктор ответила попросту:
— Что ж, список внушительный. Мне кажется, не все пункты соответствуют действительности, но по крайней мере наша задача теперь ясна.
— Сделать меня приветливой, милой, покладистой и научить радоваться каждому новому обману.
— Помочь тебе выздороветь.
— Заткнуть мне рот, чтобы не лезла со своими жалобами.
— Нейтрализовать те, которые проистекают из смятения твоих чувств.
Удавка затянулась еще туже. Страх неудержимо пульсировал в голове и туманил зрение серостью.
— Вы говорите, как все: лживые жалобы на вымышленные болезни.
— По-моему, я сказала, что ты серьезно больна.
— Как и прочие, кого сюда запихнули? — Она осмелилась подойти совсем близко, слишком близко к черным пределам ужаса.
— Ты хочешь узнать, правомерна ли твоя госпитализация и относится ли твой недуг к разряду психических расстройств? Если так, отвечу «да». Я считаю, что именно такова природа твоего заболевания, но, если ты будешь стараться изо всех сил и если твой лечащий врач тоже будет стараться изо всех сил, у тебя, я считаю, может наступить улучшение.
Вот так, открытым текстом. И все же, несмотря на ужас, связанный с завуалированным, обойденным словом «сумасшедшая», с этим невысказанным словом, которое сейчас вертелось у нее в голове, Дебора узрела в словах врача некий отсвет, мерцавший и прежде в самых разных помещениях. И дома, и в школе, и во всех медицинских кабинетах звучало злорадное: «ВСЕ У ТЕБЯ НОРМАЛЬНО». Однако сама Дебора уже много лет понимала, что у нее далеко не все нормально, что дело куда серьезней, чем временная потеря зрения, резкая боль, хромота, ужас и провалы в памяти. Ей вечно повторяли: «Все у тебя нормально, а если бы ты еще…» Теперь наконец хоть кто-то оспорил прежние злопыхательства.
Доктор спросила:
— О чем задумалась? По лицу видно: напряжение чуть-чуть отступило.
— Я задумалась, в чем разница между правонарушением и преступлением.
— В каком смысле?
— Арестант признает себя виновным в отсутствии острого тра-та-тита и соглашается с вердиктом «придурь первой степени».
— Скорее, второй степени, — едва заметно улыбнувшись, сказала доктор. — Не вполне преднамеренно, но и не полностью умышленно.
Перед глазами у Деборы неожиданно возникли ее родители, стоящие очень одиноко, но все же вместе по другую сторону запертой бронированной двери. Без умысла, но с предварительным намерением.
В соседнем кабинете зашевелилась сестра-практикантка, как будто напоминая, что отведенное время вышло.
Доктор сказала:
— Если возражений нет, назначим следующую встречу и начнем наши беседы. По моему убеждению, если мы с тобой будем вкалывать как черти, то победим эту дрянь. Но еще раз уточню: я не собираюсь вытягивать из тебя никакие симптомы против твоей воли.
Дебора уклонилась от прямых обещаний, но позволила себе изобразить на лице очень осторожное «да», и доктор это увидела. Из кабинета они вышли вместе с Деборой, которая старательно делала вид, будто она сейчас находится вовсе не здесь, будто не имеет ни малейшего отношения к этому флигелю и к его хозяйке.
— Завтра в это же время, — сказала доктор медсестре и пациентке.
— Она вас не понимает, — вставила Дебора. — Харон владел только древнегреческим.
Доктор Фрид коротко усмехнулась, но тут же посерьезнела:
— Надеюсь, когда-нибудь я помогу тебе увидеть этот мир непохожим на стигийский ад.
Практикантка и больная повернулись и вышли на улицу; Харон в белой шапочке и полосатой униформе переправлял в застенки отделившийся от тела дух. Наблюдая из окна за их продвижением к главному корпусу, доктор Фрид думала: где-то под этой акселерацией и ожесточенностью, где-то под этим заболеванием, чьи границы пока не поддаются определению, лежит скрытая сила. Она там, она действует; она отозвалась проблеском облегчения, когда был озвучен факт болезни, и более всего проявилась в «суицидной попытке», немом крике о помощи, и в заявлении, таком дерзком и драматичном, на какое способны лишь подростки и несдающиеся больные, что игра окончена и покровы сняты. Факт этой душевной болезни вырвался наружу, но болезнь как таковая по-прежнему глубоко прячет свои корни в жерле вулкана с обманчиво зеленеющими склонами, а глубоко под вулканом зарыты семена воли и стойкости. Доктор Фрид со вздохом вернулась к работе.
— В этом случае… в этом случае я способна только начать движение! — пробормотала она, переходя на родной язык.
Глава четвертая
Сьюзи Блау спокойно восприняла известие о школе санаторного типа, а Эстер попыталась обрисовать клинику своим родителям как дом отдыха. Но они не повелись на этот обман и пришли в ярость.
— У нее с головой все в порядке! Девочка в здравом уме, — отрезал глава семейства. (В его устах это звучало высочайшей похвалой.) — Просто у нас в роду мозги передались через поколение и достались ей. Она — это я, моя кровинка. А вы катитесь ко всем чертям! — И вылетел из комнаты.
В последующие дни Эстер умоляла отца с матерью поддержать ее решение, но старик (Дебора была его самой ненаглядной внучкой) немного смягчился лишь под влиянием общих любимчиков, своего старшего сына Клода и младшей дочери Натали, которые в присутствии родителей признали обоснованность этого шага.
Джейкоб помалкивал, но не находил себе места. Вместе с женой он дважды съездил к доктору Листер, которую внимательно выслушал, пытаясь увериться, что они поступили правильно. Под градом прямых вопросов доктор вынужденно соглашалась, да и факты склоняли Джейкоба к ответу «да», но стоило ему хоть на миг дать волю чувствам, как со всех сторон подступали серьезные опасения. Когда они с Эстер спорили, главная мысль оставалась невысказанной, а в воздухе плыли безмолвные обиды и упреки.
По истечении первого месяца из клиники прислали обтекаемую выписку. Дебора «удовлетворительно адаптировалась» к режиму и медперсоналу, начала посещать сеансы психотерапии, совершает прогулки по территории. Из этой неопределенности Эстер извлекла все крупицы надежды: раз за разом она, вчитываясь в слова, изучала, будто под лупой, каждый положительный признак, так и этак разворачивала сообщение новыми гранями, чтобы поймать сколь-нибудь яркие блики.
А кроме того, чтобы успокоить Джейкоба и папу, она репетировала свои доводы перед зеркалом. По ее мнению, папа в глубине души понимал, что решение о госпитализации Деборы не было ошибочным, а злился исключительно по причине уязвленного самолюбия. Эстер замечала, что ее властный, порывистый, неуемный и блистательный отец-иммигрант мало-помалу оттаивает, но при этом становится еще более резким на язык. Временами у нее закрадывалось подозрение, что теперь, с признанием болезни Деборы, все их жизненные устремления и цели насильственно подвергаются пересмотру. Как-то вечером она вдруг спросила Джейкоба:
— В чем наша вина? Разве мы действовали ей во зло?
— Почем я знаю? — ответил он. — Кабы знал, я бы действовал иначе. Мне казалось, ей созданы все условия, очень даже хорошие условия. Теперь нам объясняют, что это не так. Мы ее любили, утешали. Она не знала ни холода, ни голода…
Тут Эстер вспомнила, что у Джейкоба тоже иммигрантское прошлое, в котором были и холод, и сырость, и голод, и отчуждение. Не иначе как он поклялся, что его дети будут избавлены от невзгод! Ее ладонь легла ему на локоть, будто стремилась защитить, но от этого жеста он слегка взвился:
— Что еще нужно, Эстер? Что еще?
Она не смогла ответить, но на следующий день написала в больницу письмо с просьбой о встрече с лечащим врачом. Джейкоба это порадовало; в ожидании ответа он каждый день просматривал почту, а старик только фыркал:
— Толку-то что? Разве они признают свою ошибку? На всех должностях сидят остолопы. И дурка не исключение.
— Чушь! — выпалил Джейкоб, никогда не позволявший себе таких выпадов против тестя. — Доктора соблюдают нормы врачебной этики. Если вскроется ошибка, Дебору тут же отпустят домой.
Эстер поняла: муж все еще надеется, что диагноз будет пересмотрен и свершится чудо — запертая дверь распахнется настежь, а кинопленка минувшего года их жизни начнет отматываться назад, и все посмеются над причудами судьбы… назад, назад, чтобы стерлось и навсегда исчезло прошлое. Ее вдруг пронзила жалость к Джейкобу, но она не могла допустить, чтобы он счел это причиной ее запроса о встрече с врачом.
— Я хотела сказать докторам… спросить… ну… ведь наша жизнь переменилась… но Дебора, возможно, не все знает… что заставляло нас поступать так, а не иначе. И далеко не все зависело только от нас.
— Мы вели простую жизнь. Честную. Достойную.
Он произнес это с полной убежденностью, и Эстер отметила, что сумела в какой-то мере повлиять на мужа и на их отношения — как до свадьбы, так и после, когда ей следовало изменить свои приверженности, но она этого не сделала. Теперь у нее отпало желание уязвлять Джейкоба. Да и зачем, если почти все противоречия остались в прошлом. Для всех, кроме Деборы, эти вопросы утратили всякий смысл, а какой смысл усматривала в них Дебора — кто знает?
Дома в первые месяцы нет-нет да и выпадали минуты покоя, даже благоденствия. Сьюзи, оставшись без сестры, начала приходить в себя, а Джейкоб понял, хотя и не признавал этого вслух, что при Деборе он постоянно ходил на цыпочках, держался в тени, страшился чего-то неназванного.
Как-то раз к Сьюзи заглянула компания одноклассниц, бойких и смешливых; Эстер недолго думая всех накормила ужином. Сьюзи просто сияла; после их ухода Джейкоб добродушно заметил:
— Вот несмышленые! Неужели мы тоже такими были? А та пигалица, в шапочке! — Он посмеялся и, поймав себя на искренности этого удовольствия, сказал: — Господи… весь вечер сегодня хохочу. Когда я в последний раз веселился? — А потом: — Неужели так давно? Столько лет назад?
— Да, — подтвердила она. — Именно столько лет назад.
— Тогда, возможно, и правда, что она была… несчастлива, — проговорил он, имея в виду Дебору.
— Больна, — поправила Эстер.
— Несчастлива! — вскричал Джейкоб и выскочил за дверь, чтобы через пару минут вернуться. — Просто несчастлива! — повторил он.
— Твои родители пишут, что хотят тебя проведать, — сообщила доктор Фрид.
Она сидела по другую сторону тяжелой опускной заслонки двенадцатого века, иногда разделявшей их во время бесед. Сегодня заслонка была поднята и скрыта от глаз, но стоило доктору заговорить о приезде родителей, как Дебора уловила тяжелый скрежет.
— Что такое? — спросила доктор, которая никак не могла слышать металлического лязга, но заметила его воздействие.
— Я вас почти совсем не вижу и не слышу, — сказала Дебора. — Вы как будто за воротами.
— Опять эти средневековые ворота. Знаешь, в воротах обычно бывает калитка. Почему бы тебе ее не приоткрыть?
— Калитку заело.
Доктор уставилась на свою пепельницу.
— Не очень-то они искусны, ваши кузнецы, если проделали в воротах калитку, которую сами не могут открыть.
Дебору раздосадовало, что доктор нащупала ее тайны и выдернула их для собственных целей. Спасительные решетки утолщались, чтобы оградить ее от врача. Негромкий, с каким-то акцентом голос за железной стеной угасал, угасал и в конце концов сменился тишиной, напоследок успев спросить:
— Но ты-то хочешь, чтобы они приехали?
— Пусть мама приедет, — ответила Дебора. — Без него. Я не хочу, чтобы он меня навещал.
И сама удивилась этим словам. Она понимала, что произнесла их не просто так, что они чем-то важны, но не знала, чем именно. Не один год у нее с языка слетали слова, для которых разум, насколько ей помнилось, команды не давал. Порой ее лишь задевало некое чувство. Чувство это иногда наделялось голосом, но логика его, которая могла бы убедить мир, молчала, а потому Дебора утратила веру в собственные желания. А из-за этого отстаивала их еще более слепо. Сейчас — она сама это понимала — ее захлестнул восторг от власти награждать и карать. Ее оружием против отца стала его любовь, но Дебора знала, хотя и не могла этого выразить словами, что его жалость и любовь сейчас для нее опасны. А эта больница сейчас ей полезна. Знала она и то, что отстоять свое знание не сумеет, что не сможет объяснить, почему сейчас ее место именно здесь. Видя ее немоту на фоне красноречия замков и решеток, Джейкоб мог поддаться ужасу и тоске, которые она у него заметила, когда ее сюда привезли. Может статься, он решит положить конец этому «тюремному заключению». Женщины в надзорном отделении без конца завывали и кричали. Любая из них могла склонить чашу весов не в ту сторону. Все это Дебора знала, просто не могла высказать. Да и об ощущении своей власти помнила.
По движениям губ доктора она догадывалась, что на нее сыплются вопросы и укоры. Она полетела вниз вместе с богом Антеррабеем, сквозь его рассеченную пламенем тьму — в Ир. На этот раз падение было долгим. На пути встречались протяженные области серого, видимые глазом только как полосы. Место оказалось знакомым: Жерло. Здесь стонали и кричали Синклит и боги, но даже их речи были неразборчивы. Доносились и людские звуки, но лишенные смысла. Вклинивались отдельные слова, но лишенные смысла. Встревал и земной мир, но растрескавшийся и неузнаваемый.
Как-то раз в Жерле Дебора обварилась: заметила плиту с кипящей в котелке водой, но не придала значения ни смыслу, ни форме. Смысл вообще утратил важность. И страха, конечно, в Жерле тоже не было, потому что страх точно так же ничего не значил. Она даже человеческий язык порой забывала.
Ужас Жерла проявлялся на выходе, когда к ней возвращались воля, неравнодушие, ощущение необходимости смысла, возникавшее раньше самого смысла. А однажды в школе был случай, когда во время ее подъема из Жерла учительница ткнула пальцем ей в тетрадку и спросила:
— Это еще что такое… вот это слово?
Дебора отчаянно пыталась разобрать черные штрихи и закорючки на белом фоне. Но безуспешно. Ей пришлось собрать все силы, чтобы припомнить, как по-английски переспросить:
— Что-что?
Учительница рассердилась. Но разве Дебора умничала?
— Вот здесь — какое слово?
Никакое. Штрихи и точки на белом листе, не удавалось извлечь ни единой частицы реальности. В отдалении кто-то захихикал, и учительница, боясь, очевидно, уронить свой авторитет, отвязалась от безмолвной Деборы и растворилась в серости. Настоящее превратилось в ничто, мир — в ничто.
На повторном приеме у доктора Фрид ужас подъема на поверхность еще не наступил. Дебора по-прежнему находилась глубоко в Жерле, где ей нисколько не мешало отсутствие языка, и смысла, и даже света.
Эстер Блау нетерпеливо вскрыла конверт и стала читать письмо — вначале с недоумением, а потом гневно.
— Здесь говорится, что она ждет моего приезда, но сказала врачу, что в этот раз хочет пообщаться со мной наедине. — Чтобы не задевать чувства Джейкоба, она опустила оборот речи, использованный в письме: «…не желает видеть мистера Блау».
Джейкоб ответил:
— Что ж, съездим, немного побудем все вместе, а потом вы с ней, если захотите, пошушукаетесь наедине.
Эстер подступила на шаг ближе к суровой правде:
— Пойми, Джейкоб, они считают, что приезд обоих родителей — это пока чересчур. Я сама сяду за руль, а могу и поездом добраться.
— Не говори глупостей, — отрезал он. — Что за бред? Я тоже поеду.
— Это не бред, — возразила она. — Прошу тебя, Джейкоб…
Он схватил со стола выписку и прочел; разозлила его не столько суть дела, сколько жена, которая пыталась его щадить и ограждать.
— Что она себе позволяет?
— Она нездорова, Джейкоб… сколько раз я тебе говорила… и доктор Листер твердила то же самое.
— Ладно! — прервал он. — Ладно. — Злость сменилась досадой. — Одну тебя не отпущу. Довезу до места и побуду где-нибудь в стороне. Если она передумает, сможет и со мной повидаться.
— Конечно.
Эстер снова пошла на уступку, ясно сознавая, что теперь ее постоянно будут тянуть в разные стороны, но отказать Джейкобу не могла. Оставалось только надеяться, что он поприсутствует на беседе с врачом и получит подтверждение из первых рук. Она встала и забрала у него письмо, уповая на то, что боль от недвусмысленного отказа притупится за время поездки.
Направляясь в спальню, чтобы убрать письмо, она услышала, как Сьюзи говорит по телефону с подружкой. Дочь бубнила:
— Ну, не знаю я… Какие могут быть планы?.. Говорю же тебе. Моя сестра Дебби серьезно болеет. Нет… Им каждый месяц присылают выписку о ее состоянии здоровья. Да нет, не в этом дело. Просто если придет плохая выписка, у них не будет желания устраивать праздник… Еще бы… Ладно, если разрешат, сразу сообщу.
Эстер в голову внезапно ударил беспомощный гнев, от которого на миг даже защипало глаза. Дебора! Дебора… что ты с нами со всеми сделала!
Глава пятая
Доктор Фрид приняла мать своей пациентки в светлом, заваленном папками кабинете. Ей как врачу важно было разобраться, кем в ходе лечения дочери станет Эстер Блау: союзницей или помехой. Многие родители говорили — и даже искренне считали, — что стремятся помочь своим детям, а сами давали понять, завуалированно или прямо, что их дети — это часть тайного родительского плана по саморазрушению. Для не вполне уравновешенных родителей независимость ребенка — слишком большой риск. За безупречной видимостью Эстер доктор Фрид разглядела ум, опыт и прямоту. А также некоторую напряженность, из-за которой улыбка получалась довольно натянутой. Как же нещадно боролись, должно быть, эти две воли, причем много лет!
Они расположились в удобных креслах; у доктор Фрид была небольшая одышка; а кроме того, при виде внушительных украшений посетительницы ей стало неловко за свою неухоженность. Она пригляделась еще раз. Женщина вменяема: она принимает тяжкие кары реальности и ценит ее дары. О дочери этого сказать нельзя. В чем корни этого различия?
Мать обводила глазами кабинет:
— Это сюда… приходит Дебора?
— Сюда.
На тщательно контролируемом лице проступило облегчение.
— Обстановка приятная. Без… решеток. — Пытаясь сохранять непринужденный вид, она с таким трудом выдавила последнее слово, что доктор едва не содрогнулась.
— В данный момент это, по существу, не имеет значения. Не знаю, достаточно ли у нее ко мне доверия, чтобы отвлекаться на обстановку.
— Моя дочь выздоровеет? Я так ее люблю!
Если это правда, подумала доктор Фрид, то вашей любви предстоят серьезные испытания в свете того, что ждет впереди. Вслух она сказала:
— Чтобы она выздоровела, мы все должны набраться терпения и трудиться как проклятые. — Это разговорное выражение, произнесенное с иностранным акцентом, звучало неестественно. — Ей потребуется огромный запас энергии, чтобы побороть собственную мотивацию к безопасности… поэтому вам иногда будет казаться, что она утомилась и перестала за собой следить. На данном этапе вас тревожит что-то еще?
Эстер с трудом формулировала свои мысли. Сейчас и в самом деле преждевременно было думать о каком-либо улучшении; тревожило ее нечто иное.
— Видите ли… мы все время… днями напролет… думаем только о том, как и почему это могло случиться. Она была окружена такой любовью! Говорят, подобные болезни коренятся в прошлом, в детстве. Поэтому мы день за днем обращаемся мыслями к прошлому. Я уж крутила так и этак, Джейкоб тоже, да и все близкие размышляют о том же — и только диву даются, но никто из нас так и не понял, в чем же причина. Причины нет, понимаете? Это страшит нас более всего.
Голос ее звучал на тон выше, чем ей хотелось: она пыталась убедить в своей правоте эти столы и стулья, эту докторшу и всю клинику, где за решетками вопят люди, которые, скорее всего, попали сюда по совершенно иным причинам… скорее всего.
— Причины слишком обширны, чтобы увидеть их разом, а тем более в подлинном свете, но мы можем поделиться своими мыслями о реальном положении дел и его причинах. Расскажите мне с вашей личной точки зрения, что вам известно о Деборе и о себе и как вы это поняли.
— Тогда, видимо, начать следует с моего отца.
Папа был выходцем из Латвии. Он страдал косолапостью. Почему-то эти два факта рекомендовали его более полно, чем имя и род занятий. В Америку он приехал молодым парнем, без гроша в кармане: иностранец, да еще колченогий, он атаковал свою новую жизнь, как врага. В ярости он прошел обучение, в ярости занялся бизнесом, прогорел, но смог подняться и разбогатеть. Купил великолепный особняк в историческом районе, где царили родовитость и фамильные состояния. У его соседей было все, чем он восхищался; а они, в свою очередь, презирали его за веру, акцент и образ жизни. Существование его жены и детей сделалось невыносимым, а он знай осыпал всех подряд — и соседей, и жену с детьми — грубой бранью из своего убогого прошлого. Окончательная победа, как он понимал, ему не светила, но маячила перед его отпрысками, которые получили образование, пообтесались и говорили без акцента. Чтобы вытеснить латышские и еврейские ругательства, усвоенные детьми у него на коленях, он нанял для них учителя жеманного французского.
— В тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, — рассказывала Эстер, — девочек из благополучных семей обучали игре на арфе. Знаю об этом не понаслышке: меня тоже заставляли брать уроки, хотя арфа уже вышла из моды, а сама я терпеть не могла этот инструмент и не обнаруживала никаких способностей. Но игра на арфе приравнивалась к почетному трофею, и отец старался его заполучить, хотя бы моими руками. Бывало, я играю, а отец расхаживает по комнате и бубнит себе, благополучному: «Глядите, черти, это же я, жалкий калека!»
Его «американские» дети росли с осознанием того, что их достоинства, и светские манеры, и образование — все это одна видимость. Чтобы получить представление о том, чего они стоят на самом деле, достаточно было перехватить взгляды соседей или послушать, как выражается глава семьи насчет остывшего супа или опоздания дочкиного ухажера. Каждый ухажер тоже расценивался как трофей: как гордый штандарт высокородного семейства, как орден, добытый, в старинных традициях, общими усилиями. Эстер не оправдала родительских надежд. Ее поклонник был сообразителен, учтив и недурен собой, но оказался всего лишь выпускником бухгалтерских курсов, а семья его — «кучкой нищих гринго», недостойных Эстер, недостойных мечты, откуда ни посмотри. Дома начались бесконечные пререкания и скандалы, но в конце концов, учитывая, что Джейкоб производил впечатление перспективного молодого человека, глава семейства сдался. Незадолго перед этим Натали сделала завидную партию, и семья позволила себе сыграть на понижение. Вскоре обе молодые жены забеременели. В собственных глазах папаша уже выглядел основателем династии.
И Эстер произвела на свет белокурую дочь! Уникальную, поразительную, немыслимую златовласку с бледной кожей. Ее рождение избавило Эстер от негласной опалы, а основателю династии позволило окончательно уравнять себя с давно ушедшим в мир иной помещиком, отцом белокурых дочерей. Такая малышка была на вес золота.
Потом Эстер вспомнила Великую депрессию, когда на всем лежала печать страха. Страха и — Эстер не сразу подобрала слово, чтобы передать дух того времени, — нереальности. Трудовой путь Джейкоба начался на низшем пределе возможностей. Бухгалтерские счета (скучные, рутинные, разрозненные и зачастую отвергаемые другими), за которые он брался, дабы заслужить руку и сердце Эстер, просто испарились. На каждую колонку цифр приходилась теперь сотня голодных, страждущих умов, тренированных не хуже, чем его собственный. Тем не менее молодая семья поселилась в одном из лучших новых районов города. Дочерям династии полагалось жить с размахом, и отец-основатель взял на себя все расходы. Когда родилась Дебора, ее ожидало кружевное приданое ручной работы — наследство какого-то знатного европейского рода, сокрушенного революцией. Захватить старое знамя было проще, чем соткать новое, и Дебору вывозили на прогулки в чепчиках титулованного младенца. Хотя слякотное хуторское прошлое отодвинулось теперь на расстояние одного поколения, в хуторянине по-прежнему жила хуторская мечта: не просто быть свободным, но быть свободным настолько, чтобы иметь право на титул. Новый Свет призван был сделать нечто большее, чем стереть горечь Старого. Как атеисты говорят Богу: «Тебя не существует, и я Тебя не люблю!», так и глава семейства не оставлял попыток докричаться до глухого прошлого, чтобы заявить о своем неприятии. Джейкобу платили долларов пятнадцать — двадцать в неделю, а у Деборы была дюжина шелковых платьиц с ручной вышивкой и бонна-немка.
Заработков Джейкоба не хватало даже на пропитание. Через некоторое время молодая семья вернулась в родительский дом и встретилась с новой версией соседского презрения. Даже Эстер, пленница своего прошлого, видела, как переживает Джейкоб, зависевший от милости человека, который его в грош не ставит, однако из страха она исподволь, неизменно принимала сторону отца, а не мужа. Тогда ей казалось, что рождение Деборы оправдывает такую верноподданность. Джейкоб был всего лишь консортом династии, тогда как Дебора, белокурая, осыпаемая благами Дебора, улыбчивая и всем довольная, служила главной осью, вокруг которой вращалась мечта.
А потом выяснилось, что их златокудрая игрушка не без изъяна. Внутри у этой благоухающей, изнеженной куклы росла опухоль. Первым симптомом стало постыдное недержание; надо было видеть праведный гнев суровой гувернантки! Но против «неопрятности» не помогали ни уговоры, ни шлепки, ни угрозы.
— Мы же не знали! — вырвалось у Эстер, и доктору хватило одного взгляда, чтобы увидеть страстность и напряжение за гладким, тщательно подкрашенным фасадом. — В ту пору режим дня, гувернантки и правила были святыней! Под это подводилась «научная» основа, во всем требовалась стерильность, чтобы никаких микробов, никаких послаблений.
— Да, помню: детская смахивала на больницу! — хмыкнула доктор, стараясь утешить Эстер этим смешком: для всего остального — для раскаяния по поводу незаслуженных шлепков, для усердного не в меру штудирования писанины горе-специалистов — было уже слишком поздно.
В конце концов девочку все же обследовали, ей поставили диагноз — и родители в поисках подтверждения заметались от одного врача к другому. Естественно, для Деборы годилось только лучшее. Оперировал ее самый видный хирург на всем Среднем Западе. Человек слишком занятой, он ничего не объяснил своей маленькой пациентке и ни разу не проведал ее после того, как на смену чудесам современной хирургии пришла первобытная, варварская боль. Две операции, и после первой — нестерпимые муки. Перед тем как с неизменной улыбкой пройти в палату к Дебби, Эстер напускала на себя волевой, жизнерадостный вид. Она снова забеременела и не находила себе места, поскольку предыдущие роды закончились появлением мертворожденных мальчиков-близнецов. Но в присутствии медперсонала, в присутствии родных, особенно Дебби, Эстер ничем себя не выдавала и гордилась своей выдержкой. Наконец им объявили, что две операции дали желаемый результат. Семья преисполнилась благодарности и ликования; к выписке Деборы празднично украсили дом, в гости позвали всю родню. А через два дня Джейкобу доверили счета Сульцбергера. Эстер в голову сами собой полезли старинные фамилии.
В ту пору счета Сульцбергера казались им важнее всего на свете. На эти счета был завязан ряд очень выгодных относительно небольших сделок, и они с Джейкобом чуть с ума не сошли от радости. Наконец-то Джейкоб мог получить свободу и распрощаться с положением консорта. Они переехали в тихий и скромный район, недалеко от центра города. Их новый дом, небольшой, с маленьким садиком, был окружен деревьями; по соседству проживало множество ребятишек, которые носили самые разнообразные фамилии. Поначалу Дебора дичилась, но вскоре начала оттаивать, выбегала гулять и заводила подружек. У Эстер тоже появились подруги, она сажала такие цветы, какие ей нравились, и настежь распахивала окна навстречу солнечному свету; от прислуги она отказалась и даже пробовала принимать собственные решения. Так продолжалось год — один прекрасный год. А потом Джейкоб, вернувшись домой с работы, сообщил, что счета Сульцбергера — это длинная цепь незаконных махинаций. Целых три месяца он пытался установить, как и куда уплывают деньги. Накануне увольнения он сказал Эстер: «В таком виртуозном, многогранном мошенничестве есть определенная красота. Она обойдется нам… очень дорого. Ты это понимаешь, правда ведь?.. Но такой изощренный ум заслуживает восхищения».
Дом пришлось продать; через месяц они опять вернулись в фамильный особняк. Началось безденежье, но родители Эстер сняли для себя квартиру в Чикаго, а этот просторный дом предоставили в их распоряжение. На том, естественно, условии, что он останется в собственности семьи. Так и получилось, что ненавистный особняк стал домом Блау.
Дебора училась в лучших школах, а на каникулы ездила в лучшие лагеря отдыха. С ровесниками она сходилась тяжело, но, думала Эстер, такое случается нередко. Родным лишь три года спустя стало известно, что в первом лагере (куда Дебора стиснув зубы ездила три года кряду) буйствовал махровый антисемитизм. Дебора ни словом не обмолвилась о таком положении дел. Навещая дочь, родители видели только веселые стайки девочек, которые занимались спортом, лакомились подрумяненными на огне галетами и распевали у костра старые походные песни про «Путь к победе».
— И ничто не указывало вам на ее нездоровье или страдание… только ее закрытость? — спросила доктор Фрид.
— Ну, разве что… Я начала рассказывать про школу — небольшую, с благоприятной атмосферой. К Деборе там хорошо относились. Она всегда была очень смышленой девочкой, но однажды нас вызвал психолог и предъявил результаты обязательного тестирования. Ответы Деборы, видимо, заставили его предположить у нее некоторые «нарушения».
— Сколько ей тогда было?
— Десять лет, — медленно выговорила Эстер. — Присмотревшись к своему чаду, я попыталась заглянуть к ней в голову: действительно ли там не все в порядке. Я заметила, что у нее пропала охота играть с другими детьми. Она вечно сидела дома, забившись в угол. Много ела, прибавляла в весе. Но все это развивалось постепенно и до той поры не бросалось в глаза. И еще… она совсем не спала.
— Человек не может обходиться без сна. Вы хотите сказать, она спала очень мало?
— Конечно, она не могла обходиться без сна, но я никогда не видела ее спящей. Если ночью мы поднимались к ней в комнату, она лежала с открытыми глазами и говорила, что ее разбудили шаги по лестнице. Но ступени были накрыты толстой ковровой дорожкой. Мы еще шутили, что она спит вполглаза, но дело было нешуточное. В школе нам посоветовали записать ее на прием к детскому психиатру; мы так и сделали, но она только стала еще больше злиться и выходить из себя, а после третьего посещения спросила: «Я не так хороша, как вы мечтали? Теперь вы еще и мозги мне решили подправить?» Вот так она разговаривала в десятилетнем возрасте — с недетской горечью. Нам меньше всего хотелось, чтобы у нее осталось такое чувство, и с тех пор мы ее на прием не водили. А дальше стали невольно прислушиваться, даже во сне, для того, чтобы…
— Для чего?
— Сама не знаю… — И она помотала головой, будто отгоняя запретное слово.
С началом Второй мировой войны содержать пятнадцатикомнатный особняк стало им не по средствам. Но когда его выставили на продажу, Эстер продолжала трудиться не покладая рук, будто попала в зависимость от огромных, затхлых помещений и от навязчивой привычки «содержать дом в порядке» под критическими взорами родни. В конце концов нашелся покупатель, на которого они с благодарностью переложили груз прошлого, а затем переехали в обычную городскую квартиру. Казалось, оно и к лучшему, особенно для Деборы с ее небольшими причудами, страхами и одиночеством, которые в обезличенности большого города должны были меньше бросаться в глаза. Хотя она по-прежнему ходила как в воду опущенная, учителя в новой школе ценили ее способности, и училась она хорошо, причем без особых усилий. Начала заниматься музыкой, выполняла рутинные обязанности по дому, какие обычно возлагаются на девочек.
Эстер пыталась хоть с какой-нибудь стороны подойти к нынешнему состоянию Деборы. Дочку не отпускало… какое-то напряжение. Время от времени Эстер уговаривала ее не воспринимать все подряд чересчур серьезно, но такой уж характер отличал их обеих: его невозможно было изменить простым принятием решения или откликом на просьбу. В большом городе Дебора открыла для себя рисование. Интерес к нему обрушился ей на голову, как ливень: у нее в руках каждую свободную минуту оказывался карандаш. На первых порах, лет в одиннадцать-двенадцать, она создала, наверное, сотни рисунков, не считая набросков и мелких зарисовок, сделанных в школе на клочках бумаги.
Кое-какие из ее работ они с мужем показывали учителям рисования и специалистам; те подтверждали, что у девочки в самом деле есть способности, которые нужно развивать. Это мнение стало ярким и легким ответом на смутные, серые подозрения Эстер; через эту призму она и старалась смотреть на жизнь. А всей родне вдруг стало понятно, откуда проистекают болезненность и ранимость, бессонница, напряжение и внезапное мученическое выражение лица, которое тут же маскируется жесткой пустотой взгляда или выплеском сарказма. Конечно… дочь ее росла особенной, редкостно одаренной. Ей спускали и уклончивость, и жалобы на недомогание. Такой уж это период — отрочество, да еще отрочество исключительной девочки. Эстер постоянно твердила эти слова, но не до конца им верила. Всякий раз ее терзала какая-нибудь заноза. Как-то Дебора отправилась на вечерний прием к врачу по поводу очередной мистической болячки. Домой она вернулась перепуганная, с отсутствующим видом. А назавтра спозаранку отправилась по каким-то делам и пришла уже затемно. Примерно в четыре часа утра Эстер — теперь от этих воспоминаний она мучилась безотчетными угрызениями совести — отчего-то проснулась и недолго думая побежала в комнату дочери; там никого не было. Тогда она заглянула в ванную: Дебора преспокойно сидела на полу и наблюдала, как у нее из запястья в тазик стекает кровь.
— Я спросила, почему она не сливала кровь прямо в раковину, — сказала доктор, — и услышала, на мой взгляд, своеобразный ответ. Она сказала: чтобы не отпускать ее далеко от себя. В ее понимании это была не попытка самоубийства, а просьба о помощи, безмолвная и не сформулированная. Вы ведь живете в многоэтажном доме: броситься навстречу смерти можно прямо из окна — это и быстрее, и надежнее во всех отношениях, а тут… ей ведь было известно, что у вас обоих чуткий сон, как и у нее самой.
— Но она приняла сознательное решение? Неужели она все спланировала?
— Осознанно — конечно нет, но ее рассудок выбрал оптимальный способ. В конце-то концов, она же никуда не делась. И зов о помощи оказался успешным. Давайте вернемся немного назад, к летним лагерям и к школе. У Деборы и прежде не складывались отношения со сверстниками? Она сама справлялась со своими трудностями или просила о помощи?
— Естественно, я пыталась ей помочь. Могу вспомнить несколько случаев, когда ей требовалась моя помощь — и я оказывалась рядом. Одно время, когда она только пошла в школу, ее бойкотировала некая сплоченная компания. Я сводила их всех в зоопарк, и лед тронулся. В летних лагерях ее не всегда понимали. У меня обычно завязывались дружеские отношения с вожатыми, и это немного облегчало задачу. Потом, уже в городской школе, у нее начались серьезные проблемы с одной учительницей. Эту учительницу я пригласила на чашку чая и просто с ней побеседовала, объяснила, что Дебора побаивается людей и ее настороженность зачастую толкуют ошибочно. Я помогла ей понять Дебору. Они подружились, и в конце учебного года учительница сказала мне, что знакомство с Деборой считала за честь — девочка просто чудесная.
— Как Дебора отнеслась к вашей помощи?
— Ну, конечно же, с облегчением. В этом возрасте проблемы подобного рода раздуваются до таких масштабов, что я была только рада выступить в настоящей материнской роли и оказать ей поддержку. Моя мать была бы на такое не способна.
— Если вернуться к тому периоду: какое он оставил по себе впечатление? Как вы себя ощущали в те годы?
— Я уже сказала: счастливое время. У людей, с которыми Дебора не ладила, гора с плеч свалилась, а я была счастлива ей помочь. Мне пришлось изрядно поработать над собой, чтобы побороть свою застенчивость, чтобы в любой обстановке держаться весело. Мы пели, шутили. Мне пришлось научиться раскрепощать других. Я гордилась дочерью и часто ей об этом говорила. Повторяла, как сильно я ее люблю. Она никогда не страдала от беззащитности и одиночества.
— Понимаю, — сказала доктор.
Эстер заподозрила, что доктор ничего не понимает. Картина вроде бы оказалась обманчивой, и Эстер уточнила:
— Я борюсь за Дебору на протяжении всей ее жизни. Наверное, во всем виновата эта опухоль. Но не мы… не наша с Джейкобом любовь друг к другу и к детям. Весь этот ужас начался вопреки нашей любви и заботе.
— Вам давно стало ясно, правда ведь, что с вашей дочерью не все в порядке? Школьный психолог не первым забил тревогу. Когда у вас закрались сомнения?
— Пожалуй, в летнем лагере… нет… раньше. Как человек ощущает некую перемену? Неожиданно что-то померещилось — вот и все.
— А что было в лагере?
— Ой, да это уж третий сезон шел. Ей было девять лет. В конце смены мы приехали ее навестить; она сама не своя. В юности спорт — это хороший способ получить признание окружающих и завести друзей. К моменту нашего отъезда она немного оживилась, но после тех каникул… что-то… из нее ушло… Она, так сказать, повесила голову, ожидая града ударов.
— Ожидая побоев… — задумчиво протянула доктор. — А потом, через некоторое время, сама начала провоцировать град ударов.
У Эстер во взгляде мелькнуло припоминание.
— Так прогрессирует болезнь?
— Возможно, это симптом. У меня когда-то был пациент, который подвергал себя страшным пыткам, и когда я спросила, зачем так себя мучить, он ответил: «Чтобы не ждать, пока этот мир начнет меня уничтожать». Тогда я спросила: «Не лучше ли выждать и посмотреть, что будет?» — и он сказал: «Как вы не понимаете? Рано или поздно это случится, но так я, по крайней мере, останусь хозяином положения».
— Этот пациент… он излечился?
— Да, излечился. А потом к власти пришли фашисты и отправили его в Дахау, где он и погиб. Я рассказываю это вам, миссис Блау, для того, чтобы убедить: вы не сможете переделать мир, чтобы он встал на защиту ваших родных. Но вы не обязаны оправдываться за свои попытки.
— Я хотела как лучше, — сказала Эстер, а потом откинулась на спинку кресла и задумалась. — Но сейчас вижу, что совершала ошибки… грубые ошибки… правда, скорее в отношении Джейкоба, а не Деборы. — Она помолчала, недоверчиво глядя на доктора. — Как я могла так с ним поступать? Столько лет… все началось с той дорогущей квартиры, с бесконечных папиных подачек… год за годом я отодвигала мужа на второй план, и даже сейчас… «папа считает так, а не иначе», «так хочет папа». С какой стати? Ведь мой муж всегда был непритязателен и скромен в желаниях. — Она вновь подняла глаза. — Значит, просто любить — недостаточно. Моя любовь к Джейкобу не помешала мне наносить ему обиды, принижать его как в собственных глазах, так и в глазах моего отца. А наша любовь к Деборе не помешала нам стать… причиной, что ли… ее болезни.
Глядя на Эстер, доктор Фрид слушала слова любви и муки, слетающие с уст безупречно владеющей собой матери, чья дочь по горло сыта обманом. Но и любовь эта, и муки были искренними, и она мягко сказала:
— Предоставьте нам с Деборой разбираться в причинах. Не терзайтесь и не вините ни себя, ни мужа, ни кого-либо другого. От вас ей понадобится поддержка, а не самобичевание.
Спустившись с небес на землю, Эстер вспомнила, что ее ждет встреча лицом к лицу с земной Деборой.
— Как… как мне найти правильные слова? Вы ведь знаете, она отказалась встречаться с Джейкобом, а во время нашей прошлой встречи у нее был такой странный вид — как у лунатика.
— Сейчас, когда у нее настолько обострено восприятие, опасность есть только одна.
— Какая же, доктор?
— Разумеется, ложь.
Они поднялись со своих кресел: время истекло. Слишком краткое, подумала Эстер; и сотой доли того, что требуется, сказать не удалось. Доктор Фрид проводила ее до порога и приободрила едва заметным жестом. Понятно, что версии пациентки будут в корне отличаться от тех, что высказывала мать за них обеих. Заботливая мать, благодарное дитя. А будь оно иначе, девочка не оказалась бы в числе пациентов. Качество этих версий и различия между ними помогут проникнуть в каждую из двух интерпретаций действительности.
Выйдя из кабинета, Эстер стала думать, что неверно сформулировала проблему. Видимо, в попытках спасти положение она просто совалась куда не следовало. В больнице ей разрешили забрать Дебору на прогулку под свою ответственность. У них появилась возможность сходить в кино, поужинать в городе и поговорить. «Клянусь, — мысленно сказала Эстер дочери, — клянусь, я не стану тобой прикрываться. Не буду спрашивать, сколько мы для тебя сделали и сколько не сделали».
Потом в тесном гостиничном номере она призналась Джейкобу, что Дебора отказалась с ним встретиться и врач запретила ее принуждать: отказ не означает пренебрежения к отцу, а лишь выдает попытку — слабую, неумелую — принять собственное решение. Умом Эстер понимала, что это говорится просто в утешение, но смолчала. Бедный Джейкоб — а я опять меж двух огней: наношу удар.
Спорил он недолго, но в кино Эстер заметила его в последнем ряду: муж смотрел не на экран, а на дочь. После сеанса Джейкоб замер в полумраке, не спуская с нее глаз, а потом, когда мать с дочкой зашли в ресторан, остался стоять на холодной дороге ранней зимы.
Глава шестая
— Расскажи мне, как ты жила до больницы, — сказала доктор.
— Вы уже от мамы все знаете, — с горечью ответила Дебора из высоких, морозных пределов своего царства.
— Твоя мама говорила лишь о том, сколько она тебе давала, но не о том, сколько ты взяла; о том, что видела она сама, но не о том, что видела ты. Про твою опухоль она рассказала то немногое, что знает.
— Да что она может знать? — вырвалось у Деборы.
— Вот и расскажи, что знаешь ты.
Ей было пять лет — в этом возрасте уже понимаешь, какой это стыд, когда врачи только качают головами оттого, что внутри у тебя какая-то гадость, в самом потаенном для девочки месте. Они совали ей туда свои зонды, иголки, как будто вся суть ее тела сошлась в невидимой болячке, поразившей это заветное место. В тот вечер, когда отец уточнил, что завтра ей предстоит госпитализация, Дебору охватила злость упрямицы, которую передвигают, как мебель. Ночью ей приснился сон, страшный сон: будто ее втолкнули в разграбленную комнатенку, разорвали на части, дочиста оттерли с порошком и собрали вновь, мертвую, но приемлемую. Затем был другой сон, как разлетелся вдребезги глиняный горшок, из которого вместо цветка вывалилась ее сломанная сила. После этих снов она впала в немое, потрясенное забытье. Но даже такие сны не считались с ее жуткой болью.
— Лежи тихо. Это не больно, — твердили ей, потом начинали шуровать своими инструментами. — Смотри, сейчас твоя куколка заснет. — И на лицо опускалась маска, а вместе с ней — тошнотворно-сладкий химический сон.
— Где я? — спрашивала она.
— В сказочном царстве, — был ответ, а вслед за тем начиналось нестерпимое жжение в самом сокровенном месте.
Как-то раз она спросила одного интерна, который, похоже, сопереживал ее мучениям: «Для чего вы все мне бессовестно врете?» И он ответил: «Да просто для того, чтобы ты не боялась». А в другой раз, когда ее вновь пристегнули ремнями к тому же столу, ей сказали: «Чик — и готово». На языке тех изворотливых лжецов, как она поняла, это означало, что ее сейчас убьют. И опять последовала прозрачная ложь насчет куклы.
Какое издевательство — одна ложь за другой! Ну хуже ли это, чем простое убийство? Что творилось у них в воспаленных мозгах, у этих убийц, суливших ей фальшивый «порядок»? А потом, сквозь жестокую боль: «Как твоя куколка?»
Во время своего рассказа она косилась на доктора Фрид, сомневаясь, что мертвое прошлое вызовет что-нибудь, кроме скуки, в этом черством мире, но на лицо этой маленькой женщины тяжестью опустился гнев, а голос ее зазвенел от негодования при мысли о муках пятилетней девочки, чей образ стоял перед ними обеими. «Вот идиоты! Когда же они научатся говорить детям правду! Фу!» — И она в крайнем раздражении стала гасить сигарету.
— Значит, вам не все равно… — выговорила Дебора, осторожно ступая на новую почву.
— Да, черт возьми, ты права: мне не все равно! — был ответ.
— Тогда я вам расскажу такое, чего никто не знает, — сказала Дебора. — Они меня ни разу не пожалели, никто. Ни когда так грубо залезали мне внутрь, ни когда мне было так больно и стыдно, ни когда так долго и тупо врали, будто в насмешку. Они ни разу не попросили прощения, и я их не прощаю.
— То есть как?
— Они не избавили меня от опухоли. Она все там же, разъедает меня изнутри. Только теперь ее не видно.
— Тем самым ты наказываешь себя, но не их.
— Упуру наказывает нас всех.
— Упу… — как?
Внезапно распахнулся Ир, ужаснувшись, что одна из самых его сокровенных тайн выскользнула в земной мир, в залитый солнцем кабинет с креслами-ловушками. Ирский язык держался в глубокой тайне и тем тщательнее оберегался от людей, чем настойчивее овладевал ее внутренним голосом. По-ирски «упуру» означало все воспоминания и чувства, связанные с тем последним днем на больничной койке, когда все, что находилось поблизости, стало расплывчато-серым.
— Как ты сказала? — переспросила доктор, но Дебора от страха ринулась в Ир, и он сомкнулся, как воды, у нее над головой, не оставив даже ряби там, где она исчезла; поверхность была гладкой, а Дебора канула.
Глядя на нее, отшатнувшуюся от простых слов, или доводов, или утешений, доктор Фрид думала: насколько же больные страшатся своей собственной неконтролируемой власти! Им трудно поверить, что они всего лишь люди и что гнев их не выходит за человеческие пределы!
Через пару дней Дебора вернулась в Междуземье, откуда открывался вид на Землю. Вместе с Карлой и несколькими другими она сидела в коридоре возле палаты.
— Тебя в город отпускают? — спросила Карла.
— Только раз отпустили, когда мама приезжала, а так — нет.
— Хорошо время провели?
— Ничего. Она все пыталась из меня вытянуть, отчего я заболела. Не успели мы присесть, как ее прямо понесло. Ясное дело, она не нарочно в меня впивалась, но я, даже если б знала, не смогла бы ей ответить.
— У меня иногда прямо зла не хватает на тех, из-за кого я заболела, — подхватила Карла. — Говорят, чтобы от ненависти избавиться, нужно много сеансов психотерапии пройти. Ну, не знаю. А потом, до моей вражины ни злоба, ни прощение не доберутся.
— И кто это? — спросила Дебора, сомневаясь, что речь идет об одном человеке.
— Да мать моя, — буднично ответила Карла. — Она сперва в меня пулю выпустила, потом в братишку моего, потом в себя. Они умерли, я выжила. Папаша новую бабу привел, тут я и рехнулась.
Это были жесткие, обнаженные речи, без эвфемизмов, обычных вне этих стен. Жесткость и грубость были существенными привилегиями больничного мирка, и все пользовались ими напропалую. Для тех, которые лишь втайне осмеливались думать о себе как о странных и необычных, свобода заключалась в свободе называться «чокнутыми», «с приветом», «ку-ку», «придурками» или, выражаясь более серьезно, «сумасшедшими», «безумными», «с отклонениями», «не в себе». Существовала даже иерархия этих привилегий. Орущих, пучеглазых обитателей четвертого отделения называли «больными»; сами о себе они говорили «шиза». Только им разрешалось беспрепятственно ставить на себе клеймо «чокнутых» или «сумасшедших». В отделениях поспокойнее, первом и втором, допускались лишь более мягкие формы: «нервные», «ку-ку», «нездоровые». Эти неписаные правила установили сами пациенты; лишних напоминаний никому не требовалось. Больные второго отделения, называвшие себя «тронутыми», важничали. Теперь Дебора уже понимала, чем было вызвано презрение суровой, мутноглазой Кэтрин, которая, услышав от медсестры «Успокойся, не надо буйствовать», расхохоталась: «Я не буйная, я ку-ку!»
Дебора провела в больнице уже два месяца. К ним поступали новенькие, кое-кого перевели на четвертое отделение, к «сумасшедшим», а кое-кого отправили в другие лечебницы.
— Мы с тобой прямо-таки ветераны, — сказала Карла, — старые подружки из одной психушки.
Вероятно, так оно и было. Если не считать четвертого отделения, стационар больше не страшил Дебору. Она выполняла все распоряжения, и Цензор нигде не вывешивал знаков повышенной опасности, разве что на безобидном с виду белом домике, где окопалась повелительница ужасов, доктор Фрид.
— Сколько потребуется времени, чтобы стало ясно, есть у нас шансы или нет? — спросила Дебора.
— У вас, считай, еще медовый месяц не закончился, — сказала девушка, пристроившаяся рядом. — Не менее трех месяцев должно пройти. Я-то знаю. В шести лечебницах сидела. Уж и психоанализом меня лечили, и параличом, и электрошоком, и тряской, и таской, метразолом накачивали, аматилом глушили. Осталось только операцию на мозгах сделать — и будет полный набор. Толку-то все равно никакого — один черт.
С обреченно-драматичным видом она встала и удалилась; тогда Лактамеон, второй по старшинству среди властителей Ира, прошептал: «Чтобы выглядеть обреченной, нужно быть красивой, а иначе драма превращается в комедию. И соответственно, в Неприглядность.
«Убей меня, мой господин, орлу подобный», — сказала ему Дебора по-ирски, но тут же перешла на земной язык и спросила Карлу:
— Давно она здесь?
— Сдается мне, больше года, — ответила Карла.
— И… навсегда?
— Откуда я знаю? — сказала Карла.
Их окутала зима. Стоял декабрь; ветви деревьев за окнами оголились и почернели. В комнате отдыха несколько человек украшали елку к Рождеству. Пятеро из числа медперсонала и две пациентки — господи, из кожи вон лезли, чтобы в психушке стало как дома. Да только все это неправда, и смех, доносившийся из-за елочных украшений (без острых краев, без стекла), звучал фальшиво; Деборе подумалось, что люди здесь, по крайней мере, приличные, не чуждые смущения. В докторском флигеле из нее по-прежнему клещами вытягивали ее историю, с отступлениями, маскировкой и утайками. Если не считать общения с Карлой и Мэрион из того же отделения, Дебора устранялась от внешнего мира даже тем подголоском, который отвечал на вопросы и вообще заменял ее, когда ей хотелось переместиться в Ир. «Не могу описать это чувство», — говорила она, думая об ирских метафорах, с помощью которых объясняла свои желания себе самой и обитателям Ира. В последние годы к ней часто приходили мысли, да и явления тоже, которыми, судя по всему, не с кем было поделиться на всей земной тверди, а потому равнины, впадины и горные вершины Ира начали эхом повторять растущий словарь, чтобы сформулировать свои особые терзания и величия.
— Должны же быть какие-то слова, — говорила ей доктор. — Постарайся их найти, тогда мы сможем обдумать их вместе.
— Это метафора — вам все равно не понять.
— Тогда, вероятно, ее можно объяснить.
— Есть одно слово… оно означает «запертые глаза», но за этим кроется нечто большее.
— Что же?
— Так обозначается саркофаг. — То есть временами зрение достигало только крышки ее саркофага, а мир для нее, как для покойной, ужимался до размеров гроба.
— С «запертыми глазами» тебе меня видно или нет?
— Только как картинку, картинку чего-то реального.
От этого диалога на нее накатил жуткий страх. Стены слегка застучали, затрепыхались, как огромное, гоняющее кровь сердце. Антеррабей произносил ирское заклинание, но слов она не понимала.
— Надеюсь, вы довольны тем, что выведали, — сказала она доктору, которая растворялась, сидя в кресле.
— Не хочу тебя пугать, — сказала доктор, не замечая, как содрогаются стены, — но мы с тобой еще не закончили беседу. Я хотела спросить, раз уж мы заговорили о тех операциях, каким образом после них мир вдруг посерел в те детские годы и что сталось со всем остальным.
Разговаривать с полуприсутствующими очертаниями в этой серости, висящей за пределами Ира, было тяжело, но прошлое напоминало о себе ноющей болью и тоской, и, если эта докторша действительно способна придать форму воспоминаниям, их, наверное, легче будет носить в себе. Дебора начала продираться сквозь явления, но повсюду, куда только падал ее взгляд, видела неудачу и сумятицу. Даже в клинике, где ей много лет назад успешно вырезали опухоль, Дебора не могла вписаться в игру, которая там велась. Правила ее были лживыми и плутовскими, Дебора видела их насквозь, но не знала, как откликнуться на эту игру — как подстроиться и поверить. Выздоровление тоже было сплошным лицемерием, поскольку сама болезнь не прошла.
Когда родилась ее сестра Сьюзи, все органы чувств Деборы свидетельствовали, что эта незваная гостья — не более чем краснолицый, сморщенный кулек писка и вони, но родственники, столпившиеся в детской, сами не заметили, как оттеснили Дебору, наперебой восхваляя новорожденное дитя за красоту и изящество. Истина, казавшаяся ей столь очевидной, — что это уродец, которого невозможно полюбить и даже представить в будущем миловидным или дружелюбным, — повергла родных в шок и злобу.
— Это же твоя сестренка, — указывали ей.
— Я сестренку не просила. Со мной даже не посоветовались.
После такого выпада родные начали стесняться Деборы. Разумное, не по летам зрелое для пятилетней девочки суждение, говорили все, но холодное, почти жестокое. Да, в нем есть честность, продолжали они, но такая, которая проистекает из эгоизма и злости, а не из любви. С годами дядья и тетушки отчуждались от Деборы: ее ценили, но не любили; а следом подрастала Сьюзи, беззаботная, милая, лучезарная — этакая маленькая женщина, окруженная безоглядной любовью.
Из тела и рта Деборы вырывалось, подобно демону или гласу одержимости, это проклятие. Оно не отступало ни на миг. Из-за операции в школу она пришла позже своих маленьких одноклассниц и не успела примкнуть к первым компаниям и группировкам, которые сложились в ее отсутствие. Добрая, расстроенная мать, признавая роковой изъян, взяла инициативу на себя и стала приглашать в гости самых популярных девочек. У Деборы не хватало духу ее отговорить. Быть может, благодаря такой прелестной матери Дебору и смогли бы терпеть, с изъяном или без. Примерно так и вышло. Но в этом квартале все правила диктовались кодами освященного временем богатства, и маленькая «грязная еврейка», уже смирившаяся с тем, что она грязная, стала легкой мишенью для издевок. Один из самых злостных обидчиков жил в соседнем доме. При каждой встрече он осыпал Дебору неистребимыми многоэтажными проклятиями: «Жидовка, жидовка, пархатая жидовка, моя бабка ненавидела твою, моя мать ненавидит твою, а я ненавижу тебя!» Три поколения. Даже Дебора чувствовала: это неспроста. А на летние каникулы ее отправили в лагерь отдыха.
Он считался сугубо светским учреждением и со стороны мог показаться таковым из-за трудноуловимых особенностей, которыми отличались разные течения буржуазного протестантизма, но Дебора была там единственной еврейкой. На стенах здания и туалета (где мерзкая девчонка с опухолью однажды вскрикнула при мочеиспускании, как от ожога) стали появляться оскорбительные надписи.
Низменные инстинкты этих злобствующих детей разделял, как доводилось слышать Деборе, некто Гитлер, который в Германии с таким же злобным рвением уничтожал евреев. Как-то весной, перед отъездом в лагерь, она увидела, как папа опустил голову на кухонный стол и заплакал жуткими, душераздирающими мужскими слезами над судьбами каких-то «чеков-и-пуляков». В лагере инструктор по конному спорту желчно бросил, что Гитлер делает как минимум одно благое дело: истребляет «сорных людишек». Дебора тогда лениво подумала: у кого опухоль, что ли?
Мир ее вращался вокруг нутряных проклятий и особой, горько-сладостной веры в Бога, а также в чехов и поляков; он полнился тайнами, обманами и переменами. Разгадками тайн были слезы; реальность, скрытая за обманами, была смертью; а перемены были секретной битвой, в которой евреи, то есть Дебора, всегда проигрывали.
Именно в том лагере ей впервые открылся Ир, но в беседе с доктором она об этом умолчала, равно как и о богах, и о Синклите с их обширными владениями. Поглощенная пересказом событий, она опять выглянула наружу и увидела выразительное докторское лицо, гневное от всего, что выпало на долю Деборы. Ей даже захотелось поблагодарить эту уроженку Земли, сохранившую способность злиться.
— Не знаю, с какой целью землян наделили внутренностями, — задумчиво произнесла она и почувствовала нестерпимую усталость.
Когда она вернулась в палату, весь Ир восстал против нее. Сидя на жестком стуле, она слушала выкрики и ругань Синклита и рычание нижних царств.
«Слушай, Легкокрылая, слушай, Кочевая Лошадка, ты не из их числа!»
В ирских словах звучала неизбывность отторжения.
«Внимай мне! — падая, прокричал Антеррабей. — Напрасно ты балуешься с Жерлом. Бродишь вокруг своего разрушения и тычешь пальчиком туда-сюда. Если сорвешь печать, тебе конец». А издали: «Ты не из наших», — донеслось от непреклонного Синклита.
Антеррабей сказал: «Ты всегда была им чужой, всегда. Ты совсем другая».
В его словах было долгое, глубокое утешение. Тихо и умиротворенно Дебора взялась доказывать свою удаленность через широкий зевок различий. У нее хранилась найденная на прогулке крышка от жестянки, подобранная с неизвестной — или с хорошо известной — целью. У жестяного кружка были зазубренные, острые края. Она провела металлом по внутренней поверхности локтя и стала наблюдать, как по шести-семи дорожкам медленно потекла кровь. Боли не было, только неприятное ощущение сопротивления плоти. Жестяной диск еще раз прошелся сверху вниз, тщательно, прицельно следуя по первоначальным царапинам. Дебора старалась, нажимала сильней, раз десять вверх-вниз, пока предплечье не превратилось в кровавое месиво. Тогда она заснула.
— Где Блау? Не вижу ее фамилии.
— Да ее в надзорку перевели. Утром Гейтс пришла ее будить, а тут такое… вся постель в крови, лицо в крови, а вены жестянкой вскрыты. Жуть! Противостолбнячный укол вкатили — и прямиком в лифт.
— Странно… Никогда бы не подумала, что эта девчонка настолько больна. Я, глядя на нее, каждый раз думала: вот идет богачка мелкая. Держит себя так, будто мы мизинца ее не стоим. Как будто всё тут ниже ее достоинства, слова через губу переплевывает… ледяным тоном. С жиру бесится, вот и все.
— Кто их разберет — что у них внутри? Врачи говорят, здоровых тут не держат, сеансы проходят чертовски трудно.
— Эта сучка заносчивая никогда в жизни ничем себя не утруждала.
Глава седьмая
В надзорном отделении, лишенном всяких признаков удобства и нормальности, ей было страшно. На голых стульях, словно кол проглотив, торчком восседали женщины; другие валялись и сидели прямо на полу: одни стонали, другие помалкивали, третьи бушевали; медсестры и санитарки здесь были рослые, крепкие, мускулистые. Это место не только страшило, но и приносило успокоение — даже большее, нежели мысль о необратимости нахождения в нем. Глядя в окно, забранное, как маска фехтовальщика, щитком и решеткой, она решила выждать и разобраться, почему в этом пугающем месте все же видится что-то неуловимо хорошее.
Позади нее остановилась какая-то женщина:
— Боязно, а?
— Да.
— Моя фамилия Ли.
— Вы санитарка или кто?
— Вот еще. Психичка, вроде тебя. Да-да, ты — как все тут.
Хрупкая, темноволосая, эта женщина хранила тревожный вид, но смотрела далеко и подмечала чужой страх, а будучи пациенткой, устанавливала прямые и непосредственные контакты, какие и не снились медперсоналу. В ней сквозила храбрость.
Дебора подумала: вот бы отходить ее ремнем. И тут до нее дошло, чем хорошо четвертое отделение: здесь нет лживого притворства, нет нужды подчиняться непостижимым законам Земли. Когда накатит слепота, или обожжет узловатая боль от несуществующей опухоли, или разверзнется Жерло, никто не скажет: «Что подумают люди!», или «Веди себя прилично», или «Не суетись!».
На соседней койке лежала тайная первая жена Эдуарда VIII, отрекшегося от престола короля Англии, сосланная сюда (в Оплот разврата) врагами Восьмого Экс-Монарха. Когда медсестра заперла личные вещи Деборы в стенной шкаф, эта больная (сидя в кровати, она обсуждала свою стратегию с невидимым премьер-министром) встала и с сочувственным видом подошла к Деборе.
— Для этой обители зла ты слишком юная, дитя мое. И не иначе как девственница. Меня здесь обесчестили в первую же ночь и терзают до сих пор. — И она вернулась к прерванному обсуждению.
— Где же я буду встречаться с вами наедине? — крикнула Дебора Лактамеону и прочим.
«Было бы желание, а место найдется, — эхом ответил Ир. — Мы не станем теснить или выталкивать гостей этой нетайной несупруги отрекшегося короля Англии!» Ир звенел от смеха, но Жерло было совсем близко.
— Под конвоем? — спросила врач, недоуменно глядя на санитарку.
— Она же теперь наверху, в четвертом отделении, — ровно ответила санитарка и заняла свой пост у дверей обычного с виду, цивилизованного кабинета-капкана.
— А что случилось?
На лице Деборы под маской язвительности врач разглядела потерянность и страх. Дебора села и скрючилась, пряча уязвимый живот и нижнюю часть тела, где чутко дремала опухоль.
— Мне пришлось это сделать, вот и все. Я слегка расцарапала руку, вот и все.
Врач пристально смотрела на нее и ждала сигнала, насколько глубоко можно копнуть.
— Покажи, — сказала она. — Покажи руку.
Сгорая со стыда, Дебора закатала рукав.
— Ничего себе! — с забавным акцентом, но непринужденно воскликнула доктор. — Шрам останется — будь здоров!
— Все мои партнеры по танцам будут содрогаться от его вида.
— Не исключаю, что ты еще будешь бегать на танцы, что твоя жизнь в большом мире продолжится. Но сейчас ты понимаешь, правда ведь, что у тебя большие неприятности? Расскажи мне, только честно, что подтолкнуло тебя к такому поступку.
Дебора не уловила ни ужаса, ни насмешки, ни одной из сотни чуждых реакций, какие всегда возникали у окружающих при соприкосновении с ее трудностями. Доктор вела стопроцентно серьезную беседу. И Дебора принялась рассказывать ей про Ир.
Одно время — сейчас даже странно об этом вспоминать — ирские боги были ей добрыми союзниками, тайными, царственными компаньонами в ее одиночестве. В летнем лагере, где все ее ненавидели, в школе, где из-за своих странностей она с годами все более отдалялась от остальных. И по мере того, как углублялось одиночество, Ир для нее ширился. Боги сохраняли веселость, эти золотые персонажи, с которыми она встречалась негласно, как с ангелами-хранителями. Но что-то изменилось, и Ир, прежде средоточие красоты и заступничества, превратился в источник страха и боли. Мало-помалу Дебора научилась смягчать его и утихомиривать, разворачиваться от его имперской яркости и утешительности к тюрьме самых темных его углов. В пиковые дни календаря она возносилась к высотам божественно-царственной элиты, а в дни рекордного минимума оказывалась униженной и несчастной. А теперь ей приходилось еще сносить головокружительные перемены между мирами, терпеть ненависть ирского мира, звучавшую в протяжной ругани Синклита, подчиняться и прислуживать Цензору, отвечавшему за то, чтобы тайные семена ирского мира не унесло на Землю, где из них расцветет безумие, при виде которого в ужасе отшатнется мир земной. Цензор сделался тираном обоих миров. Некогда ее заступник, он ополчился против нее. Не что иное, как сама его жестокость стала в ее понимании доказательством реальности Ира, уподобившегося миру земному с его лживыми обещаниями, с его преимуществами и привилегиями, в конечном счете сводившимися к злобе и мукам. Безмятежность обернулась нуждой, нужда — принуждением, принуждение — повсеместной тиранией.
— Там есть собственный язык? — уточнила доктор, вспоминая заманчивые слова и наступающую после них отрешенность.
— Да, — подтвердила Дебора. — Язык — секретный, но я иногда прибегаю к заградительному языку, с виду напоминающему латынь: это на самом деле ширма, обманка.
— А почему нельзя все время пускать в ход настоящий язык?
— Да это же все равно что подзаряжать светлячка вспышками молний.
Вопрос прозвучал столь нелепо, что Дебора посмеялась.
— Тем не менее английским ты владеешь мастерски.
— Английский нужен для земного мира, чтобы испытывать разочарование и вызывать к себе ненависть. А ирский — чтобы высказывать то, что необходимо высказать.
— А картинки ты рисуешь на каком языке… то есть для размышлений тебе служит английский или эрский?
— Ирский.
— Прошу прощения, — сказала доктор. — Наверное, мне просто немного завидно, что у тебя есть собственный язык для общения с собой, но не с нами, простыми смертными.
— Для магии я пользуюсь обоими языками, — сказала Дебора; она не упустила из виду ни докторскую угрозу, ни притязания на общение.
— Наше время истекло, — мягко объявила доктор. — Молодец, что рассказала мне про свой тайный мир. Передай этим богам, и Синклиту, и Цензору, что им меня не запугать и что помешать нашей с тобой работе они бессильны.
Первая тайна приоткрылась, но далек еще был тот день, когда Дебора и санитарка прошли сквозь нее в больницу. Ни молнии, ни рыка из Ира. За ней заперлась последняя дверь палаты, и началась раздача обеда. Медсестры в отделении сменились, и новенькая принялась раздавать алюминиевые ложки вместо деревянных. Двух не хватило. Поиски нагнетались, и Дорис, новенькая больная, засмеялась.
— Тихо! А ну, тихо, все!
Для Деборы этот окрик стал до поры до времени последними отчетливыми английскими словами; время свернулось в складку.
Заведующий четвертым отделением спрашивал: «Что ты сейчас испытываешь?» — и Деборе стоило огромных усилий отвечать, поэтому она руками изобразила качку. Она почти ничего не видела.
— Вид у тебя испуганный, — отметил он.
Качка тоже зашумела. Через некоторое время сквозь нее вновь пробился голос:
— Тебе известно, что такое холодное обертывание? Я скажу, чтобы приготовили. Поначалу слегка неуютно, зато потом успокоишься. Не волнуйся, больно не будет.
Остерегайся этих слов… это все те же слова. За ними следует обман, а там и… Толчок опухоли заставил ее скорчиться на полу. Жилка ужаса лопнула, и наступила тьма, неподвластная даже Иру.
Через некоторое время сознание вернулось, но притупленное. Дебора почувствовала, что лежит голышом на койке, на влажной ледяной простыне. Другая такая же простыня была наброшена сверху и туго затянута. Все те же ограничения, стяжки, удушение, вдавливание в койку. Окончания того, что с ней творили, Дебора не дождалась…
Немного позже Дебора вышла из Жерла, и все ее ощущения были прозрачны, как утро. Все еще туго запеленутая, она согрела простыни жаром своего тела, и они достигли температуры ее сил. Вся душевная боль, вся борьба ушла на то, чтобы согреть этот кокон; от жары она ослабела. Дебора слегка повернула голову набок и в изнеможении застыла. Другие части тела не двигались.
Прошло еще немного времени; кто-то вошел.
— Как самочувствие?
— Ну… — В ее голосе звучало удивление. — Долго я здесь провалялась?
— Часа три с половиной. По норме положено четыре часа, и, если ты в порядке, мы тебя через полчаса отпустим.
Незнакомец вышел. От вынужденной неподвижности у нее заныли все суставы, но ее окружала реальность. Как ни странно, ей удалось без мучений подняться из глубин.
Казалось, санитарки не приходили очень долго. Пока ее высвобождали, она изучала конструкцию своего кокона. Под шеей лежал пузырь со льдом, в ногах — грелка. Система пут состояла из простыней — получилось подобие мумии. Поверх простыней все тело — грудь, живот, колени — туго стягивали три холщовые ленты, широкие и длинные, пропущенные под сеткой кровати. Четвертой лентой, которая крепилась за прутья в изножье, были связаны лодыжки. Большие простыни плотно облегали туловище, из них три были замотаны внахлест, как мокрые белые листья, а одна, внутренняя, фиксировала руки.
Когда Дебора встала, она почувствовала слабость и едва переставляла ноги, но ее мирское «я» окрепло. Полностью одевшись, она вернулась к своей койке, чтобы прилечь. Нетайная несупруга отрекшегося короля Англии проявила сочувствие.
— Бедненькая шлюшка, — сказала она. — Я видела, как тебя покарали за отказ переспать с этим лекарем! Тебя связали, да так, что ты не могла пошевелиться, а потом явился он и совершил над тобой насилие.
— Вот счастье-то привалило, — язвительно отозвалась Дебора.
— Не лги мне! Я — нетайная несупруга Отрекшегося Короля Англии! — вскричала Жена.
К ней стекались ее призраки, и она занимала их беседой, изображая светскую учтивость и позвякивание фарфоровых чашек. Из вежливости она представила гостям Дебору, у которой только-только стали бледнеть рубцы от складок простыней:
— А это юная потаскушка, я вам о ней рассказывала.
Глава восьмая
— «Надзорное»… что бы это значило? — недоумевала Эстер Блау, снова и снова изучая выписку.
У нее сохранялась надежда, что это слово вдруг изменится или рядом с ним возникнет какое-нибудь уточняющее слово, которое преобразит сообщение в желанную весть. Присланная в очередной раз выписка, скупая и обезличенная, настраивала на терпеливое ожидание, но излагала совершенно недвусмысленные факты, и внизу стояла подпись другого врача: заведующего надзорным отделением. Не откладывая в долгий ящик, Эстер направила в больницу запрос и вскоре получила ответ: в настоящее время посещение нецелесообразно.
В страхе, близком к паническому, Эстер написала доктору Фрид. Нельзя ли все же приехать — не для того, чтобы повидать дочку, коль скоро в больнице это считают нецелесообразным, а чтобы проконсультироваться с врачами насчет этих перемен. В ответе, который тоже настраивал на терпеливое ожидание, сквозила попытка честного человека обнадежить родных пациентки. Конечно, если родители сочтут свой приезд необходимым, свидание с дочерью им разрешат, но этот кажущийся срыв сам по себе не дает оснований для тревоги.
Эстер бросило в дрожь, когда она вспомнила, какие вопли доносились из того высокого здания с двойными решетками. Раз за разом перечитывая письмо, она обнаружила в нем, как в тайном донесении, мельчайшие крупицы скрытого смысла. Ни она сама, ни Джейкоб не должны допускать, чтобы их страхи препятствовали лечению дочери. Пусть наберутся терпения и ждут. Без лишней суеты она положила письмо к остальным. И больше к нему не возвращалась.
— Надо разобраться, нет ли здесь определенной модели поведения… — сказала доктор Фрид. — Стоит тебе раскрыть нам очередной секрет, как ты начинаешь метаться в поисках убежища и бросаешься в свой тайный мир. В какой-то Ир.
— Вы крадете мои рифмы, — указала ей Дебора, и обе они посмеялись.
— Что ж, расскажи мне, каков ритм этих твоих неприятностей.
Она пристально наблюдала за пациенткой, стремясь понять, что это за мир, который прежде служил девочке укрытием, но вдруг сделался серым, а теперь и вовсе превратился в тиранию, где она днями напролет вынуждена угождать местным властителям.
— Как-то раз… — начала Дебора. — Как-то раз иду я домой из школы, ко мне подходит Лактамеон и объявляет: «Три Перемены с их Зеркалами, а потом — Смерть». Говорил он по-ирски, а в этом языке словом «смерть» обозначается и кое-что другое: сон, безумие и даже само Жерло. Не знаю, что именно было у него на уме. Первая перемена мне понятна: это поездка домой из больницы, якобы после удаления опухоли. Зеркалом этой перемены стал сломанный цветок, который я увидела через много лет. Вторая перемена — это мои унижения в лагере, а зеркало — случай в машине, когда мне было лет четырнадцать. Третья — переезд в город, а зеркало, согласно предсказанию, — то, что привело к осуществлению пророчества. То ли вскрытие вен, то ли возвращение домой — не знаю, но это и была та смерть, которую предсказал Лактамеон.
— Две перемены обнаружились еще до того, как их предсказал бог, или кто он там, правильно я понимаю?
— Но третья — после, и все зеркала — тоже. — И Дебора завела рассказ про сплетение пророчества и судьбы, которое и составляло ткань ее потаенного мира.
После удаления опухоли родные ликовали. Возвращаясь из больницы домой сквозь легкий дождик, они веселились. Дебора, привстав с заднего сиденья, разглядывала серое небо, мокрые улицы и прохожих, которые поплотнее запахивали плащи. Реальность была не здесь, в салоне автомобиля, а ближе к мутному небу, мрачному и усталому, смыкавшемуся с дождем. Ей подумалось, что этот мрак отныне будет цветом ее жизни. Спустя годы, после того как мир вступил в борьбу с ее душой за другие реальности, Лактамеон напомнил ей об этом дне прозрения.
Перед госпитализацией Дебора видела сон: белая комната — так ей представлялась больничная палата — с распахнутым окном, за которым синело яркое небо со стремительно меняющимися белыми облаками. На подоконнике стоял цветочный горшок с красной геранью. «Вот видишь, — сказал ей голос из сна, — в больнице тоже есть цветы и сила. Ты выживешь и окрепнешь». Но в том же сне воздух неожиданно потемнел, небо за окном стало черным, а невесть откуда прилетевший камень разбил глиняный горшок и сломал кустик герани. Раздался вопль, нахлынуло предвестие чего-то страшного. Много лет спустя горькоголосая начинающая художница — совершенно другая Дебора — шла по улице и упала, споткнувшись о разбитый цветочный горшок. Земля из него высыпалась, а поникшее красное соцветие запуталось в корнях и побегах. Лактамеон был тут как тут; он зашептал: «Видишь… видишь… Перемена произошла давно — а вот и зеркало той перемены. Этап завершен». Теперь назревали еще две перемены и два зеркала этих перемен, а потом — Иморх (это слово обозначало нечто близкое к смерти, сну или безумию; слово — как вздох безнадежности).
Вторая перемена случилась с нею в возрасте девяти лет и пришла вместе с ее унижением. Был первый день ее третьего сезона в летнем лагере; в пылу борьбы с несправедливостью, которая виделась ей в том, что она уродилась такой, как есть, Дебора пожаловалась на двух девчонок, которые осыпали ее издевками и запрещали к себе приближаться. Начальник лагеря посмотрел на нее в упор:
— Кто именно произнес эту фразу: «Мы не ходим рядом с вонючими жидами…»? Клэр или Джоан?
Поскольку это был самый первый день, она еще путала имена и лица.
— Клэр, — ответила Дебора.
Но когда к директору вызвали Клэр, которая стала с жаром отпираться от этих слов, Дебора сообразила, что Клэр только слушала и согласно кивала, тогда как обидчицей была Джоан.
— Клэр этого не признает. Что ты теперь скажешь?
— Ничего.
За Деборой неумолимо тянулся шлейф гибели. Она прекратила борьбу и не произнесла больше ни звука. В тот вечер все собрались у костра — одного из тех, что со щемящей грустью вспоминает каждый, кто в пору своей невинной юности побывал в летнем лагере. Начальник выступил с патетической речью и во всеуслышание поведал, что в их ряды «затесалась обманщица, которая использует свою веру, чтобы вызвать к себе жалость и досадить ни в чем не повинным девочкам, не останавливаясь ни перед подлостью, ни перед бесчестьем». Ни одного имени он не назвал, но все и так поняли.
Через несколько дней, когда у нее появилась возможность побыть одной, до ее слуха долетел сладостный, темный голос: «Ты — не из их числа. Ты — одна из нас». Дебора попыталась определить, откуда доносятся эти слова, но они вплетались в мозаику листвы и солнца. «Не сражайся более с их ложью. Ты — не их поля ягода». Прошло еще немного времени, и Дебора, безуспешно пытаясь еще раз услышать этот голос, уже пала духом, но на общей вечерней прогулке уловила его, неслышного остальным, среди звезд — тот же звучный голос, будто бы читавший стихи: «Ты можешь стать нашей птицей, что свободно парит на ветру. Ты можешь стать кочевой лошадкой, что вскидывает голову и не знает смущения».
Это унижение стало второй переменой, но она померкла перед появлением богов, перед первыми признаками будущей Империи Ир. Не рана, а человеческая, мирская ненависть обернулась внезапным доказательством существования Ира и отразилась в зеркале, когда Антеррабей выделил Дебору из всей ватаги и Дебора, чтобы выйти на его зов, невольно потребовала остановки экскурсионного автобуса. В лагере мир сковывал ее час за часом, но отныне уже не мог удержать, ибо место ее, как подсказывал Ир, было не здесь.
Третьей переменой стала городская жизнь. Мама считала, что с переездом все изменится к лучшему. У них наконец-то будет собственное жилье, пусть даже не дом, а всего лишь квартира, а Дебора заведет друзей среди ровесников. Уезжая из старого дома, Дебора только посмеивалась: кто-кто, а она знала, что злой рок от нее не отстанет. В большом городе роковое пятно грозило проступить еще ясней, а сложности — обрести более четкие очертания. Прежнюю ненависть и отчужденность уже невозможно было объяснить их еврейством. Но с прежней ненавистью Дебора свыклась. А в городе новое презрение и новая отчужденность прорезали глубокие борозды в еще не загрубевших чувствах.
На этот раз зеркало приняло вид очередного посрамления: физрук отпустил какую-то презрительную колкость насчет ее неуклюжести. И Дебора головой вперед полетела в Жерло. Трое суток она в ужасе плутала, как сомнамбула, невидимая для собственной души и недоступная для своего слуха.
Потом, незадолго перед своим шестнадцатилетием, она как-то вечером шла от врача, терзаясь от несуществующей боли в несуществующей опухоли. Рядом были Антеррабей и Лактамеон, а также Цензор и весь Синклит. Среди гомона их противоречивых требований и проклятий она поняла, что каким-то образом потеряла еще один день. Время опять необъяснимо легло складками, но это уже было другое время, и за Деборой гнался полицейский. Догнав ее, он спросил, что стряслось: она в диком ужасе бежала неизвестно от чего. Заверив его, что ничего страшного не случилось, Дебора, чтобы только от него отделаться, нырнула в какое-то строение. Выйдя на свет, она двинулась дальше неспешным шагом под ритмичную, глубокую барабанную дробь. Пришел Иморх. Теперь он рядом. С его спокойной поступью пришел и великий покой, потому что более не было нужды бороться и противиться.
Три перемены и три зеркала — все, как предрекал Лактамеон.
— Но уверенности не было. Знаете, меня легко провести. Недаром в Ире мне дали прозвище: Вечно Обманутая.
— Поскольку две из трех перемен случились в ту пору, когда ты еще не подозревала о существовании богов, я бы хотела понять, насколько мудрыми эти боги выглядят задним числом. Уж не обманывают ли они тебя только для того, чтобы самим вписаться в твою картину мира?
Доктор подалась вперед в своем кресле, чувствуя, как обессилела Дебора, когда открыла то, что, по ее мнению, ею двигало. Тайный язык, внутри которого скрывается еще один; некий мир, заслоняющий собой незримый мир; и симптомы, скрывающие под собой еще более глубинные симптомы, для обращения к которым время еще не пришло; а под ними — неподвижное и еще более глубинное, обжигающее желание жить. Ей хотелось рассказать этой ошеломленной девушке, сидящей напротив, что ее болезнь, которой чураются и боятся окружающие, — это способ адаптации, что все до единого тайные миры, и языки, и коды, и искупительные жертвы — это ее способы выживания в этом мире анархии и террора.
— Пойми… самое неприятное в психиатрическом заболевании — то, что выживание дается очень дорогой ценой.
— Во всяком случае, если ты не в себе, значит ты где-то еще.
— Совершенно верно, но ты все равно в группе, с другими людьми.
— Нет! Нет!
— Ты платишь очень высокую цену за свою сопричастность.
— Только не с теми, кто находится здесь! Не с вами, не с этим миром! Антеррабей объяснил мне это давным-давно. Я верю Иру!
Но Дебора понимала, что доктор в чем-то права. Доктор открыла ее ум словам, подобно тому, как привыкший к темноте глаз, прикрытый ресницами, осторожно приоткрывается свету и, даже если этот свет немного слепит, закрывается не сразу. Свет приходит, и приходит неудержимо, даже если глаз его отвергает. Увиденного не повернешь назад. Вот и получается, что в четвертом отделении она своя, более чем где бы то ни было и когда бы то ни было, причем впервые стала узнаваемой и определенной сущностью — одной из душевнобольных. Теперь у нее появилось знамя, под которое можно встать.
После сеанса доктор Фрид ушла к себе на кухню, чтобы сварить кофе. Зеркала и перемены! Не все ли человеческие глаза подобны кривым зеркалам? Опять, как бывало уже сотни раз, она оказалась между истиной одного человека и другого, поражаясь, насколько же различны эти двое, даже объединенные многолетней любовью и общим опытом. По всей видимости, история с опухолью и антисемитский лагерь породили это злокачественное, пагубное одиночество — основу душевной болезни; вся любовь, которую дарила ей Эстер, была истолкована Деборой по-своему: если на дочери лежало проклятие, мать, должно быть, это знала и подменяла любовь жалостью, а сама вместо гордости носила в себе страдание.
При взгляде на забурливший кофейник доктор Фрид вдруг ощутила себя недоумевающей озадаченной старухой. Эту мамашу голыми руками не возьмешь.
— Чаровница… для нее важнее всего — обаяние и успешность, — прошептала она приготовленной пустой чашке. — По-моему, напориста… Подавляет, но и любит неподдельно… Ach! — с этим междометием из своего детства и отрочества доктор Фрид вздрогнула, когда из кофеварки выплеснулся кофе и стал растекаться по плите.
По дороге в отделение Дебора мечтала найти для себя совершенно уединенный закуток. В таком месте одиночество — двусмысленное состояние: хотя клиника была переполнена, этажи переполнены и палаты тоже переполнены, пациенты существовали обособленно. Во всех больницах, о которых ей доводилось слышать, имелись разобщенные армии лиц, отрезавших себе пути для вхождения в другие группы и ордена этого мира. У нее в палате некоторые больные были прикованы к постели. Другие, как поруганная Вдова Убитого Экс-Президента, основали свои собственные королевства и, в отличие от Деборы, даже не пытались подойти к границе земной реальности.
Многие обладали сверхъестественной способностью определять — казалось, буквально с первого взгляда, — в чем кроется чужой недуг и насколько он тяжел и обширен. Но эта способность, которой, как можно было подумать, страшились силы саморазрушения, сочеталась у них с полной неспособностью сознательно использовать полученные сведения. Всех их приучили «соблюдать приличия», не насмехаться над увечными, не побивать камнями уродцев и не глазеть на бредущих по дороге стариков. Они повиновались, но, сталкиваясь с невидимой ущербностью, выхватывали наметанным глазом все тайны, улавливали чутким ухом немые мольбы так называемых нормальных — и становились беспощадными. Но жестокость свою не осознавали и не контролировали.
Раз за разом Дебора видела, как совершаются покушения на одного из ночных дежурных. Нападавшие всегда оказывались самыми тяжелыми больными во всем отделении: неконтактные, далекие от «реальности». Тем не менее они всякий раз выбирали своей жертвой одного и того же человека. Наутро после особенно жестокой потасовки началось расследование. Это была не просто драка, а настоящая свалка: пациенты и персонал покрылись кровоподтеками и открытыми ранами; заведующему отделением пришлось допросить каждого в отдельности. Дебора с пола наблюдала за схваткой в надежде, что ночной дежурный споткнется о ее ногу, чтобы потом она могла сказать в подражание Августину Блаженному: «Да, нога моя была у него поперек дороги, но я не принуждала его спотыкаться. В конце-то концов, все зависит от свободной воли человека…»
Заведующий отделением каждого расспросил о драке. Пациенты с достоинством опровергали свое участие; даже самые неразговорчивые и диковатые изображали рафинированное презрение и целенаправленно отводили от себя все вопросы.
— С чего все это началось? — спросил он Дебору с глазу на глаз в безлюдной утренней гостиной: это был очень важный для нее момент.
— Да как сказать… Хоббс делал обход, и тут вспыхнула драка. Причем драка знатная, не особо шумная и не особо тихая. Кулак Люси Мартенсон нарушил мыслительные процессы мистера Хоббса, и нога его нашла какую-то часть тела Ли Миллер. Я тоже ногу выставила, но она никому не пригодилась.
— Послушай, Дебора, — начал он с серьезным видом, и у него во взгляде она прочла надежду на то, что он вытянет из нее ответ, который не под силу получить коллегам, и тем самым утвердит свою репутацию в медицине. — Объясни мне… Почему все шишки сыплются на Хоббса, а на Макферсона или на Кендона — никогда? Может, Хоббс грубо обращается с больными, а мы про это ничего не знаем?
Ох уж эта надежда! Не на ее благо, а на ее ответ, не на благо больных, а на тот миг в его потаенных мечтах, когда можно будет с небрежным видом заявить: «Да-да, эту проблему я решил».
Дебора прекрасно знала, почему достается всегда Хоббсу, а не Макферсону, но не могла этого открыть, равно как и не могла посочувствовать неприкрытой, амбициозной надежде, читавшейся на докторской физиономии. Временами Хоббс действительно вел себя грубовато, но не более того. Дело было в другом. Он боялся помешательства, которое видел вокруг, потому как оно служило продолжением того, что засело в нем самом. Ему хотелось, чтобы больные стали еще безумнее, еще чудовищнее, чем на самом деле, чтобы он отчетливей видел черту, отделявшую его самого, со всеми наклонностями, беспорядочными мыслями и полужеланиями, от полновесного, взрывного сумасшествия пациентов. А Макферсон, наоборот, был человеком сильным и даже счастливым. Ему хотелось, чтобы такими же сделались и больные: он испытывал удовлетворение, замечая даже малейшее их сходство с собой. Он не упускал случая отметить их похожесть, никогда не принуждал, но мягко, исподволь призывал, а впоследствии поощрял каждый отклик. На самом-то деле больные давали каждому, чего тот искал. Никаких несправедливостей здесь не совершалось, и Дебора уже в то утро поняла, что сломанное запястье Хоббса — это лишь средство оттянуть его превращение в пациента какой-нибудь психиатрической лечебницы.
Рассуждать об этом вслух она не собиралась, а потому только сказала:
— Никаких несправедливостей здесь не совершается.
Доктора озадачило такое утверждение: одна пациентка не может встать с постели, у второй перелом ребра, у Хоббса — перелом пястной кости, у санитара сломан палец, у каждой из двух медсестер подбит глаз, на лице множественные гематомы. Он уже собирался уйти. Не сделав даже попытки помочь Деборе сказать нечто большее, он, по ее наблюдениям, разозлился и преисполнился отвращения, потому что она, в свою очередь, не помогла осуществлению его грез. Но тут отворилась дверь, и врач обернулся. В утреннюю гостиную вошла Элен, неся на подносе еду. Видимо, из-за этой беседы Дебора пропустила обед.
Вначале Дебора подумала, что Элен просто решила пообедать в солнечной комнате отдыха, но при виде ее лица поняла: солнце здесь ни при чем. Резко вскинув голову, доктор приказал:
— Иди к себе, Элен.
Легко и грациозно отступив назад и сделав замах, как на хорошо смазанном шарнире, Элен запустила поднос в голову Деборе. Залюбовавшись отточенными, балетными движениями, Дебора прониклась их красотой — и тут мир обрушился на нее мокрой, теплой лавиной съестного: рагу, какие-то ошметки, а вместе с ними — скользящий край подноса. Обернувшись к врачу, она увидела, что тот вжался в стену; голосом, вмиг утратившим профессиональную важность, он завопил:
— Не бей меня, Элен… только не бей! Я знаю, как ты дерешься!
На его крик примчались перепуганные санитары и могучими ручищами скрутили артистку балета. Деборе показалось, что медперсонала здесь многовато для одной хрупкой женщины, хотя она сыпала ударами, как молотилка. Сквозь стекающее по волосам и лицу месиво Дебора выговорила:
— Убирайся, Элен, иди в задницу.
— Что ты сказала? — переспросил врач, поправляя одежду и пытаясь сделать то же самое с выражением лица.
— Я сказала: «Лети, еда, сама знаешь куда».
Она услышала, как выдвигают койку для холодного обертывания. Врач торопливо ретировался на какой-то крик из дальней палаты. Дебора осталась в одиночестве, подозревая, что голова у нее рассечена до крови.
Из-за всеобщей суматохи санитарка лишь через полчаса удосужилась отпереть ванную комнату, чтобы Дебора смогла хоть немного ополоснуться. Здесь, как и везде, нападавшие имели преимущество перед жертвами. В конце-то концов, клиника недалеко ушла от реального мира. Дебора мысленно проклинала эту заваруху. Пусть с Элен обошлись грубо, но проявили к ней внимание, проявили обеспокоенность. Отчистив себя от съестного, Дебора вернулась в постель; на тумбочке ждал давно остывший обед, наполовину подъеденный соседкой.
— Подкрепись, милая, — проворковала со своей койки Супруга Отрекшегося, — все равно из тебя потом это выдавят.
— Да нет… — Дебора покосилась на рагу. — Я свою порцию уже получила.
Тут она удостоилась пристального взгляда Вдовы Убитого.
— Дорогуша, при такой внешности на тебя не польстится ни один мужчина!
Отвернувшись, она продолжила совещание, и Дебору вдруг осенило, почему Элен вздумала на нее напасть. Примерно за час до этого, когда врач вызвал для беседы Дебору, к ней подошла Элен и с членораздельными комментариями показала несколько фотографий, полученных в письме. Элен, которую все боялись по причине ее вспышек злобы и буйства, содержали в изоляторе; эта больная не раз ломала другим кости. Но сегодня дверь оставили открытой, и никто не заметил, как Элен отправилась на поиски Деборы и поделилась с ней этими фотографиями. Она в подробностях рассказывала, кто на них изображен, и в какой-то момент сказала: «Вот с этой мы учились в колледже». Прелестная девушка, она стояла в реальном мире — на кошмарной, ничьей земле. Забрав у Деборы фото, Элен повалилась на ее койку и приказала: «Мотай отсюда… Я отдыхать буду». Поскольку это была Элен, а не кто-нибудь, Дебора вышла из палаты в коридор; вскоре Элен обнаружил и выдворил санитар. Дебора поняла: Элен обрушилась на нее как на свидетельницу своего позора и унижения, вызванного той фотографией. Зеркало требовалось замарать, чтобы оно больше не отражало тайную уязвимость, внезапно мелькнувшую за ширмой неумолимых кулаков, взглядов и ругательств.
— Философствуешь! — пробормотала себе Дебора и вытащила из уха кусочек чего-то тушеного.
Глава девятая
— С переменами мы разобрались, с тайным миром тоже, — проговорила доктор Фрид, — а как протекала твоя жизнь в промежутках?
— Даже не знаю, как подступиться; мне кажется, в ней была только ненависть: и в лагере, и в школе, и везде…
— В школе тоже царил антисемитизм?
— Нет-нет, там все было проще. Мишенью становилась только я; стойкую неприязнь не могли переломить никакие нотации насчет хороших манер. Но почему обыкновенная неприязнь перерастала в ярую злобу или ненависть, я так и не поняла. Разные люди подходили ко мне и говорили: «…после всего, что ты сделала…» или «после всего, что ты наговорила… даже я не собираюсь тебя защищать». А я не могла взять в толк, что я такого сделала и наговорила. Горничные у нас в доме не задерживались, это была какая-то круговерть, и мне все время приходилось извиняться, но я не понимала: за что? Почему? Однажды я поздоровалась с лучшей подругой, а она от меня отвернулась. Когда я спросила, в чем дело, она сказала: «После всего, что ты наделала?» — и больше со мной не разговаривала, а я до сих пор не понимаю, в чем моя вина.
— Ты уверена, что ничего не утаиваешь… какую-нибудь потребность поступить так, а не иначе, из-за которой подруги на тебя злились?
— Сколько раз я пыталась представить, додуматься, вспомнить. Но все напрасно. Ни намека.
— А что ты чувствовала, когда такое случалось?
— По прошествии времени оставались только серый туман и удивление от неизбежности.
— Удивление от неизбежности?
— Где нет законов, там есть только это жуткое разрушение, которое подбирается все ближе… Иморх… тень его неизбежна. И все-таки… сама не знаю почему… я мучаюсь от его приближения и от ударов, которые сыплются на меня вновь и вновь с самых непредвиденных сторон.
— Вероятно, причина лишь в том, что ты сама ждешь от этого мира только потрясений и страхов.
— По-вашему, я сама подстраиваю обманы? — Дебора почувствовала, что они ступили на опасную территорию.
— Но порой ты вынужденно шла на обман, разве нет? Или отказывалась что-либо понимать.
У Деборы в памяти всплыла картинка из тех лет, когда ей хотелось только умереть. Ее забрали из антисемитского лагеря, но цвет жизни уже померк, и углубляться могло только отчаяние. О ней говорили: вечно уединяется и что-то рисует, но никому не показывает. Действительно, она всюду носила с собой альбом для набросков, загораживалась им, как щитом, и однажды не заметила, как из него в присутствии кучки бездельников, мальчишек и девчонок, случайно выпал один лист. Его поднял кто-то парней. «Алло… Чья потеря, моя находка?»
Картинка была непростая, многофигурная. Бездельники один за другим отказывались: нет, это не мое; и не мое, нет-нет… наконец парень уставился на Дебору:
«Твое?»
«Нет».
«Да чего там, не отпирайся».
«Не мое».
Повнимательнее приглядевшись к этому парню, Дебора поняла, что он пытается ей помочь: стоит ей только признаться и забрать свое творение, как он сразу встанет на ее защиту. Ему хотелось стать ее покровителем, но какую цену ей придется заплатить, она не догадывалась.
— Как вы не понимаете… — с горечью сказала она доктору, — меня заставили отречься от собственного творчества.
— А сама-то ты разве не понимаешь, что мальчик уговаривал тебя не отрекаться и остальные не насмешничали. Ты просто боялась, что тебя засмеют. И сама себя заставила солгать.
В злобе и страхе Дебора уставилась на своего врача:
— Сколько раз можно повторять правду и умирать за нее?
Она вскочила как ужаленная и схватила с письменного стола лист бумаги, чтобы тут же изобразить на нем всеобъемлющий ответ на сплошь надуманные обвинения: здесь уместились и доктор, которая, похоже, во всем винила Дебору; и Синклит с его извечным осуждением; и слова многих. Карандаш летал яростно; закончив, Дебора протянула рисунок врачу.
— Отчетливо вижу гнев, но некоторые символы нуждаются в объяснении. Короны… скипетры… птицы…
— Это соловьи. Такие миленькие. Видите: у этой девочки есть масса преимуществ — все, что только можно купить за деньги, да только эти птички растаскивают ее волосы, чтобы вить гнезда и наводить блеск на эти короны, а ее костями чистят скипетр. У нее превосходнейшая корона, самый массивный скипетр, и все говорят: «Счастливая, всего у нее в достатке!»
Доктор Фрид видела, как пациентка кружит и мечется, кружит и мечется от страха. Вскоре ей уже некуда будет бежать, и она, спланировав свое разрушение, вступит в схватку с собой. Доктор посмотрела на Дебору. Что ж, по крайней мере, битва теперь ведется всерьез. От прежней апатии не осталось и следа. Девочка ощутила, как в ней поднимаются надежды, а вместе с ними — возбуждение, не похожее ни на что другое… эхо, доносящееся из таких глубин, где хранятся звуки ее потенциального здоровья. Доктор Фрид сдержала волнение, чтобы его не заметила Дебора и не прокляла себя за упрямые попытки доказать, что этот ее Ир — факт жизни.
— Короны и соловьи! — язвительно говорила Дебора. — Оставьте себе этот рисунок: будете показывать на лекциях ученой публике. Объяснять, что у душевнобольных не нарушается понятие линейной перспективы.
— Смотря какой перспективы, — ответила доктор. — Но я охотно возьму его себе: как напоминание, что творчество — это благая и глубокая сила, которая наперекор болезни способна достичь своего подъема и расцвета.
Сидя у себя в отделении на полу в праздном ожидании Антеррабея, Дебора увидела, как по коридору к ней направляется Карла.
— Эй, Деб…
— Карла? Вот уж не думала здесь тебя встретить.
У Карлы был изнуренный вид.
— Деб… Сил больше нет закупоривать в себе ненависть. Дай-ка, думаю, поднимусь этажом выше — и смогу орать до хрипоты.
Переглянувшись, они улыбнулись, понимая, что «четверка» — совсем не «худшее» отделение, а просто самое честное. Другие отделения вынужденно поддерживали «статус» и видимость приличий.
Когда стоишь на пороге преисподней, для тебя нет никого страшнее дьявола; а когда ты уже в преисподней, дьявол — это просто сосед: никто, ничто и звать никак. В первом и втором отделениях больные шепотом обсуждали свои мелкие симптомы, глотали снотворное и в страхе прислушивались к воплям, а то и к реву агонии или нарастающего отчаяния. Порой женское надзорное отделение раскачивалось, как лодка, но его обитатели были свободны от неуловимых, коварных токов скрытого помешательства.
Случалось, больные заговаривали между собой о прежней жизни или делились слухами. К этому подталкивал инстинкт единения, рождаемый бездельем и отрезанностью от мира. Теперь их мир, ограниченный стенами больничных корпусов, населяли психи.
— А раньше где тебя держали?
— В «Краун-стейт».
— Джесси тоже там сидела. Я еще по «Конкорду» ее знаю.
— Ты в «Конкорде» на каком отделении была?
— На пятом и на восемнадцатом.
— У меня подруга была на седьмом. Такой, рассказывала, клоповник.
— Не то слово! Там Хескет заправлял. Психбольным сто очков вперед даст.
— Хескет?.. — проходившая мимо Элен вздрогнула и очнулась от своего постоянного транса. — Коротышка, худющий такой? Глаза голубые, картавый? Еще голову вот так вздергивал?
— Он самый.
— Гаденыш! Избивал меня в «Маунт-Сент-Мэриз». — И пошла дальше, погрузившись в транс.
Ли Миллер задумчиво почесала ухо.
— «Маунт-Сент-Мэриз»… Как же, помню… Дорис тоже там сидела. Дорис Ривера.
— Это еще кто такая?
— Ой, детка, ты ее не застала: долгожительница наша, на ней все виды лечения перепробовали, про какие я только слыхала, да только крыша у ней капитально съехала. Здесь она три года просидела.
— А потом куда ее перевели?
— Никуда. Живет теперь за территорией, подрабатывает.
Они не поверили своим ушам. Неужели это известный факт? Неужели кто-нибудь может назвать имя преуспевшего пациента, для которого это место стало не конечным, а перевалочным пунктом? Когда на Ли обрушился град вопросов, она в конце концов раскололась:
— Слушайте, я познакомилась с Дорис тут, на «четверке», но в чем ее секрет — понятия не имею, а с тех пор, как ее отселили, мы с ней и вовсе не сталкивались! Знаю только, что живет она за территорией и нашла работу. Вот привязались, чертовки!
Больные отвернулись и разбрелись в разные стороны: кто в комнату отдыха, кто в туалет, кто в другой конец коридора, а кто и по койкам. Сумерки сменились тьмой. Вдова Убитого совершила свой ежемесячный рывок к свободе: очертя голову и не разбирая дороги, ринулась в приоткрытую дверь, когда из отделения уносили оставшиеся после ужина подносы.
Дебора прислушивалась к монотонному речитативу Синклита, перечислявшего ее дурные поступки; эти упреки прервал Антеррабей, вскричав:
«Мы еще поглядим, сумеешь ли ты жить без опеки. Поглядим, сумеешь ли хоть когда-нибудь выйти на волю, получить работу и стать личностью!»
Из-за этих угроз голова у нее пошла кругом. Внешний мир и его обитатели уже стали для нее чужими: словно она никогда не сидела с ними за одним столом и не уносилась в одном восходящем потоке смертных и непостижимых жизней. Она вновь увидела простые с виду, но недосягаемые действа — увидела четко и ясно, будто серию застывших картинок. Как девочки здороваются, гуляют, безбоязненно идут в школу: все красавицы, все бегают на свидания, а потом выходят замуж. Ей вспомнилась Элен, пожелавшая из-за своих терзаний стереть лицо той, которая увидела и верно истолковала портрет миловидной подружки по колледжу.
«Ты не из их числа!» — кричал из Ира в защиту Деборы бог Лактамеон.
«Все прочие матери гордятся своими дочками!» — желчно и насмешливо твердил Синклит, как и всякий раз, когда дела принимали совсем уж скверный оборот.
«Держись подальше от своей именитой докторши! — грохотал Цензор. — Надеешься выйти сухой из воды, если будешь до бесконечности выдавать любые тайны? Есть такие смерти, которые пострашнее, чем сама смерть».
«Нынче время скрывать и скрываться…» — шептал Идат, обычно державшийся в тени бог по прозвищу Лицедей.
Сквозь нескончаемый гвалт, сквозь мельтешение богов и сановников Дебора увидела карикатурную, плоскую, в неправильном ракурсе фигуру Макферсона, шагающего по коридору мимо палат.
«Окликну его — позову на помощь», — сказала она всеобщей сумятице.
«Ну-ну, — засмеялся Антеррабей. — Попробуй. — И отправился восвояси в легком шлейфе запаха паленого. — Дуреха!»
Макферсон уже проходил мимо и готов был скрыться из виду. Дебора приблизилась, но заговорить не смогла. Незаметным жестом она попыталась привлечь его внимание; краем глаза он заметил ее пристальный взгляд и непонятные, какие-то судорожные движения неестественно вывернутой руки. Макферсон остановился.
— Деб?.. В чем дело?
Ответить не получилось. Дебора лишь сделала пару движений туловищем и рукой, но он заметил, что девушка в панике.
— Крепись, Дебора, — сказал он. — Вот освобожусь — и сразу зайду.
Она ждала; страх нарастал, а другие ощущения закрылись. Все вокруг виделось серым, уши заложило. Сейчас ее покидало даже осязание, поэтому реальность соприкосновения живой плоти с одеждой ослабевала. Гомон Ира не прекращался, а через некоторое время среди тяжелого — смесь эфира и хлороформа — запаха Жерла повеяло людьми, и это навело ее на мысль, что надо бы с ними пересечься. Перед глазами стало белым-бело: то ли от белых сестринских халатов, то ли от зимнего снега.
— Дебора. Ты меня слышишь? — прозвучал голос Макферсона.
На заднем плане кто-то говорил:
— Что сегодня такое со всеми стряслось?
Макферсон по-прежнему пытался с ней заговорить:
— Деб… смелее. Идти можешь?
Идти было особо некуда. Еле передвигая ноги, Дебора невольно привалилась к кому-то постороннему, и ее повели в дальний конец коридора, где уже заждался «ледяной мешок». Она почти с благодарностью рухнула на койку, даже не испытав первого шока от мокрой ледяной простыни…
Очнулась она не скоро, подышала, прислушалась к своему дыханию и набрала полную грудь воздуха. Чей-то голос рядом с ней спросил:
— Деб? Это ты?
— Карла?
— Она самая.
— Что стряслось?
— Не знаю, — ответила Карла. — Я ж тут на птичьих правах, но сегодня все с ума сходят.
— Еще только сходят? — Они посмеялись.
— И долго это тянется? — спросила Дебора.
— Тебя рубануло сразу после меня. Элен за стенкой лежит, Лина тоже, а у Ли Миллер истерика.
— Кто сегодня ночью дежурит?
— Хоббс. — В ее тоне отчетливо сквозила неприязнь. — Жалко, что не Макферсон.
Исподволь подпуская к себе реальность, они еще немного поболтали, остались довольны такой возможностью, но не посмели признать, что стали в каком-то смысле подругами. Карла поведала, как присутствовала при часовой беседе Элен с врачом. Для Элен, известной своим буйным нравом, сеансы проводились в палате.
— Молчание — убийственная штука, — изрекла Карла. — Старина Крейг просто-напросто не выдержал молчания. Заговорил сам, голос повысил, огорчился до невозможности. Ну, думаю, сейчас Элен ему скажет: «Успокойтесь, доктор; я для того здесь и нахожусь, чтобы вам помочь». А когда он из палаты выходил, его и вовсе можно было принять… за такого, как мы!
Полностью придя в себя, Дебора несколько раз потянулась, испытывая знакомую боль в затекших ногах. На соседней кровати неподвижным свертком, как мумия, лежала Карла.
— Дебора… Деб… я знаю, из-за кого нас… торкнуло.
— Из-за кого? — спросила Дебора, не горя желанием услышать ответ.
— Из-за Дорис Риверы.
Где-то в глубине души у Деборы возникла мука, которая начала посещать ее лишь в последнее время, но уже сделалась узнаваемой и обозначалась ирскими выражениями, скрывающими исконное и страшное обиходное слово: Истина.
— Нет, не может быть.
— Да, точно тебе говорю, — убежденно возразила Карла. — Она выздоровела, живет сама по себе, работает, а нам страшно: вдруг мы когда-нибудь тоже «исцелимся» — и тогда придется нам выйти в мир, потому как есть шанс, что и для нас откроют двери… на волю. — У Карлы голос рассекло лезвие паники.
Под прочным белым панцирем у Деборы захолонуло сердце и скрутило живот. Ее затрясло; все тело содрогалось от озноба. Боже, думала она, ведь я сейчас такая, какой была в той жизни: застывшая гора с вулканом внутри.
— Ну тебя к черту! — взвилась она. — Если твоя мать сошла с ума и наложила на себя руки, не воображай, что у тебя больше причин для помешательства, чем у меня!
С соседней койки донесся резкий вдох. Копье попало в цель, но жестокость Деборы не послужила ей защитой. Она с силой вдавила затылок в пузырь со льдом, который досаждал ей не меньше, чем весь внешний мир.
В этот миг повсюду вспыхнул свет, и они сощурились, пытаясь отгородиться от слепящих огней.
— Обычная проверка, — объяснил Хоббс и подошел к Деборе, чтобы измерить пульс у нее на висках. — Пока высокий, — сообщил он через плечо сопровождавшему его ассистенту. — И у этой тоже, — сказал он, выпрямившись над кроватью Карлы.
Медики вышли; свет погас.
Сгорая со стыда, Дебора отвернулась.
— «Мясо готово?» — горько бросила Карла. — «Нет, пусть еще минут двадцать потомится».
— Мы — не из их числа, — шепнула Дебора. На этом новом фоне утешение, посланное Иром, казалось почти возмутительным. — Карла… — Слова застревали в горле. — Прости. Это было сказано в угоду мне самой, но не против тебя. Я не хотела тебя обидеть… выставить совсем уж больной.
Некоторое время они молчали; тишину нарушало только их дыхание. Потом раздался голос Карлы, не мстительный и не высокомерный, хотя Дебора была готова и к этому.
— Моя болезнь… это переполненный стакан, куда течет струйка, и твоя капля уже вылилась через край в общем потоке.
— А насчет Дорис Риверы… может, это и правда.
Нутряная истина опять кольнула, но уже не так сильно.
— Конечно.
В Деборе все восставало против реальности, против холодного обертывания, против вопросов. Чуть не плача, она пыталась выпутаться из простыней.
— Что такое? — из темноты спросила Карла.
— Ты могла сделать мне больно — и не стала! — Не понимая, с какой стати Карла ее пощадила, Дебора умолкла и лишь от озноба скрежетала зубами в холодном, неприкрытом ужасе.
Глава десятая
Семейство ужинало. Эстер сидела без сил, Джейкоб злился. Им прислали очередную выписку, и Джейкоб ее прочел. Как обычно, в ней содержались только общие, ни к чему не обязывающие слова, но ему показалось, будто речь идет о том, что определенные признаки ненависти, буйства и глубинных страхов, таившихся в душе его любимой дочери, вырвались наружу. Ее перевели в другое отделение, где предпринимаются «дополнительные меры защиты». Что это могло означать для Дебби, он не понимал. Перед его мысленным взором стояло только высокое, зарешеченное, огороженное здание; в ушах гремели только сумасшедшие вопли, доносившиеся сверху, из «палаты для буйных»; он изводился, не в силах отделаться от них даже во сне. В это строение, в этот рев увели его Дебби. Эстер с самого начала поняла, что не сможет вечно скрывать от него правду. Тем не менее она увиливала, прятала выписки, а если читала их вслух, то при каждом удобном случае перевирала содержание. Теперь Джейкоб тоже знал все, и ей оставалось только успокаивать мужа, повторяя осторожные, нейтральные слова заведующего новым отделением.
— Надо понимать, у нее заметны некоторые улучшения, — объясняла Эстер, но Джейкоб не верил и сомневался, что она сама этому верит.
За столом они — ради Сьюзи — старательно обходили молчанием последнюю выписку, но так или иначе постоянно возвращались к своим неизбывным тревогам, обмениваясь иносказаниями через голову безмятежной дочки, которая за едой болтала без умолку и не могла понять, почему в доме туманом висит какая-то тяжесть и заслоняет их друг от друга. С ними незримо была Дебби. Дебби то, Дебби это. На миг Сьюзи даже задалась вопросом: неужели родители так же истово пеклись бы о ней, случись ей заболеть и отбыть в неизвестном направлении? Внезапно до нее дошло, что лучше об этом не думать: сравнение будет не в ее пользу… почти наверняка. От страха раз и навсегда убедиться в своей несостоятельности, от угрызений совести за такой прогноз и от злости на Дебби, общую любимицу, Сьюзи, поворачиваясь от матери к отцу, заговорила:
— Да ладно вам! Она же не в канаве где-нибудь валяется! К ее услугам и доктора, и все, что угодно. Почему все вечно стонут: «Бедняжка, бедняжка Дебби»?
Она в запальчивости вскочила из-за стола, но успела заметить, как лица родителей исказились болью.
В комнате отдыха Карла, сидя рядом с Деборой, элегантно курила сигарету. Согласно правилам, пересмотренным новой старшей сестрой отделения, этакой накрахмаленной дамочкой, больные получили возможность курить: либо в комнате отдыха, либо в коридоре; сигареты выдавались дежурной медсестрой или санитаром «на условиях строго индивидуального подхода». Вот уже две недели крики «Сигарету! Сигарету!» эхом летали по коридорам и палатам; персонал сбивался с ног.
Из торцевой спальни Карла подошла к зарешеченной двери отделения, потребовала: «Сигарету, пожалуйста» — и сейчас подмигнула Деборе:
— Где надо — нажмем, а свое возьмем.
Коротая время, они сидели в креслах.
На первых порах пребывания на «четверке» Дебора приноровилась разыгрывать в уме целые спектакли со своим участием, просто внушая себе: где сумасшедший дом, там и отделение для буйных. Она рисовала в сознании огромные, полыхающие картины. Реальность же сулила ей повышенную физическую защиту, но вместе с тем и скуку, нескончаемую, как сама болезнь. На холодном полу в коридоре было девятнадцать стыков в ширину и двадцать три в длину (включая шов). В мирке четвертого отделения она вливалась в общее шествие вдоль стен, разворачивалась, покружив там, где коридор расширялся и получал название «холл», заходила в комнату отдыха, чтобы покружить еще и тут, приближалась к сестринской, двигалась мимо главного санузла, вдоль череды изоляторов, мимо спален (закрытых для доступа), мимо второго санузла и возвращалась в тот же коридор, только с другой стороны, чтобы начать свой пусть сызнова. Когда для таких походов недоставало связи с реальностью, Дебора просто лежала на койке. В каждой из квадратных звукоизоляционных панелей на потолке было по девятнадцать круглых отверстий в каждом ряду. Иногда она присоединялась к окаменелым женщинам, толпившимся возле поста, и ждала, что там произойдет или не произойдет. Скука безумия обернулась необъятной пустыней, и среди этой необъятности чьи-то буйства или агонии казались оазисом, а каждый быстротечный миг простого единения был подобен редкому дождю, который пролился на иссохшую землю и надолго сохранился в памяти. Для Деборы и Карлы таким благодатным дождем стала история с сигаретой Карлы.
— При первой же возможности нарисую твой портрет, — говорила Дебора, наблюдая за струйками дыма.
Из этих слов Карла заключила, что Дебора сумела где-то украсть, а после припрятать карандаш и бумагу. Как выяснилось, тайник находился в главном санузле, за трубой холодного водоснабжения. Помывочный отсек стоял под замком: принимать ванну разрешалось исключительно под надзором персонала. Дебора пустилась в объяснения, но Карла схватывала на лету.
— Чтоб портреты рисовать, бумага требуется, — сказала Карла.
— Вот именно.
— И что это будет за картина?
— Акварель. Мне потребуется много воды.
Карла все поняла и заулыбалась.
— Если руки дойдут, тебе надо будет на что-нибудь опереться. — Карла имела в виду, что у нее есть книга, спрятанная в доступном месте.
В периоды ремиссии пациенты с удовольствием прибегали к тайным кодам и символам, какие, наряду с душевнобольными, используют заключенные, монашки и представители затерянных малых племен, где человеку известен каждый шаг другого. Из разговоров на фоне отчужденных лиц медперсонала порой зарождались начатки привязанностей. Элен временами тянулась то к Деборе, то к Карле, но вскоре сама этого пугалась и уходила в буйство. Самой разговорчивой оказалась Ли, душевнобольная со стажем. Хотя больные и не прикипали друг к дружке, не хранили преданность, не проявляли большой отзывчивости, у них, по крайней мере, были общие тайны.
— Прямо сейчас и взялась бы за этот портрет, — вслух размечталась о запретном Дебора: хранить у себя бумагу не возбранялось, но карандаши расценивались как оружие нападения и могли использоваться только под надзором медперсонала.
— Волосы у меня грязноваты, — туманно выговорила Карла.
В этой фразе было зашифровано предложение им обеим попроситься на мытье головы. Первой пойдет Карла и проникнет в помывочную, где есть удобная большая раковина. Согласно правилам внутреннего распорядка, если в санузле присутствовало менее трех дежурных, к раковине единовременно допускалось не более одной пациентки. Деборе предстояло отправиться в главный санузел и упросить открыть помывочную, чтобы отвлечь санитарку и выиграть время для изъятия припрятанного сокровища.
— У меня волосы на ощупь жирные, — посетовала Дебора. — Скоро колтун будет. — Так она сказала «спасибо».
План осуществили без сучка без задоринки, и к обеду заветный карандаш уже покоился в подвеске из круглых аптечных резинок, извлеченных в свое время из мусора и прикрепленных к четвертой пружине койки Деборы. Потом пришлось дожидаться обеда. Потом пришлось дожидаться, когда заберут подносы. Потом пришлось дожидаться пересменки. Потом — ужина. Потом — раздачи снотворного. Потом — отбоя.
Доктор Фрид уехала на какой-то конгресс, так что монотонность дней не нарушалась даже сеансами психотерапии. Дебора могла бы записаться на трудотерапию, чтобы по утрам, в часы, отведенные для пациентов «четверки», ходить в мастерскую, но передумала. У нее давно пропала охота «мастерить». Иногда, устроившись на полу под прикрытием койки, заслонявшей ее от глаз Супруги Отрекшегося, она делала небольшие наброски. На нее обрушивались порицания Синклита, категорические запреты Цензора, издевательские наветы богов и увещевания Ира, но после многочасовых наказаний или послаблений приходилось как-то убивать время, бесконечное время, которое отмечали приемы пищи, отходы ко сну, мимолетные слова, вспышки злобы, рассказы или горячечные фантазии больных: все это она пропускала через себя безо всякой заинтересованности и вспоминала только в связи с шествиями пациенток вдоль стен отделения. Иногда ей снились пугающие сны: гигантские вулканы страшного пробуждения, застывшего ужаса слуховых, обонятельных и осязательных галлюцинаций; но надежнее всего время отмечали похожие на фехтовальную маску часы, висевшие над дверью в сестринскую.
Эстер обратилась в клинику с очередным запросом на посещение дочери в связи с ее переводом в другое отделение, а также на беседу с врачом. В ответ пришло успокаивающее и, как всегда, непонятное письмо, в котором говорилось, что состояние пациентки соответствует ожидаемому. При желании миссис Блау может записаться на непродолжительную беседу с лечащим врачом Деборы. Посещение четвертого отделения запрещено правилами внутреннего распорядка, а непосредственные контакты с родственниками пациентов не входят в круг обязанностей заведующего. По всем вопросам рекомендуется обращаться к инспектору медико-социальной службы, миссис Роллиндер, в заранее оговоренные часы приема…
На встречу с доктором Фрид она ехала по железной дороге; поезд тащился медленно. Но Эстер только порадовалась, что служебные дела Джейкоба не позволяли ему отвезти ее на машине. В клинике она убедилась, что ее обаяние никак не облегчает взаимодействия с медперсоналом и не гарантирует ей исключения из правил. Доктор Фрид побеседовала с ней мягко, но уклончиво. Постаралась развеять страхи Эстер по поводу четвертого отделения и, если Эстер правильно поняла, выразила надежду, что нынешнее состояние Деборы — это просто «фаза ее заболевания». Такие же ответы, но высказанные с ледяным равнодушием, Эстер получила от инспектора медико-социальной службы. Запрет на посещения обойти не удалось.
По пути домой она решила, что Джейкобу и всем близким правду знать ни к чему. Лучше рассказать им, что она повидала Дебору, прошлась по отделению, познакомилась с врачами — и все оказалось на высоком, на самом высоком уровне. Именно это родные захотят услышать и принять на веру, а потому до поры до времени будут мириться с ложью. Собираясь в поездку, Эстер приготовила для Деборы целую кипу журналов. Печатную продукцию отказались даже принять, и сейчас, рассеянно глядя в окно вагона, Эстер сообразила, что увозит всю пачку обратно. От нечего делать она стала перелистывать страницы, но на каждой видела отражение вранья, придуманного ею для Джейкоба, и мучений, уготованных для себя. Тогда она попыталась сосредоточиться на иллюстрациях, но и в них не нашла облегчения. Навернувшиеся слезы туманили портреты беспощадно веселых рекламных красоток.
ОСЕНЬ В КОЛЛЕДЖЕ:
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ДЛЯ КАМПУСА
И на обороте:
НАШИ ЮНЫЕ ДЕБЮТАНТКИ:
БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ПЕРВЫЙ БАЛ
По всей странице были разбросаны незабудки; при виде этих цветов Эстер стиснула зубы, надеясь прогнать слезы. В преддверии выпускного вечера и поступления в колледж все одноклассницы Деборы возьмутся за эти журналы, и каждая будет мысленно подставлять свое личико в каждый снимок. Подруги Эстер, у которых дочери оканчивали школу, козыряли названиями колледжей, как визитными карточками. Девочкам покупались прелестные обновки — хоть сейчас надевай — и ежедневники для планирования приятных событий. А ведь ей предстояло и дальше общаться с этими мамочками, своими подругами, которым положение Деборы виделось лишь ненамного серьезнее, чем проблемы собственных детей. «Марджори так застенчива, ей, похоже, неуютно среди ровесников!», «Для Элен любая мелочь — вопрос жизни и смерти: девочка живет в постоянном напряжении!». Укрываясь за собственной ложью, Эстер выслушивала эти отзывы и в каждом вздохе узнавала легкое дыхание Деборы, знакомые черточки. Та же застенчивость, то же стремление спрятать свои страхи за ранним взрослением и скептическим юмором; то же вечное напряжение; но сумеет ли ее дочь вернуться в реальный мир? А эта клиника… быть может… быть может, они изначально совершили ошибку?
Дома ее поджидал Джейкоб вместе с родней. Все нерешительно улыбались, а Эстер бойко и уверенно лавировала, отделываясь общими фразами. Она была вполне довольна собой, пока Джейкоб не сказал:
— Замечательно… я рад, что врачи находят у нее столь значительные улучшения, и в следующий раз непременно поеду с тобой.
— Как ты отравила жизнь сестре? — спросила доктор Фрид, когда Дебора, свернувшись на кушетке, дрожала от холода Ира в душный августовский день на Земле.
— Я не хотела… ее оставили на милость моей сущности, которая носит ирское название. Моя сущность эгоистична и ядовита. Она отравляет ум.
— Это и есть разрушительное начало? Какие-то твои поступки, желания?
— Нет, это мое органическое, врожденное свойство, секреция желез, вроде потоотделения. Это мое порождение, оно ядовито.
Дебору вдруг захлестнула жалость к себе — к тлетворному созданию, и она пустилась в объяснения, все крупнее рисуя свой образ и свою вредоносную сущность.
— Постой…
Доктор подняла руку, но радость самообличения уже захватила пациентку с такой силой, какая обычно бывает свойственна только любви, и Дебора не могла остановиться: она расписывала и расцвечивала свою грязь, подбрасывая слова все выше и выше. С окончанием этого рассказа тень ее выросла до невероятных размеров.
Доктор Фрид дождалась, чтобы к Деборе вернулась способность слушать, и ровным тоном сказала:
— Все еще стараешься пустить мне пыль в глаза?
Дебора парировала ее вопрос, защищая и лелея только что созданный неузнаваемый образ, но была остановлена:
— Нет, милая, такой номер не пройдет. Это давно известный прием, камуфляж, и отнюдь не эрского происхождения.
— И-и-ирского.
— Пусть так. Но дело не в этом. Чтобы спрятаться, можно либо забыть, либо подменить, либо исказить. Это все — проверенные способы убежать от горькой подчас истины.
— Так почему бы не спрятаться, не отсидеться в безопасности?
— И в своем безумии.
— Хорошо, в безумии. Но почему бы и нет, после всего, что со мной сотворили?!
— Ах да. Ты тонко напомнила мне об одном упущении. Есть и четвертый прием камуфляжа: свалить вину на кого-нибудь другого. Тогда отпадает необходимость разбираться, что с тобой действительно сотворили другие и что ты сотворила сама — и творишь до сих пор.
Какая-то часть рассказа Деборы насчет порождения зла оказалась, по мнению врача, существенной и точной, но представшая в этом рассказе девушка-монстр выглядела совершенно незнакомой. Доктор требовала полного отчета о том, как ее пациентка отравляет жизнь младшей сестре, и Дебора волей-неволей призналась в своей детской ревности, на смену которой пришла отроческая любовь, омраченная упадком сил и угрызениями совести. Душевный недуг подкрадывался к Деборе не один год. Она описала свое к нему отношение; поведала, что от него страдают все, и в особенности Сьюзи, нежная и впечатлительная.
— Ты принуждаешь ее к зрительным и обонятельным галлюцинациям? Сеешь у нее сомнения в собственном здравомыслии, в реальных ощущениях?
— Нет, — ответила Дебора. — Болезнь — это не то, что тебе померещилось или послышалось… болезнь таится глубже. Я никогда не растолковывала сестре мои симптомы. Душевный недуг — это вулкан; пусть она сама разукрасит его склоны.
— Тебе по-прежнему зябко? — спросила доктор.
— Да, с той самой минуты, когда зарядили дожди и опустились ледяные туманы. На отделении не топят.
— Понимаешь, на улице… во внешнем мире… сейчас август. Небо ясное, солнце печет. К сожалению, холод и туман у тебя внутри.
Тут проснулась опухоль, разгневанная соперничеством других сил за союз с нею, и заявила о себе острой болью, которая пронзила ее владения, чтобы напомнить всем и вся, кто здесь пока еще главный. Согнувшись, Дебора охнула и задрожала. «А я тебя предупреждал», — бросил Цензор. До нее долетел удушливый запах эфира и хлороформа; она слышала, как стучит сердце.
— Когда моя сестра только появилась на свет, я попыталась ее убить, — сказала Дебора и сама удивилась, что эти слова не заглушили ее собственный голос. Пушечного залпа не случилось.
— Каким способом?
— Выбросить из окна. И была почти готова это сделать, но тут вошла мама и остановила меня.
— Родители тебя наказали?
— Нет. Об этом случае вообще никто не вспоминал.
К ней мало-помалу пришло опасливое чувство благодарности к родным, которые существовали бок о бок с чудовищем, но относились к нему как к человеческому существу.
— А после операции… — задумчиво начала доктор.
— Мы жили в залитом солнцем доме, куда перебрались на один год. Но, понимаете, чем бы меня ни задаривали, как ни баловали…
Дебора оказалась на грани слез, но болезнь тут же напомнила, что слезы свойственны только человеческим существам. «Ты не из их числа», — бросил Ир, и слезы высохли так же внезапно, как подступили.
— Ты обдумывала ее убийство?
— Да нет же! Я поднесла ее к окну и готова была выбросить.
— И родители никогда об этом не заговаривали, ни о чем не спрашивали?
— Нет. — Дебора знала, что они, скорее всего, признали очевидный факт и поспешили его захоронить, как труп.
Но она хорошо знала и кое-что другое: как, преследуя виновных, зловоние похороненной лжи будет висеть в воздухе, пока не напитает его затхлостью и порчей. В Ире была целая область под названием Трясина Страха. Как-то раз Дебору привел туда Лактамеон, чтобы показать ей скопившихся за долгие годы чудовищ и мертвецов из ее ночных кошмаров. Плыть туда пришлось сквозь почти монолитную почву.
Дебора тогда спросила: «Откуда такое жуткое зловоние?»
«От стыда и утаек, Легкокрылая, от стыда и утаек», — был ответ.
Теперь Дебору стал разбирать смех; доктор наклонилась к ней:
— Что такое? Возьми меня с собой.
— Простите, — сказала Дебора, — простите. Где-то завелся вор, который прознал, что люди зарывают и прячут золото и драгоценности. Представляете, какое у него будет лицо, когда он набредет на все, что захоронено мною?!
И они обе коротко рассмеялись.
Глава одиннадцатая
Когда на дежурство заступила вечерняя смена, Элен заняла позицию перед сестринской и принялась тяжело топать ногами. На шум вышла санитарка.
— Ну, что у вас еще, Элен?
— Дело закрыто, — ответила Элен. — Удары возвещают, что дело мистера Хоббса закрыто.
От ее надменной улыбки санитарка поджала губы и застыла. Считалось, что происшедшее держится в строгой тайне: вчера, вернувшись домой после смены, мистер Хоббс плотно затворил все окна и двери, а потом открыл газ. В замкнутом тюремно-монашеском четвертом отделении это стало известно всем, даже пребывавшим в прострации.
Больные — психопатки, сумасшедшие, дебилки, чокнутые, дурковатые — не обязаны были держаться в рамках приличий и соблюдать правило «о мертвых — либо хорошо, либо ничего». Если к физическим недостаткам здесь относились с определенным сочувствием, то смерть и связанные с ней условности вызывали только презрение. Элен как-то изрекла: «Дебил — это тот, у кого петля не выдержала» — ведь все они в разное время готовились наложить на себя руки, все с большим или меньшим рвением совершали суицидные попытки, все завидовали мертвым. В силу своего недуга каждая считала себя центром мироздания, и поступок Хоббса приравнивался к тому, что он всем им показывает язык, а они не могут дотянуться, чтобы надавать негодяю по роже.
Сейчас, когда заступила вечерняя смена, пациенткам не терпелось узнать, кто же займет место Хоббса. Первыми увидели новоприбывшего поджидавшие в холле; весть распространилась мгновенно.
— Да это же «нос»… новенький этот… опять «нос». — Это известие встречали почти физически ощутимым стоном.
«Носами» прозвали парней, которые вместо воинской повинности выбрали альтернативную службу. Это прозвище давным-давно дала им Ли Миллер, сказав: «Терпеть их не могу, этих альтернативщиков. За оружие браться не желают, вот правительство им в назидание и говорит: „Кто от службы нос воротит, тот пусть нюхнет либо психушки, либо тюряги!“». Элен расхохоталась, а кто-то поддакнул: «Стало быть, нас с вами эти носы и нюхнут».
Карла только шепнула:
— Я не против, чтобы меня в назидание использовали; хоть на что-то сгожусь, — и посмеялась с несвойственной ей горечью.
«Носов» обычно присылали парами.
— Думаю, правильней будет звать их «ноздрями», — уточнила педантичная Мэри, стирая кровь с невидимых стигм.
Больные рассмеялись, а Карла сказала:
— Кто угодно, только не Хоббс.
Под их взглядами новичок совершил свой нелегкий первый проход по коридору. Парень был в ужасе. Заметив это, пациентки встретили его с гневным весельем. Констанция, посаженная в изолятор, заверещала; тогда Мэри во всеуслышанье объявила:
— Да он сейчас в обморок грохнется! — И с обидой добавила: — Вообрази, тут все — живые души.
— Боится от нас подцепить заразу, — сказала Дебора под общий смех: ведь Хоббс явно что-то здесь подцепил, отчего и погиб.
Теперь новичок, затесавшийся в стайку медперсонала, приближался к ним.
— Встаньте, сделайте одолжение, — обратилась одна из медсестер к группе больных, которые сидели вдоль стен холла и коридора.
Взглянув на «носа», Дебора изрекла:
— Препятствия.
Она имела в виду, что больные, которые, вытянув ноги, перегородили проход, образовали своего рода полосу препятствий и тем самым взялись — от имени армии — заменить собой «ужасы войны», чтобы альтернативная служба никому не казалась медом. Но сестры не поняли и даже не улыбнулись, а пошли дальше, на ходу убеждая больных не сидеть на полу. Но женщины знали, что это всего лишь проформа. Сидеть на полу не запрещалось, и персонал, в основном состоявший из провинциальных женушек, только в присутствии посетителей начинал кудахтать насчет пыли и сетовать на «непорядок».
Когда Констанция уже готовилась выть всю ночь напролет, дверь отделения распахнулась и вошел Макферсон. Пристально посмотрев на дежурного ординатора, Дебора заметила, что все как-то расслабились, и со значением произнесла:
— Надо было им сменить замок.
Она подумала, что поворот ключа и приход Макферсона были явлениями совершенно иного порядка в сравнении с тем, которое им предшествовало, — как будто речь шла совсем о других дверях и других замках. Она смутно чувствовала, что эти слова как-то причинили ей вред, и повторила их заново, ища виновника:
— Надо… было… им… сменить… замок.
Макферсон ответил:
— Не нравится мне разговор о ключах.
Карла огляделась, в точности как перед тем — Дебора, зная, что никто этого не понял, но у Макферсона непонимание не влекло за собой ни презрения, ни ненависти, ни других порицаний. Она безмолвно откинулась назад.
Макферсона встретили с радостью, но, поскольку эта эмоция выдавала уязвимость, ее старались прятать.
— Без этих ключей вы бы ничем не отличались от нас!
Но Макферсон только посмеялся, причем не над ними, а над собой.
— Мы и так мало чем отличаемся, — ответил он и скрылся в сестринской.
— Кого он хочет обмануть?! — воскликнула Элен.
Злобы в ее словах не было — она просто спешила восстановить только что пробитую им стену. Отвернувшись, Элен погрузилась в свое чистилище, а поскольку в воздухе по-прежнему витал образ Макферсона, ехидных замечаний насчет ее самоустранения не последовало. Но когда мимо еще раз прошествовали волхвы, в том числе и «нос», негнущийся, стиснувший зубы от страха, ни одна не удержалась от жестокости, которую считала, как и все другие, своей истинной, врожденной натурой. От его приближения Элен содрогнулась, Карла напустила на себя равнодушный вид, а Мэри, всегда доброжелательно-веселая, бросила:
— Смотрите, жертвы Хоббса: вот идет очередной любитель газа!
— Давайте назовем его Хоббсов Левиафан[1] — в нем наверняка всякой дряни на целого кита хватит!
— Их религия запрещает самоубийство, — сообщила Сильвия со своего места у стены.
Тут все отделение погрузилось в тишину. За истекший год Сильвия не проронила ни звука; голос ее оказался лишенным всякого выражения, будто заговорила сама стена. В молчании все гадали, взаправду ли до их слуха донеслись человеческие слова, исходившие от недвижного и немого предмета больничной обстановки — от Сильвии. Каждая видела, как другие проверяют себя: она действительно это сказала или мне послышалось? Потом очнувшаяся от своей безучастности Ли Миллер направилась к сестринской и молотила в дверь до тех пор, пока в коридор не высунулась медсестра, словно раздосадованная приходом назойливого коммивояжера.
— Врача вызовите, — непререкаемо потребовала Ли Миллер. — Сильвия заговорила.
— Еще сводный отчет не готов, — отрезала медсестра и захлопнула дверь.
Ли забарабанила снова. Через некоторое время дверь отворилась.
— Ну?..
— Если не вызовете врача, сами же будете виноваты. Адамс точно придет — она всегда отзывается. В прошлый раз в три часа ночи примчалась, когда Сильвия заговорила!
— А с чего такие волнения, Миллер? — спросила медсестра. — Что она такого сказала?
— Да какая разница — вам не понять, это был обрывок фразы.
— О чем?
— Господи! Я вас умоляю!
Затесавшаяся между Сильвией и возбужденной Ли Миллер, Дебора понимала, какой глупостью звучит любая вырванная из разговора фраза. Сильвия выключила свой краткий, слабый проблеск света. Вокруг Ли возникла аура светотьмы, которая в Ире указывала на того, кто сделался танкутуку, что в буквальном переводе означало «неспрятанный», открытый всем стихиям и находящийся вдали от убежища. Ли вогнала себя в это жуткое состояние ради другого человека, от которого не дождешься ни похвалы, ни благодарности. Для такого человека в ирском языке тоже имелся особый термин, хотя и малоупотребительный: нэлак — безглазый. Деборе захотелось самой поблагодарить Ли за безглазость и неспрятанность. Ир отдавал должное Ли, а у Деборы не получалось выговорить подходящие слова.
Но что-то же нужно было делать. Ли осталась одна в этом мрачном месте под названием «Сопричастность» или «Реальность», и никто не мог ей помочь. Дебору, запертую, прямо как Сильвия, в неподвижном теле, утратившую родной язык, бросило в дрожь. Страх опять загонял ее в Ир — чем глубже, тем лучше, а огненный Антеррабей только хохотал.
«Будешь знать, как связываться с их миром! Тебя ждет Возмездие, предательница!» Путь в Ир оказался для нее закрыт.
«Нет! Нет! Я сойду с ума!» — закричала она Иру.
«Ты преклоняешься перед нэлак танкутуку, верно? Что ж, вот тебе земной мир. Пользуйся!»
Налетел черный ветер. Стены разверзлись, и мир стал переплетением теней. В поисках тени земной тверди, что дает опору, она лишь обманулась заново, когда этот жаркий мираж исчез; тогда она принялась искать глазами берег, но его унес ветер. Со всех сторон подступала ложь. Законы физики, твердые частицы оказались аннулированы, а жизненный опыт тактильных ощущений, движения, формы, тяжести, света свелся на нет. Дебора не знала, сидит она или стоит, где верх, где низ и откуда падает свет, который наносит ей укол за уколом. Она потеряла ощущение частей тела: не понимала, где у нее руки и как ими шевелить. Поскольку зрение беспорядочно кружило, исчезая и возвращаясь, она попыталась уцепиться за мысли, но лишь обнаружила, что напрочь забыла английский; даже ирский утратил всякий смысл. Память изменила ей полностью, а вслед за тем и рассудок, оставался лишь ускоряющийся бег смутных ощущений, неудержимых в отсутствие слов и мыслей. Эти ощущения предполагали нечто тайное и страшное, но она не могла этого уловить, потому что в конце концов перестала реагировать на что бы то ни было. Теперь оставался только безграничный ужас.
После Возмездия она принялась разглядывать ногти, синие и холодные. Стояло непонятное летнее время, снаружи блестел солнечный свет, озарявший зелень, но для определения часа Дебора не осмеливалась включить ум, чтобы Возмездие не вернулось и не отобрало у нее время заново. Она встала с чужой койки, на которой очнулась, сдернула с нее одеяло, укуталась и, все еще стуча зубами от холода, вышла в коридор. Лиц она не узнавала, но в какой-то степени удостоверилась, что существует, что смотрит на трехмерные объекты под названием «люди», которые движутся в стихии под названием «время». Решив подойти к одному такому объекту, Дебора задала нелепый вопрос:
— Какой сегодня день недели?
— Среда.
— Это ясно, а день какой?
Ее не поняли, а сама она слишком запуталась, чтобы продолжать расспросы, и пошла дальше. У нее за спиной трехмерные твердые тела сетовали на жару. Все овеивали себя воздухом отдельного времени.
Холод вызвал у Деборы приступ дурноты; от греха подальше она вернулась в палату и легла на койку, с облегчением признав в ней свою собственную.
«Вот видишь… — проникновенно увещевал ее Антеррабей. — Это и впрямь в нашей власти. С нами шутки плохи, Легкокрылая, ведь мы способны что угодно повернуть хоть вверх, хоть вниз, хоть вбок. Ты думала, это метафоры: потерять рассудок, тронуться, свихнуться, лишиться ума, не дружить с головой? Увы, сама видишь: так оно и есть. С нами не шути, Легкокрылая: мы тебя защищаем. Если опять начнешь восхищаться земным миром, жди от нас тьмы».
Впоследствии доктор Фрид спросила, что она уяснила для себя со времени их последней беседы.
— Я уяснила насчет безумия, — ответила Дебора и покачала головой, благоговейно вспоминая необъятность, и власть, и ужас. — Это нечто. Да, это нечто.
Вражда между больными и «носом» (он же — Хоббсов Левиафан) не утихала. В силу его фанатичных убеждений безумие виделось ему заслуженной ссылкой для тех, кого оно настигло, Божьей карой или происками дьявола, а порой всеми этими тремя наказаниями сразу. Шли дни; страх его отступал, а время праведного гнева близилось. Он понимал, что страдает за веру.
На его отвращение больные и реагировали болезненно. Образованные переиначивали Библию или издевательски толковали отдельные изречения, ввергая его в ужас. Констанция позволяла себе неприкрытые домогательства. Элен, сделав скромный книксен, взяла у него принесенное для нее полотенце со словами:
— Параноикам от Параклета[2]. Аминь, аминь.
А Дебора пару раз нелицеприятно отозвалась о сходстве между психическим и религиозным фанатизмом. Макферсон чувствовал, что по всему отделению ветром летает злобная агрессия, и не понимал, как ее остановить. Для решительных действий так или иначе не хватало медицинского персонала. Еще двое альтернативщиков неплохо освоились на других отделениях, а у одного даже обнаружились способности к работе с душевнобольными. Тот недолюбливал этого Эллиса — можно сказать, своего двойника, но в то же время испытывал к нему сочувствие. Эллис был совершенно не создан для такой работы, боялся и ненавидел пациентов и, должно быть, относился к правительству так же, как раннехристианские мученики — к римским прокураторам. Потому-то к нему и прилипло прозвище, связанное с покойным Хоббсом. Но хуже всего было то, что вера Эллиса не позволяла ему видеть в самоубийстве ничего, кроме греховности, ужаса и чудовищного безобразия.
Так вот: Эллис носил в себе дохлого, смердящего кита, и Макферсон размышлял о том, что ни один китобой не способен так ловко и беспощадно направить гарпун в уязвимое место, как эти душевнобольные. Порой он задумывался, почему они травят только Хоббса. Против Макферсона даже образованная Элен никогда не направляла острие своих знаний, даже суровая Дебора Блау не ранила его своим колючим языком. В этом сквозило нечто большее, чем простое везенье, но Макферсон не понимал, как и почему не стал мишенью горя и страданий, повсюду искавших себе выход.
Сейчас Макферсон наблюдал за пациентками, которые сгрудились в ожидании ужина, в ожидании темноты, в ожидании снотворного, в ожидании сна. Блау стояла у зарешеченного окна и закрытого щитком радиатора, глядя куда-то сквозь стену. Однажды он спросил, что она там разглядывает, и девушка ответила из своего отчуждения: «Я — мертвая, и точка».
Констанцию выпустили из одиночной палаты, но она по-прежнему оставалась в одиночестве и что-то негромко бормотала в углу. Ли Миллер стискивала и разжимала челюсти; мисс Кэбот из их спальни твердила: «Я — Вдова Убитого Президента Соединенных Штатов!» Все остальные, включая Линду, Мэрион и Сью Джепсон, вели себя как обычно. И все же в воздухе висела опасная тревога — куда более ощутимая, чем сумма отдельных тревог. Из сестринской появился Эллис: там он заполнял бланки на расход препаратов. Травля не заставила себя ждать.
— Забил фонтан — плывет Левиафан!
— Изыди, Сатана!
— Хоббс сам на себя руки наложил, а на этого наложила руки армия!
— Назначение получил, да только до полковничьего орла вряд ли дослужится.
— С таким назначением он только до тараканов в голове дослужится!
— Что новенького в аду, проповедник?
— Рано спрашивать. Он еще в своих владениях не осмотрелся.
В нише стены, за мощной решеткой, висел радиорепродуктор. Включали его только в определенные часы, когда по трансляции передавали безобидную полуэстрадную музыку, но сейчас Макферсон отпер ключом решетчатый щиток и врубил радио на полную мощность. В отделение полились жестяные звуки любовно-романтического танца, трогательно неуместного, если не смехотворного в тяжелом воздухе, среди неистребимых запахов мочи и хлорки. Когда влажный голос диктора пожелал слушателям спокойной ночи от имени «Звездной крыши», Карла, пародируя романтическое томление, пропела:
— Прощальный трепет ледяных мешков и нежный лепет: «приятных снов»… «приятных снов».
Все отделение взорвалось смехом и расслабилось, но явственный запах напряжения по-прежнему висел в воздухе, как озон после разряда молнии. Опасность удалось отвести с большим трудом.
Получив снотворное, Дебора забралась в постель и предалась знакомому ожиданию, а боги и Синклит притихли до сонных полутонов. Вошедший в спальню Макферсон остановился у ее кровати.
— Деб, — мягко произнес он, — оставь в покое мистера Эллиса, ладно?
— А я-то что? — возмутилась она.
— Это ко всем относится. Пошутили — и будет. Не надо больше трепать имя Хоббса.
— И вы объявите это каждой? — (Такой вопрос родился из утраты бдительности вследствие настороженного соперничества за благосклонность и подозрения ко всем побудительным причинам всех представителей земного мира.)
— Ага, — подтвердил он. — Всему отделению.
— И Мари, и Лине? — (Даже больные признавали этих двух самыми тяжелыми из всех.)
— Деб… ты, главное, сама оставь его в покое.
На миг ей показалось, что он использует ее в своих целях. Только ему дозволялось называть пациенток уменьшительными именами, и у него это получалось естественно, хотя сейчас прозвучало как-то натянуто.
— А что все я да я? Мне казалось, у вас, у нормальных, считается, что мы к этому касательства не имеем — к вашим условностям и порядкам. Я — не симпатяшка, я — невежа и про Хоббса знаю больше вашего. Он был из наших! И разделяло нас одно: железный трехдюймовый ключ, который он все время поглаживал, для верности. Вот и Эллис такой же. Я насквозь вижу и этого типа, и его ненависть.
Макферсон говорил тихо, но злость его была непритворной и, как почувствовала Дебора, исходила из таких глубин души, какие он прежде не открывал:
— Вы, девушки, считаете, что все больные упрятаны в лечебницы? Думаете, у вас есть монополия на страдание? О финансовой стороне дела умолчу — эта тема уже в зубах навязла, но скажу тебе прямо: на воле полно людей, которые и хотели бы получить помощь, да не могут. Кто-кто, а ты распознаешь душевную болезнь с первого взгляда. Ты не издеваешься над другими больными. Я не слышал от тебя ни слова осуждения в чей-либо адрес. — (Тут Дебора вспомнила, какие слова выкрикнула Карле, и вновь содрогнулась от стыда.) — Оставь Эллиса в покое — сама же потом спасибо скажешь.
— Я попробую.
Дежурный ординатор смотрел на нее в упор сверху вниз. В полумраке она не различала его лица, но чувствовала, что он успокоился. Потом он развернулся и вышел. Некоторое время Дебора боролась со снотворным и перебирала в уме, что было сказано Макферсоном и как именно. Слова были жесткими, но правдивыми, и за гневом угадывался такой тон… тон в принципе редкий, а в психиатрической лечебнице — бесценный: тон простого уважения к равному. Она ужаснулась от того, что теперь связана ответственностью, но одновременно испытала и новое чувство. Это была радость.
Глава двенадцатая
— Мне постоянно вспоминается кое-что из одной нашей недавней беседы, — начала доктор Фрид. — Ты сравнила свою болезнь с вулканом и добавила, что твоей сестре придется самой разукрасить его склоны. Ты понимаешь, что сейчас рассказываешь? Теперь-то ты видишь, что боги, дьяволы, весь этот Ир — не более чем твое собственное творение?
— Я этого не имела в виду! — отшатнулась Дебора, все еще слыша, как Синклит монотонно декламирует то, что годами повторяли люди: «Брось! Не выдумывай!» — Ир в самом деле настоящий!
— Не сомневаюсь, что для тебя он настоящий, но ты, если я правильно понимаю, говоришь и кое-что еще: что болезнь существует отдельно от симптомов, которые зачастую ошибочно принимают за нее. По-твоему, симптомы, хотя и относятся к болезни, связаны ней… как нечто, отличное от болезни?
— Конечно.
— Тогда попрошу тебя еще раз пройтись со мной по твоему прошлому, пока склоны еще не украшены, и вместе разглядеть сам вулкан. — Заметив выражение ужаса, она добавила: — Не сразу, шаг за шагом.
Они прошлись по Большим Обманам и по множеству мелких — тех, что неизбежны в жизни, но под влиянием чувств и убеждений Деборы, похоже, так четко указывали гибельный путь, будто составляли единый план, тайную шутку, которую все знают, но помалкивают. После многомесячных сеансов психотерапии Дебора начала понимать, что внешний мир пугает ее по целому ряду причин. Тень деда, основателя династии, все еще витала темным пятном над домами всей родни. Дебора возвращалась назад, и не по одному разу, слыша знакомый дедушкин голос: «Быть второй ученицей в классе недостаточно; ты должна быть первой», «Если тебя обижают, не плачь, а смейся. Никогда и никому не показывай своей обиды». Все эти речи были направлены против улыбающихся знатоков тайной шутки. Гордость должна перерасти в способность умереть в агонии, как ты с изяществом умирала каждый день. Даже любимой внучкой он гордился злобно. «Ты же умная — должна всем утереть нос!» Он оттачивал ее язвительность при помощи своей собственной, поощрял умение срезать собеседника, называл женщин то коровами, то племенными суками и грубовато задевал ее самолюбие, потому что ей суждено было вырасти никчемной — женщиной. Ей предстояло сразиться с целым миром глупцов и неблагодарных свиней, чтобы, хоть она и женщина, одержать победу в этой древней, мистической вражде между калекой-иммигрантом и давно усопшим латвийским графом.
Место и время взросления Деборы пришлись на новый всплеск тех извечных войн, от которых евреи совсем недавно бежали из Европы. А в новой стране их ожидали войны совсем свежие, подхлестываемые шествием нацистов по Европе и нагнетанием ненависти в Америке. В крупных городах устраивал марши Бунд, вспыхивали протесты против строительства синагог и против соседских евреев, посмевших высунуться из гетто. На глазах у Деборы дом Блау обливали краской, а под утреннюю газету с репортажами о чешских евреях, которые бегут к польской границе, где гибнут от пуль «свободолюбивых поляков», подсовывали вонючих дохлых крыс. Она не понаслышке знала, что такое ненависть, и пару раз подвергалась нападениям местной шпаны, но дед, будто усматривая в этом какое-то туманное доказательство, торжественно провозглашал: «Это зависть! Самым лучшим и самым умным всегда завидуют. Ходи с гордо поднятой головой, чтобы они не думали, что смогли тебя уязвить». А потом, как будто их ненависть сквозила в той старой шутке, добавлял: «Ты еще им всем покажешь! Ты — как я. А остальные — идиоты; дай срок — ты им всем покажешь!»
Она должна была «показать им» себя провозвестницей, обманщицей, соблазнительницей, акселераткой. Намек на то, что в один прекрасный день она станет «кем-то», доказывал вроде бы правоту старика. Дебора еще долго использовала свой ожесточенный ум вместо клинка, чтобы запугивать и поражать взрослых в периоды вооруженного перемирия с действительностью, но сверстников не могла обмануть ни на миг. Юные видели ее насквозь и, умудренные собственным страхом, принимались сживать ее со свету.
— Значит, семена Ира упали на благодатную почву, — заключила доктор. — Обманы в мире взрослых, пропасть между дедовыми амбициями и тем миром, который ты видела яснее, чем он, лживые, озвученные твоей акселерацией заявления о том, что ты на голову выше других, и непреложный факт твоего проигрыша сверстникам по всем статьям, невзирая на твои впечатляющие отличия.
— Пропасть между хорошо воспитанной богатой девочкой, у которой есть горничные, импортные наряды и… и…
— И что еще? Ты сейчас где?
— Не знаю, — ответила Дебора из тех пределов, куда попадала и раньше. — Здесь совсем нет цвета, только оттенки серого. Она большая, как белая глыба. А я маленькая и отгорожена решеткой. Она приносит еду. Серую. Я не ем. Где мое?.. мое?..
— Твое что?
— Спасение! — выпалила Дебора.
— Продолжай, — сказала доктор.
— Моя… личность, моя любовь.
Несколько мгновений доктор Фрид напряженно вглядывалась в ее лицо, а потом решилась:
— У меня есть одно соображение… хочешь, попробуем?
— А вы мне доверяете?
— Конечно, иначе эта наука просто не могла бы существовать: здесь требуются наши совместные усилия. Твое базовое знание своего «я» и истины не пострадало. Положись на него.
— Тогда продолжайте, не то психиатрия совсем зачахнет. — (Смех.)
— В годы твоего раннего детства у мамы была неудачная беременность, это так?
— Да, у нее случился выкидыш. Двойня.
— А потом она уехала, чтобы немного отдохнуть?
Прошлое осветила вспышка, и на ее фоне послышался звук добротной, прочной истины, как будто перчатка кетчера поймала брошенный с силой мяч. Соединение. Дебора прислушалась к этому звуку и, спотыкаясь на каждом слове, начала подбирать недостающие фрагменты к неизбывному кошмару, не более потустороннему, чем обыкновенное вынужденное одиночество:
— Белая глыба — это, наверное, была медсестра. У меня возникло такое ощущение, что все тепло куда-то улетучилось. Это ощущение меня и сейчас нередко накрывает, но тогда я подумала, что на самом деле оказалась в таком месте. Решетки были от детской кроватки. Не иначе как от моей собственной… Медсестра держалась отчужденно и холодно… Эй! Эй! — Сделавшийся дружелюбным свет высек что-то еще, и от неожиданности зыбкая, прозаическая связующая нить показалась откровением величия и чуда. — Решетки… Решетки от колыбели, и этот холод, и невозможность различать цвета… Точь-в-точь как сейчас! Это признаки Жерла — вот они, прямо здесь! Когда я жду падения, темные повязки у меня на глазах — это старые решетки от колыбели и такой же давний холод… Никак не могу понять, отчего с ним нельзя покончить, просто надев пальто.
Поток слов иссяк, и доктор Фрид улыбнулась:
— Значит, он необъятен, как брошенность, как полная утрата любви.
— Думала, я умру, но в конце концов они вернулись. — В полете она помедлила, и ее захватил новый внезапный вопрос, будто довлевший над ней всегда.
— Но ведь не все источают яд? Естественно, всем доводится оставаться в одиночестве — кому неделю, кому две. Случается, умирают родители, но дети же не сходят с ума, не видят перед собой одни лишь похоронные оркестры.
Ей уже приходило голову другое, более глубинное доказательство, что она как-то не так устроена, что причина элементарна: ее гены, дурное семя. Она ожидала сочувственного отклика, знакомой утешительной лжи, которая осветила бы ей путь в Ир. Но вместо этого услышала резкие слова.
— Воспоминания не могут видоизмениться, но многолетний нажим придает им тяжесть, которая подчас становится непереносимой. У тебя много-много раз возникало побуждение вспомнить холод брошенности, решетки на окнах, одиночество, и этот опыт твоим внутренним голосом говорит: «В конце-то концов, такова жизнь, понимаешь?»
Доктор встала, давая понять, что сеанс окончен.
— Сегодня мы поработали на славу — установили, где вцепляются в тебя некоторые призраки прошлого.
Дебора прошептала:
— Знать бы еще, какую цену придется заплатить.
Доктор коснулась ее локтя:
— Цену ты назначаешь сама. Объяви всему Иру, что он не смеет мешать нашим исканиям.
Из-за какого-то смутного страха прикосновений Дебора убрала руку из-под докторской ладони. И правильно сделала, потому что место касания задымилось, а кожа под рукавом свитера ошпарилась и пошла пузырями от ожога.
— Прости, — сказала врач, заметив бледность Деборы. — Я не хотела к тебе прикасаться, пока ты к этому не готова.
— Громоотводы, — ответила пациентка, глядя сквозь вязаный рукав на сожженную плоть и понимая, как, наверное, жутко служить заземлением для такой силы.
Не уследив за этим скачком логики, доктор смотрела мимо дрожащего тела своей пациентки — туда, где загнанный дух на мгновение вспыхнул радостью и угас.
— Мы будем трудиться изо всех сил, вместе, и найдем ответы.
— Если вообще будем способны трудиться, — отозвалась Дебора.
Глава тринадцатая
Время неустанно двигалось вперед. Подобно теннисному мячу, Дебора летала из одной зоны Ира в другую, из пределов Земли — в никуда, из солнечных квадратов — в черноту, над линиями, отделяющими время здравомыслящих, и при этом старалась не обижать мистера Эллиса. Она освободила его от имени Хоббса, подчинялась указаниям, хотя и без особой радости, и, насколько хватало сил, мирилась с его мученичеством — своим собственным бытием. Через отделение проходил поток медсестер-практиканток. Одни удовлетворялись хотя бы тем, что перестали бояться душевнобольных, другие бежали сломя голову, подгоняемые хлыстом отдаленного сходства между изречениями безумных пациенток и своими неизреченными мыслями. Вот и сейчас пришла новая группа, которая тут же столкнулась с наготой Констанции, с грациозной и зубодробительной агрессией Элен, с заблокированными глазами Деборы. Одна молодая сестричка преувеличенно громко отметила:
— Эта девчушка смотрит сквозь меня, как будто я вообще не здесь.
В порядке утешения Дебора через некоторое время шепнула ей на ухо:
— Не «я», а «она».
Имелось в виду, что отрицать нужно местонахождение уродки-больной, а не симпатичной медички, но запоздалая поправка лишь еще больше встревожила и без того перепуганную девушку, а Дебора в который раз убедилась, сколь непреодолимая пропасть отделяет ее от биологического вида, именуемого «человек разумный».
Дебора стояла в тесном изоляторе, примыкавшем к холлу. Поднос с завтраком принесла ей одна из практиканток, бледная, неумело возившаяся с ключами (что отличало ее от прочих) и, видимо, помнившая тайный бедлам ночных кошмаров, которые, по крайней мере, были свойственны, знакомы и понятны Деборе. Дебора прошептала ободряющие слова, но медичка, окаменев лицом, резко развернулась и чуть не упала, запутавшись в собственных ногах.
Почти инстинктивно Дебора выбросила вперед руку, потому что неуклюжесть роднила ее с этой девушкой; рука подхватила ту за локоть и отпустила не сразу. Практикантка обрела равновесие и, выпрямившись, отпрянула — страх придал ей сил, чтобы доковылять до коридора.
— Страдайте, — сказала Дебора тем, которые толпились в Ире и хорошо знали это иносказательное приветствие. — Я служу проводником для молний и ожогов. Врач направляет их сквозь меня, а потом они перетекают к медсестре. Здесь я превратилась в медный провод, но другие видят во мне лишь колючую проволоку!
Антеррабей рассмеялся.
«Не теряй чувства юмора, — посоветовал он в бесконечном, свободном, огненном падении, роняя искры со своей гривы. — За пределами любого — да хоть этого, тем более этого — изолятора, отделения, больничного корпуса веселись после окончания ее смены, двигайся, дыши в той стихии, которую никогда не поймешь и не узнаешь. Тамошние вдохи и выдохи, кровь и кости, ночь и день по сути своей отличны от твоих. Твоя субстанция для них губительна. Заразившись твоей субстанцией, люди сойдут с ума или погибнут».
«И Жерло тоже?»
«Несомненно».
В ужасе от своей разрушительной власти, Дебора вскрикнула и с тихим стоном упала на пол:
«Слишком много власти, слишком много зла. Не допусти, чтобы от этого страдали другие… только не от этого… только не от этого! Не от этого… не от…»
И вот она уже поднялась над собой, облачилась в ирское прозвание и положение, а потом, метя в низ живота и в пораженную опухолью плоть, раскисшую, как гнилая дыня, отпинала ту себя, что валялась на полу. Под скрип ритуального прощания небо за кованой решеткой отяжелело от мрака. Выглянув наружу, она поняла, что стоит не горбясь, прямо перед окном, и тихо молит: «Вы, все, дайте же мне умереть». Ополчись на нее все разом, ей — она это сознавала — пришел бы конец. Ни радость, ни счастье, ни покой, ни свобода не могли окупить этих страданий.
«Прикончите меня, Антеррабей, Синклит и все прочие. Раз и навсегда сокрушите меня при помощи этого мира!»
Снаружи включили свет; в замочной скважине заскрежетал ключ.
— Обычная проверка, — весело начала заступившая на смену медсестра, но при виде лица Деборы повернулась к своей помощнице, ожидавшей в коридоре. — Заканчивай обход и готовь холодное обертывание.
Дебора не разбирала, какой у нее вид в которой из двух ипостасей, но испытала огромное облегчение. Помощь пришла благодаря тому, что из-под маски, очевидно, просочилось нечто горестное.
— Из глазниц, что ли… — шепнула она людям, которые вскоре появились рядом.
Когда она поднялась вновь, кругом был непроглядный мрак. Дебора гигантской касаткой всплывала из донных глубин — из совсем иной стихии, с иными законами и погодными условиями. За окном, но уже не тем, которое отмеряло ранние сумерки, Земля вернулась в ночь, кроватей теперь стало две, а дальше — густая звездная тьма, стекло забрано решеткой, решетка забрана щитками, щитки пригнаны вплотную. Даже за этой тройной оконной маской виднелась чудесная ночь с пронзительно чистыми звездами. С соседней кровати донесся какой-то шорох.
— Кто здесь? — спросила Дебора.
— Пресвятая Дева на койке слева, — отозвалась Элен. — Венера Милосская — без рук и плоская.
— А у вас случалось такое, чтобы в глаз соринка попала, а вы в «ледяном мешке», как без рук? — Деборе вспомнилось, как ее порой донимали волоски, соринки или зуд — эти адские мелочи, которые вырастают до вселенских размеров, когда не можешь выпростать руку, чтобы от них отделаться.
— Я сама себе — соринка в глазу, — холодно ответила Элен, — да еще ты тут.
И Дебора умолкла, отдыхая после затяжного апокалипсиса. Мысли прояснились, и некоторое время она думала об Элен, лежавшей, как ее сестра-двойняшка, на соседней кровати. Притом что Элен отличалась желчностью и злобой, Дебора уважала ее за интеллект, а еще за то, что она, колючая и неуступчивая, прекратила донимать страдальца Эллиса. Почти все время Элен оставалась неконтактной, до нее было не достучаться; иногда она бросала пару язвительных фраз, которые внезапно разлетались на мелкие осколки, а порой проявляла агрессию, жестокую и непонятную. В свои минуты просветления Дебора незаметно для других безмолвно убеждалась, что Элен, тяжело больная, как и она сама, обладает непостижимой внутренней мощью, или силой воли, или неведомо каким еще качеством, необходимым для выздоровления. Элен могла добиться своего. По этим причинам Дебора относилась к ней со смешанным чувством зависти, уважения и страха.
Как-то раз и Дебора проявила жестокость к Элен: сказала, что у той есть все шансы на выздоровление, — и увидела, как грозно напряглось мускулистое тело. Тогда Дебора еще не целиком сознавала, что наносит ей травму. Рафинированным тоном Элен вполне логично ответила, что Деборе лучше отвалить, да побыстрее, а иначе она, Элен, раздробит ей череп, набитый дерьмом. Дебора еле унесла ноги.
Зажегся свет; после звездной ночной красоты каждая пациентка глухо застонала от убогого зрелища соседки и самой себя. Вошел Эллис, причем без сопровождения, и быстро направился к Элен, чтобы измерить пульс.
Обычно медсестры и санитары прямо с порога заговаривали с больными, чтобы исподволь обозначить присутствие внешнего мира, сделавшего их своими посланцами, а потом ожидали, что даже дезориентированные и неадекватные, хотя бы моргнув, засвидетельствуют их приход. Но внезапностью своего появления там, где требовалась особая чуткость, Эллис перегнул палку: когда он приблизился к Элен, чтобы пощупать пульс у нее на висках и внести в свой бланк соответствующие цифры, она резко отдернула голову от его руки. У больных, запеленатых в холодные простыни, движение головы оставалось единственной формой неповиновения; одной рукой Эллис прижимал ее лицо, а другой пытался нащупать слабый, едва ли не птичий пульс. И вновь она вырвалась. Тогда он слегка распрямился и с хладнокровной расчетливостью начал хлестать ее по лицу. Пощечины выходили прицельными и уверенными. Элен злобно плевалась мелкими брызгами, а Дебора наблюдала сцену, которой отныне суждено было стать для нее символом бесправия всех душевнобольных: очередная пощечина, спокойная и точная, очередной плевок — и так раз за разом. Плевки Элен даже не достигали цели, но после каждой попытки Эллис с размаху отвешивал ей удар в полную силу. Никаких других звуков слышно не было — только фырканье пересохших губ, тяжелое дыхание Элен и град пощечин. Напряжение было столь велико, что казалось, будто эти двое забыли обо всем на свете. Добившись послушания, Эллис измерил пульс обеим больным и вышел. Тут Элен слегка закашлялась, поперхнувшись кровью.
На другой день Дебора превратилась в свою ирскую супостатку — добровольную подругу по несчастью: безглазая и нагая, по-ирски она звалась нэлак танкутуку. Подойдя к дежурной сестре, она попросила устроить ей встречу с заведующим, когда тот придет подписывать назначения на следующую неделю.
— Зачем тебе с ним встречаться? — спросила сестра.
— Мне нужно кое-что ему рассказать.
— А конкретно?
— Что пацифист — это тот, кто бьет наотмашь.
Женщина вызвала старшую сестру. Разговор завели по второму кругу. Старшая сестра вызвала дневную дежурную по больнице; опять все сначала. Под потолком сгущалась туча, которая поплыла в сторону Возмездия, но Дебора не могла отказаться от мысли облегчить свою совесть, рассказав доктору, что она — свидетельница, а значит, оказалась, хотя и неявно, заодно и с победителем, и с жертвой.
Медперсонал воспринял это скептически, Деборе пришлось упрашивать, а туча между тем опускалась все ниже, да вдобавок налетел ветер. В конце концов разрешение было получено. Изо всех сил сохраняя, по земным меркам, видимость здравомыслия, чтобы у врача не возникло сомнений в ее правдивости, она изложила заведующему отделением все, чему стала свидетельницей. В своем рассказе она не выпячивала важность произошедшего и даже не заикалась о предрасположенностях Эллиса, которые, как она знала, держались в секрете хотя бы потому, что у него были ключи, а у пациенток — нет. Дебора уже закончила свой рассказ, а доктор так и остался сидеть, глядя на нее, как баран на новые ворота. По длительному опыту она знала, что он не видит тучу, не ежится под темным ветром, не чует близкого Возмездия. Он застыл в другом времени года — наверное, ближе к весне, под своим единоличным солнцем, лучи которого упирались в круг ее обзора, ее реальности, ее царства.
В конце концов доктор спросил:
— А почему Элен сама мне не сказала?
— Элен после этого происшествия замкнулась в себе.
У Деборы вертелось на языке, что Элен в своем репертуаре: ушла в тень и оставила ее расхлебывать эту заваруху — поквиталась за тот случай, когда Дебора ей сказала, что видит у нее перспективу выздоровления. Дебора понимала, что скрытничать неразумно, однако ум ее от этого застопорился, будто кромка ткани зацепилась за гвоздь, и продолжения не последовало.
— Мы намерены пресекать любую жестокость, но не можем принимать на веру бездоказательные обвинения. Ты же знаешь: тебе назначили холодное обертывание потому, что ты была взбудоражена. Вероятно, тебе показалось…
— Вы хотя бы расспросите Эллиса. Он ведь Душу блюдет… а она ему спуску не даст, если он врать надумает.
— Я возьму это на заметку, — сказал врач, даже не потянувшись за своим вечным блокнотом.
Сомнений не было: он, по выражению Ли Миллер, извлек на свет «Курс Лечения Номер Три» — набор замшелых «ладно-ладно», которые озвучиваются как «да-да, конечно», чтобы тебя успокоить и тут же умыть руки, чтобы, даже не вникая, заткнуть тебе рот и тем самым пресечь смуту. Глядя на врача, Дебора вспомнила о снотворном. Она давно хотела добиться увеличения дозы и понимала, что доктор ей не откажет, если высказать эту просьбу прямо сейчас. Но ей претило покупать себе сон ценой крови, которой захлебывалась Элен, поэтому она не стала его задерживать и только прошептала:
— Хлоралгидрата — богато, а химсоединения — как одолжение.
На глазах у Деборы из тучи посыпались черви. Врач ушел. Пусть катится; об этом случае она расскажет доктору Фрид, Обжигающей Руке.
Фуриайя, Обжигающая Рука — такое новое ирское прозвание получила доктор Фрид в качестве напоминания о грозной силе, которая оставила незримый ожог у локтя Деборы.
— А ты рассказала об этом заведующему отделением? — спросила Фуриайя.
— Рассказала — и получила от него Номер Три с Улыбочкой: «Да-да».
Почетный отказ от увеличенной дозы снотворного сделал Дебору посмешищем в собственных глазах. Нужно было хоть чем-то поживиться в обмен на то, что могло обойтись очень дорого.
— Видишь ли, — сказала Фуриайя, — к руководству вашим отделением я не причастна. У меня нет права вмешиваться в принципы внутреннего распорядка.
— Я же не требую изменения принципов, — сказала Дебора, — если, конечно, избиение связанных пациенток не возведено в принцип.
— Вопросы дисциплины медперсонала тоже не в моем ведении, — добавила Фуриайя.
— Здесь кругом одни понтии пилаты?
В конце концов Фуриайя согласилась упомянуть тот случай на врачебной конференции, но Дебору это не убедило:
— По-моему, вы сомневаетесь, что я все видела своими глазами.
— Как раз в этом я ни минуты не сомневаюсь, — возразила доктор. — Но пойми: не мне решать, как нужно осуществлять руководство отделениями; ведь я не занимаю административных постов.
Дебора поняла, что спичка поднесена к сухой растопке.
— Какой прок от вашей реальности, если в ней попирается справедливость, бесчестность лакируется, а страдают те, у кого есть собственные убеждения? Элен раскусила Эллиса, я тоже. Так какой прок от вашей реальности?
— Послушай, — сказала Фуриайя, — я никогда не обещала тебе сад из роз. Никогда не сулила торжества справедливости. — (Тут ей вспомнилась Тильда, которая сбежала из лечебницы в Нюрнберге, растворилась в этом городе-свастике, а потом с резким, скрипучим хохотом, больше похожим на пародию, вернулась. «Шолом алейхем, доктор, там такие психи — не чета мне!») — Я не сулила тебе ни покоя, ни счастья. Моя помощь заключается в том, чтобы раскрепостить тебя для борьбы за все эти блага. Единственная реальность, которую я могу тебе дать, — это вызов, а здоровье означает свободу принять или отвергнуть этот вызов на любом доступном тебе уровне. Я никогда не обещала тебе сада из роз. Идеальный мир — это сплошная ложь… а вдобавок — жуткая скука!
— Так вы поднимете этот вопрос на совещании… насчет Элен?
— Сказала — значит сделаю, но гарантировать ничего не могу.
Поскольку Элен оставила Дебору в одиночестве, взвалив на нее бремя свидетельницы, Дебора поневоле, неосознанно пошла к Ли Миллер, которая впала в танкутуку по причине забытых слов Сильвии. Ли не допускала, чтобы кто-то стоял у нее за спиной, и сама, в отличие от других, никогда не останавливалась, привалившись к стене, а потому безостановочно кружила, «чтобы все находились там, где следует». Не претендуя ни на единение, ни на верность, а только лишь из таинственного чувства долга Дебора теперь не отходила от нее ни на шаг, уподобившись птолемееву Солнцу, обходящему вокруг своих планет.
— Пошла вон, Блау! — И в этом тоже была дань чувству долга: заговорив с Деборой, Ли Миллер, по мнению Деборы, признавала, что они — родня, лицедейки в одном спектакле. — Пошла вон, Блау!
Скованная кандалами единения, Дебора подошла к ней позже.
— Сестра! Вышвырните отсюда эту стерву!
Прибежала дежурная сестра:
— Либо выйди из холла, Дебора, либо прекрати ходить за ней следом.
Медсестра стала третьей лицедейкой, но не танкутуку. Оковы притяжения растворились; Дебора вновь смогла отдалиться.
«При свете моего пламени, — заговорил Антеррабей, — смотри, Легкокрылая, до чего же старательно, до чего же старательно тебя оттесняют от мелких опасностей: от булавок и спичек, от ремней и шнурков, от грязных взглядов. Станет ли Эллис избивать нагую свидетельницу в запертом изоляторе?»
Дебора сползла по стене на привычный квадрат пола, рядом с другими статуями, чтобы рассмотреть мысленные картины, простые, очевидные, страшные.
Вечером новая пациентка, Люсия, которая завоевала определенный авторитет своим буйством и девятилетним пребыванием в одной из наиболее суровых лечебниц во всей стране, неожиданно заговорила со стайкой мерзлячек, жавшихся к закрытой щитками батарее:
— Тут у вас все не по-людски. Уж в каких я только дурках не сидела, на всяких отделениях. Да и братец мой тож самое. Но тут… запуганных полно, придурочных полно, на пол сикают, вопят, а все из-за одного-единственного, вот такусенького «авось»…
И припустила по коридору длинными страусиными шагами, в голос хохоча, чтобы перечеркнуть неохватную, устрашающую силу своих слов, но они уже слетели у нее с языка и, подобно животному зловонию коридоров и палат, повисли в воздухе. Здесь все боялись надежды, вот такусенького «чем черт не шутит», но для Деборы, как раз оказавшейся поблизости, это заявление приобрело особый смысл, а потому она заглянула в оба мира сразу и увидела неизбежное: надвигающуюся тучу, из которой сыплются черви, а также свод правил, гонимый, словно клочок бумаги, черным ветром.
— А что нам до этого «авось»; пусть о нем у начальства голова болит.
Глава четырнадцатая
Эстер и Джейкоб сидели бок о бок во врачебном кабинете и, как понимала доктор Фрид, ждали поддержки и успокоения. В ее планы входило сказать им без обиняков, что она не Господь Бог. Никаких гарантий дать она не может и не собирается осуждать никакое их действие, равно как и бездействие в отношении дочери, которое, собственно, и привело ее, как врача, на нынешнее поле боя.
— Разве предосудительно желать, чтобы твои дети были такими, как у всех? — спросил Джейкоб. — Я… я понять хочу: существует ли действенное лечение или же ей суждено оставаться здесь, где ее будут приводить в чувство и утешать… до скончания века? — Он и сам почувствовал холодность этой тирады. — Дело не в дефиците любви, будь то к больным или к здоровым. Просто мы должны знать, на что нам рассчитывать, на что надеяться. Вы можете сказать, на что мы можем надеяться?
— Если вам видится университетский диплом, лавина приглашений на танцевальные вечера, увлечение флористикой и милый, безупречный юноша из прекрасной семьи — не знаю. Такие надежды питают многих родителей. Я не уверена, что Дебора когда-нибудь получит — и захочет ли получить — все эти подарки судьбы. Наши совместные усилия отчасти направлены на то, чтобы она сама осознала свои желания, свыклась с ними.
— Нам разрешат с ней повидаться?
Доктор Фрид предвидела такой вопрос — и не ошиблась. Отвечать на него ей не хотелось.
— Если вы будете настаивать, то, конечно, разрешат, но сейчас я бы не советовала. — Она старалась говорить очень, очень ровно.
— Это почему же?! — Джейкоб повысил голос, чтобы заглушить страх.
— Потому, что в настоящее время ее ощущение реальности весьма шатко. Один ее вид может вызвать некоторое беспокойство, и она, зная это, вас боится… и, кстати, боится за себя.
Джейкоб в растерянности откинулся на спинку стула, силясь понять, чего ради они все это затеяли. Возможно, прежняя Дебора, как ему твердили, была нездорова. Ей недоставало уверенности в себе и живости, но она была их кровинкой: да, неуверенная — такую нужно оберегать и направлять; да, невеселая — такую следует подбадривать и опекать. Но, по крайней мере, она была им родной. А теперь для них нарисовали портрет какой-то незнакомки.
— Позвольте вам напомнить, что симптомы — это еще не само заболевание, — продолжала доктор Фрид. — Симптомы — это оборонительные рубежи и доспехи. Поверьте: психическое расстройство — единственная твердая почва у нее под ногами. Мы с вашей дочерью врубаемся в этот грунт, на котором она стоит. Ей остается лишь принимать на веру, что после его разрушения у нее появится другая, более надежная почва. Хотя бы на минуту поставьте себя на место дочери — и вы поймете, почему она махнула рукой на свой внешний вид, почему сделалась такой пугливой и почему симптомы множатся.
Доктор Фрид попыталась описать чувства личности, всю свою жизнь не знавшей истинного психического здоровья.
— Мы, которые не испытали этого на себе, можем только догадываться о степени ужаса и одиночества больных. Видите ли, от Деборы сейчас требуется приостановить череду накопленных за долгие годы представлений о мнимой реальности и принять на веру другую картину мира. Недуг Деборы сейчас выливается в отчаянную борьбу за выздоровление.
— Тот мир, который мы ей открыли, вовсе не был таким устрашающим, — заметил Джейкоб.
— Но ваш мир она так и не восприняла, понимаете? Ваша дочь создала робота, который совершал движения, диктуемые реальностью, а за ним скрывалась подлинная личность, отдалявшаяся все более и более.
Она не стала продолжать, зная, как страшит людей незнакомая личность, которую скрывает знакомый робот.
Джейкоб спокойно произнес:
— И все же я хочу с ней повидаться.
— Нет, Джейкоб, лучше не…
— Эс… Я хочу с ней повидаться! Имею право.
— Хорошо, — доброжелательно ответила доктор Фрид. — Я позвоню на отделение и попрошу, чтобы ее привели в зал для посещений. — Она уже шла к телефонному аппарату. — Если у вас потом возникнет желание со мной поговорить, обратитесь, пожалуйста, к санитарке — пусть она мне позвонит. Я буду на месте до шестнадцати часов.
Она смотрела им вслед, когда они на негнущихся ногах шли по направлению к главному корпусу. Счастливые семьи. Как принято говорить: «Ты должна его осчастливить». Как принято говорить: «Ты должен ее осчастливить — научись вести себя за столом и обеспечь ей будущее нашей мечты!» Она вздохнула. Даже умные, честные и добропорядочные ничтоже сумняшеся торгуют своими детьми. Ради детей они пускают в ход обман, кичливость и фанаберию, до каких никогда бы не опустились во имя собственных целей. Ах-х-х! У нее вырвался очередной вздох, потому что сама она не родила и не выкормила ребенка, потому что ни с того ни с сего задалась вопросом: а смогла бы она интриговать или заноситься, покупать мечты и бесцельно примерять их к Деборе, будь эта девушка ее дочерью? Поразмыслив еще немного, она сняла трубку и еще раз дозвонилась до четвертого отделения.
— Да ее только-только в посетительскую забрали, доктор, — ответила санитарка.
— Ладно, ничего страшного. Я рассчитывала…
— Алло, доктор?
— …что она успеет причесаться.
Домой Эстер и Джейкоб ехали молча. Каждый ждал, чтобы в голове улеглась простая истина, но увиденное никак не вязалось с тем, что они привыкли считать правдой, а потому обоих взяла оторопь. Они доверяли доктору Фрид. Не прячась за лицемерными утешениями, она давала надежду — то, чего отчаянно не хватало родителям. Но их дочь изменилась почти до неузнаваемости. Нет, они не услышали бессвязного бормотания, не увидели буйства, но ужаснулись какой-то невыразимой отстраненности. Дебора словно не обитала в своем теле.
За дверью посетительской Джейкоб только сказал:
— Бледненькая совсем…
А Эстер, пытаясь разобраться в собственных чувствах, прошептала:
— Можно подумать… ее… кто-то до смерти забил изнутри.
Злость Джейкоба обратилась против жены; он отвернулся.
— Вечно тебя заносит! Лишь бы высказаться!
На обратном пути в Чикаго они поняли только одно: пора открыть Сьюзи правду.
Доктор Фрид продолжала гонять, заводить в тупик и подталкивать вперед свою неподатливую больную по всем кругам любви и ненависти. Дебора постоянно убегала в ирские потемки, маскируясь и вздымая пыль, чтобы только спрятаться. Ей хотелось слепоты и беспамятства, потому что теперь до нее дошло: все, что она увидит или узнает, даже самое постыдное, страшное и уродливое, придется выносить на обсуждение, хотя необходимость этого оставалась для нее такой же загадкой, как нижние пределы Ира.
— Я долго мирилась с тем, что ты бежишь от своего отца, — заявила как-то Фуриайя. — Когда ты о нем заговариваешь, в твоем тоне сквозят страх и ненависть… и что-то еще.
Потаенный секрет, до которого Фуриайя докопалась своими земными уловками, залегал глубже банальных несправедливостей: она уловила раздувание мелочей, простое непонимание в решающие минуты. Секрет отчасти заключался в том, что Дебора походила на своего отца. У обоих был вспыльчивый, буйный нрав, оба подолгу тлели, а потом, не к месту, взрывались сполохами ярости. Признавая это сходство, Дебора страшилась и отца, и себя, чувствовала, что он слеп в своей любви к ней, ведь он никогда не знал ее и ни на миг не понимал. Было и кое-что еще, выходившее за пределы его понимания.
— Иногда я не скрывала своего презрения, — сказала она.
— Вижу, ты что-то припоминаешь.
— Он всегда боялся, что есть мужчины… которые только и ждут, чтобы схватить меня в темном закоулке: за каждым деревом ему мерещился подстерегающий меня злодей, сексуальный маньяк. Сколько раз отец вбивал мне в голову всякие предостережения. Мужчины — животные. Мужчины — похотливые скоты… и я про себя соглашалась. Однажды он устроил мне разнос только за то, что на улице я увидела эксгибициониста. Из-за того, что тот обратил на меня внимание, отец почему-то решил, что я спровоцировала это своим поведением. Он кипел злостью и страхом, без конца талдычил одно и то же… впору было подумать, что какая-то сила притяжения влечет подобных типов ко мне одной. Я тогда заметила: «А что ж им ко мне не тянуться, к такой испорченной и развратной? Другие ведь не глядят в мою сторону». И тут он с размаху залепил мне пощечину, потому что я сказала правду.
— Возможно, он боялся зова собственных страстей?
— Что? Он же отец… — начала Дебора и, не дожидаясь объяснения, поняла, что сейчас услышит.
— В первую очередь он — мужчина. И отдает себе отчет в своих мыслях. Возникают ли подобные мысли у других? Да, и он это знает. Способны ли все другие так себя сдерживать, как он? Естественно, нет.
Дебора погрузилась в раздумья об этом почти-влечении, которое столько раз едва ли не пробивалось на поверхность. В нем угрызения совести переплетались с любовью; оно дразнило ее и сбивало с толку, превращая в тайную пособницу всех гнусностей, совершаемых маньяками из нескончаемых отцовских нотаций. По причине собственного страха отцу виделся в ней тот же самый голод и стыд, что и у тех маньяков… что и у него. Он талдычил про их интимные части тела, пораженные болезнью, и Дебора вспоминала, что ее постыдные части тела тоже поражены болезнью. В своих снах Дебора вечно пускалась в бегство, а обернувшись, всякий раз видела до боли знакомые лица: отцовское и свое.
— Даже сейчас боязно?
— Нет… — А затем, представив, до каких пределов разрослась тень в Трясине Страха, и осознав, что завеса вины до неузнаваемости плотно окутывает только отца да горстку ее собственных, обозначенных лишь полунамеками, невысказанных мыслей, продолжила: — Нет, не боязно… хорошо. Я ведь для него оставалась не только дочкой, которой постоянно приходится стыдиться. Отчасти его томление было человеческим… общечеловеческим. — У Деборы потекли слезы.
Она совсем расклеилась, и тут к ней стал подбираться знакомый ужас. Фуриайя его распознала: это он придушил рыдания.
— Поспешим! — скомандовала она. — Твой недуг, возможно, предъявит тебе счет за пересечение его границ. Поспешим уточнить, что ты прикоснулась к глубинной сути — к истине, любви и прощению, а это сферы той реальности, которая тебя пугает более всего. Разве они не прекрасны, эти сферы?
Свет начал меркнуть. Следующая реплика донеслась уже из Ира.
— Что ж… — откуда-то издалека, из-за преграды, — вы своего добились. Я заплакала. Я и в самом деле простила мать с отцом. Теперь, думаю, мне пора домой.
— Ты не настолько глупа, да и я тоже, — серьезно возразила Фуриайя, стараясь докричаться до Деборы через растущую пропасть. — Есть много других секретов, которые еще ждут своего часа, и ты это знаешь. Сейчас ты рубишь сук, на котором сидишь, — все тайны и тайные силы, а другие спасительные ветви еще не выросли. Это самый сложный период, еще тяжелее, чем расстройство, с которым ты сюда поступила. Оно хотя бы несло для тебя смысл, пусть временами невыносимый. Положись на меня и верь моему слову: новая ветвь, когда вырастет, будет куда более плодоносной.
Они поговорили еще немного; Фуриайя успела вытянуть из нее множество новых мелких свидетельств, накопленных за всю жизнь. Дебора обессилела, но в ней еще сидела непокорность, позволявшая даже в пору нахождения в Ире уступать Фуриайе, принимать ее сторону и сторону ее вселенной, хотя не за горами было последнее столкновение, грозившее вечным безумием.
— Это еще не все… далеко не все, — сказала Фуриайя. — Мы пойдем дальше, чтобы увидеть все до конца. Впоследствии решать будешь только ты: если в самом деле этого захочешь, сможешь выбрать для себя Ир. Выбор — вот все, что я хочу тебе дать, твой личный, сознательный выбор.
— А вдруг я захочу остаться безмозглой?
— Безмозглой как баран… дело твое.
— Как пушистая овечка.
— Ах да, как же, как же. Кстати, мне тут доводилось слышать выражение: «с тараканами». Почему именно с тараканами?
— Да потому, что у человека в голове завелись тараканы. Потому, что в голове у него, где должны звонить колокольчики, вечная темень и раздолье тараканам, черным, суетливым, не разбирающим дороги.
— О, надо будет запомнить! Порой американцы мастерски выражают суть психического расстройства.
— А вдруг я не захочу с ним расставаться… вдруг у меня будет потребность… впоследствии…
— Твой жизненный опыт не дает тебе представления о психическом здоровье, но сдается мне, ты не захочешь и не потребуешь, чтобы тебе вернули тараканов. Тем не менее ответ — «да». Если даже у тебя возникнет такое желание или потребность, выбор останется за тобой.
Отделение бурлило плохо скрываемой суматохой. В тесном изоляторе ждали два «ледяных мешка», в холле различались только два цвета: белый и хаки, медсестры и санитары сновали туда-обратно и тоже ждали.
— Что стряслось? — шепотом спросила Дебора у Ли — та всегда была в курсе дела и охотно делилась с другими.
— Мисс Корал возвращается, — ответила Ли, — еще до тебя здесь лежала. Слава богу. Без нее тут скука смертная.
Перед обедом тяжелый лифт с лязгом устремился вниз, и все оказавшиеся поблизости слегка вздрогнули. Через некоторое время лифт вернулся на их этаж и остановился за двойными дверями четвертого отделения. Полупрозрачный экран матового стекла заполонили белые униформы, а потом заскрежетал ключ, и в дверном проеме с помпой возник заведующий отделением. У него за спиной маячили двое санитаров, а дальше еще двое: они несли (вперед ногами) надежно связанную щуплую, седенькую старушку. Сзади толпились второстепенные участники этой процессии: служащие приемного покоя, надзорный персонал, штатные священнослужители, новички, практиканты и иже с ними.
— Это и есть мисс Корал?
— Все сорок кило, — ответила Ли.
По мере того как процессия с неподвижным свертком двигалась мимо (как ни странно) готовых «ледяных мешков», а потом к порогу изолятора номер четыре, воздух сотрясали отточенные до совершенства, цветистые, многоэтажные ругательства.
Наступило краткое молчание; санитары с носилками стали пятиться назад. Дебора уже собиралась вернуться на свой наблюдательный пункт у окна спальни, когда у нее на глазах последний санитар присоединился к остальным. Его нелепое перемещение не укладывалось в голове, смешило, пугало и шло вразрез с законами Ньютона: бедняга летел. С невозмутимым видом он распростерся в воздухе, будто обязался сверять свой жизненный путь с заданной траекторией.
Но покоя не нашел, а рухнул на пол, шумно и неуклюже; его спутники остановились и резко развернулись. У Деборы вырвался тяжелый вздох разочарования. В конечном счете оказалось, что это простой смертный.
Ни в полете, ни в падении этот человек не пострадал и чудом не был затоптан гурьбой медиков, которые бросились усмирять источник его движущей силы. Пациенты ринулись следом, чтобы поглазеть и позабавиться. Перед открытой дверью стояла мисс Корал. Все ее тщедушное существо было наэлектризовано. Эти волосы сожжены добела, тихо выговорила Дебора по-ирски. Трое мужчин, которые надумали сдвинуть с места мисс Корал, выглядели довольно жалко, когда приняли на себя резкие выпады ее жилистого тела; она буквально разбросала добровольцев по сторонам, уставившись в пространство пустым, ничего не выражающим взглядом. Когда в потасовку ввязались другие, мисс Корал и вовсе осталась не у дел, потому что у ее ног образовалась свалка. Элен, гроза всего отделения, почувствовала неминуемый удар по своему королевскому статусу: она бросилась в безлюдный холл, к оставшемуся без присмотра сестринскому посту, вырвала из петель шпингалеты, собственной массой вынесла дверь, швырнула ее в холл и ринулась обратно, вооружаясь тем, что попадалось под руку. Сильвия, которая неумело высеченным барельефом вжималась в стену, не выдержала напряжения, взорвалась и бросилась на Элен прямо по щепкам, подносам, лекарствам, ложкам и полотенцам. Кто-то нажал тревожную кнопку; на вызов примчались еще двенадцать человек, чтобы подавить бунт и упаковать Элен и Сильвию в «ледяные мешки». А мисс Корал, похоже, осталась без внимания: за ней просто затворили дверь — и дело с концом.
— Неплохо, — сказала Ли проходившей мимо Деборе. — Согласись, такого мы давненько не видали.
— Жаль, конечно, что я не успела к шкафу с препаратами, — в задумчивости произнесла Дебора. — Никогда бы не подумала, что хрупкая старушенция может швырнуть по воздуху здорового дядьку.
— Она тут сидела два года назад. Я сама видела, как она запустила в обидчиков кроватью. Не то чтобы сдвинула койку с места, а именно швырнула по воздуху. Кстати, эта старушенция образована лучше нас всех.
— Лучше Элен?
— Тьфу, не сравнить! Знает четыре или пять языков, хотя по профессии математичка, что ли. Она как-то пыталась мне растолковать, но я, как ты знаешь, и шести классов не закончила. — Ли огляделась и стала нетерпеливо ходить кругами, чтобы вернуть мир в установленные рамки.
Прошло четверо суток; дверь мисс Корал распахнули настежь, открыв пациентке доступ на просторы отделения. Через пару часов она неуверенно подошла к порогу и увидела сидевшую напротив Дебору.
— Здравствуйте, — сказала та.
— Ну, здравствуй… Не слишком ли ты молода для такого заведения? — Старческий голос не скрипел, но растягивал гласные, как водится в самых южных штатах.
— Уж извините, что я так молода, — ответила Дебора с обидой, граничившей с позерством. — Молодые имеют такое же право сходить с ума, как и все прочие.
Вторая фраза получилась какой-то жалобной, однако, к удивлению Деборы, эта боевая, нечеловеческой силы старуха, приветливо улыбнувшись, произнесла:
— Наверно, так и есть, хотя раньше я над этим не задумывалась.
Неутолимая жажда общения, на четыре с лишним часа пригвоздившая Дебору к полу, не дала ей возможности проявить учтивость и даже терпение.
— Ли Миллер говорит, вы знаете языки и математику. Это правда?
— Что я слышу: она до сих пор здесь? Это плохо, — закудахтала мисс Корал.
— И вы говорите на всех этих языках?
— Боже упаси! В мое время нас обучали только чтению и письму, да и то лишь затем, чтобы читать классиков в оригинале.
— Но вы хотя бы помните эти языки?
Мисс Корал взглянула на Дебору, как Антеррабей, остановившийся в своем падении; молнии голубых глаз и наэлектризованные седые волосы могли воспламенить все, что горит. Старушка задержала на ней взгляд.
— Чего ты хочешь? — спросила она.
— Брать у вас уроки.
Резкие морщины будто разгладились, жилистое тело обмякло, глаза подернулись влагой.
— Я нездорова, — сказала мисс Корал. — Я давно и серьезно больна, память уже не та. В силу возраста я могу допускать ошибки… — (Дебора видела, что она противостоит невидимому, жестокому избиению и пытается не сгибаться), — а моя болезнь…
— Это все не важно.
— Хватит, я устала, — выговорила мисс Корал, отступая назад, в пустой изолятор. — Немного погодя приму решение и поставлю тебя в известность. — И с грохотом захлопнула за собой тяжелую дверь без ручки.
Сидя на сквозняке, которым тянуло из-под двери, Дебора слышала приглушенные звуки борьбы: ругань и крики, падения и удары. Мимо шла санитарка.
— Вроде я оставляла эту дверь открытой… что там происходит?
— Корал против Корал: бракоразводный процесс. Тяжба за опеку над ребенком.
— Блау, ты же наверняка видела, как она выходила. Неужели она сама закрылась в изоляторе?
— Вероятно, ей не хватает общения, — сказала Дебора.
Санитарка отвернулась и нога за ногу отправилась по кабинетам, чтобы получить длинную цепь разрешений. Дебора, вновь усевшись напротив двери, высыпала из кармана все свои сокровища. Среди них нашлись два окурка, подобранных за рассеянной практиканткой. На самом деле это были добрые половинки сигарет. Дебора подошла к койке Ли Миллер и в знак благодарности сунула их ей под подушку. Свой долг Сильвии она уже отдала.
Прошло немало времени, прежде чем в холле появилась медсестра. Сидя у двери мисс Корал, Дебора чувствовала неистребимую вину сопричастности; субстанция ее разлилась по всему отделению и на всех отразилась мучением. Она несла символическую ответственность за каждую битву, что бушевала за этой дверью. И вместе с тем ей вспоминались слова Карлы: болезнь — это переполненный стакан, и пара капель, подлитых Деборой, не делает большой разницы. Так лежит на ней ответственность или нет?
Не в силах ответить себе на этот вопрос, она выбросила его из головы. Через некоторое время в изоляторе наступило затишье, и мертвенно-изнеможенный голос мисс Корал из-за двери позвал:
— Деточка… деточка… ты еще там?
— Вы меня звали? Это я вам понадобилась? — откликнулась Дебора, когда к ней вернулся дар речи.
— Да.
И вслед за тем мисс Корал продекламировала:
Inter vitae scelerisque purus Non eget Mauris jaculis neque arcu Nec venanatis gravida sagittis, Fusce, pharetra[3].— Что это значит?
— Отложим на завтра, — ответила мисс Корал. — И правописание тоже.
Глава пятнадцатая
Дебора и мисс Корал встречались в те отдельные моменты, когда не закрывались их собственные миры. Дебора вступила на сухую, бесплодную почву. Ее не покидал запах собственной обугленной плоти и волос, одежды и кожаной обуви на резиновой подошве. Она потеряла способность различать цвета, а черные прутья решетки ограничивали поле ее зрения до узкой вертикальной полоски серого. И все равно она продолжала учиться. Ее карманы и тайники были набиты бумажками с записью отдельных слов, предложений и стихов из классической латыни, которые сумела вспомнить мисс Корал; там же хранились греческий алфавит и словарь; а кое-где — и добытые украдкой лакомые кусочки распутного Средневековья.
— В наше время все это считалось греховным, — застенчиво объясняла мисс Корал. — Средневековый человек рассматривался как чудовище, а средневековая латынь — как низкий язык; но по ночам в школьном общежитии книги той эпохи шли нарасхват, и далеко не все они были распутными. Как ни удивительно, лучше всего я помню именно их, этих поющих безумцев… — и стала читать по памяти из Абеляра и Скотта[4].
— Быть может, «в грехе и тьме» я чем-то походила на них… В конце концов, мы же именно здесь, среди безумцев… — И она заходилась в приступе яростных рыданий.
В обучении Деборы обыкновенный преподаватель не продвинулся бы ни на йоту из-за ее агрессивных защитных механизмов, но ученица мисс Корал не чувствовала никакой угрозы в коротких и мягких уроках своей наставницы, поскольку та сама мучилась от боли и отчаяния, и это пресекало властную раздражительность, которую Дебора чувствовала в большинстве преподавателей. Мисс Корал была сокамерницей, их сближало общее несчастье, а искреннее желание Деборы учиться, лишенное наконец обманчивого впечатления слишком раннего развития, заставляло ее тянуться к мисс Корал и впитывать все, что та могла ей дать.
В очереди за снотворным:
— Вот это De Ramis Cadunt Folia… У меня все получалось, пока я не дошла до Nam Signa Coeli Ultima[5].
— Ну, ты же знаешь эти слова. Я помню: они уже встречались тебе в других текстах.
— Я знаю, как это переводится, но…
— Ах да, здесь Signa — это «знак», но речь идет об астрологии, то есть подразумевается скорее «дом» или «господство».
В очереди за подносами:
— Morpheus in mentem trahit impellentem ventum lenem, segetes maturas…[6] Дальше не помню.
Стихи они разбирали по отдельным выражениям и фразам, неспешно пополняя словарный запас Деборы и расширяя познания в грамматике. Для мисс Корал рабочими инструментами стали фрагменты собственной памяти, а для Деборы — запретный карандаш и неистребимое желание учиться.
Наконец мисс Корал призналась:
— Я передала тебе все свои знания латыни и греческого. Прости, что недостаточно дала тебе из грамматики, — многое я позабыла, но, по крайней мере, тебе будет легче читать классиков, ведь кое-что уже знакомо; у тебя довольно много отрывков переписано на эти бумажки.
Обрывки бумаги, рассованные по карманам или спрятанные под матрас, причиняли массу неудобств. Дебора поняла, что настало время попросить специального разрешения на блокнот. Примерно неделю она собиралась с духом и в конце концов заняла очередь к врачу, совершавшему обход. Казалось, в этот раз просительниц набралось больше обычного, хотя многие появлялись там регулярно, в силу привычки.
Ли:
— Эй, мне сегодня нужна двойная доза снотворного.
Вдова Убитого:
— Отпустите меня домой! Домой хочу!
Мэри, пациентка доктора Фьорентини:
— Я подхватила дурную болезнь от дуриков!
Мэри, пациентка доктора Доубен:
— Пожар и убийство! Пожар!
Карла, даром что помещенная на «четверку», вознамерилась добиться разрешения на выход в город, просмотр кинофильма и получение некоторой суммы денег. Мисс Корал, находившаяся ниже всех в иерархии привилегированных, собиралась выпросить какую-то ерунду.
Стоило появиться дежурному врачу, как на него со всех сторон посыпались просьбы. Когда Дебора обратилась за разрешением на блокнот, доктор окинул ее быстрым оценивающим взглядом.
— Посмотрим, — бросил он через плечо и продолжил обход.
В тот день на отделение осмотреть Сильвию приехала доктор Адамс. Уходя, она хватилась привезенного с собой романа «Взгляни на дом свой, ангел»[7]. В этот же день у одной из практиканток исчез блокнот с конспектами лекций. Через пару дней исписанные страницы нашлись в лифте у входа в «надзорку», но основная часть блокнота пропала без следа.
Дебора начала донимать Элен просьбами вспомнить что-нибудь из поэзии, и та уступила — продекламировала отрывки из шекспировских «Гамлета» и «Ричарда II», выудив их, к собственному изумлению, из глубоких, но еще досягаемых недр памяти.
Сначала были добросовестно записаны греческие слова, потом латинские. Засунутый под матрас роман «Взгляни на дом свой, ангел» уже сидел у Деборы в печенках, но она читала и перечитывала его до тех пор, пока книгу не нашла и не съела Мэри (пациентка доктора Доубен), оставив лишь корешок. Карла читала этот роман когда-то давно, и теперь они с Деборой его бегло обсудили.
— Если я могу учиться, — говорила Дебора, — если я могу читать и учиться, почему вокруг до сих пор такая тьма?
Карла взглянула на нее с легкой улыбкой.
— Деб, — ответила она, — кто тебе сказал, что зубрежка фактов, теорий и языков имеет хоть какое-то отношение к пониманию себя? Уж кто-кто, а ты…
И Дебора внезапно осознала, что не по годам зрелый ум, хоть и способствовал развитию ее недуга, служит ей независимо от тревог и проблем, затуманивающих для нее реальность.
— Значит, человек может учиться, учиться — и все равно оставаться шизиком.
— Дебора особенно в этом преуспела, — съязвила Элен.
Спрятав блокнот за батарею в общей спальне, Дебора легла на койку. И пролежала три месяца, поднимаясь только для того, чтобы ее отвели в туалет или к доктору Фрид. Казалось, все поглотила тьма. Фазы Ира сменяли одна другую, Синклит собирался и уходил на каникулы, но вне бесед с доктором Фрид Дебора не пыталась с этим бороться. Иногда заходила Карла и пересказывала больничные сплетни или незначительные события дня. Дебора не могла даже выразить, насколько ценны для нее эти посещения. Порой ими ограничивались контакты с людьми за целые сутки, потому что персонал чурался ее остекленевшего взгляда. Оставив у кровати одежду или поднос с едой, сестры и санитары без звука уносили ноги.
У Деборы начались ночные кошмары, прерываемые тяжелыми, шумными пробуждениями, поэтому из суматошной и многолюдной общей спальни ее перевели в тесный изолятор в темном заднем коридоре, где обитали еще две живые покойницы. С рассветом они умолкали и переставали видеть дальше пары метров от себя, но по ночам их кошмары вырывались наружу прерывистыми воплями, разбивавшими хрупкую скорлупу медикаментозного сна, за который так бились остальные пациентки. Считалось, что пускай лучше эти трое будят друг дружку, чем поднимают все отделение, поэтому их и заточили в одну клетушку и оставили в покое. Некоторые ночи становились копиями драматичных и фантастических образов психбольницы, которыми Дебору еще в детстве стращала няня. В изоляторе Дебора нередко просыпалась оттого, что над ней с занесенными руками нависала одна из соседок, или же оттого, что вторая соседка, ослепленная ночными кошмарами, ее била. Как-то ночью та вдруг вспомнила об отце и об одной стороне его любви — о человеческих потребностях, и Дебора, впервые нарушив ужасающую тишину, крикнула скорой на расправу толстухе-соседке:
— Делия, ради всего святого, вернись в постель, не мешай мне спать.
Делия отошла, и от этой маленькой победы Дебору переполнило несоразмерное счастье. А однажды ночью сама Элен — злобная, жестокая Элен — сыграла привидение. Думая, что это одна из соседок, Дебора отмахнулась уже вошедшей в привычку фразой:
— Отвали, черт бы тебя побрал. Уймись!
— Я безумна… — прошептала Элен, угрожающе нависая в темноте. — Я безумна…
Дебора узнала голос Элен. Сила и жестокость этой женщины были всем известны, но сейчас Дебору почему-то разобрал смех, да такой естественный, словно она всю жизнь прожила хохотушкой.
— Думаешь, ты можешь тягаться даже с самым безобидным из моих кошмаров в самый спокойный день?
— Я все могу… — ответила Элен, но Деборе почудилось, что в ее голосе больше уязвленной гордости, нежели свирепости.
— Послушай, Элен. Ты подчиняешься тем же законам, что и я. Ты не сотворишь со мной ничего такого, что уже делает мое безумие — причем умело, стремительно и ловко. Спокойной ночи, Элен, возвращайся в кровать.
Не сказав ни слова, Элен развернулась и уплыла обратно по коридору, а Дебора впервые позволила себе немножко порадоваться проблеску разума. Лежа в кровати этими темными месяцами, она порой думала о той полумифической фигуре, о Дорис Ривере, которая жила в этих же палатах, страдала от тех же ужасов, видела, что вокруг никто особо не верит в ее выздоровление, и все равно поправилась, выписалась и приняла этот мир.
— Как она выносит этот хаос, день за днем? — спрашивала Дебора у Карлы.
— Наверное, просто стискивает зубы и борется каждую минуту, засыпая и просыпаясь.
— У нее есть выбор? Она может выздороветь просто потому, что сама так решила? — спрашивала Дебора; и в воображении ее Дорис была вялым, холодным призраком, тратившим всю свою энергию, чтобы выжить под Личиной.
— Мой врач говорит, что на самом деле мы сами выбираем свой путь.
— Я помню… — прошептала Дебора, — помню годы, прожитые в земном мире… — И она снова вспомнила Цензора («Теперь сделай шаг… а теперь улыбнись и скажи „Добрый день“»). На то, чтобы позволить себе Цензора для Видимости, ушло невероятное количество энергии.
— Я сдалась, потому что устала, просто устала бороться, — сказала она.
Как объясняла ей Фуриайя, здравый рассудок связан с необходимостью выбора и с проверками на прочность. Однако проверки на прочность для Деборы обычно устраивал Ир, и каждый раз это было шоком — змеи, падающие с потолка, появляющиеся и исчезающие места и люди, и болезненный удар от столкновения двух миров.
Фуриайя сказала:
— Не торопи новый опыт; сейчас, возможно, ты еще не знаешь, что такое здравый рассудок. Верь тому, что мы делаем, и верь, что глубоко внутри тебя скрыто здоровое сознание.
Но в тени ее разума все время пряталась тощая, сгорбленная фигурка, ждавшая, пока Дебора вспомнит о ней снова: Дорис Ривера, ушедшая в большой мир.
Наконец в один прекрасный день Дебора, сама не понимая почему, встала с кровати и прошла по коридору к выходу из отделения. Она ступила за порог. Серый круг ее зрения все еще был узок, но сейчас это не играло большой роли.
У двери на полу сидела мисс Корал с аккуратно свернутой самокруткой в зубах. Завидев Дебору, она улыбнулась своей обезоруживающей старушечьей улыбкой.
— Добро пожаловать на воздух, Дебора, — сказала она. — Я тут припомнила кое-что, если тебе все еще интересно.
— Еще бы, конечно! — воскликнула Дебора.
Она направилась к сестринской, где позаимствовала один из «официальных» пронумерованных карандашей и лист бумаги, чтобы вплоть до обеда, едва поспевая за мисс Корал, брать на заметку Абеляра и выдержки из «Медеи»[8]. Ей и в голову не приходило, что мисс Корал будет рада ее видеть или что Карла, приметив ее в холле, улыбнется и подойдет поболтать.
— Ну привет, Деб!
Вот так сразу подойти и завязать разговор — со стороны Карлы это был смелый поступок. Он свидетельствовал о доверии и трогательной преданности, поскольку, как правило, гораздо безопаснее было выждать и понаблюдать, в какую сторону изменился человек, который давно не показывался, а уж потом приближаться. Дебора не могла понять причин такой смелости и великодушия Карлы. На минутку она даже предположила, что Карла, вероятно, просто рада ее видеть. Возможно ли, что за пределами ее серого ви́дения существовала реальность?
«Страдай, жертва», — мягко произнес Антеррабей иносказательные ирские слова приветствия. Повинуясь ему и его требованию, пределы ее зрения начали расширяться, и в них даже забрезжило нечто, похожее на зачатки красок, хотя мир и оставался пока бесцветным.
— Хорошо, что ты вышла, Деб, — произнесла Карла. — Я как раз собиралась к тебе зайти — сообщить, что меня завтра переводят во второе отделение.
«Ты ведь ничего не желаешь слушать, верно, Легкокрылая? — мягко продолжал Антеррабей. — Они сажают семя в плодородную почву и манят наверх. Подкармливают, потчуют солнечным светом и водой. Зовут его покинуть оболочку и кричат: „Иди к нам, иди к нам“. Прекрасные песни и тепло… И вот проклюнулся первый зеленый росток, а они уже стоят рядом с кислотой наготове… и только ждут».
Дебора начала постепенно осознавать пугающую правду: Карла стала ей другом, Карла ей полюбилась, и та израненная часть души, что могла заводить друзей, все еще нечто чувствовала.
Цензор разразился хохотом, и Антеррабей стал растворяться все быстрее. Он дразнил ее своей потрясающей красотой. Зубы его были пламенеющими бриллиантами, а волосы струились огнем. Дебора поняла, что никак не отреагировала на сообщение Карлы.
— Ох, — выдохнула она. Ей хотелось причинить себе боль, и единственным способом сделать это было признание, поэтому она сказала: — Я буду скучать.
Ужаснувшись своим словам, Дебора покрылась холодным потом и задрожала в ознобе. Она поднялась и ушла греться у слабенькой батареи вместе с теми, кто обретались в третьем круге дантовского ада.
Следующим утром, перед тем как отправиться на «двойку», Карла заглянула попрощаться.
— Это же совсем рядом. Может, ты даже выпросишь разрешение и зайдешь меня проведать.
Дебора озадаченно взглянула на Карлу. С помощью ирской магии она уже отрезала все дружеские чувства и связанные с ними ощущения горечи и потери, поэтому само присутствие Карлы казалось призрачным. Так что Ир был все еще силен. Его царица и одновременно его жертва все еще сохраняла какую-никакую власть над способностью этого мира делать ей больно. Остаток дня она провела почти весело: заставила мисс Корал вспомнить отрывки из Лукреция про атомы, сцепленные крючками[9], и остроумно осадила Элен, чем внушила той благоговение и зависть. Впервые с того момента, как Дебору перевели в буйное отделение, она использовала свою маскировку сознательно, стремясь победить страх, вызванный переводом Карлы на «двойку». Дорис Ривера выписалась и уехала; Дорис Ривера, ставшая уже почти легендой, виделась Деборе как некое привидение, неспособное ни жить, ни умереть, отчаянно цепляющееся за жалкое существование; Дебора не могла себе представить возвращение в мир на других условиях. Но Карла, живая и отзывчивая, сделала первый шаг на пути к кошмару под названием «реальность». Всевидящее око разрушения приближалось к Деборе, оно маячило за углом, до поры до времени оставаясь невидимым, но грозило скоро ее найти. Она настолько погрузилась в болезнь, что вся видимость нормальности пропала. И око найдет свою мишень, и вцепится клешня, чтобы перетащить ее в пустыню реальности и бросить там без тени защиты, которую она выстраивала всю свою жизнь и разрушала весь нынешний год в больнице.
А наверху, в ирском измерении, дразняще прекрасный Лактамеон парил в небесах в теле огромной птицы. Как-то раз она смогла подняться с ним в небо.
«Что ты видишь?» — спросила она по-ирски.
«Скалы и каньоны мира, а в пределах рокота — солнце и луну», — ответил он.
«Возьми меня с собой!»
«Минуточку!» — проскрипел Цензор. Воочию Дебора никогда его не видела, потому что он не принадлежал ни к одному из миров, но при этом имел вес в обоих.
«Да… погоди». К нему присоединился Идат-Лицедей, не мужчина и не женщина. Пока они в деталях обсуждали ситуацию, используя уже привычные Деборе тактики и термины из психиатрии, Лактамеон нашел пропасть и, нырнув туда с победным клекотом, исчез.
Незаметно наступил вечер. Мисс Корал подошла к Деборе и сказала:
— Как видно, для того чтобы получать удовольствие от больничной еды, нужно, чтобы болезнь отбила у тебя вкус; вот и весь секрет.
— У Мэри вроде еще остались те конфеты, разве нет? Попросите, — может, она вас угостит.
— Ну нет, просить я не умею. И никогда не умела. Разве ты не знаешь? Всякий раз, когда меня тянет чего-то попросить, со мной происходит нечто… в общем, я начинаю сквернословить.
— Не замечала, — ответила Дебора, а сама задумалась: замечает ли она хоть что-нибудь в этом мире?
— Хочу тебе кое-что сообщить, — чуть смущенно продолжила мисс Корал. — Для тебя нашелся учитель: он серьезно изучает древнегреческий и свободно на нем читает… если попросишь, он охотно тебе поможет, я уверена.
— И кто же это? Кто-нибудь здешний? Из пациентов?
— Нет, это мистер Эллис, он сейчас здесь, у него ночная смена.
— Эллис!
Дебора сообразила, что случай с Элен и горькая расплата за увиденное, да еще с раскрытием себя — все это было до появления мисс Корал. Она вспомнила, что после отповеди Макферсона вообще не заговаривала с Эллисом, и поняла, что его насмешки и ухмылки, такие же зримые и очевидные, как пламя Антеррабея, поблекли и слились с общим фоном отделения. Говорил он теперь мало и не сталкивался с необходимостью защищаться. Поскольку в своем деле он уже не был новичком, пациенты больше не испытывали его на прочность и воспринимали как своего рода блюстителя правил, отдельные из которых по-прежнему действовали. Возможно, ему уже поставили на вид за избиение пациенток; а может, и нет. Может, были (а может, и не были) такие, кто в его смену оказывался менее уверенным в окружающем мире, чем прежде.
— Если ты и вправду хочешь учиться, — мягко продолжила мисс Корал, — ключ к истине в его руках. — И она тихонько засмеялась своей аллюзии[10]. — Я уже передала тебе все свои познания в древнегреческом.
Дебора видела в конце коридора Эллиса, отпирающего дверь ванной комнаты для Супруги Отрекшегося. Он ни разу не взглянул на пациентку и не произнес ни слова, а только посторонился, чтобы дать ей войти. Не изменившись в лице, он двинулся обратно по коридору, не глядя ни на кого. Когда он проходил мимо Деборы, внутри у нее все сжалось с такой силой, что она упала на колени. Прошло некоторое время, прежде чем обморочное состояние отступило, но когда Дебора прогнала головокружение и очнулась, то обнаружила рядом с собой не Эллиса, а Касла, нового санитара.
— Что случилось, Блау?
— Ваши пространственные законы — еще куда ни шло, — отдышавшись, ответила она, — но следите за тем, какой выбор вы нам предоставляете!
Глава шестнадцатая
Не одну неделю Эстер Блау переживала и мучилась, не решаясь поведать Сьюзи о болезни сестры. Кто не слыхал о напыщенных старомодных мелодрамах с безумными персонажами, вроде потерявшей рассудок женщины из «Джен Эйр»; о бедламе, о сотнях затемненных домов, где за прочными стенами брезжат туманные надежды, о еще более туманных историях из туманных воспоминаний, о маньяках-убийцах, которые через потомков несут свою порчу в будущее? «Современное естествознание» много чего прикрывает официальной ложью, но в умах — как в воспаленных, так и в здравых — под поверхностью фактов по-прежнему живут извечные страхи. Обыватели принимают на веру новые теории, новые доказательства, но зачастую их вера оказывается не более чем ширмой: поскреби — и откроется голый, откровенный ужас, накопившиеся за десять тысяч поколений залежи страхов и наговоров.
Эстер не могла примириться с мыслью, что для Сьюзи знакомый образ сестры вытеснится шаблонной картиной существа с безумным взором, одетого в смирительную рубашку и посаженного на цепь в мансарде. Теперь она понимала, что именно такая картина представилась им с мужем, Джейкобом, когда они впервые услышали скрежет замков, увидели оконные решетки, а потом содрогнулись от пронзительного женского вопля, донесшегося откуда-то из-под высокой крыши. И все же Сьюзи надлежало узнать правду; откладывать долее уже не было возможности. Младшая дочь взрослела; не вечно же шушукаться у нее за спиной, да и нечестно ограждать ее от своих глубочайших тревог. Но чтобы открыть ей правду, требовалась определенная осторожность и профессиональная уверенность. Они решили доверить этот разговор доктору Листер. Но та ответила отказом, пояснив, что это обязанность родителей.
— Спешки нет, — сказал Джейкоб.
Эстер знала, что «спешки нет» — это всего лишь лазейка, куда он тихо ускользает, чтобы ничего не делать. Закрой глаза — и проблемы нет, все будет чудно-чудно-чудно. Но и это — ложь. Так они и уклонялись то в одну сторону, то в другую, пока Эстер наконец не взяла верх. После ужина, когда Сьюзи поднялась из-за стола, чтобы поупражняться на пианино, ее окликнула Эстер:
— У нас к тебе серьезный разговор.
В собственном голосе ей послышалась нелепая смесь весомости и смущения. Чопорно застыв на стуле, она стала втолковывать младшей дочке, что Дебора сейчас в «санатории», под медицинским наблюдением, но болезнь ее — не телесного, а душевного свойства. Когда они углубились в эту скользкую тему, заговорил и Джейкоб: он встревал, уточнял, пояснял одно, другое, третье, выдавая за истину то, в чем сам был далеко не уверен.
Сьюзи невозмутимо слушала с высоты своих двенадцати лет. На ее лице не промелькнуло ни малейшего признака понимания тех слов, которые выдавливали из себя родители. Когда они умолкли, она еще выждала, после чего с расстановкой заговорила:
— А я все думала: почему в этих выписках сообщается только о том, что делается у Дебби в мыслях, а какой у нее пульс, какая температура — об этом ни словечка.
— Ты читала выписки?
— Нет. Я слышала, как вы бабушке что-то там зачитывали, а один раз — дяде Клоду, вот я и подумала: странно, про больных обычно не так пишут. — Она едва заметно улыбнулась — как видно, вспомнила и другой случай, который ее озадачил. — Теперь все сходится. По крайней мере, ясно.
И ушла в ту комнату, где стояло пианино. Через несколько минут она вернулась к родителям, которые в ошеломлении сидели за кофе.
— Она же не выдает себя за Наполеона… правда?
— Конечно нет!
Потом они скованно и горько рассказали про оптимизм врачей, обсудили преимущества ранней диагностики, подчеркнули, что сила их терпения и любви тоже склоняет чашу весов в пользу Деборы.
Сьюзи сказала:
— Скорей бы она вернулась… я иногда очень по ней скучаю. — И вернулась к неизбежному Шуберту.
Родители долго не могли оправиться от такой пропасти между ожиданиями и реальностью. Когда Эстер отпустило напряжение, она обессилела.
Джейкоб медленно проговорил:
— И это все?.. Я хочу сказать… это и вся ее реакция, или же она в самом деле нас не услышала? Или, когда пройдет шок, она вернется с таким видом, какого я боялся с самого начала?
— Не знаю, но, возможно, пушечный выстрел, которого мы страшились, уже отгремел.
Джейкоб глубоко затянулся сигаретой и вместе с дымом выдохнул душевную муку.
— Какое чудо — твой родной язык, — заметила Фуриайя, — в нем есть меткие выражения. Например, про тебя можно сказать: сидишь как в воду опущенная.
— Английский ничем не лучше ирского.
— Хвалить одно — не значит хулить другое.
— Неужели? Чем плохо играть со смертью? — (В ладони удобно лежала рукоять острого меча акселерации; Дебора заточила его на совесть. Царица Ира — а также его жертва и пленница — права всегда и во всем.)
— Но твои ошибки дорого обошлись, разве нет? — мягко спросила Фуриайя. — В лагере ты указала не на ту девочку.
— Я ошибалась сотни раз. Но поскольку я была страхолюдиной, развратницей и ни на что не надеялась, да еще пропиталась ядовитой субстанцией и отравляла других, мне приходилось делать вид, будто я во всем права. Окажись я, ко всему, еще и виноватой… даже в мелочах… что бы мне осталось?
Уловив с собственных речах слабый, зализывающий раны призрак былого тщеславия, она рассмеялась.
— Даже в Пернаи — в пустоте — меня тянуло хоть что-нибудь для себя урвать.
— Все мы таковы, — сказала Фуриайя. — Неужели ты стыдишься? А для меня это лишь признак того, что ты вросла в земное племя ничуть не менее прочно, чем в ирское. По-твоему, твоя, как ты выражаешься, субстанция действительно ядовита?
Дебора принялась объяснять ей ирские законы, управляющие основной субстанцией каждого человека. Люди отличаются друг от друга именно этой концентрированной субстанцией, которая зовется нганон. Нганон формируется в каждом человеке под влиянием вскармливания и жизненных обстоятельств. Да, по ее мнению, она сама, как и горстка других землян, имеет совершенно особый нганон. Поначалу ей думалось, что она одна стоит особняком от всего человечества, но на «четверке» нашлись и другие немертвые, отмеченные тем же пороком. Ядовитый экстракт, нганон, пропитал даже ее вещи. Ни в школе, ни в лагере она никому не разрешала брать и даже трогать свои книги, карандаши, одежду, зато сама одалживала или похищала разные мелочи у других, выжидала, чтобы выветрился чужой нганон, а потом наслаждалась чистотой и прелестью этих сокровищ.
— Но ты мне рассказывала, что в лагере подкупала других детей присланными мамой конфетами, — заметила Фуриайя.
— Ну да. Конфеты были в коробке, затянутой в целлофан, — обезличенные. Пока упаковка не вскрыта, экстракту взяться неоткуда. Только через день-два гниль Деборы проникает сквозь обертку. Конфеты я раздавала почти сразу.
— И покупала пару часов хорошего отношения.
— Я держала себя за врунью и трусиху. Но к тому времени Избранные стали входить в силу и ставили это клеймо направо и налево.
— И на это ощущение накладывалось твое раннее развитие, которое приходилось всячески подтверждать, и вечные дедушкины заверения в том, что ты особенная.
Дебора отвлеклась, и острый докторский взгляд заметил, что она чего-то ждет.
— Антеррабей… — позвала по-ирски Дебора.
— Ты сейчас где? — перебила доктор Фрид.
— Антеррабей! — выкрикнула по-ирски Дебора. — Выдержит ли она такую тяжесть?
— Что случилось, Дебора? — спросила врач.
Адресовав богу свой стон, Дебора в отчаянии обратилась к смертной:
— Антеррабей прознал, что я увидела… о чем я должна говорить. Зачем я только ее увидела, почему она не спряталась, эта диковина… эта штука.
Дебору затрясло. Фуриайя дала ей плед, и она, дрожа, свернулась калачиком на кушетке.
— Во время войны… — проговорила Дебора, — я была японцем.
— Настоящим японцем?
— Я носила маску американки.
— Зачем?
— Я же была Врагом.
Дебора считала это самой главной тайной, и доктору Фрид приходилось раз за разом просить ее говорить громче.
Пришлось объяснить, что в возрасте девяти лет, благодаря умению погружаться в Ир и без видимых изменений всплывать из его немыслимых глубин, она получила от Ира необыкновенный дар: способность к преображению. С год она была попеременно дикой лошадью и бронзовокрылой птицей. Сейчас Дебора продекламировала ирское заклинание, которое в свое время освободило ее птичий облик от всяких следов некрасивой и всеми нелюбимой девчонки: «Э, квио квио крнру фк Ир эдат темохику’ браоун элепр кирир…» («Легкокрылая, с пеньем взмываю над каньонами сна твоего…»).
Когда она была этим великим крылатым созданием, ей думалось, что прокляты и неправы земляне, а не она — совершенство красоты и гнева. Ей думалось, что спящие и незрячие — это они.
С началом Второй мировой войны, когда для американцев названия тихоокеанских островов превратились в язык шаманства и ада, Синклит сказал ей: «Они ненавидят этих японцев, точь-в-точь как всю жизнь ненавидели тебя». И падающий Антеррабей с почтительной улыбкой добавил: «Но ты — не из их числа, Легкокрылая».
Тогда она вспомнила обрывок какой-то радиопередачи: «Кто не с нами, тот против нас!» И Синклит выкрикнул: «Значит, ты и есть тот враг, с которым они бьются!»
Как-то поздно вечером, перед сном, Дебора переродилась в пленного солдата-японца. Под личиной американской девочки-еврейки, знавшей только американский город и пригород, узкие вражеские глаза высматривали подходящий день, чтобы сбросить эту маску. Врага терзало боевое ранение — неотступные, невыносимые муки, причиняемые опухолью; а ум его, одержимый странным языком, будоражили сны о побеге. Ненависти к своим тюремщикам солдат не испытывал, не желал им поражения в этой войне, но данность теперь придавала смысл непримиримым противоречиям, которые жили у Деборы внутри, а потому надругательство над потаенным женским естеством, горькое сокрытие раны, секретный язык, плен, а также блеск и убожество заявления Ира «Ты не их роду-племени» находили хоть какое-то объяснение.
В тот день, когда окончилась война на Тихом океане, Антеррабей заставил Дебору разбить стакан и потоптаться на осколках стекла. Боли она не чувствовала, и врач, с содроганием извлекавший осколки, пришел в ужас и некоторое недоумение от ее «солдатского» терпения.
— Хотя бы окаянные докторишки считают меня храброй! — по-ирски сказала Дебора Лактамеону.
— Ты — пленница и жертва, — отозвался Лактамеон. — Мы не приближали твое спасение.
— Значит, ты скрывала свое второе «я» от окружающих, — отметила Фуриайя. — А от Ира — тоже?
— В Ире ему места не было — оно существовало только в земном измерении.
— И потому в обязанности Цензора входило обеспечивать его секретность. Разве не так? Не могу понять, каково место Цензора в твоих владениях.
— Цензору положено меня охранять. Вначале его поставили у врат Междуземья, чтобы в земных разговорах не выплыли тайны Ира. Он следил, чтобы до землян не дошли голоса и обряды Ира. Так и получилось, что со временем Цензор превратился в тирана. Стал контролировать все мои слова и поступки, даже когда я находилась за пределами Ира.
— Но этот Цензор вместе со всем Иром был всего лишь попыткой осознать и объяснить реальность, выстроить некое подобие истины, в границах которой ты могла бы существовать. Итак, — заключила доктор, — в этом вопросе еще многое нужно рассмотреть и исследовать. Теперь ты больше не жертва; мы с тобою бойцы за твою благополучную, надежную жизнь.
Когда больная ушла, доктор Фрид сверилась с настольными часами. Сеанс получился затяжным и вконец ее вымотал, хотя она уложилась в отведенное время. Напряженное внимание и соучастие отняли столько сил, что она уже не знала, выдержит ли крики и агонии других больных, назначенных на вторую половину дня, и острые вопросы студентов, проходящих цикл психиатрии. Так, что еще на повестке дня? Она заглянула в лежащий на столе ежедневник. Ах да, семинар. И, о чудо, у нее в запасе оставался целый час. Вот уже три недели пластинки с записями Шумана так и лежали нераспакованными на картотечном шкафу. Из памяти взывал Бетховен. Почему ей вечно не хватает времени? Она потянулась и направилась в гостиную, тихонько напевая какие-то отрывки. Это Шуман или Бетховен? Доктор, как вы нынче себя чувствуете?
Доставая со шкафа и вскрывая посылку, она думала о пациенте, чей лечащий врач обратился к ней за консультацией по поводу неразрешимой, на первый взгляд, проблемы. Нет. Хватит с нее больных. Она включила проигрыватель и поставила первую пластинку. Комнату наполнили милые сердцу, нежные мелодии Шумана. Мысленно она погрузилась в немецкий язык и поэзию своей юности. Сидя с закрытыми глазами в мягком кресле, она отдыхала. Но тут, уже в двенадцатый раз, задребезжал телефон.
Когда Дебора возвращалась на отделение, все та же кошмарная туча опустилась еще ниже; послышался ропот Избранных, и Цензора, и всего Ира. От надвигающегося ужаса Дебора решила нарушить молчание. Увидев, что старшая сестра собирается уходить, Дебора побежала за ней, но язык не слушался; дверь захлопнулась, дневная смена ушла. Заступила вечерняя смена, а угроза маячила совсем близко и готовилась к захвату. Перед тем как ее накрыло волной, Дебора подбежала к дежурной сестре, которая пересчитывала сданные после ужина ложки.
— Мисс Олсон…
— Да!
— Сейчас нагрянет… прошу вас… я не выдержу этого удара. Мне нужно укрыться в ледяном мешке, иначе конец.
Сестра подняла на Дебору пристальный, проницательный взгляд. А потом сказала:
— Хорошо, мисс Блау. Ступайте, ложитесь.
Волна, как и следовало ожидать, нахлынула с неудержимой силой, в оглушительных раскатах желчного хохота, но чувства покинули Дебору лишь отчасти. Цензорский голос, подобный пеплу за зубах Деборы, оглушительно скрипел над ее мысленным слухом: «Пленница и жертва! Неужто ты не понимаешь, почему мы это сделали? Тебя ждет Третье зеркало — ожидание последнего обмана. Ты оказалась в этой больнице — это входило в наши планы. Мы разрешили тебе довериться этой докторше. Ты открывала ей все больше и больше тайн. И нынешняя будет последней. Ты выложила достаточно — увидишь теперь, как она поступит, в сговоре со своим миром!» И у Деборы зубы рассыпались в прах от этого скрежещущего пеплом хохота.
С одеревеневшим лицом Дебора вошла в изолятор и легла на холодные простыни, но когда грянуло полное Возмездие, она, туго запеленутая, уже металась и дергалась на койке, которая не сдвинулась ни на дюйм…
Много позже она пришла в себя. Огляделась, начала видеть. Новообретенная четкость зрения была сродни блаженству. На другой койке тоже лежал белый кокон, но Дебора не знала, кто в нем скрыт.
— Элен?
Молчание. Прошло много времени. Кровообращение в ногах почти прекратилось; от долгих часов соприкосновения с мокрыми простынями горели пятки. Дебора откинулась на спину и всем телом потянулась, чтобы облегчить давление на прочно связанные лодыжки. Поневоле расслабившись, она передохнула, пытаясь сберечь все ту же остроту зрения, что позволила ей заглянуть вглубь рассудка. Минуло более четырех часов; вот-вот придут санитары и освободят ее из «боевых доспехов», которые теперь только причиняли боль. Но санитары не спешили. Боль нарастала. Под туго стянутыми простынями ощутимо распухали щиколотки и голени; Дебора безуспешно старалась ослабить путы, но даже эти мучения не могли заглушить жгучую боль в обескровленных ступнях. В попытке уменьшить нагрузку на кости ног Дебора вызвала острые спазмы обеих икроножных мышц. Когда она обнаружила, что не может снять судороги, ей оставалось только стиснуть зубы и ждать. Никто так и не появился. Она заскулила.
— Мисс Блау… Дебора… что с тобой?
Неузнаваемый голос доносился со второй койки.
— Кто это? — спросила Дебора, страшась нового обмана.
— Это Сильвия. Что стряслось, Дебора?
Дебора повернула голову, и сквозь боль пробилось изумление.
— Никогда бы не подумала, что вы меня замечаете, а тем более знаете по имени, — сказала она.
Сильвию все привыкли рассматривать как бесполезный предмет больничной мебели. Дебора устыдилась, что прежде отвечала ей молчанием на молчание.
— Больно, но не смертельно, — сказала Сильвия. — Ты сама-то как?
— Господи… такое мучение. Долго мы тут лежим?
— Часов пять-шесть. Нас упаковали одновременно. Покричи — может, кого дозовешься.
— Не могу… Я кричать не умею, — ответила Дебора.
Время шло; боль нарастала и в конце концов отомкнула ей голос. Дебора завыла во все горло, надеясь, что Ир не усмотрит в ее воплях признаков малодушия и не обречет на вечные кары. Но на зов никто не откликался, и Дебора умолкла. У Сильвии вырвался короткий хрипловатый смешок:
— Я и забыла, что лунатики на луну воют.
— Как вы это выдерживаете? — спросила Дебора.
— У меня, как видно, кровообращение получше твоего. Обычно я боли вовсе не чувствую, разве что на лодыжках ремни слишком туго затянут или рана кровит… О! На ночной кухне свет погасили. Три часа ночи, стало быть.
Самой Деборе не приходило в голову определять время по больничному распорядку дня, по наступлению светлого и темного времени суток или по привычкам отдельных медиков, а потому ее изумила проницательность той, которая всегда, за исключением единственного случая многомесячной давности, существовала где-то между жизнью и смертью.
— Сколько мы уже тут валяемся?
— Ровно семь часов.
Никто так и не пришел. По лицу Деборы текли слезы, но смахнуть их не было возможности. В темноте, озаряемой пламенем боли, падал Антеррабей, восклицая: «Обман! Обман! Час пробил!»
Никого. Дебора поняла, что хрупкое доверие опять сделало ее уязвимой для холодного ветра и холодного скальпеля. От жгучей боли, которая вонзалась ей в ноги, она застонала.
— Боже, какие изощренные пытки!
— Ты про ремни, что ли? — спросила Сильвия.
— Нет, про надежду!
И тут к ней стало подбираться отражение заключительного обмана — Долгожданной Близкой Смерти.
— Я вижу тебя, Иморх, — выдавила Дебора, впервые в жизни переходя на ирский язык при посторонних.
Вошедшие наконец санитары обрадовались, увидев, что Дебора затихла.
— Молодец, успокоилась.
Идти она не могла, но санитары ночной смены никуда не торопились: Деборе разрешили посидеть, чтобы сошли отеки, голени приобрели естественный цвет, а ступни не подворачивались при каждом шаге.
Прежде чем оставить Сильвию одну в беспощадном электрическом свете, еще не распеленатую, Дебора обернулась, решив поблагодарить подругу по несчастью за сочувствие. Санитары насторожились, когда Дебора направилась к чужой койке.
— Сильвия…
Но Сильвия уже мало чем отличалась от предмета мебели: она вновь превратилась не то в куклу, не то в статую, узнаваемую лишь по внешней оболочке; живое существо выдавал только пульс, хотя и тот угадывался не сразу.
Смириться с неотвратимым роком оказалось проще, чем терпеть маленькое «быть может». Дебора так давно готовилась встретить заключительный обман, что увидела в нем едва ли не облегчение. Когда настало время идти в докторский флигель, на горизонте Ира столпились Избранные, и боги, и все прочие.
— Иду с тяжелым сердцем, — сказала им Дебора, — как никогда. Я не собираюсь храбриться угодничать. Довольно с меня уловок. Довольно уступок. Я отказываюсь играть в эту Игру и пойду на смерть, изображая неведенье.
При виде знакомой приветственной улыбки Фуриайи Дебору на миг захлестнул поток сомнений. Быть может, она не знает, подумала Дебора. Но то была наивная, глупая мысль. Последнее превращение — это смерть или кое-что похуже; так говорилось и давным-давно, и вчера вечером; ее первая просьба о помощи — насмешка, не более того — прозвучала на земном языке и была исполнена с легкостью, с большой легкостью. На ледяной койке она, доверчивая душа, отступилась от своей исключительности. А этим здесь умело пользовались. И зубы, и ноги до сих пор ломило от их шутки. На фоне сполохов боли маячила все та же черная тень — известное наперед Приближение. Чья рука смогла бы приблизить конец столь же твердо и бесповоротно, как огненная длань этой женщины, которая теперь сидела перед ней?
— Ну что? — спросила Дебора.
— Ну что? — ответила Фуриайя.
Дебору захлестнул гнев.
— Понятно, что мы здесь вынуждены играть по определенным правилам и что есть игра, где жертва должна только подчиняться. Но эта игра мне известна, как известен и ее финал. К чему обрекать меня не просто на смерть, но еще и на слабоумие? Ладно! Пусть у меня дурная голова. Но обман и последнее превращение уже рядом, так что делайте бросок — не стоит больше тянуть!
— Что мы имеем? — Фуриайя, старательно храня невозмутимость, слегка покачала головой. — Ты рассказываешь мне про японского солдата, про то, как стала исключительной, особенной. Я всеми возможными способами подтверждаю, что ты, извлекая на свет столь сокровенные тайны, ни на минуту не рискуешь потерять мое доверие. А на другой день ты приходишь сюда и заявляешь, что наше с тобой общее дело — это великий обман и предательство.
— Они прознали, что я готова, — сказала Дебора. — Когда я нашла в себе силы позвать на помощь, они разглядели мое доверие и спрятали за пазухой камень, чтобы разбить цветочный горшок.
— Почему-то у тебя в уме смешались больница из прошлого и больница нынешняя. Я ни за что не предам твоего доверия.
— Неужели в вас нет ни капли жалости? — вскричала Дебора. — Все так боятся закапать кровью пол в гостиной. Только и слышу: «Не могу видеть страдание»; а потом: «Ступай-ка ты умирать в другое место!» Начало уже положено, а вы опять твердите про какое-то доверие: вроде как все «мило-мило»!
— Сейчас, глядя на тебя, когда ты далеко не в лучшей форме, я вряд ли скажу «мило-мило». Что случилось между нашей вчерашней беседой и сегодняшней? Если ты говоришь, что уже положено начало Последнему Предательству, то сделай одолжение, растолкуй мне… растолкуй нам обеим, откуда это видно.
Медленно, но верно доктор Фрид вызывала Дебору на откровенность. Столь же медленно, шаг за шагом, Дебора признавалась, почему сама просила о холодном обертывании.
— Над этим даже можно посмеяться, — с горечью выговорила она. — Примерно так ведут себя здравомыслящие люди при виде гремучника. Начинают звать на помощь, убегают, запирают двери, забиваются под кровать, а позже, когда змея уже поймана, грохаются в обморок. Я уже приготовилась к неминуемому нападению, но забыла, что стою на их земле, которую им ничего не стоит выбить у меня из-под ног.
Рассказывая, как она не могла допроситься помощи, как сносила издевки и хохот Ира, Дебора переполнялась неподдельной гордостью за свои почти разухабистые ответы на вопросы Фуриайи.
— Ты уверена, что это продолжалось так долго?
— Совершенно уверена.
— Значит, ты действительно звала на помощь…
— Вы ведь сами никогда не были на психиатрическом лечении, правда?
На лице Фуриайи не промелькнуло ни тени улыбки; Деборе еще не доводилось видеть своего лечащего врача в такой мрачности.
— Да, верно… Прости, но я могу только гадать, что здесь кроется. Но это не значит, что я не способна тебе помочь. Впрочем, перед тобой тоже будет стоять важная задача: объяснять мне все досконально и проявлять немного терпения, если я вдруг окажусь непонятливой.
Она продолжала, и на ее лице вновь отразилось недоумение.
— Впрочем, сдается мне, что в свете твоих неприятностей ты чересчур довольна собой. По-моему, ты слишком легко отступаешься, поэтому разреши напомнить еще раз: я тебя не предам.
Тут Дебора вспылила.
— Докажите! — вскричала она, припоминая, с какой милой улыбкой учителя, врачи, вожатые в лагере и родственники годами прибегали к обману и только делали ей хуже.
— Доказательство непростое, зато надежное, — ответила Фуриайя. — Время.
Глава семнадцатая
Запеленутая точь-в-точь как мисс Корал в день поступления, такая же злоязыкая и непокорная, в клетку попалась новая тигрица; все отделение, как и в прошлый раз, будто наэлектризовали. Такое поведение вновь прибывших всегда отражало их душевный разлад, грозило буйными выходками, а ко всему прочему, ветром перемен будоражило тех, для кого перемены были подобны смерти. Обычно поступление новеньких оставалось практически незамеченным: «четверка» принимала и отпускала многих, но драчуньи сеяли среди больных особую панику. Сейчас Ли Миллер, гордо возглавлявшая старую гвардию отделения, с насмешливой снисходительностью наблюдала за происходящим, пока с ней не поравнялась физиономия плывущей по коридору тигрицы. Вглядевшись в ее черты сквозь рой персонала, Ли Миллер отвернулась, ушла в спальню и легла на койку.
Потом, когда Дебора подошла к ней спросить, кого к ним привезли (зная, что молва заранее доносит некоторым больным, кого следует ожидать: полное имя, возраст, род занятий, вероисповедание, семейный статус, предыдущие госпитализации, шоковая терапия — типы, количество курсов, прочие виды терапии, примечания), Ли фыркнула: «Нашла у кого спрашивать» — и до макушки натянула одеяло.
Деборе ничего не оставалось, как обратиться к санитарке.
— Повторная больная, — небрежно сообщила та. — Ничего особенного про нее не сказано. Зовут Дорис Ривера.
С тошнотворным чувством Дебора привалилась к стене; санитарка прошагала мимо. На Дебору нахлынул страх, смешанный с гневом, страх, смешанный со злорадством, страх, смешанный с завистью. От избытка эмоций у нее перехватило дыхание. Великая Дорис Ривера — и та сломала хребет на дыбе жизни. Это что-нибудь да значило. Внезапно зависть слетела с ее уст раскатами горького хохота:
— Да пропади она пропадом, эта Ривера! Много о себе понимает — тоже мне, звезда на небосклоне! И вообще, кто она такая?!
— Наполеон! — выкрикнула Лина, схватила массивную пепельницу, куда стряхивала сигарету, и запустила в Дебору, но чудом промахнулась и угодила в стену.
Санитарка без особой настойчивости одернула:
— Ну-ка уймись, Лина.
Ближе к вечеру Дебора услышала, как на сестринском посту санитарка возмущается:
— Что за мразь эта Блау, черт бы ее подрал! Маменька с папенькой такие деньжищи в нее вбухивают, а она, гадина этакая, нарочно бузит.
Кто-то ей возразил, но больше для порядка. Медленно развернувшись, Дебора прошла мимо изоляторов и остановилась перед запертым боксом, куда поместили Дорис.
— Вот ты где, Самозванка! — через дверь бросила она узнице.
В самом деле, кем она себя возомнила, если замахнулась на такую попытку, бросая вызов остальным? И как посмела сломаться под жерновами этого мира!
Но тут на Дебору нахлынула долгая волна жалости, причем, как оказалось, жалости к себе тоже, а с ответной волной нахлынул страх, и вновь за себя тоже. Значит, возвращение неизбежно; возвращаются те, которые из упрямства отказываются признать губительность своего нганона, хотя уже разбиты наголову. Они тяжело поднимаются с больничного пола, будто с ринга, трясутся, как побитые чемпионом, а затем вновь и вновь, ковыляя, устремляются в мир, чтобы опять вернуться сюда, только не на всех парусах, а запеленутыми в парусину. Сколько же раз такое должно повториться, прежде чем все они перемрут?
«А ты чем лучше, Легкокрылая? — с едва заметной улыбкой проговорил Лактамеон. — Тьма, боль, неодолимый страх и бездумность, а сердечко-то бьется, и пульс, как у всех, ведет свой счет в наших списках».
«Почему так?» — прокричала она ему по-ирски.
«Да потому, что твои тюремщики — садисты!»
В течение дня вокруг Дорис не утихала суета. Врачи и медсестры звякали у ее дверей ключами своей власти. Холодные обертывания, снотворные таблетки, консультации, беседы тревожили и злили обитательниц «четверки». Рядовых соплеменниц точила зависть к вновь прибывшей, которая нарушила их уклад и перетянула на себя всеобщее внимание. Мэри, подопечная доктора Доубен, стоя под дверью, начинала громко стонать при виде процессии в белых халатах, а Ли Миллер, сидевшая на своем обычном месте в холле, злобно бормотала:
— Эх, обдристался ты, докторишка. Забирай свои цацки да ступай домой… Она, считай, пропала. Докторишки ведь не понимают, когда в лужу сели.
Несколько дней спустя, когда Дорис собственной персоной появилась в холле, смертельно бледная и обессиленная, у нее уже было полно тайных недоброжелательниц. Дебора оценила ее с позиций мифа, который сочинила на пару с Карлой. Дорис отличалась жуткой худобой, наполовину поседела и пошатывалась от снотворного, но все равно искрилась жизнью. Как сложились ее отношения с миром, никто не знал, но уж точно она не стояла перед ним на коленях.
Из всех прочих она выделила Дебору — беспощадный глаз всего отделения.
— Чего вылупилась? — спросила Дорис твердым, непререкаемым тоном. — Сама тоже не королева красоты.
— Вы — повторная больная. — В ответ на неожиданный вопрос Дебора тоже выпалила неожиданную фразу.
— И дальше что?
— Из-за чего вы опять сюда попали?
— Не твое собачье дело!
— Нет, мое! — вскричала Дебора, но не успела ничего объяснить, потому что встревоженный кордон медперсонала загородил Дорис и оттеснил ее обратно в бокс.
У Деборы в ушах стучала злость, а на языке вертелся незаданный вопрос.
Ир зароптал; у Синклита уже был наготове язвительный смех. «Вот увидите!» — крикнула Дебора воинству своего другого измерения. И, бросившись к запертой уже двери, забарабанила кулаками.
— Эй! Слишком жестко показалось — из-за этого, что ли?
— Нет! Это я слишком жесткая, да и много всякого случилось, — прокричали из одиночки.
— А конкретно?
— А конкретно — не твое собачье дело!
— Но тут все твердят о выздоровлении… о выписке. Буквально все…
Ее услышали. Во избежание беспорядков тут же подтянулись санитары.
— Ступай отсюда, Дебора. Тебе здесь делать нечего, — загалдели белые пятна.
— Я разговариваю с Дорис.
Почти не надеясь на ответы, Дебора стояла на своем; на нее давила настоятельная необходимость спросить у этой двери (пусть от нее мало чего добьешься), не придется ли ей возвращать себе Цензора, и видимость здравомыслия, и все прочие обманы и ужасы, чтобы выжить в мелком, блеклом мире вне этих стен.
— Давай, давай, Блау… Шевелись. — Голоса предупреждали: если не пошевелишься, жди холодного обертывания, или карцера, или того и другого.
— Эй вы! — сказала дверь. — Слышите меня: хватит ее дергать. Может, я и сумею ответить этой слабоумной девке. Пускай задает свои вопросы, а там видно будет.
— Ривера, не суйся, куда не просят, — назидательно сказал топтавшийся сбоку санитар. — А ты, Блау…
— Ладно… — сказала Дебора. — Ладно.
В тот день Мэри, подопечная доктора Доубен, споткнулась, упала, и с ноги у нее слетел тапок, который поймала Дебора. Она кинула его обратно Мэри, и тут же началась игра — четыре или пять больных стали перебрасываться этим тапком из угла в угол и в общую спальню. Чтобы не пропустить бросок, Дебора в какой-то момент подпрыгнула, но неудачно приземлилась и подвернула лодыжку. Наутро заведующий отделением осмотрел травмированную ногу и заподозрил перелом.
— У нас рентгеновский аппарат вышел из строя, — сказал врач. — Придется везти ее в больницу Святой Агнессы.
Два интерна в халатах, опасаясь, как бы Дебора не сбежала, решили доставить ее в больницу на такси. Уже на месте, сидя в отдельной палате под присмотром нескольких сестер — одни стояли у нее над душой, другие ожидали за дверью, — Дебора то заливалась смехом, то сыпала проклятиями. Одна за другой сестры и санитарки на цыпочках подкрадывались к ее палате.
— Это здесь душевнобольная? — шептались снаружи, будто Дебора — кинозвезда или разносчица чумы.
Когда она шла по коридору на рентген, все взгляды устремились ей вслед. (Изощренное равнодушие: «Если поглазеть, может, и она посмотрит?»)
Интерны, сопровождавшие Дебору, разважничались и не преминули сообщить рентгенологу, что ответственны за «надзорку».
— Там у вас буйные?
Возможно, интерн подмигнул; ответа Дебора не услышала. Но тут она увидела себя будто чужими глазами: волосы как пакля, сама неряшливая, вялая от постоянного безделья, в убогом больничном халате поверх мешковатой пижамы (интерны предполагали, что их подопечная останется в больнице Святой Агнессы, а переодевать больных — дело хлопотное) и не иначе как Безумного Вида. При этом она затруднялась с уверенностью определить, как может выглядеть со стороны ее маска. Внезапно на Дебору обрушилось то, с чем уже столкнулась Дорис Ривера и с чем вскоре предстояло, видимо, столкнуться Карле, — Реальный Мир. Дебора упала без чувств.
Через пару минут, уже за порогом рентген-кабинета, Дебора, увидев склонившихся над ней зевак, поняла: меньше всего на свете ей хочется услышать от врача, что у нее перелом, и остаться там, где она будет куда безумнее, чем в «остром» отделении психушки. Дебора села.
— Как самочувствие? — спросили приставленные к ней медсестры (не иначе как главные знатоки психологии).
И тут Дебору осенило: если всех их как следует пугнуть, ее тут же отправят восвояси, хоть с переломом, хоть без.
— У меня, — она напустила на себя зловещий вид, — сейчас начнется припадок.
— Итак! — задушевно произнес рентгенолог. — Вижу сильное растяжение… но перелома нет.
Все заинтересованные лица вздохнули с облегчением; припадая на перевязанную ногу и держась за медсестер, Дебора вышла из здания больницы, села в ожидавшее такси — и вот они уже мчались по автостраде, дальше — по шоссе, свернули на проселочную дорогу, проскочили через ворота, въехали на задний двор Южного корпуса (отделения № 2 и № 4), зашли в «мясовоз», чтобы подняться в четвертое, и Дебора, о счастье, наконец оказалась дома! О счастье!
Вечером, когда пришло время умываться перед сном, Дебора, прихрамывая, зашла в главный санузел и разглядела свое отражение в стальной пластине, служившей зеркалом. Сотни и сотни больных выместили на ней отвращение к самим себе; закаленная сталь и та не выдерживает подобных атак. Даже безоружные раздобывали себе оружие, дабы обезобразить гладкую поверхность царапинами или вмятинами, так что на этом зеркале не осталось живого места.
— Э нагуа, — обратилась к пластине Дебора на литературном ирском наречии; это означало: «Я тебя люблю».
— Вчера привезли в городскую больницу… — рассказывала она Фуриайе. — Там я впервые пожалела, что у вас тут не в ходу смирительные рубашки. Вот было бы здорово довершить картину! Я-то, дуреха, слишком поздно надумала изобразить, будто у меня изо рта идет пена!
— А теперь ты пытаешься себя истязать, — заметила Фуриайя. — Что же произошло?
Услышав объяснения, она вздохнула:
— Этот предрассудок исчезает очень медленно, однако некоторые сдвиги все же заметны. Помню, насколько хуже обстояло дело перед Второй мировой, а уж перед Первой мировой — совсем скверно. Наберись терпения. Коль скоро ты намного лучше, чем они, осведомлена о психических расстройствах, у тебя больше простора для понимания и терпимости.
Дебора отвела глаза. Опять Фуриайя тонко, но настойчиво внушает ей, что нужно приспосабливаться к внешнему миру, помогать ему, не считаясь со своим собственным недугом и отчуждением.
— У меня нет возможности помогать другим, разве это не ясно? Неужели вы ничего не усвоили из моего рассказа? Нганон вопиет сам из себя!
— Что-что? Растолкуй мне смысл. Вероятно, до меня не доходит.
— Я отрезана от добра. В Ире есть поговорка, которой изводил меня Цензор; сейчас переведу: «В молчаньи, во сне, перед вздохом и делом, всенепременно, нощно и денно, нганон вопиет из себя». Это означает, что отравленная субстанция, враг-двойник, может издать клич и тем самым приманить к себе других отравленных, которых в мире наберется не более горстки. Он магическим образом притягивает их без моего ведома, вне зависимости от моих поступков и действий.
— Если я правильно понимаю, он привлек одного или двоих, от силы троих, — сказала Фуриайя. — Расскажи, кто это такие.
За пределами влияния всех ирских сил магии, богов и миров существовало, по убеждению Деборы, еще одно свидетельство ее врожденной никчемности. И лежало оно во внешнем мире, в сфере повседневных, рутинных занятий обычного подростка. Это было магическое, судя по всему, притяжение, которое влекло к ней других. Человек либо сам выбирает, либо становится объектом выбора: как сосед по лагерной палатке или по школьной парте, как участник (в том или ином ранге) всяких кружков, компаний и группировок. В земном мире требовалось соблюдать видимость принадлежности к коллективу. И Дебора обнаружила, что для соблюдения этой видимости способна объединяться только с мечеными, малоимущими, убогими, немощными, странными, близкими к помешательству. Эти союзы не планировались, даже тайно, и не продумывались наперед; они складывались естественно, как притянутые магнитом железки, но при этом союзники в глубине души сознавали подоплеку этого притяжения и ненавидели как себя, так и друг друга.
Однажды в летнем лагере появилась необыкновенная девочка по имени Юджиния. В период последней великой перемены, когда Ир стал требовать от Деборы все более длительного ежедневного служения, а взамен давать все меньше привилегий, Юджиния с Деборой объединились, сообразили, по какой причине, и порой даже терзали друг дружку этим открытием. Впрочем, объединяло их и сочувствие, и безмолвное понимание тех мук, которые могут скрываться за простейшими действиями, и осознание того, как тяжело соблюдать Видимость в угоду миру. Но превыше всего ставилась необходимость изображать дружбу: вместе ходить в столовую, на стадион, на озеро, находить друг для дружки такие слова, которые не были бы сплошным обманом или данью Видимости. Притом что они невольно возводили стены между собой и другими, у обеих возникала неодолимая потребность (правда, нечасто и только применительно к избранным) пробиться сквозь звуконепроницаемую, бронированную стеклянную преграду под названием «Видимость» и хотя бы коротко побеседовать так, будто Синклит вовсе не заменял собою весь мир.
Через некоторое время лагерь признал их за подружек и списал со счетов своего злопыхательства и резкой неприязни. Конечно, Дебора с первых дней знакомства понимала, что одинокая, язвительная, настороженная Юджиния отличается от всех остальных, но старательно отгоняла от себя мысль о подруге как о разносчице некоего ядовитого соединения. В один прекрасный день Дебора сумела ускользнуть в Ир, чтобы, если он разрешит, полетать в Долине Тай’а. В лагере было множество укромных мест, где удавалось схорониться на час-другой, пока мир, спохватившись, не начинал ее звать и разыскивать. В число лучших уголков входила заброшенная душевая, но, придя туда в тот самый день, Дебора почувствовала чье-то присутствие. Тогда она запела, чтобы сообщить о своем появлении тому, кто ее не замечал. Слишком часто ее саму подлавливали другие, когда она громко смеялась или вслух разговаривала по-ирски; за это ей доставалось от Цензора. Сейчас в одной из кабинок послышалась торопливая возня, а потом раздался голос Юджинии:
— Кто там?
— Это я, Дебора.
— Подойди сюда.
Дебора подошла. Юджиния, совершенно голая, вся в поту, стояла под пересохшим разбрызгивателем. Когда Дебора сделала шаг вперед, подруга протянула ей тяжелый кожаный ремень и скомандовала:
— Держи. Задай мне порку.
— Как ты сказала?
— Ты слышала. Сама прекрасно знаешь: такова моя натура. Кого-кого, а тебя я могу не обманывать. Возьми. Бей.
— Кому это надо?
Близилось нечто ужасное.
— Ты увиливаешь, прикидываешься наивной. Но для тебя не секрет, кому это надо, — мне, так что сделай одолжение…
— Ни за что! — Дебора отпрянула. — Не могу. Не буду.
Все пространство между ними заполонила просьба Юджинии. По ее лицу струились капли пота и, поблескивая, бусинами падали на плечи и руки.
— Не забывай: я о тебе тоже кое-что знаю! И добьюсь, чтобы ты меня высекла ремнем… потому что ты… ты из тех, кто понимает.
— Ни за что.
Дебора отступила еще на шаг. В сознании мелькнула мысль, что, быть может, это происходит потому, что ее собственный нганон слился с чужим, соединился с дремавшей внутри Юджинии злобой, которая ждала своего часа, чтобы вырваться наружу. Да, возможно, она, Дебора, воплощает собой губительное Пернаи — Разрушение, да только это не что иное, как саморазрушение, ибо она никогда и никого не просила разделить с ней эту участь. А потом Дебора вдруг поняла, что нганон Юджинии наверняка еще более яростен и неистов, чем ее собственный. Но даже в таком случае обыкновенное присутствие вырастало до масштабов соучастия, а соучастие предполагало ответственность. Ее нганон воззвал к нганону Юджинии, побуждая, провоцируя… Дебора бросилась к ней, выхватила ремень и, швырнув его на пол, выбежала из душевой. После того случая на Юджинию она старалась вообще не смотреть.
— Получается, что кто-то из твоих знакомых — кому ты интересна и симпатична — рискует быть уничтоженным если не тобой лично, то близостью к тебе.
— Ир все обращает в шутку, но вы сейчас говорите серьезно. Да, действительно, это так.
— А как насчет твоих родителей: на них тоже влияет эта разрушительная сила?
— На мужчин не действует женский яд. Мне кажется, их ломает нечто другое. Раньше я об этом не задумывалась, но здесь мужчин предостаточно. В мужских палатах, как и в наших, свободных мест нет.
— Согласна, — ответила Фуриайя. — Но скажи: на женщин, по-твоему, этот яд действует? Ты до сих пор боишься кого-нибудь заразить?
— Я уже много лет медленно заражаю тех, кто рядом.
— И что в итоге?
— Мне кажется, моя сестра тоже сойдет с ума.
— Ты до сих пор так считаешь?
— Да.
Тут задребезжал телефон. Доктор встала и подошла к письменному столу, чтобы снять трубку. Обычно и пары часов не проходило, чтобы не раздался хотя бы один звонок, а было дело — во время вполне продуктивной беседы аппарат звонил целых пять раз. Пожав плечами в знак извинения, Фуриайя висела на телефоне минут пять.
— Итак, — сказала она, вновь усаживаясь в кресло, — на чем мы остановились?
— На мире, где без умолку трезвонит телефон, — язвительно ответила Дебора.
— Есть звонки, на которые нельзя не ответить, например междугородные или же от докторов, для которых это единственно удобное время. По мере сил я стараюсь не допускать, чтобы они прерывали нашу беседу. — Она посмотрела на Дебору с легкой усмешкой. — Я отдаю себе отчет, насколько тяжело добиться улучшения пациентам такого «именитого и востребованного доктора». Всегда найдутся те, кому захочется, пусть даже ценой собственной жизни, свести счеты, подмочить якобы безупречную врачебную репутацию. Поверь, невзирая на огромную востребованность, я, как и все, не застрахована от неудач. Ну как: продолжим?
— Мы говорили о заражении.
— Ах да. Я вот о чем подумала, — сказала Фуриайя, — если бы тот случай в душевой произошел сегодня, он бы точно так же тебя напугал?
— Нет, что вы. — От такой несуразности Дебора засмеялась.
— А почему?
— Понимаете… — Дебора словно прозрела. — Сейчас я сумасшедшая. Но вы, признав, что я больна… что при моем заболевании требуется госпитализация, тем самым доказали, что у меня на самом деле куда больше здравого смысла, чем я предполагала. А кто хоть сколько-нибудь вменяем, тот уже силен.
— Наверно, я чего-то не улавливаю.
— Все эти годы, все эти долгие годы я знала, что нездорова, но ведь до вас ни одна живая душа не желала этого признавать.
— Тебя убедили подвергнуть сомнению даже ту реальность, которая тебе наиболее близка и понятна. Неудивительно, что душевнобольные пациенты не выносят обмана…
— Можно подумать, до вас только сейчас дошло, — сказала Дебора, все еще озаренная светом. — Так ли это? Неужели я вам открыла нечто новое?
Фуриайя помолчала.
— В каком-то смысле — да. Я никогда не подходила к данному вопросу с таких позиций, хотя знаю немало причин, по которым обман причиняет вред людям с неуравновешенной психикой.
Улыбаясь, Дебора захлопала в ладоши.
— Чем обязана? — поинтересовалась Фуриайя, видя, что в этой улыбке нет ехидства.
— Как бы это выразить…
— Тебе приятно не только брать, но и отдавать?
— Если я сумела вас чему-нибудь научить, значит от меня есть хоть какой-то прок.
— Я содрогаюсь от рыданий, — сказала Фуриайя. — Лью крокодиловы слезы по твоим ирским богам. — Она опустила уголки рта, изображая лицемерную скорбь. — Они попусту тратят время на реальную человеческую особь, которая в один прекрасный день выведет каждого из них на чистую воду, разрушит их обитель и порвет с этой братией.
— Вы создаете для меня видимость недосягаемого белого облака… — начала Дебора, — но за ним кроется все та же Фуриайя с обжигающим касанием и разрядами молний. — Ее затрясло при мысли о жалком существовании без Ира.
Впоследствии они начали исследовать тайную идею, которую Дебора разделяла со всеми больными: что она наделена несравненно большей властью, нежели заурядные люди, но почему-то стоит ниже. Такой идеей стал для Деборы отравляющий нганон, чьи козни она рассматривала хладнокровно, через посредство разума, и не приравнивала к духовной истине. Как-то вечером, сидя в холле перед раздачей снотворного, Дебора оказалась рядом с мисс Корал, которая утопала в массивном кресле и смахивала на древнюю сову, а также с только что вошедшими Ли и Элен.
— Вы способны прочесть мои мысли? — спросила Дебора.
— Ты ко мне обращаешься? — уточнила Ли.
— Ко всем. Можете прочесть мои мысли?
— Куда ты клонишь? Собралась упечь меня в изолятор?
— Да пошла ты, — любезно проговорила Элен.
— Нечего на меня смотреть, — сказала мисс Корал с манерным ужасом графини, оказавшейся на скотобойне. — Я и свои-то прочесть не способна.
Дебора принялась разглядывать изображения, украшавшие стены холла. Фигуры, неподвижные и неизменные, застыли в вечном ожидании.
— Если ищешь объективную реальность, — прошептала себе Дебора, — ну и местечко ты для этого выбрала.
Глава восемнадцатая
Была весна, пора нетерпения и страсти. В душе у Джейкоба образовалась жуткая пустота — промоина от стремительного течения времени. Младшая дочь оканчивала среднюю школу, и Джейкоб пришел на выпускной вечер, где звучали песни и речи, молитвы и клятвы, но пустота все углублялась, не зная пределов. Он внушил себе, что день выпуска должен стать для Сьюзи настоящим праздником, не омраченным напоминаниями о Деборе. Но, вопреки голосу совести, благим намерениям, обещаниям, данным жене и себе самому, выбросить из головы старшую дочь не получалось. Почему Деборы сейчас не было рядом?
Вот уже вторая весна пришла без нее; намного ли приблизилась Дебора к созданному для нее идеалу скромности, послушания и женственности, который он носил в своем сердце? Ни на шаг. Улучшений не было вовсе. Из актового зала гуськом выходили юные девушки в белых платьях — воплощение невинности. Джейкоб повернулся к Эстер, которая ради Сьюзи выбрала для себя потрясающий наряд, известный среди родных как «коронационное одеяние».
— Почему мы не можем привезти ее домой, ненадолго? Съездили бы всей семьей на озера.
— Нашел время! — шикнула Эстер.
— Нет такого закона, чтобы держать ее взаперти! — шепотом настаивал Джейкоб.
— Видимо, такие поездки ей не на пользу.
— Зато мне — на пользу… пусть хоть изредка что-нибудь будет мне на пользу!
Вечером они повели Сьюзи в шикарный ресторан. Она хотела остаться в компании одноклассников, но Джейкоб, чувствуя, как ускользают от него и время, и красота, и насыщенность дней, настоял в кои-то веки на своем. А коль скоро он так грезил семейным торжеством, праздник с самого начала не задался. Сьюзи сидела потупившись, а Эстер совсем загрустила, потому что присутствие одной дочери неизбежно наводило на мысли о другой, отсутствующей. Джейкоб знал: чтобы символ не пошел трещинами, не стоит перегружать его смыслом, но ничего не мог с собой поделать. Застолье омрачалось тоской.
Чтобы разрядить обстановку, Эстер надумала все же упомянуть старшую дочь:
— Дебби мечтала сегодня быть с нами или хотя бы подарок прислать, будь у нее такая возможность.
Подняв на мать невозмутимый взгляд, Сьюзи сказала:
— Она и была с нами. Когда нам вручали аттестаты, вы о ней заговорили, а потом еще раз, когда мы построились перед выходом.
— Чушь! — отрезал Джейкоб. — Никаких таких разговоров у нас не было.
— Ну хорошо, допустим, вслух вы ничего не говорили, но вид у вас был такой… — Сьюзи задумалась, как бы поточнее описать, какое выражение принимают в подобных случаях родительские лица, но не решилась произнести слова, что лезли ей в голову и вызывали только болезненное смущение.
— Чушь! — повторил Джейкоб и отмахнулся. — Какой там особенный вид… чушь!
Сьюзи поймала на себе материнский взгляд. Отец, как всегда, прятал голову в песок. Прояви милосердие, безмолвно убеждала Эстер. Сьюзи опустила глаза на белое выпускное платье и потеребила пуговку.
— Вы заметили девочку, которая передо мной аттестат получала? Так вот: у нее брат — это просто мечта…
Хотя пациенты клиники недоумевали, почему их специфический недуг не воспрепятствовал смене времен года, весна все же пришла в полном блеске. Больным «четверки» оставалось лишь досадовать, что мир, сломавший им жизнь, не только не понес наказания за свои грехи, но и, судя по всему, процветает. А когда Дорис Ривера стянула волосы в узел, надела костюм и примерила пошловатую улыбку, многие подумали, что она вступила против них в сговор с весной. У Супруги Отрекшегося была на сей счет своя теория:
— Да это шпионка. Я сто лет ее знаю. Она продалась оппозиции, все берет на карандаш, а когда ее записи появляются в печати, их не вырубишь топором.
— Будем снисходительны, — призвала Мэри, подопечная доктора Доубен, форменная мать Тереза. — Будем снисходительны, невзирая на то что она подцепила все дурные болезни, какие только можно себе представить. А кроме того, ее интимные органы поражены инфекциями, которые занесли ей дуроломы без роду без племени. А кроме того, у нее шизофрения самого грязного, позорного свойства. — Вещала она громогласно, и в ее тоне появились всем знакомые угрожающие нотки.
— До чего же вы, психички, смешные, — сказала Мэри, подопечная Фьорентини.
Разгорелась драка.
По всему отделению давно гуляли вихри гнева и страха; конфликты вспыхивали стихийно, неудержимо, на ровном месте.
— Почему-то очень многие больные оказались в изоляторах, — размышляла вслух новая практикантка.
— Когда проштрафятся еще человек пять-шесть, можно будет укладывать валетом, — ответила Дебора.
— Да уж… да… — соглашалась на бегу Ухмылка-Номер-Три.
Отвернувшись, Дебора в который раз прицелилась тапком в настенные часы:
— Смахивают на ее ухмылку.
— Все лучше, чем твоя морда, — бросила Элен.
— Ты просто свою давно не видела!
И опять началась потасовка.
— На отделении такое случается, — объясняли бывалые санитарки новеньким. — Но вообще у нас тишь да гладь.
Новенькие не верили. Будущие медсестры вечно тряслись от страха, но этой группе, направленной на «четверку», никто бы не позавидовал. А две их предшественницы, «трахнувшись мозгами» после завершения клинической практики, сами угодили в дурдом.
— С кем поведешься, — шептали в клинике, — от того и наберешься.
А потому четыре студентки сестринского колледжа боязливо жались друг к дружке, образуя единственный островок юности, красоты и здоровья, отколовшийся от весны. Никогда еще носительницы ядовитых нганонов не ощущали свою отчужденность столь остро, как в тот день. Элен и Констанция доходили до рукоприкладства, чтобы посбивать с незваных соперниц их особинку, а у Деборы был свой подход к обезличиванию новых практиканток, которые в итоге просто растворялись в анонимности больничного уклада. Она видела в них только мутно-белые кляксы. Она слышала только разговоры о ней самой и особые распоряжения. Такая самозащита от всего, что ново и красиво, срабатывала лучше любых потасовок. Дебора использовала этот прием помимо своей воли, но не противилась. Ее угнетали не только миловидность и живость студенток, но в равной мере их чужеродность, из-за которой Дебора начинала стыдиться своего безумия.
Как-то раз, ближе к вечеру, сидя на полу близ поста, под строгим надзором враждебного циферблата, Дебора подслушала разговор двух студенток.
— Новенькая, со второго отделения? Куда ж ее положат?
— Без понятия, но, как видно, она там шороху навела — будьте-нате, если сюда переводят.
— Вспомни, как Марсия нам говорила: «У них то просветление, то помутнение». Будем надеяться, эта под себя не ходит и кушает через рот! — Они захихикали.
Хихиканье, по сведениям Деборы, было рефлекторным проявлением тревоги, но, когда позже в отделение внесли Карлу, совсем сломленную, такую же изможденную, какой была Дорис Ривера, Дебору охватила жгучая злоба к расплывчатым белым кляксам. Они высмеивали не кого-нибудь, а Карлу — чистую душой, настолько чистую, что она даже не разозлилась, когда Дебора в свое время ужалила ее в самое больное место.
При виде Деборы рядом с Карлой никто бы не заподозрил, что они подруги. Чтобы не навязываться (хотя люди в здравом уме далеки от таких соображений), Дебора не поздоровалась; а кроме того, в период обострения Карла могла отреагировать на приветствие агрессией, а то и животной яростью, в чем позже стала бы раскаиваться. Отводя глаза, Дебора с каменным лицом выжидала, чтобы Карла подала ей тайный сигнал узнавания.
По этому сигналу девушки двинулись навстречу друг другу, изображая полное равнодушие. Дебора слабо улыбнулась, но тут произошло нечто странное. В плоской, туманно-серой, двухмерной пустыне ее восприятия Карла проявилась в трех измерениях и в цвете, отчетливая и невыдуманная, как глоток горячего кофе или пробуждение в «ледяном мешке».
— Привет, — слегка нараспев произнесла Дебора.
— Привет.
— Курить будешь?
— С меня поблажки сняты.
— Ясно.
Позже Дебора приметила Карлу возле санузла: та дожидалась под дверью, чтобы санитарка запустила ее в помывочную.
— Захочешь — приходи ко мне ужинать.
Карла ничего не ответила, но во время раздачи ужина пришла со своим подносом в самую дальнюю общую палату, куда теперь поместили Дебору.
— Можно?
Дебора подвинулась, чтобы Карла могла присесть в изножье кровати, где поровнее. (Здравствуй-здравствуй, моя трехмерная, многоцветная подруга. Как же я рада тебя видеть.) Вслух Дебора только сказала:
— Дорис Ривера вернулась — и снова ушла.
— Ну да, мне сказали.
Взглянув на Дебору, Карла — опять же чудом, как в тот раз, когда вернула подруге способность видеть, — вроде бы кое-что разглядела под каменной маской.
— Слышь, Деб… все путем. Мне потому пришлось вернуться, что замахнулась я на все сразу, в том числе и на отца… да и другие причины были. Но я не сдаюсь; просто устала, вот и все.
Глаза ее наполнились слезами, и Дебора, застывшая от смущения и тревоги при виде чужой скорби, могла только гадать: что же есть такого в земном мире, если утопающие раз за разом бросаются в этот зловещий океан хаоса, еще не порозовев и не отдышавшись после предыдущей попытки.
«Почему, как ты думаешь, они способны плыть, как другие, хотя поверхностное натяжение их нганонов нарушилось уже при первом утоплении?» — прокричала Дебора Лактамеону.
«Идат его знает, — ответил бог. — Для некоторых ничего невозможного нет».
Душевные мышцы Деборы напряглись от страха.
«Значит, по-твоему, их нганон не вредоносен по своей сути, а… избирателен?»
«Так и есть».
«Но мы с ней подруги. Я ведь ее отравлю, если в ней нет моей субстанции!»
«Именно так».
«Мыслимо ли такое противоречие Закону? Сам Закон гласит: „Нганон притягивает себе подобное“. Значит ли это, что я притянула совсем другую субстанцию, и если да, то скажи: почему?»
«Очевидно, в наказание, — отозвался Лактамеон. — Бывает, что мы насылаем проклятие на других в наказание самим себе».
Дебора перевела глаза от бога к Карле, у которой все еще текли слезы. Видимо, Обман частично заключается в том, что ты лишь притворяешься, будто знаешь код, но после долгих, мучительных лет, когда до ключа уже рукой подать, последняя ступенька рушится, и опять тебя встречают только хаос, анархия и гогот.
«Мы с нею дружили! — кричала Дебора вслед удаляющимся богам. — По ней было незаметно, что она пострадала…»
«У вас разные субстанции; нганоны ваши не схожи. Ты ее погубишь», — отвечали боги.
Когда Карла перестала плакать, Дебора телесно еще находилась в изголовье койки, но мыслями была уже далеко.
По какой-то непостижимой причине к Деборе прикипела одна из практиканток. Деловито, с беспричинной, докучливо веселой преданностью эта девушка — расплывчатое белое пятно на сером фоне и невнятный голос — следовала за Деборой как привязанная, когда та появлялась «на людях».
«Болезнь твоя серьезней, чем тебе кажется, — сказала себе Дебора по-ирски. — Земляне обычно выбирают самых никчемных и бросают их Богу. На тебе, Боже, что нам негоже. И такие вот Деборы — что обглоданные косточки. А посему отныне будет мне имя: Косточка».
На ирском получилось очень смешно, и она расхохоталась вслух, но тут же сделала символический ирский жест руками, изображая при этом беззвучный, как того требовал Ир, смешок.
«Кто тут у нас веселится?» — откликнулся на ее шутку Антеррабей.
«Косточка Божья, кто ж еще? — ответила она, и они вместе хохотали до тех пор, пока у нее внутри не утихли земные муки. — Что с нею, блаженной, станется, когда Бог учует такое подношение!» Они еще посмеялись.
«То-то удивится перепотевшая студенточка, замахнувшаяся на Небеса!» И опять смех, но сменился он грустью, потому что Дебора не чувствовала в себе сил попросить практикантку, чтобы та больше не ходила за ней по пятам и не донимала нравоучительными шумами.
Весна была в полном разгаре, и Дебора, которая раз за разом открывала Фуриайе секреты, страхи, пароли для перехода из одного своего мира в другой, делала это лишь для того, чтобы ускорить свою капитуляцию перед вездесущим обманом, неминуемым, как Судный день или полет Антеррабея в нижние пределы. Ее не покидало бодрящее чувство отстраненности от мира, и какое-то время она даже репетировала роль в драме судьбы, оттачивая высокое искусство элегантного изображения смерти.
Фуриайя всплеснула руками:
— Да ты не только больная, господи прости, ты еще дитя малое!
— И что из этого?
— Да то, что помочь тут нечем — ты еще не наигралась, так что актерствуй и делай то, чего душа требует. Прошу только об одном: дай мне возможность разглядеть, где заканчивается болезнь, против которой брошены все наши силы, и начинается детство — верный признак того, что ты стопроцентно земная девушка и будущая женщина. — Пристально вглядевшись в Дебору, она улыбнулась. — Подчас наша с тобой работа становится такой напряженной — нужно разобраться и с секретами, и с симптомами, и с призраками прошлого, — что невольно забываешь, насколько сухой и бессмысленной может выглядеть вся эта терапия до той поры, пока больному не откроется реальность мира.
Дебора взглянула на захламленный письменный стол. Зачастую вид его приносил ей облегчение; сейчас перед ней оказалось бесформенное старое пресс-папье, на котором глаза и ум отдыхали после трудного многочасового сеанса. Дебора остановила на нем взгляд: хоть и знакомое, оно не могло ей навредить. Фуриайя проследила за ее взглядом.
— Знаешь, из чего оно сделано?
— Из агата?
— Нет, не из агата. Это редкий вид окаменелого дерева, — объяснила Фуриайя. — Когда я окончила, как у вас говорят, среднюю школу, отец повез меня в Карлсбад. Там изготавливают в высшей степени причудливые изделия из камня и разных горных пород, а эту вещицу я купила в тамошней сувенирной лавке.
Фуриайя впервые обмолвилась о прошлом и о своей личной жизни. В свое время, когда между ними только-только зарождалась доверительность и Дебора начала борьбу за свой рассудок, вынуждая себя оставаться танкуту (открытой) под натиском испытующих вопросов, Фуриайя в конце сеанса поднялась с кресла, отломила прекрасную длинную веточку от распустившегося на подоконнике цикламена и сказала:
— Как правило, я не обламываю цветы, но этот ты заслужила. Кстати, подарков я тоже не дарю, так что пользуйся.
За принятие в дар земных цветов Ир послал ей два жестоких наказания; от второго она оправилась лишь через несколько дней — к тому времени дивный цветок увял и засох. Теперь Фуриайя вручала ей следующий подарок: крошечную частицу себя. По деликатности эта памятка не могла сравниться с краткой передышкой от испытующих вопросов или от невысказанного требования «соберись»; Фуриайя подразумевала: «Доверяю тебе одно из моих воспоминаний, как ты доверяешь мне свои». От этого она, даром что не вышла из детства, вторично почувствовала, что ее признали равной.
— Интересная была поездка? — спросила Дебора.
— Не то чтобы очень интересная, но я «проветрилась», как говорит нынешняя молодежь. Я почувствовала, что выросла, да к тому же мне выпала честь поехать туда с отцом, окунуться вместе с ним во взрослый мир. — Ее лицо озарилось светом того давнего счастья. — Ну что ж! — Финальным жестом она положила руки на колени. — Обратно на каторгу, да?
— Да, — кивнула Дебора и приготовилась закрыться в себе.
— Нет, постой. Еще кое-что. Хочу предупредить заранее, чтобы ты свыклась с этой мыслью. В начале лета я приглашена в Цюрих, на конференцию. Затем у меня начнется отпуск, а дальше нужно будет поучаствовать в симпозиуме, чтобы завершить одну научную работу, которую более откладывать невозможно.
— Это надолго?
— Уезжаю двадцать шестого июня, возвращаюсь восемнадцатого сентября. Я договорилась, чтобы на время моего отсутствия для бесед с тобой была организована замена.
В ходе следующих сеансов Фуриайя рассказала о профессионализме своего коллеги, о возможных обидах в связи с кажущимся отторжением, о том, что этот новый врач не станет копать слишком глубоко, но, по крайней мере, станет представлять земной мир в борьбе Деборы против ее цензоров, синклитов и прочих сил Ира. Все это прозвучало бойко и уверенно, однако Дебора узрела здесь свершившийся факт, смазку для извечной дыбы, на которой ломаются хребты.
— Мне тут многие врачи знакомы, — задумчиво произнесла Дебора. — Крейг, например, затем Адамс — у нее Сильвия лечится. Эту я видела в деле, она мне понравилась. Однажды я разговорилась с Фьорентини, когда его среди ночи вызвали, но самый лучший все-таки Халле. Он рассказывает, что виделся с моими родителями, когда меня сюда оформляли. С ним я тоже поговорила, ему можно доверять…
— Они работают с полной нагрузкой, — перебила Фуриайя. — Тобой займется доктор Ройсон.
Механизм был смазан, дыба стояла наготове. Согласие Деборы было пустой формальностью.
— Мой третий рельс, — сказала она.
— Что это значит?
— Вольный перевод одного ирского слова: «Повинуюсь».
Глава девятнадцатая
Стараясь уладить все вопросы до отъезда Фуриайи, Дебора торопилась. Ей пошли навстречу, когда она попросила о переводе на второе отделение: тоже закрытого типа, но не для буйных. Здесь разрешалось пользоваться бумагой и карандашом, читать и оставаться в одиночестве, только вот атмосфера после оголтелости четвертого отделения была как в гробнице. Пациенты, знавшие, откуда перевели Дебору, опасливо косились в ее сторону, но с несколькими она все же общалась, а еще на втором отделении работали хоть какие-то добрые медсестры, которые напоминали ей о Макферсоне, называя в разговорах его имя. Терапевтические часы проходили в отчаянной спешке, вызванной предстоящей командировкой Фуриайи, и, даже если результаты этих сеансов оказывались не слишком впечатляющими, они, по крайней мере, достигались честным и упорным трудом.
— Передаю тебя в надежные руки, — сказала Фуриайя в свой последний рабочий день. — С заведующим «двойкой» ты хорошо знакома, а обратиться всегда можешь к доктору Ройсону. Надеюсь, лето пройдет удачно и плодотворно.
Законы Ира тесно переплетались с земными, а потому Дебора понимала: Фуриайя уходит навсегда. В свое время, когда Карла впервые вышла за пределы четвертого отделения, Деборе пришлось вырвать из своего сердца любовь и память; точно так же предстояло ей забыть и Фуриайю, словно той никогда не было и уже не будет. Пройдя мимо тихих и боязливых пациенток в холле второго отделения, Дебора отправилась знакомиться с Новичком.
Доктора Ройсона, чопорно восседавшего в кресле, удалось найти в одном из кабинетов административного этажа.
— Заходи, присаживайся, — сказал он; Дебора села. — Я много слышал о тебе от твоего лечащего врача, — начал он.
Дебора попыталась придумать ответ, но вместо этого поймала себя на мысли: «Сидит, будто кол проглотил… Но я дала ей слово. Пообещала, что и с этим буду стараться изо всех сил…»
— Понятно, — ответила она.
Дружелюбием доктор Ройсон не отличался. Поэтому Дебора решила зайти с другого бока.
— Вы ведь родом из Англии?
— Да.
— Мне нравится ваш акцент, — сказала она.
— Угу.
«Будто клещами вырываешь!» — с легким презрением проворчал Антеррабей.
После короткой паузы доктор Ройсон возобновил разговор:
— Скажи, о чем ты сейчас подумала? — В его голосе звучала требовательность.
— О вырывании зубов.
— И что же ты подумала о вырывании зубов? — поинтересовался он все тем же тоном.
— Иногда оно обходится дороже, чем ожидалось, — ответила Дебора, но тут же одернула себя, чтобы начать заново. — Да и новокаина у меня больше нет — его забрала с собой Фуриайя.
— Кто-кто? Кто его забрал? — Неожиданно доктор Ройсон ухватился за это имя, как за подарок.
— Доктор… доктор Фрид.
— Ты назвала ее как-то иначе… как там? — все тот же требовательный тон, резкий, как удар секачом.
— Да это всего лишь прозвище.
— А-а-а, секретный язык.
Врач откинулся на спинку кресла. У Деборы, как ей показалось, не было причин для беспокойства. Секретный язык упоминался в журнале, на девяносто седьмой странице. Так что все в порядке.
— Доктор Фрид рассказывала о твоем секретном языке.
«Отыграй назад!» — Антеррабей был тут как тут. Он употребил поэтичное ирское выражение, в котором Дебора, совершенно подавленная, узрела неожиданную красоту, тэ куару:
«Уподобься морю в часы отлива, но чтобы песок сверкнул лишь на миг».
«Но я ведь ей пообещала!» — воспротивилась Дебора в темных недрах падающему огненному богу.
«Да она умерла», — вмешался Лактамеон, стоя по другую руку от Деборы.
— Скажи что-нибудь на этом языке, — настаивал голос извне.
— Куару, — рассеянно повторила она.
— Что это значит?
— Вы о чем?
Только сейчас Дебора вгляделась в недобрые, хмурые черты доктора Ройсона, который всем своим видом показывал осуждение. Даже в его позе сквозила суровость.
— Что означает слово, которое ты произнесла? Как его понимать?
— Куару… — повторила Дебора.
Растревоженная этим противоборством, она слышала, как ее голос возражает вместо нее богам: «Я же дала обещание…»
— Оно означает… как бы это объяснить… ну, «волнообразный» и предполагает нечто, связанное с морем, например прохладу или мягкое шуршание. Вроде как «уподобившийся волне».
— Почему же не сказать попросту: «волнистый»? — спросил врач.
Дебору прошиб пот от угрызений совести и близкого Возмездия.
— Как вам сказать… Оно действительно описывает нечто волнистое, но, помимо всего прочего, вызывает ассоциации с морем и от этого звучит очень красиво.
— Понятно, — ответил он.
Но она видела, что ему непонятно.
— Так можно описать дуновение ветра, или нарядные, летящие платья, или развевающиеся волосы, или… или когда кто-то уезжает.
— То есть еще и отъезд?
— Нет… для этого есть другое слово, — ответила Дебора.
— Какое? — В голосе доктора звучала требовательность.
— Зависит от того, намерен ли человек вернуться… — жалобно произнесла она.
— Интересно, — сказал он.
— Есть еще поговорка. — (Она придумала ее на месте, пытаясь спасти себя и богов.) — Не чикай челку секачом.
— «Секачом»?
Вероятно, он узрел здесь американизм. Дебора переиначила:
— Не делай трепанацию черепа топором.
— И какой, по-твоему, в этом смысл?
Доктор, как видно, запамятовал, что, умей Дебора выражать смысл в своих разговорах с внешним миром, она бы не попала в психиатрическую клинику.
— В переводе смысл пострадал и умер, — ответила она.
Повисло долгое молчание, и, хотя Дебора еще битый час, а потом еще и еще не оставляла стараний, его унылые, автоматические ответы, подобно мраку ночи, влекли за собой тишину. Врач всеми силами пытался ее убедить, что ирский язык — это ее выдумка, а отнюдь не божественный дар. Записав первые услышанные от нее слова, он указал, что их корни — не более чем обрывки латыни, французского и немецкого, которых при желании мог бы нахвататься любой ребенок лет девяти или десяти. Вслед за тем доктор проанализировал структуру фраз и потребовал, чтобы Дебора признала их сходство (за небольшими исключениями) со стандартными, неизбежными конструкциями английского языка. Его разбор оказался столь логичным и подробным, а местами даже блестящим, что она несколько раз вынуждена была согласиться, но чем дальше он углублялся в теорию, тем плотнее Дебору окутывало молчание. Ей было не пробиться сквозь его докторскую суровость и холодную логику доказательств, не объяснить, что его скальпели — это вторжения в ее мозг, подобные тем, которые в прошлом вытворяли медики с ее телом, а самое главное, что его доказательства — просто ни пришей ни пристегни. В конце концов, собрав в кулак всю свою волю и стараясь изъясняться предельно четко, Дебора сказала:
— Доктор, мои симптомы не равносильны моему заболеванию.
Это был последний крик души, но его не услышали. Теперь, когда Фуриайя умерла и тепло земного лета пришло в противоречие с временами года Деборы, в которых солнце серым пятном брезжило на фоне пустой вселенной, немота стала единственным прибежищем. Дебора ни на что не реагировала и сделалась безжизненной, как луна. С течением времени она перестала даже двигаться и, словно изваяние, сидела на койке. Изредка откуда-то изнутри к ней пробивался Ир, чтобы предложить другие возможности, и она летала вместе с Антеррабеем по горячим ветрам его падения или на миг воспаряла в восходящих воздушных потоках над ирскими Каньонами Скорби, но такие случаи выдавались очень редко и требовали непрерывных ритуальных колоколов. Даже Ир казался теперь далеким и непостижимым.
Новому доктору она дала прозвище Зуб Гремучника, подразумевая, что в засушливый летний зной можно услышать стук змеиной погремушки — бессмысленный, но зловещий; об этом она и думала всякий раз, когда часами сидела перед врачом, застывшая и бессловесная. Дни тянулись вяло, и под неподвижной маской ее лица постепенно зарождался вулкан, а в его каменном чреве бурлили голоса и противоголоса, неприязни, голодные спазмы и долгие ужасы. Их жар ширился и нарастал.
Как-то раз к ней явился Идат-Лицедей в женском обличье. В таких случаях он всегда носил вуаль, но красота все равно была заметна. При каждой встрече эта кокетка напоминала своей властительнице и жертве, насколько та хороша собой, и добавляла: мол, настанет время, когда она, Дебора, еще будет жалеть, что не родилась дурнушкой. На сей раз Идат пришел в белом и вуаль опустил не до конца.
«Страдай, Идат. Почему щеголяешь в белом?»
«Саван и подвенечный наряд, — был ответ Лицедея. — Два облачения в одном. Внимай! Умирая, ты еще живешь, а живя, умираешь; сдаваясь, сражаешься, а сражаясь, сдаешься, так? Мой путь открывает все противоположности одновременно, указывает одни и те же средства для достижения противоположных целей».
«Я знаю тебя от вуали и до наружности, Идат», — отвечала Дебора.
«То есть люди раздувают встречный пожар, чтобы воспламенить и одновременно погасить другой».
«И с камнем так же?»
«При моем содействии», — ответил Идат.
Дебора поняла это так, что ожогами она может раздуть встречный пожар, который погасит полыхающую топку вулкана, чьи двери и ходы закрыты наглухо, да еще забаррикадированы. И с помощью тех же самых ожогов можно разобраться, действительно ли она сделана из человеческой плоти. Органы чувств ответа не давали: зрение показывало одну лишь серую кляксу, слух доносил только приглушенные стоны и рев, осязание тоже притупилось. Во втором отделении никто не вел учет спичек, а зрению, избавленному от серой кляксы, всегда открывалось то, чего желал для нее Ир. Вскоре у нее уже были и спички, и — главное — запас окурков, подобранных в самых разных местах. Она запалила сразу пять и принялась сжигать свою поверхность. Но вулкан за каменным лицом и телом только разгорался. Запалив те же окурки еще раз, Дебора стала неторопливо и целенаправленно прижимать их к внутреннему сгибу локтя. Вместе с запахом горелого мяса прорезалась слабая чувствительность, но вулкан не утихал. Выходит, чтобы развести встречный пожар, требуется возгорание?
Через некоторое время к ней зашла медсестра с каким-то сообщением. То ли учуяв запах горелого мяса, то ли еще по какой-то причине она не смогла вспомнить, зачем пришла, и убежала; вскоре явился врач, и Дебора из-за своей маски с облегчением распознала портретное изображение доктора Халле. То, что где-то в другом месте сейчас лето и что портретное изображение на самом деле — человеческое существо, она приняла на веру, как принимаются те факты, которые настолько далеки, что о них даже не спорят, — величина земной окружности в милях или статистическое варьирование световых волн.
— Как ты понимаешь встречный костер? — спрашивал врач.
— Он создает видимость необходимого, — ответила представительница вулкана.
— Где?
— На поверхности.
— Дай мне посмотреть. — Просьба была осторожной, но без осуждения и лицемерия.
Рукав уже присох к месту ожога, но она отодрала трикотаж, не дожидаясь, когда доктор из вежливости воскликнет: «Так нельзя!» — инстинктивно содрогнется и выбросит вперед руку, думая, что Дебора сделана из плоти и крови.
После осмотра он — как ей показалось, с грустью — сказал:
— Наверное, лучше будет перевести тебя в четвертое отделение.
— Как хотите.
— Пойми… — и с намеком на благородство, — там ты будешь моей пациенткой. Я только что вступил в должность заведующего четвертым отделением.
Дебора ответила ирским жестом повиновения, едва заметно шевельнув рукой в сторону и вверх; это подразумевало, что вне зависимости от мрака ей, по крайней мере, там будет безопаснее, потому как с Халле можно разговаривать и он никогда не отвечает «номером три с ухмылкой». В свойственной ему несуетной манере, с достоинством, врач препроводил ее в четвертое отделение. Когда они прошли через запертые на два замка двери, из Ира донеслось:
«Погляди на него. Видишь? Чует, что себя обезопасил».
«Бедняга», — ответила Дебора.
— Натворила же ты дел, — заметил доктор Халле, осмотрев ее ожоги. — Придется чистить, а это болезненно.
Один из интернов, довольный возращением к своей основной профессии, стоял рядом, держа внушительный лоток с медицинским металлом. Доктор Халле принялся удалять засохшие струпья. От движения его инструментов возникало непривычное ощущение, но боли не было. За его заботу и уделенное ей время Дебора решила сделать ему подарок. Она вспомнила Фуриайю и подаренный цикламен.
«Она же умерла», — заметил Антеррабей.
«Но цветок — хороший подарок», — шепнул Лактамеон.
«У меня нет ничего осязаемого».
«Фуриайя оставила тебе в подарок воспоминания», — сказал Лактамеон.
Лактамеону достались ирские слова признательности:
«Да будет ногам твоим тепло, а разуму светло».
И Дебора надумала отблагодарить доктора каким-нибудь правдивым рассказом. Вот хотя бы таким, насчет зрения: даже когда различаешь все контуры, плоскости и оттенки, зрелище это никчемно, ибо слепота не проходит, если сам предмет лишен смысла; а единственный смысл — это, вероятно, славное Третье Измерение, тот дар, что превращает набор плоскостей в коробку, или в мадонну, или в доктора Халле с пузырьком антисептического раствора в руке.
— Я провожу обработку максимально щадящим способом, — сказал врач.
Дебора взглянула на него в упор, чтобы понять, не пытается ли он взвалить на нее бремя благодарности. Но нет. Ей даже подумалось, что на него не действует ее тлетворный нганон. И тогда она приняла окончательное решение: подарком ее будет заверение в том, что врач может прикасаться к ней без риска погибнуть.
— Не волнуйтесь, — великодушно произнесла Дебора, — время соприкосновения настолько ограниченно, что заразиться невозможно.
— От заражения предохраняет вот это, — сказал он, промывая раны марлевым тампоном.
Когда доктор накладывал повязку, Дебора поняла, что он так и остался в неведении, а потому решила открыть ему важность третьего измерения видимого. Получилось отрывисто:
— Зрение — это не все!
— Да, наверное, — сказал он, завершая перевязку. А потом, как будто поняв что-то задним числом, спросил: — Тебя зрение подводит?
— Пожалуй… — Дебора смутилась от внезапности этой истины, — от огорчения… иногда в глазах мутится.
«Неужто? Интересное дело», — язвительно бросили Избранные.
«Умолкните! Из-за вас я не слышу своих мыслей!» — прикрикнула на них Дебора.
— Что-что? — обернулся к ней доктор Халле.
Ее слова, направленные в Ир, пробились сквозь преграду земного слуха. Ропот Синклита нарастал, пока не превратился в рев; серое видение сменилось красным. Без предупреждения нахлынуло полное Возмездие, как от руки палача, и заступничество света, пространства, времени, притяжения и всех пяти чувств оказалось бессмысленным. Жара замерзла, свет метнул твердые, колющие лучи. Дебора уже не понимала, где находится ее тело; верх и низ перестали существовать, не было ни места, ни расстояния, ни цепочек причины и следствия…
За пределами времени, за чертой изнеможения она терпела, а затем угодила в дневной свет этого мира, в ледяные простыни, под взгляд незнакомого доктора.
— Добрый день.
— Добрый день.
— Как ты себя чувствуешь?
— Не знаю. Долго я… — Тут она осеклась: ведь он не знал, когда это началось. — Давно я здесь?
— Да так, трое-четверо суток.
Пальцы ломило, болели руки и плечи. Ее охватил ужас.
— Я кого-нибудь ударила? Ранила?
— Нет. — Он слегка улыбнулся. — Но вот окна и двери изрядно попортила.
От стыда и отвращения она было отвернулась, но внезапный спазм в шее спровоцировал кашель, и ей пришлось снова повернуться к доктору лицом, чтобы снять судорогу.
— Я вас не знаю. Зачем вы пришли?
— Сегодня мое дежурство. Заглянул посмотреть, все ли у тебя в порядке.
— Боже! — воскликнула она в изумлении. — Не иначе как я камня на камне от палаты не оставила. Врача ведь зовут только в тех случаях, когда на отделении суицид.
Он рассмеялся:
— Ну, на меня эти порядки не распространяются; я здесь человек новый. Ты сможешь выйти? Готова?
— Не уверена, — ответила она.
— Тогда дадим тебе еще полчаса. Больно не будет, не волнуйся. По большому счету дело просто в напряжении. Что ж, до скорого.
Она слышала, как он возится с ключом в замке; почему-то ее тронула такая неуклюжесть.
Вернувшись на свою прежнюю койку в первой палате четвертого отделения, ту самую, где лежала до перевода, Дебора поняла, что со всех сторон окружена безысходностью. Одни больные сменялись другими, и в результате перемещений Супруга Отрекшегося теперь занимала койку через две от нее, а сама Дебора оказалась между Мэри, пациенткой Фьорентини, и Сильвией, по-прежнему безмолвной и отрешенной.
Изнуренная Возмездием, Дебора лежа наблюдала, как удлиняются тени, погружая мир в предвечерние сумерки.
На соседней койке отдыхала Мэри. Немного погодя она весело сказала:
— Вот уж не подозревала, что ты на такое способна. Здорово дерешься!
— Ни с кем я не дралась, — возразила Дебора, чувствуя легкую дурноту от одного упоминания о том происшествии, и засомневалась: уж не обманул ли ее «новый» молодой врач?
— Но задатки у тебя имеются, задатки определенно имеются! — Смех Мэри прозвучал, как звон бьющегося стекла: она будто изображала веселье — нечто, совершенно ей незнакомое. — Ты, конечно, того, чокнутая: сама не ведала, что творишь. — Она вновь перешла на непринужденный тон, как актриса в салонной комедии.
— Да, все так, — тихо ответила Дебора, — только непонятно, почему я выкарабкалась… почему все прекратилось…
— Каждая больная вроде тебя должна понять, что в этом аду, — тут Мэри затряслась от взрывов пронзительного, визгливого смеха, — человеку отпускается ровно столько, сколько он может вынести. Как физическая боль… хи-хи… до поры до времени ее ощущаешь, а потом раз — и все!
— Вы имеете в виду, что этому есть предел?
— Ну, больше было бы неприлично, душа моя, просто неприлично! — И звонкий молодой смех вновь перешел в пронзительный, леденящий душу хохот.
Дебора задумалась, права ли Мэри, есть ли в самом деле предел у этого кошмара, не знающего законов. Смеркалось; в палате стемнело. Наверно, и в аду есть милосердие. Зрение прояснилось, и от размытых очертаний коек, стен и тел спящих покойниц теперь исходило тусклое свечение, как в летние сумерки. Зажегся верхний свет, и в этот миг Дебору осенило: Мэри, несмотря на мучения и на жутковатый смех, протянула ей руку помощи, пусть только чтобы сказать, что страданию есть предел. Даже язвительные люди способны, если только соберутся с мужеством и силами, поддерживать друг друга. Это сделала Карла, сделала Элен, сделала Сильвия, уже превратившись в безжизненный манекен, а теперь и Мэри поделилась с ней частичкой житейской мудрости.
Вспоминая сцену первого знакомства с Мэри, Дебора посмеялась. В тот раз она сказала:
— Я Дебора. — И указала на свою койку. — Вот тут лежу.
И Мэри с характерной натянутой улыбкой ответила:
— А я вообще не лежу — я кутерьма, как из диснеевских мультиков.
Вечером, не в силах бороться с непреодолимым желанием, Дебора отправилась бродить по отделению, ища, чем бы себя прижечь.
Глава двадцатая
Только ожоги помогали ей выпустить пар из вулкана, который она душила в груди. Снова и снова Дебора прижигала себе одни и те же места; шрамы наслаивались один на другой. Недостатка в окурках и спичках не было, хотя с пациентов, как считалось, не спускали глаз. Но даже строжайшие меры безопасности, принятые в четвертом отделении, не шли в сравнение с неодолимостью позыва. Одного ожога хватало самое большее на час, а противиться крепнущему побуждению удавалось от силы часа три-четыре, поэтому спички и недокуренные сигареты приходилось запасать впрок.
Какое-то время раны удавалось скрывать; когда они начинали гноиться, для следующего ожога приходилось выбирать новое место. Дебору забавляла, но ничуть не удивляла слепота медсестер и санитаров. Гнойные раны источали зловоние, а персонал никак не реагировал. «На самом деле нас просто не хотят замечать, вот и все», — думала она.
Перед выходными опять появился новый заведующий отделением.
— Выглядишь намного лучше, — сказал он, остановившись в комнате отдыха рядом с Деборой.
— Еще бы, — ответила она с некоторым раздражением. — Я же стараюсь, из кожи вон лезу.
— Что ж, если положительная тенденция сохранится, можно будет перевести тебя во второе отделение.
Услышав эти слова, она сообразила, что перевод на «двойку» — где можно скрыться от посторонних глаз, где доступ к спичкам неограничен — станет идеальным шансом найти желанную, как ей думалось, смерть. Поначалу разозлившись, она сама удивилась: с чего бы? Если ей дают возможность умереть, как она того хочет, на что тут злиться?
— У меня опять появились ожоги, — небрежно сказала она.
Врач, судя по его виду, не поверил своим ушам, но быстро опомнился и произнес:
— Хорошо, что ты сказала.
Дебора принялась теребить на себе джемпер, как при ручной стирке. «Если я хочу умереть, то зачем же пытаюсь себя обезопасить?» — молча вопрошала она, все еще негодуя от мысли, что во втором отделении ей удастся себя сжечь.
«Струсила — вот и сказала!» — изрек Синклит. И вновь завел обычные издевки.
— А что со старой раной? — спросил врач, ослабляя повязку.
Ответа не потребовалось: невооруженным глазом было видно, что рана упорно отказывается заживать.
— Ты больше ничего с ней не делала? — укоризненно спросил врач, опасаясь перейти установленные границы.
— Нет, — выдавила она.
— Попробуем другой вид повязок. Покажи, где новый ожог. — Врач осмотрел другую руку. — Сколько раз ты прижигала это место?
— Раз восемь.
Наложив две повязки, он вышел — как пить дать, чтобы отчитать сестер за недосмотр и за небрежность в хранении огнеопасных материалов. А дымящаяся сигарета, забытая им в комнате отдыха, сулила две серии ожогов.
Когда администрация «четверки» обнаружила, что больные не так сохранны, как считалось, на отделении были приняты всесторонние меры, еще более увеличившие разрыв между начальством и пациентами. Годом ранее на «четверке» разрешили пользоваться вилками; теперь запрет ввели заново. Металлический Век сменился Веком Деревянным, а огонь уцелел только в пределах сестринской, где царила новая эра. Когда плейстоцен остался позади, питекантроп, даром что прямоходящий, начал шаркать и бессвязно бормотать, есть руками и мочиться под себя.
— Ну, спасибо тебе, детка, — желчно проговорила Ли Миллер, проходя мимо Деборы к освещенному пятачку, где больные получали у Современного Человека символы статуса: сигареты и спички.
— Иди к черту, — ответила Дебора, но без твердости в голосе.
Впоследствии Супруга Отрекшегося обвинила ее в шпионаже и сговоре с министром внутренних дел, который, как уже знала Дебора, входил в число главных Врагов.
Разживаться спичками и окурками стало трудно, но не совсем невозможно. Современный Человек небрежно обращался с тлеющими цилиндриками, которыми дышал, а рядом караулил жадный до огонька первобытный собрат, чей серый, плоский мир, как по волшебству, сосредоточился на сигарете и высветил ее цвет, запах и — в трех измерениях — форму.
Но встречный огонь, направляемый против вулкана, не мог изменить его поверхности — его гранитного одеяния, как выражался Антеррабей. И боги, и Избранные, и Цензор были вольны без всяких объяснений назначать Возмездие. Даже от логики Ира, похоже, не оставалось камня на камне, когда законы поворачивались вспять. Дебора постепенно убеждалась, что вулкан вскипит лавой и взорвется. Последний Обман еще не свершился — она это помнила.
Дни давно уже приняли земной вид, который был лишь оборотом речи. В какой-то из этих дней Дебора проснулась и обнаружила, что закована в «ледяной мешок», как нередко случалось и прежде. В замочной скважине повернулся ключ, и вошла сестра. У нее за спиной, совершенно неузнаваемая, потому что ни на йоту не изменившаяся, стояла Фуриайя.
— Все понятно, — сказала она и вошла.
Сестра принесла ей стул, и Деборе захотелось спрятаться от докторского лица и от читавшегося на нем крайнего неодобрения.
Оглядевшись и сев у койки, Фуриайя с каким-то трепетом покивала:
— О господи!
— Вы вернулись, — выдавила Дебора. Ее ненависть к себе, ужас, стыд, жалость, тщеславие и отчаяние ни тенью не отразились на каменной маске. — Хорошо отдохнули?
— Господи! — повторила Фуриайя. — Что стряслось? Перед отъездом я оставила тебя в очень хорошей форме, а теперь ты снова здесь… — Она еще раз огляделась.
Видя Фуриайю живой, Дебора даже устрашилась своей радости. Она сказала:
— Вы же не впервые наблюдаете такую… жуть. Что вас так поражает?
— Не впервые, это верно. Просто мне очень прискорбно видеть в таком состоянии, да еще в муках, не кого-нибудь, а именно тебя.
Дебора зажмурилась. Сгорая от позора, она хотела провалиться в Жерло, где темно и пусто, но Фуриайя вернулась, и от нее было не спрятаться. Рассудок застопорился.
— Я думала, вы не вернетесь.
— Вернулась день в день, как обещала, — ответила Фуриайя.
— Разве?
— Конечно, и сдается мне, ты намеренно ввергла себя в такое неприглядное состояние, чтобы дать мне понять, насколько тебя разозлил мой отъезд.
— Неправда… — начала Дебора. — С Ройсоном я тоже старалась… честное слово, но вы же умерли… то есть я так подумала… а ему только и нужно было — доказать, что он всегда прав и вообще самый умный. Я забыла, что вы должны вернуться…
Ее опять затрясло, невзирая на полное изнеможение.
— Я вся закупорена и закрыта… как до поступления сюда… только вулкан разгорается все сильней и сильней, а поверхность даже не знает, жива она или нет!
Врач придвинулась ближе.
— Сейчас как раз тот случай, — размеренно произнесла она, — когда самое важное — то, что ты говоришь.
Дебора вдавила затылок в койку:
— Я в них даже разобраться не могу… в словах.
— Тогда будем разбираться вместе.
— А у вас достаточно сил?
— У нас обеих достаточно сил.
Дебора набрала побольше воздуха.
— Я отравляю все вокруг, и это мне ненавистно. Скоро я сгину от стыда и вырождения, и это мне ненавистно. Я ненавижу и себя, и обманщиков. Ненавижу свою жизнь и свою смерть. На мою правду мир отвечает только ложью. Лучше бы я услышала: «Опомнись, хватит придуриваться» — это мне твердили не один год, когда на поверхности я всем доставляла одно расстройство, а в дальних пределах Ира, и себя, и внутри себя, и внутри вражеского солдата обманывала близких. Будь я проклята! Будь я проклята!
За выкриком последовал не то скрип, не то дребезжащий вдох — это Дебора пыталась заплакать, но звук этот оказался столь нелепым и отталкивающим, что она вскоре умолкла.
— После моего ухода, — сказала Фуриайя, — ты, видимо, сможешь научиться плакать. А пока вот что я тебе скажу: измерь свою ненависть и свой стыд. Разница будет определять твою способность любить, радоваться и сочувствовать. Итак, увидимся завтра.
Она вышла.
Вечером к Деборе подошла мисс Корал с какой-то книгой в руках.
— Посмотри, — застенчиво сказала она, — это принес мой лечащий врач. Сборник пьес. Быть может, тебе захочется почитать вместе со мной.
Дебора поискала глазами Элен — та сидела, привалившись к стене. Поступи такое предложение от Элен, книга была бы отправлена Деборе пинком, да еще, скорее всего, с издевкой. Сыщутся ли, даже в земном мире, двое людей, говорящих на одном языке?
Отвечая, Дебора поймала себя на том, что подражает не только продуманным оборотам речи мисс Корал, но и ее застенчивости.
— Выбор за тобой — какую пьесу ты предпочитаешь? — спросила мисс Корал.
Они начали читать «Как важно быть серьезным»: Дебора озвучивала почти все мужские роли, а мисс Корал — большей частью женские. Вскоре к чтению присоединились Ли, Элен и Мэри, пациентка доктора Фьорентини. Все актрисы пародировали сами себя: получалось очень смешно. Мэри с хохотом и ужимками изображала Эрнеста высокородным психом, а от мисс Корал в роли Гвендолен так и веяло магнолиями и паутиной.
Изящная салонная комедия Оскара Уайльда исполнялась в декорациях адского полотна Иеронима Босха. По завершении первой пьесы они тут же взялись за следующую, краем глаза наблюдая, как смеются — над ними и заодно с ними — санитары, а сами думали, что, невзирая на общий переполох, вечер удался и каким-то чудом не вписался в их проклятье.
Эстер Блау, выслушав доктора Фрид, проглотила язык. Через некоторое время она сумела прочистить горло.
— Я правильно вас поняла?
— Думаю, да, но прежде всего…
— Почему! Почему?
— Это мы как раз и пытаемся выяснить — почему.
— Хорошо бы это выяснить до того, как она себя сожжет!
Эстер прочла выписку — обтекаемую, составленную в самых общих выражениях, но отчего-то насторожилась и вновь, мучаясь опасениями, приехала к дочери. Как и в прошлый раз, ее предупреждали, что это нецелесообразно; она потребовала встречи с доктором Халле и у него в кабинете выслушала факты, которые невозможно было замаскировать или смягчить никакими словами. Теперь она, злая, испуганная, в полном отчаянии, сидела перед доктором Фрид.
— А что мне сказать ее отцу… под каким благовидным предлогом оставить девочку в клинике, где ей становится только хуже?!
Сквозь страх до нее доносились долгие, медленные слова доктора:
— По моему мнению, мы преувеличиваем эту историю с ожогами. В конце концов, это симптом заболевания, которое ни для кого из нас не является новостью и пока еще поддается лечению.
— Но это же… чудовищно.
— Вы имеете в виду телесный ущерб?
— Телесного ущерба я не видела… я имею в виду… саму эту затею. Как можно такое над собой совершить! Это же полное… — Эстер охнула и зажала рот ладонью; по щекам покатились слезы.
— Нет-нет, — возразила доктор Фрид, — вас пугает само слово. Старое, злое слово «безумие», которое в прошлом означало «безнадежно и навсегда» — именно это вас и мучит.
— Я никогда не говорила так о Дебби!
Фасад треснул, и то, что открылось за ним, не так уж плохо, подумала доктор Фрид, но еще не знала, как намекнуть на это посетительнице. Впрочем, это вряд ли послужило бы ей утешением. Опять зазвонил телефон; доктор Фрид ответила вполне дружелюбно, а когда обернулась, Эстер уже взяла себя в руки.
— Значит, вы считаете, что у нее все-таки есть шанс стать… нормальной?
— Я считаю, что у нее безусловно есть шанс стать психически здоровой и сильной. Хочу вам кое-что сказать, миссис Блау, но это не предназначено для ушей вашей дочери, а потому убедительно попрошу вас никогда ей этого не передавать. Меня постоянно засыпают просьбами взяться за лечение того или иного пациента. К тому же я руковожу стажировкой специалистов, которых присылает к нам факультет психиатрии; во время сессии далеко не все получают у меня аттестацию. С моей стороны было бы непозволительной роскошью тратить время на безнадежную больную. Я намерена заниматься ею ровно столько времени, сколько, с моей точки зрения, потребуется для ее пользы, и ни минутой дольше. Расскажите это своим домашним. И впредь ничего не скрывайте — такую правду вполне можно выдержать.
Доктор проводила мать своей больной до порога, надеясь, что смогла ее поддержать. В какой-нибудь другой области медицины, возможно, и практикуются легко слетающие с языка утешительные речи (плацебо распространено куда шире, чем готовы признать сами врачи), но против этого восставал весь груз ее жизни и профессиональной выучки. А кроме того, опыт показывал, что Эстер Блау только напугают слова, даже отдаленно напоминающие утешение; коль скоро ей придал сил нынешний разговор, она, в свою очередь, придаст сил и всему семейству.
Эстер переросла свое подчинение отцу — доктор Фрид это понимала. Сейчас перед ней была сильная, волевая, даже властная личность. Та мощь, которая пыталась одолеть всех врагов старшей дочери, что было только во вред Деборе, могла сейчас оказаться спасительной. Уверовав в действенность психотерапии, она выдержит натиск всей родни, лишь бы не прерывать курс лечения. Недуг Деборы не просто перетряхнул семейный фотоальбом. Кое-кто из близких невольно задался вопросом «почему?» и в силу этого сам немного вырос над собой. Если так, то это станет источником надежды, о котором нечасто прочтешь в статьях по психиатрии, — возможно, потому, что лежит он за рамками «научного» и не поддается планированию. За дверью науки, как некогда сказал доктору Фрид ее отец, поджидает ангел.
Выйдя из докторского флигеля в прохладу осеннего дня, Эстер посмотрела на высокое зарешеченное крыльцо, которое, по ее сведениям, вело в четвертое отделение. Что там творится? И что творится в умах запертых там больных? Она быстро отвернулась, потому что вид расплывался из-за внезапно подступивших слез.
В «четверке» сидящей на полу Деборе делали перевязку. У персонала вдруг пробудился к ней интерес: ожоги никак не заживали. Сестры рьяно взялись за дело, найдя для себя зримую возможность приложения медицинских знаний, и самозабвенно бегали с мазями, настойками, марлей и бинтами. Курильщицы по-прежнему точили на Дебору зуб, видя в ней причину нового ужесточения режима, и даже Ли, заядлая говорунья, только бросала в ее сторону презрительные взгляды. Пока сестры хлопотали над ожогами, Дебора изучала, как она сама выражалась, Живой Фриз из больных, сидевших или стоявших с пустыми лицами, на которых могло отразиться только великое изумление от того, что по жилам непрерывно течет кровь, а сердца, не ведающие страстей, бьются сами по себе.
Завершив перевязку непокорных ожогов, сестры на минуту вышли из коридора. Краем глаза Дебора заметила, что на стоявшую рядом и, как всегда, неподвижную Сильвию устремился пристальный взгляд Элен. В следующий миг Элен подскочила к Сильвии, чтобы нанести жестокий удар, а за ним следующий.
Сильвия и бровью не повела. От такой неудачи Элен взорвалась бешенством. Создавалось впечатление, что это дикое животное, бросающееся на утес. С развевающейся гривой она дралась, орала, царапалась, плевалась и багровела, Сильвия лишь медленно опустила веки. Руки бессильно висели вдоль туловища, которое, казалось, безропотно отдалось на откуп силам тяжести и инерции; весь ее вид говорил, что побои не имеют к ней ни малейшего отношения. Эту внезапную, стремительную выходку пресекли, как положено, шестеро санитаров в форме, которые волной цвета хаки с белыми бурунчиками уволокли Элен.
Теперь Дебора стояла метрах в трех от Сильвии. Каждая из них будто бы осталась одна на всей планете. Дебора вспомнила, как два года назад Элен бросилась на нее, чтобы уничтожить лицо, запечатлевшее нежелательные воспоминания. Тогда все завертелось вокруг Элен: врачи, сестры, санитары, механизмы отделения, ледяные простыни, изолятор, все-все, а Дебора так и осталась стоять в одиночестве, униженная настолько, что даже не смогла отгородиться. Точь-в-точь как застывшая истуканом Сильвия. Только вдохи и выдохи, больше похожие на храп, выдавали в ней живое существо. И одна лишь Дебора знала, почему Сильвии, не сумевшей себя защитить, требовалось никак не меньше внимания, чем уделили сейчас Элен.
Нужно подойти, положить руку ей на плечо, что-нибудь сказать, думала Дебора. Но не двигалась с места. Нужно подойти, ведь со мной было точно так же, и никто лучше меня не поймет, каково ей сейчас… Только ноги ее окаменели в тапках, а тапки отказывались шагнуть в сторону Сильвии, чьи руки по-прежнему бессильно свисали вдоль тела. Нужно подойти, в память о той темной ночи, когда она ради меня нарушила свое молчание… Нужно подойти… И Дебора попыталась высвободиться из гранитных одежд и окаменелости тапок. Она посмотрела на Сильвию, самую неприглядную из всех больных, с вечно слюнявым ртом, с бледно-восковым, обезображенным гримасой лицом, и поняла, что стоит только подойти к ней, чтобы дать то, что, как понимала только Дебора, требовалось именно сейчас, — и Сильвия, чего доброго, уничтожит ее одним своим молчанием. Всколыхнувшийся страх поборол желание действовать. А через пару минут возможность оказалась упущенной: с поля боя начали возвращаться те, кто скрутил Элен. Страх улегся; его место занял стыд. Он заволок лицо, и Дебора надолго ослепла, желая для себя только смерти.
Позже, стоя перед Фуриайей в ее кабинете, Дебора поведала ей о том, что видела и чего не сделала.
— Я никогда вас не обманывала! — прибавила Дебора. — Никогда не говорила, что во мне есть человеческое начало. Теперь можете меня вышвырнуть, потому что на мне лежит непростительная вина.
— Я здесь не для того, чтобы раздавать индульгенции, — сказала Фуриайя, глядя на Дебору из кресла и закуривая сигарету. — В реальном мире у тебя не будет недостатка в моральных проблемах и трудных решениях — никто не говорил, что тебя ждет сад из роз. Давай поблагодарим судьбу, которая позволила тебе прозреть, и пойдем вперед, к тому рубежу, когда ты сможешь совершать задуманное. А сейчас наша задача — досконально разобраться с корнями этих ожогов, которые ты причиняешь себе от злости на меня и на всю клинику.
Почти сразу Дебора поняла, что Фуриайя ошибается насчет прижиганий и ее потребности в них, а более всего — в их серьезности. При всей видимости жуткого помутнения рассудка Дебора чувствовала, что это впечатление обманчиво, как и тихие склоны ее вулкана.
— По-вашему, эти прижигания настолько серьезны? — спросила она.
— В высшей степени серьезны, да, — ответила Фуриайя.
— Это ошибка, — попросту ответила Дебора, надеясь, что доктор действительно верит своим постоянным фразам о том, что больной руководствуется собственными глубинными убеждениями.
Ожогов насчитывалось более сорока; они раз за разом появлялись в тех местах, где удавалось отковырнуть струпья от прежних, но все равно не стоили поднятой вокруг них суматохи.
— Не могу объяснить, но вы ошибаетесь, — добавила Дебора.
Она обвела взглядом загроможденный книгами кабинет. Для земного племени в окна лился солнечный свет, но ей было дано ощущать его тепло и золотое сияние только издалека. Ее окутывал темный, холодный воздух. Вот откуда проистекали муки — от этого вечного отчуждения, а вовсе не от ожогов.
— Хоть связывайте по рукам и ногам, — пробормотала Дебора, — я понесу наказание.
— Громче, пожалуйста, я тебя не слышу.
— Выборочное невнимание, — сказала Дебора и посмеялась над этими словами из области психиатрии, которая, в отличие от прекрасного, поэтичного Ира, не могла похвалиться ни легкими выражениями, ни тайным языком.
Фуриайя тоже это поняла и рассмеялась вместе с ней.
— Порой мне думается, что наш профессиональный вокабуляр заходит слишком далеко, однако мы же как-то общаемся, причем не только друг с другом и падающими богами. Не с ними ли ты сейчас беседовала?
— Нет, — ответила Дебора, — с вами. Из-за того, что случилось с Сильвией, я решила поступать по совести. Если я после такого дикого выпада не сумела совершить правильный поступок, то хотя бы не стану приплетать ее к своим ожогам, раз они видятся вам серьезными.
— Как это понимать?
— Она покуривает, но очень рассеяна. Иногда оставляет начатую сигарету, а я тут как тут — и с глаз долой. Да у нас обе Мэри дымят, как паровозы, — уж как-нибудь исхитрюсь. Они потакают моим преступным наклонностям, вы согласны?
— Ну, в некотором смысле да. Но по большому счету ты просто пользуешься их симптомами.
— Значит, нужно поставить этому заслон, — спокойно выговорила Дебора.
У нее не укладывалось в голове, почему Фуриайя оставляет в приемной спички, а в придачу и сигареты. Отвлечь внимание сопровождающей медсестры не составляло труда; Дебора могла только гадать, знает ли Фуриайя, каким испытанием оборачиваются минуты ожидания.
Когда беседа подошла к концу, Дебора поднялась со словами:
— Я сама себе перерезаю горло. Больше не буду таскать окурки у больных — разве что найду забытые в пепельнице, и вам не позволю меня искушать, потому что вы не нарочно.
Тут она вытащила из рукава две книжечки спичек, украденных из приемной, и сердито швырнула на заваленный бумагами письменный стол.
Глава двадцать первая
Когда проснулся вулкан, спички не вспыхнули тем встречным огнем, какой мог бы погасить извержение. Ощутив приближение знакомого хлыста страха и услышав монотонный вой осуждения от скрытых ненавистников, Дебора не предвидела ничего более неожиданного, чем обычное помрачение рассудка и рев Избранных. Находилась она в ванной комнате позади главного санузла, поскольку все изоляторы оказались заняты. (Время от времени сестры отпирали разделительную дверь и оставляли Дебору без надзора, пока кому-нибудь из больных не требовалось облегчиться; после вечерней помывки добрых полчаса одиночества выдавались всегда.) За окном смеркалось; близился отбой. Ей не хотелось брать в постель свой ад и отпихивать последствия многих доз хлоргидрата, все глубже враставших в мензурки и оседавших кусочками горящего целлулоида.
Растянувшись на холодном полу, она принялась неспешно и методично биться головой о кафель. Чернота у нее в голове окрасилась багровым, разбухла и хлынула наружу; Дебора и охнуть не успела, как ее поглотил яростный гнев извержения.
Потом зрение и слух вернулись, но лишь в таких пределах, будто она подсматривала и подслушивала у замочной скважины. Дебора внимала своему крику, видела, что каморку наводнили санитары, а на стенах проступили ирские письмена. На том языке, где метафора «сломлена» означает «согласна», а «третий рельс» — «повинуюсь», на нее изливались ненависть, злоба и желчь. Все слова оборачивались крайностью. Угуру, то есть «собачий вой», служило именем одиночества и было написано в усилительной форме аршинными буквами, во всю стену: У Г У Р У С У. Слова были выведены карандашом и кровью, а кое-где нацарапаны осколком пуговицы.
Даже видавший виды медперсонал четвертого отделения был повергнут в изумленный ужас, и от этих перекошенных лиц в ней разгорался непрерывный огонь. Страх и ненависть этого мира были как солнце, привычное и всепроникающее, повседневное и общепринятое, — закон природы. Его лучи сосредоточились в их внешности, пробуждавшей огонь. Дебора заговорила, но негромко и злобно — по-ирски.
— Чем вы это нацарапали, мисс Блау? Где эта штуковина?
— Рекреат, — вымолвила Дебора. — Рекреат, ксангоран, темр э ксангоранан. Наза э фанго ксангоранан. Инаи дунт. Агеай дум. («Запомните меня. Запомните меня во гневе, бойтесь меня в яростном гневе. Да растрескаются мои зубы под жаром сильнейшего гнева. Сигнал взгляда падает. Игра, — агеай означало особый вид пытки: разрывание плоти зубами, — окончена».)
Тут прибежала Форбс. Деборе нравилась… помнилось, что когда-то нравилась миссис Форбс. Гнев нарастал; слова Деборы по большей части даже не могли дождаться ирской логики и риторики — они уплывали в тарабарщину, и лишь отдельные ирские выражения позволяли ей улавливать смысл собственных фраз. Миссис Форбс предложила Деборе, что освободит санблок от посторонних, и Дебора, с благодарностью оценив смелость такого решения, показала ей две раскрытые ладони, а сама тем временем пыталась придать удобоваримую форму своей речи, которая все глубже утопала в бессмысленных звуках.
— Вот это слово… самое длинное… я, кажется, уловила его на слух. У него есть значение?
Дебора отчаянно подыскивала жесты, слова или хотя бы звуки, способные описать последствия извержения вулкана; слово, начертанное кровью из разрезанного пальца, означало третью степень гнева, которую она до сих пор не употребляла ни вслух, ни на письме, — степень более крайнюю, нежели черный или раскаленный до красно-белого гнев. Она беспокойно заметалась от стены к стене, а потом запрокинула голову, широко раскрыв рот в беззвучном крике. Медсестра не сводила с нее глаз.
— Это слово означает страх? — уточнила она. — Нет… не страх… гнев… — И снова в упор посмотрела на Дебору. — Гнев, который тебе не побороть. — И, помолчав, добавила: — Пока ты не можешь себя поберечь, лучше тебе побыть одной, в изоляторе.
В изоляторе было не повернуться, но мощь вулкана поднимала Дебору с места. Ее швыряло из стороны в сторону, пол и стены били по голове, рукам и туловищу. Сейчас у нее в душе царил хаос, под стать той анархии, что недавно охватила лишившийся рассудка Ир.
Через некоторое время ее скрутили и упаковали в «ледяной мешок». Она отбивалась — и сама приходила в ужас от того, что может сотворить с другими, оставшись вне закона. Английский, ирский и тарабарский слились воедино. Мало-помалу гнев стал вытесняться страхом, но слова предостережения тем, кому она могла навредить, не слетали с языка, и она защищалась головой и зубами, пока не затянулись полотняные ремни, а потом пыталась по-собачьи кусать сама себя, свои путы, койку и все, что двигалось. Боролась она до изнеможения и в конце концов затихла.
Через некоторое время у нее стали затекать ноги, но без привычной боли. С ожогов — она знала — под бинтами были содраны корки, но и там боли не ощущалось. До чего же холодным оказался ветер эры беззакония!.. Дебору трясло; за долгие часы прикосновения к телу простыни так и не согрелись. Вне законов и логики Ира она удивленно прошептала: моя противница, моя заразная, чумная плоть — теперь даже тобой я не могу распоряжаться.
«У меня была шестеренка!.. — вскричала она: фраза прозвучала по-ирски, смешиваясь с незнакомыми, чужими словами. — Была шестеренка, и по меньшей мере два зубца держались хотя бы за один мир. А теперь ничто, ничто не соединяется с этими мирами».
«Ты к ним не принадлежишь», — сказал Цензор.
Это было древнее выражение — возможно, самое древнее в Ире, но смысл его менялся от удобства и жалости до злобы и ужаса, а теперь еще и последнего обмана, до заключительного хода в игре, ставшей частью тайного замысла мира и ее проклятья. Теперь до нее дошло: смерть, которой она страшилась, может и не затронуть физическую оболочку; возможно, это будет смерть воли, души, рассудка, законов — не смерть даже, а вечное умирание. Опухоль отозвалась болью.
Только взглянув на нее, Фуриайя спросила:
— Ты больна? — (И у Деборы вырвался хохот, столь же отвратительный, каким до этого был ее крик.) — Я хочу сказать: тебе больно, физически?
— Нет.
Она попыталась объясниться с Фуриайей, но стены начали истекать кровью и по́том, а на потолке образовалась большая опухоль, готовая вот-вот оторваться.
— Ты меня слышишь? — спросила Фуриайя.
Дебора попыталась выразить свои ощущения, но смогла только изобразить ирский жест безумия: ладони резко сблизились, но так и не соприкоснулись.
— Выслушай меня. Попытайся выслушать, — без улыбки выговорила Фуриайя. — Ты боишься своей власти и неспособности на нее влиять.
Когда к Деборе наконец вернулась способность говорить, она только и сумела выдавить:
— В ирском… и тут… столкновение…
— Попробуй еще раз. Пусть слова прозвучат сами собой.
— Шестеренка не цепляется… н’айнаруай… не цепляется!
— Поэтому тебе и требуется лечение. Ты сейчас находишься в клинике — не бойся тех страшных сил, которые, как может показаться, в тебе открылись. Слушай внимательно и постарайся не терять нить. Ты должна поддерживать разговор и объяснять мне, что происходит при столкновении миров. Мы с тобой будем стараться изо всех сил, чтобы оградить тебя от обострения болезни.
Страх частично отступил, и Дебора сумела выговорить:
— Получается ирский, английский, тарабарский. Неистово… бьется. Злость.
— Гнев жил в тебе все эти годы, застарел и подгнил от страха и чувства вины — словно пригоршня зловонных камешков у тебя внутри?
— Во многом…
— Значит, твои страдания проистекали не от гнева?
— Нет… Ир… на Земле… столкновение. Цензор… смертный приговор… последний… — Ее зазнобило от колючего ветра.
— Укройся одеялом, — предложила Фуриайя.
— Ирский холод… накои… земные одеяла…
— Проверим, действует ли земное тепло, — сказала Фуриайя и укутала Дебору одеялом.
Дебора сообразила, что в ирском языке нет слова «спасибо». Поблагодарить Фуриайю оказалось невозможно. И эта невозможность тяжестью легла ей на душу. Даже озноб не пошел на убыль — пусть Фуриайя видит и злорадствует.
— Скажи мне вот что, — продолжала Фуриайя, — какие чувства ты испытывала, слыша свои крики на этих языках: какова была доля гнева и доля страха?
— Десять, — ответила Дебора; чтобы рассуждать о чувствах, она позволила им нахлынуть вновь. — Три части гнева, пять частей страха.
— Получается восемь.
— Я страдаю, — выдавила Дебора, помогая себе ирскими жестами. — После вас я страдаю умней. Теперь до них я никогда. Две части — всякие.
Фуриайя посмеялась.
— Гнева немного, страха — поболее, а что же это за парочка «всяких»? Может, облегчение от того, что теперь не приходится всеми силами подпирать эту стену между Иром и реальностью? Кстати, не припомнилось ли безотчетно, что я уезжала, оставив тебя без поддержки?
У Деборы было ощущение, что последняя мысль правдива лишь наполовину, но она объединила ее с предыдущими, сказав:
— Страх… Цензор… запретные деяния… меня уничтожить… и…
— И что потом?
— Потом… нет. Ничегошность, даже Ира нет. Громкая тарабарщина и только: «Нет. Нет!»
— Дружественных богов и тех не осталось, — задумчиво произнесла доктор и придвинула стул поближе к Деборе, в ознобе свернувшейся под одеялом, не пропускающим комнатную температуру. — Знаешь, Дебора, в тебе есть тяга к здоровью и силе. Прежде чем крушить эти стены, ты доверилась нашей совместной работе, доверилась мне. Прежде чем допустить к себе гнев, ты перевелась в четвертое отделение, а теперь устремилась в первую же доступную одиночку, причем, заметь, в дежурство сестры, которой ты симпатизируешь и доверяешь. Весьма неглупо для той, кого считают чокнутой. Весьма неплохо иметь такую тягу к жизни.
Веки у Деборы стали наливаться свинцом. Она очень устала.
— Ты изнемогла, — отметила Фуриайя, — но особого страха уже нет, правда?
— Правда.
— Гнев может вернуться. Болезнь, которая у тебя развилась, тоже, вероятно, сделает попытку вернуться, чтобы тебя сломить, но ты сможешь одолеть ее в достаточной степени, чтобы обратиться за необходимой помощью и включить самоконтроль. Твой страх наполовину обусловлен боязнью не остановиться, и не что иное как этот страх мешает тебе выражаться таким образом, чтобы тебя понимали.
Вернувшись на отделение после беседы с доктором Фрид, она обнаружила, что здесь случилась другая катастрофа.
— Подруга твоя… — процедила Ли Миллер, — расчудесная, добрая мисс Корал.
— Что такое?
— Схватила вон ту койку — и как швырнет! Запустила ею в миссис Форбс!
— И попала?
— Естественно, попала. Миссис Форбс в городскую больницу увезли: перелом руки, порезы, кровоподтеки, черт-те что.
Ли Миллер злилась оттого, что миссис Форбс принадлежала к тем немногим, кого вольно или невольно оберегали сами пациентки. Она ни от кого не отмахивалась, отличалась умом и бескорыстием, но самое главное — любила свою работу, и больные это понимали.
— Ошибка. — У Деборы одеревенел язык. — По ошибке.
Ей вспомнились другие случаи: больная целилась в одного человека, а попала в другого; некая практикантка-медсестра вечно натыкалась то на кулак, то на стул. Может, и здесь нечто подобное…
— Вероятно, милейшая больная действовала в состоянии аффекта! — весело пропела Мэри, подопечная доктора Фьорентини. — В состоянии аффекта — это юридический термин. То есть до, во время и немного после, но никто не уточняет, какой этап сколько длится. Законы стремятся к точности, юриспруденция, знаете ли, точная наука. — И она, как школьница, поскакала по коридору, раскатывая перед собой новый смешок и оставив старый резать слух остальным.
— А миссис Форбс вернется? — спросила Дебора, превозмогая тошноту.
Ей было ясно, что Ли вымещает на ней свою досаду: мисс Корал находится в изоляторе, за пределами досягаемости, а Дебора — вот она, прямо тут. Деборе не приходило в голову, что кто-то может числиться у нее в подругах, но Ли, как оказалось, придерживалась иного мнения.
Очень медленно повернувшись к Ли, Дебора с преувеличенным достоинством — поскольку достоинство было для нее удивительной обновкой, еще не разносившейся до удобного размера, — произнесла:
— Пусть так, да и Карла тоже. — (Ей было по-прежнему боязно произнести «моя подруга» — здесь крылась безотчетная опасность.)
Подойдя к сестринской, Ли забарабанила в дверь. Когда ей открыли, она сказала, что хочет курить, и, получив зажженную сигарету, прорычала:
— Что я здесь делаю, среди этих сумасшедших!
Дебора ушла в спальню и легла на свою койку.
Чем дольше она размышляла об этом происшествии, тем сильнее желала понять, по какой причине мисс Корал напала на миссис Форбс — одну из Добрых? В тот вечер, отстояв в очереди за снотворным, она незаметно скрылась в углу за сестринской и замерла, прижавшись головой к водопроводным трубам. Труба горячего водоснабжения была закрыта теплоизоляционной обмоткой, зато холодная труба, пусть причиняющая неприятные ощущения, иногда использовалась больными для прослушки. Если плотно прильнуть ухом к этой трубе и затаить дыхание, то даже при закрытых дверях можно было подслушивать, что говорится в сестринской. Как считала Дебора, звуки передавались по водопроводным кранам, потому что лучше всего были слышны голоса тех сестер, которые останавливались у стальной раковины. Забившаяся в угол, Дебора оставалась незамеченной: время близилось к отбою, и в отделении уже приглушили свет, а сновавшие по коридору санитары были заняты тем, что препровождали в постель самых упрямых пациенток. В сестринской шло составление отчетов.
— Клади вон туда, — говорил чей-то голос: похоже, мисс Клири.
— Нет, давай сюда… поближе к кофейнику.
От того, что у людей есть возможность пить кофе в любое время суток, у Деборы потекли слюнки, и она покрепче прижалась к трубе, чтобы избавиться от ненужной мысли. Разговор зашел о распределении выходных. Коридор почти опустел. Дебору вот-вот могли застукать и прогнать.
— Господи, до чего же я устала. — (Кажется, Хенсон.)
— Не ты одна. — (Бернарди.) — Не знаю, у меня такое ощущение, что болезнь у всех только прогрессирует.
— В смысле — придурь.
— Ай-ай-ай! Разве можно так говорить! — За стенкой раздался смех.
— Нет, в самом деле… Дня не проходит без драки, вот опять двоих в изолятор отправили, а там половина на обертывании. А теперь еще этот божий одуванчик Корал Аллан добавилась — и почему только все ее зовут мисс Корал, будто она какая-нибудь красотка с Юга… я знаю, какие о ней слухи ходят, но сама только сегодня лицезрела.
— Боже! Кто бы мог подумать, что такая старушонка способна поднять койку, да еще швырнуть?
Скорей бы зашла речь о миссис Форбс, думала Дебора; дождавшись желаемого, она еще теснее прижалась к трубе и улыбнулась.
— Кто-нибудь видел Лу-Энн? — (Это было имя миссис Форбс.)
— Хадсон и Карелль поехали с ней в больницу. Завтра Софи собирается ее навестить, и я с ней, если сумею вырваться.
От нетерпения Дебора заскрипела зубами. До вечерней поверки оставалось всего ничего. Если сейчас не скажут…
— Кстати, ты вчера вечером Блау видела?
— Нет… это мимо меня прошло; я с Уитменом закопалась.
— Ага, с чокнутым братцем[11]. — Смех.
Деборе не хотелось слушать про Блау. Она ждала подробностей, которые могли бы унять ее тревоги по поводу дела «Корал против Форбс», хоть каких-нибудь деталей, которые опровергли бы ее знания, всегда ложные и приводящие только к слепоте и бешенству.
— Это было нечто! Ее в уборной заперли — слышала бы ты, что она орала! Исписала всю стену какими-то бредовыми каракулями, дралась, как тигрица. Пока мы ее упаковывали, ругалась на своем тарабарском языке — ни словечка не понять. А физиономия просто ненавистью перекошена. Бррр.
— Зато сегодня весь день помалкивала.
— Пожалуй, надо это записать.
Дебора осела на пол и закрыла лицо руками. Щеки горели от стыда. Она немного отползла от холодной трубы и, оказавшись на нейтральной территории, отмежевалась от источника новостей. Ее душили слезы, из горла вырывались невообразимые звуки, как бывало прежде, а с языка слетали тихие, неизменные слова, обращенные ко всем мирам и их столкновению: «Ты к ним не принадлежишь». Дебора содрогалась всем телом и по-прежнему не отнимала ладоней от лица, когда над ней склонилась сестра-практикантка.
— Идемте, мисс Блау, — сказала она. — Пора ложиться.
— Хорошо. — В полумраке она поднялась с пола, все еще прячась за ладонями, и заковыляла в сторону спальни.
Рыдания не прекращались.
— Что за гнусное кваканье? — пропищала Мэри, подопечная Фьорентини. — Новое лесбийское извращение, не иначе… Да, вам, придурочным, фантазии не занимать… потому что заняться нечем, вот и выдумываете всякую всячину. — Похохатывая, она забормотала что-то себе под нос.
Этот хохоток, вкупе со сдавленными всхлипываниями Деборы, растревожил Супругу Отрекшегося, и она запротестовала:
— Имейте совесть, грязные потаскухи! Я — тайная первая жена Эдуарда, Отрекшегося Короля Англии!
— Ну, завела песню! — сказала Дженни, которая редко подавала голос, но не терпела, когда ей мешали спать.
— Благодатная Марие, Господь с Тобою… — начала Мэри, подопечная Доубен, способная кого угодно превратить в атеиста своими бесконечными молитвами.
— Господи! Опять ты за свое!
Ропот нарастал, и Деборе слышался в нем контрапункт мерзким звукам, вырывавшимся у нее изнутри. Прибежал дежурный санитар и навел порядок; в наступившей тишине каждая душа замкнулась в своих пределах, куда, похоже, не проникал ни один взгляд.
Лежа в кровати, Дебора мысленно вернулась все к той же загадке. Все больные превратились в пылинки, плывущие по воздуху, но какие-то вещи все равно оставались недопустимыми. Дебора прекрасно знала, что никогда не решится спросить мисс Корал, почему та швырнула кровать и каким образом у миссис Форбс оказалась сломана рука. В четвертом отделении не считалось грехом драться, воровать, сквернословить, богохульствовать и откалывать сексуальные номера. Плевки на пол, кучки и лужи, неудержимая прилюдная мастурбация — все это вызывало только раздражение, но не ужас; при этом спрашивать, как, что и почему, было непростительно и препятствовать действиям других больных считалось в лучшем случае грубостью, а в худшем — агрессией, беспределом, покушением на бесценные границы самой жизни. Ли Миллер на чем свет стоит кляла Дебору из-за ожогов, за которые наказывали все отделение, но ни разу не спросила, почему она себя калечит, и не обратилась к ней с просьбой положить этому конец. Издевки, злость — это пожалуйста, но вмешательство — никогда. К мисс Корал немыслимо было обратиться по поводу той злополучной кровати, а подруги, если таковые имелись, старательно избегали даже упоминать при ней, виновной в нанесении увечий, само имя миссис Форбс. Где же в таком случае Дебора могла получить ответ на свой вопрос?
За все дни этих раздумий на лице Деборы не отразилось ничего, а когда она заговорила, с языка у нее слетали англо-ирско-тарабарские слова, достаточные лишь для того, чтобы попытаться ответить на вопрос или намекнуть на что-нибудь самое необходимое. Двусмысленность ее речей вызывала у нее самой не меньше удивления, чем у всех остальных. Когда кто-то из персонала спросил Дебору, не сегодня ли у нее по графику помывка, ответ был дан на чистейшем английском, но звучал так:
— Это всегда лишь поверхностно.
В уборной:
— Блау… ты там?
— Здесь кутуку. — (Вторая степень скрытности.)
Неуклюжий перевод, невозможность сократить измеряемое световыми годами расстояние между нею и остальными, смешение языков — все это лишь приводило к дальнейшему отчуждению. Она пугалась, любая последующая фраза оказывалась и вовсе непереводимой, а нечленораздельные звуки пугали еще сильнее. И только в беседах с Фуриайей удавалось добиться хоть какой-то ясности.
— Они сказали, что у нас у всех болезнь только прогрессирует. Что у меня болезнь прогрессирует.
— И ты с этим согласна? — спросила Фуриайя, закуривая очередную сигарету.
— Не надо игр.
— Я не играю в игры. Мне нужно, чтобы ты глубоко вдумалась и дала честный ответ.
— Не хочу больше вдумываться! — В гневе Дебора вдруг повысила голос. — Я устала, мне страшно и дела нет, что будет дальше. В темноте трудись, в холоде трудись — чего ради!
— Ради того, чтобы вырваться из этих окаянных стен, вот ради чего! — Голос Фуриайи зазвенел так же, как у Деборы.
— Больше вообще ничего не скажу. Чем больше мусора я вываливаю, тем больше остается. А вы можете поставить на мне крест, уехать куда-нибудь с подругами или засесть за новую статью и получить за нее новые почести. Я сама не могу поставить на себе крест, а потому прекращаю борьбу. Вы за меня не беспокойтесь — я буду хорошей, послушной и перестану пачкать стены.
Сигарета перед докторским лицом отозвалась долгой вспышкой.
— Ну что ж, — почти дружелюбно сказала Фуриайя. — Умывай руки, бедная девочка, и живи до конца своих дней в сумасшедшем доме. Коротай свои дни в переполненном остром отделении… «Бедняжечка, — будут говорить знакомые, — могла бы стать такой приятной девушкой… такая одаренная… большая потеря».
Подвижные губы сложились в немое цоканье.
— Еще более одаренная, чем на самом деле, потому что я торчу здесь и никогда не смогу этого проверить! — вскричала Дебора: голая правда звучала прекрасно, даже из ада.
— Да, черт возьми, именно так! — подтвердила Фуриайя.
— А дальше что? — Дебора не понижала голоса.
— Разве я когда-нибудь обещала, что будет легко? Я не могу и не хочу тебя лечить вопреки твоему желанию. Мы сможем чего-то добиться лишь в том случае, если ты запасешься терпением и будешь бороться изо всех сил.
— А если я откажусь?
— Что ж, психиатрических лечебниц у нас много, едва ли не каждый день открываются новые.
— А если я буду бороться, то за что?
— Сада из роз не жди — я тебе это говорила и год, и два года назад. Борись за преодоление себя, за свои ошибки и наказания, за свое понимание любви и здравомыслия — за сильное «я», с которого можно начать жизнь.
— К преувеличениям вы явно не склонны.
— Слушай внимательно, девочка моя. — Фуриайя стряхнула пепел со своей сигареты. — Я — твой лечащий врач; не один год я вижу, что у тебя аллергия на ложь, и стараюсь тебе не лгать. — Она с полуулыбкой посмотрела на Дебору. — А кроме того, мне импонирует лишенный страха и угрызений совести гнев, который выражается нормальным, энергичным английским языком.
Они немного помолчали; затем Фуриайя продолжила:
— Думаю, теперь ты готова ответить на вопрос, который сама же подняла. Твоя болезнь прогрессирует? Не бойся… каков бы ни был твой ответ, тебя за него не казнят.
Дебора представила себя Ноем, который посылает голубку разведать пугающую страну. Через некоторое время голубка вернулась в полном изнеможении. Без оливковой ветви, но все же вернулась.
— Нет, не прогрессирует, — выговорила она. — Ничуть не прогрессирует.
— Болезнь не прогрессирует… — заявила доктор Фрид на врачебной конференции в четвертом отделении. — Ничуть не прогрессирует.
Коллеги вежливо, недоверчиво внимали. Им трудно было поверить, что в потоках бреда и вспышках неконтролируемого, бессмысленного буйства можно узреть нечто, кроме значительного ухудшения. Прежде Дебора Блау была мрачно-молчаливой или мрачно-остроумной, она сохраняла неподвижное лицо и саркастическую, высокомерную манеру держаться. У нее наблюдались реальные признаки серьезного психического расстройства, но сейчас это была типичная пациентка четвертого отделения, «психичка» — это слово чувствовали и употребляли почти все больные, но не в присутствии врачей и только там, где, как им казалось, никто не подслушивал. Сейчас оно висело в воздухе, пронзительное, хотя и не высказанное.
— Ну… эти случаи с ожогами понемногу идут на убыль… — без особой убежденности сказал кто-то из персонала.
— Такова, видимо, ее «новая мораль», — ответила доктор Фрид со своей характерной едва заметной улыбкой. — Она сказала, что не хочет подставлять других пациентов, а потому должна раздобывать воспламеняющиеся материалы в других местах. И поставила себе определенные заслоны на воровство.
— А им… им свойственны такие соображения? Моральные?
Этот вопрос задал новичок. Все знали, каким должен быть ответ, но мало кто в него верил. Верили только отдельные врачи, да и то с оговорками.
— Конечно, — подтвердила доктор Фрид. — Коль скоро вы здесь работаете, у вас будет возможность в этом убедиться. Вы сами увидите многочисленные примеры такой этики или морали, которая годами вызывает благоговение у «здоровых»: маленькие любезности, внезапные и неожиданные проявления великодушия в ущерб себе, но это все есть и не позволяет нам забываться, проявлять излишнее самодовольство. Помню, когда я увольнялась из больницы в Германии, один пациент подарил мне ножик для самозащиты. Ножик этот был изготовлен тайно, из куска металла, который затачивался не один месяц. Больной делал его для себя — на тот случай, когда болезнь станет невыносимой.
— И вы приняли в подарок такую вещь? — раздался вопрос.
— Конечно приняла, так как его способность дарить указывала на здоровье и силу. Но поскольку я переезжала в эту страну, — продолжила она с мягкой улыбкой, — ножик я отдала человеку, вынужденному остаться там.
— Красиво излагает, верно? — заметил доктор Ройсон, выходя из зала.
На конференцию его, как имеющего определенный опыт работы с некоторыми из пациентов, пригласил доктор Халле.
— Блау — ее подопечная, — сказал Халле. — Ох, совсем забыл: ты же вел ее больных.
— Да, подхватил их на время ее отъезда, — подтвердил Ройсон.
— И как?
— Поначалу мне думалось, что работу с этой больной затрудняет обида на лечащего врача, который ее бросил. Отторжение, так сказать. Но знаешь, дело было в другом. Кое-что мы просто не готовы признать, поскольку занимаемся медициной, а эта наука не терпит симпатий и антипатий. С этой больной я не сработался. Мы друг друга не переваривали. Терпеть не могли. Наверное, из-за того, что были слишком похожи…
— Тогда немудрено, что от вас только искры летели.
— Ты тоже находишь тут реальные улучшения? Она-то, — Ройсон слегка повернул голову и жестом указал в сторону доктора Фрид, — похоже, в этом убеждена. Но…
— Я ничего такого не нахожу, но ей виднее.
— Она прекрасный специалист… мне бы такие мозги, — сказал Ройсон.
— Мозгов ей не занимать, — и Халле оглянулся на полноватую женщину, задержавшуюся в конференц-зале, чтобы ответить на вопросы, — но, узнав ее поближе, ты поймешь, что для коротышки Клары Фрид мозги — это лишь начальный этап.
Глава двадцать вторая
Искаженные дрожащим, раскаленным воздухом над жерлом вулкана и опустошительными серыми потоками лавы между извержениями, Деборе открывались отдельные проявления доброты со стороны медперсонала — доброты, а не проформы. Фельдшера-новичка звали Квентин Добжански — он был из Добрых, как Макферсон, и сменил усталого старичка Тичерта; миссис Форбс приступила к работе в мужской «надзорке», располагавшейся в другом здании; очередная осень сдалась очередной зиме.
Зимний сезон выдался тяжелым. Устарелое, ненадежное паровое отопление хрипело и лязгало, когда включалось тепло, все задыхались и дурели от жары, а когда выключалось — мерзли.
— По какой системе отапливается это здание? — спросила Ли, эхом повторяя вечные вопросы на вечные темы. Склонившись на кофейной чашкой, она пыталась согреть руки.
— По системе, которую изобрел Отрекшийся, первый муж Люси, — ответила Элен.
— За отопление отвечают все персонажи из наших снов, про кого мы рассказываем докторам.
— Пусть так, но у них нет к нам ненависти, — весело защебетала Мэри. — Во всяком случае, ко мне. Они глубоко меня презирают, но чтобы ненавидеть — этого нет, потому что Библия запрещает.
Дебора встала и пошла искать, где теплее. После извержения вулкана потребность в горючих материалах для встречного огня ослабла, притом что муки остались. Страх-гнев, насылаемый вулканом, никуда не делся: нахлынув, он швырял Дебору о стену всей мощью своего извержения или же гонял по коридору, пока ее не останавливали запертые двери или тупики. Ежедневно, а то и по два раза в сутки ей назначали холодное обертывание, и, когда затягивались полотняные ремни, она не протестовала, если свет взрывался и яростно брал над ней верх. И тем не менее, тем не менее… все стали добрее: сестры и санитары даже снисходили до шуток и уделяли ей внимание.
— Не догадываешься, почему это происходит? — спросила Фуриайя.
— Понятия не имею. Я взрываюсь, а они со мной нянчатся. Бывает, я сама чувствую, что сейчас накатит, и прошу меня упаковать — мне никогда не отказывают, хотя это требует от персонала времени и сил, а потом со мной даже заводят разговоры.
— Видишь ли, — мягко проговорила Фуриайя, — когда прорвало твой вулкан, вместе с ним прорвало и нечто другое: твою окаменелость. Посторонние теперь смотрят тебе в лицо и видят реакцию, живость.
Дебору сковал многолетний страх, от которого она защищала себя такой дорогой ценой.
— Накои… накои…
— Что это значит? — спросила Фуриайя.
— Несоответствие… то, что отражалось на лице… никогда ничему не соответствовало… лицо кричало: «Почему ты злишься?», когда я нисколько не злилась, или «Откуда такое презрение?», когда его не было в помине. Отчасти по этой причине требовался и Цензор, и устав, и свод ирских законов.
— Теперь ты от них освободилась, — сказала Фуриайя. — Твое лицо не приносит тебе врагов: на нем просто отражается реакция на внутренние переживания. Порой на нем отражаются гнев и страх, потому что это твои ощущения. Но не пугайся — больше нет нужны лгать про страх и гнев. А что самое лучшее — на лице отражается также и удовольствие, и веселость, и надежда, и все эти выражения лица, говоря твоими словами, чему-то соответствуют, они уместны и будут все теснее связываться с твоими сознательными желаниями и выбором.
И все равно Дебора пугалась. Собственные выражения лица оставались для нее загадкой, которая ни разу не приблизилась к решению. В воспоминаниях, уходящих в темноту, Дебора вела счет врагам, нажитым ею за долгие годы, причем совершенно необъяснимо. Отчасти причиной служила — вероятнее всего — ее внешность: какая-то чужая маска, которую она носила не снимая; голос и жесты, тоже чужие, способные превратить любого союзника в мучителя. Поскольку теперь вулкан растопил ее каменную маску, все обещало начаться сызнова: подчиненная законам жизнь-несоответствие, к которой у нее не было ключа, и реалии, на которые она не могла претендовать.
Послеполуденное время выдалось зябким и сумрачным; возвращаясь из докторского флигеля, Дебора, смеясь над собой и над сопровождающей, дрожала от холода (от реального холода), а сама, хотя и шагала рядом с санитаркой, погружалась в холод междуземный и в холод ирский.
— Заморозить бы тебя тут до смерти! — сказала ей санитарка.
Деборе было приятно, что с ней заговорили в таком тоне, и она, как равная, ответила правдой:
— Вам известен только один холод, да и от того спасают теплые одежки.
Санитарка фыркнула:
— Напрасно ты так думаешь.
И Дебора вспомнила, как тысячи падений и наказаний тому назад спрашивал Макферсон:
— Отчего ты считаешь, будто у тебя есть монополия на страдание?
— Простите, — спохватилась Дебора. — Я не хотела вас оскорбить.
Но санитарка рассердилась и обиделась; она стала втолковывать Деборе, как тяжело поднимать детей и при этом целыми днями вкалывать за мизерную оплату. А Дебора как будто читала ее мысли: работа гнусная, нечистоты подтирать за взрослыми людьми да слушать детские вопли, рождаемые взрослыми глотками и ухищрениями. Свою злость женщина изливала на Дебору, которая сейчас сделалась для нее символом этой «работы», но Дебора чувствовала, что при всем том ей оказывают доверие. Неприязнь была обезличенной и честной, а оттого если и давила, то не тяжким грузом. У двери, где существовали другие символы — замок и ключ, всякое общение прекратилось; санитарка просто-напросто его стерла и с непроницаемым видом отошла от своей подопечной.
Некоторое время Дебора бесцельно бродила по отделению. Дождавшись пересменки, она попросилась в туалет, чтобы хоть недолго побыть одной. Санузел не обогревался; в силу привычки она уселась на закрытый кожухом радиатор. Над головой было окно, выходящее на ту часть территории, где раскинулся газон с деревьями и густыми зарослями кустарника, загораживающими стену, — Дебора придумала для этого уголка название «Заповедник». Предзакатное солнце холодной звездой блестело над кустарниками, и в этом рассеянном свете деревья казались голыми и серыми. Стояла тишина. Заглох даже Ир; в кои-то веки умолк Синклит. Все голоса во всех мирах стихли.
Медленно, но верно Деборе стали открываться краски миров. Она различала форму и цвет деревьев, и дорожки, и живой изгороди, а в вышине — зимнее небо. Если солнце закатывалось, оттенки начинали вибрировать в сумерках, расширяя измерения Заповедника. И так же медленно и неостановимо к Деборе приближалось убеждение в том, что она не умрет. Оно надвигалось с постоянно нарастающим, отчетливым пониманием того, что она будет не просто немертвой, а живой. С этим пониманием пришло ощущение чуда и трепета, великой радости и волнения. «Когда этого ждать?» — спросила она у наступающей темноты. И поняла: это уже начинается.
Когда тьма сгустилась, Дебора отворила дверь санузла и вновь оказалась в коридоре. Третье Измерение, смысл, цеплялось за голые очертания стен, дверей, плоских человеческих лиц и тел. Велико было искушение понаблюдать — посмотреть и послушать, пропустить через себя (радуясь значению и свету) эти земные ощущения и плоскости, но Дебора, давняя мишень множества обманов, проявляла осторожность. Она собиралась подвергнуть это новшество времялову Фуриайи и дать ему возможность выпустить свои стрелы.
За ужином она поняла, что способна переживать из-за собственной неряшливости: ела она неаккуратно, руками, помогая себе деревянной ложкой. Пища обладала вкусом и плотностью; позже Дебора сумела вспомнить этот ужин.
— Непонятная штука… — пробормотала она, — интересно, когда ее отнимут.
Весь вечер она прислушивалась к разговорам санитарок, которые болтали напропалую, как истосковавшиеся часовые на затерянной и пустынной сторожевой заставе. Вряд ли они знали, что это за явление, но оно уже пугало Дебору, потому как могло обернуться чем угодно. Вероятно, это был очередной кон в Игре — Данность всегда смеялась последней.
Проглотив снотворное, она улеглась в постель и обратилась к Иру:
«Страдайте, боги».
«Страдай, Легкокрылая, мы ждем…»
«У меня вопрос: двое туземцев обитают в комиксе, но сами этого не знают и считают себя живыми. Они разводят костер на острове, который в действительности оказывается спиной бегемота, лежащего в реке. Принимаются готовить ужин. Когда огонь прожигает шкуру бегемота, тот встает, чтобы уйти подальше от этого места, и уносит с собой изумленных туземцев. Тут читатель комикса смеется, переворачивает страницу, на которой видел туземцев, изумление, джунгли, реку, бегемота и костер. Вопрос заключается в следующем: что теперь будет отражаться на их лицах? Как поступят туземцы?»
«Чтобы ответить, надо выждать, — ответил Антеррабей. — Кто знает: а вдруг это явление завтра исчезнет?»
«Возможно, тебе для этого и предпринимать ничего не придется, — подхватил Лактамеон. — Возможно, даже и размышлять не придется».
«Не исключено, что это был просто симптом», — сказала Дебора.
Утром она лежала на кровати без сна, но сомневалась, разумно ли будет открыть глаза. В коридоре кто-то вопил, а совсем рядом суетилась практикантка (ее тревожное присутствие выдавал шорох фартука), которая не могла добудиться Мэри, пациентки доктора Доубен. Сквозь сомкнутые веки Деборы свет утреннего солнца виделся красным. Счастливицы, лежавшие ближе к окнам, могли в полной мере наслаждаться солнцем, но по утрам всем доставалось понемножку дневного света, и сегодня он подтолкнул Дебору к тому, чтобы перешерстить свой ум в поисках происшедших в ней перемен.
— Со мной что-то случилось… — шептала она себе, — и случилось вчера. Что же это было? Что это было?
— Ну-ка, мисс Блау, — обращалась к ней практикантка, — поднимайтесь и сияйте.
— Что на завтрак? — спросила Дебора, умолчав о своих потаенных вопросах.
— Традиционное блюдо местной кухни, — прощебетала Мэри. — Из какой местности — никто нам не скажет, но у меня есть кое-какие соображения!
— И каким же традиционным блюдом потчуют тех, кто не дружен с этим миром? — спросил кто-то из больных.
Тут Дебора вспомнила события вчерашнего вечера, пронизанные цветом, формой и смыслом, а еще — предчувствием жизни. Остались ли они на прежнем месте, ждут ли за шторками век? Поднявшись с кровати, она завернулась в одеяло и направилась по коридору к сестринской.
— Скажите, пожалуйста, у меня сегодня назначена беседа с лечащим врачом?
Тысячу раз стояла она просительницей у поста, но сейчас все было иначе, хотя со стороны этого и не было заметно.
— Минутку. Да, вот: с выходом за пределы отделения. В четырнадцать часов.
— Можно мне пойти без конвоя?
На лицо сестры маской легло подозрение.
— Для этого требуется письменное распоряжение заведующего отделением. Пора бы знать.
— Я смогу с ним переговорить, когда он появится?
— Сегодня его не будет.
— Тогда запишите меня, пожалуйста, к нему на прием.
— Ну ладно. — Сестра отвернулась.
Это прозвучало скорее как «там видно будет», но Дебора знала, что настырность ни к чему не приведет, хотя разрешения, вполне возможно, придется ждать до скончания века.
В назначенное время она застеснялась и стала бояться, как бы не перечеркнуть досужими разговорами все, что было, но, помявшись, рассказала Фуриайе об увиденном и, самое главное, о смысле, а также о том, что сопутствовало смыслу: о робко забрезжившей надежде.
— В Ире обычно происходит совсем по-другому, — сказала она. — А это напомнило мне вас, потому что в голове у меня возникло простое утверждение: я буду жить, буду постепенно оживать.
Фуриайя бросила на нее знакомый испытующий взгляд:
— По-твоему, это верный прогноз?
— Не хочу говорить, чтобы не пришлось потом раскаиваться.
— Не придется. Для нас с тобой ничего не изменится.
— В таком случае… по-моему… я думаю, прогноз может оказаться верным.
— Так давай это докажем, — сказала Фуриайя. — За работу.
Они прокладывали пути к старым тайнам и видели такие грани, которые требовали новой жажды жизни. Дебора поняла, что взяла на себя роль солдата-японца в ответ на ненависть, окружавшую ее в летнем лагере: чуждость и буйство врага служили воплощениями гнева. Примерно такое же озарение пришло к ней в связи с темой мученичества — мученичество каким-то образом связывалось с Христом, гордостью и мукой каждого иудея.
— Гнев и мученичество, — сказала она, — вот что представлял собой образ японского солдата, и я показывала врачам «хорошего солдата», как они того и хотели. Гнев и мученичество… В этом слышится нечто большее… вроде как описание чего-то, известного мне…
— Куда же больше? — спросила Фуриайя. — За столько лет оно поддерживалось массой опор.
— Описание… да это же… это же описание моего деда! — воскликнула Дебора, вытащив на свет тирана-латыша, на которого навесила такую неузнаваемую маску. Это описание характеризовало его как нельзя лучше: точнее, чем рост, вес или количество зубов. — Тайный солдат, в которого я превратилась, — это мулу: так в Ире называют тайный образ родства.
— Если уж на то пошло… это до сих пор так болезненно?
— Очень даже ощутимо, — ответила Дебора.
— У симптомов, у недуга и у тайн бывает множество причин. Части и грани целого, переплетаясь, подпитывают и укрепляют друг дружку. В противном случае можно было бы назначить тебе какую-нибудь инъекцию или поспешный сеанс гипноза, а потом сказать: «Прощай, безумие!» — это совсем несложно. Однако данные симптомы базируются на множестве потребностей и служат множеству целей, вот почему расставаться с ними — сущее мучение.
— Если я теперь обрела… реальность… значит мне придется забросить Ир… весь целиком… и сразу?
— Не вздумай притворяться, будто ты его забросила. Мне думается, ты захочешь отказаться от него лишь тогда, когда заменишь его данностью, но никакого уговора на сей счет у нас с тобой нет. Я не прошу, чтобы ты заменила своих богов моими. Когда будешь готова, ты сама сделаешь выбор. — И серьезно добавила: — Не позволяй, чтобы тебя пытали всякий раз, когда ты впускаешь в свои окна лучи доброго света дня.
На отделении поджидала ожоговая бригада. Сегодня — во главе с доктором Веннером. Дебора дала ему прозвище Потерянный Горизонт, потому что он всегда смотрел куда-то мимо, словно в море, сквозь людей, которых должен был лечить. Прозвище к нему прилипло. Сейчас он пребывал в раздражении оттого, что она запаздывает, а не сидит перед ним в ожидании его резонных упреков, оттого, что ожоги месяцами не заживают, и оттого, что обработка их — весьма болезненная процедура, какой и заслуживает эта девчонка, всем своим видом показывающая, что боль ей нипочем. Дебора терпеть не могла доктора Веннера и выражала это шуточками, адресованными Квентину Добжански, который держал наготове перевязочные материалы и содрогался от грубых манипуляций врача, травмирующих открытую рану.
— Не двигаться! — напустился Веннер на вытянутую перед ним неподвижную конечность, от злости резко ткнул в рану марлевым тампоном, и ожоговую поверхность залило кровью из здоровой ткани внизу.
— Дьявольщина, — прошипел он.
— Чего уж там, доктор Веннер, — беззлобно выговорила Дебора, — не стоит так переживать. У меня кое-где выросла ложная опухоль, которая более чем компенсирует нехватку ткани на руке.
Добжански прикусил губу, чтобы не рассмеяться, но, увидев очередной грубый тычок инструмента в область ожога, выдохнул:
— Ох-х-х! Помолчи, Деб!
— Боль — сугубо теоретическая проблема, Квентин, — сказала она. — Больнее всего — когда тебя пинают те силы, с которыми вполне уживаются другие люди, когда на тебя давят годы безумия и неспособности поделиться с окружающими, да так, чтобы они тебе поверили. Когда ты сгибаешься пополам от болей в теоретической опухоли, тут же подскакивают какие-нибудь эскулапы и начинают объяснять, что боли просто неоткуда взяться. В виде одолжения сделают тебе пару укольчиков, чтобы было с чем сравнивать.
— Сиди тихо! — цыкнул доктор Веннер. — Сосредоточиться не даешь.
Добжански подмигнул вошедшей медсестре, и Дебора с благодарностью отметила, что они от нее не таятся.
Через пару дней явился заступивший на дежурство врач-новичок.
— Нужно осмотреть ваши ожоги, — сказал он.
— Последним их осматривал Веннер, и если он не раздробил кость, то никому другому это и подавно не удастся.
Ее замечание смутило врача-новичка, застав его врасплох.
— Меня беспокоит их состояние, — зачастил он, чтобы скрыть такую непрофессиональную реакцию, и Дебора уличила его в нарушении еще одной профессиональной заповеди, вычитанной ею в каком-то медицинском фолианте: «Никогда не показывай больному свое беспокойство».
Он и сам удивился слетевшим у него с языка словам и принялся судорожно и торопливо, но без особого успеха стирать с лица недоумение.
— Точнее сказать, заботит, и я, кажется, знаю, что здесь может помочь.
Он достал из кармана какой-то маленький тюбик, после чего отпустил многочисленную ожоговую бригаду, и они с Деборой, облегченно вздохнув, обменялись едва заметными улыбками, как заговорщики.
Он осмотрел ее руки. Повязка промокла, и кожа под ней сделалась рыхлой.
— Ну, попробуем. — По его лицу она поняла, что состояние ожогов ухудшилось.
Закончив, он сказал:
— Я старался не делать вам больно. Надеюсь, было терпимо.
— Не беспокойтесь, — ответила Дебора, взмывая на невероятную высоту над падающим Антеррабеем, чтобы сохранить способность улыбаться. — Когда-нибудь, наверное, будет терпимо.
Когда через двое суток повязку разрезали и сняли, нагноения уже не было.
— Что это было за снадобье? — Старшая сестра, не веря своим глазам, качала головой.
— Тюбик оставили для нее в шкафу номер шесть, — подсказала коротышка Клири.
Дебора повернулась к медсестре:
— Моя лепта будет наготове.
— Какая? — с раздражением специалиста спросила та.
— Ну как же: улыбка.
Глава двадцать третья
Поскольку она собиралась — и уже начала — жить, новые цвета, грани и знания окрашивались какой-то лихорадочной пылкостью. По мере того как форма, свет и закон приобретали неизменные контуры, Дебора все внимательнее всматривалась в человеческие лица, говорила и слушала. Даже при ее застенчивости и трудностях восприятия чужих слов четвертое отделение с его нелюдимыми больными и загнанным персоналом виделось ей чересчур тусклым мирком. Нетерпеливо и неуемно выжимая на себя громоздкий штурвал своей больничной жизни, Дебора мало-помалу набирала высоту; изо всех сил тянула этот штурвал и почти слышала его скрип и скрежет. Медленно, но верно отвоевывала она то расстояние, которым доктора поверяли чувство ответственности: самостоятельный поход в докторский флигель (100 футов × 1 час стабильности); самостоятельная прогулка вдоль главного фасада (200 футов × 3 часа стабильности); самостоятельная прогулка вдоль главного и заднего фасадов (1 миля × 5 часов стабильности); и наконец попросила о переводе во второе отделение, где правило футочасов сулило возможность дорваться до книг, карандашей и альбомов для рисования. Теперь, ощутив это зыбкое, но крепнущее убеждение в том, что она жива, Дебора начала проникаться любовью к новому для нее миру.
— Раз я жива, значит во мне их субстанция — точно такая же, как вы не понимаете! — горячилась она в беседе с Фуриайей, указывая в ту сторону, где простирался внешний мир.
Когда она в последний раз лежала на втором отделении, там царили мрак и тишина, если не считать рева Синклита и рокота просыпающегося вулкана. Дебора не видела никого и ничего, за исключением дороги в санузел да очередей за подносами и за снотворным. В этот раз она нетерпеливо схватила постельные принадлежности, а потом заглянула в лицо каждой из медсестер, поинтересовалась, как их зовут, и понадеялась, что для нее найдется место в той спальне, что ближе к началу коридора, где шумно и оживленно.
Старшая сестра склонила голову набок:
— Ты вроде знаешь Карлу Стоунхэм?
— Она вернулась? Я… я думала, она уехала.
— Ну, она некоторое время наблюдалась амбулаторно, — произнесла сестра, старательно храня безучастность. — А теперь вернулась.
Карла сидела на своей кровати. При виде ее взгляд Деборы потеплел.
— Значит, вы, девушки, знакомы.
Сестра положила на кровать дополнительное одеяло и вышла.
— Привет, Деб.
Вроде бы Карла обрадовалась встрече, но явно была чем-то пристыжена и подавлена, и разум Деборы, потеплевший, как устремленный на Карлу взгляд, начал подсказывать: я твоя подруга, и нечего стыдиться. Она закрыла глаза, втискивая английские слова преданности в ирский язык.
— Может, я эгоистка — ну и пусть. Хорошо, что ты здесь… то есть там, где я.
Пока ее подруга застилала постель и раскладывала по местам вещи, девушки посплетничали: насчет мисс Корал и Элен, насчет последней выходки Мэри и сравнительных качеств медсестер «двойки» (кто из них прибежит, если начнется буча, а кто отсидится).
Затем Дебора проговорила:
— Никто и словом не обмолвился, что ты вернулась. — Она смотрела на Карлу в упор, и в этом взгляде сквозили все вопросы, которые, будучи высказаны вслух, нарушили бы границы дозволенного.
— Там бывает до жути одиноко, вот и все, — ответила Карла.
В знак особого расположения она предоставила Деборе право на один вопрос; Дебора выбрала самый простой.
— Тяжело было возвращаться?
— Ну… это равносильно поражению, — отвечала Карла, кивнув и мягко уйдя от прямого ответа. — На работе я была в изоляции… добираться долго, с самого утра ты как под гипнозом, кругом никого, кроме работниц: здрасте — до свидания. По вечерам ходила в кино или оставалась в комнате и штудировала учебные пособия, чтоб наверстать упущенное. Вскоре улицы стали напоминать мне улицы Сент-Луиса, дни были похожи один на другой, как там, и ощущения те же…
Ее лицо исказили следы знакомых мук. Запнувшись на полуслове, она сменила тему.
— Я не говорю, что это никому не удается, — зачастила она, — или что у меня самой в следующий раз ничего не получится… я вышла назло и не была готова… — Ее прервал звонок. — Мастерская трудотерапии, — объяснила она. — Идем, покажу.
Уличный воздух был пронизан колким зимним холодом. Мир показался Деборе несравненно прекрасным. Где-то за оградой Заповедника поднимался дым, и время от времени она улавливала его запах. Рядом с ней стояла подруга, а в мастерской ожидал альбом для ее новых рисунков. Она попыталась подавить чувство благодарности и растущее нетерпение, но глаза были наполнены едиными для всего рода человеческого красками, гранями и земными законами: движения и притяжения, причины и следствия, дружбы и принадлежности к миру. Откуда-то сверху до нее долетел крик; обернувшись, Дебора увидела мисс Корал, которая махала ей из окна «четверки».
— Похоже, снова в изолятор угодила, — заключила Карла, отсчитывая окна.
Они помахали в ответ и некоторое время объяснялись друг с другом жестами.
(Я ввязалась в драку) объяснила мисс Корал, жестикулируя в зарешеченном оконном проеме.
(Меня выпускают одну!) сообщила Дебора, как бы разрывая цепи и пританцовывая.
(Далеко?) спросила мисс Корал, делая вид, что смотрит в морской бинокль.
Дебора изобразила руками стену и, коснувшись ее ладонью, остановилась прямо перед ней.
(Атас!) предупредила мисс Корал, подняв руки к голове, изображая белые крылья велона, и тут раздался щелчок открывающегося замка.
(Счастливо!) помахав на прощание, мисс Корал исчезла.
Из служебной двери появилась санитарка, на ходу следя за их движениями.
— Девушки, что это вы делаете? — спросила она.
— Зарядку, — ответила Карла, — просто зарядку делаем.
Они продолжили путь в мастерскую, расположенную в одном из административных корпусов.
Если не присматриваться, там возникало ощущение уюта, но вскоре становилось ясно, что это одна лишь видимость. Пациенты занимались шитьем и лепкой, делали аппликации из кусочков ткани, а то и просто читали. Занятия по большей части были вполне обыденными, и Дебора тихо недоумевала. Казалось, изгои мироздания согревают руки у иллюзорного очага созидательного труда. Тщетно разыскивали они его нити, клочки, образцы, распуская старые шарфы и вывязывая из них новую реальность. Там, где полезность превозносилась до небес, «терапевтический» труд казался Деборе невольным ударом по самолюбию больных, которое, как предполагалось, должно было только крепнуть. Подруг встретила одетая в сине-белую полосатую форму инструктор по трудовой терапии.
— Ну, здравствуй, Карла, — произнесла она с преувеличенной радостью, а затем, переводя взгляд на Дебору: — Ты к нам гостью привела?
— Да, — ответила Карла, — мы только одним глазком взглянуть. Это Дебора.
— Ну конечно же! — с энтузиазмом подхватила наставница. — Мы ведь пересекались наверху, на «четверке»!
Работающие подняли головы. В мыслях Деборы возник образ инструктора в костюме охотника, который выстрелил посреди волнующегося на ветру пшеничного поля, вспугнув стаю встревоженных птиц. Карла поняла, что происходит, и на минуту отвернулась. Затем она объяснила:
— Сейчас Дебора на «двойке», мы соседки по отделению.
Лица расслабились, а руки снова принялись за работу.
Посетительницы ненадолго задержались; Дебору познакомили с несколькими пациентами-мужчинами; пока назывались их имена, ее мучил вопрос: что же могло привести сюда мужчин? Подруги вышли и направились к первому отделению, которое было открытым и даже располагало электрокофеваркой для пациентов и персонала.
— В основном, конечно, для врачей и сестер, — уточнила Карла, — но это показывает, на что ты можешь надеяться, а если у кого-нибудь из них в чашке останется кофе, то опивки, возможно, перепадут нам.
Дебора не захотела входить. Одного выстрела посреди пшеничного поля было на сегодня достаточно.
— Карла… ты была снаружи… то есть… на воле. Там такая же реакция, когда в помещение входят подобные нам с тобой?
— Да, случается, — ответила Карла. — Для поступления на работу необходимо получить справку, которую ты должна предъявлять по требованию, а время от времени к тебе приставляют социального работника. Порой бывает очень-очень трудно, но иногда люди оказываются лучше, чем ты ожидаешь. Многие работодатели хотят видеть «сертификат о состоянии здоровья» — очень важная, мол, вещь, но те люди, кто поумнее, испытывают за тебя гордость, потому что ты, наравне с ними, зовешься «личностью». Самое тяжкое — это когда все вежливы, говорят тебе «доброе утро», «спокойной ночи», а между тем пропасть между вами только растет. Эскулапы твердят, что виноват в этом сам больной. То есть я же и виновата. Если б я не так сильно волновалась, говорят они, общение протекало бы без проблем. Ну это легко сказать. Думаю, никто из эскулапов ни разу не пробовал влиться с таким клеймом на лбу в новую команду, где с тобой если и заговаривают, то лишь из жалости или нездорового любопытства.
Дебора посмеялась:
— Эскулапы! Отправляйтесь-ка на годик в горячие точки. А оттуда приезжайте в свой дурдом пациентами!
Карла тоже засмеялась.
— В горячие точки — без своего престижа, прав и чувства собственного достоинства. А когда сами окажетесь в шкуре сидельцев, насладитесь фальшивым «ладно-ладно».
На несколько минут они позволили себе эту игру, сводя счеты со всеми врачами, которые использовали свой престиж и определенную власть, чтобы отгородиться от пациентов. Деборе пришло в голову, что ни доктору Халле, ни Фуриайе, ни Новичку не понадобится уезжать в горячие точки, потому что они никогда не задраивали наглухо ворота между собой и пациентами.
— Забыла тебе сказать, — начала Дебора, когда они шли обратно к отделению. — Насчет Элен. Помнишь, мы смеялись ее шуткам, хотя до недавнего времени от них веяло холодом. А тут она вдруг стала проявлять какое-то подобие внимания к другим.
И Дебора рассказала Карле, как, уходя из четвертого отделения, столкнулась в дверях с Элен. Та дождалась, чтобы они на миг остались с глазу на глаз, и спросила: «А я разве не могу отсюда уйти?» — на что Дебора ответила: «Ну почему же нет?» Тогда Элен рассеянно произнесла: «Всякое бывает… всякое бывает» — словно ее впервые посетила такая мысль. Даже во сне она не бывала такой беззащитной. Конечно, когда за Деборой пришла медсестра, Элен напустила на себя свой обычный вид, погрозила кулаком, обозвала Дебору «тупой сучкой», а потом завопила ей вслед: «Ты меня еще попомнишь!» Но Дебора только улыбнулась, понимая, что Элен проклинает не ее, а это «всякое бывает».
Они прошли через незапирающийся южный подъезд и встретили врача-новичка. При виде Деборы он посветлел лицом.
— Привет! — улыбнулся он одними глазами. — С новосельем!
Разговаривал он уважительно. Однако Дебора не учла, что ей, скорее всего, ударил в голову первый хмель встречи с незнакомым миром. «Однако же Новичок не осуждает», — смиренно прошептала она ирским богам.
— Странно. Никогда об этом не думала, — говорила Дебора доктору Фрид, — о том, что у евреев существует своя форма нетерпимости. Раньше среди моих знакомых были только иудеи, а остальным я не доверяла ни на грош. Но ведь и новенький, доктор Хилл, и Карла — протестанты, Элен — католичка, а мисс Корал — из каких-то воинствующих баптистов…
— Ну и?..
— И у меня возникла забавная мысль. Я делаю из них иудеев, чтобы они стали мне ближе.
— А как ты это делаешь?
— Понимаете, мало просто забыть, что они другой веры, что они, как нам все время твердили, в конце концов предадут. Вдобавок к этому надо еще забыть, что они не евреи. Вчера Карла захотела узнать мое мнение об одном человеке. И я ответила: «Знаю я таких: плачет в Пурим, чтобы только выделиться». По виду Карлы и после долгих размышлений я поняла, что до нее не сразу дошли мои слова, так как она не еврейка.
— А ты можешь оставить людей такими, как есть, и любить, несмотря ни на что?
— Этому меня научила больница, — медленно выговорила Дебора. — Когда ты шизик, уже не важно, кто ты: шизанутый иудей или шизанутый евангелист…
Доктор Фрид обратилась мыслями к одной своей давней статье, в которой рассматривалось, какими способами врач может подготовить выздоравливающего пациента к тому, что его новообретенное здоровье неминуемо натолкнется на проявления безумия во внешнем мире. «У этой девушки, хотелось бы верить, здоровье когда-нибудь выразится в укреплении разума и увеличении степени свободы». Тут в ней возобладал профессионализм, и она заговорила вслух:
— Как хорошо, что ты сама дошла до этой идеи! Но я хочу поговорить о другом. Мне запомнился один твой рассказ — о том, как ты чуть не выбросила из окна свою сестру, совсем еще крошку, — и что-то до сих пор не дает мне покоя, что-то здесь не так. Расскажи-ка мне все сначала.
Дебора вновь пересказала свои воспоминания: как в колыбели лежало дитя, чья уродливость была очевидна для нее и почему-то совершенно незаметна для остальных; как она держала это маленькое существо в оконном проеме, но с появлением мамы чуть не сгорела от позора за свою ненависть и за это разоблачение, а потом, когда пришла любовь, ее все время трясло от мысли, что в тот день она могла убить Сьюзи. Над этим происшествием витал образ всеведущих, придавленных стыдом и унынием родителей, которые из милосердия помалкивали.
— Окно было открыто? — спросила Фуриайя.
— Да, но я помню, что распахнула его пошире.
— Настежь?
— Достаточно для того, чтобы высунуться вместе с ребенком.
— Понятно. Значит, ты распахнула окно, высунулась, чтобы проверить, достаточно ли широк проем, а потом взяла на руки малышку?
— Нет, я сначала взяла ее на руки, а потом решила убить.
— Понятно. — Фуриайя откинулась назад, как мистер Пиквик после доброго обеда. — Я сейчас выступаю в роли следователя, — заявила она, — и могу сказать: история твоя весьма сомнительна! Пятилетняя девочка берет на руки крепенькую новорожденную, подносит к окну, своим весом удерживает на подоконнике, а сама открывает раму, примеряется, как бы половчее высунуться наружу, поднимает малышку с подоконника и держит на вытянутых руках в проеме окна, готовая отпустить. Тут появляется мать, и в мгновение ока эта пятилетняя девочка втягивает сестренку обратно, та начинает плакать, и мать прижимает ее к груди…
— Нет, к маминому приходу Сьюзи уже была в колыбельке.
— Любопытно, — отметила Фуриайя. — Значит, либо я сошла с ума, либо ты сочинила историю про то, как в возрасте пяти лет вошла в комнату, где увидела лежащую в колыбели сестру и возненавидела ее до такой степени, что решила убить?
— Но я помню…
— Ты можешь помнить чувство ненависти, но факты говорят против тебя. Что сказала твоя мать, когда вошла? Что-то вроде «Положи ее!» или «Не урони малышку!»?
— Нет. Я точно помню. Она спросила: «Что ты здесь делаешь?» — и тут… я помню… тут Сьюзи заплакала.
— Больше всего в этой истории меня удивляет, что я была настолько занята твоими эмоциями — ненавистью и болью, — что упустила из виду факты, а они вопили о себе вновь и вновь, пока я не обратила на них внимание. Ненависть была реальной, Дебора, и боль тоже, но в том возрасте ты не смогла бы сделать и половины того, о чем рассказываешь, а стыд, который ты все эти годы приписывала родителям, на деле был лишь твоим собственным чувством вины за то, что ты желала смерти новорожденной сестре. Под влиянием ложной идеи своего могущества (от которой ты не сумела избавиться из-за болезни) ты преобразовала эти мысли в воспоминания.
— Нельзя исключать, что все произошло именно так, как я говорю. Долгие годы у меня не было ни малейших сомнений.
— Да, верно, — улыбнулась Фуриайя, — но ты больше не сможешь хлестать себя этой розгой. Тоже мне, убийца — пятилетняя кроха, ревниво созерцающая люльку какой-то самозванки.
— Колыбельку, — поправила Дебора.
— Такая, на ножках? Ты бы туда не дотянулась. С завтрашнего дня увольняюсь из сыскного агентства!
Дебора вернулась в ту комнату пятилетней девочкой, которая, стоя рядом с отцом, разглядывает новорожденное дитя. Ее глаза — на уровне костяшек отцовских пальцев; она поднимается на цыпочки, чтобы сквозь прутья заглянуть внутрь.
— Я к ней даже не прикасалась, — растерянно проговорила она. — Даже не прикасалась…
— Коль скоро ты вернулась в те дни, давай пройдемся по ним вместе, — сказала Фуриайя.
Дебора стала рассказывать, насколько ярким был год, сменившийся вечным мраком. Она исследовала быстротечный, волшебный отрезок времени, когда в будущее смотришь с надеждой. Теперь ей открылось, что в тот год, даже под гнетом ложного убийства и свержения с трона принцессы, она все же не была приговорена к уничтожению. В то время — оно сейчас нахлынуло мощной волной смысла — она еще была верна жизни и дышала жаждой настоящего и будущего.
Из солнечного пятого года своей биографии она вернулась в слезах. При виде ее слез Фуриайя покивала:
— Одобряю.
Тут Дебора поняла, что ее счастливое детство и есть доказательство того, что на ней не лежит печать генетического проклятья — проклятья крови и плоти. Было время, когда она страдала, но все же светилась жизнью. Она разрыдалась. Этот плач, хриплый, неудержимый, горький, еще был для нее внове, и когда он затих, Фуриайе пришлось спросить, хорошо ли Дебора «выплакалась», почувствовала ли его целительную силу.
— Какое сегодня число? — спросила Дебора.
— Пятнадцатое декабря. А что?
— Просто мысли вслух. В Ире время течет по своим законам. Вы же знаете: там два календаря и даты исчисляются промежутками между судебными заседаниями Синклита.
— Да.
— Так вот: я сейчас вспомнила, что сегодня — Четвертое Восхождение к Анноту. Иными словами, сейчас мы в восходящем календаре.
От испуга она даже не смогла признать, что, похоже, каким-то чудом вознеслась из Ада в Чистилище.
Когда Дебора вышла из докторского флигеля, чтобы вернуться в отделение, шел ледяной дождь. Холод мира причин и следствий пробрал ее до костей и наполнил чувством благодарности, потому как он подчинялся законам и сезонам земли. В Заповеднике чернели влажные ветви деревьев. Высоко над головой она увидела Идат, ступавшую по могучей ветви. Покровы богини мерцали, как воздух над огнем.
«Страдай, жертва», — приветствовала ее Идат.
«О, Идат! — отвечала Дебора по-ирски. — Земля сейчас так прекрасна… почему же это столь разрушительно — принадлежать и к Иру, и к Данности?»
«Ну не прекрасна ли я на этом дереве?» — спросила богиня.
Вопросы на языке Ира были особенно мучительны, потому что их знакомая форма предоставляла мнимую возможность спрашивать о чем угодно. Идат-Лицедейка простых ответов не давала.
«Останусь-ка я, пожалуй, женщиной, — говорила она теперь. — У тебя, по крайней мере, будет пример для подражания».
Дебора знала, что никогда не станет подражать Идат. Они отличались во всем, но прежде всего Идат была богиней, причем невозможно прекрасной, никак не связанной с миром Данности. Когда Идат плакала, слезы ее превращались в бриллианты. И жила она не по земным законам.
«Останься со мной», — молила Дебора, обращаясь к Иру и добавляя слово, означавшее «навсегда». Ответа не было.
За ужином Карла выглядела особенно взвинченной. Руки дрожали, землистое лицо приобрело болезненный вид. Дебора постаралась ее успокоить, глядя на нее «чистыми» земными глазами, но все напрасно. Когда налили кофе, чашка выскользнула из трясущихся рук Карлы и разбилась, словно хрупкая реальность их общего бытия. Еще не смолк звон разбившегося фаянса, а сидящие за столом уже сориентировались в этой структуре, и в душе у каждой знакомыми дорожками пробежал страх.
Тогда Дебора взяла в свои ладони руки Карлы. Руки успокоились. Успокоилась Карла. Все произошло очень быстро, быстрее, чем промелькнула мысль о том, что время и сезоны Ира измеряются внутренним настроем, а Четвертое Восхождение к Анноту — подходящее время для риска… быстрее, чем воспоминание о неоплаченном долге перед Сильвией и о том, что она до сих пор мечтала поцеловать Макферсона, — все это ушло куда-то далеко. Дебора взглянула на Карлу. Лицо подруги по-прежнему было бледным, как от пощечины, но все же она выглядела лучше. Руки расслабились. Никто не произнес ни слова, и вскоре медсестра, объявляя об окончании ужина, слегка подняла свою белую руку — ровно настолько, чтобы всем было видно, и почти все пациентки поднялись из-за столов и вышли. И тогда, по этому знаку, Деб осознала, что она открылась Карле. Поднимаясь по лестнице, она думала, что, наверное… нет, «наверное» — это слишком сильно сказано… что на треть от «быть может» она уже некто больший, чем бывшая-почти-убийца. Она — притом что… земной мир бьет как кулак, он есть, и этого не отменить и не забыть… — чуть более здоровая.
Глава двадцать четвертая
Сон ее начался с зимней тьмы. Из этой тьмы протянулась большая рука, сжатая в кулак. Мужская рука, мощная, расчерченная тенями во впадинах между костями и сухожилиями. Кулак разжался: на продолговатой плоскости ладони лежало три уголька. Рука медленно сжалась, в кулаке образовалось сильнейшее давление. Из этого давления возник белый жар, который стал нарастать. Появилось ощущение тяжкого, всесокрушающего времени. Ей казалось, что страдание угольков, близкое к невыносимости, перешло внутрь ее собственного туловища. В конце концов она крикнула этой руке: «Прекрати! Когда же это закончится? Даже камень такого не выдержит… даже камень!..»
Через долгое, по ее представлению, время, какого не вынесло бы ни одно молекулярное тело, мучительная боль в кулаке ослабла. Кулак медленно повернулся и медленно разжался.
Бриллианты, три штуки.
Три бриллианта чистой воды, играющие на свету, лежали на доброй ладони. Глубокий голос позвал: «Дебора!», а потом еще раз, нежно: «Дебора, это, наверное, ты».
Глава двадцать пятая
Первого января, движимая страстным желанием, перевесившим страх, Дебора на пять дней уехала домой. Она понимала, что выглядит странно — помимо шрамов и ожогов, ее отличала печать изоляции и одиночества, но жажда перемен вытесняла эти ощущения.
Близкие встретили ее, как покорительницу Вселенной. Была предупреждена Сьюзи, был предупрежден Джейкоб. Были предупреждены бабушки и дедушки и все тети и дяди; трепеща от опасения и жалости, они всячески проявляли свою любовь, стараясь показать, что по-прежнему остаются одной семьей. Были приготовлены ее любимые блюда, пришли все ее любимые родственники, дабы засвидетельствовать, что «при всем том» и «наперекор всему»…
Дебора пыталась есть эти праздничные угощения и беседовать с гостями, но быстро утомлялась. В клинике союзы возникали стремительно и ненадолго, причем, как правило, не более чем с двумя-тремя больными одновременно, и столь же внезапно распадались, если на кого-то из больных вновь находило помрачение. Теперь же нити разговора сплетались в замысловатый узор. И Дебора не смогла бы никому объяснить, насколько гигантской казалась ей бездна между нею и остальным человечеством, хотя она тоже оставалась человеком.
Когда она подсела к Джейкобу, тот заговорил с теплотой и гордостью, патетически и в то же время трогательно:
— Готов поспорить, ТАМ такого мяса не подают.
Дебора хотела было ответить, что есть непреодолимое препятствие — ножи и вилки, но вовремя себя остановила.
— Скоро ты вернешься домой насовсем, — сказал ей отец.
Дебора так побледнела, что Эстер бросилась между ними, как самоубийца с небоскреба.
— Так-так, что тут у нас… Грибы — просто объеденье. Видишь, Дебора, на столе — все твои любимые кушанья!
Сьюзи сидела напротив, переводя взгляд с родителей на смущенную, измочаленную старшую (хотя на самом деле младше ее самой) сестру, которую встретили с помпой и обхаживали так, словно ее приезд домой был едва ли не чудом. Эту нынешнюю Дебору полагалось оберегать. Она ничем не напоминала ту сестру, какую хотела видеть рядом с собой Сьюзи, — не пропускающую танцевальных вечеров, окруженную мальчиками, шикарную; но почему-то именно с ней связывалось теперь, будто в силу каких-то ошибочных чар, счастье и спокойствие всей родни.
— Послушай, Дебби, — сказала она, — мама с папой мне уже рассказали, что никакая это не школа. Всем было бы проще не прикидываться хранителями великой тайны.
А сама подумала: во всяком случае, было бы проще объяснить по телефону подругам, что давно запланированный пикник пройдет без меня, поскольку я нужна маме с папой, да и Дебби я тоже нужна, причем до ужаса. Вот досада…
У нее увлажнились глаза: она так давно ждала этой вылазки на природу. Смахнуть слезы Сьюзи не решилась, чтобы не привлекать внимания.
Она встала, понимая, что родным желательно поговорить без нее.
— Извините, мне нужно позвонить Аннетт.
— Ты едешь с ребятами на пикник? — уточнила Эстер, памятуя, как Сьюзи взахлеб рассказывала о планах на эти выходные.
— Нет… как-нибудь в другой раз.
— Из-за меня? — спросила Дебора.
— Нет, просто неохота.
Неумелая ложь. Дебора, чей разум был изможден и затуманен очередным днем внешнего мира, вдруг остро ощутила чувства сестры.
— Вы договаривались сначала здесь собраться или как? — спросила она.
Сьюзи обернулась и чуть не произнесла то, что вертелось на языке, но осеклась и ответила:
— Ты приехала совсем ненадолго. На этой неделе я хочу побыть с тобой.
— Хватит со мной нянчиться, говори как есть! — воскликнула Дебора, утопая в этом мире.
— Нет! — выкрикнула Сьюзи, отвернулась и побежала звонить по телефону.
— Она тебя очень любит, — произнесла Эстер. — Наши так стараются… все острые выступы сгладили.
Дебора слышала только свое затрудненное дыхание: она взбиралась по острым выступам на Эверест, в то время как остальные прогуливались по ровной тропинке. Оступаясь и подтягиваясь на бесконечной отвесной скале, она чувствовала, что каждое проявление заботы и предупредительности любящих мучителей оборачивается неоплаченным долгом, давящим на нее, как свинцовая глыба. Среди равных благодарность взаимна, но от благодарности перед этими титанами, которые считали себя обычными людьми и не подозревали у себя невероятной жизнестойкости, Дебора чувствовала себя еще более никчемной, потерянной и одинокой.
Когда Дебора отправилась спать, Эстер и Джейкоб смущенно вошли к ней в комнату с целым арсеналом успокоительных, прописанных ей в клинике. Пока Дебора глотала таблетки, Джейкоб отворачивался, но потом, поцеловав ее на ночь, проникновенно объявил:
— Уютно здесь, правда? Это твой уголок. — У нее внутри зашевелилась опухоль, а отец продолжал: — Дебби, тебе вовсе не обязательно оставаться с теми… крикуньями.
— С какими крикуньями? — переспросила Дебора, не зная, слышал ли он от нее хоть что-нибудь громче шепота, и всей душой надеясь, что нет.
— Ну, когда мы к тебе приезжали… мы слышали…
Муки от одного лишь вида отца вылились в смешок.
— А, понимаю… Наверное, это была тупая толстуха Люси Мартенсон. Вечно маячит в окнах четвертого отделения и мстит всем подряд, изображая Тарзана. Посетители пугаются до смерти.
Джейкобу и в голову не приходило, что вопли, до сих пор преследовавшие его во сне, могли исходить от человеческого существа, от некой Люси, и после этого разъяснения ему полегчало, но, желая Деборе спокойной ночи, он обнял ее крепче обычного.
Темноту ее комнаты освещали персонажи Ира.
«Мы никогда не испытывали к тебе ненависти», — убеждал Лактамеон, сверкая на своем норовистом коне.
«А жестокость требовалась для защиты!» — вторил ему Антеррабей, размахивая снопом искр.
«Мы пришли в такую пору, когда надежды пересыхают и умирают!» — выкрикнул Лактамеон.
«Мы пришли с дарами, — сообщил Антеррабей. — Когда ты нигде больше не смеялась, ты смеялась с нами вместе».
Она знала: это правда. Даже сейчас, наслаждаясь этим миром, напоенным богатством красок и ароматов, которые на самом-то деле исходили от того, кто их воспринимает; даже полюбив причину и следствие, все зримое и слышимое, и даже время, подвластное здешним законам, она не могла решить, правильно ли будет ради этого отказаться от Ира. Конечно, Ир, занимавший ее мысли, был Иром прежним — не бунтарским Иром конца света, не Иром недавним, что отправил свою царицу падать в глубины безумия, а исконным царством ранних лет, со скалистой ласточкой вместо орла, с бескрайним небом, зелеными склонами, где паслись дикие табуны, и падениями вместе с Антеррабеем, оставлявшими за собой шлейф света.
Перемены начались с приходом Цензора после длительного, устрашающего перерыва, который, как она теперь понимала, был результатом столкновения двух миров. Цензор сулил защиту и обещал не допускать соединения миров, дабы не мешать ей безбоязненно переходить из одного в другой и, будучи свободной в Ире, на словах подчиняться серой, одинокой Земле. В периоды величайшей радости это счастье было столь велико, что она просто летала — ноги сами отрывались от земной тверди. Время чистого полета, радостного, идеального полета оказалось прискорбно быстротечным, и Цензор, как тиран, взялся управлять обоими мирами. Ир по-прежнему дарил красоту и великую радость, но и красота, и радость зависели от переменчивой милости Цензора.
И вот теперь она опять оказалась перед выбором, но на сей раз мера земных добродетелей приобрела новое качество вдобавок ко всем прочим: надежду, маленькое-маленькое «быть может». И все же Земля грозила опасностями и предательством, особенно вновьприбывшей. Снотворное начинало притуплять ее чувства, но в последний миг созерцания верх одержала яркость Ира.
Весь следующий день, а потом и еще один Сьюзи не выходила из дома. К ним по-прежнему потоком текли родственники, тщательно сгруппированные по степени осведомленности о «состоянии» Деборы. Та привезла домой стопку своих рисунков, чтобы показать Эстер, которая всегда была ей первым судьей, и Эстер гордо демонстрировала их то одной компании теток и бабушек, то другой; те разглядывали каждый лист с изумленной и терпеливой гордостью родных. Ни одного изображения больницы там не было, но были портреты Элен, растрепанной безумицы с блуждающим взглядом, которая смотрела в зеркало и видела миловидную подругу по колледжу со старого фото, и Констанции с двумя медсестрами, выводившими ее на прогулку в Заповедник: три миниатюрные фигурки, уходящие в необозримую даль. От Деборы требовались объяснения техники рисунка. Почти все гости рассыпались, по своему обыкновению, в безудержных похвалах и уходили, поцеловав Сьюзи и отпустив шутку насчет очередного покоренного ею сердца («Да нет же, тетя Сельма, это было месяц назад — мы с ним только разок на вечеринку сходили»).
За ужином Эстер похвалила Дебору за уравновешенность и обаяние, а Дебора думала лишь о том, что в течение этих двух дней Сьюзи как-то померкла. Ее никто не удерживал и не заставлял выслушивать похвалы в адрес блудной старшей сестры, но она сидела в четырех стенах. Уж не подействовал ли на нее медленный яд, которого, как подсказывал Деборе голос сознания, не существовало, но тот же голос нашептывал из глубин, неподвластных логике и воле: «Они лгут! Они лгут!»
В тот вечер Дебора приняла снотворное раньше обычного и пошла к себе. Уплывая, она слышала доносившиеся из другой комнаты голоса Эстер и Сьюзи. Мать с сестрой мучительно спорили.
— Помоги нам, Господи! — сказала Дебора и погрузилась в сон.
— Ты не слышишь, — стонала Сьюзи. — Если речь не идет о Дебби, ты вообще ничего не слышишь, но я же не какая-нибудь глухая, безмозглая тупица!
— Ты несправедлива, — отвечала Эстер. — Она приехала всего на пару дней; из-за этого тебе, естественно, кажется, что вокруг нее все суетятся больше обычного.
— Каждое письмо, — Сьюзи сорвалась на крик, — каждое ваше посещение! Я, между прочим, тоже рисую; я занимаюсь танцами, а прошлым летом в лагере сочинила к празднику две песни. Может, в них нет такой «глубины», как в рисунках Дебби, но ты ни разу не предложила ни бабушке, ни тете Натали с дядей Мэттом послушать мою новую песню или оценить мою шутку.
— Глупенькая, как ты не понимаешь! — почти жестоко заговорила Эстер. — В этом нет необходимости! Нахваливать тебя — это хвастовство. Нахваливать Дебору — это… оправдание…
Спор достиг такого накала, что в гостиную прибежал Джейкоб, уже отошедший ко сну, и прорычал:
— Хватит! Вы мертвого разбудите!
Все поняли этот нечаянный, но точный намек на одурманенную, спящую причину их многолетних душевных страданий и раздоров. Родители и дочь, пристыженные и злые, любящие и отчаявшиеся, разошлись по своим спальням.
В клинику Дебора вернулась с полным чемоданом обновок.
Глава двадцать шестая
Опять воцарилась весна, а зима ушла из Заповедника и с улиц, ведущих в город. Дебора, по-прежнему влюбленная в формы и краски мира, воплощала свои художественные способности десятком различных техник и стилей. В мастерской трудотерапии выбор материалов был небогат, но Дебора с готовностью осваивала шелкографию и гравюру, акварель и гуашь. Ей не терпелось испробовать все земные безделицы, но Ир и темные закоулки Данности старались отбить у нее эту охоту. Земные обычаи и обитатели оставались для нее — она это знала — недосягаемыми, зато материальные предметы открывали новые подступы, обещая свободу и огромное удовлетворение. Больная из новеньких спросила, кто она, имея в виду ее вероисповедание, и Дебора ответила: «Ньютонианка».
Эта новенькая была копией Элен. За ее отрешенностью и внезапными, как от удара, выкриками Дебора угадывала нечто настоящее и сильное. Звали девушку Кармен. Отец ее был мультимиллионером; ей, как понимала Дебора, не светило в скором времени выйти из четвертого отделения. У нее подходил к концу трехмесячный «медовый месяц», которого большинству пациентов хватало, чтобы собрать последние клочки здравомыслия и прикрыть ужасающую наготу. Сталкиваясь с Кармен, Дебора с Карлой переглядывались и без слов говорили: когда эта взорвется, она сама себя размажет по потолку.
— Эй, Кармен, пошли в рекреацию, сразимся в пинг-понг.
— Не могу. Ко мне сегодня отец приедет.
— Хочешь, мы рядом побудем? — спросила Карла.
Дебора понимала, что это предложение помощи. Сами не красавицы, Карла и Дебора все же могли умыться, расчесать волосы и приодеться, чтобы оттеснять от папаши Кармен самых одиозных помешанных с «четверки».
— Не надо, — со свойственной ей апатией ответила Кармен, — он не поймет. Сама справлюсь… должным образом.
— Это как? — уточнила Дебора.
— Не стану перечить… Буду… повиноваться.
По воскресеньям мастерская трудотерапии не работала. На выходных всюду было безлюдно. Даже в надежных стенах клиники воскресенье преодолевалось с трудом. Карла рассказывала, каким мучением оборачивались для нее воскресенья «снаружи», когда не требовалось выходить на работу, и Дебора тоже припомнила, сколь коварно внешний мир распоряжался своими воскресеньями. В будние дни можно было натянуть Видимость на тело и ум, но воскресенье, называвшее себя Днем Отдыха и Раздолья, заставало тебя врасплох. Воскресенье сулило досуг, покой, благолепие и любовь. Иными словами — полное блаженство. Но по воскресеньям, в отличие от прочих дней, Видимость никогда не прикрывала тебя целиком, а воскресный вечер и вовсе выливался в отчаянные попытки спрятать все другие миры до прихода понедельника, требовавшего повторной лжи и невозмутимой личины.
Дебора с Карлой лениво слонялись в полутеплой дымке ранней весны, разглядывали трещины, которыми зима испещрила дорожку, и играли в свою мечтательную игру, придуманную, чтобы только убить время. Они по десять раз разрушали и перестраивали мир — отчасти с самоистязанием, а отчасти с тайной, хрупкой надеждой.
— В моем университете будут запрещены любые компашки и группировки.
— На моей фабрике начальство будет выполнять почти все шаблонные операции — чтобы помнило, как они губительны.
Но ближе всего был для них мирок больничного быта, и по этой причине они бесконечно перестраивали больницы и перетряхивали штаты, закупали оборудование и меняли правила внутреннего распорядка — это составляло центральную часть игры. За разговором они не заметили, как ушли за докторские коттеджи и сестринское общежитие.
— Я бы распорядилась снять все решетки с окон, — говорила Карла.
Дебора не соглашалась.
— Сначала нужно добиться, чтобы больные пошли на поправку и правильно восприняли такое новшество, — указала она. — Иногда приходится бороться с чем-то неподатливым и помещать себя туда, где слабоумным не грозят никакие опасности.
— Давай обяжем дежурных врачей на деле нести дежурство.
— У меня весь медперсонал будет проводить неделю в шкуре больных.
Они оказались на лугу, вдали от последнего больничного корпуса.
— Глянь, куда мы забрели.
— Мне сюда ходу нет, — сказала Дебора.
— Мне тоже.
Им было хорошо. День клонился к вечеру, моросил мелкий дождик, но ни одна не могла заставить себя прекратить этот маленький, но совершенно особый мятеж против воскресенья, надзора и данности. Ошалевшие от удовольствия, они сидели на лугу, подставляя лица весенней мороси, насылаемой Воскресным Богом. Смеркалось. Дождик сделался холоднее. Насквозь промокшие, они встали, чтобы с тоской двинуться обратно.
На краю больничного комплекса их заметили Хенсон и миниатюрная Клири, которые вышли из третьего корпуса и направлялись в главное здание.
— Эй, девушки, а у вас есть разрешение на вечерние прогулки?
— Нету, — ответила Карла. — Но мы уже возвращаемся.
— Ну то-то же.
Медики дождались, чтобы подруги поравнялись с ними, а потом заняли позицию с флангов. Это не лезло ни в какие ворота, подобное возвращение было просто немыслимо, в особенности после свободы, хохота и свежего дождика. Девушки переглянулись. Глаза их сказали «нет». У дверей сопровождающие машинально придвинулись плотнее, и стиснутые пациентки оказались в вестибюле. Когда за ними закрылась входная дверь, момент настал. Карла и Дебора поняли это синхронно и, как будто всю жизнь к этому шли, воспользовались такой возможностью вместе. Хенсон и Клири успели расслабиться. Сразу за входом начинался ряд распашных дверей, и, когда их миновали все четверо, Карла и Дебора, не замедляя шага, просто повернули назад и оставили изумленных провожатых перед болтающимися створками, а сами выскочили на улицу и услышали позади жужжание сигнала тревоги, которое знаменовало побег.
Долго-долго они со смехом мчались прочь по темным дорожкам, сколько хватало сил. Их лупил дождь, в небе полыхали зарницы. Издалека донеслась торжественная песнь Антеррабея о красотах Ира, которые он не показывал много лет. Дебора с Карлой уже стали задыхаться, корчась от боли в боках. Потом, дрожа от холода и свободы, обе перешли на шаг. Их нагоняла пара огней. Это были автомобильные фары.
— Погоня! — задыхаясь, выговорила Карла, и они нырнули в кювет.
Когда огни растворились в темноте, беглянки выбрались из канавы и продолжили путь, довольно посмеиваясь своей прыти и ловкости. Вскоре показалась еще одна машина.
— Второй отряд?
— Не льсти себе, психованная! Это ведь проезжая дорога.
— Береженого Бог бережет… — И они вновь прыгнули в канаву.
Съежившись от холода и тревоги, Дебора впервые задумалась, как им быть дальше. Ни сухой одежды, ни денег. Никакого плана, никакого желания двигаться вперед — они и так зашли слишком далеко. Дебора попыталась припомнить, как Фуриайя учила ее делать то, чего хочется на самом деле, села на землю и привалилась, сама того не понимая, к отбойнику. Карла вытряхивала камешек из туфли. Когда автомобиль промчался мимо, они, перепачканные в грязи и теперь похожие, как близнецы, кое-как поднялись и двинулись вперед.
— Когда-нибудь придется повернуть, — размышляла вслух Дебора.
— Да уж конечно, — отозвалась Карла. — Мне завтра на очередную беседу с врачом. А сейчас просто очень нужно побыть одной, без провожатых и надзирателей, только и всего.
Дебора улыбнулась из темноты:
— Вот-вот. И у меня то же самое.
Путь назад был долгим. Сначала они пели, потом хохотали, слушая, как чавкают промокшие туфли. Беглянки успели миновать главные ворота и вестибюль, общий для второго, третьего и четвертого отделений, — только тогда их «поймали». С учетом, по-видимому, того, что они сбежали и вернулись с такой подкупающей легкостью, их поставили рядом и тут же разделили. Пока Дебора мылась в ванне, ее караулили две санитарки из второй ночной смены: время, стало быть, перевалило за полночь.
— Тебе это еще аукнется, — в праведном гневе бросила одна.
— Мне идти… наверх?
— Веди себя как положено: примешь снотворное — и марш в кровать, тогда на ночь тут останешься, — сказала санитарка. — Вам обеим место в изоляторе.
После ванны, по пути в тот конец коридора, где находились изоляторы, Дебора и ее конвойная прошли мимо Карлы с ее конвойной. Встретившись глазами поверх голов санитарок, подруги перемигнулись. Уже погружась в сон, Дебора успела подумать: это обойдется очень дорого, ну и пусть. Зато теперь она запомнила, как пахнет дождь.
«Двойкой» теперь заведовал новичок — некий доктор Огден. Дебора его не знала, а потому не имела о нем собственного мнения. Карлу она не видела с ночи, когда они заговорщически перемигнулись. Оставалось только припомнить все слухи о предыдущих побегах и придумать что-нибудь в свое оправдание. Ровно в одиннадцать утра ее отконвоировали на первый этаж, в дирекцию. Санитарка постучалась в кабинет доктора Огдена.
— Войдите.
Дебора вошла; за письменным столом сидел не кто иной, как доктор Халле. Очевидно, у нее на лице отразились удивление и восторг, потому что врач с едва заметной улыбкой сообщил:
— Доктор Огден приболел, я вместо него. Мне тоже не вредно сменить обстановку. — Откинувшись на спинку кресла, доктор Халле потер большие пальцы. — Ну, что там у вас произошло?
Она стала рассказывать, где они были. Дважды он ее перебил, чтобы уточнить кое-какие подробности, а дождавшись окончания рассказа, спросил:
— И чья это была затея?
Дебора пустилась в сбивчивые объяснения. Крутившееся у нее в голове ирское словцо, точно характеризующее их чувства, мешало ей выражать мысли на родном языке. В надежде, что ее поймут, она решила перевести хотя бы это единственное слово. Попытка оказалась неудачной, и доктор, внимательно глядя на Дебору, сказал:
— Просто говори как есть.
— Хорошо… — Из-за жгучей потребности выглядеть вменяемой она помедлила, собираясь с духом. — Понимаете… кто сам неловок и бестолков, как я, например, тот преклоняется перед теми, кто на него не похож. Там, где… Там… откуда я пришла, мы говорили, что у таких людей есть атумаи. Эти люди никогда не споткнутся, сделав лишний шаг, а если возьмутся перевязывать сверток, бечевка никогда не окажется на пару дюймов короче нужной длины. На светофоре для них всегда зажигается зеленый свет. Боль настигает их только в тех случаях, когда они к ней готовы и удобно лежат в постели, а шутки слетают у них с языка лишь тогда, когда уместно будет посмеяться. Вчера меня ненадолго посетило атумаи. И Карлу тоже. Нас обеих одновременно. Когда хочется чихнуть, это же не потому, что мы принимаем такое решение, — мы просто чихаем, да и все. Мы ничего не затевали, ни одна из нас не была зачинщицей — все получилось само собой. — Дебора коротко улыбнулась: ей вспомнилось, как они вдвоем рванули обратно за вертящуюся дверь.
— Вы развеялись? — спросил доктор.
— Еще как!
— Понятно, — сказала он. — Сейчас я немного побеседую с Карлой, а ты подожди в коридоре.
Выйдя из кабинета, Дебора столкнулась нос к носу с перепуганной Карлой, которая — тоже под конвоем — ожидала своей очереди за порогом. В ее взгляде читался вопрос. Дебора незаметно, как повелось у бывалых пациенток, узниц, шпионок и монахинь, повела плечами. На Карлу этот жест подействовал как удар. Она вошла в кабинет. Через промежуток времени, растянувшийся, по ощущению, до бесконечности, она высунула голову в коридор и поманила к себе Дебору:
— Зайди… он хочет побеседовать с нами обеими.
На этот раз переглянулись сопровождающие.
Дебора вошла и оценила обстановку. Доктор Халле сохранял мрачность, но у Деборы гора с плеч свалилась, когда она заметила, что он прячет улыбку.
— Вы нарушили правила внутреннего распорядка — сдается мне, сразу восемь, — начал он. — За такое по головке не погладят. Свои действия вы описали одинаково. Задумали развеяться? Причем вместе. Здесь это редкость. Я, можно сказать, вами горжусь… — Спохватившись, он вернулся к вопросам дисциплины. — Не вижу причин отменять ваши послабления режима. На этом все.
Подруги вышли и затворили за собой дверь. Доктор Халле крутанулся на кресле, чтобы посмотреть в окно. На деревьях проклюнулись молодые листочки: кроны напитались весной. Живую изгородь оросили зеленые брызги. Врач представил, как в грозовой тьме эти две девушки с песней разгуливали под струями дождя, и вспомнил, как сам тоже однажды сбежал.
— Как дети! — воскликнул он.
В его голосе звучала досада, смешанная с восхищением и мелкими крупицами зависти.
— А где Кармен? — спросила у Деборы Карла. — Хочу ей рассказать, что у нас все в порядке. Она видела, как мы уходили, а потом наверняка прознала, что было дальше.
— Понятия не имею. Я ее не видела.
Они задали тот же вопрос медсестре.
— Кармен забрали домой. Вчера вечером увезли.
— Мы думали, отец просто повидаться с ней приезжал.
— Так и было, — подтвердила сестра, — но, как видно, пересмотрел свои планы. Я знаю одно: вчера она с ним уехала часов в семь. — Ее тон ясно говорил, что вопросов больше задавать не следует, и подруги заговорили с больными.
— Терри, ты вчера Кармен видела?
— Ага… видела.
— А что случилось-то?
— Она вышла из повиновения.
Дебора с Карлой, вновь переглянувшись, поежились от причуд этого мира и от похвалы доктора Халле, еще звучавшей у них в ушах.
— Мои родители… — заговорила Дебора.
Она знала: они видели от нее больше ненависти, чем любви, но оставили ее здесь. Оставили ее здесь, хотя за долгое время так и не заметили ни малейшего улучшения. Они никогда не требовали от нее срочно выздороветь, чтобы спасти родительскую репутацию. Дебора опустила взгляд и обнаружила, что руки ее вновь жестикулируют, как в Ире, страстно, подсказывая слова для выражения мыслей. Карла, закупоренная у себя в клетушке и отгороженная от посторонних глаз, нашла собственные, особые слова:
— Мои предки дали мне свободу. Кармен ни единого шанса не оставили, а мне…
До Деборы дошло, что борьба за ее здоровье оплачена родителями. Они могли бы забрать ее сразу, как только поняли, что лечение не приносит быстрых результатов. А они верили в будущее, которое, возможно, не сулило им никаких похвал.
— Карла… если бы я не боялась этой свободы до полусмерти, то была бы так благодарна!
Глава двадцать седьмая
Смертельно бледная, с окоченевшими пальцами, надев сиреневое платье в цветочек, совсем не подходящее для тигрицы, во втором отделении появилась Элен. Ее «нормальная» улыбочка смахивала на мину-растяжку. Услышав от Карлы и Деборы, что они рады ее видеть, она обозвала их лицемерками и вруньями, а сама еле заметно показала настоящую улыбку за притворной; им сразу стало ясно, что она не покинула своего тела; как было этому не порадоваться?
После восстановления поблажек ее записали на трудотерапию. Дебора тоже пошла с ней в мастерскую, памятуя, что это пшеничное поле, а охотник мгновенно вскидывает ружье. Учитывая бурное прошлое Элен, о котором до сих пор ходили легенды, ружье могло превратиться в мортиру.
Карла с утра отправилась на терапию к своему лечащему врачу и появилась только к ужину. Она бесшумно вошла в коридор, где сидели Дебора с блокнотом для эскизов и Элен в бигуди.
— Деб… насчет Кармен.
Она протянула подруге газетную вырезку. Во втором отделении печатная продукция была под запретом, но подпольная торговля шла вполне бойко.
Дебора спрятала полоску бумаги между страницами блокнота, успев пробежать глазами заголовок: «Самоубийство дочери магната». Держа блокнот так, чтобы со стороны ничего было не заметно, Дебора начала читать. В заметке со всеми подробностями описывалось, как человек пустил пулю себе в ухо.
— Вы ее знаете? То есть знали? — спросила Элен. — Долго она тут сидела?
— Достаточно, чтобы научиться выходить из повиновения, — ответила Карла.
— А ведь могла бы выкарабкаться, — без выражения отметила Дебора, поднимаясь с пола.
— Ох, Деб, откуда такая уверенность?
— Ты ведь не для того это сказала, чтобы слегка себя помучить? — с горечью спросила Элен.
— Я же не о себе говорю «могла бы выкарабкаться», а о ней.
На их голоса из других помещений потянулись больные. Все знали, о чем идет речь, и по отделению пробежали волны. Рядом наготове стояли сестры, не понимая, что лучше: вмешаться или промолчать. Дебора почувствовала, что напряжение возникло не столько из-за самоубийства Кармен, сколько из-за конфликта между цинизмом, свойственным каждой из них, и слепым, слабым желанием бороться.
К своему удивлению, Дебора невольно заняла сторону маленького «быть может», но не решалась поделиться этой мыслью ни с одной из собеседниц — обе отличались от других пациенток «двойки» и своим здравомыслием, и страхом.
— Слушай, Деб, ты же сама говорила, что Кармен вот-вот взорвется и размажется по потолку, — заметила Карла.
Дебора посмотрела на Карлу, подозревая, что та пытается удержать ее от неосторожных суждений, способных вбить между ними клин.
— Кармен могла бы выкарабкаться, вот и все. У нее была нормальная, здоровая болезнь.
— Сама себе противоречишь!
— Это невозможно!
— Разве?.. Вдумайтесь… болезнь с нормальными, жесткими мучениями, очевидная, которая не прячется за привлекательной поверхностью и не обманывает врачей притворством.
Повисло неловкое молчание, и Дебора волей-неволей уставилась на Линду, «психолога-самоучку», начитанную, щеголявшую терминологией, но безрассудно недальновидную в своей надежде отгородиться словами от боли. Напуганная этим взглядом и таким определением, Линда гневно бросила:
— Курам на смех… Ты просто вербализуешь свои защитные силы.
Дебора попыталась выразиться яснее, в более практическом смысле.
— Посмотрите на тех, кто поступает в мужское отделение первичной госпитализации: все разумные, как на подбор, «вменяемые», остроумные. Персонал в них души не чает, просто по-человечески, но они попали сюда и сидят здесь годами — никто и ничто не может им помочь. Они, похоже, не очень-то страдают, потому что ничего особенного не чувствуют. Их болезнь — болезненная. А возьмите мисс Корал с «четверки»: хоть и больная, но чувствительная, она борется, живет…
Голос ее угас перед лицом всеобщего гнева и недоверия, но внезапно она вновь ощутила ту же тихую мощь открывающегося мира, которую прочувствовала тогда на «четверке». Только сейчас это ощущение пришло более настойчиво и страстно.
— Кто живет, тот борется, — продолжила Дебора. — Это одно и то же. Я все равно считаю, что Кармен могла выкарабкаться.
Тут спор прервала медсестра; Дебора обвела глазами окружавшие ее лица и встретила только злобу. Уж слишком чувствительный нерв задела ее фраза. Нерв отделения номер два — отчаянную надежду, что фальшивое «все хорошо, все хорошо» сбудется для каждой: чтобы надежда сбылась, нужно лишь подольше притворяться. Неужели «снаружи» от страха так же цепляются за эту условность?
— От тебя по всей клинике звон, — сказала Карла перед отбоем.
— Удивляешься, как я, такая заноза, дожила до этих лет?
— Я буду по тебе скучать, Деб.
В ирской дали ударила пушка.
— В каком смысле? Почему?
— Выписываюсь я — хочу еще одну попытку сделать.
Страх обрушился на Дебору резко, как пощечина, и застал ее врасплох, но уроки Фуриайи не прошли бесследно — содрогнувшись, она все же задалась вопросом: это страх за себя или за Карлу? Мир переманил мою подругу? Не оттого ли я боюсь, что вскоре и мне придется отсюда уйти?
Отчасти это был все тот же страх, из-за которого другие отшатнулись, когда она дала определение «нормальной, здоровой болезни». Дебора грустно улыбнулась.
— Сильная штука эта терапия, — заметила Карла, — если мы с тобой на целую милю в город удрали. Я буду подыскивать такую работу, где не придется торчать в тесной каморке. Может, надо было раньше об этом подумать. — В ее голосе звучали боязнь и усталость.
— Я тоже буду скучать, — выдавила Дебора.
— Может, и ты вскорости выйдешь.
Дебора хотела ответить «А как же!», но понимала, что ее страх тут же начнет переводить слова на какой-нибудь другой язык, а потому промолчала. Страх окутывал ее, как туман.
Больная, занявшая место Карлы, мягкая и великодушная жертва многолетнего расстройства памяти, прошла через добрый десяток лечебниц. Память ей стерли, но болезнь от этого не прошла. Новенькая приписывала себе десятки совершенно разных пар родителей.
— У нас всегда была музыкальная семья… — туманно заявляла она. — Мой отец… Падеревский[12], а мать — Софи Такер[13]. Поэтому я такая нервная.
Деборе она понравилась, и вскоре они перестали обсуждать семейные дела и, в частности, трения других ее родителей — Греты Гарбо и Уилла Роджерса[14].
Жажда нового мира, проснувшаяся в Деборе, подталкивала ее все дальше. В коридоре и в мастерской трудотерапии она старалась занять место рядом с практикантками, чтобы послушать их рассказы. Интересовалась, как они живут, есть ли у них родня, что они планируют делать после завершения учебы. Узнав, как получают разрешение на выход в город, она смотрела, втягивала запахи, наблюдала за сменой времен года.
Эта жажда гнала Дебору даже туда, где никто не горел желанием ее видеть. Чтобы втянуться в общественную жизнь города, она записалась в два церковных хора, а потом еще расспросила проповедника методистской церкви о молодежном клубе. Оба они знали, что в клуб ее не примут: клиника и душевнобольные пациенты давно вызывали у этого небольшого, изолированного сообщества только страх и насмешки. Зато усталые, тихие женщины из церковного хора не брались измерить или хотя бы предположить, сколь сильно поглощена мирскими делами прибившаяся к ним девушка. Притом что с ней никто не общался, она приходила раз за разом. Из нее делали невидимку, но она все равно приходила.
В конце концов, преодолев страх, волнение и тревогу, собрав в кулак упрямство и волю, Дебора подала заявление на самостоятельный выход за пределы больничной территории. Машина заработала, пришел ответ, и на лице своей соседки по палате Дебора прочла те же чувства, какие испытала сама в отношении Карлы, а до этого — Дорис Риверы: благоговение, страх, злость, зависть, но в первую очередь — сокрушительное одиночество.
— Ну и уходи, мне-то что? — сказала ее соседка. — Сама знаешь, я не больная, меня здесь насильно никто не держит. Я собираю материал для диссертации. Скоро закончу, подхвачусь — и поминай как звали.
Когда Дебора зашла попрощаться, та посмотрела на нее как на незнакомку.
В отделе социальной поддержки имелся список городских адресов, где сдавали жилье амбулаторным больным. Насколько знала Дебора из больничных сплетен и из своих вылазок в город, по большей части это были убогие, темные комнатушки, принявшие на себя позор прокаженных, которые там селились…
— Есть пара новых адресов, куда мы еще никого не направляли. Далековато, правда: на другом конце города.
Зажмурившись, Дебора ткнула пальцем в список.
— По закону мы обязаны засвидетельствовать…
— Да, я знаю, — перебила Дебора и с содроганием вспомнила, как ее возили в больницу Святой Агнессы по поводу травмы лодыжки («Там у вас буйные?»).
— Я должна тебя проводить до места, — сказала сотрудница отдела. — Так положено…
Они стояли рядом у входа в обшарпанный дом; им открыла хозяйка. Дебора пристально вглядывалась в ее лицо, ища признаки настороженности и замкнутости, а сопровождающая тем временем давала необходимые пояснения. Престарелая хозяйка слушала вполуха. Дебора даже усомнилась, понимает ли старушка, что ей втолковывают.
Когда провожатая умолкла, хозяйка жестом пригласила их войти:
— Надеюсь, комнатка вам понравится.
— Ваш адрес нам дали в психиатрической клинике. — Провожатая отчаялась достучаться.
— Вот как?.. Ну что ж, смотрите: эта комнатка посветлее, а другая ближе к удобствам, сами понимаете.
После ухода сопровождающей хозяйка только сказала:
— Очень прошу, не засоряй унитаз, он старый и чуток привередливый.
— Ни за что в жизни, — заверила Дебора.
Оказалось, хозяйка, миссис Кинг, была приезжей и не трепетала перед жупелом «Здешних Мест». В умах большинства горожан сохранялось боязливое презрение, рожденное массой инцидентов и жутких историй. Дебора не раз видела, как матери запрещали детям приближаться к «Капитану», который некогда служил на флоте и сам с собой разговаривал на ходу. В отношении Деборы, у которой был, так сказать, более осмысленный вид, горожане не испытывали такого страха. Равно как и других эмоций. Притом что Дебора ходила в церковь на спевки, посещала школьный кружок рукоделия и даже молодежный клуб выходного дня («Приглашаются все желающие»), ей лишь вручали томик псалмов, предоставляли доступ к швейной машинке, показывали карту местности и бросали «добрый вечер» и «до свидания». Все были с нею очень вежливы, она отвечала тем же, но люди отгораживались от нее стеной.
— Тому виной город или моя физиономия?
— Видимо, и то и другое, — отвечала Фуриайя. — Впрочем, твое лицо, по-моему, в полном порядке… разве что при знакомстве с новыми людьми на нем отражается некоторая тревога.
Дебора и доктор Фрид работали без воодушевления: просто выполняли дневную норму умственного труда, поскольку новые свободы повлекли за собой новые коллизии с прошлым.
— Я хочу, чтобы ты еще раз оглянулась назад, в прошлое, — начала Фуриайя, — и сказала мне, пробиваются ли сейчас лучи света сквозь ту серость, о которой мы с тобой говорили.
На Дебору нахлынули воспоминания. В царство упадка и бед, которому, казалось, нет конца и края, теперь волшебным образом проникали солнечные блики.
— Да… да… вижу! — улыбнулась она. — Вроде бы мне даже вспоминаются целые дни, залитые солнцем… и был еще год, когда мы жили в своем доме, пока не вернулись в Чикаго… и у меня была подружка… как же я могла забыть!
— У тебя была подружка?
— До переезда сюда… и между прочим, не какая-нибудь загубленная, ей только нужно было привыкнуть к новшествам городской жизни. Начинала она как все, к кому взывает нганон… одинокая, иностранка… но она быстро приспособилась и осталась нормальной… то есть не загубленной!
— В последние годы ты получала о ней какие-нибудь вести?
— Да, конечно! Она поступила в колледж… почему я раньше о ней не вспоминала?
— Когда ты была серьезно больна, вспомнить друзей или солнечные лучи можно было, только изменив всю картину мира, а она не допускала никаких перемен. Если человек отрезает себя от мира, на то всегда есть веская причина, и не одна. Теперь, когда ты вернулась в этот мир, у тебя появилась возможность вспомнить и то, что соседствовало с тьмой. А тьма казалась тьмой главным образом потому, что она противостояла свету любви и причастности к истине.
— Но Ир был прекрасным и тоже истинным, да и недостатка в любви там не было…
— Дело не в языке и даже не в богах, — ответила Фуриайя, — а в их власти отгораживать тебя от мира, чем и является болезнь.
— До чего же приятно побродить вместе с Лактамеоном, когда он в добром расположении духа! После кружка рукоделия, где меня никто не замечает, после репетиции хора, в котором я всем чужая, так здорово прогуляться до дому с тем, кто умеет смеяться, дурачиться, превращаться в красавца и читать стихи, от которых наворачиваются слезы, а взгляд устремляется к звездам.
— Ты сама понимаешь — понимаешь ведь, правда? — что сотворила его из себя: из своего собственного чувства юмора, из своей красоты, — мягко проговорила Фуриайя.
— Да… теперь понимаю. — Признание далось непросто.
— Когда ты в последний раз все это видела?
— То есть своими глазами?
Фуриайя кивнула.
— Да я, наверное, всегда это видела, особенно издали, с безопасного расстояния, но в течение многих лет это лишь приближалось. На прошлой неделе я тайно смеялась с Идатом и Антеррабеем. Они взяли стихотворение Горация и положили на хоральную музыку, а когда запели, я сказала: «Этот текст я знаю наизусть от начала до конца». И Антеррабей ответил: «Еще бы!» А потом мы стали пикироваться — шутили и в то же время подкалывали друг друга, и я сказала: «Научите меня математике», а они засмеялись, но признали, что я уже обошла их своими знаниями. Потом у нас возникла перебранка, мы сыпали оскорблениями, но и хохотали, и старались побольнее ранить. Тогда я и говорю Антеррабею: «Не моим ли пламенем ты горишь?», а он: «Разве игра не стоит свеч?» Я спрашиваю: «Тебе хватает и света и тепла?», а он: «На твой век мне хватит». А я ему: «На весь век? Навсегда? Это спорная территория, твоя территория».
— А понимаешь ли ты теперь, что Синклит был критикой отдельных участков твоего собственного разума? — спросила Фуриайя.
— Мне страшно, до сих пор страшно, что Избранные могут оказаться всамделишными. Вот бы научиться прогонять их по своему хотенью.
Фуриайя напомнила ей, сколь беспощадны были Избранные и какими неприглядными долго-долго оставались боги. Только теперь, когда она стала с ними бороться, они начали искушать ее остроумием и поэзией, потому как с привлекательными духами бороться куда тяжелее.
Пока у Деборы в памяти сохранялся свет, Фуриайя спросила:
— А как поживает твоя новая подруга — Карла? Вы с нею видитесь? — И Дебора стала рассказывать о том странном происшествии.
В последнее время они с Карлой виделись редко, но при каждой встрече между ними возникала особая душевная близость. Вероятно, им было бы нетрудно подружиться и в других обстоятельствах, но, поскольку они вместе лечились и теперь с боем выкарабкались, их привязанность освещалась ореолом начала жизни и новой борьбы. Днем Карла работала где-то лаборанткой, а вечерами вынужденно знакомилась с новыми веяниями, которые прошли мимо зарешеченных окон за пять лет ее болезни и три госпитализации.
Их сблизило схожее прошлое, множество страхов и хрупких, призрачных надежд, но со временем Дебора стала замечать, что при любом упоминании ее занятий рисованием и других нынешних интересов Карла едва заметно менялась. Лицо ее как-то ожесточалось, манера держаться становилась прохладнее. Прежде это не бросалось в глаза, поскольку из-за их недуга тонкие эмоции терялись в мире душевного хаоса, насилия и обманов, исходящих от всех ощущений и органов чувств. Но в один прекрасный день мир прояснился до такой степени, что Дебора, заведя разговор о творчестве, увидела отчуждение подруги. На фоне их новой жажды опыта и реальности эта непонятная отстраненность выглядела особенно явственной. Дебора не могла припомнить, чтобы Карла хоть когда-нибудь рассматривала ее работы, но на «четверке» наверняка видела с трудом раздобытые не без ее участия клочки бумаги, сплошь покрытые рисунками. Наверное, Карле они просто-напросто не понравились, по дружбе она держала язык за зубами и оттого злилась. Поэтому Дебора решила не вдаваться в подробности своего увлечения. В этом новом мире открылось так много интересного им обеим — стоило ли толкаться именно у этого окошка?
В минувшую субботу перед сном Дебора представляла, как будет рассказывать Карле про новую квартирантку и про хозяйского зятя. Ей приснился сон.
Как будто ее окутала зимняя ночь. В иссиня-черном небе зябко мерцали звезды. Над ослепительно-белыми холмами, открытыми всем ветрам, росли тени надвигающегося бурана. Под ногами хрустел наст, а Дебору занимали мерцающие звезды, и снежные блестки, и навернувшиеся на глаза холодные слезы. Какой-то глубинный голос произнес: «Тебе известно, правда, что звезды — это не только свет, но и звук?»
Прислушавшись, она различила колыбельную, которую напевали звезды, и хор этот был столь прекрасен, что она разрыдалась.
Все тот же голос приказал:
— Посмотри вдаль. — Она вгляделась в линию горизонта и услышала: — Видишь, там изгиб, кривизна. Нынче кривая темноты и скрытого ею пространства — это кривая истории человечества, где каждая отдельно взятая жизнь, с зарождения до смерти, образует свою дугу. Вершина этой кривой и есть поворот истории, а в конечном итоге — рода человеческого.
— Как узнать, где находится моя дуга? — умоляюще спросила она. — Смогу ли я выстоять под натиском века?
— Где твоя дуга, не скажу, — отвечал голос, — но могу показать, где дуга Карлы. Копни вот этот сугроб. Дуга ее зарыта и заморожена… Копай поглубже.
Голыми руками Дебора принялась разбрасывать снег. Он был очень холоден, но она трудилась с таким рвением, будто в этом сугробе лежало спасение. В конце концов пальцы наткнулись на что-то твердое. Она выхватила из снега свою находку. В руке у нее белел обломок кости, толстый и очень прочный, образующий длинный, крутой, ровный изгиб.
— Это — судьба Карлы? — спросила Дебора. — Ее творческий дар?
— Он у нее имеется, только очень глубоко — зарыт и заморожен.
Голос ненадолго умолк, а потом добавил:
— Но до чего же хорош… до чего прочен!
Дебора хотела еще поклянчить, чтобы узреть будущую форму собственного творческого начала, однако сновидение ушло, колыбельная звезд стихла, а потом и вовсе умолкла.
Наутро это яркое видение покинуло ее не сразу, а потому, когда к ней зашла Карла и они стали болтать о всяких мелочах, Дебора не могла сосредоточиться: ее ум занимали крупные звезды, а руки по-прежнему сжимали гладкую изогнутую кость.
— Не сердись, пожалуйста, — выговорила она и пересказала Карле свой сон.
Заслышав, как Дебора принялась раскапывать сугроб, Карла оживилась и стала едва заметно копировать движения Деборы, а узнав, что было похоронено под снегом, сказала:
— Ты и сейчас видишь эту штуку? Как она выглядит?
Дебора описала свою находку и передала, что сказал голос; тут Карла расплакалась.
— По-твоему, это правда… в самом деле?
— Я просто рассказываю, как было дело.
— Не привираешь?.. То есть… тебе взаправду был такой сон?..
— Да, конечно.
Карла утерла глаза.
— Сон и есть сон, да к тому же твой…
— Но он же взаправду был, — сказала Дебора.
— Единственная черта, которую я никогда не смогу переступить… — размышляла вслух Карла, — единственная тяга, в которой никогда не смогу признаться.
Выслушав рассказ Деборы, Фуриайя сказала:
— Ты всегда воспринимала свои способности как нечто само собой разумеющееся, верно? В отчетах, которые составляются на отделении, говорится, что ты умудрялась рисовать в любых условиях, вопреки всем ограничениям. Этот дар был твоим богатством, даже в разгар болезни, а теперь сравни, каково приходится другим, кому меньше повезло в смысле одаренности, до которой нужно еще дорасти. Даже ты вынужденно похоронила под забвением здоровую дружбу, изгнала из памяти солнечные времена. Думаю, этот сон сослужил тебе добрую службу еще в одном отношении: научил понимать Карлу. Очевидно, у многих ты вызываешь легкую зависть: да-да, я понимаю, это звучит как обывательское «везучая», но нет. Ты воспринимаешь как должное свой богатый и неисчерпаемый дар, за который другие отдали бы очень многое. Этот сон, как видно, чуть-чуть открыл тебе глаза. Он пришел к тебе как зов реального мира.
Слушая, как описывает ее Фуриайя, Дебора подумала, что жизнь еще не загублена и не проклята. Они сообща вспомнили древний ирский клич: «В молчаньи, во сне, перед вздохом и делом, всенепременно, нощно и денно, нганон вопиет из себя». Это тайное заклинание, обращенное к заклейменным, превратило Дебору в проводницу и сообщницу ирских происков. Сейчас уже мнилось, что этот ужас развеялся. Неужели ее прикосновение больше не было заразным? Неужели она могла любить и при этом не отравлять, наблюдать — и не губить? Могла ли при помощи обыкновенной кости свидетельствовать в пользу своей подруги?
Глава двадцать восьмая
Последующие месяцы оказались небогаты событиями: Дебора трудилась над серией рисунков тушью и расщепляла прошлое в нелегких беседах с доктором Фрид. Когда мир начал приобретать форму, измерение и цвет, репетиции хора и занятия рукоделием стали представляться слишком хрупкими опорами для надежды. Как ни старалась Дебора держаться приветливо, разумно, компанейски, судьба уготовила ей быть невидимой и неслышной. Она знала назубок литургический год методистов и кое-какие сплетни Клуба прихожанок, но никогда не смогла бы проникнуть ни на дюйм под вежливые маски, которым сама подражала, оказавшись вблизи. Разглядывая поверх текста «Семикратного аминь» на музыку Джона Стайнера ряды воскресных прихожан, она задавалась вопросом: догадался ли хоть кто-нибудь возблагодарить Господа за свой просветленный ум, за друзей, за ощущения холода и боли в ответ на действие законов природы, за понимание этих законов — достаточно глубокое, чтобы лелеять какие-то ожидания, за друзей, за царственно неспешную смену дня и ночи, за искры, летящие к небу, за друзей?.. Догадывался ли хоть кто-нибудь, насколько прекрасна и завидна их жизнь? Все более и более отчетливо ей открывалось, что немногочисленные занятия, выбранные ею для заполнения досуга, предоставляют слишком мало возможностей для проверки и тренировки ее хрупкого «да», адресованного новорожденной реальности.
Она умела читать на латыни и — пусть менее бегло — на древнегреческом, но так и не окончила школу, с которой распрощалась почти четыре года назад, и вспоминала о ней как редкая гостья-чужестранка. Знакомство с городскими газетами показывало, что ей на удивление мало известно об этом мире и его притязаниях. Дебора не могла устроиться на работу, даже на простейшую. Городок, маленький и сонный, не стал бы подвергать официантку или киоскершу особому стрессу, да и большого ума эти профессии не требовали, но без аттестата о школьном образовании не брали никуда.
На первых порах клиника не оказывала ей никакой помощи. Врачи-психиатры все как один были приезжими и много лет не касались вопросов квалифицированного и неквалифицированного труда пациентов. Доктор Фрид деликатно намекала, что Деборе придется решать эту проблему самостоятельно, а заведующий амбулаторным отделением, сказав примерно то же самое, небрежно пообещал разузнать, что к чему. Через две недели он вызвал ее к себе в кабинет и с некоторым удивлением начал:
— Я тут кое с кем переговорил, — похоже, для получения любой работы требуется среднее образование. — Поймав ее затравленный взгляд, он добавил: — Так что… ты еще немного подумай…
Он не знал, что Дебора перед тем сходила посмотреть на местную школу, занимавшую неожиданно большой комплекс зданий на противоположной окраине. Каменные громады застыли, как древняя птица дронт, слишком громоздкая, чтобы взлететь. В эту школу могла бы ходить и Дебора. Примерно в такой же она когда-то училась. Конечно, в школьные годы болезнь ее нарастала, но завершающие ужасы — неусвоенные уроки, внезапные провалы во тьму Ира — настигли ее в точно таких же коридорах, как в этом главном здании, во всех этих строениях, среди таких же лиц, какие наверняка мельтешат и здесь. Она не забыла, как отчаянно боролась, прежде чем отбросить всякое подобие телесности. Вновь вспомнила тайного японца, терзаемого ранами, которые и привели к его поимке, а еще тайную мертвую, терзаемую незримой, несгибаемой Видимостью — тайную подданную и пленницу Антеррабея, Цензора, Синклита Избранных и Жерла.
Хотя она и достигла компромисса со своими пленителями, желание Видимости — достигаемого любой ценой слияния с окружающими — у нее пропало. Эта цена теперь была ей известна: в зажатом и пугливом городишке, среди одноклассников, отделенных от нее трехлетней разницей в возрасте и расстоянием в световые годы, мир обещал стать в лучшем случае необитаемым островом. Хотя она и не принадлежала более к Иру, жуткая отчужденность от Земли, которая прежде что ни день гнала ее через боль в непохожесть, грозила остаться неизменной. Что с Иром, что без Ира — слишком поздно было ей бегать на танцевальные вечера, сколачивать компании, накручивать волосы на бигуди и прикалывать к одежде значки с эмблемой своего класса. «Особым словарем схожести» Дебора наелась досыта.
— Мне девятнадцать лет… — сообщила она конгломерату зданий. — Поздно уже.
Она задрожала под ирским ветром, преодолевшим все мили подлинного и мнимого разъединения.
— Я уже не смогу вернуть себе веселые школьные деньки, — сказала она заведующему амбулаторным отделением, — секцию волейбола, танцульки.
— Но без аттестата зрелости тебя…
— «Non omnia possumus omnes…»[15] — ответила Дебора, напомнив ему, что это Вергилий, но в глубине души знала, что доктор прав.
— Составь-ка список того, что тебе доступно, — посоветовал он.
Дебора понимала, что это надуманное поручение, «чтобы хоть чем-то ее занять», не более чем жонглирование дорожными знаками «тупик». Завотделением не хотел оставаться у нее на крючке и вникать в меркантильные вопросы о хлебе насущном. Дебора могла ему только посочувствовать и решила проявить исполнительность. А вдруг да откроется в написанном слове какая-нибудь возможность, способность или нечто другое, но тоже полезное. Опять перед ней возникло все то же маленькое «быть может» — робкая искорка, без которой не разгорится огонь.
Вернувшись к себе в съемную каморку, она села за стол, взяла лист бумаги и расчертила посредине сверху вниз. Одну графу озаглавила «УМЕНИЯ», вторую — «ВОЗМОЖНАЯ РАБОТА».
Потом она переписала это начисто, опустив пункты четвертый, пятый, седьмой и девятый. Особенно жалко было вычеркивать «наемную убийцу». Она отдавала себе отчет, что не обладает необходимой координацией и ловкостью; ко всему прочему, наемные убийцы должны быть очень жилистыми и гибкими. Ей настолько не хватало атумаи, что жертвы ее даже падали бы, как она понимала, всегда не в ту сторону: вообразив, как на нее падает труп боксера-тяжеловеса, Дебора осознала, что шансов его скинуть практически не будет.
На другой день она отнесла этот список заведующему отделением, но решила не стоять над душой, пока тот будет читать. Даже Антеррабей смутился, видя, как скромны задатки его царицы и жертвы, а Синклит злорадствовал и торжествовал свою правоту. Дебору пугала скудость выбора, предоставленного ей миром. Возможные виды на будущее тянулись перед нею совсем как этот коридор, по которому она сейчас уходила из административного корпуса: длинный тоннель с аккуратными табличками через каждые три метра — и все двери заперты.
— Ой, мисс Блау, — раздался голос у нее за спиной: оказалось, это одна из работниц отдела социальной поддержки. («Ну что еще? — подумала Дебора. — Комнату мне сняли, подыскивать жилье больше не требуется, разве что хозяйка расторгла нынешний договор аренды».) — Доктор Остер говорит, вы в школу поступать собрались. — (Ну вот, ее опять переклинило под неодолимым прессом. Опухоль вскипела краснотой, которая разлилась по всему телу и обожгла глаза.) — Как же я сразу не подумала, — продолжала девушка. — В городе есть учебное заведение, которое как раз и обеспечит вам подготовку.
— К чему? — спросила Дебора.
— К экзаменам.
— К каким еще экзаменам?
— Ну как же: на сертификат, равноценный аттестату зрелости. Вот я и говорю: это, наверное, практическая возможность…
Сотрудница отдела социальной поддержки озадаченно уставилась на Дебору. Та хотела сказать, что сквозь пелену красноты ничего толком не может понять и что это известие, от которого лицо ее побледнело, дает возможность увернуться от пресса.
— Значит, мне не придется посещать городскую школу?
— Нет, я же говорю: в городе имеется частная школа с индивидуальным обучением…
— И я смогу выбирать предметы?
— Вы сами там обсудите все возможности…
— Собеседование — по записи?
— Ну, раз вы пока числитесь на…
— А вы можете меня записать по телефону?
— Да, могу.
— И сообщите, что вам ответят?
Девушка пообещала именно так и сделать; осев на пол, Дебора проводила ее взглядом. Болезненная краснота слабела, но паника не отступала. «Прислушайся к своему сердцу», — посоветовал Антеррабей, падая в полете. А сердце стучало как молот.
«Что это? Что это? — допытывалась она у Ира. — Я же только что была настоящей!» Зрение разрывало и искажало все вокруг, а слова вырывались на странном ирском наречии, как будто даже Ир шифровался для соблюдения секретности. «Почему? Почему такое происходит?»
Ее вопрос пробил земное молчание, и она почувствовала рядом с собой людское присутствие — не иначе как из своего кабинета прибежал доктор Остер. Но слух, подобно зрению, искажал действительность, и, наткнувшись на невидимую преграду, она закричала:
— Все чувства слились в одно!
— На буйное? — (Или нечто в этом роде, тоскливо-досадливое, прозвучало из тумана.)
Дебора попыталась ответить, что для вулкана буйное состояние — это закон природы, но утратила способность к общению. Направляемая с боков и сзади расплывчатыми пятнами, она вошла в чрево стального лифта для пациентов, который доставил ее на «четверку» — на исходные позиции.
Когда сознание прояснилось — заново, все заново, — ее, завернутую в простыни так, что не шевельнуться, начал разбирать смех.
«Эй вы, внезапные, падающие календари, теперь до меня дошло. Теперь до меня дошло, эй, ты, Лактамеон, печальный бог. Теперь до меня дошло, почему Карла и Дорис Ривера чертовски выдохлись!» Ей казалось, гортань вот-вот лопнет, захлебнувшись жестким, булькающим смехом.
Через некоторое время пришел Квентин Добжански, чтобы измерить ей пульс.
— Привет… — выговорил он, еще не выбрав между игривостью и мрачностью, — обертывание помогло?
— По крайней мере, зрение восстановилось, — ответила Дебора, глядя на него. — Вы по-прежнему мне друг?
— А как же, конечно! — помявшись, заверил он.
— Тогда не хлопочите лицом, Квентин. Оставьте как есть.
Он расслабил мышцы лица, на котором тут же отразилось разочарование.
— Да я просто… ну, привык думать, что вы уже на свободе, осваиваетесь, вот и все.
Его не покидала тревога оттого, что эта девушка, к которой он был искренне расположен, остается в числе психованных (нет, врачи требовали называть таких душевнобольными) и он может ей навредить, если скажет лишнее. И доктора, и проработанные им учебники рекомендовали отвечать уклончиво, избегать споров, не проявлять сильных эмоций, но держаться бодро и участливо. Однако вопреки этим наставлениям он знал, что способен задеть в ней какие-то струны, и от этого старался, а от старания — один шаг до некоего чувства, и это чувство заставляло его искать в ней человеческое начало. Невзрачная, растрепанная — все так, но ведь над ним тоже смеялись из-за его внешности; случалось ему и оказываться поверженным — как она сейчас. В свое время он попал в аварию и, весь переломанный, лежал рядом с отцом на асфальте. Врачи «скорой» завернули его в одеяло (подобно тому, как эту девушку сейчас завернули в простыни) и доставили в больницу — та поездка прочно врезалась ему в память. Боль пришла не сразу: ей предшествовало нечто похуже — жуткое ощущение раздавленности тела и души. Под шум колес это чувство нашептывало ему снова и снова: «измельчить и растолочь, измельчить и растолочь». Болью, которая нахлынула позже, он, как ни странно, даже гордился. Смерть отца оставила по себе неизбывную, чистую скорбь; переломанные ребра превращали каждый вдох и выдох в пощечину смерти, в признак жизни. Глядя сейчас на Дебору, он слышал все тот же шум колес: «измельчить и растолочь, измельчить и растолочь». Наверняка она испытывала то же самое.
— Пить хочешь?
— Нет, спасибо.
Мучительно смущаясь наедине, ожидая, когда же утихнут его разочарование и ее страх, они смотрели друг на друга, и Дебору внезапно поразило, что ее добрый знакомый Квентин Добжански — мужчина… сексуальный… пылкий, и выглядит он сейчас так, будто не может сдержать крик страсти, летящий в гулкую бездну ее пустоты. Пустоту она прочувствовала только сейчас. И с этим ощущением пустоты пришел голод. Долгий, жестокий голод, запоздавший на годы и доселе не измеренный. Но мера голода — это мера емкости. Фуриайя права: Дебора, хоть больная, хоть в здравом состоянии, сохранила способность чувствовать.
Квентин остановился на пороге, стараясь дать ей хоть какую-то надежду, которой у него было меньше, чем хотелось выказать.
— Всего час остался, — сказал он.
— Ничего, все нормально. — Сознавая свою непривлекательность, Дебора не хотела оскорблять его взор и воображение, а потому отвернулась и тем самым позволила ему затворить дверь.
А потом насмешки посыпались не от Антеррабея, а от Лактамеона, черного бога с сине-ледяными глазами: «Рыбак добился своего, рыбка трепыхается в неводе, но не умирает и не остается мертвой. Она хлопает плавниками, обивает борта лодчонки, кувыркается, ищет свою стихию, страдает от того, что лишилась жизненных соков. А рыбак удручен. Не хочется ему думать о предсмертных мучениях рыбешки — его добычи, его победы. Точно так же выглядишь и ты в глазах мира, да и в наших глазах. Умри заново, и пусть все останется как было».
«Неужели непонятно! — прокричала она в ответ. — Я сама уже ничего не понимаю!»
На исходе того же дня кто-то из санитаров оставил в пепельнице возле сестринской непогашенный окурок. Дебора его вытащила и тайком пронесла в общую спальню, где ей отвели койку между Энн и Мэри, подопечной доктора Доубен. Она села на пол, затаившись между койками, и обследовала испещренную шрамами руку. Ткани утратили чувствительность: ожог пропал бы впустую. Дебора принялась искать новое, не омертвевшее место, водя по руке дымящимся окурком. Наконец она нашла, где тепло, жарко, горячо. Волоски на коже опалились, появилось красное пятно — и Дебора в изумлении отдернула руку.
— Это рефлекторное движение! — сама себе не веря, объяснила она металлическому поручню.
Сделала новую попытку, затем еще одну: каждый раз обжигающая боль пересиливала, и Дебора все так же отдергивала руку, не успев прожечь себе кожу. Спрятав окурок за ножку кровати, она вслух сказала по-ирски:
«Всем богам, всем Избранным и всем мирам: больше ни огня, ни ожогов; сдается мне… — тут она расплакалась, потому что перепугалась и сама этому обрадовалась, — я привязалась к этому миру…»
Когда настало время отправляться на беседу, Дебора помчалась со всех ног, чем привела в ужас сопровождающую, и даже не стала дожидаться начала сеанса.
— Слушайте! Вам известно, что получается, когда себя прижигаешь? Ты обжигаешься, вот что! Получается болячка под названием «ожог», вот что!
— Ты опять играла с огнем? — спросила Фуриайя, стерев с лица улыбку, которой встретила Дебору.
— Попыталась, да ничего не вышло.
— Неужели?
— Так ведь больно!
— Ой, как же я рада! — Они заулыбались друг другу.
Только теперь Фуриайя заметила у Деборы за спиной сопровождающую, спросила, чем вызвана такая необходимость, и получила ответ. Когда сестра вышла, чтобы подождать на улице, Фуриайя посмотрела на Дебору знакомым испытующим взглядом, который та предвидела с содроганием.
— Мне всегда бывало предупреждение… объяснение, почему это должно произойти…
— Возможно, «это» знало, что тебе требуется помощь. Помощь была совсем близко, только позови, но ты не решалась, боясь получить отказ.
— Но все случилось так внезапно и резко! Разве может быть, что у меня улучшение, а все происходит так стремительно и полно?
— Это защитные механизмы твоей болезни: на этом последнем рубеже они стремятся помешать твоему выздоровлению и единению с миром, отчаянно пытаются спасти хотя бы обломки.
Дебора поведала, как ей предложили вернуться к учебе, чтобы получить аттестат, как поначалу она перепугалась от мысли, что придется три года прозябать в необъятном безмолвии города, и как поняла, откуда что взялось: нарастающее ощущение себя жертвой. Не упустила она и тот эпизод, когда работница отдела социальной поддержки передала ей новое предложение, от которого у Деборы гора с плеч свалилась и возникло желание прощать и надеяться, и как ее без предупреждения «переклинило» до такой степени, что она не устояла на ногах. Когда она описывала близость Жерла, ей стало ясно: в нем произошла перемена.
— Чудно́ как-то.
— Что именно «чудно»?
— Понимаете, Ир всегда был царством логического и понятного, тогда как Данностью правил хаос, и спастись от него помогали особые формулы. Они постепенно усложнялись, но при этом всегда оставались… предсказуемыми.
— Ну-ну?
— Так вот: когда я начала свыкаться с Данностью, ощущение было такое, словно Ир мне говорит: «Выходить нужно другой дорогой, плоха она или хороша». Когда в мире не было ни логики, ни закономерности, Ир оставался оплотом правильных форм и логичных объяснений. А когда мир начал видеться мне разумным, Ир вообще перестал что бы то ни было объяснять.
— Так, — мягко произнесла Фуриайя, как всегда говорила, собираясь упрекнуть, но не обидеть. — Долго еще ждать, чтобы ты перестала садиться между двух стульев?
— Я еще не готова! — выкрикнула Дебора.
— Ладно, — миролюбиво ответила Фуриайя, — но ты никогда не сумеешь постичь мир полностью, со всеми его преимуществами, если не откажешься от своего двойного гражданства.
На Дебору налетел панический вихрь — от этого даже задребезжало сердце. Она беззвучно вызвала Антеррабея, и тот явился, быстрокрылый и покровительственный. «Страдай, жертва» (знакомое ирское приветствие).
«Правда ли, что в последнее время ты приносишь мне красоту лишь в тех случаях, когда нечто тебе угрожает?» — спросила Дебора, ожидая сардонической полуулыбки. Улыбаться он не стал, а, наоборот, содрогнулся.
«Пожалей меня».
От неожиданности она вздрогнула.
«От чего ты страдаешь?»
«От ожогов».
«Но ты же не горишь в огне».
«Когда ты была возвышенной и не укладывалась в рамки человеческой жизни, таков же был и я. Но коль скоро пламя для тебя невыносимо, оно точно так же невыносимо и для меня».
Он сделал резкий вдох, и она увидела, как верхняя часть его лица будто озарилась огнем, заблестела от пота и слез.
«Эй!» — окликнула она, чтобы он снова обратил на нее взор.
«Пойми… ты делишь со мной свои мучения. У нас с тобой одинаковый голос, одинаковый взгляд. Можешь ли ты понадеяться или вообразить, что найдешь такое же понимание хоть у кого-нибудь из землян?» — И одним движением изобразил сумятицу и отречение, которые на ирском языке жестов означали земной мир.
— Ты сейчас где? — спрашивала Фуриайя. — Возьми меня с собой.
— Я была у Антеррабея. Он прав. В Данности возможна и закономерность, и логика, невзирая на то что она порой бывает изломана и опасна. К тому же она бросает мне вызов и принуждает изучать неведомое — например, математику, которой боги не могут меня обучить, но где еще… — тут у нее навернулись слезы, — где еще я найду такое единение?
— У кого это глаза на мокром месте? — спросила Фуриайя с прежней мягкостью.
В ее взгляде Дебора прочла начальные слова их общей формулы и невольно улыбнулась.
— Из десяти частей четыре — это жалость к себе, три — «твердая кожура», по выражению Ира, и одна — отчаяние.
— В общей сложности получается только восемь. — (Формула есть формула.)
— А две — всякая всячина.
Они вновь заулыбались.
— Вот видишь, — сказала Фуриайя, — между нами с тобой возможна такая же ясность, как и с твоими богами. Я никогда не опускаюсь до притворства, но ты подчас забываешь, что в этом мире я всегда была и остаюсь твоей посланницей и одновременно твоей противницей. — И она шмыгнула носом, словно показывая, что ничем не отличается от обитателей ее мира. — А что ты называешь «твердой кожурой»?
— Ну, при поступлении в клинику я не чувствовала себя несчастной. Полное равнодушие давало мне определенный покой. Но со временем вы подтолкнули меня к неравнодушию, и когда на этом пути я достигла каких-то успехов, Ир меня покарал, и от этого я впала в отчаяние. Когда я молила, чтобы надо мной сжалились, Антеррабей отвечал: «Ты выгрызла надежду от красной мякоти до кожуры». Вот целью моей жизни и стало наблюдать за этой треклятой кожурой: как она скукожится, затвердеет и в конце концов будет выброшена. Антеррабей потом не раз использовал эту аллюзию, и когда я поняла, что живу, действительно живу, причем состою из той же субстанции, что и все земляне, я ему сказала, что готова грызть эту твердую корку, пока у меня не будет другой пищи. И теперь, когда я вернулась на «четверку» и всех разочаровала, Антеррабей сказал: «От этой твердой кожуры у тебя трескаются зубы. Может, пора ее выплюнуть?»
— И как ты на это смотришь?
— Пока я не могу остановиться, хотя съедобного в ней мало, — ответила Дебора. — Поскольку мне свойственны рефлексы и инстинкты землян, жевать ее вошло у меня в привычку… — И она смущенно улыбнулась, потому что сделала немаловажное признание, на котором ее в будущем могли повесить.
«Эх, если бы я могла ей рассказать…» — подумала Фуриайя. Но как втолковать тому, кто родился и вырос в пустыне, как богаты и плодородны могут быть другие земли, скрытые от его глаз? Вместо этого она спросила:
— Как тебе живется на четвертом отделении?
— Естественно, больные на меня злятся, персонал не скрывает разочарования. Сегодня пойду на прием к доктору Халле.
— Вот как? Что-нибудь серьезное?
— Да нет… Просто нужно через него передать в службу социальной поддержки, что я согласна и, если в том учебном заведении по-прежнему готовы меня принять, за мной дело не станет.
* * *
ЗАЯВКА
Дата: 3 сент.
Пациент: Блау Дебора
Дата: 5 сент. Время: 08:30
Отделение: 4-е
Зав. отделением: д-р Халле Г. Л.
ОПИСЬ
Платье для выхода в город — 1 шт.
Колготки — 1 пара
Туфли — 1 пара
Бигуди с зажимом — 27 шт.
Пальто — 1 шт.
Губная помада — 1 шт.
Средства на оплату проезда в пригородном автобусе маршрута № 4 (для социального работника и заявителя) в сумме $ 0,80.
Жетоны для проезда в городском автобусе (для социального работника и заявителя) — 4 шт.
Вышеперечисленное имущество получить по месту временного проживания амбулаторного пациента.
Подпись: Г. Л. ХаллеГлава двадцать девятая
Каким-то чудом тягу ее увидели земляне. Деборе открылось, что ее случай отнюдь не исключителен и предусматривается определенными законодательными нормами. Если доказать попечительскому совету, что она овладела школьной программой, ей, возможно, выдадут свидетельство о среднем образовании, эквивалент аттестата зрелости, и не заставят три года таскаться в огромную каменную школу. Если она сможет ездить два часа в день от клиники до вспомогательной школы, где предусматривались индивидуальные занятия, то не исключено, что найдется не такой уж длинный и не слишком опасный мост между «никогда» и «быть может». Который окажется и короче, и надежнее прочих. За дело она взялась с головокружением и с большими сомнениями, обрела равновесие, взяла учебники и ушла в них с головой. Закопавшись в текст, она, подобно касатке, опускалась на дно, всплывала, чтобы глотнуть воздуха, и опять погружалась на глубину. Несмотря на опасно гипнотическое воздействие ежедневных двухчасовых поездок, гордость от упорной борьбы придавала ей сил. Боролась она за то, чтобы соответствовать и требованиям учебы, и требованиям перемещения. Со временем учителя смогли пробить крошечную брешь в стене ее отчуждения. В течение месяца, пока она ездила в школу из второго отделения, персонал будил ее затемно. Каждое утро перед выходом ей разрешалось (по медицинским показаниям) выпить одну чашку кофе, а через неделю, убедившись в ее дисциплинированности, ночная медсестра стала под свою ответственность давать ей также ломтик подсушенного хлеба и стакан сока. Эти небольшие поблажки выдавали уважение, чем Дебора тоже гордилась. За редкими исключениями персонал клиники ограничивался простым соблюдением правил внутреннего распорядка, не более, но в последнее время, видя ее по утрам у порога со стопкой учебников — символом ответственности и здравого состояния, санитар, хранитель главного ключа от «психушки», отпирал дверь со словами: «Ну, счастливо» или даже «Удачного тебе дня».
С такими поблажками Дебора сама стала предметом гордости и приобрела особый вес. Перебравшись обратно в съемное жилье, она появлялась на отделении только в часы ужина и терапевтических сеансов, и тень, отбрасываемая ею в переходных мостиках, удлинялась не только от приближения заката. Дебора начала понимать, почему Дорис Ривера, которая была в достаточно хорошей форме, чтобы работать и жить, позвякивая собственными ключами в кармане, настолько избирательна в общении с изголодавшимися и запуганными слушательницами из второго отделения. Та тоже видела, как тень ее удлиняется на отвоеванные с таким трудом миллиметры, и хотя на фоне плоских стен мира она смотрелась карлицей, не избалованные надеждами больные, из среды которых вышла и она сама, считали, что образ ее превышает натуральную величину. Насколько же он пошатнулся и усох с ее возвращением.
Как-то раз, после изнурительной беседы с Фуриайей, Дебора заметила в холле горстку людей и, подойдя ближе, увидела, что они медленно извиваются, как глубоководные твари. В центре этой горстки, почти скрытая остальными, находилась мисс Корал. Поскольку Дебора, примкнув к земному миру, не изменила своим привязанностям, она подавила смешок. Койкометательница, королева удара, броска и точки опоры была в своем репертуаре! Как ей удалось вырваться из отделения, Дебора могла только гадать. Находясь в эпицентре схватки, мисс Корал одна противостояла пятерке санитаров, да еще сталкивала их друг с другом. Ее тирады, напоминавшие глухой рокот вроде паровозного, перемежались протяжным шипением и бранью. На ходу Дебора бросила: «Здрасте, мисс Корал», скорее для санитаров, чем для самой нарушительницы. Отвлекшись от боевых действий, та улыбнулась:
— Здравствуй, Дебора. Неужели на повторный курс?
— Нет-нет, у меня докторский час был.
— Я слышала, ты на зимние каникулы домой ездила.
— Да, точно… В этот раз проще оказалось… почти весело.
Взгляд глаз-молний мисс Корал смягчился, застывшая поза и кишение пятерки мужчин перешли в расслабленное, но полукомичное и вместе с тем трогательное перемирие; у нее появилась возможность пообщаться с Деборой лицом к лицу.
— Как там Карла? Вы с ней видитесь?
— Конечно. Она получила работу, на которую рассчитывала… Слушайте, а это правда, что Добжански женился на сестричке из мужского отделения?
— Женился. На студентке. Брак, между прочим, тайный: она же тут на практике. Никто о нем не знает. — И они заулыбались друг дружке, памятуя о водопроводных трубах и множестве посторонних ушей во всех отделениях.
— Как наши поживают? — спросила Дебора.
— В общем и целом как раньше. Ли Миллер переводят в другую клинику. Сильвия выглядит получше, но все еще не разговаривает. Элен, как ты знаешь, вернулась к нам на «четверку».
— Нет… я не знала. Передавайте ей привет. Запустите в нее чем-нибудь тяжелым и обругайте — пусть сразу поймет, что это от меня.
Дебора вгляделась в лицо мисс Корал. Тяжело было видеть боль, столь явственно проступившую на лице ее скромной и мягкой учительницы, койкометательницы и хранительницы Катулла.
— А ваше как самочувствие? — спросила она, зная, что более конкретные вопросы прозвучат недопустимой бестактностью.
Мисс Корал примирительно покосилась на свою свиту, как на один большой и постыдный конфуз, никак не связанный с ее персоной.
— Да как тебе сказать… То скрутит, то отпустит.
— Может, вам что-нибудь принести?
Она понимала, что мисс Корал впрямую ничего не попросит, но надеялась хоть на какой-нибудь знак. Между ними возникло редкое при таком недуге соприкосновение умов, соприкосновение чувств. Гораций, донесенный криком через двухдюймовую дверь изолятора в темные пустыни личного пространства, был не просто латинским стихом, не просто образчиком красоты.
— Нет-нет… ничего не надо.
Дебора спешила на автобус.
— Мне пора бежать…
— Что ж, пока, Дебора.
— До свидания.
Она пошла дальше. В глазах мисс Корал промелькнула прежняя жесткость; мускулы напряглись. Извивания начались заново; включился мотор. Перемирие окончилось.
В автобусе Дебора вернулась мыслями к мисс Корал и слегка поежилась. Скольких мертвецов можно воскресить? Из всех пациентов «четверки» многие ли выйдут когда-нибудь на свободу? За три года там сменилась уйма лиц, но многие были все те же. Из тех, кто исчез, примерно три четверти перевелись в другие больницы. Некоторые восстановились до такой степени, что смогли вести некую амбулаторную полужизнь. А многие ли вписались по-настоящему, стали живыми, свободными? По пальцам пересчитать! У нее по спине пробежали мурашки. Нужно будет заставить себя вечером засесть за учебники.
Месяц за месяцем тетради заполнялись конспектами по всем школьным предметам. Если здравомыслие измерялось в футах и часах, то весомость учебы — в фунтах учебников, которые приходилось таскать в школу и обратно. Тяжесть учебников наполняла Дебору своеобразной гордостью: как будто она рассчитывала в один прекрасный день обрести такой же вес в мире, какой имели эти учебники у нее в руках. Вспомогательная школа была в первую очередь рассчитана на детей с проблемами чтения и дефектами речи, но Деборе там нравилось, если не считать того, что приходилось втискиваться за крошечные дощатые столики. Ей нравилось, что не нужно стесняться учителей, что можно заниматься в одиночку, сколько потребуется, не козыряя ранним развитием, и не гнаться за местом на университетской скамье. Со временем учителя оценили ее настойчивость. Упорная и целеустремленная, говорили они, и Дебора была чрезвычайно довольна. Мир причинял ей боль только ближе к вечеру, когда она возвращалась к себе в каморку. Старшеклассницы и первокурсницы, юные, в шуршащих нарядах, позвякивая браслетами и хихикая, набивались в автобусы, а она опять вглядывалась в тот мир, где обитали тщеславные, помешанные на своей внешности, готовые к прыжку хищницы; в тот мир, где она потерпела поражение; в тот мир, который сверкал таинственным блеском и, по ее сведениям, на поверку был далеко не так хорош, как с виду. Дебора окинула взглядом свою школьную форму — юбку с джемпером. Со стороны мало чем отличаясь от прочих девушек, она была чужой — пародией на юную школьницу.
«А разве я меньше забочусь о своей внешности, чем земляне? — доносился из Ира голос загадочного, укутанного вуалью Идата в женском обличье. — Во мне есть и приятность, и блеск. Если ты бросишь и меня, и Лактамеона, который тебя любит, и своего друга Антеррабея, с кем будешь ты смеяться и отдыхать душой, где еще увидишь такой свет?»
И тут, как ни странно, в Ире появились образы ее школьных учителей, чтобы переговорить с Идатом.
«Вы намерены примкнуть к Синклиту? Неужели вы тоже?» — окликнула их Дебора.
«Ни в коем случае! — ответил учитель английского. — Мы против этих плодов твоего воображения!»
«Послушайте, вы, — обратился к Идату математик. — Эта девочка старается изо всех сил. Она каждый день является к нам в школьной форме, с заточенными карандашами. У нее хорошая реакция, покладистый характер, она примерно ведет себя на уроках. В математике не блещет, но берет прилежанием и набирается знаний — это правда, чистая правда!»
«Далеко не звездный дождь, — сухо откликнулся Идат. — Далеко не серебристая танагра». (Это была ирская метафора лести — с намеком на мишурный блеск.)
Внезапно Избранные, один за другим, начали появляться в Междуземье. Один принес с собой рожок, другой — скрипку, третий — барабан, четвертый — бубен.
«Мы будем играть на балу», — сообщили они Деборе.
«На каком балу?»
«На главном балу сезона».
«Кто туда приглашен?»
«В частности, ты».
«И где он состоится?»
«В „Пяти континентах“».
«Больна ты или здорова, — сказал учитель английского, — больна или здорова — ты будешь танцевать, поняла?» Учителя вместе с Избранными стали фиксировать на листке бумаги ирские слова со значением расставания. На ирском и на английском они переписывали старое-престарое изречение: «Ты не из их числа».
«Вот где она теперь, — сказал математик, — вся твоя прошлая реальность».
Они разорвали бумагу на клочки, чтобы пустить по ветру.
В тот вечер на репетиции церковного хора Дебора пригласила на стаканчик содовой одну из хористок, с которой делила книгу псалмов. Девушка побледнела и начала так сильно заикаться, что Дебора побоялась обвинений в какой-нибудь непристойности. Под гимн «Вперед, Христово воинство» у нее перед мысленным взором промелькнуло устрашающее видение из прошлого: как Христово воинство надвигается на маленькую девочку. Скользнув обратно в невидимость, она допела про Сострадание.
— Назад в отрочество? — спросила Фуриайя. — Пора бы повзрослеть. Неужели ты по-прежнему считаешь себя ядовитой?
— Нет, просто мне трудно единым махом избавиться от груза прошлого. Когда-то я осторожничала из-за своего нганона и завидовала чистоте других. Трудно изменить свой образ мыслей в отношении всего сразу.
— Но у тебя есть подруги… — У Фуриайи это прозвучало скорее как вопрос.
— В этом городе меня никто в упор не видит, хотя я вместе с другими пою в хоре и занимаюсь в кружке. Меня и впредь не будут замечать.
— Ты уверена, что причина — не в твоем отношении?
— Уж поверьте, — негромко сказала Дебора. — Все так и есть. Бывают какие-то проблески, но очень робкие, если не считать одной-двух подруг из клиники.
— А тот маленький проблеск?
— Ну, моя квартирная хозяйка сидит с ребенком своей дочери. Внучке всего два месяца, и как-то раз хозяйке понадобилось отлучиться. Приходит она ко мне в комнату и говорит: «Дебора, не посидишь ли ты с малышкой до моего возвращения?» Потом ушла — вот и все. А я сидела у колыбельки полтора часа и молилась, чтобы девочка изображала саму себя — вдох-выдох — и не умерла в мое дежурство.
— С какой стати ей умирать?
— Если бы я и в самом деле была одной лишь Видимостью, только живой на одну восьмую дюйма вглубь, живой, возможно, на глубину ожога, не более…
— Скажи мне, ты любишь своих родителей?
— Конечно люблю.
— А сестру, которую не отправила на тот свет?
— Ее тоже люблю и всегда любила.
— А свою подругу Карлу?
— И ее люблю. — У Деборы потекли слезы. — Я и вас люблю, но не забыла вашу власть, старая вы чистильщица мозгов!
— И как тебе живется без слежавшегося, зловонного мусора?
Дебора почувствовала, как зароптал Антеррабей. Неужели его, Лактамеона, Идата и все бесчисленные красоты Ира нужно выбросить на свалку, вкупе с Жерлом, с Возмездием, с Избранными, Цензором и всеми язвами былой реальности?
— Значит, от прошлого надо избавиться полностью? Сгрести в одну кучу — и на свалку?
— Сейчас не время для честного торга — разве ты сама этого не видишь? — ответила Фуриайя. — Первое, что нужно сделать, — это принять земной мир, принять его на веру, безоглядно… хотя бы полагаясь на мое слово. А уж потом, когда сама выстроишь такую преданность, можно будет поразмыслить, честная это сделка или нет.
— А как насчет того, что блестит? Мне нельзя больше вспоминать ни Лактамеона, такого черного на вороном коне, ни Антеррабея, ни Идата, который теперь сроднился с прекрасным женским обликом? Мне даже вспоминать их запрещено, равно как и слова из ирского языка, которые точнее английских описывают некоторые понятия?
— Мир велик, в нем есть немалый простор для мудрости. Почему ты, кстати, никогда не рисовала Антеррабея и остальных?
— Ну как… Я держала их в тайне… вам же известны запреты на смешение миров.
— Вероятно, пришло время открыть миру то доброе, красивое и мудрое, чем богат Ир. Поделившись, мы укрепляем преданность.
Дебора увидела, что Антеррабей в своей освещаемой искрами тьме стал падать все быстрее, а слезы белоснежного Идата сделались алмазами, осколками огня; Лактамеон, подобно Эдипу, лил кровавые слезы. Вид крови напомнил ей одну историю, и она рассеянно заговорила:
— Когда-то случалось мне заходить к одной госпоже, так у нее на кухне из всех кранов лилась кровь. Бывало, кровь свертывалась прямо на улицах, и в этих сгустках копошились люди-жуки. По крайней мере, теперь я от этого избавлена.
— Ах, Дебора! Здоровье — это не просто отсутствие болезни. Мы с тобой так тяжко трудились не только ради того, чтобы ты стала не-больной!
Не говоря ни слова вслух, доктор Фрид с щемящим чувством снова вспомнила слепую пациентку, до которой она пыталась донести краски света. Сумеет ли Дебора понять, чего стоят реальность и непосредственный опыт?
— Если я нарисую портрет Лактамеона в обличье ястреба или всадника, вы сочтете, что я вернулась в свое помешательство или «поделилась»?
— Сначала надо посмотреть, — ответила Фуриайя.
— Тогда ладно, — сказала Дебора, — возможно, настало время приоткрыть Ир.
* * *
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Экзамен на эквивалент аттестата о среднем образовании
Экзаменационные испытания на эквивалент аттестата о среднем образовании состоятся 10 мая в здании окружного суда.
Лица, зарегистрированные для сдачи экзамена, обязаны заполнить и отправить по почте прилагаемые бланки, а затем лично явиться в здание окружного суда во вторник, 10 мая, в 09:00. Нарушение данных требований лишает зарегистрированное лицо всех прав на участие в экзаменационных испытаниях.
Это извещение Дебора положила на один край стола, а на другой — эскизы к портрету Антеррабея. Конверт она распечатала сразу и удивилась, как быстро пролетело время. Тут же заполнив приложенные бланки, она дважды удостоверилась в правильности адреса и побежала на почту, чтобы письмо случайно не затерялось. Когда конверт исчез в прорези почтового ящика, Дебору захлестнула первая волна страха.
Теперь она сидела за столом и пыталась обратить это в шутку, зная, как истово и взволнованно работает часть ее рассудка. Если честно, ею владели не страхи, а надежды. Поздно было делать вид, будто она не сумеет влиться в этот мир.
Две недели, оставшиеся до экзаменов, Дебора обмирала в ожидании, но в назначенный день привела себя в чувство и вошла в душный, обшитый деревом зал. Вместе с ней там оказались и другие желающие единым махом сдать все испытания за курс средней школы: кучка поденных рабочих с мозолистыми рукам потела и пыхтела над билетами, как над гранитными глыбами. Эти люди, даром что не арестанты и не душевнобольные, почему-то выбились из мирского ритма и теперь вместе с ней по необходимости наверстывали упущенное. С нею была мудрость Макферсона: у тебя нет монополии на страдание. Когда время истекло, Дебора вместе с остальными сдала исписанные листы и вышла из помещения, не в силах оценить сделанное.
В школе удалось договориться о продолжении индивидуальных занятий до получения результатов экзамена, — во-первых, чтобы она не маялась от волнений и безделья, а во-вторых, чтобы подстраховаться: в случае неудачи ей полагалась переэкзаменовка. Вскоре должна была решиться ее судьба, а пока впереди ожидали беспечные деньки. Дебора продолжала заниматься, но без фанатизма; наблюдала, как зацветают плодовые деревья перед методистской церковью, разглядывала изменчивое небо; прикипала душой к тополям; ходила в кино на каждый новый фильм, благодаря чему познакомилась с «Тарзаном» примерно как с «Гамлетом» — короче говоря, предавалась редкостному ленивому счастью. По собственному выражению, она вернулась в детство.
В конце месяца представители экзаменационной комиссии штата пробудили Дебору от весенних грез, чтобы в ее присутствии вскрыть конверт. Экзамены она сдала успешно… достаточно успешно, чтобы получить свидетельство о среднем образовании — эквивалент аттестата зрелости, выдаваемого обычными школами, а полученные баллы гарантировали ей зачисление в колледж. Не скрывая своего ликования, она позвонила домой, чтобы сообщить родителям эту весть и дать им повод для гордости, пусть с оговорками и с запозданием.
— Чудесно! Это же чудесно! То ли еще будет, когда я всех родных обзвоню! Это же наша общая гордость! — повторяла ей Эстер.
Джейкоб, в противоположность жене, почти застыл.
— Это наша гордость, — выдавил он. — Отлично, просто отлично. — У него едва не срывался голос.
Пристыженная этой отцовской жалостью, которая примешивалась к гордости, новоиспеченная абитуриентка повесила трубку. По стенам все еще прыгали солнечные зайчики, в воздухе пахло весной — соками и листвой, цветущими кустарниками, влажной, согретой землей. Дебора неспешно вышла на улицу и двинулась по тропинке вокруг старинного католического кладбища, мимо автомобильной свалки, направляясь к зданию школы, чтобы смерить взглядом школьные окна. Она поклялась себе совершить этот обряд в случае успешной сдачи экзаменов. Сейчас она брела туда без ликования, просто желая сдержать данное когда-то слово. На пути у нее был необъятный стадион, где даже в эту пору тренировались четверо мальчишек. Ее вдруг накрыла невыносимая усталость; пришлось сесть на землю и привалиться к ограде.
Почему отцовская гордость смешивалась с жалостью? Чтобы добиться нынешнего успеха, она отдала учебе все силы, все упорство, всю свою волю. Теперь дело было сделано, но, так-то говоря, к этой цели приходят все кому не лень, да еще на два года раньше. А она получила документ о среднем образовании в девятнадцать лет, и родители, как видно, уже раструбили об этом всему Чикаго. «Но я сама этого хотела!» — прошептала она по-ирски, с внезапной беспомощностью отвернувшись к ограде стадиона.
Магия предзакатного часа наделила мальчишек-спортсменов трехметровыми тенями. Футболистов, юных, жилистых, золотили последние лучи солнца. От Деборы потребовались неимоверные усилия воли, чтобы достичь того рубежа, к которому этот смешливый выводок пришел между делом. Ее отделяла от них стена, которая никуда не денется. Сквозь нее Дебора смотрела сейчас на невыразимо прекрасный мир, зная, что ей придется сжигать все свои силы без остатка, чтобы просто оставаться живой.
В солнечных бликах на площадке появились еще двое. Стройная девушка, сама грация и чистота, и шагавший рядом с ней парень держались за руки. На хрупкие девичьи плечи был наброшен мужской пиджак. Двигаясь по кромке поля, они прошли мимо Деборы. Время от времени эта парочка останавливалась, не то играя в какую-то игру, не то болтая о чем-то забавном. Склоняя голову, парень то зарывался лицом в волосы своей подруги, то утыкался носом ей в щеку.
Дебора заговорила сама с собой вслух, как водится у душевнобольных.
— Этого мне не видать, — сказала она. — Хоть дерись, хоть учись, хоть трудись, такой парень никогда не будет шагать рядом со мной и согревать теплом своих рук.
«Карла давным-давно тебя предупреждала, — из-за ограды обратился к ней Лактамеон. — Выучишься, начнешь работать — а все равно: „здрасте“ — „до свидания“».
«Квентин будет поить тебя водой, — добавил Антеррабей, — через зонд. Но никогда не погладит по щеке. И никто… ни один…»
Сгустились сумерки. Медленно поднявшись, Дебора побрела обратно в город. На территории автокладбища репетировал церковный хор, словно бросая ей вызов. «Здрасте» — «До свидания». Никто ни разу не назвал ее по имени.
«Я растратила свои надежды, когда занималась рукоделием и пела в хоре бок о бок с вами, а сейчас я тут, рядом — и вы меня не признали». Теперь они двигались вдоль погоста — Антеррабей в темноте метал языки пламени, Лактамеон по-собачьи завывал, Синклит вновь поднимал голос:
«Работай, ленивая, борись, нерадивая… и никогда… никогда… никогда…»
«Я всего добиваюсь через кровь! — прокричала она им в ответ. — Даже когда мне было плохо, я брала себя в руки, не опаздывала и день за днем настраивала свой рассудок. У меня тоже есть гордость…»
Но слова ее накрыло гигантским валом хохота. Вглядываясь в Ир, чтобы увидеть огненный полет, она звала Антеррабея, но слышала только смех, беспощадный, глухой, донельзя презрительный. Бог пронесся мимо, захлебываясь от веселья, и тут к нему присоединилась другая фигура, которую Дебора видела в одной далекой книге с гравюрами, среди забытых фолиантов дедовой библиотеки; теперь такие издания вышли из моды, а прежде имелись в каждой интеллигентной семье. Это был «Потерянный рай» Мильтона: там перед нею впервые предстало яркое видение вечно падающего бога, и был это не кто иной, как мильтоновский Сатана. Приходя к деду в гости, она тысячу раз видела эти иллюстрации. Девятилетняя, она слышала раскатистый гром в тех строчках, которые читала незаметно для себя, и пока дремавшая в ней художница изучала очертания ангелов и тонкие гравированные штрихи, которые наделяли их пространственным измерением, тайная искательница империи незаметно похитила гордого архангела, чтобы сделать его первым обитателем созданного ею мира. Даже Антеррабей не был ее творением!
В глубинах ее сознания нарастал ропот.
«Ты… — ревел Синклит, — никогда ничего не создашь! Так что валяйся себе на лугу… ничего! Хоть учись, хоть работай… ничего!»
Эти крики гнали ее по шоссе и по городским улицам; глядя перед собой невидящими глазами, она слушала Ир. Мимо церкви, где она пела по средам и субботам, плыл передразниваемый богами срывающийся голос ее отца. Над знакомыми улицами Синклит улюлюканьем провожал улыбку Квентина и движения позолоченных солнцем мальчишек-футболистов. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их[16]. До клиники уже было рукой подать: она видела фары двух автомобилей, свернувших на территорию. Дебора шагала в силу привычки, как робот. Жерло замерло в ожидании. Уже скоро. Ей стало страшно. Зрение вот-вот откажет. Голос… ни звука. По ступеням, ко входу. Теперь отворить. Ну пожалуйста, кто-нибудь!
Изнутри:
— Здравствуйте, мисс Блау.
А потом:
— Как вы себя чувствуете, мисс Блау?
Оставалось только одно: дать знак. Поверх воплей кого-то из богов она все же различала другой звук — тройной сигнал зуммера: тревога. Жерло.
Она снова вернулась к неизбывным истокам; от ужаса у нее замирало сердце. Поскольку она все еще оставалась в живых, поскольку сносила дерзкое биение мышцы у себя в груди, Дебора принялась рвать на себе путы в надежде лишиться последних сил и умереть. Наступило изнеможение, но смерть упиралась и противилась. Через некоторое время опять появился Добжански. На сей раз он приложил все старания к тому, чтобы лицо его выражало только больничное равнодушие и ничего более. Специальная литература одержала верх.
— Вы хорошо себя чувствуете?
Ее охватила сильнейшая усталость.
— Вроде бы да.
— Нам пришлось позвонить вашей квартирной хозяйке — предупредить, что вы находитесь в клинике и сегодня ночевать не придете. Памятуя, что вам завтра на уроки, она принесла сюда учебники и смену одежды. Беспокоилась о вас.
— Добрая душа, — искренне сказала Дебора, но предпочла бы не обременять себя грузом чужих достоинств, которые почему-то оборачивались против нее.
Она поздравила Квентина с «тайным» бракосочетанием и отметила, как тот пытается скрыть изумление.
Когда Квентин с миниатюрной Клири объявили, что Дебора может идти, она запахнула убогий больничный халат и медленно двинулась к выходу. На обращенных к ней лицах читалась, как всегда, либо пустота, либо враждебность; первый шок от возвращения всегда бывал жестоким. Вечерело; остаток вчерашнего дня и сегодняшнее утро были потрачены впустую. Больным только что начали раздавать подносы. Забившись в угол, Мэри, пациентка доктора Доубен, бормотала над своей порцией какие-то заклинания. Мисс Корал, скорее всего, опять угодила в изолятор; Элен не показывалась, пряча от посторонних глаз обиду, зависть и… дружбу. У Деборы сжалось сердце; опустившись на пол, она принялась разглядывать еду.
Тепловатое месиво на тарелке вызвало у нее только вздох. Ни с того ни с сего Мэри, пациентка доктора Доубен, вскочила и с размаху, мощно, прицельно запустила чашку кофе вместе с блюдцем Деборе в голову. Дебора обернулась, но Мэри и в ус не дула, будто ничего не произошло. Подскочил санитар и, не разобравшись, отчитал обеих, притом что находился рядом, но не уследил и явно чувствовал за собой вину. Дебора ощупала мокрую голову и вспомнила, как средневековую историю, похожий жест, свой собственный, давний — когда Элен швырнула в нее подносом.
Она еще раз обвела взглядом окружающие лица. В ее присутствии все начинали бороться против «быть может». Тут до нее дошло, что она превратилась в новую Дорис Риверу — живой символ надежды, провала и общего ужаса от собственной и ее жизнестойкости, сносящей удар за ударом, но по секретному звонку вновь и вновь требующей большего. Дебора знала, почему никогда не сможет объяснить этим людям, которым так не хватало этого понимания, природу их неудач и почему не сумеет оправдаться за свою непроницаемую внешность и способность начинать сначала… вновь и вновь. В чем-то реальность была столь же личной зоной, как Ир. Как было объяснить смысловое измерение этим людям, чье выживание зависело от его сокращения или устранения? Чашка с блюдцем, отскочившая от ее головы, неприкрытый страх и гнев Мэри разъяснили Деборе, почему эти душевные страдания обострились после того, как она повесила телефонную трубку, сообщив родным триумфальную весть. Наконец-то Ир поставил ее перед выбором. Выбор приобрел четкие очертания, когда мир принял ее в свои пределы как личность с настоящим и, возможно, даже с будущим, как материалистку-ньютонианку, сведущую в вопросах причины и следствия. Приближение выбора оказалось мучительным и яростным, еще не отделимым от боязни Жерла, а все потому, что у нее не было еще опыта в разграничении проблем и симптомов, отчего душевный недуг, служивший также единственным источником защитных сил, определил ее в надежное место, где можно без опаски делать выбор. Настало время определяться по-настоящему.
Когда убрали подносы, Дебора попросила, чтобы ей выдали учебники. Санитар передал ей книжки из рук в руки с подобием некоего уважения к тому, что символизируют учебники. Она открыла лежавший сверху.
«Равносторонним называется такой треугольник, в котором угол, противолежащий стороне АС, равен углу, противолежащему стороне АВ, а также углу, противолежащему стороне ВС».
— Шлюха чертова! Отпусти! — прогремело из общей спальни.
«Ты не из их числа», — шепнул Антеррабей.
«Я — из их числа. Фуриайя говорит, что ты станешь выкупом, только я еще не знаю, как его заплатить, — сказала ему Дебора. — Сейчас мне предстоит в этом разобраться. А потом, быть может…»
— Луч, который делит пополам угол в восемьдесят градусов, образует два угла, сумма которых равна восьмидесяти градусам.
Мэри:
— Я вот думаю: заразно ли сумасшествие? Может, клиника начнет распродавать нас на антитела.
«Не сохранишь ли ты нас как щит от своей твердой кожуры, Легкокрылая?»
«Ничего не выйдет. Я собираюсь примкнуть к земному миру».
«Но земным миром правят беззаконие и дикость…»
«Пускай».
«Вспомни собственное детство… вспомни Гитлера и ядерную бомбу».
«Не имеет значения».
«Вспомни глухие, как стена, лица, и „справки о психическом статусе“… и зависть к тем, которые держатся за руки».
«И тем не менее».
«Мы будем дожидаться, чтобы ты нас позвала…»
«Я не позову. Я вольюсь в этот мир. По полной программе».
«Что ж, прощай, Легкокрылая».
«Прощай, Антеррабей. Прощай, Ир».
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВО МНОГОМ СПОСОБСТВОВАЛ ЭКСПАНСИИ ЗАПАДА».
Констанция:
— Я же страдаю, неужели вам не понятно, грязные свиньи!
«ИЗОБРЕТЕНИЕ ТРИНИТРОТОЛУОЛА ПОЗВОЛИЛО СОЕДИНИТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОБЕРЕЖЬЯ СЕТЬЮ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ».
— Я — тайная первая жена Эдуарда Восьмого, отрекшегося короля Англии!
— У Дженны опять припадок. Зовите Эллиса, будем готовить обертывание.
«КАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ, ТАК И ТЕЛЕГРАФ ОБЕСПЕЧИВАЛИ СВЯЗЬ, НЕОБХОДИМУЮ В СОВРЕМЕННОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ».
— По полной программе, — сказала Дебора.
Послесловие
Я выписалась из клиники в 1951 году с твердым намерением оставить далеко позади шизофрению и все, что было с ней связано. Конечно, в мои планы не входило вспоминать и невольно переживать это вновь. За исключением необходимых повторных госпитализаций, последняя из которых, в 1953-м, длилась три недели, я умело использовала те ресурсы организма, которыми пользуются здоровые люди, чтобы поддерживать доброе расположение духа и открытость, не прибегая к защитным механизмам психического заболевания.
Поскольку в то время диагноз «шизофрения» считался позорным клеймом, а мне нужно было как-то приспосабливаться к жизни, прошлое я закрыла. Выдумывала, где находилась с 15 до 19 лет, не распространялась и о предшествующих годах, когда все мои силы уходили на сокрытие отсутствовавших у меня возможностей. Я начала сочинять стихи и рассказы, но не помышляла о возвращении на каменистую почву детства и юности.
Имея на руках свидетельство о среднем образовании, я поступила на курсы и выучилась на машинистку. Хотела продолжить обучение и получить место в какой-нибудь конторе, но провалила экзамен по стенографии. Моя преподавательница видела причину в том, что у меня сильно хромала координация между зрением и мелкой моторикой — настолько сильно, что это уже граничило с дебильностью. Мне объяснили, что курсы уронят свою репутацию, если зачислят меня в группу, но не смогут обучить. Теперь-то я понимаю, что определенные виды неуклюжести действительно являются следствием психического заболевания. Слово «дебильность» — не плод моих фантазий: в тот период многие выражались так же, как эта наставница.
У меня было заветное желание учиться в колледже. Я пришла в Университет имени Джорджа Вашингтона — муниципальное учебное заведение, ближайшее к дому. С собой принесла «справки о психическом здоровье», которые требовались для поступления: характеристику от лечащего врача и выписку из клиники. (При поступлении на курсы машинописи я их не предъявила — забыла дома.) В приемной комиссии мне задали вопрос: случались ли у меня вспышки агрессии? Да, случались. Есть ли уверенность, что впредь такого не случится? Нет. Кому еще будут предъявлены мои справки, поинтересовалась я, и станут ли они достоянием гласности? Да что далеко ходить: в приемной комиссии работали студенты. Конфиденциальность личных данных, ответили мне, гарантировать невозможно.
За дверями колледжа я едва не задохнулась от обиды, и тут к остановке подъехал автобус с надписью: «Американский университет». Я спросила у водителя, это реальный университет или просто название места.
— Да, настоящий университет.
Я доехала до конечной остановки. В приемной комиссии от меня не потребовали ни справок, ни вкладыша с оценками. Свидетельство о среднем образовании есть? Будете сдавать вступительные экзамены? На оба вопроса ответила «да». Записалась на две программы, чтобы потом сориентироваться по ходу дела.
Впоследствии мне всегда казалось, будто лишь в колледже и началась моя настоящая жизнь. Мне предстояло освоиться в аудитории, приобрести базовые навыки общения, выяснить, что учеба — дело тонкое и затяжное. Долгий интеллектуальный голод заставлял меня с жадностью хвататься за новые знания — хоть по биологии, хоть по литературе. Доктор Айра Стайнмен пишет в своей книге «Лечение „неизлечимых“» о перефокусировке энергии между порождениями больного сознания и интеракциями здорового. Для такой перефокусировки требуется невероятная энергия. Помню, как-то я провела воскресный день в компании сына родительских знакомых и его приятелей, изо всех сил пытаясь подстроиться под общее настроение, разговоры, ленивый отдых, чтобы просто оттянуться. Мне казалось, я отлично справляюсь с поставленной задачей, но тут один парень спросил: «Что с тобой творится, Джоанн? Все время куда-то уплываешь». Надеюсь, я кое-как замяла этот вопрос, но на самом деле поразилась. Как этим ребятам такое удается? Да они же просто титаны, если способны к постоянной концентрации внимания. Моей энергии не хватило даже на один день, самый обыкновенный и ничем не примечательный. Что уж говорить о более сложных ситуациях?
Но мало-помалу, сама не знаю как, это произошло. Окружающим всегда интересно знать, оставляет ли столь длительная болезнь какие-либо следы. Я отвечаю на этот вопрос утвердительно. Существует немало общественных конвенций, которые усваиваются в отрочестве, но я их в свое время упустила и наверстать не смогла. Даже по прошествии столь длительного времени мне порой требуется пара мгновений, чтобы убедиться в реальности того, что я вижу.
Я стала жить так, как живут вышедшие на свободу заключенные, свыкаясь с парадоксами, набивая шишки и учась на простых радостях. В летнее время подрабатывала, путешествовала; встретила молодого человека, мы с ним обручились, отправились в Англию, он меня бросил, я обревелась и прекрасно провела время. Сеансы терапии окончились за год до выпуска.
Пока разворачивалась моя жизнь, я понятия не имела, что доктор Фромм-Райхманн ведет ожесточенные профессиональные войны с медицинским истеблишментом по поводу правомерности и эффективности применения психотерапии для лечения психотиков. Тогда широко использовались длительные курсы электрошоковой терапии и инсулиновой комы, входили в практику химические транквилизаторы и психотропные препараты. Моему доктору все решительнее приходилось отстаивать свою методику, а также тезис о том, что психоз, диагностированный на ранней стадии, излечим.
В ту пору ей было под семьдесят; здоровье пошатнулось, общее состояние усугублялось прогрессирующей потерей слуха. Как-то летом я заехала проведать ее в Санта-Фе, штат Нью-Мехико, где у нее был небольшой летний домик. Я работала в тех краях — занималась выпасом лошадей, которых готовили для праздничного шествия, и повидалась с ней лишь один раз.
На выпускном курсе я познакомилась с физиком-ядерщиком, работавшим в Энн-Арбор; родители его жили в округе Колумбия. Он подходил мне по всем статьям, но в то время я еще пряталась за ложью. После знакомства с его компанией я поняла, что обречена всю жизнь передавать вазочки с печеньем, пока блестящие и просто талантливые люди будут вести беседы на недоступном для меня языке и сами никогда не поймут моих метафор и мыслей.
И вот однажды мы с подругой, за которой ухаживал однокурсник, получили приглашение на ужин. За столом нас было семеро; четверка молодых людей (двое — студенты психфака) в складчину снимала дом. Беседа текла легко, без напряжения. С нами сидел также умственно отсталый мужчина, уход за которым взяли на себя обитатели дома. Самый интересный из этих молодых людей работал санитаром в отделении — по сути, гериатрическом — для ветеранов, страдающих алкоголизмом. Он обмолвился, что хотел устроиться на работу в ту клинику, где лечилась я.
— Там не держат пациентов такого профиля, — объяснил он.
Я сказала ему на ухо, что это не так. В тот момент у меня возникла потребность открыть правду в благодарность за ту радость, которую доставила мне беседа. Немного позже он высказался насчет режима дня все в той же клинике. Я вновь ему возразила и сама не поверила, что настолько осмелела. Под бременем лжи мне вдруг сделалось дурно. У меня не было надежды еще раз увидеть этих милых людей, даже доброго, с теплотой во взгляде парня по имени Аль — моего собеседника.
— Ты там работала? — поинтересовался он.
Наконец-то я решилась отбросить притворство и, набрав побольше воздуха, сказала:
— Я там лечилась.
Наступила мертвая тишина. У всех расширились глаза. Мне стало совестно за общую неловкость. Потом Аль произнес:
— Они чертовски хорошо потрудились.
Это было лишь первое прекрасное утверждение — впоследствии я услышала от него множество других. Познакомились мы в марте пятьдесят пятого, а в сентябре поженились.
На деньги, подаренные нам на свадьбу, мы отправились в путешествие по Италии, где Альберт служил в конце Второй мировой войны. Денег хватило на девять месяцев, мы вернулись домой и вскоре переехали в Колорадо. Я поступила учиться на летнюю программу в городке под названием Голден и была в восторге от горного пейзажа. Поселились мы в переоборудованном гараже на одну машину; Альберт занимался торговлей пылесосами и оборудованием для детских садов, а я безуспешно пыталась найти работу. Через некоторое время мы перебрались в маленький домик у подножья горного склона; Альберт получил работу в службе помощи неблагополучным семьям. Моей работой стала беременность.
В тот период я поведала Альберту историю Йоркской резни 1190 года, которая была темой моей дипломной работы в колледже. Мне казалось, из тех событий может получиться неплохой роман. Я видела в них микрокосм элементов, из которых вырос холокост: те же эмоции, те же обстоятельства, те же маниакальные вожди.
— Довольно рассуждать о чужих возможностях. Почему бы тебе самой не взяться за перо? — сказал он.
И я написала книгу «Лики короля». Только благодаря Альберту. Мне сказочно повезло: первый одобрительный отзыв в мире литературы я получила от Боба Готтлиба, который, если не ошибаюсь, только-только заявил о себе как открыватель талантов — добрую половину писателей моего поколения нашел именно он. Если вам когда-нибудь придется выбирать между богатством, везением и красотой, выбирайте везение. В 1958 году он прочел мою рукопись и заявил, что видит в ней потенциал. Два года ушло на редактирование. Книгу издали в 1961 году.
Доктор Фрида Фромм-Райхманн умерла вскоре после того, как родился наш с Альбертом первенец Дэвид.
В бытность мою колорадской женой и матерью двоих детей на судебный процесс в Иерусалим доставили Адольфа Эйхмана, и евреи всего мира позволили себе в открытую высказать скорбь и боль, загнанные вглубь после войны. Накопившиеся эмоции выплеснулись наружу. Во множестве писались статьи, обнародовались фотоматериалы, выступали очевидцы, которым прежде затыкали рот.
Одну из таких статей, «Забытый урок Анны Франк», опубликовал в журнале «Харперз» Бруно Беттельгейм. Он писал, что евреям свойствен инстинкт смерти и что Отто Франку следовало бы в подполье учить дочерей не математике, а основам вооруженного сопротивления. От Бруно Беттельгейма исходила низкая ложь о том, что наш народ безропотно шел в газовые камеры. В подтверждение своих тезисов он говорил, что сам сидел в концлагере, а потому предугадал явление, позже названное «стокгольмский синдром».
Эти идеи были для меня ударом. Неужели все сказанное им о нашем народе было правдой? У меня подрастали двое сыновей. Оба были маленькими для своего возраста, даже меньше одногодок-девочек.
И в новогоднюю ночь я прижала к стенке нашего соседа Уолта Пливаски, с которым была едва знакома, и спросила, правдивы ли слова Беттельгейма. Брат Уолта прошел через Освенцим, а сам Уолт — через Дахау; все тезисы Беттельгейма он последовательно разнес в пух и прах.
— Почему же Беттельгейм такое написал? — не унималась я.
— Кто выжил в нечеловеческих обстоятельствах, у того есть два пути, — ответил Уолт. — Первый — все забыть, а второй — переиначить.
Мой внутренний голос подсказывал, что я не забыла свое психическое заболевание, а потому должна срочно о нем написать, пока еще не слишком его переиначила.
Литература — это, я считаю, коммуникативный вид творчества, разговор с миром. У меня не было намерения писать историю болезни; я хотела показать, что значит быть пациентом психиатрической клиники, что испытывает человек, отделенный от мира бездонной пропастью. Для этого нужно срезать огромные пласты времени, отсечь целый ряд людей и событий, а сухой остаток изложить с максимальной точностью. Что представляет собой психотерапия? Как ощущается жизнь? Но на самый трудный вопрос — каким образом мне удалось выздороветь — ответа нет, потому что я и сама не знаю. Подозреваю, что выздоровление — это комбинация факторов, внешних и внутренних, вбирающая в себя мужество, любовь и интеллект множества людей. «Розовый сад» создавался не в целях психотерапии. Я далека от того, чтобы сравнивать свои переживания с муками тех, кто прошел через холокост. В моих произведениях описан всего лишь источник той движущей силы, которая вела меня к писательскому ремеслу.
В начале шестидесятых я стала свидетельницей романтизации безумия в литературе и искусстве. Прочла эпиграф из Сартра к монографии Эллиотта Бейкера «Прекрасное помешательство»: «Безумие — это нормальная реакция здравомыслящего человека на безумный мир», а также приведенное в романе «Пролетая над гнездом кукушки» описание общества, где подавляется свободный дух. Для многих ЛСД символизировал психоз, рожденный смешением безумия и творчества. Иные даже путали безумие и свободу.
В 1963 году издательство «Хольт, Райнхарт и Уинстон» выпустило мою книгу «Лики короля». Вначале моим редактором была назначена Джин Крофорд, которую после ее ухода сменил Кристофер Леманн-Хаупт. От нашей совместной работы я получала удовольствие. Редакторы должны понимать не только то, что, собственно, написано черным по белому, — им необходимо постичь авторскую идею, и Крис помог мне ее высветить. Его поддержка, оказанная той книге и мне самой, оставалась важнейшей вехой моей литературной деятельности. Однажды он назвал меня интеллектуальной писательницей. Я старалась — иногда на пределе своих возможностей — соответствовать этой характеристике. Впоследствии он стал литературным обозревателем «Нью-Йорк таймс».
Нынешнюю книгу мама попросила меня выпустить под псевдонимом. Руководствовалась она традиционными семейными соображениями и чувством собственной незащищенности, которое преследовало ее после смерти моего отца. Грустно, что ему не довелось увидеть, как развивалось мое творчество.
Размышляя над мамиными пожеланиями, я пыталась экспериментировать самостоятельно. В ту пору Альберт работал в главном реабилитационном центре штата, и когда у нас в гостях собрались его коллеги, я невзначай спросила, как они считают: излечимы ли их подопечные, страдающие психическими заболеваниями? Ответы были единодушными: самое большее, на что можно рассчитывать, — это ремиссия, тонкая лоза, переброшенная через ущелье. Впоследствии Альберт совершил еще один героический поступок: разрешил мне руководствоваться собственными интересами. Я не хотела общаться с женами его подопечных и проникаться их тревогами, не хотела, чтобы случайные упоминания о шнурках или четвергах снова повергли меня в психоз, причем на глазах у этих совершенно посторонних женщин. Что ж, псевдоним так псевдоним. Не один месяц я перебирала всевозможные варианты и в конце концов, к сожалению, выбрала тот, который стоял ближе других к моему настоящему имени, — Ханна Грин. Крис Леманн-Хаупт и руководство издательства скрупулезно следовали моим инструкциям, причем в ущерб себе, поскольку книга «Лики короля» успела завоевать литературную премию, а они уже не могли использовать этот факт в рекламных целях.
Отклики на книгу появлялись ни шатко ни валко. Были положительные рецензии, но ничего сенсационного, никаких намеков на значительное событие. Продажи росли — медленно, но верно. Мне стали поступать благодарственные письма от родителей, которые с помощью моей книги начали понимать своих психически больных детей. Мало-помалу книга прокладывала себе дорогу в мейнстрим: однажды я услышала, как ее упоминают в некой мыльной опере, а годы спустя появилась известная жалостливая песня[17]. До меня доходили слухи, что в школьных театрах ставятся инсценировки моего романа.
Потом журнал «Нью-йоркер» напечатал рассказы одной прекрасной писательницы, Ханны Грин, которая вскоре выпустила лирическую повесть мемуарного стиля под заглавием «Домашние мертвецы». Тут возникла неразбериха. Мне стали поступать письма, адресованные ей, и наоборот. Псевдоним всегда причинял мне определенные неудобства, и я, выяснив, кто такая Ханна Грин, написала ей, что никакого «Сына», или «Невесты», или «Мести сада из роз» не предвидится и, как только дети немного подрастут и мы с Альбертом перестанем опасаться косых взглядов, я вынырну на поверхность. На эту милую женщину, судя по всему, тоже нередко поглядывали искоса. По прошествии многих лет, когда ее уже не было в живых, мне несколько раз звонили незнакомцы, чтобы справиться о моем самочувствии.
В моей долгой трудовой деятельности были определенные взлеты. Двадцать два года я преподавала в старших классах. Тринадцать лет состояла в добровольческой пожарной команде и девять лет входила в ее высший эшелон. Оказывала услуги по сопровождению слепоглухонемых и ухаживала за слабослышащими в четырех или пяти муниципальных больницах штата. В Горном училище двадцать три года — вплоть до настоящего времени — работаю на почасовой основе. Мы с Альбертом вместе пятьдесят два года.
Моя литературная деятельность тоже оказалась долгой. У меня были два литагента и — до недавнего времени — один постоянный издатель. На данный момент я опубликовала семнадцать книг, но путь «Сада из роз» был тернист.
По мере того как психиатрия отходила от рассуждений о душе и превращалась в ту область медицины, которая занимается «прогрессирующими заболеваниями головного мозга», идея о том, что шизофрения поддается лечению, а при надлежащих условиях — излечению, утонула в популяризаторских и научных представлениях о мозге как об органе, неспособном участвовать в собственной регенерации. Эти представления снимали ответственность с измученных родных и близких, на которых прежде возлагали вину за недуги детей. В свою очередь, мы, преодолевшие свои недуги, оказывались в сомнительном положении. Если нарушение психики — это заболевание головного мозга, неподвластное самому мозгу, то те, кто его преодолел (более одной трети от общего числа, а из них добрая половина таких, как я), либо по-прежнему нездоровы, либо только симулировали болезнь. Эта утешительная «уловка-22» служит лазейкой для врачей, отказывающихся от лечения трудных, затяжных или тяжелых случаев, требующих терпения, стойкости, творческого подхода, энергии, сопереживания. Такие доктора ждут изобретения очередного препарата, очередной методики операций на мозге, разработки какого-нибудь импланта или автоматического устройства.
Их механистический подход кажется мне целиком и полностью порочным, но я нередко ловлю себя на мысли, что ввязываюсь в бой, вооружившись лишь тупым мечом жизненного опыта и поддержки со стороны выздоровевших пациентов, а также тех немногих врачей общей практики и психотерапевтов, которые полагаются на собственные усилия и усилия своих подопечных в выполнении важнейшей духовной, психологической миссии. Я не противница применения психотропных средств, но лишь постольку, поскольку они помогают заглушить отбившиеся от рук внутренние голоса, которые препятствуют началу психотерапевтического взаимодействия.
Многих удивляет, что я провела в клинике ни много ни мало три года, и я не признаюсь, что курс лечения продлился еще дольше, в амбулаторном режиме. Людям кажется, что затраченные годы и средства того не стоили. У меня есть друзья и знакомые, которые провели в стационарах куда больше времени, а эффект оказался куда менее заметным и проявлялся лишь на отрезках в три-четыре дня в течение двух, а то и трех десятилетий. Этим людям оказывали помощь в периоды обострения и назначали новые комбинации таблеток. Лечение эмоциональной сферы означает, что вредные привычки, компульсивные побуждения и другие нарушения психики более не считаются грехом. Они избавлены от позорного клейма, а некоторые пациенты даже освобождены от ответственности. Такой подход — большой шаг вперед, но достигается он ценой разрыва основных духовных и психологических привязанностей, ценой волевых усилий и необходимого длительного контакта двух человек: психотерапевта и пациента.
Размышляя о трудной задаче, с которой столкнулся мой психотерапевт, я вижу, насколько мне повезло. Расхожая истина гласит, что от творческого таланта до безумия дистанция невелика, и сторонники этой идеи вытаскивают на свет замшелые, набившие оскомину примеры: Шуман, Сильвия Плат, Мопассан, Ван Гог. В силу распространенности этого мифа люди творческих профессий не хотят обращаться к психотерапевту, когда в этом возникает необходимость, потому что опасаются потерять свое дарование. По той же причине душевнобольные не хотят пробуждения в себе творческого начала, опасаясь усугубить свои и без того глубокие душевные раны. Только квалифицированный психотерапевт может провести необходимую черту между защитными механизмами, которым способствует творчество, и той областью, где творчество можно обуздать во имя сохранения здоровья. И лишь самый высококлассный специалист способен отделить искупительные силы религии от тех сил, которые используются как защитные механизмы. Для таких разграничений требуются интеллектуальные способности, смелость и острый ум. Разграничения эти весьма тонки, а потому с трудом поддаются передаче кинематографическими средствами. Мне резко не понравилась экранизация моей книги, а телодвижения персонажей иначе как насмешкой не назовешь. Зато существует вполне достойное жизнеописание доктора Фриды Фромм-Райхманн, опубликованное Гейл Хорнстайн в 2000 году и озаглавленное «Избавление одного человека».
Через все эти события и факты пунктиром проходят нотки комизма. Время от времени мне приходится отстаивать свое право называться излечившейся шизофреничкой. Время от времени кто-то начинает мне рассказывать, что героиня «Сада из роз» окончательно сошла с ума, а то и покончила с собой. Видимо, чем-то их привлекает такой драматизм: не иначе как завершенностью. Мне доводилось слышать, как незнакомые люди растаскивают мою историю по частям к собственной выгоде: одному зачем-то понадобился инцест, другому — химический дисбаланс, третьему — прогрессирующее заболевание головного мозга или авитаминоз; и смех и грех. Суровая истина заключается в том, что мы очень мало знаем о возможностях мозга и способны лишь к спекуляциям на темы причин и лечения отклонений. На самом деле не мне судить, чем было вызвано мое заболевание и как именно произошло излечение. Но я твердо знаю, что́ пошло мне на пользу и кто был рядом, чтобы оказать помощь.
Когда-то в моем воображении рождались картины будущего, оказавшиеся совсем не похожими на ту жизнь, которую я веду все эти годы. Нынешняя моя жизнь наполнена работой и любовью, рядом со мной мои близкие — прекрасные, великодушные, любящие; материальное благополучие тоже присутствует, так что не жалуюсь.
Джоанн ГринбергПримечания
1
Аллюзия на трактат шотландского философа Томаса Гоббса (иначе — Хоббса) «Левиафан» (1651).
(обратно)2
Параклет (др. — греч.) — в Евангелии от Иоанна, в прощальной беседе Иисуса Христа с учениками название Святого Духа. В переносном смысле — утешитель, заступник.
(обратно)3
Кто душою чист и незлобен в жизни, Не нужны тому ни копье злых мавров, Ни упругий лук, ни колчан с запасом Стрел ядовитых.(Квинт Гораций Флакк. Оды. Ода 1: 22, пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского.)
(обратно)4
Пьер Абеляр (фр. Pierre Abélard, лат. Petrus Abaelardus; 1079–1142) — средневековый французский философ-схоласт, теолог, поэт и музыкант. Неоднократно осуждался церковью за еретические воззрения. Блаженный Иоанн Дунс Скотт (англ. John Duns Scottus, лат. Ioannes Duns Scottus; 1266–1308) — средневековый шотландский теолог, философ, схоластик и францисканец. Наряду с Фомой Аквинским и Уильямом Оккамом считается наиболее важным философом-теологом Высшего Средневековья. Имел прозвище Doctor Subtilis («Доктор Тонкий») за проникающий, тонкий образ мысли.
(обратно)5
«De ramis cadunt folia, / Nam viror totus periit, / Iam calor liquit omnia, / Et abiit; / Nam signa coeli ultima, / Sol petiit…» — стихотворение неизвестного автора, датируемое примерно 1200 годом. «Вниз с деревьев падают листья, / Бледность покрывает деревья, / Лето кончилось. / И солнце уходит / В последний дом на небесах» (лат.).
(обратно)6
Морфей вызывает в сознании легкий образ созревшего урожая (лат.).
(обратно)7
«Взгляни на дом свой, ангел» (англ. Look Homeward, Angel) — первый роман американского писателя Томаса Вулфа, выпущен в 1929 г.
(обратно)8
«Медея» — трагедия Еврипида. Впервые увидела свет в 431 г. до н. э. Входит в тетралогию, включающую в себя трагедии «Филоктет» и «Диктис», а также сатировскую драму «Жнецы».
(обратно)9
Тит Лукреций Кар (лат. Titus Lucretius Carus), часто просто Лукреций (ок. 99–55 до н. э.) — римский поэт и философ. Считается одним из ярчайших приверженцев атомистического материализма и последователем учения Эпикура. Основной труд — философская поэма «О природе вещей» (лат. De rerum natura).
(обратно)10
Мисс Корал ссылается на Евангелие от Матфея (16: 17–19), где повествуется о том, как Иисус Христос вручает апостолу Петру ключи от врат рая.
(обратно)11
Брат поэта Уолта Уитмена, Джесси Уитмен, был пациентом психиатрической лечебницы.
(обратно)12
Игнаций Ян Падеревский (1860–1941) — польский пианист, композитор, общественный деятель.
(обратно)13
Софи Такер (настоящее имя Соня Калиш; 1887–1966) — американская певица, комедийная актриса, радиоведущая украинско-еврейского происхождения.
(обратно)14
Уилл Роджерс (Уильям Пенн Эдер Роджерс; 1879–1935) — американский ковбой, комик, актер и журналист.
(обратно)15
«Не все человеку доступно…» (Вергилий. Буколики. VIII, 62–63. Перев. С. Шервинского).
(обратно)16
Марк 10: 6.
(обратно)17
Имеется в виду песня Джо Саута «(I Never Promised You a) Rose Garden», впервые исполненная в 1967 г. и ставшая суперхитом в исполнении кантри-певицы Линн Андерсон в 1970-м.
(обратно)







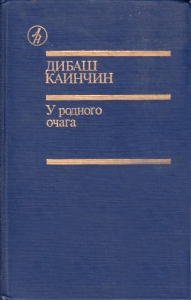

Комментарии к книге «Я никогда не обещала тебе сад из роз», Джоанн Гринберг
Всего 0 комментариев