Леонид Нетребо КРАСНЕНЬКАЯ, С ЛЕНИНЫМ
1
«Мне все равно!» — это проявлялось сквозь лучезарную улыбку и бодрый пригласительный лепет хозяйки отеля, когда она возвращала обладателям два краснокожих паспорта, казалось, еще более зардевшихся от дисгармонии только что заявленного — «Мы супруги!..» — и юридического смысла букв и оттисков, бесстрастно обитающих на «брачных» страницах документов.
Я еще не привык к подобным ситуациям, поэтому мой путь от идеи провести недельку в морской провинции со свежим, гибким и теплым существом под боком до приезда сюда — набор неловкостей: прощальный ужин в кругу домочадцев, которые провожали меня «в командировку», сей момент «Мы супруги» и еще много подобной суетной чепухи, от которой гладь этического поля подергивается легкой рябью, как шкура коня от кусачих мух.
Вике проще: статус свободного человека, дарованный ей три года назад официальным разводом, избавляет эту роскошную сладострастницу от массы условностей. Впрочем, я могу ручаться только за последний год — срок нашего знакомства.
Восторженным плюсом ко всем примечательностям заведения — сообщение хозяйки о том, что на крыше отеля оборудован солярий, с решетчатым тентом и ограждением по периметру, где можно не только принимать воздушно-солнечные ванны, но и ужинать при желании, и даже спать. Великолепный пейзаж — море, горы; и что там не хватает только телескопа наблюдать звездное небо, но и без телескопа — как в планетарии!..
Тесный двор отеля затенен густым виноградником, из него темным кубом мощно растет двухэтажное здание — это производит впечатление основательности, с отвлечением на смутную тревогу, как при созерцании старых замков. На верхнем этаже — несколько жилых секций и внешний коридор, с которого вихлястая лестница, змеино скручиваясь, упирается в каменный пол просторного, сплошь остекленного холла первого этажа. Впечатление, что строение держится не на стенах, а на колоннах (которых на самом деле нет), а вместо стекла — прозрачные пластины бледного изумруда — обманный свет сквозь дворовую зелень.
Семья хозяев тихо обитает в одном из нижних помещений, выполняя все гостиничные роли — от администратора и снабженца до официанта и уборщика помещений. Это бездетная чета русских греков. Его мы за все время пребывания в гостинице так и не увидели (только шум авто и предрассветный «вжик» метлы), а она запомнилась женщиной невысокой, кудрявой, улыбчивой, сетовавшей на то, что вложенное в перестройку жилого дома под гостиницу окупится еще нескоро из-за отсутствия расчетного количества клиентов.
Позже выяснилось, что здесь, в небольшой уютной гостинице (окраина города и квартал до моря по грунтово-каменистому спуску), мы практически первые обитатели (начало сезона!), если не считать самих хозяев да одинокого жильца, который вселился позавчера в секцию на противоположной стороне дома-куба.
— Мне страшно, — проронила Вика, закатив глаза под смоляную челку, перед тем как, потянувшись рептильным телом, уйти в ванную. — По всем законам жанра здесь должно произойти убийство, — и «таинственно» добавила: — Власть, страсть, кровяное пятно…
Она большая артистка: без особого напряжения изобразит испуг, радость, смятение, робость и даже стыд. Это умение дает ей преимущество перед настоящими и потенциальными соперницами и соперниками, она коммуникабельна и практически неуязвима, многие считают ее другом, тогда как она тех многих — приятелями. Признаваясь ей в симпатиях, я никогда не жду отзывных лавров в награду: наденет любую маску, отвлечется на пустяк и таким образом уйдет от ответа. То есть для меня она ясна и проста, понятно ее притворство (которое еще не ложь), и видна граница, за которой я увижу обман, если он состоится. Так, если она вдруг пылко скажет мне: «Я люблю тебя!..» — это будет сигнал опасности: солгала.
Принимая ванну, она, как водится, напевает.
— То-ре-адор, сме-ле-е-е!.. Пум-пум-пурум!
Вообще-то она не палач приговоренных быков, а жокей-укротитель, на мой взгляд, не менее циничный и безжалостный. Вот сюжет ее выхода в люди: деревенская девушка, отчасти знакомая с лошадьми, приехала в город на стройку, где в свободное время стала посещать ипподром. Эту девушку прямо с ипподрома забрал к себе бизнесмен-повеса — профан в аллюрах, не отличавший галопа от пьяффе, но большой любитель летучей стати, вороной масти и нежного ржания — сделав сначала секретаршей, а потом женой…
Но заслуга перед Викой того очарованного «наездника», когда-то безрассудно бравшего с места в карьер, только в ее стартовом багаже и (отступное при разводе) в небольшой квартирке, которую она из каких-то суеверных соображений крайне неохотно использует в качестве наших свиданий, предпочитая нейтральные апартаменты. Остальное — результат ее собственного упорства: университет, логопед, спорт, косметический салон… Даже ипподром забросила, как отрезала, уверенная, что от этого может испортиться ее фигура. Были попытки открыть в себе творческие задатки: пробовала рисовать, писать стихи — тщетно… Впрочем, этот «пробел» она продуктивно заполнила общением с некоторыми представителями творческого бомонда, которые натаскали ее на посещении выставок, театров, студий, поэтических сборищ и прочей богемной суеты.
Если бы год назад мне сказали, что плебейская кобылка может переродиться в аристократическую лань, я бы не поверил. Теперь она полностью соответствует своему имени, которым приказывает себя величать — Виктория!
Я заметил еще при первых свиданиях: окажись в руках моей лани-жокея (адская смесь!) зонтик, канцелярская линейка или, скажем, ивовая веточка, сентиментально подобранная на парковой прогулке, безобидный предмет через некоторое время начинает нервно пошлепывать-постегивать голень прелестной ножки. Это, пожалуй, ее единственная дурная привычка.
Я держу дистанцию, и хлыст укротительницы работает впустую. Но все же кое-чего она достигла: ведь не случайно я здесь…
Нашего пока единственного соседа я сразу же окрестил Пиратом.
Он оказался невысок, крепко сбит, а нелепые для такого роста удлиненные шорты и майка с глубоким вырезом усиливали впечатление коренастости. Сильная проседь кудреватой замши, покрывавшей голову с небольшой потертостью на макушке, выдавала его полусотню; рот щедр на улыбку, но внимательный взор сквозь легкий прищур, при орлином носе, противоречил щедрости. Короткую шею обхватывала золотая цепь, на которой висела красная побрякушка. Мужчине явно не хватало черной повязки на глаз и цветастой банданы на прочный лоб — «Пират»!
За ужином мы познакомились (выяснилось, что он прибыл сюда на машине, которую паркует под окнами отеля) и быстро разошлись.
В номере Вика успокоила меня: мужчина близорук, поэтому пусть меня не тревожит его якобы пытливый и пронизывающий взгляд. (Лишний раз убеждаюсь, что она видит нашего брата насквозь).
— Ты знаешь, что изображено на его медальоне? — насмешливо спросила моя прелестница, игриво постукивая ноготком по бокалу с шампанским, который расположила у своего лица, чуть ли не прижав хрусталь к щеке.
Я дернул плечами, беспечно потягивая шипучий напиток, показывая, что меня нелегко удивить.
— Там Ленин! — торжественно провозгласила моя дальнозоркая.
— Какой Ленин?
— Владимир Ильич, вождь мирового пролетариата! — Вика засмеялась, а потом надула губы: — Мы так устали с дороги… Шампанское сейчас просто умертвит нас.
Этой, на первый взгляд безобидной, новостью о Пирате с Лениным Вика настолько озадачила меня, что я проворочался лишний час после того, как она, за восхитительным и победным боем с усталостью и алкоголем, торжественно и благополучно отошла ко сну, как всегда при этом мило постанывая и судорожно вздрагивая…
На море мы уходили ближе к полудню. Ни «Пирата», ни его автомобиля на стоянке.
Мы купались на мелководье, у дикого малолюдного берега, пряча тела в тени коричневых скал: кожа еще не привыкла к солнцу, к тому же, я не могу возвратиться домой из «командировки» откровенно загоревшим. Какое блаженство — выйти из кипенной воды и, бурно дыша, упасть под скалу, влажную у подножья, на теплые камни, и закрыть глаза, успокаиваясь…
— Я догадываюсь, чем ты наслаждаешься здесь и сейчас… — вдруг зловеще произнесла Вика, нарушив шумовую гармонию: шорох волн и смутный гомон двух детей, резвящихся поодаль.
Я открыл глаза и, оценив ее укоряющий взгляд, привстал и виновато и картинно подался к ней, вытянув перед собой руки. Но Вика отстранилась с шутливой обиженностью и продолжила тоном воспитательницы:
— Ты на этом прекрасном берегу сказочного моря, в соседстве с дамой, которую имеешь привычку коварно называть, соблазняя и сбивая ее с истинного пути, дамой своего сердца… так вот, в этом духовном великолепии ты наслаждаешься всего лишь отдыхом от суеты будней, которой пресыщен дома! Ты трафишь своим низменным физическим ощущениям — обонянию, зрению, осязанию. Ты думаешь о следующем: как пахнет здешняя вода — йодом и водорослями, какая безбрежность на юге, какие горы и растительность на севере!.. Всего лишь!
— И какая дивная женщина на… на востоке!.. — прервал я дивную женщину, воспользовавшись ее же тоном, удивляясь вспыхнувшей вдруг капризности (не рано ли?), но удерживаясь в шутливом ряду. — Ты напрасно принижаешь мои ощущения. К тому же, вынужден огорчить тебя в оценке твоей проницательности: в ничтожных промежутках бесконечных мыслей о тебе я думаю… Я думаю… Ну вот хотя бы о нашем соседе по отелю, с его оригинальным медальоном. Неужели сейчас делают такую бижутерию? Возможно, это какое-то штучное производство, как ты полагаешь?
Вика рассмеялась как ни в чем не бывало:
— Испугался? Успокойся, со мной никакого быта, только праздник! Это шутка. Для того чтобы ты встряхнулся. А что касается медальона, то это всего лишь юбилейный рубль, выпущенный в Советском Союзе, кажется, на столетие вождя. Все просто: аверс — крупный профиль Ленина, реверс — герб той страны… У моей матери до сих пор храниться целая нумизматическая коллекция в деревянной шкатулке. На одной из монет есть красавец-кузнец, молотом разбивающий оковы, кажется, двадцать четвертый год…
— Но почему красный? — воскликнул я, довольный, что выходка курортной пассии — всего лишь шутка, хотя и с серьезным намеком, который от меня не скроешь (воздух разрезало стеком и просвистело лассо, но я их вижу и слышу — и потому они не страшны).
— Пока не знаю, но чувствую, что этот медальон и его цвет должны характеризовать какую-то очень важную черту нашего соседа. Давай пофантазируем?
Она придвинулась ко мне и, свернувшись калачиком, уподобилась котенку, отдыхающему на груди своего хозяина. Конфликт (если это был конфликт) исчерпан.
— Возможно, он коммунист, — предположил я, — который ни на минуту не расстается с образком своего идейного вождя.
— А может, он банкир, — резонно заметила Вика. — Но зачем он выкрасил монету в красный цвет?
— Ты не допускаешь мысли, что банкир может быть коммунистом? — изощрился я в своих исканиях. — Тогда понятен этот броский колер — цвет революции!
Все походило на викторину. Очередь Вики. Она помолчала и выдала несколько разочарованно:
— Будет ужасно неинтересно, если он окажется просто каким-нибудь жуликоватым воротилой. Ведь небрежная броскость с безвкусным эпатажем — золотая цепь, красный рубль с Лениным, а то и свастика — это признак как раз таки анекдотичных персонажей особого рода, быстро и незаконно разбогатевших, но оставшихся тупыми и примитивными, не знающими, как удивить и чем выделиться.
— Ну, зачем ты так о незнакомом человеке? — миролюбиво сказал я, поглаживая укротительницу. — Он еще не произвел впечатления примитивного героя, тем более жулика.
— Ну да, — Вика не успокаивалась, — такие, конечно, знают несколько культурных слов, но внутри это гориллы…
«Тебе виднее», — подумал я, но, не выказывая сарказма, сказал другое:
— Может быть, это особый знак какой-нибудь новой масонской ложи? И нам довелось соседствовать с представителем одной из структур, исподволь управляющей мировыми процессами?
— Бр-р! — притворно, но очаровательно содрогнулась Вика, сделав страшные глаза, в которых отразилось все небо: безбрежная синь с двумя пятнышками облаков.
— Власть, страсть, кровяное пятно! — повторил я ее вчерашнюю, давая пищу для дальнейших фантазий. — Представь: сложился треугольник — я, ты, он. По законам жанра, как ты говоришь, должно произойти перераспределение ролей, кульминация, развязка. В результате он убивает меня, а ты уезжаешь с ним на его длинном автомобиле…
Вика почему-то не рассмеялась, даже призадумалась. Мне это не понравилось.
2
Не широка, но глубока река на окраине дачного поселения. Ветер срывает нектарный дух с цветочного ковра на том берегу и волнами гонит его вместе с пчелами сюда, к Любке (она волшебница).
Любка не умеет плавать. У нее синдром, как она говорит, с детства. Она тонула в младенчестве, и папа успел ухватить ее за мизинец… Трогательная фантастическая история.
Два предложения: «Любка не умеет плавать» и «Рыцарю фортуна дарит случай» — это одно и то же.
Рыцарь бросается в стихию (вялая, еле текущая вода), чтобы сказать с того берега, подняв букет над головой, негромко и небрежно:
— Тебе!
— Спасибо. Как же ты теперь?.. — волшебница советует: — Приторочь его к своему седлу… Заткни его за плавки и плыви осторожно.
Как смешно, недостойно…
— Тогда возьми его в зубы, что ли. Я не против цветов, но мне не нужны утопленники!
Опять цирк.
Хорошо. Но тогда он искусный фокусник, а не клоун: букет сух и весел, покачиваясь в такт движениям однорукого пловца, гордо плывет над гибельной пучиной.
— Ух, как ты умеешь! — кричит восхищенная Любка. — А тебе не трудно?
Тогда он переворачивается на спину и плывет вовсе «без рук», работая одними ногами, мечтая: «Что тебе за это?» — «Поцелуй… в щечку!» — Рыцарь шутит, но она поймет, что он серьезно.
Несколько минут, пока плывет безрукий Рыцарь, перед его глазами нет Любки, есть только небо с жидкими пятнышками облаков. Угадать место берега, где сидит Любка, опустив ступни в воду, нетрудно. Причалить и резко обернуться, выставив перед собой букет, сухой и веселый, — тебе!..
Рядом с Любкой, как маг из пустоты, оказывается сидящим дядя Аполлон, по лицу которого блуждает его универсальная улыбка — наверное, только что закончил рассказывать «смешной случай». Любкино лицо испорчено такой же неумной гримасой, что для нее не характерно.
— Спасибо, племянничек! — говорит дядя Аполлон, забирает предназначенный не для него букет и рассеянно погружает в цветочный сноп все свое лицо. — Да просто у меня удочка там, в кустах. Я тут рыбачу. Вы, молодежь, мне, между прочим, всю рыбу распугали… Это, знаете, как один рыбак идет по пустыне — бац! — соленое озеро. И на берегу аксакал сидит. «Рыба есть?» «А куда ей отсюда деться?» — мудро отвечает аксакал.
Любка заливается смехом, закатывая глаза.
— Сидит день, а вечером спрашивает: «Отец, а здесь рыба-то есть?» А ему: «А откуда ей здесь взяться?»
Идиотские шутки из нафталинового репертуара…
Они с Любкой живут в разных городах, но сейчас лето, и они вместе, в одном дачном поселке, их участки рядом. Взрослые, к которым относится и Любка, утром уезжают в свои города, а к вечеру возвращаются, чтобы ночевать здесь со своими детьми на лоне природы, в мирной безмятежной хляби деревенских запахов и звуков. В субботу и воскресенье все смешивается, не понять, где кто. Дачный народ разбредается по перелескам, по лесистому берегу реки, по огородам… Иногда и Рыцарь, не найдя Любки, потеряв на время мать и дядю (вернее, потерявшись от них), «разбредается» сам — уходит, куда глаза глядят, останавливается там, где застанет его чудесное мечтание. Он может зайти в лес, лечь на теплую землю, смотреть в небо, откуда на него дивятся очарованные деревья, и заснуть, и видеть — против ожидания — тяжелые сны…
У Любки сессия, и она посещает консультации, сдает экзамены, а во второй половине дня часто выходит за калитку, садится на укрытую лиственной сенью скамейку и читает свои книги и конспекты. Он, «совершенно случайно», оказывается рядом.
— А-а, это ты, салажонок, — поворачивает она голову. — Ну, садись, куда тебя денешь! Только не мешай.
Ему, Рыцарю, четырнадцать лет. Любке двадцать. Она невеста на выданье, как говорит про нее Рыцарева мама. Иногда добавляет что-нибудь подобное: «Семейка, ничего не скажешь. А девчонка — яблонька от яблони…» Что это значит — неизвестно. Мамин брат, Аполлон Иванович, на эту тему ничего не говорит, его это совершенно не касается. Странно, обычно его все касается.
У дяди жена испанка, она уехала к себе на родину. Мама Рыцаря, то есть сестра Аполлона, говорит, что испанка ждет, когда ее муж «приползет с повинной»; и Аполлон сейчас «разбирается в себе», выбирая между благополучной жизнью в Испании с не очень любимой женой — и свободой. У него трудный период. Глупец, ругает его сестра, он еще думает! Учился бы лучше у своего зятя, чтоб его там подбросило!..
Несмотря на то, что Аполлон на даче гость, положение его здесь, как он сам любит повторять, вполне устойчивое. Злой гений городской газеты по части скандальных фельетонов, находящийся «не в номинальном, но реальном разводе», он с удовольствием опекает свою сестру, муж которой пропадает в загранкомандировках. Вся его братская опека сводится к тому, что утром он уезжает творить свои желчные газетные дела, а вечерами уходит на бесплодную рыбалку, отдыхая от редакционной суеты, судебных разбирательств и прочей бузы в речной тишине «этой унылейшей, но премилой дыры». Однако если у него хорошее настроение, то все, попавшие в орбиту его нездорового веселья, падают со смеху от его многочисленных рассказов: поддержать он может любую тему — от космического противостояния великих государств до методов засолки огурцов поздних сортов, выросших ранней весной в дырявой теплице. «А вот такой был случай, я чуть не помер, не поверите…» И несколько минут изысканного юмора, от которого слушатели катаются по столу. Причем, если на тему огурцов — то стиль и тон рассказа будет, что называется, салонно-возвышенный, неспешный — с фраками, лорнетами, веерками, падением в обморок и дуэлями. Если же на тему космическую — то «фельетон» случится на уровне беседы двух магазинных грузчиков, вечно пьяных и склеротичных, закусывающих ржавыми огурцами из коричневой банки, с использованием двух десятков слов.
«У Аполлона на все есть заготовки, как у меня», — говорит мама Рыцаря, Аполлонова сестра, закатывая в банки варенье, компоты, соленья и маринады. Она единственная, кому его шутки безразличны.
Рыцарю дядины шутки не безразличны — отвратительны…
— Любка, я люблю тебя!
Любка хмыкает, не отрываясь от книги, и бормочет, покусывая коготок:
— Что-нибудь пооригинальней, пожалуйста.
Он пытается быть своеобразным, поэтому плетет шутливые вензеля, надеясь, что за фамильярным проявляется его истинное, серьезное отношение к ней:
— У тебя такое имя… Оно определяет отношение к тебе помимо моей воли.
— Ну, надо же! — вскрикивает Любка, удивляясь чему-то из прочитанного, по-прежнему глядя в книгу, и выпячивает нижнюю губу. — Никогда бы не подумала.
Губа у нее влажно блестит и сводит его с ума. Он всегда хочет уловить в Любкиной откровенно пренебрежительной реакции тайный знак ему.
Любка комментирует его признание, ерничая:
— «Жена, ты любишь меня?» — «А?» — «Или не любишь?» — «Да». — «Что да?» — «Ничего».
Аполлонова школа…
— Любка, хочешь, я брошу школу и поступлю в техникум в твой город? У меня есть где поселиться — у дяди.
— Зачем? Хватит с нашего города одного Аполлона… Кстати, где он сейчас, газетный бузила, балагур дачной провинции?
— Чтобы быть рядом с тобой… — тянет Рыцарь свое.
— Зачем? — Любка листает конспект туда и обратно, силясь найти нужную страницу. — Зачем? Зачем? Зачем?.. Ну вот, ага! Суррогат, суррогатус… Продукт или предмет, заменяющий другой продукт или предмет, с которым он имеет некоторые общие свойства, но не обладает его качествами… Переносный смысл: подделка, подделанный, фальсифицированный продукт. Суррогат кофе, суррогаты жиров, суррогат счастья. И все?.. А дальше?.. Говори-говори, чтобы я не отвлекалась на вопросы, — Любка шлепнула ладонью по бумаге. — Это я здесь сачканула, как назло, кино-кино-кино… Ну, ладно! Так зачем, скажите вы мне ради бога, — она поворачивает голову в сторону собеседника, — зачем люди, вместо того чтобы сидеть на лекции, смотрят кино? Зачем? Ведь кино это суррогат жизни!
— Любка, а ты бы смогла еще года четыре не выходить замуж?
— Смогла бы! — быстро отвечает Любка — Конечно, что за вопрос! Но больно уж кино хорошее иногда бывает. Как устоять? А потом — нужной лекции нет. И где взять?.. И ведь именно эта тема попадется, как пить дать, попадется в несчастливом билете… Но почему четыре? Чтобы проводить тебя в армию?
Любка бьет под дых: действительно, его совершеннолетие будет говорить о том, что пора в армию, а там еще два года. Несчастный он, несчастный.
— А шесть?.. — он потупился, понимая, что говорит о невероятном: — А шесть лет смогла бы?
— Нет! — выкрикивает Любка и захлопывает конспект. — Не могу! Без этой страницы сама тема становится бессмысленной. Завтра на консультацию, там возьму у девчонок пропущенную лекцию, — она таинственно улыбается: — Или у мальчишек!
— Не надо у мальчишек, — просит Рыцарь.
— Какая разница?
— В порывах ревности я страшен…
— Ге-рой!.. — саркастически скрипит Любка.
Днем он сидит с Любкой на скамейке, вечером она уходит к себе. После семейного ужина из окон ее дачного домишки несутся звуки скрипки. Несостоявшаяся скрипачка…
Он в это время смотрит на звезды, ему видятся испанские лагуны, каналы Венеции, небоскребы Нью-Йорка, огни Бомбея… Скрипка смеется и плачет на разных языках, разнося по родной окраине дух чуждых мест. И его любовная тоска погружается в пестрый рай дальних стран…
Наконец звучит «Чардаш» — это сигнал: сейчас Любка выйдет на улицу, сядет на темную скамейку. И скоро туда выйдет он. Конечно, случайно… Иногда за ним, отложив газету, увязывается дядя Аполлон, чтобы своим присутствием смазать всю картину его свидания — смешить Любку, забирая все ее внимание себе, пустому никчемному человеку, неудачнику в карьере, в семейной жизни, человеку без друзей, даже без каких бы то ни было привязанностей, но при этом встревающему в любой разговор, препятствуя нормальному общению людей. Людей, гораздо младше его, которые вовсе не нуждаются в постороннем, тем более, во взрослом вмешательстве…
Но сегодня дядя загрустил у телевизора, невидяще глядя в экран, и Рыцарь выходит на свидание один.
Он выходит к скамейке с гитарой, как с противовесом утихшей скрипке.
Любка, как всегда, шутит:
— Что сбацаешь мне, мачо, на кифаре? Что будем танцевать? Оле, халео? Качучу? Мадрилену?.. Увы, сегодня, судя по нашему с тобой одиночеству, не будет танцев пылких болеросов, не будет тамбурин и кастаньет… Ведь ты сегодня один, без своего хохмачового дяди. Значит, будем грустить.
— А разве это плохо — грустить? Слушай, Коломбина…
«А ты опять сегодня не пришла… А я так ждал, надеялся и верил, Что зазвонят в ночи колокола-а-а, И ты войдешь в распахнутые двери!..»Он поет и пьянеет от картинки: Любка входит в его гостиничный номер под звук колокольных перезвонов! И ты, Любка…
«Перчатки скинешь прямо у дверей И просто бросишь их на подоконник! „Я так озябла, — скажешь, — обогре-е-ей“. Протянешь мне озябшие ладони!..»Любка смотрит в небо.
— Что думал сочинитель этих несовершенных стихов? Ему было не до стихов, о, мачо! Пиит просто сплетал первые попавшиеся слова и ноты, подсказанные глупым сердцем, в серенаду любви. Потом, когда все ушло, не переделывал, не оттачивал рифму, не устранял ляпов… Давай что-нибудь более ритмичное.
— Пожалуйста.
«Где-нибудь в вагоне-ресторане Тебя ласкает кто-нибудь другой! А я пою, пою тебе, Любашка, И я хочу, чтоб ты была со мной…»— Не Любашка, а Аленка. Не верю тебе, маленький льстец, Аполлонова кровь!
Он прекращает играть, покоробленный ее метафорой.
— Люб, можно я возьму твою ладонь.
— На, бери, — скучая, протягивает руку Любка.
Ему показалось, что она зевнула.
При луне не все видно. Но этот запах!.. Разве для этого нужен свет?
— Ой! — убирает руку Любка. — Хватит меня обонять! Прикоснись лучше к ноге.
Он вздрагивает и перестает дышать.
— Вот, к повязке, — поясняет Любка, выворачивая перевязанную голень к лунному блику. — Сегодня поцарапала. Бабушка говорит: безгрешный коснется — хворость уйдет. Ты же у нас…
Ему не нравится Любкино сопоставление, но что оно по сравнению со счастьем, с тем, что можно прикоснуться к ее ноге? Прикоснуться — и умереть!
Повязка на ее голени — словно бандаж на ноге великолепной резвой скакуньи чистых кровей, сводящей с ума скакунов, сходящих с дистанции, сбивающихся в кучу на полном скаку, ломающих ноги…
Шершавая и вместе мягкая ткань, передающая тепло Любкиной ноги…
Нет, это не просто бинт, не обыкновенная хлопчатобумажная ткань, это отрезок святой плащаницы, душистой от йода, врачующей непорочное тело. А он — недостойный грешник у ног великой госпожи, бедный скакун с поломанными ногами, имеющий право только на нежное, сквозь боль, безнадежное ржанье.
— Достаточно! — смеется Любка, вставая. — Грехи ты с меня снял, спасибо, салажонок! Теперь и «вавка» до утра заживет. Спим до завтра!
3
— Ха-ха-ха!.. — Пират смеялся, откинувшись на спинку кресла. — Вот так прямо и подумали? Вот с такими вариациями?
Мы поддерживали его веселье, улыбаясь и кивая. Пират вытер слезы и спросил почти плаксиво:
— Ну, а что еще вы предположили?
Вика многозначительно посмотрела на меня, видимо, вспоминая мою версию про любовный треугольник, а затем состроила наивное лицо в адрес Пирата:
— Представьте, нам больше ничего не смогло прийти в голову. Видимо, настолько мы простые и ограниченные в своих фантазиях. Знаем всего несколько культурно-карикатурных образов, почерпнутых из современных примитивных фильмов и классических анекдотов.
— Ничего, — успокоил ее Пират, — ведь вам еще так мало лет. Вот через полтора десятка лет вы непременно станете такими же мудрыми, как я… — почти не поворачивая головы, он крикнул за плечо: — Хозяюшка, можно еще по чашечке чаю?.. — и объяснил нам, поглаживая свой красный медальон: — Я не хочу рассказывать быстро. Для того, чтобы вы поняли все в той мере, в какой бы я этого хотел для вас, как для заинтересованных, а не праздных слушателей, я должен нарисовать картину, так сказать, при зрителях. И с самого начала. Это потребует некоторого времени… Располагаете ли вы им? Этим временем?
— Сделайте одолжение! — воскликнула Вика. — Мы не планируем на сегодня уже ничего существенного, — она соблаговолила обернуться ко мне: — Правда?
Я изобразил неописуемую радость и кивнул, даже раскинул руки и закатил глаза, показывая, как хорошо находиться здесь, в уютном пустынном холле с огромными окнами, распахнутыми в южную приморскую ночь, и слушать приятного собеседника.
— Так вот, — начал рассказ Пират, достав откуда-то очки и водрузив их на нос, будто готовясь читать лекцию. Наверное, в повседневной жизни он стеснялся своих окуляров, но сейчас ему было необходимо видеть лица слушателей. — Я родился в простой семье, в обыкновенном рабочем поселке, состоящим сплошь из пришлого люда, поэтому говорить о каком-то вековом укладе не приходилось: традиции складывались, так сказать, стихийно. Окончил училище. Далее нужно было сходить в армию, прежде чем приступить к самостоятельной жизни. То есть у меня начинался самый, что ни на есть, обыкновенный жизненный путь паренька из пролетарской семьи.
Но до армии я располагал месяцем свободы. Родители сделали мне подарок на совершеннолетие… Я сам попросил — не часы, не магнитофон… а туристическую путевку. Ведь я еще нигде не был!.. И они купили мне такую путевку. Но куда бы вы думали?.. Нет, не на юг, куда едут все нормальные люди, а в Москву. Так получилось. Совершенно случайно. На десять дней.
Это было вскоре после московской олимпиады, и гостиничный комплекс Измайлово, в котором еще недавно располагалась, кажется, олимпийская деревня, принимал гостей со всей страны уже в качестве туристов. Не буду описывать качество гостиничного сервиса, скажу только, что для того времени он был вполне хорошим, хотя, конечно, не на таком уровне, как в этом отеле, где мы с вами имеем счастье…
Днем я ездил на экскурсии, а вечером непременно посещал какой-нибудь театр. Был в Малом, в Ромэне… В театр Эстрады попал, купив билет втридорога, с рук… В Большой театр проникнуть не удалось даже с помощью спекулянтов. Один раз посетил футбольный стадион «Динамо». Играли наши с поляками, и неожиданно для всех, в первую очередь для самих поляков, проиграли. Один-ноль. Запомнилось, что если на стадионе случалось легкое волнение, обусловленное эмоциями болельщиков, то цепь милиционеров вставала со своих мест в первом ряду и оборачивалась лицами к зрителям: мы здесь! На трибунах были, конечно, фанаты, но по нынешним меркам — тишь да благодать. Около стадиона, на выходе, видел конную милицию, что меня, признаться, поразило. Я-то считал до этого, что подобное могло быть только в дореволюционной России: жандармы, разгон демонстрации, и прочее подобное.
Получалось, что каждый раз возвращался в гостиницу поздно, как говорится, без ног. Но очень довольный!.. Так я прожил неделю. Приближалось завершение моего столичного вояжа, отъезд.
Надо сказать, что в молодости я был в меру симпатичен и часто ловил на себе заинтересованные взгляды женщин, причем разных возрастов. Сейчас это происходит гораздо реже… Но я почему-то относился к дамскому интересу так, что дальше взглядов и случайных комплиментов дело не доходило. Не знаю, то ли мой провинциальный максимализм играл свою роль, то ли еще что, но отношения могли возникнуть только на почве глубоких и, непременно, взаимных симпатий. Так я для себя определил.
Вика оборвала Пирата:
— Вы и сейчас очень даже симпатичный человек!
Мне показалось, что комплимент имел целью слегка сбить рассказчика с мысли, дабы не усугублять не очень удобную для Вики тему.
Пират привстал, галантно поклонился и поцеловал Вике руку. Он не стал развивать тему глубины и взаимности, возможно, именно потому, что правильно понял Вику:
— Это случилось за два дня до окончания срока путевки… Вечером я поужинал, с фужером какого-то хорошего вина. Слегка захмелел… Тогда все «городские» вина казались хорошими. Хотя и в нашем поселке напитки, помнится, были совсем неплохие — наливочки, настоечки, ну, и самогоночка, конечно…
Так вот, захмелев, я вышел из гостиницы с намерением прогуляться по улицам и площадям, отдыхая иногда в сквериках или даже на скамейках остановок общественного транспорта, пока не стемнеет.
Я зашел далеко. Конечно, заблудился, что меня нисколько не обескуражило — сказывался небольшой, но понятный опыт: спрошу, найду ближайшую станцию метро — и все в порядке.
Стемнело. Кончились сигареты, я зашел в какой-то большой магазин и…
Здесь Пират хлопнул себя по лбу.
— Я вас разочарую, но, оказывается, я не с того начал, упустив более ранние события. Просто во мне картина разворачивается именно в такой последовательности, и в этом мой просчет как рассказчика.
— Ну, что вы… — опять успокоила его Вика. — Это как раз таки хорошо. Мы ужасно заинтригованы и хотим видеть картину именно вашими глазами — на то это и картина, произведение искусства, а не хроника какая-нибудь…
Пират глянул на часы:
— Тогда до завтра? Уже без четверти полночь… Извините, возраст. Режим, режим…
Мы попрощались с рассказчиком, так странно прервавшим свое повествование. Он ушел от нас несколько потерянным и очень уставшим.
Но еще большим удивлением для меня явилось аналогичное состояние у Вики. Она пожаловалась на головную боль, природу которой не могла объяснить, и возжелала спать не в номере, а на самом верху, в солярии, на свежем воздухе. Хозяйка выдала нам по спальному мешку, ввиду того что в начале лета ночи здесь еще прохладные.
Нет, я не против свежего воздуха. К тому же — звезды, Луна, Млечный путь, Большая и Малая Медведицы. И Вика рядом, на соседнем лежаке. Но — спальные мешки!..
Я сижу на заднем сиденье и вижу их плечи, затылки, даже профили, когда они поворачиваются друг к другу. Иногда мы с Пиратом встречаемся взглядами в зеркальце над лобовым стеклом. Взгляд у него открытый и добродушный. Сегодня, узнав, что мы собираемся осмотреть маяк, он предложил нас туда доставить и заодно беглой экскурсией прокатиться по городу. Мы согласились. Вернее, согласилась Вика. Меня это начинает раздражать, и я сварливо шучу про себя: мое пророчество относительно любовного треугольника грозит сбыться, и они с Викой уедут отсюда вместе на этом самом автомобиле. Вот так же, как сейчас: он за рулем, она справа, счастливой пассажиркой, не скрывающей своего восторга.
Вика заметила, что мои шутки неоригинальны в принципе; к тому же, шутка, повторенная дважды… Спасибо, подруга, за откровенность!
Мы кружим по городу, который, оказывается, Пират знает, как свои пять пальцев. На взгляд залетного наблюдателя: с одной стороны море, с другой горы, а между этими стихиями — хаос улиц и переулков, устроенных всем зодческим набором, от хижин до дворцов.
Еще садясь за руль, Пират надел очки (не солнцезащитные, а те самые, обыкновенные, медицинские) и теперь, рассказывая, внимательно смотрит не только на дорогу, но и по сторонам, как будто выискивая что-то. А ведь пора бы пресытиться достопримечательностями этого, вдоль и поперек, как он сам говорит, изъезженного и исхоженного незамысловатого населенного пункта!
Пират откликается на просьбу Вики и продолжает историю своего медальона:
— Итак, до поездки в Москву, летом, мне случилось быть свидетелем на свадьбе у приятеля, который только что вернулся из армии. Подруга его, как тогда в большинстве случаев бывало, ждала его два года и дождалась, ну они и сразу в загс, а как же!
— Да-да, и у нас в деревне это было в порядке вещей, — встряла Вика. И уточнила, видимо, для меня: — Дождаться парня из армии и выйти за него замуж — это было нормально.
— Вы деревенская? — удивился Пират и надолго повернулся к Вике.
— Да, — кротко сказала Вика. И добавила, на этот раз, как мне показалось, некстати: — Я Вера по паспорту…
— Что вы говорите! — Пират удивленно качает головой. — Впрочем, почему бы и нет… Вера, Виктория… Наверное, в этом есть логика и смысл, ну, конечно, он есть.
Вот и еще немного к общему, — с издевательской иронией подумал я. Смотрел бы лучше на дорогу! А ты, деревенская скромница, не имевшая счастья кого-то дождаться из армии, не перебивала бы человека, а то история о происхождении медальона никогда не закончится. Нам сейчас еще только не хватает встретить на одной из этих улочек прогулочную лошадку, с взрослым мужчиной-неумехой в седле и искушенной пешей наездницей, ведущей в поводу обоих. И медальонный рассказ опять застопорится.
— Так вот. Как я говорил, особенных традиций в нашем поселке, сборном, как винегрет, не было. Поэтому любой свадебный обряд сводился к сватовству, а в день свадьбы — к выкупу невесты, и затем к пьянке со всякими тостами, кто во что горазд. Это уж я позже узнал, что и свадьбы-то разные бывают. То есть сам день бракосочетания называется зеленой свадьбой. А потом, оказывается, отмечают, в зависимости от года, ситцевую, деревянную, цинковую… Сейчас вспомню… — он отнял руку от руля и стал загибать пальцы: — Медную, жестяную, розовую, стеклянную, фарфоровую! Ну, серебряная — это общеизвестно…
Опять проявила свою осведомленность Вика:
— А за ней жемчужная, рубиновая, золотая. А далее — каменная, благодатная, коронная!..
Пират вдруг запел хорошо поставленным голосом, копируя певца Магомаева:
«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала! И крылья эту свадьбу вдаль несли!.. И шагал я, совершенно неженатый, И жалел о том, что я не жених!»Тоже мне, нашли тему, очень удачную для нашей с тобой ситуации, — подумал я, глядя в затылок своей незамужней подруги. Но поскольку тема была как-то связана с медальоном, то ее уже было не обойти. Я решил внести свою лепту, чтобы не выглядеть молчаливым истуканом, обделенным вниманием собеседников ввиду своей дремучей неосведомленности в рассматриваемом вопросе:
— А я где-то читал, что первоначально свадебный обряд был связан с магией, и множество мелочей, характерных для свадеб, имеет основой какое-либо суеверие или предрассудок.
Вот вам!
Вика обернулась и спросила настороженно, видимо, предполагая подвох:
— Например…
— Например! — с готовностью отозвался я. — Жених перед порогом своего дома берет невесту на руки и вносит в дом… Вы думаете, это всего лишь демонстрация силы и готовности к… ко многому?
— А разве нет? — удивилась Вика несколько снисходительно.
На что я продолжил откровенно менторским тоном:
— А между тем, раньше это делалось с единственной целью — обмануть домового, заставить его принять невесту как новорожденного члена семьи. Который в дом не входил, а в доме оказался… Или вот фата. Это ведь не простое украшение! Это укрытие невесты от сглаза и иных воздействий нечистой силы…
— На самом деле ритуал свадьбы имеет цельную структуру, — отвернувшись от меня и обращаясь к Пирату, заворковала моя голубка, деревенская уроженка. — Это и сватовство, и так называемый сговор, и смотрины, и предсвадебные вечерки, и девичник — последний день перед свадьбой, с непременной баней, где невеста окончательно прощается с девической волей… И на всех этих мероприятиях — песни, песни!..
Вдруг она запрокинула голову и, приложив ладонь тыльной стороной ко лбу, запела:
«У старыва у зладея, У старыва у зладея Жона молодая, Жона молодая! Нельзя, нельзя жону бити, Нельзя, нельзя жону бити…»Окончательно осмелев и тряхнув головой, примерная пациентка логопеда заголосила громче:
«Ой, нельзя пожурити, Нельзя пожурити… Пажурил ее часочек, Пажурил ее часочек, Проплакал неделю, Проплакал неделю…»Она умолкла и, стыдливо прижав ладошки к раскрасневшимся щекам, смотрела то на меня, то на Пирата. Я зааплодировал, а Пират выдал клаксоном что-то ритмичное, поощрительно добавив:
— Браво, браво!..
— Мне кажется, это немножко не по теме? — решил уточнить я.
— Виктория, — воскликнул Пират, — еще! Ну, будьте великодушны, Вера!
Вера-Вика глянула на меня с укором, и с благодарностью — на Пирата. И, наверное, в отместку мне продолжила, уже как профессиональная певица-причитальщица:
«Черной шляпынькой накрылся, Черной шляпынькой накрылся, Слезами залился, Слезами залился… Приходи моя милая, Приходи моя милая, Кого мне любити, Кого мне любити!..»Она тяжело вздохнула, борясь с нахлынувшим волнением:
«Ой, солдатычку вольну, Солдатычку вольну, Мне солдатычку вольну, Мне солдатычку вольну. Любить ее можна, Любить ее можна. Мне любить ее можна, Мне любить ее можна, Ходить осторожна, Ходить осторожна!»Последние слова прозвучали громко, с горьким вызовом. У меня пробежали мурашки по коже: я вспомнил подобные ноты в голосе Вики, когда однажды она разрыдалась по какому-то пустяку. Но сейчас она только вынула носовой платок и громко протрубила в него. Пират занялся каким-то сложным маневром на совершенно свободной дороге, чертыхаясь на неведомое препятствие, а я торопливо выдал фрагмент своих научных знаний о ритуальных предрассудках:
— Кстати, о банном обряде накануне, собственно, свадьбы. Это, к вашему сведению, архаичный пережиток ритуала бракосочетания с духом бани — банником, которому невеста приносила в жертву свою девственность.
На удивленный взгляд Пирата от зеркальца я пояснил:
— Явление, свойственное эпохе гетеризма! Да-да, посвящение в частное обладание женщиной шло через предварительное коммунальное обладание ею.
Вика захохотала. Такого в ее исполнении я еще не видел и не слышал. Она каталась по сиденью, то хватаясь за живот, то откидываясь на спинку, и при этом истерически содрогаясь, всхлипывая и икая. В конце концов захохотали и мы с Пиратом, правда, без особого энтузиазма, скорее из вежливости.
Я разгадал этот смех: Вика хотела поплакать и таким образом смогла это сделать, разрядившись за несколько судорожных минут. Наконец успокоившись и высушив платком слезы, она сказала голосом с хрипотцой:
— А после первой брачной ночи у нас проверяют невесту на честность: проносят сорочку на подносе… Ну, и так далее.
Пират смутился, но я решил уже ничему не удивляться из того, что будет выдавать моя мстительница. Но мстительница сменила пластинку:
— А самое, конечно, веселое и смешное происходит на второй день, когда куролесят ряженые. Есть такой обряд, который называется «поиск ярки». Это когда люди наряжаются пастухом, милиционером, цыганкой, попом, врачом, разбойниками и так далее. Мужчины, переодеваются в женское платье, и наоборот… И вот вся эта шумная братия ходит по дворам, ищет потерянную ярку… Иногда они оседлают свинью или осла…
«Бу-бу-бу!.. Та-та-та!.. Ля-ля-ля!..» — рассказывает Вика. «До-до-до!.. Ха-ха-ха!» — реагирует Пират.
4
Воскресенье.
Что в этом слове? Что должно воскреснуть?
Он ищет знаки во всем, что его окружает. Сегодняшнее пробуждение: первое услышанное слово — воскресенье.
— Воскресенье, — разговаривает сама с собою мать, — а он с утра на рыбалку. Хоть бы вечером нас с тобой в театр свозил! Целое лето в театре не были, — это она про Аполлона.
Любки нигде нет. Такое бывает.
Рыцарь уходит, куда глаза глядят.
Сегодня глаза глядят на речку. Он пересекает поле, входит в лесную гриву, оторачивающую речной берег. Забирается на высокий разлапистый дуб. Как лесной разбойник, как пират, выживший после кораблекрушения, он осматривает мир, насколько тот доступен с данной высоты и густоты зелени… Любки нигде нет. Здесь же, на высоте, в сплетениях веток, он находит себе гнездо, как большой орел, как шимпанзе, как Маугли, как Тарзан… Усаживается поудобней.
За спиной — восток. Он согревает затылок редким лучом, прорвавшимся сквозь листвяную сень. Впереди — запад, перспектива утекающей реки с двумя зелеными берегами. Слева, за рекой, — ребристая даль полей, а справа — дачные постройки, откуда потерялась сегодня, с самого утра, его русоволосая, пахнущая медом и йодом Любка.
Петь можно и здесь, далеко от дач, никто не услышит.
«Как турецкая сабля твой стан! Рот — рубин раскаленный! Если б я был турецкий султан, Я бы взял тебя в жены!..»Она пахнет йодом и медом, она жужжит пчелами, тяжелыми от нектара, она читает волшебные конспекты, написанные магическими знаками. Она играет на скрипке и жалуется, что потеряла страницу из колдовской книги. И не сбудется его дивное пожелание, если он не добудет ей этот лист, подобный перу жар-птицы, родственный волшебной иголке в заколдованном яйце, спрятанном на завороженном дубе!..
И он одевается сказочным воином, а она держит под уздцы его коня и плачет, как легендарная Ярославна-Лада… А он поет:
«Я бы в жемчуг тебя нарядил, Чтобы видели люди! Я бы сердце тебе преподнес На серебряном блюде!..»В его снах так бывает: в самый напряженный момент, когда он готов засмеяться или заплакать, — пробуждение… Которое сопряжено с досадой, даже если прерванный момент сна был связан с риском для его благополучия, чести и самой жизни. Все равно, упрямо и непокорно думает он, пробуждаясь, лучше бы я спал.
Лучше бы он спал…
Пробуждение пришло снизу, от земли, оттуда, где дерево с Тарзаном слоновьей ступней упирается в высокую траву.
Под мальчиковым затылком не видно личика Любкиной сестренки, шестилетней егозы. Но Рыцарь узнал ее по голосу.
— Не так, — говорит девочка деловито.
Вокруг вьются дикие пчелы. Наверное, в дупле этого дерева живут пчелы, а он — впрочем, все они трое — потревожили их размеренный труд.
— Я боюсь, — выглядывает из-под мальчика девочка, обращая личико к небу, к кроне дерева, в гнезде которого застыл невидимый невольный наблюдатель, — они кусаются!..
Мальчик молчит, только сандалии торопливо трутся о сухую траву, ища опоры.
Девочка:
— Говори же что-нибудь!
— Что?
— Что-нибудь. Что любишь меня…
— Гм…
— Ну!..
— И так ясно… — отвечает затылок.
— А Любка, — заговорщицки щебечет девочка, — вот так делала: «Ах, ах!..» — девочка бросает головку в стороны, прикрыв глаза, облизывая губы… — А дядя Аполлон говорил тихо-тихо: «Люба, ты божественна!» А она шепчет: «Бога нет!..» И смеются оба… А потом он анекдот рассказывал…
— Что с тобой, герой? — озабоченно, но как всегда иронично, спрашивает Любка. — На тебе лица нет. Тебя побили?
— Да.
— Кто?
Рыцарь ухмыляется, не глядя на Любку, подстраивает гитарную струну:
— Пчелы…
— Опять лазал по деревьям? Народ жалуется. Дикие пчелы становятся небезопасны. Есть два мнения: потравить и одомашнить… Ну, скоро ты? Пой, а то уйду.
«Что стоишь ты, потупивши взор, Пальцем трешь о шкатулку? И сама потихоньку, как мышь, Ночью бегаешь к турку…»— Так все-таки потравить или одомашнить — ты за какой вариант?.. Ну и уходи, подумаешь!.. Единственный раз спросила у него совета! Эх, ты, герой…
5
Они всё про свадьбы. Бывает так, бывает эдак. Пора прервать это щебетание:
— Друзья, а как же медальон?
Вика недовольно оглядывается, гася улыбку, которая не сходила с ее лица последние несколько минут.
— Ах, да! — Пират опять шлепает себя по лбу. — Ближе к делу! Так вот, стали мы, то есть друзья нашего жениха, как водится, готовить всякие хитрости, характерные для наших свадеб. Тогда невесту выкупали не большими деньгами (это было не в моде), а сообразительностью и, так сказать, подготовленностью. Допустим, при торге, когда нужно пройти в жилище к невесте, со стороны ее дружек начинаются требования: а дайте-ка нам для начала рубль копейками! Сваты говорят: пожалуйста, вот вам заготовленные сто копеек… А тогда дайте-ка нам еще совсем немножко — полкопейки! И это для находчивых сватов не задача: пожалуйста, с помощью зубила и молотка полкопейки приготовлены заранее… Ну, и прочие ухищрения и ответы на них. Очень было весело! Всего и не упомнишь…
Сейчас все пойдет по второму кругу, с досадой подумал я, но ошибся, так как Пират уже вышел на конечную цель свадебного разбирательства:
— Так вот, одним из модных требований тогда было: а дайте-ка нам «красненькую, с Лениным», то есть червонец, бумажную десятку с изображением, естественно, Ленина. Ну, конечно, для дела не жалко десятку в такой момент! Но для смеха — только для смеха! — красили металлический юбилейный рубль обыкновенным красным или розовым лаком для ногтей. Так сказать, показательная экономия, замешанная на сообразительности, что повышает дивиденды претендующей стороны…
Тут рассказчик артистично обратился к Вике, изменив интонацию, сделавшись ехидным:
— Вам красненькую? С Лениным?
Вика с готовностью кивнула.
— Извольте! — Пират снял с себя цепь с медальоном и бережно вложил в женские руки: — Убедитесь: красненькая?
— Красненькая! — весело отозвалась Вика.
— С Лениным?
— Так точно!
— Что и требовалось доказать!.. Все довольны, все смеются. Вот так-то!
Пират довез нас до маяка на левом мысе городской бухты и уехал по другим делам, назначив на вечер «общий сбор» у центрального причала, откуда нам предстояла водная экскурсия по ночной бухте с выходом в открытое море…
— Девочки и мальчики!.. Радуйтесь, делайте счастливые лица — я пришел!..
Одно ухо заложено, в другом по-садистски молотком колют грецкие орехи. Оказывается, это настоящая пытка — ехать во внутреннем, «дискотечном», зале прогулочного катамарана.
У синтезатора хозяйничает, вальяжно дрыгаясь в такт музыки, пожилой, нелепо молодящийся, согбенный годами диск-жокей, с небрежной растительностью на лице, с клоком седой шерсти в вырезе боцманской майки. Эта музыкальная обезьяна выдавливает из своей машины все возможные децибелы, периодически, так, чтобы было видно всем, опрокидывает в себя крошечную рюмку водки и, занюхав кулаком, выдает в микрофон какой-нибудь бессмысленный выкрик:
— Давай-давай, не тормози!..
— Извините, девочки, у меня радикулит!..
— Грудным детям водки не наливать!..
Если Пирата максимально оглупить, то из него, наверное, получился бы неплохой диск-жокей.
Часть посетителей пребывает в безумном хаосе движений, подергиваясь, выпучив глаза, страдая от грохота, но послушно следуя общему сумасшествию. Атакуемая шквалом направленного света, о никелированный шест трется высоченная стриптизерша — наверное, подряженная на лето московская топ-модель, красивая, но безжизненно-холодная в своей доступности; иногда она подходит к столикам, ее лягушачью кожу можно потрогать или заложить за резинку трусиков («бюстик» она уже давно сняла) денежную купюру. Если бы не ее великанский рост, то можно было сказать, что на нее похожа Вика, которая сейчас сидит рядом и, радостно улыбаясь, что-то кричит на ухо Пирату.
Шум сверх определенного порога — как и тишина: четче предметы, выразительнее лица, и над «немой» сценой двух не слышимых людей становится зримым жгут из двух одиноких душ, которые до этого скитались по свету и вдруг тут свились в единый нимб, который засверкал над головами этих неисправимых романтиков, этих глупцов… Они, кажется, совсем отрешились от мира, и от меня в том числе, что-то кричат, наклонив головы друг к другу, машут головами — отрицают или соглашаются — касаются висками, лбами… Они бы, наверное, подошли друг для друга, встреться раньше. Не будь меня, которого, впрочем, можно утопить прямо сейчас, опоив и выбросив за борт.
Ах, эта челка!.. И этот взгляд из-под челки!.. Так она смотрела на меня в первые часы нашего с нею знакомства. Как все банально, избито и пошло!
Конечно, моя подозрительность — это моя глупость, мои комплексы, порожденные собственной добропорядочностью и умопомрачающим шумом. Да что там! Этот шум может просто убить.
Я делаю им знаки: дескать, не могу больше, ухожу наверх. Они кивают. Встаю и едва не падаю: шумовой ужас нарушил мне координацию движений. Стоит немалых усилий сделать десяток верных шагов, чтобы выйти из этого ада.
На верхней палубе прохладно. Но я готов мерзнуть, чтобы… Вот это да! Чтобы побыть одному.
Но я еще не успел оценить свое непростое состояние, как сзади послышались родные голоса: «Та-та-та, ля-ля-ля!..», «До-до-до, ха-ха-ха!..» Покой был недолог. Впрочем, судя по курсу судна, мы возвращались с открытого моря в бухту, и скоро конец затянувшемуся общению. Город-бухта разлегся во всей ночной красе: огненный серп, посылающий в воду кинжалы световых отражений, с таинственным мерцанием на кончике теперь уже правого от нас рога бухты — маяк, у которого мы с Викой сегодня, почти в полном молчании, провели пару неуютных прогулочных часов…
6
Любка сдалась и согласилась пойти с ним на берег.
Он шел впереди, чего раньше никогда себе с Любкой не позволял. На груди гитара, в душе огонь, под сердцем — нож.
— Сыграй что-нибудь, — садясь на лесину у воды, прислонясь к корневистому обрывистому берегу, прикрывая глаза.
— Это прощальная песня, — предупреждает он.
— Да? — она вскинула ресницы, окинула его подозрительным взглядом. — Ну, что ж…
Он запел:
«А турецкий султан, он дурак! Он ханжа, он невежа! Третий день я точу свой кинжал, На четвертый — зарежу!..»— Вот как!.. И что же будет дальше?
«Изрублю его в мелкий шашлык, Кабардинцу дам шпоры! И, накинув на плечи башлык, Увезу тебя в горы!..»— Ты остался совсем один, — Любка погладила его по голове, гнусаво жалея: — Мама с дядей уехали в театр, оставили маленького одного. Ты не любишь театр? Почему ты не поехал с ними? Я слышала, вы собрались продавать дачу. Неужели ты можешь исчезнуть навсегда? Я так привыкла…
Он перестал играть несколько долгих минут назад. Он молчит, не отвечает на игривые Любкины вопросы.
Любка вдруг забрала у него гитару и стала подбирать мелодию. Она ведь музыкантша, хоть и не гитаристка. Пальцы левой руки у нее сильные, как и положено скрипачке, с мозолистыми крепкими подушечками, но вот правая длань выщипывает всего лишь слабые, глухие, шепотливые звуки. Услышать бы, как ты шепчешь, Любка!
И Любка почти зашептала, запела, подражая его интонациям:
«Костер давно погас, а ты все слушаешь… Ночное облако скрыло луну. Я расскажу тебе, как жил с цыганами, И как ушел от них, и почему…»— А когда приедут? — спрашивает Любка, приостанавливая исполнение мужской партии.
— Мама с Аполлоном приедут завтра утром… — глухо говорит он, глядя в сторону.
— Как там дальше?.. — морщит лоб Любка. — Ага, в таборе влюбился в цыганку: «…не понимал тогда тарам-тарам-тарам, любовь цыганскую не понимал…» И, окончательно вспомнив, поет:
«Однажды вечером вдруг мне взгрустнулося, И я пошел гулять вдоль по реке… Гляжу, цыганка там с другим целуется, И острый нож блестит в моей руке…»Вздохнула, отвернулась, помолчала… Закончила устало:
«Цыганка черная вдруг стала бледною… И только вымолвить она смогла: Я птица вольная, люблю цыгана я, И за любовь свою я жизнь отдам!..»Он вырвал из Любкиных рук гитару и, высоко размахнувшись, ударил ею по лесине. Как будто пушка прогремела над вечерней рекой, отразившей страшный грохот гробовым гулом. Две половинки невинного инструмента, жалобно звякнув в коротком полете, упали на воду и обиженно поплыли прочь.
— Ге-р-рой! — саркастично выкрикнула Любка и тут же получила кулаком по лицу. И зажала лицо ладошками, скрывая глаза и губы, затряслась всем телом…
Когда Любка уронила руки, он увидел, что она смеется… Облизывает кровоточащую губу и смеется.
Пружинистый от решимости, он стремительно уходил прочь от реки. За ним бежала, спотыкаясь, Любка и говорила, говорила…
— А счастливые не плачут, понятно, безмозглый малыш? Нет, не плачут!.. А если мне будет плохо вдруг, ты увезешь меня в горы?.. К тому времени, когда мне станет плохо, ты уже вырастешь… И увезешь меня в горы! Накинув на плечи башлык!.. Не убегай! Не убегай насовсем! Позвони мне!.. Потом! Ты, конечно, чепуха, мелочь! Ничего не понимающий салаженок. Ты!.. Но… Даже когда мизинец отрезают, больно, понятно?!.. Не уезжай без меня, подожди, ты вырастешь!.. Я подожду! Только скажи, что ты не насовсем!.. Сколько я должна подождать? Четыре? Шесть?..
7
— Итак, ребята, вошел я в какой-то продовольственный магазин с целью, как я говорил, купить сигарет. Всего-то! А там, внутри, страшно захотелось мороженного. У нас в поселке, помнится, тоже продавали мороженное, даже нескольких видов, но вот на палочке, классического эскимо — не было. А тут вдруг: эскимо, то самое, на палочке, как на картинках, как в кино! Полез в карман, а там нет мелких денег, одни крупные: пятерки, десятки. Но вдруг нащупал монету, оказалось, что та самая, красненькая, с Лениным — не пригодилась на свадьбе, завалялась в том выходном костюме. Я монетку повертел в пальцах да и отдал продавцу: эскимо, будьте любезны, и сигареты!
— Вы так быстро решили расстаться с этим произведением искусства? — спросила Вика, не поднимая головы.
Она, перегнувшись через перила, внимательно смотрела в темную воду, отваливающуюся жирными волнами от тела катера, как будто собиралась утопиться. Она ежилась от холода, но подойти и обнять ее у меня почему-то не хватало решимости. Между нами стоял Пират, и в тот момент мне почему-то показалось, что у него на Вику такие же права, как и у меня.
— Но ведь это сейчас монета — амулет, а тогда, подумаешь, завалявшийся в кармане рублик, которому наконец-то нашлось применение, как я полагал, протягивая продавцу плату за его товар. Да не тут-то было! Продавец озадачился: «Что вы мне такое даете?» — «Деньги». — «Дайте мне настоящие деньги». — «А это и есть настоящие. Юбилейный рубль». — «Что-то я не припомню, чтобы у нас красные монеты выпускались». «Так это, — объясняю, — просто монета, крашенная обыкновенным лаком для ногтей».
Продавец все же монету взял, но товар не отпустил, а куда-то ушел. Вернулся с заведующим. Заведующий не собирался задавать мне никаких вопросов, только демонстративно ухмылялся, как бы хотел показать: ври, ври дальше, сейчас посмотрим, кто кого. Вдруг сбоку появился наряд милиции: пройдемте, гражданин. Ну, вот, думаю, влип ни за что! Обращаюсь к заведующему: давайте, мол, выбросим эту шуточную монетку в урну, а я расплачусь вот десяткой, например. И достаю, показываю: у меня есть настоящий червонец, и не один, я не аферист какой-нибудь!.. Но не тут-то было: красненький Ленин перекочевал в карман милицейского сержанта, и мне настоятельно предложили прекратить хулиганство и проехать в отделение.
— Я знаю продолжение, — наверное, фраза у меня получилась с издевательским оттенком.
Но Пират отреагировал вполне добродушно:
— Валяйте!..
— Вам впаяли политическое дело. В результате вы отсидели в местах не столь отдаленных небольшой срок. Выйдя, вы покрасили аналогичную монету в революционный цвет, предварительно продырявив, и стали носить на видном месте в память о… событии, которое слегка подправило вам судьбу. Ну, символ: «Не забуду!..» Мы с Викой гадали, кто вы такой, и вот теперь нам ясно: вы — диссидент, член Хельсинской группы, мирового Пен-клуба и ассоциации российских правозащитников!
Я полагал, что за этими словами последует немая сцена, но Вика не оправдала ожиданий, резко отреагировав:
— Ты говоришь «мы», а между тем, я к подобной версии не имею никакого отношения, — и обратила взор к Пирату, дескать, продолжайте, не обращайте внимания на глупость.
— Не угадали, молодой человек, — Пират покачал головой, светло улыбаясь. — Да и не могли угадать. Поэтому, с вашего позволения, продолжу. Постараюсь быть кратким, а то уж, действительно, историйка затянулась… Значит, в отделении милиции произвели небольшое дознание, ответы-вопросы те же самые… Сейчас принято изображать то время в таком, я бы сказал, карикатурном виде: подозрительность, доносительство, политические преследования… На самом деле жизнь была гораздо разнообразнее! Нет, меня, конечно, поняли; а если и не поняли, то никто не собирался «паять», как вы сказали, политическую статью. Даже монетку мне вернули. Но уж больно лейтенант осторожный попался: услышал от меня незначительный винный запах и решил для своего спокойствия, что до утра молодому человеку лучше побыть в вытрезвителе, который, оказывается, располагался рядом с отделением. Да-да, ребята, никакой я не политический, что могло быть сегодня весьма почетно, а обыкновенный алкоголик.
Обменявшись с Викой несколькими шутками на тему алкоголизма, Пират продолжил:
— В вытрезвителе милицейский персонал отнесся ко мне тоже без всякой грубости. На мои утверждения о том, что я совершенно трезв, объяснили, что до приезда медработницы, производящей медицинское освидетельствование, которая куда-то некстати отлучилась, мне лучше поспать в палате. Убедили раздеться и закрыли в палате, которая оказалась камерой с тремя уголовниками. А то, что это уголовники, не вызывало никакого сомнения: манера поведения, татуировки… Видимо, главный (худой, свирепый, с неухоженными усами) стал задавать те же вопросы, что и продавец, что и лейтенант. Я опять за свое (но уже более вальяжно: свои, «коллеги» все-таки!): свадьба, полкопейки, красненькая с Лениным… Вдруг вижу: свирепость худого растет. Тут остальные двое сзади неожиданно подошли да взяли меня под локотки, сковали своими мерзкими руками. А у самих лица злые, но трусливые, телами подрагивают. Главный жулик замахнулся на меня со словами: ах ты, такой-сякой, Ленина не любишь, Родину готов продать за кусок мороженного!.. Мне оставалось только зажмуриться.
— Ужас! — воскликнула Вика и забегала глазами по лицу Пирата, видно, отыскивая следы камерной драмы. — Нам, кажется, пора сходить, судно причалило, прогулка окончилась. Обещайте, что сегодня в отеле вы обязательно расскажете эту историю до конца! Если она еще не окончилась… Смею предположить, что после того потрясения вы и стали носить этот медальон как напоминание о том, что от тюрьмы и от сумы…
— Мне кажется, я вас уже утомил своим повествованием, которое на самом деле имеет ценность только для меня, — Пират постарался сказать это легковесно, но шутка получилась печальной.
— Что вы! — постарался я его успокоить. — Это очень увлекательная история, которой вы нас заинтересовали с самого начала.
Фраза получилась стандартной, фальшивой, чего мне в тот момент вовсе не хотелось.
Пират воскликнул:
— Решено! Сегодня, если хотите, попросим, чтобы ужин состоялся не в холле, а в солярии. Тем более что мой отдых заканчивается, я жду звонка, который определит час моего отъезда…
— Какая красота вокруг! — Пират развел руками. — Какой пейзаж! Признаться, я именно из-за этого солярия и выбрал отель.
Действительно, отменный ночной пейзаж! На фиолетовом звездном небе — темный очерк невысоких гор, с которых сбегает к морю сосновая роща, становясь книзу все реже и истаивая за сотню метров до кромки мерцающего огнями берега… Рядом в кресле-качалке — Вика, такая уютная и домашняя, в великоватом для ее фигуры махровом халате. Сегодня она курит, что бывает, как правило, в торжественные, значимые для нее моменты. При мне это случалось пару раз, и то были действительно важные для нас события, которые я помню в мельчайших подробностях — они из следующего ряда: первый поцелуй, последнее свидание… Но, конечно, не первый поцелуй и не последнее свидание.
— …Но в это время лязгнул запор, сокамерники выпустили меня и разошлись по сторонам, как ни в чем не бывало. Дверь приоткрылась, и голос, почему-то женский, требует: гражданин такой-то, на выход. Я не сразу понял, что назвали мою фамилию, так был взволнован, аж трясло всего. С радостью выскочил и пошел, куда указывала девушка в белом халате, по облику — моя ровесница.
Зашли в кабинет. Ну, думаю, сейчас начнется экспертиза, придется в трубку дуть, приседать с закрытыми глазами… Нет, посмеивается только и указывает на мою одежду, которая аккуратно лежит на стуле: одевайся, я выйду. Оделся, жду. Зашла и говорит: ну и рассмешил ты весь личный состав своим рублем!.. Разговорились, выяснилось, что она — студентка медицинского, тут на практике. Вовсе не москвичка, просто повезло с практикой. Я, помнится, на радостях от такого отношения, все о себе рассказал: как жил в своем поселке, как учился, как на свадьбах гулял, как в армию собрался, как приехал сюда по турпутевке. Она говорит: утро уже, у меня смена кончается — проводишь до общежития? Что за вопрос от освободительницы!
Пират умолк. Его странно-торжественное молчание показало, что это и есть главный момент в его истории, незначительной для нас и важной для него. Вика глубокомысленно засмолила следующую сигарету. Мне показалось, что нам всем стало неуютно, каждому по-своему. Вот она, обратная сторона медальона!
— Идем по утренней Москве. После дождя Москва как умытая. А девчонка симпатичная! Не сказать, чтобы красавица, но какая-то особенная. Впрочем, тогда вся жизнь была впереди, и я не дорожил подарками… Мне кажется, она не хотела быстро расставаться, возможно, ей было одиноко в Москве. Вдруг она пригласила меня… Куда бы вы думали? Она повезла меня на кладбище, на Ваганьковское кладбище! Я у нее спрашиваю: почему на кладбище? Не лучше ли в парк, в цирк, в ресторан? Она говорит: нет, веселое — забудется, а печальное, если это светлая печаль, — останется. Примерно в таком роде она говорила. Я тогда подумал: странная! Какая же на кладбище светлая печаль?.. А ведь она была права! Я Москву тогдашнюю и запомнил именно от Ваганьковского кладбища, с могилами Есенина, Высоцкого, Даля!.. Помнится, у могилы Высоцкого шустрые молодые люди, которые выдавали себя за знакомых и друзей певца, предлагали его фотографии и магнитофонные записи… А у Есенина стояли бородатые люди и крестились, что было редкостью… А у Даля — люди с какими-то ужасно знакомыми лицами, наверное, заслуженные и народные артисты… Конечно, я запомнил и театры, и стадион, и вытрезвитель, но все то, что помимо кладбища, — как фон…
— Наверное, между вами произошло что-то очень важное, из того, что оставляет след на всю жизнь? — осторожно спросила Вика.
Пират пожал плечами:
— Погуляли до вечера и разошлись. Я взял у нее номер телефона в общежитии — и все.
— Тогда, наверное, от нее вы узнали что-то очень необычное, судьбоносное? — продолжала выпытывать Вика, у которой, видно, что-то не укладывалось в прагматичной голове. — Мне кажется, что без важных слов, которые вы от нее услышали, не могло случиться такой… такой памяти, такого святого и благоговейного отношения с вашей стороны… Я права относительно памяти и отношения?
Пират вздохнул и посмотрел на нас какими-то наивными глазами, которые, наверное, были у него в пору молодости:
— На первый взгляд, она не говорила ничего особенного. Ну, о том, что нужно учиться, к чему-то стремиться. Я еще думал: вот такая симпатяга, а разговаривает, как учительница!
— И вы, отслужив в армии, учились и стремились, и стали тем, кто вы сейчас есть — востребованным, преуспевающим, но… не счастливым?
Мы с Пиратом, не скрывая удивления, смотрели на Вику, пылающую от возбуждения и какой-то необычной решимости.
— И вы, конечно, потеряли ее! Ушли в армию!.. А после армии было уже бесполезно звонить в московское общежитие, где она временно пребывала! Ведь вы даже не спросили ее фамилии! И даже расположение того чертового вытрезвителя не запомнили?!
Пират утвердительно качал головой и, показывая сожаление, виновато пожимал плечами. Сложился странный треугольник: разоблачительница, виноватый и свидетель, до которого еще просто не дошла обличительная очередь и который, чуя свою потенциальную виноватость, покорно выслушивал все, что произносилось, не смея вмешаться.
— Но ведь хотя бы название населенного пункта, откуда она родом?..
Пират улыбнулся и бросил взгляд на мерцающий город. А Вика, пораженная еще одной догадкой, прижала ладони к щекам.
— И вы с тех пор приезжаете сюда, в ее родной город, просиживаете часы у санаториев и иных медицинских учреждений, ходите по набережной, посещаете пляжи с этим медальоном: вдруг она вас узнает, если вы вдруг не узнаете ее? Даже не уверенный в том, что она здесь сейчас живет!..
— Уже несколько последних лет, с тех пор как почувствовал, с какой стороны у меня сердце. Монету отыскал — ту самую, сохранилась! — подкрасил, ювелир привел ее в надлежащее состояние, цепочка и прочее… Но медальон я ношу не столько как отличительный знак, так было бы очень наивно… Это талисман. Он при мне всегда и везде, в любое время года и даже суток… Сейчас вот модно стало носить кресты, а я ношу «красненькую, с Лениным»… Язычник! — он рассмеялся. — Знаете, думаю сделать такое завещание: чтобы со мной в гроб непременно положили эту красненькую, с Лениным. А археологи потом будут гадать: что это был за гомо сапиенс? Банкир, коммунист, нумизмат?.. Масон или язычник?.. Рассуждать будут с серьезными лицами. А будь в их власти узнать истину — вот бы смеху-то было! Вообще, это, конечно, мелочь: медальон и прочее… Ведь у каждого наверняка найдутся свои талисманы, свои мелочи, в каждой из которых можно отыскать свою знаменитость. Да что там — можно! Я бы сказал: нужно! Ведь каждый человек состоит из мелочей, в которых, как потом понимается, истоки блестящих обретений и, увы, трагических просчетов…
— Как бы я хотела быть на ее месте! — вырвалось у Вики, но она тут же стушевалась от двусмысленности фразы: — Вы меня понимаете?
Пират привстал, шагнул к смятенной Вике и, нагнувшись, по-отечески поцеловал ее в висок.
— Я уверен, Вера, что вы уже на ее месте. У вас такой спутник… — он глянул на меня. — Вы будете ему путеводной звездой.
У нас с Викой были застывшие лица, мы боялись как-то реагировать.
Рассказчик надел на шею цепочку с красным рублем, который, оказывается, весь вечер держал в руках, и, кивнув вместо извинения, быстро ушел.
8
Осенью его родители продали дачу и купили домик в другом месте, на окраине настоящей деревни, которая быстро превращалась в район современных построек, которые творили горожане, выхолащивая из сельской местности самобытность — огораживаясь высоченными заборами, проводя туда воду и электричество.
После того вечера он понял, что детство прошло — быстро и невозвратно. Так же, как удалилась от него гитара: разбитая, обиженно уплыла и где-то, никем невидимая, невозвратно сгинула в старой и равнодушной реке, ярчайшем символе Времени. Прошло то время, когда он был глупым, непрактичным, не гордым. Наутро он встал умным, прагматичным и самолюбивым.
И уехал, не попрощавшись ни с кем из своего дачного отрочества, никого не прощая, но и ни о чем не жалея. Внушив себе, что недавнее — просто неминуемая детская хворь, которой нужно было переболеть, чтобы стать взрослым.
«Любовь — рыбалка; не клюет — сматывай удочки!» «Не жалей старое — купи новое!» Впервые он рассмотрел непреходящую мудрость в некоторых пошлых, а то и циничных шутках дяди Аполлона…
Через полтора десятка лет он решил проведать те места.
Как только начались узкие улочки, они с сыном оставили автомобиль и пошли пешком.
Мало что изменилось. Он быстро нашел нужную улицу, которая, оставаясь на прежнем месте, естественно, сильно сузилась. Кое-где ему приходилось невольно поворачиваться боком, настолько разрослись, разбухли сады, вываливаясь тяжелыми кронами фруктовых дерев за свои пределы, обозначенными старыми, скосившимися в сторону дороги штакетниковыми оградами.
На знакомой скамейке сидела…
На скамейке сидела Любка, такая же молодая, красивая и — он подошел ближе, совсем близко, поклонился, надолго задержав реверанс, вдыхая аромат, — и по-прежнему пахнущая медом и… Нет, йод он примыслил для пущей сладости.
— Здравствуйте, девушка! Вы, конечно же, сестра Любы?
— Да, — светло улыбнулась девушка, — вы нас знаете?
— Да! Знал… А вы — копия сестры, честное слово!
Уже кружится голова… Вспомнить — и умереть…
«Семейка, прости меня господи!» А девчонка… «Яблоко от яблони!..»
Яблоко от яблони!.. Она — Любкина кровь, такая же святая, как и Любка. Такой же нимб над светло-русой головой (солнце палит непокорные венчики), так же вьются пчелы вокруг сладкого и под ногами проторили дорожку муравьи — и мед, и йод воспоминаний!..
Конечно, и она вспомнила его — не по лицу, а по рассказам. Но все равно это здорово, весело, в конце концов!..
Как летит время. Улицы те же, а река подмыла тот берег и слегка изменила русло, а дикие пчелы уже здесь не живут, зато кругом пасеки…
А что и где вы сейчас, вы, а Люба?.. Что вы говорите!.. Простите… Не знал… И давно?.. Получается, в том же году… Как?.. В этой реке?.. Не может быть… Простите… Мы ведь сразу после того лета… Как же так? Она ведь с самого детства… Да, я помню, она рассказывала про первый раз, за мизинец…
А ваша мама, а тот кудрявый дяденька, который с вами?..
Кудрявый?.. Ах, да… Все хорошо… Спасибо. В том же году — в Испанию, к жене… Как же так?..
Хороший у вас мальчик, очень на вас похож…
Да, конечно, родная кровь, яблоко от яблоньки… Дай тете ручку, сын, познакомься…
Ну, какая же я тетя… для такого-то жениха, правда, малыш?
— Правда, — смело выпалил сын, городское воспитание, совсем не робкий. В глазах восторг и незнакомый папе блеск.
Вспомнить и умереть…
— А я вас, наконец-то, точно вспомнила! — говорит девушка, улыбаясь, шлепая по красивой ноге, убивая муравья или отгоняя пчелу. — Вы на гитаре играли! А Люба приходила домой и напевала…
Что напевала твоя сестра, святая девчонка? Святая, как всякое детство, непорочная, как всякая грешная юность.
Есть такая старая песня, называется — «Горечь»: «Я от горечи целую…» Может, ее?.. Хотя вряд ли, он в то время пел более легковесные песни… Впрочем, не менее грустные и значимые для того времени… Да, для каждого времени свои песни…
Он стал говорить банальности. Стареет?.. Пора…
Приезжайте…
Как-нибудь…
9
В номере я сказал Вике то, что я думаю по поводу Пирата и его душещипательной истории:
— Тривиальная новелла: пресная вначале, не без интриги в середке, особенно сцены в магазине и вытрезвителе, и совсем уж пошлая, избитая концовка, каких тьма. Внушил себе человек на старости лет, что если бы он остался вон с той, а не вот с этой, то жизнь сложилась бы счастливо. И теперь будет носиться до смертного одра с ее фотографией, пучком волос или медальоном!
Но Вика была готова к бою:
— Ты прав, все предсказуемое — пошло. Как домашний уют. И как домашняя любовь. Не правда ли?
Я оторопел: подруга играла не по правилам.
У нее опять разболелась голова, во всяком случае, она сказалась больной. Уснула быстро, как обычно, постанывая и вздрагивая. А потом вдруг засмеялась во сне. Через несколько смешков всхлипнула…
Стараясь не шуметь, я встал, нашел в холодильнике бутылку коньяка. Вышел в коридор и оттуда поднялся в солярий…
Уснул прямо на голом шезлонге, укутавшись скатертью, содранной со стола, а утром, перед самым рассветом, был разбужен сдавленным, взволнованным разговором, который доносился из холла в открытое окно:
— …с вами!.. Я верная и сильная!.. Точнее, могу быть… Но я никому такая не нужна!..
— Так нельзя. Успокойтесь… У вас все впереди!..
— Но вот вы потеряли ведь однажды, потому что не сделали того, чего, на ваш взгляд, было нельзя: сдать билет, остаться… И что теперь?.. Красненькая, с Лениным?.. Вы настоящий, понимаете?.. Без притворства… Таких сейчас не бывает!..
— Спасибо, но… Давайте закончим этот разговор… В конце концов это неприлично по отношению к…
Затем голоса стихли, и через некоторое время от отеля отъехала машина.
Нехорошо подслушивать.
Я вылил в бокал остатки коньяка и выпил, развалившись на шезлонге. Заметил пачку оставленных вчера Викой сигарет. Закурил. Сто лет не курил! С тех пор, как родился сын. Обещал жене: родится наследник — брошу! (Одно из редких обещаний). Чудное начало дня: коньяк, сигареты! Даже запел под нос:
Трам-тарам, не горюй! Дело есть — работай! А под случай попал — на здоровье гуляй!..А курить я, конечно, не буду. Вот закончится «командировка» — и опять брошу. Люби — не влюбляйся; пей — не запивайся; играй — не проигрывайся. Как говаривал один мой проницательнейший родственничек… Прекрасное утро! Треугольник распался: я не убит, цел, а остальное…
Я закрыл глаза, готовый отдаться блаженной хмельной дреме.
Но внизу, уже из моего номера, опять послышался суетливый шум (что-то выдвигалось-задвигалось, визгнул замок-зиппер, кажется, упал стул), и знакомый голос, на этот раз громкий и уверенный:
— Алле! Такси?..
У меня сегодня определенно лирическое настроение, не знаю, чем оно закончится. Эх, гитару бы!.. Нужно спросить у хозяев. Ладно, и так пойдет. Запевай!..
«Я от горечи — целую Всех, кто молод и хорош. Ты от горечи — другую Ночью за руку ведешь»10
— Жилец пошел ненормальный, с начала… Плохой почин… Нет, тот, который с медальоном, ничего. А та, видно, хвостом треснула, чемодан в зубы, и на такси. А хахаль, когда та укатила, тут же коньяк потребовал… Спросил, нет ли гитары. Надо приобрести для инвентаря, он прав. Ничем нельзя пренебрегать. Тем более, мы далеко от берега, все имеет значение… Потом, слышу, петь начал, по столу стучать, как по барабану… Хорошо пел. Я коридор мыла. Шансон всякий… Про турков, про цыган с испанцами… К обеду ругаться начал. Последними словами. Споет — поругается. Султанов ругал. Турецких, испанских. Цыганских. Поругается — споет… К обеду вывалился в холл в одних шортах, и к выходу. Я ему: вы на море? А обедать будете?.. Он в самых дверях оборачивается и говорит: сначала на море, а потом в Испанию… У меня глаза в кучу. Он говорит: вы знаете, я почти турецкий султан, у меня по жизни три женщины… Я киваю, а что делать? Похвалила: какой вы богатый, оказывается, аж три! Он говорит: о!.. Вот так говорит: о!.. — пальцем вверх. А если я богат, говорит, значит, имею возможность съездить в Испанию и зарезать турецкого султана!.. Я говорю: совершенно верно. А что делать? Он руку мне поцеловал. Говорит: у вас красивые пальцы. Иногда все решает мизинец, говорит, или его отсутствие… Ну, готовый, одним словом… И ушел к морю… Не ночевал. Если к обеду не придет, надо в милицию звонить…
Сейчас раннее, раннейшее утро. Огромные окна гостиницы распахнуты, поэтому мне доступен монолог хозяйки, который она, судя по всему, посвящает завтракающему супругу (стучит вилка, запах яичницы). Я зашел во двор пять минут назад, невидимый и неслышимый хозяевам, и, усталый, присел на скамейку во дворе. Блаженство: прохладный бриз облегчает мои страдания. У меня кожа спалена вчерашним ультрафиолетом. Синяки — я спал на камнях… Кажется, простыл… Наверное, гематома под глазом, будущий фонарь… У меня щербатость, недостает одного зуба, который еще был вчера. Командировочка…
— Ненормальные клиенты последнее время… Прошлое лето — помнишь, рыжая, большая, с накрашенными страшными глазами? Ну, глаза такие грустные, коровьи… Так вот говорит: ах, хозяюшка, счастливых людей ведь не бывает, нет. Оттого, мол, все кругом будто чокнутые… Нет, думаю, это ты по себе судишь… Вот взять того, с медальоном. Оптимистичный, уверенный, материально обеспеченный. Счастливый, сразу видно! Иногда думаю, чего людям не хватает, да? Вот нам с тобой дом поближе к морю да детишек бог дал бы — счастливей бы не было!..
Глупости, конечно, говорила ваша постоялица… Есть счастливые, есть!.. Разве может несчастный человек сказать, глядя на меня:
«Ну и командировочка у тебя случилась! Зачем так пережарился в электросолярии? Простыл… А синяки и зубы! Опять женщину от хулиганов защищал? Какой ты неосторожный!..»
А ведь скажет!.. А что делать?)



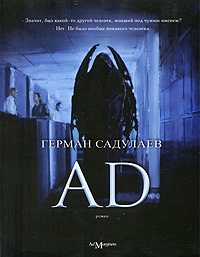



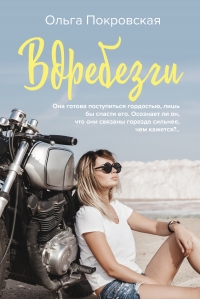



Комментарии к книге «Красненькая, с Лениным», Леонид Васильевич Нетребо
Всего 0 комментариев