Леон де Винтер Серенада
У моей мамы уже который год болела спина. С кем мы только не консультировались — и с настоящими врачами-специалистами, и с подпольными шарлатанами, — но все называли разные причины: от возраста до патогенных земных излучений под маминой квартирой.
Услышав, что университетская больница обзавелась новым сканирующим аппаратом, я сразу же записал маму в очередь на обследование. Чудо-машина обнаружила банальные камни в желчном пузыре, и боли, которые иногда мучили ее по нескольку дней кряду, получили наконец солидное объяснение. Камни в желчном пузыре — это вполне можно понять. Галька в животе. Врачи обещали, что на их удаление потребуется не более получаса. А потом она пойдет на поправку и в больнице пробудет максимум дня три.
Но когда с начала операции прошло полтора с лишним часа, были выпиты восемь чашек кофе, а в газете «Телеграаф» прочитано все, включая рекламу публичных домов, у меня забрезжила догадка, что операция протекала несколько иначе, чем предсказывали доктора. Я храбро цеплялся за мысль, что маме уже семьдесят четыре и что одна операция не похожа на другую; все наверняка будет хорошо.
Еще два часа ожидания, и медсестра известила меня, что маму перевели в отделение интенсивной терапии.
Она лежала в светлой палате, присоединенная к аппаратам и трубкам, и без вставной челюсти головка ее выглядела старой и усталой. Она постоянно с гордостью твердила, что случайные знакомые давали ей максимум шестьдесят пять, но сейчас в это не верилось. Вокруг глаз залегли темно-синие круги, запавшие губы потрескались.
Когда я склонился над ней и прошептал, что скоро она вновь будет дома, мама ничего не сознавала, только хватала ртом воздух — тень той женщины, которая накануне вечером бодро и доверчиво ожидала избавления от камешков. Почему же операция длилась так долго?
Рядом со мной появился терапевт, он же — мамин хирург. Двойной талант.
— Господин Вайс, — сказал он.
Я пожал ему руку и задал глупый вопрос:
— Все хорошо?
Он попросил меня выйти с ним в коридор.
Дверь за нами закрылась, и он еще секунду-другую помедлил, собираясь с духом, чтобы нанести первый удар.
— Собственно операция прошла хорошо, — сказал он. — Но вашей маме придется у нас задержаться.
— Почему?
— Мы обнаружили опухоль. Она разрослась вокруг желчных и печеночных протоков, это карцинома, а такие новообразования не лечатся. Прогнозы неутешительны.
— Что значит «неутешительны»? — спросил я. Голос у меня дрожал. Но пока я говорил, задавал вопросы, мне удавалось кое-как держать себя в руках.
— Как правило, меньше года.
— Ей осталось жить меньше года?
— Даже у молодых людей, которые находятся в лучшей форме, чем ваша мама, карцинома быстро приводит к фатальному исходу.
— Спина у нее болит давно. Может быть, она несколько лет жила с этой опухолью и проживет еще не один год, — наугад попробовал я.
— Увы, как правило, это не так, — ответил терапевт, парень моего возраста, который разрезал живот моей матери и увидел там лик смерти.
— Ей будет больно?
— Мы не смогли удалить опухоль полностью. Рано или поздно она перекроет желчный проток. Это будет весьма болезненно.
— Она будет мучиться?
— Да.
— Что вы можете сделать?
— Попробуем смягчить боли.
Я вернулся в палату, надеясь, что морфий унес ее сознание к чему-нибудь прекрасному — к полям тюльпанов с их тысячами красок, к бесконечным панорамам, к звездам, что дальше самых отдаленных солнечных систем.
Я решил молчать. Я знал, какова будет реакция. Слово «рак» произносить нельзя. Произнести — значит накликать. Назвать — значит разбудить болезнь. Время от времени мама стонала.
Никто не вправе рассказать ей, что через год она уже не схватит телефонную трубку, чтобы сообщить мне о сомнительном поведении Арафата, «этого мошенника со скатертью на голове, которому никак нельзя доверять, даже если он с улыбкой отправляется в сектор Газа». Никто не вправе баснями шарлатанов от медицины омрачать оставшиеся у нее дни — один-единственный календарь авиакомпании КЛМ с двенадцатью цветными фотографиями дамб, рисовых полей, горных вершин и ледников.
Она и дня не сможет прожить с мыслью, что в животе у нее тикает бомба с часовым механизмом. Для нее жизнь была бесконечна, как Вселенная. Если впереди зримо обозначится неминуемый конец, все потеряет смысл — шумные заботы о сыне, президентство в Соединенных Штатах Америки, Израиль, качество мяса у мясника Херго, качество хлеба в булочной ван Мёйдена и кофе в ресторане «Делькави», ржавые пятна на моем «ситроене», события в сериале «Дерзкие и красивые».
Мама проявляла необузданное, почти детское любопытство к «структуре будней», как это называла Инга. Если с крыши падал воробей, ее интуиция тотчас настораживалась, как собака, почуявшая хозяина. Незначительное, пустяковое, неважное было ее коньком. Она не раз доводила меня до бешенства пространными телефонными лекциями о цветочках на скатерти или о моем полуразвалившемся автомобиле, который, по ее скромному мнению, не соответствовал моему статусу, но она не могла иначе: каждой хлебной крошке мама придавала значение.
За последние десять лет она хотя бы раз в год проверялась у врачей, и все они, один за другим, ошибались. Камешки. Может быть, и этот новый диагноз был ошибкой.
На следующее утро, прежде чем зайти в палату к маме, я попросил докторов не сообщать ей о том, насколько серьезна ее болезнь.
Терапевт, его практикант и завотделением пытались убедить меня, что я пытаюсь защитить свою мать заведомо неправильным способом, но я знал, что делаю. И они скрепя сердце согласились.
Когда я вошел, она спала. Не ожидая никакого ответа, я сказал, что принес ей цветы. Она сразу же открыла глаза и мутным взглядом обвела букет.
— Привет, мам.
— Красивые, — произнесла она слабым голосом.
— Я попрошу медсестру принести вазу.
— Вода… не очень холодная, — едва слышно выдохнула она.
— Я скажу ей. Ну, все кончилось благополучно, верно?
Она слегка пожала плечами и попробовала улыбнуться. Такова жизнь: болеть и выздоравливать.
Две трубки тянулись от кислородного аппарата к ее ноздрям, через капельницу она получала необходимую жидкость, а я беспомощно склонялся над ней.
Она прошептала:
— Ну, ты наконец решил, чего бы тебе хотелось ко дню рождения?
Чудовище пожирало мамин желчный пузырь и печень, а она думала о моем дне рождения.
— Мам, но ведь мой день рождения был совсем недавно! Ты что, уже думаешь о следующем?
— А о чем же мне еще думать? — На ее лице отразилось удивление. Она говорила по-прежнему тихо, но вполне твердым голосом.
— Не знаю.
— Жилетку, — предложила она.
— Жилетку? Я не ношу жилеток.
— Да. И знаешь почему? У тебя нет жилетки.
— Жилетку, — покорно повторил я.
— С рисуночком? — Это она спросила нарочно, зная мое пристрастие к однотонной одежде.
— Нет. Однотонную.
— Я видела красивые жилетки с хорошеньким рисунком, а еще комбинированные.
— Только однотонную, — решил я.
— Как это скучно, — заметила мама, она уже очень устала, но была готова подразнить смерть, ведь ради жилетки для сына и умереть не жалко. — Все у тебя всегда должно быть однотонным. Рубашки и те всегда однотонные.
— Мне нравится простота.
— А почему жилетка с хорошеньким рисунком не может быть простой?
— Потому, что на ней рисунок, мама.
— Вещь с рисунком тоже может быть простой.
— Не у меня.
— Ну да, тебе непременно надо отличаться. Однотонность давно вышла из моды. А ты знай упираешься.
Мама закрыла глаза, закончила разговор. Я напряженно ждал: дышит ли? К счастью, она продолжала дышать. Уснула. Я тихонько ушел.
Моему последнему дню рождения предшествовали долгие дискуссии по поводу пальто, костюма, ботинок, рубашек. После восьмидесяти шести телефонных звонков я сказал «да», верблюжье пальто. Чтобы показать характер, я выразил конкретные пожелания: ни в коем случае не двубортное, не слишком светлое, никаких накладных карманов и широких лацканов — и конечно же она стала выяснять, чем мне не нравится двубортный покрой, широкие лацканы и накладные карманы. Не в силах побороть наследственное упрямство, я продолжал пререкания.
Спустя четыре недели мы с моей подругой Ингой праздновали ее возвращение домой. Пока ехали в машине, по радио передали рекламу с моей музыкой.
— У тебя есть вещицы и получше, я слышала, — мягко заметила моя выздоровевшая семидесятичетырехлетняя мама, совсем маленькая и худая, но с прямой спиной. Раньше ее часто принимали за француженку или испанку, но после шестидесяти черты ее лица стали семитскими. Пигментные пятна и морщины как бы подчеркивали отпечаток пустыни, сохраненный в облике нашего народа на протяжении несчетных поколений.
Рот у нее до сих пор был красивой формы, по крайней мере, когда она носила вставную челюсть. Нос за последние десятилетия сделался массивнее, но не слишком — царственный, с горбинкой; нос и глаза, некогда агатово-черные, а теперь медленно тускнеющие. Несколько лет у нее катастрофически выпадали волосы, но потом их рост восстановился, и она снова могла выходить на улицу без парика. В туфлях на довольно высоких каблуках («Мама, ты ненормальная — ходить на каблуках, даже Инга этого не делает, ты себе испортишь спину!»), с волосами темно-каштанового цвета, уложенными в прическу, в сшитых на заказ костюмах она не спеша направлялась на Бетховенстраат. Свой гардероб она заказывала портнихе-турчанке, живущей на Мидденвех, и фасоны придумывала по образцам, которые находила в известных журналах мод. Честолюбивая, как актриса, и гордая, как боксер. Она по-прежнему была упрямицей, всезнайкой и безапелляционной советчицей.
— Ролик про пиво мне тоже совершенно не понравился, — произнесла она с заднего сиденья, голова ее едва виднелась из-за спинок. — Песенка была никудышная.
Она говорила о телевизионной рекламе, которую впервые показали, когда она была в больнице.
— Они остались довольны, мам, — ответил я с нескрываемой досадой. Но мое душевное состояние ее вовсе не волновало.
— Кто «они»?
— Заказчики с пивоварни.
— Они должны думать о людях. Люди ничего не чувствуют, когда смотрят такую рекламу.
— Мам, я пишу только музыку. Я не сценарист и не режиссер.
— Значит, твоя ответственность еще больше. Чувство должно идти от тебя. Если люди ничего не чувствуют, они ничего не купят.
— Пивоварня довольна. Для меня важно только это.
— А для меня нет. Для меня важно, довольны ли люди. А они недовольны.
— Ты проводила опрос?
— В этом нет нужды. Я знаю, что думают люди. Нет, положа руку на сердце: ты умеешь намного лучше, я сама слышала.
За минувшие пять лет ей не раз приходилось бывать на похоронах, а новых знакомств в ее возрасте не заводят. Она посещала собрания ВИЗО, еврейской женской организации, и раз в год ходила в синагогу. Она звонила каждый день и всегда заставала меня врасплох.
«Видел сейчас по телевизору?»
«Что, мам?»
«Фрицев».
«Что же эти фрицы опять натворили?»
«То, что они делают с беженцами. Подожгли дом».
«Да, мерзавцы. Я не смотрел новости».
«Ну что, что мы такого сделали, ничего ведь мы не сделали? Моя мама продавала по домам лоскуты ткани, мы были бедные, но порядочные, у нас была еда, но мы были бедные. Мы ничего не сделали! И все равно нас угоняли, как скотину. Лео, сын тети Сары, на редкость красивый мальчик, Лео первый получил повестку, и тетя Сара на коленях умоляла полицейских отпустить его, но они забрали его, и ведь это были не фрицы, это были голландцы, Бенни, ты слышишь, тетя Сара стояла на коленях, но они не слушали, а потом угнали всех…»
Ее причитания длились обычно от силы минут пять, и, успокоившись, она смущалась и начинала комментировать предстоящий матч своей любимой футбольной команды «Аякс» или пересказывать содержание бульварного журнала «Стори» («Я знаю, это немножко не тот журнал, но ты знаешь, что Ли Тауэрс…»). В ней великолепно уживались Невероятное и Штамп, связанные одним вздохом, одной секундой разума или мгновеньем безумства, которое подкрадывалось, когда она не могла овладеть собой. От Освенцима до «Поля чудес».
Спустя четыре месяца после операции, похудевшая, но вполне вернувшая былую форму, она встретила Фреда Бахмана («Я кое-кого встретила, Бенни, кое-кого очень симпатичного»), и я вычеркнул ее болезнь из моей жизни.
Через десять месяцев после операции она исчезла.
Фред Бахман позвонил в половине восьмого, сразу после того, как я заказал «пад-пак-руа-мит» и «том-янг-кунг» в ресторане «Чианг-Май», оазисе тайской утонченности в разоренном муниципальными вандалами сердце Хилверсюма.
Несколько раз в неделю я делал по телефону заказ, а, когда приезжал за своими коробочками, смешливые рабыни обычно подолгу махали мне вслед, будто я расплачивался золотыми гульденами. Когда дверь ресторанчика захлопывалась за моей спиной, в стекло билось эхо их благодарностей: «Приятного вам аппетита, господин Вайс! Огромное вам спасибо, господин Вайс! Не упадите со ступеньки, господин Вайс!» Работая с «Роландом» — это мой синтезатор, — я съедал наперченные блюда и вступал в борьбу с неутолимой жаждой.
На следующее утро я должен был представить «творческой дирекции» рекламного бюро «JS-XTH» комплект из шести джинглов — уничижительный термин, которого в нашем мире стараются избегать. Некая сеть магазинов заказала им проект рекламной кампании женских и мужских велосипедов, кованой садовой мебели, светильников для дома, карманных фонариков, товаров надежных, блестящих и Made in China. Рут ван Дейк, глава мозгового центра «JS-XTH», наняла меня для этого аврала.
Двадцать лет назад Рут училась в Академии кино. На втором курсе она снимала свой первый ролик и повесила на доске в вестибюле консерватории объявление для кого-нибудь, кто мог бы написать музыкальное сопровождение. Я играл на фортепиано, изучал композицию и откликнулся на объявление, написанное от руки и изобилующее стилистическими ошибками. Ролик получил премию на фестивале студентов-кинематографистов. После академии Рут попала в рекламу, а следом за нею там оказался и я. По ее заказам я написал музыку для многих коммерческих роликов.
Рут хотела снять несколько мини-клипов с песенной рекламой, а я должен был придумать легко запоминающийся мотивчик, простенький, но с чувством. «Без чувства даже лифчика не продашь», — твердила она.
Три дня назад мы обсудили эту рекламную кампанию, а вчера и сегодня я писал джинглы. Надо было спешить. Контейнеры с китайскими товарами ждали на центральном складе сети магазинов, занимая бесценное пространство. Но все, что я пока успел написать, напоминало скорее бульканье тушеной капусты на сковородке.
Через пять минут после того, как я сделал заказ в «Чианг-Мае», зазвонил телефон. Включился автоответчик, и через десять секунд бициния, двухголосного произведения XVI века, которое составляло ярчайший контраст с моими клипмейкерскими опусами, послышался мой голос: «Бен Вайс Продакшнс. Оставьте сообщение после звукового сигнала».
— Бенни, это Фред Бахман. Не знаю, дома ли ты, но мне надо срочно с тобой поговорить.
Мамин друг. Семьдесят семь лет. Они познакомились полгода назад на вечере в «Бет-Шалом», еврейском доме престарелых в Осдорпе, и это была любовь с первого взгляда. Мама совершенно поправилась и была готова жить вечно.
Я видел Фреда раз шесть, но никогда прежде не говорил с ним по телефону и потому снял трубку:
— Фред? Какая неожиданность! Как дела?
— У меня все чудесно, — сказал он.
Фред курил сигареты через золотой мундштук, излучая тем самым в глазах моей мамы уют и элегантность. Лицо у него было узкое, с большими мальчишескими глазами и крупным средиземноморским носом. К своей пышной, артистически длинной серебряной шевелюре он относился чрезвычайно заботливо — не иначе чтобы чувствовать себя на дружеской ноге с Бернстайном или Бетховеном. Ростом он не вышел — примерно метр шестьдесят, но раньше был «длиннее», так он сообщил, когда мы познакомились. Да и беднее тоже, откровенно добавил он. Часы «Ролекс», браслет, три перстня и цепочка со звездой Давида, все из массивного золота, делали этот комментарий излишним, но Фред любил поговорить.
— У тебя тоже все в порядке? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил: — А как дела у мамы?
— Хорошо, — сказал я, — как и всегда.
— А в последние дни?
— Тоже хорошо. Я так думаю.
— Ты так думаешь?
— Когда я с ней разговаривал, все было хорошо.
— Когда это было?
— Вчера. Нет, позавчера.
Она позвонила поздно вечером. Я был занят и обещал перезвонить на следующее утро. Но поскольку рано ушел из дома, а весь день был забит разными встречами в Амстердаме — если уж мне надо было в другой город, я старался не терять времени даром, — о звонке я так и не вспомнил.
— А потом? — спросил Фред.
— Больше я с ней не разговаривал. Что-то случилось, Фред?
— У нее есть кто-то другой?
— Другой? Что ты имеешь в виду?
— Я что, говорю по-китайски? Другой. Мужчина, как я.
— Понятия не имею.
Любовные проблемы. Как видно, они и после семидесяти не исчезают. Фред боялся, что мама завела себе другого. Но на такое она была не способна. Моей маме это чуждо.
— Я не могу ее найти, — сказал Фред. — Она будто прячется от меня.
— Она от тебя без ума. Никогда не видел, чтобы она так относилась к кому-нибудь.
— А что, были другие?
— За последние тридцать лет никого, но до той поры, как тебе известно, она была замужем.
— Жаль, я не встретил ее раньше, Бенни. Какая женщина! Я не хочу ее потерять, говорю со всей откровенностью. Вот почему мне так больно, что она не берет трубку и не открывает дверь.
— Не открывает дверь?
— За последние два дня я, наверное, раз сто заходил к ней, дружище. Любовь — это как болезнь. Я просто с ума схожу при мысли, что она больше не хочет меня видеть.
— Наверняка она хочет тебя видеть, Фред, не волнуйся.
— А я вот как раз волнуюсь.
— Знаешь, должно быть, она отправилась в свое ежегодное путешествие. Заранее она ничего не говорит, а потом звонит — из Женевы, из Милана или Бог знает откуда еще.
— Если бы она собиралась уехать, по ней все равно было бы что-то заметно.
— В том-то и фокус, что нет. Она просто улетает, а звонит уже из отеля.
— Бенни, дружище, если так, то она уже целых два дня в пути.
Я хмыкнул и вдруг с ужасом подумал: что-то не так. Никогда еще она так долго не тянула с сообщением о том, куда ее занесло очередное путешествие. Она звонила сразу, как только коридорный закрывал за собой дверь ее номера.
— Она не берет трубку, — жаловался Фред. — Я только что еще раз пытался дозвониться, набирал номер, наверное, тысячу раз — бесполезно. Опять заходил, звонил в дверь, кричал — ни звука в ответ.
Она умерла, вдруг молнией сверкнуло у меня в голове. Она не уехала, а умерла. Чудовище возле ее печени. На мгновение я замолчал, но не хотел волновать Фреда еще больше, он и так уже слишком нервничает.
— Поверь, Фред, скорее всего, для этого есть какая-то простая причина. — Я был не в состоянии придумать что-нибудь путное. — Может, звонок сломался.
— Ну, тогда уж она внезапно оглохла, — ответил Фред. — Звонок работает прекрасно.
— Я обязательно схожу посмотрю.
Я сразу же набрал мамин номер. Съездить в Амстердам, на Рафаэльстраат, займет минимум полтора часа. В результате от ночи останется всего ничего, а у меня каждая минута на счету, ведь каша, которую я успел состряпать на «Роланде», была крайне жиденькой и безвкусной.
Нет, все-таки что-то случилось. Я не мог понять, почему она не открывала ему, своему поклоннику, в которого влюблена как девчонка. Когда я видел их вместе, она так нежно сжимала пальцами его руку, словно боялась, что он уйдет.
Телефон продолжал звонить. Она не отвечала.
Покинув веранду, пять лет назад переделанную под студию звукозаписи, я включил сигнализацию и запер дверь одного из двух домов, которые вот уже восемьдесят лет стоят под одной крышей в тени хилверсюмской ратуши.
Я раздумывал, не позвонить ли Инге, хоть она и предупредила меня, что назавтра к десяти часам должна закончить статью для газеты. С понедельника она сочинила ни много ни мало три замечательные строчки и сегодня ночью осталась в своей амстердамской квартире, на безопасном расстоянии от моих флюидов. Там она будет беспрерывно курить до самого утра, ругаться и буйствовать до тех пор, пока статья не будет готова. Если я ей помешаю, сосредоточенность обернется яростью и меня, чего доброго, обругают последними словами. Страх перед неудачей и перфекционизм сливались в ее характере в этакий огненный шар, который несколько раз в неделю нужно было гасить километровыми пробежками в парке Корверсбос. Возвращалась она потная и по колено заляпанная грязью, но выпустив пары, так что можно было рассчитывать на полсуток покоя и примирения, пока впереди не начинал маячить крайний срок сдачи следующей статьи.
Мне не хотелось выводить Ингу из состояния «рабочей» ярости. В конце концов, за мою мать в ответе я один. Я завел старый «ситроен», ожидавший на гравийной дорожке, и поехал.
У Ларена я свернул на шоссе А-1 и на скорости выше разрешенных ста километров помчался в сторону Амстердама. Было около восьми, и солнце висело над Нарденом — теплый вечер одного из последних июньских дней. Пробка уже рассосалась, дополнительный ряд посередине магистрали перекрыли. По озеру Нардермеер скользили десятки лодок с огромными буквами и цифрами на парусах всех цветов радуги, быстроходные катера зигзагами неслись к Алмере или Мёйдену.
Чистенькая, организованная страна нежилась под вечерним солнцем, расслабившись после напряженного четверга, и ей совершенно не было дела до моих мыслей о том, что мама лежит мертвая на полу в кухне. Или — что менее ужасно, но, пожалуй, более трагично — она сломала бедро или голень и не могла даже позвать соседей. Другой вариант: она потеряла сознание, когда печень у нее перестала работать.
Два дня назад я последний раз говорил с мамой. И в горячке спешной работенки даже не заметил, что так долго оставался без ее телефонных звонков, которые ежедневно обрушивались на меня в самое разное время — то в половине восьмого утра, то среди дня, то после заключительного выпуска новостей.
В ужасе от того, что уделял ей слишком мало времени и что возможность согласиться на «красную жилетку с рисуночком» навсегда потеряна, я свернул с магистрали у выставочного комплекса «РАИ», по Стадионвех проехал к площади Олимпияплейн, затем, не доезжая Аполлолаан, вырулил на Геррит-ван-дер-Вейнстраат и остановился на углу Рафаэльстраат.
Здесь я вырос, здесь до сих пор жила она.
Я открыл дверь. Вошел. Под ногами зашуршали конверты, газеты и рекламные проспекты.
— Мам! Это я!
Никакого ответа.
— Мам! Ты дома?
Голос сорвался, я чувствовал, как кровь бешено стучит в висках, ноги уже подкашивались. Шатаясь, я добрел до кухонной двери и открыл ее в полной уверенности, что где-то в этих комнатах притаилась смерть.
Но в кухне никого не было, ни на полу, ни на стульях.
— Мам! Ты где? Ну скажи что-нибудь! Мама!
Я обошел все комнаты в передней части, ожидая увидеть ее на паркете, холодную и одинокую, но и там ее не обнаружил. Я вернулся в коридор, ощупью пошел по нему, задевая знакомые картины и гравюры, и с закрытыми глазами открыл дверь ее спальни.
Кровать была нетронута. Ванная! Ну конечно, она поскользнулась в ванной, утонула, утопилась, наглоталась таблеток!
Я почувствовал во рту кисловатый привкус страха и сглотнул. Совсем забыл про «Чианг-Май», черт, надо было им позвонить. Я опустился на ее кровать, старую кровать, где тридцать лет назад она в последний раз спала рядом с папой. Набрал номер «Чианг-Мая» и объяснил, что заеду за своим заказом только через час (ничего не случилось, смотри-ка, я звоню в Хилверсюм, в тайский ресторан по поводу жареных овощей и горячего супа).
— Ничего страшного, господин Вайс! Мы отдадим ваш ужин кому-нибудь другому, а для вас попозже приготовим свежее блюдо, господин Вайс! Вы говорите, в девять часов, господин Вайс?
— Давайте в половине десятого.
— Очень хорошо, господин Вайс! Половина десятого, очень хорошо!
Единственное место, где она могла находиться, это ванная. Еще одна возможность — кладовка за кухней, но туда можно было заглянуть из кухни соседей, и ее бы давным-давно обнаружили.
Уверенность, что я найду ее в ванной, держала меня в спальне, как в капкане.
Вот я и увижу ее такой, какой она много лет подряд после смерти папы виделась мне в ночных кошмарах. После его похорон я несколько месяцев прокрадывался по ночам в ее спальню, чтобы выяснить, дышит ли она или сделала то, о чем крикнула миру, услышав известие о папиной смерти, — что она больше не хочет жить и положит этому конец. Я ждал вздоха, скрипа деревянной кровати. Без нее я бы остался совсем один, круглый сирота, без дядюшки, без тетушки, пылинка в амбаре. Позднее, проведя вечер у друзей или в кафе за обсуждением школьных и космических проблем, я находил ее не то спящей, не то умершей перед телевизором. И тогда стоял и прислушивался в нарастающей панике.
Сейчас я открою дверь ванной — и найду ее.
Я поднялся с заправленной кровати и заставил себя пойти в ванную. За матовыми стеклянными квадратами темно, дверь приоткрыта. Я толкнул ее и потянул за шнурок. Свет над раковиной и ванной брызнул на белые кафельные стены, и спустя долю секунды я понял, что ванная пуста.
Лет через десять после смерти папы — мне тогда было двадцать, я учился в консерватории — она, как обычно, позвонила мне в комнату. Телефон я поставил за ее счет, и теперь дня не проходило без ее комментариев. Одно и то же, повторы с вариациями на тему вчерашнего разговора.
— Знаешь, где я? — спросила она.
Столь глубокомысленные вопросы она задавала часто.
— Дома, — ответил я в надежде доставить ей удовольствие — ведь при таком ответе, наш дуэт мог продолжаться.
В ту пору я не так высоко ценил щедрость ее телефонных звонков: длинные волосы и нетерпеливая погоня за высокими целями жизни заслоняли от меня красоту мира ее мыслей. Но прошлой ночью я затащил к себе в постель девицу и достиг одной из своих высоких целей. Настроение у меня было превосходное. Девица (Инеке Хоохстра, сейчас инструктор по «природным методам лечения») лежала голышом на моих подушках и грызла черствый круассан, который я только что купил за полцены на площади Алберт-Кёйп. Было уже четыре часа дня.
— Нет, — засмеялась она, — я не дома. Знаешь, где я?
— В кафе «Делькави». — Я прикрыл трубку ладонью и шепнул Инеке: — Моя мама. Как поставил телефон, эта ненормальная без конца мне названивает.
— Прелесть какая, — сказала моя воплощенная соната, а крошки круассана сыпались тем временем ей на грудь.
— Ошибаешься! Гораздо дальше, — закричала в телефон моя мама.
— У «Кайзера», — предположил я.
— У какого «Кайзера»?
— Рядом с Концертным залом.
— Я ведь никогда не хожу туда, ты же знаешь!
Конечно, знаю. Я предупредил Инеке:
— Так может продолжаться часами. Это болезнь.
Так-так, пусть Инеке куснет еще раза два-три — и можно собирать губами крошки с ее груди. Я сказал:
— В универмаге «Де Бейенкорф».
— Дальше, гораздо дальше.
— Гораздо дальше не может быть, — объявил я.
— Очень даже может быть. Ты топчешься поблизости. Бери гораздо дальше.
— Так ты что, за городом?
— Да, — гордо сказала она.
— В Амстелвене?
— Не в Амстелвене, а намного дальше.
— Еще дальше?
— Дальше! Дальше!
— Господи, куда же тебя занесло? Ведь не в Антверпен?
— Ни за что не отгадаешь!
— Я и не хочу отгадывать! Скажи, как все нормальные люди.
— Па-риж, — пропела она.
— Что?
— Па-риж. Я! Одна! Сегодня в семь утра на автобусе. Я сейчас в отеле на… бульваре Османн. Очень мило, везде обои в цветочек, даже на потолке!
— Почему ты ничего мне не сказала?
— А разве я должна все тебе рассказывать?
— Мам, ты совсем ненормальная! Одна!
— Разве ты мною не гордишься?
Она ездила за границу исключительно в безопасном обществе папы. Фотоальбомы в кожаных переплетах доказывали, что все это вовсе не плод ее фантазии: папа, сияющий и потный, в майке и длинных брюках на пляже в Ницце, она вместе с ним в торговом пассаже в Милане, на краю ущелья на фоне заснеженной швейцарской горы, прыская от смеха перед Писающим Мальчиком в Брюсселе.
Они путешествовали вместе от силы раз шесть. Каждое пересечение границы сохранилось в ее памяти, помогая спрятать скорбь и тоску после папиной смерти в тумане экзотических далей: вместе с ним она обедала под пальмами, плакала в «Ла Скала» над «Мадам Баттерфляй», слушала сверчков на постоялом дворе в Южной Франции.
Летом, после его фатального сердечного приступа, она хотела устроить мне нормальные каникулы, и папин знакомый, агент какой-то текстильной фирмы, отвез нас в Схевенинген, в гостиницу — белое прямоугольное здание с длинными коридорами и большой столовой, где нас все две недели обслуживал один и тот же официант, молодой человек с сияющей улыбкой; когда он подавал на стол, мы ненадолго забывали, что не можем шагу ступить на бульваре или на пляже, не вспоминая о папе; этот официант на мгновение мог шуткой или комплиментом по поводу ее платья или брошки развеять тишину между нами — ту тишину, которую она потом выговорила всю целиком, до абсурда. Вечером в субботу он танцевал с нею вальс-бостон. Я был в бешенстве. От стыда перед папой.
Йаап Вайс оставил кой-какие деньги — вполне достаточно для нее, и для меня, и для выплат за дом на Рафаэльстраат, и она жила в затишье своей памяти, пока однажды не позвонила из Парижа. Я совершенно не заметил ее проснувшегося любопытства, а она вдруг развесила свои вещи в комнатке гостиницы среди больших магазинов. После автобусной поездки в обществе пенсионеров и студентов она впервые в жизни склонилась над планом города и, высунув от старания язык, принялась путешествовать по магическим линиям авеню и бульваров.
Она звонила по нескольку раз в день, взбудораженная и увлеченная своей нежданной храбростью.
— Ты знаешь, какая высокая Эйфелева башня! Знаешь, как красиво эта башня стоит на четырех лапах!
— Я там был, мам, — мягко ответил я.
Я повидал куда больше Европы, чем она. В семидесятые еще можно было доехать автостопом до самой Ривьеры, и с шестнадцати лет я привык ночевать летом в кюветах, на молодежных турбазах или под тентами на пляжах, держась одной рукой за гитару, а другой — за кошелек. Мои доходы от многонедельного скучания за конвейером фабрики «Магги» или «Лёйк» удваивались маминой премией — гульден от нее за каждый гульден, заработанный мною самостоятельно, — и с этим капиталом я колесил по Истории и Культуре. Я считал себя знатоком Парижа и мог бы кое-что ей посоветовать, если бы она уведомила меня об этом своем безумстве. Но она этого не сделала, и я чувствовал себя обойденным.
После десятка телефонных звонков она опять села в автобус, и я встретил ее у конечной остановки, на площади Мюсеумплейн. Следом за группой туристов с рюкзаками появилась она — победительница с гордо поднятой головой, огромными глазами и полным ртом восторгов.
Она поцеловала меня, и я взял у нее сумку.
— Я все сделала сама, — сказала она дома за чаем, лакомясь настоящей нугой из Монтелимара, купленной в очаровательном магазинчике неподалеку от Сакре-Кёр, — я уже несколько лет хотела это сделать, но не решалась. Думала, что без папы не смогу. Что не найду дорогу. Что страшновато быть одной в чужом городе. Но я это сделала и… не знаю, но я будто снова могу дышать. По-твоему, это глупо, Бенни?
Таково было начало традиции. В один прекрасный день звонил телефон, и она спрашивала: «Знаешь, где я?» И тогда я отвечал: «Конечно, дома». И на это она могла сказать: «Нет, не дома». А потом мы перебрасывались мячиками-названиями, пока она не бросала мне имя какого-нибудь невероятного города, в котором находилась, — Лондона, Рима, Копенгагена, Мадрида, Брюсселя, Лиссабона, европейского города, до которого удобно было добраться из Амстердама автобусом или самолетом.
На поезде она не ездила никогда. Однажды я спросил почему, и она ответила, что не любит стук колес и тряску на стрелках. Я не знал, правду она сказала или нет. Может, папа рассказывал ей, как ехал на поезде в то место, о котором не говорят, и после того единственного раза я таких вопросов не задавал.
Она посещала музеи, исторические памятники, необычные рестораны и, как змея от кожи, освобождалась от скорлупы, в которой пряталась при жизни папы. Оказалось, существует вторая Аннеке Эйсман, женщина, похожая на девочку, способная восторгаться картиной, или старинной статуей, или куском хрусталя. Эту Аннеке я не знал. Я знал женщину, которая была не более чем папиной тенью.
Благодаря своим портновским навыкам папа, прекрасный закройщик, пережил немецкие лагеря. В пятидесятые годы он шил костюмы и платья для шумных евреев из Южного района Амстердама, которым хотелось прикрыть прошлое модным атласом, шелком или дорогой шерстью. Впоследствии я понял, что он мог бы стать кутюрье, его рисунки и наброски выдавали талант модельера, но скромность — страх, недостаток смелости? — приговорила его к стулу в ателье на Принсенграхт, в глубоком полуподвале, напротив моста, ведущего к Реестраат. Там текли его дни под лампами дневного света, за широким деревянным столом, который блестел как зеркало, ведь за долгие годы папа обработал на нем многие километры тканей; закатанные рукава рубашки, голые по локоть руки, тонкая полоска усов над верхней губой, вьющиеся седые волосы, темные глаза, переполненные грустью, блестящий золотой зуб. Он был маленького роста, и ему не мешал низкий потолок, за который задевали клиенты: «Йаап, ты что, работаешь для гномов?» Маленький еврейчик с лицом аристократа и руками балийской танцовщицы. Отправившись на автобусе в Париж, мама похоронила его, спустя десять лет после смерти.
Я вернулся на кухню. В сушилке над раковиной лежали чашка, тарелка и ножик с вилкой. Свидетели ее последней домашней трапезы.
И вдруг что-то коснулось моего плеча. Я мгновенно представил себе ужасное существо, подкравшееся ко мне сзади. Страх перед нападением бандита или привидения воплем пронзил кухню, я резко повернулся и нанес сильнейший удар прямо в нос Фреду.
Со всей быстротой, на какую только способен крепкий семидесятисемилетний человек, он отскочил в сторону и схватился за переносицу.
— Фред! — простонал я, дрожа от внезапной паники, и нагнулся за его солнечными очками.
— Ты решил, что я пришел обчистить дом или что-нибудь в этом роде? — послышался из-под ладони его голос.
— Извини, Фред.
— Его частенько ломали, так что не волнуйся.
Как и мой отец, Фред невелик ростом, да и я вряд ли выше него. К счастью, волосы у меня курчавые и на макушке длиннее, чем с боков (в юности я отращивал этакую африканскую прическу, что в комбинации с обувью на мощных каблуках, предпочтительно с короткими сапогами, прибавляло к моему росту пять сантиметров иллюзии). Лицо мое имеет мышиную форму со слаборазвитым подбородком, скромным низким лбом и ртом, скрывающимся под семитским носом. Такие лица считают еврейскими и, как правило, оценивают на десять лет моложе.
Фред выглядел как потомственный греческий пират: черные глаза, крупный подбородок, тяжелые брови и серебряная грива, которую он сегодня собрал в модный хвостик. На нем были белая шелковая рубашка, широкие джинсы и белые шлепанцы. Я протянул ему солнечные очки.
— Плохо дело? — спросил он.
Я посмотрел на его нос:
— Ничего не заметно.
— Я об Аннеке, дурень.
— Ее здесь нет.
Обеими руками, кокетливо отставив мизинцы, он водрузил очки поверх своих пышных, тщательно причесанных волос и обвел меня властным взором. Когда мы познакомились, он сообщил мне, что работал в торговле, и подмигнул — дескать, ты меня понимаешь. Он сидел на диване рядом с мамой, держа ее руку в своей, и многозначительно добавил: то да се, тут и там. Я понятия не имел, что это означало.
— Слава Богу, — сказал Фред, — тогда она жива.
— Если бы мы знали наверняка.
Я вышел в коридор и собрал с коврика почту. Фред последовал за мной.
— Что ты имеешь в виду?
— Боюсь, с ней что-то случилось. Это ненормально.
— Точно. У нее есть другой. И она уже несколько дней лежит себе с ним в гнездышке. Даже знать не хочу, чем они там занимаются!
— Ей семьдесят четыре, Фред!
— А мне семьдесят семь. Ты что, думаешь, старым машинам не надо смазки?
Мне никогда не приходила в голову эта мысль, пока я не увидел его рядом с мамой на диване. Инга была уверена, что они это делают. А я не мог себе этого представить.
— В таком случае мне будет очень обидно за тебя, но, если у нее кто-то другой, у нас хотя бы есть надежда.
— Спасибо, — горько сказал он.
Мы сели за стол и стали просматривать конверты и газеты. Вчерашние выпуски «Телеграаф» и «НРС-Ханделсблад» свидетельствовали, что она ушла из дома вчера днем, потому что утренний «Телеграаф» лежал на столе прочитанный и сложенный пополам, а нетронутый вечерний выпуск «НРС» я поднял с коврика. Сегодняшний утренний «Телеграаф», тоже нечитаный, лежал сверху, с кричащим заголовком над цветной фотографией. На чемпионате мира в Америке Нидерланды выиграли у Марокко, а теперь еще и у ирландцев. После того как из «Хет Пароол» ушел главный редактор Сандберг, она перестала выписывать эту газету.
— В котором часу ты вчера звонил в первый раз? — спросил я.
— В половине десятого.
— Она позавтракала, прочла газету и ушла. То есть: вчера утром между шестью и половиной десятого она покинула дом, — подытожил я.
— А если она уехала за границу, то когда должна была сообщить об этом?
— Вчера. Допустим, она улетела в Афины или в Стамбул, тогда бы она позвонила днем. Она всегда так делала, когда уезжала.
— Может, она улетела в Марракеш, а там сгорела телефонная станция?
— Она не уедет за пределы Европы. Она никогда этого не делала.
— Может, ты знаешь ее не так хорошо, как тебе кажется.
— Она немного говорит по-английски, и всё.
— Или в Австралию. Тогда она еще в самолете, — сказал Фред, доставая из брючного кармана плоский портсигар, а из нагрудного кармана рубашки золотой мундштук.
— Сейчас она бы все равно уже долетела.
На столе стояла тяжелая серебряная зажигалка, большая, с кулак; с тех пор как умер папа, ею пользовалась только Инга. Фред подвинул зажигалку к себе и прикурил сигарету. Три десятка лет моя мама держала зажигалку заправленной.
— Я впервые здесь, — сказал Фред.
— Впервые? Она ведь наверняка тебя приглашала?
— Нет.
— Странно.
— Ах, она же была здесь с твоим отцом.
— Это ненормально. Даже для нее.
— Что ты имеешь в виду?
— Раз в год она путешествует. Собирается в полной тайне, месяцами готовится, ходит в библиотеки читать путеводители, это было ее хобби. Но теперь у нее есть ты. Не могу себе представить, чтобы она уехала без тебя.
— Где у нее лежит паспорт?
Я выдвинул ящик строгого буфета из гладкого каштанового дерева, который был куплен в пятидесятые годы и спустя десятки лет непризнания обрел наконец суховатую прелесть как произведение искусства, опередившее свое время.
Копии банковских документов, пенсионные бумаги, свидетельство о браке — но паспорта не было.
— Уехала, — обрадовался я.
Я быстро вышел из комнаты и открыл встроенный шкаф, заповедник чемоданов. Не хватало дорожной сумки, темно-синей хлопчатобумажной сумки, которая уже много лет сопровождала ее повсюду, — удобная вещь, можно носить и в руке, и на плече, вдобавок там умещалось все необходимое для поездки: запасная блузка, белье, косметичка.
— Ее сумки нет. Слава Богу, она уехала.
Я сел и облегченно вздохнул.
— Уехала, — сказал Фред, — без меня. — Он затянулся сигаретой, стиснул мундштук зубами и принялся гонять его из одного угла рта в другой.
Я кивнул на музейные каталоги на буфете:
— Это началось лет через десять после смерти отца.
— Я никогда не бывал в Государственном музее, — сказал Фред с гордостью. Но через две секунды, закончив подробное обследование памяти, покачал головой. — Нет, нет, нет. Все-таки был. С одной шикарной штучкой из Канады. Она хотела пойти туда. Иногда забываешь такие вещи.
Я слушал навязчивое тиканье часов на каминной доске, строгом выступе из бежевых мраморных плит, которые создавали своего рода резонатор и усиливали звук маятника. Камин был газовый — сорок две белые керамические трубки, где зимой танцевало пламя.
Я вдруг сообразил, что целых два дня жил без ее замечаний и наставлений. Я не скучал по ней, потому что в голове у меня эхом звучали тысячи разговоров.
— Что-то с ней было не так, — сказал Фред.
— Когда?
— Когда она звонила. Позавчера. Довольно поздно вечером. Я забыл, а сейчас вдруг вспомнил. Она что-то увидела по телевизору, и это выбило ее из колеи.
— Что же?
— Не знаю, — ответил он, щелчком окольцованного мизинца стряхнув в пепельницу столбик пепла с сигареты.
— Да, что-то было не так, — вдруг вспомнил и я, — мне она тоже звонила.
— Может, она что-то с собой сделала?
— Да ну, Фред. Ведь это она вполне могла сделать и дома? И зачем она тогда взяла с собой паспорт? Чтобы удостоверить на небесах свою личность?
— Есть люди, которые не хотят оставлять близким беспорядок. Хоть ты и не можешь найти ее паспорт, согласись, вряд ли она могла уехать и не позвонить до сих пор.
— Я надеюсь, это не так.
— Если ты реалист, нельзя исключать и наихудшее.
— Я схожу в полицию, — сказал я.
— Разумно. И захвати фотографию.
Когда она звонила мне в последний раз, телевизор у меня был выключен. Я как раз нащупал мелодию для рекламной кампании Рут и пытался соединить мостиком два крошечных варианта.
Маму я услышал через автоответчик.
«Бенни? Где ты? Я знаю, что ты дома, сними трубку, это мама! Бенни! Ну почему ты ничего не говоришь? Я знаю, что ты дома! Скажи хоть что-нибудь! Бенни! Бен!»
— Да, я слушаю…
— Почему ты заставил меня так долго говорить?
— Сперва надо было отключить автоответчик.
— Чем ты занят?
— Я работаю.
— Ты смотрел телевизор?
— Нельзя одновременно сочинять музыку и смотреть телевизор.
— Это было ужасно, — сказала она и умолкла.
Давняя война, подумал я, она увидела что-то о тех временах — могилу, товарный вагон с отдушинами, из которых торчат руки, — и поэтому молчит, хотя и не может молчать, ведь если она молчит, то говорит без слов.
— Что ты видела?
— Это ужасно, Бенни, ужасно.
— Что, мам?
— Мир, — сказала она, произнеся это слово так, будто оно причиняло боль.
— Какой мир, мам?
Она ответила резко, притом без всякой боли в голосе:
— А ты знаешь еще какой-нибудь?
— Так что же ужасно в нашем мире? — начал я, осторожно, вполголоса.
— То, что мы причиняем друг другу. Палачи, жертвы, бессилие.
— Я знаю, мам.
— Что ты можешь знать? — резко спросила. — Что ты испытал, что пережил?
— Я жил с тобой и с папой, слышал рассказы, — беспомощно ответил я.
— Знать по рассказам и пережить самому — разные вещи.
— Да, это верно, — согласился я, уже с нетерпением, потому что она упорно намекала, но ничего определенного не говорила. — Может, поговорим об этом немного позже?
— Я рано лягу спать, — ответила она.
— Мне нужно кое-что закончить, мам, — соврал я.
— Хороший заказ? — вежливо спросила она.
— Очень хороший. Завтра я обязательно позвоню тебе, — закончил я.
— Спокойной ночи, милый.
В полицейском участке на улице Лейнбаансграхт агент с помощью добротной пишущей машинки, вероятно последней механической в Амстердаме, записал сведения о моей маме: Йоханна Вайс-Эйсман, родилась 29 марта 1920 года, вдова Якоба Аарона Вайса, рост, вес. Предположительно покинула свою квартиру вчера утром, и с тех пор о ней ничего не известно. Я не знал, во что она была одета, нет, и не проверял, поскольку совершенно не ориентируюсь в ее обширном гардеробе, нет, других родственников у нас нет, я был единственным ребенком. Я спросил, не поступало ли сообщений о жертвах, похожих на нее по описанию, и агент обещал это выяснить.
Через пятнадцать минут я стоял на улице, уверенный, что вчера утром произошла катастрофа. Чтобы сбить меня с толку, она взяла паспорт и дорожную сумку, а затем поехала на такси на восточную окраину города, к мосту Схеллингваудербрюх, где вечно гуляет ветер, к одинокой перемычке между гаванями для яхт, фабричными кварталами и нелегальными свалками. Она поднялась на мост и прыгнула в серую воду залива Эй. Наверняка случилось что-то в этом роде.
Проехав вдоль канала Регулирсграхт, я нашел место для парковки и направился к Ингиному этажу на Утрехтседварсстраат — комнате четыре на пять плюс кухня и ванная в домике, который был новостройкой в двадцатые годы.
На мой звонок Инга открыла окно. Обеими руками она оперлась на подоконник, зажав между пальцами сигарету.
— О Господи, Бен, я же сказала, чтобы ты сегодня оставил меня в покое!
— С моей мамой что-то случилось.
— Что же?
— Сейчас расскажу.
Она исчезла в комнате. Чуть позже зажужжал дверной замок.
Я пошел наверх, туда, где виднелись ее ноги в черных колготках, короткая юбка из коричневой кожи и обтягивающий черный свитер. Пальцы ее ног выступали над краем последней ступеньки, она держалась за перила и шагнула в сторону, когда я добрался до лестничной площадки. Даже без туфель она была на полголовы выше меня. Я потянулся к ней, и она недовольно поцеловала меня в губы.
— Пять минут, — сказала она.
Я прошел следом за ней в комнату. Всюду книги — и по стенам, и на полу, и на стульях, и на подоконниках, и на батареях центрального отопления. А уже на книгах валялись трусики, носки, туфли, лифчики. Узкая дорожка вела к дивану и рабочему столу. Инга села — нога на ногу, одна рука на животе, под грудью, столь пышной, что я вполне мог под нею спрятаться. Облокотясь на ладонь этой руки, она поднесла к губам сигарету. Над черной фигурой сияли заколотые светлые волосы, несколько прядей выбились из-под шпилек и упали ей на плечи и щеки. Лицо у нее было круглое, довольно правильное, с полными губами, которые, как мне казалось, постоянно манили к поцелую. Уже два с половиной года я встречался с этой девушкой, нееврейкой из рода, веками воспевавшего польдеры вокруг Франекера. В скрипучем загородном доме Ингиных родителей стихи ее предка в переплетенных вручную фолиантах ждали фризского филолога, который поведал бы миру о крови польдеров и мужестве коров. Не знаю, почему Инга выбрала меня — плоскостопого еврейского гнома.
Я рассказал, что произошло за последние полтора часа. Она слушала и курила, а когда я выговорился, долго не сводила с меня своих светло-голубых глаз, оценивая, способен ли я справиться с самыми тяжкими умозаключениями.
— Что ты думаешь? — нетерпеливо спросил я.
— Ты говорил с ее врачом? — По сравнению с моим прокопченным амстердамским голосом голос Инги наводил на мысль о чистых фризских лугах и здоровом навозе.
— А зачем мне звонить ее врачу?
Она пожала плечами:
— Если бы она уехала, то давно бы позвонила. Боюсь, она что-то с собой сделала.
— Думаешь, она это сделала, потому что врач проговорился?
— Да. А не потому, что увидела нечто ужасное по телевизору.
— Но иногда все-таки видишь страшные вещи, которые и представить себе невозможно!
— А после смотришь видео, чистишь зубы и сладко засыпаешь, когда мы еще чуть-чуть друг друга потискаем.
Она опять положила ногу на ногу, теперь сверху оказалась другая, принимая на себя бремя ее грубостей. Эта Арийская Святыня классических пропорций, опирающаяся на обтянутые черными колготками колонны, при виде которых греческие боги с ума бы посходили от зависти, не брезговала и святотатством.
Она сделала последнюю глубокую затяжку и затушила окурок в переполненной пепельнице.
Я сказал:
— Для моей мамы это все иначе.
— Может быть. Но у меня никогда не было впечатления, что война для нее еще не в прошлом.
— Что ты имеешь в виду? С чего ты это взяла?
— Она очень редко, да в общем почти никогда не говорила об этом.
— Так ведь это как раз и доказывает, что для нее все по-прежнему живо, разве нет?
— Да, вот, значит, как ты рассуждаешь, — обронила она, слегка опершись о стол и выковыривая новую сигарету из пачки «Мальборо Лайт».
— Ты же только что курила.
— И немедля закуриваю опять, — ответила она. — Значит, в твоем еврейском мире обстоит так: если она об этом говорит, то должна еще оправиться от войны, и если не говорит, тоже.
Таких фраз никто из уроженцев Франекера никогда прежде не произносил. Инга первая сумела подвигнуть мышцы своего горла, гортани и рта, развившиеся на местных понятиях вроде «молоко», «вымя», «сыр», к произнесению столь чужеродных слов, как «еврейский» и «война».
— То есть, по-твоему, я прикидываюсь, — сказал я.
— Этого я не говорю. Я говорю, что ты должен более здраво подходить к ее ситуации. Она не из тех, кто страдает из-за собственного прошлого. У нее есть друг, она независима, проживет еще годы — по крайней мере, она так думает, — и единственное, что способно все изменить, — это ее чертова болезнь.
— Что же мне теперь делать?
Она крутанула большим пальцем колесико одноразовой зажигалки и раскурила сигарету. Затянулась и сказала, выдыхая с зажмуренными глазами:
— Будем надеяться, что дело не так плохо.
Она взяла меня за руку, притянула к себе, в табачное облако, и, утешая, обняла. Хоть я и стоял, разница в росте была невелика.
— Может, она все-таки уехала, Бенни.
— Нет. Что-то случилось.
Я выехал из города в десять часов, и над Нидерландами было еще светло, в зеркале заднего вида отражалось оранжевое зарево. Я молился, чтобы Фред оказался прав и она находилась в какой-нибудь средиземноморской стране, где в гостинице не было телефона.
Но вряд ли в Стамбуле или в Палермо есть гостиницы, где отсутствуют современные средства связи. И прошлые мамины поездки доказывали, что она в состоянии найти дорогу до ближайшей почты и объяснить служащему, что ее сын просто жаждет поговорить с ней. С недавних пор она даже завела специальную кредитную карточку, с помощью которой чуть не из любой телефонной будки в Европе можно было связаться с голландской телефонисткой и на родном языке назвать срочно понадобившийся номер.
Думать о другой причине ее исчезновения я был почти не в силах. При мысли о том, что она могла покончить с собой, меня охватывало мучительное чувство вины. В прошлом жизнь давала ей достаточно поводов совершить этот непоправимый поступок. Но я позволял себе задержаться на этой мысли не более чем несколько секунд. Теперь у нее был Фред. Пусть, пусть она дышит и с восторгом во взгляде бродит по улицам чужих городов, вдыхает запах гнилых фруктов, мускатного ореха, мяты и кардамона, отмахивается от мальчишек с грязными руками и взрослыми глазами, которые предлагают себя в качестве гидов, и под душем в гостиничном номере смывает жар со своего немолодого тела. Однажды она неминуемо умрет, но только не сейчас, пока я остаюсь ее ребенком.
В первые месяцы после операции ее звонки были почти невесомыми, а темы еще более легкими, чем провал Патти Брарда на Конкурсе песни Евровидения. Она по-прежнему рассуждала о политике, но никакой войны, никаких депортаций.
Фред изменил ее жизнь. Само собой, она сообщила мне о его существовании по телефону.
— Ты зайдешь в субботу вечером?
— У меня уже назначена встреча, мам. Обязательно заскочу в воскресенье днем.
— Ну, как плохо. Почему ты не можешь?
— Я договорился с друзьями.
— Мне хотелось кое с кем тебя познакомить, — сказала она.
— А нельзя это сделать в воскресенье?
— Нет. Только в субботу вечером. Так ты придешь? Ну хоть раз будь хорошим мальчиком.
Единственное, что я мог сделать, это поупираться для проформы, а потом капитулировать. Свинство, конечно, но ничего другого не оставалось.
— А с кем ты хочешь меня познакомить?
— С другом.
— С каким другом?
— Ты его не знаешь.
— Я знаю всех твоих друзей.
— А этого не знаешь.
— Как его зовут?
— Фред Бахман.
— Где ты с ним познакомилась?
— В прошлом месяце была вечеринка в «Бет-Шалом», помнишь?
Это «помнишь?» было чересчур уж мягко сказано, потому что именно я и заставил ее пойти туда. После операции она слишком часто сидела дома одна, а в комнатах прибраться не могла. Нанять прислугу она отказывалась, хотела остаться самостоятельной. «Я не хочу сидеть среди старушек, — отвечала она, когда я настаивал, указывая на пыль и крошки. — Ты хочешь, чтобы я умерла? Потому что это случится, если я окажусь там». Я объяснял, что каждому стареющему человеку необходима помощь и что она, увы, не исключение. «Я хожу по магазинам, сама готовлю, сама моюсь и никому не в тягость, — парировала она, — так почему бы тебе не замолчать?» Я продолжал расхваливать райские кущи под названием «Бет-Шалом» в шумном городишке Осдорп, где полным-полно таких же евреев, как она, молодых энергичных девушек и молодых восторженных юношей. «Незачем мне торчать среди евреев», — сказала она язвительно. «Но это же прекрасный дом престарелых!» — в отчаянии воскликнул я и тем собственноручно свел на нет все свои дифирамбы, так как произнес слово, на которое был наложен полный запрет. «Я в доме престарелых? Только через мой труп», — решительно заявила она.
После очередного бесплодного телефонного разговора я советовался с Ингой, и всякий раз она убеждала меня в необходимости переселить маму в дом престарелых. Инга видела то, чего я не замечал: мама забывала запереть дверь, выключить газ, а иногда даже застегнуть молнию на платье и подвести брови. А еще Инга напоминала мне, что мы не знаем, когда эта штуковина на ее печени опять разболится. Через несколько недель мама сдалась. Позволила мне отвезти ее на ознакомительный вечер в «Бет-Шалом», а обратно вернулась сама, на такси. Там-то она и встретила Фреда Бахмана.
— Где ты с ним познакомилась?
— Я же говорю, на том вечере.
— Ну, вот видишь, там можно встретить новых людей.
— Ему тоже нечего делать в пансионате, — объявила она.
— Мам, для тебя это в самом деле лучший выход, — снова начал я.
— Приходи в субботу вечером с Ингой, я приготовлю гремзелиш.
Это было чудо-блюдо еврейской кухни, которое она не готовила уже много лет. Фред не иначе как совсем особенный гость.
— Мам, я правда не могу.
Она ненадолго умолкла, подбирая оружие, чтобы добить меня исподтишка.
— Раньше, когда у тебя появлялась девушка, ты ведь тоже хотел меня с нею познакомить?
Мне был известен смысл этой фразы, но я никак не мог связать ее с мамой.
— «Познакомить»? Что ты имеешь в виду?
— Ну какой же ты зануда, — рассердилась она.
— Что ты все-таки хочешь сказать, мама?
— Я кое-кого встретила, Бенни, кое-кого очень симпатичного.
— Кое-кого симпатичного? Что это значит?
— Я же говорю, друга.
О Господи! Я сделал знак Инге, которая сидела, уставясь в телевизор, и при помощи пульта совершала обзорный экскурс в поисках программы, способной привлечь ее капризное внимание. Я дергался до тех пор, пока она не подняла вопросительный взгляд и не выключила звук.
— Друг? Ничего не понимаю, — сказал я во внезапной тишине, когда разом умолкли MTV, и новости, и телевикторины.
— Вот приходи в субботу — и все поймешь. Это у него дома, на Олимпияплейн.
Она положила трубку, и ко мне подошла Инга.
— Что случилось?
— Ты не поверишь.
Она поверила, и вечером в субботу мы увидели влюбленную парочку.
Фред обитал в просторном жилище с угловым диваном из кожи кремового цвета, медными галогеновыми лампами на изящных ножках, встроенным баром, обтекаемого дизайна стереосистемой фирмы «В&О» и еще одним диваном из хромированного металла, с ядовито-зеленой бархатной обивкой. Потягивая аперитив, мы слушали радиоклипы, для которых я написал музыку. Мама переписала кассету, которую я посылал потенциальным клиентам, и «В&О» выдавала мои опусы в квадрозвуке из всех четырех углов. Она гордо смотрела на Фреда, который восхищенно внимал рекламе пива, гигиенических прокладок, ипотечных ссуд. Ему никогда не приходило в голову, что музыку для рекламы пишет композитор.
«Ибресс», «Ибресс», для женщин современных», — пел маленький хор, а Фред одобрительно кивал.
— Ну ты ведь их знаешь? — спросила у него мама. Она выглядела как женщина без возраста. Стройная и сильная, под стать Фреду. Инга была в курсе, что днем мама наведалась к косметологу.
Он кивнул:
— Одна моя подруга пользовалась этой маркой.
— Когда? — встревоженно спросила мама.
— Задолго до тебя, — успокоил он ее.
— Ипотека, ипотека, — визжала певичка из подпевки Роба де Нейса.
— Вот этого не надо, — наставительно сказал Фред, — если ищешь ипотеку, то я знаю для тебя кое-что получше.
— А что скажешь о музыке?
— Искусство, — оценил Фред, — действительно хорошая музыка.
— Знаешь, что еще написал Бенни?
— Ну?
— Помнишь позапрошлогодний Конкурс песни? — подсказала мама.
— С этой суринамской пташечкой?
— Нет, это было в прошлом году. Два года назад!
— С этой… — задумался Фред, — с… как бишь ее звали? Моника! Моника де Храаф!
Мама с улыбкой показала на меня.
— Это ты написал? — удивленно спросил Фред. — Нет, серьезно?
Я кивнул и вспомнил предпоследнее место, которое мы заняли. «The Netherlands, Les Pays-Bas, Die Niederlande, one point, un point, ein Punkt»[1].
Иностранная пресса пол подмела моим мотивчиком. Старомодно, бездушно, безвкусно. Они были правы. Я получил заказ от клуба, который готовил нидерландскую часть Конкурса песни, и написал десять номеров. После двух телепередач нидерландское население, как на грех, решительно выбрало «Мой дом для тебя», песенку, которую я написал самой последней, для ровного счета, мотивчик из тех, что отжили свой век, он и в шестидесятые годы мог разве что заполнить оборотную сторону сингла.
— Классная была песенка, — похвалил Фред, — но она ведь невысоко поднялась, да?
— Вторая с конца, — констатировала мама, отметая деликатность Фреда. — Лучше бы они тогда выбрали «На небесах». Ты ее знаешь?
— Черт возьми, теперь я вспомнил, что тогда было! — заорал Фред. — Ты же давал интервью Хенку ван дер Мейдену?
В «Телеграафе», целая страница с цветной фотографией моей мышиной головы, об успехе моих джинглов и синглов.
— Помню, — продолжал Фред, — я еще подумал тогда: Вайс, еврейский парнишка, вот здорово, в легкой музыке снова появились евреи, как до войны, помню!
— А теперь он сидит перед тобой! — объяснила мама.
— Глядишь, все еще изменится! — засмеялся Фред и поцеловал мамину руку.
После еды мне пришлось выдержать просмотр видеокассеты с телерекламой. Мама расхваливала меня, а Фред поддакивал. Я был великим музыкантом, первоклассным композитором. Инга, сидя в углу, читала и беспрерывно курила.
Кроме меня, наверное, в полную силу по заказам рекламных бюро работал еще десяток композиторов, и я был уверен, что я — единственный из них, кто знает, что написали Шёнберг и Филип Гласс[2]. С моими коллегами я время от времени выпивал рюмку-другую на приеме в одной фирме звукозаписи, и выглядели они более счастливыми, чем я. По всей вероятности, они были довольны, что выбрали, так сказать, сферу музыкального обслуживания, а успех, каким кое-кто из них пользовался, объясняли исключительно совпадением амбиций и таланта. В моем случае такое совпадение отсутствовало, ибо я делал не то, что хотел; то, что я делал, меня не удовлетворяло.
Композиции, которые я писал в промежутках между заказами, я складывал в дальний ящик. Мои собственные, едва слышные робкие попытки высказать то, что высказать невозможно, не имели права звучать во всеуслышание. Инга считала, что я просто боюсь провала; я громко протестовал, но в душе был с нею согласен. У меня набралась целая коллекция произведений, столь же причудливая, как и вся история музыки нынешнего века, строптивый штакетник звуков, которые следовали по моим собственным путям и были только самими собой, непостижимые и самостоятельные, свободные — не то что товар, предназначенный на продажу, — и все же скованные шумом моих сомнений. В отличие от горстки серьезных нидерландских композиторов, которым благодаря стипендии Фонда музыкального искусства незачем было продавать душу торговле, я зарабатывал свой несубсидированный хлеб готовыми звуковыми изделиями для коммерческой рекламы, а также для исполнителей и продюсеров, ищущих материал для хитов. Десять лет назад я сработал свои первые хиты с группой «Black & White», двумя девушками, которых подцепил музыкальный продюсер на каком-то конкурсе талантов и которые имели «задатки». За пятнадцать минут я написал мотивчик из трех аккордов, а за час — текст из серии «I need you» и благодаря таланту режиссера видеоклипа за три месяца заработал чистыми две сотни тысяч. «Black & White», затянутые в кожаные костюмы, продержались на плаву пятнадцать месяцев, особенно в Японии, Корее и на Тайване. Я купил себе дом в Хилверсюме.
Полло Берлейн в консерватории был моим однокурсником и писал не рекламные ролики, а кантаты. В прошлом году он дирижировал в Концертном зале своей «Элегией», трехчастной кантатой, напоминавшей «клезмер» — музыку восточноевропейских евреев — и литургию в синагоге. Полло шел своей дорогой, хотя без поддержки фонда ему вряд ли хватало бы на кусок хлеба. Инга считала, что мне пора отбросить сомнения и наконец-то сделать выбор: или я рекламщик, или я композитор а-ля Полло, а делать одно и мечтать о другом не имеет смысла. Конечно, она права. Но я боялся.
Я тешил себя мыслью, что и Моцарт не имел бы никаких шансов выступить «разогревом» перед Мадонной или «U 2». А его запросы Фонд музыкального искусства отклонил бы под тем предлогом, что его произведению недостает новизны.
Моя мама влюбилась. После знакомства с Фредом, в машине по дороге домой, Инга заговорила о неизбежном. Моя мама не знала, что неизлечимо больна, и то, как она повела себя сейчас, подтверждало, что мы сделали правильный выбор: если бы мы рассказали ей или Фреду все, что знали, мы бы разрушили хрупкое счастье.
— Она умрет. Когда-нибудь. Конечно. Это никого не минует. В сущности, человек, едва родившись, уже неизлечимо болен. Но зачем же в это вдаваться? Фреду через год-другой стукнет восемьдесят. Он тоже может умереть в любую минуту.
— Думаю, ты прав, но… Это твоя мать, Бенни, и она взрослая женщина. Я тоже не каждый день думаю об этом, но так или иначе тут что-то не так. Мы знаем о ней то, чего сама она не знает.
— Вот и хорошо. Пусть так и остается. А ты обещала не курить в машине.
— Сегодня буду. — По обыкновению, она не принимала моих распоряжений всерьез.
— Может, хочешь умереть? — поинтересовался я.
— Ты только что объяснил, что мне этого не избежать.
Обычно тайские девы закрывали свой ресторан в десять, вся надежда на поздних посетителей. Мой заказ ждал в холодильнике, рядом с моими амбициями.
Я припарковался перед рестораном и увидел, что за одним из столиков еще сидят посетители.
Мое появление вызвало бурю восторга, будто за заказом пришел Ричард Гир, а не карлик на высоких каблуках. У меня ведь есть микроволновка, да? Одна-две минутки — и все опять будет горячим, и острым, и сочным! Я уже направился к выходу и вдруг лицом к лицу столкнулся с Руг ван Дейк, моей работодательницей, директрисой бюро «JS-XTH», обладательницей двух десятков премий за лучшую рекламу.
Три года назад, после фестиваля рекламных фильмов, мы коротали время в аэропорту Майами, дожидаясь рейса на Амстердам, — вылет самолета компании «Мартинэйр» почему-то задерживался. У Рут были густые курчавые волосы и маленькие круглые очки, за которыми виднелись карие глаза, полные иронии и юмора. Познакомились мы с ней много лет назад, оба жили в Хилверсюме, оба находились далеко от дома и останавливались в одном многокомнатном номере отеля «Фонтенбло-Хилтон», обоим надоело глазеть с бортика бассейна на купальщиков и есть повышающие потенцию ужины в ресторанах Саут-Бича.
Увенчались эти четыре дня, полные знойных мечтаний, тем, что под занавес, изнывая от желания, мы сняли номер в гостинице аэропорта и вытворяли там друг с другом все, о чем втайне грезили в минувшие годы. На следующий день мы разделили расходы на такси до Хилверсюма. На лестничной площадке моего дома она открыла свой чемодан, чтобы найти среди трусиков и футболок пачку противозачаточных колпачков. Утром за завтраком она расхваливала прелести брака и со свойственной ей бойкой напористостью осталась у меня на целую неделю, жалуясь на премьер-министра Люббера, на рекламные тарифы, на сильные боли при менструации и на нехватку еврейских мужчин брачного возраста. Когда пошла вторая неделя, мы опомнились, и она вернулась к себе домой. А несколько месяцев спустя в моей жизни появилась Инга.
Я регулярно встречал Рут не только в ее офисе, но и на улицах Хилверсюма, и нам удалось благополучно восстановить былые товарищеские отношения.
Поцелуй в левую щеку, потом в правую и после короткого замешательства еще один в левую. За ее столиком в «Чианг-Мае» сидели знакомые, и я поздоровался с режиссером и с администратором съемочной группы, которой предстояло снимать задуманные Рут ролики.
Эй привет рады тебя видеть все в порядке?
Я заверил Рут, что завтра дам ей прослушать что-то необыкновенное, улыбнулся всей компании, сделал комплимент режиссеру по поводу его роликов: мол, высший класс, с первых же кадров знаешь, кто их автор.
Когда я уже собрался улизнуть, Рут попросила ее подвезти.
Я открыл дверь и пропустил ее вперед. На западе гасли последние отблески заката, высоко над крышами ласточки выписывали свои загадочные зигзаги. Где же моя мама?
По дороге к машине Рут доверительно сообщила, что у нее уже довольно давно есть постоянный друг, ведущий игровой программы. Пробегаясь по программам, я иной раз наталкивался на него — этакий говорящий туалетный ершик, блиставший в пережевывании бредятины, которую несли игроки. «Откуда ты приехала, Эллен?» — «Из Эйндховена». — «Из Эйндховена? Какая прелесть. А чем ты там занимаешься?» — «Я парикмахер». — «Парикмахер? Боже, какая прелесть. А у тебя есть хобби?» — «Я люблю плавать». — «Любишь плавать? Фантастика, Эллен!»
Не мучаясь угрызениями совести, Рут рассказывала о нем:
— Он остроумный? Нет. Умный? Нет. Честный? Он и слово-то это написать не сумеет. Но видел бы ты его тело… каждый день три часа в тренажерном зале. И я понимаю, это звучит нелепо, но знаешь, чего мне в нем больше всего не хватает? Еврейских анекдотов.
Мы сели в машину, как раз когда Рут пыталась найти ответ на вопрос, почему отец ее детей непременно должен быть сыном еврейской матери. Во время этой своей философической экспедиции Рут ни на секунду не закрывала рта. Уже по тому, как она нетвердо тащилась по тротуару, мне бы следовало догадаться, что она пьяна, но я наивно продолжал отвечать на ее вопросы, пока она не спросила, не могу ли я одолжить ей пачку кофе. Кофе. У меня дома. Отказать я не мог, и она выразила любопытство к подробностям моей личной жизни. Я свернул на гравий.
— Знаешь, — сказала она, — я тогда скучала по этому дому так же сильно, как и по тебе. Странно, да? Я была тогда жутко в тебя влюблена.
Следом за мной она вошла в дом. Я достал из кухонного шкафчика пачку кофе и протянул было ей, но она повернулась ко мне спиной и бесцеремонно открыла холодильник, будто каждый день составляла здесь список необходимых покупок.
— Садись-ка сперва как следует поешь, а потом отвезешь меня домой. Я хочу пить. Где у тебя виски? Ах да, в стеклянном шкафу, в комнате! Где твоя подружка? Ее, кажется, Ингой зовут?
Я снова отчетливо вспомнил, что в ней вызвало у меня неприязнь, но беспомощно наблюдал, как Рут ставила в микроволновку тайские коробочки, накрывала стол и расправляла салфетку на моих коленях.
Без умолку болтая — рекламная кампания здесь, заказ там, — она смотрела, как я хлебал горячий суп. Я вдруг напрочь расхотел есть и попробовал втолковать ей, что мне надо еще часок-другой поработать, иначе ничего путного я завтра утром представить не смогу. Пока я ел суп и пяток соцветий брокколи, она успела принять три порции виски. Я вполне сознавал, что обольщаться насчет собственной привлекательности мне совершенно незачем. Ее привлекала любая ширинка, а нынче вечером случай принес в «Чианг-Май» мою. Точнее сказать, не случай, а моя мама, или еще точнее: мамино исчезновение.
— Бенни, ты знаешь, что у тебя красивые глаза?
— Да, знаю. Но этим глазам нужно смотреть на клавиатуру, потому что я должен кое-что закончить. Пока это просто ерунда.
— Ерунда? Ты же сказал, что это классно!
— Будет классно. Но пока еще нет.
— Все, что ты пишешь, классно, Бен.
Кубики льда плясали в ее стакане.
— Сейчас я отвезу тебя домой.
Она пожала плечами.
— Ты не знаешь, от чего отказываешься, — сказала она.
Я знал. Острые ногти, громкий голос, а когда ты уже думаешь, что она кончила, на тебя вдруг обрушивается еще несколько затяжных тактов, как финал бетховенской симфонии. Кроме того, у нее была еще скромная коллекция трусиков с разрезом в шагу, которые она иногда надевала в офис, «чтобы был стимул», как она призналась три года назад.
Зазвонил телефон, и она грузно поднялась. Я не спешил брать трубку.
— Я на минутку в туалет, а потом можешь меня отвезти.
Я взял трубку и вырубил автоответчик.
— Ты что-нибудь узнал?
Голос Фреда. Озабоченного, посасывающего сигаретный мундштук.
— Нет, — ответил я.
— Ты говорил с ее доктором?
— Поговорю завтра утром.
У Фреда не было ни особых соображений, ни новой информации. Ему хотелось повторять, подытоживать, перебирать варианты и тем самым выпускать из себя тревогу.
— То, что и паспорт ее исчез, здорово меня обнадеживает, — сказал он. — Я знаю человека, который работает в почтовом ведомстве, или как там оно теперь называется, и он сказал, что из некоторых южноевропейских стран до сих пор иной раз невозможно дозвониться.
Фред говорил и говорил, ровным, монотонным голосом. Я услышал, как за спиной открылась дверь кухни, обернулся — и увидел улыбающуюся Ингу. Фред продолжил перебирать события последних дней, а я с открытым ртом уставился на Ингу, в ужасе думая, что она наверняка превратно поймет появление Рут. Инга кивнула на телефон — дескать, кто звонит?
Я прикрыл трубку рукой и прошептал:
— Фред.
Инга опять кивнула и достала из сумки пачку сигарет. Села, поискала спички и тут обнаружила стакан Рут, со следами помады. Она подвинула его к себе, взяла в руки, подняла над столом, точно оружие, и вопросительно уставилась на меня.
А Фред даже не думал закругляться.
— Северная Африка тоже возможна, этого нельзя исключать, Бенни, я знаю, ты не веришь, но, может, она уехала в Каир, кто знает? А если ты когда-нибудь бывал в Каире, то сам знаешь, что там легче выиграть в лотерею, чем дозвониться до Амстердама…
Рут распахнула дверь из коридора. Юбку и блузку она оставила в ванной и была в одних микротрусиках — черт, в тех самых из коллекции, она проходила в них целый день, сгорая от жарких фантазий, — и в совершенно прозрачном малюсеньком бюстгальтере. В таком виде она остановилась на пороге:
— Та-та-ра-та!
Я виновато посмотрел на Ингу и объяснил:
— Она зашла за кофе.
Наутро в половине одиннадцатого я принес Рут ролик, законченный час назад. По крайней мере техническое качество моего звукового микса могло удовлетворить заказчика, но на сей раз я ни в чем не был уверен.
Офис «JS-XTH» размещался на набережной Стадхаудерскаде напротив кафе «Америкен», в помещении самого современного дизайна — сплошь шлифованное дерево и стальные тросы, на которых подвешены разборные стены.
Рут, холодная и высокомерная, была в черном костюме и в лодочках на высоком каблуке, которые делали ее ноги стройнее. Мы старались не смотреть друг другу в глаза.
— Привет, — сказала она, — ты знаешь, куда пройти.
Она показала мне на угловой стол с большим мощным магнитофоном.
Мне хотелось сломать напряжение, и я весело сказал:
— Каждый раз присоединяю свою машинку и удивляюсь на этот дешевый кассетник. Большинство рекламных бюро, для которых я работаю, прослушивают мои творения на таких вот штуковинах. Неуместная экономия.
— Ты все еще не понял, — спокойно сказала она, усаживаясь. Я услыхал шорох ее колготок и невольно спросил себя, какие на ней трусики. — Нашим клиентам не нравится, когда мы покупаем на их деньги дорогие вещи. Время дорогих машин и обедов в шикарных ресторанах миновало. Вдобавок, если на барахляном магнитофоне не звучит, то и на дорогом не зазвучит. Так ведь? Ну, что у тебя там?
— Как раз то, что ты хотела.
— Ну-ну, давай послушаем.
Вещица была содрана с одной песенки из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера[3]. Звучало знакомо и в то же время по-новому.
Я чувствовал себя обманщиком. Рут смотрела на мой магнитофончик, размером не больше плейера, будто впервые видела это цифровое чудо.
Текст я напел сам: «Клантум», «Клантум», все вертится вокруг «Клантум».
После долгих тридцати двух секунд звучания мотивчика воцарилась тишина. Я сказал:
— За основу я взял текст рекламы велосипедов.
Рут кивнула:
— Можно еще разок?
Я перемотал назад и еще раз замусорил офис своим аудиохламом.
Прошлой ночью поработать мне толком не удалось, и буквально перед тем, как сесть в машину, я задрапировал кошачий концерт, который придумал раньше, всякими завитушками из сэмплера — компьютера, который мог как угодно преобразовывать записи реального инструмента.
Внесем ясность: я ничего не имею против рекламы. Иногда с удовольствием смотрю телевизионные ролики или слушаю по радио забавный разговорчик о какой-нибудь страховой компании, но полнейшая зависимость от чего-то изначально лишенного всякой конкретной функции — избитый аргумент, что Моцарт тоже писал по заказу, справедлив только отчасти, ведь он-то не писал для ролика о новом соленом печеньице потрясного цвета, для ролика писал я, — эта зависимость начинала меня душить.
Инга хотела порадовать меня своим появлением («Я думала, с твоей мамой случилось что-то скверное и мне нужно быть рядом с тобой. И что же я вижу? Жареный гриб с голой задницей») и в ярости умчалась обратно в Амстердам. Я стоял перед ее машиной, умолял выслушать меня, но она уже закусила удила и уверовала, что я жаждал вскарабкаться на этот гриб. Ехать за ней не имело смысла, потому что в квартиру она меня все равно не впустит. Она выдрала телефонный шнур из розетки и всю оставшуюся часть ночи была недостижима.
Придется ждать и надеяться на минуту слабости. Пока я, воодушевляясь вниманием соседей, пытался на улице образумить Ингу, Рут потихоньку ушла. Спать я не мог, ходил по дому и злился на Ингу, на Рут, на собственное бессилие. Конечно, я мог бы предотвратить катастрофу: нужно было говорить с Рут напрямик, а Фреду сказать, что я ему позже перезвоню, и Ингиной реакции незачем было пугаться. Но вместо этого я продолжал разговаривать по телефону, краснел, заикался и, понятно, создал впечатление, будто страстно желаю Рут. Садясь в машину, Инга крикнула мне, что я подсознательно хотел трахнуть этот гриб и что от моих оправданий так и разит враньем, ведь я слепой раб собственного члена.
Рут снова слушала запись. Может, у нее похмелье? Из дешевых динамиков звучала мелодия. Дилетантская стряпня. Я обманул женщину, которая годами помогала мне с работой, обманул ее доверие, вот сейчас она печально посмотрит на меня и скажет: «Бенни… ну так же нельзя!»
Маленькая заставка, и я выключил запись.
Рут все еще молчала. За стенами негромко шумели соседние конторы. Я убрал свой магнитофончик в черный кожаный футляр.
— Действительно очень мило, — донесся до меня голос Рут.
Не таинственное исчезновение моей мамы и не дурацкая ссора с Ингой выбили меня из колеи, а невероятная дрянь, которую я принес на прослушивание. Открыв рот, я смотрел на Рут и искал сарказм в ее голосе. Но обнаружил лишь искреннее одобрение. А ведь скормил ей трефное. Очевидно, я мог с легкостью представить нужную заказчику песенку, а тот был не в силах распознать обман.
В расстроенных чувствах я направил «ситроен» через площадь Мюсеумплейн к Ларессестраат. Я переступил предел, я больше не мог продолжать эту работу, не насилуя самого себя. И хотя у меня был солидный дом и впечатляющий счет в банке, я был готов к революции.
Я отпер дом моей матери и подобрал с коврика утреннюю газету, дневная почта еще не пришла. Совершив контрольный обход — со вчерашнего вечера в доме ничего не изменилось, — я сел на диван в гостиной и набрал номер главного полицейского управления.
Я уже звонил в восемь и в девять, но тогда нужные отделы были еще закрыты. Мой звонок трижды переадресовали, наконец женский голос сообщил, что они проверили сведения об умерших, раненых и больных, но никто из них не подходит под описание моей мамы. Единственное, что можно сделать, посоветовала мне сотрудница, это позвонить в Центральную больницу Амстердама и в другие больницы и спросить, нет ли у них необычного пациента, о котором еще не известили полицию. Мне понадобилось полчаса, чтобы убедить четырех разных администраторов, что я вовсе не охочусь за конфиденциальной информацией, а беспокоюсь о судьбе моей мамы. Потом я обзвонил горстку ее знакомых и подруг, чьи имена сумел припомнить, и, стараясь не вселять в них тревогу, спросил, не знают ли они, где моя мама. После этого я набрал номер ее домашнего врача, Хенка ван Сона. Ассистентка соединила меня с ним.
— Исчезла? Что вы имеете в виду?
— Ее нет дома, и никто не знает, где она. Когда вы говорили с ней в последний раз?
— Думаю, она была у меня недели три назад. Если подождете, я посмотрю в карточке. Да, ее опять сильно беспокоила спина.
— Вам тогда не показалось, что она знает об опухоли?
— Нет. Она была по-своему весела.
— По-своему?
— Вы ведь знаете вашу маму. Даже если ее мучит боль, она отказывается воспринимать свое положение всерьез.
— Вот пусть так и продолжается.
— Я уже говорил вам, что сомневаюсь в правильности такого подхода, ну да ладно.
— А вы, может быть, случайно?..
— Нет-нет. От меня она услышала, что на желчном пузыре у нее что-то вроде бородавки. Я выполняю наш уговор. Но вполне понимаю, что вы опасаетесь, как бы она не узнала от кого-нибудь правду о своей болезни.
— Я не исключаю такой возможности. Она просто исчезла с лица земли.
— Если ее печень уже плохо функционирует, могут возникнуть и нарушения в поведении.
— При отсутствии жалоб на физическое самочувствие?
— Как правило, это невозможно. Но как знать.
— Вы тогда не заметили ничего особенного?
— Боли в спине, вызванные карциномой. А в остальном она выглядела как обычно: чудо жизнелюбия.
Я сходил к соседям сверху. На звонок никто не открыл.
Потом позвонил в дверь дома по Геррит-ван-дер-Вейнстраат, смежного дома на углу, и поговорил с хозяином и двумя детьми. Нет, он ничего не слышал и не видел, хотя и был целый день дома.
Я вернулся назад и увидел Фреда, он всматривался в окно, расплющив нос о стекло.
— Ах вот ты где, — сказал он, когда я подошел ближе. В руках у него были конверты и рекламные проспекты. — Почтальон только что приходил. Что-нибудь выяснил?
Фред снова выглядел полным сил и моложавым, в желтой рубашке-поло и просторных выцветших джинсах «Ливайз», босые ноги — в ярко-белых спортивных туфлях. Волосы снова были собраны в хвостик. По дороге я слышал прогноз погоды — обещали субтропическую жару.
— Собираешься отдохнуть в Лосдрехте или в Винкевене, Фред?
— Без Аннеке? Нет, даже думать об этом не могу.
Открывая дверь, я сказал:
— Вчера вечером ты так тревожился. Что же ты надумал за это время?
— Она точно уехала.
— Но ведь теперь в ее жизни есть ты, Фред! Почему она ничего тебе не сказала?
— Она не только умная, но еще и своевольная, Бенни, для тебя это не новость.
Мы прошли в гостиную. Этот дом прятался от солнца, окна смотрели на север. Мне вспомнились холодные, промозглые зимы в мрачных стенах — цена за летнюю прохладу.
— Что будем теперь делать, Фред?
— Ничего. Ждать ее звонка.
— А если она не позвонит?
— Тогда будет видно.
— Когда тогда?
— Тогда — это когда мы поймем, что уже тогда.
Была пятница, миновало ровно полсуток с тех пор, как Фред сообщил, что не может найти мою маму. Просматривая почту, он спросил меня:
— Она ездит на поезде? Транссибирский экспресс. Он долго в пути.
— Нет. Она не любит поезда.
— Я тоже. Не самый популярный вид транспорта у евреев после сорок пятого. — Фред глянул на меня. — Ты спал?
— Нет.
— Ты не нервничай, я чувствую, что все обойдется.
Вытянув руки, чтобы дальнозоркие глаза могли разобрать надпись, он рассматривал один из конвертов.
— «Туристическое бюро «Оппенмайнер», — прочел он. — Это здесь, за углом, на площади Минерваплейн.
Я знал это бюро, они специализировались на путешествиях в Израиль. Фред протянул мне конверт, адресованный моей матери: «Г-же А. Вайс, Рафаэльстраат, 28».
Я оторвал уголок, сунул палец в дырку и вскрыл конверт.
Счет. Моя мама заказала билет на самолет в город Сплит в Хорватии, одной из стран, отделившихся от Югославии. Она вылетела туда в прошлую среду, в полдень.
Я позвонил в «Оппенмайнер», и некая Карла, которая бронировала билет, сообщила, что моя мама точно знала, куда собирается лететь.
— Сначала она хотела лететь в Сараево, но я не нашла ни одной компании, которая бы туда летала. Тогда она решила непременно попасть в город, находящийся ближе всего.
Что же понадобилось Аннеке Эйсман в Сараево? Судя по сводкам новостей — а следил я за ними весьма поверхностно, новости о Боснии оставались на периферии моего внимания: мои глаза скользили по газетным шапкам, отмечая некоторые факты — город уже не обстреливали, сербы отвели свою тяжелую артиллерию. Люди в руинах не жили, а мыкали горе. Раньше моя мама, как примерная туристка, неизменно выбирала путешествия в безопасные культурные центры, и я не мог представить себе, чтобы ей захотелось фотографировать остатки сгоревшей сараевской библиотеки. Она не была наивной простушкой, но и бесчувственной к чужому несчастью и несправедливости ее тоже не назовешь.
Я еще раз связался с ван Соном. Он сказал, что старческий маразм у моей мамы, возможно, сильнее, чем я думаю. А я не знал, что думаю, а что нет. Но у меня забрезжила мысль, что эта поездка не имеет с маразмом ничего общего. Здесь нужен ясный рассудок, решимость, цель. Я не исключал, что она сошла с ума, но если и так, то сумасшествие не мешало ей действовать. Она чего-то хотела, однако чего именно, мы узнаем, только когда найдем ее.
После сообщения «Оппенмайнера» Фред уже не сомневался, что она лишилась рассудка.
— Ну кто поедет ради забавы в Сараево или в Сплит? Будешь там торчать между двумя огнями — хорватскими фашистами и беженцами из Боснии. Big deal[4].
— Может, она хотела что-то посмотреть? — предположил я. — В Сплите ведь красивый Старый город?
— Она хотела попасть в Сараево. А что такое теперешний Сараево, знает каждый, в том числе и твоя мать. Нет, она свихнулась, и поверь, мне правда очень жаль.
Но когда я сказал, что поеду ее искать, он тут же предложил составить мне компанию, «чокнутую или нет, я хочу поскорее ее увидеть».
Я бы предпочел поехать с Ингой, но после полудюжины телефонных разговоров она четко сформулировала, что именно ей необходимо:
— Несколько дней, чтобы привести в порядок мысли. Мы в последнее время слишком часто ссоримся. Я понимаю, что в истории с озабоченным грибом ты не виноват, но ведь мы оба заводимся с пол-оборота, а это кое о чем говорит, верно? Так или иначе, мы оба на пределе, и я хочу выяснить причину.
Я попробовал установить, вправду ли моя мама два дня назад вылетела в Загреб. У хорватской авиакомпании не было представительства в Амстердаме, и пассажирами занималась КЛМ. В справочной сообщили, что, судя по спискам пассажиров, она вылетела в Загреб рейсом OU 451, а через три часа — в Сплит рейсом OU 652. Итак, она воспользовалась билетами, которые заказывала у Карлы.
Мысль о том, что скоропалительный отъезд каким-то образом связан с ее последним звонком, зудела у меня в голове со вчерашнего вечера. Я вернулся в Хилверсюм и отыскал в кладовке газеты за вторник. На странице с теле- и радиопрограммами я нашел анонс интервью с боснийской беженкой, которое должен был передавать один из политических каналов. Может, это и есть причина? Может, эта программа так поразила мою маму, что она полетела в Сплит? А оттуда в Сараево?
Я еще раз позвонил Инге и спросил, не знает ли она кого-нибудь в отделе политических новостей. Через пятнадцать минут она сообщила, что я могу посмотреть ту программу. Я сел на велосипед и поехал в телецентр.
Я просмотрел кассету и представил себе маму: она уже собиралась спать и заварила чашечку чая, а по третьему каналу после десятичасовых новостей заканчивался пятнадцатиминутный блок. Мама, как всегда, внимательно следила за событиями в секторе Газа и Иерихоне. Рабин пожал руку Арафату, но она по опыту знала, что миру доверять нельзя. И вот тут, прежде чем она успела выключить телевизор, стали показывать интервью с той боснийской женщиной.
У боснийки были широкое лицо с выступающими скулами и почти монгольские глаза, которые не просили о сострадании. Она рассказывала гордо и строго: «В нашей деревне сербские солдаты согнали вместе всех мусульман. Меня спас отец. Мы стояли на рыночной площади, и он шепнул мне, что притворится сумасшедшим, а я должна воспользоваться суматохой, которая поднимется вокруг него, и сбежать. Отец упал на землю, залаял, забегал на четвереньках. Я сделала, как он велел. И больше никогда не видела мою семью».
Мама пролила чай и, сама не своя, не зная, что делать, забегала по комнате.
В душном кафе загребского аэропорта свежевыбритый Фред положил свой мундштук рядом с чашкой приготовленного по всем правилам капуччино из большого итальянского автомата. Мы ждали рейса на Сплит.
— Красивая страна для туристов, — сказал Фред, посыпая пену сахаром. — Но если копнуть поглубже, у них тут еще средневековье.
Все, что я видел, был хорошо обустроенный аэродром. Я никогда не ездил отдыхать в Югославию и, может быть несправедливо, считал, что здесь тщательно организованы только автобусные маршруты к туристским гостиницам и шашлыкам. Мне больше нравилось путешествовать в одиночку, я просто договаривался через знакомых насчет домика где-нибудь в душной Тоскане, где меня тотчас облепляли филосемиты-комары.
— Хорваты здорово похозяйничали вместе с фрицами, — сказал Фред, — получили собственную земельку, прихвостни фашистские. А Тито им помешал.
Я никогда не вникал в подробности балканских несчастий. Со школьной скамьи помнил, что в 1914 году Гаврило Принцип начал Первую мировую войну, застрелив в Сараеве эрцгерцога Фердинанда Габсбурга, и что Балканы давно были синонимом хаоса и политической нестабильности. Последние два года я, как и все, следил по телевизору за ходом боев между группировками, которые с трудом различал, видел осаду Сараева, города, который за короткое время стал символом знаменитого сообщества многих культур, до основания разрушенного сербами. Я не чувствовал себя обязанным делать выбор — что, кстати, было бы вопросом сугубо эмоциональным, ведь я-то сидел в безопасности в пределах Европейского Сообщества, — но время от времени меня одолевал старый вирус. Страх. Впервые с 1945 года в Европе развивался самый настоящий вооруженный конфликт; цивилизация снова отброшена назад, снова разорвана хрупкая миролюбивая традиция, возникшая на обломках фашизма, — об этом я читал повсюду. И, как все остальные, отгонял беспокойство, внушая себе, что полтора часа лёту, может, не так уж и далеко от моей кровати, но все же вполне достаточно, чтобы я мог по-прежнему заниматься собственным благоденствием.
Фред сосредоточенно размешивал в своем капуччино содержимое двух пакетиков сахара. Потом воткнул в мундштук сигарету.
В самолете я невольно обратил внимание, сколько он выпил, но, похоже, четыре порции виски и две бутылочки хорватского вина на него никак не подействовали. Он сидел выпрямив спину и вскинув подбородок. Только голос выдавал присутствие алкоголя: он говорил медленнее и с чуть большим усилием, чем обычно.
Архитектурой этот аэропорт не отличался от любого другого южноевропейского аэропорта. В просторном мраморном помещении, напротив двух десятков стоек проката машин и обмена валюты, располагались залы прибытия и отправления. Кафетерий находился в застекленной пристройке, в дальнем северном конце, и смотрел на большое черное табло, где загоралось время вылета рейсов. Сегодня у ООН было два рейса в Сараево.
В углу, возле входа в кафетерий, какое-то туристическое бюро предлагало специально для солдат ООН, находящихся в увольнении, увеселительную экскурсию к римским руинам. Видимо, однажды увидев руины, уже невозможно было вдоволь на них насмотреться.
За окнами парилась в летнем зное широкая улица. Синие джипы и грузовички под развевающимися голубыми флагами ООН нескончаемой вереницей тянулись мимо автоматических дверей аэровокзала. Офицеры и чиновники сменяли друг друга словно в магическом калейдоскопе, точь-в-точь муравьи в разгар миграции. ООН контролировала это место, узловой пункт в операции по установлению мира, которая должна была разделить враждующие стороны в боснийской войне.
Из динамиков кафетерия доносилась музыка: Глория Эстефан выводила простенькую, но эффектную мелодию с мягкими, звучными аккордами. Она верила в то, о чем пела. И с этой песенкой наверняка бы выиграла Конкурс Евровидения.
Фред подозвал официанта и спросил спички. Тот принес коробок.
— Спички, значит, у них есть, — сказал Фред. — В таких странах сразу после войны, да и в войну тоже можно хорошо подзаработать. Надо только знать, что у них в дефиците, и привезти этот товар. Потому что всегда — слышишь, что я говорю? — всегда есть возможность переправить через границу дефицитные вещи. У меня больше нет охоты этим заниматься, а то бы я разжился деньжатами.
— Что ты делал раньше, Фред?
— Спроси, чего я не делал! Всё.
— Что «все»?
— То да се. Все.
— Ты стал тем, кем мечтал?
Он глубоко затянулся сигаретой.
— Я учился в иешиве[5].
— В иешиве? Ты раввин? А ты когда-нибудь работал?
— Да, в Аушвице.
Точно так же, как пил виски, Фред глотнул капуччино, кокетливо держа в руке чашку и со смаком причмокивая языком. Он с любопытством разглядывал униформы, машины, этикетки на бутылках, слова в меню, свой мундштук, мою записную книжку. И вдруг спросил:
— Что ты туда записываешь?
— Вещи, которые слышу.
— Например?
— Мелодию, которая вдруг придет в голову, а то и меньше, просто коротенький такт.
— У тебя много таких книжек?
— Да.
— А что ты с ними делаешь?
— Иногда беру оттуда что-нибудь для работы. А часто вообще ничего не делаю.
— Мой брат тоже был музыкантом, — сказал он и сделал еще глоток. — Неплохой капуччино-то, а?
— Да.
— Сидя здесь, не скажешь, что в стране война.
— В самом Загребе мы не были.
— Держу пари, ты и там ничего не заметишь. Странная штука — война. На границах убивают, а в десяти километрах оттуда человек может спокойненько сидеть на террасе да посвистывать.
— Ну а как же солдаты?
— Театр. В ста километрах дальше — вот где настоящая заваруха. Мне-то все равно, пускай хоть перебьют друг друга. Хорваты против сербов, знаешь, что это такое? Фашисты-католики против фашистов-православных. Нет, от меня жалости не дождешься.
Таможня сплитского аэропорта не проявила интереса к нашему багажу, и мы прошли через узкое здание из стекла и стали к длинной цепочке такси у входа: старые «мерседесы», «опели», «лады», «заставы».
И здесь над асфальтом тоже дрожал знойный воздух. От группы мужчин, толпившихся у дверей, отделился шофер переднего «мерседеса», широкоплечий, похожий на крестьянина, с красной от загара лысой головой и солидными седыми усами, в поношенном костюме. Торговаться об оплате он отказался, кивнул на счетчик и объявил, что все будет официально, согласно распоряжению властей. Когда он говорил, пышные усы двигались, точь-в-точь как занавес, закрывающий рот.
— Будто с этими счетчиками нельзя смухлевать, — вздохнул Фред. — Неохота мне здесь прохлаждаться. Едем.
Мы разместились на влажной искусственной коже, открыли окна, и машина помчалась по равнине вдоль высокой зубчатой горной цепи из серых каменных глыб. Дома по обе стороны узкой дороги, бежавшей среди тучных садов и огородов, от войны не пострадали, а справа нам временами открывался вид на просторную бухту. В двадцати пяти километрах дальше находился Сплит, современный город вокруг римского дворца, выстроенного императором Диоклетианом на узком мысу, как сообщал маленький путеводитель, который я читал в самолете.
В 1991 году, в начале боснийской войны, сербы обстреливали город и его окрестности, меж тем как полные добрых надежд наблюдатели ООН дожидались результатов женевских переговоров. По-видимому, разрушительные последствия обстрелов за минувшие три года были устранены, не считая нескольких руин, возраст которых не поддавался определению.
— Это из-за войны? — выкрикнул Фред на безукоризненном немецком, когда проехали третьи развалины.
Ветер трепал наши волосы и одежду.
— Все, что разрушено, на совести сербов! — крикнул в ответ шофер.
Ему пришлось повысить голос, и я мог расслышать, что у него красивый тенор. Вероятно, по вечерам он пел в любительской опере главные партии в произведениях Пуччини.
— Вы журналисты?
— Да! — ответил я.
— Почему ты так сказал? — спросил Фред.
— А что я должен сказать? Что мы разыскиваем мою маму?
— Может, он отвозил ее в Сплит.
— Сейчас и об этом спрошу.
Шофер поинтересовался:
— Вы швейцарцы?
— Голландия!
В ответ он оживленно перечислил голландских футболистов, играющих в итальянских командах. Мы здесь впервые? Да, впервые. Он предложил себя в качестве гида на случай, если нам захочется осмотреть здешние места. Три недели назад он возил англичан в сербский район, который все считают опасным для жизни, а он проехал там даже с хорватскими номерами. По дурости забыл снять! А видели бы мы, как повели себя сербы, когда заметили, что он приехал из Сплита и умудрился миновать все заграждения и блокпосты! Они хлопали его по плечу и пили с ним шнапс! Некоторые журналисты предпочитают ездить только с ним. На прошлой неделе двое сами заехали в зону боевых действий и были убиты.
— Нужно знать, что делать, какой дорогой ехать и как себя вести. Сербы — параноики и могут пристрелить только за то, что ты не так посмотрел. Я не сорвиголова, но семью-то кормить надо.
— А туристов здесь нет? — спросил Фред.
— Нет. В гостиницах только беженцы. Им такси не по карману. Да и куда им ехать?
Фред нагнулся, чтобы заслонить горящую спичку от ветра, и закурил.
— А она того стоила? — спросил я шофера.
— Она?
Фред опередил меня с ответом:
— Независимость без гроша в кармане.
— Конечно, а как вы думаете?
— По мне, лучше уж деньги без независимости, чем наоборот, — сказал Фред зеркалу заднего вида.
— Послушайте-ка, что я вам скажу! — Шофер грозно наставил на нас указательный палец, от его дружелюбия и следа не осталось. — Я согласен не со всем, что делает президент Туджман, но мы жили здесь как узники в собственной стране.
— Чепуха, — возразил Фред, — все у вас было хорошо, но вы позволили политикам одурачить вас. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте, и нечего жаловаться!
— Вы здесь живете или я? — Шофер отчаянно размахивал правой рукой. Я следил за узкой дорогой. — Знаете, каково это, когда тебя останавливает полицейский? Каких это стоит нервов, потому что ты не знаешь, хорват он или серб? А если он окажется сербом, значит, будет играть с тобой, как кошка с мышью. Мы всегда жили рядом с сербами, но никогда их не любили!
— Во время Второй мировой войны вы убили сотни тысяч сербов. — Фред был неумолим, я не знал, как заставить его замолчать.
— Я родился в сорок шестом! — выкрикнул шофер, побагровев. Он попытался взять себя в руки и заговорил примирительным тоном: — Господи! Сначала вам нужно своими глазами увидеть, что происходит! Тогда вы поймете, что хотите жить вместе с ними ничуть не больше нашего! Они же как цыгане, у них другой менталитет. Мы — европейцы, а сербы — славяне.
— Цыгане, — повторил Фред, — тут бы надо поосторожнее. — Он опять посмотрел на меня в поисках поддержки. — Может, у них и еврейская кровь есть, у сербов?
— Я бы не удивился, — сказал шофер. — Ненадежный народ, врут почем зря, такой собирается жениться на твоей сестре и при первом удобном случае спокойно воткнет тебе нож в спину.
— Ты фашист! — гаркнул Фред прямо навстречу балканскому ветру.
— Я, наверно, вас не понял, — пробормотал шофер, ошарашенный лобовой атакой.
— Ничтожный фашист! — сказал Фред.
Теперь уже взорвался шофер:
— Я на выборах голосовал за социал-демократов! Мои дядья погибли в борьбе с усташами, так что я знаю, что натворил фашизм!
Он остановил машину на обочине, вдоль которой тянулись спелые нивы, и яростно обернулся к нам. Старый дизельный движок «мерседеса» тарахтел как пулемет.
— Вы меня оскорбили, и я этого не потерплю. Извинитесь! Или выходите из машины!
Фред рассмеялся:
— Извиняться? Пошел ты в задницу!
— Вон! Вон из машины!
— Успокойтесь! — Я попробовал угомонить их, не зная, кто больше виноват в этой ситуации. — Можно ведь разговаривать друг с другом, не ссорясь.
— Вон из машины! Кончилось мое терпение!
— Не хочешь — как хочешь, — сказал Фред, — у меня есть друзья, они наверняка за нами приедут. Позвоню Дражену Месичу, так он мигом будет здесь с машиной.
Шофер вдруг разом успокоился:
— Месич?
— Дражен Месич. Мой друг. Мы познакомились в Амстердаме, он там десять лет прожил, до того как приехал в Сплит.
Шофер пытался унять учащенное дыхание. Пыхтел с открытым ртом, в глазах злость, потом рывком повернулся к рулю и ожесточенно дал газ.
— Вот уж не знал, что у тебя здесь знакомые, — сказал я.
— Неожиданно пришло в голову. Я о нем напрочь забыл.
— А откуда ты знаешь Месича?
— Ну, то да се. Здесь и там.
Сохнувшее белье развевалось на балконах всех пятнадцати этажей гостиницы «Марьян», серой блочной коробки неподалеку от сплитского порта. Внутри, на стертых ступеньках лестничных маршей, играли дети. Полные мамаши с хозяйственными сумками сновали в сумрачных коридорах, пропахших кухней. Лампы не работали, плинтусы и стенные панели кое-где оторваны.
Повсюду в гостинице ютились семьи беженцев, этнические хорваты, которых мусульмане или сербы вытеснили из их деревень в Боснии. Предпоследнюю свободную комнату занял американский журналист, поэтому нам с Фредом пришлось поселиться вместе, в одном номере.
Фред принимал душ. Я никогда раньше не видел вблизи голых мужчин его возраста и старался не смотреть на его член, но Фред то и дело шастал из ванной к дорожной сумке на своей кровати, и мне волей-неволей пришлось-таки глядеть на седые волосы у него под животом и отвисшую мошонку. Для меня отнюдь не было секретом, что люди занимаются сексом до очень солидного возраста, но мысль о том, что Фред и моя мама посвящали себя чему-то подобному, сбивала меня с толку. Она была моей мамой, а не любовницей какого-то типа. И уж конечно, не этой штуковины.
Сквозь стены проникали звуки полного жизни многоэтажного дома. Плач младенцев, грохот музыки, вой водопроводных труб, спускание воды в унитазе, повторяющиеся пассажи фортепианной сонаты Шопена, топот детских ног по бетонному полу в коридоре.
Сразу после полудня мы вышли из гостиницы, которая располагалась напротив пассажирского порта на южной стороне мыса, и направились к бульвару Старого города, нервному центру Сплита. Если она была здесь, то наверняка хоть раз прогулялась по нему.
Было тепло, и от стоячей воды в закоулках гавани пахло гнилью. Машин на набережной не было, и в тишине крики чаек бились о запертые двери заброшенных туристских магазинов. Мы сели на чугунные стулья под широким навесом кафе «Адриана» и стали смотреть на бухту за окаймленной пальмами набережной: справа были наша гостиница и гавань для яхт, слева проплывали пузатые пассажирские суда и паромы. У горизонта высился Брач, остров, во много раз превышавший размером весь сплитский мыс. На остров она бы не поехала никогда, разве что если б там был большой город.
Пешеходный бульвар тянулся на несколько сотен метров, и там уже началось ритуальное фланирование. Подростки и молодежь, одетые точно так же, как их сверстники в Амстердаме или в Париже, изо всех сил изображая небрежность, прохаживались к невидимым буйкам, где на минутку задерживались или сразу же поворачивали и продолжали свою небрежную прогулку в направлении коротких юбочек или мускулистых торсов в другом конце бульвара. Здесь они не таскали на плечах орущие магнитофоны, под пальмами слышались только голоса и шаги гуляющих, звуки минувших веков.
На скамеечках у воды беседовали старики. Мужчины в брюках, натянутых до подмышек, и одетые в черное вдовы в платках сидели группками на золотистом солнце, люди с поблекшими глазами, слишком долго смотревшими в лицо этого века. И хотя иногда проезжал ооновский джип с голубым флагом, очевидно имевший разрешение на проезд в пешеходной зоне, вся эта «токующая» молодежь оставляла впечатление, что война здесь — пустая абстракция. Этот город вполне мог находиться где-нибудь на Сардинии или на Сицилии. Если моя мама здесь, о ее безопасности можно не беспокоиться. И все-таки я боялся.
Мы пили вино, жевали оливки и составляли план. Возможно, иностранцев тут централизованно регистрировали — ведь практически в стране все еще шла война, — тогда стоит обратиться в полицию, которая, как мы полагали, скорее всего, этим и занимается. Тем не менее мы решили обзвонить все гостиницы, больницы, аптеки (возможно, она где-нибудь покупала лекарства), практикующих врачей и бюро путешествий. Я записывал все пункты в книжечку. Изучив план города, мы пришли к выводу, что центр занимает площадь максимум в один квадратный километр. Периферийные кварталы простирались по всему полуострову, обойти их пешком не так-то просто. За нашей гостиницей, на самом краю мыса, был расположен холм Марьян, который поднимался над морем метров на двести, — малыш по сравнению со скалистым кряжем более семисот метров высотой, что тянулся к востоку от города и отделял равнинное побережье Адриатики от внутренней части страны. От войны.
— А вдруг она поехала в Сараево? — заметил Фред.
Я ответил, что, судя по газетным сообщениям, Сараево отрезан от внешнего мира и попасть туда можно только по воздуху. Из зала ожидания загребского аэропорта мы видели, как подразделение ооновских солдат грузилось на один из двух огромных транспортных самолетов, стоявших на летном поле, — две печальные белые птицы с повисшими крыльями, плоскими лапами и гигантским откинутым хвостом, в котором исчезала длинная униформированная шеренга.
Фред сказал:
— За деньги всегда можно найти такого, кто попытается проехать на машине.
— Но что ей там делать?
Фред пожал плечами:
— Может, она хотела помочь.
— Помочь? В Сараеве?
Мой скептицизм у Фреда отклика не нашел.
— Она перестала различать фикцию и реальность. Наверно, в этом все дело. Увидела по телевизору боснийскую женщину и, охваченная жалостью, решила помочь.
— В последние годы она даже голосовать не ходила, — возразил я.
— Это совсем другой вопрос, Бенни, она звонила каждый день, чтобы поговорить о политике.
Значит, она и его уши использовала. Описывать и оценивать мир было для нее жизненно важно. Она никогда не сомневалась в том, что плохо, а что хорошо. Хорошо все, что дарило евреям безопасность, а плохо все, что причиняло им вред.
Фред, очевидно, подумал о том же, что и я.
— Что ты знаешь о ее жизни в войну?
— Не слишком много. Она пряталась.
— Где?
Я удивился:
— Разве она никогда не говорила с тобой об этом?
— Нет, — ответил Фред. — Когда я спросил, она сказала, что пока не хочет говорить на эту тему. Я не настаивал. Если она сумела вытеснить такие воспоминания, тем лучше, значит, они ее не обременяют. Кстати, это и у меня не самая любимая тема.
— Она скрывалась в Брабанте. У крестьян в деревнях в окрестностях Хертогенбоса. А в конце войны в семье железнодорожника, где было девять детей. Тоже в Хертогенбосе.
— Ее семью депортировали?
— Да, родителей и брата-близнеца. Беньямина. Меня назвали в его честь.
— Близнеца? Она никогда не говорила. Я думал, он был на несколько лет старше. А кто-нибудь у нее остался?
— Нет. В сорок восьмом она уехала из Брабанта, нашла работу в Амстердаме, в магазине тканей, и там встретила моего отца. Он был портным.
— Тут она наверняка все мне рассказала. А о том, как пряталась, она говорила?
— Нет. Очень мало. Изредка случаются приступы откровенности, когда она вдруг в панике рассказывает о чем-нибудь из тех времен. А потом опять долго ни слова. Иногда расскажет немного, как они с братом любили и понимали друг друга. А отец вообще ничего не говорил. Они делали вид, будто ничего не произошло. Так и не смогли все это преодолеть.
— Ты веришь в такие вещи?
— В преодоление? Да.
Фред сказал:
— Она до сих пор каждый день горюет о смерти твоего отца.
— Горюет? Может, ты и прав. Что ты еще знаешь, чего я не знаю?
— Что ты для нее — свет в окне. Она тебя обожает.
— Она и от тебя тоже без ума.
— Я ничего у тебя не выпытываю. Просто сказал, что она тебя обожает. А ты должен был сказать: как здорово!
— Как здорово, — повторил я.
Фред улыбнулся и положил свою руку на мою:
— Мы обязательно ее найдем. Вот увидишь.
Пышный обеденный зал «Марьяна» являл взгляду сталинский уют — блекло-красная плюшевая обивка, дымчатые зеркала. В углу весьма упитанные фанаты «Аббы», пытаясь подражать своим кумирам, терзали ветхие гитары «Эгмонд», допотопный синтезатор «Роланд» и ударную установку «Перл», которые еще при Тито пришли в полную негодность. С тем же успехом они могли бы играть на кухонной посуде, потому что звучало все это, точь-в-точь как грохот сковородок и бьющихся глиняных горшков. Группы солдат и британских моряков составляли нам компанию за высокими окнами, глядящими на огоньки паромов и пассажирского терминала на той стороне гавани. Еда напоминала вкусом мокрые газеты, но Фред с аппетитом смел все подчистую. Около полуночи мы добрались до своего номера. Я устал от дороги и крепкого красного хорватского вина, которого мы начиная с полудня выпили две бутылки.
Фред сопровождал свой сон целым концертом всевозможных звуков, и я глаз не смог сомкнуть. Часа в четыре я услыхал, как он встал и вышел из комнаты. Только после его ухода я мог спокойно спать, пока в семь часов, как я и просил, меня не разбудила дежурная. Фред так и не возвращался.
Через полчаса я встретил его внизу, в ресторане. Он уже позавтракал и разговаривал на неизвестном мне языке с официанткой, смуглой женщиной лет сорока, с черными как угли глазами и широкими бедрами. Они смеялись, и женщина обратилась ко мне, спросив, что я буду пить — чай или кофе. Скользящей походкой, точно бразильянка, она удалилась на кухню в ритме хорватской версии «Paloma blanca», давней голландской обработки Джорджа Бейкера на тему испанской песенки. Мировая слава этого опуса была сравнима с «Реквиемом» Моцарта, и Джордж заработал на ней несметный капитал. А я прекрасно знал, что написал он ее за какой-то час. Динамики в ресторане дребезжали как пустые консервные жестянки.
Я спросил Фреда, не по-русски ли он с нею говорил.
— Да, по-русски.
— И на скольких еще языках ты говоришь?
— Пожалуй, с десяток наберется. Мне это не стоит труда. Один умеет играть в шахматы, у другого абсолютный слух, третий любую бабу трахнет.
— Тебе не спалось?
— Я сплю максимум три-четыре часа. Сегодня ночью я дрых до крайности долго.
Все утро мы названивали по телефону, объясняя десяткам людей, что ищем пропавшую женщину. Потом ели на террасе «Адрианы» припахивающую илом рыбу и напряженно всматривались во всех пожилых женщин, появлявшихся на бульваре. Потом побывали в главном полицейском управлении, которое располагалось в квартале, сильно напоминавшем Иерусалим или Тель-Авив, — пылища, грязь, немощеные улицы с угловатыми побеленными домами и плоскими крышами, на которых лесом торчали антенны.
Принял нас инспектор, говоривший по-английски с резким американским акцентом. Сын хорватских эмигрантов, он десять лет работал полицейским в Детройте, а затем, преисполненный любовью к родине, вернулся в город, которого никогда не видел. Мы хотели выяснить, могла ли моя мама уехать из Сплита в Сараево. Без контактов с контрабандистами и без помощи ООН это исключено, сказал он.
Долгие часы мы искали в Старом городе, в этом лабиринте магазинчиков, кафе, ресторанов, бюро путешествий, частью встроенных в стены дворца Диоклетиана. Показывали фотографию моей мамы, но никто ее не видел.
Мы были не единственными, кто с фотографиями в руках обходил официантов и продавцов. Хорваты тоже искали родственников, пропавших в сумятице бегства, потерянных из вида, когда они пешком пробирались по вражеской территории.
Переулочки зачастую были не более двух с половиной метров шириной, окутанные сумраком высоких стен, возникших здесь будто по собственной воле. Здания разных эпох отличались друг от друга только числом этажей, а построены все они были из темно-серых камней, которые некогда добыли в горах римские рабы. За долгие века дожди и руки строителей так отполировали эти камни, что поверхность их блестела серебром, словно античные зеркала. Голубое небо пряталось за невидимыми крышами, оставляя переулки погруженными в прохладу и уступая место неоновой рекламе, зазывающей прохожих в подвальные магазинчики, где торговали обувью, брюками, а не то уникальными подлинными кувшинами из дворца («Подлинные? Черта с два», — сказал Фред).
Туристы избегали Балкан, но дворцовые галереи, соединявшие четыре маленькие площади с множеством уличных кафе, кишели народом. Из каждой двери доносилась музыка — от Мадонны до неведомых местных идолов, все столики заняты, ни единого свободного места.
За южной стеной дворца оказался большой рынок, тысячи покупателей плечом к плечу пробирались мимо лотков и телег. Изобилие овощей и фруктов, одежды и обуви. Тут и там среди лотков люди с наружностью учителей, журналистов или писателей продавали плитки шоколада и шлепанцы — серьезные люди в очках, чьи лица несли печать постигшей их судьбы.
После полудня мы вернулись на такси в гостиницу. Я стоял под душем, а в ушах все шумели звуки многолюдного города, глаза у меня покраснели от усталости. Мы по-прежнему ничего не знали. Я собирался часок вздремнуть, Фред сказал, что подождет в баре.
В семь часов он разбудил меня. Я спал дольше, чем планировал.
— Ты прямо как девчонка-подросток, — сказал Фред, — первый раз вижу человека, который может так дрыхнуть.
Я вытащил себя из глубины сна.
— Просто я жутко устал.
— Одевайся. Через полчаса мы должны быть в… черт, ну как же его… тут недалеко. У нас назначена встреча.
— С кем?
— Справа от гавани для яхт. Лучший ресторан в Сплите.
— Так с кем мы встречаемся-то?
— С Драженом Месичем. Вспомнил! Харчевня называется «Демитриум»!
Сплитская гавань для яхт была расположена в пятистах метрах к югу от «Марьяна». Большие и маленькие яхты, зримые символы благоденствия среднего сословия, покачивались борт к борту среди деревянных причалов. Мы прошли по берегу к «Демитриуму», низкому белому зданию на скальном выступе за гаванью.
Юнцы и девчонки, сидевшие на скамейках вдоль набережной, конечно же нашептывали друг другу вечные истины. Мужчины в кепках, с обветренными лицами, беженцы-крестьяне, с которыми мы уже успели кивком поздороваться в холле и коридорах гостиницы, пристально смотрели на большие суда в порту, что, распахнув носы, извергали из своего нутра автомобили и контейнеры. Солнце опускалось за холм Марьян. Вода плескалась о пирсы. Чайки давали свой неумолчный концерт. А я искал маму.
Утром Фред звонил Месичу. В свое время они сообща проворачивали в Амстердаме какие-то дела, а через несколько лет после смерти Тито Месич вернулся в родной город. Когда-то Фред помог Месичу. «Ну, как бывает в делах? Ты помогаешь ему, он — тебе». Но они потеряли друг друга из виду.
У входа в «Демитриум», до которого мы добрались по крутой извилистой дорожке, были припаркованы два блестящих «шевроле». Здоровенный вышибала, ростом чуть не на метр выше нас, загородил ресторанную дверь, но, услышав имя Фреда, согнулся, как цирковой клоун, и шагнул в сторону. Белый коридор вел к освещенному аквариуму и администраторской стойке из полированного ореха. Блондинка в узенькой юбочке встретила нас ослепительной улыбкой и пригласила войти, а затем мимо множества незанятых столов повела в глубину ресторана, к затянутой шторами стене.
— Хороша задница, а? — сказал Фред.
— Ты еще обращаешь на это внимание?
— А с каких это пор я ослеп?
Блондинка раздвинула шторы, и мы вышли на открытую террасу, озаренную пурпуром закатного солнца. Перед нами раскинулись гавань, город и далматинские горы.
Дражену Месичу было не больше пятидесяти пяти. Медвежьи плечи, бритая голова (видимо, он хотел скрыть растущую плешь). Шелковый костюм, явно созданный итальянским модельером, рубашка без воротника, мокасины из крокодиловой кожи. Перстни на пальцах говорили о пристрастии к крупному и заметному, как и у Фреда, который протянул руку, однако не затем, чтобы обменяться с Месичем рукопожатием.
Месич наклонился и поцеловал руку Фреда. При этом друг моей мамы даже бровью не повел, словно был знаком с этим ритуалом. Потом они расцеловали друг друга в обе щеки.
— Это Бен.
Я пожал Месичу руку.
— Привет, Бен, рад познакомиться, — сказал Месич на безупречном нидерландском. Хрипловатый баритон.
Пятеро мужчин за соседним столиком встали при нашем появлении, широко улыбаясь, меж тем как их глаза оценивали опасности, которые могли таиться у меня под мышками. У двоих было оружие — большие пистолеты с длинными магазинами, похожие на ручные пулеметы.
Мы сели за стол, Месич наполнил бокалы. Шампанское «Дом Периньон» по двести гульденов за бутылку. Фред говорил с ним на сербохорватском, или, может, это был болгарский или албанский? Я ждал, когда мне позволят присоединиться к разговору. Кто же такой Фред? Что за прошлое соединяло этих людей? У моего отца был клиент, с которым он говорил на идише, и тогда я смотрел на его глаза и рот, спрашивая себя, не заколдовано ли все в его голове.
Блондинка расставила на столе тарелки, три серебряные мисочки с черной икрой, сметану, горячие блины.
— Иранская, — сказал мне Месич, — Миттеран в Париже такой не достанет.
На той стороне бухты зажглись огни на бульваре и окна многоэтажек на холмах за Старым городом. Моя мама выбрала это место сознательно, и я хотел знать почему. Сараево. Буковар. Мостар. Тузла.
Мы ели икру, и я слушал язык, которого не знал.
Фред положил руку мне на плечо:
— У Дражена есть идея насчет твоей мамы.
Бритая медвежья голова кивнула:
— Мы тут слышали об одной женщине. Возможно, она и есть та, кого вы ищете.
Люди Дражена Месича разыскивали мошенника, который хвастался в одном из кафе, будто захватил нидерландский серебряный флот[6], и в ожидании результата мы продолжили наутро собственное расследование — ходили по больницам, стоянкам такси, расспрашивали гостиничных служащих.
До сих пор Фред был энергичнее меня. Во время ужина с Месичем он без видимых последствий выпил изрядное количество спиртного, но утром в ресторане я опять встретил его в обществе темноволосой официантки. Он беседовал с ней, сверкая глазами и оживленно жестикулируя.
Ближе к полудню Фред начал сдавать. Около почты на окраине Старого города мы поймали такси, и он уехал в гостиницу, часок отдохнуть. Я решил искать дальше. Меня грызло беспокойство.
В здании почты располагался современный компьютеризированный центр связи с новенькими телефонными кабинами. Мне тотчас предоставили свободную линию, и я позвонил Инге.
Она соскучилась по мне. Я по тебе тоже. Когда вернусь, мы как следует поговорим, без обиняков, без шуточек, и забудем тот кошмар с Рут. Я рассказал ей, что мы успели сделать, и спросил, посмотрела ли она ту кассету с боснийской беженкой. Пока нет, и она считает, что я напрасно придаю этому такое значение. То, что случилось с моей мамой, — итог долгого процесса, в котором сыграла роль и ее болезнь. Инга хотела прислать мне статью, которую все-таки успела закончить в срок; в голосе ее слышалось облегчение. Я продиктовал ей номер гостиничного факса, а затем пошел на Народни-Трг, маленькую центральную площадь Града, размышляя по дороге, была ли близость Сараева единственной причиной, приведшей мою маму в этот город, но, кроме той телепередачи, никаких аргументов в пользу этого не нашел.
Мимо заброшенных бюро путешествий и пустых магазинчиков со снаряжением для аквалангистов я возвратился в гостиницу.
Жаркий день на побережье Адриатики. Вода в гавани лениво плескалась о корабли, стоявшие на якоре у пассажирских причалов. С моря задувал теплый соленый ветер. В нескольких часах езды отсюда находился город Мостар, где в такой же вот день год назад хорваты и мусульмане убивали друг друга.
Когда я вернулся в гостиницу, меня ждал факс от Инги. О кризисе в нидерландском «кассовом» кинематографе. О нехватке таланта, о нехватке зрителей.
Открыв дверь номера, я услышал музыку. Голый Фред лежал на постели, а темноволосая официантка, стоя на коленях возле кровати, держала во рту его весьма внушительный член. Волосы падали ей на глаза, поэтому она не увидела меня. Голова ее ритмично двигалась вверх-вниз, руки обхватывали влажный член Фреда. Из встроенного в тумбочку радио звучал местный вальс, наподобие слезливого немецкого шлягера. Лишь через несколько секунд до меня дошел смысл этого зрелища. Вероятно, официантка за деньги согласилась оказать ему этакую услугу. Вот что у него означало «часок отдохнуть». Он обманывал мою маму.
Наконец Фред заметил меня. Не делая поползновений привлечь внимание официантки к моему присутствию, он сердито взмахнул рукой: дескать, уходи отсюда.
Я устроился в холле, в том баре, которого беженцы избегали по причине западноевропейского уровня цен, и заказал рюмку водки. Через десять минут на соседний табурет взгромоздился Фред. Одевался он явно в спешке и был непричесан.
— Мне надо было запереть дверь, — сказал он.
— Она была заперта, но у меня тоже есть ключ.
— Надо было подставить стул.
— А ты еще здорово силен кое в чем, Фред, для твоего-то возраста.
— Завидуешь?
— Мне интересно, знает ли мама о твоих похождениях.
— А зачем все рассказывать друг другу?
— Потому что мама хочет знать все. Потому что она честная и скрывать ей нечего!
— Ты плохо знаешь свою маму, Бенни. Бармен! Что ты пьешь?
— Водку.
Он показал на мою рюмку и на себя. Бармен кивнул.
— Может, она умерла, Фред, а что делаешь ты? Даешь первой попавшейся официантке немного деньжат, чтобы облизать твой хрен.
— Первая попавшаяся официантка — профессор физики и математики. Беженка.
— Так это, оказывается, было исследование элементарных частиц? Поздравляю.
— Остроумно, Бенни.
— Я считаю, это мерзко по отношению к маме.
— Ты не знаешь свою маму.
— Она без ума от тебя. Она верна тебе. И если б узнала, что ты ей изменяешь, она бы никогда этого не вынесла.
— Бенни, не пори горячку. Она всегда делала то, что хотела. И теперь ведь тоже?
— Но не это. Она не такая.
— О да, мой мальчик.
— Ты у нее первый после отца. Она не из тех, кто путается со всеми без разбору.
— Бенни, прошу тебя.
— Если я не прав, то скажи!
— Ты не захочешь это слышать, Бен.
— Я хочу слышать все.
— Но не это.
— Какая темная сторона моей мамы тебе известна? Что врать-то, Фред!
— Бенни, мальчик мой, ты знаешь, почему она тогда в первый раз уехала? Очертя голову, одна на автобусе в Париж? Ради Лувра? Ради роденовского «Мыслителя»? Ради металлоконструкции Эйфелевой башни? Вранье это, Бенни! Знаешь почему? Именно это она рассказывала мне о своих путешествиях: потому что ей хотелось мужика! Мужика! Когда твоя мама приезжает в Барселону, или в Стокгольм, или в Милан, она звонит в классное эскорт-бюро и приглашает лучшего жиголо. Который может целовать ее, как настоящий мужчина, может ласкать ее, как настоящий мужик, может трахнуть ее, как настоящий мужик, может заставить ее кон…
— Заткнись, слушать тебя не хочу!
Нам обоим подали водку, но Фред встал.
— Absit reverentia vero, — сказал он и ушел. Правду скрывают не затем, чтобы кого-то пожалеть.
Я выскочил на улицу, солнце ударило мне в глаза. Я стыдился того, что услышал. И стыдился собственной наивности, с какой годами смотрел на маму. Как будто она была бесплотным устройством, кухаркой, у которой есть голос, эфирным созданием, которому хватало «будничной структуры».
У гостиницы остановился один из «шевроле» Месича, и из него вышел громила, охранявший вход «Демитриума». Увидев меня, он улыбнулся и протянул расслабленную руку, словно боялся, что крепким пожатием раздавит мои пальцы. В машине работал кондиционер, и на лице у него не было ни капли пота.
— Есть новости. Наши друзья на той стороне взяли парня, который обманул вашу маму.
— На той стороне?
— В Анконе.
— Где моя мать?
— Вас отвезти?
— Да, спасибо.
— Садитесь.
Пассажирский вокзал Сплита расположен рядом с пассажирским терминалом порта. Это конечная станция, где локомотивы отцепляют и все обязаны выйти из вагонов. Транзитных пассажиров здесь нет.
Товарная станция находится в другом месте, в северной части полуострова, возле гаваней, где причаливали грузовые суда, — туда-то и вез меня помощник Месича, рассказывая о некоем Славко, обитателе крохотной комнатушки в обшарпанном доме в Вели-Варосе, недалеко от Града, старого района около дворца.
Этот Славко проклинал войну. Ни туристов, ни клиентов. На пляже за вокзалом он заводил знакомства с девушками — англичанками, немками, голландками. Рассказывая о своей богатой жизни пилота, журналиста, хирурга или миллионера, он околдовывал их своей белозубой улыбкой и красивыми латинскими глазами. Танцевал с ними в одной из туристских дискотек и трахал под деревьями Марьяна, укладывая голыми ягодицами прямо на пахучую траву. «Эвкалипт», — пояснил громила. Славко придавал большое значение, считал, так сказать, делом «профессиональной» чести услаждать девушек своими природными талантами. Как правило, их страстные стоны доносились до орбиты Юпитера. «Или Плутона, это уж как вам больше нравится», — сказал телохранитель Месича. Всего через час туристки становились его рабынями.
В конце недели бесконечной любви и серьезных брачных планов мать Славко внезапно попадала в тяжелую аварию. Деньги со счета в банке сегодня снять невозможно, а ему нужно срочно дать взятку врачу. Ослепленные любовью девушки предлагали ему свои отпускные деньги — тысячу гульденов, тысячу двести марок, пятьсот фунтов, — он же упорно отказывался от денег, которые предлагали ему взаймы страстные возлюбленные. Но в конце концов, растроганный до слез, «переполняемый любовью к матери», он принимал помощь, с условием, что завтра непременно вернет долг. Затем он исчезал в Сибенике, Задаре или каком-нибудь другом городке на побережье, где его ждала очередная сказочная секретарша или медсестра, грея ножки в горячем песке и пряча под цветастой блузкой твердые от желания соски.
Я спросил, что же было в межсезонье.
По словам громилы, тогда Славко ошивался в заведениях вокруг гавани, выпивая стаканчик-другой с таможенниками и портовыми рабочими. Среди них у него были надежные информаторы. Ящик с автозапчастями или электроплитками, мешок кофе. Ночью он забирался в незапертый пакгауз, а потом отвозил добычу перекупщикам — в деревни, расположенные далеко от туристских маршрутов, туда, где мужчины, обрабатывая землю, не расставались с оружием и где из поколения в поколение вершилась кровная месть. Своим информаторам Славко платил исправно.
Время от времени Славко становился обладателем крупной суммы. Тогда он садился на паром до Анконы, снимал комнату в отеле «Плаза», покупал два-три костюма и пьянствовал, играл и трахался до тех пор, пока управляющий отеля не конфисковывал костюмы, не выгребал из его карманов последние гроши и не вышвыривал его на улицу. Однако же у Славко были в Анконе и другие планы, о чем мой опекун знал. Он владел беспроигрышной системой игры в «блэкджек», верной подсказкой на ипподроме, крапленой картой на бегах борзых. «Мечта проходимца».
На пароме, мучаясь страшным похмельем, без денег, Славко спрашивал себя, зачем он навлек на свою голову это наказание. По возвращении в Сплит он плелся в базилику Св. Домна в самом сердце старого дворца и, переполненный раскаяния, ставил на могилу римского императора чадящие свечи. «Вот такие мы, грешные католики».
На этот раз Славко не искал жертву. Она сама выбрала его, «по крайней мере, так он рассказывал моим коллегам».
Славко шатался по пустому вокзалу возле гавани и встретил пожилую женщину. Поезда в Сплит больше не ходили, и пассажиров, только что сошедших с парома, — хорватов, которые когда-то купили или получили итальянский вид на жительство, — перевозили автобусы.
Женщина стояла посреди тротуара, пристально глядя на корабли. Она была опрятно и хорошо одета, но в ее глазах он прочел («Парень очень хорошо разбирался в людях, но забывал обо всем, когда смотрел в зеркало», — ухмыльнулся громила), что она искала что-то, чего в этом мире нет.
— Сараево, — сказала она, — автобус в Сараево.
Славко узнал этот язык, потому что облапошил не один десяток молодых женщин из этой богатой страны. Только раньше он никогда не связывался с пожилыми женщинами. Ей было по меньшей мере шестьдесят, и она была во власти какой-то болезненной идеи.
— Нет автобус, — ответил он на собственном варианте нидерландского языка, весьма несовершенном, но вполне пригодном для обольщения и строительства воздушных замков, — нет поезд, ничего нет Сараево. Что Сараево?
Она пришла в восторг оттого, что встретила человека, говорящего на ее языке, и рассказала, что хочет попасть в Сараево, чтобы помочь тамошним людям.
— Сараево нехорошо. Война.
Так поступал он всегда. Этого требовала его католическая совесть. Сначала предупреждал, держался на расстоянии, а соглашался только после долгих уговоров. Они сами настаивали. Сами его умоляли.
Эта женщина знала о войне. Потому-то и хотела туда, в Сараево. Он объяснил, какова там ситуация — осада сербов, голод и болезни, беспомощность ООН, — но она стремилась помочь, действительно помочь. Искала способ облегчить людское горе.
Славко поборол себя и предупредил ее, что кругом полно мерзавцев, обманщиков, аферистов.
— Люди нет хороший. Нет честный. Осторожно.
— Но я хочу сделать что-нибудь. Я не могу допустить того, что происходит. Мир бездействует, а люди умирают. Как раньше.
— Идем пить. Жажда?
Она отказалась пойти в кафетерий возле закрытого зала ожидания, и он повел ее в кафе на бульваре. Лимонад и сандвич. Лучше бы ей уехать домой, сказал он, женщине опасно одной находиться в стране, где идет война. Конечно же, он надеялся, что она останется и не примет его предупреждения близко к сердцу, но протокол следовало соблюдать.
— Здесь так спокойно, — сказала она удивленно. — Как такое может быть? У вас война, люди в Сараеве мрут как мухи, а вы делаете вид, будто ничего не происходит.
Славко рассказал, что его эта война измучила (это была правда) и что он руководил группой сопротивления, которая поддерживала жителей Сараева (а вот это было вранье).
— Я хочу помочь. Расскажи мне, как я могу помочь.
— Medi… — Он поискал нужное слово и наконец сказал по-английски: — Medicine.
Она поняла:
— Лекарства?
Славко кивнул. Она покачала головой:
— Лекарствами защищаться нельзя.
Умная женщина, но все же немного сдвинутая.
Обостренное чутье нашептывало ему, жужжало на ухо, чего она хочет, что движет и властвует ее жизнью.
— Сегодня вечером говорить, — сказал он. — Хорошо? Но осторожно. Плохой человек слушать. Только ты и я.
Они встретились у нелепого памятника епископу Гргуру Нински, который еще в десятом веке был хорватским националистом, и Славко повел ее в «Код Йозе», свой любимый ресторан в те времена, когда у него водились деньжата. Сегодня он решил сам вложить начальные средства. Если не считать нескольких толстяков из числа бывших партийных боссов, которые заблаговременно успели переписать недвижимость на свое имя, ресторанчик был пуст, как он и ожидал. Крохотный оркестрик подыгрывал слащавым чувствам, меж тем как Славко в глубине средневекового подвала, где располагался ресторан, рассказывал о тайных контрабандных путях в Сараево, о том, как его группа сопротивления доставляла оружие защитникам города и забирала оттуда больных и раненых. Он рассказывал о героизме и самопожертвовании, о слезах и боли, об освобождении и спасении. Он превзошел сам себя, и после того, как была съедена свежая рыба, запеченная со всевозможными овощами, Аннеке Эйсман окончательно прониклась к нему доверием. Славко пригласил ее на танец и ощутил под своими наманикюренными пальцами ее маленькое хрупкое тело. Она шепнула, что хочет вступить в его группу и оплатить партию оружия. Когда же он проводил ее обратно к столику, она открыла сумочку и показала пачки банкнотов.
— Сто семьдесят пять тысяч гульденов, — услышал он.
Это был его день. Этого Славко ждал всю жизнь.
Выследить его не составило труда. За два дня он истратил в Анконе десять тысяч гульденов, а остальные деньги они нашли в его багаже. Славко ничего не утаил от упорных допросчиков.
Мама сняла комнату у одной семьи в Вери-Варосе, том же районе, где жил и Славко. Мой спутник только что побывал там и выяснил, что мама все еще на посту возле товарной станции Предграде. Господин Месич считал, что лучше всего мне самому поговорить с ней.
Громила обещал оставить для меня в отеле один из своих сборников стихов, «на память». Он был прославленным поэтом, голосом хорватской души, как он мне доверительно сообщил. Видимо, стихи, как и убийства, были на Балканах излюбленным увлечением.
Товарная станция располагалась на бетонной окраине среди фабрик, складов и пакгаузов, которые, несмотря на летнее солнце, напоминали амстердамский район Бейлмер под дождем. Ржавые рельсы ныряли здесь под землю, шли в тоннеле под центральной частью города и возле пассажирского терминала снова выходили на поверхность.
Аннеке Эйсман ждала, повернувшись спиной к дороге, у бензоколонки слева от здания вокзала, в тени навеса. Одну руку она держала на спине, у поясницы, — привычный жест: она прижимала ладонь к месту, где чувствовала боль. Под палящим солнцем с ревом мчались мимо грузовики, выпуская черные клубы выхлопных газов, я вышел из машины громко позвал ее по имени. Мой голос утонул в дорожном грохоте. Я видел, как мамина рука двигается, массируя то место, где обезумевшая часть ее плоти пожирала печень и желчный пузырь, а она продолжала внимательно смотреть на железнодорожные пути. Я готов был ринуться в поток грузовиков, но поэт отечески удержал меня, опасаясь, что я кинусь прямо под колеса, и я снова и снова тщетно выкрикивал ее имя. На ней были синее платье в белый цветочек и темно-синие туфли на каблуках. В левой руке она держала ремень дорожной сумки, которая висела у ее щиколотки.
— Мама! Мама!
Рев дизелей заглушал мои слова. Огромный медлительный тягач перекрыл поток транспорта, и громила отпустил меня:
— Yes, now[7].
Я прыгнул в черное облако, выпущенное древним грузовиком, и рванул на противоположную сторону.
Она обернулась еще прежде, чем я добежал до нее, словно кого-то почувствовала. Потом она сердито закрыла глаза, но я успел разглядеть ее взгляд, полный невинности и ожидания, нежный и ласковый, как у девушки, которая ждет своего принца.
Пыль и сажа от проезжающих машин покрывали ее лицо, но она все равно была красива, неподвластна времени и, несмотря на боль в спине, держалась прямо.
При виде меня она покачала головой и опустила глаза, словно я в который уже раз надоедал ей. Твердой рукой она подвела брови, безукоризненно тонкие линии над глазами, и яркой красной помадой накрасила губы, которые раньше отвечали на любовь папы. Она выглядела так, будто ей чуть больше шестидесяти.
— Мама, что ты здесь делаешь? Мы так волновались! Ты уехала, ничего не сказав, мы весь город, всю страну на ноги поставили, пока узнали, где ты находишься! Мама, ну что же это такое?
Она подняла взгляд, и я заметил, что белки ее глаз подернуты легкой желтизной — симптом той самой карциномы. Не веря себе, она посмотрела вверх, ища поддержки у неба, окутанного выхлопными газами.
— Этого я и боялась, — сказала она, — так я и думала: он поедет меня искать, он меня выследит. И вот пожалуйста, он тут как тут.
Мама нарочно причинила мне боль, мне, любящему сыну, который совершенно не понимал свою упрямую мать. Вблизи я разглядел морщины на тонкой коже ее лица, мелкие старческие волоски, с которыми она боролась, невинную мудрость ее взгляда.
— Ну конечно, я здесь! — крикнул я. — Едем со мной, мам? Там ждет машина, она отвезет нас в гостиницу.
Она решительно покачала головой. Волосы у нее были жесткие от лака, она сделала модную прическу — для Фреда, для меня, для зеркала, для освободителей Сараева.
Я крикнул:
— Что ты здесь делаешь? Рядом с вонючей заправкой, в выхлопном дыму, возле вокзала, где не ходят поезда?
— Я должна быть здесь.
— Для чего, мам?
— Это мои дела.
— Нет, к этим делам и я имею отношение! Что ты здесь делаешь? Ну, скажи хоть что-нибудь!
Она вздохнула, и мне показалось, что у нее закружилась голова и она сейчас упадет. Я обнял ее, чувствуя, как ее хрупкое тело ищет поддержки.
— Мама, ну что ты здесь делаешь? Ты же заболеешь. Поедем в гостиницу. Примешь ванну, и мы пойдем пообедать.
— Я не хочу есть, — сказала она сердито, но прислонилась ко мне, измученная своим ожиданием.
— Так нельзя, мам.
— Я здесь ради чего-то очень важного.
— Ради чего?
— Ах, тебе этого не понять.
— Объясни, может быть, я все-таки пойму.
Она повысила голос и посмотрела на меня сторогим взглядом:
— Когда я тебе позвонила, ты тоже не понял!
— Когда позвонила? После передачи «Нова»?
— Ты не понял.
— Я же не знал, что ты увидела, мам!
— Я здесь, вот что важно.
И в доказательство, что сознательно выбрала это место, она бросила взгляд на заброшенную товарную станцию.
— Кого ты ждешь?
— Человека, которого ты не знаешь и не узнаешь никогда, потому что сейчас же по-хорошему отсюда уедешь. — Она демонстративно смотрела мимо меня, на тяжелые грузовики с ревущими моторами. — Я остаюсь. А ты все испортишь.
У нее было жалобное выражение лица, она сетовала на мою глупость.
— Все уже испорчено, мама.
— Откуда тебе знать? Я должна быть здесь, Бенни, оставь меня в покое.
— Нет.
— Я не могу сейчас уехать. Это слишком важно. Поверь.
— Я верю, что ты делаешь важное дело, но это все равно невозможно.
— Если каждый будет так думать, то ничего и не произойдет.
— А что должно произойти?
Она подождала, набирая воздуху, чтобы объяснить мне главное, и я чувствовал, как вздымается ее маленькая грудная клетка.
— В людей стреляют, а никто даже пальцем не пошевелит.
— Так ты хочешь пошевелить пальцем?
Большие обиженные глаза мамы посмотрели на меня.
— Да, а что, это так странно?
— Нет. Только, пожалуй, ты выбрала странный способ.
— А есть другие способы? Мы сидим перед телевизором и смотрим, как стреляют в таких же людей, как я и ты! Их стреляют как собак! Как собак, Бенни! Партизаны сидят в горах, а людей в городе стреляют как собак! А ведь в этом городе все жили вперемешку, католики, мусульмане, сербы и евреи тоже, сотни лет жили, Бен, а теперь они стреляют из орудий и ракетных установок — что же делает мир? Мир смотрит, как бандиты снова становятся хозяевами. Прекрасный мир, да, Бенни?
В ее взгляде сквозила боль.
— Так что же ты собираешься сделать?
Она не слушала меня, просто бросала мне в лицо свои неистовые слова:
— Они даже не могут себя защитить, понимаешь? В них стреляют на глазах у солдат Объединенных Наций, а они даже не могут купить оружие, чтобы защитить себя! Как, по-твоему, что было бы в ту войну, если бы узникам концлагерей сбросили оружие на парашютах! Как, по-твоему? Они бы освободили себя! А сейчас — опять то же самое! Так нельзя!
— И ты решила: я поеду и помогу там с оружием.
Она задохнулась и несколько секунд молчала, ожидая, пока дыхание успокоится. Покачала головой, закрыла глаза. Я обнял ее обеими руками.
— Не будь таким отвратительным, — прошептала она. — Ты знаешь, так нельзя.
— А как тогда можно?
— Сам подумай, или ты уже не знаешь, как это делается? — В ее голосе звучал сарказм.
— Я стараюсь изо всех сил, — сказал я.
— Как? Песенки пишешь для конкурса?
Ее замечание хлестнуло меня, словно удар бича.
— Ты хочешь купить оружие, — сказал я.
— Ты большой умник.
— У кого, мама?
— У меня есть связи. — Она говорила небрежно и высокомерно, словно терпение ее иссякало.
Земля дрожала под тяжелыми машинами, грязный воздух щипал глаза и нос. Она ждала здесь уже второй день.
— Славко? — спросил я.
В ее глазах мелькнула неуверенность, она отстранилась от меня, отпрянула назад.
— Откуда ты его знаешь? Что ты вообще об этом знаешь?
— Славко не тот, за кого себя выдает, ему нельзя доверять, мама.
Она слушала меня сердито и недоверчиво.
— Ты ничего не знаешь. Не знаешь этого человека и болтаешь ерунду.
— Он мошенник, мама, он зарился на твои деньги.
— Нет! Ты врешь! Ты просто хочешь, чтобы я отсюда уехала.
— Славко сейчас в Италии, мам. На твои деньги он жил в шикарном отеле, пил дорогое вино и развлекался с женщинами. Это же Славко, мам.
— Нет! Неправда! Он купит для меня оружие! Его привезут сюда! На поезде! А потом мы перевезем его на грузовиках в Сараево! Ты врешь!
Она попыталась силой перечеркнуть собственные сомнения, высказанные мною.
— Славко — проходимец!
— Неправда!
— Нет, мам, все-таки правда.
Она умоляюще посмотрела на меня, будто не понимая, почему я, любящий сын, упорно продолжал ее мучить.
Я спросил:
— Когда он должен был появиться здесь, мам?
Она наклонила голову, в поисках опоры прислонилась ко мне. Сквозь прическу просвечивал череп. Мне вспомнилось, какие пышные локоны были у нее тридцать лет назад. Тогда густые, блестящие волосы служили рамой ее ярким глазам, она сильными руками ставила передо мной еду, натягивала на меня свитер, утирала мои слезы. А теперь я рассказывал ей правду.
— Ведь он должен был еще позавчера быть здесь, верно? Он же так сказал? А разве он появился? Ты дала ему деньги, он обещал организовать для тебя перевозку оружия, а сам исчез.
Она зажмурила глаза и как брошенный ребенок упала в мои объятия. Я чувствовал, что она плачет, но грохот машин заглушал ее всхлипывания.
После возвращения из Сплита я еще раз посмотрел ту программу, вместе с Ингой.
Боснийская женщина… Вместе со всей семьей сербские солдаты выгнали ее из дома, а отец велел ей бежать и для этого на рыночной площади отвлек внимание солдат, прикинулся сумасшедшим, забегал на четвереньках, залаял по-собачьи… Эта женщина никогда больше не видела свою семью.
Ее слова услышала моя мама.
Я ждал случая поговорить с мамой о той боснийской женщине. Домашний врач назначил маме валиум и снотворное, и я не хотел еще усугублять ее фиаско надоедливыми рассуждениями о побудительных причинах этой поездки. Придется молчать, пока она сама не заговорит об этом.
Она до сих пор не позволяла Фреду переступить порог ее дома, а когда отказалась переехать ко мне в Хилверсюм, мы уговорили ее перебраться в квартиру Фреда и всячески там баловали. Фред заказывал на дом шикарные ужины, закупал продукты в любимых ее магазинах, но она едва притрагивалась ко всему этому и словно бы вдруг забыла мой номер телефона. Теперь я сам то и дело хватался за трубку. Пытался успокоить себя, слушая ее голос.
— Ты хоть что-нибудь ешь? — спрашивал я.
— Да, — лгала она.
— Я тебе не верю.
— Не слушай Фреда. — Козыри, как всегда, были у нее. — Он решил меня раскормить, думает, будто я на шахте работаю. Я достаточно ем, поверь мне.
Через десять дней после возвращения печень у нее воспалилась. С высокой температурой и режущими болями ее положили в Центральную больницу Амстердама. Обследование показало, что рост карциномы не прекратился, как я отчаянно мечтал весь минувший год, и теперь желчный проток оказался перекрыт, а это было опасно для жизни. Чтобы печень продолжала функционировать, ей сразу же, как только был поставлен диагноз, сделали операцию — вставили в проток трубочку.
Кожа у нее приобрела коричневато-желтый оттенок, а поскольку врачи держали ее только на внутривенных вливаниях, она за несколько дней похудела на четыре килограмма. Говорить с ней было невозможно. Для обезболивания ей кололи морфин, и она парила в коматозном сне. Через неделю наступило заметное улучшение: она проснулась и по нескольку часов кряду с интересом следила за событиями в мире по газетам и по телевизору. Морфин ей отменили. Она разговаривала с персоналом, с Фредом и Ингой, и, когда через желудочный зонд ей стали вводить витамины и минералы, кожа ее посветлела.
Каждый день мы с Фредом подолгу сидели у ее койки и держали ее за руки. У нее хватало сил, чтобы разговаривать сидя.
О чем мы говорили? О рекламных роликах. О джинглах. О том, собираюсь ли я снова писать для «Black & White». О последних сериях «Дерзких». Мне хотелось спросить, что же значили для нее тогда те телевизионные кадры, но ее взгляд запрещал мне заикаться о Боснии и о том, что было тогда.
Лечащий врач и больничный терапевт тоже заметили несокрушимую силу, которую я, как мне казалось, видел в ее глазах. Трубочка делала свое дело. Так мама могла прожить еще как минимум год. Я дал себе слово больше не доверять врачам. Буду руководствоваться интуицией, приобретенной за без малого сорок лет обучения в Институте Мамоведения. Что какой-нибудь терапевт способен разглядеть в сложных взаимодействиях тела и духа Аннеке Эйсман?
Она снова начала шутить, и некоторые медбратья выходили из ее палаты, краснея и прыская от смеха («Я сказал: вам нужно поспать, госпожа Вайс, а она отвечает: только если ты ляжешь рядом со мной»); кроме того, у нее опять появился интерес к собственной внешности. Инге было велено принести ее косметичку. Когда я помогал медсестре катить ее койку в рентгеновский кабинет, она сказала:
— Фотографироваться? Но, Бенни, я без вставной челюсти.
Я ждал с моими жгучими вопросами, когда она сможет спуститься вниз, в больничный холл, и пожаловаться в тамошнем кафетерии на Арафата или Гельмута Коля.
Однажды, обсудив с персоналом «домашний уход», который потребуется после выписки из больницы, я застал ее сидящей на стуле, в очках, с причесанными волосами и с румянами на щеках.
— Мама, ты прекрасно выглядишь. Через две недели ты снова будешь дома.
Она подняла взгляд от своего журнала, это был «Фрей Недерланд».
— Ты врешь.
— С какой стати мне врать? Я уже договорился обо всем, что понадобится, когда ты опять будешь дома. Каждый день тебе будут помогать, на первых порах круглые сутки, помогать во всем, пока ты не окрепнешь и не сможешь делать все сама.
— Я тебе не верю.
— Клянусь. Твоим и моим здоровьем.
Такая клятва была священна. Она поверила мне, и по ее губам скользнула девичья улыбка.
— Когда? — спросила она.
— Они думают, в конце следующей недели.
Она потянулась ко мне, и я нагнулся, а она крепко поцеловала меня в лоб и спрятала личико у меня на плече.
— Когда ты поправишься, мы устроим праздник.
Я почувствовал, что она кивнула.
— И тогда ты наконец разрешишь Фреду войти в дом.
Она отпустила меня и помахала указательным пальцем перед моим носом.
— Что со мной на самом деле? Скажи честно, Бен.
Я не знал, чего она ждала — правды или лжи.
— У тебя какая-то бородавка на печени. Она перекрывает проток, поэтому тебе было так плохо, когда тебя привезли сюда. Но они провели через бородавку трубочку, чтобы твоя печень могла по-прежнему очищать кровь. Они все проверили, кровь у тебя хорошая, печень работает, а почки как у молоденькой девушки.
Широко раскрыв глаза, переполненная доверием к моим словам, она слушала всю эту ахинею.
— Бенни, — сказала она, — я как раз подумала: а почему жилетку? Ты ведь никогда не носишь жилеток?
Мое объяснение ее удовлетворило. Больше ничего не требовалось. Речь шла не о правде. Речь шла о ритуале. Жилетка.
— Мам, я как раз потому и не ношу жилеток, что у меня их нет.
— А если у тебя будет жилетка? Ты станешь ее носить?
Какая разница. Если понадобится, я готов на коленях ползать, умоляя подарить мне жилетку.
— Стану.
— Не верю я тебе.
— Я буду носить эту жилетку, ведь ее мне подаришь ты.
— Синюю жилетку без рисунка?
Она помнила даже это. Я кивнул, преисполненный надежд.
— А знаешь, какая тебе пойдет? Бордовая с мелким черным рисунком.
Я кивнул. Она взяла меня за руку и ободряюще пожала ее, как будто именно я нуждался в поддержке.
— Как все будет дальше?
— Что, мама?
— Там. Люди. Война.
— Мы должны им помочь, — сказал я.
— Ты это сделаешь?
— Да.
— Обещаешь?
— Да.
Когда я днем вернулся в больницу, ей после приступа боли ввели морфин, и она уснула. Она бредила, твердила, что они с Беньямином ходили по магазинам, покупали подарки для мамы.
На следующее утро у нее отекли руки и ноги. Влага сочилась сквозь кожу. Пальцы бессильно лежали на испачканной простыне.
Врачи запретили ей есть, Фред попытался дать ей витамины, но она не могла глотать. И пряталась от нас в глубоком сне.
Когда я был рядом с нею один, без Фреда или Инги, я приподнимал ее веки и видел пустой взгляд. Где она была? Может быть, она уже попрощалась?
Я продолжал разговаривать с ней о моей работе и о великолепном выборе жилеток в «The English Hatter», шотландском магазине на улице Хейлихевех, где продавался трикотаж фирмы «Уильям Локки». Когда жидкость начала скапливаться и в легких, дыхание у мамы стало тяжелым и усталым. Мы сидели рядом с нею и в отчаянии бодро разговаривали друг с другом, меж тем как ее хрупкое маленькое тело растворялось в космической боли.
Мне хотелось еще так много узнать, но она не дала такой возможности. Может быть, после той неудачи в Сплите ее дух решил предоставить карциноме свободу? В чем заключена связь между телом и силой воли? Болезнь развивалась так, как предсказывали врачи, но я не мог избавиться от мысли, что она сама решила повернуться к миру спиной.
Она умерла в понедельник ночью, около четверти третьего, когда мы с Фредом оставили ее на минутку, чтобы выпить кофе внизу, в величественном холле Центральной больницы.
Погожим днем, под сенью пышных белых облаков и разводьев дивной лазури, после каддиша мы оставили ее в болотистой земле еврейского кладбища в Димене, рядом с моим отцом. Воздух благоухал скошенной травой. Вдалеке мчались машины, спешили в Хиверсюм. В небе ревел «боинг».
Вместе с Ингой я убрал дом, ища секреты, скрытые знаки, тайные стороны еврейки-мамы, которая вырастила меня.
У нее в спальне, в набитой бумагами коробке из-под обуви, мы нашли подсказку. Среди старых документов — а были там ипотечные акты, бумаги страховой компании, паспорт моего отца — лежал талончик к психиатру.
Бумажка была двадцатилетней давности, и я знал имя этого психиатра: он лечил пациентов, страдающих от военных травм.
Я позвонил ему, рассказал о смерти мамы и о предшествующих событиях.
Его кабинет был обставлен в пятидесятые годы, и с тех пор там ничего не изменилось. Добротная, прочная мебель, хранившая живую память о временах ясности, уверенности в себе. Психиатр оказался высоким человеком с пальцами музыканта и взглядом циничного позитивиста.
Да, конечно, он лечил мою маму. После смерти моего отца она обращалась к нему за помощью и на протяжении многих лет бывала у него как минимум раз в неделю (визиты прекратились после ее поездки в Париж, быстро подсчитал я).
В 1942 году ей было двадцать два.
В Брабанте она работала на фабрике, была прислугой, продавщицей, но, поскольку закон запрещал неевреям нанимать евреев, осталась без работы и помогала своей маме по хозяйству, что бы при этом ни имелось в виду.
В конце 42-го их с Беньямином схватили на улице нидерландские полицейские и отвезли на вокзал в городе Хертогенбос. Но ей удалось сбежать. Беньямин пожертвовал собой.
Беньямин нарочно привлек внимание к себе. Охранники опешили, когда он на перроне прикинулся сумасшедшим, а Аннеке бросилась через железнодорожные пути, помчалась по лугам к деревушке Энгелен, где наудачу постучала в дверь церкви, и тамошний пастор, человек честный и порядочный, спрятал ее.
С тех пор Аннеке избегала вокзалов. Ни разу она не села на поезд, ни разу ее нога не ступала на Центральный вокзал, ни разу она не сидела за столиком вокзального ресторана. Мне она говорила, что всегда путешествует автобусом или самолетом, так как не любит стук железа о железо. Но поезд был для нее табу. На всех перронах всех вокзалов Беньямин изображал сумасшедшего, спасая свою сестренку-близнеца. Я сказал всем рекламным знакомым, что в ближайшее время меня не будет. Записные книжки извлечены из заключения в ящике и теперь беззащитно лежат на «Роланде». Я пишу то, что дерзко называю «Серенада № 1». Я пишу музыку для моей мамы.
Когда я вижу кадры боснийской войны, я слышу, как она с болью жалуется, что бандиты празднуют победу, а просвещенный мир смотрит на это и бездействует. Вооруженный ручкой и фортепиано, в бордовой жилетке с черным рисунком, я буду бороться с ними от ее имени.
Памяти моей матери
Анни де Винтер-Зелденрюст
1910–1994
Коротко об авторе
Известный нидерландский писатель Леон де Винтер родился 24 февраля 1954 года в маленьком городе Хертогенбош на юге Нидерландов, в бедной еврейской семье. Отец его был старьевщиком и ходил с колокольчиком от дома к дому. В семье было четверо детей, и родителям будущего писателя приходилось очень туго. «Невозможно себе представить, как мы были бедны», — вспоминает писатель. Когда Леону исполнилось 11 лет, отец умер. Мальчик закончил гимназию и вопреки мечтам родителей, желавших, чтобы сын получил специальность врача или адвоката, поступил в Академию кино в Амстердаме.
Леон де Винтер хорошо помнит рассказы родителей, переживших Холокост. Отец — единственный, кто уцелел в семье, погибшей во времена фашизма, мать и тетка — чудом избежали депортации. Однако в своих книгах де Винтер рассказывает не об ужасах тех времен, а о людях, которые родились после Второй мировой войны. Он рассказывает о том, как непросто жить детям, впитавшим в себя страх родителей. И хотя сейчас Леон де Винтер — одна из самых значительных фигур в нидерландской литературе, состоятельный человек, живет в Голливуде с женой и маленьким сыном, в душе он все тот же ребенок, такой, как вполне довольный жизнью композитор Бен Вайс, герой его романа «Серенада».
Этот роман — десятая книга писателя. Она вышла в 1995 году во время «Книжной недели» тиражом 900 000 экземпляров. Подобной чести в Нидерландах удостаиваются очень немногие, лишь самые именитые авторы. «Серенаду» де Винтер посвятил своей матери Анни де Винтер-Зелденрюст, умершей в 1994 году. Короткий роман — интригующий, захватывающий, ироничный, стал прощанием сына с матерью, исполненным грусти расставания с прошлым, нежности, надежды и любви.
Надо сказать, что де Винтер — писатель необычный. Он мало общается со своими собратьями по перу. «Я всегда держался на расстоянии от литературного мирка. И всегда был таким. Я не пью пиво. Я не хожу в кафе. Я живу не в Амстердаме. Пару раз я бывал на литературных сборищах, но всегда чувствовал себя несчастным — никогда не знал, что я должен там говорить. Мне это неинтересно».
Творчество де Винтера знают и любят во всем мире. Он известен не только как писатель, но и как литературный критик, сценарист и режиссер. Хотя за границей он становится все более популярным, некоторые нидерландские литературные критики его обвиняют в банальности. «Да, — соглашается писатель, — любовь — это весьма банальная тема. Но что может нас спасти, кроме любви?» Почитатели творчества де Винтера согласны с ним. Книги писателя, изданные миллионными тиражами, пользуются неизменным успехом не только на его родине, но и за ее пределами.
Леон де Винтер делает то, что давно уже разучились делать в европейской литературе, — он пишет ясный, острый, полный сарказма рассказ о самом важном в сегодняшнем мире.
«Вельтвохе»
Леон де Винтер (р. 1954) — известный нидерландский писатель, сценарист и режиссер, автор многих романов, среди которых получившие всемирное признание «Голод Хоффмана», «Вселенная Соколова» и «Небо Голливуда».
На русском языке публикуется впервые.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Нидерланды, один балл (англ., фр., нем.).
(обратно)2
Шёнберг Арнольд (1874–1951) — австрийский композитор-экспрессионист; Гласс Филип (р. 1937) — современный американский композитор.
(обратно)3
Ллойд Уэббер Эндрю (р. 1948) — знаменитый английский композитор, автор широко известных мюзиклов «Иисус Христос Суперзвезда», «Эвита», «Кошки», «Призрак оперы».
(обратно)4
Здесь: хорошенькое дело (англ.).
(обратно)5
Иешива (ешива) — еврейская религиозная школа, где юноши изучают Талмуд.
(обратно)6
То есть много денег; серебряный флот — испанские корабли с серебром, золотом и драгоценностями из испанской Америки, захваченные голландцами у берегов Кубы в 1628 г.
(обратно)7
Здесь: теперь можно (англ.).
(обратно)




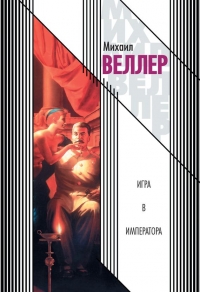

![Так [не] бывает](https://www.4italka.su/images/articles/555790/primary-medium.jpg)


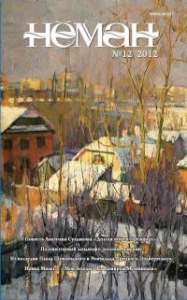



Комментарии к книге «Серенада», Леон де Винтер
Всего 0 комментариев