Нина Георге Музыка лунного света
Nina George
DIE MONDSPIELERIN
© С. Ардынская, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®
* * *
Йенсу, возлюбленному, мужу и другу, и Вольфгангу Георге (20 марта 1938 года — 4 апреля 2011 года), лучшему отцу на свете
1
Это было первое решение, которое она приняла самостоятельно. Первый раз, когда она сама выбирала, как поступить.
Марианна вознамерилась умереть. Здесь и сейчас. Бросившись в воды Сены на исходе этого серого дня.
На небе не было ни звездочки. Эйфелева башня исчезла в мглистой пелене смога. Париж издавал неумолчный шум, сливавшийся из рокота машин, рычания скутеров, гула метро, где-то глубоко сотрясавшего чрево города.
Вода казалась прохладной, черной и спокойной. Сена примет ее, мягко окутав покровом безмолвия и свободы, и унесет в море.
По щекам ее жемчужинами побежали слезы, оставляя на губах соленый вкус. Марианна улыбнулась. Никогда прежде она не ощущала такой легкости. Такой свободы. Такого блаженства.
«Это мое дело, — прошептала она. — Мое».
Она сняла туфли, старенькие, с набойками, купленные лет пятнадцать тому назад тайком, не на распродаже; когда Лотар узнал, ей порядком досталось. Потом он подарил ей к этим туфлям платье, второго сорта, с текстильными дефектами, уцененное, серое, с узором из серых же цветов. Это платье она надела и сегодня.
В последний день своей жизни. Пока в запасе у нее были все эти годы и десятилетия, время представлялось ей бесконечным. В детстве вся жизнь лежала перед ней, словно книга, которая только и ждет, чтобы ее написали. Теперь ей исполнилось шестьдесят, и страницы книги были пусты.
Бесконечность прошла, точно один-единственный серый день.
Она аккуратно поставила туфли рядом с собой на скамейку. Потом подумала и переставила на землю. Ей не хотелось запачкать скамейку: вдруг потом сядет красивая женщина, на юбке у нее останется пятно и она попадет в неловкое положение?
Она попыталась снять обручальное кольцо, но не тут-то было. Тогда она послюнявила палец, и кольцо наконец соскользнуло. Под ним показался светлый ободок кожи.
На другой стороне моста Пон-Нёф на скамейке спал человек. На нем было что-то вроде тельняшки в тонкую полоску, и Марианна порадовалась, что он лежит к ней спиной.
Она положила кольцо рядом с туфлями. Какой-нибудь клошар найдет его, продаст и сможет несколько дней прожить на вырученные деньги. Купить себе багет, бутылочку пастиса, кусочек сала — свежей еды, не из мусорного контейнера. Может быть, останется еще и на газету, укрываться от холода.
«Хватит просроченных продуктов», — сказала она вслух.
Лотар всегда помечал для нее крестиками товары со скидками в приложениях к ежедневным газетам, как другие — интересные шоу и фильмы в телепрограмме. По субботам — «Спорим, что?..» По воскресеньям — «Место преступления». По понедельникам — шоколадный пудинг с истекающим сроком годности. Ели они то, что помечал крестиком Лотар.
Марианна закрыла глаза.
Лотар. Для друзей Лотто. Обер-штабс-фельдфебель артиллерии, душа роты.
Лотар Мессман, проживающий в Целле, в местности, похожей на пейзаж из дорогого игрушечного набора, в последнем доме уютного тупичка, отделенном решетчатой изгородью от т-образного перекрестка с круговым движением. Человек, которому возраст придавал солидности.
Лотар. Он любил свою профессию. Любил свою машину. Любил телевизор. Он сидел на диване, поставив поднос с едой на выложенный кафельной плиткой столик, в левой руке пульт, в правой — вилка, сделав звук погромче, он ведь как-никак артиллерист.
«Хватит о Лотаре», — прошептала Марианна.
И в испуге прижала руку ко рту. Вдруг ее кто-нибудь подслушает?
Она расстегнула плащ. Он еще кому-нибудь послужит, хотя подкладку она чинила так часто, что на ней образовался узор из разноцветных, слишком ярких заплаток. Лотар всегда привозил ей из своих служебных командировок в Бонн и в Берлин крохотные флакончики отельного шампуня и отельные же нитки для шитья. Маленькие моточки черных, белых, красных ниток на картонных шпульках.
«Кому красные-то могут понадобиться?» — подумала Марианна и принялась тщательно складывать свой светло-коричневый плащ, полу к поле, так же тщательно, как дома — выглаженные носовые платки и полотенца Лотара, уголок к уголку.
Она никогда в жизни не носила красное. «Это цвет шлюх», — прошипела ее мать и дала ей пощечину, когда она, одиннадцатилетняя, принесла домой красную косынку: Марианна нашла ее на улице, и пахло от нее цветочными духами.
На Монмартре возле сточной канавы присела на корточки женщина. Юбка у нее задралась, обнажив бедра, на ней были красные туфли. Глаза у нее были заплаканы, тени на веках размазались от слез. «Подумаешь, всего-то-навсего пьяная шлюха», — сказал кто-то из их туристической группы. Марианна хотела было подойти к ней, но Лотар ее удержал. «Да ты что, Анниляйн, над тобой же смеяться будут, она сама виновата».
Он не дал Марианне заговорить с незнакомкой и потащил ее за собой в ресторан, где фирма, организовавшая автобусный тур, заказала столик. Марианна все оглядывалась на несчастную женщину, пока экскурсовод, покачав головой, не объявила: «Je connais la chanson — это старая песня, она сама во всем виновата».
Лотар кивнул, а Марианне на мгновение показалось, что это она сама сидит у сточной канавы. Тут-то все и началось, а в конце концов она оказалась здесь, на Пон-Нёф.
Она ушла еще до закуски, просто потому, что не могла больше сидеть и молчать. Лотар ничего не заметил, последние полдня он был увлечен беседой с дамой из Бургдорфа, эдакой веселой вдовой. Она то и дело попискивала: «Incroyable — быть такого не может!» — что бы ни говорил Лотар. Под белой блузкой у нее виднелся красный лифчик.
Марианна даже не испытывала ревности, одну лишь усталость. Она вышла из ресторана и стала бесцельно блуждать по улицам, пока не остановилась посреди Нового моста, Пон-Нёф.
Лотар. Как просто было бы во всем обвинить Лотара.
Но все было куда сложнее.
«Ты сама во всем виновата, Анниляйн», — прошептала Марианна.
Она вспомнила свою свадьбу, в мае, сорок один год тому назад. Ее отец, опираясь на палку, смотрел, как она час за часом тщетно ждет, что муж наконец пригласит ее на танец. «Моя неунывающая девочка», — чуть слышно произнес ее отец, измученный опухолью. Она отчаянно мерзла в тонком белом платье и не решалась двинуться с места: вдруг все это сон и рассеется, стоит ей сделать один только шаг?
«Обещаешь, что будешь счастлива?» — спросил у нее отец, и Марианна ответила: «Да». Ей было девятнадцать.
В конце концов ее брак обернулся сплошной ложью.
Отец умер спустя два дня после ее свадьбы.
Марианна снова встряхнула сложенный плащ, бросила на землю и стала с наслаждением топтать ногами.
«Хватит обо мне! Все! Хватит! Мне конец!» Она последний раз пнула плащ, упиваясь собственной дерзостью, но это чувство прошло столь же быстро, как и появилось. Она подняла плащ и перекинула через спинку скамейки.
Сама виновата.
Больше она ничего не могла оставить. У нее не было ни украшений, ни шляпы — ничего. Потертую сумочку, в которой лежали путеводитель по Парижу, несколько крошечных пакетиков соли и сахара, заколка для волос, паспорт и кошелек, она поставила рядом с туфлями и кольцом.
Марианна стала взбираться на ограждение. Сначала она перекатилась на живот, потом подтянула ногу, но почувствовала, что вот-вот соскользнет обратно через бордюр. Сердце у нее бешено стучало, пульс участился, она оцарапала колено о шершавый песчаник ограждения.
Пальцами ног она нащупала зазор между каменными плитами и, упираясь в него, залезла наверх. Вот и все. Она уселась на ограждение, перекинув ноги через край.
Осталось самое легкое — только оттолкнуться и упасть.
Марианна подумала об устье Сены в Онфлёре: вода пронесет ее тело сквозь шлюзы, вдоль речных берегов, мимо Онфлёра и только потом в море. Она вообразила, как будет медленно кружиться, подхваченная волнами, словно танцуя под звуки мелодии, внимать которой будут лишь она да море. Онфлёр. Там родился Эрик Сати: она любила его музыку, вообще любила музыку без разбору. Музыка напоминала ей фильм, который показывают за сомкнутыми веками, а слушая Сати, она представляла себе море, хотя на море не бывала никогда.
«Я люблю тебя, Эрик. Я люблю тебя», — прошептала она; этого она не говорила ни одному мужчине на свете, кроме Лотара.
А когда он последний раз говорил ей, что любит?
Он говорил это хотя бы однажды?
Марианна ждала, что ее вот-вот охватит страх, но напрасно.
За смерть всегда приходится платить. Жизнью.
А чего стоит моя жизнь?
Да ничего.
Дьявол заключил сделку со мной — и проиграет.
Сама виновата.
Крепко упершись руками в каменное ограждение и соскальзывая вперед, Марианна на секунду помедлила, вспомнив об орхидее, которую нашла в мусорном контейнере. О том, что она полгода ухаживала за этой орхидеей, пела ей песни и колыбельные, но теперь не увидит, как раскрывается ее бутон.
Потом Марианна с силой оттолкнулась от камня.
Она прыгнула, почти тотчас же поняла, что падает, и, падая, взмахнула руками. Обрушиваясь в воду и ощущая, как в лицо бьет ветер, Марианна вспомнила о страховке, которую не выплачивают в случае самоубийства. Сто двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят три евро коту под хвост. Лотар будет в ярости.
Нет, все-таки дьявола я не обману.
С этой мыслью Марианна ударилась о ледяную воду Сены. Ее охватила буйная, ни с чем не сравнимая радость, тут же сменившаяся жгучим стыдом, когда она стала погружаться в волны и ее серое, в цветочек платье окутало ее голову. Она попыталась отчаянным рывком опустить подол, чтобы скрыть голые ноги.
Потом она смирилась и развела руки в стороны, широко разинула рот и сделала самый глубокий вдох, на какой только была способна, до отказа заполнив водой легкие.
2
Она умирала, словно медленно парила в воздухе.
Марианна отдалась волнам. Это было прекрасно.
Несказанное блаженство длилось и длилось, его можно было пить целыми глотками. Она вкусила все до последней капли.
Видишь, папа, я сдержала обещание.
Перед ее внутренним взором возникла фиолетовая орхидея, а потом зазвучала музыка. А когда над ней склонилась какая-то тень, она узнала смерть; у смерти было ее собственное лицо, лицо постаревшей девочки со светлыми глазами и короткими темными косичками.
Рот у смерти был теплый. Внезапно у смерти выросла борода и стала покалывать Марианне щеки. Смерть снова и снова прижималась губами к губам Марианны, и тогда она ощущала вкус лука и красного вина, табака и корицы.
Голодная смерть высасывала из нее душу, впивалась в ее рот, жаждала.
Марианна испуганно забилась.
Сильные руки надавили ей на грудь. Марианна слабо попыталась оттолкнуть эти руки, с каждым сильным толчком разрывающие грудную клетку. Вот смерть ее поцеловала. В горле у нее вдруг заструился холод.
Марианна распахнула глаза, рот у нее болезненно широко открылся, исторгнув целый океан темной, грязной воды, она со стоном приподнялась, судорожно ловя ртом воздух, и тут легкие ее точно пронзил острый клинок, и они наполнились нестерпимой болью.
А еще на нее внезапно обрушились звуки. Настоящая какофония звуков!
А куда же исчезла музыка? Куда пропала девочка? Куда ушло блаженство? Неужели она его выплюнула?
Марианна бессильно откинулась на жесткую землю.
Смерть ударила ее по лицу.
Она подняла взгляд и увидела перед собой небесно-голубые глаза, закашлялась и стала жадно хватать ртом воздух. Она несильно размахнулась и в свою очередь дала смерти вялую пощечину.
Смерть попыталась ее усадить, непрерывно и настойчиво убеждая ее в чем-то на быстром, напевном французском.
Марианна дала ей еще одну оплеуху.
И тут же получила оплеуху в ответ, даже не сильную. Скорее смерть просто погладила ее по щеке.
Она в ужасе прижала руки ко рту. Почему она вообще ощущает прикосновения?
«Почему?» Голос ее звучал как приглушенный скрежет.
Она почувствовала холод. Услышала шум. Посмотрела налево. Направо. На собственные руки, запачканные травой, в которую она судорожно вцепилась. От моста Пон-Нёф ее отделяли несколько метров. Она лежала возле какой-то палатки на правом берегу, «rive droite», Париж оглушал ее своим неумолчным рокотом. И она не умерла.
Не умерла.
У нее болел желудок, легкие, все тело, даже волосы, спутанной седой массой ниспадавшие на плечи. Болело сердце, голова, душа, живот, щеки — все.
«Я не умерла?» — отчаянно, задыхаясь, вымолвила она.
Человек в тельняшке улыбнулся, но тотчас же слегка помрачнел. Он махнул рукой в сторону реки, потом постучал себя по лбу, а потом показал на ее босые ноги.
«Зачем?» — хотела она закричать, но голос ее прервался, и она смогла только хрипло прошептать:
— Зачем вы это сделали?
Ее спаситель поднял руки, изобразил прыжок головой вперед и показал на Марианну, на Сену и на себя. Пожал плечами, как будто хотел сказать: «А что мне оставалось?»
— У меня была на то… причина. Много причин. Вы не имели права спасать меня против моей воли. Вы что, Господь Бог? Нет, не Бог, иначе я бы сейчас уже была мертва!
Человек с голубыми глазами и густыми черными бровями посмотрел на Марианну так, словно понял. Он стащил через голову тельняшку и стал ее выжимать.
Его взгляд упал на родимое пятно на левой груди Марианны, обнажившейся под расстегнутым платьем. Он удивленно поднял брови. Марианна в панике стянула платье на горле. Безобразное родимое пятно, на удивление яркое, в форме языков пламени, она всю жизнь скрывала под наглухо застегнутыми блузами и платьями с высоким воротом. Она никогда не купалась при дневном свете, только по ночам, когда никто ее не видел. Ее мать называла это родимое пятно ведьмовской печатью, а Лотар — чертовой нашлепкой; он никогда не прикасался к нему и неизменно закрывал глаза, ненадолго приходя к ней в постель.
Потом Марианна заметила, что платье у нее высоко задралось и ноги голые. Она остервенело принялась дергать насквозь промокший подол и одновременно застегивать пуговицы на груди.
Она оттолкнула протянутую руку своего спасителя, который хотел было ей помочь, и поспешно встала. Разгладила отяжелевшее от воды, обвисшее платье. От волос ее пахло тиной. Пошатываясь, она двинулась к парапету набережной.
Слишком низко. Слишком низко, отсюда не броситься, а если и бросишься, разве что сломаешь руку или ногу, но останешься в живых.
— Мадам! — громко позвал ее спаситель и попытался схватить за локоть. Она вновь оттолкнула его руку и набросилась на него, норовя ударить по лицу, по плечам, по зажмуренным глазам, но упорно не попадая. Потом она все-таки дотянулась до своей жертвы. Он отшатнулся, не сходя с места. Со стороны могло показаться, что это ссора любовников, драма, исполненная непроизвольного комизма.
— Это была моя смерть! — выкрикивала она, в ярости пиная его ногами. — Моя, и только моя, никто не имел права ею распоряжаться, а вы ее у меня отняли!
— Мадам! — опять взмолился он и обеими руками обхватил Марианну.
Он не выпускал ее, пока она не перестала пинать его ногами и, лишившись сил, не прижалась к его обнаженному плечу. Жесткими, как наждак, пальцами он отвел волосы с ее лица. От него пахло давно не мытым телом и Сеной, а еще яблоками с нагретой солнцем деревянной полки.
Он стал укачивать ее в объятиях, нежно-нежно, как никто еще никогда ее не баюкал.
Марианна заплакала. Она укрылась от мира в объятиях незнакомца, он все прижимал ее к себе и укачивал, а она все рыдала и рыдала, оплакивая свою жизнь и свою несостоявшуюся смерть.
— Mais non. Non. — Незнакомец слегка отстранил ее от себя, поднял за подбородок ее голову и сказал: — Venez avec moi. Venez. On y va. Allez[1].
Он потянул ее за собой. Марианна ощущала бесконечную усталость, булыжники мостовой впивались в ее голые ступни. Спаситель не отпускал ее, а повел наверх, на мост Пон-Нёф.
Когда они ступили на мост, он свистом вспугнул двоих клошаров, склонившихся над женскими туфлями и мужскими ботинками, причем ботинками от разных пар; один клошар прижимал к груди плащ Марианны, другой, в засаленной шерстяной шапочке, попробовал на зуб кольцо и скривился.
Поравнявшись с приятелями, незнакомец шикнул. Клошар, что был повыше ростом, выудил откуда-то мобильный телефон. Тот, что поменьше, с опаской протянул Марианне кольцо.
Тут Марианну охватила дрожь, волнами озноба расходящаяся по всему телу из живота.
Она выбила кольцо у клошара из руки и кинулась к ограждению, но не успела на него залезть: все трое бросились ей наперерез и удержали ее силой. В их глазах Марианна читала только сострадание и страх, как бы не пришлось отвечать понапрасну за то, в чем они невиновны.
«А ну отпустите!» — крикнула она, но ни один не послушался.
Она нехотя опустилась на скамью, высокий клошар укутал ее своим толстым пальто, маленький почесал голову под шапкой и, когда спаситель Марианны буркнул что-то, стал на колени и принялся рукавом куртки вытирать ее мокрые ступни.
Незнакомец кому-то позвонил. Клошары уселись рядом с Марианной на скамью. Она попыталась прокусить себе вены на запястьях, и тогда они схватили ее за руки. Один наклонился и положил кольцо в лодочку ее ладони.
Она недоуменно уставилась на матовый золотистый ободок. Она проносила его сорок один год. И только однажды чуть было его не сняла. В сороковую годовщину свадьбы. Она специально выгладила к этому дню платье в серый цветочек и, собрав волосы в элегантный удлиненный узел, сделала прическу, которую подсмотрела в модном журнале. Журнал был не новый, трехмесячной давности, она нашла его в контейнере с макулатурой. А еще она чуть-чуть подушилась туалетной водой «Шанель» из пробника, прилагавшегося к тому же самому выброшенному на помойку журналу; запах был цветочный, и Марианна пожалела, что у нее нет красной косынки.
Потом она открыла бутылку шампанского и стала дожидаться мужа.
— С чего это ты так вырядилась? — едва завидев ее, недовольно проворчал Лотар.
Она повернулась перед ним, чтобы показать новую прическу и платье, а потом протянула ему бокал шампанского.
— За нас, — сказала она, — за сороковую годовщину нашей свадьбы.
Он отпил глоток, заглянул ей за спину и заметил на кафельном столике бутылку.
— Шампанское? А что, без него нельзя было обойтись? Ты хоть знаешь, сколько оно стоит?
— Но сегодня же годовщина нашей свадьбы…
— Это не повод сорить деньгами. Моими деньгами, сама-то ты не зарабатываешь…
Она тогда не заплакала. Она никогда не плакала при Лотаре, только под душем, где он не мог увидеть.
Его деньгами. А ведь она могла бы работать и сама…
И ведь когда-то она работала, много и тяжело. Сначала на ферме матери в Вендланде, потом ассистенткой при бабушке-акушерке и наконец экономкой, пока не вышла за Лотара и тот не запретил ей вести хозяйство у чужих людей; пусть занимается его домом. Она была для него уборщицей, кухаркой, садовницей, супругой, женушкой, «точкой опоры», как он любил выражаться. А еще она преданно ухаживала за матерью на протяжении двадцати лет, вплоть до своего сорок второго дня рождения. До тех пор Марианна выходила из дому только в магазин, пешком, потому что Лотар запрещал ей брать его машину, а ее мать день за днем мочилась в постель. Сама она не могла дойти до туалета, но Марианну ругать могла, еще как, день за днем, и Лотар все чаще ночевал в казарме и развлекался в одиночестве, а из отпуска посылал «женушке» открытки и неизменно передавал привет «маменьке».
Марианна разжала пальцы и выпустила кольцо.
В это мгновение Марианна услышала сирену, закрыла глаза и не открывала, пока пронзительный вой, неумолимо приближавшийся откуда-то из городского чрева, не стих где-то совсем рядом с ней.
Клошары отпрянули от синего мигающего света, а когда к Марианне кинулись двое санитаров и маленькая докторша с чемоданчиком, человек в тельняшке выступил вперед, показал на нее, потом на Сену и снова постучал себя пальцем по лбу.
«Он считает, что я спятила», — подумала Марианна.
Она попыталась вымученно улыбнуться, как год за годом привыкла улыбаться Лотару. «Ты такая хорошенькая, когда улыбаешься», — сказал он ей на первом свидании.
Он был первым мужчиной, который назвал ее хорошенькой, несмотря на родимое пятно и все прочее. «Нет, я не спятила. Нет.
И не умерла».
Она подняла глаза и посмотрела на мужчину, который вытащил ее из реки, хотя она его об этом не просила. Это он спятил. Точно спятил, если убежден, что, для того чтобы жить, достаточно просто выжить.
Она не сопротивлялась, пока санитары пристегивали ее ремнями. Когда они подняли носилки и подкатили их к открытым дверцам «скорой помощи», незнакомец с голубыми, как небо, глазами взял ее за руку. Его ладонь была теплой, теплой и странно знакомой.
Марианна увидела свое отражение в его черных, расширенных зрачках: вот ее светлые глаза, которые всегда казались ей непомерно большими, вот слишком маленький нос, лицо в форме сердечка, сужающееся от большого выпуклого лба к подбородку, вот порядком поседевшие волосы, серо-коричневые, цвета опавшей листвы.
Когда она разжала руку, на ладони оказалось ее обручальное кольцо.
— Извините за беспокойство, — сказала она, но он покачал головой.
— Excusez-moi[2], — добавила она.
— Il n’y a pas de quoi, — серьезно сказал он, прижимая руку к груди. — Vous avez compris?[3] — спросил он.
Марианна улыбнулась. Что бы он ни имел в виду, он явно был прав.
— Je m’appelle Eric[4].
Он передал докторше сумочку Марианны.
«Марианна», — хотела было сказать она, но передумала: хватит и того, что он станет рассказывать друзьям, как вытащил из Сены сумасшедшую. К чему еще называть свое имя, что толку в именах?
Марианна еще раз взяла Эрика за руку.
— Пожалуйста, — попросила она, — пожалуйста, оставьте его себе.
Человек в тельняшке уставился на кольцо, которое она ему вернула.
Потом дверцы захлопнулись.
— Я ненавижу тебя, Эрик, — прошептала Марианна, и ей показалось, что загрубевшие, но нежные пальцы Эрика по-прежнему гладят ее по щеке.
В машине скорой помощи пристежные ремни все время больно впивались ей в тело. Докторша набрала в шприц какую-то жидкость и ввела ее Марианне в вену на сгибе локтя. Потом взяла вторую иглу-катетер и воткнула ее Марианне в тыльную сторону ладони, чтобы присоединить капельницу.
«Простите, что заставила вас выехать по вызову», — прошептала Марианна, заглянув в карие глаза докторши, но та поспешно отвела взгляд.
«Je suis allemande, — пробормотала Марианна. — Allemande»[5]. Это звучало немного похоже на «миндалина».
Докторша укрыла ее одеялом и принялась диктовать что-то ассистенту с жидкой бородкой, а тот — за ней записывать. Сильное успокоительное постепенно начало отуманивать сознание Марианны.
«Я миндалина», — еще раз промямлила она и заснула.
3
Во сне она сидела на мосту Пон-Нёф. Она сняла наручные часы, которых на самом деле у нее и не было, разбила стекло о камень, вырвала стрелки и швырнула часы в реку. Теперь время больше никому не сможет чинить препятствий. Время остановится, как только она спрыгнет, и никто уже не помешает ей уплыть по танцующим волнам в море.
Однако, разжав руки, она стала падать медленно, словно в жидкой смоле. Из воды стали подниматься тела: они парили в воздухе, проплывая мимо нее, устремляясь куда-то вверх, пока Марианна опускалась вниз. Она узнавала их лица, каждое, одно за другим. Это были ее покойные пациенты из хосписа, где она работала после смерти матери. Те, кого никто больше не навещал из страха заразиться смертью. Марианна сжимала их руки в своих, когда приходил их час; и так, держась за ее руку, они переступали черту небытия.
Одни шептали: «Не хочу, не хочу, не хочу», — предавались отчаянию, жалобно стенали. Другие стыдились своего ухода. Но все они искали ее взгляда и держались за него, пока не угасал свет в их собственных глазах.
Во сне они тоже пытались встретиться глазами с Марианной и взять ее за руки. В ушах у нее раздавались голоса, исполненные сожаления: о каждой неосуществленной мечте, о каждом несовершенном поступке, о каждом непроизнесенном слове, прежде всего гневном. Никто из обреченных не мог простить себе именно то, чего они не сделали. Все они на смертном одре признавались Марианне в том, чего не сделали при жизни, на что не осмелились, что навсегда упустили.
Яркий свет ослепил ее, а когда она открыла глаза, в ногах постели возвышался Лотар. В темно-синем костюме с золотыми пуговицами, он напоминал капитана, только что сошедшего с борта яхты. А рядом с ним стояла женщина в белом. Ангел?
Здесь тоже было ужасно шумно, раздавались гудки машин, чьи-то голоса, работал телевизор. Марианна зажала уши.
— Привет! — сказала она через некоторое время.
Лотар обернулся к Марианне. В его глазах она не увидела своего отражения. Он подошел ближе и склонился над ней. Внимательно оглядел Марианну, как будто не вполне доверяя себе и гадая, что это перед ним.
— Это что еще такое? — наконец произнес ее муж.
— Что «это»?
Он покачал головой, словно не в силах уяснить себе происходящее.
— Что это за спектакль?
— Я хотела покончить с собой.
Лотар оперся на ее подушку.
— Почему?
Надо как-то ответить, солгать, но как?.. С чего начать? «Все в порядке», хотя все было далеко не в порядке? Или «не беспокойся», хотя беспокоиться ему ой как следовало?..
— Я… я…
— «Я-я», — передразнил Лотар. — Отличная причина, лучше не придумаешь. «Я».
Ну почему она не сказала ему: «Я больше не хочу. Я больше не могу. Я лучше умру, чем жить с тобой дальше»?
Марианна попробовала еще раз:
— Я… я не…
Она снова запнулась. Язык у нее едва ворочался, словно ватный.
— Я хотела делать, что хочу.
Ее муж возмущенно выпрямился.
— Делать, что хочешь? Надо же. А что из этого вышло, ты понимаешь? Только посмотри на себя.
Он засмеялся. Посмотрел на медицинскую сестру, которая все еще стояла рядом и внимательно глядела на Марианну, и засмеялся, а потом с ним за компанию засмеялась и сестра, как будто они в цирке и клоун только что растянулся на арене.
Марианна почувствовала, как у нее загорелись щеки.
Лотар снова присел на край ее постели, обернувшись к ней спиной. Он внезапно замолчал.
— Когда мне позвонили, я все делал на автопилоте. За твой обед мне, конечно, пришлось заплатить. В ресторане всем плевать, хочешь ты покончить с собой или нет.
Марианна попыталась повыше подтянуть простыню, но на простыне сидел ее муж, и она лишь напрасно дергала за краешек ткани. Ей казалось, что она голая и все на нее смотрят.
— Метро работает только до половины первого. Это в столице мира! Пришлось ехать на такси. Это стоит примерно как автобус от нашего Целле до Парижа и обратно. Ясно тебе?
Лотар шумно выдохнул, словно вот-вот закричит.
— Ты вообще понимаешь, какую боль мне причинила? Хочешь, чтобы мы дальше жили как чужие люди? Чтобы я каждую ночь оставлял свет и смотрел, жива ты еще или лишила себя жизни?
— Сожалею, — выдавила из себя Марианна.
— Ах, значит, сожалеешь. А кому потом нести это бремя, а? Знаешь, как люди смотрят на мужа самоубийцы? Это ведь может всю жизнь испортить, всю. Об этом ты подумала, когда поступала, как тебе хочется? Да ты, вообще-то, хоть знаешь, чего тебе хочется?
Лотар посмотрел на свои часы, «Ролекс», и встал.
— Автобус отходит ровно в шесть. Хватит с меня, я эту комедию с тобой вместе ломать не обязан.
— А как я доберусь до дома? — услышала Марианна собственный умоляющий голос и застеснялась. Она действительно все, все потеряла, даже гордость.
— Обратную дорогу оплатит страховая касса. Завтра придет психолог, он будет тебя консультировать. Мой билет пропадет, если я не уеду с группой. Ты одна прыгаешь с моста, я один еду домой, значит, каждый делает, что хочет. Не возражаешь?
— Ты не мог бы меня обнять? — взмолилась Марианна.
Ее муж вышел, даже не взглянув в ее сторону.
Отворачиваясь, она встретилась глазами с соседкой по палате. Та смотрела на Марианну с состраданием.
— Он плохо слышит, — торопливо пояснила она, — он просто… не расслышал. Не расслышал, понимаете?
И с головой укрылась одеялом.
4
Ангел с голодными глазами, сестра Николетт, спустя час энергично сдернула с нее одеяло и с громким стуком поставила на прикроватный столик поднос с ужином.
Марианна ни к чему не притронулась. Жаркое напоминало раздавленного зверька, от полоски скользкого жира пахло гнилым деревом. Масло было застывшее, как камень, суп жидкий, в нем плавали три кубика моркови и одно-единственное колечко лука. Она отдала суп соседке по палате. Когда та хотела было погладить Марианну по плечу, она испуганно отпрянула.
Потом она медленно побрела по коридору, толкая свою капельницу на колесиках, придерживая коротенькую больничную рубаху, разрезанную на попе, и шлепая босыми ногами по полу. Она тащилась по коридору, пока не наткнулась на еще один, проходивший перпендикулярно к ее маршруту. На углу располагалась ординаторская.
Там работал телевизор. Николя Саркози взволнованно объяснял нации причину своего негодования, в пепельнице дымилась непотушенная сигарета. Николетт листала журнал и разворачивала пирожное.
Марианна подошла поближе и услышала музыку. Скрипки. Аккордеон. Кларнеты. Волынку. Марианна закрыла глаза, надеясь увидеть свой фильм.
Перед ее внутренним взором предстали мужчины, танцующие с красавицами. Длинный стол, дети, яблони в цвету, солнце, озаряющее море на горизонте, старинные дома из песчаника с голубыми ставнями и с тростниковыми крышами, маленькая часовня. Мужчины сдвинули шляпы на затылок. Она никогда не слышала этой песни, но ей бы очень хотелось ее сыграть. Звуки аккордеона западали ей в душу.
Она ведь сама когда-то играла на аккордеоне, сначала на маленьком, а потом, когда подросла, на настоящем. Отец подарил ей этот аккордеон на пятнадцатилетие. Мать тогда страшно рассердилась. «Учись лучше шить, от тебя хоть шуму такого не будет». В конце концов Лотар отнес его на помойку.
На табло равномерно вспыхивал красным светом и гас номер палаты.
Николетт раздраженно подняла голову, заметила Марианну и равнодушно отвернулась.
Марианна подождала, пока Николетт не уйдет, а потом вошла в ординаторскую.
Марианна так проголодалась, что схватила оставленный на столе пакет пирожных-мадлен, завернутых каждое по отдельности в папиросную бумагу, и чуть было не столкнула керамическую плитку, служившую им подставкой. Она услышала, как где-то захлопнулась дверь, прошмыгнула в коридор, а потом, увидев соответствующий знак, юркнула на лестницу.
Она тихо прикрыла за собой дверь, чуть было не прищемив трубку капельницы.
Марианна опустилась на нижнюю ступеньку лестницы и с облегчением перевела дух. Только теперь она заметила, что по-прежнему сжимает под мышкой пирожные и изразец. Она прислушалась, но ее явно никто не искал. Она прислонила керамическую плитку к решетке на окне, посмотрела на свои голые ступни в лунном свете и развернула пакет.
«Вот что значит попасть в Париж», — подумала Марианна.
Она откусила кусочек сладкого мягкого пирожного и стала разглядывать маленькую, расписанную вручную кафельную плитку.
На ней были изображены корабли в гавани. Под ослепительно-голубым небом, сияющим с такой невероятной, расточительной щедростью, словно его только что вымыли. На крохотном пространстве художник сумел создать великолепное небо. Марианна попыталась разобрать названия кораблей.
«Марлин». «Геневер». «Коакар». И…
«Марианн».
«Марианн» был изящный красный кораблик, который немного потерянно покачивался на волнах с краю; его паруса бессильно повисли.
«Марианн».
Как же там было прекрасно! Музыка, которую передавали по радио, радостная и нежная, подходила к этому пейзажу. Солнечная, ничем не скованная.
Откусывая второй кусочек, она так безудержно зарыдала, что поперхнулась и закашлялась. Изо рта во все стороны полетели крошки пополам со слюной и слезами.
Несовершённое. Вот что хотели сказать Марианне мертвые. Непрожитое. Жизнь Марианны сплошь состояла из таких непрожитых, невоплощенных возможностей.
Марианна посмотрела на трубку капельницы, введенной ей в руку, и рывком выдрала ее. Полилась кровь.
«Я от этого не умру, а потом, я не меняла белье со вчерашнего утра, я не потерплю, чтобы в таком виде меня засунули в холодильник морга!»
Тыльной стороной ладони она смахивала набегавшие слезы и моргала. За последние несколько часов она пролила больше слез, чем за сорок лет; пора было прекращать, все равно это бессмысленно.
Она опять поглядела на изразец и поняла, что видеть бессильно поникшие паруса «Марианн» ей невыносимо. Она перевернула плитку.
На обратной стороне красовалась надпись: «Порт Кердрюк, Фин.».
Марианна проглотила последний кусочек пирожного, но так и не наелась.
Кердрюк. Она снова повернула изразец к себе и понюхала. Ей показалось или от него пахло… морем?
«Я никогда не бывала в таком прекрасном месте».
Марианна попыталась представить себе, как бы они с Лотаром приехали туда. Но перед ее внутренним взором упорно возникал только Лотар за выложенным кафелем столиком в гостиной. А еще старые соседские журналы, которые он складывал параллельно швам между кафельных плиток на столике. Аккуратно. Ей следовало бы благодарить его за то, что он неукоснительно вносил порядок в ее жизнь. Это был ее дом. Последний дом в тихом тупике.
Марианна опять погладила изразец с корабликами.
«Будет Лотар поливать орхидею?»
Марианна невесело рассмеялась. Конечно нет.
Кердрюк. Если это на море, то…
Тут распахнулась дверь, и Марианна вздрогнула. На лестницу вылетела рассерженная Николетт. Она обрушила на Марианну поток брани и властным жестом приказала ей подниматься наверх. Марианна следом за сестрой поплелась в светлый коридор и не сопротивлялась, когда та стала отправлять ее назад в палату, но не могла смотреть Николетт в глаза.
Николетт умело и быстро поставила ей новую капельницу и поднесла к ее рту две розовые таблетки.
Марианна послушно притворилась, будто проглатывает их, запивая затхлой водой из стакана на прикроватном столике. Ее соседка по палате поскуливала во сне, как больной щенок.
Когда Николетт выключила лампу и закрыла за собой дверь, Марианна выплюнула таблетки.
Потом она вытащила из-под рубашки изразцовую плитку, которую все это время прижимала к сердцу.
Кердрюк. Марианна погладила кораблики. На мгновение ей показалось, что она ощутила кончиками пальцев дуновение свежего морского ветра, и, как ни глупо это было, она содрогнулась.
Она встала и медленно подошла к окну. Завыл ветер. Приблизился раскат грома; небеса разверзлись, и на секунду палату озарила вспышка молнии. Хлынул дождь, и по оконным стеклам застучали капли, точно жемчужины разорванного ожерелья. В лунном свете они виделись непомерно большими и, падая на землю, исполняли какой-то замысловатый танец. Она опустилась на колени и обвела пальцем края оконной тени, которую лампада луны вырезала из ночной тьмы и положила к ее ногам. Гром грохотал, словно гроза бушует прямо над крышей больницы.
«Моя маленькая женушка боится грозы», — любил повторять Лотар.
Она совершенно не боялась гроз. Она только притворялась ему в угоду, чтобы у него появился повод ее подразнить и почувствовать себя сильным и важным. Вот какие глупости она постоянно делала ради него.
Она посмотрела в окно, в разорванное надвое небо и нерешительно взяла обеими руками свои полные груди. Лотар был ее первым и единственным мужчиной; она вышла за него нецелованной девственницей, невинность плавно перетекла для нее в брак. Лотар был ее защитой и опорой, с тех пор как она покинула родительский дом.
«Мой муж не очаровал мою душу и не разбудил мое тело. Зачем я терпела все это долгие годы? Зачем?»
Она подошла к шкафчику и стала искать свою одежду. От ее вещей пахло грязной речной водой. Марианна намочила руку и, как могла, почистила платье, нашла дезодорант и побрызгала на него; теперь от него исходил запах грязной речной воды и роз.
Она двинулась к раковине, установленной прямо посреди палаты. Интересно, архитекторы что, не знали, как нелепо выглядит женщина, когда моется, стоя голой посреди комнаты?
Но Марианне не оставалось ничего иного. Смыв с себя больничный душок, она стала на цыпочки и заглянула в зеркало.
Нет. Ни гордости, ни достоинства на этом лице она прочесть не могла.
«Сейчас я старше своей бабушки. Я всегда думала, что когда-нибудь стану мудрой старухой. Она только терпеливо ждет внутри меня, когда придет время выйти наружу, словно бабочка из кокона, скинув оболочку. А потом из меня появится сначала ее тело, потом лицо, потом седой пучок, а в руках она будет держать поднос с теплой свежеиспеченной ватрушкой».
Марианна опустила глаза. На нее смотрела старуха, но совсем не мудрая, с морщинистым лицом девочки, маленькая тетушка, не многим выше той, какой была в четырнадцать. И все такая же пухленькая.
Она горько рассмеялась.
Ее бабушка Нана, которую она очень уважала, погибла лунной январской ночью 1961 года. Возвращаясь из имения фон Хаагов, где принимала роды, она поскользнулась и упала в канаву с водой. Выбраться самостоятельно она уже не смогла. Марианна обнаружила ее тело. На лице Наны застыло выражение гнева и удивления: надо же, как глупо пришлось погибнуть!
Марианна до сих пор ощущала смутное чувство вины, ведь в тот вечер она не стала, как обычно, ассистировать бабушке, а незаметно улизнула.
Марианна вгляделась в свое отражение. Чем дольше она смотрела, тем труднее ей становилось дышать, ее постепенно охватывал ужас. Все ее существо словно впитывало ужас, как сад — разрушительный ливень.
«Что же мне делать?»
У женщины в зеркале не нашлось ответа; она была бледна как смерть.
5
А вскоре настало утро. В начале седьмого стали будить пациентов, а когда Марианна оделась, ее привели в кабинет на втором этаже больницы. По-видимому, он принадлежал какой-то докторше с двумя детьми: повсюду были развешаны рисунки, семейные фотографии, географическая карта Франции, истыканная крохотными флажками на булавках.
Марианна встала со стула и принялась искать на карте Кердрюк, обводя пальцем побережье страны, но места с таким названием не нашла. Зато среди пояснений в легенде она обнаружила сокращения названий департаментов и расшифровала загадочное «Фин.»: это оказался Финистер на западе Франции, мыс, глубоко вдававшийся в Атлантический океан, и находился он в Бретани.
Марианна осторожно нажала на дверную ручку, но дверь ожидаемо оказалась заперта. Она села за письменный стол и уставилась на носки своих туфель.
Через час явился психолог, высокий, стройный француз, с волнистыми черными волосами и слишком пряным лосьоном после бритья. Марианна решила, что он ужасно нервничает, поскольку постоянно покусывал нижнюю губу и бросал на нее быстрые взгляды, словно опасаясь встретиться с ней глазами.
Он перелистал несколько страниц в папке с зажимом. Потом снял очки, неловко примостился на краешке письменного стола и впервые внимательно посмотрел на Марианну.
— Стремление к самоубийству — это не болезнь, — начал он по-немецки, с сильным французским акцентом.
— Да, это не болезнь, — повторила Марианна.
— Совершенно правильно. Оно есть лишь результат болезненных явлений. Выражение острейшего неблагополучия. Тяжелейшего неблагополучия.
Он говорил мягко и умоляюще глядел на нее серыми глазами, словно от того, поймет она его или нет, зависит его жизнь.
У Марианны защекотало в горле. Это же было смешно. Напротив нее сидит человек, который лелеет безумную мечту — понять ее и помочь ей, проникновенно глядя на нее и произнося заученные фразы.
— И право человека на самоубийство тоже нельзя отрицать. Суицид имеет некую ценность в глазах того, кто хочет покончить с собой. Если вы хотите добровольно уйти из жизни, это ваше право.
— И это научно доказано? — вырвалось у Марианны.
Психолог недоуменно воззрился на нее.
— Извините, — пробормотала она.
— За что вы просите извинения?
— Сама не знаю.
— А вы когда-нибудь слышали, что люди, страдающие тяжелой депрессией, обижаются на любую мелочь, но постоянно извиняются и направляют агрессию не на виновника своих бед, а на самих себя?
Марианна посмотрела на психолога. Пожалуй, ему было лет сорок пять, на пальце у него она заметила обручальное кольцо. Если бы она только могла поверить, что нужно лишь перестать сдерживаться, высказать все, что наболело, все, что тяжким бременем лежит на душе, что нужно лишь принять утешение, и он все объяснит ей и даст совет! Поддержит ее, выпишет лекарства, излечит от ее безумного, сумасбродного желания.
«Стремление к самоубийству — не болезнь. Отлично».
— А вы когда-нибудь слышали, что у большинства церковных колоколов — слишком большие языки? — спросила она. — Как правило, звонари слишком сильно раскачивают колокол — и через год-другой они начинают звучать, как пустые ведра, если их столкнуть. Они изнашиваются и больше ни на что не годны.
— И вы ощущаете себя таким колоколом?
— Колоколом?.. Нет, почему…
«Я ощущаю себя существом, которое никогда и не жило».
— Вы больше не хотели жить так, как раньше. Но почему вы попробовали лишить себя жизни именно в Париже?
«С каким упреком он это произносит. Никто не приезжает в Париж умирать, все хотят здесь только жить и любить, одна я такая глупая: думала, что здесь можно умереть».
— Мне показалось, что Париж для этого очень подходит, — пояснила Марианна.
Наконец ей удалось выполнить задуманное. Она преодолела настойчивое желание сказать правду.
— Хорошо. — Он встал. — Я хотел бы, чтобы вы прошли несколько тестов, прежде чем поедете домой. Пойдемте. — Он распахнул перед нею дверь.
Марианна смотрела на свои ноги в серых туфлях, механически переставляя их шаг за шагом. Вот она вышла из кабинета. Вот прошла по коридору, вот толкнула вращающуюся дверь, вот прошла по другому коридору — и дальше, дальше, дальше.
Ее отец работал настройщиком колоколов, но потом сорвался с крыши колокольни и переломал почти все кости. Ее мать смертельно обиделась на него за это несчастье и не могла простить ему это до конца его дней. Времена ныне тяжелые, не пристало мужчине подвергать жену подобным испытаниям.
Отец объяснял ей суть колокольного звона: «Язык должен поцеловать стенку колокола, только слегка прикасаясь, и нежно-нежно заставить ее завибрировать, нежно, без принуждения».
По характеру он тоже чем-то напоминал колокол. Если от него требовали ответа или поступка, он замыкался в себе и замолкал, пока его не оставляли в покое.
После смерти бабушки он решился переехать из супружеской спальни в сарайчик, который переоборудовал под мастерскую и в котором устроил себе постель. До замужества Марианна служила посредницей между родителями, она приносила отцу обед в мастерскую, где он для развлечения изготавливал маленькие глокеншпили. С ним Марианна ощущала ту же потребность поделиться сокровенным, что и он с ней, а он бывал тронут тем, что у него есть дочь, которая его любит и шепотом поверяет ему свои тайные мечты и жизненные планы: сначала ей хотелось стать археологом, потом — учительницей музыки, потом — конструировать детские велосипеды и жить в доме на берегу моря. Оба они были мечтателями.
— Ты слишком многое переняла от отца, — говорила ее мать.
Марианна несколько десятилетий не могла вспоминать о нем. Ей его не хватало; возможно, это была единственная тайна, которую она не скрывала от себя самой. А еще не забывала о своем обещании быть счастливой.
— Извините, я отлучусь на минуту, — сказал психолог и поманил докторшу, которая прошлой ночью доставила Марианну в больницу. Они заговорили по-французски, время от времени посматривая на Марианну.
Марианна отошла к окну, отвернулась и стала к ним спиной, чтобы незаметно достать из сумочки изразец и беспрепятственно полюбоваться им.
Кердрюк. Дотронувшись до картинки, она ощутила такое сильное сердцебиение, что у нее на миг почти прервалось дыхание.
«Суицид имеет некую ценность».
Марианна снова посмотрела на пол.
«Я и правда терпеть не могу эти туфли».
А потом она просто пошла, сама не зная куда, толкнула следующую вращающуюся дверь, увидела за ней лестницу, быстро сбежала по ступенькам и свернула направо. Она пересекла коридор, по обеим сторонам которого сидели на скамейках вялые больные, в конце его заметила распахнутую дверь, а за этой дверью начиналась свобода. Воздух! Наконец она сможет дышать! Гроза омыла день, воздух был мягок и благоухал зеленью, и Марианна, стараясь не обращать внимания на артритические боли в колене, кинулась прочь.
Сердце у нее бешено стучало, она пробежала по мощенной булыжником улице, бросилась в какой-то переулок, пробежала под аркой, пересекла какой-то внутренний двор и снова выскочила в хаосе городских улиц. Она неслась, не думая, и только перебегала с одной стороны улицы на другую.
Она и сама не знала, долго ли длился этот марафон, но, когда колотье в боку стало невыносимым, присела на край небольшого фонтанчика. Подставила запястья под струйку воды и засмотрелась на свое отражение в водной глади.
Разве не говорят, что красота — это состояние души? А если душа любима, то каждая женщина превращается в восхитительное создание, даже если внешне — совсем невзрачна. Любовь преображает души женщин, и они становятся красавицами — на пять минут или на всю жизнь.
«Я бы хотела побыть красавицей, — подумала Марианна, — хотя бы пять минут. Вот если бы меня полюбил кто-нибудь, кого я люблю».
Она опустила палец в воду и медленно поболтала им. «Я бы хотела переспать с кем-нибудь, кроме Лотара. Хотела бы поносить красное.
Жаль, что я за себя не боролась».
Она встала. Еще не поздно; она все еще могла делать, что хочет, а хотела она, чтобы все это кончилось.
6
На перроне вокзала Монпарнас Марианна села на скамейку возле журнального киоска и стала следить, когда на табло появится скорый поезд «Тэ-Жэ-Вэ 8715 Атлантик», в десять часов пять минут отправляющийся в Кемпер.
Ее охватило радостное нетерпение.
Но вот буквы на табло поменялись, напротив ее поезда зажглись слова: «Путь номер семь», и Марианна встала со скамейки. Колено у нее снова заболело.
Несколько минут тому назад в кассе она выложила на прилавок большую часть своих наличных денег и показала пальцем на надпись на изразце. Но денег ей хватило только до Оре, дальше до Понт-Авена и Кердрюка ей придется добираться самой.
Озираясь, Марианна шла вдоль длинного, словно бронированного, «Тэ-Жэ-Вэ»; ей чудилось, что на нее вот-вот бросятся и арестуют.
С каждым шагом Марианне казалось, будто какая-то чуждая сила овладевает ее телом. Будто некое незнакомое существо пытается вторгнуться в нее, наполнить ее собой и пересоздать, и она раздраженно замерла.
Да что же это такое?
Она схватилась за поручни и попробовала было взобраться по высоким ступенькам «Тэ-Жэ-Вэ». На средней она внезапно остановилась. Еще не поздно спуститься, найти телефон, позвонить Лотару и попросить забрать ее отсюда.
Не дать ей осуществить задуманное.
«Но я все равно уже умерла. Какая разница, куда я поеду?»
Она решительно подтянулась, держась за поручни, втащила себя на последнюю ступеньку и стала искать свое место; оказалось, что оно у окна. Она обессиленно опустилась на сиденье, закрыла глаза и стала ждать, когда наконец поезд тронется. Место рядом с ней осталось незанятым.
Подняв глаза, Марианна заметила чье-то улыбающееся лицо, лицо женщины, умеющей противостоять трудностям, это было заметно по тому, как сияли ее большие светлые глаза. Встретившись с ней взглядом, Марианна поспешно отвернулась: она не понимала, почему незнакомка так на нее смотрит.
В зеркальном стекле она не узнала саму себя.
Наконец поняв, кто перед нею, она целиком отдалась собственному взгляду. Такой она хотела запомнить себя навсегда, с блестящими глазами, порозовевшими щеками и играющим в волосах солнцем.
Три часа спустя выйдя из поезда в Оре, она глубоко вдохнула: воздух здесь показался ей более шелковистым и прозрачным, чем в Париже, не таким спертым. Марианна решила купить бутылку воды и карту, а потом ехать автостопом. Уж как-нибудь она доберется до Кердрюка, даже если придется идти пешком.
Пройдя насквозь здание вокзала, она заметила на одинокой скамейке в тени монахиню: та завалилась набок, закинув голову за спинку, словно внезапно скончалась. Марианна огляделась — никто не обращал на монахиню внимания. Она медленно подошла поближе.
— Бонжур?
Монахиня молчала.
Марианна слегка прикоснулась к ее плечу. Монахиня всхрапнула. Из открытого рта на ее монашеское платье сползла струйка слюны. Марианна достала бумажный платок и осторожно отерла ей подбородок.
— Ну и что же мы теперь будем делать, когда познакомились?
Монахиня тихонько, мелодично пукнула.
— Содержательная беседа получается, — пробормотала Марианна.
Веки у монахини затрепетали, и она проснулась. Механически повернула голову сначала направо, потом налево и наконец уставилась на Марианну.
— Знаете, — солгала Марианна, — у меня так тоже бывает. В гостях и в поездках сплю лучше, чем дома. А вы приходите на вокзал, когда хотите выспаться?
Монахиня с тихим вздохом склонилась набок, привалившись к плечу Марианны. И снова заснула.
Марианна не решалась пошевелиться, чтобы ее не разбудить. С каждым вздохом она пыхтела Марианне в ухо.
Солнце перемещало тени. Марианна тоже закрыла глаза. Так приятно было просто сидеть и наблюдать, как мимо проходит жизнь, увлекая за собой тени.
В какой-то момент у вокзала, взвизгнув шинами, затормозил микроавтобус. Марианна, вздрогнув, пробудилась от полузабытья. Из микроавтобуса вышел человек в рясе, за ним — две, три, четыре… четыре монахини, и все они воззрились на Марианну и ее новую приятельницу, которая все еще подремывала, прильнув к ее плечу.
— Mon Dieu![6] — воскликнул священник.
Прибывшие окружили Марианну, помогли женщинам, не переставая вполголоса переговариваться, словно читая молитвы.
«По-видимому, монахиня выспалась», — решила Марианна.
Теперь священник в бело-зеленой рясе обратился к Марианне. Она вежливо его выслушала, не понимая ни слова. Потом она вздохнула и произнесла:
— Je suis allemande. Pardon. Au revoir[7].
— Allemande? — переспросил священник. Потом он ухмыльнулся, показав кривые, неровные, словно надгробные камни на затерянном лесном кладбище, зубы. — Ah! Allemande! Le football! Ballack! Tu connais Ballack? Et Schweinsteigöör?[8]
Он сделал вид, будто держит в руках мяч.
— Ballack! — повторил он и пнул воображаемый мяч.
— Oui, Ballack, — раздраженно протянула следом за ним Марианна, но, как и он, подняла кулак и нерешительно заулыбалась.
Священник засиял, а монахини стали увлекать Марианну и свою сестру, все еще пребывающую в легкой прострации, за собой.
— Нет-нет-нет, — поспешно запротестовала Марианна. — Здесь наши пути расходятся. Идите с Богом, а я пойду… Не важно. Au revoir, au revoir[9].
Она еще раз махнула им рукой и хотела было уйти.
Молодая монахиня дернула ее за рукав.
— Меня зовут Клара. Моя бабушка была немка… Понимаешь?
Марианна кивнула.
— Мы хотим вас поблагодарить, — пояснила монахиня. — Пожалуйста, проводи нас до… comment ça se dit…[10] до монастыря.
Марианна заметила, что другие монахини украдкой разглядывают ее и хихикают.
— Но… мне пора. Я еще сегодня должна добраться до Кердрюка.
Она вытащила карту и дотронулась кончиком пальца до точки — деревушки в устье реки Авен.
— Pas de problème![11] Туристы приезжают в монастырь на экскурсию, а оттуда отправляются по округе, — сказала Клара и постучала пальцем по городку Понт-Авен на карте, севернее Кердрюка. — Там жил Поль Гоген. И многие другие художники.
Ее товарки уже сидели в автобусе. Марианна на мгновение заколебалась. Может быть, и правда лучше поехать с монахинями, чем торчать на обочине, в ожидании, когда ее кто-нибудь подбросит?
И вошла следом за ними.
В маленьком микроавтобусе с потертыми кожаными сиденьями пожилая монахиня, подавшись вперед, нежно погладила Марианну по плечу.
— Merci[12], — произнесла она.
Клара, не вставая с места, обернулась к Марианне:
— Доминик… больна. Она вчера неожиданно ушла из монастыря и, наверное, заблудилась. Она по временам забывает, кто она, откуда, как добраться домой… Vous avez compris, madame?[13] Благодаря твоей помощи сейчас опять все есть хорошо.
Марианна сделала вывод, что Доминик страдает болезнью Альцгеймера.
Клара снова обернулась:
— Как тебя зовут?
— Меня зовут…
— Je m’appelle…[14] — мягко поправила ее монахиня.
— Je m’appelle Marianne[15].
— Marie-Ann?! Nous sommes du convent de Sainte-Anne-d’Auray! Oh, les voies de Dieu![16] — Монахиня перекрестилась.
— Да в чем дело? — удивилась Марианна, но монахиня, сияя от счастья, объяснила:
— Ты носишь то же имя, что и наш монастырь. Мария и Анна. Мы возносим молитвы святой Анне, матери Марии, мы из конгрегации дочерей Святого Духа из Кер-Анны, Filles du Saint-Esprit Ker Anna, для нас Анна — исток всей женской святости. Мари-Анн, ты явилась к нам с небес!
«И вновь возвращаюсь на небеса, милая моя, — подумала Марианна. — Ах нет, я двигаюсь в другом направлении».
— Вон он! — выкликнул из заднего ряда священник. — Монастырь Сент-Анн-д’Оре!
Он мог больше ничего не добавлять, вид говорил сам за себя.
Перед ним простиралась широкая площадь, окруженная живыми изгородями высотой с дом, кустарниками и пышными цветущими гортензиями. На фоне ярко-голубого неба выделялся силуэт высокого, величественного собора. Под ветром покачивались красные листья деревьев, Марианна увидела фонтаны, заметила мост со ступенями; он напомнил ей мост Риальто в Венеции на открытках, которые посылала ей соседка Грета Кёстер, одна из немногих женщин, устоявших перед обаянием Лотара. Ах, Грета…
— Святая лестница. — Клара показывала то одно, то другое. — Ораторий, статуя святой Анны, часовня Непорочного зачатия.
Они проехали под воротами к строгому трехэтажному зданию, монастырю Святой Анны. Клара и отец Баллак, как мысленно окрестила священника Марианна, провели ее мимо стойки информации, велели принести ей мятного чаю и поспешили к паломнической мессе — «messe de pèlerins», как торопливо пояснила Клара.
По пути в закрытый монастырский двор, простой и изящный, Марианна столкнулась со священником, более важным и серьезным, чем Баллак. Он приветственным жестом протянул ей руки.
— Отец Андреас. Добро пожаловать, — сказал он. Говорил он по-немецки. — Я из Гейдельберга, — пояснил он, заметив удивление Марианны. — От имени всего монастыря благодарю вас за то, что вы столь самоотверженно приняли участие в одной из наших насельниц. До меня дошли слухи, что вы не можете двинуться дальше по причине того, что французская транспортная компания не предоставила вам соответствующую услугу?
— Да… Можно сказать и так.
— Позвольте спросить, куда вы направляетесь и зачем?
— В Кердрюк. Я хотела… У меня там…
— У вас там друзья? Или вы там живете?
Марианна не успела придумать подходящий ответ на такие вопросы.
— Извините, это было бестактно. Несмотря на ваше желание ехать, я настоятельно приглашаю вас погостить здесь: еда в монастыре превосходная, у нас останавливаются паломники и гости. Вероятно, вы спасли жизнь сестре Доминик, за это не только я, но вся католическая церковь Франции приносит вам самую глубокую благодарность.
«А папе что, до этого дела нет?»
— Я бы хотела уехать, — взмолилась Марианна.
Священник минуту подумал.
— Пройдите по монастырской подъездной дороге. В конце увидите стоянку. Скажите водителю любого автобуса, чтобы он вас подвез, и передайте от меня привет! До свидания, мадам.
Он осенил ее крестным знамением и энергично устремился в своей развевающейся ризе по направлению к базилике Святой Анны.
— Большое спасибо, — пролепетала Марианна.
Раздался звон колоколов, и она вспомнила об отце. Одиннадцать часов. Марианна совершенно ясно, внутренне не дрогнув, осознала, что мать подавляла ее как личность, но она никогда не возмущалась именно потому, что берегла отца. Все его смирение не помогло бы ему, если бы Марианна восстала против матери.
Думая о любимом отце, Марианна пересекла внутренний двор монастыря. Как много их объединяло! Как они были похожи! Они оба любили природу, музыку и частенько рассказывали друг другу всякие небылицы. Марианна прислушалась к жужжанию пчелы, заблудившейся в соцветиях гортензии. Она завернула за угол серого здания, прошла мимо часовни из песчаника и вдруг ахнула от блаженного изумления. Какой сад! С могучими соснами, с кустами сирени, с бамбуком, пальмами, розами… Настоящая цветущая идиллия, укрытая от посторонних взоров.
Она заметила в глубине сада, окруженного высокими стенами, каменную скамью.
Как здесь красиво! Какая тишина вокруг!
Она медленно перевела дыхание. На миг Марианне показалось, что она хочет остаться в этом саду навсегда.
«Ах, Лотар!» Ее истерзала неутолимая тоска, она просто жаждала разделить с ним хоть что-нибудь, и теперь осознание того, что их ничто не связывает, обрушилось на нее со всей силой. С мужем ее ничто не объединяло. Даже желания и мечты у них были разные. Важно было только то, что хотелось ему.
Нежное, едва различимое облако — лента белой пены, растянувшаяся на много миль, — парило над ее головой на фоне ярко-голубого неба.
«Кучевые облака — это небесные танцоры, — услышала Марианна голос отца, — а их братья, слоисто-кучевые облака, — небесные процессии, шествия и кавалькады. Ни те ни другие терпеть не могут слоисто-дождевые облака, толстых лентяев. Они и двигаться-то почти не в силах и всем портят настроение. — Отец подумал и добавил: — Как твоя мама!» — и Марианна расхохоталась, но потом ее долго мучили угрызения совести.
Дети из детского сада при хосписе смеялись, когда она вот так сравнивала облака с людьми, и вместе с ней выходили на улицу посмотреть на небесных танцоров и небесные праздничные процессии.
От тепла ее больное колено перестало ныть. Икры больше не сводило. Марианна скинула туфли и босиком пошла по мягкой, чуть влажной траве.
Почувствовав спустя час, что она действительно могла бы остаться здесь навсегда, пересчитывая облака и травинки, Марианна со вздохом снова надела туфли.
Она уходила все дальше и дальше, теряясь в глубине роскошного, благоуханного сада, пока наконец не забрела на маленькое, обнесенное каменными стенами кладбище.
Белый, крупный, как жемчуг, песок покрывал дорожки и могилы, словно белоснежной сияющей простыней. Могильные холмики напоминали взбитые пуховые перины. На каждой белой песчаной постели цвел сладко пахнущий куст красных роз.
Как любовно все было устроено на этом кладбище, словно монахини хоронили здесь своих родных сестер. Они лишь спали, видели сны, и сны их были нежны, как эти лепестки роз.
Марианна опустилась на каменную скамью, изъеденную временем и непогодой.
«А почему мне не досталось места, где я могла бы помечтать?»
«Неужели для меня не нашлось никакой ниши?»
«Где же дети, которых я не родила, потому что оказалась не на своем месте? Куда ушла любовь, которую мне некому было подарить?»
«Почему навсегда умолк мой смех?»
«Я слишком многого в своей жизни не сделала. А теперь уже поздно».
Подняв глаза, она заметила у кладбищенских ворот Клару. Молодая сестра медленно подошла ближе.
— Я не помешаю? — спросила Клара, подождала, пока Марианна не кивнет, и только после этого села рядом с ней.
Она сложила руки на коленях и стала вместе с Марианной созерцать белые песчаные могильные холмики.
— Трудное тебе выпало странствие. — Эта фраза прозвучала не как вопрос, а как утверждение.
Марианна уставилась на собственные ногти.
— Вы думаете, со смертью все кончается, Мари-Анн?
— Надеюсь, что да, — прошептала Марианна.
— Здесь, в Бретани, на побережье океана, мы в это не верим. Мы думаем, что смерть — совсем не то, что однажды приходит к каждому, а что-то, что всегда пребывает рядом с нами. Здесь. — Клара неопределенно показала в пустоту. — Там. — Махнула в сторону деревьев.
Потом она нагнулась и взяла в ладонь горсточку белого песка.
— Смерть вот какая, — начала она, пересыпая песок из левой руки в правую. — Жизнь входит в нее и ненадолго в ней останавливается. — Тут она разжала правую руку, и горстка песка просыпалась на землю. — А другая выходит из нее. Жизнь никогда не замирает, она странствует как… вода, вода в… moulin. В мельнице. Смерть — это просто краткая остановка.
— В церкви меня учили иначе, — засомневалась Марианна.
— Бретань древнее церкви. Здесь же Арморика! Здесь суша обрывается в море, здесь край света! Бретань — сама ровесница смерти.
Марианна подняла глаза к небу.
— Так, значит, ада нет? И рая нет, где-то там, наверху?
— У нас есть много слов для обозначения страха, жизни, умирания. Иногда они описываются одним и тем же словом. Иногда небеса и земля — одно и то же. Ад и рай — одно. Мы умеем читать свою землю и видим в ее письменах, что смерть и жизнь — неразличимы. Мы лишь странствуем между ними.
— А говорят ли письмена земли, куда ведет странствие? Можно прочесть об этом, как в путеводителе?
Клара не рассмеялась:
— Tiens[17], ты должна научиться слушать, что говорит тебе земля. Камни повествуют о душах, которые плакали, уходя в потусторонний мир. Трава шепчет о людях, некогда по ней ступавших. Ветер приносит тебе имена тех, кого ты любила. А море знает имена всех умерших.
Марианне стало любопытно, не вымолвит ли когда-нибудь этот белый песок у нее под ногами ее имя: «Здесь сидела Марианна, а вскоре она умерла».
— Я боюсь смерти, — прошептала она.
— Не бойся, — откликнулась Клара, и в голосе ее звучало неподдельное сострадание, — не бойся. L’autre monde… другой мир во всем напоминает наш. Он заключен внутри нашего мира и похож на него, мы просто не видим тех, кто населяет этот другой мир. В ином мире обитают феи и волшебники. Богини. Боги. Демоны. Тролли-корриганы. И мертвые, покинувшие нас. И однако, они остаются с нами; возможно, даже сейчас сидят рядом, на этой скамье. Все наши сестры… — Клара показала на могильные холмики, — все наши сестры с нами и видят нас. Просто мы их не видим. Не бойся, пожалуйста.
Марианна подняла взгляд, но не узрела никаких призраков, одни лишь розы.
— Мне пора. Я должна… завершить свое странствие, — вырвалось у нее.
Она осторожно отняла у Клары руку и пошла прочь, а песок похрустывал у нее под ногами, словно только что выпавший снег.
Она нашла крохотную дверцу, протиснулась в узенький проем и выбралась из монастырского сада.
7
Вдыхая бодрящий аромат свежеиспеченной пиццы, Марианна разглядывала группу туристов, в поисках сувениров перебиравших ассортимент церковной лавки возле пиццерии.
Когда группа поравнялась с Марианной, экскурсовод обратилась к ней: «Allez! Allez![18] Поторопитесь! Don’t stay too far behind, ma’am![19] Salida!»[20]
Марианна огляделась. Но нет, экскурсовод явно обращалась именно к ней:
— Если хотим до наступления темноты увидеть Понт-Авен, надо поспешить!
Понт-Авен!
Марианна откашлялась:
— Конечно! Иду-иду!
И, не поднимая головы, вошла в автобус. Сердце у нее так и выскакивало из груди. Вот-вот кто-нибудь покажет на нее пальцем и крикнет: «А ее с нами не было!»
Когда автобус медленно выехал на шоссе, Марианна быстро уселась позади какой-то пары в шуршащих красных ветровках. На сиденье рядом с ней лежала программа экскурсии, она схватила ее и попыталась за ней спрятаться. «Дольмены и деликатесы» — значилось в программе, «Gräber und Genießen» — по-немецки, «Stones and scones» — по-английски. В Понт-Авене планировалось посещение Панванской фабрики по изготовлению печенья. До этого предстояло еще осмотреть мегалиты Карнака и попробовать устрицы в Белоне.
Марианна развернула свою карту. По крайней мере, Карнак располагался у моря, значит она ехала в более или менее правильном направлении.
Она попыталась вжаться в спинку и сделаться невидимой. Ей казалось, будто она едет зайцем, а так в общем-то и было.
Спустя полчаса рыже-красный автобус, сделав эффектный широкий разворот, припарковался возле окруженного забором поля, на котором виднелось множество камней.
— Менекская аллея менгиров, неподалеку от Карнака, — вслух читала по путеводителю женщина в красной куртке на переднем сиденье, — была создана восемь тысяч лет тому назад, а может быть, и ранее. В любом случае, когда здесь появились кельты, эти камни уже стояли на равнине. Легенда гласит, что это заколдованные воины: в незапамятные времена на Арморику напало вражеское войско, но местные феи обратили могущественных врагов в камни.
Марианна завороженно глядела на странные гранитные обелиски. «Вот так и некоторые люди: вроде из плоти и крови, а на самом-то деле из бретонского гранита, принявшего человеческий облик», — думала она.
От каменного войска автобус поехал в сторону Лорьяна, потом снова свернул на автостраду, а неподалеку от Кемперле — в направлении Рьек-сюр-Белона. Марианна снова развернула карту. Реку Белон отделял от реки Авен мыс. Кердрюк находился как раз там, где Авен медленно расширялся в своем течении, а возле Порт-Манека впадал в Атлантический океан вместе с Белоном.
Она достала из сумочки изразцовую плитку.
«Пожалуйста, — мысленно взмолилась она, — сделай так, чтобы настоящий город хоть немножко напоминал нарисованный».
Автобус двигался по извилистой улочке, над которой смыкались пышные ярко-зеленые кроны увитых плющом деревьев. Он все глубже терялся в лабиринте полей и аллей, за окном время от времени мелькали гранитные дома с цветными ставнями и кустами голубых и розовых гортензий. Но вот он остановился в круто спускающемся к реке переулке, в конце которого Марианна заметила фасад помещичьей усадьбы, водную гладь и лодки.
— Добро пожаловать в Шато-де-Белон, с тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года это самое знаменитое место паломничества для всех любителей устриц! — провозгласила экскурсовод.
Марианна поотстала, пристроившись в хвосте группы. Справа от нее тянулся ряд длинных деревянных столов, установленных под деревьями на природной террасе, откуда открывался невыразимо прекрасный вид на поросший лесом изгиб реки. А далеко-далеко на горизонте, за последней речной излучиной, она увидела сверкающую полоску моря!
Оно и вправду сияло. На его волнах танцевали звездочки. И это было чудесно.
Двое белокурых молодых людей в резиновых передниках дожидались посетителей. Рядом с ними стоял еще один, напомнивший Марианне молодого Алена Делона, вот только он носил серьги, кожаные браслеты и высокие байкерские ботинки.
Он вонзил в плоскую устрицу что-то вроде лезвия непомерно большого консервного ножа, повернул руку, и она распалась на две половинки. «Ален Делон» поднес ее ко рту и одобрительно сказал владельцу устричной фермы: «Bon»[21]. Тот принялся выбирать из серого ящика устрицы, время от времени ударяя одной о другую и словно прислушиваясь к стуку. Потом он пересыпал их в плетеную корзину из стружек, выложенную влажно поблескивающими водорослями, сочными, как молодой шпинат.
Экскурсовод прочитала небольшую лекцию об устрицах, но Марианна слушала вполуха, так очаровал ее вид простиравшейся до самого моря реки с размеренно покачивающимися на волнах лодками. Лишь иногда до нее долетали обрывки пояснений: «Устричная молодь… Подводные детские сады…»
— Des plates ou des creuses?[22] — произнес чей-то голос у нее за спиной — голос «Алена Делона».
Он заговорил, открывая сначала кругленькую, гладкую устрицу, а потом удлиненную, с шершавой грубой раковиной. Устрицы распались у него в руках с хрустом, точно сломалась маленькая древесная веточка.
«Ален» протянул Марианне круглую плоскую устрицу:
— Calibre numéro un, madame![23]
Дрожащей рукой она приняла устрицу. Заглянула в створки раковины. Снова посмотрела на молодого человека. Он был привлекателен, но совершенно лишен самодовольства. В его темно-голубых глазах угадывались нежность и тоска, во взгляде читалось одиночество ни с кем не разделенных ночей.
«Я боюсь».
Она еще никогда не пробовала устриц. Снова встретившись глазами с «Аленом Делоном», она заметила на его чувственных губах улыбку. Он кивнул, словно ободряя ее.
Марианна проглотила устрицу, повторив его движения: поднесла ко рту, откинула голову, втянула в себя содержимое створки.
Она ощутила едва различимый запах морской воды, вкус ореха, вкус моллюска, а потом ее обонянием завладел насыщенный аромат, который для нее всегда ассоциировался с морем. Пена, волны, прибой, медузы, соль, кораллы, резвящиеся рыбы. Необозримый простор и бесконечность.
— Море, — печально промолвила она. Море можно было попробовать на вкус!
— Ya. Ar Mor[24], — сказал он с гортанным смехом, соскреб устричным ножом остаток светлой мускульной ткани и снова протянул ей устрицу.
«Ар Мор». «Каждая устрица — как море, — думал „Ален Делон“, — то море, что всякий носит в сердце, широко раскинувшееся и свободное, необузданное или тихое, нежно-голубое или черное. Устрица — это не только деликатес. Устрица — это ключ к мечте о море, которая втайне владеет каждым. Те, кто не хочет броситься в объятия моря, кто боится его безбрежного горизонта и его глубин, его страстности, его непредсказуемости, никогда не полюбят устриц. Они будут вызывать у таких людей отвращение. Точно так же, как вызывает у них отвращение страсть и жизнь, смерть, и все, что олицетворяет море».
— Merci[25], — сказала Марианна.
Когда она передавала ему устричную раковину, их пальцы соприкоснулись.
«Ты мог бы быть моим сыном, — внезапно подумала Марианна. — Как жаль, что у меня нет такого сына, как ты. Я бы танцевала с тобой под оперные арии. Я бы дарила тебе любовь, чтобы и ты научился любить».
Сидя с тарелкой устриц и большим бокалом мюскаде под кроной буков над заливом, созерцая море, одновременно далекое и близкое, Марианна ела одну устрицу за другой, запивала их белым сухим вином и думала о смерти.
Неужели смерть не абсолютна, ею не все кончается, как говорила Клара? Неужели она похожа на посюсторонний мир, только с феями и демонами?
На столик Марианны спорхнул воробей и принялся клевать ее масло.
8
Чем ближе автобус подъезжал к Понт-Авену, тем больше Марианне хотелось, чтобы они ехали помедленнее. Она боялась, что выйдет у ближайшей телефонной будки, позвонит Лотару и станет умолять забрать ее домой.
Когда автобус остановился у кондитерской фабрики, Марианна незаметно ускользнула. Она прошла насквозь весь Понт-Авен, не ощущая его очарования: обычная живописная деревушка, с галереями, с блинными и домами, судя по виду, построенными еще в XVIII веке. Здесь фоном настоящему служило прошлое. Марианна брела вдоль извилистого русла реки, пока не миновала отель «Мимоза» и не оказалась в лесу этого городка художников. Судя по маленькой табличке, до Кердрюка оставалось еще шесть километров триста метров, если следовать туристическим маршрутом GR-34. Значит, всего шесть километров. Примерно двенадцать тысяч шагов. Пустяки.
В Целле Марианна много ходила пешком. Она казалась самой себе эдаким воробьем, который неустанно вылетает из гнезда то за зернышком, то за травинкой. Лотар никогда не давал ей машину. «У тебя слишком мало опыта, — лаконично пояснял он, — ты и места на парковке не найдешь». Он сам не ходил по магазинам, он точно заблудится между полками, думала она, полководец затеряется среди консервных банок, тампонов и коробок чая в пакетиках.
Она снова инстинктивно прижала руку ко рту. Ну почему в голову ей лезет такая гадость.
В воздухе пахло илом и разогретой лесной землей. К этому запаху иногда примешивался тонкий аромат грибов. Вдруг она успеет к морю до заката и заснет в нем вместе с солнцем?
Кроме жужжания насекомых, попискивания зяблика, негромкого хруста веток у нее под ногой да убаюкивающего шелеста листвы, ничто не нарушало тишину. Ничто. Ничто, кроме звука ее шагов, не выдавало человеческого присутствия на извилистой лесной тропе вдоль реки Авен, сузившейся теперь примерно до метра и напоминавшей бесконечный коридор, ведущий в незнакомую комнату.
Повсюду цвела красная наперстянка. Дигиталис. Лекарство, от которого может навсегда остановиться сердце.
«Может быть, просто сорвать и пожевать как следует?» — подумала Марианна. Но потом отогнала эту мысль: а что, если ее тело найдут в лесу дети? Труп в зарослях кустарника — зрелище явно не для детей.
Она проходила под столетними высокими деревьями, едва пропускавшими свет на тропу, и оттого ее окутывала зеленая дымка. Марианна поднялась на небольшой холм, а оттуда двинулась по узенькой улочке; улочка плавно перешла в каменный мостик, прямой как стрела, перекинутый через высохшую речную протоку. Посреди моста возвышался домик без окон. Moulin à marée[26].
Пошел дождь, хотя солнце не скрылось, и от капель воздух замерцал.
Она вообразила, что именно это золотистое марево — завеса, отделяющая мир живых от потустороннего. На середине моста Марианна подняла руку и окунула ее в золотистое сияние. Дождь оказался удивительно мягким и теплым на ощупь. Она вообразила, как по мосту мимо нее шествуют феи и великаны и посмеиваются над ней, ведь она прикоснулась к миру мертвых.
Она и не знала, что мир может быть столь волшебным и столь неприрученным. Без высотных домов, без новостроек, без автобанов. Зато с птицами, гнездящимися на пальмах, с глициниями, с пионами, с мимозами, в которых утопают серые скалы. С небом, с камнями и с иными мирами, таящимися за золотистой дымкой дождя.
«Наверное, такая земля формирует характер человека, — подумала Марианна, — а не наоборот. Наверное, люди здесь вырастают гордыми и упорными, страстными и одновременно робкими; земля творит их по своему образу и подобию, как камни или древесные корни».
Марианна все шла и шла, и одиночество и пустота болезненно отзывались в ее теле. Ей показалось, что из лесной чащи доносится чей-то шепот; она вспомнила о Кларе и о том, что эта земля поведает свои истории только тому, кто готов их услышать. Марианна прислушалась, но не могла понять, что говорят ей ветер и трава, деревья и гранитные скалы.
Дождь перестал, когда она вышла из лесу, а sentier[27] закончилась, упершись в грязный контейнер для пустых бутылок прямо на маленькой парковке, присыпанной светло-желтой галькой.
Она огляделась: дорога без озелененной разделительной полосы, золотисто-желтые поля. Слева дома, кажется, стояли более кучно.
Марианна была словно немного не в себе от обилия свежего воздуха и непривычно долгой ходьбы. В поднимающемся легком бризе ощущалось электричество и запах пыли, как обычно бывает перед грозой. Колено у Марианны пульсировало болью. Она прошла мимо разноцветных гортензий, но не стала разглядывать ни их, ни бретонские chaumières[28], дома из песчаника с тростниковыми крышами и с яркими ставнями, ни сады с цветущими инжирными деревьями, благоухающими олеандрами и шепчущей под ветром морской травой.
Она побрела по совершенно пустынной деревенской улице.
Взобравшись на небольшой пригорок, она слева обошла белый трехэтажный дом, и перед нею, тихим воскресным июньским днем, открылось то, о чем она мечтала.
Порт Кердрюка.
9
Порт Кердрюка состоял из прямоугольного причала и двух молов: один выдавался в воды Авена, другой тянулся вдоль берега Авена выше по течению. На нем сгрудились гребные лодки, теснясь, словно разноцветные ложки в ящике для столовых приборов. К покатым речным берегам прильнули крытые тростником chaumières, на фоне насыщенной зелени сосен и лугов, поросших морской травой, казавшиеся белыми цветами. Десятки спортивных яхт, пришвартованных между красными буями, постепенно теряясь из глаз в устье Авена, покачивались на волнах, как белые лунные камни на ожерелье в этническом стиле. Они танцевали, приподнимаясь и опускаясь на соленой воде прилива, вливающейся в пресную воду реки.
А там, где встречались вода и небо, синева и золото, пологие лесистые холмы и обрывистые утесы, начиналось море.
Ресторан в нижнем этаже белого дома, называвшийся «Ар Мор», щеголял деревянной террасой с красно-белой маркизой и голубой деревянной калиткой. Пансион по соседству, «Оберж д’ Ар Мор», являл собой романтическое, испещренное следами времени и непогоды гранитное здание; вход в него зарос плющом и отцветшими гортензиями.
На другом, левом берегу Авена, rive gauche, виднелся еще один крохотный порт с коротеньким причалом, кругленькими рыбачьими лодками и баром под зеленой маркизой.
И нигде ни одного человека.
Слышалось лишь бульканье приливной волны, непрерывно смешивающейся с речной, неритмичное поскрипывание стальных тросов на мачтах яхт да тихий плач женщины.
Этой женщиной была Марианна, и плакала она, не отводя глаз от этого зрелища, — Кердрюк был невыносимо прекрасен. Все, что до сих пор удалось ей увидеть за шестьдесят лет жизни, навсегда померкло по сравнению с ним.
Она все более убеждалась, что наконец-то обрела свой дом. Она ощущала запах соли и свежей воды, воздух был прозрачен как стекло, реку покрывал сверкающий ковер золотисто-голубого шелка. А какое благоухание приносил ветер!
В беспощадном свете этой красоты все пережитое предстало перед нею без прикрас, жестоко и немилосердно. Все оскорбления, которые она когда-то молчаливо снесла, все гневные протесты, так и не слетевшие с ее губ, все пренебрежительные жесты, на которые она не нашла в себе силы ответить. Марианна преисполнилась скорби, и эта глубокая скорбь побудила ее раскаяться в собственной трусости.
С дерева спрыгнул рыже-белый кот, уселся у Марианны за спиной и выжидательно уставился на нее. Она не перестала дрожать от рыданий, и тогда кот встал, обошел ее и снова сел и снова уставился на нее.
— Ну что? — рыдая, выдавила из себя Марианна и отерла слезы.
Кот сделал по направлению к ней три шага и мягко боднул ее головкой в подставленную руку. Он с силой потерся о нее затылочком и низко, хрипло замурлыкал. Марианна почесала коту подбородок.
Тени деревьев и домов сделались длиннее, водяной шелк засверкал ярче. Кердрюк стал погружаться в сумерки.
Марианна сообразила, сколько у нее осталось денег. Наверное, хватит на такси до моря и на ужин, а может быть, и на бутылку воды; на номер в гостинице — точно нет, разве что на надувной матрац с Библией или на полено вместо подушки.
Она тяжело вздохнула. День выдался долгий.
Неожиданно раздался раскат грома. Кот испуганно вырвался у нее из рук и отпрянул. Первые острые, точно иглы, капли дождя уже испещрили асфальт чернильными точками.
Стальные тросы заскрипели резче, а вода потемнела и заволновалась. Дождь взбил на волнах пену. Яхты на причале стеснились в кучку, точно замерзшие овцы. На каком-то катере ветер ритмично хлопал дверью каюты.
Марианна кинулась к зданию портовой администрации и дернула дверную ручку: закрыто. Бросилась к входу в ресторан: закрыто. Она забарабанила в дверь. Теперь казалось, что дождь льет и снизу: капли с такой силой ударялись об асфальт, что снова отскакивали. Вода стекала Марианне за шиворот, в рукава, плескалась в туфлях. Она окутала голову плащом и кинулась обратно к причалу.
Кот помчался по направлению к молу. Казалось, он хочет броситься в реку; Марианна тут же понеслась за ним. «Не надо!» — в ужасе крикнула она, но он уже летел в воздухе — и приземлился в последний пришвартованный катер. Марианна как-то сумела вслед за ним перебраться через ходящие ходуном поручни на борт, поскользнулась на мокрой палубе, кое-как схватилась за ручку двери, протиснулась в каюту, обрушилась вниз по лестнице и наглухо захлопнула за собой дверь.
Стук дождевых капель тотчас же превратился в приглушенный шелест или журчание, а из-под ног, из глубин, раздался не то рокот, не то шепот.
Кот вспрыгнул на корабельную койку. Она стала снимать насквозь промокшую одежду. Заметив, что даже трусики мокрые, она выстирала все, что на ней было, в крохотной раковине в кабинке, служившей душевой и туалетом. Потом устроилась рядом с котом, поплотнее завернувшись в одеяло и задернув занавес.
Она сжалась в комочек, чтобы согреться. Рыже-белый кот заполз в ямку ее рук и замурлыкал.
Катер покачивался и мягко баюкал ее, дождь негромко стучал у нее над головой, одеяло укутало ее, словно коконом, и она постепенно успокоилась.
«Вот только чуть-чуть отдохну, — подумала Марианна, — совсем чуть-чуть».
Ей приснились мегалиты Карнака. На каждом камне проступало удивленное лицо Лотара. Только Марианна могла освободить его из плена, и она долго искала самый прекрасный из всех камней, в которых он томился. Но потом она решила улететь куда-нибудь верхом на устрице. Устрица была теплая и, равномерно покачиваясь, понесла ее над облаками. Внизу открылось зеленое море, по волнам побежали крохотные огоньки.
Они разбудили Марианну, и ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, где она. Судя по яркому сиянию, льющемуся из иллюминатора, она проспала намного дольше, чем предполагала.
Стыдясь своей наготы, она плотно завернулась в одеяло, осторожно открыла дверь каюты — и пробудилась, попав в новый сон.
Она была совершенно одна на маленьком белом катере, а вокруг нее, сколько хватало глаз, простиралось море.
10
Она вздрогнула от громкого крика.
Метрах в двадцати от катера на волнах показалась голова мужчины — с седыми волосами, с пышными усами и большими черными глазами.
Марианна несколько секунд беспомощно взмахивала руками, пытаясь ухватиться за воздух, а потом, отчаянно взвизгнув, упала за борт.
И камнем пошла ко дну. Проглотив первую порцию морской воды, она распахнула глаза.
«Нет! Нет!»
Она забила ногами, освобождаясь от сковывавшего ее одеяла, и поплыла. Из последних сил Марианна вынырнула и глубоко вдохнула спасительный воздух.
— Спасите! — слабым голосом позвала она на помощь, но ее крик заглушила соленая волна.
— Мадам! — откликнулся мужчина, она в панике забилась и лягнула его в чувствительное место. Он вскрикнул и ушел под воду.
— Извините! — борясь с изнеможением, едва выдохнула Марианна. Ей удалось схватиться за трап. Мужчина выплыл рядом с ней. Тут с него соскользнули большие черные очки.
Марианна кое-как взобралась по трапу, пристыженно прикрыла обеими руками наготу, бросилась в каюту и заперлась на замок.
Симон никак не мог взять в толк, что произошло. Женщина. Женщина у него на катере. Голая.
— Вы меня слышите? — позвал он. — Вы все еще там? Считаю до десяти и вхожу. Если вы еще не совсем оделись, спешу сообщить, что мне почти семьдесят, я плохо вижу, так что опасаться вам нечего.
Ни звука в ответ.
Симон решил, что вчерашний хмель у него еще не прошел.
Ему отчаянно хотелось крепкого kafe с kalva[29]. Нет лучшего способа избавиться от похмелья, чем начать утро тем же напитком, каким предположительно завершил вчерашнюю ночь.
А потом он бы посмотрел, как там эта невеста пирата. Глаза у нее — просто с ума сойти. Светлые-светлые, как молоденькая листва весной на яблонях. Конечно, девочка уже не юная, но еще очень и очень ничего. Как она испугалась-то!
Пожилой рыбак не стал бороться с морем, а отдался на милость волн. Вода была холодная, градусов четырнадцать-пятнадцать, но Симон медленно раскинул руки и ноги и каждой клеточкой тела ощутил бодрящую прохладу.
Вот так-то лучше. Лучше.
Он решительно взобрался по трапу, быстро надел штаны, натянул вылинявшую голубую рубаху на загорелый торс и привычным движением выбрал якорь.
Марианна следила за ним через иллюминатор. Она не поняла ни слова из того, что кричал ей этот седой человек из воды. Он говорил на незнакомом языке, в его речи часто повторялся звук «х», и ничего подобного она никогда не слышала.
Марианна почувствовала, как у нее под ногами ожил корабельный мотор. Что он сейчас с ней сделает? Начнет гоняться за ней по палубе?
Дрожащими руками она пригладила волосы, в одну руку взяла сумочку, в другую — хлебный нож и распахнула дверь каюты.
— Bonjour, monsieur[30], — сказала она, стараясь, чтобы это по возможности прозвучало с достоинством.
Симон не отвечал, пока они не вышли из фарватера, где маневрировали танкеры. В своем любимом месте, откуда открывался вид на Гленанские острова, он сбросил скорость и стал внимательно разглядывать незнакомку. Забавный маленький ножичек его рассмешил.
Он открутил крышку термоса, налил в чашку кофе с кальвадосом и протянул ей.
— Merci[31], — поблагодарила Марианна и смело отпила большой глоток. Она не ожидала, что в чашке будет алкоголь, и закашлялась.
— Petra zo ganeoc’h?[32] — снова начал Симон.
— Je suis allemande[33], — запинаясь, произнесла Марианна. Тут ее перебила легкая отрыжка. — И… я m’appelle[34] Марианна.
Он быстро пожал Марианне руку и сказал:
— Je suis breizh. M’appelle Simon[35], — и снова запустил мотор.
Ну хорошо, по крайней мере, это они выяснили. Симон облегченно вздохнул. Он бретонец, она немка, un point, c’est tout[36].
Марианна глядела на волнующуюся воду, омывающую катер. Черную и бирюзовую, светло-серую и кобальтовую. Клара была права: стоило прижмуриться, как все обретало один цвет — и небо, на горизонте смыкавшееся с морем, и земля, которая все быстрее к ним сейчас приближалась.
«Туда, на дно, — подумала она, — я же хотела туда, на дно. Почему же я не утопилась? Трусости не хватило? Или смелости?»
У Марианны голова шла кругом от собственной непоследовательности.
Она посмотрела на Симона, и на ее лице отразились страх и сомнения.
Рыбак и сам не знал, чего так боится эта женщина. Настороженная, словно постоянно ожидающая удара. Но одновременно ее взгляд так и впивал в себя окружающее их безбрежное море, глазами он пила, не отрываясь, словно умирающая от жажды. «Все хорошо, девочка. Можешь меня не бояться». Симону были по душе люди, которые любили море. Как и он. Частенько, когда рыболовецкие флотилии из Конкарно во время лова ската и трески доходили до побережья Исландии и острова Ньюфаундленд, Симон проводил в море целые недели. Тогда день за днем его окружали только море, небеса и одиночество, а это не всякому под силу выдержать.
Симон думал о Колетт. Она принадлежала к тому немногому, что нравилось ему на суше. Он нарвал владелице художественной галереи из Понт-Авена цветов на день рождения и передаст ей букет позже, в ресторане «Ар Мор», после того как высадит на берег эту морскую фею, — кто знает, вдруг это одна из блуждающих душ, ищущих путь на Авалон, и лишь случайно попала на борт его «Гвен II»?
Женщины. Как же с ними трудно! Они как море. Такие же непредсказуемые.
Он вспомнил слова, которые произнес его отец, когда он стал жаловаться на это суровое, необузданное, непредсказуемое море. «Научись любить его, сын. Научись любить свое дело, не важно, что именно ты делаешь, и тогда все само собой разрешится. Ты не перестанешь страдать, но научишься чувствовать, а если будешь чувствовать, значит будешь жить. Чтобы жить, нужны трудности, без них ты просто мертвец!»
Трудность в сером платье завороженно глядела на море. Симон различил в ее взгляде неутолимую, страстную тоску по незнакомым далям.
Симон поманил Марианну к себе. Она нерешительно поднялась, он подвел ее к штурвалу, стал за ее спиной и, взяв ее руки в свои, принялся осторожно помогать ей вести катер. Они прошли устье Авена, все ближе подплывая к порту Кердрюка.
11
Поль поехал в Кердрюк; лучше всего протрезвляться в порту, пусть хмель выгоняют ветер и солнце. Симон оставил ему на дощатом кухонном столе кофе, молоко, теплые хрустящие блины и бутылку кальвадоса «Пер Маглуар». На стол взлетела курица и снесла яйцо. Хотя он и поспал немного у Симона на диване в кухне, у Поля ломило все тело, как будто его долго били. Может быть, он как-нибудь уговорит Симона помочь ему в магазинчике? Забросив рыболовный промысел, Симон переоборудовал свой рыбацкий домик в Кербуане под мини-маркет, а сам перебрался в кухню к курам.
Симон продавал доверчивым туристам всякий вздор. Например, «ледяной мед», якобы собранный морозоустойчивыми пчелами в Пиренеях на цветах, усыпающих ледниковые равнины. О том, что это всего-навсего пряный «miel de sarrasin», гречишный мед из Аргоата, внутренней, лесистой части Бретани, туристам знать было ни к чему. А еще Симону пришла в голову отличная мысль торговать семенами менгиров. Для этого он фасовал гранитную крошку, осыпавшуюся откуда-нибудь со стены после каких-нибудь ремонтных работ, в маленькие бумажные пакетики с изображением карнакских мегалитов. «Первые сто — двести лет мегалиты растут медленно, — пояснял он легковерным покупателям, — но вместо удобрения можно использовать добрую старую кельтскую землю из Бретани». И так в придачу к каждой горстке камешков продавал им еще и комок грязи из собственного сада.
Но больше всего Полю нравились, что летом мини-маркет Симона постоянно переполняли толпы женщин, без конца повторявших: «О, соу найз!» — и: «Нидлиш!»[37] Они неизменно щеголяли в коротеньких юбках и все без исключения надеялись подцепить бретонского рыбака, чтобы почувствовать себя героиней романа «Соль на нашей коже»[38]. Симон со всеми этими туристками, в том числе надменными парижанками, даже разговаривать лишний раз не хотел, а тем более играть в любовь по-бретонски. Но для Поля не существовало лучшего средства исцелиться от любви к одной женщине, чем другая. Или, по крайней мере, много-много других, собранных в одном месте.
Поль припарковался рядом с помятым «ситроеном» Симона, обращенным капотом не как обычно, к морю, а к террасе «Ар Мор», будто Симон боялся случайно сорваться в портовые воды Кердрюка. Когда бывший наемник выходил из машины, к нему обернулась сияющая Лорин.
— Здравствуйте, мсье Поль! — воскликнула молодая официантка ресторана «Ар Мор» и снова отвернулась к реке.
Поль подошел поближе.
— Что там такое? — Он тоже стал смотреть на устье Авена, однако увидел только «Гвен II», которая, бодро постукивая мотором, подплывала к причалу.
— Смотрите, вон там! — крикнула Лорин и принялась взволнованно подскакивать на месте, и у Поля тотчас же закружилась голова.
На борту «Гвен II» Симон, как всегда. А рядом с ним…
— Ну вот же! Вон там! — повторила Лорин.
— Женщина? — вырвалось у Поля.
Как это Симону удалось между половиной восьмого и завтраком раздобыть женщину и покататься с ней на катере? Предатель! Разве только прошлой ночью они не поклялись, что отныне раз и навсегда забудут о женщинах? Ну или почти забудут.
Последние метры, оставшиеся до причала, Симон предпочел пройти сам. Ему ужасно понравился запах, который исходил от пропитанных морской водой волос Марианны. «Надо бы изобрести морской шампунь и продавать», — решил он. Потом они с Полем подумают, как перенести море во флакон со средством для мытья волос.
И тут Симон увидел на пирсе Лорин, а позади нее — Поля, с весьма кислой миной воззрившегося на друга.
Пока Симон причаливал, Марианна подошла к поручням.
Кердрюк. От одного его вида у нее сжалось сердце, и она почувствовала, будто после долгого морского путешествия снова возвратилась домой.
«Чушь, чушь какая! А ну перестань выдумывать всякую чушь!»
— Доброе утро, мсье Симон! — крикнула Лорин.
Симон считал, что Лорин могла бы стать фотомоделью. Как-то раз он заговорил с ней об этом и упомянул, что ей стоило бы перебраться в Париж или в Милан и сделать состояние. Но она только с удивлением посмотрела на него: «Состояние? Да зачем мне оно?» И говорила при этом совершенно серьезно. В двадцать три года она была прекрасной молодой женщиной, но рассуждала по большей части как ребенок, не способный на ложь и слишком наивный, чтобы не доверять окружающим.
Симон неловко помог Марианне выбраться из катера.
— Все, больше не пью, — сообщил он Полю, сходя на берег и привычным движением наматывая швартов на причальный кнехт.
— Я тоже, — солгал Поль и принялся с любопытством и с очаровательной улыбкой разглядывать Марианну.
— Поль, это Марианна. Она немка.
— Аллеманд, значит? — переспросил Поль, поднес к губам ее руку и запечатлел на ней едва заметный поцелуй. — Свай рулладен бётте[39].
Ошеломленно взглянув на Поля, Марианна отняла у него руку.
Симон толкнул его локтем в бок.
— Слушай, не надо. Она стесняется.
Поль перешел на бретонский:
— Я думал, с женщинами мы покончили. Что же ты за друг после этого? Не успел я отвернуться, а ты…
— Да перестань ты. Только я собрался искупаться, как она выходит из каюты, голая…
— Голая?!
— Ну да, еще и с кошкой.
— А потом? Вы что…
— Она меня чуть не утопила.
— Кто, кошка?
— Слушай, garz[40], она упала в воду, я хотел ее спасти…
— Ничего не понимаю.
— Тогда не спрашивай.
— Ты уже позавтракал? — поинтересовался Поль.
— Давай сыграем в tavla[41] и выпьем kafe[42]. Кто проиграет, тот сегодня в магазине за кассира.
Все это время Марианна потерянно стояла рядом с мужчинами, как по стойке смирно, прижав сумочку к животу. Она ощущала себя беззащитной. Само собой, она понимала, что лысый здоровяк и седой молчун, с которым судьба свела ее в море, говорят о ней, и беззаботно, делано улыбалась. Кот терся о ее ноги, и его присутствие ее успокаивало. Она тихонько откашлялась.
— Извините, я… — Но в голове у нее было пусто. Белый шум. На ум не приходило ни единого слова.
Лорин наклонилась к ней и троекратно ее поцеловала, сначала в одну щеку, потом в другую, потом опять в первую.
— Добрый день, мадам. Лорин, — с улыбкой представилась она.
— Марианна Ланц, — смущенно ответила та.
Она по-прежнему ощущала себя эдакой мокрой кошкой и решила, что пахнет от нее не лучше.
— Марианн? Какое красивое имя. Рада знакомству. Хорошо доехали?
Марианна не поняла ни слова. Тут Лорин взяла ее за руку, а Симон и Поль стали раскладывать подушки на деревянные стулья. Двигались они размеренно, неторопливо и сноровисто, как свойственно старикам.
— Kenavo, пока! — крикнул Симон вслед Марианне по-бретонски.
Лорин ужасно взволновалась. И, как всегда в таких случаях, перешла на шепот:
— Сейчас я отведу вас к повару, его зовут Жанреми. Он будет очень рад! Ему так нужна ваша помощь! Жанреми! Жанреми!
Лорин потащила было Марианну за собой в ресторанную кухню, но тут Марианна заартачилась и замерла на пороге.
— Я… Простите, но…
Никто не стал ее слушать. Никто.
Только когда повар посмотрел на нее, сдвинул со лба красный платок и улыбнулся, ее замешательство прошло и она вздохнула с облегчением. Это же он!
«Вы, собственно, кто, байкер из „Ангелов ада“, обучающийся на повара?» — спросила мадам Эколлье два лета тому назад, когда Жанреми слез с мотоцикла и направился в кухню для испытаний — готовить пробный обед: на нем были черные джинсы, красная рубаха, высокие ботинки с заклепками, серьги в ушах, а на затылке виднелась под темными кудрями татуировка. Любимый нож он держал в футляре, который висел у него на поясе, как револьверная кобура. Каждый из своих кожаных браслетов он носил в память об одной из тех ресторанных кухонь, где он успел поработать за тринадцать лет, с тех пор как ему исполнилось шестнадцать.
Его облик, который бы сделал честь коку пиратского брига, мадам Эколлье одобрила, но сказала: «По-моему, лучше было бы, если бы вы больше походили на Луи де Фюнеса, а не на Алена Делона. Tant pis[43], что ж, готовьте еду и не заглядывайтесь на наших посетительниц. И не вздумайте лапать наших кухарок. И не притрагивайтесь к бутылкам, если только не хотите влить их содержимое в кастрюлю. Bon bouillonner[44], Перриг».
Марианну он просто умилил и очаровал.
— Добрый день, — чуть слышно произнесла она.
— Добрый день, мадам, — откликнулся Жанреми Перриг, человек, подаривший ей первую устрицу в ее жизни, и вышел к ней из-за стального стола, объединявшего раковину, плиту и разделочную поверхность. — Рад снова вас видеть. Надеюсь, устрицы вам понравились?
— Это новая кухарка, — торопливо прошептала Лорин. — Марианн Ланс!
— Ты уверена?
— Oui[45], — выдохнула Лорин. — Мсье Симон нашел ее прямо в море. Выловил в волнах.
Жанреми заглянул Марианне в глаза. Выловил в волнах?
Он вспомнил, какое впечатление она произвела на него вчера на устричной ферме. Растерянная и одновременно исполненная решимости найти что-то важное. Растерянность до сих пор читалась в ее взгляде, хотя она и пыталась скрыть ее за робкой, неуверенной улыбкой.
И только теперь Жанреми посмотрел на Лорин.
«Лорин, котенок мой, — что же ты со мной сделала!» Он с трудом отвел от нее глаза.
Марианна с беспокойством надеялась, что кто-нибудь в конце концов объяснит ей, почему она тут неприкаянно томится. Она украдкой разглядывала Лорин и Жанреми, которые выжидательно смотрели друг на друга, словно каждый рассчитывал, что заговорит другой.
Наконец Лорин отвернулась и вышла из кухни.
Жанреми уставился в пустоту, а потом, разозлившись на самого себя, в ярости ударил ладонью по столу.
Марианна вздрогнула, увидев, как повар схватился за окровавленную кисть. Она бросила сумочку на пол. В кухне хосписа, где она когда-то работала, аптечка висела в самом темном месте, за дверью, где ее и обнаружить-то нельзя было, потому что дверь постоянно держали открытой. Здесь было так же. Она достала из шкафчика бинт и пластырь, осторожно взяла руку Жанреми и внимательно осмотрела рану: подушечку его большого пальца рассекал глубокий, ровный порез. Жанреми зажмурился. Она сдвинула красный платок, который сполз ему на лоб.
Марианна положила левую руку на раненую кисть Жанреми. Она ощущала его боль. Своими пальцами. Своей рукой.
— Ничего страшного, — прошептала она.
Жанреми расслабился и стал дышать глубже, а она принялась ловко перевязывать его рану. Марианна нежно погладила его по голове, как маленького мальчика. Хотя этот мальчик был куда выше ее.
— Merci beaucoup, madame[46], — тихо произнес повар.
Марианна перевернула самую большую пустую кастрюлю и жестом велела ему сесть на нее, а сама опустилась на другую, поменьше, напротив. По руке у нее забегали мурашки. Она трижды попыталась начать свой монолог.
— Знаете, я вообще не понимаю, что я тут делаю, — наконец выдавила из себя она и прислонилась к прохладной кафельной стене. — Je m’appelle Marianne Lanz. Bonjour. Je suis allemande[47]. — Она подумала, но ни одного подходящего французского слова ей больше в голову не пришло. — Поэтому… au revoir[48].
Она снова встала.
И тут заплясала крышка на стоящей на плите кастрюле с court-bouillon, бульоном из воды, вина, овощей и специй. Отвар выплеснулся и, шипя и скворча, залил варочную поверхность.
Марианна не раздумывая подошла к плите, выключила газ и сняла крышку с кастрюли.
— Овощной бульон? — Она взяла ложку, зачерпнула немного отвара и как следует распробовала. — Это… Не хотела бы вас обидеть, но…
Она заметила солонку с местной герандской солью, потрясла ею и сказала:
— Фу!
— Fui. Oui. Laurine. Fui, — завороженно прошептал Жанреми. Его пошатывало.
— Лорин фу?
Он покачал головой и прижал руку к сердцу.
— Так, значит, это из-за Лорин вы пересолили суп?
Влюбленный повар. Самое надежное средство погубить кухню.
Марианна огляделась. В холодильнике она нашла то, что нужно: сырой картофель. Она проворно принялась чистить его и нарезать кубиками, а потом бросила их в бульон.
Жанреми выжидательно смотрел на Марианну.
Через пять минут Марианна налила ему немного отвара для пробы. Попробовав, он изумленно уставился на Марианну.
— Крахмал. Это все картофельный крахмал, — смущенно пробормотала она. — Через двадцать минут мы их снова вынем, а если и потом окажется, что суп пересолен, добавим пять вареных яиц. Вот тогда будет не фу. Фу уйдет. И я тоже.
— Bien cuit, madame Lance[49].
У него созрела интересная мысль.
— Что здесь происходит?
На пороге выросла женщина в черном, со звонким голосом и безукоризненной осанкой, и Марианна сразу поняла, что перед ней хозяйка заведения. Прямая как статуя, с лицом, изборожденным морщинами, следами невзгод, что постигли ее за шестьдесят пять лет.
— Bonjour, madame, — торопливо пролепетала Марианна и чуть было не сделала книксен.
Женевьев Эколлье, не обращая на нее внимания, в гневе воззрилась на Жанреми. Тот под ее негодующим взглядом замер, как трепетная лань.
— Жанреми! — Голос ее прозвучал как выстрел.
Тот дрожащей рукой протянул ей для пробы тарелку, с которой капал овощной отвар.
— Что, черт возьми, бретонский недотепа, ты опять сотворил с бульоном?
Она велела ему зачерпнуть отвара из моркови, лука-шалота, лука-порея, чеснока, сельдерея, ароматных трав, воды и мюскаде. В прошлые выходные посетители снова жаловались, и хотя Женевьев не принимала этих парижан всерьез, она терпеть не могла, когда они оказывались правы. После того как убрали со стола, Женевьев попробовала thon à la concarnoise[50] и убедилась, что от пересоленного соуса просто глаза на лоб лезут.
Court-bouillon был основой бретонской кухни. В нем вольготно чувствовали себя норвежские омары, блаженно утопали большие сухопутные крабы, томились, смотря по вкусу повара, утки или овощи. С каждым кипячением отвар становился наваристее и сохранял свежесть и аромат три дня. На этом бульоне приготовляли соусы, а одна водочная рюмка процеженного бульона способна была превратить посредственный рыбный суп в пищу богов.
Разумеется, если бульон не пересолить, но именно это в последние недели удавалось Перригу с пугающей регулярностью. Целых восемь литров бульона можно было вылить с мола в море, и рыбы точно отравились бы. Женевьев попробовала отвар.
«Боже мой! Хвала всем добрым феям! На сей раз он ничего не забыл».
Жанреми едва успел поймать тарелку, которую мадам Женевьев метнула, как диск.
Потом он объяснил ей, что это мадам Ланс спасла ее сегодня от неприятной перспективы потчевать посетителей одними бифштексами.
— Так это вы повариха, которая хотела пройти собеседование? — обратилась Женевьев к Марианне уже несколько любезнее. «Пусть это будет она, — мысленно взмолилась Женевьев, — пожалуйста».
Заметив, что Марианна и правда ничего не понимает, Жанреми ответил за нее:
— Это не она.
— Не она? А она тогда кто такая?
Жанреми улыбнулся Марианне. Судя по выражению лица, ей мучительно хотелось уйти, она просто мысленно умоляла, чтобы ее отпустили. А с другой стороны, ей ужасно хотелось остаться, притом что сама она об этом, может быть, и не подозревала.
— Ее нашли в море.
Мадам Женевьев Эколлье внимательно осмотрела Марианну. Руки у нее были огрубевшие, явно привыкшие к тяжелой работе. На кокетку она нисколько не походила, да и наряжаться, по-видимому, не очень-то любила. А еще она в отличие от большинства людей не отводила глаз под пристальным взором, а Женевьев Эколлье терпеть не могла притворного смущения. Марианна внутренне поеживалась, ощущая на себе чужие взгляды. Она мечтала провалиться сквозь землю.
— Хорошо, — уже спокойнее подытожила Женевьев. — Ты вроде поранился, Жанреми, так что без помощницы тебе не обойтись. Откуда бы она ни взялась, хоть из моря, хоть с неба, — не важно. Дай ей договор сроком на сезон. И пусть Лорин покажет ей «комнату-раковину». Посмотрим, на что она способна, — сказала Женевьев. И добавила, сухо кивнув Марианне: — Bienvenue[51].
— Au revoir[52], — вежливо откликнулась та.
— И научи ее французскому! — напустилась Женевьев на Жанреми.
Жанреми с довольным видом обернулся к Марианне:
— Вы уже позавтракали?
12
— Я делю женщин на три категории, — провозгласил Поль, потеребил густую нависшую бровь, пристукнул водочной рюмкой о деревянный стол и залпом выпил. Потом он поставил пустую рюмку рядом с другими, на доску для игры в триктрак, которая стояла между ним и Симоном.
— Ты об этом уже говорил.
Симон поморщился, от крепкого ламбига у него защипало в горле:
— Может, я, конечно, всего-навсего глупый рыбак, но это не повод день-деньской читать мне лекции.
Когда на пороге ресторанного зала появилась Лорин и вопросительно показала им четыре поднятых пальца, Симон только едва заметно кивнул.
— Alors[53]. Слушай, — продолжал Поль. — В первую категорию входят femmes fatales[54]. Они вызывают у мужчин бурю эмоций, но мы им совершенно безразличны: что ты, что я, что еще кто-нибудь. Они опасны. В них лучше не влюбляться, они разбивают сердце. Понял?
— Гм. Кстати, я у тебя сейчас выиграю.
— Ко второй категории относятся верные подружки, на них можно жениться. С ними легко соскучиться, зато с ними тебе ничто не грозит. Для них существуешь только ты, на других они и не смотрят. В какой-то момент их охватывает скорбь, и они умирают, ведь они всю жизнь не сводили с тебя глаз, а ты на них в ответ даже не взглянул ни разу.
— Ага. А эта, из моря, Марианн, в какую категорию входит?
Лорин подала им еще четыре рюмки водки.
— Подожди. Потом есть еще женщины, ради которых ты живешь, — тихо произнес Поль. — Они единственные и неповторимые. Пока ты был рядом с ними, все, что делал, и все, что не делал, имело смысл. Ради них. Ты любишь их, и это становится смыслом твоей жизни. Ты встаешь по утрам, чтобы их любить, ложишься спать, чтобы их любить, ешь, чтобы их любить, живешь, чтобы их любить, умираешь, чтобы их любить. Ты забываешь, куда шел, что обещал и что ты женат.
Он подумал о Розенн, которую любил так, что рядом с ней все обретало смысл. И о человеке, к которому она ушла. О мальчишке. На семнадцать лет моложе Поля. На семнадцать!
— Но вы же разошлись с Розенн, Поль.
— Это был не мой выбор.
Правда, все так. Это был выбор Розенн. Спустя две недели, после того как стала бабушкой двойняшек, она точно с цепи сорвалась, все бросила и влюбилась практически в подростка.
Симон подумал о море. Это был его выбор, и море всегда радовалось ему и всегда приветствовало как желанного гостя. Он мог прижаться к волнам, словно к теплому женскому телу. Погрузиться в воду, словно в тело возлюбленной.
— А вы уже сегодня порядком напились, n’ est-ce pas?[55]
Это произнес у них над ухом низкий, хрипловатый, прокуренный голос. Еще до этого они ощутили аромат сигарет и духов «Шанель № 5». По полу процокали высокие каблуки, над ними обозначились ноги в настоящих шелковых чулках, а над ними — элегантный черный костюм, желтые перчатки, черная шляпа.
Колетт Роан.
Колетт подставила изящную скулу для трех bisous[56] и чмокнула воздух рядом с Симоном, а тот закрыл глаза и нежно прижался к ней щекой. «Как всегда, это слишком быстро кончится», — подумал Симон.
Поль встал, притянул к себе изысканную и надменную владелицу художественной галереи, в знак приветствия влепил ей три смачных поцелуя, снова сел, бросил кости и передвинул три своих пустых рюмки на доску для триктрака.
Симон безмолвно взирал на Колетт, во рту у него пересохло, в ушах шумно плескалось море.
— Мадам? — спросила Лорин и, подув, приподняла челку.
— Как всегда, mon petite belle[57], — сказала та, села за стол рядом с Полем и Симоном, элегантно скрестила ноги и стала ждать, пока Лорин не подаст ей стакан воды и коктейль «Беллини».
— Лорин, какой сегодня день? — спросил Поль.
— Понедельник, мсье Поль. По понедельникам вы приходите утром и вечером, в остальные дни — только в обед; значит, сегодня понедельник.
— А еще сегодня день рождения мадам Колетт, — добавил Поль.
— О-о-о! — простонала Лорин.
Колетт отпила глоточек «Беллини». И только потом попросила Симона дать ей прикурить. Курить ее тянуло, только когда она выпьет, так было всегда: и в шестнадцать лет, и в тридцать шесть, и сейчас, в шестьдесят шесть.
Шестьдесят шесть. Колетт фыркнула.
Симон робко откашлялся и принялся неуклюже и медлительно извлекать что-то из своей старой корабельной сумки. Наконец он подтолкнул к Колетт какой-то неумело запакованный сверток.
— Это мне? Симон, mon primitif![58] Подарок!
Она нетерпеливо сорвала бумагу.
— Ой! — проворчала она. Ее что-то укололо.
Поль оглушительно расхохотался.
— Репейник, — констатировала Колетт своим прокуренным голосом и глубоко затянулась сигаретой.
— Ты такая же, как он, колючая, вот я его и выбрал, — заикаясь, выдавил из себя Симон.
— Mon primitif, ты не устаешь меня удивлять. Вот только две недели тому назад преподнес мне чрезвычайно оригинальную пепельницу в виде… чего там?
— Половинки большого краба.
— На прошлой неделе ты вручил мне мертвую голубую стрекозу…
— Я подумал, вы, женщины, сможете из нее что-нибудь смастерить. Ну, скажем, брошь…
— …а сегодня этот драматический репейник.
— Вообще-то, это мордовник.
— Мужчины дарили мне букеты, по сравнению с которыми венки на похоронах принцессы Дианы смотрелись как жалкий пучок примул. Мне преподносили брильянтовые броши, а один хотел даже подарить мансарду в Сен-Жермене, но я, дура, отказалась, что поделаешь, все из ложной гордости. Но поверь, Симон, ни один мужчина никогда не делал мне таких подарков, как ты.
— Не стоит благодарности, — сказал он. — И всего самого лучшего.
Услышав смех Поля, Симон стал подозревать, что радость Колетт не столь уж и искренняя. С другой стороны, желтая ваза, в которую он поставил репейник, идеально подходила к желтым кожаным перчаткам Колетт. Он нарочно так подобрал, помня, что Колетт любит желтый цвет, этот характерный бретонский jaune.
— Mon petit primitif, это… у меня просто нет слов, — произнесла Колетт. Она сняла черные очки. Всю прошлую ночь она проплакала над любовными письмами мужчин, которых уже не могла вспомнить. Но Симону и Полю разрешалось увидеть ее заплаканной. Ведь все слезы, которые женщина проливает за свою женскую жизнь, будь то от страсти, от тоски, от счастья, от волнения, от гнева, от любви или от боли, — все эти бурные и неукротимые моря и океаны соленой воды смирялись под взглядом друзей.
— Знаешь, мордовник такой редкий… — заикаясь, пробормотал Симон. — Вроде тебя, Колетт, такую еще поискать.
Колетт обеими руками взяла его за щеки. Она посмотрела на глубокие морщины вокруг его глаз, в которых можно было бы спрятать мелкие монетки. Потом она нежно поцеловала его в уголок рта, уколовшись о жесткие усы. От него пахло солнцем и морем.
— Кстати… — начал Поль. — Румынка уже на месте.
— Какая румынка, mon cher?[59] — мягко переспросила Колетт.
— Новая кухарка. Симон сегодня выловил ее из моря, но, вообще-то, она немка.
— Ага, d’accord[60], — рассеянно откликнулась Колетт.
— А вот и Сидони с Мариклод! — объявил Симон.
— Давно пора. Я уже давно жажду как следует напиться в свой шестьдесят шестой день рождения, — вздохнула Колетт.
Шестьдесят шесть. Как быстро она состарилась. Сидони — ее самая давняя приятельница, сколько же лет они, собственно, знают друг друга?
Они познакомились, когда Колетт приехала из Парижа домой на каникулы, отмечать День взятия Бастилии; Сидони окружала стайка молодых людей и барышень из Кердрюка, Неве, Порт-Манека и с соседних ферм. Колетт с любопытством разглядывала тогда свою новую подругу, в бретонском платье и старинном высоком чепце, какие издавна носят крестьянки в местности Бигуден. По сравнению с восемнадцатилетней Сидони двадцатипятилетняя Колетт казалась себе зрелой и немало повидавшей.
После ранней смерти своего мужа Эрве скульпторша больше не вышла замуж и сама отремонтировала старинный каменный дом в Керамбайе, в окрестностях Кердрюка. Колетт любила ее улыбку. Сидони с улыбкой работала, с улыбкой молчала, с улыбкой высекала изваяния из гранита, базальта и песчаника. Когда она смеялась, то становилась похожей на гусеницу, кругленькую и веселую.
Вот и сейчас Сидони громко смеялась над чем-то, что рассказывала Мариклод, не успели они с парикмахершей из Понт-Авена подсесть за столик к Симону, Полю и Колетт.
— «И подумать только, — сказала мадам Буве, — эта чокнутая из леса кормит кошек и собак отборным мясом с тарелок китайского фарфора!»
Мариклод так похоже изобразила Буве, что Колетт прыснула, поперхнувшись коктейлем.
— Да уж, эта Буве просто воплощение католической узколобости.
Мариклод потрепала свою собачку Люпена. Она первой услышала эту замечательную историю и тут же, не теряя ни минуты, с пылу с жару, стала ее передавать. Парикмахерша была очень довольна собой — прежде всего тем, как расцветила рассказ красочными деталями: например, в ее версии событий Эмиль Гуашон, голый, как дикарь, бегал за мадам Буве и натравлял на нее свору собак. «Фас, Мадам Помпадур!» — якобы крикнул он, и дворняга вцепилась этой ханже в юбку.
— Подожди, ты сказала «узколобости»? — спросила Колетт у парикмахерши.
— А какой лоб считать узким? — осведомился Поль.
— А какой широким? — вопросил Симон.
— Mon primitif, а как бы ты это определил? — поинтересовалась Колетт.
— Спроси лучше у Поля, — ответил Симон, — он в таких вещах разбирается.
— А где Янн? Вот уж он бы нам пару портретиков намалевал, и мы бы поняли, что к чему, — ухмыльнулся Поль.
— Не смей говорить таким тоном о моем любимом художнике! — одернула его Колетт.
Она собиралась устроить в Париже большую выставку Янна Гаме. Единственная проблема заключалась в том, что он об этом даже не догадывался. Положа руку на сердце, он об этом и слышать не хотел, а предпочитал расписывать свои изразцы, просто с ума сойти! И это художник, который был рожден создавать большие картины! Но все большое его пугало. А может быть, он еще просто не нашел свой сюжет, свою музу? Море, женщину, религию. Некоторым хватало всего-навсего кусочка пирожного, судя хотя бы по Прусту и его «мадлен»[61].
— Что вы как подростки, в самом деле! — накинулась на приятелей Мариклод.
— А ты — как моя покойная тетушка! — парировала Колетт. — А что твоя дочка, уже родила тебе внука?
Колетт вставила в мундштук слоновой кости новую «голуаз», предварительно отломив фильтр.
— Боже мой! Кажется, вот только вчера я сама была не старше Клодин, а сегодня нате вам, пожалуйста, вот-вот стану бабушкой. Ну, через два месяца.
— Она тебе не сказала, от кого ждет ребенка? — Колетт выпустила колечко дыма.
— Я хотела порыться в ее дневниках, но не смогла открыть замок, — надулась Мариклод.
Симон разглядывал Колетт. Очертания ее губ выдавали чувственную натуру, сеть тоненьких морщинок на лбу словно свидетельствовала о склонности во всем сомневаться, но никогда не поступаться выстраданными убеждениями. Все ее черты отличались аристократической соразмерностью. Она была прекрасна.
— Да, кстати! Mon primitif, не знаешь ли ты экономку, которая могла бы помогать Эмилю и Паскаль? А то его паркинсон прогрессирует, да и ее… как бишь? Деменция? Когда все забываешь? Иначе они там в лесу совсем одичают.
— С чего бы это, у них же миллион приблудных трехногих собак и одноухих кошек. С ними не одичаешь. Да еще и кучу блох получишь в придачу, бесплатно, — прощебетала Мариклод и поправила аккуратно уложенные рыжие локоны.
— И клопов, — добавил Поль.
— И вшей, — заключила Мариклод.
— А вдруг Гуашонов прокляли? — прошептала Сидони.
— Кто, ханжа-католичка? — спросил Симон.
— Ну вот, опять вы за свое, — простонала Мариклод.
— Мы старые. Нам можно, — сухо возразила Колетт.
— Я не старая, — огрызнулась парикмахерша и еще раз поправила локоны. — Я просто прожила на свете немножко дольше, чем другие.
— А знаете, что самое печальное в высокой продолжительности жизни? — внезапно серьезным тоном спросил Поль.
Все выжидательно посмотрели на него.
— Что у тебя больше времени, чтобы стать несчастным.
13
— Лорин! — Женевьев Эколлье выдвинула подбородок, как бушприт парусника. Марианна от испуга чуть не выронила чашку, которую подал ей Жанреми.
Официантка послушно стала по стойке смирно у кухонного стола.
— Не выпячивай так грудь, девочка, сегодня у нас от kilhogs[62] отбою не будет. Вот пойдешь с каким-нибудь галльским петухом на яхту, а через год окажется, что он тебя и знать не хочет.
Лорин скрестила руки на груди. На щеках у нее выступили пятна нежно-розового румянца.
То один, то другой парижанин постоянно приглашал Лорин выпить шампанского на яхте. Она не знала, как отказать больше трех раз подряд, ведь тогда отвергнутые поклонники начинали ее уверять, что очень, очень огорчены. Настолько, что отныне, к сожалению, вынуждены будут обедать и ужинать в Розбра́, чтобы забыть о своих тщетных ухаживаниях.
А от этого уже страдала мадам Женевьев, потому что на противоположном берегу Авена окопался ее главный конкурент, кормивший обедами и вытягивавший денежки из кошельков яхтсменов, которые неизменно причаливали в маленьких портах Кердрюка и Розбра и никогда не переводились.
Лорин не знала, как решить эту дилемму. Если она будет принимать приглашения, то скоро ее ославят как девицу легкого поведения, если нет — то вскоре заведение мадам Женевьев опустеет и все клиенты переберутся в Розбра к Алену Пуатье и в «Бар Табак» и будут заказывать там moules frites à la crème[63].
— Лорин! Хватит мечтать! Сегодня в меню: тунец по-рыбацки а-ля Конкарно, cotriade, huîtres de Belon, moules marinières, noix de Saint-Jacques Ar Mor au naturel[64], или панированные, или в коньячном соусе. Короче говоря, наш снедаемый вожделением повар пришел в себя. Запиши, а то забудешь, девочка.
Марианне нравился голос мадам Эколлье, насыщенный и бархатистый, как черный кофе, который Жанреми сварил ей к завтраку — вкусному омлету с сыром.
Лорин послушно записала меню в официантский блокнот в линейку.
— Как вы сказали… Снедаемый выжле… Чем? — спросила она.
— Неумеренной страстью к соли, — сухо ответила мадам Женевьев, направив снайперский взгляд на Жанреми. — Тебе давным-давно пора выбросить эту даму из головы!
— Какую даму? — осторожно переспросил Жанреми.
— Из-за которой ты бросал в бульон тонны соли!
— Жанреми пересаливал суп из-за какой-то дамы? — спросила Лорин.
— Он влюбился. Влюбленные повара вечно все пересаливают.
— А несчастные?
— Все топят в коньяке.
— А в кого влюблен Жанреми?
— Да какая разница! Allez, allez[65], за работу, Лорин! Пожалуйста, покажи мадам Марианн «мансарду-раковину».
Женевьев мимолетно улыбнулась Марианне. Да, возможно, эта женщина, которую случайно занесло на край света, — именно то, о чем она молилась в последние месяцы. А разве в случайностях не различима иногда рука судьбы?
Жанреми подвинул Марианне стопку белой спецодежды и какую-то бумагу. Марианна недоуменно уставилась на нее.
Жанреми показал цифру в центре листа: восемьсот девяносто два евро, а соседняя цифра, видимо, обозначала количество рабочих часов в неделю, по шесть часов в день, кроме вторника и среды; кроме того, ей предоставлялась комната.
Она осмотрела спецодежду. Совершенно такая же, как та, что ей выдавали в школе экономок. Жанреми умоляюще взглянул на нее.
Марианна подумала, какой же грязной и неухоженной она должна казаться в своем испачканном платье. От белой одежды пахло мылом, и Марианне отчаянно захотелось губкой смыть с себя всю грязь, покрывшую ее кожу за последние дни, и натянуть чистое белое белье.
И только по этой причине она написала над пунктирной линией свою девичью фамилию.
— Bon[66], — облегченно выдохнул Жанреми и подал ей поварской колпак, сшитый на манер берета.
Марианна сунула сверток со спецодеждой под мышку и следом за Лорин через маленький двор засеменила к боковому входу в гостиницу. За ней незаметно прокрался рыже-белый кот и за ее спиной юркнул в приоткрытую дверь.
Жанреми разобрал свою добычу с рыбного аукциона в Конкарно, положив скатов, камбал и тунцов в пластиковые контейнеры с измельченным льдом. Крабы щелкали клешнями. Мадам Женевьев проверяла счета.
— Как по-твоему, стоит мне снова открыть гостиницу? — с наигранным безразличием спросила она.
— Само собой! — ответил он. — А почему вы именно сейчас об этом задумались?
Женевьев Эколлье вздохнула, а потом тихо ответила:
— Все из-за этой Марианн, ну, той самой, которую Симон нашел в море. Знаешь, кого она мне напоминает? Меня саму. Я бываю точно такая же, когда мне страшно.
Жанреми кивнул. Иногда на лицах других можно было прочитать собственные мечты и сомнения.
Он поставил перед Женевьев тарелку с омлетом, украсив его сердечком из красного базилика.
— Mon Dieu[67], Жанреми! На что ты намекаешь?
— Да ни на что. Bon appétit[68].
Она молча съела омлет и поставила тарелку в посудомоечную машину.
— Не важно, смотри мне, не вздумай снова испортить бульон.
И бульон, и жизнь так легко испортить.
Молодой повар попытался не думать о Лорин. Но это было так же трудно, как и перестать дышать. Вдох: Лорин. Выдох: Лорин.
Когда она была рядом, он начинал путать ложки с ножами и вообще терял голову.
Он не мог очаровать ее, как других женщин, не мог исподволь завлечь к себе в постель изысканными лакомствами, крабом в соусе из спаржи или самым вкусным на свете круассаном с ветчиной и сыром. Гребешок, приправленный чайной ложкой коньяка и тонким соусом из сбитых сливок и поданный в собственной раковине, в глазах Жанреми был куда более романтическим даром, чем все черные розы баккара в мире. Жанреми осознавал, почему с ней все получается не так, как с другими: он в нее влюбился. И испытывал к ней поистине неподдельные, глубокие, чистые чувства. Ну, не совсем чистые: естественно, он хотел залучить ее к себе в постель. Но самое главное — он хотел с ней жить. Всегда. Каждый день и каждую ночь.
Жанреми и сам не понимал, как это он два года мог дышать одним воздухом с Лорин и даже не попытаться ее поцеловать.
14
Лорин провела Марианну по гостинице. На лестнице лежал красный ковер, стены были обиты дорогой светлой тканью, а из каждого окна открывался вид на море.
Рассматривая нежную Лорин, Марианна поняла, почему существуют мужчины, которых волшебным образом привлекают страдания женщин, и прежде всего — их несчастная любовь к другому. Для некоторых мужчин не было ничего эротичнее, чем исцелить женщину от любви к сопернику. Они словно пребывали в эгоистическом, садистском, мазохистском опьянении и не способны были заметить подлинной несчастной любви.
«Меня ни один мужчина никогда не хотел так утешить», — подумала она. С одной стороны, жаль, конечно.
С другой стороны, Лотар не пожелал утешить Марианну, даже когда в груди у нее обнаружили уплотнение и долгое время оставалось неясно, злокачественное оно или нет. Ее страх всегда пугал Лотара, и потому Марианна решила не говорить о своей болезни, чтобы его не беспокоить. «Я хочу жить, понятно? — орал он на нее. — А это все усложняет!»
Вскоре после этого к Марианне явилась его возлюбленная Сибилла и навсегда лишила ее прекрасной иллюзии, будто брак, дом в конце уютного тупичка и комнатный фонтанчик — это все, что нужно женщинам.
После романа с Сибиллой Лотар хотел как можно скорее вернуться к обычной семейной жизни. «Я же сказал, что сожалею, чего еще от меня требовать-то?» Тем самым тема была исчерпана.
Спустя несколько лет боль утихла, Марианну исцелило время. А еще тот факт, что Лотар научился скрывать другие романы. По крайней мере, до тех пор, пока ему не надоедало лгать. Тогда он оставлял следы преступления, в надежде, что Марианна устроит ему сцену и избавит его от необходимости длить опостылевшую связь. Марианна ни разу не оказала ему такой услуги.
В конце коридора на третьем этаже лесенка из трех ступенек вела в небольшой вестибюль, справа от которого располагалась просторная, отделанная бело-голубым кафелем ванная комната: ванна на львиных лапах, зеркало в золоченой раме, белый мрамор на стенах. Потом Лорин распахнула последнюю дверь, украшенную раковиной гребешка.
Когда дверь открылась, Марианна удивленно зажмурилась: ее ослепило июньское солнце.
Лорин улыбнулась, когда Марианна, открыв рот от изумления, вошла в комнату. Она сама тоже, входя в эту «мансарду-раковину», всякий раз испытывала удивление. Это был самый маленький и самый красивый номер в отеле. Обшивка толстыми корабельными досками, светлые ковры. Сундук из мореного дерева у широкой односпальной кровати, большое круглое зеркало на стене, крестьянский шкаф в углу под скатом островерхой крыши. За изящной ширмой стоял комод с зеркалом, а перед ним — бархатный табурет.
Кот пронесся мимо женщин и запрыгнул на постель.
Но самым упоительным был вид из высоких створчатых окон — безбрежное море до самого горизонта.
Марианна на мгновение опустилась на постель.
«Целая комната? Мне одной? Моя собственная комната?»[69]
Лорин широко распахнула окна, и все вокруг затопил солнечный свет. А потом вышла из комнаты.
Марианна откинулась на кровать. Она была не слишком мягкой и не слишком жесткой, а одеяла на ней были белые и прохладные. Лежа, она достала из сумочки керамическую плитку. Поставила ее на белый лакированный комод рядом с кроватью и стала сравнивать Кердрюк, нарисованный на изразце, и настоящий, видневшийся за окном. Наверное, художник стоял именно там, где она сейчас лежала. Она не могла решить, какой из двух городов прекраснее. Таинственнее. Волшебнее.
Марианне как будто сделали подарок. Вот только она не знала, за что и стоит ли его принимать.
Кот попытался устроиться у нее на груди. В гостинице было тихо, но в ней царила не та мертвая тишина, которую дома Марианна воспринимала как угрозу. Здесь тишина была живая.
Марианна вспомнила о женщинах, которых встречала прежде, и о том, как они старались втолковать ей, в чем смысл жизни. Но их молчание говорило красноречивее любых слов; Марианну трогали именно паузы между произносимыми ими словами.
— Я имею право на любовь! — заявляли большинство матерей, чьи дети посещали детский сад при хосписе. Это звучало примерно как: «У меня есть право на социальные контакты». А еще они говорили о том, что мужчина должен уметь конструктивно относиться к конфликтам. А потом замолкали.
«Я не знаю любви, — подумала Марианна, — я не знаю, какую цену приходится платить за любовь. Не знаю, ценят ли ее мужчины. Ее и конструктивное отношение к конфликтам».
Конструктивное отношение к конфликтам означало для Лотара одно: он их не выносил и заранее отрицал.
За комодом Марианна обнаружила паутину. Паутина напомнила ей о соседке Грете Кёстер и ее неразделенной любви к парикмахеру из ее квартала. Двенадцать лет тому назад, в жаркий августовский день, Грета сказала Марианне за стаканчиком хереса, который они тайком распили у Греты в погребке: «Среди какого же лицемерия нам приходится жить! В юности только и делали, что следили за собой, как бы нас не ославили шлюхами, в браке получать удовольствие считалось подозрительным, а после сорока мы уже старухи. Ну бывает ли у женщин возраст, когда они могут без помех наслаждаться тем, что у них между ног? Я не хочу, чтобы у меня там все покрылось паутиной!»
Тогда Марианна не знала, что и ответить. Она никогда не рассматривала то, что было у нее между ног, и потому по поводу паутины никакого мнения не имела.
Между ног у нее находилась некая неизученная область, ни на что не годная, как и ее сердце.
Марианна встала и отправилась в ванную принять горячий душ. Потом она завернулась в мягкое полотенце, вышла из мансарды и, босиком шагая по пыльным коврам, принялась обследовать гостиницу.
Марианна насчитала двадцать пять номеров на трех этажах, и везде мебель стояла под чехлами; над многими постелями возвышался романтический балдахин. Из всех комнат можно было выйти на деревянный балкон, охватывающий весь фасад здания. Чудесный отель, словно созданный для влюбленных.
На дверях туалета красовалась табличка на нескольких языках: «Просим постояльцев не бросать сигареты в унитаз. Влажные сигареты трудно раскуривать».
Большая дверь в конце длинного коридора вела в столовую. Открыв ее, Марианна попала прямо в картину. На холсте мужчины и женщины прогуливались по пляжу, одни, склонившись, шли против ветра, другие отдавались ему на милость. Марианна повернулась на сто восемьдесят градусов, чтобы хорошенько рассмотреть картину-панораму. Вот маленькая церковь, открытая всем штормам, прямо у моря, вот женщины собирают водоросли во время отлива.
Она оказалась в том времени, когда Марианны Ланц еще не существовало. Во времени, когда и ее бабушка была еще маленькой девочкой и не подозревала, что однажды встретит человека, от которого Марианна унаследует трехцветные глаза. Человека, имени которого она так никогда никому и не откроет. Марианна знала об отце своего отца только, что на груди у него было такое же родимое пятно, как и у нее: три языка пламени, составляющих огненное колесо там, где сердце.
Поднимаясь обратно по лестнице, она заметила драпировку, прикрывавшую вход на антресоль. Отведя ее в сторону, Марианна попала в темную каморку. Лишь постепенно в ее мраке материализовались тени. Платья. Летние платья, вечерние платья, платья, платья, которые женщина могла надеть на свидание.
«Каждое платье — воспоминание. О вечерах, когда их надевали для любви, для ссоры, для наслаждения. А теперь они висят в гробу из черного дерева».
Понюхав рукав роскошного красного платья, Марианна опешила. Платье было свежевыстиранное.
«Свежевыстиранные воспоминания?»
Марианна вновь поднялась к себе в номер и с тревогой села на постель. Она еще раз огляделась и попыталась сообразить, что будет означать для нее эта новая жизнь, если она ее выберет.
Марианна хотела бы стать женщиной, способной жить в одиночестве, утешать и исцелять себя самое, когда в груди находят слишком много уплотнений, а в судьбе все не ладится.
«Целая комната. Мне одной. Моя собственная комната».
Только на одну ночь. Одну-единственную. Она проведет здесь одну ночь, чтобы попробовать на вкус, каково это — иметь собственную комнату.
Потом она надела кухонную спецодежду и нерешительно нахлобучила белый поварской берет. Марианна не боялась готовить в «Ар Мор», разве что совсем немножко. Эта кухня — почти ее ровесница, уж как-нибудь они найдут общий язык.
15
В кухне «Ар Мор» у плиты стоял Жанреми, запустив раненую руку за ремень джинсов на спине.
Он протянул Марианне bol[70] кофе с молоком и круассан, и она, подражая ему, окунула рогалик в кофе, низко нагнулась над чашкой и стала есть, не обращая внимания на сыплющиеся в кофе крошки. По радио передавали песни, которые Марианна слышала в семидесятые годы, когда мимо нее проносились машины иностранцев: «Born to be wild»[71], «These boots are made for walking»[72].
Жанреми пританцовывал, с бешеной скоростью чистя овощи, как будто и не поранил руку.
— «Ай фаунд ми э брэнднью бокс оф мэтчес, — напевал он. — А ю редди, бууутс?»
Марианна никогда не видела, чтобы мужчина так танцевал. Она надеялась, что он не станет ее приглашать.
— Я тут придумал кое-что, чтобы вам легче было учить слова, мадам Марианн, — пританцовывая, сообщил Жанреми. — Pour le vocabulaire, vous comprenez? Il faut apprendre des mots français et breizh pour tous les… trucs[73].
— Трюков?
— Oui, les trucs. C’est un truc, cela aussi[74]. — Широким жестом он показал на стол, нож, салат: все это были трюки.
— Любая вещь?
Жанреми кивнул:
— Да. Вешчь.
Он махнул рукой на неиспользованный блокнот и сделал вид, будто пишет. Марианна стала один за другим вырывать листы вдоль перфорированной линии, взяла шариковую ручку и следом за Жанреми принялась обходить кухню.
Жанреми диктовал ей слова, и она записывала их на слух: фриго, фенеттр, табль[75]. Потом Марианна наклеивала листочки на все, что видела вокруг, пока кухня не запестрела крохотными оранжевыми бумажками. Под конец они приберегли кладовую и рыбу.
Жанреми перешел на бретонский. Он любил этот грубоватый язык, так похожий на ирландский гэльский. Kig — мясо. Piz bihan — горох. Brezel — макрель. Konikl — кролик. Triñschin — щавель. Tomm-tomm — осторожно, очень горячо. Марианна записывала и записывала.
Жанреми улыбался. С тех пор как он взялся учить Марианну, он реже вспоминал о Лорин.
Марианна была одержима каким-то голодом, решил он. Все впечатления погружались в нее и исчезали, как в бездонном озере. Она хотела ко всему прикоснуться, все понюхать, — как в холодильнике она дотрагивалась до продуктов! Не грубо хватала, а брала в руки осторожно, словно хрупкие цветы, чтобы почувствовать их аромат, а ее пальцы, казалось, проникают в душу каждого блюда.
Когда Жанреми смотрел на Марианну, в ее лицо в форме сердечка, в ее большие глаза, пустота, воцарявшаяся у него в душе всякий раз, стоило ему вспомнить о своей безнадежной страсти, наполнялась светом, а уныние отступало. Он начинал ощущать что-то похожее на уверенность и строить планы.
Он читал Марианне лекции о важности еды и ее воздействии на душу, хотя и знал, что она мало понимает в его речах. О том, как он любит закупать продукты для ресторана, и о том, что величайшее кулинарное искусство заключается в умении выискивать все самое свежее и отборное.
В выходные, когда заканчивался летний сезон, он рыскал по винокурням, по устричным фермам, по берегам Авена, Белона или в бухте Морбиан в поисках терпеливых пенсионеров, которые ловили на удочку рыбу. Эти люди еще понимали ритм бретонской природы. Они знали, что главное — проявлять пунктуальность и не забывать о законах, диктуемых луной и приливом. Каждый день отлив и прилив чуть-чуть смещались, начинаясь на минуту-другую раньше, чем в предыдущий; поэтому они должны были быть всегда настороже, как лисы, чтобы не пропустить тот миг, когда рыба клюет лучше всего.
Когда им передали первые заказы, а туристы потребовали первых бифштексов, Жанреми поманил Марианну к себе:
— В этой кухне не бывает kig с отпечатавшимися полосами от решетки. Пусть так, под пытками, погибает мясо у домохозяек и на барбекю! Это же варварство! Видите? Вот овальная сковорода. Беру немного amann, сливочного масла. Поджариваю на маленьком огне, не слишком tomm-tomm. На небольшой сковороде масло не растекается, не покидает kig, не дурачится с луком-шалотом и не подгорает. Compris?[76]
Марианна зачарованно глядела, как он поджаривает бифштекс. Он не старался побыстрее отделаться от мяса, он его ласкал. Потом он переложил его со сковороды на горячую тарелку, поставил ее в трехэтажный гриль, довел до готовности при температуре восемьдесят градусов, продержал еще минуту на подогретой тарелке и только после этого положил гарнир.
— Voila[77]. При любом способе приготовления kig bevin[78] не остается ничего иного, как притвориться мертвым. Так что, если раньше вы бросали мясо на решетку гриля, забудьте об этом. Вот только попробуйте — и я вас убью! — Он быстро провел ребром ладони по горлу.
Марианна покраснела.
Жанреми достал поднос с тушками кальмаров и поставил его в тень, на пороге задней двери. Через несколько секунд из своего укрытия за зеленью и пряными травами появился рыже-белый кот. Он принялся отрывать мелкие кусочки лакомства, которым его угостил Жанреми, и одновременно грел попу на солнышке.
Потом Жанреми бросил восемь килограммов шампиньонов, которые предварительно почистила Марианна, в высокую кастрюлю с кипятком. Он собирался вываривать их, пока не останется всего пол-литра отвара. Эти пол-литра бульона были одной из его строго хранимых тайн: именно они делали вкус его блюд насыщеннее, чем у других поваров.
Мадам Женевьев и Лорин теперь то и дело забегали в кухню и приклеивали на кухонный стол листочки с заказами.
Молодой повар стал давать Марианне указания только односложно: «Non», «Ya», «Осторожно, tomm-tomm!»
— Выберите одного tourteau[79], Марианн! — крикнул Жанреми и показал на аквариум, из которого на них смотрели своими глазами на стебельках омары и kranked[80]. Он ткнул пальцем в одну из кастрюль, а потом махнул рукой на часы.
— Бросайте его в fumet de poisson[81], пусть поварится pemzek[82] минут.
— Бедняжку в кипяток?! Да как же…
— Allez, allez![83]
— Может быть, не стоит?
Жанреми нетерпеливо вытащил одного краба из аквариума. Когда он хотел бросить его в кипящую воду, тот отпрянул от горячего пара.
И тут Марианна схватила Жанреми за руку.
— Жанреми, пожалуйста… Не надо так! — взмолилась она.
Они посмотрели друг другу в глаза. Жанреми первым опустил взгляд.
Марианна сделала глубокий вдох, осторожно взяла краба и посадила его на начищенный до блеска стальной стол. Он еще немного поползал по столу, пока Марианна рылась среди флакончиков и бутылочек в серванте. Найдя яблочный уксус, она немножко капнула крабу в рот. Он стал все реже щелкать клешнями, постепенно обессилел и затих.
— Звучит странно, но животных можно убивать и гуманным способом, — объяснила Марианна Жанреми, который, воздев руки, по-прежнему стоял посреди кухни и недоверчиво взирал на нее. — Уксус, понимаешь? Снотворное. — Она сложила руки, склонила на них голову и закрыла глаза.
Марианна опустила краба в кипяток:
— Вот так, сейчас тебя искупают… Видишь, совсем-совсем не больно.
Жанреми заметил, что краб уже не сопротивляется и не обращает внимания на горячий пар, в отличие от своих собратьев, принявших мучительную смерть в кипящей воде.
Когда Марианна под руководством Жанреми разделала краба и приготовила соус из репчатого лука, чеснока, сливочного масла, нежирной сметаны и трав, Жанреми облил его горящим кальвадосом, затушил пламя мюскаде и попробовал одну клешню. От нее слабо пахло морем. Применив маленькую хитрость и усыпив краба уксусом, Марианна вернула ему вкус моря.
— Отличная уловка, Жанна д’Арк морских тварей, — одобрил Жанреми, — но лучше нам поторопиться, а то они там начнут скандалить.
Через час Марианне уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что перебегала на бретонской кухне от шипящих газовых горелок к блестящим кастрюлям.
Когда наплыв посетителей схлынул, Жанреми налил в бокалы для воды охлажденного мюскаде, разделал омара и кивком пригласил Марианну пообедать во время перерыва на теплом пороге у задней двери.
Солнце танцевало с листьями деревьев, в воздухе веяло розмарином и лавандой.
— Вы хорошая keginerez[84], — констатировал Жанреми. — Yar-mat![85]
Марианна обыкновенно не пила днем вино и уж точно никогда не ела омара. Она украдкой покосилась на Жанреми и, увидев, что он без всякого стеснения ест руками, храбро стала ему подражать.
На какое-то одно упоительное мгновение ей показалось, что жизнь никогда еще не складывалась удачнее.
В конце смены Жанреми выдал ей аванс. Завтра в «Ар Мор» был выходной.
Марианна поднялась к себе в «раковину», приняла ванну и ощутила во всем теле сладостную усталость. Кот вскочил на край ванны и принялся вылизываться. Потом она легла в постель и стала рассматривать купюры, которые прислонила к заветному изразцу. Ее собственные, одной ей принадлежащие деньги.
Марианна перевернулась на спину. И тут она осознала, что лежит на кровати слева, на самом краю. Как будто тело Лотара по-прежнему занимает рядом с ней почти всю постель. Она передвинулась в середину и нерешительно раскинула руки.
Кот мощным прыжком взлетел на постель и устроился между ее икрами. «Надо бы его как-нибудь назвать», — подумала Марианна, нежно его почесывая. Но… если сегодня она даст ему имя, завтра не найдется никого, кто бы этим именем его назвал.
Она осторожно встала снова. Ей хотелось посмотреть, как выглядит Кердрюк в сумерках. Она выключила свет и распахнула створки окон.
До Марианны донеслись плеск речных волн, тихое постукивание стальных снастей на мачтах да стрекотание сверчков. Казалось, все краски обрели в голубых сумерках дополнительную насыщенность, словно еще раз расцвели. А потом они стали растворяться в воздухе и обернулись бесчисленными тенями.
Одна из этих теней двинулась к причалу. Марианна отшатнулась от окна, будто ее застали за каким-то предосудительным занятием. Она увидела, как на набережной, подняв бокал шампанского, замерла Женевьев Эколлье. В ее позе упрямство и гнев читались так же ясно, как в открытом дневнике.
Женевьев словно без слов произносила тост, обратившись лицом к Розбра. На другом берегу все было аккуратнее, изящнее и дороже и напоминало деревню из игрушечного набора, — по крайней мере, так казалось Марианне, следившей за владелицей ресторана. По сравнению с Розбра Кердрюк представлялся неухоженной, запущенной старинной вещицей.
Внезапно Марианна осознала, что Женевьев спрятала платья, потому что ненавидела связанные с ними воспоминания. Но все-таки не могла от них избавиться.
Женевьев Эколлье в три глотка осушила шампанское.
А потом, размахнувшись, запустила бокал далеко в воду.
Марианна сконфуженно забралась обратно в постель, с едва заметной улыбкой растянулась посреди кровати и спустя несколько секунд соскользнула в густой, сладкий, как сироп, сон.
Ее последняя мысль была столь мимолетна, что она с трудом смогла ее сформулировать: «Это был замечательный день».
16
Марианна проснулась еще до восхода. Она не могла вспомнить, когда спала таким глубоким, бодрящим сном, когда чувствовала себя такой защищенной, надежно укрытой. Она выглянула из окна и ощутила запах моря.
Семеня мимо пустующей стойки администрации, она неожиданно для самой себя взяла с подставки одну из старых, выцветших от времени открыток с изображением гостиницы. На них уже были наклеены марки.
Марианна написала по тонким линиям адрес своей целльской соседки Греты, а потом остановилась. Она хотела поблагодарить Грету Кёстер. За то, что была с ней дружна, за ее смех, за домашние туфли с перьями марабу, за жизнь, к которой могла прикоснуться Марианна. Хотя бы получая от Греты открытки со всех концов земли, куда та устремлялась, чтобы забыть о своей любви к парикмахеру.
Он был женат и все двадцать лет, что он спал с Гретой, каждую ночь возвращался к жене. Когда та умерла, он пережил ее всего на две недели. Грета была возмущена: «Его так измучили угрызения совести, что он за ней даже на тот свет подался!»
«Спасибо Вам за все: за то, что Вы есть, за то, какая Вы», — написала Марианна и спрятала открытку в карман плаща.
Пройдя всего метров сто по левой стороне деревенской улицы, она обнаружила табличку с надписью: «К морю», а рядом с ней — ящик для писем и бросила в него открытку.
Она осознавала, что это будет последняя весть, которую она подаст кому-то в своей жизни.
Шесть километров до Порт-Манека; там Авен и Белон сливаются, впадая в Атлантический океан. Двенадцать тысяч шагов, и конец.
Марианна прошла мимо старой как мир гранитной chaumière с крышей, нависающей над самыми окнами. За ней обнаружилась узенькая тропинка и повела ее из Кердрюка в сумрачный лес. Дорожку обступали могучие, точно соборные колонны, деревья, теснили увитые плющом и травами земляные валы. К запаху леса примешивалось благоухание водорослей, соли и морской пены.
«Лес, в котором пахнет морем».
Тропинка совсем сузилась, на ее извилистые петли то и дело покушались лишайники и маленькие болотца. Пройдя какую-то лощину, Марианна увидела первый приток Авена. По глинистому руслу реки стекал ручеек, а тропка взобралась на холм, обходя высокие, поросшие лишайником утесы.
Это было похоже на девственный лес. Только небо, деревья, вода, земля и сияние солнца, медленно поднимавшегося к зениту.
Она сделала глубокий вдох, выдох и закричала.
Ей показалось, что этот крик овладел всем ее существом и уже не подчинялся ее воле. Она кричала на вдохе и на выдохе, в этом крике разбилась вся ее жизнь, она кричала и выхаркивала осколки. Ее душа выхаркивала бесцветную кровь.
Когда Марианна нашла в себе силы двинуться дальше, у нее возникло чувство, что с плеч ее соскочило какое-то чудовище с острыми когтями, все это время впивавшееся в ее тело. Это был страх. Ее оставил страх, мерзкое существо с красными глазами, и теперь оно неслось по подлеску, чтобы вскочить на спину первой попавшейся жертве. Из зеленой чащи доносились шелест и хруст ломаемых веток.
«Я и не замечала, что живу», — подумала Марианна.
Прибой принес в реки свежую соленую воду. В лесу запахло иначе.
Она шла, двигалась, ее тело словно преодолевало плотную, осязаемую преграду времени, и Марианна уже не чувствовала себя чужой на этом клочке земли, она будто слилась с ней, а неподатливые границы между человеком и материей словно растворились.
Поясница у нее покрылась испариной. Как никогда прежде, она ощущала свое тело: мышцы болезненно сокращались от непривычных усилий, хотели больше, они хотели идти, двигаться, работать.
И тут ее сразил аромат, чудесный, неповторимый аромат!
Внизу, под светлыми, родившимися в незапамятной древности скалами на берег набегало море. Марианна ощутила его запах. Услышала его. Почувствовала соленый вкус на губах и без памяти влюбилась в облик этого моря. В свет, танцующий на его волнах.
Марианна зашагала по столетней «тропе таможенников» вдоль отвесного берега моря, все дальше и дальше на север. Она страстно надеялась, что эта тропинка скоро приведет к самой кромке воды и она наконец сможет окунуть руки в эту бесконечную, благоуханную безбрежность.
Марианна запела в такт волнам. Они накатывали на берег позади нее, разбиваясь об узкий, нисходящий точно ступенями, белый пляж между утесами, поросшими морской травой, вереском, дикими цветами и дроком.
Марианна шла навстречу морю и пела ему «Hijo de la luna», «Дитя луны», одну из самых прекрасных песен в жанре фаду, которую она знала, исполненную тоски и скорби: одна цыганка умоляла луну послать ей мужа. Луна согласилась, но в награду потребовала первенца!
Цыганка обрела возлюбленного, у них родился ребенок. Кожа у него была белая, как шкурка горностая, а глаза серые. Цыган решил, что жена ему изменила, и заколол ее, а новорожденного отнес на горную вершину и оставил там. Когда ребенок начинал плакать, луна убывала, превращалась в серп и укачивала ребенка в своей колыбели.
И мать, и луну стали осыпать упреками: мол, женщина, готовая отдать свое нерожденное дитя за любовь мужчины, не заслуживает любви ребенка. А луна и вовсе не имеет права на материнство, зачем ей существо из плоти и крови?
«Зачем тебе дитя, луна?»
Однако никто ни в чем не обвинял мужчину, убившего свою жену — из тщеславия, из страха, из оскорбленной гордости.
«И так всегда, — подумала Марианна, поднимая подол платья, — мужчин никто ни в чем не обвиняет. Виновата всегда женщина. Если он ее не любит, если она оказывается слишком слабой, чтобы уйти, если она рожает ребенка, не будучи замужем, — она сама во всем виновата. Лотар уничтожил мою любовь и мою жизнь, а я не сумела даже призвать его к ответу! Зачем тебе нужна была моя любовь? Говори! Зачем?»
Марианна впервые отдавала себе отчет во множестве чувств и мыслей, они так и рвались у нее с языка, но она не произносила их вслух. Почему она так и не осмелилась откровенно все сказать мужу? Потребовать от него, чтобы он познал ее тело! Чтобы он чтил ее сердце!
Марианна громогласно обвинила себя самое в трусости. Умолкнув, она различила только шум моря. Она сделала еще два шага: теперь вода доходила ей до бедер. Она глубже погрузилась в прохладную боль, пока она не поднялась ей до живота; соленые брызги упали ей на лицо. Море напоминало живое существо, морская пена — кипящее молоко, морская вода когтями хищно вцепилась в Марианну.
«Хватит, пора кончать!» — прошептала Марианна.
Еще шаг. Когти впились глубже. Она почувствовала, как пульсирует ее кровь, как она дышит, как ветер теребит волосы и как солнце греет кожу. Марианна подумала о мансарде с раковиной на двери, о коте, устраивающемся у нее на груди, подумала о Жанреми.
Значит, сегодня последний день, когда ей удастся увидеть море. Ощутить море своей кожей, подобно тому как при виде бесконечного горизонта она испытала незнакомое прежде чувство безграничности. Сегодня она последний раз услышит собственный голос.
Но иначе нельзя.
«Кто это сказал?»
В лицо ей полетели брызги соленой пены.
Да, кто это сказал?
Разве она не вправе поступать, как ей заблагорассудится? Захочет — и прямо сейчас сведет счеты с жизнью! В ее власти решать, когда уходить.
Марианна еще раз обернулась, чтобы всем своим существом вобрать в себя грубоватую, первозданную красоту скалистого побережья.
«Завтра».
Марианна вышла из воды на берег.
Завтра.
17
Янн Гаме любил смотреть, как работает Паскаль Гуашон, очевидно, потому, что оба они были художниками, воспринимавшими творческий процесс не как труд, а как наслаждение. Руки Паскаль лепили из глины совершенно неподражаемо: изящнее и точнее они двигались, только когда она работала в саду или готовила.
Если только она могла вспомнить какой-нибудь рецепт.
Паскаль привыкла жить полной жизнью, всецело отдаваться работе и страсти, и потому художнику по временам невыносимо тяжело было видеть, как его давняя подруга все глубже соскальзывает в беспамятство. Ее муж Эмиль и Янн познакомились в тот самый вечер, когда Эмиль и Паскаль влюбились друг в друга; это произошло почти пятьдесят лет тому назад.
Янн потрепал Мерлину, белоснежную суку породы лабрадорский ретривер. Она была первой собакой, которую приютила Паскаль; с тех пор бездомные собаки и кошки заполонили их участок, и число их постоянно росло. Сидя на террасе, Янн наблюдал, как Мадам Помпадур ловит шмеля. Всех собак, даже дворняжек, Паскаль назвала именами королевских фавориток. Кошки именовались в честь овощей и фруктов; рядом с Янном устроились на солнце Мирабель и Petit Choux, Капустка.
— Муза? Ты думаешь, что Эмиль — моя муза? — повторила Паскаль.
Казалось, будто Янна вот-вот высмеют все веснушки под ее некогда рыжей, а теперь молочно-белой шевелюрой.
— Меня вдохновляют чувства.
Ее скульптуры часто изображали мужчину и женщину, которых влекло друг к другу, но лишь изредка их страсть обретала счастливое завершение и они заключали друг друга в объятия. Очень часто фигуры возлюбленных, жаждущих слиться в поцелуе, разделяло всего несколько миллиметров, и они навеки замирали в тоске.
— У Эмиля все в порядке с ногой? — спросил Янн. По иронии судьбы, Эмиль был дюж как медведь, но его мозг начал утрачивать власть над телом. Сначала появилась дрожь в ступне, потом во всей ноге. Теперь дрожь охватила всю левую половину тела, и она переставала подчиняться Эмилю, если он забывал принять лекарства.
— С твоими изразцами тоже все в порядке? — в свою очередь спросила Паскаль.
— Да, пока да, — солгал Янн.
Все в порядке; как всегда, он преподавал живопись малоодаренным художникам-графикам, дважды в неделю навещал Паскаль и Эмиля, по понедельникам ужинал в «Ар Мор», всю остальную неделю расписывал свои кафельные плитки, а в остальном ждал, когда же лето сменится осенью.
— Порядок убивает, — заключила Паскаль. — Ну так что случилось?
Он должен был бы заранее догадаться, что так просто от нее не отделаться. Он снял очки, чтобы не видеть Паскаль. Ему трудно было признаваться в том, что с каждым днем все больше и больше его мучило.
— У меня никогда ничего не было, кроме искусства, Паскаль. А сейчас мне шестьдесят — и я понимаю, что этого недостаточно. В моей жизни пусто. Как на пустом холсте.
— А ну нечего тут себя жалеть, не на тех напал. А искусство, ну что такое искусство, Янн Гаме? Искусство — это мышца, которую ты сокращаешь. Ей безразлично, расписываешь ли ты кафель, или лепишь смешных человечков, — Паскаль ткнула пальцем в глиняную фигуру, которая стояла перед ней, — или плетешь словеса. Искусство просто есть, Янн.
Она одновременно обвела глазами террасу, пожала плечами и всеми пальцами сразу попыталась показать на все, что ее окружало.
— Оно просто есть. И все. Другой вопрос, что ты чувствуешь. По-твоему, ты одинок? Вот что я тебе скажу, Янн Гаме: тебе не хватает любви. Помнишь, что такое любовь? Это то чувство, из-за которого люди совершают глупости или подвиги. Никакое искусство в мире не ответит тебе любовью на любовь, Янн. Ты отдаешь искусству всего себя, но взамен оно ничего тебе дает. Совсем ничего.
Янн был так признателен Паскаль за эти полминуты, за эту яростную отповедь. Не исключено, что, как бывало раньше, Паскаль потеряет нить разговора и начнет спрашивать Янна, кто он, черт возьми, такой. А потом, пошатываясь, побредет в кухню и ничего и никого не будет узнавать: будет недоуменно глядеть на стол, на сахар, на мужа.
Искусство. Любовь. Янн не ощущал себя художником. Он был artisan, ремесленник. Если он и был творцом, то лишь в малой степени. А любовь? Любовь напоминала ему слишком большой холст; он не знал, чем его заполнить, это чувство он никак не смог бы изобразить. Любовь была той самой составляющей, которой недоставало его творчеству.
Он вспомнил о том, что Колетт Роан снова и снова убеждала его писать картины более крупного формата. И вообще заняться картинами, а не кафельными плитками. Хозяйка галереи сравнивала его с Гогеном, Серюзье и Пьером де Беле и в конце концов предложила ему писать женщин. Обнаженных женщин.
«Обнаженные женщины в Понт-Авене? Боже мой, ведь это же глухая провинция, а не Париж!»
— Колетт Роан мечтает о порнографии, — со вздохом сообщил Янн. — О крупноформатных ню.
— Чушь! — фыркнула Паскаль. — Если она видит твое призвание в чем-то большом и значительном, это ее дело. Но кто знает, вдруг одна из твоих крохотных кафельных плиток сделала кого-то счастливым?
— Ты правда в это веришь?
— Мне кажется, это было бы чудесно. — Она мечтательно улыбнулась Янну. — Пообещай мне кое-что, Янн.
— И не подумаю, — отрезал художник. — Я не люблю обещаний. Скажи, что для тебя сделать, и я все сделаю.
— Ты влюбишься еще раз?
Мерлина, которая, блаженно развалившись, лежала у ног Яна, взвыла и подпрыгнула: он ущипнул ее за ухо.
— Да или нет?
— Как я могу пообещать, что влюблюсь!
— Почему бы и нет? Бретонский близорукий идиот! Влюбиться — это лучшее, что может с тобой произойти. Когда ты влюблен, еда кажется вкуснее, мир — прекраснее, а картины пишутся быстрее. Какой ты трус! Влюбись! Открой глаза, распахни сердце, хватит быть таким застенчивым и замкнутым, начни наконец вести себя по-идиотски!
— Что ж мне сразу в идиота-то превращаться?
— Чем скорее ты будешь готов превратиться в идиота, тем скорее влюбишься. Давай! Иначе состаришься в одиночестве и умрешь раньше, чем тебе хотелось бы.
Да, Паскаль, покорительница сердец. Янн совершенно точно знал, что в молодости Паскаль сводила с ума толпы мужчин. Она работала стюардессой и знакомилась с потенциальными поклонниками по всему миру. Янн радовался за них больше, чем за своего друга Эмиля. Возможно, все отвергнутые воздыхатели встретили в лице Паскаль самую яркую и незабываемую женщину в своей жизни. Но Паскаль любила одного Эмиля. Иногда любовь принимает странный облик.
Любовь. Это чувство, которое особенно остро ощущаешь перед лицом смерти — например, в воздушных ямах в самолете. Если оно уходит, если ты переживаешь ремиссию, оно снесет тебе голову и иссушит сердце.
До тридцати Янн пребывал в ремиссии, пытаясь забыть о своей первой большой любви. С каждым годом воспоминания о Рене все меньше его мучили, и ему потребовался немалый срок, чтобы наконец на нее рассердиться. Чтобы вознегодовать на ее измены, которые были для нее столь же естественны и необходимы, как дыхание. Он начал прощать себе Рене.
Но существует ли эта любовь на самом деле, вечная, золотая, непреходящая? «Tojours l’amour»[86] — так обычно называют самые заурядные красные вина.
«Черт возьми! — подумал художник. — Мне не хватает любви. Я хочу, чтобы меня любили. Чтобы чье-то лицо при взгляде на меня озарялось улыбкой — просто потому, что я есть. Чтобы чья-то рука во сне искала мою. Чтобы рядом со мной был кто-нибудь, чье лицо будет последним, что я увижу, когда засну вечным сном. Чтобы кто-нибудь стал для меня домом, обителью, оплотом».
— Ну хорошо, — сказал Янн и снова надел очки.
Янну Гаме хотелось написать что-то, чего он еще никогда не видел; ему хотелось написать лицо женщины, которая его любит. Он не мог представить себе, какой будет женщина, решившаяся на ужасную глупость — влюбиться в близорукого художника.
Подняв глаза, он обнаружил, что Паскаль с тревогой и недоумением смотрит на него.
— А вы кто такой, черт побери? — спросила Паскаль.
— Я пишу ваш портрет, — ответил он, пытаясь за наигранной бодростью скрыть боль, которую причиняло ему ее старческое слабоумие.
— Да, mon cœur[87], мсье Гаме пишет твой портрет, — подтвердил Эмиль. Он только что вернулся из магазина, и поход за продуктами его невероятно утомил. Так бывало всякий раз, с тех пор как к ним переехал мистер Паркинсон и теперь они вчетвером, включая мадам де Менц, жили под одной крышей.
— На меня постоянно кричит мадам Буве: я, видите ли, все делаю не так, — расплакалась вдруг Паскаль.
Эмиль заложил жене за ушко выбившуюся прядь волос. Она уже перешагнула семидесятилетний рубеж, но с каждым днем казалась все моложе, лицо у нее было просто девичье, глаза прозрачные, как чистая вода; по ним нельзя было понять, что они видят мир не таким, каков он есть на самом деле. А сейчас они заглянули в прошлое и узрели там шестую по счету экономку, которая ушла, не в силах терпеть перепады настроения своей хозяйки. Завтра придет мадам Рош, номер семь; Эмиль надеялся, что ее так просто не одолеть.
— Ты меня любишь? — спросила мужа Паскаль.
Он сел рядом с ней и взял ее руки в свои.
— Да, — кивнул Эмиль, — я тебя люблю.
Паскаль бросила на него удивленный взгляд:
— А папа об этом знает?
Эмиль снова кивнул.
— Не терплю женщин, которые вечно орут, — решительно констатировала Паскаль и оперлась на колено Эмиля, чтобы встать.
Войдя в кухню и увидев корзины с покупками, она в ужасе закрыла лицо рукой; ладонь вспорхнула к ее глазам, словно испуганная птица.
— Я должна тут срочно убраться! — объявила она мужчинам.
Паскаль потянулась к соломенной шляпе, висевшей за холодильником. Кинулась к раковине, подставила под кран шляпу, а потом принялась мокрой шляпой протирать грязные оконные стекла. Эмиль, хромая, подошел к ней и осторожно взял ее за голое предплечье.
— Mon cœur… — прошептал Эмиль; на большее сил у него уже не осталось.
Паскаль обернулась к нему.
— Ах да, — сияя, объявила она, — какая же я дурочка! — И с этими словами надела шляпу. Вода побежала с висков по ее щекам. Потом она взяла губку и стала протирать оконное стекло в такт напеваемой мелодии — «Оде к радости».
Янн покосился на Эмиля. Тот пожал плечами и подхватил напев Паскаль. Супруги закружились по кухне в медленном танце.
Да, эта вечная, непреходящая любовь, tojours l’amour, существовала и смягчала горечь утрат.
18
Это «завтра» не наступило на следующий день. Не наступило оно ни через день, ни через два.
Одиннадцать дней Марианна просыпалась незадолго до рассвета и по туманному лесу отправлялась к морю. Она чувствовала, как с каждым днем прибывают силы, как ее постепенно покидает накопившаяся усталость; солнце стало покрывать ее кожу загаром, а море — придавать ее глазам более светлый оттенок. Колено у нее болело все реже.
Каждое утро она ступала босыми ногами в пенящиеся волны, но жажду отдаться им неизменно заглушало упрямое, непостижимое желание жить.
Один раз она сказала себе, что еще не может уйти, ведь она должна испечь Жанреми ржаной хлебец, пока они будут повторять французские слова. В другой раз она обещала поехать с ним в Трегюнк, на рынок, где продавались экологически чистые продукты. Потом, в среду, состоялся еженедельный концерт, а у нее как раз выдался выходной, и Лорин хотела во что бы то ни стало ее пригласить. И потом, если уж она здесь оказалась, разве можно было не взглянуть на островок неподалеку от Рагене, у северной оконечности пляжа Таити, до которого в отлив легко было дойти пешком. Там впервые провели ночь влюбленные из романа Бенуат Гру «Соль на нашей коже».
— Я хочу тебе кое-что сказать, — на двенадцатый день заявила Марианна Жанреми.
Он как раз увязывал тесто в льняные мешочки и опускал в кипящий на медленном огне густой суп kig ha farz, традиционный наваристый бульон с блинами, бычьими хвостами, кусочками говядины, солониной, савойской капустой и сельдереем.
Марианна отложила похожий на розочку кочан цветной капусты. Эта kaolenn-fleur выросла на поле у самого моря. Потом Марианна взяла блокнотик для заказов, служивший ей ученической тетрадью, и старательно прочитала вслух заранее заготовленную запись:
— Эта глупость. С тобой и с Лорин. Хватит ее. Посылай ей цветы каждый день. Будь мужчиной, а не… triñschin.
— Не будь щавелем? — раздраженно повторил Жанреми, диктуя Марианне задания: — Premièrement[88], смешать свиную кровь с bleud, sukr, rezin, holen, pebr[89], добавить немножко chokolad. Двойняшки Поля завтра отмечают день рождения и потребовали сладких кровяных колбасок, silzig.
Марианна собралась с духом:
— Жанреми, не silzig, Лорин!
— Deuxièmement[90], почистить кальмаров, morgazen, удалить пленку, хрящи, клюв и присоски.
Жанреми подал Марианне знак, и она спешно подвинула ему миску с пробками от винных бутылок. Он вытряхнул ее содержимое в кастрюлю с предварительно очищенными тушками кальмаров: пробка размягчает белок и белое мясо кальмара приобретет ни с чем не сравнимую нежность.
— А как насчет цветов? — взмолилась Марианна.
— А еще нужно почистить patatez![91]
— Напиши ей любовное письмо, ya?
Жанреми спасся бегством в холодильную камеру.
— Мадам! Завтра начинаются длинные летние каникулы, послезавтра сюда в Бретань нагрянет пол-Парижа. Сонные деревеньки превратятся в осиные гнезда, от туристов отбою не будет, и все как один станут требовать moules[92] и homard[93]. До конца августа у нас не выдастся ни денечка свободного; ну когда мне писать любовные письма?
— Ночью, — предложила она и добавила: — Маленький triñschin.
Слушая Марианну, мадам Женевьев украдкой улыбалась за стойкой бара. Она проверяла, хватит ли вина, до блеска ли начищены столовые приборы, бокалы, солонки и перечницы.
Мадам Женевьев возносила всем бретонским богиням благодарность за новую кухарку. Марианна прибралась в гостинице, выстирала и выгладила тонны простынь, наволочек, скатертей и гардин. Марианна возродила гостиницу к жизни.
Женевьев убедилась, что ее черное платье застегнуто на все пуговицы, и так туго зачесала волосы, что у нее заболели виски. На сей раз ей повезло. У Марианны была такая широкая душа, что туда мог зайти танкер. Хозяйка гостиницы пожалела, что сама она не столь отзывчивая и добросердечная.
Да, и в ее жизни бывали мгновения, когда казалось, что ее душа способна вместить все. Когда рядом с ней был тот, кого она любила, когда она кожей ощущала обнаженность бытия, по сравнению с которой все делалось не важным, когда любовь переполняла ее сердце и оно было готово принять в себя весь мир.
Но потом все изменилось. Судьба обрушила на нее свой гнев. Женевьев вздохнула и вышла из ресторана на набережную. На террасе садовники как раз высаживали однолетние сеянцы в фаянсовые горшки и выкашивали неопрятную траву у входа в гостиницу.
Лорин стояла, обняв метлу, которой должна была подметать террасу «Ар Мор». «Mon amour, oh, mon amour, — шептала она метле, — je t’aime[94], я тебя хочу, прямо сейчас, да, сейчас», — повторяла она и стала пританцовывать, прижав метлу к груди.
— Лорин!
Та в испуге выпустила метлу и со стуком уронила на блестящий пол. Лорин покраснела до самой челки.
— Да что с тобой! Ты совсем замечталась!
— Да, мадам. Я вообразила, что это мой возлюбленный, и мы оба голые, и он…
— Молчать! — гаркнула Женевьев.
Лорин подняла метлу и прижала ее к себе.
— Иди домой и мечтай там!
— Но его там нет.
— Его и здесь нет.
С этой девицей Женевьев теряла терпение. Природа создала ее влюблять в себя мужчин, а что она делала вместо этого? Сама влюбилась без взаимности.
Мадам Женевьев вырвала метлу у Лорин из рук.
В это мгновение на набережную по пандусу съехал старенький «рено».
Женевьев побледнела и вцепилась в ручку метлы.
Из «рено» вышел высокий, жилистый человек в джинсах, в белой рубашке с закатанными рукавами. В молодости он, вероятно, был хорош собой, а теперь его красота превратилась в выразительность, мужественность и силу, чувствовавшуюся во всем его облике.
— Это не?.. — пролепетала Лорин, от удивления широко открыв глаза.
— Да, это он. Иди в кухню, сейчас же! — приказала мадам Женевьев.
Лорин повиновалась.
— Что ты здесь делаешь? — спросила Женевьев Эколлье у человека, который подходил к ней осторожно и робко, как пугливый олень.
— Да вот приехал посмотреть, где будут останавливаться мои будущие клиенты, — ответил он голосом низким и бархатным, как ре-мажорный аккорд. — Ты, судя по всему, скоро снова откроешь гостиницу?
— Что ж, посмотрел — и уезжай, kenavo[95].
— Геновева… Пожалуйста. — Его печальный взгляд на мгновение остановился на ее непроницаемом лице и тут же скользнул прочь.
Мадам Женевьев прижала к себе метлу и, выпятив грудь и вскинув голову, направилась в «Ар Мор».
— Геновева! — позвал Ален Женевьев Эколлье нежно и умоляюще.
Марианна спряталась за угол неподалеку от заднего входа; она не хотела подсматривать и теперь бросилась в огород за пучком тимьяна для Жанреми.
— Ты сказал сегодня Лорин что-нибудь приятное? — небрежно спросила она, вернувшись в кухню.
Жанреми протянул Марианне ведро мидий и жестом велел ей удалить бородки.
— Я сказал ей, что она очень красивая.
— Ничего ты ей не говорил, triñschin.
Жанреми проворчал что-то невнятное, встряхивая кастрюлю с уже очищенными и кипящими в мюскаде, сливочном масле и луке-шалоте мидиями.
— Ты знаешь мужчину, который сейчас приезжал?
— Угу, — хмыкнул Жанреми. — Ален Пуатье. Из Розбра, с другого берега. Он наш конкурент.
Повар выложил мидии на блюдо, отделил неоткрытые, процедил через сито отвар, вылил его в кастрюлю поменьше и засыпал туда муки.
Марианна передала Жанреми шафран, сливки и нежирную сметану, и он выпарил с ними отвар. Марианна стала размышлять, какую же сцену она только что наблюдала.
«Нет ничего холоднее сердца, которое некогда горело».
Ален Пуатье — не просто конкурент, это человек, из-за которого лицо Женевьев навсегда застыло, и теперь душевные движения отражаются на нем только ночью, но никогда в присутствии людей.
«Интересно, — подумала Марианна, — а у меня было бы другое лицо, если бы мне удалось убедить собственного мужа полюбить меня, уважать или хотя бы раз подарить один-единственный цветок?»
19
Прошло несколько недель. Гуляя ранним утром по берегу моря, Марианна вслух перечисляла все поэтические синонимы прилагательного «серый», которые выучила до сих пор. «Печальный», «горностаевый», «грусть, внезапно охватывающая посреди веселья», «невзрачный», «первозданный». У бретонцев существовали сотни слов для наименований серых оттенков небес и воды. Они жили на земле, по которой хотелось идти все дальше и дальше, забывая о времени, забывая, где припарковал машину, забывая о собственной прежней жизни и больше никогда не возвращаясь.
Марианна не могла нагуляться по тропинкам Финистера, по густым лесам, вдоль берега моря, по усыпанным цветами, заросшим буйной травой лугам, обрамляющим розовые утесы.
Улицы были узенькие, извилистые, гранитные дома — старинные, готовые выдержать любую бурю, окнами по большей части обращенные прочь от моря.
Проходя неподалеку от Кердрюка по деревушке Керамбай, она заметила, что над золотистым, насыщенного цвета, пшеничным полем возвышается менгир. Колосья волновались вокруг него, словно волны под беспокойным западным ветром. Марианна вспомнила, что рассказывал ей про эти магические, ростом с человека камни Поль: под Рождество, в полночь, менгиры отправляются на берег, чтобы испить морской воды. В оставленных ими котловинах таятся сокровища. Если хочешь добыть их, нужно поторопиться, иначе с двенадцатым ударом колокола окажешься погребен под камнями.
Подходя к Кердрюку с востока, через лес, Марианна услышала выстрел. Он эхом отдался в ее ушах, а потом наступила абсолютная, зловещая тишина.
Услышав из кухни короткий, резкий хлопок, Эмиль Гуашон понял, что лишился очередной экономки.
Он достал из коробка последнюю спичку, чиркнул ею по серной полоске и дрожащей рукой поднес ее к чаше с бретонской яблочной водкой.
Дверь в библиотеке, где он сидел, с силой распахнулась и ударилась о полку, на которой стояло собрание сочинений Монтескье. Пламя спички погасло.
— Это чудовищно! Она пыталась меня застрелить!
— Это была моя последняя спичка.
— Я ведь всего-навсего готовила сливовый пудинг, мсье, и попросила ее передать мне корицу! А она что делает? Хочет меня пристрелить, как паршивую дворняжку!
— Ну и как мне теперь прикажете пить ламбиг?
— Как вы только выносите, мсье, всех этих грязных, блохастых тварей, трехлапых дворняг, одноглазых кошек, а еще кормите их с лучших тарелок, c’est dégoutant![96]
— У вас не найдется спички, мадам Рош?
Он внимательно осмотрел источник этого оглушительного, трескучего шума.
«Молодым женщинам ум заменяет красота, старым ум заменяет красоту». Мадам Рош одно другое не заменяло, потому что ни красоты, ни ума судьба ей не отмерила изначально.
— То, что творится в вашем доме, просто греховно! Греховно!
— Благочестие проистекает из желания во что бы то ни стало заявить о себе, — сообщил Эмиль мадам Рош.
Мадам Рош захлопнула рот, как мышеловку. Ее колючие карие глазки так и впились в Эмиля: в них не читалось ни капли душевной теплоты.
— Я увольняюсь, — выдавила она из себя.
— Bon courage[97], идите с Богом и передавайте Ему привет, скажите, пусть заглянет к нам как-нибудь.
Эмиль подождал, пока с грохотом не захлопнется тяжелая дубовая дверь в передней, пока не затихнет скрип гравия у нее под ногами и не удалятся семенящие шажки. Знакомый звук.
Эмиль Гуашон встал со старого кожаного кресла и, хромая, заковылял по длинному коридору, через гостиную, в кухню. На серванте стояла разбитая пулей миска сливок, а рядом — сахарница, из которой торчала рукоятка пистолета. В хлебнице Эмиль обнаружил телефон, в бельевом шкафу — хлеб, в холодильнике — стопку аккуратно сложенных платков. А вот спичек не нашел.
Паскаль сидела в кладовке, поджав ноги, и тихонько покачивалась взад-вперед. Эмиль с трудом опустился на холодный каменный пол рядом с женой.
Паскаль он знал всю жизнь. Он пережил ее расцвет, длившийся двадцать лет апогей ее женской красоты и силы, и насладился всеми его стадиями. Эмиль знал каждую женщину, которой она побывала в прошлом.
Он помнил об острых ножах в кухне. Он не отключал подачу газа и не запирал входную дверь. Он никогда не оскорбит Паскаль, защищая ее от жизни и смерти.
Смерть, Анку, был странным созданием. Эмиль всегда надеялся, что к назначенному сроку жизнь так ему надоест, что мысль об Анку, к которому ведут все дороги, перестанет его пугать.
Но нет, Эмиль хотел жить сильнее, чем когда-либо! Его раздражали признаки распада, пробирающий до костей холод лесного дома, убывающие силы, болезнь Паркинсона. Что за судьба, печальнее не придумаешь! Как только дух достигает зрелости, тело начинает разрушаться.
Эмиль поцеловал жену за ухом, зная, как она любит эту ласку. Она хихикнула. Потом он с усилием поднялся и поискал пластинку Марии Каллас; ее голос в числе весьма немногих вещей возвращал Паскаль к жизни, когда она слишком глубоко погружалась в себя.
Марианна в ужасе замерла. По лесной тропинке ей навстречу протопала разгневанная женщина, что-то недовольно и раздраженно ворча. Она даже не удостоила Марианну взглядом.
Теперь она расслышала доносившуюся из леса оперную музыку. Марианна нерешительно двинулась по направлению к этому звуку. Пересекла поляну и дошла до чудесного поместья с могучими лиственными деревьями, увитой диким виноградом террасой, фаянсовыми плитками, полукруглыми окнами… Однако запущенный огород с загрубевшими листьями кочанного салата и нестрижеными розовыми кустами весь зарос сорняками.
Тут Марианна заметила бесчисленных кошек, взобравшихся на деревья или отдыхающих в прохладной тени, и собак, лениво развалившихся в углу посыпанного гравием подъезда к дому.
Под чудесный голос Марии Каллас, взмывавший в заоблачные выси, Марианна обошла дом.
— Эй! Есть тут кто-нибудь? — позвала Марианна, стараясь перекричать арию.
К ней подошла женщина. В руках она несла поднос, уставленный маленькими тарелочками.
— Bonjour[98]. Приветствую вас на борту самолета, совершающего рейс «Рим — Франкфурт-на-Майне». Я — ваша стюардесса, Паскаль. — Незнакомка улыбнулась Марианне. — Пожалуйста, пристегните ремни и не отстегивайте их в течение всего полета.
Она стала расставлять перед томно раскинувшимися кошками тарелки с омаром под соусом тартар, как будто разливала шампанское пассажирам на высоте десяти тысяч футов над землей.
Женщина говорила по-немецки! А Марианна уже целую вечность не слышала родного языка!
— И сколько нам лететь? — спросила она.
Паскаль Гуашон одарила ее улыбкой — впрочем, мимолетной.
— Понятия не имею, — печально сказала она. — Знаете, я в последнее время что-то стала забывчива.
На лице ее быстро сменялись грусть и радость, и ни одна эмоция не в силах была возобладать. Потом Паскаль отвернулась и начала перечислять имена кошек, расставляя перед их мордочками тарелки: Petit Choux — Капустка, Framboise — Малина. Она наклонилась к уху Марианны, словно хотела доверить ей тайну:
— Это души умерших и ведьм. Или живых, которым надоело жить в одиночестве, и они отправили свою кошачью душу на поиски дома.
Марианна прошла следом за незнакомкой в кухню; там Паскаль взяла в руки очередной поднос. Марианна догадалась, что это будет завтрак для собак, которых она уже видела. Она отняла у женщины тяжелый поднос и двинулась за ней в сад.
Паскаль погладила борзую:
— Мадам Помпадур. Она основала театр и фарфоровую мануфактуру. Поэтому ужин ей подают на тарелках севрского фарфора. Compris?[99]
— Само собой.
— Maîtresses en titre[100], — наставительным тоном продолжала Паскаль, кормя собак, — повелевали королями. В постели они осуществили больше государственных дел, чем хотелось бы признавать историкам.
— Ах, вот как! — протянула Марианна и почувствовала, что краснеет.
К ним подбежал светло-рыжий пудель с откушенным ухом.
— Анна Бретонская. Наша королева. Она вышла за короля франков, чтобы защитить от него свою землю. Она учредила «Дом принцессы» с девятью галантными дамами и сорока фрейлинами. Правительственный сераль.
Паскаль с гордостью почесала пуделю брюшко.
Паскаль представила Марианне других королевских фавориток: Мадам Дюбарри, любовниц папы Александра VI Джулию Фарнезе и Ванноццу деи Катанеи, а также леди Джейн Стюарт. Под конец она показала еще таксу с длинными ушами и оптимистически воздетым кверху хвостом:
— Жюли Рекамье, в ее честь назвали кушетку. Ее подруга, мадам де Сталь, сказала о Германии: «Страна поэтов и таксиков».
— Поэтов и мыслителей, — поправила Марианна.
— Ну да, так тоже можно, — согласилась Паскаль. — Постойте, а вы, вообще-то, кто?
— Марианна Ланц.
— А-а-а… Мадам Ланц, меня зовут Паскаль.
— А что случилось с вашим садом, Паскаль?
— А что?
— У меня никогда не было такого сада.
— А что у вас было?
— Лужайка.
— Лужайка? А что это за цветок?
Марианна стала подозревать, что так она не преуспеет, и изменила тактику:
— А у вас есть кто-то… Кто-нибудь живет вместе с вами?
Паскаль задумалась.
— Не знаю, — помолчав, грустно сказала она. — Знаю только, что соображаю плохо. Но видите ли, Марианн… самое ужасное — это когда осознаешь, что ничего не соображаешь, и ничего не можешь с этим поделать. Бывает так: вот только что я помнила, кто я, и тут раз — и все забыла. — Она схватила Марианну за руку. — В Америке некоторые отбирают у своих страдающих старческим слабоумием бабушек паспорта, срезают с их одежды этикетки с именем и фамилией, перевозят их в другой штат, подальше, и просто высаживают на улице. Это называется «грэнни-дампинг». Так же нельзя, правда?
Марианна покачала головой. Самая мысль об этом внушала ей ужас.
Эмиль, скрестив руки, смотрел с террасы, как женщины бродят по запущенному саду. Ему показалось, что иностранка, в которой он узнал новую кухарку из «Ар Мор», не боится его сумасшедшей жены. Кто знает, может быть, она и сама не лучше.
Сумасшедшим в Бретани жилось неплохо, это нормальным приходилось нелегко. Но все-таки. Она не бретонка. И даже не француженка.
Эмиль проковылял в дом и вернулся с кувшином медового напитка, chouchen, стаканами, багетом с ветчиной и сыром. Паскаль частенько забывала поесть. Она не ощущала ни голода, ни жажды, и Эмилю приходилось напоминать ей, что нужно есть и пить. А еще о том, что она поела и попила — хватит.
Расправившись с багетом, Паскаль заснула в шезлонге на террасе, с кошкой на животе. Эмиль укрыл жену и надел на нее соломенную шляпу, чтобы солнце не сожгло ей лицо.
Эмиль не предложил Марианне ни выпить, ни перекусить. Бретонец не сказал ей ни единого слова, даже когда она попрощалась с ним по-бретонски: «Kenavo».
20
Поначалу казалось, что день рождения Осеаны и Лизетты обернется полным провалом. С десяток пятилетних девочек носились по «Ар Мор», объедались сладкими кровяными колбасками и постоянно требовали, чтобы Поль с ними играл. Garz[101], ну во что прикажете старенькому дедушке играть с такими малявками? Но потом Марианна выманила визжащих принцесс на набережную, устроив игру в жмурки, бег с яйцом в ложке и поиски подарков под перевернутой кастрюлей. Поль рассмеялся, когда образцовая кухарка Жанреми точно из-под земли выросла перед ним с кастрюлей и с целым букетом деревянных ложек. Девочки увлеклись игрой, и Поль смог без помех насладиться порцией гребешков с кислыми яблоками.
День рождения пролетел быстро, и теперь ему еще предстояло уговорить двойняшек лечь в постель.
— Kement-man oa d’ann amzer… — случилось это в стародавние времена, когда у кур еще зубы не выпали. Жил-был храбрый маленький мальчик по имени Морван, совсем рядом, по соседству с нами, и мальчик этот ничего так не хотел, как стать рыцарем. Когда ему исполнилось десять…
— Нет-нет-нет! Не надо сказку про Морвана, она глупая! — запротестовала Лизетта.
Ее сестра Осеана кивнула:
— Не надо, не надо.
— А тебе всегда хочется того же, что и сестре? — спросил Поль.
— Конечно, это ведь и так понятно, дедуля! — неразборчиво протянула она, словно сосала горсть леденцов.
Они втроем удобно устроились на старых качелях под ветхим голубеньким навесом. Лизетта, стоя на коленях слева от Поля, тщательно исследовала волоски, торчавшие у него из ушей, а Осеана справа от своего grand-père[102] свернулась калачиком на сиденье, прислонившись головкой с неплотно заплетенными светло-каштановыми косами к его плечу и посасывая на сей раз не большой, а согнутый указательный палец.
— Так, значит, вы не хотите слушать историю о Морване Лез-Брезе, опоре Бретани, который сделал нашу землю независимой?
— Нет, дедуля! — хором ответили Лизетта и Осеана.
— Хорошо, а сказку о проделках Бильца, веселого вора из Плюаре?
— Чушь! — нараспев произнесла Лизетта.
— Еще какая! — поддакнула Осеана.
— А о принцессе Златовласке, принце Кадо и о волшебном кольце?
— Скучно.
— Не могу поверить, что вы не хотите еще раз услышать все наши чудесные бретонские истории.
— Мы сейчас хотим сказку, дедуля, — приказала Лизетта и дернула Поля за волосы, обильно растущие из ушей. Бывший солдат Иностранного легиона сидел не шелохнувшись, пока пятилетняя внучка аккуратно выщипывала пучки волос у него в ухе.
— Ну и какую? — спросил Поль.
— О городе Ис, — решила Осеана.
— И о Дахуд, морской принцессе.
— И о ключе из чистого золота.
— И о том, как этот город утонул в море.
Дахуд. Она точно понравилась двойняшкам. Поль уже много раз рассказывал им легенду о городе Кер-Ис, затонувшем в заливе Дуарнене, пытаясь при этом опустить эротические подробности из жизни феи Дахуд. И прежде всего не упоминать о сменявшихся каждую ночь любовниках.
— Kement-man oa d’ann amzer… — снова начал Поль. — Случилось это в ту пору, когда римляне начали прокладывать в Арморике дороги. От Каре до моря, прямо к заливу Дуарнене, и сегодня еще ведет одна из древних римских дорог. Однако она обрывается прямо в море. А когда-то она соединяла Каре с одним из самых больших и красивых городов мира, Исом, который иногда называют еще Атлантидой.
— А вдруг римляне построили дороги только для того, чтобы доставлять рыбу прямо с побережья? — едва слышно прошептала Осеана.
— А если нет? — еще тише прошептал в ответ Поль, и Осеана завороженно кивнула.
— Мудрый и могущественный король Градлон возвел Кер-Ис, град пучины, для своей любимой дочери Дахуд. Матерью принцессы Дахуд была возлюбленная короля, фея, повелевавшая водами и огнем. И потому он не разрешил крестить Дахуд, ведь тогда она утратила бы свой волшебный дар.
— Как и мы! Нас тоже не крестили! — закричала Лизетта.
«О господи!» — подумал Поль.
— Город защищали от морских волн и наводнений плотины и железные ворота. У короля Градлона был ключ из чистого золота от шлюзных ворот, и этот ключ он всегда держал при себе, не расставаясь с ним ни на миг, чтобы никто не смог ночью открыть ворота и затопить город. Золотые купола соборов, серебряные башни и брильянтовые крыши домов так сияли на солнце, что их было видно издалека. Все жили в богатстве, а детей не посылали в школу…
Конец истории Поль интерпретировал очень вольно. Впрочем, одну подробность ему все-таки пришлось упомянуть, а именно рассказать о том, как Дахуд как-то ночью сняла с шеи у отца заветный ключ, который он носил на цепочке, и впустила своего возлюбленного, а тот, идиот каких мало, в недобрый час открыл створки ворот, и море хлынуло в город.
— Король Градлон вскочил на своего быстроногого скакуна и так спасся от бушующих волн. Он успел еще поднять Дахуд к себе в седло, но тут море потребовало вернуть ему его законную жертву и унесло своевольную фею.
— Вау, жалко… — протянула Лизетта.
— Еще как! — откликнулась Осеана.
— Сделаешь нам еще krampouezh[103], дедуля? С «Нутеллой»?
— Все, что угодно, мои маленькие феи.
Двойняшки были единственными женщинами, способными выпросить у него что угодно. В том числе и блины, хоть целую гору!
— Терпеть не могу, когда ты рассказываешь детям такие сказки. Ты же знаешь, я запрещаю говорить с ними по-бретонски! — раздался голос откуда из глубины дома.
Поль закрыл глаза.
«An hini n’eo ket bailh en e benn a zo bailh en e revr», — пробормотал он: у кого клеймо не на лбу, у того на заднице.
Нольвенн вырвала у него из рук ламбиг и жестом приказала близнецам встать и готовиться ко сну, а потом бросила Полю ключи от его машины:
— Свались по дороге в кювет. Тебе бы поделом, заслужил.
Лизетта заплакала, решив, что теперь дедуля непременно погибнет, а Осеана тут же присоединилась к сестре из солидарности.
— Смотри, что ты натворил! — прошипела Нольвенн.
Падчерица не любила Поля. Или нет, Нольвенн его не выносила, а это весьма существенная разница.
Он ее не любил. Нельзя сказать, чтобы он ее не выносил, ведь, в конце концов, именно она родила двойняшек, а за это ей можно было простить многое. Ее мать, Розенн, была великолепна, она была неподражаема, настоящая волчица. Но в глазах Нольвенн у Поля имелось два недостатка: его прошлое, то есть служба в Иностранном легионе, и тот факт, что он не был ее родным отцом. А поскольку искоренить эти недостатки было невозможно, невозможно было и что-то изменить в их отношениях.
Поль и Розенн никогда не жили вместе, чтобы не ранить Нольвенн, однако их союз продлился четырнадцать лет, и десять из них — в законном браке. Но счастье ушло безвозвратно, когда появился этот юнец.
После развода, которому Поль не противился, Розенн приняла решение, за которое Поль не уставал ее благодарить: она позволила ему беспрепятственно видеться с внучками.
Нольвенн быстро осознала практическую выгоду этой любезности: из Поля вышла бесплатная нянька. Она поставила ему жесткие условия: никаких бретонских сказок, никаких бретонских песен, никаких бретонских пословиц, поговорок и народных примет. Ее девочки — француженки, и баста. Больше всего ей хотелось бы вернуть таблички, которые десятилетиями красовались на стенах школ: «Плевать на пол и говорить по-бретонски воспрещается». Нарушителю в наказание вешали на шею деревянное сабо.
Последний раз поцеловав внучек и закрыв за собой дверь, он в ярости прошипел: «Hep brezhoneg Breizh ebet!» — «Без бретонского нет Бретани». А без Бретани нет родины.
Ma Doue[104], как же ему хочется выпить!
Он долго не мог опустить ручной тормоз, во влажном, соленом воздухе механизм снова заржавел. Но в конце концов ему это удалось. На обратном пути Поль заметил на противоположной стороне улицы Марианну. Вообще-то, она ему нравилась. Он опустил окно.
— Alors, vous sillonnez la Bretagne? — Опять бродите по окрестностям?
Она ответила не сразу, потому что неожиданно они оказались в гуще велогонки, посреди пожилых людей в неоновых облегающих костюмах, которые только что с трудом въехали на холм и теперь обменивались радостными возгласами на скоростном спуске.
На какое-то мгновение Поль заметил на лице Марианны глубокую грусть. Но печаль тут же снова сменилась чудесной улыбкой, которая успела его очаровать. Марианна чем-то напоминала ему Бретань: здесь за каждым красивым фасадом тоже таилась бездна, иногда влекущая — например, в облике Марианны, иногда исполненная злобы — например, в облике Нольвенн.
Интересно, что Марианна скрывает в душе? Он нажал на газ и махнул ей на прощанье рукой. В зеркале заднего вида он заметил, как на ее девичьем лице снова медленно воцарилась странная отрешенность, словно эта женщина что-то потеряла и сама не ведает что.
Полю нужно было развеяться. Он доехал до Кербуана и прогрохотал по двору мимо поставленной на козлы байдарки Симона, вдоль огородных грядок, прямо к задней двери. Симон сидел на пороге, по обычаю состоявшем из двух ступеней, чтобы в дом не смогли пробраться крохотные тролли-корриганы, и курил.
— Привет! — поздоровался Поль. — Выпить не найдется?
— Помоложе или постарше?
— Все сгодится, что старше меня.
— Такое еще поискать надо.
Первую бутылку, «Кот дю Рон», они распили в полном молчании, только раз прерванном благодарным хмыканьем Поля, когда Симон подвинул ему на деревянном подносе багет, соленое масло и паштет с перцем. Как обычно, Симон процарапал на исподе хлеба крест.
Вторая бутылка, «Эрмитаж», вернула Полю дар речи.
— Evit reizhañ ar bleizi, Ez eo ret o dimeziñ, — констатировал Поль: «Я приручил волчицу, когда на ней женился». — Зачем я только взял в жены Розенн! Если бы я на ней не женился, я бы ее и не потерял. Дурак я, дурак, овца безмозглая!
— Нда… Da heul ar bleiz ned a ket an oan[105], — сказал Симон. — Особенно, если волк уже завел себе новую овечку.
Хотя это Поля не утешало и не излечивало от несчастной любви к Розенн, больше по этому поводу как будто и сказать было нечего.
Симон свернул несколько блинов, начинив их козьим сыром, инжиром и маслом, зажег газовую печь и сунул туда. Спустя пять минут друзья стали есть руками. Совладать с ножами и вилками к этому моменту им уже было трудновато.
— Я что, слишком старый? — спросил Поль, когда они откупорили третью бутылку; согласные он уже произносил неотчетливо, они уплывали куда-то вдаль по волнам красного вина в импровизированном бокале — вымытой банке из-под горчицы.
— Для чего старый-то? Для пьянства? Для пьянства старых не бывает, бывают только слишком молодые. Yar-mat![106] — Они чокнулись.
— Для женщин. Слишком старый для женщин. — Поль провел рукой по лысине.
— N’eo ket blev melen ha koantiri, A laka ar pod da virviñ[107], — помолчав, ответил Симон. Он тихонько рыгнул.
— Да уж, точно, дело, наверное, в характере… или в чем-то таком. Мне нравятся любые женщины: темненькие, маленькие, толстенькие, даже дурнушки, — но ни одной я не нужен. Ну почему? Я что, слишком независимый?
— Нет, слишком красивый, garz[108], — сказал Симон и наконец добился желаемого эффекта: Поль расхохотался.
Он смеялся, забывая несчастную любовь к Розенн и ненависть Нольвенн, а Симон встал, пошатываясь. Вернулся он с бутылкой шампанского.
— Молоденькое. Несовершеннолетнее, — прошепелявил он, поставив перед Полем бутылку «Поль Роже». Они налили шампанское в чистые бокалы для воды.
— Плевать на пол и говорить по-бретонски воспрещается! — прорычал Поль командным тоном.
— Слушаюсь! — откликнулся Симон. Они синхронно наклонились и сплюнули на плитки кухонного пола.
Осушив бокал тремя внушительными глотками, Поль заговорщицки приблизил голову к Симону.
— Эта Марианна… — начал он.
— Гммм… — промямлил Симон.
— В ней есть что-то такое… Рядом с ней чувствуешь себя молодым. Рядом с ней мысли приходят в порядок, на сердце делается легко. Понимаешь, о чем я?
— Не-а.
— Я как-то раз подошел к ней, когда она на террасе, на солнце, гладила салфетки, и все ей рассказал. Просто вот так взял и все рассказал.
— Что «все» — то?
— Про Розенн и про войну.
— А потом?
— А потом она что-то такое сделала…
Поль встал и положил Симону руку на запястье.
— С ума сойти.
— Я этого повторить не смогу. Из меня тогда вышла… какая-то тень. Даже не знаю… Но какая-то тяжесть с души упала. Боль утихла. И все это она сделала наложением рук.
Симон неторопливо кивнул.
— Я рассказал ей о море. И сам не знаю зачем. Она умеет слушать сердцем. Когда я на катере проплываю мимо «Ар Мор», она машет мне из окна. Никто никогда не махал мне из окна. С тех пор как она здесь живет, я и на суше не тоскую по морю. Понимаешь? Марианна как море, только на суше.
Поль снова сел к Симону за стол.
— Да, приятель, совсем мы с тобой состарились, — прошептал лысый силач и потянулся за бутылкой шампанского.
21
Когда Марианна через несколько дней во второй раз увиделась с Паскаль, та несла в руках мертвого ворона.
— Это дар, — прошептала ей Паскаль, указав подбородком на небо. — Она меня по-прежнему любит.
Марианна ощутила любопытство. И тревогу. Именно тревога снова погнала ее в имение Гуашонов; Жанреми обозвал Паскаль Гуашон «folle goat», и мадам Женевьев чуть было не дала ему пощечину: «Она не сумасшедшая из леса! Она dagosoitis!»
Добрая ведьма. Когда Марианна спросила, откуда Паскаль знает немецкий, Женевьев объяснила ей, что та много лет работала стюардессой, летала из Франции в Германию и обратно, повидала весь мир, где только не побывала! Пока рассудок у нее не помутился, она говорила на шести языках, включая японский и русский.
— Вóроны — посланники потустороннего мира, — мечтательно сказала Паскаль. — Он упал прямо мне под ноги. — Она вновь посмотрела в ослепительно-голубое небо. — Луна, матерь, мудрая старица, небо и земля, мы приветствуем тебя. Ты светишь всем, кто свободен и чей дух неукротим, — тихо пропела Паскаль.
Напевая, она двинулась дальше, в глубину сада. Возле старого каменного домика, служившего сарайчиком для садового инвентаря, которым почти не пользовались, росли густые кусты роз, усыпанные благоуханными красными цветами.
Под одним кустом Марианна заметила стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Сначала ей показалось, что в банке лежит крохотная змейка. Но там покоилась бледная пуповина.
Паскаль решительным жестом сунула Марианне в руки птицу. Перья у ворона были мягкие, как шелк. Паскаль тяжело опустилась на колени и взялась за маленькую лопатку. Потом она вырыла ямку, перевернула над ней банку и снова засыпала ямку землей.
А потом Паскаль сделала нечто, по-настоящему потрясшее Марианну: она нарисовала пальцем на земле три извивающихся языка пламени. Они почти полностью повторяли очертания ее родимого пятна!
Когда Паскаль встала с колен, слегка мечтательное выражение на ее лице исчезло. Теперь в ее глазах читались живость и ум.
— Наверное, я кажусь вам странной, — сказала Паскаль.
— Необыкновенной, — поправила Марианна.
— А это не одно и то же?
— Вы хорошо владеете немецким, но не настолько, чтобы чувствовать такие тонкие различия, — парировала Марианна.
Паскаль засмеялась.
— Пойдемте. Дайте мне этого пернатого.
— А что… Что вы сейчас сделали?
Паскаль бросила взгляд на крошечный холмик.
— Ах, вот вы о чем! Это тоже бретонская традиция. Женщина из деревни принесла мне пуповину своей новорожденной внучки. Кто попросит ведьму закопать пуповину своего ребенка под розовым кустом, может быть уверен, что у малыша будет приятный голос.
— Правда?
Марианна вспомнила о домашних родах, во время которых ассистировала бабушке. Пуповину тогда сжигали в камине, чтобы ее не утащила кошка.
Паскаль лукаво улыбнулась.
— Бывает по-разному. Ведь для нас всего реальнее то, чего мы сильнее всего ждем, так?
В увитом плющом окне, разделенном переплетом на несколько секций, Марианна заметила Эмиля: он сидел за массивным письменным столом и что-то читал. Он поднял голову, но ничем не показал, что рад ее видеть, и вновь углубился в чтение.
— Не знаю, — не без грусти сказала Марианна, — я особо ничего и не ждала от жизни.
— Ах, бедняжка! Но тогда хорошо, что вы сюда приехали. Мы постоянно чего-то ждем, на что-то надеемся. Надеемся, что все изменится к лучшему, эта надежда у нас в крови.
Паскаль положила ворона на испещренный порезами садовый стол и прикрыла птицу салфеткой.
— Эта земля… видите ли, бретонцы по-прежнему почитают свои легенды и поверья. Поэтому иногда им кажется, что они выше других народов. Здесь мы на краю света, penn-ar-bed, здесь заходит солнце, и повсюду мы ощущаем дыхание смерти — Ankou. Анку — это призрачная, едва заметная тень, но она неизменно сопровождает нас. Мы любим таинственное и загадочное. Иное. Мы надеемся встретить чудо за каждым камнем и под каждым деревом.
Паскаль провела Марианну в кухню, кажется обставленную еще по моде тридцатых годов.
— Хотите кофе? — предложила она.
— Я сама сварю, — вызвалась Марианна.
Она набрала воды в эмалированный чайник, поставила его на огонь, а потом засыпала молотый кофе в колбу френч-пресса. Паскаль тем временем рылась в шкафах и выдвижных ящиках.
— Да куда они подевались? — нетерпеливо спросила она, протянув Марианне мешок муки. — Кофе пьют из этого?
— Нет.
— Тогда из этого. — На сей раз Паскаль передала Марианне банку джема.
— Боюсь, это тоже не подойдет.
— Тут поневоле с ума сойдешь. Я просто ничего не нахожу. Я даже не помню, что это! — Она показала на тихо гудящий холодильник.
Марианна вспомнила о листочках, которые она наклеивала на мебель и кухонную утварь в первый день работы под началом Жанреми. В прохладной кладовке она нашла целый лист наклеек, предназначавшихся для банок с вареньем.
Пока Паскаль мелкими глоточками прихлебывала кофе, Марианна надписывала наклейки и налепляла их на шкафы и стеллажи. Потом она принялась за кладовку. Паскаль внимательно следила за ней и перечитывала все, что она писала. Потом она показала на банки с медом:
— Miel?[109] Да?
— Совершенно верно.
— А это сахар?
— Точно.
Марианна едва удержалась на ногах, когда Паскаль бросилась на нее и заключила ее в объятия. После того как Паскаль выпустила ее, Марианна заметила Эмиля: тот с угрюмым видом стоял посреди кухни и рассматривал наклейки на шкафах, кастрюлях и бытовой технике. Потом он устремил взгляд темных глаз на Марианну.
— Что вы здесь делаете? — спросил он на гортанном бретонском.
Марианна беспомощно перевела глаза с него на Паскаль.
— Он очень рад, — поспешно перевела та.
Марианна ей не поверила.
— Я… я хотела как-то помочь.
Паскаль снова перевела.
Марианна не опускала взгляд, так как чувствовала, что иначе упадет во мнении этого замкнутого человека. Время тянулось бесконечно. Ничто не изменилось в лице Эмиля, оно оставалось столь же непроницаемым, как и древние бретонские скалы.
— Вы немка, — презрительно констатировал он.
Паскаль перевела.
— Вы нелюбезны, — ответила Марианна по-французски.
Только теперь уголки рта у него едва заметно дрогнули. Потом Эмиль подмигнул. Наконец на лице его появилась легкая полуулыбка, на мгновение чудесным образом осветившая все его черты.
— Я бретонец, — поправил он уже мягче, а потом невежливо отвернулся.
— Мне кажется, вы ему понравились, — подытожила Паскаль и со вздохом добавила: — Не обижайтесь на него. Для нашего поколения немцы — не просто северные соседи. Они когда-то оккупировали нашу землю. Разоряли.
Марианна ни на что не обижалась. Эмиль напоминал ей отца. И все-таки сердце у нее стучало, точно у кролика, попавшего в силки. Собственная смелость напала на нее, словно вырвавшись из засады.
Паскаль хлопнула в ладоши.
— Ну и что мы сейчас будем делать?
— Я… Мне пора возвращаться в «Ар Мор». Скоро начнется моя смена. Сейчас летние каникулы, от посетителей нет отбоя.
Лицо Паскаль мгновенно обмякло, утратив всю свою живость.
— Ах! Я думала… Мы могли бы… — Голос у нее прервался.
— Хотите, я приду завтра? — негромко спросила Марианна.
— Да-да! Пожалуйста! — Паскаль прижала ее к груди.
— A demain, Mariann[110], — блаженно прошептала она.
22
Казалось, над головой у Марианны бьет новенький маленький колокольчик, разнося весть о мужестве и нетерпении.
Она проводила у Паскаль вот уже третий вечер до начала смены в «Ар Мор» (каждый раз Эмиль удостаивал ее разве что двумя-тремя скупыми словами) и уже взялась приводить в порядок запущенный сад.
Пока они в грязных красных комбинезонах вроде тех, что носят механики в авиационных ангарах, пололи сорняки и бросали их в тачку, Паскаль на своем певучем немецком рассказывала Марианне об обычаях и суевериях, легендах и древних традициях народа на краю света.
Прошлой ночью поблизости отмечали Лугназад, кельтский праздник урожая, на котором состоялось собрание коллегии друидов.
— Друидов? В Бретани еще существуют друиды?
— Да Бретань ими кишмя кишит! Не меньше тридцати тысяч, и сплошь приверженцы экстатического культа, наподобие поклонения Дионису! А на собрании речь шла о подготовке Самайна, ночи с тридцать первого октября на первое ноября, когда живые встречаются с мертвыми. Здесь все надо хорошо продумать.
Паскаль провела рукой по подбородку, чуть-чуть запачкав лицо землей.
— А как встретиться с мертвыми?
Паскаль задумчиво погладила цветущие голубые гортензии. А потом, по-видимому, собралась с духом и тихим голосом, словно впервые открывая великую тайну, сказала:
— Накануне Самайна, который называют также Сауин и Саун, когда земля уподобляется небесам, а жизнь — смерти, отворяются все врата между мирами. Из потустороннего мира являются старые и новые боги и приводят с собою мертвых. А нам дозволяется войти в их мир.
Паскаль неопределенным жестом обвела свой сад.
— Туда мы можем проникнуть, выйдя в море, спустившись в колодец или вступив внутрь каменных кругов. Там нас ждут феи. Тролли. Великаны. Завеса между мирами делается тоненькой-тоненькой. Как паутина. Некоторые из нас способны отвести ее в сторону не только в Самайн, но и в любой другой день.
— А зачем в Саун к нам приходят мертвые? Чтобы… дать нам совет? Помочь?
Марианна вспомнила свою бабушку. И отца. Как бы ей хотелось снова увидеться с ними, поделиться самым сокровенным!
Паскаль строго посмотрела на Марианну:
— Установить контакт с душами умерших в потустороннем мире не так-то просто, это не по телефону позвонить! Некоторым из нас дано слышать их. Сердцем. А кому-то требуется помощь друида или ведьмы.
Из дома, прихрамывая, вышел Эмиль с подносом, на котором стояли стаканы холодного chouchenn. На сей раз их было три. Он неуклюже донес их до кованого столика под яблоней, усыпанной нежно-красными плодами, и сухо кивнул Марианне.
Паскаль поднялась, прижалась к мужу и закрыла глаза. Марианна почувствовала, что каждый из них любит другого так, как тот того заслуживает, и, в свою очередь, ощутила нежность к ним обоим.
Поглаживая неподвижное лицо мужа, Паскаль продолжала:
— Если кто-то понимал, что живет не в ладу с нашим или с потусторонним миром — не важно, поссорился ли он с женой, докучают ли ему демоны или он страдает расстройством желудка, — то призывал друида. Друиды были хранителями всякого знания. Племенные вожди тоже прислушивались к их мнению. Друиды давали советы по вопросам религии, морали и быта.
— А друидессы тоже существовали?
— Конечно, женщины тоже могли стать жрицами. Девушек было принято на полгода посылать к жрицам, чтобы там они обрели знания и сделались провидицами, целительницами или друидессами. Но им ставили одно важное условие: им приходилось выбирать поприще верховной жрицы или судьбу жены и матери. Любовь и мудрость никак не сочетались.
Она поцеловала Эмиля, и тот безмолвно удалился в тень садовой беседки.
Паскаль потеребила лютик.
— Каждая женщина — жрица, — внезапно сказала она. — Каждая.
Она обернулась к Марианне и пристально посмотрела на нее прозрачно-ясными, как фиалки, глазами.
— Великие религии и их пастыри указали женщине место, которое ей не подобает. Женщин стали считать существами второго сорта. Богиня превратилась в бога, жрицы — в блудниц, а женщины, которые не желали склониться перед волей мужчин, — в ведьм. Однако то чудо, что таит в себе каждая женщина, ее пророческий дар, ее ум, ее способность исцелять, ее чувственность — принижали и принижают до сих пор.
Она стряхнула землю с облепленных грязью комбинезонных штанов.
— Каждая женщина — жрица, если она любит жизнь. Если она способна преобразить чарами самое себя и того, кто ей дорог превыше всего. Придет время, когда женщины вспомнят, какие силы и какое могущество в них сокрыты. Богиня ненавидит расточительство, а женщины слишком часто растрачивают себя попусту.
Они вместе прошли в прохладную, погруженную в тень кухню, и Марианна стала в задумчивости раскладывать на тарелки тончайшего фарфора кусочки отборного мясного и рыбного филе собакам и кошкам.
Потом вышла в сад, хлопнула в ладоши и позвала:
— Дамы и метрессы! Глубокоуважаемые фрукты и овощи! Пожалуйте кушать!
Когда она расставила перед ними тарелки, своры собак и кошек жадно набросились на еду. Марианна улыбнулась, заметив своего маленького рыже-белого котика; шерстка его блестела, как полированный мрамор.
— А у этого тигренка что, и имени нет?
Паскаль положила голову Марианне на плечо.
— Нет. Он странник, — прошептала она. — Только блуждающая душа даст ему имя.
Паскаль посмотрела на Марианну загадочным взором:
— Ведь правда?
Марианну охватила дрожь.
— Да, — откликнулась она. — Когда поймет, куда лежит ее путь.
— Спасибо за то, что не испытываете ко мне отвращения, — чуть слышно прошелестела Паскаль.
Внезапно ее лицо осветилось радостью.
— Янн! — воскликнула она, стряхнув с себя меланхолию, словно капли воды, и с распростертыми объятиями кинулась к художнику. Янн обнял ее.
Марианна почувствовала, что почему-то краснеет. Спрятала за спиной грязные руки и на какое-то мгновение, как это ни глупо, пожалела, что на ней бесформенный комбинезон, что на голове у нее — мягкая шляпа с обвисшими полями, а лицо — в пятнах от травы.
— Янн, это Марианна, моя новая подруга. Марианна, это Янн, мой самый старый друг.
— Bonjour[111], — выдавила из себя Марианна. Да что же с ней такое?
— Enchanté, Mariann[112], — пробормотал Янн.
Они молчали и просто глядели друг на друга. Внутри у Марианны все замерло. В голове воцарилась пустота.
— Да что случилось? Вы что, окаменели?
Он был немного выше ее, и в его глазах за стеклами очков она увидела море. Рот, две слегка изогнутые волны, прильнувшие друг к другу, вторящие очертаниям друг друга. Ямочка на подбородке. Бесчисленные глубокие морщинки, расходящиеся как лучи от уголков его светлых глаз. Эти глаза улыбались и влекли Марианну к себе.
— Думаю, мне пора.
Марианна едва сдерживалась, чтобы в панике не броситься домой. Она почувствовала, как лицо ее начинает расплываться в глупой, неудержимой улыбке; поспешно прикрыв рот рукой, опустив голову, она кинулась в дом.
Переодевшись, она испытала большое искушение незаметно ускользнуть, даже не сказав «kenavo». Но тут вспомнила, что ее сумочка осталась на террасе, и размеренным шагом вернулась к Паскаль и ее другу попрощаться.
Нервно схватив сумочку, она не решилась даже взглянуть на Янна. Однако, когда она торопливо потянула сумку за ручку к себе, сумка раскрылась и из нее выскользнула ее любимая изразцовая плитка с изображением Кердрюка.
Янн ловко поймал ее и поднес к свету.
— Да это же… — Он изумленно смотрел на подпись.
— Это одна из первых плиток, которые ты расписал видами Кердрюка! — восхитилась Паскаль.
Янн протянул Марианне изразец. Когда та хотела взять плитку, их пальцы соприкоснулись. Она ощутила слабый, отозвавшийся теплом во всем теле удар тока, а заглянув ему в глаза, поняла, что он почувствовал то же самое. Марианна прижала кафельную плитку к груди и, наскоро пробормотав: «A demain»[113], — поспешила прочь.
23
На следующий день Марианна не осмелилась пойти к Паскаль и Эмилю, как обещала. После полуденной смены она принялась беспокойно расхаживать взад-вперед по своей «раковине». Рыже-белый кот сидел на подоконнике и наблюдал за ней. На миг в фигурном зеркале над комодом перед Марианной предстало собственное отражение. Она была некрасивой. Она была нестильной. Всего-то старушка среди чужих людей. А как странно все получилось с этим… как его… Янном. Его зовут Янн.
Когда она вспомнила его лицо, тепло его сильной руки, сердце у нее как будто упало и покатилось куда-то в пятки; ничего подобного она никогда не испытывала, это было одновременно сладостное и мучительное чувство, словно в груди у нее лопались пузырьки.
— А что я здесь, собственно, делаю? — тихо спросила она пустоту.
Прежнее желание умереть превратилась во что-то иное, куда более банальное: она убежала. Удрала. Не пора ли позвонить Лотару и сказать…
«Надеюсь, он считает, что меня нет в живых».
Что ей ему сказать? «Я больше не вернусь»? «Я хочу развестись»? А потом? Так и будет работать кухаркой в ресторане, пока совсем не состарится, так что уж и кастрюлю поднять не сможет? Рядом с подругой-ведьмой, которая то и дело забывает, кто Марианна такая. И все-таки было так приятно слышать родной язык и говорить на родном языке.
Марианне очень хотелось, чтобы у нее была подруга, чем-то похожая на Грету Кёстер; Марианна глубоко сожалела о том, что не доверяла Грете так же безраздельно, как та ей. Но кто знает, может быть, такова дружба, самый терпеливый род любви? Грета никогда не донимала Марианну бестактными расспросами, она приняла как данность, что Марианна не открывает своих истинных чувств. Она ценила Марианну как слушательницу и ни разу не пыталась убедить ее в том, что ей надо уйти от мужа. «Если кто-то мучается, но в своей жизни ничего менять не хочет, значит ему это нужно», — вот и все, что она однажды сказала Марианне по поводу ее брака. Марианна обиделась и ответила на это, что все, мол, не так просто, как кажется. Она хотела объяснить Грете, почему год за годом откладывала уход от мужа, от добровольно взятых на себя страданий. Но потом все эти объяснения стали казаться скучными и ненужными даже ей самой.
Марианна недовольно подергала себя за волосы. Это же не прическа, это какая-то солома! Она открыла платяной шкаф и провела ревизию своего скудного гардероба: несколько футболок и дешевых блузок из «Антрмарше», две пары простых штанов и хлопковое белье, кеды и две ночные рубашки с высоким воротом.
Марианна стала рассматривать в зеркале свое лицо и следы, оставленные на нем годами. Вертикальную складку над переносицей. Морщины вокруг глаз. Морщины в уголках рта. Бесчисленные веснушки, к которым лучше было не слишком приглядываться, а то еще окажется, что это пигментные пятна. А шея, ах, шея…
Ничего не поделаешь: она состарилась. Но точно ли состариться — значит уже не пытаться сделать себя чуточку красивее?
Спустя час Марианна, взволнованная, как школьница, сидела в парикмахерской Мариклод в Понт-Авене. Ей и в голову не могло прийти, что привели ее сюда эти странные пузырьки сладкого беспокойства.
Мариклод запустила пальцы в длинные, полуседые волосы Марианны, оценивая, насколько они густые и здоровые.
— Вы только придайте им форму, — робко попросила Марианна.
— Гммм. По-моему, лучше уж все радикально поменять. Боже мой, да и давно пора, — пробормотала парикмахерша, подозвала свою ученицу Юму и дала ей какие-то указания так быстро, что Марианна не поняла ни слова. Втайне Марианна надеялась, что не выйдет из салона с такими же крутыми рыжими локончиками, что и у самой Мариклод; Мариклод походила с ними на свою болонку Люпена, который с царственным видом сидел в элегантной корзинке возле кассы, на некоем возвышении.
Марианна закрыла глаза.
Когда она спустя час снова открыла глаза, Юма как раз сушила феном ее волосы, уложенные совсем по-новому. Рядом с ней Мариклод выбирала вшей из волос у местного крестьянского мальчишки. Одновременно она беседовала с Колетт, которая сидела в соседнем кресле, ожидая, когда ей подровняют белоснежное длинное каре. Утонченно-светская владелица художественной галереи на сей раз пришла в бледно-красном костюме, белых перчатках из кожи питона и открытых белых лодочках с ремешком на пятке. Встретившись глазами с Марианной, она подняла бокал с «Беллини».
— Вы выглядите просто изумительно! Надежно же вы скрывали свою красоту! — воскликнула она, а потом добавила, обращаясь к Мариклод: — Ей надо чего-нибудь выпить.
Когда Марианна как следует рассмотрела себя в зеркале, сердце у нее в груди словно подпрыгнуло от счастья. Ее грязно-серая грива исчезла, вместо этого ее украшала изящная длинная стрижка, волосы цвета невыдержанного коньяка легкими прядями спускались до подбородка. Юма сумела так уложить волнистые волосы Марианны, что теперь они подчеркивали изящные очертания ее лица, похожего на сердечко. Лизанн еще придала правильную форму ее бровям, но, когда она выщипывала отдельные волоски, у Марианны от боли выступили слезы. И когда подкрашивали ресницы, у нее защипало глаза.
Мариклод подошла поближе к Юме и, прищурившись, критически оглядела Марианну.
— Чего-то не хватает, — сказала она и поманила ее в кресло визажистки Лизанн. Марианна решила, что все выходит одновременно смешно и чудесно. Она отпила большой глоток «Беллини», который ей принесла Юма. Шампанское ударило ей в голову. Мир сделался неожиданно ярким.
Когда Лизанн закончила и поднесла ей зеркало, Марианна решила, что ей нравятся ее новые глаза. И рот. А остальное… Ее новая внешность не соответствовала тому, как она себя чувствовала. Несколько недель тому назад она казалась себе полумертвой. А теперь ощущала себя… на сорок. Или на тридцать. Какой-то другой. И немного навеселе.
Марианна спросила у Лизанн, как бороться с морщинами.
— Днем — дневной крем, вечером — вечерний, а ночью — любовник, — кокетливо пропищала Лизанн. — Или наоборот. Два любовника и один крем.
Когда Марианна оплачивала счет, Мариклод добавила:
— Вашему поклоннику наверняка понравится.
— Моему… кому?
— Или мужу.
Парикмахерша бросила взгляд на правый безымянный палец Марианны, но белая полоска уже исчезла, ведь руки загорели, недаром она каждый день подолгу бывала на солнце.
— Je ne comprends pas[114], — поспешно сказала Марианна.
— У вас нет мужа? Вы теперь такая хорошенькая, что легко и замуж можете выйти, и парочку любовников завести. Может быть, не самых юных, но у нас тут немало найдется солидных господ. Вы на кого-нибудь уже положили глаз?
— Je ne comprends pas, — повторила Марианна, но почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Мариклод это тоже заметила. «К счастью, она не умеет читать мысли», — подумала Марианна, представив себе Янна Гаме и еще раз ощутив прикосновение его пальцев, как тогда, в саду у Паскаль.
— Колетт, какого любовника мы могли бы сегодня порекомендовать? — спросила парикмахерша галеристку. Рядом с ней Марианна внезапно почувствовала себя серенькой мышью, эдакой замарашкой.
Колетт посмотрела на Марианну раскосыми кошачьими глазами. На лице ее морщин было не перечесть, но держалась эта женщина в свои шестьдесят шесть лет по-балетному прямо, сохранила стройную фигуру и производила на Марианну глубокое впечатление.
— Спросим мадам, что ей видится, — ответила Колетт. — Есть мужчины, с которыми хорошо жить, но в любовники они не годятся. Есть мужчины, которые подходят для секса, но ни о наших проблемах, ни о наших чувствах и знать не хотят.
— Да. А бывают и вообще ни на что не годные, — заключила Мариклод. — Такие-то мне вечно и доставались, — со вздохом добавила она.
Марианна и Колетт вместе вышли из парикмахерской и двинулись по шедшей под уклон узенькой улочке. Когда они поравнялись с модным бутиком, Марианна остановилась.
— Пожалуйста, — начала она, — вы не могли бы мне помочь? Мне нужен… — Она показала на свою одежду. — Мне нужен стиль, — простодушно закончила она.
— Мода не имеет к стилю никакого отношения, — произнесла Колетт хриплым голосом курильщицы. — Важно только, что именно вы хотите скрыть. Или наоборот, показать, кто вы на самом деле.
Она протянула Марианне руку.
— Пойдемте. Посмотрим, какую женщину вы ото всех таили. А когда с ней познакомимся, не будем ее упрекать, что она так долго от нас пряталась, d’accord?[115]
Колетт удобно устроилась в кресле на первом этаже бутика с очередным «Беллини» и с сигаретой и давала указания Кателль, продавщице. Пока та искала первые подходящие свитера, джинсы и куртки, Колетт словно случайно припомнила историю, которая произошла с мадам Лоо, ее бывшей парижской соседкой.
— Это была женщина, которая виртуозно умела скрывать себя от окружающих, — начала Колетт, твердой рукой рассортировывая вещи, которые приносила Кателль, в две стопки. — Мадам Лоо всю жизнь делала то, что от нее ждут. То, чего требуют муж, дети, коллеги. Она неизменно оказывалась в нужное время в нужном месте. Неизменно была вежлива, любезна, скромно одета. Но вот однажды ночью, — Колетт подалась вперед, пристально глядя на Марианну, которая неуверенно поворачивала на свет прелестное платье цвета спелых слив, — однажды ночью случилось что-то необычайное.
Марианна натянула мягкий пуловер цвета шампанского, с высоким воротом. Он подчеркивал ее талию и грудь; она еще никогда не носила такую облегающую вещь. На фоне светлой шерсти новый цвет ее блестящих волос казался особенно ярким. Потом она проскользнула в свободные темные джинсы, которые выбрала для нее Колетт.
— Мадам Лоо как сумасшедшая колотит в мою дверь. Говорит, что ей нужна моя машина, якобы ее младшая сестра, что живет в Дижоне, при смерти. Разумеется, я даю ей ключи. Она понеслась к сестре, но на площади Согласия, не соблюдая дистанцию, врезалась в едущую впереди машину. От волнения дала пощечину полицейскому, бежала с места ДТП с каким-то человеком из Ренна, рассказала ему все о себе, переспала с ним, одолжила у него машину и опоздала — ее сестра уже умерла. Кстати, вот это хорошо смотрится, примерьте еще вон те лодочки.
Колетт встала и за спиной у Марианны подошла к зеркалу.
— Мадам Лоо вернула машину, провела еще одну ночь с этим человеком и приехала в Париж совершенно другой женщиной. На автобусе.
Колетт протянула Марианне легкую как перышко, воздушной вязки кофточку, которая мягко и плавно прильнула к ней, повторяя очертания тела.
Вертясь и крутясь перед зеркалом, Марианна увидела женщину, уже не очень молодую, но весьма и весьма стильную. Лишь застенчивый взгляд нарушал гармонию ее облика.
— Мадам Лоо сумела вырваться из своей темницы, где пряталась многие годы, вышвырнула мужа и его любовницу и основала собственное дело — открыла чайный салон.
Колетт осторожно надела на шею Марианне янтарные бусы.
— А мужчина из Ренна?
— Ах, да она о нем и думать забыла сразу.
Колетт сняла черные очки и с нежностью надела их на Марианну.
— Может быть, чтобы вернуть себе собственную жизнь, нужно научиться иногда быть безрассудным?
Марианна пожала плечами, ей стало как-то не по себе. Безрассудство было в ее глазах чем-то вроде социально приемлемой формы ненужного насилия.
Но разве она сама не поступила безрассудно, отправившись сюда? Свою вину перед Лотаром она с каждым днем ощущала все острее. Неужели он не заслужил по крайней мере ответов на свои призывы? Неужели он не имеет права знать, что его ждет?
— А красное не хотите примерить? Красный — совершенно точно ваш цвет! — предложила Колетт и снова позвала Кателль.
24
Когда Марианна рука об руку с Колетт вышла из бутика, мир обрел более яркие краски. Или все дело было в двойном коньяке, который они с Колетт выпили, чтобы отпраздновать ее преображение? Марианна подумала о джинсах, первых в ее жизни джинсах, в которых ноги казались длиннее, чем были на самом деле. И о кожаной куртке цвета зеленого бутылочного стекла, которая вместе с новым цветом волос вернула ее щекам румянец. О красном платье, о мягком кремовом пуловере, о лодочках, в которых ей еще предстояло научиться ходить, потому что на высоких каблуках у нее перехватывало дыхание. И она подозревала, что на дне больших лакированных сумок обнаружит и другие вещи, которые купила, словно в эйфории, по кредитной карте Колетт. Может ли одежда изменить женщину? Нет. Но может помочь ей заново обрести себя. Марианна открыла в себе что-то, чем, как ей казалось, она никогда и не обладала, — женственность.
А теперь этой женственности ужасно хотелось есть. Например, она не отказалась бы от бутерброда с сыром; приятельницы зашли в рыночную пекарню Понт-Авена.
«Benedictio te, o panis seigel, ut est destructio et annihilatio omnium facturarum, ligationum, fascinationum et incantationum», — вполголоса произнес нараспев пекарь и нанес знак креста на исподе ячменного хлеба. «Благословляю тебя, о хлеб, да не коснется тебя никакое колдовство, злые чары, и сглаз, и нашептывания». Лишь после этого он позволил покупательнице, которая стояла в очереди перед Марианной, положить хлеб в хозяйственную сумку.
Колетт негодующе фыркнула.
— Я так и не смогла привыкнуть к этому фокусу с хлебом, — сообщила она Марианне. — В Сенте женщины в Вербное воскресенье во время крестного хода надевают на освященную пальмовую ветвь хлеб, из которого предварительно выковыривают мякиш: получается похоже на фаллос. Священник благословляет эти хлеба, дабы уберечь их от недоброго взора ведьм, и женщины хранят их потом целый год. Кто знает, что они с ними делают?
Марианна хихикнула и мечтательно погладила шелк сливового цвета платья с запáхом, в котором вышла прямо из бутика, решив не переодеваться. Платье скрывало ее родимое пятно, однако одарило Марианну декольте, о существовании которого у себя она даже не подозревала. Хорошо, что Кателль продала ей еще подходящий к такому открытому платью лифчик…
— Мой хлеб можете не благословлять! — громко перебила пекаря Колетт.
— Пожалуйста, мадам, как вам будет угодно, — пробормотал пекарь. — Он в любом случае защищен от злых сил. Вы же знаете Паскаль Гуашон, dagosoitis из леса? Так вот, она освящает огонь и изгоняет духов с кораблей и из домов! Она освятила и эту печь. — Он показал куда-то за спину.
Как только он упомянул имя Паскаль, Марианна насторожилась.
— К счастью, она не sorcière noire[116]. Помните, что произошло в Сен-Коннеке четыре года тому назад?
Он отер запачканные мукой руки о передник.
— Опять вы за свое! — раздраженно вставила Колетт.
— Мадам Галлерн много лет страдала от неизлечимой болезни, ожидая смерти. На ферме продолжался непрерывный падеж скота, и никто не в силах был понять почему. Посевы не всходили. Фернан Галлерн пришел в отчаяние. Кто-то навел на его ферму порчу. — Пекарь сделал драматическую паузу. — И заклятие сумел снять только… — Он понизил голос до хриплого шепота: — Мишель Ла Мер!
— Магнетизер? — восхищенно выдохнула его молодая помощница.
Пекарь кивнул.
— Он творит чудеса, — восторженно продолжала она, и щеки у нее с каждой минутой розовели все ярче. — Говорят, он может изгонять дьявола, излечивать рак, бесплодие, грибок ног и коровье бешенство. И все одним лишь наложением рук!
— Да-да, — негодующе перебил ее пекарь. — Так или иначе, Ла Мер пришел на ферму Галлернов и обнаружил, что это соседка Фернана, Морис, прокляла их имение и поразила недугом мадам Галлерн. Валери Морис! А сама всегда так любезно с ними разговаривала. Но что вы хотите, мужа у нее нет, а двое детей есть, и кто их отец — неизвестно. Она-то и прокляла несчастных — просто потому, что ей нравилось творить зло! Ла Мер снял порчу за сто пятьдесят два евро.
— Сто пятьдесят два евро, — повторила Колетт, ушам своим не веря. — Неплохо же он зарабатывает клеветой на женщин!
За это пекарь наградил ее осуждающим взглядом.
— Защита от злых чар неоплатна! Ла Мер берет за снятие порчи с ферм по сто пятьдесят два евро, с офисов — по сто двадцать два, а с домов — девяносто два.
— А что Морис? — жадно спросила помощница.
— Не на ту напали! Она недолго думая подала в суд за клевету! Якобы вся деревня устроила на нее охоту, как на настоящую ведьму! Якобы ее детям в школе плевали в лицо! А после этого она прокляла Ла Мера, и теперь его дар стал ослабевать. Мы должны молиться, чтобы силы к нему вернулись.
— Что ж, — подчеркнуто произнесла Колетт, — я не верю в целителей, творящих чудеса, которые вроде этого Ла Мера бегают кругом дома с мокрой тряпкой в руке и так изгоняют дьявола. Зато я верю, что багеты и flûtes[117] пора вынуть из печи. Жеральдин, обслужите меня, пожалуйста. Или вы больше не продаете хлеб нормальным людям?
Когда Марианна и Колетт, хихикая, выходили из boulangerie[118], Марианна столкнулась с каким-то человеком, который, погруженный в свои мысли, задумчиво глядел в небо. Она попросила извинения и подняла на лоб черные очки.
— Янн, это ты! — обрадовалась галеристка.
По обычаю обменявшись с ним троекратным поцелуем, Колетт обратилась к Марианне.
— Позвольте представить вам самого недооцененного художника Франции, мадам. Янн Гаме.
Марианна почувствовала, как пузырьки у нее в груди забурлили и запенились с новой силой. Как он на нее смотрел!
На сей раз Янн взял Марианну за руку и поднес ее к своей груди. Рука у него оказалась на удивление сильная.
— Привет, Марианн, — серьезно сказал он.
Она невольно закрыла глаза, почувствовав губы Янна на своей щеке. Он поцеловал ее сначала в левую щеку, потом в правую, а на третий раз его поцелуй был особенно нежен, и он почти коснулся губами уголка ее рта. Сама она не поцеловала его в ответ, она словно окаменела и замерла. Марианна испугалась, что теперь застынет навсегда, превратится в такую кривую дубовую ветвь.
— Привет, Янн, — проскрипела она, ну точно как надломленная ветка.
Боже! Он же не мог знать, что он первый мужчина после Лотара, который ее поцеловал! Здесь целовались все, постоянно, но для Марианны поцелуй был чем-то столь же интимным, как…
Господи, ее мысли прыгали, как воробьи. Она подумала о Лотаре и о том, что могло последовать за поцелуями.
— Alors[119], мне пора за работу. Тут ко мне приезжали какие-то безумные англичане, хотят весь дом завесить картинами. Не буду их разубеждать. — Колетт посмотрела на часы. — Убегаю. Янн, кстати, покажи мадам желтого Христа в часовне Тремало. Чтобы она поняла, почему наш край называют pays de Gauguin[120], а то от вида коробок с печеньем, на которых изображены все эти крестьянки в сабо, и вправду хочется повеситься. Покажешь? Merci, mon ami, adieu![121]
С этими словами Колетт попрощалась и удалилась, оставив Марианну и Янна наедине с их многозначительным молчанием.
Марианне показалось, что она вот-вот упадет в обморок.
— Мадам, могу я просить вас оказать мне честь и пойти со мной в четверг на enterrement?[122]
Янн начал проклинать себя, еще не успев выговорить приглашение. Ну почему он не придумал что-нибудь другое?
Dieu[123], да он действительно разучился ухаживать за женщинами. А теперь уже поздно, слово не воробей.
Марианна не поняла, что именно Янн ей предложил. Однако она осознала, что он хочет снова с ней встретиться. В груди у нее опять стали лопаться пузырьки чистейшего блаженства.
Марианна испытывала ощущение счастья и оттого чувство вины, словно вот-вот заведет роман и изменит Лотару.
Когда Янн повез ее обратно в Кердрюк на своем стареньком «Рено-4», они не проронили ни слова, лишь то и дело переглядывались, и каждый с глубоким удивлением различал на лице другого таинственные знаки, составлявшие алфавит нарождающейся любви.
25
Янн пообещал за ней заехать, и она явилась на набережную за двадцать минут до назначенного срока. Марианна просто не в силах была сидеть у себя в номере и терзаться мыслями, хорошо ли она одета. Она могла провести еще несколько часов, беспрерывно меняя наряды и в муках подыскивая подходящий. Что лучше, джинсы или красное платье? Узенькая блузка или мягкий пуловер? Лодочки на высоких каблуках или тканевые мокасины на низкой подошве? Боже, да откуда же ей знать, как надо одеваться на первое свидание с мужчиной, чтобы предстать в его глазах привлекательной, но не слишком доступной? В конце концов она остановила свой выбор на темно-синих джинсах, лодочках и белой блузке, которую застегнула на все пуговицы.
Она была ужасно взволнована! Она промучилась целых два дня. У нее почти пропал аппетит, а с лица не сходила глупая улыбка. С этой кривой улыбочкой она не могла расстаться даже во сне. Словом «волнение» нельзя было описать то, что она чувствовала, это была настоящая паника. Дурацкая радость. Она попеременно то бледнела, то краснела.
Под конец она отправилась в кухню к Жанреми и беспрекословно выпила рюмочку рома, которую он ей налил. Это ее немного успокоило. Но только до тех пор, пока Жанреми не расстегнул две верхние пуговицы на ее блузке, затем он слегка приподнял воротник и жестом показал, что надо взбить тщательно уложенные волосы. «Très jolie[124]. В стиле рок-н-ролл», — одобрил повар, и Марианна вернулась на набережную и стала дожидаться Янна.
Марианна все больше казалась себе лодкой на волнах океана, которую уносит все дальше и дальше, пока земля совсем не скроется из глаз. Точно так же исчезла земля ее прошлого. Шестьдесят лет прошли, как один день, и ей чудилось, что день этот выпал в каком-то далеком столетии.
Когда Янн вышел из машины и двинулся к ней, она испугалась, что сейчас либо рассмеется, либо разрыдается и не в силах будет остановиться, она так разнервничалась! А ладони у нее вспотели от волнения.
И снова он так на нее смотрел…
Ни один мужчина никогда не смотрел на нее так внимательно; Марианна словно грелась под его взглядом — как в свете прожекторов.
— Привет! — прошептал он, наклонился и поцеловал ее.
На сей раз все три bisous[125] пришлись почти в уголки ее рта. Он целовал ее медленно, осторожно, а она вдыхала аромат его кожи. От Янна пахло свежим воздухом и чуть-чуть краской, а еще приятным горьковатым лосьоном после бритья.
Янн подвел Марианну к своему дряхлому автомобильчику, открыл перед ней дверцу и не отказал себе в удовольствии ее захлопнуть.
Марианна не знала, куда деть руки и куда смотреть.
Янн мысленно молился, чтобы высшие силы не дали ему совершить величайшую в его жизни ошибку. Последние два дня он непрерывно боролся с искушением приехать в Кердрюк и сказать, что они никуда не пойдут. Но настоящий мужчина так не поступает. Свидание на похоронах. Как только такое взбрело ему в голову?
Янн часто бывал у покойного рыбака Жозеба Пуленна в Сен-Гвеноле в Пенмарке и покупал у него ската и треску. К тому же коротконогий Жозеб помогал Янну, когда тот выезжал в Бигуден на этюды. Янн частенько писал часовню Богоматери Всех Скорбящих Радости, готическую церковь у самого моря, и высочайший маяк Франции Экмюль, рядом с которым деревня Сен-Гвеноле казалась совсем крохотной. Янн любил снимать очки и писать то, что ощущал всеми органами чувств, а не одними лишь близорукими глазами.
Но достаточная ли эта причина, чтобы тащить Марианну с собой на поминки? Янн почти не решался на нее смотреть. Но когда, собравшись с духом, все-таки бросал на нее взгляд, замечал ее улыбку и ощущал, как в нем самом ширится и растет странное чувство, красное и пульсирующее.
Марианна со стыдом осознала, что краснеет каждый раз, когда смотрит на Янна или хочет ему что-то сказать; поэтому она старалась глядеть в окно или на его руки, расслабленно и уверенно лежавшие на руле.
Наконец, встретившись в очередной раз глазами, они невольно одновременно улыбнулись.
Воцарилось прекраснейшее безмолвие, какое Марианне когда-либо доводилось слышать.
Когда после получасовой поездки вдоль побережья они добрались до порта Сен-Гвеноле и на молу их стали торжественно приветствовать многочисленные дочери, внуки, кузены, зятья Жозеба, Марианне впервые сделалось немного не по себе. Особенно когда женщины: и те, что постарше, — в традиционных нарядах и белых кружевных чепцах на соломенном каркасе, по обычаю бигуденских крестьянок, и те, что помоложе, — в праздничных платьях и белых шейных косынках, — а потом и мужчины, стали по очереди ее целовать. Пока она обменялась с каждым поцелуем в щеку, прошло пятнадцать минут.
В конце концов она дошла до старушки в бигуденском наряде: она стояла у стола, на котором возвышалась урна. С лицом, изборожденным морщинами, точно кора столетнего дуба, она словно опиралась больше на эту урну, чем на свою трость.
Только теперь Марианна поняла, зачем собрались здесь все присутствующие.
Стали разливать ламбиг, и двое мужчин перенесли стол на рыбацкий катер, пришвартованный у причала. Капитан приспустил бретонский флаг. Завели мотор, и Янн подал Марианне руку, помогая ей пройти по коротеньким сходням.
Когда катер оставил далеко позади прибрежные волны, с шипением разбивающиеся об утесы и камни, и вышел в открытое, мерно несущее свои воды море, скорбящие близкие стали по очереди бросать в пучину горстки праха.
На ощупь прах напоминал мелкозернистый песок, и Марианна надеялась, что случайно не взяла в руки и не раздавила сердце или тем более глаз покойного. Разжав за поручнями пальцы и глядя, как пепел уносит ветер, она пожелала незнакомому Жозебу счастья в загробном мире. Если все так, как ей поведала Паскаль, то море — величайшие врата в тот мир богов и духов, где будущее, прошлое и настоящее едины и неразличимы. Море напоминало церковь и остров, последнее песнопение, исполненное пронзительной нежности и кромешного мрака.
Несколько мужчин и женщин стали на носу катера и затянули gwerz, бретонский плач.
«La brise enfle notre voile, voici la première étoile qui luit sur le flot qui nous balance. Amis, voguons en silence, dans la nuit tous bruits viennent de se taire, on dirait que tout sur terre est mort…»[126]
Что пели эти люди, Марианна понимала только сердцем, но постигала их глубокие чувства. Это была бесконечно проникновенная баллада, и Марианна ощутила, как глаза ее щиплет от слез.
Душу ее переполняло умиление, и она нащупала руку Янна. Он сжал ее ладонь, а потом обнял Марианну за плечи и привлек ее к себе.
Когда по щеке ее скатилась слеза и повисла на губе, Янн осторожно отер соленую скорбь с ее рта и прикоснулся губами к ее теплому виску. Так они стояли рядом, отдаваясь воле судьбы.
На какое-то мгновение Марианне показалось, будто все это заранее было предрешено им в вечности. Будто просыпаешься ночью между двумя сновидениями, когда на миг воспринимаешь реальность не как при свете дня, а такой, как она есть. С печатью рока.
Когда они причалили, скорбящие друзья и родственники снова двинулись к дому Пуленна; на яблонях висели ожерелья из ракушек, сад украшали деревянные жеребята, в честь Пуленна[127]. Поговорив с вдовой и на прощание сказав ей священную триаду: «Жозеб всегда хранил верность трем вещам: себе самому, своей семье и Бретани», — он протянул Марианне руку, и они ушли с поминок. Теперь скорбное собрание более походило на летнее празднество, дети играли в догонялки и дергали за хвост кошек.
В машине Янн и Марианна какой-то миг смотрели друг на друга.
— Это было… чудесно, — тихо сказала Марианна. — Спасибо.
Янн облегченно вздохнул и повернул ключ зажигания.
Они поехали дальше в Кемпер, столицу департамента, решив сходить в Музей изящных искусств.
Янн не пытался объяснить Марианне, что изображено на той или иной картине. Он хотел увидеть, откроют ли они Марианне свои тайны или замкнутся в себе.
Перед картиной Люсьена Симона «Сожжение водорослей», на которой крестьянки жгли водоросли на фоне упрямой часовенки в Пенмарке, море обрушивало пенящиеся волны на берег, небо низко нависало над водой и землей, а ветер вздымал крылья чепцов и передники, Марианну охватила дрожь. Изображенная на ней часовня Богоматери Всех Скорбящих Радости существовала до сих пор и выглядела совершенно так же, как в тысяча девятьсот тринадцатом году, когда ее написал Люсьен. И так же, как пятьсот лет тому назад, когда ее только возвели. Эта красивая и строгая приморская церковь по-прежнему будет существовать, когда Марианна уйдет из жизни, когда Янн, Колетт, Лотар и все остальные тоже исчезнут с лица земли, когда все они умрут. Лишь камни и картины были бессмертны.
Марианна внезапно ощутила неизмеримый ужас от мысли, что может умереть прежде срока, не успев насладиться жизнью, когда придет ее последний час, не успев насытиться жизнью сверх меры, до предела. Никогда еще она не испытывала такой жажды жизни: сердце ее, казалось, вот-вот разорвется от мучительного сознания, что она столь многое упустила. Никогда еще ее недавний замысел не представлялся ей большей изменой самой себе, она ведь хотела добровольно, преждевременно казнить самое себя.
И все это открыла ей картина.
Янн обнял ее, ощутив биение сердца, словно стремившегося доказать, что не все еще потеряно! «Каждую секунду у тебя есть шанс выбрать иной путь. Открой глаза — и увидишь: мир существует, и ты ему нужна».
Марианна повернулась и заключила Янна в объятия. До того она обменялась с этим человеком всего несколькими словами. И все же ей казалось, что он понимает ее глубже и тоньше, чем все, с кем до сих пор сводила ее жизнь.
26
Марианна брела по саду, который они с Паскаль за прошедшую неделю привели в порядок и в котором она неутомимо сажала кусты, рассаду и семена: водосбор и кларкию, мак и мальву, олеандр и мирт; она обмазала известью стебли гортензий и перекопала огород. Ягодные кусты уже радовали глаз, из-под их веток виднелись боярышник и анемоны, а лужайки усеивали лютики, фиалки и крохотная земляника, еще не созревшая. Как же она любила копаться в земле голыми руками!
Если быть точной, она полюбила все, что делала, с тех пор как побывала с Янном на море. Полюбила магию этого клочка земли, его гранита и кварца, его воды и света. Волшебство жило здесь повсюду, даже в слоеном пироге.
Gâteau breton[128], kouign aman[129]. Взять муку, свежие яйца, соленое масло, сахар. Смешать в равных долях, месить не слишком долго, а сверху еще посыпать сахаром для карамельной корочки. Говорят, нужна магия, чтобы kouign вышел на славу и чтобы он навсегда завладел душой человека, а тот никогда не забыл, где попробовал первый кусочек.
— Обязанность доброй ведьмы — уметь печь пироги, — заявила Паскаль Марианне и показала, как готовить gâteau breton, но у Марианны пироги никогда не имели такого насыщенного, волшебного вкуса, как у Паскаль.
Марианна полюбила даже мыть посуду в «Ар Мор», хотя дома терпеть этого не могла, полюбила даже хмурого Жанреми, которого теперь каждый день после окончания работы убеждала написать любовное письмо Лорин. Писать-то он писал, а вот отправить по-прежнему не решался. А неотосланные письма хранил в холодильнике в старом ящике из-под салата.
В сарае у Гуашонов Марианна нашла косу; она вполне годилась, чтобы подровнять траву у въезда, между остролистами и яблонями, под нежное посвистывание перепела и трели иволги.
Начав косить у гаража, она заметила, что за ней из кухни наблюдает Эмиль. Она кивнула ему. Сегодня руки и голова дрожали у него особенно сильно, но она притворилась, что ничего не замечает, так как давно поняла, что ему приятнее, когда окружающие не подают виду.
Вскоре после этого старый бретонец подошел к ней и жестом попросил пойти с ним. Он провел ее в гараж и открыл дверь; заскрипели ржавые воротные петли. В бледном сумеречном свете Марианна различила белоснежный старый «ягуар», рядом с ним, у стены, — пыльный мотороллер «веспа», велосипед, канистры с бензином и газовые баллоны.
Эмиль подал Марианне записку и вытащил из кармана штанов несколько купюр.
Марианна уставилась на бумагу.
«Beurre demi-sel, lait, fromage de chèvre, oranges…»[130]
— Вы хотите, чтобы я это купила?
Эмиль бросил ей ключ от машины.
— Monsieur! Je ne peux pas… alors[131], я не умею водить… это.
Эмиль закатил глаза и недовольно прищелкнул языком. Показал на автомобиль. Открыл дверцу. Нетерпеливо ткнул пальцем в сиденье.
— Я… я не умею. Мне не разрешали! Не позволяли…
Эмиль раздраженно захлопнул дверцу.
Марианна заплакала.
Спустя четверть часа она уже вела английский лимузин по узкой лесной дороге, машину подбрасывало и подкидывало.
— Откройте глаза! — приказал Эмиль, когда она с трудом протиснулась между двумя близко стоящими буками, погнув правое боковое зеркало.
Глаза у Марианны расширились.
Поначалу Марианна рыдала так, что Эмиль почувствовал себя мерзавцем. Потом он сунул ей мятый носовой платок и снова открыл дверцу. «Пожалуйста», — выдавил он из себя. Тогда она села в машину.
Он положил левую руку на ее правую, вцепившуюся в рычаг коробки передач, она выжала сцепление, и он перевел ее руку на следующую скорость.
— Allez, allez![132] Быстрее!
Тут «ягуар» рванулся с места. Она затормозила, сцепление выпрыгнуло, мотор заглох.
— Не так! — Эмиль в ярости ударил себя кулаком по ладони. — Encore[133].
Она снова запустила мотор и, подпрыгивая на корнях, выехала из лесу на деревенскую улицу Кердрюка.
— Мадам, есть еще третья скорость, — проворчал Эмиль, — и четвертая, жмите на газ, давайте быстрее, allez, allez!
На скорости сто километров в час они понеслись по шоссе в направлении Неве. Широко открытыми глазами Марианна уставилась в асфальт. Он напоминал серый водопад, обрушивающийся под колеса. По спине у нее стали стекать тоненькие струйки пота.
Марианна изо всех сил нажала на газ.
Эмиль закрыл глаза.
Молча, одними жестами он давал ей указания, и так они доехали до супермаркета в Неве, где она, сделав широкий разворот, заняла на парковке сразу два места. Она с трудом отпустила руль в кожаной оплетке; руки у нее мучительно дрожали. «Карамба», — прошептала она. Глаза у нее сверкали.
Выходя из машины, Эмиль улыбнулся, но поспешно отвернулся, чтобы Марианна не заметила его улыбки. Ему ведь предстояло учить ее и дальше.
Он представил Марианне весельчака Лорана, возвышавшегося за изобильным прилавком мясного отдела: с круглой, как пушечное ядро, головой, нафабренными усами, лукавыми карими глазами и тоненьким венчиком волос вокруг блестящей лысины.
— Enchanté, madame Mari-Ann[134], — сказал Лоран и, подмигнув, протянул ей руку через прилавок.
Познакомив ее с мясником, Эмиль кивнул Марианне, снова дал ей деньги и список, а сам устроился в маленьком баре между парковкой и заправкой и стал ждать, когда она принесет покупки. Он и не собирался ей помогать, — если эта женщина намерена твердо стоять на ногах, носить ее он не будет!
После того как они вернулись в Кердрюк и рассортировали продукты по кладовой и холодильнику, Марианна решилась произнести благодарственную речь.
Эмиль нетерпеливо перебил ее жестом.
— Merci, — все-таки сказала она. — За это… и за машину.
— E-keit ma vi en da sav, e kavi bazh d’en em harpañ, — тихо ответил Эмиль Гуашон Марианне, словно прочитав ее мысли. — Пока ты можешь держаться на ногах, найдешь палку. Пока у тебя есть мужество, тебе помогут.
Марианна подняла глаза на этого грубого и неотесанного человека. Он впервые за все время знакомства обратился к ней неодносложно. Более того, он тепло улыбался Марианне.
Паскаль, спотыкаясь, вышла к ним из спальни; на ней была пижама Эмиля, заправленная в резиновые сапоги. Она наклонилась и поцеловала Эмиля. Полузакрыв глаза. Со вздохом. Он так ее любил.
— Вы по-прежнему хотите покончить с собой, Марианн? — спросил затем Эмиль, и Паскаль прижала ладонь ко рту, чтобы у нее не вырвался крик ужаса.
Марианна побледнела.
— Откуда вы это знаете?
Эмиль похлопал себе по груди, там, где сердце.
— Почему вы приехали сюда умирать?
Спрашивал он совершенно спокойно, словно осведомлялся, какие у нее планы на вечер.
— Я хотела увидеть море, — ответила Марианна.
— Море… — повторил Эмиль.
Его взгляд снова сделался далеким, отрешенным.
— Море таит в себе не только глубокое безмолвие, но и смятение. Нас с ним ничто не связывает, но мы жаждем, чтобы оно постигло наши мысли и поступки. Ну и что же, приняло вас море?
— Я так хотела утонуть в его волнах, — тихо сказала Марианна. — Оно бы скрыло меня и все мои муки и неудачи. Сначала оно с рокотом прокатилось бы надо мной, а потом забыло бы меня навсегда. Это было бы правильно. Мне ведь хотелось умереть.
— А потом? — со страхом спросила Паскаль.
— Потом мне помешала жизнь.
Едва успев к вечерней смене в гостиницу, Марианна обнаружила у своей двери белую розу. От нее исходило нежное благоухание малины. Рядом лежала открытка с изображением часовни в Пенмарке, пробудившей в Марианне неутолимое желание жить.
Янн.
27
Иногда она спрашивала себя, чем же она заслужила такое счастье.
После совместной поездки на похороны Марианна и Янн стали видеться каждый день. Он приходил обедать в «Ар Мор», ждал, когда закончится ее смена, и проводил с ней вечер, пока для нее не наступало время возвращаться к кастрюлям и сковородкам. В те дни, когда Марианна навещала Паскаль и Эмиля, он либо сопровождал ее, а потом с блокнотом для рисования устраивался на террасе, либо ждал, пока Жанреми не отпустит ее поздно вечером отдыхать.
Чаще всего Янн приходил дважды в день, после полудня и вечером.
У него Марианна училась говорить по-французски быстрее, чем у всех остальных; может быть, все дело было в его голосе с мягкими оттенками, с двумя тембрами. Она любила ездить с ним по окрестностям в его «рено», осматривать рыбацкие деревушки, бесчисленные замки и одинокие часовни. А еще она любила разглядывать его самого. Его сильные плечи, которые больше подошли бы плотнику, чем художнику.
Они напоминали двоих безумцев, охваченных навязчивой идеей, безудержно поглощенных друг другом, припадающих друг к другу, словно умирающий от жажды в пустыне — к источнику.
Она привыкла к тому, что мужчина с глазами цвета моря ее рисует. Он никогда не показывал ей эти портреты, но во взгляде Янна Марианна читала, какой он ее видит, и пока ей было этого вполне достаточно.
А Янн бесконечно запечатлевал на страницах то одного, то другого блокнота лицо Марианны, ее руки, что бы она в этот миг ни делала. Готовила или работала в саду, держала на коленях кошку, стараясь не двигаться и ее не побеспокоить, тихонько напевала, чистя овощи.
До сих пор они ни разу не поцеловались.
Марианна не спешила, она ведь знала, что с первым поцелуем начнется новый этап их отношений. Один поцелуй превратится в два, а за ними последует целая лавина поцелуев. Они не ограничатся губами друг друга, но попытаются проложить путь и ниже. И это внушало ей страх.
Марианна внутренне содрогалась при мысли о том, что Янн будет ее раздевать. Увидит обнаженным ее состарившееся тело. Ее морщинистую кожу. Обвисшие складки и отвратительные впадины, которые старость приберегает для женщины, чтобы унизить побольнее.
Однако желание ощутить руки Янна не только на щеке, на руке, на губах росло в ней с каждым днем. Но как ужасно, жестоко она будет оскорблена, если ему не понравится! Нет… с поцелуями… лучше подождать.
В понедельник, как обычно, самый спокойный день в «Ар Мор», Жанреми дал ей выходной.
Они с Яном поехали на восток, в сторону волшебного леса. Броселианда.
Когда они проезжали по извилистым улочкам Пэмпона, в сорока километрах западнее Ренна, Янн прервал доверительное молчание, к которому они оба уже так привыкли. Он закрыл карту местности, лежавшую у Марианны на коленях.
— Ни на одной официальной карте не найти рощу, называемую Броселиандом; она существует только в наших сновидениях и надеждах. В посюстороннем мире она называется «Пэмпон», лесом у предмостного укрепления. Но в мире магии это волшебный лес Мерлина, царство фей и мост, ведущий в подземный мир.
— В подземный мир? Это то же, что и иной мир?
Янн кивнул.
— В Броселианде скрыт святой Грааль Артуровых легенд, там берет свое начало источник вечной юности. Кто испил из него, навеки сохранит молодость. Говорят, что под Зеркалом Фей, тихим озером, проходит путь на Авалон, где король Артур спит в ожидании, когда Бретань вновь призовет его на подвиги. А другая легенда говорит, что на дне пруда, гладь которого покрыта кувшинками, в хрустальном замке обитает Вивиана, Дама Озера.
Марианна задумалась над его словами. Дама Озера. Она никогда прежде о ней не слышала, но, как только Янн о ней заговорил, Марианне показалось, будто ей вспоминается что-то давно забытое.
— А кто она такая? — тихо спросила Марианна.
— Именно она лишила волшебника Мерлина магической силы, вознаградив за это своей вечной любовью. Она увлекла его к себе в пучину вод, чтобы одарить пиром бесконечных наслаждений, который длится и по сей день.
Перед внутренним взором Марианны предстал стеклянный дворец, окруженный водой и пляшущими тенями.
Облака серебристого тумана под высокими, увитыми плющом деревьями объяли Янна и Марианну, когда они вторглись в волшебный лес, под кроны дубов и берез. Их встретила тишина. Выжидающая тишина.
Спустя двадцать минут они добрались до источника вечной юности.
— Здесь впервые встретились Мерлин и Вивиана, — прошептал Янн тихо-тихо, словно не хотел нарушать покой обитателей леса.
Марианна заметила, как с каменистого дна в прозрачной, словно хрусталь, воде медленно поднимаются пузырьки.
— Источник смеется, — шепотом продолжал Янн, — только когда видит двоих, которые, подобно Мерлину и Вивиане…
Он не договорил.
«Любят друг друга».
Марианна заглянула в воду. Точно такой же родник словно забил у нее в груди: нежные пузырьки будто поднимались жемчужными нитями из подземного источника и тихонько лопались. Необъяснимо. Чудесно.
Когда она была рядом с Янном, ее сердце смеялось, как этот источник.
Держась за руки, они побрели по тихому лесу, и Марианне казалось, что таким, как сейчас, он был и тысячу лет тому назад: густым, заколдованным, сумрачным. С покрытыми вереском прогалинами, болотами и глубокой насыщенной зеленью. С тропами, которые никогда не пытался выровнять ни один лесничий. В кронах могучих дубов шумел ветер. Солнце бросало светло-зеленые тени на мягкую землю. Ей казалось, будто с каждым шагом время и пространство растворялись.
Наконец они вышли к кругу древних стоящих камней, заросших боярышником.
— Гробница Мерлина, — прошептал Янн. — Здесь навеки заточила его возлюбленная.
«Наверное, он принял эти оковы с радостью, — пронеслось в сознании у Марианны. — Удивительный человек, он отверг власть и могущество ради любви к женщине».
Гробницу Мерлина окружали мегалиты, где в бесчисленных процарапанных за века трещинках виднелись размякшие от дождя записки. Марианна не решилась вынуть хотя бы одну.
— Это просьбы, — объяснил Янн. — Это неметон, святилище богов. Бывает, что, когда мы открываем им желания, они снисходят к нашим мольбам.
Марианна, завороженно глядя на гробницу, вырвала лист из желтого блокнотика, где обычно записывала французские слова. Она устремила на Янна взгляд, какого он никогда еще не видел в ее глазах. Испытующий. Решительный. И одновременно отрешенный.
Марианна написала на листочке несколько слов, тщательно сложила и воткнула в одну из щелей.
Янн не стал спрашивать, о чем она взмолилась богам, да если и спросил бы, она не открыла бы этой тайны.
Но что-то в нем надеялось, что он сможет исполнить это желание.
Они молча посидели у заросшего кувшинками пруда, захваченные неописуемыми чувствами. Марианна подставила лицо лучам теплого солнца. Все ее черты внезапно обрели мягкость и исполнились умиротворенности. «Она сделалась похожа на мечтательную фею», — подумал Янн.
«Когда фея влюбляется в смертного, то часто боится, что он забудет ее, едва покинув волшебное царство, — давным-давно, когда он был еще мальчиком, поведала ему мать. — Феи умирают, если возлюбленный перестает о них вспоминать. Поэтому каждая фея пытается навеки привязать к себе возлюбленного. Но навсегда удержать его она может, только даровав ему смерть, запечатлев на его устах поцелуй тьмы. Тогда он умирает для этого мира и возрождается в потустороннем, соединившись со своей феей».
«В сущности, любого кельтского героя ждет сладостная смерть, — размышлял Янн. — Не важно, кем был он в земной жизни: королем, великим воином или простым художником. В руках феи он всего-навсего мужчина. Мужчина, который отвергает ради нее то, что ценил превыше всего на свете: славу, честь, деньги, власть, признание».
Янн снова принялся рассматривать Марианну: черты ее лица, волосы, в которых играли блики света, руки, никогда не утрачивающие тепла. «Да, — решил он, — самое мудрое, что может сделать мужчина, — это забыть свои глупые фантазии о стремлении к власти и вместо этого всецело отдаться женщине. Погрузиться в нее».
Он не в силах был отвести взгляд от Марианны. Сильнее, чем когда бы то ни было, Янна охватило чувство, что перед ним — Дама Озера, и он приготовился принять от нее поцелуй вечности.
Сейчас, состарившись, Янн лучше, чем прежде, понимал суть легенды о Мерлине и Вивиане: женщины умеют любить и эта любовь бесконечно возвышеннее и глубже мужского начала и его жажды власти.
Янн вообразил, как прекрасно было бы осознавать, что Марианна будет любить его и за порогом смерти.
Когда Марианна встала, в два шага преодолела разделявшее их короткое расстояние и протянула ему руку, ей показалось, что Янн преподносит ей всего себя почтительно и смиренно, словно королеве.
Две тени на берегу источника слились в одну.
28
Спустя неделю, когда Марианна учила с Паскаль французские слова и одновременно готовила ужин, Эмиль притащил аккордеон. Красный аккордеон с девяноста шестью кнопками — на нем вот уже много лет никто не играл, судя по пористым желобкам на мехе. Эмиль полагал, что из-за болезни Паркинсона играть на нем больше не сможет. Не могла бы она?..
Когда Эмиль растянул мех, аккордеон жалобно захрипел; клавиши отказывались издавать верный тон.
Она взяла аккордеон, надела на плечи кожаные ремни, расстегнула пряжки, сжимавшие мех, просунула левую кисть под басовый ремень и нажала на воздушный клапан, чтобы растянуть мех, не издав при этом ни звука. Казалось, инструмент сделал выдох.
Марианна свела мех. Теперь аккордеон сделал вдох. Глотнул тяжелого, живительного воздуха. Ее безымянный палец поискал и нашел шершавую, выпуклую кнопку среди девяноста шести других на левой клавиатуре — ноту «до». Она переключила одну из пяти регистровых клавиш.
Вдох.
Очень осторожно она нажала на «до». Теперь оставалось только потянуть мех влево и… Но она не решилась.
— Вот как, значит, — проворчал Эмиль. — Говорят, истинный характер женщины можно узнать по тому, как она играет на каком-нибудь инструменте. Одна читает ноты, как книгу. Холодно и рационально. Другая вкладывает душу в каждый звук. А некоторые бывают жестоки оттого, что музыка — их единственный возлюбленный. Только музыке они открывают себя, только ей дарят страсть, только с музыкой борются, стремясь одержать над нею верх. У таких женщин нет никого ближе музыки, ближе инструмента, которым они владеют, подчиняя себе своего единственного возлюбленного. А как вы станете играть на аккордеоне?
— Никак. Мой муж считает, что это неприлично, а потом, он не любит громкой музыки.
Эмиль удивленно хмыкнул.
— Простите, что вы сказали? Ваш муж? Вы замужем?
В кухне слышалось только тиканье напольных часов.
— Вы ведь убежали от мужа, правда? — нарушила молчание Паскаль.
— Скорее от самой себя, — глухо произнесла Марианна.
— А Янн знает, что вы…
— Нас это не касается, — перебил жену Эмиль.
— Вы его разлюбили? — осторожно осведомилась Паскаль.
— Я просто устала, — ответила Марианна и сняла аккордеон.
— А он знает, что вы здесь? — спросил Эмиль.
Марианна покачала головой.
— Думаю, вы хотите сохранить все в тайне, — заключил бретонец.
Она кивнула. Марианне стало стыдно; она почувствовала себя обманщицей, авантюристкой.
Эмиль Гуашон потер подбородок здоровой мозолистой рукой.
— Ну хорошо. Забудем.
Потом он снова поманил Марианну в гараж.
Светло-голубая «веспа» теперь смотрелась хоть куда: вычищенная, смазанная, заправленная. Эмиль привел мотороллер в порядок.
— Это модель «Веспа-пятьдесят», можно только нажать на газ или затормозить. Аккордеон слишком тяжелый, чтобы таскать его по лесу. Я одолжу вам эту штуку на… — он замялся, — на сколько хотите.
В кухне Паскаль вела себя так, будто и вправду забыла удивительную новость. И Марианна боролась с собой, испытывая искушение все ей рассказать.
Внезапно все вернулось: Лотар, угрызения совести, чувство вины, оттого что она убежала, не объяснив ему, почему она от него отдалилась и больше не хочет жить прежней жизнью.
После того как из «Ар Мор» ушел последний посетитель, Марианна, вопреки своему обыкновению, не выпив рюмку «kalva» и пропустив ежедневный урок французского с Жанреми, исчезла у себя в комнате. Она лежала в темноте, неотрывно глядя на потолок и следя за игрой лунных лучей. А потом решительно, рывком, спустила с постели ноги. Дыхание перехватило, словно она оказалась в стремительно падающем лифте.
Она погладила аккордеон. Мех вздохнул. Прозвучал слабый, неверный аккорд. Она прислушалась. Не может такого быть. Ни один аккордеон не играет сам по себе. На инструменте мерцал лунный свет.
Половина третьего. До восхода оставалось еще три часа.
Марианна натянула джинсы поверх ночной рубашки и набросила кожаную куртку цвета зеленого бутылочного стекла. Потом взяла аккордеон и тихо выскользнула на мол.
Кот, свернувшийся клубком на сиденье «веспы», заметив ее, приподнялся. Глаза у него горели во мраке ночи.
Марианна закинула аккордеон на плечо. Он тяжело повис у нее на спине. Кот уставился на нее.
«Он тебя ни о чем не спросит». Но Марианне показалось, что этот кот вполне на такое способен.
А потом она уехала прямо в ночь. Ей не встретилась ни одна машина, ни один велосипедист, даже ни одна чайка; Марианна слышала лишь отчетливое гудение мотороллера, ощущала вкус ночной росы на губах и чувствовала, как ночная прохлада дотрагивается до ее голых лодыжек, забираясь под одежду. Аккордеон всем своим весом тянул ее назад, на каждой крохотной кочке мех, казалось, растягивается и вновь сжимается. И каждый раз раздавался все тот же вздох, слышался все тот же слабый аккорд.
Стоя на гребне пляжа Таити, глядя в черно-синюю гладь Атлантики, ощущая одни лишь звезды над головой и один лишь песок под ногами, она сняла аккордеон с плеч, перевернула, перевесила на грудь.
Выдох. Вдох.
Она всегда любила ля-минорную тональность. Она поднялась на две кнопки выше от ноты «до».
Выдох. Вдох.
Она не играла целую вечность — сорок… нет, сто лет.
Марианна передвинула безымянный и указательный пальцы ниже и растянула мех. Откуда-то из глубин инструмента в ночь излился меланхолический аккорд, возвышенный, торжественный и громкий. Ее живот, ее сердце откликнулись ему дрожью.
Вот что Марианна так любила — чувствовать музыку животом, лоном, грудью. Сердцем. Звуки преображали ее тело, она вновь свела мех, и ля-бемольный аккорд превратил ночь в музыку.
Марианна отпустила кнопки и тяжело рухнула спиной на песок. Аккордеону потребовалась близость моря, чтобы ожить и выйти из оцепенения.
«Как и мне».
Ее мысли успешно спаслись от Лотара. Но зато теперь еще злее набросились на нее.
«Неужели он был таким мерзавцем? Вдруг это моя вина? Я точно пыталась что-то изменить? Может быть, я слишком мало его любила? Что, если стоит попытаться снова? Разве он не заслужил, чтобы я дала ему еще один шанс? Не случайно ведь говорят: любить означает принимать кого-то таким, какой он есть. А я так поступала?»
Она так давно бежала из дому. Но все-таки не так уж давно. Она заплыла в совершенно иную жизнь, но сорок один год совместного существования с Лотаром по-прежнему давили на нее невыносимой тяжестью. Их нельзя было просто сбросить, как старую ночную рубашку. Они неумолимо следовали за ней, куда бы она ни пошла, с кем бы ни смеялась. Они чем-то напоминали это море, которое медленно поглощает сушу и никогда не оставит ее в покое.
— Merde, — прошептала она сначала робко, а потом увереннее: — Merde!
— Merde! Дерьмо! Merde! — крикнула она, обращаясь к волнам, и стала подкреплять каждое слово аккордом.
Tango de la merde, ее пальцы не сразу нашли кнопки, на аккордеоне все было перепутано, «фа» находилась под «до», «ре» — под «ля», «соль» — над «до». Марианна с бранью нажимала на кнопки и клавиши, аккордеон издавал разные звуки, молил, вскрикивал, исходил ненавистью, пел о страсти и тоске; Марианна смиряла эти звуки, вызволяла их из тесноты инструмента, наделяла их силой и переносила во мрак ночи. Марианна дала меху вдоволь надышаться соленым воздухом, а когда устала настолько, что больше уже не могла играть, положила на аккордеон голову.
Она сделала глубокий вдох. Выдох. Марианне послышался женский смех; что, если все это время ее слушала Нимуэ, владычица моря?
Марианна подняла глаза и увидела, что от луны остался узенький серп, бледно-серебристая колыбель, скрывающаяся от солнечных лучей.
Пальцы Марианны нерешительно задвигались, пытаясь вспомнить самую прекрасную песню, которую Марианна когда-либо исполняла, песню о сыне луны, «Hijo de la luna»: ре-минор, соль-минор, фа-мажор, А7.
Марианна упражнялась, пока пальцы у нее не онемели от утреннего холода и влаги. Левая рука заныла от непрерывного растягивания и сжимания меха, спину заломило от тяжести инструмента. Предрассветные сумерки совлекли покров с ночи, и на востоке показалось восходящее солнце.
Марианна в изнеможении отставила аккордеон. Ей стало не по себе. Она перестала отличать реальность от своих желаний. Медленно сыграла она несколько тактов «Либертанго» Пьяццолы.
Но ответов не было. Нигде. Одни вопросы. Вопросы.
29
Спустя четыре дня, четырнадцатого июля, Марианне показалось, будто «Ар Мор» и пансион вывернуты наизнанку: с утра столы, стулья, половина всей кухонной посуды и передвижной бар из ресторана громоздились на молу. Повсюду раскачивались цветные фонарики на шнурах, на набережной установили сцену с навесом, в окнах трепетали на ветру французские и бретонские флаги.
Паскаль Гуашон как раз изгоняла из комнат духов, чтобы избавить помещения от отрицательной энергии. Под конец она еще должна была благословить огонь в очагах: в камине холла и в камине ресторанного зала — и произнести заклинания, оберегающие от злых сил.
— Мы что, устраиваем такой праздник в честь повторного открытия пансиона? — удивленно спросила Марианна.
— И да, и нет, — ответила Женевьев. — Вообще-то, мы отмечаем национальный праздник, День взятия Бастилии. Но есть ли лучшая дата, чтобы отпраздновать возрождение, чем bal populaire?
Bal populaire! Это означало, что и пировать, и пить, и петь, и музицировать будут на улице. И танцевать тоже: сегодня в Кердрюке будут звучать вальсы и танго, гавот и музыка, которую принято исполнять на fest-noz (фест-ноз), традиционных бретонских праздниках. Все будут веселиться под открытым небом. Четырнадцатого июля в каждой французской деревне был сплошной bal populaire.
Жанреми и Марианна с пяти утра занимались в кухне приготовлениями к пиру. Сегодня вечером в «Ар Мор» будут подавать блины из гречневой муки и сидр, бифштексы и котлеты из ягненка, скампи и киш, рыбный суп и омаров, сыр и лавандовое мороженое, баранину для местных и устрицы, устрицы, устрицы для туристов.
За кухонным уголком под открытым небом Падриг помогал Жанреми подавать блюда. Лорин заготовила целый арсенал ламбига, кальвадоса, перно, пастиса, шампанского, розового, бретонского пива, мюскаде и всевозможных красных вин.
Падриг мало устраивал Женевьев Эколлье: сын каменщика ревностно следил за запасами алкоголя и готов был скорее уничтожать их самостоятельно, нежели делиться ими с клиентами.
Но других помощников она не нашла: к кому бы она ни обращалась, всех уже успел нанять Ален Пуатье в Розбра. А какими чудесами он завлекал к себе посетителей: детской горкой в виде пиратского корабля, ледяной скульптурой, призванной изображать революционерку Марианну (весьма скудно одетую и с весьма пышной грудью), сколоченной из досок танцплощадкой, украшенной сине-бело-красными гирляндами. Женевьев в ярости бранилась.
В обязанности Марианны входило убирать и мыть грязную посуду, а также подавать еду музыкантам по мере ее уничтожения. Принося им на сцену под открытым небом бутерброды на багетах и рыбное рагу cotriade в глубоких тарелках, она старалась не споткнуться об инструменты квинтета. Она показала на гобой. «C’est une bombarde, madame»[135], — сказал ей самый маленький из пятерых, кривоногий, с измятым лицом. Он взял в рот трость и сыграл несколько тактов. Остальные отставили тарелки с супом, взяли аккордеон, скрипку и контрабас и стали ему аккомпанировать. Марианна почувствовала, словно внезапно и стремительно перенеслась в прошлое.
Она снова была в Париже, в чрезмерно ярко освещенной больничной ординаторской, и слушала музыку, которую передавали по радио. Музыку, под которую хотелось танцевать. Она видела, как старики танцуют с молодыми женщинами, видела длинный стол, смеющихся детей, яблони, солнце, освещающее море на горизонте, видела голубые ставни на старинных домах из песчаника, с тростниковыми крышами.
Когда она открыла глаза, этот образ стал реальностью.
Она кожей ощущала тепло солнца, и ее захлестнула волна бесконечной благодарности. Мужчины носили традиционные костюмы, которые принято надевать на fest-noz, круглые черные шляпы с шелковой лентой, широкие пояса — и играли песню для нее одной.
Марианна невольно начала покачиваться в такт музыке, как делала на берегу, упражняясь в игре на аккордеоне. Она подняла руки, закрыла глаза и закружилась на месте в ритме чудесной мелодии. Она танцевала и танцевала, возносясь все выше и выше, туда, где не подстерегают неудачи, зло и коварство. Где нет никаких вопросов. Где все хорошо.
Она замерла, только когда музыка смолкла.
К ней вернулось спокойствие, рассеявшее все мрачные вопросы.
— Comment vous vous appelez?[136] — спросил скрипач.
Она выкрикнула свое имя.
— Марианн! — в восторге обратился музыкант к своим коллегам. — Наша гранд-дама, наша возлюбленная, героиня нашей республики, нашей революции, нашей свободы! Господа, сейчас для нас танцевала свобода!
— Vive la Mariann![137] — хором прокричали они и поклонились ей.
Марианна вернулась в кухню с ощущением, что вот так, в танце, отвоевала еще одну часть собственной жизни.
Хотя «бал» еще не был открыт официально, в «Ар Мор» уже явились первые завсегдатаи: Мариклод, ее дочь Клодин на сносях, Поль с близнецами, которые стали увлеченно смотреть, как Жанреми проворно, а Падриг вызывающе неспешно — расставляют холодные закуски.
Поль наклонился и осторожно погладил Клодин по животу.
— Вам не кажется, что Клодин чудесно выглядит вот такая… беременная?
— Не хочу я чудесно выглядеть. Я хочу быть тоненькой, — капризно протянула дочь Мариклод.
— Да зачем тебе это? Вид у тебя хоть куда. А растолстевшая задница — просто загляденье.
— Задница! Да моя задница напропалую кокетничает с мужчинами, а мне и невдомек, и я тут ни при чем.
Когда ночь стала льнуть к дню, весь Кердрюк запел «Марсельезу». Взяв последний аккорд, музыканты плавно перешли к танго, и мол, казалось, расцвел водоворотом ярких развевающихся одежд.
Поль сидел на террасе «Ар Мор», скрестив руки, и наблюдал, как Розенн, держась в стороне, рассматривает кружащиеся в танце пары.
«Мальчишка», как окрестил Поль ее нового мужа, который был моложе, до сих пор еще ни разу с ней не танцевал. Это едва ли придется ей по вкусу. Розенн любила танцевать, и больше всего — аргентинское танго. Все свои страстные чувства: робость, желание, страх, гордость — она вкладывала в этот язык тела.
Поль знал, что отказываться танцевать с женщиной означает пренебрегать какими-то гранями ее натуры, наносить ей оскорбление, которого она никогда не забудет. Ведь, танцуя, женщина отдает себя. Мужчине, который не танцевал с ней, она никогда не откроет полностью свою душу. Ради Розенн Поль тайно брал уроки танцев у Янна, который знал, как должен танцевать мужчина, чтобы женщина не смогла противиться его обаянию.
Теперь Поль заметил «мальчишку»: тот принес два бокала красного вина и в свою очередь заметил Поля. А потом даже двинулся к нему!
— Добрый вечер, Поль! — подчеркнуто вежливо поздоровался он.
— Моя жена сегодня особенно обворожительна, вы не находите? — перебил его Поль.
— Она вам больше не жена.
— Вы уже говорили ей, как она красива?
— Думаю, вас это не касается.
Муж Розенн повернулся и хотел было уйти. Музыканты доиграли быстрое танго и теперь стали исполнять жалобную мелодию, gwerz, и те, кто любили друг друга столь мучительно, что только их тела способны были это выразить, продолжали танцевать. Остальные вернулись к недопитым бокалам или, обняв себя за плечи, стали наблюдать за танцующими.
— Я ведь заранее знал, что вы не сумеете полюбить Розенн так, как моя жена того заслуживает, — бросил Поль ему вслед.
Тут он вспомнил имя соперника, которое до сих пор успешно вытеснял из памяти: Серж. Мальчишка, молокосос!
— Она тебе больше не жена! — отрезал Серж — на сей раз раздраженно.
— Но она-то по-прежнему считает себя моей женой. Спорим?
Серж во второй раз отвернулся.
— Спорим? — повторил Поль уже громче.
Теперь Серж обернулся к нему и прошипел, растеряв всю свою надменность:
— Наша любовь больше всего, что у тебя с ней было.
— Что ж, тогда тебе нечего опасаться за исход нашего пари. Или все-таки боишься? Боишься старика?
Серж уставился на Поля слегка остекленевшими глазами. Поль разжал руки и улыбнулся мужчине, который спал с его великой любовью, просыпался вместе с ней, ссорился с ней, видел, как она смеется.
— Что тебе нужно? — проворчал Серж.
— Всего один танец. Один.
— Чушь какая! — фыркнул Серж.
— Ну да. Так что бояться тебе нечего.
Поль встал, нарочито выразительным жестом предложил Сержу занять его место, а потом еще раз молниеносно наклонился к нему:
— Смотри и учись.
Колетт увидела, как Поль что-то крикнул музыкантам. Она заметила, как к ней подходит Симон; в руках у него было что-то, напоминающее один из его странных подарков, однако, увидев, как близко сидят рядом Колетт и Сидони, он отступил. Впрочем, все, что заметила, Колетт перенесла на какой-то темный чердак или в столь же темный подвал своего сознания, где и бросила, постаравшись об этом забыть.
Они с подругой молча сидели на отремонтированной, с высоким фундаментом, террасе пансиона.
Колетт положила руку в бледно-красной короткой перчатке на обложку книги, которая лежала перед ней на столе. Потом она передвинула книгу по столу на другую сторону безмолвия.
— Это тебе… В честь годовщины нашего знакомства, оно ведь тоже выпало на четырнадцатое июля, — произнесла Колетт, и собственные слова показались ей напыщенными и лживыми.
Сидони взяла книгу только после того, как Колетт убрала руку.
— «Письмена камней», — тихо прочитала она вслух. — Роже Кайуа.
Колетт увидела, как Поль подошел к Розенн и поклонился. Как Розенн отвернулась. Как Поль что-то сказал, глядя ей в спину, и Розенн резко обернулась, словно от удара.
— Кайуа был философ и социолог, в тридцатые годы он входил в группу сюрреалистов, а позднее вместе с Батаем основал «Коллеж Социологии», — неестественно тонким голосом проговорила Колетт, словно читая подруге лекцию и удивляясь собственной неуверенности в себе.
— Ах, как прекрасно, — проронила Сидони.
— Камни Кайуа воспринимает как нечто противоположное всякой динамике, только благодаря их неподвижности поиски человека обретают видимые очертания… Если бы не было камней, мы не заметили бы, что движемся и… — Колетт замолчала. Господи, да о чем это она?
— Но камни могут двигаться, — после некоторой паузы возразила Сидони.
Обе они не сводили взгляда с Поля и Розенн. Он провел свою бывшую жену в середину мола. И он увлекал ее, и она его подталкивала; на их лицах читалась истинная боль. На сцене скрипач подал знак — и раздались первые аккорды танго, насильно введенные аккордеоном во мрак ночи, и лишь потом их подхватила скрипка.
— Камни движутся. Просто это незаметно. В Америке есть долина, — продолжала Сидони, — ее называют Долиной Смерти. Там скалы перемещаются по песку. Их никто не передвигает. На песке даже видны следы этих камней, они тянутся на сотни метров. Камни способны двигаться.
— Они движутся, когда мы не смотрим? — спросила Колетт. Неужели они и вправду говорят о камнях?
— Да, — прошептала Сидони. — Никто не видит, как они перемещаются.
— Я-то думала… что нам раз и навсегда отведено место, — сказала Колетт.
— Нам?
— Нам, камням.
В этот миг Колетт впервые обернулась к Сидони.
— Говорят, дольмены в Бретани движутся в сочельник, когда часы бьют полночь. Пока длятся двенадцать ударов колокола, дольмены по земле бросаются к морю — испить соленой воды. Но нам, камням, мало один раз сделать то, что мы хотим. Мы движемся, потому что ищем то, чего страстно желаем, — сказала Сидони, и Колетт не решалась даже моргнуть, не в силах оторвать взгляд от глаз подруги.
Нет. Они говорили не о камнях.
Они говорили о себе, о Колетт и о Сидони.
— Но чего жаждут камни? — спросила Колетт, пристально, завороженно глядя в лицо Сидони, но уже догадывалась. Она догадывалась: в глубине души она всегда знала, что сейчас пытается сказать ей Сидони. Что-то в душе Колетт раскололось пополам, словно скала; она почувствовала на губах вкус каменной пыли.
Марианна убирала со столов бокалы и тарелки и даже нашла несколько пустых стаканов из-под сидра в цветочных кадках. Она взглянула на Янна, который сидел на складном стуле возле сцены и быстро-быстро набрасывал что-то на плотной бумаге блокнота. Каждый раз, когда его взгляд отыскивал Марианну в толпе и их глаза встречались, преодолевая разделявшее их расстояние, время, казалось, затаивало дыхание, а Марианна чувствовала, как что-то у нее в груди разлеталось на множество осколков, словно слеза, упавшая не на землю, а в ладонь. Потом их снова заслоняла друг от друга какая-нибудь пара танцующих. Марианна наслаждалась мгновением, когда чуть-чуть отходила в сторону и видела, как Янн ищет ее глазами. «Он меня ищет».
Она глубоко вдохнула и выдохнула, ощутив запах духов, жареного мяса, соленой воды, морского воздуха. Запах ночи, насыщенной праздником и смехом.
«Он хочет меня найти».
Марианна подняла поднос и увидела винный осадок в бокалах.
«Я влюблена».
Марианна представила себе, каково было бы переспать с Янном Гаме.
Однако она тотчас же забыла об этом, увидев Лорин: та с двумя подносами в руках не могла защититься от наглых приставаний пьяного посетителя. Марианна большими шагами решительно направилась к нему и влепила ему подзатыльник. Нахал изумленно обернулся.
— Еще раз попробуешь до нее дотронуться, дрянь такая, — прорычала она по-немецки, — и я тебе руки оторву!
Нахал побледнел и исчез в толпе танцующих.
Поль развернул Розенн, завершив плавное танцевальное движение. Так было всегда. Их тела понимали друг друга без слов, не нуждаясь даже в условностях, намеках, недомолвках.
Сначала Розенн ни за что не соглашалась.
— Последний танец. Последний в жизни. Я тебя люблю, Розенн. Но я тебя не удерживаю. Пусть это будет моим «kenavo».
Только тогда она вплыла в его объятия. Зазвучала любимая песня Розенн; это Поль незаметно заказал ее музыкантам за отдельную плату, попросив сыграть прямо сейчас.
Розенн, словно кошка, была эгоистична и одновременно игрива, хищна, жестока и необузданна в своей непритворной страсти, исполнена достоинства, как властительница.
— Он хорошо с тобой обращается? — спросила Поль, когда Розенн после одного оборота и двух змеек вновь приблизилась к нему.
— Как с леди.
— А что, я с тобой обращался как с индийским слоном?
Отдавшись вспышке гнева, она стала держаться еще более горделиво, еще более вызывающе: она оттолкнула его, он в танце привлек ее к себе.
— Когда ты потребовала развода, мне показалось, что моя жизнь кончена, — прошипел он, уткнувшись ей в волосы, ведя ее спиной вперед и ловко лавируя между другими танцующими парами; он был неумолим.
— Значит, я добилась своего, — промурлыкала Розенн и выскользнула из его объятий, взмахнула ногой налево, потом направо почти вплотную к его бедрам; он чуть-чуть отклонился в сторону и нагнул ее, сжимая в объятиях, так что она замерла почти лежа, откинув голову.
— Думаешь, развод — это навсегда? — спросил Поль, медленно погружаясь в пучину ее темных глаз и не сопротивляясь. — Как брак, пока смерть не разлучит вас?
Розенн снова выпрямилась, и Поль притянул ее к себе так тесно, что их губы оказались на расстоянии одного взмаха крыльев бабочки. Поль ощутил аромат ее духов, запах мыла, которое она всегда держала в комоде со своим бельем. А еще почувствовал, что она только что пила сидр.
Ее ногти впились ему в спину.
— Никчемный негодяй, — прошипела она.
Их танец превратился в любовный поединок, в котором годится любое оружие: унижение и оскорбление, тоска и пытка, эхо нежности, которая в равной мере радует и обижает.
Розенн заметила, что его напряженный член прижимается к ее бедру. Она потерлась о него. Заглянула Полю в глаза, Поль прочитал в ее взоре торжество, похоть и глубокое отчаяние.
Как магниты, которые притягиваются и, сталкиваясь, меняют полюса, а потом снова отталкиваются друг от друга, берут разбег и снова сшибаются — безрассудно, бесстыдно, одержимо, — так они вожделели друг друга.
Полю не нужно было даже смотреть на Сержа, чтобы удостовериться, что происходящее ему очень и очень не по вкусу.
Серж увидел, что Поль задел в Розенн какую-то чувствительную струнку, которую он сам не в силах был даже отыскать. Он так крепко сжал кулаки, что побелели костяшки. Даже когда Поль в танце увел Розенн с мола, во тьму, в ночь, Серж не встал. Не нашел в себе сил.
Колетт не могла оторвать взгляд от лица Сидони. Она ощущала себя эдаким шариком для пинбола, балансирующим на подрагивающем кончике флиппера, который вот-вот метнет его на бампер.
— Да что же это? — спросила Колетт и осознала, что хочет изменить все, даже собственную жизнь. И в первую очередь собственную жизнь. Она ведь могла сложиться совершенно иначе.
— Ты до сих пор не понимаешь? — откликнулась Сидони, и ее глаза налились соленой морской водой. Водой слез.
— Уже слишком поздно? — сказала Колетт.
Не успела Сидони ответить, как раздался звон разбивающегося об асфальт стекла, а затем — крики толпы и яростные вопли мужчины. Сидони вздрогнула от неожиданности.
Это Серж перевернул стол, за которым сидел неподвижно и в оцепенении смотрел, как Поль уводит Розенн во мрак, чтобы предаться с ней любви.
Жанреми, Симон и мясник Лоран из «Антрмарше» сбили беснующегося Сержа с ног и заперли в холодильной камере вместе с запасами барабульки и недопеченных багетов.
Музыканты со сцены пригласили собравшихся станцевать гавот, бертонский хоровод, который получается, только когда танцуют все, все со всеми. Старичок — со своей щеголяющей пирсингом племянницей, бургомистр — с деревенской вдовой, которой вечно перемывают косточки, ее любовник — с женой священника. И все танцуют, сцепившись мизинцами. Мужчины подпрыгивают, женщины кружатся вокруг них одновременно и кокетливо, и нерешительно.
Партнером Паскаль оказался судовой механик из Рагене; он спросил, не одолжит ли она ему добрую ведьму, которую как раз обучает, — чтобы она привела в порядок его сад. Паскаль предположила, что речь о ее садовых граблях, и согласилась, но на всякий случай предупредила, что ей нужно предварительно обсудить это с мужем. Падриг за барной стойкой непрерывно отпускал желающим маленькие бутылочки шушенна, а Жанреми смотрел, как Лорин склоняется к одному из тех парижан, что каждый июль снимают в Порт-Манеке дорогие виллы. Из тех чиновников в дорогих костюмах.
Жанреми с трудом сдерживался, глядя, как Лорин улыбается и кивает парижанину в стильном пиджаке, а тот пожирает ее глазами. Он толкнул Падрига в бок.
— Сходи-ка спроси этого урода, что он хочет выпить.
— Урода? Да он красавчик! — пробормотал Падриг и, пошатываясь, двинулся к наглецу.
Жанреми вспомнил все цветы, которые тайно покупал Лорин. Они теперь лежали в холодильнике, рядом с письмами, которые он писал, с комплиментами, которые так и не решился произнести.
Колетт положила руку на руку Сидони. Ее пальцы обхватили пальцы старой подруги.
Увидев их вместе, заметив выражение их лиц, выдававшее то, что не осмеливались сказать вслух уста, Симон не нашел в себе мужества пригласить Колетт на танец. Он вернулся на борт «Гвен II», унося с собой подарок, который хотел сегодня вместе со своими чувствами положить к ногам Колетт. С последней, отчаянной уверенностью он осознал, что Колетт никогда не станет его гаванью. Сердце Симона разорвалось надвое, как якорная цепь.
После полуночного фейерверка гуляки быстро разбрелись. Мол лежал, словно утомленная возлюбленная, у которой нет сил даже прикрыть простыней свое изнывающее от прикосновений тело. Марианна искала стаканы и бокалы, которые посетители оставили под кустами или забыли на парапете набережной; Янн помог отнести в «Ар Мор» стулья и сейчас сидел с Жанреми за стаканчиком кальвадоса.
Последние бокалы она нашла на опустевшей сцене. Марианна поставила на пол поднос. А потом вышла на середину сцены.
В ней зазвучала песня, которую она сыграла морю, песня о сыне луны. Она стала напевать эту мелодию, воображая, что на ней красное платье и что она играет на аккордеоне. Представляя себе, как потом разгоряченные, улыбающиеся слушатели оборачиваются к ней и аплодируют. Она открыла глаза, и ей стало стыдно, ведь это была неосуществимая мечта.
Янн вышел из дверного проема «Ар Мор», стоя в котором наблюдал за Марианной, протянул ей руку и помог спуститься со сцены. Он привлек ее к себе с силой, которая так ее восхищала. Вплотную. Его тело излучало тепло, и Марианна ощущала это тепло не только кожей, но и глубже. Потом Янн Гаме нежно провел пальцами по ее щекам. Приблизил свой рот к ее губам. Она решила, что не отшатнется, а если бы и попыталась отпрянуть, он бы ее не отпустил. А потом Янн ее поцеловал.
Марианна закрыла глаза, открыла, закрыла снова и отдалась его поцелуям, поцеловала его в ответ, ее охватила жажда целовать его снова и снова. Она походила на опьянение, экстаз, и Марианна не имела сил ей противиться. Только когда она замерзла, они разжали объятия и перестали искать губами друг друга.
Это было мучительно-прекрасно, и, пытаясь различить во взгляде Янна скепсис и настороженность, она видела лишь желание.
Янн отнес найденные бокалы в кухню.
Взглянув на себя в зеркало за полками барной стойки, она на миг увидела молодую девушку, какой была когда-то. Ее губы рдели от поцелуев.
— Я должен тебя написать, — прошептал Янн, подходя к ней сзади. Повторил извиняющимся тоном, словно эта настойчивость пугала его самого: — Должен.
30
Янн и Марианна молча, прильнув друг к другу, взбирались по ступенькам лестницы к ней в «раковину».
Наверху под крышей было тепло; июльское солнце успело как следует нагреть мансарду. Янн зажег семь свечей, которые Марианна еще утром поставила на подоконник.
— Я вижу тебя, — прошептал Янн.
— Темно, ничего не видно, — прошептала в ответ Марианна. В голове у нее воцарилась пустота; о, как ей хотелось переспать с этим мужчиной, во что бы то ни стало. Но все-таки ей было страшно.
Перед ее внутренним взором предстало лицо Лотара. Она усилием воли вытеснила его из памяти. Закрыла в пустой комнате и проглотила ключ. Эта ночь навсегда разлучит ее со всем, что еще оставалось в ней от прежней жизни.
— Я вижу тебя сердцем, — сказал Янн и снял очки. Потом взял блокнот и угольный карандаш.
— Je t’en prie. Прошу тебя.
Она села на пол у окна, прислонившись спиной к стене. Янн зашелестел карандашом по бумаге. Он не различал ее и все-таки видел. Он нарисовал ее анфас. Подошел ближе. Она закрыла глаза. Представила себе, как Янн ее поцелует, прижимаясь губами к ее губам, и она жадно ему ответит.
Янн извел двадцать листов. Все в ней казалось ему неповторимым. Глубоким. Настоящим. Он рисовал Марианну такой, какой ее ощущал.
Она задула свечи. Теперь она была на острове. На собственном Авалоне.
Все остальное утратило смысл: время, пространство, место.
Марианна расстегнула блузку.
Янн наклонился и включил маленькую лампу в стиле модерн, стоявшую на ночном столике.
Марианна поспешно запахнула блузку. Янн замедленным жестом взял ее руки в свои. Отвел ее руки. Его пальцы расстегнули пуговицы на ее блузке, она ощутила их тепло на своей коже. Он глубоко вдохнул и приник взглядом к ее глазам. Ей было так страшно.
— Mon amour… — прошептал он и придвинулся к ней, жадными пальцами помогая расстегивать оставшиеся пуговицы, и когда их руки соприкоснулись, на ее острове поднялась буря. И развеяла ее страх.
Марианну охватило невероятное нетерпение.
— Сейчас, — простонала она, — maintenant!
Они не столько раздевали друг друга, сколько срывали друг с друга одежду, не столько ласкали, сколько впивались друг в друга, и Марианна смотрела, целовала и прикасалась, она хотела одновременно попробовать и испытать все. Глядеть на Янна, созерцать Янна, целовать Янна, привлекать Янна к себе, гладить его по волосам, по лицу, прижимать его руки к своему телу, ощущать его запах.
Несомненно, он хотел увидеть ее обнаженной. Он ее хотел.
Когда Марианна, больше не стыдясь, легла на постель, на ее острове вновь воцарился торжественный покой.
— Ты прекрасна, — прошептал он, дотронувшись до ее спирального родимого пятна. — Это твоя душа. Пламень. Любовь. Сила. Ты — рожденная в пламени!
На сей раз Янн обвел очертания ее тела пальцами и ртом. Он словно заново создавал ее тело своим желанием, и ей показалось, будто под его прикосновениями из ее тела рождается другое. Прекрасное, чувственное женское тело.
Марианна от страсти впилась зубами в подушку. Она смеялась, она стонала, она выкрикивала в ночь его имя, и все-таки он не входил в нее. Он прикасался к ней осторожно и бережно, возбуждая ее, даря ей наслаждение.
Она испытывала такое самозабвение, ей представилось, будто она снова бросается с моста.
Она погладила его тело, ощущая нежность и мягкость его кожи, напрягающиеся под ней крепкие мышцы и мышцы уже несколько обмякшие. Его тело показалось ей прекрасным. Она почувствовала, что Янн тоже боится предстать перед ней обнаженным. Это ее успокоило.
Марианна стала рассматривать его возбужденный член. Он очень подходил ко всей его внешности. Хорошенький, гладкий и очень твердый, с круглой, выпуклой головкой.
Она взяла его в руку и заглянула Янну в глаза, чтобы убедиться, что ему нравится, как она играет с его членом, как она с ним знакомится.
Ему понравилось. Еще как! Они невольно рассмеялись. Они смеялись, обнимались, крепко обхватив друг друга, не переставая целоваться. Они ощущали безудержную радость, нежность и желание.
В конце концов приникнув к ней и медленно войдя в нее, Янн посмотрел ей в глаза и прошептал ее имя, прозвучавшее словно двойной аккорд:
— Марианн. Марианн? Марианн!
А потом — он так глубоко проник в нее, что она ощутила его чресла в своем лоне, — она хрипло простонала:
— Уже!
Ее стон привел его в восхищение.
«Уже. Уже. Уже».
Ее охватил восторг и беспомощный ужас оттого, что она так долго отказывала себе в наслаждении.
— Je t’aime[138], — прошептал Янн и начал двигаться в ней.
Марианна испытывала такую самозабвенную радость, она не узнавала свое тело, а оно чувствовало, двигалось, требовало, обнимало, обвивало и прижималось к Янну. Ей хотелось больше, еще, еще, до конца, прямо сейчас! Никогда уже она не откажется от такого счастья.
Она влюблялась в его стоны, в его желание отдаться ей, в каждое его движение. Словно каждым замедленным, исполненным наслаждения толчком он давал ей понять, как мучительно ждал этого момента, и хотел, чтобы это длилось вечно.
Они посмотрели друг другу в глаза, и Янн улыбнулся, не переставая любить ее.
Внезапно испытав оргазм, который, казалось, возник во всем ее теле — в венерином бугре, где-то в глубине ее лона, во рту, под пупком, — она почувствовала, будто кто-то потянул ее за ноги и увлек в глубокий колодец. Она лежала неподвижно, отдаваясь нахлынувшим на нее волнам. Она застонала. Это были вожделение и скорбь, облегчение и мука. Это был рай.
Янн не сводил с нее глаз и не переставал двигаться. Не переставал.
Когда волны страсти схлынули, Марианна засмеялась, сначала тихонько, а потом все громче, уже не сдерживаясь.
Янн посмотрел на нее, умерил свои толчки, улыбнулся и спросил: «Quoi?»[139] — но она не сумела сказать по-французски, что женщины, если не испытывают оргазма регулярно, начинают вести себя странно, и что она только сейчас это поняла.
Она засмеялась, погладила Янна по лицу, отметив его умное выражение, и произнесла голосом, который ей самой показался чужим: «Encore»[140]. «Я хочу всего сразу, Янн. Познай мое тело. Познай мою душу. Прямо сейчас».
Марианна встала и открыла окно. Шелковисто-прохладный, словно только что вымытый, ночной воздух излился на ее разгоряченную кожу, как снегопад из нежных, легких как перышко снежинок. Она сделала глубокий вдох.
Когда Янн кончил… Mon Dieu! Марианна и не представляла себе, как мужчины могут кончать. Это было… невероятно. Видеть, как Янн отдается в страсти, как он извергает в нее семя, стремясь проникнуть еще глубже, раствориться в ней, исчезнуть, а потом наблюдать миг, когда он успокаивается, возвращается в реальность, было равносильно наркотику. Как он смотрел на нее, как простонал ее имя!
— Можно я тебя нарисую, прямо сейчас? — спросил он, не вставая с постели.
— До и после? — спросила она по-немецки. — Хотите полностью изменить свой имидж? — произнесла она, подражая ведущей рекламного канала. «Такое у меня уже было, — подумала Марианна, — уже было».
Она подала ему изразцовую плитку, которая привела ее сюда, с изображением кердрюкского порта и маленькой красной лодочки под названием «Марианн».
— Поэтому-то я сюда и отправилась. Можно сказать, что твоя кафельная плитка меня сюда позвала.
Он привлек Марианну к себе и обвился вокруг нее; его теплые чресла прижались к ее попе.
— Здесь мы относимся к таким совпадениям серьезно. Очень серьезно, — подчеркнул он. — Это знаки, которые дает нам судьба.
— Именно таких знаков мне и недоставало.
31
Отвергнутый любовник должен заниматься чем-то монотонным и скучным до тех пор, пока не соберется с мыслями. Поэтому Симон тер шкуркой свой старый катер. Много часов подряд. Колетт не желала его знать.
Было это жарким, душным и влажным июльским днем, когда хочется, чтобы под вечер наконец разразилась гроза, из тех, что приносят с собой не только прохладу, но прозрения, откровения, мечты и с потоками воды обрушивают их в людские сердца.
Поль сидел на раскладном стуле. На лице его, как отпечаток козьего копытца в глине, застыло выражение самодовольства; он ощущал себя победителем.
— Любовь частенько выбирает извилистые дороги. Думаю, таких дорог даже больше, чем в Бретани.
Симон мрачно тер шкуркой.
— Вот взять, например, повара. Он думает, никто не знает, что он влюблен в Лорин, а ведь все это знают, кроме самой Лорин. А влюблена ли в него Лорин, она, наверное, и сама не знает.
— Тоже мне знаток женщин выискался, — проворчал Симон.
— Я делю женщин на три категории…
— Как всегда.
— Одни любят влюбляться. Другие любят в себя влюблять. А третьи…
— Вы с Розенн снова вместе?
— Отчасти.
— Иными словами — вы вместе спите.
Симон потянулся и поморщился от боли.
— Я ее любовник.
— Что? Да она же не ушла от Сержа!
— Он ей нравится.
— Но спит она с тобой.
— Это ей нравится еще больше.
— Слушай, неужели ты жизнь прожил и ничему не научился, Поль? Мужчин, которые преподносят себя как любовники, женщины серьезно не воспринимают. Поверь мне. Каждой женщине нужен мужчина, который сказал бы ей: «Ты нужна мне целиком, или давай расстанемся».
— Значит, ты теперь у нас в женщинах разбираешься? То-то я смотрю у тебя с Колетт не очень…
Поль не успел закончить фразу: во двор въехал Жанреми на мотоцикле.
— Ну вот оставь свой снисходительно-покровительственный тон и просвети его насчет женщин, Поль.
Жанреми поздоровался с приятелями и забрал мед, который отложил для него Симон и который нужен был ему для приготовления соусов, особенно любимых парижанами.
— Выпьешь сидра? — предложил Симон, пока Жанреми не сел на мотоцикл, но повар отмахнулся.
— Ты бы хотел стать любовником женщины, которую любишь? — спросил Симон у него из-за спины, словно из засады.
Жанреми перевел взгляд с Поля на Симона.
— Да ну, бред какой-то! Спать можно только с женщиной, которую не любишь, иначе свихнуться можно.
— Ты просто не знаешь жизни, мой юный друг. Вот доживешь до моих лет — и увидишь. Тогда и поймешь, что мужчина может все, если только захочет.
— Ага. Kenavo, — попрощался Жанреми и укатил на своем «триумфе».
Поль и Симон успели в «Ар Мор» к вечерним «Последним известиям». По понедельникам туристов в ресторане не было, и мадам Женевьев Эколлье позволила вынести телевизор на террасу. Жанреми еще не вернулся; она решила, что он бродит по рынкам в поисках подходящего товара.
— А ну не шумите! — одернул приятелей Симон.
— Пора бы тебе, друг, завести собственный телевизор, — предложил Поль. — Они уже пятьдесят лет существуют, им можно доверять.
— Слушайте, а это не Марианн? — показала на экран Сидони.
Симон схватил пульт и сделал звук погромче. Мадам Эколлье оставила бокалы, которые как раз тщательно протирала, а Лорин с метлой подошла поближе.
И вот Мариклод, Колетт, Сидони, Поль, Симон, Лорин и мадам Эколлье услышали голос диктора:
«Разыскивается Марианна Мессман, гражданка Германии. Шестидесятилетняя женщина страдает душевным заболеванием и нуждается во врачебной помощи. Ее муж Лотар Мессман в последний раз видел ее в одной из парижских больниц, откуда она предположительно бежала после двух попыток самоубийства».
Потом показали Лотара Мессмана, он что-то говорил по-немецки. Затем ведущий продолжал:
«Всякий, кто располагает информацией о ее местонахождении, может обратиться в любой полицейский участок или по телефону…»
Мадам Женевьев Эколлье отобрала у Симона пульт, с решительным видом нажала на кнопку и выключила телевизор.
— Нам не нужен этот номер, — заявила Женевьев.
— Но у нее же есть муж! — возразила Сидони.
— Да какой симпатичный… — промурлыкала Мариклод.
— Ну, сумасшедшей она мне не показалась, — поделился своим мнением Симон. — Разве что так, немножко… Как все мы…
— О том, чтобы сдать ее в полицию, не может быть и речи, — отрезал Поль. — Если она сбежала от мужа, значит были причины.
— А она ведь еще назвалась чужим именем. Сказала, что ее зовут Марианна Ланц! — припомнила Мариклод.
— Это ее девичья фамилия, — спокойно уточнила Колетт. — Она взяла себе девичью фамилию, когда оставила мужа.
На какое-то мгновение воцарилась тишина. Потом все наперебой загалдели:
— У нее же ничего при себе не было, кроме сумочки.
— Даже одежды.
— И денег не было. А вдруг он ее бил?
— А какая она была грустная, — вставила Лорин.
— Ну, так что нам делать? — спросила Сидони.
— Лучше всего позвонить на этот телеканал и…
— Вы что, забыли, что вы бретонцы? — перебила Женевьев Эколлье Мариклод.
Поль и Симон тут же синхронно сплюнули на пол.
— Alors, c’est tout![141] Забудем о полиции и о телефонных номерах.
Марианна замерла как вкопанная на пороге ванной, когда из комнаты донесся голос Лотара.
«Я люблю тебя, Марианна. Пожалуйста, сообщи мне, где ты. Даже если ты на меня обижена, мы как-нибудь во всем разберемся. А если ты меня не слышишь, мой ангел, просто позволь тебе помочь. Пожалуйста, дорогие французы, помогите мне найти мою любимую жену. Она не в себе, но я люблю ее, а она меня».
После этого ведущий стал переводить речь Лотара на французский.
Страдает душевным заболеванием. Нуждается во врачебной помощи. Боже мой! Это все из-за открытки, которую она послала Грете! Неужели так она себя выдала?
А Лотар-то какое представление устроил. Как будто тоскует и мучается по-настоящему. Но Марианна уже умела отличать искренность от фальши. Этому ее научил бретонский язык. Марианна не понимала слов, но безошибочно улавливала таящиеся за ними чувства.
А у Лотара за проникновенными речами не скрывалось ничего. «Я люблю тебя!» Он ни разу ей этого не говорил. А когда наконец произнес, будто выдал второсортную копию чувства — вроде поддельной сумочки от «Диор».
Торопливо вернувшись в комнату и даже не высушив волосы после душа, она увидела Янна: тот сидел на постели с ничего не выражающим лицом.
— У тебя есть муж.
Марианна не ответила. Ей надо было побыстрее собраться. Как можно быстрее. Потертый коричневый кожаный чемодан, который она нашла в гардеробе на антресоли, легко открылся. Марианна стала поспешно засовывать туда свою одежду, изразец и остальные вещи.
— Он тебя любит?
— Не знаю.
Она быстро натянула штаны и свитер и спрятала влажные волосы под беретом.
— Куда ты? К нему?
Марианна не ответила. У нее не было ответов на эти вопросы; она знала лишь, что отсюда надо бежать. Прочь от Янна, от которого она скрыла, кто она и откуда; которому не нашла в себе силы сказать, что она всего лишь старушка из Целле, бесцветная и ничем не примечательная, и что не такую он заслуживает.
Она внушала ему, что свободна, но это было не так.
— Марианн, пожалуйста. Mon amour…
Она прижала указательный палец к его красивым, изящно изогнутым губам. Как он смотрел на нее, без очков, в ярких лучах вечернего солнца!.. Боже мой, только что они занимались любовью, страстно, исполненные жадного вожделения. Только что робко взглядывали друг на друга, ведь в резком свете дня было понятно, что они оба уже не молоды, что они пожилые. Но их чувства остались молодыми, в них жили их прежние желания.
И вот на Марианну нахлынула волна жгучего стыда.
«Я изменила мужу».
И ей это понравилось. И она бы снова сделала это, если бы смогла. Но это было невозможно.
Ее терзали эти мысли, но высказать их вслух она была не в силах.
Она надела куртку и кеды. А потом схватилась за ручку чемодана.
— Марианн! — Янн встал, совершенно обнаженный, и с глубокой печалью посмотрел на нее.
— Kenavo, Mariann, — тихо произнес Янн и заключил ее в объятия.
Она обхватила этого человека, одержимого ею так, как никогда не был одержим Лотар, никогда, ни жестом, ни словом не дававший ей понять, что она для него незаменима. Янн же одновременно восхищал ее и пугал. Вот так, в испуге, она бросилась вниз по ступенькам прочь из пансиона.
Когда Марианна выбежала на солнце, ее ошеломила вечерняя насыщенность и интенсивность света, воздуха, ярких красок, повсюду — в древесных кронах, в воде… Она бросила взгляд на открытую дверь кухни.
Жанреми. Она должна предупредить Жанреми, что…
С террасы доносился невнятный гул голосов и пояснения телеведущего. Время от времени она различала собственное имя и поняла, что всем о ней уже все известно. Все знают, что она обманщица, беглянка, безумная самоубийца.
Марианна не решалась показаться им на глаза. К ней подбежал котик и принялся тереться о ее ноги. Марианна обошла его и не стала смотреть в его сторону. И тут кот закричал. Он не мяукал и не шипел, он кричал, издавал хриплый вой, словно заставлял свои голосовые связки породить какой-то звук, отдаленно напоминающий человеческий призыв о помощи.
Не отирая слез, туманивших ее взгляд, Марианна двинулась вдоль по узенькой улочке, которая вела ее прочь от порта, прочь от Янна, прочь от кота и прежде всего от Кердрюка.
Марианна шла быстро, не оглядываясь. Чем больше удалялся от нее Кердрюк, тем сильнее ее охватывало чувство, будто ее зашили в мешок и утопили; ей все труднее и труднее становилось дышать. Ей казалось, что она умирает.
32
На обратном пути в Кердрюк Жанреми неожиданно для себя самого свернул в Роспико, а оттуда в Кераскоэ, построенную пятьсот лет тому назад деревню ткачей с отреставрированными, под тростниковыми крышами, крестьянскими домами, возведенными из стоячих камней.
На околице жила мадам Жильбер. Он въехал на мотоцикле к ней во двор, окруженный соснами; сняв шлем, он расслышал шум моря. Он вспомнил о письмах к Лорин, томящихся и мерзнущих в холодильнике.
Мадам Жильбер отдыхала на террасе, расположенной высоко над прибрежной тропой, и куда невозможно было заглянуть из-за забора, и отдыхала там в полном одиночестве.
— Снимите очки.
Это были первые слова, которые он произнес, после того как он поднял мадам Жильбер с шезлонга и, толкая перед собой всем телом, оттеснил в спальню. Она сняла черные очки, положила на ночной столик рядом с фотографией мужа и прикрыла глаза тыльной стороной ладони, чтобы скрыть морщинки.
Она защищалась от резкого солнечного света синими оконными ставнями. Когда глаза Жанреми привыкли к полумраку, а тело уже вновь и вновь лихорадочно и жадно терлось о мадам Жильбер, он вспомнил о Лорин. Потом он забыл о ней и больше ни о чем не думал, отдавшись несложным ощущениям, а мадам Жильбер время от времени вскрикивала от боли и удивления, пораженная его безрассудным неистовством. Только почувствовав, как стиснули его ее бедра, и поняв, что она кончила, он перестал сдерживаться и тоже достиг оргазма.
Жанреми не любил мадам Жильбер и потому с ней спал. Он уже давно у нее не бывал, примерно с тех пор, как осознал, что действительно влюблен в Лорин. С тех пор он не спал ни с одной женщиной, чтобы сохранить себя для Лорин; бред какой-то. А может быть, и не бред.
Мадам Жильбер не стала спрашивать, где он пропадал два года. У нее было достаточно опыта, чтобы понять, что связь с мужчиной двадцатью годами моложе, который доставлял ей такое наслаждение, не продлится вечно.
Она погладила влажные волосы у него на затылке кончиками ногтей с безупречным маникюром.
Жанреми казалось, будто в ее объятиях он торжественно прощается с чем-то. С некоей идеей, с каким-то вариантом. До этого он пребывал в пограничной области. А теперь вернулся в свою страну, где произрастали недолгие, ни к чему не обязывающие романчики. Ветер подует — и их унесет. По другую сторону располагалась земля любви. Там все было прочно укоренено и готово вынести любую бурю и любой страх. Земля Лорин.
Спать с мадам Жильбер означало больше не отводить любви никакого места в своей жизни.
Она закурила сигарету и подтянула ноги.
— Сегодня еще будет гроза, — сообщила она.
— Мы скоро увидимся? — спросил Жанреми.
— Ты же знаешь мой распорядок, мон шер. Можешь заранее не звонить, так у меня будет время представить себе в красках нашу следующую встречу.
— И что вы будете воображать, мадам? Какие подробности?
Мадам Жильбер привлекла к себе его голову, коснувшись губами его уха; помада у нее размазалась от его поцелуев. А потом она зашептала, чтó она вообразит, и, пока она говорила, он закрыл глаза, а она все не умолкала и не умолкала, и он прижался к ней всем телом и проник в нее, а пока она продолжала в красках описывать свое возбуждение, он кончил во второй раз.
Потом Жанреми подбирал свою одежду, последнее: шлем и шейную косынку — он нашел на террасе возле шезлонга. Кубики льда в ее бокале растаяли и окрасили апельсиновый сок в молочный оттенок.
Когда он склонился к мадам Жильбер, чтобы поцеловать ее на прощанье, она сказала:
— Кстати, сегодня мы отмечаем годовщину свадьбы. Мой муж решил отпраздновать двадцатитрехлетие совместной жизни в «Ар Мор». Оставь нам столик, шери.
Она посмотрела на него непроницаемыми светлыми глазами, круглыми, как шарики для игры в «мрамор», и холодными, как море.
На обратном пути в Кердрюк Жанреми поднял защитный экран шлема. Теперь, когда на глазах у него выступили слезы, он мог не сомневаться, что это от ветра. Ветер, который все изглаживал из памяти и уносил прочь, даже слезы.
Он приехал в «Ар Мор» и прошел мимо Лорин, раскладывавшей на столах приборы к ужину, стараясь не смотреть ей в глаза.
Она негромко окликнула его:
— Жанреми?! Марианна исчезла! По телевизору показали ее мужа, он ее ищет, и сейчас она, наверное, возвращается к нему, Жанреми… Что случилось? Ты плачешь?
Лорин с озабоченным видом сделала шаг к нему.
Жанреми отшатнулся, ведь от него все еще исходил запах секса: духов мадам Жильбер и ее гениталий, к которым он приникал ртом.
Жанреми поспешно скрылся от Лорин за массивным кухонным столом, вымыл над раковиной руки и лицо и сделал вид, будто читает заказы в ресторанной книге.
— Жильберы приедут на ужин, — сказал он, — они заказали столик. Они сегодня отмечают годовщину свадьбы. Надо поставить им букет.
Лорин изумленно воззрилась на него.
— Он только что звонил, — прошептала она.
— Да, я его случайно встретил по дороге, — торопливо пояснил Жанреми. — Значит, он решил для верности еще позвонить.
— Жанреми, мсье Жильбер звонил из парижского аэропорта, — произнесла она голосом хрупким, как тонкое стекло.
После долгого молчания он понял, что Лорин стало ясно: этот вечер он провел у мадам Жильбер.
— Ну что, теперь тебе стоит заплакать, — сказала официантка.
«Пожалуйста, не надо, — безмолвно взмолился Жанреми, — не надо».
И только когда Лорин ушла, он осознал, что, проникая между ляжками мадам Жильбер, потерял сразу двух женщин: Лорин и Марианну.
Жанреми ушел в холодильную камеру, закрыл за собой дверь, разразился проклятиями, сыпал ругательствами, пока не расплакался, и ронял злые слезы на письма, которые написал Лорин, но так и не отослал.
33
Спотыкаясь, она проковыляла четыре километра по шоссе, пока не поняла, что идет не в направлении моря. Она застыла на перекрестке: стрелка направо указывала на Понт-Авен, налево — на Конкарно. Марианна поставила чемодан на землю, села на него и опустила голову на руки. Ей было трудно дышать от боли. Наконец она подняла большой палец, прибегнув ко всем понятному знаку беглецов, одиноких, тех, у кого больше нет сил идти.
Никто не останавливался. Некоторые сигналили. Дрожа, Марианна выше подняла большой палец в пустоту.
Наконец рядом с ней затормозил желтый «рено-кангу». Белокурая женщина с локонами до плеч открыла перед ней дверцу. Марианна пристально вгляделась ей в лицо: вдруг она решила ее подбросить только потому, что видела сюжет в новостях?
Женщина назвалась Аделой Бреливе из Конкарно. «Je m’appelle…»[142] — начала было Марианна и осеклась. Разыскивается Марианна Мессман. Значит, настоящее имя упоминать нельзя. Кроме того, ее раздражала улыбка этой женщины: она словно скалила зубы, и глаза у нее при этом оставались холодными.
— Je m’appelle Maïwenn[143].
— А! Майвенн? Интересное имя, из двух частей: «Мария» и «белая». Белая Мария, — трещала Адела. — Кстати, могу вам сказать, мое имя тоже кое-что означает: «Адела» — это «любовь». — Адела визгливо захихикала.
Все двадцать минут она болтала без умолку, а мимо Марианны пролетали бретонские пейзажи, круговые перекрестки, красно-белые таблички с названиями мест. Слезы неудержимо катились по ее щекам.
Янн. Янн! Ее пронзала боль, как будто ей ампутировали грудь без наркоза.
Адела стрекотала и стрекотала, а Марианна беззвучно плакала.
Наконец они добрались до Конкарно.
Когда они остановились у светофора на рыночной площади возле торговых рядов, Адела через Марианну дотянулась до дверцы, открыла и пожелала ей счастливого пути. Это прозвучало издевательски. Марианна вышла, с трудом вытащила чемодан, и желтый «кангу» унесся прочь.
Марианна еще раз повернулась на месте.
«Ну и куда? Куда мне теперь идти?»
Тут она заметила стаю воронов, устремившихся с берегов Атлантики в сторону материка. Паскаль называла их знаками. Марианна двинулась за ними.
Сначала она вышла на рынок; чемодан показался ей заметно тяжелее. Пройдя рыночную площадь и следуя за стаей воронов, она миновала сначала Маринариум, потом портовый мол и неожиданно вышла к океану — серо-синему, поблескивающему, широко раскинувшемуся. Облака, нависшие над землей, не решались перейти границу берега. Словно невидимая стена разделила небо пополам — на торжественную насыщенную синеву над морем и пухлых белых барашков над сушей.
На два мира.
В ушах у Марианны негромкий рокот моря заглушал безумный стук собственного сердца, словно стремившегося от чего-то убежать. Пройдя метров пятьдесят, она наткнулась на старинную церковь, низенькую, приземистую; ее мощные песчаниковые стены порядком изъела соленая вода.
У суровой паперти виднелась табличка: «Служба теологической поддержки». А рядом с церковью она заметила телефонную будку. Она вошла, отыскала несколько монет, опустила их в щель и набрала номер дома в уютном тупичке в Целле. Сначала в трубке раздался свист, словно от ветра, потом звук изменился, и послышались гудки. Один. Два. После третьего гудка трубку поднял Лотар.
— Мессман слушает!
Марианна прижала ладонь ко рту. Ей показалось, что он совсем рядом!
— Алло?! Мессман!
Замигало цифровое табло, показывая, как каждые десять секунд тают еще десять центов.
Что же ей сказать?
— Да говорите же!
В голове у Марианны воцарилась пустота.
— Марианна? Анни, это ты?
Она не хотела сказать мужу ни единого слова.
— Марианна! Подожди, не клади трубку! Скажи мне, где ты! Я же вижу на дисплее… Ты во Франции? Ты еще в…
Она поспешно положила трубку и вышла из будки. А потом вытерла руку о пальто, словно счищая невидимые следы грязи.
Марианна ступила под своды церкви, прохлада старинных стен остудила ее разгоряченную кожу. Простые полированные скамьи, серебряное распятие над алтарем, модель корабля в углу.
Она осторожно подошла к исповедальне возле ризницы; исповедальня напоминала источенный червем шкаф с тремя дверцами.
— Можно? — прошептала она.
— Пожалуйста, — откликнулся низкий голос из глубины шкафа.
Она отворила левую дверцу, увидела табурет, маленькую скамеечку с фиолетовой бархатной подушкой для преклонения колен. Вошла и закрыла за собой дверцу.
Она вздохнула.
С другой стороны изящной металлической решетки появилось белое и бледное, словно парящее над черным воротничком призрачное лицо.
Послышался ободряющий шепот.
Она откинулась назад. Здесь ей было спокойно. Она была избавлена от вопросов. И от ответов.
Почему она убежала от Янна?
Куда ей идти?
И почему она еще не покончила с собой?
— Я хотела совершить самоубийство, — тихо начала она.
Из-за решетки не донеслось ни звука.
— Черт возьми, я все испортила! Я ведь хотела…
А чего она хотела?
«Хочу жить. Просто жить. Не испытывая страха. Не испытывая сожалений. Хочу иметь друзей. Любить. Хочу что-то делать, хочу работать. Хочу смеяться. Хочу петь. Хочу…»
— Я хочу жить! Хочу жить! — громко повторила Марианна.
По другую сторону решетки белки глаз священника заблестели еще ярче.
— Поймите, у меня есть муж, и я больше не могу его выносить. Я больше не могу с ним жить, меня тошнит от этой жизни. Но я уже не хочу уходить, — прошептала Марианна. — Это было бы… слишком просто.
Шестьдесят. И все равно еще далеко не поздно все изменить. «Никогда не поздно, — думала она, — никогда, даже за час до смерти».
— Я хочу, наконец, хоть раз напиться! — прорычала Марианна уже громче. — Хочу носить красное белье! Хочу иметь семью. Хочу играть на аккордеоне. Хочу свою собственную комнату и свою собственную постель! Мне надоело бесконечно слышать: так не принято, что люди подумают, мало ли чего ты хочешь, мечтать не вредно. Я спятила? Мой муж считает меня сумасшедшей и просил передать это по телевидению! Мне было так стыдно. Я возненавидела его за то, что он заставил меня стыдиться.
И я хочу спать с Янном! Знаете, когда я испытала последний оргазм, перед тем как отдаться Янну, вчера ночью и сегодня днем? И я не знаю, просто не помню, целую вечность тому назад! Я хочу мужчину, которому не все равно, что я чувствую! Я хочу быть с Янном, и заниматься сексом, и есть омара руками!
Она встала и ударилась головой.
— Не хочу бежать из Кердрюка! Вот.
«Нет, из Кердрюка я добровольно не уйду. Пусть хватают меня, связывают и уносят силой».
Она снова упала на табурет, а потом сказала, обращаясь в сторону решетки:
— Спасибо. Вы мне очень помогли.
— Пожалуйста, мадам, — тихо ответил человек за решеткой по-немецки.
Марианна испуганно вскочила и бросилась прочь из шкафа, а священник за ней. Оказалось, что это не католический патер, а мужчина в черном пуловере с высоким воротом, в очках с толстыми стеклами, со светлыми жидкими волосами и с блокнотом в руке.
— Я по полгода живу тут неподалеку, в Кабеллу. Я, вообще-то, из Гамбурга, я писатель. Простите, что не сразу… Но я и сам был поражен, когда вы так решительно вошли. И тут же начали так откровенно… Боже мой, то, что вы говорили, никому и выдумать не под силу!
Марианна уставилась на него.
— Само собой, — сказала она. — Ведь это все правда.
— Интересно, а моя жена тоже так думает? Что меня не интересует, что она чувствует? Вы думаете, что мы, мужчины, не склонны видеть в женщинах женщин?
— У вас есть машина? — вместо этого спросила она.
Писатель кивнул.
— Тогда отвезите меня в Кердрюк.
34
Вернувшись из Конкарно, она застала свою комнату такой же, какой ее оставила: с неубранной постелью, с открытым шкафом, с розами в вазе. Не хватало только Янна. На подушке еще виднелся отпечаток его головы.
Открывавшийся из ее окна вид на причал, на старинные крестьянские дома, на цветные лодки, на тихо колеблющуюся реку, впадающую в море, был таким же, что и в первый раз: столь завораживающе прекрасным, что остальной мир по сравнению с ним непоправимо меркнул.
Марианна снова разобрала громоздкий чемодан, пошла в кухню к Жанреми, повязала передник и как ни в чем не бывало стала замешивать тесто для французских и бретонских блинов.
Жанреми какое-то время смотрел на нее, открыв рот от удивления, а потом засиял.
Войдя в кухню, Женевьев поглядела на Марианну испытующим взглядом.
— Bienvenue… encore[144], — сказала Женевьев Эколлье. — Немалый же путь прошли, чтобы оказаться у нас, на краю света, — заключила она.
— И хочу тут остаться, — ответила Марианна.
— Отлично. Шампанского?
Марианна кивнула. Когда они чокнулись, она произнесла:
— Можно угробить полжизни, просто глядя на человека, который унижал тебя день за днем.
— Это очень по-женски, — помолчав, заметила Женевьев. — Мы видим в этом проявление смелости.
— Когда считаем чью-то жизнь важнее собственной?
— Да. Это рефлекс. Как у двенадцатилетней девочки, которой семья велит знать свое место и, самое главное, никому не мешать, вовремя накрывать отцу на стол и убирать грязную посуду, и вот она хорошо себя ведет и ждет, когда ее полюбят.
— Глупость какая.
— Но вы ведь не всегда так думали, правда? Вы раньше тоже вели себя глупо и сами этого не замечали. Уважали только других и их желания, а себя и в грош не ставили.
Марианна подумала о Лотаре и кивнула.
— Вы очень изменились, — прервала Женевьев Эколлье течение ее мыслей.
— Люди никогда не меняются! — горячо возразила Марианна. — Мы просто забываем себя, какие мы есть. А когда вновь открываем, то думаем, будто изменились. Но это не так. Мечты нельзя изменить, их можно только притупить, заглушить, убить. А из некоторых получаются превосходные убийцы.
— Вы воскресили свои мечты, мадам Ланс?
— Некоторые свои мечты я пока не нашла, — прошептала Марианна. «И ту часть души, которая осмелилась бы эту мечту принять. О Янн, прости меня. Прости».
— А где, собственно, Лорин? — спросила она, пытаясь вернуть самообладание.
— На собеседовании. В Розбра.
— Что? Как это?
Женевьев поджала губы и вышла из кухни. Марианна нашла Жанреми у задней двери. Он курил марихуану. Она стала перед ним, уперев руки в бока.
— Что. Ты. Наделал? — С каждым словом градус ее гнева все рос и рос.
Жанреми выпустил колечко дыма.
— Переспал с другой женщиной, — подчеркнуто небрежно ответил он. — Так лучше. Я не создан быть с одной женщиной. Тем более с такой, как Лорин.
Марианна размахнулась и дала повару звонкую пощечину, выбив у него из руки косяк.
Лицо у него исказилось от подавляемой ярости. Потом он снова поднял косяк, скрыв недовольство за непроницаемой миной.
— У Янна Гаме вид тоже был не особенно счастливый, когда ты ушла.
Марианна устало опустилась рядом с Жанреми на каменные ступени.
— Знаете, Марианна, что делают мужчины, когда им плохо? Они пьют. Они спят с другими женщинами, если, несмотря на всю боль и отчаяние, у них еще стоит. А потом ждут, что будет лучше.
Жанреми протянул Марианне косяк. Та неглубоко затянулась. И еще раз, уже глубже.
— Merde, — уныло сказала она.
— Ya, — согласился Жанреми.
35
Напряжение, злость на Жанреми, муки неразделенной любви — все это окрасило щеки Лорин горячим румянцем. Передавая Алену Пуатье первоклассный отзыв, который с непроницаемым лицом выдала ей Женевьев, официантка опустила взгляд.
Когда Жанреми разоблачил себя, ее охватило чувство, будто с ней произошел несчастный случай, после которого ей ампутировали душу. И кровотечение не прекращалось.
Ален недоверчиво разглядывал ее.
— Мадемуазель… Вы же несколько лет проработали в «Ар Мор», я не ошибаюсь?..
— Конечно, вы же знаете, мсье Пуатье. А я знаю, что вам принадлежит ресторан в Розбра. Что вы конкурент мадам Эколлье. Что вы постоянно осложняете ей жизнь. Но я хотела оттуда уйти, и вот теперь я здесь.
Алена поразила честность и безыскусная простота Лорин.
— Это она… она так говорит? Что я осложняю ей жизнь?
— Она ничего про вас не говорит, мсье. Ни плохого, ни хорошего. Ничего.
Ален не ожидал, что слова Лорин так его заденут.
Геновева… Это было так давно. Но в его воспоминаниях это случилось будто вчера.
Он влюбился в Женевьев Эколлье с первого взгляда. Ей было двадцать пять, Алену — двадцать восемь, и душным, жарким летним днем она поразила его в самое сердце, заставив забыть обо всех прежних желаниях, стремлениях, мечтах.
Тем летним днем Женевьев Эколлье праздновала свою помолвку. С братом Алена Робером.
Ален специально приехал из Ренна, чтобы посмотреть на женщину, о которой Робер столько рассказывал по телефону и в своих невинных, восторженных письмах.
Ален мало ему верил и ожидал, что Роберу вскружила голову непривлекательная крестьянская девица.
Но Женевьев Эколлье ничем не походила на этот образ. Она была исполнена вызывающей чувственности и жизненной силы, с полными пурпурными губами и темными глазами, которые словно впивались в мужчину, пока он не слышал звон собственного разбитого сердца.
Весь вечер Ален молчал. Он был в ярости. На Робера, который не солгал ему, описывая свою невесту, и на Женевьев. За то, что она была такая, как есть, и не делала ничего, чтобы влюбить его в себя, но и ничего, чтобы помешать ему влюбиться. Он смотрел, как она обращается с Робером, нежно и предупредительно. Со своими родителями. С его родителями. Ей удалось так расположить к себе его строгую мать, не доверявшую ни одной женщине, которая осмеливалась приблизиться к ее сыновьям, что она стала видеть в ней дочь и в свою очередь защищать ее от истинных и мнимых мужских посягательств. А его отец, который вел себя так, словно это ему лично принадлежит заслуга — найти среднему сыну такую жену, он проявлял по отношению к Женевьев почти рабскую преданность.
Позднее Ален собрал все свое мужество и всю свою ярость и пригласил Женевьев на танец.
Если прежде Ален был только вне себя, то в тот миг, когда тело Женевьев под красным платьем почти вплотную прижалось к нему, погиб безвозвратно. Они не сказали друг ни слова, они только смотрели друг на друга, и во время этого танца их дыхание участилось. Кончиками пальцев он ощущал под шелком платья ее теплую кожу и чувствовал жар, исходящий от ее взгляда и ее лона. Они не могли произнести ни слова, которое язык их взглядов и их рук не счел бы ложью.
Чем дольше они безмолвно танцевали, тем труднее становилось подыскивать слова.
Однако он осознавал, что оба они, вопреки разуму, испытывают одно желание: Я. Тебя. Хочу.
Да. Возьми. Меня.
Это желание, овладевшее обоими в унисон, его и доконало.
Ален всегда считался в семье героем; он выигрывал любую битву и никогда не скрывал своих намерений. Ален никогда не прибегал ко лжи или обману, чтобы добиться цели.
С Женевьев он утратил славу героя, он потерял все и вступил в сражение, где ему предстояло принести в жертву собственную душу.
Все это Ален не формулировал в словах, но ощущал инстинктивно, прислушиваясь к шепоту совести, когда кружился с Женевьев под музыку в зале. В том самом зале, где до сих пор висела картина-панорама, охватывающая всю стену и изображающая пансион «Ар Мор», каким он был в старину.
Впоследствии Женевьев купила этот отель, словно хотела скрыть от чужих взглядов то, что произошло там в тот вечер.
Молодым, еще ничего не знающим о любви и о том, как устроен мир, свойственно воображать глупости и совершать глупости. Конечно, никто не мог бы сказать, что Женевьев, его Женевьев, глупа. Нет, это Ален был глуп. Но Ален полюбил невесту своего брата искренней и чистой любовью.
А она? Женевьев была настолько умна, что не сразу приняла его любовь. Она походила на бретонский июль. С его долгими днями, которые не хотят уступать ночи и до полуночи растягивают свои светлые полотнища, бросая вызов тьме.
Ален с безрассудством юности добивался своего. Он преследовал ее своим вожделением, затоплял своей любовью, соблазнял своим желанием. Эта страсть грозила поглотить обоих, и спустя месяц Женевьев сдалась.
Алену и Женевьев было отпущено три лета. Три осени, две зимы, две весны. Они любили друг друга отчаянно, искренне, глубоко. Они откладывали окончательное решение из страха утратить свою любовь. Ни один из них не находил в себе сил сказать правду Роберу. Тот был призван во флот, исчез на несколько месяцев, и Ален и Женевьев наслаждались свободой.
А потом все открылось. В день, когда дул восхитительный, пронизывающий юго-западный ветер.
Робер приехал домой на три дня раньше, чем ожидалось; корабль, на котором он служил, пришлось прежде назначенного срока отвести в док. Невесту он застал в объятиях своего старшего брата на полу ее кухни в Трегюнке. Они его даже не заметили. Робер наблюдал за ними достаточно долго, чтобы понять, что это происходит не впервые. А еще — что при этом они чувствуют то, чего сам он никогда не испытывал, никогда не переживал с Женевьев и никогда не переживет.
Он перешагнул через их сплетенные ноги, открыл холодильник и налил себе сидра.
И тут Ален все испортил.
Он хотел вернуть Женевьев Роберу, умолял его, говорил, что свадьба все равно состоится через десять дней. А «это» (он показал на пол) «больше не повторится».
Женевьев молча взирала на Алена, пока тот умолял младшего брата забрать Женевьев.
Женевьев встала, как была, обнаженная, и дала Алену пощечину. А потом еще одну.
Роберу она прошипела: «Свадьбы не будет». Подобрала свою одежду, схватила туфли и нагая выбежала навстречу юго-западному ветру.
Только тут Ален осознал, что предал свою любовь из-за собственной глупости, стремясь загладить вину. В решающий миг Ален склонился перед угрызениями совести и страхом. А она нет: Женевьев сохранила верность их любви.
Спустя двенадцать лет после их последнего поцелуя на кухонном полу Ален переехал в Розбра. Вот уже двадцать три года он жил на другом берегу Авена. Вот уже тридцать пять лет Женевьев не прощала ему предательства.
Ален бросил взгляд на Лорин; ей было примерно столько же лет, сколько Женевьев, когда они безоглядно влюбились друг в друга и думали, что это они придумали любовь.
Он надеялся, что Лорин не свяжется с таким идиотом, каким он был когда-то.
— Вы влюблены? — спросил Ален Пуатье.
— Сейчас нет, — нерешительно призналась она. — А может быть, и да. Но я не хочу влюбляться. Больше не хочу.
— Мне нужен хороший персонал, — сказал Ален.
— Можно начать прямо сейчас?
36
Сначала в воздухе появился запах пыли и электричества. Потом шквалы понеслись из-за углов, задули в дверные щели, стали срывать скатерти со столиков на террасе «Ар Мор», опрокидывать наземь бокалы и стаканы, и те со звоном разбивались. Было это вечером, в начале двенадцатого.
Старые бретонцы запирали ставни на крючок и загоняли скотину в стойло; мужчины обходили дома в поисках незакрепленных вещей, которые мог унести порыв ветра. Они наклонялись, идя против ветра, словно пытались на него опереться. Дети и кошки пугались, даже если не помнили, что случилось десять лет тому назад, утром, во второй день Рождества 1999 года, когда над Бретанью пронесся ураган и смёл все, что мог найти, словно проигравший — игральные кости со стола. Это был самый страшный ураган со времен начала наблюдений за погодой. Ему дали имя Лотар.
Тучи нависли низкие и черные, первые капли дождя хлынули — плотные и тяжелые, как кровь.
Жанреми, мадам Женевьев Эколлье, мадам Жильбер и ее муж, а также Падриг и Марианна укрылись в «Ар Мор».
Жанреми не осмеливался поднять на мадам Жильбер глаза.
— Вам нельзя сейчас ехать, — сказала мадам Женевьев супругам Жильбер. Ей пришлось повысить голос, чтобы перекричать стук дождя в оконные стекла.
— У вас найдется номер люкс? — спросил мсье Жильбер.
Он был этнопсихолог и гордился тем, что укладывает на кушетку целые народы. В поджогах машин, охотно учиняемых парижскими мигрантами, он видел проявление депрессии, охватившей их при столкновении с чуждой культурой Запада. Мадам Жильбер выпустила струйку дыма между красных, ярко накрашенных губ.
— С огромной постелью, с ванной для двоих и с зеркалом на потолке, — улыбнулась мадам Жильбер.
— Такой номер в наш праздник был бы очень и очень кстати, не правда ли, ma tigresse?[145] — спросил мсье Жильбер у жены, и она улыбнулась и обняла мужа, над его плечом глядя в глаза Жанреми.
Мадам Женевьев придвинула им по столу ключ.
Раздавались мощные удары грома, а за ними — грохот, сопровождаемый шипением; набережную вновь и вновь освещали яркие молнии. Электрический свет на минуту словно вспыхнул, а потом погас. Теперь мрак в «Ар Мор» рассеивали только свечи на столиках. В интимной полутьме Жанреми заметил, как Жильбер ощупывает задницу своей жены.
И тут дверь со стуком распахнулась — и на пороге появилась Лорин. Она вымокла до нитки, под блузкой у нее отчетливо обозначились соски. Падриг жадно уставился на нее, мсье Жильбер жадно уставился на нее, и Жанреми захотелось всех их передушить.
— Падриг! — в ярости крикнул Жанреми. — Помоги мне в кухне. Мне надо включить запасной генератор.
Дождь забарабанил по стеклам с такой силой, что мадам Женевьев снова пришлось его перекрикивать.
— Давайте еще по кальвадосу, хоть согреемся.
Она налила шесть рюмок.
На небе воздвиглись черно-красные облачные горы. Молния разрезала полотнище неба словно ножницами.
Жанреми с Падригом запустили генератор, и свет снова вспыхнул; мрачное, чувственное волшебство, только что наполнявшее комнату, рассеялось в немилосердно резком неоновом освещении.
— А это еще что такое? — спросил Падриг и показал на припрятанный в холодильнике ящик с цветами и пачками писем.
Жанреми, не говоря ни слова, поднес к его лицу конверты. На каждом значилось имя Лорин и дата. Десятки любовных писем.
— И ты, идиот, так ей их и не отослал?
— А теперь не смогу. Я ее обидел. Все это… теперь для нее ничего не значит.
Падриг устало покачал головой.
Лорин надела куртку и достала все остальные свои вещи из узкого одностворчатого шкафчика в служебном туалете.
— Ты не отвезешь меня домой, Падриг? — попросила она.
Жанреми она не удостоила и взглядом.
Мадам Жильбер наблюдала за Жанреми, а мсье Жильбер любовался своей женой и улыбался, как будто все ему давным-давно известно и он со всем смирился. Он залпом выпил «kalva».
По-прежнему грохотал гром, струи дождя падали почти отвесно, рассекая воздух; за его туманной стеной исчезли Падриг с Лорин, а мадам Жильбер с мужем и мадам Женевьев, съежившись под громовыми раскатами, бросились ко входу в пансион.
Жанреми с Марианной остались в кухне одни, если не считать бутылки кальвадоса и ящика неотправленных писем.
— Так это вот и была «другая женщина»? — наконец спросила Марианна.
Жанреми кивнул и оперся подбородком на руки. Потом он налил до краев две рюмки.
Всползая по лестнице к себе в «раковину», Марианна решила, что следующий день должна начать с извинений. Просить прощения надо у всех. За то, что сюда явилась, за то, что бежала, и за то, что солгала.
И только лежа в постели, но спустив одну ногу на пол, чтобы комната так сильно не вращалась, она вспомнила, что не дала коту имя. Он должен принадлежат ей. Его скитальческая душа, наверное, обрела в ней свой дом.
— Спокойной ночи, Макс, — прошептала Марианна во мрак.
Кот замурлыкал.
37
Неужели самые суровые сердца не обнаруживают свою истинную сущность, когда разбиваются?
Сидони почувствовала, как в ней вздымается что-то, о чем она, казалось, давным-давно забыла. Слезы. Одну слезинку, сползающую по щеке, она поймала и стала разглядывать свои грубые, потрескавшиеся пальцы.
Она не расслышала, как в дверь мастерской кто-то постучал.
— Ау! Есть тут кто?
Когда Марианна подошла поближе, Сидони положила две половинки разбитого каменного сердца на результаты анализов и недописанное завещание и проворно отерла глаза тыльной стороной запястий.
Улыбка исчезла с лица Марианны. Вместо этого на лице ее появилась озабоченность.
— Что случилось? — спросила она, указывая на заплаканные глаза Сидони.
— Ничего, — ответила та. — Это все… пыль. И солнце.
«И смерть, и любовь».
Марианна большими шагами прошла по мастерской, поставила на стол корзину с продуктами для Гуашонов и пакетиком шоколадных конфет, похожих на мелкую гальку для скульпторши, и заключила Сидони в объятия. Та была настолько поражена, что не успела воспротивиться.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что Марианна заставляет Сидони танцевать: Марианна обнимала ее, а Сидони безвольно опустила руки вдоль тела и только положила голову Марианне на плечо, и обе они при каждом шаге покачивались из стороны в сторону.
И тут Сидони заплакала, сначала тихо, потом неудержимо, так что ей пришлось схватиться за Марианну, чтобы не упасть от истерического плача. К ее рыданиям примешивались слова, которые должны были все объяснить. Сидони чувствовала, как объятия Марианны, руки Марианны у нее на спине извлекают что-то из глубин ее тела, высвобождают бешеный поток страха, боли, скорби и гнева, противящегося несправедливости смерти.
Марианна ощутила, как волнение Сидони накатывает на нее, словно мощный приливный вал. А проведя кончиками пальцев, точно сенсорными датчиками, на расстоянии нескольких миллиметров над приземистым телом скульпторши, безошибочно «нащупала» пульсирующие очаги воспаления. Пальцами она увидела то, что никогда не смогла бы различить глазами.
Сидони несколько раз повторила слово «рак» и показала на разные части тела: на грудь, голову, почки, лоно.
Рак был повсюду. Он десятилетиями дремал в ее теле и за несколько месяцев взорвал его изнутри.
Ладони у Марианны жгло. Она ощутила во рту вкус железа и снова привлекла Сидони к себе.
Сидони внезапно успокоилась. Словно до последней капли истратила отпущенное ей количество слез. Теперь Марианна стала покачивать ее, как ребенка, напевая какую-то мелодию, пока Сидони не перестала дрожать. Тогда она подвела ее к креслу в углу мастерской, усадила, а сама выскользнула в кухню заварить чай.
Заметив на полке бутылку коньяка, она выключила газ под чайником и налила алкоголь в чайные чашки. Одну до краев. Эту она подала Сидони.
— До дна! — приказала она Сидони.
Постепенно она выпытала у Сидони, давно ли та знает (давно), кто еще знает о ее недуге (никто, кроме нее, Марианны) и что Сидони намерена никому об этом не рассказывать. Даже своим детям, Камилле и Жерому, а то они еще решат, что обязаны на несколько месяцев отказаться от привычного образа жизни и взять на себя бремя ухаживать за умирающей матерью. Даже Колетт, ни в коем случае — Колетт!
— А почему ни в коем случае не говорить Колетт? Я думала, вы… подруги.
— Да, мы подруги. Только подруги.
Услышав, как произносит Сидони слово «seulement»[146], Марианна насторожилась.
— Seulement la grenouille s’est trompée de conte — это только лягушка в сказке ошибается, — тихо процитировала Марианна одну из бесчисленных поговорок, которым научила ее Паскаль.
Сидони уставилась на Марианну.
— Я лягушка на стене, — сказала она наконец. — Я не превращусь в принца. Не превращусь даже в болонку принцессы. Я люблю Колетт. Она любит мужчин. Это все.
— Это все? Но это же… ужасно!
Сидони пожала плечами.
— Вы должны сказать ей, Сидони!
— Что сказать?
— Все!
— И не подумаю.
— Вы что, хотите просто лечь и… умереть?
Сидони закрыла глаза. Когда сам знаешь, что скоро умрешь, — это одно. Когда другой говорит, что ты скоро умрешь, — это совсем другое. Еще хуже. Когда о твоей скорой смерти упоминает другой, эта мрачная перспектива обретает реальные очертания.
— Вот именно. Взять и умереть. И все.
Марианна перевела дыхание. «D’accord»[147], — сказала она и встала налить еще коньяка.
Сидони поставила пластинку, и мастерскую наполнил голос Шевалье. Когда она двинулась к столу, ее пронзила уже знакомая боль, но на сей раз более сильная. Началось уничтожение. Она схватилась за стул, стул упал, ударился о стол и столкнул на пол разбитое каменное сердце.
Глубоко и равномерно дыша, Сидони подождала, пока приступ боли не прошел. Марианна наклонилась поднять половинки сердца. Оказалось, камень что-то скрывает: внутри он отливал красным и слегка мерцал синевой.
Марианна уложила Сидони в постель.
— Зачем вы, собственно, ко мне пришли? — спросила скульпторша.
— Попросить извинения.
— Но… за что же?
— За то, что всех обманула. За то, что была замужем, и за то, что… За то, что я не та, за кого себя выдавала.
— Да, но… Вы же до сих пор — вы сами?
— Да, — ответила Марианна, — да.
«Но я себя забыла».
Выйдя от Сидони, Марианна, гонимая внутренним беспокойством, поехала в Понт-Авен. Ей нестерпимо хотелось укрыться в объятиях Янна.
Но она не могла этого сделать, ведь ему она нанесла самое тяжкое оскорбление; неужели она смела надеяться, что он об этом забудет? Нет, он отвергнет ее, как надлежит человеку чести, да и просто всякому, кто не утратил рассудок.
Марианна свернула к галерее Колетт, затормозила и стала подчеркнуто терпеливо ждать, пока та не даст консультацию группе туристов из Гамбурга. Когда они ушли, Марианна перевернула табличку на дверях, объявив потенциальным посетителям: «fermé» — «закрыто».
Для начала Марианна пробормотала извинения, но Колетт только махнула рукой, в которой была зажата сигарета в элегантном мундштуке. Терзаниям Марианны она придавала не больше значения, чем дыму, вяло уходившему в оконные щели.
— Неужели вы еще не поняли, — сказала галеристка, — что мы вас любим?
Марианна улыбнулась. Потом она произнесла те скорбные слова, ради которых и приехала к Колетт, — сообщила ей, что ее подруга Сидони умирает.
Колетт опустилась на стул позади секретера филигранной работы. Только по тому, как вздрагивают ее плечи, Марианна поняла, что Колетт плачет. Она оплакивала все те годы, что провела в разлуке с Сидони, оплакивала тот краткий срок, что еще был им отпущен на то, чтобы как-то возместить ушедшее безвозвратно.
Марианна перестала ощущать действие коньяка; вместе с отрезвлением ее охватил стыд оттого, что она позволила себе вмешаться в чужую жизнь.
— Merci, — произнесла Колетт глуховатым от слез голосом. — Merci. Она сама никогда бы мне этого не сказала. Она именно такая. Она никогда не хотела ничем усложнять жизнь другим, все держала в себе.
В этот день табличка «ouvert»[148] на двери больше не появилась.
Да и в последующие недели и месяцы тоже.
38
Возвышенные души можно распознать по тому, что они не обижаются на совершивших ошибки и промахи и никогда за них не мстят.
Когда Марианна слезла с «веспы», Паскаль бросилась к ней с распростертыми объятиями.
— О господи! Я его видела в телевизоре! Надеюсь, он там так и останется и больше не выйдет! — Она обняла Марианну. — Эмиль говорит: он скользкий какой-то, — прошептала она Марианне на ухо.
Ее муж только сухо кивнул, когда Марианна вошла в библиотеку. А потом протянул ей список покупок.
Едва Марианна начала произносить заранее продуманные извинения, Эмиль предупреждающе поднял руку.
— Вы же не дурочка, Марианн Ланс. Перестаньте притворяться. Это не вы его предали. Это он вас предал. Он должен был давным-давно отпустить вас и оставить в покое, а не выставлять на посмешище перед всем народом. Понятно вам это, упрямица?
«Таким я его еще не видела».
— Мужчина, который любит женщину, ради нее пройдет босиком всю Африку. Будет ее упорно искать, а не станет, как последний идиот, перед камерой и не начнет плакаться, что вот, мол, она пропала.
Он хотел еще добавить, что яйца этому идиоту тоже бы не помешали, но передумал. В беседе с дамами не следовало упоминать о гениталиях. Вместо этого он протянул ей список и ключи.
В «Антрмарше» она не сразу заметила что-то странное. Только когда Лоран доверительным шепотом спросил, не припасать ли впредь для нее «особый товар», она насторожилась и ей сделалось не по себе.
— Может быть, сердца? — Маленький черноусый толстяк с заговорщицким видом наклонился к ней через прилавок. — Оленьи, говяжьи, собачьи сердца, если понадобятся? Или… может быть, пару куриных косточек?
Он явно испытал разочарование, когда Марианна заказала только филе для собак и нарезанную грудинку, из которой собиралась сварить Гуашонам густой немецкий суп-айнтопф.
Когда во фруктовом отделе Марианна стала принюхиваться к дыням и тереть друг о друга стебли греческой спаржи, чтобы по скрипу определить, насколько она свежая, к ней подошла одна из продавщиц.
— Вам это нужно в качестве… афродизиака? — спросила она. На лице ее застыло выражение благоговения, робости и надежды.
Поход в магазин превратился в пытку, но почему — Марианна так и не поняла. Мадам Камю за сырным прилавком, мадемуазель Брюно за кассой и даже уборщица-марокканка Амели забросали ее вопросами:
— Я познакомлюсь в эти выходные с любовью всей своей жизни? Он мне подходит? Соглашаться на все, что мой муж требует в постели?
Марианна решила ответить поговорками, которым научила ее Паскаль:
— Горстка любви лучше, чем полная печь хлеба. Если как следует сжать нос, польется молоко. Не пытайся выпить море.
Ее ответы были встречены кивками и благодарными улыбками.
Обо всем этом она потом со смехом рассказывала Паскаль, маринуя гуляш в паприке.
Паскаль считала, что это не смешно.
— Я так и знала, что это произойдет. Но не думала, что так скоро. Когда о вас рассказали по телевизору, у них, наверное, что-то защелкнулось в голове.
— Защелкнулось?
— Лоран ведь стал предлагать вам сердца, правда? Вполне типично. А потом в качестве ответной услуги попросил бы освятить его машину. Или поколдовать над его детьми, чтобы приносили из школы одни пятерки. Или сварить ему какое-нибудь зелье, чтобы он потом подмешал его жене и та забыла в спальне свою обычную скованность.
— Не понимаю.
— Я тоже, но, кажется, местные надеются, что ты — добрая ведьма.
Марианна заметила, что Паскаль впервые обратилась к ней на «ты».
— Они начнут на рынках оборачиваться и глядеть тебе вслед или станут к тебе притрагиваться.
— Что? Но я же не похожа на ведьму!
— Еще как похожа. Ты иностранка. Ты живешь одна. Твою фотографию показали по телевизору, а телевидение — это магия, против которой мы бессильны. Для них ты женщина, посвятившая себя богиням моря и любви.
— Ох! И еще богиням… Почему бы мне уж тогда не быть просто… садовой ведьмой?
— Потому что мы подруги. Они думают, что я учу тебя своему волшебству. А я специализировалась на любви. Но мы же обе знаем, что твоя сила в другом, ведь правда?
— Правда.
— Она в твоих руках, Марианн. Разве ты не знаешь, что ты целительница? Откуда бы у тебя, по-твоему, взялось это родимое пятно?
Марианна опустила взгляд на свои пальцы, которые как раз замешивали тесто для клецок по-швабски с тушеным луком и тертым сыром.
— Я не очень понимаю, что мне по силам, — нерешительно пояснила она.
— Иногда другие раньше нас самих распознают наши способности. — Паскаль нежно положила руку Марианне на щеку. — Янн первым увидел твой дар. Ты знала, что он может ощущать вкус цвета и даже слышать его? Он наделен синэстетическим восприятием мира. Он ощущает вещи, которые никто из нас не в силах увидеть или почувствовать. А потом он переносит их на холст. Ты же сама это видела — на изразце. Ты поняла, чтó он увидел, не зная этого умом. Вы чувствуете одинаково.
— Я так его обидела!
— Я знаю, Марианн. Я знаю.
Женщины теперь повернулись спиной друг к другу.
— Когда ты пойдешь к нему?
«Когда меня уже не будут так пугать детали нашей предстоящей встречи», — хотела было ответить Марианна, но тогда ей пришлось бы объяснять Паскаль и многое другое. Например, почему она не может сказать: «Янн, я тебя люблю».
Не потому, что она его не любит. На вопрос, любит ли она его, легко было ответить: да!
В любви есть только «да» и «нет». «Не знаю» не бывает. «Может быть» не бывает. Все это завуалированное «нет».
Но произнести: «Я люблю тебя» — Марианна не могла.
Потому что это признание неизбежно влекло за собой необходимость выбора. «А как же дальше, мы переедем ко мне или к тебе, снимем дом, поедем зимой в Рим и куда поставим блюдца?»
Это признание чем-то напоминало вариант того, что Марианна отринула, отказавшись говорить по телефону с Лотаром из Конкарно. Ей нравилась женщина, в которую она превращалась. Которая перестала прятаться. Которая ночевала в собственной комнате и сама решала, что и как делать. Которая не хотела вешать мокрые полотенца Янна, или подбирать его брошенные рубашки, пока он пишет картины, или ставить его чайную чашку в раковину, чтобы потом вымыть. Которая не хотела еще в понедельник ломать себе голову, что подать на обед в среду.
Пока ни один из них не произнес: «Я тебя люблю». Ни один из них не взял на себя никаких обязательств и не был связан бытом. Брать на себя обязательства из любви — последнее, чего хотелось Марианне.
Проклятые детали! Она их слишком хорошо знала и подозревала, что если не остережется, то станет женой… будет частью общности под названием «мы», где все решает мужчина. Эта часть ей в себе не особенно нравилась.
«Но Янн не Лотар». Это правда. Янн не был Лотаром.
Но она сохранила в себе слишком многое от той, прежней Марианны. Она боялась, что на свободе долго не проживет.
Три часа спустя, вернувшись в гостиницу, она увидела знакомое, дорогое лицо: вместе с Женевьев Эколлье за бокалом шампанского ее поджидала Грета Кёстер, обмахиваясь по вечерней жаре той самой открыткой, которую Марианна послала ей в день своего назначенного самоубийства.
— Жалко, если бы все ограничивалось смертью и походом в потустороннюю парикмахерскую, — сказала бывшая соседка Марианны, и женщины сердечно обнялись.
Потом Грета Кёстер чуть-чуть отстранила Марианну от себя:
— Черт, вы прекрасно выглядите. Как его зовут?
39
Она возобновила свои утренние прогулки. Но теперь стала ездить на пляж на «веспе». Каждое утро Марианна выезжала на пляж Таити, чтобы поупражняться в игре на аккордеоне в лучах юного восхода.
Но все-таки ее не покидало беспокойство. Ею владела настороженность. Она вздрагивала от каждого шума мотора, ожидая, что это Лотар и что он заставит ее вернуться в Целле.
Солнце взошло, и море заискрилось в его лучах. Марианна стояла, обняв аккордеон, и смотрела на танцующее море огней.
«Никогда. Никогда больше я с этим не расстанусь».
Она вспомнила фразу, которую вдолбила ей Паскаль, и прошептала, повторяя слова подруги: «Est-ce que je rêve seulement de toi, ou c’est déjà plus qu’un rêve?» Ты мне снишься или это уже нечто большее, чем сон?
«Ты наконец-то проснулась», — прошептал у нее в душе голос моря.
Волны показались ей размытыми, нечеткими, словно на морские валы перенеслись туманы Авалона; на обратном пути на сушу эти туманы будут обмениваться историями о том, что видели в своих странствиях.
«Люблю ли я Янна так же, как он, по-видимому, любит меня?»
Море ответило, но на сей раз Марианна не поняла его слов. Море было огромным, а Марианна виделась себе маленькой и ничтожной.
Марианна любила руки Янна и ту молодость, что он излучал за мольбертом. Она любила его глаза, в которых, будь она мореплавательницей, смогла бы различить соленые пучины, водовороты и течения, шторма и приливы. Она любила, что он никогда не упорствовал, если они расходились во мнениях (а это случалось редко), любила его за то безусловное внимание, которым он ее окружал. А то, что они делали, оставшись наедине… Он умел заставить ее поверить, что она красива, чувственна и желанна. Своими прикосновениями он заставлял ее забыть обо всех нелепых и смешных признаках старости, о плоти, утратившей гладкость, и о морщинах, в которых затаились тени пережитых лет. А его…
«Ну скажи. Трусиха. Ты ведь никогда прежде не говорила о физической любви и ни от кого не требовала произносить слов, описывающих ее. Скажи, наконец, как называется эта штука!»
«Член».
«Ну вот, пожалуйста. Все-таки сумела сказать вслух. Так, значит, что же он делает своим?..»
«Членом!»
Да, членом француза, нет, бретонца, немножко слишком большим, прекрасным и при каждом движении причинявшим почти боль и обещавшим наслаждение. Сердце, член, глаза Янна обращались к ней, когда Янн на нее смотрел. И это — быть желанной — Марианне тоже нравилось. Ей нравилось, что в ней видят женщину.
«Я искала смерти, но в поисках гибели обрела жизнь».
«Сколько окольных, обходных и просто ложных путей должна пройти женщина, пока не найдет свой собственный, — а все потому, что слишком рано учится подлаживаться под принятые нормы, слишком рано учится руководствоваться моральным кодексом, придуманным болтливыми стариками и их пособницами, матерями, которые желают, чтобы их дочери достойно себя вели. А потом эти несчастные дочери попусту теряют драгоценное время, во всем сдерживая себя, лишь бы соответствовать этим нормам и правилам! А как мало остается времени, чтобы поправить судьбу!»
Марианне внезапно стало страшно: вдруг ей недостанет мужества и дальше искать собственный путь?
«И все-таки жизнь, которую женщина выбирает сама, — это не песня. Это крик, это борьба, это ежедневное сопротивление, ведь насколько легче смириться и стать как все. Я смогла стать как все. Если избегать всяческих опасностей, не рисковать, то и неудачу не потерпишь».
Обводя взглядом широко раскинувшуюся Атлантику, Марианна вспомнила, что почувствовала в Париже, на мосту Пон-Нёф. Оттуда жизнь казалась крохотной, почти пересохшей струйкой, а все возможности — занесенными песком.
Это было неправильно. Это было совершенно неверно. Чем старше становилась женщина, тем больше она открывала для себя мир, наконец набравшись храбрости и отвергнув прежние, банальные, навязанные обществом мечты о браке и детях, любви до гроба и профессиональном успехе. Только после этого для нее начиналась жизнь, в которой за все надо было бороться. Только когда каждый находил свое истинное место в мироздании, жизнь обретала смысл.
Жизнь не слишком коротка. Она слишком длинна, чтобы попусту растрачивать ее сверх меры, не любя, не смеясь, не принимая решения. А начиналась она, когда ты впервые рискнула, потерпела неудачу и констатировала: неудачу ты пережила. Осознав это, ты готова была рисковать дальше.
Марианна отстегнула аккордеон. Она поедет к Янну. Она предстанет перед ним и его любовью и даже, если потребуется, перед его разочарованием, если он ее отвергнет. За то, что она ему солгала, когда он спросил ее о прошлом. За то, что оставила его, не ответив ему на вопрос, возвращается ли она к мужу или просто хочет уйти.
«Янн», — прошептала она, обращаясь к морю, и тут обернулась. В песок была воткнута одна-единственная белая роза.
Наверное, он оставил ее здесь, пока Марианна играла песню морю. Он слушал и смотрел, как она играет, как плачет и смеется, как выкрикивает морю свои призывы, свою боль, свои надежды, как ищет и находит звуки и слова.
Марианна вытащила розу из песка. Поднесла ее к носу.
Он сидел на утесе, совсем близко. В его лице отражались золотистые отблески, а в глазах бушевало море. Он смотрел на нее, и ей почудилось, что так никогда еще не смотрел на нее ни один мужчина. Он устремил на нее взгляд такой силы, что она почувствовала себя островом.
Он был одновременно и собран, и растерян. Как будто уже знал ее все те долгие годы, что провел в поисках.
Марианне это перестало казаться странным. Она и сама только что обрела нечто. Здесь, на краю света. Она увидела в зеркале моря себя саму. Такой, какой ее задумывала судьба.
«Никогда больше. Никогда больше я со всем этим не расстанусь».
Когда Марианна по тяжелому песку сделала шаг ему навстречу, он встал и двинулся к ней.
Она опустила аккордеон на землю и полетела к нему в объятия.
— Янн! — воскликнула Марианна, и еще раз: — Янн!
— Здравствуй, Марианн! — сказал Янн Гаме, обняв ее со всей силой своей любви.
Наблюдая за своей возлюбленной, он вновь клялся сдержать давно забытое обещание: больше не делать никаких банальностей. Все должно быть на высоте страсти, на высоте жизни; кто ожидает чего-то высочайшего после жизни, в смерти, тот забывает, что жизнь — высочайшее, что есть на свете. Янн тоже забыл об этом и вновь хотел жить изо всех сил, без боязни. Любить. Писать картины. Любить. Не позволять себе погрязнуть в банальностях, которые утомляют тело и оскорбляют душу.
Он хотел сказать Марианне, что все понимает. Пусть его чуть было не убило сознание того, что она ушла без всяких объяснений. Но потом он понял. Сорок один год брака нельзя изгнать из памяти двумя ночами любви и ласк. Эта женщина всеми силами освобождалась от прежней жизни, но та вцепилась в нее и не хотела отпускать.
Да и как же иначе?
У нее было больше мужества, чем у всех, кого Янну доводилось встречать до сих пор; она вошла в чужой, незнакомый мир, вооруженная только своей волей. Она победила собственное желание умереть.
Но под этим непроницаемым панцирем таилась и другая Марианна. Уязвимая. Раненая. Воительница, которая получила тяжелые ранения и может умереть, если они снова вскроются.
А этот человек, ее муж, выступив по телевидению, вторгся прямо ей в душу, так что все ее рубцы начали кровоточить.
Янн это понял. Но сейчас она его обнимала, и это потрясло его во второй раз.
Подчеркивая каждое слово, он прошептал ей в ухо тоном, не терпящим возражений и не молящим о снисхождении:
— Сегодня ночью я буду спать с тобой. И все остальные ночи, которые мне еще отпущены, тоже.
Она подняла на него глаза:
— А зачем ждать ночи?
Они поехали на остров Рагене, на северной оконечности пляжа Таити, острова, до которого в отлив можно было дойти пешком. Там Марианна с Янном занимались любовью, пока не настал прилив. Они пребывали на острове, известном им одним.
Позже, глядя на катящиеся волны, разбивающиеся о скалы, Янн спросил:
— Ты когда-нибудь дашь знать своему мужу, что ты жива? Скажешь, что больше не вернешься? Что хочешь свободы — для меня и для себя.
Марианна помолчала.
— Да, — сказала она наконец. — Когда-нибудь скажу.
40
Колетт переехала к Сидони. Чтобы любить и снова быть любимой. Осознавая, что ее любви не суждено продлиться долго, Колетт впервые в жизни ощущала полноту бытия. У нее было все, чего она желала. И это «все» всегда было рядом, просто она об этом не догадывалась. Это была любовь к женщинам.
Спустя неделю после того, как Колетт к ней переехала, Сидони попросила отвезти ее к камням, прикоснуться к которым она хотела всю жизнь. В Стонхендж. К бродячим камням Долины Смерти. В магические дворцы Мальты и к жертвенникам Палестины.
Врач запретил Сидони путешествовать. Колетт пришла в ярость, Колетт упрашивала, он был неумолим, говорил о скорой смерти от истощения, и Колетт смирилась.
В последнее время все изменилось. Словно спящий водоворот уходящих дней пробудился и с новой силой обрушил на жертвы удары судьбы, стремясь наверстать безвозвратно упущенное за время своего сна прошлое.
Пока вокруг них царило лето, пока август озарял Финистер сияющим светом, пока число туристов росло день ото дня, их жизни брали курс на новые цели.
Когда Марианна не работала в гостинице или у Гуашонов, она поднималась еще до рассвета и ехала на пляж играть на аккордеоне и вслушиваться в голос моря, которое открывало ей свои тайны, что были древнее стоячих камней. В свободные дни и вечера она встречалась с Янном и по мере возможности навещала Сидони и Колетт. В объятиях Марианны скульпторша обретала покой.
Марианна поведала Сидони то, что втайне нашептали ей одной море и его владычица Нимуэ: что жизнь и смерть подобны воде и что ничто не исчезает безвозвратно. Ее душа, словно ручей, потечет по иному миру и в другое время, в другом месте найдет сосуд, в который и вольется. Так судьба зачерпывает души из одного вместилища и переносит в другое.
Однажды вечером Колетт и Сидони внезапно исчезли. Спустя неделю Колетт позвонила с Мальты: «Живешь и в любом случае всегда рискуешь умереть. Так что сначала стоит пожить, n’est-ce pas?»[149]
Они просто сели в машину и поехали. Провели несколько дней в Париже у детей Сидони, зная, что она их больше не увидит.
Сидони настояла на таком прощании: она не хотела, чтобы дети стали свидетелями ее ухода. Зато хотела сказать им, как любит их, как гордится ими, и в Париже они устроили праздник, и веселились три дня, а потом отправились к самым красивым камням в мире.
41
Начиная с двадцатого августа оккупационные войска стали постепенно покидать завоеванную территорию: французские туристы завершали каникулы в Бретани, напоследок празднуя полюбившийся fest-noz, и возвращались к себе в Париж, в Прованс, в холодные города, вглубь страны — и начинали мечтать о следующем лете в Финистере.
— С ума сойти, — говорили они, — таких рыбных блюд больше нигде не найти! А какие наряды местные надевают на Filets Bleus — праздник Синих Сетей в Конкарно! А morgana — экологически чистое пиво из пивоварни «Ланселот»? А этот pardon — церковная процессия, когда они нахлобучивают эти свои старинные чепцы и шляпы и просят у каждого встречного и поперечного простить им грехи? Как в Средневековье!
До этой даты за одну ночь можно было посетить несколько праздников: в любой деревне, что побольше, вас приглашали потанцевать прямо на улице, которую ради такого случая покрывали деревянным настилом. Танцевать гавот мог каждый: чем шире круг, тем больше удовольствия и тем тише становилось потом в лесах и в темных уголках, когда случайные любовники старались не стонать слишком громко.
Fest-noz в Кердрюке приходилось соперничать с танцевальными ночами в Рагене, Тревиньоне и в Кап-Козе, которые привлекали туристов кельтской музыкой, бретонскими рок-группами и китайскими фейерверками.
За несколько часов до назначенного fest-noz Женевьев Эколлье постучалась в дверь Марианны и с взволнованной улыбкой поманила ее за собой.
Она привела ее на антресоль и открыла потайную дверь, за которой хранились платья. «Выберите себе что-нибудь, — попросила Женевьев. — Музыкантша должна сиять».
Марианна собиралась играть на fest-noz. Она намеревалась поделиться со слушателями песнями, которые до сих пор играла одному лишь морю, а Женевьев хотела как-то в этом поучаствовать.
Мадам Женевьев приняла такое решение накануне вечером, когда они ужинали вместе с Марианной и Гретой. Впервые Марианна откровенно заговорила о том, что приехала в Кердрюк, чтобы покончить с собой. И о том, как день за днем все откладывала и откладывала свое намерение, до тех пор пока от него не осталась лишь бледная тень ужаса, ведь она прожила жизнь, а как будто и не жила. А потом она обрела неукротимую волю, выбрала свой путь и взяла жизнь в собственные руки.
Женевьев встала и поклонилась Марианне. Она глубоко уважала эту женщину, которая нашла в себе немалое мужество признать поражение и начать все заново.
Не то было с нею. Она-то как раз ничего не стремилась исправить, хранила тени прошлого и в облике платьев таила их с изнанки реальности, словно живых мертвецов. И потому, открывая дверь в свое прошлое, Женевьев чуть-чуть надеялась, что этого дара преображать себя самое и редактировать книгу собственной судьбы, свойственного Марианне, как-то причастится и она.
Марианна провела рукой по ткани платьев, к которым однажды уже украдкой прикасалась. И платья словно ожили, зашептались и со вздохом стали обмениваться впечатлениями, Марианна почувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев, которое то усиливалось, то ослабевало.
Одно платье, казалось, было соткано из пламени. Оно таило в себе воспоминание столь могущественное, что никакими усилиями нельзя было удалить его из волокон этой ткани. Оно пылало, и по ее руке от него поднималась волна жара. Она стиснула ткань и услышала, как мадам Женевьев громко втянула сквозь зубы воздух. Это было красное платье.
Она отошла на шаг, чтобы не мешать мадам Женевьев снять его с вешалки. Эколлье расправила его на вытянутых руках; судя по омрачившемуся взгляду, добровольно сдалась в плен воспоминаниям и была заточена в темницу с решетками из утраченных радостей.
— Это платье было на мне в день помолвки, — прошептала Женевьев.
Ее пальцы провели по гладкой, мерцающей ткани.
— Когда все началось. Все. И ничего не кончилось. Ничего.
Черты ее словно сделались мягче.
— В брата моего будущего мужа я влюбилась в этом платье. Жизнь была добра ко мне, я была молода и хороша собой, и я любила этого человека. Любить… любить было совсем не то же, что быть любимой. Это означало отдавать, видеть, как человек расцветает, возрождается и живет благодаря твоей любви. Ты понимаешь, что наделена силой и что эта сила высвобождает в человеке лучшее…
Она опустила голову.
— Ален отверг мою любовь. И куда мне было ее девать? Что делать с этой отвергнутой любовью?
На платье упали слезы.
Марианна дала Женевьев выплакаться; казалось, будто вот-вот разломится камень, а по рыданиям Марианна поняла, что слезы Женевьев проливает впервые. Посреди платьев, которые Женевьев носила три лета, три осени, две зимы и две весны, она оплакивала бросившего ее мужчину и ту безвозвратно погибшую женщину, какой была когда-то. Рыдала потому, что никому не нужна была ее любовь, и оттого ее таинственная сила, неиспользованная, остывала и остывала, пока не превратилась в ненависть. Ненавидеть было легче, чем любить безответно.
Марианна нежно погладила Женевьев по волосам. Как сурово эта женщина стерегла свою любовь, не давая ей больше взметнуться ввысь!
Ален. Ну конечно. Человек, живущий на другом берегу реки; ближе подойти к женщине, любовь которой когда-то так жестоко отверг, он не мог.
— Вы все еще любите Алена? — спросила Марианна.
Женевьев выдохнула открытым ртом. Снова дотронулась до платья.
— Люблю — всегда, неизменно — и ненавижу себя за это.
Она поправила свою и без того безукоризненную прическу. Потом встала.
— Сейчас узнаем, как будет смотреться на вас это платье, Марианн.
И протянула ей красное платье. Впервые она назвала Марианну по имени.
Марианна медленно покачала головой.
— Это вы должны носить красное, Женевьев, — мягко возразила она. И взяла с вешалки другое платье, синее, которое поблескивало, как море, когда его целует солнце.
42
Ален уселся рядом с Лорин на светлый каменный парапет, ограждавший со стороны реки подъезд к «Бар Табак»; прежде частенько случалось, что водители не справлялись с управлением, не могли удержать машины на покатой улице, пролетали вниз до самого порта и даже срывались в воду. Потому и был выстроен массивный парапет из песчаника, призванный задержать соскальзывавшие по склону машины.
Лорин устремила взгляд на Кердрюк.
— Тоска по родине? — тихо спросил Ален.
Она кивнула.
Он проследил за ее взглядом и тоже стал смотреть на противоположный берег реки.
Алену казалось, что порт, где он был нежеланным гостем, существует лишь для того, чтобы напоминать ему о его несчастье. Но сегодня эта гавань предстала какой-то другой, в ней явно что-то происходило.
Она завлекала. Она словно вибрировала. В мягком голубоватом вечернем воздухе словно танцевали искры, хотя на самом деле это были всего лишь красные фонарики, раскачивающиеся повсюду. Между ними играли быстрые, проворные тени, собирающиеся на праздник ночи.
Внезапно Ален заметил красную тень, и этот оттенок цвета он знал как никакой иной. Ален вытащил из нагрудного кармана бинокль, в который столько ночей следил за противоположным берегом, надеясь уловить хотя бы одно движение, хотя бы промельк, проблеск Женевьев.
— Геновева… — прошептал он. На ней было то же платье, что и в день помолвки, когда они полюбили друг друга, платье-знамя, под которым их страсть отправилась на войну и потерпела поражение.
Это был знак, который он ждал тридцать пять лет? Или это была всего лишь насмешка: «Смотри, Ален, я сумела забыть тебя. И себя саму, какой была в пору любви к тебе»?
Лорин наблюдала за своим новым шефом: он хорошо к ней относился, не отличался чрезмерной строгостью и был неглуп, но сейчас, когда он глядел в маленький бинокль на противоположный берег, на его лице появилось какое-то новое выражение, которое она могла постичь только интуицией любящей женщины. Алену Пуатье тоже нечего было делать на этом берегу Авена. Она взяла его за руку. Непонятно было, кто за кого держится: Ален за Лорин или Лорин за Алена.
Его место, как и место Лорин, было в Кердрюке, где в этот миг одновременно происходило два события: по наклонному съезду в гавань прикатили микроавтобус, из которого вышли четыре монахини и священник, и такси, из которого выбрался человек в сером костюме и огляделся с недоверчивой миной, словно и сам не мог взять в толк, как это его занесло в такую дыру на краю света.
— Меня тошнит, это что, нормально? — Марианна с искаженным мукой лицом переводила взгляд с местного оркестрика, специализирующегося на гавотах, на Грету и обратно.
— Это называется «синдром публичных выступлений». Совершенно нормально. Такое бывает со всеми, даже с Андре Рьё[150]. — Грета рассмеялась кудахчущим смехом. — Да перестаньте, Марианна. У вас в легком не растет кувшинка, от которой перехватывает дыхание[151]. Дышите чаще; кстати, это всем полезно.
Они сидели в зале гостиницы. Руководитель оркестра подозвал ее к себе. С трудом держась на ногах, она перечислила ему пьесы, которые хотела исполнить. Тут в зал влетела стайка монахинь.
— Сестра Клара! — восхищенно воскликнула Марианна и сейчас же заметила и сестру Доминик, и отца Баллака. В своих развевающихся рясах они бросились к Марианне и окружили ее плотным кольцом. Они прибыли в Кердрюк, чтобы поблагодарить ее за спасение сестры Доминик, и специально выбрали для своей поездки этот праздничный вечер.
— Я так рада! — тихо сказала сестра Клара, обнимая Марианну. — Так рада, что у вашего странствия оказался счастливый конец.
Ален не знал, что делать. Другой берег реки пульсировал необычайной, таинственной энергией; он напоминал уже не просто заурядную бретонскую гавань, в которой отмечают обычный праздник, а Священную рощу.
Теперь за противоположным берегом Авена в бинокль наблюдала Лорин; Ален сходил за своей курткой и накинул ей на плечи.
— Вот мадам Женевьев, она принесла краны, чтобы открыть винные бочки… А вот Падриг ей помогает… А вот… — она помедлила и откашлялась, — мсье Поль, как он нарядился на праздник!.. А вот Клодин, батюшки, какой у нее живот, она на днях родит! Ах! Они показывают на Марианну! — восторженно воскликнула Лорин. — Она сегодня такая красивая!..
— А Жанреми ты видишь? — спросил Ален.
— Я не хочу его видеть, — отрезала Лорин и передала Алену бинокль.
Ален поднес его к глазам и увидел, как по ступенькам гостиницы поднимается Женевьев, а следом за ней — человек в сером костюме.
Когда тот вписал свою фамилию в бланк для прибывающих постояльцев и протянул его мадам Женевьев, та вздрогнула. Перечитала его фамилию еще раз.
Он так расфуфырился, что она его не узнала, да и жесткие вертикальные складки, сбегавшие от уголков рта к подбородку, ничем не напоминали того несчастного мужа, что несколько недель тому назад выступал по французскому телевидению, разыскивая свою исчезнувшую жену, — Лотара Мессмана.
— Где моя жена? — осведомился он на французском или, по крайней мере, на том, что считал таковым языком. Тогда Женевьев Эколлье впервые в жизни прибегла к обычной тактике французов: демонстративно не понимать никого, кто говорит не по-французски.
— Пардон? — надменно произнесла она.
«Маленький серенький зайчик, больше всего мне хочется бросить тебя в реку. Но ты вписал в бланк свою собственную фамилию, а не девичью фамилию Марианны, вот я, дура, поначалу ничего и не заметила».
— Моя жена. Марианна Мессман, — уже громче сказал он.
Женевьев пожала плечами и обогнула стойку регистрации, чтобы проводить Лотара в номер; при этом она повела его длинным путем, в обход, чтобы не пришлось идти через бальный зал.
«Эти французы, — думал Лотар, — заносчивые дряни». На всем пути сюда, в этот богом забытый уголок Бретани, эти мерзавцы отказывались его понимать. В ресторанах ему приходилось есть блюда, которые он не заказывал; когда он ехал на автобусе из Ренна в Кемпер, двое беззубых стариков плюнули на его бундесверовский значок, и он это стерпел; когда он искал остановку такси в Кемпере, его то и дело посылали не в том направлении, он поневоле выходил у одного и того же книжного магазинчика, торговавшего по преимуществу детективами, и продавщица стала с подозрением за ним наблюдать. Он вспомнил полученное десять дней тому назад письмо учительницы Аделы Бреливе. На весьма напыщенном школьном немецком, четким почерком — она сообщала, что считает своим «гражданским долгом» откликнуться на прозвучавший по телевидению призыв и сказать, что она подобрала означенную Марианну Мессман на шоссе возле Кердрюка и довезла до Конкарно, когда та путешествовала автостопом. Она обратила внимание, что эта дама назвалась чужим именем, но Адела, несомненно, ее узнала, а мсье Мессман пусть наведается в Кердрюк, в ресторан «Ар Мор», где, по слухам, наняли кухарку-иностранку.
Интересно, почему Марианна выбрала жизнь без него? Неужели она не могла больше выносить его общество?
О! А как же его взбесило, что эта женщина в вызывающем красном платье не хочет сказать ему, где Марианна! Наверняка ведь на этом празднике. Где наверняка пиво не подают, а только шампанское с лягушачьими лапками.
Лотара Мессмана тошнило от этой страны. Ну, хоть номер ему достался приличный. Из его окна открывался вид прямо на оживленную набережную.
Краем глаза Лотар заметил женщину в синем платье, с золотисто-каштановыми волосами до плеч, окруженную стайкой монахинь. Не может быть, чтобы это была Марианна. Марианна ниже ростом и… не такая привлекательная.
Лотар сходил за светлым бретонским пивом, которое подал ему через внешнюю стойку мрачный молодой человек, черноволосый, в красной бандане.
Мол с импровизированной танцплощадкой был переполнен: кругом возбужденно переговаривались женщины, смеялись мужчины, вертелись подростки; дети ловили друг друга под столами, поставленными вокруг танцевального настила.
Лотар стал протискиваться сквозь толпу, стараясь не замечать взглядов, которые бретонцы бросали на его элегантный костюм с шестью золотыми пуговицами. Он шел следом за женщиной в синем платье, цвет которого словно постоянно менялся, отражая лучи звезд и волны смеха. Когда она обернулась вполоборота на приветственный возглас изящно одетой дамы, державшей мундштук с сигаретой в обтянутой черной перчаткой руке, и махнула ей, у Лотара исчезли последние сомнения: женщина в синем платье — это все-таки Марианна.
Она показалась ему… выше ростом. Красивее. Неприступнее. Он отпил большой глоток пива. Отвлекшись на миг, чтобы поставить бокал, он потерял жену из виду. Вместо этого у него перед глазами выросла фаланга черных спин. Опять эти монахини.
Женевьев, слегка приподняв кончиками пальцев красное платье, элегантно поднялась по ступенькам на сцену. Один из оркестрантов галантно помог Марианне сесть на табурет, где ей предстояло играть. Женевьев объявила в микрофон: «Начнем fest-noz!»
«В тональности ми-бемоль мажор», — прошептала Марианна музыкантам. Она окинула взглядом толпу и рядом с Жанреми заметила Янна с блокнотом в руках. А возле него — Грету; та показывала ей два больших пальца. Рядом с Гретой — Симона; впрочем, он смотрел больше на Грету, чем на сцену.
Поль с Розенн вышли в центр танцплощадки, словно музыканты играли для них одних. Монахини, подняв головы, смотрели на Марианну с неподдельной благожелательностью. Отец Баллак добродушно усмехался, показывая кривые неровные зубы. Марианна ощутила, как постепенно расслабляется под сочувственными взглядами слушателей: она заметила, как засияли глаза Женевьев, как преисполнился желания взор Янна, как прижались друг к другу Паскаль и Эмиль, а Эмиль сложил ладони, точно молясь, чтобы этот бронтозавр-аккордеон издал приличный звук, как Колетт взяла за руки внучек Поля, — и возблагодарила богинь давно ушедших времен за этот миг и за то, что ее приняли так тепло.
Барабанщик задал настойчивый, завораживающий ритм. Потом Марианна закрыла глаза, представила себе, что она сейчас у моря, и взяла первые аккорды «Либертанго». Контрабасист подхватил мелодию, и Марианна открыла глаза; барабанщик ускорил темп, и вот уже самое знаменитое танго Пьяццолы делалось все более сильным и полнозвучным, как волны, вздымающиеся все выше и выше, как пламя, перекидывающееся от одного сердца к другому и охватывающее одно сердце за другим.
Вот уже на танцплощадке тесно стало от кружащихся пар, и когда вступила скрипка, волны поглотили и тех, кто сидели за столиками, лакомились мидиями и запивали их вином; они стали раскачиваться в такт музыке, когда бандонеон завоевал страстные акценты и синкопы.
Поль и Розенн абсолютно синхронной поступью, как положено в танго, пересекли зал, высоко подняв головы. Пальцы Марианны с легкостью и точностью летали по клавишам, а перед нею бушевало море.
Море тел, не было ни одного, которое осталось бы неподвижным, а в свете красных фонарей казалось, будто танцуют феи и кобольды, празднующие свое отплытие на Авалон. Все напоминало шумящий поток, даже Клодин мечтательно покачивалась, обняв свой огромный живот. Все танцевали и наслаждались тем, что живы, что видят друг друга и радуются друг другу.
Все, кроме одного человека, который не мог сдвинуться с места.
43
Лорин сбросила с плеч куртку Алена. «Я должна быть там», — объявила она. Она подошла к краю мола, набрала побольше воздуха в легкие, отвела руки назад, и Ален едва успел, рванувшись изо всех сил, удержать ее и не дать ей нырнуть в воду и переплыть реку.
Пуатье оттащил официантку от края мола.
— Лорин, — настойчиво прошептал он. — Лорин, это он должен прийти к тебе. Пусть он сделает первый шаг, а если он на это не пойдет, то вам незачем быть вместе!
Он крепко держал ее за руки, пока она не перестала биться и не успокоилась.
— И это говорит тот, у кого не хватает духу сделать первый шаг?
Теперь она говорила решительно, без колебаний.
Ален посмотрел на нее. Потом отпустил ее и сбежал по высокой лестнице к пришвартованным на набережной лодкам.
Аплодисменты чуть было не сбили Марианну с ног и все нарастали и нарастали, набирали силу, как морской прилив, когда руководитель оркестра взял ее за руку и подвел к краю сцены, чтобы вместе поклониться публике.
Он взял микрофон.
— А это, почтенная, очарованная публика, была Мари-Анн, жрица танго, морская колдунья, и своей нежностью она и далее будет придавать вам храбрости, чтобы вы вели себя непристойно.
Он отвернулся. Ударник глубоко вдохнул и заиграл новое танго, под аккомпанемент контрабаса, который пропускал каждый третий удар.
Потом руководитель оркестра на своем бандонеоне исполнил первые такты песни «Дитя луны», ре-бемоль, соль-бемоль, и толпа восторженно взревела. Марианна почувствовала, что пора наложить на этот ритм вторую партию аккордеона и обозначить мелодию.
К ним присоединилась скрипка и запела песню о луне, оглашая ночь нежными звуками.
Над ними парила полная луна. Под музыку кружились пары, и Марианна взглянула на бандонеониста. Их взгляды встретились, и с каждым кивком, которым он подчеркивал такт, все жесткие очертания вокруг нее расплывались, и она всецело растворялась в музыке.
Он вел, она следовала за ним, и теперь друг с другом флиртовали их инструменты; подобно тому как море бросается на сушу и вновь отступает, в их исполнении сменялись экстатическая страстность и нежная взволнованность. Воздух был насыщен шелестом женских платьев, дыханием мужчин, звуком шагов на досках деревянного настила. Никто не произносил ни слова, все танцевали, все тела повиновались ее воле и ее желанию.
Душа Марианны вознеслась куда-то ввысь и обрела свободу.
Те, кто присутствовал на этом празднике, еще спустя годы клялись, что заметили окружающий Марианну белый мерцающий свет. Казалось, синева ее платья вспыхнула языками бело-синего пламени, вокруг нее образовался красный нимб, словно перед ними предстала жрица, призывающая луну своей песней.
В танце все они достигли почти чувственного наслаждения, которое им едва ли случалось испытывать прежде. Они полюбили жизнь больше, чем раньше, и осознали, что она никогда не закончится.
Завершив пьесу, Марианна вышла на поклоны. Она кланялась снова и снова, аплодисменты не утихали, в душе Марианны забило ключом счастье и зажгло ее глаза голубым огнем. Когда она пробиралась сквозь толпу, сойдя со сцены, ей почудилось, будто она летит. Марианна искала Янна.
Однако вместо этого она увидела Женевьев на краю мола, вдали от света и тепла. Женевьев вглядывалась в холодный, безмолвный мрак Розбра.
— Как же я тебя люблю, — прошептала она, и ее слова унес ветер.
Ален быстро-быстро отвязывал лодку. Он не позволит какой-то… девчонке обвинять его в том, что он-де не хочет сделать первый шаг! Он на минуту замер. Воздух затрепетал возле его уха. Что-то теплое проскользнуло мимо его виска, он слышал чей-то голос? Ален раздраженно выпрямился. Геновева!
И вот опять.
«…люблю…»
Лорин застыла у каменного парапета, ее белокурые волосы полыхали во мраке как раскаленное пламя.
— Почему вы к ней не поплывете? — крикнула она сверху.
— Потому что не умею плавать! — в ярости завопил он в ответ.
Он повернулся в сторону Кердрюка, музыка раздражала его, волновала, возбуждала, вырывала из груди его сердце, и оно жаждало отрастить себе крылья и улететь к ней, к Женевьев.
«…люблю…»
Наконец он распустил узел и схватился за весла. Пока лодка выходила на середину реки, Ален стал во весь рост в центре, пытаясь не замечать сильную качку, сложил руки рупором и прокричал: «Геновева!» И еще раз, громче: «Геновева!»
Ничто не откликнулось, только платье манило его, колеблемое ветром.
«Я! Тебя! Люблю!»
Ален налег на весла. С каждым гребком он кричал: «Геновева! Я! Тебя! Люблю!»
«Будь! Моей! Я умоляю тебя о любви!»
Красную тень поглотил водоворот черного и серого, и Ален остался на реке в одиночестве. Посреди Авена он поднял весла.
Теперь и он превратился в тень и монотонно выкрикивал одно и то же. Хрипло. Отчаянно.
«Геновева! Je t’aime! Je t’aime, Геновева! Будь моей!»
Мадам Женевьев не двигалась с места и только безмолвно взирала на реку. Когда Марианна дотронулась до ее руки, она лишь едва заметно вздрогнула, а взгляд ее был исполнен отчаянного страха.
К ним подошел священник из Оре, отец Баллак, и Марианна обратилась к нему:
— Отец… Вы умеете грести?
Тот изумленно уставился на Марианну:
— Конечно.
— Пожалуйста, переправьте мадам к ее возлюбленному. Она вот уже тридцать пять лет ждет часа, когда сможет вновь отдать ему свою любовь.
Священник слегка поклонился, чтобы скрыть потрясение.
Марианна осторожно положила левую руку на плечо Женевьев:
— Пора.
Опираясь на руку священника, Женевьев направилась к маленькой красной лодочке под парусами, которые в назначенный час наполнит ветер. К лодочке, носившей имя «Марианн».
Мадам Женевьев так и не села, а священник стал выводить лодку на середину реки, туда, где ждал Ален. Ее тело казалось прямым языком пламени, скользящим над водой.
Ален двадцать восемь лет томился у нее на пороге и тридцать пять лет ждал ее знака, одного лишь слова. Пора было им соединиться. Незаметно для танцующих на молу лодки стали тихо сближаться.
Ален налег на весла. Женевьев не сводила с него глаз, пока он с каждым взмахом подплывал все ближе и ближе. Наконец их лодки встретились, мягко столкнувшись носами. Женевьев простерла к Алену руки.
Янн подошел к Марианне сзади и обнял ее. Она прижалась к нему.
— Посмотри только, — с нежностью произнесла Марианна, и в этот миг Ален подался вперед, кончики его пальцев прикоснулись к кончикам пальцев Женевьев.
А потом последовал толчок. Подводное течение развернуло лодку, Ален покачнулся, выпустил руку Женевьев, и Женевьев громко вскрикнула:
— Ален!
«Не сейчас. Пожалуйста, только не сейчас».
Прямо у нее на глазах ее возлюбленный пошатнулся и опрокинулся в воду.
«Пожалуйста, нет! Он же не умеет плавать!» Если он сейчас, у нее на глазах, утонет, она последует за ним, она это осознала и с той же отчетливостью поняла, что ее ненависть испарилась. Расточилась, пока она медленно старилась. Кончики ее пальцев жгло от прикосновения к единственному мужчине ее жизни, они всегда помнили ощущение его кожи и всегда тосковали по нему. Ален!
Женевьев бросилась в воду.
Марианна вырвалась из объятий Янна и кинулась вниз по набережной.
Красное платье Женевьев цветком расправило лепестки, поднявшись на темной воде, однако она поплыла к Алену и сумела его схватить. Вцепившись друг в друга, они беспомощно барахтались в реке.
Обернувшись, чтобы позвать на помощь, Марианна ударилась о серый столб.
Лотар?!
Она бросилась мимо него к домику администрации порта, вырвала из креплений на стене спасательный круг и понеслась назад, дальше, вдоль мола, пока не добежала до внешнего края.
Где же они? Вот! Над волнами показались два бледных лица. Был отлив, и если море будет и дальше относить их от берега, то в конце концов увлечет их из устья реки и поглотит.
Лотар схватился за спасательный круг в руках у Марианны.
— Дай мне! — крикнул он. — Тебе не суметь!
На мгновение их взгляды встретились.
— Чего я только не умею! Ты даже себе представить не можешь, — прошипела Марианна и отняла у него спасательный круг. Размахнулась и вместе со своим всепоглощающим ледяным гневом бросила его в воды Авена.
Он плавно пролетел почти десять метров по воздуху, как диск, и упал точно рядом с блестящим красным платьем. Канат Марианна предварительно плотно обмотала вокруг талии. Когда река увлекла спасательный круг, она почувствовала, как стремительно убывают ее силы. Она покачнулась.
Лотар схватился за канат у нее на поясе и принялся тянуть, сантиметр за сантиметром. Марианна безвольно стояла, смотрела и гадала, отчего чем дольше она находится в его присутствии, тем больше цепенеет и глохнет.
Женевьев и Ален держались за круг, пока к ним не подплыл отец Баллак и не помог перебраться через низкий борт «Марианн».
Только после этого они снова бросили круг в воду, и Лотар вытащил его на берег.
— Спасибо, — сказала Марианна мужу, чуть дотронувшись до его плеча; она с трудом заставила себя это сделать.
Лотар лишь кивнул в ответ. Это мимолетное прикосновение пронзило его, словно удар током. Потом он с нежностью улыбнулся Марианне.
— Как чудно ты играла, — произнес он.
У его жены появился возлюбленный. Она прекрасно выглядела, она была желанна, может быть — даже любима, он понял это, глядя на лица, которые оборачивались к ней, как цветы — к солнцу. «Она идеально вписалась в эту жизнь, словно родилась здесь, в Бретани, — думал он, — словно все здесь только ее и ждало». Он почувствовал, как его мир начал рушиться.
Он поднял руку и большим пальцем провел по ее губам. Потом наклонился и быстро, пока она не успела отпрянуть, поцеловал ее в губы.
За его плечом Марианна увидела Янна, и в его взгляде боролись боль и надежда.
— Лотар, — попросила она мужа, — мы не могли бы поговорить позже?
— Конечно, как скажешь, — поспешно согласился Лотар. — Я взял отпуск на три дня.
Он обернулся и приветственно махнул рукой мужчине, который только что на набережной нежно и доверительно обнимал его жену.
Лотар смотрел вслед Марианне, удаляющейся вдоль набережной, и ему казалось, что он видит знакомую незнакомку, которая много лет тщательно скрывалась от него.
Янн подошел к нему.
— Лучше всего нам будет поговорить прямо сейчас, — медленно начал художник. — Или вы хотите драться со мной на дуэли?
Лотар покачал головой. Драться на дуэли он не хотел. Он хотел вернуть свою жену. Он никак не мог взять в толк, что Марианна таинственным образом утаила от него, какая она красивая.
К Марианне подошел отец Баллак.
— Они хотели остаться наедине, — произнес он извиняющимся тоном. — Они только что чуть не погибли, а подобный опыт обычно пробуждает в людях… плотские желания.
Он усмехнулся.
Марианна посмотрела вслед ялику, который исчезал во мраке выше по течению Авена. Как будто Женевьев и Ален хотели найти исток реки, исток своей любви. «Найдут еще до наступления дня», — решила Марианна.
Потом красный цвет поглотила тьма.
Марианне тоже захотелось стать невидимкой.
Если всего каких-нибудь полчаса тому назад она была уверена, что знает, чего хочет: играть на аккордеоне, остаться в Кердрюке, любить Янна, — то сейчас все это словно сгорело, и она ощущала лишь грубый пепел, забивший ей нос, уши и рот. И все это за те несколько мгновений, что потребовались Лотару, чтобы отобрать у нее спасательный круг. Как будто он ее разоблачил, показав ей, какой она была в действительности — без синего платья, без косметики, без всей этой мишуры.
Кто-то взял Марианну за предплечье рукой в кожаной перчатке. Колетт! Они с Марианной крепко и нежно обнялись. Потом Марианна испытующим взглядом посмотрела Колетт в лицо.
— Сидони не пошла на праздник, — тихо сказала Колетт. — Она знает, что сегодня ночью за ней придет Анку. Она меня отослала. Сказала, что мне нужно наслаждаться жизнью.
У Марианны в душе все замерло. Она словно сжалась в комочек.
— Что мне делать? — выдохнула Колетт.
Дочь Мариклод Клодин довольно бесцеремонно протиснулась между ними.
— Скажите, у меня будет мальчик? — решительно осведомилась она у Марианны. — Моя мама говорит — вы умеете это определять. — С этими словами она положила руку Марианны себе на огромный выпяченный живот.
— Это будет девочка, — замогильным голосом произнесла Марианна.
44
Марианна отталкивала руки, которые хотели удержать ее в гостинице, на молу, по пути к машине: руки Янна, руки Лотара, руки монахинь. Руки пришедших на праздник, которые хотели поблагодарить Марианну и удивлялись, почему ее волчьи глаза потухли, почему она никому не отвечает и торопится куда-то в ночь.
Во время недолгой поездки Колетт попыталась возразить против ее решения: разве не следовало согласиться с волей Сидони, как и с любым последним желанием?
Не глядя на Колетт, Марианна выпалила:
— У меня на глазах умерли четыреста тридцать восемь человек. Ни один из них не хотел уходить в одиночестве.
Сидони приятельницы застали в мастерской. В руке у нее был судорожно зажат камешек, который она подобрала на Мальте, у стен храмов, что древнее египетских пирамид. Она дышала с заметным трудом, но не закрывала глаза и, насколько могла, не отводила взгляда от Колетт. Она пыталась запомнить ее глаза, ее рот. Ее душу.
— Спасибо, — прошептала Сидони. — Спасибо, что меня не послушала.
Сидони хотела, чтобы лицо этой женщины стало последним, что она увидит перед смертью. Она всегда об этом мечтала. Всегда, с тех пор как впервые увидела галеристку. И Колетт вернулась к ней, когда Сидони ее отпустила.
— Вся жизнь — это ведь, в сущности, смерть, с первого вздоха мы движемся в этом направлении, только и делаем, что постепенно умираем, — произнесла Сидони голосом, словно доносящимся издалека.
Теперь Марианна взяла Сидони за руку. Ее не пугали потоки холода, хлынувшие в ее руки, затылок и даже в сердце. Она их узнала.
Это была ледяная река смерти, замораживающая все текучее и живое и убивающая тепло человеческой души. Уничтожающая «я».
Веки Сидони задрожали, она выпрямилась.
— Камни, — слабым голосом прошептала она, обращаясь к Колетт, — они поют.
Колетт не выдержала и в отчаянии расплакалась. Она попыталась взять Сидони за руку, но та снова вырвала свою и сжала в ладони камешек.
И потому Колетт сцепила пальцы над пальцами подруги, камешек оказался где-то под покровом их ладоней, а Марианна взяла Колетт за свободную руку, и так три женщины, держась за руки, вместе прошли часть пути до той черты, откуда Сидони предстояло идти одной, как и всякому до и после нее.
Они прислушивались к частому дыханию Сидони.
А потом, словно уже заглянув в туманы иного мира, она удивленно прошептала имя покойного мужа: «Эрве?» Она улыбнулась. Блаженно, словно на миг ей открылась вечность и то, что она узрела, исцелило ее от всякого страха.
Ледяное покалывание, которое Марианна ощущала своей ладонью там, где прикасалась к Сидони, исчезло с той же внезапностью, с какой обрушивается в море утес. Камешек со стуком упал на пол.
Сидони ушла.
Было уже около пяти утра, когда Марианна оставила Колетт и бренное тело Сидони и пешком отправилась обратно в Кердрюк. Она мерзла в своем синем безрукавном вечернем платье; в ладони она сжимала камешек Сидони.
Марианна, с трудом передвигая ноги, брела по направлению к черному горизонту. На небе сверкали молнии, но, как ни странно, раскатов грома после них не слышалось. Только отдаленный рокот доносился из ночных туч. Землю охватил призрачный покой, безмолвные зарницы освещали притихшие луга, серые улицы и дома. В этой полутьме нигде не было видно ни огонька. Лишь над гаванью Кердрюка разливалось красное сияние.
«Нельзя сказать любви: приди и останься навсегда.
Можно лишь порадоваться ей, когда она приходит, как лету, как осени, а когда отпущенное ей время истечет, она уходит».
Зарницы, сверкая, теснились на небе.
Небо горело.
«Как жизнь. Она приходит, а потом, когда наступает срок, уходит. Как счастье. Всему назначен свой срок, и ничто не длится вечно».
Марианна получила то, что было ей предопределено. И не имела права рассчитывать на большее.
Она попыталась вообразить, в чьих объятиях обретет душевный покой и уют, но поняла, что не может решить: в объятиях Лотара? Янна?
Лотар смотрел на нее так, как ей мечталось многие годы. В конце концов, он ведь был ее мужем!
«Янн, Янн, что же мне делать?»
Дойдя до околицы Кердрюка, она заметила, как маленькая тень сорвалась с дерева, спрыгнула на дорогу и посмотрела на нее. Это был «ее» кот. Он ждал ее. Макс, как она его назвала, потерся о ее ноги, но, когда она хотела взять его на руки, вывернулся и отбежал на несколько шагов. Оглянулся, встретился с ней взглядом и засеменил дальше, словно говоря: «Пойдем! Быстрее! А то все пропустим!»
Кот побежал на стоянку, ту самую, с контейнером для бутылок, которая был первым, что Марианна увидела, добравшись до Кердрюка.
Под деревьями она заметила малиновый «рено». На переднем сиденье, откинутом назад, Марианна различила безжизненное тело. Дочь Мариклод — Клодин!
Бледное лицо молодой женщины поблескивало от пота, внизу на платье обозначилось влажное пятно. В руке она сжимала мобильный телефон с погасшим экраном. Марианна схватила ее за руки и почувствовала бешеный пульс в среднем пальце. Сердце у Клодин билось как безумное. У нее начались схватки!
Марианна изо всех сил отодвинула сиденье назад, села между раздвинутых ног Клодин, схватила кота и посадила его рядом с собой на пассажирское сиденье. Она включила мотор, и, взвизгнув шинами, машина рванулась с места.
— Роды, — вдруг простонала Клодин, — начались роды. На две… на две недели раньше. — На нее снова нахлынула волна острой боли. — Вы… вы позвонили? Когда вы положили руку мне на живот… — У Клодин опять вырвался мучительный стон.
— А ну хватит нести чушь! — приказала Марианна.
Непрерывно сигналя, она стремительно съехала по наклонному спуску вниз к гавани, прокатилась по танцплощадке и затормозила прямо у дверей «Ар Мор».
Марианна снова просигналила: три коротких гудка, три долгих и снова три коротких. Понятный во всем мире сигнал SOS.
Из ресторана выбежали трое: Янн, Жанреми и — Лотар, все трое слегка навеселе.
Марианна велела им вынести из автомобиля почти потерявшую сознание от боли Клодин.
— В кухню! На стол! — крикнула она и, повинуясь внезапному импульсу, схватила камешек Сидони. Он был теплый на ощупь, словно сохранил живой жар Сидони. Марианна закрыла глаза, призывая все свои воспоминания о том, как ассистировала бабушке Нане при домашних родах. Что ж, на сей раз ей придется не только помогать. Теперь она должна будет все делать самостоятельно. Она надеялась, что ее руки вспомнят нужные приемы. Потом она открыла багажник и вытащила аптечку.
Когда мужчины положили стонущую Клодин на прохладную стальную столешницу, их лица застыли, превратившись в маски. Жанреми кинулся к телефону и набрал номер скорой помощи.
— Надо перевезти ее в больницу в Конкарно, — передал он указания, прозвучавшие на другом конце провода, и стал ждать, что скажет Марианна.
Марианна перевернула большую кастрюлю и положила на нее бинт, ножницы, марлевые тампоны и камешек. Потом подержала руки под горячей водой, чтобы согреть, и надела стерильные перчатки.
— Лотар, поддержи ее! — С этими словами Марианна запустила руку во влагалище Клодин. Та вскрикнула:
— Nom de Dieu de putain de bordel![152]
— Шейка матки открылась, промежность выпячивается, и она бранится, как извозчик.
Жанреми передал эту информацию.
— Они говорят — тогда не стоит ехать.
Схватки сделались все чаще и чаще, а Клодин вскрикивала все громче и громче:
— …de merde de saloperie![153]
— Они говорят, что приедут сами.
Жанреми спасся бегством.
— Мужчины всегда жаждут участвовать на начальном этапе, а в конце их и след простыл! — пробормотала Марианна.
— Она должна дышать равномерно, — рекомендовал Янн, стоя тут же и следя за Марианной загадочным взором.
— Все нормально. Все хорошо. Скажи ей.
— Тебе не нужна горячая вода? — спросил художник.
— Горячая вода нужна повитухам, чтобы сварить кофе и чем-нибудь занять мужчин, — проворчала Марианна. — Принеси рюмку коньяку. И полотенца, побольше чистых полотенец для посуды. И обогреватель. Лотар, хватит тереть ее живот, она же от боли с ума сходит, когда ты на него надавливаешь. Передвинь ее ближе к краю.
Янн склонился над Клодин и попросил ее дышать равномерно.
— …de connard d’enculé de ta mere![154]
Когда Янн ушел за полотенцами, Лотар спросил:
— Почему ты меня бросила?
— Ты прямо сейчас хочешь это обсудить, Лотар?
— Я только хочу тебя понять!
Янн вернулся и направил обогреватель на Клодин.
— Жанреми! — позвала Марианна. — Где Грета?
— Она… у себя в номере. С рыбаком. Симоном.
— Он мне не нужен, приведи Грету. В доме есть еще хоть одна женщина?
— Кто-то остался после праздника и… Mon Dieu![155]
Между половых губ Клодин показалась головка ребенка. Жанреми поспешно отвернулся к раковине, и его вырвало.
— Ta gueule![156] — завопила Клодин.
— Не тужься! — громко приказала Марианна. — Пыхти! Жанреми, Грета!
Она запыхтела, чтобы показать Клодин, что от нее требуется, села на вторую кастрюлю, подложила несколько полотенец под бедра роженицы и осторожно взялась рукой за выступающую головку, чтобы поддерживать и направлять ее. Клодин уперлась ногами в плечи Марианны, оставив грязные следы у нее на коже.
Жанреми, пошатываясь, выбежал из кухни.
— Что я сделал не так, Марианна?
— Лотар! Все и ничего! Ты такой, какой ты есть, я такая, какая я есть, мы не подходим друг другу, и это все.
— Не подходим! Что ты говоришь!
Клодин закричала и стала тужиться, но ребенок не хотел выходить дальше.
Руки Марианны вспомнили, что делается в таких случаях, ее сознание в этом даже не участвовало. Она немного пригнула головку ребенка обеими руками, пока не показалось плечо. Казалось, промежность разорвалась, она на мгновение подняла глаза: Лотар страдальчески зажмурился, Янн держал в руке рюмку коньяка и со странно отрешенным выражением лица смотрел на нее, — и наконец перевела глаза на маленькое тельце, полностью выскользнувшее наружу.
Она поддержала младенца под грудку, чтобы он не повис в воздухе головкой вниз. Остаток околоплодных вод шумно излился на пол.
— Янн, сними рубашку, — спокойно сказала Марианна.
— Виктор! — вскрикнула Клодин, и еще раз: — Виктор!
Она в изнеможении откинулась на стол. Все ее мышцы расслабились.
И вот наконец Марианна держала в руках младенца. Она бросила взгляд на часы: пять минут шестого. Ребенок был весь в крови, скользкий, в липких желтых экскрементах. Она осторожно, едва прикасаясь, отерла его стерильными полотенцами и взяла у Янна верхнюю рубаху, сохранившую тепло его тела, чтобы завернуть в нее новорожденного.
— Это jeune fille, девочка, — прошептала она на ухо Клодин. Та тяжело привалилась к Лотару.
— Ребенок не закричал, — пробормотал Янн.
Марианна погладила девочку по спинке, потерла ей ступни. Ничего. Ни звука.
«Ну, давай же, давай! Закричи!»
— Что случилось? — тихо спросила Марианна у девочки. — Ты не хочешь? Жизнь прекрасна, ты будешь любить, и тебя будут любить, ты научишься смеяться…
— Я опоздала? — В кухню ворвалась Грета в кокетливой рубашечке, поверх которой она набросила тельняшку и куртку Симона.
— Ребенок не закричал, а у меня все руки заняты, некому перевязать пуповину.
— Что с моим ребенком? ЧТО С МОИМ РЕБЕНКОМ?
Клодин укусила Лотара за руку, и он в испуге ее выпустил.
— Надо же, герои тут собрались, — промурлыкала Грета и нежно ущипнула младенца за ушко.
Ребенок не закричал.
Клодин безумным взором уставилась на Марианну. Она приподнялась на локтях, и из ее лона хлынул поток крови и околоплодных вод.
Грета тотчас же подняла повыше пуповину и надавила на пупок Клодин. Взгляд Марианны упал на камешек Сидони. Она схватила его, разжала крошечный кулачок малышки и осторожно втолкнула его в ладошку. Марианна почувствовала, как в маленьком тельце что-то сильно, но беззвучно напряглось и расслабилось, наконец высвобождаясь, вроде недавних всполохов на небе. «Сидони? — вопросила Марианна. — Это ты?»
Легкие девочки наполнились воздухом, щечки окрасились румянцем, и внезапно она издала громкий, ликующий крик.
За окном прогрохотал мощный раскат грома.
Мужчины облегченно рассмеялись, а Марианна приложила девочку к материнской груди. Молодая француженка нежно ее обняла, а во взгляде ее читались удивление, благодарность и стыд.
Грета сорвала бантик со своей ночной рубашки и в двух местах перевязала им пуповину, пока Марианна перерезала стерильными перевязочными ножницами питающий младенца канатик. Завтра она зароет пуповину под цветущим кустом. На всякий случай.
Лицо Клодин постепенно порозовело, и Марианна встала, чтобы подать ей стакан холодной воды, пока Грета останавливала кровь при помощи зажима для пуповины. Внезапно Марианна ощутила бесконечную усталость. Событий одного этого дня вполне хватило бы и на несколько лет. Богини показали ей, что жизнь и смерть могут случиться в один день и зачастую их трудно отличить друг от друга.
В кухню вбежала бригада санитаров. Наконец-то!
Марианна взяла рюмку коньяка, выпила половину, а половину протянула Грете. Та выпила остаток.
Марианна посмотрела на Лотара и перевела взгляд на Янна. Оба они стояли с таким видом, словно чего-то от нее ждут.
Янн первым вышел из оцепенения, надел куртку поверх майки, нежно поцеловал Марианну в лоб и прошептал: «Je t’aime».
Лотар снял галстук, расстегнул воротник рубашки и спросил:
— Мне уйти? И больше не возвращаться?
— Как будто именно сейчас это важно! — проворчала Грета так тихо, что почти никто ее не слышал.
— Лотар, иди лучше спать, — утомленно произнесла Марианна.
— Я тебя больше не узнаю, — откликнулся Лотар.
«Я тоже себя не узнаю», — подумала она.
— Но хотел бы понять, кто ты, — сказал он тихо. Умоляюще. Когда Марианна не ответила, он бережно погладил ее по щеке и ушел.
— Интересно, кто такой Виктор, — помолчав, промолвила Марианна.
Услышав это имя, Клодин испуганно привстала. Марианна различила в ее взгляде немую мольбу и замолчала.
Оказав Клодин помощь, врач подошел к Марианне и пожал ей руку:
— Bon travail, madame[157].
Потом он извлек лист бумаги и стал вносить в графы все данные: дату и место рождения, имена присутствующих. Отец?
— Неизвестен, — твердо сказала Марианна.
Врач обернулся к Клодин:
— Это правда?
Та кивнула с широко открытыми глазами.
— Вы уже выбрали имя, мадемуазель?
— Анна-Мари, — прошептала Клодин и улыбнулась Марианне.
Камешек Сидони покоился между тяжелых грудей Клодин, возле самого личика девочки. Этот камень был первым, что увидела Анна-Мари, когда распахнула глаза.
У каменного парапета в Розбра по-прежнему стояла молодая женщина.
Она ощущала свое одиночество остро, но без всякой грусти. Лорин осознала, что никогда не будет трагически одинокой, пока сможет сделать хотя бы шаг. Однако она оставила этот шаг про запас, еще не зная, к кому она его сделает. Пусть жизнь принимает решения за нее, она не отберет у нее способность ходить.
Когда Падриг подъехал к ней на «пежо», она все еще глядела в сторону Кердрюка. Падриг посадил ее в машину и отвез туда, где ее ожидали неподаренные цветы и непрочитанные письма.
45
Гроза родила сияюще-яркий день.
Проспав всего несколько часов, подойдя к окну и впустив в комнату лучи августовского солнца, Марианна увидела, как внизу, на молу, Женевьев, Ален, Жанреми и несколько монахинь устилают длинный стол белыми скатертями. Женевьев и Ален поддразнивали друг друга, как дети за игрой, и то и дело прикасались друг к другу, словно желая удостовериться, что это все не сон.
Из гостиницы вышли оставшиеся в ней на ночь участники вчерашнего праздника, чтобы сесть за огромный, накрытый к завтраку стол.
В пышных древесных кронах распевали птицы, легкий бриз приносил запах моря, на сверкающей глади Авена покачивались белые лодки. Отец Баллак вышел из кухни с целой охапкой багетов. На террасе под красной маркизой сидели, спасаясь от утреннего солнца, Эмиль и Паскаль Гуашон; они держались за руки, а у ног их устроились Мадам Помпадур и Мерлина. Рядом сидел Поль; он как раз обмакивал в красное вино круассан и подносил его к губам Розенн. На «Гвен II», подплывавшей к причалу со стороны моря, Марианна узнала Симона, а рядом с ним — женщину в кокетливо сдвинутой набок матросской шапочке и полосатой тельняшке: Грету. На сиденье «веспы» грелся Макс.
Не было Янна.
Не было Сидони. «И никогда больше не будет».
Марианна прижала руки к глазам. Остальные этого еще не знали. Еще не знали, что Сидони никогда больше не придет в понедельничный клуб пенсионеров в Кердрюке.
Отняв руки от лица, Марианна увидела, что ей машет Женевьев, другой рукой обвившая Алена, который, в свою очередь, крепко прижимал к себе подругу.
Женевьев указала ей место посреди длинного стола; все остальные к этому времени уже расселись. Монахини. Кердрюкские пенсионеры. Влюбленный повар. Грета. Туристы, которые обнаружили, что больше не представляют себе каникул без этой гавани. Не хватало только самой красивой девушки в деревне, Янна и парикмахерши Мариклод. Женевьев снова поманила ее, призывая спуститься.
«Неужели это мое место?»
Она обвела взглядом всех этих чудесных людей.
Кто-то постучал в дверь. Вошел Лотар и стал за ее спиной.
— Марианна… — начал он. — Я… хочу попросить у тебя прощения. Пожалуйста, дай мне еще один шанс. Или… ты хочешь остаться здесь?
Марианна посмотрела вниз, на набережную. Ей не подобало быть среди этих необычайных, дружелюбных людей, — не место ей здесь. Не Марианне Ланц, в замужестве Мессман, из Целле. Не той женщине, что читала выуженные из мусорных контейнеров журналы и ела просроченные продукты. Не той женщине, которая ничего не добилась в жизни. Лишь создавала видимость.
Она только вообразила, что она — что-то особенное; но она за шестьдесят последних лет ничуть не изменилась.
Лотар был ее жизнью. И, приехав сюда, напомнил ей, кто она такая, откуда и какой останется, как бы ярко она ни красилась и ни кокетничала напропалую на сценах. Все, что она здесь пережила, было видимостью, притворством.
Она вырвала у судьбы немного счастья; больше ей не было отмерено. Ей не подобало жить на этой земле, любить человека с глазами как море, занимать место среди этих чудесных людей, которые во всем, во всем ее превосходили.
— Спускайтесь! А то мы, пока вас ждем, умрем от голода! — крикнул Ален.
Марианна медленно причесалась, надела белое платье, пополоскала рот и пощипала себя за щеки, вместо того чтобы подкрасить губы и наложить румяна, как обычно делала в последние недели.
Незнакомка, из зеркала взглянувшая на нее, не улыбалась. Она былая седая, с пустыми глазами.
— Я — это не ты. А ты умерла, — сказала Марианна.
«Я жила ровно столько, сколько тебе хотелось», — словно говорила ей незнакомка, которую она приняла за себя саму.
За ее спиной возник Лотар и сказал, глядя прямо в зеркало, прямо ей в глаза:
— Я тебя люблю. Выходи за меня снова.
Когда они подходили к столу, Жанреми поднялся с бокалом игристого вина в руке:
— За Марианну! Она умеет играть на аккордеоне, принимать роды на кухонном столе и спасать пересоленные супы.
— И исцелять дураков от глупости! — воскликнула Женевьев, и все засмеялись.
— А нормальных сводить с ума! — добавила Паскаль. — Или наоборот? — спросила она у мужа.
Следом за Жанреми встали с мест все остальные, Эмиль — опираясь на Паскаль, и все подняли бокалы и bols[158].
— За Марианну! — произнесли присутствующие хором.
Марианна не знала, куда деваться от стыда. Просто невыносимо, что все ее любят, что все ею восхищаются. Марианна готова была сквозь землю провалиться.
«Я обманщица. Я даже не тень той, за кого меня принимают. Я всем солгала. Я просто авантюристка».
Как будто истратив все свое мужество прошлой ночью, она не решалась смотреть друзьям в глаза.
«Я только притворялась перед вами, что я какая-то особенная. Все это обман. Все, от начала до конца».
Но рядом с ней был Лотар, который все это знал и все-таки поехал следом за нею, эдаким ничтожеством. Он знал Марианну и, несмотря ни на что, ее любил.
Он любил ее. Неужели об этом можно было просто забыть?
— Почему вы не садитесь? — спросила Женевьев.
Марианна проглотила комок в горле.
«Я тебя люблю. Выходи за меня снова».
— Я возвращаюсь в Германию со своим мужем, — тихо произнесла она.
Паскаль от ужаса опрокинула бокал.
— Пожалуйста, сядьте, немедленно, — прошептал Жанреми. — Быстро.
Теперь все смотрели на нее недоверчиво, разочарованно и недоумевающее.
— Мне не подобает это место, — сказала Марианна уже немного громче. — Извините.
Он повернулась и убежала.
Когда Марианна собирала чемодан, дверь широко распахнулась и вошла Грета.
— Вы что, с ума сошли? Что все это значит?
Марианна сжала губы и только молча укладывала вещи, слой за слоем.
— Эй! Да проснитесь же! Марианна, если вы — это правда вы, если вы меня слышите, подайте знак!
Марианна замерла.
— Иначе и быть не может! — закричала она на соседку охрипшим от слез голосом. — Я такая, какая я есть! И не больше! Я не… не музыкантша. Не секс-бомба для… Янна.
Произносить его имя было больно.
— А еще я не целительница и не морская колдунья и не излечиваю безумцев! Я и понятия не имею о жизни! Я ничтожество! Слышите? Все они видят во мне какую-то иллюзию.
Она упала на кровать и заплакала.
— Вот те на! — вырвалось у Греты.
— Но ведь правда же, — прошептала Марианна, кое-как подавив безутешные рыдания. — Я не могу жить здесь так, как все. Я не создана для такой жизни. И как бы я ни старалась, я не смогу стать такой, какой бы мне хотелось. Я не смогу быть свободной, не смогу сама делать выбор, не смогу избавиться от страха смерти, просто не смогу. Ну и что мне тогда здесь делать? Жить в мансарде, превратиться в немецкую ведьму? Я боюсь этой жизни! Здесь я вынуждена быть чем-то большим, чем есть на самом деле! Я не могу создать себя заново! А вы бы смогли?
Грета пожала плечами. Если бы смогла, то вряд ли стала бы двадцать восемь лет терпеть изменника-парикмахера, хранящего верность своей жене.
— Вы можете делать все, что пожелаете, — начала было она.
— Я хочу домой, — прошептала Марианна.
Такси ждало с включенным мотором. Марианна по очереди попрощалась с обступившими ее бретонцами за руку. С Полем. С Розенн. С Симоном. С Паскаль. С Эмилем. С Аленом. С Жанреми. И с мадам Женевьев.
— Мы никогда не меняемся, — сказала мадам Женевьев на прощанье. — Это ваши собственные слова, Марианн. Это вы говорили, что мы только забываем себя. Не забывайте себя, мадам Ланс! — Она протянула ей конверт с жалованьем.
Марианна обернулась к Жанреми и обняла его, а потом прошептала ему на ухо:
— Лорин любит тебя, глупый ты triñschin. А я точно знаю, что хранится в холодильнике.
Жанреми долго не выпускал ее из объятий.
— Я не мог. И ты тоже не смогла. Мы оба глупые… triñschins.
Эмиль, не глядя на нее, погрузил в такси аккордеон. Марианна кивнула ему и села в машину.
Она не оглядывалась. С каждой минутой ей становилось все труднее и труднее дышать.
Когда у перекрестка с поворотом на Конкарно, где Марианна уже однажды ловила машину, они свернули направо, к Понт-Авену, Лотар нарушил молчание:
— Я и представить себе не мог, что ты уедешь со мной.
— Это было мое решение.
— Это потому, что ты меня любишь?
— А разве тебе когда-нибудь это было важно?
— Думаю, недостаточно. Иначе бы ты не ушла.
Она молчала, пока они не доехали до Понт-Авена, и там Марианна постучалась в дверь квартиры Колетт над галереей. Когда Колетт поняла, зачем Марианна пришла к ней, ее лицо оледенело.
— Значит, как только стало трудно, вы все бросили и бежали.
— Мне очень жаль…
— Нет, вам не жаль. Во всяком случае, мало жаль. Вам явно не жаль себя. До сих пор не жаль!
И Колетт с грохотом захлопнула дверь у Марианны перед носом.
Марианна изумленно уставилась на деревянные доски двери. Как это понять?
Вдруг Колетт опять распахнула дверь.
— У Янна первого сентября открывается выставка в Париже. В галерее «Роан», в моем старом магазине. Мы задумывали ее как сюрприз. Для вас. Ведь он выставляет вас. Это его первые крупноформатные работы за тридцать лет. — Дверной замок снова защелкнулся.
Когда Марианна стала спускаться по ступенькам, галеристка прокричала ей вслед:
— Вы для меня умерли, Марианна!
Для Марианны это стало очередным доказательством того, что она не нашла здесь своего места, это ей только померещилось.
— Что она сказала? — спросил Лотар.
— Пожелала нам счастливого пути, — ответила Марианна.
Когда они остановились у мастерской Янна, Лотар схватил ее за руку.
— Может быть, не стоит?
— Это вопрос приличий, — возразила Марианна, отнимая у него руку.
Странные какие приличия — сказать мужчине: «Я тебя люблю. Но я не та, какой ты меня видел. И я хочу домой». Внезапно Марианну охватила безумная надежда, что Янн изо всех сил станет ее удерживать.
Проходя мимо высоких, широких окон его мастерской, она подумала, что так и не увидела картины, на которых он ее запечатлел.
Она глубоко вздохнула. А точно ли надо было уходить?
Войдя в переднюю, которая вела в большое, светлое помещение мастерской, Марианна услышала рыдания. Когда она вошла, ни Янн, ни Мариклод ее не заметили. Стареющая парикмахерша рыдала, а Янн крепко прижимал ее к себе. Перед картиной, изображавшей силуэт обнаженной женщины. Прекрасной обнаженной женщины.
Но потом рыдания Мариклод превратились в смех; оказывается, все это время она не рыдала, а смеялась. Она обняла Янна и покрыла его лицо быстрыми поцелуями.
«Это они над тобой смеются. Над тем, какая ты идиотка».
Марианна бросилась бежать; отныне вопрос, правильно она поступила или нет, не будет ее мучить.
— Ну что? — спросил Лотар, когда она, тяжело дыша, едва сдерживая слезы, опустилась рядом с ним на сиденье. — Как он это принял?
— Как мужчина, — прохрипела Марианна.
— Удивительно, — произнес Лотар. — Знаешь, когда ты ушла и случилось это… с Симоной, мы с ним поговорили… Он так тобой восторгался, что я временами думал: «О ком это он?» Женщину, которую он в тебе видел, я бы никогда не отпустил.
— Ее звали не Симона, а Сидони, и с ней не «что-то случилось» — она умерла. Умерла.
— Конечно. Извини.
Лотар помолчал.
— Хочешь, останемся на пару дней в Париже? — предложил он. — Но только если ты обещаешь больше не убегать, — добавил он полушутливо-полуозабоченно.
Когда под окнами мастерской затормозила машина, Мариклод выпустила Янна из объятий. Она хохотала, рассказывая ему, как шла-шла, увидела свое отражение в витрине и себя не узнала. Подумала: «Ну и страшная корова» — и только потом до нее дошло, что это она сама.
Клодин только что в красках описала матери, как рожала в «Ар Мор» и чуть не потеряла ребенка. А еще сказала, что забеременела от Виктора. Он был женат. Клодин решила ничего не говорить ему о ребенке. Если он ее любит, то пусть выберет ее, потому что ему так хочется, а не потому, что чувствует перед ней обязательства.
И так Мариклод стала бабушкой и сразу же кинулась к Янну, чтобы уговорить его поехать с ней в Кердрюк, где она смогла бы поблагодарить Марианну.
— Какие прекрасные картины. Марианна их уже видела?
Он покачал головой.
46
Марианне казалось, что она шаг за шагом по своим же собственным следам возвращается в прошлое; это чувство не покидало ее с тех пор, как они с Лотаром в Кемпере сели в скорый поезд «Тэ-Жэ-Вэ», следующий из Бреста, проехали Оре и понеслись дальше в сторону Парижа.
Она изменилась и все же осталась прежней. Маленькой Анни, которая пережила величайшее приключение в своей жизни. По крайней мере, это доказала ей вылазка в иной мир: ее место — именно то, какое она и занимала сорок с лишним лет. У нее нет права на новую жизнь, все это были иллюзии.
— Мы как раз проезжаем мимо Броселианда, — начала Марианна, указывая на тень леса на горизонте. — Это лес наших мечтаний, там погребен великий волшебник Мерлин.
— Не было никакого Мерлина, — проворчал Лотар, перелистывая журнал «Автомотоспорт».
— Это кто сказал?
— Здравый смысл.
Марианна замолчала, вспоминая, как стояла возле источника у гробницы Мерлина, у камней, окружающих его темницу, темницу любви. В щелях виднелись бесчисленные записки с просьбами и мольбами, которые оставили там люди, в таком случае, лишенные здравого смысла. И Марианна была одной из них; она написала: «Хочу любить и быть любимой».
— Тебе вообще интересно, что я делала в Кердрюке? — спросила она у Лотара.
Он пожал плечами.
— Водила «ягуар» и «веспу», готовила омара, кормила собак и кошек с фарфоровых тарелок эпохи Мин, спасла монахиню, позировала художнику, играла у моря на аккордеоне и несколько раз пыталась покончить с собой.
Лотар изумленно посмотрел на нее:
— Где же ты и когда всему этому научилась?
— Ты мне не веришь?
Он какое-то время глядел на нее, а потом вновь перевел глаза на журнал.
— Нет, почему, верю.
— Лотар!
— Что?
— Ты знаешь, что такое клитор?
Его лицо побагровело от смущения.
— Умоляю, перестань!
— Выходит, знаешь?
Он сухо кивнул и оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подслушивает.
— А на мой, значит, тебе было наплевать?
— Твой любовник, наверное, был лучше меня.
— Мне что, напомнить тебе о Сибилле?
— Мы о ней уже говорили. Это все в прошлом.
— Мы о ней и пяти минут не проговорили, а потом ты потребовал, чтобы я никогда больше об этом не упоминала.
— Я же сказал, потому что это дело прошлое! Мне нужна была только ты.
— Мы должны начать по-настоящему разговаривать друг с другом, Лотар. По-настоящему.
— Разговорами можно что угодно испортить. Время лечит раны, ничего лучше не бывает.
— Времени у нас осталось немного, Лотар. Может быть, лет двадцать, если повезет.
— Вечно ты все драматизируешь!
Марианна глубоко вдохнула и выдохнула.
— Забудь про клитор. Я только скажу тебе, чего я еще хочу. Хочу устроиться на работу. Хочу, чтобы у меня была собственная комната. Хочу играть на аккордеоне.
— Так в чем проблема? На здоровье, пожалуйста.
— Ты сам всегда видел в этом проблему!
— Это только ты напридумала!
Марианна замерла от удивления. А что, если это правда? Что, если память рисует ей мужа куда более мрачными красками, чем он того заслуживает? Вдруг она и правда навоображала невесть чего, чтобы появился повод его возненавидеть? Она нерешительно посмотрела в окно: вот уже час, как они проехали Ренн. Вскоре они прибудут на вокзал Монпарнас.
— Скажи мне что-нибудь приятное, — попросила она.
Он неохотно закрыл журнал.
— Марианна! Я приехал во Францию, чтобы попросить тебя вернуться домой и снова выйти за меня! Разве то, что я по-прежнему хочу жить с тобой, не приятная новость? Что мне еще сделать?
«Быть романтичным. Нежным. Ласковым. Участливым. Радоваться, когда меня видишь! Смотреть на меня так, как будто я для тебя — самый важный человек на свете. Желать меня. Хотеть. Уважать. Ценить. Верить мне. Поддерживать меня. Перестать читать этот идиотский журнал, когда я прошу со мной поговорить!»
— Я люблю тебя, — произнес Лотар. — Ты это хотела услышать?
«А ты хотел это сказать?»
«Я же все равно сказал!»
«Но ты честно это говоришь?»
«Марианна, я сейчас выйду. Если все женщины начнут так вести себя и постоянно терзать мужей вопросами, честно ли они…»
«Но так ведут себя не все женщины».
«Да, к счастью. А то бы наше общество давным-давно погибло! Нужно ведь уметь не только о себе думать! Как подобает взрослым людям!»
«Нужно уметь думать о конкретном человеке. Видеть отдельного человека. Каждый человек — личность, у каждого есть свои, неповторимые причины поступать так, а не иначе. И каждый отдельный человек важен. Как подобает взрослым людям. Я в этом уверена».
Этот диалог она молча вела сама с собой. И теперь она окончательно убедилась: они с Лотаром действительно совершенно разные, память ее не обманула.
Но может быть, ей тогда начать делать для него все то, чего она от него ожидала: стать ради него более женственной, более соблазнительной, более уверенной в себе, более загадочной…
«БОЖЕ МОЙ, ПЕРЕСТАНЬ, МЕНЯ СЕЙЧАС СТОШНИТ!»
Это закричал голос у нее в голове. Это было похоже на Колетт.
— Да, именно это я и хотела услышать, — помолчав, ответила Марианна.
В какой-то момент она почувствовала, как Лотар положил руку на ее ладонь.
— Нам стоит купить новые кольца, — прошептал он, погладив ее по безымянному пальцу, давным-давно отвыкшему от кольца. — А то что люди-то подумают? — проворчал он, и Марианна отняла у него руку.
Париж, Монпарнас. Перед уличными прилавками и киосками, как всегда, толпились люди, а когда Марианна проходила мимо импровизированного обувного магазинчика, продавец поднял глаза, заметил ее и крикнул:
— Ma chère madame! Вы просто очаровательны!
— Спасибо. Вы продаете туфли и ботинки, которые могут перенести своего обладателя в страну его мечты?
— Ну конечно! — Он как по волшебству достал откуда-то пару красных лодочек в белый горошек. — Вы хотите найти там любовь?
Продавец подмигнул Лотару, который недоверчиво наблюдал за ними.
«Да. Хочу».
Марианна быстро двинулась к ближайшему такси.
— До центра мы можем доехать и на автобусе, это дешевле, — предложил Лотар.
— Мне шестьдесят, и я не хочу ездить на автобусах, — заявила Марианна, садясь в такси. Лотар следом за нею открыл дверцу с другой стороны.
Когда такси тронулось с места, муж схватил Марианну за руку.
— Прости меня, — прошептал он.
Он прижал ее онемевшие от ужаса пальцы к своей гладко выбритой щеке; отдаваясь их прикосновению, закрыл глаза.
Марианна не знала, что делать.
Он поцеловал ее ладонь.
— Прости меня, — еще настойчивее взмолился он. — Прости меня за то, что не любил тебя так, как ты заслуживаешь.
Муж провел ее рукой по своей щеке, словно устав ждать, когда же она решит его погладить.
И тут Марианна осознала: с тех пор как они снова встретились, она ни разу не обняла и не поцеловала Лотара. Она и не хотела к нему прикасаться.
— Неужели мы не можем научиться любить друг друга так, как нужно? — умоляющим тоном теперь спрашивал он. Он попытался привлечь Марианну к себе, погладить по волосам.
— Я жила твоей жизнью, Лотар. Не своей. Отчасти в этом виноват ты, но столько же и я. Это не имеет отношения к любви.
Он опустил голову.
— А если я отныне буду жить… твоей жизнью? Так, как ты хочешь?
«Он не понял. Никто не должен жить жизнью другого человека. Ни он, ни я».
— Я согласен, ты будешь жить в собственной комнате. Играть на аккордеоне. А когда я уйду в отставку, все изменится. Мы можем съездить в отпуск в Кердрюк, если хочешь.
«Съездить в отпуск в Кердрюк. Лотар уйдет в отставку. Жить будем в Целле».
Таксист затормозил и ворчливо произнес: «Впереди авария».
Марианна заметила, что остановились они прямо на мосту Пон-Нёф, почти поравнявшись с тем самым эркером, откуда она бросилась, решив положить конец своей жизни.
Неужели от Лотара всегда так пахло мокрыми стенами? Марианна расстегнула ремень безопасности, открыла дверцу и вышла.
— Куда ты? — встревоженно спросил он. — Марианна!
Марианна подошла к тому выступу, где хотела со всем покончить и где все для нее началось заново. А ведь она проехала бы мимо, если бы случайно двоим водителям не взбрело в голову столкнуться именно в этом самом месте.
В жизни все определяют непостижимые случайности? Или важно только их различать? Внезапно, с беспредельной ясностью, пронзившей ей сердце и завладевшей ее духом, Марианна осознала: всегда важен какой-нибудь час или два. Часы, когда принимаешь собственные решения. Часы свободы.
Она ощутила, как внутри нее воцаряется великий покой.
Теперь Марианне стала понятна ярость галеристки, ее гневные слова, брошенные ей вслед: для Колетт та Марианна, что дала самой себе шанс, умерла. Капитулировала.
Она обернулась к Лотару, который остался на заднем сиденье и смотрел на нее в окно.
«Не знаю, почему мы, женщины, так уверены, что, отказываясь от собственных желаний, становимся дороже своим мужчинам. О чем мы думаем? Неужели те, что отрекаются от своих желаний, заслуживают любви больше, чем те, что пытаются воплотить свои мечты?»
— Марианна! Нам пора!
И только тут Марианна осознала, что с ней случилось.
«Именно так я и думала. Чем больше страдала, тем более счастливой себе казалась. Чем больше отрекалась от себя и своих желаний, тем сильнее надеялась, что Лотар даст мне то, в чем я нуждаюсь. Я думала, что, если я не буду ничего хотеть, не буду ни в чем его упрекать, не буду настаивать на собственной комнате, не буду настаивать на своем праве работать, не буду провоцировать ссоры, случится чудо. Думала, что он скажет: „Ради меня ты от многого отказывалась! Какая же ты самоотверженная! За это я полюбил тебя еще больше!“»
Пробка начала рассасываться.
«Я сумасшедшая. Я так гордилась собой и своей способностью страдать; я хотела достичь в этом совершенства. Чем глубже я с головой уходила в молчаливое, безропотное смирение, тем крепче он должен был когда-нибудь меня полюбить. А величайшее самопожертвование — отказ от собственной жизни — должно было обеспечить мне его бессмертную любовь».
Марианна захихикала.
— Глупо, но оплату страдания ответной любовью мне никто не гарантировал, — вслух произнесла она, и прохожие стали бросать на нее раздраженные взгляды.
— И вы не лучше! — крикнула она им вслед.
«Любовь нужно заслужить страданием?»
Она рассмеялась так, что по щекам потекли слезы. Она искренне надеялась, что после нее придут поколения женщин, которые лучше распорядятся своей жизнью. Поколения женщин, которые будут воспитаны женщинами, не привыкшими отождествлять любовь с жертвой и отказом.
— Марианна! Поедем домой! — Лотар вышел из машины.
Никогда прежде Марианна не слышала в его голосе такой неуверенности. Такой мольбы. Желания самоумалиться. Она хотела крикнуть ему в ответ: «Перестань! Того, кто унижается, не любят, а презирают!»
Никто из нас не испытывает благодарности к близким, идущим ради нас на жертвы. Такова уж жестокость рода человеческого.
Марианна подошла к такси, открыла багажник, достала свой чемодан и аккордеон.
— Марианна! Куда ты?
— Не знаю, — ответила она и захлопнула крышку багажника.
Марианна знала одно: она жаждет большего, чем когда-либо хотела получить от Лотара.
Он схватил ее за плечо.
— Марианна! Не оставляй меня! Прошу тебя, не уходи! Не сейчас, Марианна! Я с тобой говорю! Марианна, если ты сейчас уйдешь, домой можешь не возвращаться!
Голос у него прервался. Марианна сбросила его руку.
Потом она последний раз обернулась к Лотару Мессману.
— Лотар! Ты мне не дом.
Марианна взяла чемодан в правую руку, аккордеон — в левую и пошла куда глаза глядят, искать свой дом.
Она всхлипывала, оплакивая ту любовь, которой больше не ощущала к Лотару, и ту, в которой так долго отказывала себе самой.
47
Париж в августе. Тихие дни, самые тихие в году, когда парижане уезжают на юг на машинах. Пустынные улицы, почти прозрачный воздух. Париж обезлюдел, и за опущенными жалюзи в квартирах, маленьких магазинчиках и пекарнях застаивается душное тепло.
Марианна сидела на берегу канала Сент-Мартен и ела бриошь. Близость воды осушала жаркую пленку пота на ее коже. На другом берегу канала под пешеходным мостиком квартет музыкантов исполнял мюзет в мягком свете медленно сгущающихся сумерек. Мимо, тарахтя, проплыла жилая баржа.
Четыре дня тому назад Марианна оставила мужа на мосту Пон-Нёф. Она не знала, куда пойдет, и просто брела наугад, надеясь добраться куда-нибудь, где сможет поставить на пол чемодан и аккордеон и закрыть за собой дверь.
В конверте, который вручила ей на прощанье Женевьев, было больше, чем она заработала в гостинице и в «Ар Мор». Мадам Эколлье еще доплатила ей за выступление на празднике.
Все имущество Марианны составляло две тысячи шестьсот шестьдесят два евро, одолженный чемодан с простой одеждой и синим вечерним платьем, губная помада от «Шанель», словарь, изразцовая плитка и аккордеон.
Ей исполнилось шестьдесят, у нее не было ни профессии, ни сбережений, ни драгоценностей — и все-таки Марианна чувствовала себя богаче, чем когда-либо. Она решила оставаться в Париже, пока не поймет, чего ей хочется. Хочется столь страстно, что она ни секунды не сможет больше выдержать на месте.
Кердрюку в этом плане никакой роли не отводилось.
Пансион «Бабетт» она нашла в квартале Маре; сплошь крохотные, но светлые и с любовью обставленные комнатки, в которых помещались кровать, стол, стул и комод, выходили окнами в зеленый двор. В окнах домов напротив Марианна наблюдала чужую жизнь. В ярко освещенных оконных проемах ей показывали самые разные безумные сны. Вот человек в наушниках, с дирижерской палочкой в руке — дирижирует безмолвными симфониями; вот женщина ставит рядом с собой на ночной столик чье-то сердце в банке с завинчивающейся крышкой и целует его перед сном; вот пара пересаживает комнатные растения и ссорится, она дает ему пощечину, он ее целует, а потом они едят груши, свесив ноги на улицу с подоконника.
Рядом с пансионом располагалось маленькое кафе, в котором встречались соседи, не уехавшие в отпуск, пили пастис, заказывали café crème[159] и читали газету. На второе же утро они начали здороваться с Марианной, когда та пришла позавтракать.
Она бродила по городу из конца в конец, сначала пешком, потом ездила на метро, выходила то здесь, то там, пока не обнаружила один из тех прокатов велосипедов, что обходились дешевле, чем любой суточный билет метро. И теперь на стареньком серебристом велосипедике Марианна разъезжала по вздыхающему с облегчением Парижу, где внезапно нашлось столько свободных мест на парковках. Сен-Жермен, Латинский квартал, мимо Сорбонны, в квартал Маре, а потом через весь город на запад, до Эйфелевой башни, дребезжа звоночком по Елисейским Полям. В парках и на импровизированных пляжах по берегам Сены загорали студенты, вдоль каналов сидели с удочками рыбаки, на жилых баржах засыпали над этюдами художники, а на Пон-дез-Ар, мосту Искусств, с видом на Эйфелеву башню, увлеченно целовались на закате туристы.
Марианна искала. Искала место, которое было предназначено ей судьбой, а если оно не здесь, то ей суждено было отправиться странствовать, пока его не найдет. Но сначала ей надо было убедиться, что это не Париж, город, подаривший ей начало и конец. Она была уверена, что этот город подаст ей знак.
Снова и снова приезжала она на остров Сите в надежде найти того клошара, что вытащил ее из вод Сены.
Марианна отряхнула крошки и встала. Жилая баржа под названием «Арлетти» уже уплыла, и только где-то в лабиринте улиц не стихал шум мотора «веспы». Внезапно в него влились аккорды «Либертанго».
С этими звуками на Марианну нахлынуло все, что она так успешно пыталась не вспоминать, пока бродила и ездила по городу, бежала от себя самой, лишь бы ее мысли не отправились в полет над целой страной, на запад, в маленький речной порт, в комнату, где, жалобно мяукая, подушку Марианны обнюхивал кот.
Ее сердце уже не находило в себе сил забыть о Кердрюке.
Пока шум «веспы» удалялся, на Марианну неудержимо обрушились знакомые картины и образы.
Море. Лицо Янна. Ноги танцующего Жанреми. Жадный взор Женевьевы, устремленный на Розбра. Белые розы в черной вазе. Свора кошек над тарелками тончайшего китайского фарфора и прямая стрелка спидометра в «ягуаре». Цветущий сад за домом Эмиля в лесу. Красное платье Женевьев.
Внутри у Марианны что-то дрогнуло. Завтра было первое сентября.
48
Никто не помешает ему осуществить его намерение. В последний день августа Жанреми, недолго думая, объявил, что закрывает кухню. И сегодня, первого сентября, действительно никто не пришел. Не явился ни один из завсегдатаев: ни Поль, ни Симон, ни Мариклод, ни Колетт. Даже Женевьев в этот день не наведалась в кухню. И пусть убираются сегодня подальше, ему-то какое дело!
Сейчас он завершит этот этап своей жизни.
Жанреми протянул руку, вынул из конверта одно из своих писем Лорин и перечитал его.
«Любимая, mon cœur[160], солнышко, свет моей жизни. Ты знала, что ты — моя первая любовь? А вот я это ощущаю, именно так. Я и не подозревал, что такое бывает, мне кажется, страсть сразила меня впервые. Когда тебя нет рядом, меня терзает ужасная тоска. А счастье видеть тебя, а желание отдать тебе всего себя. Мое сердце, мои надежды, я готов отдать тебе даже руки и глаза. Я хочу вручить тебе мое будущее и мое прошлое, словно они обретут смысл только в твоих руках. Лорин, я произношу твое имя, и для меня оно превращается в синоним любви».
Он сложил из письма кораблик и поставил его рядом с остальными, которые уже сложил из других писем.
Потом взял из стопки следующее.
«Мой цветок, какая ты волнующая и утонченная, чистая и возвышенная. Одно лишь сознание, что ты была в моей жизни, позволит мне умереть спокойно. Я любил тебя, а значит, моя жизнь прошла не напрасно; не важно, любила ты меня или нет. Ты можешь принять или отвергнуть мою любовь, это ничего не меняет, я все равно улыбнусь в лицо смерти и скажу: „Ну и что? Я знал Лорин. Я видел, как она ходит, как она смеется, как она танцует, я слышал ее голос“».
Это письмо он сложил особенно тщательно.
Это было последнее из семидесяти трех любовных писем, адресованных Лорин.
Теперь рядом с ним лежали семьдесят три белых кораблика и семьдесят три цветка, и первый из них, засохшую розу, которая грозила вот-вот рассыпаться в прах, как старый пергамент, он бросил в Авен.
Когда он спустил на воду первое письмо из тех, что написал Лорин, по голове его ударил метко пущенный кед.
— Это воровство! — крикнула Лорин. Она стояла всего в нескольких метрах от мола, а рядом с ней утвердился Падриг. Жанреми охватила дикая ревность.
— Эти письма адресованы мне, ведь так? Падриг мне их показал. А ты мне их так и не отослал!
Лорин сорвала с ноги второй белый кед и тоже запустила им в Жанреми. Тот пригнулся, и кед попал в Макса, ударив по кончику хвоста. Кот, шипя, подскочил и немного отбежал прочь, с оскорбленным видом уселся в сторонке и принялся вылизываться.
— Но они принадлежат мне! Письма принадлежат адресату!
— Только когда они отправлены! — крикнул в ответ Жанреми. — И я их как раз отправляю.
— Ах, ты… Идиот! — Лорин в ярости притопнула.
А зачем они вообще перекрикивались и зачем Лорин сняла кеды? Теперь она еще стащила через голову футболку!
У Жанреми захватило дух. Она была бесконечно прекрасна. С такой кожей. С такой тонкой талией. С таким нежным животиком. С такими бедрами, которые вот-вот выскользнут из джинсов.
— Что ты делаешь?
— Достаю свое письмо. Ни одно твое слово не должно пропасть!
Лорин сбросила лифчик, а под конец еще белые трусики. Волосы у нее на лобке отливали золотом, а ноги были как у танцовщицы. «Она самая прекрасная девушка на свете, — думал Жанреми, — самая смелая, самая благородная, лучше ее никого нет».
А Лорин ступила на набережную, чтобы спасти первое из любовных писем.
Она забыла, что хотела сделать по направлению к Жанреми шаг, всего один шаг, — нет, она готова была сделать целый прыжок.
Жанреми поднялся и бросился к ней.
— Нет! — крикнул он. — Я помню его наизусть.
Кораблик уже доплыл до середины реки, он все быстрее кружился на месте, а потом его подхватило течение.
В глазах у Лорин стояли слезы.
— Но это же было первое, Жанреми. Первое — самое важное.
«Я напишу тебе столько, сколько хочешь, — думал он. — Сотни, тысячи, год за годом, у тебя будет целая библиотека из одних моих писем, а соль я из кухни выкину, потому что буду влюблен в тебя, даже когда мы поженимся, когда у нас родятся дети, а потом и внуки».
Но ничего этого он не произнес вслух. Ей нужно это письмо? Хорошо, она его получит. Жанреми снял ботинки и рубашку и прыгнул в воду. Пока он мерными гребками плыл на середину реки, пока на него нападали течения и водовороты, норовя увлечь в глубину, ему вспоминалось каждое предложение, которое содержалось в первом любовном письме Лорин.
Жанреми плыл, время от времени поднимая голову, чтобы не потерять из виду кораблик. Руки у него горели, вода делалась все холоднее и холоднее, пальцы на ногах почти онемели, но он все плыл и плыл, не щадя усилий, даже если придется последовать за корабликом в море и утонуть!
По-видимому, речных фей развеселил этот пловец, который гнался за собственными словами. Они закружили бумажный кораблик на волнах, словно в вальсе, поднимали вокруг него маленькие волны, так что Жанреми каждый раз принимался кашлять, и перебрасывались корабликом, точно мячом.
Потом они направили кораблик в приток Авена, и Жанреми, почувствовавший, как иссякающие силы умоляют его прекратить борьбу, просто лечь на спину и отдаться на волю волн, со слезами ярости и отчаяния все-таки погнался за ним.
Нимуэ, владычица моря, смилостивилась над ним и, покачивая кораблик на волнах, пустила его к Жанреми.
Он его поймал!
Жанреми повернулся к Лорин, которая все еще стояла на набережной. Он далеко отплыл от берега. Сейчас ему предстояло плыть против течения. Когда его дыхание успокоилось, Жанреми взял кораблик в зубы и, шлепая по воде, по-собачьи поплыл назад.
Когда он взобрался по ступеням на портовый мол Кердрюка, Лорин вынула письмо у него изо рта и, как была, обнаженная, наклонилась к задыхающемуся Жанреми.
Она взяла его голову обеими руками, откинула с его лба мокрые черные волосы и стала растирать, стремясь побыстрее согреть.
— Жанреми, — прошептала Лорин.
А потом она его поцеловала, ее губы нежно прикоснулись к его губам.
Он чуть было не упал спиной в воду, так поразил его поцелуй возлюбленной, ее близость, ее кожа, ее аромат, ее лицо, ее улыбка.
Она отошла на шаг и осторожно развернула бумажный кораблик.
«Лорин, ты для меня все. Мое утро. Мой смех. Мой страх и мое мужество. Ты мои сны и мой день. Ты моя ночь и мое дыхание. Ты величайший урок в моей жизни. Я умоляю, позволь любить тебя. Умоляю, даруй мне милость, позволь прожить жизнь рядом с тобой».
Она читала долго, с наслаждением, мысленно пробуя на вкус каждую фразу.
Когда она подняла глаза, лицо ее приняло торжественное выражение.
— Да, — сказала Лорин.
«Да» — самое прекрасное слово на свете.
49
— Любить? Что ты хочешь этим сказать?
— Художник должен любить, если хочет стать истинным творцом.
— Чушь! Он должен быть свободным, иначе он никакой не художник. Свободным от любви, от ненависти, от любых определенных эмоций…
Мимо мужчин, увлеченно обсуждающих картины, прошли, держа друг друга под руку, Поль и Розенн. Поль прошептал ей на ухо:
— Парижские критики, приготовиться, ваш выход!
— Так всегда бывает на вернисажах, Поль, — прошептала она в ответ.
Поль погладил ее по попе.
— Давай найдем какое-нибудь уединенное местечко вроде подвала, — тихо пророкотал он, наклонившись к ней.
Кому именно пришло в голову «съездить на экскурсию», то есть отправиться в Париж на вернисаж Янна Гаме, после того как Жанреми ничтоже сумняшеся объявил забастовку, никто уже не помнил. Янн хотел отказаться от выставки и даже грозил сжечь, уничтожить, разорвать картины на клочки, но Колетт хранила их в опломбированном контейнере. Колетт знала, что, когда приходит время представить свои работы на суд публики, у художников случаются такие приступы безумия: их охватывает страх, что кто-то отнимет их картины, а вместе с ними — все мысли и чувства, которые они в них вложили. Они опасались, что кто-то похитит их душу.
Колетт безошибочно выбрала дату открытия: первое сентября, начало rentrée[161]. Все парижане вернулись домой и жаждали как можно скорее забыть о провинции, где только что побывали, и ознакомиться с как можно большим числом последних культурных новинок, чтобы вновь почувствовать себя столичными жителями.
Паскаль ходила вдоль стен, удивленно, как маленький ребенок, рассматривая картины. Эмиль, положив больную ногу на подоконник, сидел в нише высокого створчатого окна, выходившего на рю Лепик.
Симон подошел к нему. Он крепко держал за руку Грету.
— Странно, вокруг ее портреты, а ее самой нет, — сказал рыбак.
— Она здесь, — проворчал Эмиль.
Потом он повернулся и широким жестом обвел рукой зал, в котором медленно, словно желая запечатлеть в памяти каждую деталь, мимо картин, изображающих Марианну, прохаживались Поль и Розенн, мадам Женевьев и Ален, Колетт и Мариклод, которая говорила слишком громко и слишком часто сыпала шутками, чтобы скрыть свою нервозность и странное чувство, охватывавшее ее при мысли, что она — новоиспеченная бабушка. Многие посетители останавливались перед тем полотном, где Марианна представала на сцене, окруженная ярким сиянием. Эта картина называлась «Музыка лунного света».
— Посмотри. Она в их сердцах. В их улыбках, которые появляются у них на лице, когда они видят ее и вспоминают о ней. А особенно ощутимо ее присутствие на той картине.
Оба они посмотрели на Янна Гаме, который созерцал портрет Марианны; там она была изображена в интерьере своей «раковины». Ее родимое пятно в форме трилистника отливало пурпуром, небо позади нее пылало, на заднем плане виднелась кромка моря, и зритель не в силах был отвести взгляд от ее глаз. Эта картина была решена в бесчисленных оттенках красного, во взоре Марианны вздымалось море, Янн назвал это полотно «L’amour de Marianne» — «Любовь Марианны».
— Да что в ней такого особенного?
— Она напоминает тебе о твоих мечтах, если они у тебя еще остались, — медленно произнес Эмиль.
Рыбак кивнул.
— Погляди-ка. Все они внезапно вспомнили о своих мечтах.
Колетт подвела нескольких посетителей к картинам, кое-где на таблички с названиями она наклеивала желтые кружочки в знак того, что эти работы уже выбрали и после выставки они будут проданы.
Бретонцы рассматривали парижан, у входа в галерею появлялись все новые и новые ценители искусства; нашлись и те, кто пришел проведать Колетт, очень тонкую и очень бледную, всю в черном: любовь к Сидони смягчила ее черты, а скорбь сделала ее движения и жесты резкими и угловатыми, словно она, потеряв спутницу жизни, перестала ощущать границы собственного тела.
Человек в твидовом костюме и с плоским чемоданчиком официального типа в руке как раз направился к Янну и прервал его размышления. Они подошли к картине «Любовь Марианны». Незнакомец указал на родимое пятно, которое Янн изобразил живым, как пламя. Янн пожал плечами, а Эмиль оперся на руку Симона, чтобы вместе с ним доплестись поближе и подслушать разговор.
— …а исследования в области генетики и генеалогии говорят о том, что по таким пигментным нарушениям, как изображенное на полотне родимое пятно, можно в том числе судить о принадлежности лица к потомкам кельтских друидов…
Но Янн уже перестал вникать в то, что все более взволнованно пытался объяснить ему незнакомец, а именно что родимое пятно в форме языков пламени означало родство с тем народом, который во времена короля Артура породил магов и рыцарей, друидесс и целительниц.
Янн не отрываясь смотрел на женщину в красном платье, только что вошедшую в галерею и медленно снимавшую изящные черные очки. Вот она беспомощно оглянулась. Обвела взглядом двадцать семь картин, написанных маслом, восемнадцать рисунков тушью и тридцать акварелей. И все эти полотна и графические работы изображали одну и ту же женщину.
— Марианн!
Марианна не услышала возгласа Алена. Она вся превратилась в созерцание. Она видела себя такой, какой не видела никогда прежде.
Исполненная робости, с сильно бьющимся сердцем, шла Марианна по городу в галерею «Роан» в красном, сильно декольтированном платье. Платье было шелковое, теплого красного оттенка, длиной до колен, и она нашла его в ателье, где перешивали и подгоняли одежду; там оно пролежало два года, никто его не забрал и в конце концов оно очутилось в пыльной витрине.
Марианна мысленно поблагодарила прежнюю хозяйку платья, которая не нашла в себе мужества принять его вызов, а вместо этого оставила его, и оно дождалось Марианны.
Николя, служивший на ресепшен в пансионе «Бабетт» и выведавший для нее адрес галереи «Роан», вместе с ней вышел на улицу, чтобы как следует разглядеть ее в лучах заходящего солнца.
— Восхитительно! — сказал он.
И сейчас она стояла перед картинами, открывшими ей Марианну, которую она с первого взгляда и не узнала бы в самой себе.
Марианну, которая подставляла лицо закатному солнцу. Спящую Марианну. Марианну, только что поцеловавшую возлюбленного и улыбающуюся отрешенно и самозабвенно. Женщину, которая у моря играла на аккордеоне. Обнаженную Марианну.
Она видела себя глазами мужчины, который ее любил.
И Марианна обнаружила, что она хороша собой. Она обладала красотой, свойственной любимым женщинам. Она увидела, что у нее восемнадцать, нет, девятнадцать разных лиц: лицо скорби и лицо снисходительности, лицо нежности и лицо надменности, лицо мечты и лицо музыки. Была и еще одна картина, увидев которую Марианна сразу поняла, о чем она ей напоминает: о тупике. На этом портрете в ее взгляде читалась безграничная потерянность, глаза потухли, уголки рта опустились, от крыльев носа к губам пролегли глубокие, грубые морщины.
Она не замечала, как люди расступались перед ней, и переходила от картины к картине, а некоторые смотрели ей вслед. «А это не?..», «Очень похожа…», «У них разве роман?»
Наконец она дошла до картины «Любовь Марианны». На ней было запечатлено лицо Марианны Любящей. Это лицо могло поведать все о ее силе и могуществе, о ее желаниях и ее воле, оно являло сущность ее бытия. В нем была свобода, безудержная чувственность, пыл.
Она любила, как пламенеющее море.
Янн подошел к ней сзади; ей не нужно было оборачиваться, чтобы это почувствовать. Не нужно было ей и спрашивать, хотел ли Янн ее удержать, картины сами собой однозначно ответили на этот ненужный вопрос.
— Такой ты меня видишь? — спросила она тихо.
— Ты на самом деле такая, — ответил художник.
«Ты на самом деле такая, у тебя в душе играют все краски».
Марианна обернулась к Янну.
— Это — новое лицо. Как мне его назвать? — спросил он.
Марианна посмотрела на Янна и совершенно отчетливо ощутила, что с этим человеком проведет остаток своих дней, изведав все радости, какие только возможны, и что никогда не откажется от своего чувства. В том море возможностей, что сейчас перед нею раскинулось, выбор в пользу этого человека был едва ли не самым легким решением. Конечно, она могла отправиться странствовать по миру, полюбить других мужчин, не похожих на него, тех, что будут выше или ниже, с морщинками, по-иному залегающими от смеха в уголках глаз, с другими глазами, в которых засияют звезды или горные озера. Она могла уехать на другой конец света, найти там новых друзей, новые реки и новые комнаты, где будут спать только она и ее кафельная плитка с корабликом, и наверняка кошку, которая станет ее навещать.
Но все это было не нужно. Она выбрала того, кто стоял сейчас перед ней. И она от него не откажется. А детали можно будет обсудить позже.
— Марианна жива, — ответила она. — Так называется это лицо.
«Счастье — это любить то, что нам нужно, и нуждаться в том, что любим. И получать желаемое», — подумал Янн.
— Ты вернешься с нами в Кердрюк? — спросил он.
— Да, — ответила Марианна.
В Кердрюке было все, что она ожидала от жизни.
И тут, словно они не могли больше только смотреть друг на друга, но не прикасаться друг к другу, Янн и Марианна обнялись и поцеловались так стремительно, что стукнулись зубами. Они рассмеялись, поцеловались еще раз, на сей раз нежно, но смех оказался сильнее, и так Янн и Марианна стояли, обнявшись, и смеялись, пока весь зал не подхватил их счастливый смех.
Эпилог
Говорят, это только легенда. «La nuit de samhain». Конец лета, начало черных месяцев. Ночь, когда сходятся ныне живущие и их умершие предки, когда пространство и время сливаются, когда на двенадцать безымянных часов становятся неразличимы прошлое, настоящее и будущее.
В эту ночь из туманов является иной мир, чтобы вернуть нам дорогих умерших. Мы молим их вопросить в потустороннем мире богов, демонов и фей о нашей судьбе.
Однако, когда человеческое начало сталкивается со стихиями, герои — с ненавистниками, никто не должен покидать своих близких и светлую сторону, ведь борьбу двух сливающихся миров способны выдержать лишь немногие души. Тот, кто заблудится на темных улицах или у водных врат иного мира, встретится с духами, которых могут победить только друиды и жрицы; того, кто решится выйти из дому, духи завлекут в царство мертвых, и он останется там на год. А когда вернется, никто из смертных более не в силах будет его узреть.
И все же Марианна сквозь эту ночь отправилась на море, чтобы увидеть своих дорогих умерших.
Она в одиночестве ушла с праздника, который устраивают вечером тридцать первого октября в честь покойных. Однако в этот день не только поминали умерших: Марианна и Женевьев превратили его в праздник женщин. Подобно тому, как некогда требовали этого забытые кельтские и бретонские легенды: любовь женщин стирала все границы, побеждая смерть и время.
В память женщин этого и иного миров совершали жертвоприношение — зажигали пшеничные снопы, после минуты молчания закрывали их и тушили пламя. Это был знак, что солнечный год завершился и начался новый цикл, когда будут зажжены следующие снопы. На каждый стол клали один лишний прибор, к каждому столу придвигали один лишний стул. Это место предназначалось мертвым, которых приглашали из другого мира. Потом на минуту гасили все огни, чтобы мертвые незамеченными могли взойти на свои ладьи и отправиться к себе домой. Свечи в окнах указывали им путь.
Перед каждым участником празднества стояла задача оправдаться за совершенные неблаговидные поступки и простить тех, кто его обидел, а еще составить список того, что он хочет испытать и пережить за ближайший год, до следующего samhain.
Идея составлять такие списки тоже принадлежала Марианне.
Только Янн дал Марианне знак, что в эту ночь слияния миров не готов долго ее ждать.
Янн. Были ночи с ним и ночи без него.
Были дни, когда не смолкала музыка, и дни, когда не ослабевала скорбь; в такой день прах Сидони перенесли к камням и погребли между ними. Были часы, полные чудес, когда Симон с Гретой совершили тур по винокурням Нормандии, где перегоняют кальвадос, и вернулись оттуда вместе, и решили больше не расставаться, или когда Поль и Розенн во второй раз сказали друг другу «да», и в мэрии Марианна впервые узнала, что Поль родился во Франкфурте. Поль был немец, но ничем на немца не походил. Вступив в Иностранный легион, Поль отверг свое прошлое и постарался забыть, что он — сын офицера СС. Это была тайна, бросавшая мрачную тень на всю его жизнь. Марианна и впредь ни слова не сказала ему по-немецки, такова была его воля, а ее уважение перед человеческой волей возросло, с тех пор как она обрела собственную.
Были минуты, исполненные счастья, когда Жанреми и Лорин спросили об именах, которые подойдут младенцу, и минуты, исполненные благодарности, когда Марианна смотрела из окна своей «раковины» на окрасившийся в розово-оранжевые тона Авен, где отражались небо и солнце.
А еще были все те же понедельники в гавани Кердрюка, когда Марианна встречалась со своими любимыми друзьями и говорила с ними обо всем на свете: о боге, богинях, о мире, о больших и маленьких мечтах.
А теперь она сидела у моря, в самую таинственную ночь года. Рядом она поставила складной стул. На всякий случай, если кому-нибудь из мертвых захочется сесть. Когда они явятся.
Они являлись ей каждый год. С закрытыми глазами Марианна сыграла песню для мертвых, для женщин и для моря. Песню без названия, ее пальцы сами выбирали мелодию. «Sa-un», — прошептала Марианна, величая это «время безвременья» так, как именуют его бретонцы. «Sa-un, — пророкотали в ответ волны, — ты готова совершить странствие в прошлое?»
Марианне показалось, что она слышит шаги и смех, что ощущает дуновение ветра, когда мертвые бросились бежать по песку, оставляя за собой следы.
«Ты счастлива?» — спросил у нее отец. Он сидел рядом с ней, сложив руки и глядя в черную даль Атлантики.
«Да».
«Моя неунывающая девочка».
«Я люблю тебя, — сказала Марианна. — Я так по тебе скучаю».
«У него были твои глаза, — произнесла ее бабушка, выйдя к ней из волн. — Я любила твоего деда, а после него и вовсе забыла о мужчинах. Редко какой женщине выпадает это счастье, когда один мужчина доставит тебе такое наслаждение, что после него тебе не потребуются другие».
«Он был волшебником?»
«Любой мужчина, который любит так, как заслуживает того женщина, — волшебник».
Марианна открыла глаза. Ее пальцы замерли.
Берег был пуст. На песке она не заметила никаких следов. И все-таки… они были рядом. Умершие, ночь и море. Оно подарило ей песню о мужестве и о любви, песню, пришедшую издалека, словно пропетую много лет тому назад кем-то для тех, кто застыл на берегу, не в силах броситься в неизвестность.
Интервью с Ниной Георге
Когда вы открыли в себе писательский талант?
В 1992 году, когда не отличающийся политкорректностью мужской журнал выдал мне чек на четырехзначную сумму в немецких марках за право напечатать рассказ с феминистскими тенденциями, гневный, не боящийся эротических подробностей. В виде исключения я не стала прятать его в ящике письменного стола, а отправила по почте в редакцию журнала. Мне только что исполнилось девятнадцать, и я напечатала новеллу-монолог «Слушай, заткнись, а?» («Mann, sei doch einfach still») за две ночи, в бешеном темпе. Сейчас я вижу, что для меня это был своего рода внутренний прорыв: у меня в рассказе молодая женщина поднимает бунт против всех идеологических систем, созданных мужчинами для собственного удобства, и это возмущение я облекла в форму беллетристики. По крайней мере, после этого я стала смутно догадываться, чем могло бы сделаться для меня писательское творчество: эмоциональной разрядкой, средством самовыражения, созданием словесных образов, возможностью привести в этот мир персонажей, о которых никто еще и не слышал.
Однако в конечном счете и тогда не раздались звуки гонга, я не проснулась утром с ощущением абсолютной уверенности в том, что я талантлива. Ведь писатель испытывает постоянные сомнения, мысленно повторяя: «А у меня точно есть дар?» А потом всей своей жизнью пытается ответить на этот вопрос. Ведь талант — всего лишь некий импульс, желание писать, а вот ремеслу учатся дольше. Без овладения законами ремесла талант только некая сила, охваченная безотчетной тоской, но не находящая выхода.
Мои прадеды, происходившие из Франции, были столярами-краснодеревщиками. Прежде чем талантливого ученика допускали к художественным работам, он должен был пройти школу ремесла и идеально прямо распилить огромное количество древесных стволов. Лишь потом ему разрешалось вырезать тонкие орнаментальные детали. Только научившись благодаря журналистскому опыту, чтению множества книг самых разнообразных жанров и самого разнообразного качества, а также постоянным упражнениям целенаправленно использовать эту силу, я превратила талант в умение, а распиливание стволов — в искусство резьбы по дереву. И до сих пор учусь.
Как выглядят ваши писательские будни? Вы работаете «на полную ставку» или у вас есть какая-то профессия, приносящая доход? Вы пишете от руки или набираете текст на компьютере?
Мои будни абсолютно непредсказуемы, мой писательский день длится двадцать четыре часа в сутки, без перерывов, и, кроме собственно физического писания (литературный дневник я веду карандашом на плотной бумаге, заметки набрасываю в вечной записной книжке «Молескин», на салфетках или на полях газеты, все «официальное» набираю на компьютере), на меня обрушиваются еще наблюдения, размышления, попытки почувствовать то же, что и мои герои, жизнь, неудачи, мечты, вслушивание в шум бытия. Подобно семенам, которые рассыпали в заросшем, неухоженном саду, в моей жизни все укореняется в каком-нибудь неожиданном месте, откуда я со временем выкапываю истории, персонажей, образы. Если продолжить эту метафору, этот сад не взрыхлен и не прополот. Где-то потихоньку тлеет навозная куча старых обид, вот высится рождественская елка, украшенная покачивающимися трагическими лицами, подсмотренными в метро, а тут пышно расцветает благоуханный цветок чувственных фантазий. А кто это притаился у фонтана? Ах да, это же Минотавр в лодочках фирмы «Маноло Бланик», гермафродит, то ли чудовище из смутно припоминаемых мифов, то ли умница и красавица, идеальная «супервумен» из современных газет.
Так сложилось, что уже с 1992 года, почти девятнадцать лет, а значит, полжизни (ужас!), я работаю одновременно журналисткой и писательницей. Пройдя обучение и стажерскую практику в редакциях нескольких журналов и ежедневных газет, я с 1999 года журналистка на вольных хлебах — и чего только не делала: писала публицистические статьи, опять-таки в амплуа фрилансера, вела колонку, сочиняла эссе, печатала репортажи. Теперь я стала составлять план на неделю, чтобы обслужить всех моих постоянных заказчиков. Но если журналистика основана на соблюдении законов ремесла, публицистические статьи, по большей части не слишком длинные, строятся на одних лишь фактах и лишены вымысла, то сочинение романов — совершенно иная вселенная. Творчество куда более чувственно, куда более эмоционально, неопределенно, полнокровно. Это значительно более «индивидуальный» род деятельности.
И по временам очень увлекательный.
Есть такая шутка: что писатель умеет в среду, к четвергу забудет. Речь здесь идет о ненадежности музы (иногда говорят также о «flow», «непрерывном потоке письма»), которую испытали на себе даже самые опытные писатели. Иногда ты пишешь как сумасшедший, не в силах оторваться, интуиция безошибочно подсказывает тебе нужный сюжетный ход, диалоги, образы, картины одна за другой появляются на страницах. Героев видишь абсолютно ясно, они у тебя перед глазами, будто сидят с тобой рядом за обеденным столом, они превращаются в реальных людей. Они живые. Твоя собственная душа пребывает в радостном возбуждении, преисполняется храбрости, внутренний цензор («Кто это будет читать?») умолкает. Ты уходишь с головой в создание вымышленного мира и забываешь о близких, о невыглаженном белье и о заголовках газет. Это похоже на опьянение. Как будто кто-то внутри тебя диктует следующую строчку, ты летишь, как на крыльях, ты совершенно свободен. Я орудие чьей-то воли или я сам творец?
Не важно, не думать, писать!
В остальные двадцать пять дней месяца этот поток оскудевает, превращаясь в крохотный ручеек. «Ну, напиши что-нибудь приятное. Веселое. Вроде вон того бестселлера на полке. И не забудь о женском вопросе». Слишком долго и мучительно обдумываешь. Как это мешает! И тут в сознание и, самое главное, в чувства вторгается реальная жизнь.
Разумом я пишу на треть, все остальное составляют чувства. Но куда деться с несчастной любовью, если я как раз пишу веселую сцену? Как быть с повседневными заботами, если надо придумывать хеппи-энд? А банковский счет, а пустой холодильник, — может быть, стоит написать второсортный роман о вампирах вместо «сложной» истории? («Нет, — огрызается талант, — тебе этого не суметь, ты можешь писать только искренне, следуя зову собственной души. Если уступишь, я уйду навсегда».)
Фразами, которые еще вчера будто сами собой ложились на бумагу, опережая мои бегающие по клавиатуре пальцы, сегодня приходится овладевать в тяжкой борьбе. В такие дни проявляется совершенно неромантичная сторона писательской работы. Тогда рекомендуется перекопать сад, выполоть сорняки, вырвать с корнем плевелы. И каким-то образом изгнать эти мысли, мешающие писать. Иногда, чтобы залучить вдохновение, достаточно сходить в еврейское или португальское кафе по соседству. До сих пор замыслы всех романов или решение тех или иных сюжетных линий приходили ко мне именно в кафе. К тому же в кафе ко мне возвращается уверенность, что меня рано или поздно посетит вдохновение и что пока мне придется завлекать его ремеслом и дисциплиной.
Вы добились славы и успеха как автор книг по эротике под псевдонимом Анна Вест. «Музыка лунного света» — роман совершенно иного типа. Как вы решили его написать?
«Музыка лунного света» — мой «четырехсполовинный» роман (половинка — это шестидесятистраничная детективная повесть, остальные три — детектив, триллер в жанре «сайенс-фикшн» и роман о сумеречных сторонах красоты), и он значит для меня больше, чем прочие. На протяжении последних четырнадцати лет, со дня появления на свет Анны Вест, было не так-то легко вопреки обстоятельствам писать и беллетристику, просто потому, что между повседневными хлопотами и очередной популярной книгой Анны Вест не найти время, чтобы придумать большую историю. И еще: не хватало жизненных впечатлений, самой «материи», «вещества» жизни, чтобы придать этой книге нужный вес и глубину. Может быть, мне просто надо было стать старше? Самой почувствовать, каково это — заново начать «с нуля»? Обрести собственное «я»?
Главная героиня «Музыки лунного света» — шестидесятилетняя женщина. Как вы смогли увидеть мир ее глазами, почувствовать то же, что и она, ведь вы значительно моложе?
Чувства не стареют. Сомнения, надежды, желания, комплексы, преданность, неуверенность, страх смерти — они не стареют и потому известны и тем, кто моложе героини, например мне. Если же говорить о телесных ощущениях, которые женщина может испытывать, перешагнув сорокалетний, пятидесятилетний, шестидесятилетний рубеж, то тут я внимательно слушала. Еще в детстве то, о чем говорили пожилые женщины, и то, о чем они молчали, но что красноречиво передавали жестами, мимикой, взглядом, казалось мне куда интереснее того, что занимало моих сверстниц. И в их речах, и в их молчании была жизнь, нескончаемый опыт жизни, мыслей, мечтаний, знания.
Пожилые люди ближе мне, чем ровесники; иногда даже ближе меня самой.
Существуют ли реальные прототипы героев этой книги?
И да, и нет. У Марианны лицо всех немолодых женщин, которых я видела, с которыми говорила, которых обнимала или за которыми хотя бы минутку наблюдала издали. Это старушка из гамбургского района Хорн, которая выуживает из мусорного контейнера журнал и выцарапывает оттуда пробник духов. Это женщины, которых я обслуживала, работая официанткой, и улыбка которых становилась тем прекраснее, чем дольше я для них хлопотала. Это женщина, которая не помнит, кто она такая; в больничной постели на курорте я растирала ее французской водкой, а она пыталась пожать мне руку. Это мои бабушки и женщины где-то в последних эшелонах любого семейного предприятия.
А остальные? С ними дело обстоит точно так же: нет абсолютных прототипов. Но, встречаясь с разными людьми, я иногда заимствовала какие-то их черты: например, художница Паскаль действительно существует, она живет в замке неподалеку от Конкарно, однако она на двадцать лет моложе романной Паскаль, не страдает деменцией и не умеет колдовать. Или Колетт: ее внешность я взяла у элегантной дамы, которая однажды прошла мимо меня в Париже, ее голос — у другой дамы, сидевшей за соседним столиком в кафе, ее внутренний мир — у… впрочем, пусть это останется моей тайной. А мужчины? С «Эмилем» я познакомилась в лесу под Кердрюком, в прекрасном имении, уединенном и загадочном. Кто знает, вдруг он на самом деле шпион в отставке?
Существует ли у вас именно ваше «судьбоносное» место?
Любой столик в кафе. Гамбург, город моих детских мечтаний, особенно квартал Гриндель. И Кердрюк по-своему тоже: мне пришлось открывать его для себя окольными путями. Под окольными путями я понимаю здесь не только дороги и шоссе, но и жизненные пути. В том, что именно в Кердрюке происходит действие «Музыки лунного света», книги, которая для меня как для писательницы стала своего рода путеводной звездой, я вижу руку судьбы.
Каким даром вы хотели бы обладать?
Я бы хотела превращаться в невидимку, чтобы подслушивать чужие разговоры и наблюдать за людьми в те минуты, когда им кажется, что никто их не слышит и не видит.
Ваша героиня порывает со своей прежней жизнью и создает себя заново. Если бы вы могли выбрать какую-то другую жизнь, что бы вы предпочли? Существует ли кто-то, с кем вы (хотя бы на неделю) мечтали бы поменяться судьбами?
Нет, я ничего не хочу менять. Даже оглядываясь на все глупости, которые я успела натворить в своей жизни, и на три-четыре различных этапа, между которыми нет ничего общего, я понимаю, что не хочу иного варианта. Вот разве что иногда по ночам я жажду «тихой гавани», мечтаю о более спокойной, более обеспеченной жизни. Или о праве влиять на ход событий — уж я бы нашла что изменить в нашем мире, поверьте. Но эти ночи проходят, и остается лишь чувство, что в конце концов мы раскаиваемся только в том, чего не совершили. Я уже трижды создавала себя заново или, скорее, обретала себя. Но многое ли я уже сделала? Я планирую еще кое-что сделать, я работаю, я творю, я живу — и жду момента, когда можно будет совершить эти поступки.
Есть ли вопрос, который вам еще ни разу не задавали в интервью, но на который вы хотели бы ответить?
Как зовут вашу музу?
Аполлон, и это ревнивый, демонический, ненасытный, суровый возлюбленный, который не потерпит рядом с собой никаких соперников. Некогда мы заключили договор, я потребовала свободомыслия, он потребовал абсолютной преданности. Если бы мне пришлось выбирать между обычной земной любовью к человеку и любовью к творчеству, я бы в конечном счете выбрала творчество. К счастью, такая дилемма передо мной не стоит.
Бретань от «А» и не совсем до «Я»
Aremorica (Арморика)
Арморика, земля у моря, выдается в суровые воды Атлантики, словно коготь дракона. Неровная береговая линия простирается на две тысячи четыреста километров, а за ней открывается земля с лесами и часовнями, — нет, это уже не Франция, это Бретань, земля Анку, менгиров и волшебных рощ, гречневых блинов, волынок и кельтских корней. Эта самая западная оконечность Франции обладает собственной историей, до сего дня накладывающей отпечаток на характер земли, народа и всей жизни, которая весьма отличается от жизни всей остальной Франции.
Bar Tabac (Бар Табак)
«Бар Табак», маленький трактир, имеющий монополию на продажу сигарет, это одновременно кафе, ресторанчик, место продажи лотерейных билетов и приема ставок, табачная лавочка и журнальный киоск, пункт сбора болельщиков во время трансляции интересных матчей и справочная служба деревни или городка. Лучший способ нажить себе недоброжелателей, переехав в бретонскую деревню или район бретонского города, — нерегулярно посещать «Бар Табак», а тем более, входя, не приветствовать громко всех собравшихся!
Brezhoneg (Бретонский язык)
Представьте себе, что рядом с вами кто-то закашлялся и в его кашле вы уловили отчетливую мелодию: примерно так звучит бретонский! Бретонский (Brezhoneg) считается одним из немногих кельтских языков, на котором еще говорят в Европе. С 1900 года, после введения обязательного школьного образования, бретонский стали клеймить как «варварский язык» и систематически уничтожать. Тому, кто говорил по-бретонски, вешали на шею деревянное сабо и бранили идиотом. Сегодня примерно сто семьдесят тысяч бретонцев еще говорят на родственном языку древних бриттов наречии своих предков, а так называемые «школы на диване» с 1985 года все чаще снова обучают бретонскому детей. В Северной Бретани двуязычные дорожные таблички с обозначением мест (например, Конкарно: Конк Керне (Concarneau: Konk Kerne)) свидетельствуют о том, насколько бретонцы гордятся своими корнями.
Некоторые бретонские слова и выражения
Armor земля у моря
Argoat лесная земля
Kenavo до свидания
Ker деревня, село, мыза, хутор
Lan освященное место, скит, аббатство
Loc скит, поселение отшельника, уединенное место
Salud здравствуйте
Ty дом
Yec’hed mat ваше здоровье! (тост)
Kouign Aman (Слоеный пирог)
Слоеный пирог, «хлеб с маслом», был придуман бретонцами в знак протеста против запрета печь пироги в пост, введенного католической церковью. Махнув рукой на подобные глупости, пекари в Дуарнене испекли первый бретонский Kouign Aman (произносится «кунь-аман»). Он готовится (в оригинальной версии в равных долях) из муки, яиц и соленого масла (demisel), причем тесто многократно складывают и раскатывают. Каждая пекарня бережет свой особый рецепт такого пирога как национальное сокровище.
Galette (Гречневые блины)
Galette, иначе именуемые «Crepe de blé noir», — то же для бретонца, что и знаменитая жареная колбаска, Bratwurst, для немца. Это тончайший, сложенный конвертиком, национальный бретонский блин печется не из пшеничной, а из гречневой муки (blé noir) на горячих камнях или на металлических противнях, смазывается соленым маслом и подается с солеными добавками. Классика жанра — это Galette Compléte: с тертым сыром, ветчиной и яичницей-глазуньей, к нему традиционно подается глиняный стаканчик Cidre doux[162] (пожалуйста, выбирайте сладкий; от сухого сидра пломбы из зубов чуть не выпадают). Въезжая в новый дом, забрасывают такой гречневый блин на кухонный шкаф, чтобы заманить удачу. Только, пожалуйста, бросайте блин без яйца.
Приливы и отливы
Нигде в мире так не колеблется уровень воды при приливах и отливах, как на Атлантическом побережье Бретани. Иногда разница может достигать четырнадцати метров, как, например, на острове Мон-Сен-Мишель, к тому же время отлива и прилива ежедневно смещается на двадцать-тридцать минут. А значит, бретонец читает таблицу приливов и отливов в газетах, чтобы во время купания не пришлось заходить в воду значительно дальше, чтобы приливная волна не застала его на пляже, когда он будет жарить сосиски-гриль, или чтобы во время любительской рыбалки (разрешение сроком на две недели стоит тридцать пять евро) в бухтах внезапно не оказаться на мели.
Вера и суеверия
Курганы, «tumuli», считаются вратами в царство троллей, источники слывут зеркалами фей, а в часовнях Дева Мария и местные святые мирно соседствуют с танцующей смертью: язычники — потомки кельтских переселенцев из «Большой Британии» весьма хитроумно противились христианизации и сочетали особенности языческого и христианского культа, как им было удобно. Семь тысяч семьсот семьдесят семь святых и небесных покровителей Бретани не только отвечают за духовное благо католиков, но и защищают от зубной боли, одиночества и кораблекрушения. С ними соседствуют тридцать тысяч друидов-фрилансеров, добрые и злые ведьмы, а также магнетизеры, излечивающие от колдовства, порчи и злого глаза.
Ежегодный «pardon» — церковная процессия под открытым небом, когда бретонцы просят отпущения совершенных за год грехов, за которой непременно следует пикник возле установленных на перекрестках часовен-колумбариев, богато украшенных барельефами и статуями. Величайшее из подобных празднеств выпадает на девятнадцатое мая, День святого Ива, небесного покровителя Бретани и юристов. Как известно, грехов у юристов хоть отбавляй.
Еда и напитки
Рыбный суп, гребешки, устрицы (прежде всего сорта Belon plates — плоские устрицы Белон), омар, мидии с картофелем фри, морской черт и другие морепродукты считаются фирменными блюдами Бретани; их запивают яблочными напитками (сидром или ламбигом, «бретонским кальвадосом»), бретонским пивом, даже виски. Традиционно в Бретани мало возделывают виноград, но вино сорта мюскаде Севр-э-Мэн (Muscadet Sèvre-et-Maine), происходящее из региона бретонской Луары, непременно стоит попробовать. Кстати, в течение дня бретонец не прочь пропустить стаканчик розового.
Прибрежные засоленные луга придают несравненный вкус нежному мясу ягнят, овощам и коровьему молоку, из которого приготавливают чудесное бретонское масло.
Опять-таки следует упомянуть, что соль, получаемая на солеварнях в Геранде (Gwen Ran), считается одним из лучших сортов поваренной соли в мире. В супермаркетах огромный выбор местных продуктов, а качество их лучше, чем во всей остальной Франции. Если вы остановились в отеле, где полагается завтрак, будьте осторожны: яйца вам подадут сырые. Яйцеварка для постояльцев обычно помещается рядом с тостером.
Fest-noz (фест-ноз)
Начиная с шестидесятых годов прошлого века деревенские ночные праздники — любимое развлечение в июле и августе: бретонцы устраивают пиры, поют, танцуют, в том числе водят хороводы — под волынку и гобой, арфу и электрогитару. Каждый четверг еженедельная газета «Le Trégor» («Ле Трегор») публикует список предстоящих фест-ноз региона.
Легенда о святом Граале
По легенде, именно в Бретани, в современном лесу Пемпон, неподалеку от Ренна, рыцари Круглого стола некогда продирались сквозь густой подлесок в поисках святого Грааля. Хотя на право считать короля Артура своим родным притязают и бретонцы, и британцы, первый роман о короле Артуре однозначно написал француз, а история Ланселота, меча Экскалибур и Мерлина разворачивается в Бретани. Из Бретани Артур впоследствии перенесся на Авалон, «Яблочный остров», неподвластный жизни и смерти, в царство феи Морганы. Там каждого умершего ожидают молодильные яблоки, и, отведав их, он сможет вновь вернуться в земной мир…
Мегалиты
Памятник культа солнца? Окаменевшие воины? Или все-таки гробницы? Древнее пирамид пять тысяч бретонских менгиров (стоячих камней) и тысяча дольменов (дословно — «каменных столов», могильных курганов), гигантских каменных пальцев, которые начиная с 4500 г. до н. э. кто-то втыкал в землю. О том, кто, когда и зачем установил эти обломки скал (в любом случае не кельты, они появились позднее), существует множество мифов и загадочных историй; кроме того, они привлекают к себе желающих прикоснуться к древнему волшебству, особенно по ночам, ведь предание гласит, что мегалиты излечивают от бесплодия.
Обеденный перерыв
Обедают в Бретани обычно между двенадцатью и четырнадцатью часами, а значит, в это время рестораны переполнены (столик лучше заказывать заранее), улицы вымирают, а магазины закрыты. Кстати, бретонцы не терпят раздельной оплаты счета, а также посетителей, которые самостоятельно начинают искать столик, вместо того чтобы спросить официанта.
Понедельник
У кого в понедельник пусто в холодильнике арендованного на каникулы дома, тому не повезло. Ведь воскресенье бретонца — это понедельник: музеи и туристические инфоцентры закрыты, банки тоже, ведь они работали в субботу, большинство продуктовых магазинов тоже, ведь они торговали в воскресенье утром! Бретонец закупает продукты впрок либо в шумном и переполненном супермаркете сети «Ле Клерк», либо на еженедельном рынке. Помимо продуктов питания там продается прежде всего одежда (в том числе дамское белье). В воскресный вечер и по понедельникам, кроме того, закрыты многие рестораны.
Парижане
Бретань для француза — то же, что Восточная Фрисландия для немца: до сего дня в бретонцах видят абсолютную противоположность утонченным, высокообразованным парижанам. Столичные жители не только считают бретонцев упрямыми, мужиковатыми тугодумами, но и одновременно восторгаются тем первозданным благим миром, который им якобы удалось сохранить на фоне нетронутой природы и древних обычаев (все сплошь утопия, конечно). Бретонцы, в свою очередь, упрекают парижан в надменности, в том, что те считают себя избранными, а сами ни на что не годятся: ни гвоздь забить не умеют, ни лодку пришвартовать, ни рыбу ловить. Никогда не хвалите Париж в присутствии бретонца, наоборот, ругательски ругайте! И обретете нового друга.
Тельняшки
В свое время Пабло Пикассо и Коко Шанель позировали фотографам в сине-белой полосатой тельняшке бретонской одежной мануфактуры «Сейнт-Джеймс» и превратили спецодежду рыбаков в вожделенный предмет модного гардероба. Полосатые тельняшки можно найти в любом бретонском магазине; носят их в девяноста девяти процентах случаев туристы. Настоящую бретонскую тельняшку можно узнать по следующим деталям: застежка на изнаночной стороне (чтобы за пуговицы не запуталась сеть), рукава три четверти (чтобы не запачкать, когда надо будет доставать из сети рыбу), во внутреннем кармане помещается пачка «Голуаз». Да, и еще она однотонная.
Гордость
Бретонец гордится своей землей: иными словами, он ненавидит Францию, Париж и всех политиков, вместе взятых, но радушно принимает остальной мир. Бретонец гордится всем бретонским: морским побережьем и кухней, черно-белым флагом, длинными пляжами, местными продуктами, музыкой и искусством (живописью и керамикой), бывалыми моряками, даже собственной гордостью, собственной суровостью, не терпящей всяких экивоков.
Заправка
Обычно бретонец заправляет машину на бензоколонках на парковке у супермаркетов и оплачивает бензин у известных своим добродушным нравом кассиров в специальных домиках. Примерно в семь-восемь вечера АЗС супермаркетов тоже закрываются, а на очень и очень немногих бензоколонках можно расплатиться только банковской картой. По опыту могу сказать, что ни ЕС-карту, ни «Мастеркард» на этих идиотских бензоколонках не принимают. Совет: заправляйтесь сразу по выходе из супермаркета. И платите наличными.
Автор приносит глубокую благодарность
Merci bien Райнхарду Фогту, владельцу переоборудованной под пансион мельницы «Moulin de Kerouzic» («Мулен де Керузик»), где и была написана бóльшая часть этого романа.
Отдельная благодарность самому умному литературному спарринг-партнеру на свете, моему мужу.
Нина Георге, май 2011 г.Сноски
1
Да нет же. Нет. Пойдемте со мной. Пойдемте. Сейчас же. Идем (фр.).
(обратно)2
Извините (фр.).
(обратно)3
Не стоит благодарности. Вы поняли? (фр.)
(обратно)4
Меня зовут Эрик (фр.).
(обратно)5
Я немка. Немка (фр.).
(обратно)6
Боже мой! (фр.)
(обратно)7
Я немка. Извините. До свидания (фр.).
(обратно)8
Немка? Вот как! Немка! Футбол! Баллак! Знаешь Баллака? А Швайнштайгера? (фр. и искаж. нем.)
(обратно)9
До свидания, до свидания (фр.).
(обратно)10
Как это называется (фр.).
(обратно)11
Пустяки! (фр.)
(обратно)12
Спасибо (фр.).
(обратно)13
Вы поняли, мадам? (фр.)
(обратно)14
Меня зовут… (фр.)
(обратно)15
Меня зовут Марианна (фр.).
(обратно)16
Мари-Анн? А мы из монастыря Святой Анны, что в Оре! О, пути Господни! (фр.)
(обратно)17
Здесь: знаешь (фр.).
(обратно)18
Давайте, давайте! (фр.)
(обратно)19
Не отставайте, мадам! (англ.)
(обратно)20
К выходу! (исп.)
(обратно)21
Годится (фр.).
(обратно)22
Вам плоских или вогнутых? (фр.)
(обратно)23
Высшее качество, мадам! (фр.)
(обратно)24
Да. Море (брет.).
(обратно)25
Спасибо (фр.).
(обратно)26
Приливная мельница (фр.).
(обратно)27
Тропинка (фр.).
(обратно)28
Хижины, крестьянские дома (фр.).
(обратно)29
Кофе с яблочной водкой (брет.).
(обратно)30
Добрый день, мсье (фр.).
(обратно)31
Спасибо (фр.).
(обратно)32
Что с вами? (брет.)
(обратно)33
Я немка (фр.).
(обратно)34
Меня зовут (фр.).
(обратно)35
Я бретонец. Меня зовут Симон (фр.).
(обратно)36
Выяснили одно, и это все (фр.).
(обратно)37
Какая прелесть! (искаж. англ. и нем. «Oh so nice!», «Niedlich!»)
(обратно)38
«Соль на нашей коже» (оригинальное французское название — «Les Vaisseaux du cœur», 1988) — роман французской писательницы Бенуат Гру (фр. Benoîte Groult), повествующий о многолетней любви высокообразованной, утонченной парижанки и простого рыбака-бретонца. В романе наличествуют феминистские тенденции. Получил известность в том числе благодаря экранизации 1992 г. — Примеч. перев.
(обратно)39
Два рулета, пожалуйста (искаж. нем.).
(обратно)40
Дурачок (брет.).
(обратно)41
Нарды (брет.).
(обратно)42
Кофе (брет.).
(обратно)43
Тем хуже (фр.).
(обратно)44
Счастливо поработать (фр.).
(обратно)45
Да (фр.).
(обратно)46
Большое спасибо, мадам (фр.).
(обратно)47
Меня зовут Марианна Ланц. Добрый день. Я немка (фр.).
(обратно)48
До свидания (фр.).
(обратно)49
Хорошо сварилось, мадам Ланс (фр.).
(обратно)50
Тунец по-конкарнуазски (фр.).
(обратно)51
Добро пожаловать (фр.).
(обратно)52
До свидания (фр.).
(обратно)53
Ну что ж (фр.).
(обратно)54
Роковые женщины (фр.).
(обратно)55
Не правда ли? (фр.)
(обратно)56
Поцелуям (фр. разг.).
(обратно)57
Моя хорошенькая (фр.).
(обратно)58
Мой дикарь! (фр.).
(обратно)59
Мой дорогой (фр.).
(обратно)60
Хорошо (фр.).
(обратно)61
Речь идет о Марселе, герое автобиографического цикла романов французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (1913–1927); вкус пирожного «мадлен» становится для него своеобразным импульсом, «оживляющим» воспоминания и переносящим в прошлое. — Примеч. перев.
(обратно)62
Петухи (брет.).
(обратно)63
Жареные мидии в сливочном соусе (фр.).
(обратно)64
Рыбное рагу, устрицы Белон, мидии маринованные, гребешки в собственном соку (фр.).
(обратно)65
Быстрей, быстрей (фр.).
(обратно)66
Хорошо (фр.).
(обратно)67
Боже мой (фр.).
(обратно)68
Приятного аппетита (фр.).
(обратно)69
Возможно, аллюзия на знаменитое эссе Вирджинии Вульф «Собственная комната» («A Room of One’s Own», 1929), своего рода феминистский манифест, отстаивающий право женщин на свободу, внутреннюю независимость и творчество. — Примеч. перев.
(обратно)70
Чашка (фр.).
(обратно)71
«Born to be wild» («Рожденный неукротимым») — знаменитая песня американской рок-группы «Steppenwolf» («Степной волк») (1968). Существует во множестве вариантов, записывалась разными исполнителями. — Примеч. перев.
(обратно)72
«These boots are made for walking» («В таких сапожках только и гулять») — знаменитая песня американской певицы Нэнси Синатры (1966). Существует во множестве вариантов, записывалась разными исполнителями. Далее герой напевает ее искаженный английский текст. — Примеч. перев.
(обратно)73
Чтобы у вас появился словарный запас, вы понимаете? Нужно учить французские и бретонские слова, обозначающие любую штуковину (фр.).
(обратно)74
Да, всякие штуки. Это штука, это тоже (фр.).
(обратно)75
Искаж. фр.: frigo («холодильник»), fenêtre («окно»), table («стол»).
(обратно)76
Понятно? (фр.)
(обратно)77
Ну вот (фр.).
(обратно)78
Говядина (брет.).
(обратно)79
Здесь: краб (фр.).
(обратно)80
Крабы (брет.).
(обратно)81
Крепкий рыбный бульон (фр.).
(обратно)82
Пятнадцать (брет.).
(обратно)83
Быстрее, быстрее! (фр.)
(обратно)84
Кухарка, повариха (брет.).
(обратно)85
За ваше здоровье! (брет.)
(обратно)86
Любовь навсегда (фр.).
(обратно)87
Моя дорогая (фр.).
(обратно)88
Во-первых (фр.).
(обратно)89
Мука, сахар, изюм, соль, перец (брет.).
(обратно)90
Во-вторых (фр.).
(обратно)91
Картофель (брет.).
(обратно)92
Мидии (фр.).
(обратно)93
Омар (фр.).
(обратно)94
Моя любовь, о моя любовь, я тебя люблю (фр.).
(обратно)95
Пока, до свидания (брет.).
(обратно)96
Это отвратительно! (фр.)
(обратно)97
Удачи! (фр.)
(обратно)98
Добрый день (фр.).
(обратно)99
Понятно? (фр.)
(обратно)100
Официальные любовницы (фр.).
(обратно)101
Здесь: Чушь какая (брет.).
(обратно)102
Дедушка (фр.).
(обратно)103
Гречневые блины (брет.).
(обратно)104
Боже мой! (брет.)
(обратно)105
Но овца за волком не бегает (брет.).
(обратно)106
Твое здоровье! (брет.)
(обратно)107
Чтобы горшочек варил, белокурых кудрей да красоты не требуется (брет.).
(обратно)108
Здесь: дурачок (брет.).
(обратно)109
Мед (фр.).
(обратно)110
До завтра, Марианна (фр.).
(обратно)111
Добрый день (фр.).
(обратно)112
Рад с вами познакомиться, Марианна (фр.).
(обратно)113
До завтра (фр.).
(обратно)114
Не понимаю (фр.).
(обратно)115
Согласны? (фр.)
(обратно)116
Злая колдунья (фр.).
(обратно)117
Хлебцы (фр.).
(обратно)118
Булочная, пекарня (фр.).
(обратно)119
Что ж (фр.).
(обратно)120
Земля Гогена (фр.).
(обратно)121
Спасибо, мой друг, до свидания! (фр.)
(обратно)122
Похороны (фр.).
(обратно)123
Боже (фр.).
(обратно)124
Очень красиво (фр.).
(обратно)125
Поцелуи (фр.).
(обратно)126
«Ветер раздувает наш парус. Вот появилась первая звезда, что изливает свет на прибывающую волну. Друзья, в безмолвии мы поплывем в ночь, все звуки затихают, говорят, что все на Земле умерло» (фр.). — Начальные строки знаменитой бретонской песни «Ночь в море» («La nuit en mer»), написанной французским (бретонским) поэтом и композитором Теодором Ботрелем (Théodore Botrel, 1868–1925). — Примеч. перев.
(обратно)127
«Poulain» — жеребенок (фр.).
(обратно)128
Бретонский пирог (фр.).
(обратно)129
Слоеный пирог (брет.).
(обратно)130
Масло средней соли, молоко, козий сыр, апельсины (фр.).
(обратно)131
Месье! Я не могу… так (фр.).
(обратно)132
Давайте, давайте! (фр.)
(обратно)133
Еще раз (фр.).
(обратно)134
Приятно познакомиться, мадам Марианн (фр.).
(обратно)135
Это бомбарда, мадам (фр.).
(обратно)136
Как вас зовут? (фр.)
(обратно)137
Да здравствует Марианна! (фр.)
(обратно)138
Я тебя люблю (фр.).
(обратно)139
Что? (фр.)
(обратно)140
Еще (фр.).
(обратно)141
Тогда покончим с этим! (фр.)
(обратно)142
Меня зовут… (фр.)
(обратно)143
Меня зовут Майвенн (фр.).
(обратно)144
Добро пожаловать… еще раз (фр.).
(обратно)145
Моя тигрица (фр.).
(обратно)146
Только (фр.).
(обратно)147
Согласна (фр.).
(обратно)148
Открыто (фр.).
(обратно)149
Не так ли? (фр.)
(обратно)150
Рьё, Андре (нидерл. André Rieu) (р. 1939) — известный нидерландский дирижер и скрипач. — Примеч. перев.
(обратно)151
Возможно, намек на героиню романа французского писателя Бориса Виана (Boris Vian) «Пена дней» («L’écume des jours») (1946), которая умирает от подобного фантастического недуга. — Примеч. перев.
(обратно)152
Чтоб тебя, так и разэтак! (фр.)
(обратно)153
Мать твою! (фр.)
(обратно)154
Пошел на хрен! (фр.)
(обратно)155
Боже мой! (фр.)
(обратно)156
Заткнись! (фр.)
(обратно)157
Отличная работа, мадам (фр.).
(обратно)158
Чашки (фр.).
(обратно)159
Кофе со сливками (фр.).
(обратно)160
Дорогая (фр.).
(обратно)161
Возобновление работы после отпуска (фр.).
(обратно)162
Сладкий сидр (фр.).
(обратно)


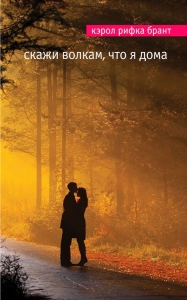
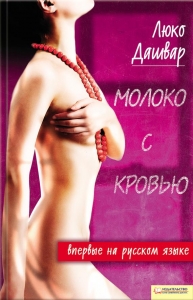
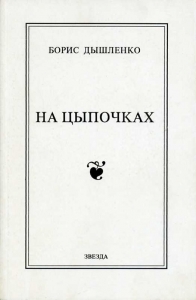

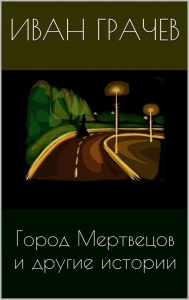



Комментарии к книге «Музыка лунного света», Нина Георге
Всего 0 комментариев